Анри Шарьер Мотылек
* * *
Народу Венесуэлы, простым рыбакам залива Пария, всем – интеллектуалам, военным и многим другим, – кто дал мне шанс начать новую жизнь
Рите, моей жене, моему лучшему другу
Тетрадь первая Вниз по сточной канаве
Суд присяжных
Удар потряс. Его сокрушительная сила не давала мне прийти в себя долгих тринадцать лет. Это был не просто удар, а избиение. Били все разом, будто боялись, что не получу все сполна.
На календаре 26 октября 1931 года. Восемь утра. Меня выводят из тюремной камеры Консьержери́, – камеры, которую я «обживал» уже почти год. Я тщательно выбрит и безупречно одет. Предстал перед ними, словно с картинки: сшитый по мерке костюм, белоснежная рубашка, бледно-голубой галстук-бабочка в довершение портрета.
Мне исполнилось двадцать пять, но выглядел я на двадцать. Жандармы, явно под впечатлением моего шикарного костюма, вели себя учтиво. С меня даже сняли наручники. И вот все шестеро, я и пять жандармов, сидим на двух скамьях в пустой комнате. За окном мрачное небо. Дверь напротив ведет, должно быть, в зал заседаний, ведь мы находимся во Дворце правосудия департамента Сена в Париже.
Пройдет какое-то время – и мне предъявят обвинение в умышленном убийстве. Мой адвокат, мэтр Рэймон Юбер, вышел ко мне: «Против нас нет веских улик, надеюсь, нас полностью оправдают». Это «нас» заставило меня улыбнуться. Можно было подумать, что мэтр Юбер собирался сесть на скамью подсудимых вместе со мной и если суд признает меня виновным, то и ему придется отбывать свой срок.
При́став открыл дверь, приглашая всех войти. В окружении четырех жандармов и сержанта сбоку я вступил через широкий проем дверей в огромный зал суда. Присутственное место сплошь отделано красным, кроваво-красным цветом. Очевидно, для усиления удара, чтобы красные искры посыпались из глаз. Ковры красные, шторы на окнах красные, даже судьи в красных мантиях – это им предстоит через минуту-другую разделаться со мной.
– Господа, суд идет!
Из двери справа друг за другом появились шесть человек: председатель суда и пять судей – все, как один, в судейских шапочках. Председатель остановился у своего стула посередине, а его коллеги разобрались по бокам справа и слева. В зале воцарилась тягостная тишина. Все стояли, включая и меня. Суд занял свои места, все остальные тоже.
Председатель, полнолицый, розовощекий, с холодным взглядом человек, прямо смотрел на меня, но ничто не выдавало его чувств. Его звали Бевен. Пока все шло своим чередом, он вел процесс беспристрастно, ясно давая понять всем и каждому, что, как профессиональному юристу, ему не приходится полагаться на справедливость показаний свидетелей и честность полиции. Нет, это не его вина, что он вынужден отвесить мне оплеуху.
Имя прокурора – Прадель. Его боялись все адвокаты. За ним закрепилась дурная слава человека, больше всех отправившего людей на гильотину и в тюрьмы как в самой Франции, так и на заморских ее территориях.
Прадель стоял на защите интересов общества. Он был государственным обвинителем, в нем ничего не было просто от человека. Он представлял Закон, весы правосудия; именно он управлял этими весами, и именно он сделает все возможное, чтобы чаша весов склонилась в его сторону. Сквозь опущенные веки глаза стервятника, ощущающего свое превосходство, сверлили меня насквозь. С высоты кафедры и своего внушительного роста он, словно башня, нависал надо мной. Прокурор не снял красной мантии, но шапочку положил перед собой. Подавшись вперед, он перенес тяжесть тела на мощные мясистые руки. Прадель был женат, на что указывало золотое кольцо. Было и другое – на мизинце – из отшлифованного до блеска подковочного гвоздя.
Он подался еще немного вперед, чтобы уж полностью подавить меня. Весь его вид как бы говорил: «Если ты думаешь, что сможешь выпутаться, молодой петушок, то глубоко заблуждаешься. Мои руки, может, и не похожи на когти, но зато я вырастил когти в сердце, и они готовы растерзать тебя на куски. Почему меня боятся адвокаты? Почему у судей я прослыл роковым прокурором? Да потому, что я никогда не упускаю свою добычу. Меня не касается, виновен ты или нет: я здесь для того, чтобы обратить против тебя все – и твою скандальную, беспутную жизнь на Монмартре, и сфабрикованные полицией свидетельства, и показания самих полицейских. Моя задача – распорядиться всей этой отвратительной грязью, собранной следствием, и вымазать тебя так, чтобы у присяжных не оставалось другого желания, кроме как поскорее оградить от тебя общество». То ли мне это чудилось, то ли я действительно все отчетливо слышал, но этот людоед меня потряс. «Подсудимый, не возникай. И не пытайся защищаться. Будь уверен, я спущу тебя в сточную канаву. Может, ты веришь присяжным? Не будь ребенком. Что они знают, эти двенадцать человек, о твоей жизни? Ничего ровным счетом. Посмотри на них. Вон они сидят напротив. Двенадцать ублюдков, доставленных в Париж из какого-то захолустья; ты хорошо их видишь? Мелкие лавочники, пенсионеры, торговцы. Не стоит описывать их подробно. Неужели ты думаешь, что они поймут твою жизнь на Монмартре? Или что такое двадцать пять лет? Для них Пигаль и Плас-Бланш точно такие же естественные враги общества, как ад и „ночные бабочки“. Нет слов, они гордятся собой. Еще бы – заседают в суде присяжных Сены. Но более всего, поверь мне, они ненавидят свое низкое общественное положение – свою принадлежность к материально стесненному и отчаянно скучному среднему сословию. И вот ты перед ними в полном блеске, да еще молод и красив. Неужели ты не задумывался, хотя бы на миг, что я выставлю тебя перед ними донжуаном, хищником с ночного Монмартра? И они решительнейшим образом настроятся против тебя. Ну ты и разоделся! А ведь следовало бы как раз наоборот – поскромнее, даже очень скромно. Это твоя большая тактическая ошибка. Посмотри, как они завидуют твоему костюму. Ведь они одеваются с вешалки. Они даже и мечтать не могут о том, чтобы пошить костюм у портного».
Десять часов. Все готово для начала суда. Передо мной шесть официальных судей и среди них жестокий главный обвинитель, собравшийся употребить всю силу и профессиональную изощренность Макиавелли, чтобы убедить двенадцать простаков в том, что я прежде всего виновен, а следовательно, заслуживаю единственного приговора – каторжные работы или гильотина.
Я обвиняюсь в убийстве сводника, осведомителя полиции со «дна» Монмартра. Улик не было, но фараоны (им верят всякий раз, когда они находят преступника) твердо стояли на своем. Видя, что доказательств нет, они сослались на «конфиденциальную» информацию, чем устранили всякие сомнения. Козырной картой в руках обвинения был свидетель наподобие граммофонной пластинки, изготовленной и заигранной в полицейском участке по набережной Орфевр, 36. Этого парня звали Полен. Когда я снова и снова стал повторять, что не знаю этого человека, председатель очень спокойно спросил:
– Вы говорите, что свидетель лжет. Хорошо. Но зачем ему лгать?
– Месье председатель, я провел много бессонных ночей со дня ареста, но вовсе не из-за угрызений совести по поводу убийства Коротышки Ролана. Я его не убивал. А потому, что все пытался понять, что движет этим свидетелем, нападающим на меня с такой яростью и дающим в поддержку обвинения все новые и новые факты каждый раз, когда прежние оказываются недостаточно убедительными. Я пришел к заключению, месье председатель, что полиция прихватила его на серьезном преступлении и совершила с ним сделку, – дескать, мы тебе это спустим с рук, а ты уж постарайся очернить Папийона [1] .
В то время я и не представлял, что был так близок к истине. Спустя несколько лет Полен, сейчас проходивший в суде свидетелем как честный человек без преступного прошлого, был арестован и осужден за торговлю наркотиками.
Мэтр Юбер пытался меня защищать. Но разве он мог тягаться с прокурором! Мэтр Буфе – единственный, кто с чистосердечным негодованием вступил в борьбу, но ненадолго. Искусство Праделя и здесь оказалось на высоте. Более того, он польстил присяжным, которых так и распирало от гордости: как же, эта внушающая страх личность обращалась к ним как к равным и как к коллегам.
К одиннадцати вечера шахматная партия закончилась. Мои защитники получили мат. А меня без вины признали виновным.
В лице Праделя, государственного обвинителя, общество пожизненно вычеркивало из своей среды двадцатипятилетнего молодого человека. Без всякого снисхождения, большое спасибо! Председатель суда Бевен угостил меня блюдом по первому разряду.
– Подсудимый, встаньте, – произнес он бесстрастно.
Я встал. В зале суда наступила полная тишина. Люди затаили дыхание, мое сердце забилось быстрее. Некоторые присяжные наблюдали за мной, другие наклонили головы и, казалось, испытывали чувство стыда.
– Подсудимый, поскольку суд присяжных согласился со всеми пунктами обвинения, за исключением преднамеренности, вы приговариваетесь к каторжным работам пожизненно. У вас есть что сказать?
Я не дрогнул, держался естественно, только крепче сжал поручень перегородки, за который ухватился.
– Да, месье председатель! Я хочу сказать одно – я действительно невиновен. Я жертва дела, сфабрикованного полицией.
До слуха донесся шепот из рядов для высокопоставленных особ. Там сидели несколько женщин, одетых со вкусом. Не повышая голоса, я сказал им:
– Заткнитесь, вы, дамы в жемчугах. Вам захотелось грязи, и душещипательной. Фарс окончен. Убийство состряпала ваша хитроумная полиция и ваша система правосудия. Вы должны быть довольны.
– Стража, – сказал председатель, – уведите осужденного.
Перед тем как исчезнуть со сцены, я услышал обращенный ко мне голос:
– Не печалься, милый! Я тебя найду!
Это кричала моя храбрая, великолепная Ненетта. Всю свою любовь она вложила в этот крик. В помещении суда раздались аплодисменты. Хлопали мои друзья из того мира, где я вращался. Они-то прекрасно знали, как расценивать это убийство, и таким вот образом выказывали мне свои чувства и уважение за то, что я ничего не выдал и ни на кого не перекладывал вины.
Как только мы снова оказались в маленькой комнате, в которой находились до суда, жандармы надели на меня наручники, а один из них соединил мое правое запястье со своим левым короткой цепью. Я попросил закурить. Сержант молча протянул мне сигарету и поднес огонь. Я стоял, время от времени поднимая и опуская руку, и жандарм вынужден был повторять мои движения.
И так, пока я не выкурил три четверти сигареты. Никто не проронил ни слова. Опять же я первый посмотрел на сержанта и сказал: «Пошли».
В окружении дюжины жандармов я спустился по лестнице во внутренний двор. «Черный ворон» уже ждал. В фургоне не было перегородок: человек десять расселись друг против друга. Сержант сказал: «Консьержери».
Консьержери
Подъехав к этому последнему замку королевы Марии-Антуанетты, жандармы передали меня старшему тюремному надзирателю. Тот подписал бумагу – расписку в получении. Жандармы удалились, не проронив ни слова, и только сержант на прощание потряс мне руки, заключенные в наручники. Поразительно!
Старший надзиратель обратился ко мне:
– Сколько дали?
– Пожизненно.
– Это правда? – Он посмотрел на жандармов и убедился, что правда. Пятидесятилетний надзиратель, многое повидавший на своем веку и подробно знавший о моем деле, счел уместным заметить:
– Ублюдки! Они, должно быть, все посходили с ума!
Осторожно сняв наручники, он выказал добросердечие к узнику, лично доставив меня в камеру, обитую войлоком. Такие камеры отводились специально для смертников, психбольных, очень опасных преступников и приговоренных к каторге.
– Не унывай, Папийон, – сказал он, закрывая за собой дверь. – Мы пришлем твои вещи и что-нибудь поесть. Держись!
– Спасибо, начальник. Со мной все в порядке, будьте уверены. Они еще подавятся своей долбаной пожизненной каторгой.
Через несколько минут за дверью послышалось царапанье.
– В чем дело? – спросил я.
– Ничего, – ответил голос за дверью. – Прикрепляю табличку.
– Зачем? Что на ней?
– «Пожизненная каторга. Особый надзор».
Сумасшедшие, подумалось мне, неужели они и в самом деле полагают, что этот камнепад, обрушившийся мне на голову, подведет меня к мысли о самоубийстве? Я не робкого десятка и таким останусь всегда. Я еще поборюсь со всеми и против всех. И начну с завтрашнего же дня.
На следующий день за кружкой тюремного кофе я стал размышлять о смысле подачи апелляции. Есть ли резон? Стоило ли рассчитывать на большее везение в новом судебном процессе? А сколько это может продлиться… и без толку? Год? Может быть, полтора? А результат – заменят пожизненный срок на двадцать лет?
Поскольку я настроился на побег, срок уже не имел значения: я вспомнил, как однажды один приговоренный к пожизненной каторге обратился к судье: «А скажите, месье, сколько лет во Франции длится пожизненная каторга?»
Я ходил взад и вперед по камере. Послал утешительную телеграмму жене, другую – сестре, она одна из всех вступилась за брата. Все кончено. Занавес опущен. Мои родные и близкие вынуждены страдать больше, чем я. И в далекой деревне отцу тяжело будет нести выпавший на его долю крест.
Вдруг я чуть не задохнулся от одной мысли: да я же невиновен! И в самом деле невиновен. Но для кого? Да, для кого я невиновен? И сам себе ответил: лучше спрятать язык в задницу, чем разглагольствовать о своей невиновности. Хочешь стать всеобщим посмешищем? Схлопотать пожизненную каторгу за какую-то «шестерку», а потом утверждать, что не ты его отправил на тот свет? Да это же курам на смех! Лучше помалкивай в тряпочку.
Все то время, пока я в ожидании судебного процесса находился в тюрьмах Сантé и Консьержери, мне ни разу не приходило в голову, что я могу получить такой приговор, поэтому я понятия не имел и даже не задумывался, что такое быть «спущенным в сточную канаву».
Ладно. Прежде всего надо связаться с теми, кто уже получил такой приговор и не прочь удариться в бега. Они могут составить мне компанию. Выбор пал на Дега, парня из Марселя. Конечно же, я встречу его в парикмахерской. Он ходит туда бриться каждый день. Я тоже попросился. И точно: когда я вошел, он уже стоял, повернувшись носом к стене.
Я видел, как он перепускает другого арестанта, чтобы самому подольше задержаться в очереди. Я тут же встал за ним, оттерев кого-то в сторону. Быстро прошептал:
– Как дела, Дега?
– Порядок, Папи. Пятнадцать лет. А у тебя? Слышал, намотали на полную катушку?
– Да. На всю жизнь.
– Собираешься обжаловать?
– Нет. Надо хорошо жрать да беречь здоровье. Копи силы, Дега. Нам еще пригодятся крепкие мускулы. Ты заряжен?
– Да. Десять «рябчиков» [2] в фунтах стерлингов. А ты?
– Нет.
– Советую: заряжайся, и побыстрее. У тебя адвокат кто, Юбер? Да он же, хрен собачий, никогда не решится пронести в камеру гильзу. Пошли жену изготовить ее у Данта. Да пусть хорошо набьет ее «пыжом». Потом пусть отнесет Доминику Богачу. Даю слово, что гильза до тебя дойдет.
– Тсс… Багор следит за нами.
– Итак, мы решили немножко поболтать? – вмешался надзиратель.
– Так, пустяки, – сказал Дега. – Он говорил, что плохо себя чувствует.
– А что с ним? Присяжные колики? – И толстозадый надзиратель чуть не задохнулся от хохота.
Такая вот наступила жизнь. Меня уже тащило вниз по сточной канаве. Я оказался в том месте, где воют от смеха, где могут отмачивать шуточки по адресу двадцатипятилетнего парня, приговоренного к пожизненному сроку.
Я получил гильзу. Это был прекрасно сработанный и отполированный алюминиевый цилиндр, развинчивавшийся точно посередине. Одна половина наворачивалась на другую. Внутри оказалось пять тысяч шестьсот новеньких франков. Когда он был передан мне, я поцеловал его. Да, поцеловал этот патрон длиной около шести сантиметров и толщиной с большой палец, прежде чем загнать в анальный проход. Сделал глубокий вдох, чтобы точно попасть в прямую кишку. Теперь это мой сейф и мои сбережения. Меня могут раздеть, заставят раздвинуть ягодицы, прикажут кашлять и перегибаться надвое, но никогда не узнают, что у меня внутри. Заряд сел глубоко в толстом кишечнике. Теперь он – часть меня самого. Это моя жизнь, и свобода, и тропинка к мести. Я решительно настроил себя на месть. Я ни о чем не думал, кроме мести.
За стенами тюрьмы темно. Я в камере-одиночке. Яркий свет под потолком позволяет надзирателю следить за мной через небольшой дверной глазок. Свет до боли режет глаза. Я накрываю их сложенным в несколько раз носовым платком. Лежу на матраце, на железной кровати без подушки. В голове проносятся ужасные подробности судебного процесса.
В этой части рассказа я буду, возможно, несколько утомителен, но иначе нельзя понять все остальное в этой длинной истории, нельзя досконально объяснить, что поддерживало меня в борьбе. Я должен именно сейчас рассказать о том, что творилось у меня в душе, какие мысли лезли в голову, каким образом разворачивались события в первые дни перед глазами человека, погребенного заживо.
Что буду делать после побега? Имея в распоряжении гильзу, я ни секунды не сомневался в его осуществлении. Прежде всего, и поскорее, надо вернуться в Париж. Первым убью лжесвидетеля Полена. Затем двух фараонов, состряпавших дело. Двумя полицейскими не обойдешься: следует прихлопнуть побольше. Всех к чертовой матери! Или как можно больше. О, появилась толковая идея! Как только вырвусь на свободу – сразу в Париж с чемоданом взрывчатки. Полным чемоданом – сколько влезет. Десять, пятнадцать, двадцать кило. Сколько же надо? Начинаю лихорадочно соображать, сколько потребуется взрывчатки, чтобы побольше прикончить.
Динамит? Нет, лучше шеддит. А почему не нитроглицерин? Верно. Надо посоветоваться со сведущим народом, разбирающимся лучше меня в этих вопросах. Но фараоны пусть не обольщаются: я им принесу столько, сколько надо.
Продолжаю лежать с закрытыми глазами, носовой платок помогает. Ясно вижу чемодан, с первого взгляда такой невинный, а на самом деле напичканный взрывчаткой. И часовой механизм, четко установленный на время, когда сработает детонатор. Внимание: взрыв произойдет в десять утра в зале совещаний криминальной полиции на втором этаже на набережной Орфевр, 36. В этот момент там соберется полтораста полицейских, не меньше, для инструктажа и получения нарядов. Сколько ступенек наверх надо пробежать? Тут нельзя ошибиться.
Следует четко определить время, достаточное, чтобы пронести чемодан с улицы к месту взрыва, – рассчитать все до секунды. А кто понесет чемодан? Придется их обвести вокруг пальца! Я подгоню машину прямо к двери здания криминальной полиции и скомандую двум шалопаям на часах у входа: «Отнесите этот чемодан в зал совещаний. Я скоро прибуду. Передайте комиссару Дюпону, что он от главного инспектора Дюбуа. Я поднимусь вслед за вами».
Но захотят ли они повиноваться? А что, если среди всех этих идиотов именно двое окажутся с мозгами? Не подходит. Надо придумать что-то другое. Снова и снова прокручиваю варианты. Где-то в глубине сознания я убежден, что удастся найти оптимальное решение.
Встал с кровати попить воды. От размышлений разболелась голова. Снова лег, уже не прикрывая глаза. Медленно тянулись минуты. Боже мой, этот проклятый свет! Смочил платок – и снова на глаза. Холодная вода успокаивала. Отяжелевший платок плотнее прикрывал веки. С сегодняшнего дня так и буду делать.
Те долгие размышления, когда я вынашивал план будущей мести, так живо запечатлелись в моей памяти, что, казалось, сама месть органично вплелась в реальную ткань событий и осуществлялась точно по задуманному сценарию. Все ночи напролет, а иногда и днем я носился по Парижу, будто мой побег действительно удался. Уже не было и тени сомнения, что побег может не удаться и я не вернусь в Париж. Разумеется, прежде всего я рассчитаюсь с Поленом, а за ним – с фараонами. А что делать с присяжными? Неужели оставить в покое этих ублюдков? Должно быть, они, эти безмозглые выродки, вернулись домой очень довольные от сознания выполненного долга – Долга с большой буквы «Д»! Поди ж как они важничают перед соседями и своими непричесанными женами, разогревающими для них суп!
Хорошо. Что же делать с присяжными заседателями? Да ничего. Это несчастные, забитые недоумки. Разве они годятся в судьи? Если один из них отставной жандарм или таможенник, так он и действует, соответственно, как жандарм или таможенник. А если молочник, так он и ведет себя как любой темный торгаш в мелочной лавке. Они были заодно с прокурором, а как же иначе? Разве ему трудно сбить их с толку? Они действительно не в ответе. Решено: им я не причиню никакого вреда.
По мере того как я записываю эти мысли, так живо рисовавшиеся мне в те далекие годы и сейчас вновь нахлынувшие с такой ужасающей ясностью, я вспоминаю, какой гнетуще непроницаемой должна быть тишина и каким полным одиночество, чтобы заставить жить воображением молодого человека, очутившегося в тюремной камере. Такая жизнь доводит до сумасшествия. Она раздваивает человека. Она дает ему крылья и заставляет блуждать в мире желаний. Дом, отец, мать, семья, детство – нет такого уголка в цепи лет, куда он не мог бы заглянуть. А еще воздушные замки, с такой невероятной живостью возникающие в его богатом воображении, что он начинает верить, что все это происходит не в мечтах, а наяву.
Тридцать шесть лет пролетело, но до сих пор мне не составляет труда восстановить все, что запечатлелось в моей памяти в тот момент.
Нет. Я и членам суда не причиню никакого вреда, продолжает писать перо. А как насчет главного обвинителя? Любой ценой его нельзя упустить. Во всяком случае, для него и рецепт готов, прямо из Александра Дюма. Точь-в-точь как в романе «Граф Монте-Кристо» о том парне, отправленном в подземелье подыхать с голоду.
Да, прокурор мне за все ответит. Стервятник в красной мантии. Я предам его самой ужасной смерти – он того заслуживает. Да, именно так и сделаю: после Полена и фараонов все свое время посвящу тому, чтобы разделаться с этим ползучим гадом. Сниму виллу. Надо, чтобы там обязательно был глубокий погреб с толстыми стенами и крепкой дверью. Если дверь окажется недостаточно толстой, я сделаю ее звуконепроницаемой с помощью матов и пакли. Заимев виллу, я буду следовать за ним как тень, а затем захвачу. В стене уже готовы кольца – и я тут же сажаю его на цепь. А теперь поглядим, у кого из нас будет повод повеселиться.
Вот он сидит прямо передо мной. Сквозь опущенные веки я вижу его с необычайной четкостью. Да, гляжу на него так же, как он смотрел на меня в суде. Сцена получалась натуральной: я чувствую, как он дышит мне в лицо, ощущаю даже тепло его дыхания. Мы сидим лицом к лицу, почти касаясь друг друга. В ястребиных глазах, ослепленных ярким, идущим сверху светом мощной лампы, затаился страх. Я делаю так, что он весь в фокусе бьющего луча. Крупные капли пота катятся по его красной и опухшей физиономии. Я слышу свои вопросы и слушаю его ответы. Я как будто снова переживаю тот момент.
– Узнаешь меня, сволочь? Я Папийон. Папийон – парень, которого ты с такой легкостью упек до конца дней за решетку. Ты годами корпел над своими книгами, чтобы стать высокообразованным; ночами просиживал над римским правом и прочей чепухой; учил латынь и греческий, себя не жалел, чтобы стать краснобаем. Стоило ли этим заниматься? Куда это тебя привело, жалкий ты выродок? Зачем все это было тебе? Для какой цели? Для новых, достойных человека законов? Для того, чтобы убеждать людей, что мир на земле – самая приятная штука? А может, для разрешения философских проблем, связанных с ужасными заблуждениями человечества на религиозной почве? Уж не для того ли, чтоб авторитетом высшего образования убедить людей стать лучше или хотя бы добрее? Скажи мне, как ты распорядился своими знаниями: во спасение утопающих или во имя их утопления? Ты не помог ни единой душе, тобой руководила только амбиция! Выше! Выше! Еще выше по ступенькам своей вшивой карьеры. Лучший поставщик каторжных поселений, превосходный фуражир палача и гильотины – вот твоя слава. Если бы Дейблер [3] имел чувство благодарности, он доставлял бы тебе каждый раз к Новому году ящик лучшего шампанского. Не из-за тебя ли, грязный сучий сын, он снес лишних пять-шесть голов в этом году? Но все-таки ты мне попался. Хорошо ли тебе на цепи у стены? Я даже помню твою усмешку и торжествующий взгляд, когда зачитывался приговор после твоей обвинительной речи. Словно все было вчера, а ведь прошли годы. Сколько? Десять лет? Двадцать?
Но что со мной? Почему десять лет? Почему двадцать? Возьми себя в руки, Папийон, ты молод, силен, у тебя пять тысяч шестьсот франков в заднем проходе. Два года – да. Два года из пожизненного срока – и не больше. Клянусь.
Хватит, Папийон, ты сходишь с ума. От тишины в камере-одиночке поневоле спятишь. Кончились сигареты. Вчера ты выкурил последнюю. Надо походить. Не все же время смотреть на мир закрытыми глазами, да к тому же через носовой платок. Верно. Я на ногах. Вся камера от двери до стенки неполных четыре метра – пять коротких шагов. Я хожу, заложив руки за спину. И продолжаю прерванный разговор.
Так вот, как было сказано, я хорошо вижу твою торжествующую улыбку и уж постараюсь, чтобы она сменилась жалкой гримасой. Все же тебе сейчас легче, чем было мне. Я не мог кричать, а ты можешь. Кричи, сколько тебе влезет. Кричи громче, если хочешь. Что мне с тобой делать? Помнишь, как у Дюма? Дать тебе сдохнуть с голоду? Нет! Этого мало. А как ты отнесешься, если для начала я выколю тебе глаза? Ты еще торжествуешь, не так ли? Ты полагаешь, что, если я выколю тебе глаза, ты окажешься в выигрыше. Вот как? Ты не будешь видеть меня, а я лишусь удовольствия видеть ужас в твоих глазах. Да, ты прав. Не буду выкалывать. По крайней мере, пока. Оставим на потом. Отрежу тебе язык, хоть и остер он у тебя, как нож, вернее, как бритва. Ты его превратил в проститутку ради блестящей карьеры. Как он нежно лепетал с женой, детишками, девочкой-подружкой! Девочкой? Мальчиком, скорее всего. Очень похоже. Кем тебе еще быть, как не потертой подстилкой? То-то! Начнем с языка, поскольку он наделал вреда ничуть не меньше, чем твоя башка. Ты понимаешь, о чем я говорю. Ты преуспел в том, что убедил судей поддакивать тебе. Ты так выгораживал фараонов, что те и взаправду поверили, будто преданно и неукоснительно следуют своему долгу. Ты проделал все так здорово, что те двенадцать выродков приняли меня за самого опасного человека в Париже. Не окажись у тебя этого лживого, искусного языка, поднаторевшего в искажении истины и передергивании фактов, я бы и теперь сидел себе на террасе «Гран-кафе» на Плас-Бланш и никуда бы не двинулся. Итак, решено: тебе следует вырвать язык немедленно. Но чем?
Хожу, хожу, хожу. Кружится голова, но мы так и остаемся лицом к лицу. Вдруг погас свет, и очень слабый луч зардевшегося дня скользнул в камеру через окно с деревянным переплетом.
Что? Уже утро? Неужто целую ночь провел я наедине со своей местью? Какие прекрасные часы! Как быстро пролетела эта долгая-долгая ночь!
Сидя на кровати, я стал прислушиваться. Ничего. Полная тишина. Только время от времени раздается легкий щелчок за дверью. Это надзиратель в тапочках, чтобы не делать шума, отодвигает небольшую металлическую пластинку и, приникая к глазку, наблюдает за мной. Я его не вижу.
Государственная машина, придуманная Французской республикой, собиралась отработать второй такт. Она шла великолепно: с первого захода напрочь стирала человека, который мог оказаться для нее досадной помехой. Но это еще не все. Человеку непозволительно умереть слишком быстро: самоубийство как средство спасения недопустимо. Он нужен машине. Где бы оказалась тюремная обслуга, не будь осужденных? В дерьме! Поэтому за человеком требуется надзор. Его следует отправить живым в места заключения, где за его счет будет жить еще больший штат государственных служащих. Снова слышу щелчок, вызывающий у меня улыбку.
Не волнуйся, милок, не убегу. Не бойся, не порешу себя. Мне бы только добраться живым до Французской Гвианы. Да поскорей бы! Господи, когда эти набитые дураки отправят меня туда!
Старый надзиратель с его вечным пощелкиванием пластинкой глазка мог бы сойти за крестную из сказки по сравнению с остальными баграми. Уж те ребята были точно не из церковного хора мальчиков. Я слышал, что, когда Наполеона, создавшего каторжные поселения, спросили, кто будет наблюдать за отъявленными негодяями, он ответил: «Еще более отъявленные!» Позднее я убедился, что изобретатель каторжных поселений не наврал.
Клак-клак – квадратное окно (двадцать на двадцать сантиметров посередине двери) открылось. Принесли кофе и пайку хлеба. Пайка – семьсот пятьдесят граммов. После вынесения приговора я лишен права заказывать еду из ресторана. Правда, при наличии денег я мог покупать сигареты и кое-что из еды в небольшом буфете. Так продлится еще несколько дней, а потом и этого не будет. Консьержери – это лишь преддверие настоящей тюрьмы. Я закурил «Лаки страйк» – какое удовольствие! Шесть франков и шестьдесят су за пачку. Купил две. Трачу деньги из своего кошелька, ведь скоро их конфискуют в счет судебных издержек.
Дега прислал в хлебе небольшую записку, из которой следовало, что мне необходимо попасть в дезинфекционную камеру. «В спичечном коробке три вши!» Вынул спички – и вот они, его крепенькие платяные вошки. Сразу понял, что это значило. Показал сударушек надзирателю, чтобы на следующий день меня вместе с моим барахлом и матрацем направили в паровую морилку, где прикончат всех паразитов, кроме нас разумеется. Там я и встретил Дега. Надзирателя в морилке не было. Мы оказались один на один.
– Спасибо, Дега. Благодаря тебе я получил гильзу.
– Беспокоит?
– Нет.
– Каждый раз, когда идешь в сортир, промывай ее хорошенько перед тем, как снова зарядиться.
– Да она совершенно водонепроницаема. Деньжата, гармошкой сложенные, лежат в ней как новенькие. А ведь я ношу ее в себе уже неделю.
– Порядок.
– Что ты намерен делать, Дега?
– Разыграю сумасшедшего. Не хочется отправляться в Гвиану. Прокантуюсь лет восемь-десять во Франции. У меня есть связи. Надеюсь, скостят лет пять.
– Сколько тебе лет?
– Сорок два.
– Тогда ты не в своем уме. Если ты отбарабанишь десять из пятнадцати, ты выйдешь стариком. Боишься каторги?
– Да. Мне не стыдно признаться в этом тебе, Папийон, но я боюсь. Гвиана – гиблое место. Годовая смертность – восемьдесят процентов. Конвой следует за конвоем, а между ними от тысячи восьмисот до двух тысяч покойников. Если не подхватишь проказу, подцепишь желтую лихорадку или дизентерию, которая не лечится. Там еще туберкулез или малярия. А если избежишь всех этих прелестей, то, вполне вероятно, убьют за гильзу или при попытке к бегству. Поверь, Папийон, я не пытаюсь тебя запугать. Но среди моих знакомых есть и такие, кто возвратился во Францию, отбыв небольшой срок – от пяти до семи лет. Я знаю, о чем говорю. Они полные развалины. Девять месяцев в году не вылезают из больниц. Побег с каторги, по их словам, – пустой разговор. Пустая затея.
– Я верю тебе, Дега. Но я верю и в себя. Я там долго не задержусь. Уж поверь мне. Я моряк и знаю море. Если я сказал, что убегу, так оно и будет. А как быть с тобой? Ты способен тянуть десять лет от звонка до звонка? Пусть даже сбросят пятерку, в чем нет полной уверенности, неужели ты рассчитываешь не спятить в одиночке? Представь себе: камера-одиночка, без книг, никуда не выйти – словом, не перемолвиться за сутки. И так каждый день. Да тебе вскоре покажется, что в часе не шестьдесят минут, а все шестьсот. И это еще не все.
– Может быть, но ты молод, а мне сорок два.
– Послушай, Дега, скажи прямо: чего ты больше всего боишься? Других зэков, не так ли?
– По правде говоря, Папи, да. Все знают, что я миллионер. А значит, что им мешает перерезать мне горло? Ведь они будут думать, что у меня при себе пятьдесят или сто тысяч.
– Послушай, давай договоримся! Обещай не терять голову, а я обещаю быть постоянно рядом с тобой. Каждый из нас может поддержать друг друга. Я ловок и силен. С детства приучен драться. Ножом владею, как дьявол. Что касается других зэков – успокойся. Нас будут уважать. Более того, будут бояться. А для побега никого нам не надо. У тебя есть деньги. У меня тоже. Я знаю, как обращаться с компасом, управлять лодкой. Что тебе еще надо?
Он жестко взглянул мне прямо в глаза… Мы обнялись. Уговор состоялся.
Открылась дверь. Прихватив свой узел, Дега отправился в одну сторону, а я – в противоположную. Наши камеры располагались недалеко друг от друга. Время от времени мы виделись то в парикмахерской, то у врача, то в тюремной церкви по воскресеньям.
Дега попался на махинациях, связанных с выпуском фальшивых облигаций Министерства обороны. Некий ловкий фальшивомонетчик поступал с ними крайне необычно: ценные бумаги достоинством в пятьсот франков безукоризненно переделывались в десятитысячные с помощью химических реактивов и новой гравировки. А поскольку бумагой и всем остальным облигации друг от друга ничуть не отличались, то охотно принимались банками и деловыми кругами. Так продолжалось несколько лет, и все это время государственные финансовые органы блуждали, как в темном лесу, пока не прихватили с поличным одного малого по имени Бриуле.
Луи Дега, владелец бара в Марселе, сидел себе спокойно в собственном заведении, где каждую ночь собирался цвет преступного мира – крутые ребята со всех концов земли обделывали там свои темные дела. И бар в Марселе был прекрасным местом для подобных международных встреч. Случилось это в 1929 году, когда Дега стал уже миллионером. Тогда-то и появилась перед ним как-то вечером хорошенькая, одетая по моде молодая особа. Она спросила месье Луи Дега.
– Это я, мадам. Чем могу служить? Пройдите в другую комнату.
– Видите ли, я жена Бриуле. Он в тюрьме в Париже за сбыт фальшивых облигаций. Я виделась с ним в комнате для свиданий в Санте, он дал адрес этого бара и попросил двадцать тысяч франков, чтобы оплатить услуги адвоката.
Тут-то, почуяв, какую опасность может представлять женщина, осведомленная в его причастности к делу, Дега, один из самых известных плутов Франции, и сделал замечание, которого ему не следовало бы делать никогда:
– Послушайте, мадам, я не знаю вашего мужа, а если вы нуждаетесь в деньгах, идите на панель. Вы молоды, хороши собой и заработаете больше, чем надо.
Бедняжка выбежала из бара в слезах, вне себя от гнева и все рассказала мужу. В ярости Бриуле потерял голову и выложил перед следствием все, что ему было известно, прямо обвинив Дега в изготовлении фальшивых облигаций. Команда из наиболее толковых сыщиков страны села Дега на хвост. Через месяц Дега, фальшивомонетчик-гравер и одиннадцать сообщников загремели за решетку. Их взяли сразу в разных местах. Они предстали перед судом присяжных департамента Сена, процесс длился четырнадцать дней. Обвиняемых защищали известные адвокаты. Бриуле не изменил своих показаний. В результате из-за каких-то жалких двадцати тысяч и дурацкой пошлой шутки великий обманщик Франции получил пятнадцать лет каторжных работ. Таким я его и встретил, постаревшим на десять лет и вконец разоренным. С этим человеком я заключил договор – союз на жизнь и на смерть.
Меня навестил мэтр Рэймон Юбер. Он был недоволен собой. Я его не винил.
Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом… Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом. Много часов я уже шагаю по камере от двери до окна. Закурил, почувствовал, что достаточно владею собой, появилась уверенность, что преодолею все на своем пути. Дал себе зарок не думать пока о мести. Пусть прокурор посидит на цепи, пропущенной через настенные кольца. Потом придумаем, как с ним поступить.
Внезапный крик, отчаянный, пронзительный, замирающий в страшных мучениях крик проник сквозь дверь моей камеры. Что это? Так мог кричать только человек под пыткой. Но здесь же не здание криминальной полиции. Нет возможности узнать, что произошло. Эти ночные крики выворачивали меня наизнанку. Какой силой должны они обладать, чтобы прорваться через войлочную обивку! Может, это сумасшедший? Так просто сойти с ума в этих камерах, куда ничего до тебя не долетает! Появилась привычка громко разговаривать с самим собой. «Какого черта, – говорю, – ты лезешь не в свои дела. Думай о себе, и только. Да еще о новом напарнике – Дега». Я наклонился, выпрямился и с силой ударил себя в грудь. Больно. Значит, все в порядке – мышцы рук работают превосходно. А как ноги, старина? Ты можешь себя поздравить. Ты уже более шестнадцати часов на ногах и не почувствовал усталости.
Китайцы придумали капать водой на голову. Французы придумали тишину. Лишают тебя всего, чем можно было бы заняться и отвлечься. Ни книг, ни бумаги, ни карандаша. Наглухо закрытое ставнем окно. И только слабый свет тихо льется через небольшие отверстия.
Тот душераздирающий крик меня действительно потряс. Я заметался по камере, как зверь в клетке. Нахлынуло тягостное чувство, что я забыт, оставлен всеми и заживо погребен. Одиночество, полное одиночество. И только крик, проникший в мою камеру, наедине со мной.
Дверь открылась. Появился старый кюре. Вот ты и не один: перед тобой стоит кюре.
– Вечер добрый, сын мой. Прости, что не пришел раньше. Был в отпуске. Ну, как ты здесь?
И добрый старый кюре вошел в камеру и сел на матрац.
– Откуда ты?
– Из Ардеша.
– А родители?
– Мать умерла, когда мне исполнилось одиннадцать. Отец был очень добр ко мне.
– Чем он занимался?
– Был школьным учителем.
– Он жив?
– Да.
– Почему ты говоришь о нем в прошедшем времени, если он жив?
– Он-то жив – я умер.
– Не говори так. Что ты сделал?
Сказать просто, что я невиновен, – значит ничего не сказать. И я ответил:
– Полиция говорит, что я убил человека. А если они так говорят, то это, должно быть, правда.
– Торговца?
– Нет, сутенера.
– А что это за история? Мне не совсем ясно. Преднамеренное убийство?
– Нет, не преднамеренное.
– Бедный мой мальчик, это невероятно. Что я могу для тебя сделать? Не желаешь ли помолиться со мной?
– Я ничего не смыслю в религии и не умею молиться.
– Это не имеет значения, сын мой. Я за тебя помолюсь. Господь любит всех чад своих, будь они крещеные или нет. Повторяй за мной каждое слово.
В его глазах была такая кроткая нежность, а округлое лицо светилось такой добротой, что мне было стыдно отказываться. И как только он встал на колени, я опустился рядом.
– Отче наш, иже еси на небеси…
Слезы навернулись у меня на глаза. Добрый кюре их заметил. Он снял своим пухлым пальцем крупную каплю, катившуюся по моей щеке, и отправил себе в рот.
– Сын мой, – сказал он, – эти слезы – величайшая награда, посланная мне сегодня через тебя Господом. Благодарю тебя.
Он поднялся с колен и поцеловал меня в лоб.
Мы снова сидели рядом на кровати.
– Давно ли ты плакал?
– Четырнадцать лет назад.
– Почему четырнадцать?
– В тот день умерла моя мать.
Он взял мою руку в свою и сказал:
– Прости тех, кто причинил тебе страдания.
Я вырвал руку и отпрыгнул на середину камеры. Сработал инстинкт.
– Ни за что на свете. Никогда их не прощу. И еще скажу вам, отче: нет дня, ночи, часа, минуты, когда бы я не думал, как с ними разделаться. Со всеми, кто засадил меня сюда. Я убью их, вопрос только как, когда и чем.
– Сын мой, ты веришь в то, что говоришь? Ты молод, слишком молод. С годами ты оставишь мысли о наказании и мести.
С тех пор минуло тридцать четыре года. И сейчас я разделяю его мнение.
– Сын мой, чем я могу тебе помочь? – снова спросил меня кюре.
– Преступлением, отче.
– Каким?
– Пойдите в камеру тридцать семь и скажите Дега, чтобы он связался со своим адвокатом. Пусть добивается перевода в центральную тюрьму в Кане. Я уже это сделал сегодня. Нам надо побыстрей выбираться из Консьержери и попасть в какую-нибудь центральную тюрьму, где формируется этап в Гвиану. Если пропустить первый корабль, то придется ждать следующего еще два года. Ждать в одиночке. Повидавшись с ним, вы вернетесь сюда, отче?
– Чем же мне объяснить возвращение?
– Скажите, что забыли требник. Я буду ждать вас с ответом.
– А почему ты спешишь попасть в такое ужасное место – на каторгу?
Бросив жесткий взгляд на этого великодушного коробейника доброго слова, я понял, что он не выдаст.
– Чтобы поскорее удрать, отче.
– Помоги тебе Господь, мой мальчик. Я уверен, я чувствую, что ты встанешь на путь истины. По глазам вижу, что ты порядочный молодой человек и сердце твое на месте. Я пойду в камеру тридцать семь. Сделаю это для тебя. Жди ответа.
Вскоре он вернулся. Дега дал согласие. Кюре оставил мне свой требник до следующего дня.
Благодаря добряку-кюре, моя камера наполнилась живым светом – вся озарилась его лучами. Если Бог существует, почему Он сделал людей такими разными? Прокурор, полиция, Полен, а затем кюре из Консьержери…
Визит поистине доброго человека подбодрил меня и вселил надежду. Ко всему прочему, он оказался полезен. Наши просьбы быстро прошли инстанции. Через неделю в четыре часа утра нас семерых построили в одну шеренгу в коридоре Консьержери. Багры тоже были тут как тут при полном параде.
– Одежду снять!
Мы медленно разделись. Было холодно. Тело покрылось гусиной кожей.
– Вещи положить. Шаг назад. Кру-гом!
Перед каждым из нас лежала груда арестантского барахла.
– Одеться!
Хорошая тонкая хлопчатобумажная рубашка, всего лишь несколько минут назад облегавшая тело, меняется на грубое некрасивое холщовое изделие. Элегантный костюм – на жесткую блузу и штаны. Нет больше кожаных ботинок – на ногах пара деревянных башмаков-сабо, и если до того момента я обладал какой-то индивидуальностью, то после переодевания произошла полнейшая метаморфоза. Посмотрел на остальных шестерых. Какой кошмар! Не отличить одного от другого: нас всех за какие-то две минуты превратили в каторжников.
– Напра-во! Ша-гом арш!
В сопровождении двадцати стражников нас вывели во двор, по очереди рассовали в «воронок» – каждого в отдельную ячейку в виде узкого шкафа. Погрузили и отправили в Болье. Болье – это тюрьма в Кане.
Тюрьма в Кане
По прибытии нас доставили в кабинет начальника тюрьмы. За столом в стиле ампир, установленном на помосте, который на метр возвышался над полом, восседала исполненная собственной значительности персона.
– Смирно! С вами будет говорить начальник!
– Осужденные, здесь вы на правах пересыльных, пока не придет время отправить вас по местам заключения. Это не обычная тюрьма. Разговоры запрещены круглосуточно. Никаких посещений, никаких писем от кого бы то ни было. Малейшее неповиновение – конец! Отсюда только два пути: на каторгу, при условии безупречного поведения, или на кладбище. Два слова о плохом поведении: малейший проступок – на шестьдесят суток в карцер на хлеб и воду. Не было случая, чтобы кто-то выдержал два раза подряд. Понятно?
Он обратился к Пьерро Придурку, выданному властями Испании:
– Кем был на воле?
– Тореадором, месье начальник.
Ответ привел начальника в ярость, и он заорал:
– Убрать! И всыпать как следует!
Мы и глазом не успели моргнуть, как «грозу быков» сбили с ног и начали обрабатывать дубинками четверо или пятеро надзирателей, быстро уволакивая его прочь. Слышно было, как он кричал:
– Ублюдки, пятеро на одного. Да еще с дубинками, трусливые паскуды.
Затем: «А-а-а!» – крик смертельно раненного животного. И все. Только звук, будто что-то волокут по бетонному полу.
Лишь круглые тупицы не усвоили бы предметного урока, только что преподанного нам начальником. Дега находился рядом. Движением пальца, одного лишь пальца, он дотронулся до моих штанов. Я понял намек: «Берегись, если хочешь живым добраться до каторги». Через десять минут нас всех отправили в изолятор, каждого в свою камеру. Всех, кроме Пьерро Придурка, брошенного в мрачный подвал карцера.
Нам с Дега повезло: камеры оказались рядом. Но перед этим нас «представили» одному типу – рыжему циклопу под два метра ростом. В его правой руке была зажата новенькая плетка, сплетенная из сыромятных ремней. Это был экзекутор из числа заключенных, игравший по приказу надзирателей роль мучителя. Какой ужас наводил он на узников! С таким подручным стражники могли пороть заключенных без устали, не опасаясь получить нарекание от начальства в случае смертельного исхода.
Уже позже, когда я попал на короткое время в больницу, я услышал историю этого зверя в человеческом образе. Начальника тюрьмы действительно следовало поздравить с хорошим выбором исполнителя своей воли. В прошлом парень работал в каменоломне. Жил в небольшом городишке во Фландрии. Однажды ему взбрело в голову покончить с собой, а заодно и с женой. Для этого дела он воспользовался тяжелой динамитной шашкой. Лег с женой спать в комнате на втором этаже шестиэтажного дома. Жена уснула. Он зажег сигарету и от нее подпалил бикфордов шнур. Шашку держал в левой руке между собственной головой и головой супруги. Прогремел страшный взрыв. Результат: жену собирали ложкой – она буквально превратилась в фарш. Часть дома рухнула, под завалом оказались трое детишек и семидесятилетняя старуха. Все так или иначе пострадали. Сам же Потрошитель, или сей молодец, лишился кисти левой руки (от нее остались мизинец да половина большого пальца), левого глаза и уха. Голову изрядно зацепило – потребовалась трепанация черепа. По осуждении его сделали экзекутором изолятора центральной тюрьмы. Этот-то полуманьяк и имел полную власть над несчастными, прибывшими сюда.
Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом… Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом… Началось бесконечное вышагивание между дверью и стенкой камеры.
Днем лежать не разрешалось. В пять часов утра пронзительный свисток будил каждого. Вставали, заправляли кровати, умывались, а затем – либо ходи по камере, либо сиди на откидном стуле, прикрепленном к стене. В течение всего дня нельзя было прилечь. Последний штрих исправительной системы заключался в том, что сама кровать, складываясь, приставлялась к стене и сажалась на крюк. Таким образом узник не мог растянуться на чем-либо и отдохнуть, но зато за ним было легче наблюдать.
Раз, два, три, четыре, пять… И так четырнадцать часов. Чтобы приноровиться к такому непрекращающемуся механическому ритму, надо научиться держать голову вниз, руки за спиной и ходить не быстро и не медленно, выдерживая длину шага, и, автоматически повернувшись, выступать вперед левой ногой в одном конце и правой в другом.
Раз, два, три, четыре, пять… В здешних камерах больше света, чем в Консьержери, и шум доносится до слуха – то наш из изолятора, то посторонний из села. По вечерам можно различить, как свистят и поют работники ферм, когда возвращаются домой, веселые от выпитого сидра.
Я получил рождественский подарок. В деревянных брусьях оконного переплета оказалась трещина, и через нее я увидел заснеженные поля и несколько высоких черных деревьев в свете полной луны. Никто бы не возразил против того, чтобы назвать этот вид рождественской открыткой. Деревья раскачивались на ветру, сбросив снежное покрывало, и вырисовывались передо мной совершенно четко. Они выступали большими темными островками на фоне всего остального.
Наступил и сам праздник Рождества. Рождество для каждого, даже для тех, кто оказался в тюрьме. Начальство расщедрилось для пересыльных: нам разрешили купить по две дольки шоколада. Именно две дольки, а не плитки. Мой праздничный ужин в год тысяча девятьсот тридцать первый от Рождества Христова состоял из этих двух долек шоколада марки «Эгебель».
Раз, два, три, четыре, пять… Карающий меч закона превратил меня в маятник: весь мой мир умещался в этом хождении взад и вперед по камере. Все было по науке. В камере ничего не разрешалось оставлять. Совершенно ничего. Более того, узнику не позволялось отвлекаться на посторонние предметы. Если бы меня застукали на том, что я смотрю через трещину оконного переплета, я понес бы суровое наказание. А в конце-то концов, разве они не правы? Ведь для них я был всего-навсего живым трупом, и не более. Какое я имел право любоваться пейзажем?
Откуда-то появился мотылек. Бледно-голубой мотылек с узкой черной каймой на крыльях летал рядом с оконным стеклом. Недалеко от мотылька жужжала пчела. Что они здесь искали?.. Казалось, они лишились рассудка при виде зимнего солнца, если хотели укрыться от холода в тюрьме. Мотылек зимой – это некий возврат к жизни. Как он не погиб? Как случилось, что пчела улетела из улья? Какая дерзость прилететь сюда, если бы они только знали! К счастью, у экзекутора не было крыльев, а то бы им недолго осталось жить.
У меня было сильное предчувствие, что я еще столкнусь с этим грязным садистом. К сожалению, так и случилось. В тот же день, когда эти милые насекомые посетили меня, я сказался больным. Я не выдержал. Одиночество действовало разрушительно. Увидеть хотя бы чье-то лицо, услышать хотя бы чей-то голос, пусть даже неприятный для меня. Но все-таки это был бы голос! Мне надо его слышать.
Стою нагишом в ледяном коридоре лицом к стене. От стенки до кончика носа не более восьми сантиметров. Стою предпоследним в шеренге из восьми человек в ожидании очереди к врачу. Хотелось видеть людей? Ну что ж, ты этого добился! Едва успел шепнуть несколько слов Жюло, по прозвищу Молотобоец, как тут же налетел экзекутор.
Реакция рыжеголового маньяка была страшной. Ударом в затылок он послал меня почти в нокаут, а поскольку я не ожидал удара, мой нос расквасился о стенку. Брызнула кровь. Поднявшись на ноги, встряхиваюсь и пытаюсь понять, что произошло. Слабо протестую. Этого только и требовалось скотине. Пинком в живот он снова распластал меня на полу и принялся нахлестывать бычьей плеткой. Жюло не выдержал – прыгнул на него, и завязалась рукопашная. А поскольку Жюло доставалось в ней больше, то стражники за всем этим делом наблюдали спокойно, ни во что не вмешиваясь. Никто не заметил, как я встал. Огляделся вокруг в поисках чего-либо, что можно было бы пустить в ход как оружие. Вдруг вижу, как врач в операционной перегибается через спинку кресла, пытаясь понять, что происходит в коридоре. Тут же замечаю, как на кастрюле под действием пара прыгает крышка. Большая эмалированная кастрюля стояла на плите, обогревая кабинет. Несомненно, пар еще был нужен и для очистки воздуха.
Метнулся к плите, схватил кастрюлю за ручки и, страшно обжигаясь, одним махом выплеснул кипящую воду в морду прохвоста. Тот был так занят Жюло, что не заметил, как я подскочил. Выродок заревел нечеловеческим голосом. Он получил по заслугам. Извиваясь на полу, как червяк, он пытался сорвать с себя три шерстяные жилетки, одну за другой. Когда добрался до третьей, то содрал ее вместе с кожей. Мешал глухой ворот. Кожа, пристав к шерсти, сошла с груди, частично с шеи и полностью со щек. Единственный глаз также обварился. Он ослеп. Он поднялся, страшный, окровавленный, только что освежеванный – без шкуры. Жюло воспользовался моментом и сильно ударил его ногой в пах.
Скотина рухнул, извергая блевотину и пену изо рта. С ним было покончено, а мы ничего не теряли: за плечами пожизненный срок, и больше нам не дадут. Двое надзирателей, наблюдавших за сценой, не осмелились подступиться к нам. Они вызвали подкрепление. Со всех сторон появились тюремщики, и град ударов обрушился на нас. Меня послали в нокаут почти сразу, поэтому я ничего не почувствовал.
Очнулся совершенно голый двумя этажами ниже, в притопленном водой карцере. Медленно приходил в себя. Ощупал руками зудящее от боли тело. На голове насчитал четырнадцать или пятнадцать шишек. О времени не имел понятия. Здесь между днем и ночью разницы никакой. Свет вообще не зажигают. Услышал постукивание в стенку. Стук доносился издалека.
Тук-тук-тук-тук-тук. Так перестукиваются арестанты, устанавливая связь друг с другом. Следует постучать дважды, если хочешь ответить. Постучать – но чем? В темноте не разберешься. Кулаки не годятся – удары кулаком нерезки и неотчетливы. Стал передвигаться, как мне казалось, по направлению к двери, там было чуть светлее. Наткнулся на решетку, не замеченную мной. Сообразил, что до двери оставался еще какой-то метр, а брусья решетки, за которые я держался, не давали к ней подойти. Понял, что нахожусь в карцерной клетке. Таким образом обеспечивается безопасность посетителя в случае покушения со стороны преступника: узник не может до него дотянуться. С узником можно вступить в разговор, подтопить его водой, бросить еду, как собаке, оскорбить без всякого риска. Но есть и преимущество для узника – его нельзя избить безнаказанно, ведь, чтобы его поколотить, надо открыть дверцу клетки.
Время от времени стук повторялся. Кто бы это мог вызывать меня? Парню следовало ответить, поскольку, нарушая порядок, он дьявольски рисковал. Я наступил на что-то твердое и круглое. Ощупал предмет – им оказалась деревянная ложка. Схватив ложку, приготовился отвечать. Жду, крепко прижавшись ухом к стене. Тук-тук-тук-тук – пауза, тук-тук. Тук-тук, ответил я. Этот удар дважды означал для человека на другом конце связи: продолжай – я принимаю. Стук возобновился: тук-тук-тук… Быстро пробегает алфавит – а, б, в, г, д… и стоп! Остановка на букве «п». Сильный удар в ответ – тук! Он теперь знает, что я принял букву. Затем последовали «а», «п» и так далее. Послание гласило: «Папи, порядок? Тебе досталось. У меня сломана рука». Это был Жюло.
Таким образом мы с ним переговаривались более двух часов, не беспокоясь, что нас поймают. Оба были в полном восторге от возможности обменяться посланиями. Поведал ему, что цел и невредим, ничего не сломано. Есть шишки на голове, но обошлось без серьезных ран.
Он сообщил мне, что видел, как меня тащили вниз за ногу и как я стукался головой о ступеньки. Он не терял сознания. Он полагал, что Потрошитель серьезно обварен, что шерсть только усугубила ожоги и что он не скоро очухается.
Три быстрых удара подряд означали: что-то произошло. Я прекратил стучать. И в самом деле, через несколько минут открылась дверь и раздался крик:
– Назад, сука! К задней стенке камеры и стоять по стойке смирно! – Появился новый прохвост-экзекутор. – Меня зовут Баттон [4] , это мое настоящее имя. По работе и звание.
Он осветил карцер и меня, голого, большим корабельным фонарем.
– Вот барахло, одевайся. Не двигаться. Вода и хлеб. Не лопай зараз, сутки ничего не получишь.
Он зверем рычал на меня, но затем поднес фонарь к своему лицу, и я увидел, что он улыбается, но беззлобно. Приставив палец к губам, он им же указал на то, что принес для меня. За дверью в проходе, должно быть, находился надзиратель, а ему хотелось показать, что он не враг.
Действительно, вместе с пайкой хлеба я нашел большой кусок вареного мяса, а в кармане штанов – целое сокровище! – пачку сигарет и зажигалку. Подарки такого рода стоили здесь миллионы. Две рубашки вместо одной, шерстяные кальсоны, доходящие до лодыжек. Никогда не забуду этого Баттона. Он платил за устранение Потрошителя. До потасовки он был всего лишь помощником. Теперь же, благодаря мне, он сам дорос до большого человека. Короче, своим продвижением он был обязан мне и выражал свою благодарность. А поскольку с Баттоном я и Жюло были в безопасности, то слали друг другу телеграммы беспрерывно. От Баттона я узнал, что наш отъезд не за горами – через три или четыре месяца.
Через два дня нас вывели из карцера и доставили в кабинет начальника тюрьмы. При каждом из нас по два надзирателя. За столом напротив двери сидели три человека. Своего рода суд. Начальник – за председателя, его заместитель и старшие надзиратели – за заседателей.
– Ага, мои молодые друзья, вот вы и пожаловали! Что вы хотите сказать?
Жюло стоял бледный как полотно, глаза припухли: у него определенно поднялась температура. Три дня назад ему сломали руку. Наверняка было трудно переносить боль. Он тихо произнес:
– У меня сломана рука.
– Ты сам напросился. Будешь знать, как налетать на людей. Тебя покажут врачу при осмотре. Надеюсь, в течение недели. Тебе полезно подождать, ибо боль будет для тебя уроком. Не хватало еще специально вызывать врача из-за таких, как ты. Подождешь, пока тюремный врач будет делать обход, тогда и покажешься. Тем не менее я приговариваю вас обоих к карцеру до нового распоряжения.
Жюло взглянул мне прямо в глаза, как бы говоря: «Для этого господина жизнь человеческая – пустой звук».
Я повернулся и посмотрел на начальника тюрьмы. Он подумал, что я желаю что-то сказать.
– Теперь ты. Приговор, видно, пришелся не по вкусу. Хочешь возразить?
– Нисколько, месье начальник. Единственное, чего страшно хочется, так это плюнуть вам в глаза. Но я не буду этого делать – боюсь запачкать плевок.
Начальник пришел в замешательство, покраснел и с минуту не мог сообразить, что я сказал. Но до старшего надзирателя все дошло, как надо. Он заорал баграм:
– Убрать и отделать как следует. Хочу поглядеть на него снова здесь через час, когда он на четвереньках будет вымаливать прощение. Мы его укротим. Я его заставлю языком чистить мне сапоги и подметки. Не миндальничайте с ним – он ваш.
Справа и слева по двое надзирателей уже крутили мне руки. Я оказался прижатым лицом к полу с заведенными вверх руками аж до лопаток. Надели наручники с напальником, когда левый указательный палец подводится к правому большому в специальном зажиме. Старший надзиратель рывком за волосы поднял меня с пола.
Нет смысла рассказывать, что со мной сделали. Скажу только, что наручники не снимали одиннадцать дней. Своей жизнью я обязан Баттону. Каждый день он швырял положенную мне пайку хлеба в клетку, но я не мог есть без рук. Даже зажав ее между прутьями решетки, я не мог впиться в нее зубами. Тогда Баттон стал отламывать хлеб и бросать кусочками, как раз чтобы только взять в рот. Я собирал их в кучку ногами, ложился на живот и поедал, как собака, тщательно прожевывая каждый, чтобы ничего не пропало. Только так и выжил.
Когда на двенадцатый день наручники сняли, то оказалось, что сталь въелась в мясо, а в некоторых местах покрылась запекшейся кровью и гноем. Старший надзиратель перепугался, особенно когда я упал в обморок от боли. Меня привели в чувство и доставили в больницу, где промыли раны перекисью водорода. Санитар настоял на уколе против столбняка. Руки закостенели и никак не хотели принимать естественное положение. Больше получаса растирали камфорным маслом, прежде чем я смог опустить их по швам.
Снова отправили в карцер. Старший надзиратель, увидев одиннадцать паек хлеба, сказал:
– Да у тебя настоящий банкет. Странно, ты даже не похудел за одиннадцать дней голодовки.
– Я пил много воды, начальник.
– Ах так. Понял. Теперь ешь вволю и накапливай силы.
С этими словами он ушел.
Несчастный полудурок! Он ведь так сказал потому, что был убежден, что я ничего не ел в течение одиннадцати дней, и чтобы я нажрался до отвала и сдох. Хрена тебе! Ближе к вечеру Баттон прислал табаку и сигаретной бумаги. Я курил и курил, выпуская дым в вытяжную систему. Она, конечно, никогда не работала, но, по крайней мере, для курения сгодилась.
Связался с Жюло. Он тоже думал, что я не ел все одиннадцать дней и советовал проявить осторожность. Я не открывал ему правды, боясь, чтобы какая-нибудь сволочь не перехватила послание. На руку ему наложили гипс. Чувствовал он себя нормально; поздравил, что я с честью выдержал испытание. Он сообщил, что до отправления конвоя уже недолго. Дежурный санитар сказал ему, что в тюрьму завезены лекарства для прививок. Прививки сделают всем заключенным перед отправлением. Обычно лекарства привозят за месяц до отправки конвоя. Жюло проявил некоторую неосторожность, спросив меня про гильзу.
Я ответил, что все в порядке, но не стал объяснять, чего это мне стоило. В заднем проходе образовалась страшная язва.
Через три недели нас вывели из карцера. Что случилось? Нам разрешили хорошо помыться в душевой, снабдив порядочным куском мыла. Я почувствовал, что возвращаюсь к жизни. Жюло смеялся, как ребенок, а Пьерро Придурок весь светился от счастья.
Поскольку мы вышли прямо из карцера, то не знали никаких новостей. Парикмахер не ответил, когда я спросил шепотом, что происходит. Какой-то тип со злым лицом, которого я вовсе не знал, сказал:
– Полагаю, что нас амнистировали. Приезжает инспектор, и они напугались. Весь секрет в том, что нас надо предъявить живьем.
Всех отправили по обычным камерам. В полдень я впервые за сорок три дня съел миску горячего супа. На глаза попалась деревянная щепка с надписью: «Отправка через неделю. Завтра прививки».
Кто послал? Не знаю. Может, такой же зэк, проявивший к нам расположение и предупредивший об отправке. Он не сомневался в том, что, если узнает один, узнают и другие. Щепка могла попасть ко мне случайно. Я немедленно вызвал Жюло с просьбой передать дальше.
Ночью я слышал, как работает наш «телефон». Я обошелся только одним «звонком». Уютно было лежать в кровати. Рисковать больше не хотелось. Перспектива оказаться снова в карцере не привлекала. Сегодня меньше, чем когда-либо.
Тетрадь вторая На каторгу
Сен-Мартен-де-Ре
В тот вечер Баттон прислал мне три сигареты и записку: «Папийон, я знаю, после отъезда ты вспомнишь меня добром. Я экзекутор, но стараюсь делать меньше зла заключенным. Я согласился работать потому, что у меня девять детей, а на помилование рассчитывать не приходится. Постараюсь его заслужить, не причиняя людям много вреда. Прощай. Счастливого пути! Конвой послезавтра».
И действительно, на следующий день нас собрали в коридоре изолятора, разбив на группы по тридцать человек. Санитары из Кана сделали нам прививки от тропических болезней. Всадили по три укола и дали по два литра молока на человека. Дега стоял рядом и был очень задумчив. Никто больше не обращал внимания на запрет разговаривать, мы твердо знали, что после прививок в карцер не посадят. Вполголоса болтали прямо на глазах у багров, а те помалкивали в присутствии городских санитаров.
Дега сказал мне:
– Как ты думаешь, хватит ли у них «воронков» с клетушками, чтобы забрать всех за один заезд?
– Думаю, что нет.
– До Сен-Мартен-де-Ре далековато. Если брать по шестьдесят, то управятся за десять дней. Нас здесь собралось почти шесть сотен.
– Нам сделали прививки – и это главное. Что это значит? А то, что ты уже в списках и скоро отправляемся. Выше голову, Дега. Для нас начинается новый жизненный этап. Положись на меня так же, как я рассчитываю на тебя.
Дега посмотрел на меня, и я заметил, что его глаза светятся от удовольствия. Его рука легла на мою, и он подтвердил: «На жизнь и на смерть».
О конвое много не расскажешь. Пожалуй, одна деталь достойна упоминания: в автоклетушке было так тесно, что любой мог спокойно задохнуться. Стражники лишили нас последнего глотка свежего воздуха, не позволяя даже чуть-чуть приоткрыть дверцу клетушки-одиночки. Когда мы прибыли в Ла-Рошель, в нашем фургоне оказалось два покойника – умерли от удушья.
На пристани стояли люди, направлявшиеся на остров Сен-Мартен-де-Ре. Они видели этих несчастных, но нельзя сказать, чтобы как-то посочувствовали им. На судно вместе с нами погрузили и трупы, поскольку жандармы обязаны были доставить в цитадель всех заключенных до единого – живых или мертвых.
Плыли по проливчику недолго, но настоящего морского воздуха успели вдохнуть.
– Пахнет побегом, – сказал я Дега.
Он улыбнулся. А Жюло, стоявший рядом, продолжил:
– Да, побегом пахнет. Меня везут туда, откуда я рванул пять лет назад. И сцапали, как последнего дурака, в тот момент, когда я уже готов был разнести всю малину одного Иуды, завалившего меня в небольшом дельце десятилетней давности. Давайте держаться вместе. В Сен-Мартене в камеру суют по десять человек в любом сложившемся ранее порядке, лишь бы ты оказался под рукой.
В одном ошибся Жюло. Когда мы прибыли на место, его и еще двоих первыми выкликнули из строя и отделили от остальных. Все трое в свое время бежали с каторги. Их возвращали обратно уже по второму разу.
Заключенных распределили по камерам по десять человек. Потекла жизнь, полная ожиданий. Разрешалось разговаривать и курить. Кормили хорошо. Приходилось опасаться только за гильзу. Без всяких видимых причин тебя вдруг вызывают, приказывают раздеться и начинают тщательно осматривать. Сначала все тело, даже подошвы ног. Затем команда: «Одеваться!» И снова отправляют туда, откуда ты явился.
Камеры, столовая, тюремный двор, где мы часами маршируем, построенные в одну колонну: «Левой, правой! Левой, правой! Левой, правой!» Маршировали группами по пятьсот узников. Получался длинный-предлинный крокодил, грохочущий деревянными башмаками: трак-трак, трак-так-так. Все разговоры абсолютно запрещены. Затем команда: «Разойдись!» Все садятся на землю, образуя группы по признакам социального происхождения или положения в обществе. Сначала идет настоящий преступный мир: тут, собственно, наплевать, откуда ты взялся – с Корсики, из Марселя, Тулузы, Бретани, Парижа и так далее. Один даже из Ардеша – это я. В отношении Ардеша должен заметить следующее: из тысячи девятисот узников в конвое только двое оказались из Ардеша. Одного вы знаете, а второго сейчас представим: охотничий инспектор, убивший собственную жену. Не правда ли, парни из Ардеша – прекрасные парни? Другие группы формировались более или менее произвольно, потому что на каторгу отправляется все-таки больше простофиль, чем жуликов, и больше обывателей, чем настоящих проходимцев. Те дни ожидания мы окрестили днями наблюдения. И правда, за нами наблюдали со всех сторон и под всевозможными геометрическими углами.
Однажды в полдень я грелся на солнышке. Ко мне подошел человек. Небольшого росточка тощий очкарик. Я хотел определить, при каких обстоятельствах мог его видеть, но в нашей одежде, когда все почти на одно лицо, сделать это крайне затруднительно.
– Тебя зовут Папийон? – Выговор с сильным корсиканским акцентом.
– Допустим. Что надо?
– Пройдем в сортир, – сказал он и двинулся к туалету.
– Это парень с Корсики, – сказал мне Дега. – Определенно бандит с гор. Что ему нужно?
– Собираюсь выяснить.
Я направился к туалетам, находившимся посередине тюремного двора. Вошел туда и сделал вид, что мочусь. Человек стоял рядом в той же позе. Не оборачиваясь, он произнес:
– Я шурин Паскаля Матрá. В комнате свиданий он сказал мне, чтобы я обратился к тебе, если потребуется, от его имени.
– Да, Паскаль мой друг. Что ты хочешь?
– Не могу больше хранить гильзу. У меня дизентерия. Не знаю, кому доверить. Боюсь, что украдут или найдут багры. Прошу тебя, Папийон, поноси несколько дней за меня.
Он показал мне гильзу гораздо больших размеров, чем моя. Я испугался: не устраивает ли он мне ловушку? Весь разговор он завел, положим, для того, чтобы выведать, заряжен ли я. Если я скажу, что вряд ли смогу носить два заряда, вдруг ему того и надо! Не выражая мыслей вслух, я спросил:
– Сколько там?
– Двадцать пять тысяч франков.
Не говоря больше ни слова, я взял гильзу (кстати, тоже очень чистую) и тут же у него на глазах всадил в себя, крайне любопытствуя при этом, смогу ли удержать две. Не было опыта. Я выпрямился, застегнул штаны… все в порядке. Нисколько не беспокоит.
– Меня зовут Игнас Гальгани́, – сказал он, перед тем как уйти. – Спасибо, Папийон.
Я пошел к Дега и наедине рассказал о том, что произошло.
– Не очень тяжело?
– Нет.
– Тогда ладно. Забудем.
Мы пытались по возможности связаться с дошлыми парнями, такими как Жюло или Гиттý, уже совершавшими побег и возвращавшимися обратно. Ужасно хотелось разузнать, как там, какое обхождение с заключенными, что нужно сделать, чтобы тебя не разлучали с приятелем, и прочее. На ловца и зверь бежит, и в данном случае на нас вышел весьма любопытный малый по собственной инициативе. Корсиканец, родился на каторге. Отец там служил надзирателем, проживал с матерью на островах Салю. Сам он родился на Руаяле, одном из трех островов. Название других – Сен-Жозеф и остров Дьявола. По иронии судьбы, он возвращался назад, но уже не в качестве сына надзирателя, а как преступник.
Он схлопотал двенадцать лет за кражу со взломом. Девятнадцатилетний парень – искренность в разговоре, открытое лицо. Мы с Дега сразу поняли, что парня заложили: он имел самое смутное представление о преступном мире. Но он мог оказаться полезным в том смысле, что от него мы могли узнать, что нас ждет впереди. Он расписал нам всю жизнь на островах, где провел четырнадцать лет. Например, рассказал о том, что у него в няньках ходил зэк, крутой мужик, осужденный за драку с соперником на Монмартре из-за белокурой красавицы. Соперника он, конечно, зарезал. Парень дал нам несколько ценных советов: бежать следует с материка, потому что с островов не убегают. И еще: нельзя попадать в списки особо опасных, ибо с этим ярлыком вряд ли удастся ступить на берег в Сен-Лоран-дю-Марони: прежде тебя упрячут – интернируют на несколько лет или пожизненно в соответствии с твоим «послужным списком». В общем, на островах отбывают срок не более пяти процентов заключенных. Другие остаются на материке. На островах здоровый климат, а материк (как уже говорил Дега) грозит большими неприятностями: всевозможные болезни, смерть в самых затейливых формах – убийство и тому подобное.
Мы с Дега надеялись не попасть на острова. Но у меня засосало под ложечкой: а что, если меня уже отнесли к разряду особо опасных? Пожизненный срок, история с Потрошителем и это дело с начальником тюрьмы. Лучше было бы не ввязываться.
Однажды по тюрьме пронесся слух: ни в коем случае не следует обращаться в лазарет – всех слабых и больных, не способных выдерживать морское плавание, отравляют. Конечно же, это была ерунда. Вскоре Франсис Лапасс, парижанин, нас всех успокоил. Да, там умер один тип от яда, но брат Франсиса, работавший в лазарете, объяснил, как это произошло.
Этот тип сам себя приговорил. Он был известнейшим медвежатником, специалистом по взлому сейфов. Говорят, во время войны он обокрал немецкое посольство в Женеве или Лозанне в интересах французской разведки. Оттуда прихватил с собой какие-то очень ценные бумаги и передал французским агентам. Он отбывал пятилетний срок. Полиция выпустила его из тюрьмы специально для этого задания. С тех пор, с 1920 года, он жил тихо, напоминая о себе раз или два в году. И каждый раз, когда его хватали за руку, он начинал свой маленький шантаж, после чего немедленно вмешивались люди из разведки, и дело прекращалось. Но в последнем случае ничего не сработало. Он получил двадцать лет и должен был отправляться с нами. Чтобы избежать погрузки на судно, он прикинулся больным и попал в больницу. По словам брата Франсиса Лапасса, таблетка цианистого калия положила конец его проказам. Содержимому сейфов и службе разведки теперь ничего не угрожало.
Тюремный двор был полон всяческих слухов и историй, правдивых и вымышленных. Мы слушали и то и другое, хоть как-то скрашивая жизнь.
Каждый раз, когда я шел в туалет, будь то во дворе или в камере, Дега следовал за мной из-за гильз. Он вставал спереди и прикрывал меня от излишне любопытных глаз. Гильза – неприятная вещь вообще, а тут еще сразу две: Гальгани не выздоравливал, ему становилось все хуже и хуже. В этом деле я столкнулся с какой-то нелепой загадкой: гильза, заряженная последней, выходила последней, а первая – всегда первой. Как они там переворачивались и менялись местами – ума не приложу. Но именно так и было.
Вчера в парикмахерской во время бритья кто-то пытался убить Клузио. Два удара ножом под самое сердце. Просто чудо, что он не отдал концы. Об этом я услышал от друга Клузио. Довольно-таки запутанная история, когда-нибудь о ней расскажу. Нападение произошло на почве сведения счетов. Сам нападавший, который чуть не убил Клузио, умер в страшных муках через шесть лет в Кайенне. Ему подсыпали в чечевичную кашу соль двухромистого калия. Санитар, помогавший патологоанатому при вскрытии, принес нам показать двенадцать сантиметров кишки. В ней насчитали семнадцать дырок. Через два месяца и его убийцу нашли удавленным на больничной койке. Кто это сделал – неизвестно.
Двенадцать дней, как мы в Сен-Мартен-де-Ре. Крепость набита узниками до отказа. По крепостному валу днем и ночью ходят часовые.
В душевой произошла драка между двумя братьями. Сцепились, как собаки. Одного, по имени Андре Бейяр, водворили в нашу камеру. Его не могут наказать, уверял он меня, потому что власти совершили ошибку: надзирателям было приказано ни под каким видом не позволять братьям встречаться. Когда вы познакомитесь с их историей, то поймете почему.
Андре убил одну старуху, у которой имелись деньжата, а Эмиль, его брат, спрятал краденое. Эмиля накрыли за воровство и дали три года. Однажды, сидя в карцере с другими зэками, он выболтал всю историю: так он разозлился на брата за то, что тот не присылает ему денег на сигареты. Он доберется до Андре, грозился Эмиль, и тут же выложил, как Андре убивал старуху и как он, Эмиль, прятал деньги. Более того, сказал Эмиль, когда он выберется из тюрьмы, то Андре не получит ни су. Один заключенный поспешил донести об услышанном начальнику тюрьмы. События развивались быстро. Андре арестовали, и обоих братьев приговорили к смерти. В блоке для смертников в тюрьме Санте их камеры находились через одну. Каждый подал прошение об отсрочке приведения в исполнение смертного приговора. Эмилю дали отсрочку на сорок три дня, а Андре отказали. Не задаваясь вопросом, какие чувства обуревали Андре при этом, начальство продолжало держать Эмиля в прежней камере по соседству. Более того, их вместе выводили на ежедневную прогулку. На прогулке братья шли друг за другом, позвякивая кандальными цепями.
На сорок шестые сутки в половине пятого утра дверь камеры Андре открылась. В нее вошли начальник тюрьмы, чиновник-регистратор и прокурор, требовавший для Андре высшей меры наказания. Да, это была казнь. Но в тот момент, когда начальник тюрьмы, выступив вперед, собирался заговорить, в камеру вбежал адвокат Андре в сопровождении человека, протянувшего прокурору какую-то бумагу. Горло Андре перехватил спазм, он даже не мог сглотнуть слюну. Возможно ли такое? Ведь казнь, коль она началась, уже не прерывается. И все же ее прервали. Лишь на следующий день, после долгих часов, проведенных в ужасных сомнениях, Андре узнал от адвоката, что непосредственно перед его казнью был убит президент Франции Поль Думер. Сделал это Горгулов. Но Думер умер не сразу. Всю ночь выстоял адвокат перед больницей, предупредив министра юстиции, что если президент умрет до момента казни (между половиной пятого и пятью утра), то он потребует отложить казнь на основании отсутствия главы государства. Думер умер в четыре часа две минуты. Времени как раз хватило, чтобы предупредить Министерство юстиции, вскочить в такси вместе с чиновником, имевшим на руках приказ об отмене казни, но не хватило трех минут, чтобы удержать указанных выше лиц от визита в камеру Андре. Приговоры братьям были смягчены и заменены пожизненной ссылкой на каторжные работы, поскольку в день выборов нового президента адвокат поехал в Версаль и, как только Альбер Лебрен стал президентом, подал ему прошение о замене приговора. Какой президент откажет в смягчении приговора по первому же поданному прошению?
– Лебрен подписал, – сказал Андре, – и вот я жив-здоров, ваш напарник и еду в Гвиану.
Я посмотрел на этого субъекта, сумевшего избежать гильотины, и подумал: «Он прошел через то, что мне и не снилось».
И все же я с ним не подружился. Сама мысль об убийстве несчастной пожилой женщины с целью ограбления переворачивала мне все нутро. Андре всегда везло. Позже он убил своего брата на острове Сен-Жозеф. Свидетелями убийства были несколько заключенных. Эмиль рыбачил и, стоя на скале, ни о чем, кроме своей удочки, не думал. Шум тяжелых волн заглушал остальные звуки. Андре подобрался сзади с толстым трехметровым бамбуковым шестом в руках и толчком в спину спихнул его в море. Место кишело акулами, что и говорить – Эмиль тут же попал им на завтрак. Когда вечером Эмиля не оказалось на вечерней перекличке, его занесли в список пропавших при попытке к бегству. Никто о нем больше не говорил и не вспоминал. Только четверо или пятеро каторжников, собиравших кокосовые орехи на верхнем плато острова, видели, что произошло. Потом, конечно, все узнали об этом, кроме багров. Андре Бейяр ни от кого не услышал об этом ни слова.
За «хорошее поведение» ему предоставили привилегированный статус в Сен-Лоран-дю-Марони. Он получил небольшую отдельную камеру. Однажды Андре что-то не поделил с другим каторжником. Он предательски заманил последнего в свою камеру и убил его, нанеся удар ножом прямо в сердце. Однако его оправдали на основании заявления, что он поступил так в целях самообороны. Позднее, когда каторжные поселения были отменены, он добился помилования, опять-таки по причине «хорошего поведения».
Тюрьма в Сен-Мартен-де-Ре была битком набита арестантами двух совершенно разных категорий: восемьсот или целая тысяча настоящих каторжников и девятьсот ссыльных. Быть каторжником означало совершить что-то серьезное или, по крайней мере, быть обвиненным в каком-то тяжком преступлении. Самое мягкое наказание за это – семь лет каторжных работ, затем срок возрастает и доходит до пожизненного заключения или, как еще говорят, вечного. Замена смертного приговора автоматически означает пожизненное заключение. Ссылка с содержанием под стражей – нечто другое. Если человек имеет три или семь судимостей, его могут выслать. Как правило, это неисправимые воры, и общество, естественно, должно от них защищаться. И все же следует считать постыдным для цивилизованной нации прибегать к такой мере, как ссылка. Все эти мелкие воришки, работающие топорно (уж больно часто попадаются), получившие высылку (а в мое время это было равнозначно пожизненному заключению), не украли за всю свою воровскую карьеру больше десяти тысяч франков каждый. Вот вам пример из набора величайших глупостей, который вам предлагает французская цивилизация: нация не имеет права ни мстить, ни выбрасывать из общества людей, оказавшихся помехой для наработанных поведенческих стереотипов. Их скорее надо перевоспитывать, чем наказывать таким нечеловеческим образом.
Уже семнадцать дней, как мы в Сен-Мартен-де-Ре. Уже известно название судна, которое повезет нас на каторгу, – «Мартиньер». На борт должны подняться тысяча восемьсот семьдесят узников. В то утро восемьсот или девятьсот зэков собрали во дворе крепости. Мы построены в колонны по десять человек и, заполнив все пространство двора, стоим уже час в ожидании. Открылись ворота, и вошли люди в форме, отличной от той, которую мы привыкли видеть на тюремных стражниках. На них были добротные небесно-голубые мундиры военного образца. Не жандармские и не солдатские. На каждом широкий ремень с кобурой и торчащей рукояткой револьвера. Всего человек восемьдесят. У некоторых – нашивки. Загорелые, в возрасте от тридцати пяти до пятидесяти. Те, что постарше, выглядели приветливее, те, что помоложе, ходили грудь колесом и важничали, держась высокомерно. С группой приезжих офицеров появились начальник тюрьмы Сен-Мартен-де-Ре в чине полковника жандармского корпуса, трое или четверо медработников в форме войск, расквартированных на заморских территориях, и два священника в белых сутанах. Жандармский полковник взял рупор и поднес к губам. Мы ожидали, что прозвучит команда «смирно!». Ничего подобного. Он произнес зычным голосом:
– Слушайте все внимательно. С этой минуты вы переходите в ведение Министерства юстиции в лице представителей администрации исправительных учреждений Французской Гвианы с административным центром в городе Кайенне. Майор Баррó, я передаю в ваше распоряжение восемьсот шестнадцать осужденных вместе с поименным списком. Будьте любезны провести проверку наличия состава.
Сразу началась перекличка. «Такой-то, такой-то». – «Здесь». – «Такой-то…» И так далее. Два часа продолжалась перекличка – все оказались на месте. Затем мы видели, как оба начальника обменялись подписями тут же на столике, специально принесенном для этого случая.
У майора Барро было столько же нашивок, сколько и у полковника, только у майора золотые, а у жандармского полковника – серебряные. Майор Барро в свою очередь взял рупор:
– Ссыльные, с этой минуты к вам будут обращаться только так: ссыльный такой-то или ссыльный номер такой-то – соответственно присвоенным номерам. Ссыльные, с сегодняшнего дня вы подпадаете под особую юрисдикцию и правовые нормы, действующие на территории исправительных поселений. Ваши дела будут рассматриваться в особых трибуналах, выносящих окончательное решение в зависимости от тяжести проступка. Все преступления, совершенные на территории поселения, проходят через эти трибуналы с вынесением приговора от тюремного заключения до смертной казни. Дисциплинарные меры воздействия, такие как тюрьма или одиночное заключение, осуществляются, само собой разумеется, в различных учреждениях, принадлежащих администрации. Офицеры, стоящие перед вами, называются надзирателями. При разговоре обращайтесь к ним «месье надзиратель». После приема пищи вам выдадут вещевые мешки, в которых лежит ваша одежда каторжан; кроме того, в вещмешках припасено все необходимое для вас – другого не понадобится. Завтра вы взойдете на борт «Мартиньера». Мы отправляемся вместе. Не падайте духом, покидая Францию: вам будет лучше в местах поселения, чем здесь в одиночке. Можете разговаривать, забавляться, петь и курить. Нет никаких оснований бояться грубого обращения с вами при условии безупречного поведения. Прошу вас оставить выяснение личных отношений до Гвианы. В море соблюдается строжайшая дисциплина. Надеюсь, вы меня поняли. Если среди вас есть такие, которые считают, что по состоянию здоровья не вынесут морского перехода, они могут обратиться в лазарет, где пройдут медицинское освидетельствование у нашего медицинского персонала, сопровождающего конвой. Желаю приятного путешествия.
Церемония закончилась.
– Ну, Дега, что скажешь?
– Папийон, я был прав, когда говорил, что главную опасность следует ожидать со стороны других осужденных, с которыми нам придется столкнуться. А этот пассаж из его речи – «оставить выяснение личных отношений до Гвианы» – говорит о многом. Боже, какие тайные и явные убийства, должно быть, там совершаются.
– Не беспокойся, рассчитывай на меня.
Я встретился с Франсисом Лапассом и спросил:
– Твой брат все еще санитар?
– Да, за ним не числится ничего серьезного. Он на высылке.
– Свяжись с ним побыстрее, попроси у него скальпель. Если надо денег, пусть скажет сколько – я заплачу.
Через два часа у меня уже был хороший стальной скальпель – грозное оружие. Великоват, правда, но это единственный недостаток.
Я направился в центр двора и сел поближе к туалетам. Послал отыскать Гальгани, чтобы возвратить ему гильзу. Но попробуйте отыскать его в кружащейся толпе среди восьми сотен человек, запрудивших двор. С тех пор как мы здесь, не удавалось встретиться ни с Жюло, ни с Гитту, ни с Сюзини.
Преимущество общинной жизни заключается в том, что ты принадлежишь новому обществу, если это только можно было назвать обществом. В нем ты живешь, разговариваешь и становишься частью его. Столько надо сказать, услышать и сделать, что на раздумья не остается ни капли времени. И мне казалось – по мере того как размывались очертания прошлого, постоянно теряя свою важность в сравнении с повседневной жизнью, – что по прибытии на место каторги нужно почти забыть, кем ты был, как и почему там оказался, а сосредоточить внимание на одном – на побеге. Я ошибался, потому что самым важным, всепоглощающим предметом, предметом превыше всего был предмет выживания.
Где они, эти фараоны, члены суда, присяжные заседатели, судьи, жена, отец, друзья? Они остались там же, живые и невредимые, каждый на своем месте в моем сердце; правда, по сравнению с тем огромным эмоциональным напряжением, которое я испытал при отплытии, перед прыжком в неизвестность, по сравнению с новыми дружескими связями и новыми гранями жизни они утратили для меня былое значение. Но это только казалось под воздействием впечатлений. Когда мне хотелось перелистать страницы жизни каждого из них, все они немедленно снова оживали передо мною.
А вот и Гальгани ведут ко мне. Несмотря на толстые, как галька, линзы очков, он едва ли что-нибудь видит. Выглядит лучше. Он подошел ко мне и потряс руку без слов.
– Я хочу вернуть гильзу. Теперь ты в порядке и можешь носить сам. Слишком большая для меня ответственность на предстоящий морской переход. А потом, кто знает, будем ли мы соприкасаться в колонии или даже видеть друг друга. Лучше тебе взять ее обратно.
Гальгани посмотрел на меня с грустью.
– Значит, так, идем в туалет, и я верну ее тебе.
– Нет. Не хочу брать. Держи ее сам – я отдаю ее. Она твоя.
– Почему?
– Не хочу быть убитым за гильзу. Лучше жить без денег, чем кончить с перерезанным горлом. Я отдаю ее тебе, ведь, в конце концов, какой смысл тебе рисковать из-за моих бабок? Уж если рисковать, так за свои.
– Ты напуган, Гальгани. Тебе уже угрожали? Кто-нибудь подозревает, что ты заряжен?
– Да. Трое арабов постоянно ходят за мной. Вот почему я не навещал тебя. Не хотел, чтобы они подозревали о нашей связи. Каждый раз, когда иду в туалет, днем или ночью, один из них идет следом и пристраивается рядом. Не так откровенно, но я дал ясно понять, что не заряжен. Все равно не отстают. Думают, что моя гильза у кого-то другого. Они не знают у кого, поэтому и преследуют, чтобы выведать, когда я получу ее обратно.
Я пристально глядел на Гальгани и видел, что он пребывает в паническом ужасе, действительно замордован преследованием. Я спросил:
– В какой части двора они держатся?
– Там, у кухни и прачечной, – ответил он.
– Ладно, подожди здесь. Я сейчас вернусь. Или нет. Я все обдумал, пойдешь со мной.
В сопровождении Гальгани я отправился к арабам. Вытащил из кепки скальпель и спрятал его в рукаве лезвием вверх, а ручку зажал в ладони. Пересекая двор, я их увидел. Четверых. Трое арабов и корсиканец по имени Жирандо. Оценил ситуацию на месте. Стало ясно, что корсиканец сидит на крючке у этих крутых мужиков и играет роль наводчика. Несомненно, он знает, что Гальгани является шурином Паскаля Матра и что было бы просто невероятным, если бы у него не оказалось гильзы.
– Эй, Мокран, как дела?
– В порядке, Папийон. У тебя тоже?
– Не совсем. Черт побери! Я пришел сказать вам, ребята, что Гальгани мой друг. Если с ним что случится, первым схлопочешь ты, Жирандо. А потом и все остальные. Как вы к этому отнесетесь – вам решать.
Мокран встал. Ростом с меня (метр семьдесят четыре) и в плечах не уступает. Мои слова его завели, и он уже двинулся было на меня выяснять отношения силой, как увидел перед собой блеск новенького скальпеля в моей руке.
– Еще шаг – и убью как собаку!
Его отбросило в сторону. В таком месте, где каждого постоянно обыскивают, а я вооружен! Он был потрясен моей решительностью и длиной лезвия.
– Я встал поговорить, а не драться, – сказал он.
Я знал, что это неправда, но мне было выгодно спасти его честь перед друзьями. Я помог ему выйти из положения.
– Тогда другое дело, если поговорить…
– Я не знал, что Гальгани твой друг. Я думал, что он просто шнырь. Ты же прекрасно знаешь, Папийон, что если у тебя нет ни шиша, то где-то надо раздобыть деньги для побега.
– Разумно. У тебя такое же право бороться за собственную жизнь, Мокран, как и у любого из нас. Только держись подальше от Гальгани, понял? Поищи в другом месте.
Он протянул руку, я ее пожал. Фу! Пронесло! По правде сказать, я бы никогда не выбрался отсюда, если бы пришил этого малого. Немного позже я сообразил, что совершил досадную ошибку. Уходя вместе с Гальгани, я бросил на прощание:
– Не говорите никому об этой шалости, а то старик Дега разнесет меня в пух и прах.
Я попытался убедить Гальгани в необходимости забрать гильзу. Он сказал, что сделает это завтра перед отъездом. На следующий день он так затаился, что мне пришлось отправляться в плавание с двумя гильзами «на борту».
В тот вечер никто из нас – в камере ютилось около одиннадцати человек – не проронил ни слова. У всех в голове крутилась одна и та же мысль: это последний день, который мы проводим на французской земле. У каждого в той или иной мере возникло чувство тоски по дому, по стране, которую мы покидаем навсегда. Впереди нас ждут неизвестная земля и незнакомый образ жизни.
Дега сидел молчаливо рядом с зарешеченной дверью в коридор, где воздух был чуточку посвежее. Я пребывал в полной растерянности. Поступавшая информация была настолько противоречивой, что никто не знал: то ли радоваться, то ли отчаиваться, то ли на все махнуть рукой.
Соседи по камере принадлежали исключительно к преступному миру. За исключением малыша-корсиканца, родившегося в колонии. Все эти люди пребывали в состоянии безразличия. Перед серьезностью и важностью момента они превратились почти в глухонемых. Сигаретный дым клубился и плыл из камеры в коридор, словно облако, а если ты не хотел, чтобы тебе выело глаза, то должен был сидеть ниже этого туманного едкого одеяла. Никто не спал, кроме Андре Бейяра, что для него было вполне естественным как для человека, уже раз почти потерявшего собственную жизнь. Что бы его ни ожидало впереди – это все равно нежданный подарок судьбы.
Перед глазами прошла вся моя жизнь, словно на киноленте: детство в любящей семье, привычный и милый сердцу порядок, мягкое и достойное человека отношение друг к другу, доброта, запах мимозы, расцветавшей каждую весну перед дверью дома, родительский дом, где собиралась семья, – все пронеслось перед глазами. Картина была озвученной. Слышался голос матери, нежный и любящий, голос отца – добрый и участливый, лай охотничьей собаки Клары, зовущей меня в сад поиграть. Мальчишки и девчонки, спутники детства, участники забав моих счастливейших дней. Я совсем не предполагал увидеть этот фильм, но по прихоти подсознания передо мной против моей воли зажегся волшебный фонарь и чудесные кадры заполнили ночь ожидания перед прыжком в великую неизвестность – кадры сладких воспоминаний и чувств.
Настало время разложить все по порядку и наметить схему действий. Итак, мне двадцать шесть, и я в хорошей форме. У меня пять тысяч шестьсот франков, моих собственных, и двадцать пять тысяч, принадлежавших Гальгани, Дега со мной – у него десять тысяч. Казалось, можно было располагать сорока тысячами франков. Сами посудите, если Гальгани не смог хранить свои бабки здесь, то уж на корабле или в Гвиане подавно не сумеет. Да он и сам это знает, поэтому и не спрашивает гильзу. Значит, можно рассчитывать на эти деньги – конечно, взяв Гальгани с собой. Он только выиграет – деньги-то его. Они же пойдут и ему на пользу, и мне хорошо. Сорок тысяч франков – большие деньги. С ними можно найти помощников среди каторжан, ссыльных, поселенцев, отбывших свой срок, и надзирателей.
Пришел к положительному выводу. Как только приедем в Гвиану, надо бежать вместе с Дега и Гальгани. Только на этом и надо сосредоточить внимание. Потрогал скальпель – холодная сталь вызвала приятное ощущение. Она придала мне уверенности. Грозное оружие не подведет. Оно себя уже показало в деле с арабами.
Около трех утра приговоренные к одиночному заключению сложили в кучу одиннадцать вещмешков у зарешеченного входа в камеру. Мешки были набиты битком, и на каждом висела большая бирка. Одну, оказавшуюся между прутьями решетки, удалось прочитать: «С…, Пьер, тридцать лет, рост метр семьдесят три, размер в поясе сорок один, обувь сорок два, номер…» Этим «Пьером С…» был Пьерро Придурок, парень из Бордо, получивший в Париже двадцать лет строгого режима за убийство.
Он, в общем-то, хороший малый, известный в преступном мире своей сдержанностью и прямотой. Я хорошо знал его. Бирка показала мне, насколько четко и организованно работают власти, ответственные за исправительные колонии. Не то что в армии, где обмундирование выдают на глазок. Здесь же – полная опись, и каждый получит вещи своего размера. Через чуть отогнутый верхний клапан вещмешка проглядывала униформа – белая с красными полосками. В такой одежде вряд ли проскочишь незамеченным.
Попробовал вызвать в памяти картинки суда: присяжные, судьи, прокурор. Ничего не получалось. Какие-то общие представления, смутные образы – вот и все. Я понял, что, если хочешь еще раз пережить все события так же ясно, как это было в Консьержери и Болье, ты должен быть совершенно один, наедине с собой. И, уловив это, я почувствовал облегчение и увидел, что предстоящая жизнь в коллективе предъявит другие требования, потребует других действий и других планов.
К решетке подошел Пьерро Придурок и сказал:
– Порядок, Папи?
– А как у тебя?
– Ну, что касается меня, то я всегда мечтал поехать в Америку, но я же играл по-крупному – так и не скопил на поездку. Фараонам взбрело в голову сделать мне подарок. Ты же не можешь это отрицать, Папийон.
Он говорил естественно, без всякого хвастовства. Чувствовалось, что он уверен в себе.
– Бесплатный проезд в Америку за счет фараонов – это, сам понимаешь, кому только рассказать. Лучше прокатиться в Гвиану, чем отстучать пятнадцать лет в одиночке во Франции.
– Сойти с ума в камере или отбросить концы в карцере во Франции даже хуже, чем сдохнуть от проказы или желтой лихорадки. Я так полагаю!
– Совершенно нечего добавить, Папийон.
– Посмотри, Пьерро, это твоя бирка.
Он наклонился и внимательно стал читать, потом медленно, членораздельно произнес каждое слово:
– Не терпится переодеться. Не вскрыть ли мешок – а кто чего скажет? В конце концов, они же для меня старались.
– Оставь мешок, – когда скажут, тогда и откроешь. Не время нарываться на неприятности, Пьер. Надо обдумать все тихо и спокойно.
Он понял, что я имел в виду, и отошел от решетки.
Луи Дега посмотрел на меня и сказал:
– Это наша последняя ночь, малыш. Завтра нас увезут из прекрасной Франции.
– Наша прекрасная страна, Дега, не имеет такой же прекрасной системы правосудия. Может, нам предстоит узнать страны не столь красивые, но такие, где обращаются несколько человечнее с людьми, которые поскользнулись.
Тогда я не думал, что был так недалек от истины. Будущее действительно показало, что я был сто раз прав. Снова наступила полная тишина.
Отъезд
Шесть часов утра – и все пришло в движение. Заключенным принесли кофе. Затем появились четверо надзирателей. Сегодня они в белой форме, при револьверах. Безукоризненно-белые кители и начищенные до золотого блеска пуговицы. У одного красовались три шеврона на левом рукаве, на плечах – ничего.
– Ссыльные, на выход в коридор! Строиться по двое. Разобрать вещмешки со своими бирками. Подойти к стене. Стоять спиной к стене, лицом к проходу. Вещмешки поставить перед собой.
Двадцать минут потребовалось на построение. Стоим шеренгой с вещмешками у ног.
– Раздеться! Скатать вещи, положить на блузы, перевязать рукавами – очень хорошо. Эй, ты там, взять узлы и перенести в камеру… Одеваться! Берите нижнюю рубашку, кальсоны, полосатые штаны, куртку, ботинки и носки. Оделись?..
– Да, месье надзиратель.
– Так. Шерстяной свитер вынимается из вещмешка только в случае холодной погоды или дождя. Мешки на левое плечо – взять! В две колонны становись! За мной – марш!
Небольшой отряд – с сержантом во главе, двумя стражниками по бокам и одним сзади – двинулся на выход. Через два часа во дворе тюрьмы стояли в строю восемьсот десять человек. От этой массы отделили сорок человек, в числе которых оказались мы с Дега и трое из бывших в бегах – Жюло, Гальгани и Сантини. Нас построили в колонны по десять человек, за каждой колонной – надзиратель. Ни цепей, ни наручников. На расстоянии трех метров спереди десять жандармов. У них винтовки, стволами направленные в нашу сторону. Жандармы идут пятясь и держа друг друга за портупею.
Большие ворота цитадели открылись, и мы медленно двинулись вперед. Как только первая шеренга вышла из крепости, появились еще жандармы для усиления охраны. У них винтовки и автоматы. Они держат шаг в двух метрах от первых конвоиров, другие жандармы оттесняют огромную толпу, собравшуюся проводить нас на каторгу. На полпути к пристани я услышал тихий свист, идущий из окна одного дома. Бросив взгляд в том направлении, я заметил в окне мою жену Ненетту и друга Антуана. В другом окне были жена Дега Пола и его приятель Антуан Жилетти́. Дега тоже их видел. Так мы и шли, задрав головы и уставившись на окна, пока это было возможно. Это был последний раз, когда мы виделись с женой и Антуаном. Мой друг погиб позже во время воздушного налета на Марсель. Никто не разговаривал. Полная тишина. Ни оставшиеся узники, ни надзиратели, ни жандармы – никто из толпы не решился нарушить безмолвие тягостного момента, душераздирающей минуты, когда каждый знал, что тысяча восемьсот человек вот-вот исчезнут навсегда из жизни.
Поднялись на борт. Первых сорок, то есть нас, водворили в нижний трюм – в клетку с толстыми железными прутьями. Клетка маркирована табличкой, на ней написано: «Помещение № 1. Сорок человек. Категория усиленного режима. Строжайшее круглосуточное наблюдение» . Каждый из нас получил скатанную подвесную койку. На ней до черта колец для подвески. Кто-то схватил меня за руку – Жюло. Ему здесь все было знакомо, поскольку уже приходилось плавать десять лет назад. Он знал, как обустроиться.
– Сюда, быстро. Повесь мешок, где собираешься навесить койку. Вот местечко рядом с двумя задраенными иллюминаторами, но их откроют в море. Здесь дышать будет полегче, чем в другом месте.
Я представил ему Дега. Разговорились. В этот момент в нашу сторону направился один малый. Жюло рукой преградил ему дорогу:
– Не суйся сюда, если хочешь добраться живым до колонии. Усек?
– Да.
– Знаешь почему?
– Да.
– Вали отсюда.
Парень ушел. Дега просиял при виде такой демонстрации силы.
– С вами, ребята, я буду спать спокойно.
– Здесь ты в большей безопасности, чем на вилле, где открыто лишь одно окно, – ответил Жюло.
Морское плавание длилось восемнадцать суток. И только раз пришлось поволноваться. Среди ночи нас разбудил жуткий пронзительный крик. Убили одного чудака. Длинный нож торчал в спине между лопатками. Удар нанесли снизу вверх, нож прошил сначала койку, а потом человека. Страшное оружие. Лезвие ножа двадцать сантиметров. Немедленно двадцать пять или тридцать стражников направили на нас револьверы и винтовки. Раздалась команда:
– Всем раздеться! Живо!
Все разделись. Я понял, что будет обыск. Голой правой ногой наступил на скальпель, перенеся центр тяжести на левую, ибо скальпель впивался в подошву. В клетку вошли четыре стражника и стали наводить шмон, проверяя одежду и обувь. Перед тем как войти, они сняли с себя оружие. Дверь за ними закрыли, но другие, снаружи, смотрели в оба, держа нас на прицеле.
– Первый, кто шелохнется, – покойник! – раздался голос старшего надзирателя.
При обыске обнаружили три ножа, два длинных, остро заточенных стропильных гвоздя, штопор и золотую гильзу. Шестерых, голых, вывели на палубу. Появился начальник конвоя майор Барро в сопровождении двух врачей и капитана корабля. Когда багры вышли из клетки, мы оделись, не дожидаясь приказа. Скальпель я подобрал.
Стражники отошли к дальнему краю палубы. В центре стоял майор Барро, как бы среди дружеской компании офицеров. Перед ним навытяжку стояли шестеро в чем мать родила.
– Это его, – сказал проводивший обыск багор, держа нож и указывая на владельца.
– Точно. Мой.
– Так, – сказал Барро, – дальше поедет в камере над машинным отделением.
Каждый, на кого указывал надзиратель, подтверждал свою виновность за провоз то ли гвоздя, то ли штопора, то ли ножа. Их, голых, по одному уводили вверх по лестнице два стражника. На палубе остались лежать один нож и золотая гильза, против которых стоял один человек. Он был молод, лет двадцати трех или двадцати пяти, хорошего сложения. Рост под метр восемьдесят, атлет, голубоглазый.
– Твоя? – спросил надзиратель, показывая на золотую гильзу.
– Да, моя.
– Что в ней? – спросил майор Барро, взяв гильзу в руки.
– Триста фунтов стерлингов, двести долларов и два бриллианта по пять карат.
– Посмотрим.
Майор открыл гильзу. Его обступили другие, заслонив от нас. Мы не видели, что происходило, но слышали, как он сказал:
– Верно. Имя?
– Сальвидиа Ромео.
– Итальянец?
– Да, месье.
– За гильзу наказывать не будем – только за нож.
– Простите, но нож не мой.
– Не говори глупостей, – вмешался багор, – я нашел его в твоем ботинке.
– Я повторяю – нож не мой.
– Значит, я лгу?
– Нет. Вы просто ошибаетесь.
– В таком случае чей же? – спросил майор Барро. – Если не твой, то чей-то.
– Не мой, вот и все.
– Если не хочешь попасть в изолятор – а ты там изжаришься, потому что он над котлом, – то скажешь, чей это нож.
– Не знаю.
– Не делай из меня дурака! Нож нашли в твоем ботинке, а ты не знаешь, чей он? Не принимаешь ли ты меня за идиота? Либо он твой, либо ты знаешь чей. Говори.
– Не мой и не мне говорить, чей он. Я не доносчик. Я не давал вам повода думать о себе, что я такой же позорник, как какой-нибудь тюремный офицер, разве не так?
– Стража! Наручники! Ты дорого заплатишь за проявление недисциплинированности.
Два старших офицера, капитан корабля и начальник конвоя, поговорили между собой. Капитан отдал распоряжение старшине-рулевому, тот ушел. Через некоторое время появился здоровенный матрос-бретонец с деревянным ведром, полным морской воды, и канатом с руку толщиной. Осужденного поставили на колени у нижней ступеньки лестницы и привязали. Матрос смочил канат в ведре и изо всей мочи принялся пороть бедолагу по спине, почкам и ягодицам. Тот не издал ни звука. Человек на глазах превращался в кровавое месиво. Крик, раздавшийся в нашей клетке, оборвал кладбищенскую тишину:
– Погань! Шайка мерзавцев!
Все только того и ждали, чтобы подхватить и заорать:
– Убийцы! Свиньи! Ублюдки!
Чем больше нам угрожали открыть огонь, если не замолчим, тем сильнее мы драли глотки, пока вдруг капитан не крикнул:
– Пустить пар!
Матросы открыли вентили, и струи пара с силой ударили в нас. В доли секунды мы распластались, прижавшись животом к полу. Струи проходили на уровне груди. Вспыхнула паника. Ошпаренные не смели кричать. Все это продолжалось не более минуты, но страх успел пронять каждого до печенок.
– Надеюсь, скоты упрямые, вы поняли, что я имел в виду. Малейший беспорядок – и я включу пар. Дошло? Встать!
Серьезно обварились лишь трое. Их отправили в лазарет. Высеченного бедолагу снова водворили в нашу клетку. Шесть лет спустя он умер во время нашего совместного побега.
В продолжение всех восемнадцати дней плавания времени было предостаточно, чтобы уяснить себе, что нас ожидает, или хотя бы иметь некоторое представление о каторге. И все же, когда мы попали туда, ничего похожего не обнаружили, хотя Жюло делал все от него зависящее, чтобы передать нам свои знания.
Мы уже знали, что Сен-Лоран-дю-Марони – это деревня, расположенная в ста двадцати километрах от моря на реке Марони. Жюло рассказывал:
– В деревне тюрьма, это центр исправительной колонии. Там вас рассортировывают по категориям. Ссыльные прямиком направляются в исправительную тюрьму Сен-Жан в ста пятидесяти километрах от Сен-Лорана. Каторжники делятся на три группы. Первая – особо опасные; сразу же по прибытии их отделяют и рассовывают по камерам изолятора, пока не переведут на острова Салю. Там их интернируют до конца срока или пожизненно. Эти острова находятся в пятистах километрах от Сен-Лорана и в ста от Кайенны. Три острова: Руаяль, самый большой – Сен-Жозеф, где находится каторжная тюрьма с камерами-одиночками, и остров Дьявола – самый маленький. За редким исключением, каторжников на остров Дьявола не посылают. Там политические. Вторая группа – опасные. Они остаются в лагере Сен-Лоран, их используют на полевых работах и в огородничестве. Где потребуется рабочая сила, туда их и гонят. Живут в лагерях строгого режима: «Кам Форестье», «Шарвен», «Каскад», «Крик Руж» и «42-й километр». Этот последний называют еще лагерем смерти. Третья, обычная, группа используется на работах в конторах и на кухнях, убирает деревню и зону. Их посылают на такие работы, как столярные, малярные, кузнечные, работы по электрике, по изготовлению матрацев, портняжные, прачечные и прочие. Нулевой час начинается с момента прибытия. Если тебя отделяют и запирают в камере, это значит, что тебя интернируют на острова – и прощай все надежды на побег. Есть только один шанс – членовредительство. Быстро вскрой колено или живот, чтобы попасть в больницу и оттуда бежать. Делается все, чтобы не попасть на острова. Еще одна надежда: если судно, на котором интернированных везут на острова, не готово к отплытию, можно предложить деньги санитару. Он сделает укол скипидара в какой-нибудь сустав или протянет через порез пропитанный в моче волос, чтобы он загноился. А еще он может дать вдохнуть серу, а потом скажет врачу, что у тебя признаки лихорадки и температура сорок. За эти несколько дней надо любой ценой попасть в больницу.
Если тебя не отделят, но оставят с остальными в зоне в бараках, то надо подумать о работе. Если так случится, то не следует искать работу в зоне. Надо подмазать нарядчика, чтобы он определил тебя мусорщиком или уборщиком в деревню или за нее – на лесопилку. Выход на работу и возвращение каждый вечер в зону дает возможность вступать в контакт с зэками, уже отбывшими срок и проживающими в деревне, или с китайцами, чтобы они приготовили все для побега. Старайтесь не попадать в лагеря за деревней. В них быстро загнешься. Есть такие, где не выдерживают больше трех месяцев. Там, на лесных делянках, заставляют каждый день рубить кубометр древесины.
За время морского перехода Жюло постоянно выдавал нам эту ценную информацию. Сам он уже приготовился. Он знал, что его непременно отправят за побег в изолятор. Поэтому у него в гильзе было спрятано лезвие – не больше лезвия перочинного ножа. Он собирался по прибытии вскрыть себе колено. Спускаясь по сходням, он упадет у всех на виду, полагая, что сразу с причала его отправят в больницу. Действительно, так и произошло.Сен-Лоран-дю-Марони
Стражники меняют форму. По очереди выходят и возвращаются в белой одежде, и вместо кепи на голове белый пробковый тропический шлем. Жюло сказал: «Подплываем». Стало невыносимо жарко: задраили иллюминаторы. Через стекла виднеется буш [5] . Значит, мы вошли в реку Марони. Вода мутная. Нетронутый девственный лес, зеленый и впечатляющий. Вспугнутые гудком судна, в небе летают птицы. Идем медленно, что позволяет разглядеть густую темно-зеленую пышную растительность. Увидели и первые деревянные дома под крышами из оцинкованного железа. Чернокожие мужчины и женщины стоят у дверей и наблюдают за проходящим судном. Они настолько привычны к перевозкам живого груза, что никогда не удосуживаются помахать вслед. Три гудка и характерный звук от торможения винтом указали на прибытие. Затем – стоп машина. Ни звука – слышно, как жужжит муха.
Никто не разговаривал. Жюло открыл нож и принялся за штаны у колена. Затем он разлохматил края разреза, и стало похоже, что штаны порваны. Само колено он решил вскрывать только на палубе, чтобы не оставить следов крови. Стражники открыли дверь клетки и построили нас по трое. Мы оказались в четвертой шеренге: я и Дега по бокам, Жюло между нами. Поднялись на палубу. Два часа пополудни. Раскаленное солнце обожгло остриженную голову и ослепило глаза. На палубе разобрались, подровнялись и двинулись к сходням. В тот момент, когда первый ступил на сходни, и произошла коротенькая заминка, я придержал вещмешок Жюло на его левом плече, не позволяя ему свалиться, а он в это время обеими руками растянул кожу на колене, вогнал туда нож и одним махом рассадил колено. Рана семь-восемь сантиметров. Он передал мне нож, уже сам придерживая мешок. Как только наши ноги коснулись трапа, он упал и покатился вниз до самого конца. Его подняли и, выяснив, что он поранился, вызвали людей с носилками. Все произошло так, как он и намечал: его положили на носилки и унесли.
Пестрая толпа наблюдала за нами с некоторым любопытством. Негры, мулаты, индейцы, китайцы, изредка белые (несомненно, бывшие каторжники) внимательно разглядывали каждого ступавшего на землю и пристраивавшегося к задним рядам. По другую сторону – надзиратели, люди в цивильной одежде, женщины в летних платьях и дети. На головах у всех защитные шлемы. Им тоже интересно поглядеть. Когда на берег сошло сотни две, колонна двинулась. Шагали минут десять, пока не подошли к высоким воротам из массивных балок, на которых было написано: «Исправительная тюрьма Сен-Лоран-дю-Марони. Вместимость 3000 человек» . Ворота открылись, и мы вошли шеренгами по десять человек. «Раз-два! Раз-два!» Довольно много каторжников наблюдало за нашим появлением. Они прилипли к окнам или стояли на больших камнях, чтобы лучше разглядеть.
Когда мы были уже в центре двора, последовала громкая команда:
– Стой! Перед собой мешки сложить!
Нам выдали соломенные шляпы. Очень кстати: двое или трое уже свалились от солнечного удара. Мы с Дега переглянулись – перед нами стоял багор с нашивками, в руках он вертел список. Вспомнили, о чем говорил нам Жюло. Началась перекличка.
– Гитту!
– Здесь!
Два стражника отвели его в сторону. То же произошло с Сюзини и Джиразоло.
– Жюль Пинар!
– Жюль Пинар (это наш Жюло) получил травму. Отправлен в больницу.
– Хорошо.
Это «кадры» для отправки на острова. Надзиратель продолжал:
– Слушайте внимательно. Каждый, чье имя я назову, выходит из строя с вещмешком на плече и направляется на построение вон к тому желтому бараку номер один.
Перекличка продолжается. «Такой-то и такой-то». – «Здесь», – и так далее. Дега, Карье и я оказались в строю перед желтым бараком. Открылась дверь, и мы вошли в прямоугольную комнату длиной метров двадцать. Посередине по всей длине комнаты проход метра два шириной; с обеих сторон железная арматура, между ней и стенкой нацеплены подвесные койки, на койках сложены одеяла. Каждый выбрал себе место. Дега, Пьерро Придурок, Сантори, Гранде и я устроились рядом. Разбились все по небольшим группам. Я прошел в глубину комнаты: душевые справа, туалеты слева, воды нет.
Прибывали остальные, сходившие с судна последними, и мы наблюдали за ними, прильнув к зарешеченным окнам. Луи Дега, Пьерро Придурок и я были довольны, что оказались в обычном бараке. Это могло означать, что нас не собираются интернировать. Иначе нас сразу бы упрятали в камеры, как говорил Жюло. Так мы радовались до пяти часов. Но все кончается. Гранде заметил:
– Забавно, почему никого не интернировали? Странно. Хотя меня устраивает.
Гранде в свое время обчистил сейф в центральной тюрьме. Вся Франция помирала со смеху.
В тропиках день и ночь сменяются без сумерек. Был день – и сразу ночь. И так круглый год. Только было светло, как вдруг в половине шестого наступила ночь. В половине же шестого два каторжника принесли две керосиновые лампы и подвесили их на крюки в потолке. Комната тускло осветилась на четверть. Остальная ее часть так и оставалась в темноте. К девяти уже все спали. Возбуждение от приезда прошло, а жара сморила ко сну. Воздух спертый. Все раздеты до кальсон. Моя койка между Дега и Пьерро Придурком. Немного пошептались – и заснули.
Было еще темно, когда на следующее утро протрубил горн. Все встали, умылись, оделись. Принесли кофе и по пайке хлеба. На стене висела полка для хлеба, кружек и других принадлежностей. В девять в комнату вошли два надзирателя. Их сопровождал молодой зэк в белой форме без нашивок. Оба багра были корсиканцы и со своими разговаривали на родном языке.
Санитар обошел комнату. Когда он поравнялся со мной, то сказал:
– Привет, Папи. Не узнаешь?
– Нет.
– Сьеррá-алжирец. Встречались с тобой в Париже у Данта.
– О да. Узнаю. Но тебя выслали в двадцать девятом, а сейчас тридцать третий. Почему ты еще здесь?
– Да. Отсюда скоро не выберешься. Скажись больным. Кто этот парень?
– Дега, мой приятель.
– Я вас обоих запишу к врачу. Папи, у тебя дизентерия. А у тебя, отец, приступы астмы. Я вас встречу в медпункте в одиннадцать. У меня к вам разговор.
Он продолжил обход, выкрикивая: «Кто еще болен?» – и подходил к тем, кто поднимал руки, занося их в список. Когда он вернулся, с ним был надзиратель, пожилой загорелый мужчина.
– Папийон, позволь представить тебе моего начальника. Мединспектор Бартилони. Месье Бартилони, об этих приятелях я вам докладывал.
– Хорошо, Сьерра, увидимся в медпункте. Можете рассчитывать на меня.
В одиннадцать за нами пришли. Девять человек сказались больными. Шли через зону среди бараков к самому новому, единственному окрашенному в белый цвет зданию. На нем красовался красный крест. Когда вошли в приемную, там уже толпилось человек шестьдесят. В каждом углу по два надзирателя. Появился Сьерра в новеньком медицинском халате. Он сказал: «Ты, ты и ты. Входите». Мы вошли в комнату, вероятно кабинет врача. Сьерра заговорил с третьим, пожилым человеком, по-испански. Я сразу признал в нем Фернандеса-испанца. Это он убил трех аргентинцев в Париже в кафе «Мадрид». Перебросившись несколькими словами, Сьерра проводил его в комнату, сообщавшуюся с кабинетом, и вышел к нам.
– Папи, дай мне тебя обнять. Буду рад сделать для вас доброе дело. Вы оба в списке на интернирование… Подожди, дай закончить. Ты пожизненно, а Дега на пять лет. Деньги есть?
– Да.
– Тогда давай пятьсот франков одной купюрой, и завтра утром вас направят в больницу. У тебя дизентерия. А ты, Дега, постучи ночью в дверь, нет, лучше кто-то другой вызовет надзирателя и потребует санитара, потому что у тебя разыгрался острый приступ астмы. Остальное – моя забота. Только прошу тебя об одном, Папийон, дай знать, когда тебя прочистят: я буду там, где надо, в нужный момент. В больнице тебя смогут продержать месяц. Сто франков в неделю. Нельзя терять времени.
Фернандес вышел из туалета и на наших глазах передал Сьерра пятьсот франков. Пошел и я. Вернулся и отдал не тысячу, а полторы. Сьерра вернул мне пятьсот, а я не стал настаивать.
– Эти бабки для багра. Мне ничего не нужно от вас. Ведь мы друзья, не так ли?
На следующий день Дега, Фернандес и я оказались в огромной больничной камере. Дега увезли туда в полночь. Ответственным санитаром по комнате был тридцатипятилетний малый по имени Шаталь. Он все знал о нас троих от Сьерра. Перед обходом врача он профессионально объяснил мне, как нужно себя вести при явных симптомах поражения дизентерией. За десять минут до проверки он зажег небольшой кусочек серы и дал Дега подышать газом под полотенцем. У Фернандеса страшно распухло лицо: он проколол щеку изнутри и бил по ней так усердно в течение часа, что опухоль закрыла и глаз. Палата располагалась на втором этаже, в ней лежало около семидесяти пациентов, многие с дизентерией. Я спросил Шаталя о Жюло.
– В здании напротив. Надо что-то передать?
– Да. Скажи ему, что Папийон и Дега здесь. Попроси его показаться в окне.
Санитар мог прийти и уйти, когда ему заблагорассудится. Стоило только постучать в дверь палаты – и ее тут же открывали. Делал это один араб-тюремщик, сам заключенный, но служивший помощником надзирателей. У двери справа и слева стояли стулья, на которых сидели три стражника с винтовками на коленях. Брусья на окнах были сделаны из железнодорожного рельса. «Как через них проберешься?» – подумалось мне. Я сел на подоконник.
Между нашим зданием и зданием Жюло протянулся сад, в котором было полно прелестных цветов. Жюло появился в окне. В руке у него грифельная доска, на ней мелом выведено слово «БРАВО». Через час санитар принес от него записку: «Стараюсь перейти в вашу палату. Если не удастся, попробуйте перебраться в мою. Дело в том, что в вашей палате у вас есть враги. Похоже, вас интернируют. Не унывайте: мы их перехитрим».
Мы с Жюло были в очень близких отношениях с того случая в Болье, где оба и пострадали. Жюло выходил на дело с деревянным молотком, за что и получил прозвище Молотобойца. Бывало, средь бела дня он подъезжал на машине к ювелирному магазину, когда лучшие драгоценные изделия красовались на витрине в своих изящных коробочках. Кто-то оставался в машине за рулем, мотор не глушился. Жюло выскакивал из машины, одним ударом молотка разносил витрину, сгребал коробки с драгоценностями, сколько мог удержать, нырял в машину, и та срывалась с места под визг колес. Он проделал это в Лионе, Анжере, Туре, Гавре, затем совершил налет на большой парижский магазин в три пополудни и взял драгоценностей почти на миллион. Он никогда не рассказывал, как и почему его вычислили. Его приговорили к двадцати годам, но он бежал в конце четвертого. И как он рассказывал нам, его снова арестовали в Париже: он разыскивал скупщика краденого, чтобы убить его. Этот скупщик не отдавал сестре Жюло огромную сумму денег, которую задолжал последнему. Скупщик увидел, как Жюло крадется по улице, и дал знать полиции. Жюло схватили и снова отправили в Гвиану вместе с нами.
Уже неделя, как мы в больнице. Вчера я дал Шаталю двести франков – недельный взнос за двоих. В целях завоевания популярности мы делились табаком с теми, у кого нечего было курить. Некий Карорá, крутой шестидесятилетний малый из Марселя, подружился с Дега и стал его советчиком. Много раз в день он говорил ему, что, если у Дега порядочно денег и об этом узнают в деревне (французские газеты дают информацию о всех крупных аферах), тогда лучше не пускаться в бега, потому что освобожденные убьют его из-за гильзы. Дега поведал мне о разговоре с Карора. Тщетно пытался я доказать, что не стоит полагаться на старого чудака, он здесь отсидел двадцать лет и никуда не двинулся. Но Дега не обращал внимания на мои доводы. Он находился под большим впечатлением от рассказов Карора, и мне с трудом удавалось хоть как-то поддерживать его дух.
Я послал Сьерра записку с просьбой о встрече с Гальгани. Он не замедлил с ответом. На следующий день Гальгани оказался в больнице, но в палате без решеток. Надо было как-то решать вопрос о возвращении ему гильзы. Я сказал Шаталю, что для меня крайне необходимо поговорить с Гальгани, давая понять, что мы готовим побег. Он пообещал привести его ровно без пяти двенадцать. При смене караула он проведет его на веранду, и мы поговорим через окно. За это ему давать ничего не надо. В полдень Гальгани стоял у окна, и я тут же передал ему гильзу. Он стоял передо мной и рыдал. Через два дня мне переслали от него журнал с пятью банкнотами по тысяче франков и запиской с одним словом: «Спасибо».
Шаталь передал мне журнал. Он видел деньги, но ни о чем не напомнил. Я хотел дать ему определенную сумму. Он наотрез отказался. Я сказал:
– Мы собираемся рвать отсюда. Пойдешь с нами?
– Нет, Папийон. Я связан обязательством. В течение пяти месяцев и думать не могу о побеге, пока не освободится мой приятель. Будет время лучше подготовиться и больше шансов. Я понимаю, вам грозит интернирование, и вы должны спешить. Но выбраться отсюда из-за этих решеток будет чрезвычайно тяжело. На меня не рассчитывайте: не хочу рисковать работой. Здесь я смогу переждать спокойно, пока не освободится друг.
– Хорошо, Шаталь. Лучше сказать прямо. Я больше не буду говорить с тобой об этом.
– И все же, – сказал он, – я буду передавать твои записки и приносить ответы.
– Спасибо, Шаталь.
Ночью мы слышали пулеметные очереди. На следующий день узнали, что сбежал Молотобоец. Спаси его, Господь. Хороший был друг. Должно быть, подвернулся шанс, и он его не упустил. Тем лучше для него.
Через пятнадцать лет, в 1948 году, я попал на Гаити с одним миллионером из Венесуэлы. Мы собирались подписать контракт с владельцем казино на организацию игорного бизнеса в их краях. Однажды ночью я вышел из кабаре, где мы пили шампанское, и одна девушка, сопровождавшая нас, черная как смоль, но с хорошими манерами французской провинциалки, сказала:
– Моя бабушка, жрица водý [6] , живет с одним старым французом. Он совершил побег из Кайенны. Живет с нами уже пятнадцать лет и почти всегда пьяный. Его зовут Жюль Молотобоец.
Я моментально протрезвел.
– А ну-ка, вези меня к бабушке, да поскорей.
Она переговорила с таксистом-гаитянцем на местном жаргоне, и он помчался. Проезжали мимо ночного бара, продолжавшего работать и светившегося огнями. Остановились. Я зашел в бар и купил бутылку перно, две шампанского и две рома местного производства. Двинулись дальше. Подъехали к небольшому опрятному белому домику под красной черепичной крышей. Прямо у моря. Море почти лизало ступени крыльца. Девушка постучала, потом еще раз, и к нам вышла крупная чернокожая женщина, совершенно седая. На ней был длинный, просторный, свободно запахивающийся халат. Обе женщины перебросились несколькими словами по-своему, и первая сказала:
– Входите, месье. Вы у себя дома.
Газовая лампа освещала опрятную комнату, полную птиц и рыбок.
– Вы к Жюло? Он сейчас выйдет. Жюль! Жюль! К тебе пришли.
Появился старик, босой и в голубой пижаме в полоску, напоминавшей мне тюремную униформу.
– Снежок, да кто же это ко мне в такой поздний час? Папийон! Нет! Ну просто не верится!
Он обхватил меня руками.
– Подвинь-ка лампу, Снежок. Дай хорошенько рассмотреть моего старого приятеля. Верно! Он! Кто, как не он! Проходи! Проходи! Добро пожаловать, добро пожаловать! Эта ночлежка, мои бабки, которых негусто, и внучка моей старухи – все твое. Скажи только слово.
Пили перно, пили шампанское и ром, и время от времени Жюло затягивал:
– А скажи, Папи, правда мы их надули в конце концов? Пришлось хлебнуть сполна. Возьми меня: прошел Колумбию, Панаму, Коста-Рику и Ямайку. И вот почти пятнадцать лет, как я здесь. Я счастлив со Снежком. Такую женщину надо поискать! Когда уезжаешь? Надолго сюда?
– Нет. На неделю.
– Что привело?
– Хочу взять казино по контракту с президентом.
– Брат, я был бы безумно рад, если бы ты остался со мной до конца своих дней. Оставайся. Здесь неплохая глушь, черт побери. Но если у тебя дела с президентом, то вот тебе мое слово: не связывайся с ним. Он подошлет к тебе убийц сразу же, как только увидит, что дела твоего предприятия пошли в гору.
– Спасибо за совет.
– Эй, Снежок! Станцуй-ка нам свой шаманский танец. Учти, для моего друга, а не для туристов. Чтоб настоящий, понимаешь?
При случае я расскажу об этом потрясающем танце не для туристов.
Итак, Жюло сбежал, а мы остались: Дега, Фернандес и я, грешный. То и дело украдкой поглядываю на окно. Решетка из настоящих рельсов – глухо, ничего не поделаешь. Остается одна возможность – через дверь. Днем и ночью у нее три вооруженных охранника. После побега Жюло режим охраны усилен. Обход патрульными нарядами стал проводиться чаще. Врач уже не так дружелюбен. Шаталь появляется в палате два раза в день, чтобы сделать уколы и измерить температуру. Прошла вторая неделя, я заплатил еще двести франков. Дега говорил о чем угодно, только не о побеге. Вчера он увидел мой скальпель и сказал:
– Все еще хранишь? Зачем?
– Да чтоб спасти свою шкуру и твою тоже, если понадобится, – сердито ответил я.
Фернандес оказался не испанцем, а аргентинцем. Малый он был что надо, но болтовня старого Карора отразилась и на нем. Однажды я услышал, как он говорит Дега:
– На островах климат лучше, не то что здесь. И не так жарко. Тут ты можешь подцепить дизентерию прямо в палате. Пойдешь в сортир – и там микробы.
Из семидесяти пациентов, лежавших в нашей палате, один-двое ежедневно умирали от дизентерии. И что интересно: умирали они во время отливов – в полдень или вечером. Ни один не умер утром. Причина? Одна из загадок природы.
Вечером у меня с Дега состоялся крупный разговор. Я сказал ему, что иногда араб-тюремщик совершает глупость: ночью входит в палату и принимается стаскивать простыни с тяжелобольных, укрывшихся с головой. Мы могли бы вырубить его и воспользоваться одеждой (у нас были только рубашки и сандалии – вот и все). Переодевшись, я мог бы выйти из палаты, вырвать винтовку у одного из багров, под прицелом затолкать их в камеру и запереть дверь. Затем мы перемахнули бы через стену больницы со стороны Марони, бросились бы в воду и поплыли бы по течению. А потом нам стало бы ясно, что делать дальше. Поскольку у нас были деньги, мы могли бы купить лодку и провизию, чтобы удрать морем. Фернандес и Дега отклонили мой план, даже раскритиковали. Я понял, что они боятся. Меня охватило горькое разочарование. А дни проходили.
Без двух дней уже три недели, как мы здесь. Осталось десять на размышление, или в крайнем случае пятнадцать. Сегодня 21 ноября 1933 года – незабываемый день. В палату вошел Жоан Клузио – человек, которого пытались убить в тюремной парикмахерской на Сен-Мартен-де-Ре. Глаза у него сильно гноились и были почти закрыты. Я подошел к нему, как только удалился Шаталь. Он быстро рассказал мне, что всех, кто был записан на интернирование, уже отправили на острова две недели назад, а его проглядели. Три дня назад один нарядчик научил его, что надо делать. В оба глаза положил по касторовому зернышку – и вот он в больнице с загноением глаз. Ему страшно хотелось бежать. Сказал, что готов на все, даже на убийство, но выберется отсюда во что бы то ни стало. У него имелось три тысячи франков. Когда глаза ему промыли теплой водой, он стал видеть прекрасно. Я изложил свой план побега. План понравился, но он засомневался, что мы вдвоем сумеем захватить надзирателей врасплох – нужен третий. Вооружившись ножками от кроватей, мы смогли бы охладить их пыл. Клузио был также убежден, что охранники не поверят, что ты будешь стрелять, даже окажись у тебя в руке винтовка. Они вызовут подкрепление из здания в двадцати метрах отсюда, из которого бежал Жюло.
Тетрадь третья Первая попытка
Побег из больницы
В тот же вечер я выложил все напрямую Дега, а затем Фернандесу. Дега заявил, что не верит в план и подумывает заплатить, если понадобится, большие деньги, чтобы избежать отправки на острова.
Он попросил меня связаться с Сьерра, сообщить о его предложении и попросить ответить, можно ли на это надеяться. В тот же день Шаталь отнес записку и вернулся с ответом: «Ничего никому не платите. Решение принято во Франции, и никто, даже начальник колонии, не сможет помочь. Если с больницей безнадега, попытайтесь это сделать на следующий день после отплытия судна „Манá“ на острова».
Перед отправкой на острова нас запрут на неделю в одиночках блока-изолятора, откуда, возможно, бежать будет легче, чем из больничной палаты, куда нас определили с самого начала. В этой же записке Сьерра сообщал мне, что, если я захочу, он подошлет одного вольнопоселенца, бывшего каторжника, с которым можно договориться о лодке, чтобы она ждала меня наготове за больницей. Этот малый из Тулона, по имени Жезю́, два года назад помог доктору Бугра́ совершить побег. Для встречи с ним нужно попасть в рентген-кабинет. Он находится прямо в больнице. И Жезю придет туда на флюорографию по поддельному пропуску. Сьерра просил вынуть гильзу перед просвечиванием, иначе врач, опусти он экран пониже легких, может легко ее обнаружить. Я обратился к Сьерра с просьбой устроить мне встречу с Жезю и уладить с Шаталем вопрос о моем направлении в рентгенкабинет. В тот же вечер Сьерра дал знать, что все устроено на послезавтра на девять утра.
На следующий день Дега попросил разрешения выйти из больницы. Так же поступил и Фернандес. «Мана» отчалила утром. Они надеялись бежать из тюремной камеры. Я пожелал им удачи, но собственного плана не изменил.
Я увиделся с Жезю. Это был старый каторжник, отсидевший от звонка до звонка; иссохший, словно вяленая пикша; загорелое лицо обезображено двумя шрамами. Когда он смотрел на меня, один глаз у него постоянно слезился. Темная личность, недобрый взгляд. Не очень-то я ему доверял и, как потом оказалось, был чертовски прав. Говорили быстро:
– Лодку я подготовлю. Выдержит четверых, самое большее – пятерых. Бочонок воды, провизия, кофе, табак; три весла, четыре пустых мешка из-под муки, иголка и нитки – гротовый парус и кливер сошьете сами; компас, топор, нож; пять бутылок тафьи (местный ром). За все – две тысячи пятьсот франков. Через три дня кончаются лунные ночи. Если договорились, то через четыре дня я буду ждать на реке в лодке каждую ночь в течение недели с одиннадцати вечера до трех утра. После этого жду еще четверть часа и отчаливаю. Лодку поставлю по течению у больничной стены. Идите вдоль стены – лодку можно заметить только сверху, а так просто не увидишь и в двух шагах.
Несмотря на свои сомнения, я все же согласился.
– А деньги? – спросил Жезю.
– Перешлю через Сьерра.
Расстались, не обменявшись рукопожатием. Не очень-то тепло.
В три часа Шаталь пошел в лагерь, прихватив деньги для Сьерра: две тысячи пятьсот франков. Подумалось: «Могу себе это позволить благодаря Гальгани. Что называется, повезло. Не дай бог, если он пропьет такую уйму денег».
Клузио пребывал в восторге: он уверовал в план. Он полагался на меня, как на самого себя. Одно его смущало: хотя араб-надсмотрщик действительно появлялся очень часто, но не каждую ночь заходил в палату, а если заходил, то рано, поздно – в очень редких случаях. Волновала нас еще одна проблема. Кого взять третьим? Был один корсиканец из Ниццы по имени Бьяджи. В колонии он находился с 1929 года, а в больничной палате усиленного режима оказался за убийство, совершенное уже в зоне. Сейчас как раз велось следствие по этому делу. Мы с Клузио размышляли, стоит ли его привлекать к нашему плану, а если стоит, то когда. В тот момент, когда мы потихоньку беседовали об этом, к нам подошел восемнадцатилетний «голубок» со смазливым девичьим лицом. Звали его Матюрет. Ему вынесли смертный приговор, но помиловали, приняв во внимание молодость как смягчающее обстоятельство – в семнадцать лет он убил водителя такси. По этому делу в суде присяжных проходили два паренька, шестнадцати и семнадцати лет, однако вместо того, чтобы валить вину друг на друга, каждый из них заявлял, что это он убил таксиста. Но в теле таксиста была только одна пуля. Поведение ребят во время судебного процесса завоевало им уважение со стороны заключенных.
Матюрет подошел к нам женской походкой и жеманно попросил прикурить. Дали прикурить и, более того, одарили четырьмя сигаретами и коробком спичек. Он поблагодарил с томной призывной улыбкой и удалился, с нашего позволения.
– Папи, мы спасены. Араб будет приходить сколько угодно и когда угодно, если захотим. Дело в шляпе.
– Каким образом?
– Очень просто. Скажем Матюрету, чтобы он завлек араба своими прелестями. Арабы любят мальчиков – это всем известно. И если араб побывает у нас разок, не составит большого труда заполучить его ночью на любовное свидание с мальчиком, а этот должен только прикинуться робким и сказать, что боится, как бы кто не увидел, поэтому араб придет, когда нам будет надо.
– Предоставь это мне.
Я направился к Матюрету, который встретил меня победоносной улыбкой, полагая, что стоило ему пококетничать со мной, как я тут же распалился. С ходу отрубил:
– Ты ошибаешься. Иди в уборную.
Он пошел, и уже там я пояснил:
– Если заикнешься хоть словом о том, что я сейчас скажу, убью. Слушай: сделаешь так-то и так-то. Можешь за деньги, а хочешь, пошли с нами.
– Хотелось бы с вами. Не против?
Договорились. Обменялись рукопожатием.
Матюрет лег спать. Перебросившись парой слов с Клузио, я тоже лег. В восемь вечера Матюрет сел у окна. Араба не надо было звать, он сам пришел и вступил с ним в разговор – приглушенное бормотание. В десять Матюрет снова был в кровати. Мы с Клузио с девяти спали вполглаза. Араб вошел и стал делать обход. Обнаружил покойника. Постучал в дверь. Почти сразу пришли носильщики и труп унесли. Эти покойники могли сослужить нам хорошую службу, поскольку ночные инспекции араба в любое время ночи будут выглядеть вполне уместно. На следующий день, по нашему совету, Матюрет назначил свидание на одиннадцать вечера. Точно в назначенное время появился тюремщик, прошел рядом с его кроватью и дернул за ногу, чтобы разбудить. Сам прошел в уборную, Матюрет последовал за ним. Через четверть часа тюремщик вышел из уборной, прямиком направился к двери и исчез. Сразу же после этого Матюрет вернулся в постель, но с нами ни слова. И на следующий день это повторилось, только в полночь. Все утряслось: араб придет тогда, когда скажет малыш.
27 ноября 1933 года мы подготовили две ножки от кровати. Их оставалось только снять и использовать в качестве дубинок. В четыре часа дня я ждал записку от Сьерра. Появился Шаталь, записки не принес, но передал на словах: «Франсуа Сьерра попросил меня передать, что Жезю ждет в условленном месте. Удачи».
В восемь вечера Матюрет велел арабу прийти после полуночи, так они могут побыть вместе подольше.
Араб согласился. Ровно в полночь мы приготовились. Тюремщик заявился в первом часу, прошел прямиком к кровати Матюрета, дернул его за ногу и отправился в уборную. Матюрет последовал за ним. Я рывком снял ножку с кровати, она тихонько звякнула, выскочив из паза. У Клузио все было тихо. Договорились, что я встану за дверью уборной, а Клузио подойдет прямо к двери, чтобы привлечь внимание. Ждали минут двадцать, затем события развивались быстро. Араб вышел из уборной и, увидев перед собой Клузио, спросил удивленно:
– Что ты здесь делаешь посреди ночи? Живо в постель.
В тот же момент он рухнул без звука, получив удар по шее сзади. Я быстро натянул на себя его одежду и башмаки, самого араба мы затащили под кровать, но перед тем, как затолкать его поглубже, чтобы не было видно, я дал ему еще раз по затылку. Разделались. Он получил свое.
Никто из восьмидесяти человек в палате не пошевелился. Я быстро направился к двери, за мной Клузио и Матюрет – оба в своих рубашках. Постучал. Охранник открыл дверь. Мощный удар обрушился ему на голову. Другой охранник, сидевший напротив, уронил винтовку: несомненно, перед этим он спал. Не успел он пошевелиться, как я вырубил и его. Обе мои жертвы даже не пикнули. Только третий у Клузио, перед тем как рухнуть, выдавил: «А-а-а!» Мои, оглушенные, оставались сидеть на стульях. Третий растянулся на полу. Мы перевели дух. Нам показалось, что все должны были слышать это «а-а-а!». Крик был достаточно громким, и все же никто не шелохнулся.
Мы не стали затаскивать их в палату, а сразу пошли, прихватив три винтовки. Спускаемся по лестнице, тускло освещенной фонарем: Клузио первый, за ним малыш, затем я. Клузио бросил ножку от кровати; у меня она пока еще в левой руке, а в правой – винтовка. Спустились по лестнице до конца – ничего. Темная, как чернила, ночь окружила нас. Напряженно всматриваемся в темноту, отыскивая дорогу к стене со стороны реки. Спешим. Подойдя к стене, я наклонился. Клузио вскарабкался по моей спине на стену, оседлал ее, втащил наверх Матюрета, а затем меня. Придерживаясь руками за верхний выступ стены, мы стали спускаться уже с другой стороны и при полной растяжке тела свободно падали вниз. Винтовки оставили за стеной. Мы с Матюретом приземлились удачно, а Клузио попал в яму и подвернул ногу. Мы встали, а Клузио попробовал, но не смог. Он сказал, что сломал ногу. Оставив Матюрета с Клузио, я побежал к углу стены, все время ощупывая ее рукой. Было так темно, что я не заметил, как добрался до конца, и с вытянутой в пустоту рукой упал плашмя вниз. Со стороны реки послышался голос:
– Это ты?
– Да. Жезю?
На полсекунды вспыхнула спичка. Я засек положение, бросился в воду и поплыл к нему. В лодке было двое.
– Кто первый?
– Папийон.
– Хорошо.
– Жезю, надо продвинуться вверх по течению. Приятель сломал ногу, когда прыгал со стены.
– Бери весло и греби.
Три весла погрузились в воду, и легкая лодка в один миг пролетела сто метров, отделявшие, как я полагал, нас от остальных. Ничего не видно. Я позвал:
– Клузио!
– Заткнись, ради Христа! Толстяк, чиркни зажигалкой.
Вспыхнули искры – их заметили. Клузио свистнул сквозь зубы. Так делают в Лионе, свист отчетливо слышен, но не производит шума. Можно подумать, что шипит змея. Он продолжал свистеть, пока мы не подплыли. Толстяк вылез, обхватил Клузио руками и перенес в лодку. Затем в лодке оказался Матюрет, а за ним Толстяк. Теперь нас было пятеро. Лодка просела, между планширом и водой оставалось пять сантиметров.
– Не двигайтесь без предупреждения, – сказал Жезю. – Папийон, перестань грести. Положи весло на колени. Толстяк, отчаливай.
Подхваченная течением, лодка быстро растворилась в ночи.
Проплыв с километр и миновав зону, слабо освещенную электрическим светом от старенькой динамо-машины, мы оказались на середине реки, а наступавший отлив нес нас вдоль ее берегов с невероятной скоростью. Толстяк бросил грести. Только Жезю, крепко прижав ручку весла к бедру, концом-лопаткой удерживал лодку в устойчивом положении. Он не греб, а только управлял.
Жезю нарушил молчание:
– Теперь мы можем поговорить и покурить. Думаю, что проскочили. Вы уверены, что никого не убили?
– Все может быть.
– Боже, Жезю, ты надул меня дважды, – сказал Толстяк. – Ты говорил, что это безобидный маленький отвальчик без всякого шума, а теперь оказывается, что бегут интернированные, а за это я могу схлопотать.
– Да, они интернированные. Скажи я тебе об этом, Толстяк, ты бы отказался помочь, а мне нужен был помощник. Да и что тебе беспокоиться? Если нас застукают, я возьму все на себя.
– По сути, так оно и есть, Жезю. Не хочу рисковать головой за сотню франков, которую ты мне заплатил, и не хочу тянуть пожизненный срок, если там окажутся раненые.
– Толстяк, – сказал я, – я подарю вам на двоих тысячу франков.
– Это дело, брат. Это справедливо. Спасибо. Мы ведь мрем в деревне с голодухи. Хуже, чем в зоне. В лагере хоть брюхо набиваешь каждый день, да и одежонку дают.
– Очень больно, приятель? – спросил Жезю Клузио.
– Терпимо, – ответил Клузио, – а скажи, Папийон, что будем делать со сломанной ногой?
– Посмотрим. Куда плывем, Жезю?
– Я вас спрячу в небольшом ручье в тридцати километрах от устья реки. Там спокойно отлежитесь с неделю, пока не улягутся страсти. Пусть думают, что этой самой ночью вы спустились вниз по Марони и вышли в море. Охотники из наряда преследования ходят в лодках без моторов и наиболее опасны. Если они возьмут след, то вам может грозить бедой даже разговор, или кашель, или разведенный огонь. Багры ходят на моторках, слишком громоздких, чтобы подняться вверх по ручью, поэтому они бросают лодки и идут по суше.
Светало. Долго искали ориентир, известный только Жезю; обнаружили его около четырех часов и буквально вошли в буш. Лодка приминала прибрежный кустарник, который снова выпрямлялся за нами, образуя очень густой защитный занавес. Надо было родиться колдуном, чтобы достоверно знать, достаточно ли воды под лодкой для ее продвижения вперед. Мы ехали, раздвигая мешавшие проходу ветки, и пробивались все дальше и дальше уже в течение часа. И вот мы оказались в протоке, напоминавшей канал; там и остановились. На берегу росла чистая трава; и сейчас, в шесть часов утра, свет не проникал сквозь листву огромных деревьев. Под этой впечатляющей крышей раздавались голоса сотен неизвестных нам тварей.
– Здесь переждете неделю. На седьмой день я приеду и привезу провизию.
Из густых зарослей Жезю вытащил небольшую пирогу длиной метра два. В ней два весла. На этой посудине он собирался вернуться в Сен-Лоран, воспользовавшись напором прилива.
Теперь мы занялись Клузио, который лежал на берегу и нуждался в помощи. Он все еще был в своей больничной рубашке и с голыми ногами. Топором обтесали несколько сухих веток, сделав из них шины. Толстяк трудился над его ступней. Обильный пот прошиб Клузио, когда он вскрикнул:
– Стоп! В этом положении не так больно, – похоже, кость встала на место.
Мы наложили шины и привязали их новой пеньковой веревкой, взятой из лодки. Боль утихла. Жезю припас для нас четыре пары штанов, четыре рубашки и четыре куртки из грубой шерсти, которые обычно выдавались ссыльным. Матюрет и Клузио надели эти куртки, а я остался в одежде араба. Мы пропустили по глотку рома. Начали уже вторую бутылку с момента побега. Ром согревал, и это было неплохо. Москиты не давали ни минуты покоя – пришлось пожертвовать пачкой табака. Мы пропитали его соком бутылочной тыквы, а затем этой никотиновой массой намазали себе лицо, руки и ноги. Шерстяные куртки были замечательны: несмотря на пронизывающую сырость, в них было тепло.
– Мы уходим. Как насчет обещанной тысячи франков?
Я зашел в кусты и вернулся с новенькой купюрой в тысячу франков.
– До встречи. Неделю не двигайтесь отсюда, – сказал Жезю. – На седьмой день мы вернемся. На восьмой сможете пробираться к морю. А пока займитесь парусом и кливером, приведите лодку в порядок, все должно лежать на своем месте. Закрепите крюк, чтобы руль не рыскал. Если не появимся здесь в течение десяти дней, значит нас арестовали. Нападение на стражу добавляет к побегу привкус острой приправы, поэтому, будьте уверены, нам устроят бешеный аврал, да такой, что не приведи господь.
Клузио сказал нам, что свою винтовку он перебросил через стену. А поскольку вода подходит близко к стене (о чем он не знал), то, по всей вероятности, она угодила в реку и там утонула. Жезю заметил, что это даже хорошо: пусть охотники думают, что мы вооружены, если, конечно, винтовку не нашли. А поэтому нам нечего бояться, хотя охотники действительно опасны. У них только револьверы да тесаки для прохода в зарослях джунглей, и если они узнают, что у нас винтовки, то рисковать не будут.
Стали прощаться. Если нас обнаружат, следует бросить лодку и идти вверх по ручью до сухого буша, а там по компасу, все время держа курс на север. Дня через два-три мы должны выйти к лагерю смерти под названием «Шарвен». Нужно будет заплатить кому-нибудь, чтобы сообщили Жезю, что мы там-то и там-то. Бывшие каторжники оттолкнулись от берега, и через несколько минут их пирога пропала из виду.
Рассвет приходит в буш весьма своеобразно. Кажется, что ты находишься в галерее, в своде которой застрял солнечный луч и никак не может пробиться через него и добраться до самого низа. Становилось жарко. Мы тут – Матюрет, Клузио и я – совершенно одни. Разобравший нас смех был первой реакцией на ситуацию – все шло как по маслу. Единственной помехой представлялась сломанная нога Клузио, хотя сам он уверял, что теперь, когда ее засунули в плоские деревяшки, она совершенно не беспокоит его. Мы могли заварить кофе прямо хоть сейчас. Сказано – сделано: развели костер и выпили по большой кружке каждый. Кофе подсластили тростниковым сахаром. Просто замечательно! Мы настолько были измотаны с прошлого вечера, что не было никаких сил ни присмотреть за вещами, ни проверить лодку. Все успеется. Свободны, свободны, свободны! Ровно тридцать семь дней, как прибыли в Гвиану. Если побег удался, то пожизненное заключение действительно оказалось не таким уж и долгим. Я громко сказал:
– А скажите, месье председатель, сколько лет во Франции длится пожизненная каторга? – И захохотал. Смеялся и Матюрет – у него ведь тоже пожизненная. Клузио заметил:
– Рано веселитесь. До Колумбии далеко, а в этом корыте в море не выйдешь.
Я не отвечал, потому что, по правде говоря, до последней минуты полагал, что каноэ служило лишь средством доставить нас к настоящей лодке, лодке для морского плавания. Когда я увидел, что ошибся, мне не хотелось об этом говорить. Во-первых, потому, что не желал обескураживать товарищей, и, во-вторых, чтобы не дать Жезю повода считать, что я знаю, какие лодки обычно используют при побеге, – он-то, естественно, считал, что я этого не знаю.
Первый день мы провели в разговорах. В перерывах между разговорами пытались немного узнать об окружающем нас буше, настолько странном, насколько не знакомом для нас. Обезьяны и какие-то непонятные белки не прыгали, а летали над нами самым причудливым образом. Стадо пекари – небольших диких свиней – спустилось к ручью на водопой. Не меньше двух тысяч. Они плюхались в ручей и плавали повсюду, обрывая нависающие корни. Бог весть откуда взялся аллигатор и схватил одну свинью за ногу – поднялся такой визг, хоть святых выноси! Все остальные свиньи бросились на аллигатора, карабкались на него, пытаясь укусить за края его огромной пасти. С каждым ударом хвоста аллигатора то слева, то справа в воздух взлетал поросенок. Один пекари был оглушен и плавал на поверхности кверху брюхом. Его тут же сожрали сородичи. От крови ручей окрасился в красный цвет. Сцена продолжалась минут двадцать, затем аллигатор исчез в воде и больше не появлялся.
Мы спали хорошо, а утром приготовили себе кофе. Я снял куртку, чтобы помыться: в лодке мы нашли большой кусок хозяйственного мыла. Уже знакомым скальпелем Матюрет побрил меня более или менее, а затем побрил и Клузио. У самого Матюрета борода не росла. Когда я поднял куртку, чтобы снова одеться, из нее выпал громадный волосатый паук багрово-черного цвета. Волосинки были очень длинными, и каждая заканчивалась блестящим маленьким шариком. Чудовище весило никак не меньше полкило. Я раздавил его, почувствовав омерзение. Мы вытащили из лодки все, включая и небольшой бочонок с водой. У воды был фиолетовый оттенок, – видимо, Жезю положил слишком много марганцовки, чтобы она не испортилась. Были там и плотно закупоренные бутылки со спичками и полосками для зажигания. Компас оказался школьным: он просто показывал север, юг, восток, запад – и никакой градуировки. Длина мачты не превышала двух с половиной метров, поэтому мы сшили из мешков рейковый парус с веревочной обтяжкой для прочности. И я сделал небольшой треугольный кливер для лучшей осадки лодки.
Когда мы ставили мачту, я обнаружил, что днище лодки непрочно: паз для мачты оказался подточенным насекомыми и основательно изношенным. А когда стал вбивать рулевые крепежные петли, то они вошли в корпус, словно в масло. Лодка была трухлявой. Скотина Жезю посылал нас на верную смерть. Без всякого энтузиазма я объяснил остальным все как есть: я не имел права скрывать это от них. Что делать? Заставить Жезю, когда он приедет, найти более подходящую лодку. Именно так. Отнимем у него оружие, и я, прихватив с собой нож и топор, пойду с ним в деревню за другой лодкой. Риск, конечно, огромный, но ничуть не больше, чем отправляться в море в гробу. Запас провизии был достаточен: бутыль в плетенке, заполненная маслом, и несколько жестяных банок с мукой маниоки. На этом можно продержаться долго.
В то утро мы наблюдали за необычным представлением: стадо беломордых обезьян дралось с черномордыми. Во время сражения на голову Матюрета свалился кусок дерева, от чего вскочила шишка величиной с грецкий орех.
Прошло пять дней и четыре ночи. В последнюю ночь ручьями лил дождь. Мы укрылись под диким бананом. Вода скатывалась по его блестящим листьям, но мы ни капельки не промокли, только слегка подмочили ноги. Утром, выпив кофе, я стал размышлять о Жезю и его поступке. Воспользоваться нашей неопытностью и сбагрить гнилую лодку! Сэкономить пятьсот или тысячу франков – и отправить троих на верную смерть! Стоит подумать, не следует ли его прикончить, после того как он достанет нам другую лодку, естественно, под угрозой.
Внезапно мы вздрогнули от шума, какой могут издавать только сойки: пронзительный крик, настолько резкий и неприятный, что я попросил Матюрета взять тесак и пойти выяснить, что там произошло. Через пять минут он вернулся и сделал мне знак рукой. Я последовал за ним. Метрах в полутораста от лодки висел на ветке большой фазан, или дикий петух, размером вдвое больше домашнего. Пойманный за ногу, он болтался в петле. Ударом тесака я снес ему голову, чтобы больше не орал так истошно. Прикинул вес – около пяти кило. Такие же шпоры, как и у петуха. Мы решили его съесть. Но пока обдумывали этот вопрос, в голову пришла и такая мысль: ведь кто-то поставил силок, значит здесь мы не одни. Пошли проверить. Так мы обнаружили нечто необыкновенное: настоящая изгородь высотой сантиметров тридцать, сплетенная из листьев и лиан метрах в десяти от ручья. Изгородь тянулась параллельно воде. В ней там и тут попадались бреши, а в них, замаскированные прутьями, концы петель из медной проволоки, привязанные к наклоненным гибким веткам. Я сразу сообразил, как все происходит. Скажем, животное подходит к изгороди, натыкается на нее и идет вдоль, пытаясь ее обойти. А тут брешь, через которую можно пролезть; но ноги цепляются за проволоку, вдруг, словно пружина, срабатывает ветка. Вот и висит добыча в воздухе, пока не придет за ней хозяин.
Такое открытие нас обеспокоило. Снасть была новой, за ней присматривали, а следовательно, существовала опасность, что нас могут обнаружить. Значит, днем нельзя разводить костер, а ночью охотник не придет. Мы решили установить поочередное наблюдение за капканами. Спрятали лодку под ветками, а все припасы затащили в кусты.
На следующий день в десять часов утра я заступил на пост. Накануне за ужином мы съели того фазана, или петуха, или как его там еще – какая разница. Благо суп нас здорово подкрепил, а вареное мясо оказалось нежным и вкусным. Съели по две миски каждый. Итак, в десять я в карауле. Мое внимание привлек огромный муравейник, где копошились крупные муравьи-листорезы. Трудились они над листьями маниоки, каждый тащил кусок листа в муравейник. Зрелище настолько захватило меня, что от бдительности не осталось и следа. Размер этих муравьев – сантиметра полтора. Каждый тащит большой кусок листа. Я пошел за ними к растению, которое они раздевали, и увидел, что все было организовано тщательнейшим образом. Во-первых, были сами резчики, которые ничем больше не занимались, как только нарезали листья кусочками. Они трудились над гигантскими листьями, напоминавшими листья бананового дерева. Очень быстро и искусно эти листья резались на одинаковые куски и сбрасывались на землю. Внизу поджидали такие же муравьи, но несколько отличные от первых. У них по бокам жвала пролегала серая полоска. Они располагались полукругом и следили за носильщиками. Муравьи-носильщики появлялись цепочкой справа и отправлялись влево к муравейнику. Они подхватывали груз и старались выстроиться в цепочку. Но иной раз в спешке они не могли занять свое место, и получался затор. Тогда муравьи-полицейские принимались за наведение порядка и рассовывали рабочих по своим местам. Я не мог понять, чем провинился какой-то муравей-рабочий, но его вытащили из рядов, и муравей-полицейский откусил ему голову, а другой перекусил тело посередине. А вот муравьи-полицейские остановили еще двух рабочих. Они сняли с них груз, выкопали ямку и на три четверти зарыли их в землю – голову, грудь, часть брюшка, – а потом забросали их полностью землей.
Голубиный остров
Я настолько увлекся наблюдением за этими тварями, настолько любопытно было установить, распространялись ли обязанности муравьев-полицейских до самого входа в муравейник, что меня буквально потряс окрик, заставший врасплох:
– Не двигаться! Иначе – покойник. Повернись кругом!
Передо мной стоял обнаженный до пояса человек в шортах цвета хаки и в высоких красных кожаных сапогах. В руках – двустволка. Среднего роста, плотного телосложения, загорелый. Был он лыс, а глаза и нос покрывала яркая голубая маска-татуировка. Посреди лба был вытатуирован черный жук.
– Оружие есть?
– Нет.
– Один?
– Нет.
– Сколько вас?
– Трое.
– Веди меня к своим.
– Мне бы не хотелось: у одного винтовка, и могут убить. Скажи сначала, что ты собираешься делать.
– Ах так! Не шевелись и говори тихо. Вы – те трое, рванувшие из больницы.
– Да.
– Кто из вас Папийон?
– Я.
– Ну, я скажу, вы и заварили кашу! В деревне арестовали половину освобожденных. Они сейчас находятся в жандармерии.
Он подошел ко мне и, опустив ружье, протянул руку:
– Меня зовут Бретонец Маска. Слышал обо мне?
– Нет, но я вижу, ты не охотник за беглецами.
– Ты прав. Я тут ставлю ловушки на фазанов. Ягуар, должно быть, сожрал одного, если это были не вы, ребята.
– Мы.
– Может, выпьешь кофе?
В ранце у него был термос. Он отлил немного мне и отпил сам. Я сказал:
– Пойдем познакомимся с моими товарищами.
Он вошел и сел рядом с нами. Его позабавило, как я надул его с винтовкой.
– Я купился, – сказал он, – потому что все говорят, что у вас винтовки. Поэтому нет охотников вас преследовать.
Он рассказал нам, что в Гвиане он уже двадцать лет, а на свободе – пять. Ему сорок пять. Имел глупость наколоть себе маску – во Франции с такой рожей делать нечего. Он обожал буш и жил полностью за его счет: кожа змей, шкура ягуаров, коллекции бабочек, а сверх прочего – живые фазаны; правда, одного мы уже съели. Он продавал их за двести – двести пятьдесят франков. Я предложил заплатить, но он с негодованием отказался. Вот что он нам рассказал:
– Эта птица из породы кустарниковых куриц. Конечно, она не похожа на обычных домашних петухов и куриц. Я их ловлю, несу в деревню и продаю тем, у кого есть курятники. Вы знаете, на эту птицу большой спрос. И не зря. Ей не надо подрезать крылья и вообще не надо ничего делать: просто ночью подсаживаете ее в курятник, а когда откроете утром дверь, она уже стоит и как бы пересчитывает куриц и петухов, выходящих из курятника. Уходит из курятника последней, вместе с ними гуляет, кормится, но все время поглядывает по сторонам: вперед, назад, туда, сюда, вверх, вниз – короче, все кусты осмотрит. Она не хуже сторожевой собаки. А вечером, неизвестно как, стоит она у двери курятника и смотрит, все ли пришли или недостает одной или двух куриц или петухов. И если так, она тут же идет, отыскивает их и загоняет в курятник. Гонит домой и клюет немилосердно, чтобы они знали свое время. Она уничтожает крыс, змей, землероек, пауков и сороконожек. Едва лишь какая-нибудь хищная птица появится в небе, она, пока не заставит всю стаю попрятаться в траве, сама стоит на месте, как бы бросая вызов врагу. От этого курятника она уже никуда не улетит.
Вот какую замечательную птицу мы съели, словно обычного домашнего петуха.
Бретонец Маска рассказал нам, что Жезю, Толстяк и еще тридцать вольноотпущенных арестованы и сидят в жандармерии в Сен-Лоране. Ведется дознание, кто из них был замечен около того здания, откуда мы совершили побег. Араб содержится в карцере жандармерии. Его обвиняют в соучастии и оказании нам помощи. Два удара, которые мы ему нанесли, не оставили даже следов, в то время как у багров небольшие шишки на голове.
– Что касается меня, то даже не побеспокоили: все знают, что я никогда не был замешан в подготовке побегов.
Бретонец Маска сказал нам, что Жезю – подонок. Когда я заговорил о лодке, он попросил ее показать. Едва взглянув на нее, он воскликнул:
– Этот ублюдок посылал вас на смерть! Лодка и часа не продержится в море. Первая же волна развалит ее надвое. Идти на ней – просто самоубийство!
– Что же нам делать?
– Деньги есть?
– Да.
– Тогда скажу, что надо делать. Более того, помогу. Вы этого заслуживаете. Вы не должны показываться вблизи деревни. Ни в коем случае. Чтобы достать приличную лодку, надо пойти на Голубиный остров. Там проживает около двух сотен прокаженных. Охраны нет, ни один здоровый человек не решается ступить туда ногой. Даже врачи не ездят. Каждый день в восемь утра туда приходит лодка и привозит провизию на сутки. Сырые продукты. Дежурный санитар по больнице передает ящик с лекарствами двум санитарам с острова. Последние, сами прокаженные, оказывают медицинскую помощь остальным. На остров никто не суется: ни стражник, ни охотник за беглецами, ни священник. Прокаженные живут в небольших соломенных хижинах собственной постройки. У них есть одно общее здание, где они собираются. Они разводят кур и уток в дополнение к скудному рациону. Официально им запрещено что-либо продавать с острова, поэтому процветает нелегальная торговля с Сен-Лораном, Сен-Жаном, с китайцами из Альбины в Голландской Гвиане. Все они отпетые убийцы. Они не убивают друг друга часто, но делают много пакостей, когда тайком покидают остров. Потом возвращаются и прячутся на нем, пока все не утихнет. Для этих набегов у них есть лодки, украденные из деревни. Им строжайше запрещено их иметь. Стража стреляет по всем лодкам, плывущим с острова и на остров. Поэтому прокаженные затапливают лодки, перегружая их камнями. Когда лодка потребуется, они ныряют, выбрасывают камни, и она всплывает. На Голубином острове живет всякий народ всех цветов кожи и рас. Много и из самой Франции. Какой вывод? Ваша лодка годится только для плавания по Марони. Да в нее много и не положишь. Для выхода в море вам нужна другая. Где ее взять? Лучшего места, чем Голубиный остров, не придумаешь.
– Как туда добраться?
– А вот как. Я пойду вместе с вами вверх по реке до самого острова. Сами вы его не найдете или, во всяком случае, попадете не туда. Он лежит в ста пятидесяти километрах от устья реки, поэтому надо возвращаться вверх против течения. Остров в пятидесяти километрах от Сен-Лорана. Я вас доведу, а потом пересяду в свое каноэ. А пока возьмем мою лодку на буксир. На острове сами смотрите, как быть.
– А почему бы тебе не пойти с нами на остров?
– Боже сохрани, – сказал Бретонец Маска, – да я только раз побывал на пристани, где причаливают служебные лодки. Только раз, среди бела дня – и мне достаточно. Нет, Папи, моей ноги там больше не будет. Никогда в жизни. Пойми, мне не скрыть своего отвращения при общении с ними. Стоять рядом, разговаривать, совершать какие-то сделки выше моих сил. Я больше принесу вреда, чем пользы.
– Когда выходим?
– Ночью.
– Сколько сейчас времени, Бретонец?
– Три часа.
– Пойду немного вздремну.
– Нет. Надо все погрузить в лодку, и как следует.
– Зачем? Я пойду порожним, а Клузио останется сторожить вещи, пока я не вернусь.
– Это невозможно. Даже днем ты не найдешь опять это место. А днем, запомните, на реке показываться нельзя. Вас еще ищут, не забывайте об этом. На реке все еще опасно.
Пришел вечер. Бретонец Маска привел свое каноэ и привязал к корме нашей посудины. Клузио лег в лодку рядом с Бретонцем. Тот сел за рулевое весло, посередине устроился Матюрет, а я – на носу. Мы стали медленно продвигаться вниз по ручью, и, когда выбрались на реку, ночь уже почти наступила. В той стороне, где было море, огромное красно-бурое солнце освещало горизонт. Бесчисленные фейерверки его лучей создавали невероятную игру красок, более сочных, чем просто красная, более сочных, чем просто желтая, а там, где краски смешивались, они приобретали самые фантастические оттенки. Километрах в двадцати вниз по течению ясно просматривалось устье великолепной реки, бегущей к морю в отсветах розового серебра.
Бретонец заметил:
– Отлив заканчивается. Через час начнется прилив. Вы это сами почувствуете. С его помощью без всякого труда мы поднимемся вверх по Марони и скоро доберемся до Голубиного острова.
Ночь наступила внезапно.
– Вперед, – скомандовал Бретонец. – Гребите сильнее, чтобы выскочить на середину течения. Не курите.
Весла погрузились в воду, и лодка быстро понеслась поперек течения. Шух, шух, шух, шух. У нас с Бретонцем получалось прекрасно. Матюрет старался изо всех сил. Чем ближе мы продвигались к середине реки, тем явственнее ощущалась сила прилива. Мы быстро скользили по водной глади, и через каждые полчаса напор усиливался. Приливная мощь росла и росла, ускоряя бег нашей лодки. Через шесть часов остров был уже рядом. Мы направили лодку к чернеющей почти на середине реки полосе, взяв немного вправо.
– Вот он, – тихо сказал Бретонец.
Ночь была не очень темной, но нас нельзя было заметить и с малого расстояния из-за легкой дымки, распластавшейся над зеркалом реки. Подошли ближе. Когда очертания прибрежных скал прорезались отчетливо, Бретонец перебрался в свою лодку и быстро отчалил, едва успев пробормотать:
– Удачи, ребята.
– Спасибо.
– Не за что.
Как только Бретонец перестал управлять лодкой, мы пошли прямо к острову; лодку несло к берегу бортом. Я пытался выправить ее, яростно работал веслом, развернулся, но замешкался, и течение с силой втащило нас в прибрежную растительность, нависавшую над водой. Мы буквально врезались в нее, несмотря на то что я пытался, как только мог, тормозить веслом. Если бы мы ударились о камни, а не о листья и ветки, от лодки ничего бы не осталось. Мы лишились бы и всех запасов провизии, и прочих вещей. Матюрет спрыгнул в воду. Нас сносило под большие кусты. Матюрет помогал, толкая лодку. Причалили, привязав лодку к ветке. Сделали по глотку рома. Я выбрался на берег один, оставив приятелей в лодке.
С компасом в руке пошел через кусты, по пути сломав несколько веток и привязывая на другие лоскутки мешковины, оставшиеся от паруса и приготовленные заранее. В темноте различил просвет и сразу заметил три хижины. Послышались голоса. Пошел вперед, совсем не представляя, как дать о себе знать. Решил, что будет лучше, если они первые меня заметят, поэтому чиркнул спичкой и закурил. Едва вспыхнул огонь, как из хижины выскочила собачонка и, с лаем подскочив ко мне, пыталась укусить за ноги. «Боже, а что, если и она прокаженная? – подумалось мне. – Не будь дураком: собаки не болеют проказой».
– Кто там? Кто это? Марсель, это ты?
– Это беглый.
– Что ты здесь делаешь? Хочешь что-нибудь спереть? Ты думаешь, у нас есть чем поживиться?
– Нет. Мне нужна помощь.
– За так или за деньги?
– Закрой свою грязную пасть, Сова.
Из хижины появились четыре тени.
– Подойди медленно, брат. Бьюсь об заклад, что ты тот парень с винтовкой. Если она при тебе, положи на землю. Здесь нечего бояться.
– Да, это я. Но без винтовки.
Я двинулся вперед и поравнялся с ними. Было темно, и нельзя было различить их лица. Как дурак, протянул руку в знак приветствия – никто не взял. Поздно, но понял, что здесь так себя вести нельзя. Они не хотят меня заразить.
– Пойдем в лачугу, – сказал Сова.
Хижину освещала масляная лампа.
– Садись.
Я сел на плетеный стул без спинки. Сова зажег еще три лампы и одну поставил на стол рядом с моим лицом. Фитиль вонюче чадил – запах кокосового масла. Я сидел, а передо мной стояли пятеро. Я не видел их лиц, мое же освещала лампа. Они специально так устроили. Голос, приказавший Сове закрыть пасть, прозвучал снова:
– Угорь, иди в общий дом и спроси, надо ли его вести туда. Да побыстрей возвращайся с ответом. Сам знаешь, если Туссен скажет «да», то уж поторопись. Мы ничего не можем тебе предложить попить, приятель. Разве что сырое яйцо.
Он придвинул ко мне корзинку, полную яиц.
– Нет, спасибо.
Один из них сел очень близко от меня справа, и я первый раз увидел лицо прокаженного. Оно было ужасно, я сделал над собой усилие, чтобы не отвернуться и не выдать своих чувств. Нос – и мясо, и кости – съела проказа. Вместо носа посреди лица – дыра. Не две дыры, как вы полагаете, а одна дыра размером с двухфранковую монету. Правая часть нижней губы тоже была съедена, и три очень длинных желтых зуба торчали из сморщенной десны, упираясь в голую кость верхней челюсти. Только одно ухо. Он положил забинтованную кисть руки на стол. Это была его правая рука. В двух оставшихся пальцах левой руки он держал длинную толстую сигару. Сигару, должно быть, он скрутил сам из полуготовых табачных листьев, поскольку она была зеленоватого цвета. Левый глаз имел веко, на правом веко отсутствовало, и глубокая рана пролегала прямо от глаза, прячась в густых седых волосах. Хриплым голосом он сказал:
– Мы поможем тебе, приятель. Ты не должен задерживаться в Гвиане слишком долго, чтобы не получить то же, что увидел. Мне бы не хотелось.
– Спасибо.
– Меня зовут Бесстрашный Жан. Я из Парижа. Я был посимпатичней, поздоровей и посильней тебя до колонии. Десять лет, а теперь погляди на меня!
– Разве вас здесь не лечат?
– Лечат. Наступило улучшение, с тех пор как стал делать масляные инъекции чолмугры. Посмотри. – Он повернул голову левой стороной ко мне. – Подсыхает.
Чувство огромного сострадания переполнило меня, и, проявляя дружеское участие, я протянул руку к левой щеке. Он отпрянул назад и сказал:
– Спасибо и на этом. Но никогда не прикасайся к больному человеку. Не пей и не ешь из его миски.
Это было единственное лицо прокаженного, которое я увидел, это был единственный прокаженный, имевший мужество дать посмотреть на себя.
– Где тот парень, о котором вы говорили?
Тень человека ростом едва выше карлика появилась в дверном проеме.
– Туссен и другие хотят его видеть. Пойдемте.
Бесстрашный Жан встал и велел мне следовать за ним. Мы все вышли в темноту. Четверо или пятеро спереди, мы с Жаном посередине, остальные сзади. Минуты через три достигли широкого открытого места наподобие площади, освещенного серпом луны. Это была плоская и самая высокая точка острова. В центре стоял дом. В двух окнах горел свет. У двери дома нас поджидало человек двадцать, к ним мы и направились. Когда мы подошли, они расступились, пропуская нас. Вошли в комнату, довольно просторную, освещенную двумя корабельными фонарями. Горел камин, сложенный из четырех огромных камней одинаковой величины. На табуретке сидел человек, белый, как полотно, неопределенного возраста. Позади на скамейке сидело пятеро или шестеро других. Он посмотрел на меня своими черными глазами и сказал:
– Я Туссен Корсиканец. А ты, должно быть, Папийон?
– Да.
– Новости в колонии распространяются быстро – с той же скоростью, что и ты сам. Где оставил винтовку?
– Выбросил в реку.
– Где?
– Напротив больничной стены, где перебирались.
– Ее можно достать?
– Думаю, что да. Там неглубоко.
– Ты уверен?
– Мы там переносили раненого приятеля в лодку.
– Что с ним?
– Сломал ногу.
– Что предприняли?
– Расщепили ветки пополам и сделали подобие бандажа вокруг ноги.
– Болит?
– Да.
– Где он?
– В лодке.
– Ты сказал, что требуется помощь. Какая?
– Нужна лодка.
– Ты хочешь, чтобы мы предоставили тебе лодку?
– Да. У меня есть деньги, и я заплачу.
– Хорошо. Я продам свою. Великолепная лодка, совершенно новая – я украл ее на прошлой неделе в Альбине. Лодка? Да это настоящий лайнер. Недостает только киля. Киль мы сделаем через пару часов. А все остальное есть – руль и румпель, четырехметровая мачта из железного дерева и новехонький парус. Что даешь?
– Назови цену. Я не имею понятия, сколько здесь что стоит.
– Три тысячи франков. Сможешь заплатить? Если нет, то завтра ночью принесешь винтовку – и по рукам.
– Нет. Лучше заплачу.
– Хорошо, договорились. Блоха, приготовь кофе.
Блоха – а это был приходивший за мной карлик – приблизился к полке, висевшей над камином, снял с нее блестящий новенький котелок, налил туда кофе из бутыли и поставил на огонь. Через некоторое время снял его, разлил кофе по кружкам, стоявшим у камней, чтобы Туссен передавал их сидевшим сзади. Мне же он протянул котелок, сказав при этом:
– Пей, не бойся. Котелок только для гостей. Ни один больной им не пользуется.
Я взял посудину и выпил. Опустив котелок на колено, я вдруг заметил, что внутри к стенке прилип палец. Стал лихорадочно искать выход из положения, и в этот момент Блоха сказал:
– Черт возьми! Я потерял свой палец. Куда он мог подеваться?
– Вот он, – сказал я, протягивая ему посудину. Он вытащил палец, бросил его в огонь, а котелок вернул мне.
– Не сомневайся – пить можно. У меня сухая лепра. Разваливаюсь по частям, но не гнию. Поэтому незаразен.
Запахло горелым мясом. «Должно быть, палец», – подумалось мне.
Туссен сказал:
– Придется вам пробыть здесь до вечернего отлива. Иди и скажи друзьям. Того, кто сломал ногу, занесите в хижину. Каноэ затопите, после того как выгрузите вещи. Здесь вам нет помощников – сами знаете почему.
Я поспешил к своим приятелям. Клузио перенесли в хижину. Через час все вещи были вытащены из лодки и разложены на берегу. Блоха попросил подарить ему каноэ и весло. Я так и поступил, и он отправился затапливать лодку в своем месте. Ночь пролетела быстро. Мы втроем лежали в хижине на новеньких одеялах, присланных Туссеном. Одеяла прибыли к нам в своих еще прочных бумажных упаковках. Полностью расслабившись и растянувшись на одеяле, я рассказал Клузио и Матюрету о деталях своего пребывания на острове и сделке с Туссеном. После чего Клузио, видимо без всякой задней мысли, все-таки ляпнул глупость:
– Побег-то влетел в шесть тысяч пятьсот франков. Я отдам половину, Папийон, то есть три тысячи – все, что имею.
– Не будем уподобляться банковским чиновникам с их счетами. Пока у меня есть деньги, я плачу. А потом посмотрим.
Никто из прокаженных не заходил к нам. Наступил день, и появился Туссен.
– Доброе утро. Можете выходить на воздух, не опасаясь. Здесь вас никто не застукает. У меня свой наблюдатель сидит на кокосовой пальме в центре острова. Он следит за появлением на реке лодок тюремной охраны. Пока никого. Видите, на пальме болтается кусок белой тряпки? Это означает, что горизонт чист. В случае чего наблюдатель слезет с дерева и доложит обстановку. Если хотите, рвите плоды папайи и ешьте.
– Туссен, а что с килем?
– Мы его сделаем из двери нашего лазарета. Двух досок вполне хватит. Тяжелое змеиное дерево. Под покровом ночи мы приволокли лодку в центр острова. Пойдем посмотрим.
Пошли. Лодка действительно оказалась новой и была великолепна. Около пяти метров в длину. Две банки, в одной – отверстие для мачты. Она была так тяжела, что нам с Матюретом пришлось покряхтеть, чтобы перевернуть ее. Парус и такелаж новехонькие. В борта были ввинчены кольца для крепления необходимых предметов – ну, скажем, бочонка с водой. Мы принялись за работу. К полудню киль по всей его длине был прочно закреплен длинными винтами и четырьмя скобами, имевшимися при мне.
Окружив нас, прокаженные молча наблюдали за работой. Туссен изредка подсказывал, как лучше сделать то или другое, и мы следовали его советам. Лицо Туссена было вполне нормальным – никаких участков поражения. И только когда он разговаривал, было заметно, что двигалась только левая половина. Он мне сам об этом сказал и еще добавил, что у него сухая проказа. Грудная клетка и правая рука были парализованы, он полагал, что скоро парализует и правую ногу. Правый глаз в глазнице сидел, как стеклянный, – видеть видел, но был неподвижен. Я не называю настоящих имен прокаженных. Может быть, кто-то знал и любил их, так лучше пусть не знают, какая это жуткая участь – разлагаться заживо.
Я работал и разговаривал с Туссеном. Никто в разговор не вмешивался. И только один раз, когда я собирался подобрать с земли петли, выломанные из лазаретной мебели, и намеревался пустить их на укрепление киля, кто-то сказал:
– Подождите брать петли. Я поранился, когда вынимал их, и, хотя вытирал, кровь осталась.
Другой прокаженный облил петлю ромом и дважды прожег на огне.
– Теперь можно, – сказал он.
Во время работы Туссен сказал одному из прокаженных:
– Ты бежал много раз, расскажи Папийону, что ему следует делать, поскольку никто из троих ни разу побега не совершал.
Прокаженный тут же стал говорить:
– Отлив сегодня ранний. В три часа он сменится приливом. А к вечеру, примерно в шесть, начнется сильнейший отлив, который домчит вас почти до самого устья реки за каких-нибудь три часа. До моря останется не более сотни километров. Примерно в девять вы должны причалить к берегу. Спрячьтесь в буше и покрепче привяжитесь к дереву. Переждете шестичасовой прилив до трех утра. Но сразу не отправляйтесь, поскольку отлив будет развиваться слабо. Примерно в половине пятого будьте на середине реки. В вашем распоряжении полтора часа до восхода солнца. За это время вы успеете сделать еще километров пятьдесят. Все зависит от этих полутора часов. В шесть, на восходе солнца, вы уже будете выходить в море. Если даже заметят багры, они не смогут вас преследовать, потому что, пока они доберутся до песчаного наноса в устье реки, начнется мощный прилив. Они не смогут перевалить через отмель, а вы уже будете за ней. Когда они вас увидят, между ними и вашей лодкой должен быть километровый отрыв. Это вопрос жизни и смерти. У вас здесь только один парус. А что на каноэ?
– Гротовый парус и кливер.
– Это тяжелая лодка: она выдержит два кливера – косой и выносной, чтоб не зарываться носом. На выходе из устья всегда штормит, и лодку надо держать к волне носом. Пусть твои ребята лягут на днище для придания ей остойчивости. Румпель держи крепче. Не привязывай шкот к ноге, а пропусти через тот блок и держи с петлей на запястье. Почувствуешь, что ветер и волны того и гляди опрокинут лодку, дай полную слабину, и она выправится. Если такое произойдет, не останавливайте лодку, а обезветрите главный парус, продолжая идти вперед под косым парусом и кливером. Когда выйдете на спокойную воду, у вас будет время все привести в порядок, но не раньше. Вы знаете свой курс?
– Нет. Я знаю только, что Венесуэла и Колумбия лежат на северо-западе.
– Правильно. Постарайтесь, чтобы вас не прибило к берегу. На другом берегу реки Голландская Гвиана, беглецов оттуда возвращают. Так же поступают и в Британской Гвиане. Тринидад не выдает, но больше двух недель там оставаться не позволяют. Венесуэла тоже возвращает, но после того, как бежавшие отработают год или два на строительстве дорог.
Я внимательно слушал. Далее выходило, что сам рассказчик время от времени пытался вырваться на свободу, но каждый раз его высылали отовсюду сразу же, как только устанавливали, что он прокаженный. Дальше Джорджтауна в Британской Гвиане он не добирался. Проказа отметила ступни его ног – пальцы на них отсутствовали. Он ходил босиком. Туссен попросил повторить все услышанное вслух, что я и сделал без запинки. В этот момент Бесстрашный Жан сказал:
– А сколько времени потребуется идти морем?
Я ответил первым:
– Буду держать норд-норд-ост в течение трех суток. С учетом дрейфа курс проложится строго на север. Четвертые сутки пойду на норд-вест, что будет соответствовать строго западному направлению.
– Правильно, – сказал прокаженный. – Прошлый раз я выдержал лишь двое суток и очутился в Британской Гвиане. Если ограничиться тремя сутками, то минуешь Тринидад или Барбадос; оставив их с северной стороны, не заметишь, как очутишься у самой Венесуэлы. Причаливать придется на Кюрасао или в Колумбии.
Бесстрашный Жан спросил:
– Туссен, за сколько ты продал лодку?
– За три тысячи. Считаешь, дорого?
– Да нет. Не поэтому спросил. Просто хотел знать. Сможешь заплатить, Папийон?
– Да.
– У вас есть еще деньги?
– Нет. Это все. Ровно три тысячи у моего друга Клузио.
– Туссен, – сказал Бесстрашный Жан, – возьми мой револьвер. Мне бы хотелось помочь ребятам. Сколько дашь?
– Тысячу франков, – ответил Туссен. – Но и мне хочется им помочь.
– Спасибо за все, – сказал Матюрет, глядя на Бесстрашного Жана.
– Спасибо, – вторил ему Клузио.
Мне стало стыдно, что я солгал!
– Нет. Я не могу это принять. Вы не обязаны давать нам что-либо.
Жан посмотрел на меня и сказал:
– И все-таки обязаны. Три тысячи франков – это уйма денег. Даже если Туссен скостит две на сделке – и то будет предостаточно. Что и говорить, вам дьявольски повезло с лодкой. Но я не вижу причины отказывать вам в помощи, ребята.
То, что произошло следом, тронуло меня до глубины души. Прокаженный по прозвищу Хлыст положил на землю шляпу, и остальные стали бросать в нее банкноты и монеты. Они появлялись отовсюду, и каждый что-нибудь бросил. Я сгорал со стыда. Теперь уже просто нельзя было говорить, что у нас оставались деньги. Боже, как поступить? Вот они, несчастные люди, охваченные великим порывом души, а я перед ними веду себя как самая последняя скотина.
– Пожалуйста, пожалуйста, не жертвуйте всем этим.
Черный как уголь, страшно изуродованный негр – вместо рук два обрубка – вставил слово:
– Мы не пользуемся деньгами как средством к существованию. Не стыдитесь их брать. Мы на них только играем да пичкаем ими еще женщин-прокаженных, наезжающих к нам время от времени из Альбины.
Только после этого я почувствовал облегчение. Отпала необходимость исповедоваться в том, что у нас еще остались деньги.
Прокаженные сварили две сотни яиц. Принесли их в деревянной коробке, на которой был нарисован красный крест. В этой коробке в то утро они получили свою суточную норму лекарств. Еще дали двух живых черепах – килограммов по тридцать каждая. Черепахи были бережно уложены панцирями вниз. Табак в листьях, две бутылки спичек, мешок риса весом не менее пятидесяти килограммов, две сумки древесного угля, примус из лазарета и оплетенная бутыль с керосином. Вся община, все эти ужасно несчастные люди переживали за нас, каждый хотел содействовать успеху нашего предприятия. Со стороны можно было подумать, что побег устраивают они, а не мы. Пересчитали деньги, оказавшиеся в шляпе: восемьсот десять франков. Клузио передал мне свою гильзу. Я открыл ее перед всеми. Тысяча франков одной бумажкой и четыре по пятьсот. Я вручил Туссену полторы тысячи. Он дал мне сдачу три сотни и затем сказал:
– Вот. Бери револьвер – это подарок. Вы все поставили на карту; будет глупо, если в последний момент все пойдет прахом из-за того, что у вас не оказалось оружия. Надеюсь, применять его не придется.
Я не знал, как отблагодарить Туссена и всех остальных. Санитар принес нам небольшую жестяную банку с ватой, спиртом, аспирином, бинтами, йодом. В ней также лежали ножницы и несколько пакетов лейкопластыря. Другой прокаженный принес две тонкие, хорошо обработанные рубанком деревянные дощечки и две антисептические бандажные накладки в новеньком пакете. Это был тоже подарок, чтобы сменить шину на ноге у Клузио.
Около пяти пошел дождь. Бесстрашный Жан сказал:
– Вам повезло. Нечего теперь бояться, что вас увидят. Вы можете отправляться немедленно и выиграете полчаса. Так вы окажетесь ближе к устью, когда снова отправитесь в плавание в половине пятого утра.
– Как я узнаю о времени?
– По отливу и приливу.
Мы спустили лодку. Никакого сравнения с каноэ. Даже с нами и со всеми нашими вещами на борту планшир возвышался над водой на добрых сорок сантиметров. Мачта, завернутая в парус, свободно лежала между носом и кормой, поскольку ее не следовало поднимать вплоть до выхода из реки в море. Мы поставили руль с предохранительным брусом и румпелем и положили охапку лиан, чтобы мне удобней было сидеть. Из одеял на днище лодки устроили уютное местечко для Клузио, который не пожелал менять ножную повязку. Он лежал между мной и бочонком с водой. Матюрет также примостился на дне лодки, но в носовой ее части. Я сразу обрел в себе чувство уверенности и безопасности, которого не могло быть в каноэ.
Дождь продолжался. Надо было идти на середину реки и держаться левее, ориентируясь на сторону Голландской Гвианы. Бесстрашный Жан сказал:
– Прощайте. Отчаливайте быстрее.
– Удачи, – сказал Туссен и с силой оттолкнул лодку ногой от берега.
– Спасибо, Туссен. Спасибо, Жан. Спасибо всем. Тысячу раз спасибо!
И мы исчезли на огромной скорости, подхваченные отливом, начавшимся два с половиной часа назад и уже набравшим силу.
Дождь шел плотной стеной: за десять метров ничего нельзя было разглядеть. Где-то ниже лежали два небольших островка. Матюрет, пристроившись на носу, внимательно всматривался вперед, чтобы нам не угодить на их острые камни. Наступила ночь. На какое-то мгновение лодка наполовину застряла в ветках большого дерева, плывшего по реке вместе с нами. К счастью, дерево двигалось не так быстро, и нам вскоре удалось от него освободиться. Нас несло со скоростью не менее тридцати километров в час. Курили. Сделали по глотку тафии. Прокаженные снабдили нас полудюжиной бутылок в соломенной оплетке. Странно, но никто из нас даже не заикнулся о страшных увечьях, которые мы увидели. Говорили только о доброте, щедрости, прямодушии. Говорили о том, как нам повезло, что мы повстречались с Бретонцем Маской, который привел нас на Голубиный остров. Дождь еще усилился. Я промок до нитки. Но тем-то и хороши толстые куртки из грубой шерсти – они держат тепло, даже если воды в них хоть выжимай. Нам не было холодно. Озябла и занемела от дождя только моя рука, лежавшая на румпеле.
– Идем под пятьдесят километров в час, – сказал Матюрет.
– Как вы думаете, сколько мы уже плывем?
– Я скажу, – ответил Клузио. – Минуточку. Три часа с четвертью.
– Ты рехнулся. Откуда ты знаешь?
– Как только мы отплыли, я стал считать. На каждые три сотни секунд отрывал кусочек картона. Таких фишек у меня сейчас тридцать девять. Перемножаем их на пять минут и получаем три с четвертью. Если я не ошибаюсь, минут через пятнадцать-двадцать спуск по реке прекратится и нас понесет туда, откуда мы прибыли.
Я резко бросил руль вправо, поставил лодку наискосок к течению и направил нос в голландскую сторону. Мы еще не достигли берега, как течение прекратилось. Нас не несло ни вниз, ни вверх. Дождь продолжался. Уже не курили, не разговаривали, а общались шепотом: «Бери весло и подгребай». Я тоже работал веслом, зажав румпель в сгибе правой ноги. Мягко коснулись буша. Ухватились за ветки и втянули лодку под спасительный его покров. Растительность сгущала темноту. Река была серой и покрыта туманом. Не будь отливов и приливов, и не разобрался бы, в какой стороне море, а где река.
Из реки – в открытое море
Прилив продлится шесть часов. Затем через полтора часа начнется отлив. Можно поспать семь часов, хотя лично я сгораю от нетерпения. Надо выспаться, иначе в море кто знает, когда удастся прилечь. Я растянулся между бочонком и мачтой. Матюрет положил одеяло поверх банки и бочонка, таким образом устроив для меня подобие укрытия. В нем я и предался сну, и только сну. Ни грезы, ни дождь, ни теснота – ничто не мешало моему глубокому и здоровому сну.
Я так бы и спал, если бы меня не разбудил Матюрет.
– Папи, нам кажется, что пришла пора. Отлив усиливается.
Лодка развернулась к морю, пальцы почувствовали упругую силу течения. Дождь перестал. При свете лунного серпа река четко просматривалась по ходу на сто метров. Она несла деревья, растительность и рисовала причудливые темные фигуры на своей поверхности. Я попытался определить точно место, где река встречается с морем. У берега ветра нет. Есть ли он на середине реки? Какой силы? Лодка выдвинулась из-под зеленого навеса, но пока еще она привязана к толстому корню. Всмотревшись в горизонт, я успеваю различить прибрежную полосу, где обрывается река и начинается море. Мы уплыли гораздо дальше, чем думали. До устья оставалось километров десять. Сделали по хорошему глотку рома. Надо ли устанавливать мачту сейчас? Надо, считают остальные. Мачта поднята. Она плотно вошла в подпятник и отверстие банки. Я поставил парус, не разворачивая его. Парус был плотно прижат к мачте. По моему слову Матюрет был готов поднять косой парус и кливер. Теперь, чтобы парус наполнился ветром, требовалось только освободить линь, удерживающий его у мачты. Это мог я сделать прямо с места, не вставая с сиденья. Матюрет с веслом на носу, я с веслом на корме. Надо сильно оттолкнуться и энергично грести, ибо течение плотно прижимает нас к берегу.
– Все приготовились. Пошли. С нами Бог.
– С нами Бог, – повторил Клузио.
– В руки Твои вверяю себя, – сказал Матюрет.
И мы пошли. Оба вместе налегли на весла. Я загребал глубоко и тянул что было силы. Старался и Матюрет. Мы легли на курс с легкостью воздушного поцелуя. До берега еще было рукой подать, а нас уже снесло вниз на сто метров. Вдруг налетел бриз, выталкивая лодку на середину реки.
– Поднять косой парус и кливер – делай!
Оба паруса напружинились. Лодка, встав на дыбы, как скаковая лошадь, рванула вперед. Вероятно, мы вышли позже запланированного времени, потому что внезапно река осветилась, словно при восходе солнца. Километрах в двух справа ясно просматривался французский берег, а в километре слева – голландский. Прямо спереди совершенно отчетливо различались барашки океанских волн.
– Боже, мы неправильно выбрали время, – сказал Клузио. – Сумеем ли выбраться, как считаешь?
– Не знаю.
– Посмотри, как высоки волны и как они разбиваются белой пеной! Не начался ли прилив?
– Не может быть. Разберусь на месте.
– Нам не выбраться. Мы не успеем, – сказал Матюрет.
– Закрой хлеборезку! Твое дело – парус и кливер. И ты заткнись, Клузио.
Трах-бах! Бабах! Карабины. В нас стреляют. Особенно четко прозвучал второй выстрел. Это не багры. Стреляют со стороны Голландской Гвианы. Я поднял гротовый парус. Ветер надул его с такой силой, что я едва справился с рывком удерживаемого в руке полотна и чуть не вылетел за борт. Лодку развернуло на сорок пять градусов. Я быстро пошел в отрыв, да это нетрудно было сделать – ветра хватило, даже с запасом. Бах, бах, бах. Затем выстрелы прекратились. Мы уже плыли ближе к французскому берегу, чем к голландскому, поэтому и перестали стрелять.
Лодка неслась с головокружительной скоростью, ветер готов был снести все на своем пути. Проскочили середину эстуария. Скорость растет. Промедли несколько минут – и нас вынесет на французский берег. Я вижу, что там уже в нашу сторону бегут люди. Мягко, очень мягко делаю разворот, что есть мочи налегая на главный парус. Косой и кливер совершают маневр самостоятельно. Ветер гонит уже в нужном направлении, а парус летит впереди ветра. Отпускаю парус – и выскакиваем из реки. Фу-у! Проскочили! Минут через десять морская волна попыталась остановить нас. Но мы с легкостью через нее перевалили. Мягкий говорок речной воды за бортом сменился серьезным разговором моря. Волны были высокими, но мы перекатывались через них как бы играючи. Шух-шух – кланяется лодка волнам без содрогания, и только ее корпус глухо стучит по воде, когда опускается вниз.
– Ура! Ура! Мы в море! – во весь голос заорал Клузио.
И чтобы осветить нашу победу над стихиями природы, Господь послал нам удивительный восход солнца. Волны накатывались в постоянном ритме. По мере удаления от берега высота их падала. Вода была мутной. Много ила и грязи. На севере она выглядела совершенно черной, потом сменялась голубой. Не было нужды сверять курс по компасу. Имея солнце за плечом справа, я уверенно шел вперед – быстро, но с малым креном, поскольку натяг паруса ослаб и он легко и спокойно увлекал нас за собой.
Клузио приподнялся. Ему хотелось устроиться так, чтобы все было видно. Матюрет помог ему примоститься у бочонка рядом со мной. Клузио скрутил сигарету, зажег ее и передал мне. Мы все трое закурили.
– Дайте мне рому, – сказал Клузио. – Этот переход косы стоит выпивки.
Матюрет разлил ром по жестяным кружкам, мы чокнулись и выпили за наше здоровье. Матюрет сидел рядом слева. Мы посмотрели друг на друга. Их лица сияли от счастья. Конечно, и мое тоже. Затем Клузио спросил:
– Капитан, месье, позвольте узнать, куда идем?
– В Колумбию, если Господу будет угодно.
– Господу угодно, без всякого сомнения. С нами Бог! – отвечал Клузио.
Солнце поднималось быстро. Мы обсохли. Из больничной рубашки я сделал себе подобие арабского бурнуса. Смоченная водой, она охлаждала голову и предохраняла от солнечного удара. Море простиралось перед глазами голубым опалом. Между гребнями трехметровых волн проходила широкая полоса спокойной воды. Полный комфорт. Бриз еще силен, и мы быстро уходим от берега. Время от времени оборачиваюсь назад и вижу, как прибрежная полоса тает на горизонте. Чем дальше мы убегаем от широкого зеленого массива, тем явственнее раскрывается его красота. Я пристально гляжу назад. Встречная волна, принятая не носом, а бортом лодки, напомнила о моих обязанностях и об ответственности за жизнь товарищей и свою собственную.
– Я приготовлю рис, – вызвался Матюрет.
– Я подержу печку, а ты горшок, – сказал Клузио.
Разожгли примус. Запахло жареным рисом. Добавив туда две банки сардин, мы его ели горячим. Сверх того мы выпили по чашке кофе. Ром? Я отказался: было жарко. Кроме того, я не был большим любителем спиртного. Клузио крутил для меня сигарету за сигаретой и прикуривал их. Первый завтрак на борту прошел хорошо. Судя по солнцу, было не больше десяти часов утра. Идем еще только пять часов, а уже чувствуется под нами огромная глубина океана. Волны невысоки, и, когда мы пересекаем их, лодку даже не бросает. Погода великолепная. Я вскоре сообразил, что днем совсем не требуется все время смотреть на компас. Время от времени я фиксировал положение солнца относительно стрелки – и этого оказывалось достаточно для управления лодкой. Все так просто. Яркий блеск утомлял глаза, и я пожалел, что не позаботился о защитных очках.
Ни с того ни с сего Клузио сказал:
– Повезло мне, что я вас встретил в больнице!
– И мне повезло, что я не одинок. Я думал и о Дега, и о Фернандесе. Если бы они согласились, то сейчас были бы с нами.
– Я не совсем уверен, – сказал Клузио. – Да и как в таком случае удалось бы заманить араба в палату в нужный момент?
– Согласен. Матюрет нам здорово помог. Я рад, что мы его взяли с собой. Он надежный. В уме и храбрости ему не откажешь.
– Спасибо, – сказал Матюрет. – Я вас благодарю обоих за то, что вы поверили в меня, несмотря на то что я молод и сами знаете кто. Я сделаю все, чтобы вас не подвести.
– Франсуа Сьерра тоже отличный парень. Он здесь здорово пригодился бы. Да и Гальгани…
– Обстоятельства не позволили нам это сделать, Папийон. Если бы Жезю вел себя порядочно и достал хорошую лодку, то можно было бы переждать где-то в буше и вызволить остальных. Они тебя знают, Папийон. И если ты за ними не послал никого, значит это невозможно было сделать.
– Между прочим, Матюрет, как ты оказался в палате?
– Я не знал, что меня интернируют. Я сказался больным, потому что у меня болело горло и мне хотелось немного погулять. Когда врач увидел меня, то сказал: «Из твоей карточки видно, что ты подлежишь интернированию на острова. Почему?» – «Я ничего не знаю об этом, доктор. А что значит интернирование?» – «Ладно, не беспокойся. Определим тебя в больницу!» Так я и попал туда, и мне нечего больше добавить.
– Он хотел оказать тебе хорошенькую услугу, – сказал Клузио.
– Что бы ни хотел этот знахарь сделать для меня, ему, вероятно, пришлось сказать обо мне что-нибудь этакое: «Вот тебе и ангелочек. Я-то думал, что он еще мочится в штанишки, а он уже в бегах!»
Мы разговаривали и смеялись.
– Кто знает, – говорил я, – может, мы встретимся с Жюло Молотобойцем. Он сейчас уже далеко. А может, еще выжидает в буше.
– Когда я уходил из больницы, – сказал Клузио, – то оставил под подушкой записку: «Ухожу и не оставляю адреса».
Это нам так понравилось, что мы хохотали от души.
Плывем уже пять суток, и ничего не случилось. Днем восточно-западный переход солнца служит мне компасом, ночью пользуюсь настоящим. Утром на шестые сутки нас приветствовало необычайно яркое солнце. Море неожиданно успокоилось, и летучие рыбы замелькали вокруг. Усталость меня доконала. Еще ночью, чтобы я не уснул, Матюрет протирал мне лицо смоченной тряпкой. Это мало помогало – я то и дело засыпал. Тогда Клузио вынужден был прижигать меня сигаретой. Теперь наступил штиль, и я решил немного поспать. Спустили главный парус, убрали кливер. Оставили только косой парус. Я лег на днище лодки и заснул, как деревянная колода. От солнца меня накрыли парусом.
Я проснулся оттого, что меня тряс Матюрет. Он сказал:
– Сейчас полдень или час дня. Я тебя разбудил потому, что крепчает ветер, а на горизонте, там, откуда он дует, все черно.
Я встал и отправился на свой пост. Единственный парус, оставленный нами, нес лодку по тихой глади. Позади, на востоке, все почернело. А ветер все крепчал и крепчал. Для поддержания быстрого хода лодке хватало косого паруса и кливера. Я аккуратно свернул грот-парус вокруг мачты и закрепил его.
– Держитесь! Приближается шторм!
Упали первые тяжелые капли. Темнота стремительно надвигалась на нас. Через четверть часа она заволокла весь горизонт и приблизилась вплотную. Вот она уже здесь: невероятной силы ветер подул навстречу. И все преобразилось, как в волшебном зеркале. Море вскипело. Волны покрылись пенными барашками. Солнце исчезло. Дождь хлынул ручьями. Ничего нельзя было разобрать. И только вода, разбиваясь о лодку, брызгами и струями больно жалила мне лицо. Да, это был шторм, мой первый шторм во всем ужасающем великолепии необузданной стихии: гром, молния, дождь, волны, завывание ветра над нами и вокруг нас.
Лодку несло, как соломинку; она взбиралась на умопомрачительные высоты и падала вниз так глубоко, что казалось, больше не выберется оттуда. Но нет, несмотря на эти захватывающие дух глубины, она снова влезала на бок следующей волны, переваливала через ее гребень, и все начиналось сначала – вверх и вниз, вверх и снова вниз. Я ухватился за руль обеими руками. Заметив еще более высокую и крутую волну, подумал, что ее надо чуть подрезать. Без всякого сомнения, я сманеврировал с излишней поспешностью, и лодка, резко встретив волну носом, зарылась и зачерпнула очень много воды. В самой лодке все оказалось на плаву. Совершенно непроизвольно рывком руля я сбросил лодку прямо поперек следующей волны (что делать крайне опасно), лодка встала почти отвесно в так называемой точке переворота черепахи, и почти вся вода из нее выплеснулась обратно в море.
– Браво! – закричал Клузио. – Ты настоящий мореход, Папийон! Лодка почти сухая!
– Теперь вы поняли, как это делается? – сказал я.
Если бы он только знал, что из-за недостатка опыта я едва не опрокинул нас всех в открытом море! Я решил больше не сопротивляться напору волн, не беспокоиться о курсе, а следить только за тем, чтобы лодка сохраняла устойчивость. Подставляя волне три четверти борта, я вел лодку вперед, полностью передоверившись законам морской стихии. И лодку снова поднимало и опускало, словно поплавок. То, что я вскоре понял, было для меня равнозначно важному открытию: море не любит суеты, море требует согласованного партнерства – и это девяносто процентов безопасного плавания. Дождь прекратился. Ветер продолжал дуть с уничтожающей свирепостью, но спереди и сзади появились прояснения. Сзади небо освободилось от туч, спереди оно еще было черным. А мы где-то посередине.
К пяти все прекратилось. Снова засияло солнце; бриз стал таким, каким и следует быть морскому бризу; и само море успокоилось. Я снова поднял главный парус, и снова мы, довольные, пошли дальше. Воду из лодки вычерпали. Одеяла выжали и развесили для просушки на мачте. Рис, мука, масло, двойной кофе и ром для бодрости. Солнце почти село, освещая голубизну моря и рисуя незабываемые картины: красновато-бурое небо, огромные желтые лучи скачут от полузатонувшего шара и зажигают небо, цепочка белых облаков и само море. По мере подъема волн просматривались их голубые основания, затем они становились зелеными, и гребни расцвечивались красным, розовым или желтым, в зависимости от того, какого цвета лучи пронизывали их.
Чувство глубокого умиротворения переполняло меня. А вместе с ним появилось и чувство уверенности. Я вел себя молодцом: шторм пошел на пользу. Пришлось самому учиться обращаться с лодкой в подобных обстоятельствах. Приближение ночи уже нисколько не тревожило.
– Итак, ты видел, Клузио, как надо выливать воду из лодки? Понял, как это делается?
– Послушай, брат, если бы это тебе не удалось и вторая волна накрыла бы нас сбоку, мы бы затонули. Ты поступил правильно.
– Этому тебя учили на флоте? – спросил Матюрет.
– Да. Стоит как-нибудь рассказать вам о флотской тренировке.
Нас, должно быть, порядком снесло в сторону от курса. Кто знает, чего мог стоить этот дрейф в течение четырех часов в условиях такого ветра и при таких волнах. Решил держать на норд-вест – так, казалось, наверстаю упущенное. Солнце исчезло в море, посылая нам свои последние вспышки, на этот раз фиолетовые. И затем сразу наступила ночь.
Плывем еще шесть суток, и ничто нас не беспокоит. Было, правда, несколько шквалов и ливней, но они более трех часов не продолжались, да их и нельзя было сравнить с тем первым штормом.
Десять часов утра. Ни ветерка. Мертвый штиль. Лег спать и проспал около четырех часов. Когда проснулся, то почувствовал, что горят губы. На них не оставалось кожи, на носу тоже, и правая рука сгорела до мяса. То же было и с Матюретом, и с Клузио. Дважды в день мы натирались маслом, но этого было недостаточно – тропическое солнце вскоре высушивало все напрочь.
Судя по солнцу, было около двух пополудни. Я поел. Видя, что штиль не прекращается, из паруса устроили навес. Там, где Матюрет мыл посуду, стали собираться рыбы. Я взял тесак и попросил Матюрета бросить в воду немного риса. Появилось мутное пятно от ферментации зерна в воде. В этом месте скопилось много рыбы, она плавала почти у поверхности. Улучив момент, когда одна рыбина высунула голову, я сильно ударил. Она всплыла кверху брюхом. Мы прикинули: тянет килограммов на десять. Мы ее выпотрошили и отварили в соленой воде, а вечером съели с подливкой из маниоковой муки.
В море мы уже одиннадцать суток. За все это время только раз видели корабль, да и то далеко на горизонте. Я стал задумываться, где же мы все-таки могли быть. Конечно далеко, но где? Где мы находимся по отношению к Тринидаду или другим островам, принадлежащим Англии? Вот уж действительно, заговори о черте, и он непременно… Спереди появилась черная точка. Она постепенно росла. Что это – корабль или рыбачья посудина? А может, ни то и ни другое – она к нам не приближается. Да, это был корабль. Теперь мы его ясно видим, но он идет пересекающимся курсом и вряд ли приблизится к нам вплотную. Ветра не было, и наши паруса тоскливо обвисли. С корабля нас даже не заметят. Вдруг раздался вой сирены, затем три коротких гудка. Корабль изменил курс и направился в нашу сторону.
– Надеюсь, он не подойдет слишком близко, – сказал Клузио.
– Нет никакой опасности. Тихо, как в мельничной запруде.
Это был танкер. Чем ближе он подходил к нам, тем лучше мы видели людей на палубе. Им, должно быть, не терпится узнать, что делает в открытом море эта маленькая скорлупка. Танкер медленно приближался. Мы видим уже офицеров и матросов команды и кока. Вот и женщины в пестрых платьях появились на палубе, и мужчины в цветных рубашках. Это были пассажиры. Пассажиры на танкере – это меня поразило. Танкер медленно приблизился, капитан выкрикнул по-английски:
– Откуда вы?
– Французская Гвиана.
– Вы говорите по-французски? – спросила одна женщина.
– Да, мадам.
– А что вы делаете так далеко в море?
– Мы идем туда, куда ведет нас Господь Бог.
Дама поговорила с капитаном и затем сказала:
– Капитан приглашает вас на борт. Он возьмет и вашу маленькую лодку.
– Скажите капитану, что мы ему благодарны, но хотим остаться в лодке.
– Почему вы отказываетесь от помощи?
– Потому что мы беглецы, а вы идете в другом направлении.
– Куда вы держите путь?
– На Мартинику или дальше. Где мы находимся?
– В открытом море.
– Как идти на Антильские острова?
– Вы читаете английскую карту?
– Да.
Через минуту нам спустили карту, несколько пачек сигарет, зажаренную баранью ногу и хлеба.
– Посмотрите на карту.
Я посмотрел и сказал:
– Мне следует идти на запад, и я попаду на Антильские острова, это так?
– Да.
– Сколько миль?
– Вы там будете через два дня, – сказал капитан.
– До свидания. Всем большое спасибо.
– Капитан поздравляет вас: вы отличный моряк.
– Спасибо. Прощайте.
Танкер осторожно отвалил, едва не коснувшись нас бортом. Я стал отгребать, чтобы не попасть в бурун от винтов. В этот момент матрос с танкера бросил мне фуражку. Она упала в лодку. На фуражке красовались золотая лента и якорь. С этой фуражкой на голове я со своими товарищами через двое суток благополучно прибыл на Тринидад.
Тринидад
Задолго до того, как мы увидели землю, птицы возвестили о том, что она уже рядом. В половине восьмого утра они стали кружиться над нами.
– Мы дошли! Мы дошли! Первая часть побега удалась! И труднейшая! Да здравствует свобода!
Мы кричим и дурачимся от радости, как мальчишки, и наши лица, намазанные от солнца кокосовым маслом, которым нас снабдили люди с танкера, блестят еще ярче. Около девяти мы увидели землю. Свежий ветер гнал нас к берегу на приличной скорости по морской зыби. Около четырех пополудни мы уже различали некоторые детали побережья длинного острова, обрамленного прерывистой цепочкой белых домиков, над которыми простирались огромные рощи кокосовых пальм. Издалека нельзя было разобрать, остров это или полуостров и живут ли в домиках люди. Прошел еще час с небольшим, прежде чем мы увидели людей, бежавших вдоль берега к тому месту, где мы собирались причалить. Минут через двадцать на берегу собралась пестрая толпа. Вся деревня вышла нам навстречу. Позднее мы узнали, что прибыли в Сан-Фернандо. Не дойдя до берега метров триста, я бросил якорь. Он тут же лег на дно. Я поступил так отчасти потому, что хотел узнать, как поведут себя люди, и отчасти потому, что не хотел повредить лодку в случае, если дно поросло кораллами. Мы свернули паруса и стали ждать. К нам направилась небольшая лодка. В ней находился белый человек в защитном шлеме и с ним двое чернокожих гребцов.
– Добро пожаловать на Тринидад, – сказал белый на чистом французском языке. Чернокожие засмеялись, обнажая все свои белые зубы.
– Спасибо на добром слове, месье. Скажите, на дне песок или коралл?
– Дно песчаное. Можете приставать к берегу без всякого опасения.
Мы подняли якорь, и волны нежно стали прибивать нас к пляжу. Мы едва коснулись дна, как с десяток чернокожих зашли в воду и одним махом на руках вытащили лодку на берег. Они рассматривали нас с любопытством и одобрительно прикасались к нам, как бы поглаживая. Женщины китайского, негритянского или индейского происхождения куда-то приглашали нас. Белый, разговаривавший с нами по-французски, объяснил, что они все наперебой зазывают нас к себе. Матюрет взял пригоршню песка и поцеловал его. Так выразил он свою радость. Я поведал белому о состоянии Клузио, и он распорядился перенести его к себе в дом, стоявший недалеко от пляжа. Он сказал нам, что мы можем оставить все свои пожитки в лодке до утра, и никто ничего у нас не тронет. Все громко кричали: «Good captain, long ride on small boat! (Хороший капитан! Долго плыл в маленькой лодке!)».
Мне стало смешно, что меня окрестили капитаном.
Наступил вечер. Я попросил оттащить лодку повыше и привязать к другой, гораздо большей, чем наша, лежавшей на берегу. После этого я последовал за англичанином, а Матюрет за нами. Подошли к дому в строгом английском стиле: несколько деревянных ступенек, дверь с металлической пластинкой. Мы вошли в дом. Там мы увидели Клузио, сидевшего в кресле и довольного собой. Больная нога покоилась на стуле. Рядом с Клузио сидели дама и девушка.
– Знакомьтесь, жена и дочь, – представил их джентльмен. – Сын учится в университете в Англии.
– Добро пожаловать в наш дом, – пригласила дама по-французски.
– Садитесь, месье, – сказала девушка, указывая на плетеные кресла.
– Спасибо, сударыни, просим о нас не беспокоиться.
– Почему же? Мы знаем, откуда вы прибыли. Поэтому еще раз говорю: добро пожаловать в наш дом. Не волнуйтесь, пожалуйста.
Англичанин был адвокатом. Его звали мистер Боуэн. Его контора находилась в Порт-оф-Спейне, столице, в сорока километрах отсюда. Принесли чай с молоком, тосты, масло и джем. Мы провели этот первый вечер как свободные люди. Я его никогда не забуду. Ни слова о прошлом. Ни одного бестактного вопроса. Только о том, сколько дней пробыли в море, какие встречались трудности. Как переносит боль Клузио. Когда лучше для нас поставить в известность полицию: завтра или послезавтра. Связаны ли мы какими-либо семейными отношениями; есть ли у нас родители, жены или дети. Если мы хотим написать им, то письма наши отправят. Что я могу сказать? Прием был просто замечательный как со стороны людей на берегу, так и со стороны этой семьи с ее необычайной добротой к трем беглецам.
Мистер Боуэн позвонил врачу, и тот посоветовал доставить Клузио на следующий день к нему в амбулаторию, чтобы провести рентгеноскопию, после чего будет ясно, как поступать дальше. Мистер Боуэн также позвонил руководителю Армии спасения в Порт-оф-Спейне. Он сказал нам, что этот человек приготовит для нас комнату в общежитии Армии спасения и мы сможем поехать туда, когда нам заблагорассудится. Мистер Боуэн поинтересовался, не нуждается ли наша лодка в ремонте, поскольку она может еще нам пригодиться для дальнейшего плавания. Он спросил, приговорены ли мы к каторге или к высылке. И казалось, остался очень доволен, когда узнал, что нас приговорили к каторге.
– Не хотите ли принять ванну или побриться? – спросила девушка. – Не стесняйтесь. Вы нас нисколько не беспокоите. В ванной комнате вы найдете все необходимое. Прошу вас.
Я принял ванну, побрился, причесался, переоделся в серые брюки, белую рубашку, белые носки и теннисные ботинки.
В дверь постучали. Появился индус с пакетом в руках, который он передал Матюрету. Оказывается, врач собрал для Матюрета кое-что из одежды и очень беспокоился, подойдет ли она ему по размеру, потому что он примерно одного роста с адвокатом и платья маленького размера у него не имеется. Он прислал индуса, который нам обо всем рассказал. Индус откланялся на мусульманский манер и удалился. Что еще сказать об этой доброте? Всего даже не опишешь! Клузио пошел спать первым, а мы впятером продолжили разговор. Очаровательных женщин больше всего интересовало, как мы собираемся менять свою жизнь. Ни слова о прошлом. Только настоящее и будущее. Мистер Боуэн посетовал на то, что власти Тринидада не позволяют беглым поселяться на острове. Он много раз пытался добиться разрешения на поселение для других, но каждый раз неудачно.
Девушка очень хорошо говорила по-французски, как и ее отец, без акцента и с правильным произношением. Она была белокурой, с веснушками на лице. Ей было между семнадцатью и двадцатью, но об этом я не решался ее спросить. Она сказала мне:
– Вы очень молоды, и у вас вся жизнь еще впереди. Я не знаю, за что вас приговорили, и не хочу знать. Но то, что вы решились, рискуя жизнью, отправиться в опасное плавание на таком утлом суденышке, говорит о том, что вы готовы заплатить любую цену за собственную свободу. И меня это приводит в восхищение.
Мы спали до восьми часов следующего утра. Когда проснулись, стол уже был накрыт. Обе дамы спокойно сказали нам, что мистер Боуэн уехал в Порт-оф-Спейн и вернется только после полудня. Он привезет необходимую информацию о том, что можно будет для нас сделать.
Оставив свой дом в распоряжении трех сбежавших преступников, мистер Боуэн преподал нам блестящий урок, лучше которого не придумаешь. Он как бы говорил нам без всяких громких фраз: «Вы нормальные, порядочные люди, вы сами видите, что я вам доверяю, поскольку оставляю вас одних в своем доме вместе с женой и дочерью». Нас глубоко тронуло такое бессловесное общение с ним. «Вот мы и договорились. Вы остаетесь у меня в доме как друзья. Я нисколько не сомневаюсь в вашем порядочном поведении. Я вам полностью доверяю, зная наперед, что вы не сделаете и не скажете ничего дурного и недостойного».
Читатель (надеюсь, придет день, у этой книги будет свой читатель), я недостаточно образован, не владею живым стилем и словом, чтобы описать это огромное чувство самоуважения, чувство возвращения собственного достоинства и вкуса к новой жизни. Это своеобразное крещение, эта купель очищения, это возвышение над пошлостью и грязью, окативших меня с головы до пят, эта быстротечная встреча лицом к лицу с настоящей ответственностью удивительно просто взяла и перевернула все мое существо. Я был каторжником, слышавшим кандальный звон даже тогда, когда на ногах не было цепей, и я осознавал себя свободным человеком; ощущение того, что кто-то наблюдает за мной, никогда не покидало меня. Я превратился во все то, что видел, испытал, прошел, выстрадал. Я превратился во все то, что отметило меня печатью злого человека, опасного во все времена, внешне кроткого, покладистого, но все же страшно опасного при взрыве эмоций. И все это исчезло, пропало, как в сказке. Благодарю вас, мэтр Боуэн, адвокат его величества. Благодарю вас за то, что за такое короткое время вы сделали из меня другого человека!
Та же белокурая девушка с голубыми, как море вокруг нас, глазами сидит рядом со мной под кокосовыми пальмами в саду своего отца. Красные, желтые, розовато-лиловые цветы придают поэтический оттенок, соответствующий моменту.
– Месье Анри (она называет меня месье! Сколько времени уже ко мне так никто не обращался?), как говорил вам вчера мой отец, британские власти ведут себя недостойным образом, и, к сожалению, вам нельзя оставаться здесь. Вам предоставлено право только на двухнедельный отдых, а затем вы снова должны отправиться в море. Сегодня утром я ходила осматривать вашу лодку, она выглядит очень маленькой и хрупкой для такого длительного плавания. Будем надеяться, что вы доберетесь до более гостеприимной страны, чем наша. На всех британских островах поступают одинаково в таких случаях. Если вас ждут большие неприятности, я прошу вас не держать сердца на людей, проживающих на этих островах. Они ни в чем не виноваты, все распоряжения идут из Англии от тех чиновников, которые вас совершенно не знают. Адрес отца: 101, Квин-стрит, Порт-оф-Спейн, Тринидад. Если Господу будет угодно, прошу вас, напишите хотя бы строчку о том, что с вами произошло.
Я был настолько тронут, что не знал, как ответить. К нам подошла миссис Боуэн. Она очень красивая женщина с каштановыми волосами и зелеными глазами. На ней было простое белое платье с белым поясом. На ногах сандалии салатного цвета.
– Месье, мой муж вернется к пяти часам. Он договорился доставить вас в Порт-оф-Спейн в собственном автомобиле без сопровождения полиции. Он также добился разрешения не помещать вас на первую ночь в полицейском участке Порт-оф-Спейна. Ваш раненый друг будет направлен в амбулаторию нашего приятеля, где ему окажут соответствующую помощь и уход. А вы поедете прямо в общежитие Армии спасения.
В саду к нам присоединился Матюрет. Он ходил взглянуть на лодку. Там он встретил толпу любопытных. В лодке ничего не тронуто. Осматривавшие ее люди нашли пулю, застрявшую в руле. Кто-то попросил разрешения вытащить ее и оставить себе в качестве сувенира. Матюрет отвечал: «Капитан, капитан», и все поняли, что надо спросить разрешения у капитана. Матюрет закончил вопросом:
– А почему бы нам не отпустить черепах?
– У вас есть черепахи? – воскликнула девушка. – Пойдемте посмотрим на них.
Мы направились к лодке. По дороге меня взяла за руку без всякой робости очаровательная маленькая черненькая девушка. Все цветные дружно приветствовали нас: «Добрый день!» Я вытащил черепах.
– Что будем делать? Отпустим в море? Или вы хотите поместить их в своем саду?
– У нас в глубине сада бассейн с морской водой. Давайте отпустим их туда, и у меня о вас останется какая-то память.
– Прекрасно.
Я раздал зрителям все, что было в лодке, за исключением компаса, табака, фляжки, ножа, мачете, топора, одеял и револьвера, который я засунул в одеяла так, что никто и не заметил.
В пять часов появился мистер Боуэн.
– Месье, все в полном порядке. Я вас сам повезу в столицу. Сначала мы завезем раненого в амбулаторию, а потом поедем в общежитие.
Мы разместили Клузио на заднем сиденье автомобиля. Я прощался с девушкой и благодарил ее за все. В это время появилась ее мать с чемоданом в руке:
– Возьмите, пожалуйста. Это некоторые вещи мужа. Они вам пригодятся. Мы отдаем их вам от всего сердца.
Что еще можно было сказать? Спасибо, еще раз спасибо, спасибо много-много раз. Машина тронулась. Без четверти шесть мы приехали в амбулаторию – частную клинику Святого Георгия. Санитары занесли носилки с Клузио в палату, в которой находился один индус. Он сидел на кровати. Вышел врач, он обменялся с мистером Боуэном рукопожатием. Доктор не говорил по-французски, но через мистера Боуэна он объяснил нам, что Клузио будет оказан должный уход и что нам разрешается навещать его в любое время. В машине мистера Боуэна мы поехали через весь город.
Столица поразила нас своими огнями, автомобилями, велосипедами. Белые, черные, желтые, индусы, китайцы – все перемешалось в толпах народа, идущего по тротуарам Порт-оф-Спейна, города деревянных домов. Мы подъехали к зданию, принадлежавшему Армии спасения. Только его первый этаж был из камня, остальные – из дерева. Дом уютно располагался в центре ярко освещенной площади, название которой мне удалось прочитать: «Рыбный рынок». Нас приветствовал капитан Армии спасения вместе со своим штатом, состоявшим из мужчин и женщин. Он говорил немного по-французски, остальные обращались к нам по-английски, и мы их, естественно, не понимали. Но по глазам, по выражению лиц мы чувствовали, что нам говорят очень приятные вещи.
Нас разместили на втором этаже в комнате на троих. Третья кровать была приготовлена для Клузио. В номере была ванная комната, в ней для каждого приготовлены полотенца и мыло. Показывая нашу комнату, капитан сказал:
– Если вы проголодаетесь, знайте, мы ужинаем все вместе в семь часов. Короче, через полчаса прошу к столу.
– Спасибо. Мы не голодны.
– Если вы желаете побродить по городу, вот вам два доллара Вест-Индии. Можете выпить чая, кофе, съесть мороженое. Смотрите не заблудитесь. Когда будете возвращаться назад, спросите: «Армия спасения, пожалуйста!» – и вам укажут дорогу.
Через десять минут мы уже на улице. Мы шли вдоль тротуаров, проталкивались между людьми; никто не обращал на нас никакого внимания. Мы вдыхали воздух свободы, делая первые шаги по городу. Глубокое доверие, которое оказывалось нам в этом большом городе, согревало сердце. Нас распирало от чувства собственного достоинства. Мы готовы были платить доверием за доверие. Мы чувствовали, что заслужили это доверие. Медленно идем с Матюретом через толпу. Нам хочется побыть среди людей, потолкаться в толпе, смешаться с ней, почувствовать себя ее частью. Заходим в бар и заказываем два пива. Кажется, чего проще – зайти и сказать: «Two beers, please! (Два пива, пожалуйста!)». В конце концов, это так естественно. И все же в нашем положении это кажется чудом, когда миловидная индианка с золотой бусинкой в носу обслужила нас и сказала: «Half a dollar, sir. (Полдоллара, сэр)». Ее белозубая улыбка, ее большие темно-фиолетовые глаза, чуть приподнятые в уголках, ее черные волосы, опускавшиеся до плеч, ее платьице с низким вырезом, из которого едва проступала девственная грудь, и все остальное великолепие пустячным и призрачным могло быть только не для нас! Для нас все это словно выплыло из страны чудес.
«Осторожно, Папи! Слишком быстро ты превращаешься из преступника, приговоренного к пожизненной каторге, в свободного человека! Не верится! Просто не верится!»
За пиво заплатил Матюрет: у него оставалось полдоллара. Пиво было прохладным. Он спросил: «Закажем еще?» Мне показалось, что нам не следовало этого делать.
– Вот что! – сказал я. – Не прошло и часа, а ты уже готов надраться!
– Спокойно, спокойно, Папи. Два пива – и надраться! О чем ты говоришь?
– Может, и так. Но мне, откровенно говоря, кажется, что нам не следует набрасываться на первые удовольствия. Надо приобщаться к ним постепенно. Начнем с того, что и деньги не наши.
– Разумно. Ты прав. Давай привыкать к свободе медленно. Примем это за правило.
Мы вышли из бара и отправились вниз по Уоттерс-стрит – главной улице, протянувшейся через весь город. Нас приятно поразили трамваи, ослики, запряженные в тележки, автомобили, яркая реклама кинотеатров и дансинг-холлов, глаза прелестных девушек, с улыбкой взиравших на нас. Так мы незаметно добрались до гавани. И вот перед нами расцвеченные огнями корабли для туристов со всевозможными экзотическими названиями: «Панама», «Лос-Анджелес», «Бостон», «Квебек», сухогрузы из Гамбурга, Амстердама и Лондона. По всей длине набережной, тесно прижавшись друг к другу, разместились бары, кабаре, рестораны, заполненные женщинами и мужчинами. Все пьют, поют, спорят, кричат. И вдруг я почувствовал непреодолимое желание смешаться с ними, пожить среди них обычной, простой жизнью. На террасе одного из баров подавали устрицы, креветки, мидии, крабов и кальмаров – все дары моря для возбуждения аппетита прохожего. Столики были накрыты скатертями в красно-белую клетку, зазывавшими посетителя присесть и отдохнуть. Бо́льшая часть столиков была занята. И еще были девушки шоколадного цвета с тонким профилем – мулатки, совершенно потерявшие черты негритянской расы; разноцветные блузки с низким вырезом облегали их тела, еще больше способствуя приобщению ко всему, что происходило вокруг.
Я подошел к одной из них, показал банкноту в тысячу франков и спросил на скверном английском:
– Французские деньги, хорошо?
– Да. Я для вас обменяю.
– О’кей!
Она взяла деньги и скрылась в комнате, забитой народом. Затем снова появилась:
– Пройдемте.
Девушка провела меня к разменной стойке, за которой находился китаец.
– Француз?
– Да.
– Меняете тысячу франков?
– Да.
– Все в долларах Вест-Индии?
– Да.
– Паспорт?
– Не имею.
– Удостоверение моряка?
– Не имею.
– Иммиграционные документы?
– Не имею.
– Ну ладно.
Он что-то сказал девушке. Она посмотрела вокруг и подошла к одному типу, смахивавшему на матроса. У него, как и у меня, была фуражка с золотой лентой и якорем. Она подвела его к стойке. Китаец сказал:
– Ваше удостоверение?
– Прошу.
Китаец спокойно выписал квитанцию на размен тысячи франков на имя незнакомого мне человека и попросил его поставить подпись. Затем девушка взяла его под руку и куда-то увела. Он так и не узнал, что же произошло. Я получил двести пятьдесят долларов Вест-Индии. Пятьдесят долларов одной бумажкой, остальные по два доллара. Девушке я дал один доллар. Мы вышли на террасу и уселись за столик. На нем появилось изобилие морских блюд, сдобренных великолепным сухим белым вином.
Тетрадь четвертая Первая попытка (Продолжение)
Тринидад
Наша первая свободная ночь в английском городе все еще стоит у меня перед глазами, словно это было вчера. Мы шли куда глаза глядят, упоенные светом и теплом, с головой окунувшись в эту веселую, смеющуюся, счастливую толпу. В баре полно моряков и тропических девочек, готовых подхватить подгулявших парней и увести с собой. Но ничего грязного и предосудительного не чувствуется в этих девушках, они совсем не похожи на известных женщин из чрева Парижа, Гавра и Марселя. Здесь мы снова сталкиваемся с чем-то не таким. Вместо перегруженных косметикой и отмеченных пороком лиц с алчными и хитрыми глазами ты видишь перед собой создания всех цветов кожи: от желтого китайского до черного африканского, от светло-шоколадных прелестниц с прямыми волосами до индусок или яванок, родители которых сошлись на сахарных плантациях или плантациях какао, и, далее, от девушек китайско-индийского происхождения с золотой бусинкой в носу до девушек индейских кровей с римским профилем и лицом цвета красной меди, украшенным двумя крупными черными глазами с длинными ресницами. До чего хороша их полуобнаженная упругая грудь, направленная вперед, говорящая как бы сама за себя: «Ну посмотрите, полюбуйтесь на меня – до чего я прелестна!» В волосах у каждой девушки свой цветок, отличающийся от других. Все они вместе – это сплошной красочный карнавал любви. К ним невольно тянешься без всякого грязного помысла. Нисколько не чувствуется, что они заняты своим делом, – кажется, они вышли повеселиться и деньги не главное в их жизни.
Как пара мотыльков, захваченных пучком света, мы с Матюретом, ошарашенные, летаем от бара к бару. Только очутившись на какой-то площади, залитой ярким светом, я бросил взгляд на церковную колокольню – часы показывали два. Два часа утра! Быстро! Быстро! Надо спешить. Мы себя ведем совершенно недостойно! У капитана из Армии спасения наверняка сложится о нас невысокое мнение. Надо немедленно возвращаться. Останавливаю такси, оно и отвозит нас по назначению. Два доллара. Я расплачиваюсь, и мы идем в общежитие Армии спасения, сгорая от стыда. Молодая белокурая девушка в форме рядового Армии спасения, лет двадцати пяти, любезно и мило приветствовала нас в холле. Ее, казалось, нисколько не удивило и не обеспокоило наше столь позднее возвращение. Сказав несколько слов по-английски естественным и приятным тоном, она вручила нам ключи от нашей комнаты и пожелала спокойной ночи. Мы легли спать. В чемодане я обнаружил пару пижам. Перед тем как выключить свет, Матюрет заметил:
– Я считаю, нам следует поблагодарить Бога за то, что Он дал нам так много и так быстро. А ты как думаешь, Папи?
– Поблагодари Его за меня. Я полагаю, твой Бог хороший парень. И ты совершенно прав. Он чрезвычайно щедр к нам. Спокойной ночи.
И я выключил свет.
Это воскрешение из мертвых, этот побег с кладбища, на котором меня похоронили, эти эмоции, теснившиеся в груди, эта ночь, проведенная среди людей и вновь воссоединившая меня с жизнью и со всем человечеством, – все это так взволновало, что я долго не мог заснуть. Я закрыл глаза, и снова, как в калейдоскопе, пронеслись передо мной картины, четкие и ясные, но без всякой системы и порядка: суд присяжных, Консьержери, прокаженные, Сен-Мартен-де-Ре, Потрошитель, Жезю, шторм… Похоже, что все пережитое за прошедший год сливается перед глазами памяти в каком-то диком и кошмарном танце. Пытаюсь отмахнуться от наваждений – ничего не выходит. Но самое странное и необъяснимое – это то, что картины смешались с визгом свиней, криком фазана, завыванием ветра и шумом дробящихся волн. И все это обволакивается звуками однострунных скрипок, игру которых мы только что слышали в барах.
Наконец, ближе к рассвету, я уснул. Около десяти утра в дверь постучали. Вошел мистер Боуэн, улыбаясь:
– Доброе утро, друзья. Все еще в постели? Должно быть, поздно вернулись. Как провели время?
– Доброе утро. Да, вчера припозднились. Простите великодушно.
– Полно, полно, пустяки. Это вполне естественно, если учитывать то, что вы перенесли. Наивно было бы полагать, что первую ночь на свободе можно провести иначе. Я пришел за вами, чтобы вместе пройти в полицейский участок. Вы должны сделать заявление о нелегальном въезде в страну. По окончании формальностей мы навестим вашего приятеля. Ему сегодня утром сделали рентген. Результат будет позже.
Мы быстро помылись и спустились вниз, где нас ожидали мистер Боуэн и капитан Армии спасения.
– Доброе утро, друзья, – сказал капитан на плохом французском.
– Доброе утро.
Женщина – офицер Армии спасения спросила:
– Вам понравился Порт-оф-Спейн?
– Да, мадам. Мы просто очарованы.
Выпив по чашке кофе, мы направились в полицейский участок. Шли пешком, поскольку до участка было не более двухсот метров. Полицейские нас приветствовали, не обратив особого внимания. Пройдя мимо двух часовых, чернокожих парней в форме цвета хаки, мы вошли в офис, внушительный по размерам, но скромно обставленный. Навстречу из-за стола поднялся офицер лет пятидесяти в шортах и рубашке с галстуком. На форме блестели значки и медали. Обращаясь к нам по-французски, он сказал:
– Доброе утро. Садитесь. Хочу немного поговорить, перед тем как принять от вас официальное заявление. Сколько вам лет?
– Двадцать шесть и девятнадцать.
– За что судили?
– За непреднамеренное убийство.
– Какой приговор?
– Исправительная колония, пожизненные каторжные работы.
– Значит, за умышленное, а не просто убийство?
– Нет, месье, в моем случае непреднамеренное.
– А я за умышленное, но мне тогда было семнадцать лет, – сказал Матюрет.
– В семнадцать лет уже знаешь, что делаешь, – сказал офицер. – В Англии, за доказанностью вины, вас бы повесили. Это так. Но британские власти здесь не для того, чтобы судить о французской исправительной системе. Единственное, с чем мы не можем согласиться, так это с выдачей преступников Французской Гвиане. Мы считаем, что это бесчеловечное наказание и совершенно не достойное такой цивилизованной нации, как французы. К сожалению, вы не можете оставаться на Тринидаде или на каких-либо других английских островах. Это невозможно. Поэтому я вас прошу вести с нами честную игру и не пытаться задерживаться под разными благовидными предлогами, как то: болезнь или что-то в этом роде. Вы можете совершенно свободно оставаться здесь, в Порт-оф-Спейне, на срок от пятнадцати до восемнадцати дней. У вас прекрасная лодка. Я распоряжусь, чтобы ее перевели в гавань. Если требуется какой-то ремонт, наши корабельные плотники из военно-морских сил все сделают для вас. При отбытии вы будете обеспечены провизией. Вам дадут хороший компас и карту. Надеюсь, вас примут южноамериканские страны. Не ходите в Венесуэлу. Там вас арестуют, заставят работать на строительстве дорог, а затем выдадут французским властям. Нельзя человека считать потерянным навсегда, если он однажды оступился. Вы молодые и здоровые парни, и, кажется, у вас достаточно здравого смысла. Думаю, вы не позволите себе так просто сломаться. Пройти такой путь и еще наделать глупостей – не стоит того! Буду рад, если мне удастся помочь вам занять ответственную и здравую позицию. Желаю удачи. Если будут трудности, позвоните по этому телефону. Вам ответят по-французски.
Он позвонил в колокольчик, и за нами пришел человек, одетый в цивильное. Мы заполнили декларацию в большой комнате, где несколько полицейских и гражданских сидели за пишущими машинками.
– Почему вы приехали на Тринидад?
– Поправить здоровье.
– Откуда прибыли?
– Из Французской Гвианы.
– Во время побега вы совершили какое-либо преступление? Убили кого-нибудь или нанесли серьезные увечья?
– Никого серьезно не изувечили.
– Откуда вы знаете?
– Об этом нам сказали перед отплытием.
– Ваш возраст, к какому наказанию приговорил вас французский суд?..
И так далее.
– Джентльмены, вам предоставляется право оставаться здесь на отдыхе в течение пятнадцати-восемнадцати дней. Вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Если поменяете отель, дайте нам знать. Я сержант Вилли. Вот моя визитная карточка, на ней два телефона: домашний и служебный. Если что случится и вам потребуется помощь, немедленно звоните. Мы вам доверяем. Уверен, вы будете вести себя хорошо.
Через некоторое время мистер Боуэн отвез нас в клинику. Клузио обрадовался, увидев нас. Мы ему ничего не сказали о нашем ночном приключении в городе. Только сообщили, что нам не запрещают ходить там, где захотим. Он настолько удивился, что спросил:
– Даже без сопровождения?
– Даже так.
– Ну и дают эти ростбифы.
Боуэн ушел за доктором и возвратился с ним. Врач обратился к Клузио:
– Кто выправлял вам перелом, прежде чем наложить шину?
– Я и еще один парень, которого здесь нет, – ответил я.
– Вы сделали все очень хорошо. Нет необходимости снова ломать ногу. Сломанная малая берцовая кость прекрасно встала на место. Мы наложим гипс и усилим его железной пластинкой, чтобы вы могли немного походить. Останетесь здесь или пойдете с друзьями?
– Пойду с ними.
– Хорошо. Завтра вы к ним присоединитесь.
Мы рассыпались в благодарностях. Мистер Боуэн и врач ушли, а мы провели все утро и часть дня с Клузио. На следующий день мы бурно радовались, что снова оказались вместе – все трое в комнате нашего общежития. Окно открыто настежь. Вовсю работают вентиляторы и гонят прохладный воздух. Мы поздравили друг друга с тем, что неплохо выглядим и что новая одежда нам к лицу. Разговор начал клониться к прошлым событиям, поэтому я сказал:
– Давайте забудем прошлое. Чем скорее, тем лучше. Сосредоточимся на настоящем и будущем. Куда пойдем? В Колумбию? Панаму? Коста-Рику? Надо расспросить Боуэна о странах, где нас могут принять.
Я искал мистера Боуэна в его конторе – не нашел. Позвонил ему домой в Сан-Фернандо, к телефону подошла дочь. Мы обменялись несколькими любезными словами. Затем она сказала:
– Месье Анри, у Рыбного рынка рядом с вашим общежитием стоянка автобусов до Сан-Фернандо. Почему бы вам не приехать сюда и не провести день вместе с нами? Приезжайте, я вас жду.
И вот мы все трое на пути в Сан-Фернандо. Клузио особенно был хорош в своей полувоенной форме табачного цвета.
Мы были вновь глубоко тронуты встречей в доме, где нас и первый раз принимали с такой теплотой. Нам показалось, что и женщинам передалось наше волнение, так как они почти одновременно сказали, приветствуя нас:
– А вот и вы! Снова дома, дорогие друзья. Усаживайтесь, пожалуйста, поудобнее.
Но теперь при обращении к каждому из нас они опускали слово «месье» и говорили просто:
– Анри, передайте сахар, пожалуйста. Андре (это Матюрет), не хотите ли еще немного пудинга?
Миссис и мисс Боуэн, я очень надеюсь, что Господь воздаст вам за вашу великую доброту. И ваши благородные сердца, доставившие нам столько радости, никогда не узнают ничего такого, что могло бы огорчить вас и лишить безмятежного счастья.
Мы развернули на столе карту и устроили совет. Расстояния огромные: до Санта-Марты, ближайшего порта в Колумбии, тысяча двести километров; две тысячи сто до Панамы; две тысячи пятьсот до Коста-Рики. Вернулся мистер Боуэн.
– Я обзвонил все консульства, для вас есть интересная информация. Вы можете остановиться на несколько дней на Кюрасао. Колумбия не имеет установленных правил в отношении бежавших заключенных. Как сказал мне консул, ему не известны случаи, когда до Колумбии кто-либо добирался морем. То же можно сказать о Панаме и других местах.
– А я придумала для вас безопасное местечко, – сказала Маргарет, дочь мистера Боуэна. – Только очень далеко – три тысячи километров по крайней мере.
– Где это? – спросил отец.
– Британский Гондурас. Там губернатором мой крестный.
Я посмотрел на приятелей и сказал:
– Все на борт. Идем в Британский Гондурас.
Это было английское владение между Республикой Гондурас на юге и Мексикой на севере. С помощью Маргарет и ее матери мы принялись за разработку маршрута. Первый этап: Тринидад – Кюрасао, тысяча километров; второй этап: Кюрасао – какой-нибудь остров на пути; и третий: Британский Гондурас.
Никогда не знаешь, что может случиться в море. Поэтому мы решили к тем запасам провизии, которые нам предоставит полиция, добавить ящик с неприкосновенным запасом консервированных продуктов: мясо, овощи, джем, рыба и прочее. Маргарет заметила, что «Супермаркет Сальватори» с удовольствием нам сделает такой подарок.
– А если нет, – добавила она просто, – я и мама купим для вас сами.
– Но, мадемуазель?!
– Молчите, Анри.
– Нет, это совершенно невозможно. У нас есть деньги, и мы не имеем права злоупотреблять вашей добротой там, где можем расплатиться сами. Ни в коем случае.
Нашу лодку перевели в Порт-оф-Спейн. Теперь она стояла на плаву в доке королевского военно-морского флота. Мы простились со своими новыми друзьями, обещая повидаться перед отплытием. Ровно в одиннадцать часов вечера мы отправлялись на прогулку. Усаживали Клузио на скамейке в каком-нибудь великолепном сквере, и один оставался с ним, а другой шел бродить по городу. Так мы делали с Матюретом по очереди. Десять дней, как мы на Тринидаде. Благодаря железной пластинке в гипсовом бандаже Клузио может ходить самостоятельно без всякого труда. Мы научились добираться на трамвае до гавани. Ездили туда часто: и днем, и вечером. Нас уже хорошо знают и принимают запросто в некоторых барах. Постовые полицейские козыряют нам: каждый знает, откуда мы появились и что из себя представляем, но ни одного намека на этот счет. Мы заметили, что в барах, в которых нас уже знали, за еду и питье с нас берут меньше, чем с матросов. Так же с нами поступали и «девочки». Короче говоря, подсаживаясь к столикам моряков, офицеров или туристов, они пили беспрерывно и делали все, чтобы клиенты потратили как можно больше. В барах они отвечали на приглашение потанцевать только тем, кто предварительно их хорошо угостил. Но с нами они вели себя по-другому. К нам они подсаживались ненадолго, и всегда приходилось их долго упрашивать немного выпить. И даже в этом случае, если вообще соглашались, они не пользовались общеизвестным приемом: «Разве что по маленькому стаканчику», а заказывали немного пива или рюмку виски с содовой. Все это нам было очень приятно, поскольку косвенно они нам как бы говорили, что знают о нашем затруднительном положении, очень нам сочувствуют и поддерживают нас.
Нашу лодку покрасили и нарастили борта на десять сантиметров. Укрепили киль. Шпангоуты не пострадали, и лодка находилась в прекрасном мореходном состоянии. Мачту заменили на более длинную и легкую. Мешковину с кливера и косого паруса заменили хорошей парусиной цвета охры. Капитан с военно-морской базы снабдил меня настоящим морским компасом и картой. Показал, как с помощью карты и компаса можно грубо определить местонахождение в море. На карте был вычерчен маршрут до Кюрасао – норд-вест.
Капитан представил меня командиру учебного корабля «Тарпон», который с подчеркнутой вежливостью попросил меня выйти завтра в восемь утра на лодке за акваторию гавани. Я не понял значения этого приглашения, но обещал сделать непременно. На следующий день в назначенное время я уже был на базе вместе с Матюретом. С нами в лодку сел один матрос, и мы вышли в море при хорошем ветре. Через два часа, когда мы совершали маневры с выходом и заходом в акваторию порта, появился военный корабль. На палубе выстроились офицеры и команда, все в белой форме. Они прошли мимо нас с криками «ура!». Потом развернулись и проделали то же самое, при этом дважды приспускали вымпел. Это было официальное приветствие, значение которого до меня не совсем доходило. Мы вернулись на базу, где военный корабль был уже пришвартован к пирсу. Мы причалили лодку к набережной. Матрос сделал нам знак следовать за ним.
Мы поднялись на борт военного корабля, наверху у сходней нас приветствовал командир. Прозвучал сигнал боцманской дудки. После представления старшим офицерам нас провели перед строем курсантов и младших офицеров, стоявших по стойке смирно. Капитан сказал несколько слов по-английски, и затем строй рассыпался после команды «разойдись!». Молодой офицер объяснил нам, что капитан сказал курсантам, что мы заслуживаем всяческого уважения за проделанный долгий и опасный переход в такой маленькой лодке. Он сказал им также, что нас ожидает еще более длительное и опасное плавание. Мы поблагодарили командира за оказанную нам честь. Он подарил нам три дождевых флотских плаща с капюшоном и застежкой-молнией. Прекрасный подарок, столь необходимый в морских путешествиях! Плащи были черные, молнии длинные, а капюшоны удобные.
За два дня до отъезда нас навестил мистер Боуэн и передал послание от старшего офицера полиции, в котором нам предлагалось взять с собой трех высланных, подобранных полицией неделю назад. Эту троицу высадили на острове, в то время как их напарники, по их словам, отправились дальше в Венесуэлу.
Идея мне не понравилась, но я не мог так просто отказать властям взять на борт еще трех человек. С нами обращались учтиво и вежливо, поэтому не хотелось хамить прямо с порога. Я попросил разрешения прежде всего познакомиться с теми, кого собирался брать с собой. И только после этого соглашался дать ответ. За мной прислали полицейскую машину. Я прошел в кабинет старшего офицера полиции. Это был именно тот человек, который принимал нас в полицейском участке. Сержант Вилли выполнял роль переводчика.
– Как поживаете?
– Спасибо, нам бы хотелось, чтобы вы оказали нам услугу.
– С удовольствием, если смогу.
– У нас содержатся три высланных француза. Они проникли на остров нелегально и пребывают здесь уже несколько недель. Они уверяют, что приятели высадили их на Тринидаде, а сами отправились дальше. Мы понимаем, что это трюк, цель которого – вынудить нас предоставить им другую лодку. Мы обязаны удалить их с острова, и я, к большому сожалению, буду вынужден передать их в руки представителя властей с первого французского судна, которое зайдет в наш порт.
– Видите ли, месье, я постараюсь сделать все от меня зависящее. Но мне сначала хотелось бы с ними переговорить. Вы сами понимаете, на какой риск я иду, соглашаясь взять на борт трех человек, которых я совсем не знаю. Вы меня понимаете?
– Разумеется. Вилли, распорядитесь доставить этих троих.
Я хотел поговорить с ними наедине и попросил сержанта предоставить мне такую возможность.
– Вас выслали?
– Нет, мы каторжники.
– Зачем вы говорили неправду?
– Нам казалось, что будет лучше взять на себя вину за менее тяжкие преступления. Теперь мы видим, что ошиблись. Но что делать? А ты кто такой?
– Каторжник.
– Мы тебя не знаем.
– Я прибыл с последним конвоем. А вы когда?
– В тысяча девятьсот двадцать девятом году, – сказали двое.
– А я в тысяча девятьсот двадцать седьмом, – добавил третий.
– Послушайте! Старший офицер попросил меня взять вас с собой в лодку. А нас самих трое. Он предупредил меня также, что если я вас не возьму и среди вас нет человека, способного управлять лодкой, то он передаст вас на первое французское судно. Что вы на это скажете?
– В наши планы не входит снова отправляться в море. Мы можем притвориться, что уходим с вами, и вы нас высадите где-нибудь в конце острова, а сами пойдете дальше.
– Я не могу это сделать.
– Почему?
– Потому что к нам здесь относились слишком хорошо, и я не могу на все хорошее ответить подлостью.
– Послушай, брат, мне кажется, тебе следует ставить на первое место каторжника, а потом ростбиф.
– Почему?
– Потому что ты сам каторжник.
– Да. Но ведь так много всяких каторжников, что поди узнай, где больше разницы – между мной и тобой как каторжниками или мной и ростбифом? Все зависит от того, как на это посмотреть.
– Ты хочешь, чтобы нас передали французским властям?
– Нет. Но я также не хочу высаживать вас на берег раньше Кюрасао.
– У меня не хватит мужества начинать все сызнова, – сказал один из них.
– Послушайте, сначала взгляните на мою лодку. Может, та, на которой вы пришли, была никуда не годной?
– Верно. Давайте посмотрим, – согласились двое других.
– Договорились. Я попрошу старшего офицера разрешить нам всем посмотреть лодку.
Вместе с сержантом Вилли мы отправились в гавань. Когда они осмотрели лодку, то мне показалось, что все трое обрели бо́льшую уверенность.
Снова в путь
Через два дня мы и трое незнакомцев покидали Тринидад. Не знаю, каким образом это стало известно, но нас пришла провожать целая дюжина девчонок из баров. Была здесь и семья Боуэн с капитаном из Армии спасения. Когда одна из девушек меня поцеловала, мисс Маргарет рассмеялась и сказала:
– Анри, вы уже помолвлены? Быстро это у вас получается.
– Прощайте все! Нет, лучше до свидания! Позвольте мне сказать, вы навсегда остались в наших сердцах. Мы вас никогда не забудем.
В четыре пополудни нас подцепили к буксиру. Быстро вышли из гавани, но еще долго, смахивая слезы, смотрели мы на людей, которые пришли нас проводить и попрощаться с нами. Они долго махали нам вслед белыми платками. Отцепившись от буксира, мы подняли все паруса и направились навстречу первой волне. Сколько их впереди – и не пересчитать. Когда-то придет конец нашему плаванию!
На борту два ножа: у меня и у Матюрета. Топор у Клузио, у него есть еще и мачете. Мы были убеждены, что остальные не имеют при себе оружия. Тем не менее условились, что спать из нас может кто-то один, двое будут начеку. Ближе к закату солнца к нам подошел учебный корабль. Он сопровождал нас полчаса, затем, приспустив вымпел, отвалил в сторону.
– Как тебя зовут?
– Леблон.
– Конвой?
– Тысяча девятьсот двадцать седьмой год.
– Сколько дали?
– Двадцать.
– А ты?
– Каргере, конвой тысяча девятьсот двадцать девятого года. Пятнадцать лет. Я бретонец.
– Бретонец, и не можешь управлять лодкой?
– Да, это так.
– Меня зовут Дюфис, – сказал третий. – Я из Анжера. Дали пожизненный срок за шуточку, которую я отмочил на суде. А так – корячилась высылка на десять лет. Конвой тысяча девятьсот двадцать девятого года.
– Что же это была за шуточка?
– Видишь ли, я убил свою жену утюгом. Во время процесса один из присяжных спросил меня, почему утюгом. Я не знаю, что на меня нашло, но я ему ответил, что воспользовался утюгом, когда потребовалось ее хорошенько отутюжить. Мой адвокат мне потом говорил, что из-за этой дурацкой выходки мне и прописали полную дозу.
– Откуда вы бежали?
– Из лагеря лесорубов «Каскад». В восьмидесяти километрах от Сен-Лорана. Оттуда нетрудно было удрать – там не так строго. Мы просто вышли впятером – проще пареной репы.
– Впятером? А где двое?
Наступила неловкая тишина. Вмешался Клузио:
– Парень, здесь все напрямую. А поскольку мы вместе, мы тоже должны знать. Говори.
– Будь по-вашему. Я расскажу, – начал бретонец. – Верно, поначалу нас было пятеро. Те двое, которых сейчас нет с нами, оказались рыбаками из Канна. Они ничего не заплатили за побег, убедив нас, что их работа в лодке будет стоить подороже денег. А в пути мы поняли, что это за люди. По сути, никто из них и моря-то толком не нюхал. Раз двадцать мы оказывались на краю гибели. Просто удивительно, что не утонули. Мы пробирались вдоль берега сначала Голландской, затем Британской Гвианы и наконец добрались до Тринидада. Между Джорджтауном и Тринидадом я убил одного из них: никого не спрашивая, он объявил себя нашим вожаком. Парень заплатил за все: мало того что не внес ни гроша в общее дело, да еще и врал всю дорогу, что он хороший моряк. Второй испугался, что мы его тоже прикончим, и, воспользовавшись порывом ветра, выбросился в море вместе с румпелем. Мы едва справились с лодкой. Нас заливало несколько раз, и в конце концов лодку разбило о скалы. Просто чудо, что мы остались живы. Даю мое честное слово: все, что я сказал, – чистая правда.
– Это правда, – подтвердили двое его спутников. – Именно так и произошло. Мы втроем договорились его убить. Что скажешь на это, Папийон?
– Не мне вас судить.
– Нет, а что бы ты сделал на нашем месте? – настаивал бретонец.
– Надо обмозговать. Думаю, что жизнь нам дана для того, чтобы разобраться, что можно делать, а чего нельзя. А иначе как узнать, где правда?
– Я бы тоже убил его, – сказал Клузио. – Эта ложь могла бы стать причиной смерти и остальных.
– Ладно. Выбросим это из головы. Но у меня есть подозрение, что вы все чего-то боитесь. Вы и сейчас боитесь. И пошли с нами потому, что не было выбора. Разве не так?
– Именно так, – ответили они все разом.
– Вот что, ребята. Что бы ни случилось – давайте без паники. Что бы ни происходило – не выдавайте своего страха. А если кто струсил – не подавай вида и не ори. Это хорошая лодка; она уже себя показала в деле. Правда, груз в ней сейчас потяжелее, чем прежде. Но ее и нарастили по бортам на десять сантиметров, а это куда больше, чем нужно.
Закурили. Выпили кофе. Перед выходом из порта мы плотно поели, а поэтому решили до следующего утра о пище не заикаться.
На календаре 9 декабря 1933 года. Сорок два дня после побега. Об этом известил нас Клузио, учетчик всей нашей честно́й компании. Я обзавелся тремя ценными в походе вещами, которых недоставало поначалу: водонепроницаемые часы в стальном корпусе, купленные на Тринидаде, прекрасный настоящий компас на карданном подвесе и защитные очки. Клузио и Матюрет приобрели фуражки.
Три дня прошли без особых приключений, если не считать двух встреч со стаями дельфинов. Вот уж пришлось поволноваться, когда восьмерка дельфинов затеяла игры с нашей лодкой. Кровь стыла в жилах от того, что они вытворяли. Сначала подныривали под корму и выскакивали перед носом. Иногда один из них мягко задевал лодку. А на следующий номер без дрожи в коленках и вовсе нельзя было смотреть. Три дельфина брали нас в треугольник, выстраиваясь спереди и по бокам, затем со страшной скоростью, вспарывая воду, устремлялись к нам, на волосок от лодки ныряли под нее и выскакивали, как свечка, справа, слева и за кормой. И хотя при хорошем ветре скорость лодки была порядочной, дельфины, словно играючи, плыли рядом и обгоняли нас. Забавы продолжались часами, и это было ужасно. Малейшая ошибка с их стороны, и они бы нас перевернули. Новички сидели молча, но вы бы посмотрели на их несчастные физиономии!
В полночь на четвертые сутки разразился страшнейший шторм. Это было действительно нечто ужасающее. Но самое страшное было то, что волны не следовали друг за другом в каком-то одном направлении. Они произвольно, то чаще, то реже, сшибались и разбивались друг о друга. Некоторые были длинные и высокие, а другие зыбистые – в общем, ничего нельзя было понять. Никто не проронил ни слова, кроме Клузио, время от времени выкрикивавшего:
– Так держать! Вот она – делай так же! Берегись сзади!
И что любопытно: иногда волны надвигались на три четверти борта, грохоча и покрываясь пеной. Прекрасно: времени достаточно для определения их скорости и выбора встречного угла. Но тут неожиданно, без видимых причин, волна с грохотом нависала прямо над кормой. Много раз волны разбивались над головой, и, конечно же, много воды попадало в лодку. Пять человек непрерывно вычерпывали ее банками и кастрюлями. Мне удавалось уберечь лодку от заполнения водой больше чем на четверть, поэтому не было реальной опасности, что мы можем затонуть. Эта кутерьма продолжалась всю ночь до утра. Из-за дождя вплоть до восьми часов мы не видели солнца.
Большая радость увидеть солнце после шторма. Оно засияло над нами во всей своей красоте и величии. Прежде всего – кофе. Обжигающий кофе со сгущенным молоком и галетами. Галеты твердые, как камень, но обмакнешь их в кофе – лучше не придумать. Ночная борьба со штормом измотала меня донельзя, и, хотя дул еще сильный ветер и море было неспокойно, я попросил Матюрета сесть за руль. Мне надо было поспать. Не прошло и десяти минут, как Матюрет неудачно встретил волну и лодка на три четверти заполнилась водой. Все в ней всплыло: банки, печка, одеяла – уйма всего. Я добрался до руля по пояс в воде – и как раз вовремя! Очередная волна готова была обрушиться на нас. Резким движением румпеля я подставил ей корму: море нас пощадило, но бросило лодку так, что она пролетела вперед на добрых десять метров.
Воду вычерпывали все. Матюрет с помощью большой кастрюли за один раз выливал за борт литров пятнадцать, если не больше. Никто не пытался что-либо спасать, у всех была одна мысль – поскорей откачать воду: из-за нее лодка была тяжелой и не могла бороться с морем. Должен признаться, новички вели себя хорошо. Когда у бретонца вырвало из рук банку, он не придумал ничего лучшего, как еще более облегчить лодку: схватил бочонок с водой и выбросил его за борт. Через два часа в лодке было сухо, но мы лишились одеял, примуса, печки, топившейся древесным углем, и самого угля, бутыли с керосином и бочонка с водой – последнего, между прочим.
В полдень я собрался переодеться в новую пару брюк и тут обнаружил, что мой небольшой чемоданчик с двумя флотскими плащами из трех тоже унесло в море. Но две бутылки с ромом остались целы на дне лодки. Табак тоже уплыл, оставшаяся часть оказалась крепко подмоченной. В основном пропали банки с листовым табаком. Я сказал:
– Братья, для начала давайте выпьем. Затем вскроем неприкосновенный запас и посмотрим, на что нам рассчитывать. Вот фруктовый сок – прекрасно. Питье будем выдавать по норме. Несколько банок с галетами. Давайте освободим одну и сделаем из нее печку. Другие банки сдвинем вместе на дне лодки, чтобы можно было на них разжечь огонь. Этот ящик пойдет на дрова. Что говорить, мы все порядком перетрусили. Но беда миновала, и не будем вешать носа. С этой минуты никто не должен говорить: «Я хочу пить, я голоден, я хочу закурить». О’кей?
– О’кей, Папи.
Все вели себя прекрасно. Словно само Провидение смилостивилось над нами: ветер стих, море успокоилось. А мы сварили себе суп из консервированной говядины и изрядно подкрепились, съев по миске этой похлебки, накрошив еще туда галет. Терпеть можно до следующего утра. Заварили немного зеленого чая и разделили поровну. В неразбившейся коробке нашли блок сигарет. Пачки были маленькие – по восемь сигарет в каждой. Всего двадцать четыре пачки. Все решили, что курить буду я один, чтобы не уснуть. Без всякой обиды. Клузио отказался прикуривать для меня сигареты. Он передал мне спички. Такая дружественная атмосфера на борту способствовала избежанию всяческих неприятностей.
Идем уже шесть суток, а я так и не смог поспать. Но в этот день мне удалось выспаться. На море установился глубокий штиль – вода словно стекло. Спал безмятежно целых пять часов. Проснулся в десять вечера. Штиль продолжается. Все уже поужинали без меня. Им удалось сварить кукурузную кашу – из консервов, конечно. Я съел кашу и несколько сосисок. Показалось очень вкусно. Чай уже остыл, но это не имело никакого значения. Я закурил и стал поджидать ветра.
Ночь была удивительно звездной. Полярная звезда сверкала вовсю, и только Южный Крест превосходил ее своим великолепием. Особенно выделялись Большая и Малая Медведицы. Ни облачка. В звездном небе изумительное полнолуние. Бретонец дрожал от холода. Он потерял куртку и оставался в одной рубашке. Я протянул ему уцелевший флотский плащ.
Начинался день седьмой.
– Друзья, мы недалеко от Кюрасао. Я подозреваю, что немного отклонился на север, теперь я пойду строго на запад. Нам нельзя пройти мимо Голландской Вест-Индии. Что меня беспокоит: у нас нет пресной воды и пищи, за исключением небольшого запаса.
– Мы отдаем все тебе, Папийон, – сказал бретонец.
– Бери, Папийон, – добавили остальные. – Тебе лучше знать, что делать.
– Спасибо.
Откровенность всем облегчила душу. Всю ночь не было ветра, и только к четырем утра подул бриз, и лодка снова пришла в движение. Ветер все крепчал и крепчал до самого полудня. Тридцать шесть часов подряд он нес нашу лодку с приличной скоростью. Но волны были настолько мягкими и ласковыми, что нас даже не качало.
Кюрасао
Чайки. Первые крики чаек. Еще темно. Но вот они сами уже закружили над лодкой. Одна чайка села на мачту, поднялась на крыло и снова села. Эти полеты над нами и вокруг нас продолжались более трех часов. Вплоть до рассвета. Над горизонтом поднималось горячее солнце. Но никаких признаков земли. Откуда же появились эти чайки и все прочие морские птицы? Шарили глазами вокруг, высматривали целый день – все напрасно. Нет даже маленького намека на землю. Солнце еще полностью не закатилось, а уже взошла луна. Яркий свет луны в тропиках режет глаза. У меня нет больше защитных очков – их смыла та памятная мне волна вместе с нашими фуражками. Около восьми часов вечера вдалеке при лунном свете мы разглядели на горизонте темную полоску.
– Земля, – произнес я первым.
– Да, земля.
Словом, все согласились, что видят темную линию – это не что иное, как земля. Всю ночь я держал нос лодки по направлению к этой тени. Она росла и очерчивалась все яснее. Мы приближались к земле. На небе по-прежнему ни облачка, крепкий ветер, высокие волны, бегущие друг за другом в строгом интервале, идем быстро, на всех парусах. Темный массив суши не выступает высоко над водой, нельзя распознать, что из себя представляет побережье: утесы, скалы или пологий пляж. Луна садилась за дальним краем земли, отбрасывая тень, которая мешала разглядеть что-либо, за исключением линии огней на уровне моря, сначала сплошной, а потом прерывистой. Мы подходили все ближе и ближе, но когда до берега оставался километр, бросили якорь. Сильно подул ветер, лодку качало и разворачивало носом навстречу волне. Ее все время швыряло и крутило, и поэтому мы чувствовали себя неуютно. Разумеется, мы спустили и свернули паруса. Так и ждали бы мы до наступления следующего дня в этом неприятном, но безопасном месте, если бы внезапно не почувствовали, что якорь перестал держать. Чтобы управлять лодкой, ее надо привести в движение. Мы подняли кливер и косой парус, но произошло нечто странное: якорь не цеплялся за грунт. Мы стали вытаскивать на борт канат – якоря на конце не оказалось: его сорвало. Несмотря на все мои старания противодействовать волнам, они продолжали гнать нас самым причудливым образом на скалистый участок земли. Я решил поднять главный парус, чтобы целенаправленно и быстро выскочить на берег. Этот маневр я провел довольно успешно. Лодка с ходу вклинилась между двумя скалами и разбилась вдребезги. Никто не кричал и не паниковал. Накатившаяся следом волна выбросила всех нас на берег. Потрясенные, оглушенные, промокшие, но живые. Больше других досталось Клузио с его ногой в гипсе. Его лицо и руки были сильно исцарапаны. Остальные отделались шишками и ссадинами на коленях и руках. Меня немного прижало к скале ухом, и с него теперь капала кровь.
И все-таки вот мы, живые, на сухой земле, вне досягаемости волн. Когда занялся день, ребята подобрали плащ, а я перевернул лодку – она разваливалась на глазах. Выдрал компас из кормовых досок. Вокруг ни души, только выше – линии огней. Как довелось узнать после, огни предупреждали рыбаков об опасности на этом участке. Направились от берега вглубь суши; ничего не видно, кроме кактусов, огромных кактусов, да пасущихся ослов. Совершенно обессиленные, достигли колодца. Клузио по очереди пришлось нести на руках. Двое из нас скрещивали руки наподобие стула и усаживали Клузио. Вокруг колодца валялись высохшие туши коз и ослов. Колодец оказался пустым, а ветряк, когда-то качавший из него воду, крутился вхолостую. Ни души, только козы да ослы.
Пошли к небольшому дому, открытые двери которого приглашали нас войти. Мы стали кричать: «Эй, есть кто-нибудь живой?!» Никого. На каминной полке – холщовый мешок, перевязанный тесемкой. Я взял мешок и стал развязывать. Тесемка лопнула. Внутри мешка оказались деньги – голландские флорины, значит мы на голландской территории: Бонайре, Кюрасао или Аруба. Мы ничего не тронули в мешке, а положили его на место. Нашли воду и по очереди напились из ковша. Ни в доме, ни рядом никого не оказалось. Мы вышли и медленно отправились дальше, неся на руках Клузио, как вдруг подъехал старенький «форд» и перегородил нам дорогу.
– Вы французы?
– Да, месье.
– Садитесь в машину.
Трое сели сзади. Им на колени посадили Клузио. Я и Матюрет сели рядом с шофером.
– Вы потерпели крушение?
– Да.
– Кто-нибудь утонул?
– Нет.
– Откуда вы?
– С Тринидада.
– А до Тринидада?
– Французская Гвиана.
– Каторжники или высланные?
– Каторжники.
– Я доктор Нааль, владелец этой земли; данный полуостров – продолжение Кюрасао. Его называют Ослиный остров. Здесь обитают козы и ослы. Кормятся кактусами, несмотря на длинные колючки, которые прозвали здесь «барышни с Кюрасао».
– Это не очень лестное сравнение для настоящих дам с Кюрасао, – сказал я.
Крупное, грузное тело доктора заколыхалось от хохота. Потрепанный «форд» зачихал и остановился сам по себе. Я указал на стадо ослов и заметил:
– Если машина не справляется, давайте запряжем их и поедем.
– Упряжка имеется и лежит в багажнике. Но трудно поймать хотя бы пару, еще труднее запрячь.
Толстяк открыл капот и увидел, что от большого крена распределительный провод отсоединился от свечи. Прежде чем снова сесть за руль, он беспокойно огляделся вокруг. Чувствовалось, он встревожен. Поехали дальше. Дорога была разбита. Нас подбрасывало на ухабах. Но вот мы подъехали к полосатому шлагбауму и остановились. Рядом стоял небольшой белый дом. Нааль переговорил по-голландски с опрятно одетым и довольно светлокожим негром, который то и дело повторял: «Да, хозяин. Да, хозяин». Затем Нааль обратился к нам:
– Я дал этому человеку распоряжение: он останется с вами до моего возвращения, а я привезу вам пить, если хотите. Вылезайте, ребята.
Мы вышли из машины и уселись на траву в тени. Видавший виды «форд» затарахтел и умчался прочь. Не отъехал он и пятидесяти метров, как негр подошел к нам и на диалекте Голландской Вест-Индии, представляющем собой смесь английских, голландских, французских и испанских слов, рассказал нам, что его хозяин, доктор Нааль, поехал за полицией, потому что очень нас боится. А ему, своему слуге, посоветовал тоже поостеречься, поскольку мы беглые воры. Бедняга не знал, чем нам только угодить. Он приготовил кофе, слабенький правда, но, поскольку было очень жарко, этот кофе нас несколько взбодрил. Ждали больше часа, и вот наконец появилась крытая машина, наподобие «черного ворона», в ней сидели шесть полицейских, одетых в форму немецкого образца. За ней следовал открытый пикап, за рулем тоже полицейский и с ним три господина, среди них – доктор Нааль.
Все вышли из машин, и один из них, самый низкорослый, похожий на новоиспеченного священника, сказал нам:
– Я старший инспектор полиции, ответственный за безопасность Кюрасао. Мое положение обязывает меня взять вас под стражу. Совершили вы какие-либо преступления по прибытии на остров? Если да, то какие? И кто именно?
– Месье, мы бежим из заключения. Прибыли с Тринидада, и только несколько часов назад наша лодка разбилась здесь о скалы. Я капитан этой небольшой команды и хочу вас заверить, что никто из нас не совершил ни малейшего преступления.
Старший инспектор повернулся к доктору Наалю и стал говорить с ним по-голландски. Они еще продолжали разговор, когда к нам подъехал какой-то малый на велосипеде. Было видно, что он спешил сюда. Стал говорить громко и быстро, обращаясь то к доктору Наалю, то к инспектору.
– Месье Нааль, – спросил я, – почему вы сказали этому человеку, что мы воры?
– Потому что, перед тем как вас встретить, этот парень сказал мне, что наблюдал за вами из-за кактусов. Он видел, как вы вошли в его дом и вышли. Он мой служащий и присматривает за ослами.
– Значит, так: мы вошли в дом и поэтому мы воры? Получается какая-то бессмыслица, месье. Все, что мы сделали, это выпили воды. Вы именно это называете воровством? Я вас так понял?
– А как насчет мешочка с флоринами?
– Да, я вскрыл мешок и даже оборвал тесемку. Но все, что я сделал, так это посмотрел, какие деньги там лежат. Нам было важно узнать, в какую страну мы попали. Мы положили мешок с монетами на прежнее место – на каминную полку.
Старший инспектор смотрел мне прямо в глаза, потом повернулся к типу на велосипеде и стал ему строго выговаривать. Доктор Нааль пытался вставить слово, но инспектор резко, в немецкой манере, его оборвал. Затем он велел велосипедисту сесть в пикап рядом с шофером, сел сам и с ним двое полицейских, и все куда-то отправились. Нааль и еще один человек, прибывший с ним, пошли вместе с нами в дом.
– Я должен вам объяснить, – заявил Нааль, – тот человек сказал мне, что мешок исчез. Прежде чем вас обыскивать, инспектор расспросил его, и ему показалось, что тот врет. Если вы невиновны, прошу меня извинить, но я здесь ни при чем.
Меньше чем через четверть часа пикап вернулся, и инспектор сказал мне:
– Вы сказали правду, тот негодяй соврал. Он будет наказан за намерение нанести вам ущерб таким образом.
А в это время полицейские уже усаживали нашего «доброхота» в «воронок». Мои ребята тоже оказались там. Я было последовал за ними, но старший инспектор остановил меня и любезно предложил:
– Садитесь в мою машину рядом с шофером.
Мы поехали впереди «воронка» и вскоре потеряли его из виду. Выскочили на хорошую дорогу со щебеночным покрытием, которая привела в городок с настоящими голландскими домиками. Кругом было очень чисто, большинство людей на велосипедах – сотни едущих во всех направлениях. Подъехали к зданию полицейского управления. Прошли через большой офис. В нем находилось много полицейских, все в белой форме, каждый сидел за отдельным столом. Вошли в кабинет, оборудованный кондиционером. В нем было прохладно. Крупный и грузный белокурый человек сидел в кресле. Он встал при нашем появлении и заговорил по-голландски. После обмена первыми репликами инспектор, владевший французским, обратился к нам:
– Это начальник полиции Кюрасао. Шеф, этот француз – предводитель группы из шести человек, задержанных нами.
– Хорошо, инспектор. Как потерпевших кораблекрушение мы вас приветствуем на Кюрасао. Ваше имя?
– Анри.
– Вот что, Анри, у вас были неприятности с этим мешком, но это даже к лучшему, поскольку инцидент исчерпан и подтвердил, что вы честный человек. Я предоставлю вам хорошую комнату, где вы сможете отдохнуть. Ваше дело будет доложено губернатору, и он примет надлежащие меры. Старший инспектор и я замолвим о вас слово.
Он пожал нам руки, и мы вышли. Во дворе доктор Нааль еще раз извинился перед нами и обещал употребить свое влияние для нашей пользы. Через два часа мы все оказались запертыми в огромной палате с дюжиной кроватей и длинным столом посередине. Через открытое окно мы попросили полицейского купить нам табаку, сигаретной бумаги и спичек на доллары Тринидада. Денег он не взял, а что ответил – мы не поняли.
– Этот чернокожий, видно, не торопится с исполнением своего долга, – сказал Клузио. – А мы до сих пор сидим без курева.
Я уже собирался постучать в дверь, как она открылась. Какой-то коротышка, похожий на китайца, в серой тюремной робе с номером на груди (тут уж не ошибешься), заглянул и сказал:
– Деньги, сигареты.
– Нет. Табак, бумага, спички.
Через несколько минут он вернулся и принес нам все. А еще он притащил большой горшок, из которого шел пар, – горячий шоколад или какао, раздал нам кружки, и мы выпили по полной.
Днем меня снова вызвали к начальнику полиции.
– Губернатор распорядился разрешить вам гулять на тюремном дворе. Скажите своим товарищам, чтобы они не вздумали удрать, поскольку это повлечет за собой серьезные последствия для вас всех. А вам, как капитану, разрешается находиться в городе с десяти до двенадцати и днем с трех до пяти. У вас есть деньги?
– Да, английские и французские.
– Полицейский в штатском будет вас сопровождать, куда бы вы ни пошли.
– Что с нами будет?
– Я думаю, что мы вас будем отправлять по одному на танкерах разных стран. На Кюрасао находится один из крупнейших заводов по переработке нефти. Нефть идет из Венесуэлы. За сутки от двадцати до двадцати пяти танкеров входят и выходят из порта. Для вас это было бы идеальным решением, поскольку таким образом вы доберетесь до других стран без всяких затруднений.
– Каких стран, например? Панама, Коста-Рика, Гватемала, Никарагуа, Мексика, Канада, Куба, Соединенные Штаты? Или другие страны, где живут по английским законам?
– Это невозможно. Европа тоже отпадает. Не беспокойтесь, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь вам начать новую жизнь.
– Спасибо, шеф.
Слово в слово я повторил все своим приятелям. Клузио, самый большой плут из нашей компании, спросил:
– А ты-то сам что об этом думаешь, Папийон?
– Еще не знаю. Может, это лапша на уши, чтобы мы сидели тихо и не удрали.
– Боюсь, что ты прав, – согласился он.
Бретонец поверил в этот замечательный, по его мнению, план. Дюфис, сторонник утюга в разрешении семейных конфликтов, пребывал в восторге:
– Никаких больше лодок, никаких приключений – это уж точно. Каждый из нас приедет на танкере в ту или иную страну и там тихонечко растворится.
Леблон придерживался того же мнения.
– Что скажешь, Матюрет?
И наш девятнадцатилетний малыш, этот мокрушник, ставший каторжником совершенно случайно, этот мальчик с женскими чертами лица, подал свой нежный голосок:
– Вы что, братва, и в самом деле думаете, что эти с квадратной головой фараоны снабдят каждого из нас документом на имя порядочного пассажира? А может, они еще для нас их нелегально изготовят? Я так не думаю. Самое большее, они могут закрыть глаза, если мы по одному в обход закона сядем на отплывающий танкер – и с приветом. Да-да, не больше, и они это будут делать для того, чтобы избавиться от нас без головной боли. Я так думаю. Я не верю ни одному их слову.
Я редко отлучался, разве что по утрам кое-что купить. Прошла неделя – ничего особенного. Стали беспокоиться. Однажды вечером увидели трех священников, обходивших камеры и палаты в сопровождении полицейского. Они надолго задержались в соседней камере, где сидел негр, обвиненный в изнасиловании. Мы подумали, что могут и нас навестить, поэтому все собрались в палате и расселись по койкам. Так оно и получилось. Трое священников, а с ними доктор Нааль, начальник полиции да еще один человек в белой форме, которого я принял за флотского офицера, вошли в нашу палату.
– Монсеньор, вот французы, – сказал начальник полиции, – их поведение безупречно.
– Похвально, дети мои, давайте сядем за стол, так лучше будет беседовать.
Все сели, включая тех, кто пришел с епископом. Принесли табурет, стоявший у выхода во двор, и епископ сел во главе стола. Теперь он всех хорошо видел.
– Французы почти все католики. Среди вас есть не католики?
Никто не поднял руки. Я подумал, что кюре из Консьержери почти меня окрестил и я мог бы себя причислить к католикам.
– Друзья мои, я родом из французской семьи. Меня зовут Ирене де Брюин. Мои предки – гугеноты, протестанты – были вынуждены бежать в Голландию от преследования в эпоху Екатерины Медичи. Так что по крови я француз. Я епископ Кюрасао – города, где больше протестантов, чем католиков. Но здешние католики ревностно и беззаветно исполняют свой долг. Каково ваше нынешнее положение?
– Мы ждем, когда нас по одному отправят на танкерах.
– И скольких уже отправили?
– Ни одного.
– Хм. Что вы скажете на это, начальник? Будьте любезны объяснить по-французски. Вы владеете им превосходно.
– Монсеньор, это идея губернатора, но, честно говоря, ни один капитан не соглашается брать их на борт, в основном из-за того, что у них нет паспортов.
– С этого и надо было начинать. Разве губернатор не может выправить специальный паспорт по такому случаю?
– Не знаю. Он со мной об этом не разговаривал.
– Послезавтра я отслужу для вас мессу. А завтра днем прошу всех на исповедь. Исповедовать вас буду я сам. Я буду молить Всевышнего простить вам грехи ваши. Возможно ли будет завтра отпустить этих людей в собор в три часа дня?
– Да.
– Мне бы хотелось, чтобы их привезли на такси или на частной машине.
– Я привезу их, монсеньор, – сказал доктор Нааль.
– Благодарю тебя, сын мой. Дети мои, я ничего вам не обещаю. Но вот вам мое правдивое слово: с этого дня я буду стараться вам помочь.
Когда мы увидели, что Нааль, а за ним и бретонец поцеловали перстень на руке прелата, мы все приложились к нему губами и пошли провожать епископа во двор до его машины.
На следующий день мы отправились на исповедь. Я исповедовался последним.
– Входи, сын мой, начни с греха самого тяжкого.
– Отче, я начну с того, что я некрещеный. Но еще во Франции, в тюрьме, кюре сказал мне, что, крещен я или нет, все равно мы все дети Божьи.
– Он прав. Очень хорошо. Тогда оставим вопрос о конфессии, расскажи просто о себе.
И я поведал ему свою жизнь во всех подробностях. На протяжении почти всего рассказа этот князь церкви слушал меня терпеливо и внимательно, не прерывая. Взяв мои руки в свои, он подолгу смотрел мне прямо в лицо, а в тех моментах повествования, где прямое признание было затруднительным, его глаза опускались, чтобы помочь моему признанию открыто вырваться наружу. Глаза и лицо этого шестидесятилетнего прелата были столь светлыми, что, казалось, в них отражается образ младенца. Кристальная чистота души, переполненной безграничной добротой, светилась во всех чертах его, и взгляд бледно-серых глаз проникал в сердце и успокаивал, проливаясь бальзамом на рану. Мягко, очень мягко, продолжая держать мои руки в своих, говорил он со мной. И голос его был так тих, что походил на шепот.
– Иногда Господь требует от детей своих водрузить на рамена груз злых деяний человеческих, чтобы тот, кого Он избрал как жертву, мог стать сильнее и доблестнее прежнего. Поразмысли, сын мой: если бы ты не вынужден был взойти на эту голгофу, разве мог бы ты возвыситься до таких высот и приблизиться к Божественной истине? Скажу больше: люди, система, страшная машина, в жернова которой ты попал, изначально злые человеческие существа, принесшие тебе, каждый по-своему, пытки и страдания, на самом деле оказали тебе величайшую услугу. Они создали новую личность внутри тебя, и она лучше первой. И только им ты обязан тем, что обрел чувство чести, доброты и милосердия, равно как и силу воли, необходимую для преодоления этих трудностей, чтобы стать более совершенным человеком. В такой личности, как ты, ростки мести не могут пустить корни, равно как и сама идея наказания каждого за причиненное зло. Иди дорогой Спасителя и спасай людей. Живя, да не причиняй боли другим, даже если тебе это покажется оправданным. Господь простер руце Свои к тебе, сын мой. Он говорит: «Помоги сам себе, и Я помогу тебе». Господь помогал тебе во всем. Он даже позволил тебе спасти других и повести их к свободе. Прежде всего не думай, что грехи твои столь тяжки, что не простятся вовеки. Есть много высокопоставленных людей, виновных в более тяжких проступках, чем твои. И все же наказание, наложенное на них в рамках человеческого правосудия, не дало им возможности подняться над собой, как это сделал ты.
– Спасибо, отче. Вы так добры ко мне, что я буду помнить об этом всю жизнь.
И я поцеловал его руки.
– Ты должен снова отправиться в путь. Впереди ждут новые опасности. Мне бы хотелось крестить тебя. Что ты скажешь на это?
– Отче, выслушайте меня. Давайте пока оставим все как есть. Мой отец воспитывал меня вне религии. У него было золотое сердце. Когда умерла мать, он как бы занял ее место. В его делах, словах, поступках, в его привязанности ко мне я видел мать. Мне кажется, что если я позволю себя окрестить, то я в какой-то степени совершу по отношению к отцу предательство. Позвольте мне оставить за собой свободу выбора. Сейчас мне нужны нормальные документы, чтобы я смог честно зарабатывать на жизнь. Я потом напишу отцу, спрошу его, не будет ли он возражать, если я, против его убеждений, захочу креститься, не огорчит ли это его.
– Понимаю тебя, сын мой. Господь с тобой. Я благословляю тебя и буду молить Бога защитить тебя.
– Ты видишь, – сказал доктор Нааль, – как проповедь монсеньора Ирене де Брюина раскрывает перед тобой всю сущность человека?
– Да, конечно. Скажите, что вы намерены предпринять?
– Я собираюсь добиться у губернатора льгот при следующей распродаже лодок, конфискованных у контрабандистов. Вы пойдете со мной и выберете для себя лучшую. С остальным – провизией и одеждой – будет легче.
После мессы епископа к нам потянулся поток посетителей, особенно их было много около шести вечера. Люди хотели познакомиться с нами. Они приходили, садились на скамейки у стола. Всегда приносили что-нибудь с собой и, уходя, «незаметно», без слов оставляли. Около двух пополудни нас навещали сестры-монахини из монастыря Всех Страждущих и Скорбящих вместе с матушкой настоятельницей. Они хорошо говорили по-французски. Приносили с собой корзину, всегда полную вкусной выпечки. Матушка настоятельница выглядела очень молодо – ей не было еще сорока. Цвета ее волос нельзя было разглядеть, поскольку они прятались под большим белым головным убором, но глаза были голубые и брови белесые. Она принадлежала к знаменитой в Голландии фамилии (по словам доктора Нааля) и написала домой письмо, желая выяснить, нельзя ли для нас что-нибудь сделать, чтобы не отсылать снова в море. Мы провели в беседах много приятных часов, и она все расспрашивала о нашем побеге. Иногда она просила меня рассказать сопровождавшим ее монахиням эту историю сызнова. И если я забывал какую-то подробность или перескакивал через нее, она мягко призывала меня излагать все по порядку:
– Анри, не спешите. Вы пропустили историю с фазаном… Почему вы сегодня забыли о муравьях? Они сыграли важную роль: позволили Бретонцу Маске застать вас врасплох.
Я рассказываю обо всем этом потому, что те мгновения, мягкие и добрые, настолько выпадали из рутины нашей повседневной жизни, что, казалось, прежнее грязное существование озарялось небесным светом и переставало быть реальностью.
Я увидел нашу лодку. Великолепное восьмиметровое судно с глубоким килем, длинной мачтой и огромным размахом парусов. Идеальное сооружение для контрабандистов. При полном снаряжении. Но на лодке стояли восковые печати таможни. На аукционе кто-то сразу предложил шесть тысяч флоринов, или около тысячи долларов. Короче говоря, тут же доктор Нааль пошептался с этим человеком, и нам лодку переуступили за шесть тысяч и один флорин.
Через пять дней все было готово. Полупалубная лодка – настоящий королевский подарок. Она блестит свежей краской. Набита припасами, тщательно размещенными по отсекам. Каждый из нас получил чемодан. Шесть чемоданов, заполненных доверху новенькой одеждой, ботинками и всем необходимым, завернутым в водонепроницаемый брезент.Тюрьма в Риоаче
Отплыли на рассвете. Доктор и монахини пришли с нами попрощаться. Отчалили легко, ветер подхватил лодку и вынес из гавани. Взошло лучезарное солнце, день обещал быть спокойным. Я сразу заметил, что у лодки слишком большая парусность и недостает балласта. Я решил проявлять максимальную осторожность. Лодка летела вперед; с точки зрения скоростных данных, она была превосходна, но очень капризна в управлении. Я шел строго на запад.
Решили, что трое пассажиров, присоединившихся к нам на Тринидаде, высадятся нелегально на побережье Колумбии. Больше всего им не хотелось пускаться в далекое плавание. Они доверяли мне, как они выразились, во всем, кроме погоды. И действительно, в метеосводках, которые мы читали в газетах на Кюрасао, прогнозировались бури и даже ураганы. Я согласился с их правом выбирать самим, и мы договорились, что они сойдут на берег пустынного и необжитого полуострова под названием Гуахира. А что касается нас, то мы отправимся дальше – в Британский Гондурас.
Погода выдалась чудесная. Звездная ночь с ярким месяцем обещала облегчить осуществление плана. Мы плыли прямо к колумбийскому берегу. Я бросил якорь и метр за метром стал делать промер дна, чтобы определить, где можно высаживаться. К несчастью, вода оказалась очень глубокой, и мы вынуждены были опасно сблизиться со скалистым берегом, прежде чем глубина установилась на отметке менее полутора метров. Пожали друг другу руки. Каждый вылезал из лодки и, постояв немного в море с чемоданом над головой, брел к суше. Расставание получилось трогательным и печальным. Они оказались надежными спутниками, опасностям смотрели прямо в лицо и нас не подвели. Было жаль, что они покидают лодку. Пока они продвигались к берегу, ветер полностью стих. Черт бы его побрал! А что, если нас заметят из селения, указанного на карте под названием Риоача? Это ближайший порт со своей полицией. Будем надеяться, что пронесет. У меня появилось ощущение, что мы подошли к поселениям гораздо ближе, чем предполагали. Об этом говорил и маяк на мысе, который мы только что миновали.
Ждать, ждать… Те трое исчезли из виду, помахав нам на прощание белым носовым платком. Боже, где же ветер! Ветер, который унесет нас от побережья Колумбии, страны, представлявшейся нам в данной ситуации большим вопросительным знаком. Никто не знал, возвращают ли отсюда беглых или нет. Британский Гондурас давал хоть какую-то надежду, поэтому зачем нам связываться с незнакомой Колумбией? Только в три часа дня подул ветер, и мы смогли снова отправиться в путь. В лодке все привели в полный порядок. Равномерно перераспределили груз – он оставался еще внушительным. Идем уже пару часов, держась от берега на почтительном расстоянии. Внезапно появился катер с людьми на борту. Катер шел прямо на нас. Послышались предупредительные выстрелы в воздух, требующие остановиться. Я не стал подчиняться, а направил лодку в открытое море, стремясь как можно скорее выйти из территориальных вод. Пустой номер! Мощный катер перехватил нас менее чем через полтора часа. Под дулами десятка винтовок мы вынуждены были сдаться.
Солдаты, а может быть, полицейские, арестовавшие нас, были все на одно лицо: все одеты в грязные, некогда белые штаны, рваные, не знавшие стирки майки, и все босиком. Кроме капитана. Тот был получше одет и выглядел почище. Не в пример обмундированию, оружие хорошее. Все перепоясаны патронными лентами, прекрасные винтовки, спереди под рукой в ножнах штык-кинжал в придачу. Тот, кого они называли капитаном, был похож на человека смешанной расы и очень смахивал на убийцу. У него был тяжелый револьвер и полный патронташ на поясе. Поскольку они говорили по-испански, мы их не понимали. Но их взгляд, действия, тон указывали на далеко не дружеское к нам расположение.
От пристани до тюрьмы нас вели под конвоем. Шли через деревню, и в самом деле оказавшуюся Риоачей. Конвоировали нас шесть крутых молодчиков, а трое следовали сзади, немного поодаль. Покачивающиеся дула винтовок направлены прямо на нас. Прием, прямо скажем, получался недружественным.
Достигли тюремного двора, окруженного небольшой стеной. Там было человек двадцать заключенных, грязных, небритых. Сидя или стоя, они смотрели на нас враждебно. «Vamos, vamos», – покрикивали солдаты, что, как мы поняли, могло означать: «Пошел, пошел». В этом смысле мы испытывали затруднения, поскольку нога Клузио все еще находилась в гипсе и быстро идти он не мог. Капитан держался сзади. Под мышкой у него торчали мой компас и флотский плащ. У всех на виду он жрал наши галеты и шоколад. Мы поняли, что нас облупят, как пасхальное яичко. Так оно и вышло. Нас заперли в грязном помещении с толстыми прутьями на окне. Пол земляной. На нем валяются лежаки в виде сбитых вместе досок и деревянных подголовников. Это наши кровати. Как только полицейские удалились, к окну подошел один заключенный и позвал:
– Французы, французы!
– Чего тебе?
– Французы, нехорошо, нехорошо!
– Что нехорошо?
– Полиция.
– Полиция?
– Да, полиция – нехорошо.
И он исчез. Наступила ночь. Электрическая лампочка совсем не освещала комнату – настолько слабо горела. Кругом жужжали комары и нахально лезли в уши и в нос.
– Вот уж влипли так влипли. Высадка тех парней будет дорого нам стоить!
– Кто мог предвидеть! Нам сильно не повезло с ветром.
– Ты очень близко подошел к берегу, – сказал Клузио.
– Помолчи. Не время искать виновного тогда, когда требуется поддержать каждого. Нам еще крепче надо держаться вместе.
– Прости. Ты прав, Папи. Здесь нет виновных.
О, это было бы слишком несправедливо закончить наш побег здесь. Так глупо и так скверно после всех трудностей, которые нам пришлось преодолеть! Нас, к счастью, не обыскали. Гильза лежала в кармане, и я быстренько зарядился. То же сделал и Клузио. Мы поступили мудро, не выбросив их. Во всяком случае, такая вещица служила хорошим водонепроницаемым кошельком. Ее удобно было носить, и она мало занимала места. По моим часам уже около восьми вечера. Нам принесли по куску темно-коричневого сахара величиной с кулак и по миске соленой рисовой каши-размазни. «Buenas noches!»
– Это, должно быть, «спокойной ночи», – пояснил Матюрет.
На следующее утро в семь часов нам дали очень хороший кофе в деревянной миске прямо на тюремном дворе. Около восьми появился капитан. Я попросил у него разрешения сходить к лодке и принести наши вещи. Он либо не понял, либо притворился, что не понимает. Чем больше я за ним наблюдал, тем больше убеждался, что морда у него была прямо-таки бандитской. На левом боку на ремне у капитана болталась бутылка в кожаном чехле. Он вынул ее, вытащил пробку, сделал полный глоток, сплюнул и предложил бутылку мне. Это был первый дружеский жест за все время. Поэтому я не стал отказываться и тоже потянул из нее. К счастью, залил в рот совсем немного и сразу почувствовал, что там оказалась огненная жидкость с запахом метилового спирта. Я быстро проглотил и зашелся кашлем, чем изрядно повеселил этого полунегра-полуиндейца.
В десять часов появились несколько гражданских лиц при галстуках, в белой одежде. Их было человек шесть-семь. Они проследовали, по всей видимости, в здание тюремной администрации. Послали за нами. Мы вошли в комнату и увидели их, сидевших полукругом. Доминантой всей обстановки была картина, висевшая на стене. На ней был изображен белый офицер в парадном мундире и при многочисленных орденах – президент Колумбии Альфонсо Лопес. Один из господ позволил Клузио сесть, обратившись к нему по-французски. Мы с Матюретом продолжали стоять. Худощавый горбоносый субъект в пенсне, сидевший посередине, начал задавать мне вопросы. Переводчик не стал ничего переводить, а сказал мне:
– Месье, который только что говорил с вами и который будет вас допрашивать, – городской судья Риоачи, а все прочие – его друзья, известные граждане города. Я гаитянин и представляю электрическую компанию в этих местах. А сейчас выступаю как переводчик. Я знаю, что присутствующие здесь немного понимают по-французски, но не подают вида. Возможно, и сам судья тоже.
После такого вступления судья занервничал и тут же вмешался со своим допросом, говоря по-испански. Гаитянин кое-как переводил вопросы и ответы.
– Вы француз?
– Да.
– Откуда прибыли?
– С Кюрасао.
– А до того?
– Тринидад.
– А до того?
– Мартиника.
– Вы лжете. Больше недели тому назад нашего консула на Кюрасао предупредили о необходимости усилить охрану колумбийского побережья, потому что шесть человек, бежавших из французской колонии, собираются высадиться в нашей стране.
– Ладно. Мы действительно бежали из исправительной колонии.
– Значит, вы из Кайенны?
– Да.
– Если такая доблестная страна, как Франция, высылает вас так далеко и наказывает столь сурово, значит вы, должно быть, очень опасные бандиты.
– Все может быть.
– Воры или убийцы?
– Непреднамеренное убийство.
– Убийство есть убийство. Значит, вы матадоры? Где остальные трое?
– Мы оставили их на Кюрасао.
– И снова лжете. Вы их высадили в шестидесяти километрах отсюда в районе Кастильеты. К счастью, их арестовали и доставят сюда через несколько часов. Лодка ворованная?
– Нет. Нам подарил ее епископ Кюрасао.
– Хорошо. Посидите в тюрьме, пока губернатор не решит, что с вами делать. За преступление, выражающееся в попытке высадить троих соучастников на территории Колумбии и затем снова уйти в море, я приговариваю вас, капитан судна, к трем месяцам тюрьмы, а остальных двоих – к одному. Советую вести себя хорошо, если не хотите, чтобы полиция подвергла вас телесному наказанию. Предупреждаю: они очень суровые люди. Хотите что-нибудь сказать?
– Нет. Мне бы только хотелось забрать свои вещи и продукты, оставленные в лодке.
– Все конфисковано таможней. Каждому из вас полагается лишь пара брюк, рубашка, пиджак и пара ботинок. Все остальное конфисковано. И не поднимайте шума из-за этого.
Что тут скажешь – закон есть закон.
Все вышли на тюремный двор. Местные бедняги-заключенные обступили судью и кричали наперебой: «Доктор! Доктор!» Они, видимо, обращались к нему с какими-то прошениями. Он пробился сквозь толпу, едва не лопаясь от собственной важности, так ни разу не остановившись и никому не ответив. Эти господа вышли из тюрьмы и растаяли как дым.
В час дня прибыл грузовик. В нем под охраной привезли наших друзей. Они слезли с машины, придерживая чемоданы, и выглядели совершенно подавленными. Мы вошли в тюрьму вместе с ними.
– Мы совершили непоправимую ошибку, Папийон, и вас втравили в это гнусное дело, – сказал бретонец. – О нас говорить нечего. Если хочешь убить меня – прикончи сразу. Я и пальцем не пошевелю. Мы не мужчины, а тюфяки. Испугались моря. Достаточно было взглянуть на эту Колумбию и колумбийцев, чтобы все морские опасности показались пустой забавой по сравнению с тем, что может нас ждать в лапах этих ублюдков. Они прихватили вас из-за ветра?
– Да, бретонец. Но у меня нет намерения кого-либо убивать. Мы все были не правы. Я сам смалодушничал и не отказался высадить вас на берег. Иначе ничего бы не случилось.
– Ты великодушен ко мне, Папийон.
– Нет. Я говорю честно, вот и все.
Я рассказал им про допрос.
– В конце концов, может, губернатор нас отпустит.
– Вряд ли. И все-таки будем надеяться. Как говорят, надежда помогает выжить.
Как я полагал, властям этой полуцивилизованной дыры нелегко было решить наш вопрос. Только где-то выше могли распорядиться, оставить ли нас в Колумбии, выдать Франции либо отправить в нашей лодке еще дальше. Будет крайне несправедливо, если эти люди примут наихудшее решение, поскольку мы не причинили им никакого вреда, не совершили ни одного преступления в их стране.
Прошла неделя. Никаких изменений, кроме разговоров, что нас могут отправить под усиленным конвоем в более крупный город Санта-Марту за двести километров от Риоачи. Эти дикари-полицейские, так смахивавшие на пиратов, совершенно не изменили к нам своего отношения. Вчера меня чуть не застрелили в умывальнике, когда я вырвал свой кусок мыла из рук негодяя, пытавшегося его присвоить. Нас держали все в том же помещении с тучами москитов, но оно выглядело уже гораздо чище благодаря стараниям Матюрета и бретонца, ежедневно выскребавших и выметавших грязь. Я стал отчаиваться и терять уверенность в себе. Эти колумбийцы – смесь различных рас: индейцев и негров, индейцев и испанцев, бывших здешних хозяев, – доводили меня до крайности. Один заключенный-колумбиец дал мне посмотреть газету, издаваемую в Санта-Марте. На первой странице красовались наши фотографии – всех шестерых, а под ними – капитан в огромной фетровой шляпе и с сигарой в зубах. Там же, а как же иначе, девять или десять полицейских со своими винтовками. Воображаю, как представлен газетный материал и какую драматическую роль отводил репортер именно винтовкам. Любой читатель мог подумать, что наш арест буквально спас Колумбию от страшной опасности. И все же злодеи на фотографиях выглядели куда пристойнее полицейских. На них хоть можно было посмотреть как на приличных людей, в то время как на полицию – о, извините! Одного взгляда было достаточно, чтобы сложилось мнение о капитане. Что нам оставалось делать? Я принялся заучивать некоторые испанские слова: совершить побег – fugarse, заключенный – preso, убить – matar, цепь – cadena, наручники – esposas, мужчина – hombre, женщина – mujer.
Побег из Риоачи
На тюремном дворе я подружился с одним малым, с которого никогда не снимали наручники. Мы как-то выкурили вместе одну сигару – длинную, тонкую, но ужасно крепкую. Покурили от души. По моим предположениям, он был контрабандистом, работавшим между Венесуэлой и островом Аруба. Его обвиняли в убийстве служащего береговой охраны или даже нескольких, и он ожидал суда. Иногда он бывал удивительно спокоен, а иногда – прямо-таки на грани срыва и очень нервничал. Наконец я заметил, что спокойные дни выпадают именно тогда, когда он жевал какие-то листья, которые ему приносили. Однажды он предложил мне половину такого листа, и я сразу понял, в чем дело. Язык, нёбо, губы потеряли чувствительность. Это были листья коки. Малому было лет тридцать пять. Руки волосатые, вся грудь покрыта курчавой черной-пречерной шерстью. Было видно, что он необычайно силен физически. Его ноги почти не знали обуви, поэтому на подошвах и пятках образовался такой толстый слой огрубелой кожи, что я частенько наблюдал, как он вытаскивал осколки стекла или гвоздь, впившиеся туда, но так и не задевшие живую ткань.
– Fuga (бежим) ты и я, – сказал я однажды контрабандисту.
Меня как-то навестил гаитянин, и я попросил его принести французско-испанский словарь. Контрабандист уловил значение и жестом дал понять, что он бы не против, но как быть с наручниками? Наручники были американские. В них имелась скважина для ключа, и к ним наверняка подходил плоский ключ. Из проволоки, расплющенной на конце, бретонец сделал мне крючок-отмычку. После нескольких попыток я уже мог в любое время открывать наручники моего нового приятеля. Ночь он проводил в calabozo (камере-одиночке), зарешеченной толстыми железными прутьями. В нашем помещении прутья решетки были тоньше, и их, без всякого сомнения, можно было отогнуть. Значит, Антонио (так звали колумбийца) надо было подпилить в своей камере один прут.
– Как нам достать sacette (пилу)?
– Plata (деньги).
– Cuánto (сколько)?
– Сто песо.
– Долларов?
– Десять.
Короче, за десять долларов, которые я ему дал, он достал два ножовочных полотна. При встрече на тюремном дворе с помощью рисунков на земле я растолковал ему, как приготовить из металлических опилок, пыли и отварного риса, который нам давали, замазку, чтобы тщательно маскировать запил, независимо от его глубины, каждый раз, когда он заканчивает работу. В последний момент, перед тем как нас должны были отправлять на ночь по камерам, я открывал один из наручников. Случись проверка, он легко мог простым нажатием привести наручники в исходное положение. Они запирались автоматически. С прутом Антонио управился за три ночи. Затем он сказал мне, что работы осталось на одну минуту и что он сможет отогнуть прут руками. Он должен прийти за мной.
Часто шел дождь. Антонио сказал, что primera noche de lluvia (в первую дождливую ночь) он придет. В ту же ночь пошел проливной дождь. Мои друзья знали, чем я занят, но никто не соглашался составить мне компанию, полагая, что выбранный мной для этой цели район расположен слишком далеко. Я хотел достичь мыса полуострова Гуахира на границе с Венесуэлой. На нашей карте эта территория обозначалась как спорная, не принадлежащая ни Колумбии, ни Венесуэле. Колумбиец сказал, что eso es la tierra de los Indios (это индейская земля) и что там нет никакой полиции – ни колумбийской, ни венесуэльской. Там отваживаются появляться только немногие контрабандисты: индейцы гуахира очень опасны, они не позволяют проникать в свою страну цивилизованному человеку. Чем дальше вглубь материка, тем более они опасны. На побережье живут индейцы-рыбаки, которые через более цивилизованных индейцев торгуют с Кастильете и небольшим поселением Ла-Вела. Сам Антонио идти туда не собирался. То ли он сам, то ли его приятели убили несколько индейцев в завязавшейся стычке, когда однажды они с грузом контрабанды были вынуждены скрываться там. Но Антонио брался довести меня до Гуахиры, после чего я пойду один. Надо ли говорить, как трудно и утомительно мне было с ним объясняться, поскольку он употреблял такие слова, которые отсутствовали в словаре.
Итак, в ту ночь пошел проливной дождь. Я встал у окна, приготовив заранее вырванную из лежака доску. Пару раз мы ее уже опробовали в качестве рычага и убедились, что прутья на окне легко можно раздвинуть с ее помощью.
– Listo (готов)?
Между железными прутьями появилась физиономия Антонио. С помощью Матюрета и бретонца я не только раздвинул прутья одним махом, но даже вырвал прут из гнезда. Ребята подсадили меня и, прежде чем я исчез, крепко похлопали меня по заду. Так простились со мной мои друзья. Мы с Антонио на дворе. Стоит адский шум: ливень обрушил потоки воды на железные гофры крыш. Антонио схватил меня за руку и подвел к стене. Перемахнуть через нее оказалось детской забавой – всего-то метра два, не больше. Однако, перелезая через нее, я поранил руку – в гребень стены было вмазано битое стекло. Это – пустяки. Пошли. Антонио – просто молодец. За сплошной завесой небесной хляби в десяти шагах ничего не разобрать, а он ведет, как в погожий день. И ливень даже нам в помощь. Под его защитой мы миновали деревню и свернули на дорогу между бушем и побережьем. Уже очень поздно ночью мы увидели какой-то свет. Антонио свернул с дороги и пошел длинным кружным путем через буш, прежде чем снова выйти на нее. К счастью, буш оказался не очень густым. Так мы и шли под струями дождя до рассвета. В самом начале пути Антонио дал мне лист коки. Жевать коку я научился у него еще в тюрьме. Наступил день, но усталости не чувствовалось. Наверное, действовал листочек. Определенно. Антонио смело шагает, несмотря на то что кругом все видно и нас могут заметить. Время от времени он ложится на землю и прикладывает ухо к мокрой дороге. Затем мы снова шагаем. У него странная походка: не бежит и не идет, а передвигается короткими прыжками, причем одинаковой длины, а руки раскидывает в стороны – делает ими взмах и как бы загребает воздух. Ему, должно быть, что-то послышалось, потому что он схватил меня за рукав и потащил в буш. Дождь все не кончался, однако у нас перед глазами появился трактор с дорожным катком. Похоже, где-то рядом ровняли дорогу.
Половина одиннадцатого утра. Дождь прекратился, и выглянуло солнце. Мы углубились в буш, пройдя перед этим больше километра по траве, а не по дороге. Там мы залегли под густой сенью кустов, колючая растительность со всех сторон окружала нас. Мне показалось, что здесь нам нечего бояться. И все же Антонио не разрешил мне курить и даже разговаривать шепотом. Он продолжал жевать листья и постоянно сглатывал сок. Я делал то же самое, но глотал реже. Он показал мне мешочек, где лежало не менее двух десятков листьев коки, и тихо засмеялся, широко растягивая губы и обнажая ряд отличных здоровых зубов. Повсюду летают москиты. Антонио разжевал сигару, и мы намазали себе руки и лицо никотиновой слюной. Комары оставили нас в покое. Семь вечера. На землю опустилась темнота, но из-за лунного сияния дорога просматривалась отчетливо. Антонио ткнул пальцем в цифру девять на циферблате моих часов. «Lluvia», – сказал он, и я догадался, что в девять должен пойти дождь. И он-таки хлынул именно в это время, после чего мы продолжали свой путь. Чтобы не отставать, я стал подражать походке Антонио. Получилось без особого труда: подпрыгивая и загребая воздух руками, не переходя на бег, мне удалось увеличить скорость передвижения до очень быстрого шага. За ночь нам раза три пришлось сворачивать в буш, пропуская мимо легковую машину, грузовик и телегу, запряженную двумя ослами. Благодаря листьям коки усталости не чувствовалось. Наступил день. Дождь прекратился около восьми. Проделали то же самое – километр прошли по траве, а потом свернули в буш и спрятались. Самое поразительное в листьях коки – их способность прогонять сон. Мы еще ни разу не сомкнули глаз с момента побега. Зрачки Антонио расширились настолько, что от радужной оболочки ничего не осталось. Несомненно, и с моими зрачками происходило то же самое.
Девять вечера. Пошел дождь. Можно было подумать, что он нарочно поджидает этот час, чтобы приняться за дело. Позднее я узнал, что в тропиках такая регулярность закономерна: уж коль дождь пошел, так он и будет лить вплоть до смены фазы луны, начинаясь и прекращаясь в одно и то же время. В ту ночь, когда мы прошли еще совсем немного, впереди послышались голоса и показались огни. «Кастильете», – сказал Антонио. Не мешкая, этот удивительный человек взял меня за руку и увлек в буш. Более двух часов занял этот трудный и тяжелый маршрут, затем мы снова вышли на дорогу. Шагали, а вернее, двигались вприпрыжку всю остальную часть ночи и добрую половину следующего утра. Под солнцем одежда сохнет прямо на теле. Уже трое суток нас то мочит, то сушит, а во рту еще ни крошки, если не считать куска коричневого сахара, который мы съели в первый же день. Теперь Антонио, кажется, полностью уверен, что мы не встретим уже враждебно настроенных людей. Он идет беспечно и редко прикладывается ухом к земле. Здесь дорога тянется прямо по берегу моря. Антонио срезал ветку с дерева и сделал палку. Потом, свернув с дороги, мы пошли по влажному песку. Вот он остановился и стал внимательно рассматривать широкий след, который, словно лента, тянулся прямо из моря и обрывался в сухом песке. Пошли по следу и остановились там, где он заканчивался крýгом. Антонио с силой воткнул свою палку в песок. Когда он ее вытащил, на конце желтело что-то липкое, напоминающее яичный желток. Мы принялись разгребать песок, вырывая яму. Работали в четыре руки. В самом деле – черепашьи яйца. Три или четыре сотни – поди сосчитай! Без скорлупы, только кожа. Антонио снял рубашку, и мы положили в нее не менее сотни яиц. Затем мы покинули пляж, пересекли дорогу и спрятались в буше. Сразу принялись за яйца, – правда, ели только желтки. Антонио показал, как это делается. Мощными волчьими зубами он надрывал кожу яйца, выпускал белок, а желток проглатывал. Одно яйцо себе – другое мне. Наевшись до отвала, мы залегли на отдых, подложив под головы в качестве подушек скатанные куртки. Антонио сказал:
– Mañana tú sigues solo dos días más. De mañana en adelante no hay policías. (Завтра ты пойдешь один и будешь идти еще два дня. С завтрашнего дня полиции больше не будет.)
В десять вечера мы миновали последний пограничный пост. Об этом нетрудно было догадаться по лаю собак да ярко освещенным окнам небольшого домика. Антонио ловко обошел и это препятствие. Шли всю ночь без всякой предосторожности. Дорога была неширокой. Скорее, это уже тропа чуть более полуметра в ширину, но чувствовалось, что ею пользовались вовсю, поскольку на ней не росло ни травинки. Тропа вела по краю буша на высоте двух метров над берегом моря. Повсюду виднелись следы от копыт лошадей и ослов. Антонио присел на широкий корень и жестом пригласил меня сесть рядом. Солнце здорово припекало. По моим часам было одиннадцать утра. Но, по всей вероятности, наступил уже полдень, поскольку воткнутый в землю прут не отбрасывал тени. Я перевел стрелки часов на двенадцать. Антонио высыпал из мешочка все листья коки. Их оказалось семь. Мне он протянул четыре, себе оставил три. Я отошел немного в буш и вернулся со ста пятьюдесятью долларами Тринидада и шестьюдесятью флоринами и предложил эти деньги Антонио. Он посмотрел на меня совершенно обалдело. Потрогал деньги. На вид как новенькие и сухие. Это его еще больше поразило – ведь он ни разу не видел, чтобы я их сушил. Деньги он взял и поблагодарил. Долго стоял, задумавшись и держа деньги в руке. Затем отделил от них шесть купюр по пять флоринов, то есть тридцать флоринов, а остальные вернул мне. Я было принялся уговаривать его взять деньги, но он наотрез отказался. В этот момент он, кажется, переменил свой план действий. По нашему уговору, мы должны были здесь разойтись, но теперь было похоже, что Антонио решил идти со мной еще один день. Если я его правильно понял, после этого он должен был возвращаться. Так и есть. Проглотив по несколько яичных желтков, мы закурили сигару. Но перед этим с полчаса били камнем о камень, чтобы высечь искры и поджечь небольшой пучок сухого мха. Прикурив от него, мы снова отправились в путь.
Через три часа тропа, прежде извилистая, пошла прямо, и в конце ее показался всадник. На нем огромная соломенная шляпа, высокие сапоги, вместо брюк короткие кожаные шорты, зеленая рубашка и выцветшая куртка, тоже зеленая. У него прекрасная винтовка и большущий револьвер, болтавшийся на поясе.
– Caramba! Antonio, nijo mío! (Антонио, сынок.)
Антонио узнал всадника еще издали, но не подавал вида и мне не сказал ни слова. Но я это все-таки почувствовал. Мощный краснорожий детина лет сорока слез с лошади. Они поравнялись и обеими руками крепко похлопали друг друга по плечам. Позже мне часто приходилось сталкиваться с таким видом дружеского объятия.
– Кто это?
– Campañero de fuga (товарищ по побегу). Француз.
– Куда идете?
– Как можно ближе к рыбакам-индейцам. Он хочет через их земли добраться до Венесуэлы, а оттуда возвратиться на Кюрасао или попасть на Арубу.
– Индейцы гуахира – плохие люди, – сказал человек. – Ты безоружен. Toma (возьми).
Он протянул мне кинжал с рукояткой из отполированного рога в кожаных ножнах. Мы присели на край тропы. Я снял ботинки. Ноги были страшно сбиты и кровоточили. Антонио и всадник о чем-то быстро разговаривали. Было видно, что им не нравится моя идея пробираться через земли индейцев гуахира. Антонио сделал мне знак, чтобы я подошел к лошади, а ботинки на шнурках перекинул через плечо. Босиком для меня будет лучше: ноги отдохнут и раны подсохнут. Все это он довел до моего сознания с помощью жестов. Всадник сел на лошадь, Антонио пожал мне руку и, прежде чем я успел что-то сообразить, оказался верхом за спиной друга Антонио, а лошадь уже неслась вскачь. Скакали целый день и целую ночь. Время от времени он останавливал лошадь и протягивал мне бутылку анисовой водки. Я делал небольшой глоток. На рассвете он натянул поводья. Вставало солнце. Он дал мне кусок сыра, твердого как камень, две галеты, шесть листьев коки и специальный непромокаемый мешочек для них. Затем, обняв меня на прощанье и похлопав по плечам, как он проделал до того с Антонио, снова вскочил на лошадь и умчался во весь опор.
Индейцы
Я шел до часа пополудни. Буш кончился. Кругом ни единого деревца. Лазурное море блестело под яркими лучами солнца. Шагал я босиком, ботинки болтались на левом плече. Уже хотел было прилечь и отдохнуть, как вдруг заметил в стороне от моря группу из пяти-шести деревьев, а может быть, и скал. Попытался определить расстояние до них. Километров десять. Выбрал самый большой лист коки и принялся жевать. Затем снова пустился в дорогу и шел довольно быстро. Через час я убедился, что это были хижины, крытые соломой или светло-коричневыми листьями. Над одной хижиной поднимался дым. Затем я увидел людей. Они тоже меня заметили. Одна группа кричала и махала руками в сторону моря. Теперь я уже мог их видеть и слышать совершенно отчетливо. Посмотрел на море и увидел четыре лодки, спешившие к берегу. Из них вышло человек десять. Все собрались у хижин и смотрели в мою сторону. Я ясно видел, что все мужчины и женщины голые, только причинные места чем-то были прикрыты. Я медленно шел к ним. Трое мужчин стояли, опираясь на луки, держа стрелы в руках. Люди не проявляли ни враждебности, ни дружелюбия. Навстречу с лаем выскочила собака и яростно набросилась на меня. Она вцепилась в ногу чуть ниже икры и вырвала кусок ткани из штанины. Собака снова приготовилась напасть, но в этот момент ее сзади ударила маленькая стрела, прилетевшая бог весть откуда. Позже я узнал, что ее выпустили из духового ружья. Собака взвизгнула и удрала в хижину. Я подошел поближе, прихрамывая, поскольку собака меня все-таки здорово укусила. Теперь от людей меня отделяло не более десяти метров. Никто из них не двинулся с места и даже не пошевелился. Никто не заговорил со мной. Дети держались за спинами матерей. Какое великолепие обнаженных мускулистых тел цвета меди! У женщин высокие, упругие, выступающие вперед груди с огромными сосками. Только у одной грудь тяжелая и обвисшая.
Среди мужчин один особенно выделялся своим благородством; черты лица у него были мужественные и правильные. Чувствовалось, что он пользуется большой властью, поэтому я, не раздумывая, направился к нему. У него не было ни лука, ни стрел. Мы с ним были одного роста; волосы у него аккуратно пострижены, а тяжелая челка ниспадает до бровей. Волосы, черные как смоль, с темно-красным отливом, прикрывают уши до самых мочек. Стальные серые глаза. На груди, руках и ногах волосяной покров отсутствует полностью. Сильные мускулистые бедра, стройные, словно точеные, медно-красные ноги. Он босиком. Мне оставалось сделать три шага, но тут я остановился. Он шагнул вперед и стал смотреть на меня в упор. Изучение продолжалось минуты две. Затем он улыбнулся и рукой коснулся моего плеча. Теперь каждый подходил ко мне и трогал, а одна молодая женщина взяла меня за руку и отвела в тень одной из хижин. Там она закатала мне штанину. Все расселись вокруг. Один индеец протянул мне зажженную сигару. Я взял ее и стал курить. То, как я это делал, их очень рассмешило. Индейцы – мужчины и женщины, – когда курят, держат зажженный конец во рту. Рана больше не кровоточила, но небольшой кусочек мяса из ноги собака успела-таки оттяпать. Женщина выщипала волосы вокруг раны и промыла ее морской водой, за которой успела сходить маленькая девочка. Промывая рану, женщина одновременно надавливала пальцами на нее со всех сторон, чтобы как можно больше выступило крови. Она не удовлетворилась результатом. Взяв заостренный кусочек железа, женщина проскребла им каждую дырочку, расширяя рану. Я крепился, чтобы не дергаться, ведь за мной наблюдало много глаз. Еще одна девушка захотела помочь, но первая резко ее оттолкнула. Все засмеялись, а я сообразил, что такой жест против другой мог означать только то, что я стал ее исключительной собственностью. Вот почему ее реакция позабавила остальных. Затем «моя» женщина обрезала у брюк обе штанины выше колен. Кто-то принес ей водорослей. Она обработала их на камне, приложила к ране и привязала тряпками, только что оторванными от моих злополучных брюк, осталась довольна своей работой и жестом пригласила меня встать.
Я поднялся на ноги и стал снимать куртку. И тут она увидела в вырезе рубашки мотылька, вытатуированного пониже шеи. Женщина принялась внимательно разглядывать и увидела еще наколки. Она сама сняла с меня рубашку, чтобы лучше рассмотреть остальные рисунки. Всех, и мужчин, и женщин, художественное оформление моего тела живо заинтересовало. На груди справа – солдат штрафного батальона, слева – лицо женщины, на животе – голова тигра, на спине – распятый матрос. А через всю поясницу была изображена охота на тигров с охотниками, пальмами, слонами и тиграми. Мужчины, увидев такое обилие наколок, растолкали женщин и принялись медленно и внимательно рассматривать, дотрагиваясь рукой до каждого рисунка. Вождь говорил, и только после него высказывали свое мнение остальные. С этого момента мужчины приняли меня за своего. Женщины сделали это раньше, когда вождь улыбнулся и коснулся моего плеча.
Мы направились в самую большую хижину. Вид ее совершенно поразил меня. По форме она была круглой и представляла собой глинобитное сооружение кирпичного цвета. В ней было восемь дверей. Внутри хижины с балок свешивались великолепные гамаки, сплетенные из разноцветной чистой шерсти. В центре размещался круглый плоский и гладкий камень коричневого цвета, а вокруг него – такие же камни для сидения. К стене приставлены несколько двустволок и палаш. Повсюду развешены луки всевозможных размеров. Я также заметил черепаший панцирь, да такой огромный, что в нем легко мог бы улечься человек; печную трубу, прекрасно сложенную из плотно пригнанных друг к другу камней без всякой замазки; стол, на котором стоит половинка высушенной бутылочной тыквы, а в тыкве – две или три горсти жемчуга. Мне поднесли напиток в деревянной миске – это был сброженный фруктовый сок, горьковато-сладкий и очень вкусный. Затем мне подали на банановом листе большую рыбину, испеченную на угольях. Рыба весила килограмма два. Пригласили отведать, и я стал медленно есть. После того как я управился с рыбным деликатесом, молодая индианка взяла меня за локоть и повела к морю, где я вымыл руки и лицо и прополоскал рот морской водой. Затем мы возвратились. Расселись в кружок, индианка села рядом со мной, положив мне руку на ногу. Жестами и словами мы пытались обменяться хоть какими-то сведениями о том, что собой представляет каждая из сторон.
Внезапно вождь поднялся, прошел в заднюю часть хижины и вернулся, держа в руке белый камень. Он принялся рисовать им прямо на столе. Сначала появились голые индейцы и их деревня, затем море. Справа от индейской деревни встали дома с окнами и люди обоего пола в одежде. У мужчин в руках винтовки или палки. Слева – другая деревня и ублюдки с бандитскими рожами в широкополых шляпах. Все с винтовками. Женщины в платьях. Когда я присмотрелся к рисункам, вождь, как бы вспомнив о некоторых деталях, пририсовал одну дорогу, ведущую к деревне слева, и другую – к селению справа. Чтобы показать, как эти деревни расположены по отношению к его собственной, вождь нарисовал солнце справа, или со стороны Венесуэлы, – полный солнечный диск с расходящимися во все стороны лучами. Слева, или со стороны деревни на колумбийской территории, он изобразил другое солнце с волнистой линией по диску у горизонта. Не было сомнения, что справа солнце вставало, а слева заходило. Молодой вождь с гордостью смотрел на свою работу, и все по очереди стали ее рассматривать. Увидев, что я хорошо понял значение представленного, вождь снова взял мел и перечеркнул косым крестом обе деревни, а свою оставил нетронутой. Не трудно было догадаться, что люди в этих деревнях злые и что он не желает иметь с ними никаких дел. И только его деревня хорошая. Вождь как будто считал своим долгом сказать мне об этом!
Вождь вытер стол влажной тряпкой и, когда он высох, протянул мне мел. Теперь настала моя очередь изложить свой рассказ в рисунках. Моя задача была посложнее. Я нарисовал человека со связанными руками и двух вооруженных, глядевших на первого. Затем этот человек бежит, а двое его преследуют и целятся из ружей. Я изобразил эту сцену трижды, но каждый последующий раз убегавший отрывался все дальше от преследователей. На последнем рисунке полицейские стояли, а я продолжал бежать к деревне вождя. Нарисовал деревню, индейцев и собаку. Впереди всех стоял вождь с простертыми навстречу мне руками.
Мой рисунок был не так уж плох, поскольку долго и жарко обсуждался индейцами. Затем вождь протянул руки вперед, как у меня на рисунке. Мое пиктографическое письмо индейцы прочитали правильно.
В тот же вечер индианка увела меня в свою хижину, где жили шесть женщин и четверо мужчин. Она подвесила замечательный гамак из плетеной шерсти, настолько широкий, что в нем, лежа поперек, вполне могли уместиться двое. Я забрался в него, но лег вдоль. Увидев это, она легла в другой, но поперек. Я сделал то же самое, после чего она подошла ко мне и легла рядом. Ее длинные, тонкие, но шершавые пальцы пробежались по моему телу, легко коснувшись глаз, ушей и рта. Нежные пальцы все в ссадинах и шрамах – следы от кораллов, встретившихся ей во время ныряний за жемчужницами. Я осторожно и ласково провел рукой по ее лицу, она взяла ее в свою и очень удивилась, не обнаружив на ней мозолей и шершавости. Мы лежали в гамаке около часа, затем встали и вернулись в большую хижину вождя. Там мне позволили осмотреть ружья – двенадцатый и шестнадцатый калибр из Сент-Этьена. Шесть коробок с патронами.
Моя индианка среднего роста. Глаза серые, как у вождя, тонкий профиль. Волосы расчесаны на прямой пробор и заплетены в косы, достающие ей до бедер. Красиво очерченные груди, высокие и грушевидные. Соски темнее медно-красной кожи тела и очень длинные. Целоваться она не умела и при поцелуе легонько покусывала губы. Я вскоре научил ее, как это делается в цивилизованном мире. Когда мы шли куда-нибудь, она ни за что не соглашалась идти рядом, а всегда держалась сзади. И с этим ничего нельзя было поделать. Одна из хижин пустовала и пришла в ветхость. С помощью других женщин она поправила крышу из листьев кокосовой пальмы, а стены залатала кусками вязкой и липкой красной глины. У индейцев были всевозможные режущие инструменты и оружие: ножи, кинжалы, мачете, топоры, мотыги и остроги. У них имелись также медные и алюминиевые кастрюли, бидоны, чугунки, точило, печь-жаровня, металлические и деревянные бочки. Огромные гамаки, изготовленные из чистой шерсти, украшались плетеной бахромой и узорами, выполненными яркими и стойкими красками – кроваво-красной, светло-синей, серебристо-черной и ярко-желтой.
Дом был вскоре готов, и она стала приносить в него вещи, которые ей отдавали соплеменники. Например, появился треножник, устанавливаемый над очагом, большущий гамак, который и четверых взрослых вместил бы, если лечь поперек; стаканы, жестяные банки, кастрюли и даже упряжь для осла.
Вот уже две недели с тех пор, как я появился тут, мы ласкаем друг друга, но дальше этого дело не продвигается. Она, как настоящая дикарка, отвергает естественное развитие событий. Я ничего не мог понять. Сама же возбудит меня до предела и, когда, как говорится, все на мази, вдруг отказывает. На ней ничего нет, кроме набедренной повязки, которая тонким шнурком удерживается на стройной талии, а со спины все тело совершенно обнажено. Мы стали обустраивать свое жилье. В хижине три двери. Одна главная, две другие на некотором расстоянии от нее смотрят друг на друга. В плане они образуют равнобедренный треугольник. Каждая дверь имеет свое назначение: мне положено входить и выходить только через северную дверь, ей – только через южную. Она не может пользоваться моей, а я – ее дверью. Парадная дверь предназначена для друзей. Мы ею можем воспользоваться лишь в том случае, если с нами идут гости.
Только тогда, когда наш семейный очаг принял законченный вид, она отдалась мне. Не хочу вдаваться в подробности, но лишь скажу, что ее природный инстинкт подарил мне жаркую и удивительно искусную любовь, а тело ее обвивало меня, словно лиана. Когда мы оставались одни, я расчесывал и заплетал ей волосы. И когда я это делал, она испытывала неописуемое счастье. Лицо ее светилось от удовольствия, а в душу заползал страх: вдруг кто-нибудь увидит! Я понял, что мужчине не полагалось расчесывать своей женщине волосы, так же как и чистить ей ладони пемзой. Нельзя было целовать в губы или груди не принятым у них образом. Так и стали мы жить с Лали (ее звали Лали) в нашем доме. Меня удивляло только одно: она не пользовалась металлической посудой – ни кастрюлями, ни сковородами – и не пила из стаканов, в ходу у нее была только глиняная посуда, которую индейцы делали сами. Душем служила нам лейка, а отхожим местом – океан.
Я попал к индейцам в сезон охоты за жемчугом. Раковины-жемчужницы доставали со дна моря молодые девушки-ныряльщицы. Пожилые женщины вскрывали раковины. У каждой ныряльщицы был свой мешок. Добытый жемчуг делился таким образом: одна доля – вождю как представителю племени, одна доля – лодочнику, полдоли – женщине, вскрывавшей раковины; полторы доли – ныряльщице. Если девушка жила в семье, она отдавала жемчуг дяде, брату отца. Для меня так и осталось загадкой, почему именно дядя первым приходил в дом собравшейся вступить в брак пары и, взяв руку невесты, клал ее на пояс жениха, а руку жениха – на талию невесты с таким расчетом, чтобы указательный палец мужчины упирался женщине в пупок. Проделав такой церемониал, дядя уходил из дома, оставляя новобрачных наедине.
Итак, я попал к индейцам в сезон охоты за жемчугом, но в море ни разу не выходил, потому что меня никто не приглашал сесть в лодку. Ловили довольно далеко от берега – метрах в пятистах. Случались дни, когда Лали возвращалась вся в царапинах от кораллов. Бывало, раны кровоточили, и тогда она толкла водоросли и втирала жидкую массу в пораненные места. Я не принимал участия ни в каких делах, если не получал приглашения. Я никогда не входил в хижину вождя, если он сам или кто-то другой не вел меня туда за руку. У Лали закралось подозрение, что три девушки-индианки, ее ровесницы, прячась в траве неподалеку от нашей хижины, пытаются подглядеть и подслушать, чем мы с ней занимаемся.
Вчера я познакомился с индейцем, совершавшим поездки между нашей деревней и ближайшим селением на колумбийской территории, в двух километрах от пограничного поста. Это селение называлось Ла-Вела. У индейца было два осла, и он носил с собой винтовку системы Винчестер. Как и все его соплеменники, он ходил в чем мать родила, подпоясавшись только набедренной повязкой. Он ни слова не говорил по-испански, поэтому для меня было удивительно, как ему удавалось вести торговлю. С помощью словаря я написал на листе бумаги: agujas (иголки), красная и синяя тушь, нитки. Вождь много раз просил меня сделать ему татуировку. Этот краснокожий торговец был небольшого роста, высохший и морщинистый. Страшная рана обезображивала его тело. Она начиналась у нижнего ребра, шла через грудь и заканчивалась у правого плеча. После заживления рана оставила круглый рубец толщиной в палец. Жемчуг индеец возил в коробке из-под сигар, разделенной на ячейки, где жемчужины рассортировывались по размерам. При отъезде индейца из нашей деревни вождь разрешил мне проводить его немного. А чтобы я вернулся назад, он, по своему простодушию, дал мне двустволку и шесть патронов. Уверенность вождя основывалась на том, что я буду обязан возвратиться, никто не сомневался, что я не посмею унести с собой чужую вещь. Ослы шли без поклажи, поэтому индеец сел на одного, а я на другого. Весь день мы ехали по той самой тропе, по которой я пришел сюда, но примерно километрах в трех-четырех от пограничного поста индеец повернулся спиной к морю и поехал вглубь материка.
Около пяти часов вечера мы добрались до берега ручья, где стояли пять индейских хижин. Все высыпали поглазеть на меня. Мой спутник говорил, говорил и говорил, пока наконец не появился один малый, обличьем вылитый индеец – разрез глаз, волосы, черты лица, за исключением цвета кожи. Он был белый, у него были красные глаза альбиноса, и носил он штаны цвета хаки. Только тогда я сообразил, что индеец из нашей деревни дальше этого места никогда не ездил. Белый индеец сказал мне:
– Buenos días (добрый день). Tú eres el matador que se fuqó con Antonio? (Ты убийца, который бежал с Антонио?) Antonio es compadre mío de sangre. (Антонио – мой побратим по клятве на крови.)
Стать побратимами по клятве на крови означает следующее: двое мужчин скрещивают руки, затем каждый своим ножом делает надрез другому, метит собственной кровью руку друга и слизывает размазанную кровь.
– Qué quieres? (Что ты хочешь?)
– Agujas, tinta china roja y azul. Nada más. (Иголки. Красная и синяя тушь. Больше ничего.)
– Tú lo tendrás de aquí a un cuarto de luna. (Ты их получишь в следующую четверть луны, считая с сегодняшнего дня.)
Он лучше меня говорил по-испански. Чувствовалось, что он знает, как надо совершать меновые сделки с цивилизованным миром, яростно отстаивая при этом интересы соплеменников. Когда мы стали собираться домой, он вручил мне ожерелье из колумбийских серебряных монет и сказал, что это для Лали.
– Vuelva a verme (приезжайте сюда еще), – добавил белый индеец. А чтобы так и случилось, он дал мне лук.
В обратный путь я отправился один. Не проехал и полдороги, как увидел Лали с младшей сестрой, девочкой лет двенадцати или тринадцати. Лали же было между шестнадцатью и восемнадцатью. Она с яростью набросилась на меня и стала царапать мне грудь, благо лицо мне удалось прикрыть руками. В диком бешенстве она укусила меня в шею. У меня едва доставало сил, чтобы удерживать ее на расстоянии. Внезапно она успокоилась. Я посадил сестру на осла, а сам с Лали пошел сзади, обняв ее за талию. Медленно шли мы к деревне. По дороге я убил сову. Я выстрелил, не представляя, в кого стреляю, – просто увидел светящиеся в темноте глаза. Лали настояла, чтобы мы взяли сову с собой, и приторочила ее к седлу осла. Мы добрались домой на рассвете. Я настолько устал, что мне ничего не хотелось – только помыться и лечь отдохнуть. Сначала Лали вымыла меня. Затем прямо у меня на глазах сняла с сестры набедренную повязку и принялась намывать ее тоже. Сама вымылась последней.
Когда они обе снова вошли в хижину, я сидел у огня и ждал, пока закипит вода. Я готовил напиток с лимоном и сахаром. И тут Лали совершила поступок, смысл которого дошел до меня значительно позже. Она втиснула свою сестру мне между ног, а мою руку положила ей на пояс. Я заметил, что на сестре не было набедренной повязки, а на шее висело ожерелье, которое я отдал Лали. Я не знал, как выйти из этого деликатного положения. Осторожно освободившись от девушки, я поднял ее на руки и отнес в гамак. Затем снял с нее ожерелье и надел его на Лали. Она легла рядом с сестрой, а я рядом с Лали. Спустя много времени я узнал, что Лали тогда подумала, будто я собираюсь оставить их деревню потому, что не был счастлив с ней. Поэтому она и решила, что сестра сможет удержать меня. Когда я проснулся, то мои глаза сразу встретились с ладонями Лали. Маленькой сестры больше не было с нами; было уже поздно – около одиннадцати утра. Лали с любовью смотрела на меня своими большими серыми очами. Нежно и осторожно покусывала уголки моих губ. Она была счастлива и хотела сказать мне, что знает, как я ее люблю, что я их не покину даже в том случае, если она не сможет удержать меня при себе.
Перед хижиной я увидел индейца, который обычно ходил с Лали на охоту за жемчугом и управлял каноэ. Я понял, что он ее поджидает. Индеец улыбнулся мне и закрыл глаза, как в настоящей пантомиме: он понимает, говорилось в этом подражании, что Лали спит. Я присел рядом. Индеец о чем-то долго говорил, а я ровным счетом ничего не понимал. Он был молод, хорошо сложен и удивительно силен. Конечно же, в центре внимания оказались мои наколки, которые он рассматривал и изучал, а потом жестами дал понять, что ему бы очень хотелось, чтобы я сделал ему такую татуировку. Я кивнул в знак согласия, но у него был такой вид, будто он не верит, что я сумею. Появилась Лали. С головы до пят она была натерта маслом. Она знала, что это не нравится мне, но дала понять, что в пасмурную погоду вода будет холодная и такая мера необходима. Ее мимика, полунасмешливая-полусерьезная, показалась мне настолько очаровательной, что я заставил Лали объяснить мне эту истину несколько раз, притворяясь, что совершенно ничего не понимаю. Когда я сделал вид, что опять ничего не понял, и попросил объяснить все сначала, лицо ее вытянулось в такой уморительной гримасе, что по ней можно было прочитать: «Или ты глупый, или я такая дура, что толком не могу объяснить, зачем я натерлась маслом». Мимо проходил вождь в сопровождении двух индианок. Они несли огромную зеленую ящерицу весом не менее четырех с половиной килограммов. Вождь нес лук и стрелы. Он только что убил эту ящерицу и приглашал меня пойти с ним и отведать добычи. Заговорила Лали. Вождь коснулся моего плеча и указал на море. Я понял, что могу идти с Лали, если захочу. К морю мы отправились втроем: Лали, ее обычный напарник-рыбак и я. Лодка, сделанная из бальсового дерева, была очень легкой, и нести ее не представляло никакого труда. Они вошли в море, неся лодку на плечах, затем спустили ее на воду. Выйти в море оказалось настоящим искусством: рыбак первым забрался в лодку и сел на корму, держа в руках огромное весло. Лали, стоя по грудь в воде, удерживала лодку в устойчивом положении и не давала ей снова прибиться к берегу. Я сел посередине, и в тот момент, когда Лали тоже оказалась в ней, рыбак погрузил в воду весло, и мы поплыли. Чем дальше мы уходили от берега, тем выше были волны. Метров через пятьсот или шестьсот мы оказались в своего рода канале, где уже стояли две лодки. Лали уложила косы вокруг головы, подвязав их красными кожаными ремешками, которые в свою очередь замотала вокруг шеи и закрепила узлом. Держа в руке большой нож, она пошла вниз в направлении якоря, толстого железного бруса весом около пятнадцати килограммов, опущенного на дно ее напарником. Хотя лодка и стояла на якоре, она не могла избежать килевой качки, то поднимаясь, то опускаясь на волнах. Дно не просматривалось, но, судя по времени, которое требовалось Лали, чтобы опуститься до него и всплыть на поверхность, глубина здесь была метров пятнадцать-восемнадцать. Каждый раз, когда она выныривала с мешком в руке, рыбак высыпал раковины в лодку. В течение всех этих трех часов Лали ни разу не залезала в каноэ, чтобы отдохнуть. Она это делала в воде, уцепившись рукой за борт лодки, и так отдыхала минут пять или десять. Мы дважды меняли место, но Лали и тогда не садилась в каноэ. Место, где мы заякорились второй раз, оказалось богаче уловом, и раковины были там крупнее. Повернули обратно. Лали влезла в лодку, и волны вскоре прибили нас к берегу; старая индианка уже поджидала нас. Мы с Лали предоставили возможность ей и рыбаку отнести раковины на сухой песок. Когда все раковины были выгружены, Лали остановила старую индианку, готовую уже вскрывать их, и начала это делать сама. Кончиком ножа она быстро и ловко вскрыла около тридцати раковин, прежде чем нашла жемчужину. Само собой разумеется, я за это время поглотил их не менее двух дюжин. Мясо жемчужницы казалось только что охлажденным – признак низкой температуры воды у дна. Лали осторожно извлекла жемчужину величиной с ноготь мизинца. Такая жемчужина считалась крупнее средней. Как она сияла! Природа придала ей удивительное свойство менять гамму цветов, причем ни один из них не отличается резкостью тона и не проявляется слишком явственно. Лали взяла жемчужину пальцами, положила себе в рот, подержала с минуту, а затем вынула и засунула мне в рот. Имитируя жевание, она показывала мне, что надо раскусить ее и проглотить. При первом отказе она так мило стала упрашивать меня, что пришлось уважить ее просьбу: я раздавил жемчужину зубами, разжевал и проглотил ее. Она вскрыла еще несколько жемчужниц и заставила меня съесть их, давая понять, что жемчужину нужно проглотить без остатка. Повалив меня силой на песок, она, как маленькая девочка, открыла мне рот, чтобы посмотреть, не осталось ли между зубами крошек. Потом мы пошли в деревню, оставив рыбака и старую индианку заниматься своим делом.
Прошел месяц. Я не мог ошибиться, потому что каждое утро отмечал число и день на листе бумаги. У меня появились иглы, а также красная, синяя и фиолетовая тушь. В хижине вождя нашлись три бритвы фирмы «Золинген». Бритвы не использовались по назначению, поскольку у индейцев не растет борода, лишь одной из них подрезали волосы. Я сделал Сато (вождю) наколку на руке. Изобразил индейца с разноцветными перьями на голове. Вождь был в восторге. Он предупредил меня, чтобы я никому больше не делал наколок до тех пор, пока у него на груди не появится большая картина. Он хотел такую же, как у меня, – голову тигра с длинными клыками. Я засмеялся: в рисовании я не настолько силен, чтобы выполнить такую прекрасную работу. Лали выщипала на моем теле все волосы. Просто видеть их не могла, тут же вырывала и смазывала кожу кашицей из водорослей с примесью золы. После этого волосы росли не так обильно.
Я оказался среди индейцев племени гуахира. Жили они на побережье и дальше на равнине, вплоть до самого подножия гор. В горах селились другие племена под названием мотилоны. Спустя годы мне пришлось с ними столкнуться. Как я уже говорил, индейцы гуахира поддерживали косвенную связь с цивилизованным миром через меновые сделки. Те, что жили на побережье, поставляли белому индейцу из Ла-Вела жемчуг и живых черепах. Вес отдельных экземпляров иногда достигал ста пятидесяти килограммов и более. Правда, эти черепахи уступали особям, вылавливаемым в устье Ориноко и Марони, вес которых около четырехсот килограммов, а размер панциря – метр в ширину и два в длину. Если такую черепаху положить на спину, она уже сама никогда не сможет перевернуться. Я сам видел, как их отправляли еще живыми после трехнедельного «отдыха» на спине без пищи и питья. Что касается крупных зеленых ящериц, то должен отметить, что они весьма съедобны. Их нежное белое мясо – просто деликатес, а яйца, приготовленные в песке на солнцепеке, очень вкусны. Только вот внешний вид этих тварей немного отталкивает неискушенного гурмана.
Каждый раз, когда Лали возвращалась с моря, свою долю жемчуга она отдавала мне. Я клал жемчужины в деревянную миску без разбора: большие, средние, маленькие – все вместе. Но были и такие, которые я откладывал в сторону и помещал в пустой спичечный коробок. Две розовые, три черные и семь удивительно красивых жемчужин серого металлического цвета. У меня была еще большая жемчужина неправильной формы – по размерам и по виду она напоминала нашу белую или красную фасоль. Эта причудливая жемчужина была трехцветной. И цвета располагались слоями – один над другим. В зависимости от погоды какой-то цвет начинал преобладать над другими. Это был то черный, то цвет вороненой стали, то серебристый с розоватым отблеском. Благодаря жемчугу и черепахам племя ни в чем не нуждалось. Правда, у индейцев были кое-какие никчемные вещи и не было того, что явно могло бы оказаться полезным. Например, на все племя не было ни одного зеркала. Я занялся поисками и нашел квадратную никелированную пластину со стороной сантиметров сорок пять – несомненно, остатки кораблекрушения. После этого я мог поглядеть на себя и побриться.
Моя политика в отношении моих друзей была проста: я не делал ничего такого, что могло бы поколебать авторитет вождя или умалить его мудрость в глазах соплеменников. В этом смысле я проявлял еще большую осторожность в общении со старым индейцем, жившим в четырех километрах от нашей деревни и моря. Это был знахарь, пользовавший некоторые поселения индейцев гуахира. Он держал разных змей, двух коз и дюжину овец. Смысл моего поведения заключался в том, чтобы ни в ком не вызывать чувства зависти или желания поскорей от меня избавиться. За эти два месяца я совершенно приспособился, и ко мне привыкли все как один. У знахаря было еще десятка два куриц. В двух деревушках, которые я знал, не водилось ни коз, ни кур, ни овец, и я пришел к заключению, что владение домашними животными является его привилегией. Каждое утро к нему направлялась одна из женщин, неся на голове плетеную корзину со свежей рыбой и прочими дарами моря. Ему приносили также кукурузные лепешки, испеченные в то же утро на раскаленных камнях. Иной раз, но не всегда, женщина возвращалась от знахаря с яйцами и простоквашей. Когда знахарь хотел, чтобы я его навестил, он присылал мне лично три яйца и гладко отполированный деревянный нож. Лали провожала меня до середины пути и ждала моего возвращения в тени большого кактуса. В мой первый визит к знахарю она вложила мне в руку деревянный нож и указала направление, куда мне следовало идти.
Старый индеец жил в ужасной грязи в палатке, устроенной из растянутых коровьих кож шерстью внутрь. Посреди – три камня с разведенным между ними огнем. По смраду можно было догадаться, что огонь здесь никогда не затухает. Индеец спал не в гамаке, а на самодельной кровати из веток. Палатка была довольно большой и занимала площадь не менее двадцати квадратных метров. Стены отсутствовали, если не считать нескольких переплетенных веток с подветренной стороны. Я увидел двух змей, одна метра три длиной и в руку толщиной с желтой буквой V на голове, и подумал про себя: «Сколько же эти твари могут сожрать яиц и цыплят!» Я никак не мог понять, как здесь могли уживаться козы, куры, овцы и даже осел. Индеец осмотрел меня с ног до головы и заставил даже снять штаны, которые Лали перекроила в шорты, и, когда я предстал перед ним в чем мать родила, усадил меня на камень возле очага и бросил в огонь зеленые листья. От них пошел густой дым с запахом мяты. Дым окутал меня целиком, довел до удушья, но я почти не кашлял, а терпеливо сидел минут десять и ждал, когда все это закончится. Затем он сжег мои штаны и одарил меня двумя набедренными повязками из овечьей и змеиной кожи. Последняя была мягкой, как замшевая перчатка. Он надел мне на руку плетеный браслет из кожи овцы, козы и змеи шириной сантиметров десять. По желанию его можно было ослабить или затянуть с помощью ремешка из змеиной кожи.
На левой ноге знахаря у щиколотки была язва величиной с двухфранковую монету, по ноге ползали мухи. Время от времени он сгонял их, а когда они чересчур его донимали, присыпал болячку золой. Перед самым моим уходом знахарь, покончив с обрядом усыновления, дал мне другой деревянный нож размером поменьше. Лали потом объяснила мне, что, если я захочу навестить знахаря, я должен послать ему маленький нож, а когда он захочет меня принять, то пришлет мне большой. Я покинул жилище старого индейца. В памяти остались его черты: шея и лицо в морщинах, во рту пять зубов – передние: два сверху и три снизу. Миндалевидный разрез глаз, как и у всех индейцев. Веки такие толстые и тяжелые, что, когда он их закрывал, глазницы походили на яблоки. Ни бровей, ни ресниц, но прямые и совершенно черные, аккуратно подрезанные волосы, ниспадавшие на плечи. Как и все индейцы, он носил челку до бровей.
Я уходил от него с ощущением неловкости за свою голую задницу. Но что поделаешь: раз бежал, приходится пройти и через это. С индейцами шутки плохи, их следует принимать всерьез, ведь свобода стоит маленьких неловкостей и неудобств! Увидев меня в набедренной повязке, Лали посмеялась от души. Ее прекрасные белые зубы сверкали, как тот жемчуг, который она доставала со дна моря. Она изучила со всех сторон мой браслет и другую набедренную повязку из кожи змеи. Затем обнюхала меня, чтобы убедиться, что я обкуривался дымом. Нужно отметить, что у индейцев чувство обоняния развито очень сильно.
Я стал привыкать к своей новой жизни и понял, что не следует заходить слишком далеко, иначе привычка может перерасти в потребность, и тогда вообще не захочется уходить. Все это время Лали внимательно за мной наблюдала: она очень хотела, чтобы я принимал более активное участие в жизни племени. Она видела, как я ловлю рыбу, как ловко владею веслом и искусно управляю легкой маленькой лодкой, поэтому ей очень хотелось, чтобы я приобщился к промыслу жемчуга. Но эта идея меня совсем не устраивала. Лали считалась лучшей ныряльщицей в деревне. Ее лодка всегда привозила самые лучшие и самые крупные раковины, как правило встречавшиеся на очень больших глубинах. Мне также было известно, что индеец, напарник Лали, управлявший лодкой, приходился вождю родным братом. Если я пойду в море с Лали, это затронет его интересы, что никак не входило в мои планы. Я стал задумываться и размышлять над этой проблемой. Лали поняла меня по-своему – она снова пошла за сестрой. Вернувшись бегом в диком восторге, проскользнула в дом не через свою, а через мою дверь. Это что-нибудь да значило! Так и есть! Вот они обе перед главной дверью со стороны моря. Там они расходятся. Лали обходит хижину кругом и проникает в дом через свою дверь, а Сорайма, младшая сестра, через мою. Грудь Сораймы едва дотягивает до величины спелых мандаринов, и волосы у нее совсем короткие. Они подрезаны точно на уровне подбородка, челка опускается ниже лба и почти закрывает глаза. Каждый раз, когда Лали приводит сестру таким вот образом, они купаются вместе, затем входят в дом, снимают набедренные повязки и вешают их на гамак. Младшая всегда уходит от нас в большой печали – не беру я ее, и все тут! Однажды, когда мы втроем лежали в гамаке с Лали посередине, она встала и снова легла уже с моей стороны, плотно прижав меня к обнаженному телу Сораймы.
Напарник Лали повредил колено – на ноге зияла очень глубокая рана. Его унесли к знахарю, откуда он возвратился самостоятельно с пластырем из белой глины. В то утро я пошел в море с Лали. Как положено, спустили на воду каноэ, и все у нас складывалось хорошо. Заплыли дальше обычного. Лали искренне радовалась: наконец-то мы с ней вдвоем в лодке. Перед погружением Лали натерлась маслом. Дно не просматривалось сквозь черную водную толщу. Там, на глубине, должно быть, очень холодно, подумалось мне. Совсем рядом проплыли три акулы, выставив над водой спинные плавники. Я указал на них Лали. Она отреагировала спокойно, убедив меня, что никакой опасности нет. Было десять утра, светило солнце. Намотав мешок на левую руку и прицепив к поясу нож в ножнах, Лали нырнула. Лодка не шелохнулась, поскольку Лали не отталкивалась ногами от борта, как это сделал бы обычный ныряльщик. Погружение прошло удивительно быстро. Лали исчезла почти мгновенно в придонной темноте. Первый заход был чисто разведочный, поскольку в мешке, когда Лали вынырнула, оказалось всего лишь несколько раковин. У меня возникла идея. В лодке нашлась приличная бухта кожаного каната. Я привязал свободный конец двойным узлом к горловине мешка, передал мешок Лали и стал стравливать канат по мере ее погружения. Канат змейкой сбегал с лодки и тянулся за Лали. Она поняла мой замысел и долго не всплывала, а появилась на поверхности уже без мешка. Уцепившись рукой за борт, чтобы немного отдохнуть, она подала мне знак, чтобы я вытаскивал мешок наверх. Я стал плавно поднимать, в каком-то месте груз зацепился за кораллы. Лали нырнула и освободила мешок. Я его вывел на поверхность, заполненный наполовину, и высыпал раковины в лодку. В то утро за восемь погружений на пятнадцатиметровую глубину мы заполнили лодку почти доверху. Когда Лали снова оказалась в лодке, до поверхности воды оставалось не более пяти сантиметров. Лодка была опасно перегружена и могла затонуть при выборе якоря. Поэтому я отвязал от лодки якорный канат, привязал его к запасному веслу и оставил на плаву до следующего прихода. До берега добрались без всяких приключений.
Старая индианка уже поджидала нас, а вместе с ней и напарник Лали. Он сидел на сухом песке, где обычно вскрывали раковины, и был очень доволен нашим уловом. Было похоже, что Лали объясняла ему, как я привязал канат к мешку, насколько ей было легче всплывать на поверхность, набив мешок раковинами. Индеец внимательно рассматривал двойной узел на мешке. После первой попытки ему удалось завязать его правильно. Он посмотрел на меня, очень довольный собой.
Старая индианка вскрыла раковины и нашла тринадцать жемчужин. Обычно Лали не оставалась на берегу, а отправлялась домой, куда и приносили ее долю. Но в этот день она осталась до разделки последней жемчужницы. Я съел дюжины три устриц. Лали – пять или шесть штук. Индианка разделила жемчуг. Все жемчужины оказались более или менее одинаковой величины, примерно с крупную горошину. Она отложила три вождю, три отдала мне, две взяла себе и пять вручила Лали. Лали три свои жемчужины отдала мне. Я протянул их раненому индейцу. Тот стал отказываться. Я разжал ему руку, вложил жемчужины и сжал ее, придавив пальцами. Только так он и принял их. Его жена и дочь, молча наблюдавшие за сценой издалека, покатились со смеху и присоединились к нам. Я помог довести индейца до хижины.
Две недели в деревне судили и рядили об этой сцене. А я каждый раз передавал жемчуг рыбаку. Вчера я сохранил одну для себя, одну из шести из своей доли. Когда мы возвратились домой, я уговорил Лали съесть жемчужину. Она пришла в дикий восторг и пела весь день. Время от времени я навещал белого индейца. Он попросил меня называть его Соррильо, что означает «маленькая лиса» по-испански. Он довел до моего сведения свой разговор с вождем, который просил Соррильо поинтересоваться у меня, почему я не соглашаюсь сделать вождю татуировку головы тигра. Я объяснил, что недостаточно хорошо рисую. С помощью словаря я попросил белого индейца достать мне прямоугольное зеркало величиной с мою собственную грудь, кальку, тонкую кисточку, бутылку с тушью и копировальную бумагу. Если не достанет копирку – можно толстый мягкий карандаш. А еще я попросил его достать одежду моего размера, три рубашки цвета хаки и все это барахло оставить до времени у себя. Я узнал, что полиция спрашивала его обо мне и об Антонио. Он дал полиции такие сведения: я пробрался через горы в Венесуэлу, а Антонио умер от укуса змеи. Соррильо было также известно, что в тюрьме Санта-Марты сидят французы.
В доме Соррильо был тот же самый набор вещей, что и в хижине вождя. Целый комплект гончарной посуды: миски, горшки всех форм и расцветок, выполненные с большим художественным вкусом и расписанные любимыми индейскими узорами; великолепные гамаки из чистой шерсти: одни совершенно белые, а другие цветные, с бахромой; выделанные кожи змей, ящериц и огромных жаб; корзины, сплетенные из белых и цветных лиан. Он сказал мне, что все эти вещи сделаны индейцами, живущими в лесах, в глубине материка, в двадцатипятидневном переходе отсюда через буш. Оттуда привозят листья коки. Он дал мне больше двадцати штук. Каждый раз, когда я почувствую слабость, я должен сжевать один лист. При расставании я напомнил Соррильо, чтобы он не забыл достать мне все, что я записал, и еще, если можно, газет и журналов на испанском, поскольку, упражняясь со словарем, я поднаторел кое в чем за два месяца. У него не было никаких вестей от Антонио, известно было только, что произошла еще одна стычка с береговой охраной. В ней убито пять пограничников и один контрабандист, однако лодку захватить не сумели. В деревне я не видел ни капли алкоголя, кроме сброженного сока из фруктов. Заметив бутылку анисовой водки, я попросил Соррильо отдать ее мне. Он не согласился: могу распить ее здесь, а уносить нельзя. Мудрым человеком был этот альбинос.
От Соррильо я уехал на осле, которого он мне дал. На следующий день скотина сама вернется домой. Я прихватил с собой только большой кулек конфет в тонких разноцветных фантиках да шестьдесят пачек сигарет. Лали с сестрой поджидали меня в трех километрах от деревни, никаких сцен она мне не устраивала и согласилась пойти рядом под руку. То и дело она останавливалась и целовала меня в губы, как это принято у цивилизованных людей. Когда мы добрались до деревни, я отправился навестить вождя и дал ему конфет и сигарет. Мы уселись перед дверью и, глядя на море, попивали самодельную настойку, хорошо охлажденную в глиняных кувшинах. Лали сидела справа, обхватив мою ногу чуть повыше колена, а ее сестра в той же позе слева. Они сосали конфеты. Кулек лежал открытым, и женщины и дети потихоньку угощались без приглашения. Вождь подтолкнул голову Сораймы к моей, дав понять, что она хочет быть моей женщиной наравне с Лали. Лали взяла свою грудь в обе руки и указала на маленькую грудь Сораймы, раскрывая тем самым причину, почему я не хочу быть с Сораймой. Я пожимал плечами, и все смеялись. Было видно, что Сорайма чувствовала себя несчастной. Я обнял ее и поцеловал в грудь, она тут же вся засветилась от радости. Я выкурил несколько сигарет. Индейцы тоже попробовали, но вскоре выбросили и принялись за сигары, держа зажженный конец во рту. Затем я попрощался со всеми и пошел, взяв Лали под руку. Она отказалась и двинулась следом. Сорайма следовала за ней. Дома на углях очага мы испекли огромную рыбину – это любимое блюдо. Затем я зарыл в горячую золу двухкилограммовую лангусту. Какое удовольствие лакомиться ее нежным мясом!
Я получил зеркало, кальку и копирку, тюбик клея, хотя и не заказывал его, но он мог пригодиться, несколько карандашей средней твердости, бутылочку с тушью и кисточку. Я подвесил зеркало таким образом, чтобы оно было на уровне груди, когда я садился. В нем отразилась голова тигра в натуральную величину и во всех подробностях. Лали и Сорайма наблюдали за мной с любопытством и интересом. Я принялся наносить очертания кисточкой, но, поскольку тушь постоянно подтекала, пришлось обратиться к клею. Приготовил что-то вроде смеси из клея и туши, и дальше все пошло хорошо. За три сеанса по часу мне удалось нанести на зеркало точную копию головы тигра.
Лали пошла за вождем; Сорайма, взяв мои руки, положила их себе на грудь. Она выглядела настолько несчастной и изможденной от ожидания, а в глазах пылали такие любовь и желание, что я, едва соображая, что делаю, взял ее прямо на земле посередине хижины. Она немного постанывала, но всем телом, напряженным от удовольствия, плотно прижималась ко мне, не желая отпускать. С нежной осторожностью я высвободился из ее объятий и пошел купаться в море, поскольку весь перепачкался в земле. Она последовала за мной, и мы купались вместе. Я обмыл ей спину, а она мне ноги и руки. Домой мы вернулись уже вдвоем. Лали сидела как раз на том месте, где мы лежали. Увидев нас, она сразу поняла, что произошло. Лали встала, обняла меня и нежно поцеловала. Затем она взяла Сорайму за руку и вывела из хижины через мою дверь. Тут же вернулась и вышла через свою. Снаружи послышался какой-то стук. Я вышел из хижины и увидел, что Лали, Сорайма и еще две женщины пытаются пробить ломом отверстие в стене. Я понял, что они делают четвертую дверь. А чтобы стена не треснула и пробивалась в нужном месте, ее поливали водой из лейки. Вот дверь и готова. Сорайма убрала мусор. Теперь это ее дверь, и она не будет больше пользоваться моей.
Пришел вождь с тремя индейцами и братом, нога которого уже почти зажила. Вождь посмотрел на рисунок на зеркальной поверхности и на свое отражение. То и другое его поразило: тигр, так здорово изображенный, и собственное лицо. Он не понимал, что я собираюсь делать. Когда рисунок подсох, я положил зеркало на стол, а на него кальку и занялся копированием. Получалось легко и быстро. Карандаш точно повторял линии. Под любопытными взглядами всех присутствующих мне удалось за каких-то полчаса снять копию, не отличавшуюся от оригинала. Все по очереди брали лист и внимательно изучали его, сравнивая рисунок на бумаге с тигром на груди. Я попросил Лали лечь на стол, прошелся по ее телу слегка смоченной тряпкой, положил ей на живот копирку, а сверху только что выполненный рисунок. Я сделал несколько штрихов. Когда все увидели небольшую часть рисунка, воспроизведенного на коже Лали, их удивлению не было предела. Только тогда вождь понял, что все эти хлопоты я затеял ради него.
Человек, которого не коснулось лицемерие цивилизованного воспитания, реагирует на все происходящее естественным образом. Природа не обделила его способностью к выражению непосредственных чувств благожелательности или недовольства, радости или печали, участия или безразличия. Разительное превосходство чистокровных индейцев, в частности из племени гуахира, чувствуется во всем. Вряд ли мы можем сравниться с ними: если уж они приняли человека, то все, чем они располагают, принадлежит ему, и если, в свою очередь, этот человек сделал для них хоть самую малость, они живо и необычайно трогательно реагируют на это. Я решил пройтись бритвой по основным линиям рисунка, чтобы его контуры были четко обозначены и чтобы наколка прошла успешно с первого сеанса. Затем я еще раз пройдусь по нему тремя иглами, закрепленными в небольшой палочке. На следующий день я принялся за работу.
Сато лег на стол. Я намазал его тело раствором белой глины и дал ей затвердеть. Перед этим я перенес рисунок с кальки на лист твердой белой бумаги, а потом карандашом – на кожу вождя и выждал еще какое-то время, чтобы дать рисунку как следует просохнуть. Вождь лежал на столе, словно мумия, не шевелясь и даже не двигая головой, настолько он боялся испортить картину, показанную ему на зеркале. Я начал прохаживаться по контурным линиям бритвой. Крови было совсем немного, а там, где она едва проступала, я тут же ее вытирал. В тех немногих местах, где бритва захватила ткань несколько глубже обычного, тушь дольше не схватывалась из-за крови, но в целом картина проявилась замечательно. Через восемь дней Саго получил свою голову тигра с разинутой пастью, розовым языком, белыми зубами, черными глазами, носом и усами. Я остался доволен своей работой. Она получилась лучше моей собственной наколки, и краски были живее. После того как сошли струпья, я снова прошелся иголками по некоторым местам. Сато был настолько доволен, что заказал Соррильо еще шесть зеркал – два для себя и по одному в каждую хижину.
Шли дни, недели и месяцы. Наступил апрель – я уже здесь четыре месяца. Здоровье хорошее. Я окреп. И поскольку привык ходить босиком, могу теперь покрывать огромные расстояния без всякой усталости. Это доказывает моя охота на больших зеленых ящериц. Забыл сказать, после моего первого визита к знахарю я попросил Соррильо достать мне настойку йода, перекись водорода, вату, бинты, таблетки хинина и стоваин. Однажды я видел в тюремной больнице каторжника с таким же большим нарывом, как у знахаря, и Шаталь, санитар, раздробил таблетку стоваина и присыпал язву. Я послал знахарю небольшой деревянный нож, в ответ он прислал мне свой. Трудно и долго пришлось убеждать его приняться за лечение. Но после нескольких присыпок нарыв уменьшился наполовину. Он продолжал лечение самостоятельно и в один прекрасный день прислал мне большой нож, чтобы я пришел к нему и посмотрел, что все зажило. Так никто никогда не узнал, кто его вылечил.
Мои жены никогда не оставляли меня одного. Если рыбачила Лали, со мной оставалась Сорайма. Если уходила в море Сорайма, Лали составляла мне компанию.
У Сато родился сын. Когда у его жены начались предродовые схватки, она пошла к морю и отыскала для себя на скале укромное место, скрытое от посторонних глаз. Другая жена Сато снесла ей корзину с кукурузными лепешками, свежей водой и двумя головками коричневого нерафинированного сахара, по два килограмма каждая. Она, должно быть, родила в четыре пополудни, поскольку на закате солнца уже направлялась к деревне, громко крича и высоко держа над собой младенца. Она еще не приблизилась к Сато, а тот уже знал, что родился мальчик. Мне сказали, что, если бы родилась девочка, мать не кричала бы так радостно и не поднимала бы ее высоко над головой, а тихо бы несла ее на руках. Все это объяснила мне Лали на языке пантомимы. Жена Сато прошла еще немного вперед, затем остановилась и подняла ребенка вверх. Сато протянул руки, крикнул, но с места не сдвинулся. Снова жена прошла несколько метров, воздела руки с ношей к небу, закричала и остановилась. И опять Сато закричал и протянул руки вперед. Это повторялось раз пять или шесть на последних тридцати-сорока метрах до хижины. Сато продолжал стоять у двери. Справа и слева от него толпились остальные. Молодая мать остановилась шагах в пяти или шести от вождя. Она подняла ребенка и закричала. Только на этот раз Сато выступил вперед, взял младенца под мышки и, повернувшись лицом к востоку, в свою очередь высоко поднял его над головой. Три раза поднял и три раза крикнул. Затем он положил ребенка на правую руку, сунул его голову себе под мышку и прикрыл левой рукой. Он вошел в дом через главные двери. Все последовали за ним, а мать – последней. Мы выпили весь сброженный сок, который у него был.
Целую неделю утром и вечером перед домом Сато поливали землю из леек. Затем мужчины и женщины яростно утаптывали ее ногами, переступая с носка на пятку. Образовался очень большой круг из плотно утрамбованной красной глины. На следующий день устроили большой навес из бычьих кож, и я понял, что готовится великий пир. Под навесом разместили по крайней мере двадцать огромных кувшинов с известным напитком. Расставили камни, а вокруг них навалили кучи дров, сырых и сухих. Кучи эти росли день ото дня. Эту массу древесины давным-давно выбросило море на берег. Она лежит сухая, белая и гладкая. Есть тут и мощные стволы деревьев, приплывшие издалека и выброшенные на берег волнами бог знает когда. На камнях установили деревянные вильчатые опоры одинаковой высоты – это для огромного вертела. Четыре перевернутые на панцири черепахи; свыше тридцати ящериц, все как одна большущие, со связанными лапами, чтобы не убежали; два барана – все это живое пока мясо приготовлено на заклание и съедание. И вдобавок две тысячи, никак не меньше, черепашьих яиц.
Однажды утром появилась кавалькада из пятнадцати всадников-индейцев. На всех бусы, соломенные шляпы с неимоверно широкими полями, набедренные повязки и мутоновые куртки-безрукавки мехом внутрь. Ноги и ягодицы обнажены. У всех на поясе большие кинжалы, у двоих – двустволки, а у вождя – винтовка. На нем великолепная куртка с черными кожаными рукавами и полная патронная лента. Лошади их очень красивы: небольшие, но жилистые и мастью все серые в яблоко. На крупах лошадей связки сена. О своем прибытии они дали знать еще издалека выстрелами из ружей, но поскольку мчались галопом во весь опор, вскоре и прискакали. Вождь был удивительно похож на Сато и его брата, но старше их обоих. Он слез с великолепного коня и приблизился к Сато. Оба поприветствовали друг друга прикосновением руки к плечу. В дом прибывший вошел один и вышел с ребенком на руках в сопровождении индейца. К нему присоединился Сато. На вытянутых вперед руках гость показал ребенка каждому из прибывших, затем в точности повторил ритуальный жест Сато: повернувшись лицом к востоку, где вставало солнце, он сунул головку младенца под мышку и снова вошел в дом. Только тогда спешились и другие всадники. Они отвели лошадей подальше, навесив им на шеи пучки сена. В полдень прибыли женщины в огромной повозке, запряженной четырьмя лошадьми. Возницей оказался Соррильо. В повозке набралось до двадцати молодых девушек и семеро детей, причем все мальчики.
Еще до приезда Соррильо меня перезнакомили со всеми всадниками, начиная с вождя. Сато указал мне на знак, общий для него, брата и прибывшего вождя: у всех троих мизинец левой ноги был выгнут вверх и лежал запятой на соседнем пальце. Потом он показал мне, что у каждого из троих под рукой одинаковая черная метка, напоминавшая родимое пятно. Я понял это так, что прибывший вождь приходится ему братом. Все страшно восхищались татуировкой Сато, особенно головой тигра. Лица и тела прибывших индианок были расписаны разноцветными рисунками. Лали повесила на шею некоторым из этих девушек коралловые ожерелья, а другим – украшения из раковин, нанизанных на нитку. Я приметил одну особенно прелестную девушку, она была выше остальных, то есть выше обычного для них среднего роста. У девушки был профиль итальянки, как будто с камеи. Волосы черные, с фиолетовым отливом, огромные глаза желтовато-зеленого цвета, длиннющие ресницы и красиво очерченные брови с изгибом. Прическа в индейском стиле – челка с пробором посередине, волосы ниспадают по обеим сторонам лица, закрывая уши. Сзади волосы подрезаны до середины шеи. Упругая грудь, по твердости не уступающая мрамору, как два бутона в гармоничном соседстве красиво раскрывалась навстречу взгляду.
Лали представила меня этой девушке и повела ее в наш дом, куда также направились я, Сорайма и еще одна девушка-индианка. Последняя несла с собой небольшие горшочки и что-то наподобие кисточек. Как выяснилось, прибывшие к нам молодые индианки собирались разрисовать красками девушек из нашей деревни. В моем присутствии молодая красавица принялась создавать свои шедевры на теле Лали и Сораймы. И кисточка у нее немудреная – прутик да клочок шерсти на конце. Она обмакивала ее в различные краски, что, надо полагать, соответствовало замыслу картины. Тогда и я взял свою кисть и, начиная от пупка Лали, нарисовал растение, две ветви которого поднимались до самой груди. На груди я нарисовал розовые лепестки, а соски обозначил желтым цветом. Получился наполовину распустившийся цветок, и даже с пестиком. Трое других захотели, чтобы я тоже их разрисовал. Но я решил посоветоваться с Соррильо. Тот пришел и сказал, что я могу разрисовывать как угодно, поскольку они сами того желают. Что мне оставалось делать! Более двух часов трудился я с кисточкой над грудями приехавших девушек, да и всех из своей деревни разрисовал в придачу. Сорайма настояла на своем желании иметь такую же картину, как у Лали. В это время мужчины жарили на вертеле баранов, а две разрубленные на куски черепахи готовились на горячих углях. Мясо черепахи нежно-красного цвета – его можно принять за говядину.
Я сидел под навесом рядом с Сато и другим вождем. Мужчины ели по одну сторону, а женщины, кроме тех, кто нас обслуживал, – по другую. Поздно-поздно ночью пиршество завершилось плясками. Плясали под звуки флейты, резкие и монотонные, и под бой барабанов, изготовленных из овечьей кожи. Многие были пьяны, как мужчины, так и женщины, но никаких неприятностей не последовало. Знахарь приехал на осле. Каждый посмотрел на розовый шрам, где прежде была язва, о которой знали и стар и млад. Факт, что она зажила, поразил решительно всех. В курсе этого чуда были только я да Соррильо. От Соррильо я узнал, что вождь прибывшего к нам племени приходится Сато отцом, а имя его – Хусто, что означает «справедливый». Это он вершит суд и выносит вердикты во всех распрях, возникающих между его племенем и другими племенами гуахира. Он рассказал мне также, что, когда случаются острые разногласия с племенем лапу из другой индейской народности, они собираются все вместе и обсуждают, вести ли войну или решить вопрос мирными средствами. Если какой-то индеец убит представителем другого племени и хотят избежать войны, то договариваются между собой о возмещении за убитого. Иногда эта выплата бывает столь высока, что доходит до двухсот голов крупного рогатого скота. У индейцев в горах и предгорьях пасется множество коров и бычков. К сожалению, они никогда не проводили вакцинации против ящура, поэтому частые эпизоотии приводят к большому падежу животных. «Это и хорошо, с одной стороны, – сказал мне Соррильо, – не дает им чересчур расплодиться». Соседние страны – Колумбия и Венесуэла – официально запретили индейцам продавать скот со своей территории – боятся все того же ящура. Правда, как заметил Соррильо, процветает контрабанда скота через горы.
Хусто, приехавший к нам вождь, через Соррильо пригласил меня к себе в гости. У него в деревне, кажется, более ста хижин. Мне было сказано, что я могу взять с собой Лали и Сорайму. Нам отведут целый дом. Брать с собой ничего не надо, поскольку приедем мы на все готовое. Нужно только захватить принадлежности для татуировки: вождь тоже хотел иметь на груди голову тигра. Он снял с запястья браслет из черной кожи и отдал мне. Соррильо пояснил, что это знак особого расположения, это все равно, как если бы вождь сказал: «Я твой друг, а потому ни в чем тебе не откажу». Вождь спросил меня, хочу ли я лошадь. Я не возражал, но засомневался в возможности принять подарок: травы́ вокруг почти никакой. Он сказал, что Лали и Сорайма, когда надо, привезут. Он указал места, где много высокой и хорошей травы. Совсем недалеко: полдня езды верхом. Я принял лошадь, и вождь сказал, что ее скоро пришлют.
Я воспользовался длительным визитом Соррильо и посвятил его в свой план пробраться в Колумбию или Венесуэлу. Я сказал, что надеюсь на его помощь и что он меня не выдаст. Соррильо поведал мне о тех опасностях, которые могут меня поджидать первые тридцать километров по обе стороны границы. Как утверждают контрабандисты, венесуэльская сторона более опасна, чем колумбийская. Более того, он согласился проводить меня почти до Санта-Марты, что на территории Колумбии. Он добавил, что я уже ходил этой дорогой, а Колумбия, по его мнению, именно то место, которое мне требуется. Он согласился, что мне нужен другой словарь, а еще лучше учебник испанского языка с обиходными словами и фразами, и заметил, что было бы совсем неплохо, если бы я научился сильно заикаться при разговоре: людей очень раздражает слушать заику, и они будут за меня договаривать слова и предложения, не обращая внимания на акцент. Мы договорились сделать так: он достанет мне книги и самую подробную карту, а придет время – продаст мой жемчуг за колумбийские деньги. Соррильо заверил меня, что индейцы, включая вождя, будут на моей стороне; они поймут и не будут противиться моему решению: они будут сожалеть, но что поделаешь – желание возвратиться к своему народу для них так естественно! Трудно будет с Сораймой, но еще труднее с Лали. Как та, так и другая способны будут меня застрелить. Особенно Лали. И еще узнал я от Соррильо то, о чем совершенно не догадывался, – Сорайма была беременна. Ничего подобного я не замечал. Новость привела меня в замешательство.
Праздник закончился, все разъехались по домам, навес убрали, и все вернулось на круги своя, по крайней мере внешне. Мне пригнали лошадь великолепной серой масти в яблоко, с хвостом до земли и серебристой гривой. Лали и Сорайма не проявили никакой радости. Меня пригласил к себе знахарь и сказал, что они спрашивали его, нельзя ли подсыпать в корм лошади битого стекла, чтобы она издохла. Нет ли в этом опасности? Он предупредил их, чтобы не делали этого, так как я нахожусь под покровительством бог весть какого индейского святого и стекло попадет в их собственный живот. Он полагал, что опасность миновала, но до конца нельзя быть уверенным, поэтому следует подумать о мерах предосторожности. А лично мне что-нибудь угрожает? Нет, отвечал знахарь. Если они узнают о моих серьезных приготовлениях к отъезду, то, по всей вероятности, застрелят меня. Особенно Лали способна на такой поступок. А не стоит ли мне попытаться убедить, что уезжаю на время и обязательно вернусь? Нет-нет, ни за что нельзя показывать, что я собираюсь уходить.
Общение со знахарем на таком высоком смысловом уровне оказалось возможным потому, что он в этот же день пригласил к себе Соррильо, который и служил нам переводчиком. Соррильо придерживался мнения, что события принимают серьезный оборот и следует принять все меры предосторожности. Я отправился домой. Соррильо приходил и уходил дорогой, которая никак не пересекалась с моей. Поэтому в деревне никто не знал, что знахарь приглашал нас к себе вместе.
Прошло полгода. Я стал сгорать от нетерпения поскорее уехать. Однажды, придя домой, я застал Лали и Сорайму склонившимися над картой. Они пытались понять, о чем могли говорить ее рисунки. Особенно взбудоражила их роза и ее четыре луча, указывавшие направление четырех стран света. Они нервничали, явно догадываясь, что эта бумага должна сыграть какую-то важную роль в нашей жизни.
Беременность Сораймы действительно обозначилась. У Лали проявилось чувство ревности, она понуждала меня к половой близости в любое время дня и ночи, в любом подходящем месте. Сорайма тоже требовала любви, но, слава богу, только ночью. Я поехал навестить Хусто, отца Сато. Лали и Сорайма были со мной. К счастью, рисунок у меня сохранился. По нему я сделал наколку головы тигра на груди Хусто. Через шесть дней все было готово. Струпья с тела сошли быстро, благодаря тому что Хусто обмывался водой, предварительно бросив туда небольшой кусочек негашеной извести. Хусто был настолько доволен картиной, что смотрелся в зеркало по несколько раз в день. Пока мы были в гостях у Хусто, к нам приехал Соррильо. С моего разрешения Соррильо посвятил Хусто в мои планы. Мне следовало сменить лошадь, так как в Колумбии не было лошадей гуахира серых в яблоко, а у Хусто были три лошади из Колумбии рыжей масти. Как только вождь узнал о моем намерении, он послал за лошадьми. Я выбрал ту, которая мне показалась более смирной; на ней было седло, стремена и железные удила. Надо заметить, что индейцы ездят без седла, а удила у них сделаны из кости. Снарядив меня под колумбийца, Хусто вручил мне поводья из коричневой кожи и у меня на глазах отсчитал тридцать девять золотых монет по сто песо каждая. Он передал их Соррильо на сохранение до моего отъезда. В назначенный день Соррильо вручит их мне. Он хотел отдать мне свою винтовку, но я отказался. Соррильо подтвердил, что мне нельзя ехать в Колумбию вооруженным. Тогда Хусто дал мне две стрелы величиной с палец. Они были завернуты в шерсть и вложены в кожаные футляры. Соррильо пояснил, что стрелы отравлены, они пропитаны очень сильным и чрезвычайно редким ядом.
Соррильо никогда не видел и не имел отравленных стрел. Он будет их хранить у себя до моего отъезда. Я не знал, каким образом выразить Хусто свою благодарность за такую щедрость. Через Соррильо он сказал мне, что знает о моей жизни совсем немного, но, судя по тому, что я настоящий мужчина, мое прошлое, должно быть, богато событиями. Он впервые познакомился с белым человеком, он всегда их считал врагами, но теперь они ему нравятся, и он постарается найти другого, похожего на меня.
– Подумай, – сказал вождь, – прежде чем отправиться в земли, где у тебя много врагов, подумай, что здесь, на нашей земле, у тебя только друзья.
Он сказал, что вместе с Сато присмотрит за Лали и Сораймой. Если у Сораймы родится мальчик, он займет достойное и почетное место в племени.
– Я не хочу, чтобы ты уходил. Оставайся, и я отдам тебе ту красивую девушку, которую ты видел на празднике. Она девственница, и ты ей нравишься. Ты мог бы остаться здесь, со мной. У тебя будет большая хижина и столько скота, сколько пожелаешь.
Я простился с этим щедрым и удивительным человеком и отправился в свою деревню. За всю дорогу Лали не проронила ни слова. Она сидела сзади меня на рыжей лошади. Седло, должно быть, ей мешало и делало больно, но она помалкивала и никак не проявляла своего недовольства. Сорайма ехала с одним индейцем. Соррильо отправился к себе в деревню своим путем. Ночью было довольно холодно. Я протянул Лали куртку из овечьей шкуры, которую мне дал Хусто. Она не стала сама надевать, но мне позволила это сделать, отнесясь ко всему тихо и безучастно. Ни одного жеста. Разрешила надеть куртку – и все. Хотя лошадь трясла, а временами сильно, она не держалась за меня, чтобы избежать падения. Когда мы приехали в деревню, я сразу отправился к Сато. Лошадь осталась на попечении Лали. Она привязала ее к стене хижины, подвесила спереди охапку травы, не расседлав и не сняв уздечки. У Сато я пробыл целый час и вернулся домой.
Печаль индейцы – мужчины и особенно женщины – переживают исключительно своеобразно. Они замыкаются в себе, их лица как бы каменеют. Ни один мускул не дрогнет. Глаза могут быть переполнены печалью, но ни одна слезинка не выкатится из них. Они могут стонать, но никогда не рыдают. Лежа в гамаке, я неловко повернулся и задел живот Сораймы. Она вскрикнула от боли. Я встал и перешел в другой гамак, подвешенный очень низко, опасаясь, что подобное может повториться. Лежу и чувствую, что гамак кто-то трогает. Притворился спящим. Лали сидела неподвижно на деревянном чурбане и смотрела на меня. Через минуту я почувствовал, что Сорайма тоже рядом. Она имеет привычку натирать кожу соцветьями апельсинового дерева – это ее духи. Она получает их в мешочках от индианки-торговки, которая время от времени появляется в нашей деревне. Когда я проснулся, то увидел, что они продолжают сидеть неподвижно. Солнце встало, было почти восемь часов утра. Я увел их на пляж и лег на сухой песок. Лали сидела рядом, так же поступила и Сорайма. Я погладил грудь и живот Сораймы, она продолжала сидеть, словно мраморное изваяние. Я положил Лали и поцеловал – она плотно сжала губы. Пришел рыбак, чтобы пойти с Лали в море. Едва взглянув на нее, он все понял и удалился. Я терзался. Я не мог больше ничего придумать, кроме ласк и поцелуев, чтобы дать им понять, как я их люблю. Ни слова с их стороны. Я был глубоко встревожен сознанием причиняемой им боли. Простая мысль, что я могу уйти, принесла им столько страданий. Лали насиловала себя любовью со мной, она отдавалась с отчаянным безумием. Что двигало ею? Только одно – желание понести от меня.
В это утро я впервые увидел, что она ревнует меня к Сорайме. Мы лежали на пляже на мелком песке в укромной нише. Я гладил грудь и живот Сораймы, а она покусывала мне мочку уха. Появилась Лали. Она взяла сестру за руку и ее же ладонью провела по округлому животу. А потом этой же ладонью провела по собственному – плоский и гладкий. Сорайма встала и, как бы говоря: «Ты права», уступила место рядом со мной.
Женщины каждый день готовили мне пищу, но сами ничего не ели. Уже три дня они голодают. Я сел на лошадь и чуть не совершил серьезную ошибку – первую за более чем пять месяцев: я отправился к знахарю без разрешения. Только в пути я сообразил, что делаю, и, не доехав до палатки метров двести, стал разъезжать взад и вперед. Он увидел меня и сделал знак приблизиться. С грехом пополам я растолковал ему, что Лали и Сорайма совсем не едят. Он дал мне какой-то орех и показал, что его надо положить в питьевую воду. Приехав домой, я опустил его в большой кувшин. Они пили воду несколько раз, но есть так и не стали. Лали больше не ходила в море за жемчугом. Сегодня после четырехдневного поста она пошла на отчаянный шаг: заплыла в море без лодки метров на двести от берега и вернулась с тридцатью устрицами. Она хотела, чтобы я их съел. Их немое отчаяние довело меня до такого состояния, что я сам перестал есть. Так продолжалось шесть дней. Лали лежала, ее била лихорадка. За шесть дней она высосала несколько лимонов – и больше ничего. Сорайма ела только один раз в день, в полдень. Я не знал, что делать. Я сидел рядом с Лали. Она лежала без движения на гамаке, который я сложил на земле в виде матраца, отрешенно уставившись в потолок хижины. Я смотрел на нее, смотрел на Сорайму, на ее вздутый живот и, не зная почему, разрыдался. То ли из-за себя, то ли из-за них, бог знает. Я плакал, и крупные слезы катились по щекам. Сорайма заметила их и принялась стонать, Лали повернула голову и тоже увидела, что я плачу. Одним прыжком она вскочила и оказалась у меня между ног. Она целовала меня, гладила и нежно постанывала. Сорайма обняла меня за плечи, а Лали стала говорить, говорить и говорить, в то же время не прекращая стенаний. Сорайма ей отвечала. Мне показалось, что она обвиняет Лали. Лали взяла кусок сахара величиной с кулак, показала мне, что растворяет его в воде, и в два глотка покончила с приготовленным питьем. Затем Лали и Сорайма удалились из хижины. Я слышал, как они выводили лошадь, а когда вышел из дома, она стояла уже под седлом, взнузданная, с наброшенными на переднюю луку седла поводьями. Я прихватил для Сораймы куртку, а Лали положила спереди сложенный гамак, чтобы Сорайма могла сидеть. Сорайма села на лошадь первой и оказалась почти у нее на шее. Затем сел я посередине, и Лали сзади. Я был настолько расстроен, что никому ничего не сказал, даже вождю, куда и зачем мы поехали.
Я думал, что мы едем к знахарю, туда и направился. Но нет, Лали потянула повод и сказала: «Соррильо». Значит, мы ехали навестить Соррильо. В пути она крепко держалась за мой пояс и часто целовала меня в затылок. Я держал поводья в левой руке, а правой гладил Сорайму. Мы приехали в деревню Соррильо как раз в тот момент, когда он возвращался из Колумбии. При нем были три осла и лошадь, все с тяжелой поклажей. Мы вошли в дом. Лали заговорила первой, затем Сорайма.
Вот что рассказал мне Соррильо. Пока я не заплакал, Лали думала, что для меня, белого человека, она ничего не значит. Лали знала, что я собираюсь уезжать, но, по ее словам, я продолжал вести себя коварно, как змея, никогда не говоря ей ни о чем и не пытаясь сделать так, чтобы она сумела меня понять. Она сказала, что очень и очень глубоко разочарована, потому что вообразила себе, что индейская девушка, как она, сможет мужчину сделать счастливым – ведь удовлетворенный мужчина никогда не уходит. После такого горького разочарования Лали считала, что продолжать жить на свете просто незачем. Сорайма согласилась с ней, усугубив свое решение уйти из жизни опасением, что ее сын будет похож на отца – коварного человека, на слово которого нельзя положиться, человека, который требует от своих преданных жен выполнять то, чего они не понимают. Почему я убегаю от нее, неужели она похожа на ту собаку, что укусила меня в первый же день, когда я пришел к ним?
Я ответил так:
– Скажи, Лали, что бы ты сделала, если бы твой отец был болен?
– Я бы пошла к нему по колючкам, чтобы ухаживать за ним.
– Что бы ты сделала тому, кто преследовал бы тебя, как дикого зверя, пытаясь убить тебя? Что бы ты сделала, если бы сумела за себя постоять?
– Я бы разыскивала врага повсюду и закопала бы его так глубоко, чтобы он не смог даже повернуться в могиле.
– А исполнив все это, что бы ты сделала, если бы у тебя были две чудесные жены, которые тебя ждали?
– Я бы возвратилась на лошади.
– Именно так я и сделаю, и это решено.
– А если я постарею и стану безобразной, что тогда?
– Я вернусь задолго до того, как ты постареешь.
– Да, ты позволил воде течь из глаз. Ты бы не смог притворяться. Поэтому ты можешь уезжать, когда захочешь, но сделаешь это днем, у всех на глазах, а не как вор. Ты уедешь так же, как и пришел, – в тот же час пополудни и в одежде белого человека. Ты должен оставить кого-нибудь за себя, кто день и ночь мог бы беречь нашу честь. Сато – вождь, о нас должен заботиться другой мужчина. Ты скажешь, что дом остается твоим женам, чтобы ни один мужчина не смел в него входить, кроме твоего сына, если у Сораймы родится сын. В день твоего отъезда к нам должен приехать Соррильо и повторить нам все, что ты скажешь.
Мы ночевали у Соррильо. Ночь была удивительно мягкой и теплой. В шепоте и бормотании этих двух дочерей природы голос любви и человеческих переживаний звучал настолько сильно, что я готов был сойти с ума от волнения. Домой мы возвращались тоже втроем верхом на лошади. Из-за Сораймы мы двигались медленно. Я должен уехать через неделю после нарождения новой луны. Лали хотелось, чтобы я знал доподлинно, беременна она или нет. Прошлой луной у нее не было крови. Она боялась ошибиться, но если и на этот раз ее не будет, значит она с ребенком. Соррильо привезет мне одежду. Я должен буду одеться в деревне. Приходится повторяться, поскольку я, как и все индейцы гуахира, был совершенно голым. За день до отъезда мы втроем побываем у знахаря. Он нам скажет, оставлять мою дверь в доме закрытой или открытой. Ничего печального в нашем возвращении не было, даже если учесть положение Сораймы. Мои женщины предпочитали, чтобы все происходило в открытую и чтобы никто в деревне не подтрунивал над ними, думая, что я их оставил. Когда у Сораймы родится сын, она возьмет себе напарника и будет охотиться за жемчугом, чтобы скопить как можно больше к моему возвращению. Лали тоже будет ловить каждый день дольше обычного, чтобы как-то занять себя. Я очень сожалел, что не выучил больше дюжины слов на гуахира. Так много хотелось мне сказать им такого, чего не передашь через переводчика. Мы приехали в деревню. Первым делом следовало навестить Сато и извиниться за отъезд без предупреждения. Сато был благороден, как и его отец. Прежде чем я заговорил, он положил мне руку на горло и сказал: «Уйлу (молчи)». Новая луна народится через двенадцать дней. Еще восемь пройдет после новолуния. Итак, я уеду через двадцать дней.
Я снова принялся изучать карту, рассматривая варианты обхода деревень. За этим занятием на память мне пришли слова Хусто. Где я обрету большее счастье, чем здесь, где меня все любят? Не навлекаю ли я на себя несчастье, возвращаясь к цивилизации? Будущее покажет. Три недели пролетели, как одна. Лали убедилась, что забеременела. Теперь меня будут ждать двое или трое ребятишек. Почему трое? Ее мать дважды родила двойню. Мы поехали к знахарю. Нет, мою дверь не надо закрывать. Следует только воткнуть поперек двери ветку. Гамак, в котором мы спали втроем, теперь должен свисать с самой высокой части потолка. В этом гамаке они будут спать всегда вдвоем, поскольку Лали и Сорайма теперь одно целое. Затем он усадил нас поближе к очагу, бросил туда зеленых листьев и минут десять окуривал дымом. Мы отправились домой и стали ждать Соррильо. Он приехал в тот же вечер. Всю ночь мы провели за разговорами у костра рядом с моим домом. Через Соррильо я сказал пару теплых слов каждому жителю деревни. На рассвете я вошел с Лали и Сораймой в дом. Целый день мы занимались любовью. Сорайма предпочитала позу сверху. Так она лучше чувствовала мое тело в своем. Лали обвивала меня, словно цепкий плющ, крепко удерживая меня в своем теле, которое билось и трепетало, как и ее сердце. Отъезд выпал на послеполуденное время. Я говорил через Соррильо:
– Сато, великий вождь племени, принявшего меня и подарившего мне все, я должен сказать тебе: я ухожу от вас на много лун, и ты должен отпустить меня.
– Почему ты хочешь оставить друзей?
– Я должен идти и наказать тех, кто преследовал меня, как зверя. Благодаря тебе, вождь, я нашел пристанище здесь, в твоей деревне. Я жил счастливо, ел хорошо, обрел благородных друзей и двух жен, которые зажгли солнце в моей груди. Но все это не должно изменить меня как мужчину и превратить в животное, которое, найдя однажды теплое и сухое убежище, остается там навсегда из страха перед борьбой и страданием. Я иду навстречу врагам; я иду к своему отцу, который нуждается во мне. Здесь я оставляю свое сердце в моих женах – Лали и Сорайме и в моих детях – плодах нашей любви. Мой дом принадлежит им и еще не родившимся детям. Если кто-то из мужчин забудет об этом, я надеюсь, ты, Сато, напомнишь ему. Назначь человека по имени Усли, который под твоим неусыпным оком день и ночь будет наблюдать за моей семьей. Я глубоко всех вас люблю и буду любить вечно. Я все сделаю для того, чтобы скоро возвратиться к вам. Если я погибну, выполняя свой долг, мои мысли устремятся к вам – к Лали, Сорайме, и моим детям, и еще ко всем индейцам гуахира, ставшим для меня родным народом.
Я долго стоял и крутил головой во все стороны, стараясь запечатлеть в памяти мельчайшие подробности идиллической деревни, приютившей меня на целых полгода. Это племя индейцев гуахира, наводившее страх вокруг как на другие племена индейцев, так и на белых, обогрело меня, дало возможность перевести дух, предоставило мне ни с чем не сравнимое прибежище от людской злобы и несправедливости. Там я нашел любовь, мир, успокоение для ума и величие души. Прощайте, гуахира, дикие индейцы с полуострова на стыке Колумбии и Венесуэлы! Ваша огромная страна, к счастью, не познала влияния соперничающих из-за нее соседних цивилизованных стран! Ваш необузданный, первобытный образ жизни и умение защищаться научили меня многому, что может пригодиться в будущем: лучше быть диким индейцем, чем магистром права.
Прощайте, Лали и Сорайма, мои несравненные женщины, порывистые и непредсказуемые от природы, непринужденные в своих поступках. Перед самым расставанием они собрали весь жемчуг в небольшой холщовый мешочек и передали мне. Я вернусь. Это решено. Когда? Как? Я не знаю, но обещаю, что вернусь.
На закате дня Соррильо сел на свою лошадь, и мы отправились в Колумбию. У меня на голове соломенная шляпа. Я шел пешком, ведя лошадь под уздцы. Индейцы, все как один, стояли, закрыв лицо левой рукой, а правую простирали мне вослед. Это означало, что они испытывают боль и не хотят видеть мой отъезд, а протянутая рука призывала меня возвратиться. Лали и Сорайма прошли со мной не более ста метров. Мне казалось, что вот сейчас они поцелуют меня на прощанье, как вдруг они резко повернулись и с громким криком побежали к дому, так ни разу и не оглянувшись.
Тетрадь пятая Назад к цивилизации
Тюрьма в Санта-Марте
Покинуть земли индейцев гуахира не представило никакого труда. Мы проехали пограничные посты Ла-Вела без всяких неприятностей. Тот путь, который для нас с Антонио оказался столь долгим и тяжелым, с Соррильо мы преодолели на лошадях за какие-то два дня. Не только сами пограничные посты представляли собой чрезвычайную опасность, но и вся обширная стодвадцатикилометровая зона, вплоть до Риоачи, откуда я бежал полгода назад.
В повстречавшейся нам таверне, где можно было поесть и попить, я провел свой первый эксперимент в разговоре с одним штатским колумбийцем. Соррильо при этом находился рядом. По его словам, вышло совсем неплохо: сильное заикание хорошо скрывало мой акцент и манеру речи.
И вот мы снова на пути к Санта-Марте. Соррильо должен меня оставить на полпути и вернуться домой.
Мы расстались с Соррильо. Решили, что будет лучше, если он возьмет лошадь с собой, поскольку владелец лошади должен проживать по конкретному адресу, принадлежать той или другой деревне, иначе он рискует попасть в неловкое положение из-за каверзных вопросов наподобие: «А вы знаете такого-то и такого-то? Как зовут мэра? Чем сейчас занимается мадам X? А кто у вас содержит погребок?»
Нет, лучше идти пешком; где-то подбросят на грузовике, а где-то подъедешь на автобусе. А после Санта-Марты можно будет сесть на поезд. Здесь для всех надо выглядеть forastero (чужаком), подрабатывающим чем придется и живущим где придется. Соррильо разменял для меня три золотые монеты по сто песо. Он дал мне тысячу песо. Хороший работник зарабатывал от восьми до десяти песо в день, поэтому этих денег мне вполне хватит на какое-то время. Я остановил грузовик, который следовал почти до Санта-Марты, крупного порта на побережье в ста двадцати километрах от того места, где мы расстались с Соррильо. Грузовик ехал за козами или козлятами – толком я так и не понял.
Через каждые шесть-десять километров – таверна. Шофер вылезает из кабины и приглашает меня выпить. Он приглашает – я плачу. И каждый раз он пропускает по пять или шесть стаканов крепкого. Я едва выпил один. К пятидесятому километру он был в стельку пьян. А может, больше, чем в стельку, потому что свернул не на ту дорогу, влетел в грязь, посадив в нее машину по самый задний мост. Колумбийца это нисколько не расстроило. Он полез спать в кузов, а мне предложил поспать в кабине. Я не знал, что мне делать. До Санта-Марты оставалось еще километров сорок. Когда ты с шофером, разные встречные-поперечные не задают тебе вопросов. И, несмотря на остановки, продвигаешься все-таки быстрее, чем пешком. Под самое утро я решил поспать. Забрезжил рассвет, значит времени было около семи. Появилась повозка, запряженная двумя лошадьми. Грузовик мешал проезду. И объехать невозможно. Поскольку я спал в кабине, меня, естественно, приняли за шофера и разбудили. Заикаясь, я разыгрываю из себя человека, обалдевшего спросонья, не соображающего, где он и что с ним.
Проснулся настоящий шофер и тут же вступил в словесную перепалку с возницей. Несколько раз принимались вытаскивать грузовик, но безуспешно – машина увязла крепко, зарывшись в грязь по самые оси. В повозке сидели две монахини в черных платьях и белых чепцах. С ними были еще три девочки. После долгого препирательства шофер и возница пришли к соглашению, что надо расчистить место в кустах, чтобы повозка могла объехать машину, направляясь одним колесом по обочине дороги, а другим – по расчищенному месту. Только таким образом можно было преодолеть грязный участок длиной в двадцать метров.
Шофер и возница взялись за свои мачете – специальные тесаки для рубки сахарного тростника; это орудие есть у каждого мужчины, которому приходится много ездить по дорогам. Они рубили подряд все, что стояло на пути, в то время как я собирал срубленные ветки и раскладывал их на глубоких и топких участках, чтобы колеса повозки не проваливались или не соскользнули в яму. Часа через два объезд был готов. Тогда-то ко мне и обратилась с вопросом одна из монахинь, сначала поблагодарив, а затем поинтересовавшись, куда я направляюсь.
– В Санта-Марту.
– Но вы же не туда едете. Надо возвращаться назад. Поедемте с нами, мы вас довезем почти до Санта-Марты. Останется каких-то восемь километров.
Отказываться было нельзя, это могло бы вызвать подозрение и выдать меня с головой. Мне очень хотелось сказать, что я останусь, чтобы помочь шоферу, но, натолкнувшись на языковый барьер, я предпочел самое простое: «Gracias. Gracias. (Спасибо)».
И вот я в повозке, сижу сзади с тремя девочками, а обе монахини устроились на переднем сиденье, рядом с возницей.
Мы тронулись и довольно-таки быстро проехали те злополучные пять или шесть километров, по которым пьяный шофер по ошибке зазря прогнал свой грузовик. Добрались до хорошей дороги и пустили лошадей легкой трусцой. В полдень остановились у гостиницы, чтобы перекусить. Девочки сели за один стол с возницей, я с монахинями – за другой. Обеим монахиням было лет по двадцать пять – тридцать. Обе белолицые. Одна испанка, другая ирландка. Ирландка осторожно и вкрадчиво задавала вопросы:
– Вы нездешний, правда?
– О да, я из Барранкильи.
– Нет, вы не колумбиец: у вас слишком светлые волосы, а что касается цвета кожи, то вы очень загорели. Откуда вы?
– Риоача.
– Что вы там делали?
– Электрик.
– О?! У меня там приятель из электрической компании. Его зовут Перес, он испанец. Вы его знаете?
– Да.
– Очень рада.
В конце обеда обе монахини встали из-за стола и пошли помыть руки. Вернулась одна ирландка. Она посмотрела на меня и сказала по-французски:
– Я не собираюсь вас выдавать, но моя спутница утверждает, что видела ваш снимок в газете. Вы француз, убежавший из тюрьмы в Риоаче, правда?
Отрицать было бессмысленно, если не хуже.
– Да, сестра. Я прошу не выдавать меня. Я вовсе не злой человек, как меня расписывают. Я люблю Бога и уважаю Его.
Появилась испанка. Разговаривая с ней, ирландка сказала: «Да».
Последовал быстрый ответ, которого я не понял. Они о чем-то размышляли. Затем обе встали из-за стола и снова прошли в туалет. Пока они отсутствовали минут пять, я лихорадочно обдумывал ситуацию. Не убраться ли мне отсюда, пока их нет? А может, остаться? Если они собираются выдать меня, то, уйду я отсюда или останусь, результат будет тот же. Если уйду, меня быстро найдут. Места здесь не очень лесистые. Полиции нетрудно выставить дозоры и установить наблюдение за дорогами, ведущими в города. Я решил довериться судьбе, которая до сих пор была ко мне благосклонна.
Монахини вернулись с сияющими улыбками на лице. Ирландка спросила мое имя.
– Энрике.
– Вот что, Энрике, поедемте с нами до монастыря, что в восьми километрах от Санта-Марты. Ничего не бойтесь – вы едете с нами. Не разговаривайте, тогда все подумают, что вы наш монастырский работник.
Сестры расплатились за свой обед и за меня тоже. Я купил зажигалку и двенадцать пачек сигарет. Мы поехали дальше. За всю дорогу монахини ни о чем меня не спросили, за что я им был искренне благодарен. А возница так и не догадался, что я говорю плохо. Во второй половине дня мы подъехали к большой гостинице. Около нас стоял автобус, на котором было написано: «Риоача – Санта-Марта». Я решил дальше ехать на нем. Подошел к ирландке и сказал ей о своем намерении.
– Это будет очень опасно, – ответила монахиня. – Прежде чем доберетесь до Санта-Марты, вам придется пройти через два полицейских поста, где от вас потребуют cédula (удостоверение личности), а в нашей повозке этого не случится.
Я сердечно ее поблагодарил, и все мои сомнения и страхи исчезли после этого как дым. Наоборот, какая удача, что я встретил этих монахинь. Как они и сказали, к вечеру мы достигли alcabale (полицейского поста). Проверяли автобус, следующий из Санта-Марты в Риоачу. Лежа в повозке на спине, я притворился спящим; соломенная шляпа надвинута на лицо. Девочка лет восьми, склонив головку мне на плечо, действительно спала. Когда повозка подъехала к черте проверки, возница остановил лошадей между автобусом и полицейским постом.
– Cómo están por aquí? (Как вы тут поживаете?) – спросила монахиня-испанка.
– Muy bien, hermana. (Прекрасно, сестра.)
– Me alegro, vámanos muchachos. (Рада слышать, поедемте дальше, дети.)
И мы спокойно отъехали.
В десять вечера другой пост, ярко освещенный электричеством. Две колонны автомобилей всевозможных марок. Машины подъезжают и справа, и слева, пристраиваясь в хвост очереди на проверку. Открываются багажники, и полиция проводит досмотр. Вижу, как одну женщину пригласили выйти из автомобиля. Она лихорадочно роется в сумочке. Ее уводят в здание контрольно-пропускного пункта. Вероятно, у нее нет cédula. В таком случае ничего не поделаешь. Пропускают по одной машине. Поскольку они выстроились в две колонны, нет никакой возможности проскочить без очереди под благовидным предлогом. Нет пространства для маневра. Приходится смириться и ждать. Я понял, что дела мои плохи. Перед нами небольшой автобус, забитый пассажирами до отказа. На крыше кузова чемоданы и коробки. Сзади в огромной сетке всевозможные пакеты, узлы с барахлом и прочая мелочь. Четверо полицейских подбадривают пассажиров, чтобы они поживей выходили из автобуса. В автобусе только одна, передняя дверь. Пассажиры выходят. У некоторых женщин на руках грудные дети. По одному их снова запускают в автобус. «Cédula. Cédula». Все протягивают полицейским свои пропуска с наклеенными фотографиями.
Соррильо не предупредил меня об этом. Если бы я знал, то заранее обзавелся бы такой карточкой. Дал себе слово, что если в этот раз пронесет, то не пожалею никаких денег на cédula и без удостоверения из Санта-Марты в Барранкилью не поеду. Барранкилья – большой город на побережье Атлантики. По справочнику в нем проживает двести пятьдесят тысяч человек.
Боже, как они затянули с проверкой этого автобуса. Ирландка повернулась ко мне:
– Лежите спокойно, Энрике.
Я даже разозлился на нее за это неосторожное слово – возница наверняка все слышал.
Подошла наша очередь. Повозка въехала на освещенный участок поста. Я решил сесть. Мне показалось, что лежать будет хуже: могут подумать, что я прячусь. Я сел, прислонясь к задней спинке повозки и уставившись в спины монахинь. Меня было видно сбоку. Соломенная шляпа надвинута на глаза, но не чересчур, не слишком вызывающе.
– Cóme están todos por aquí? (Как вы тут поживаете?)
– Muy bien, hermanas. Y cómo viajan tan tarde? (Хорошо, сестры. Почему так поздно едете?)
– Por una urgencia, por eso no me detengo. Estamos muy apuradas. (По срочному делу, поэтому не хочу задерживаться. Мы спешим.)
– Váyanse con Dios, hermanas. (Поезжайте с Богом, сестры.)
– Gracias, hijos. Qué Dios les proteja. (Спасибо, дети. Храни вас Бог.)
– Аминь, – сказал полицейский.
Нас спокойно пропустили, ни о чем не спрашивая. Через сотню метров повозка остановилась, и монахини на некоторое время скрылись в придорожных кустах. Когда ирландка снова оказалась в повозке, я растроганно сказал ей:
– Спасибо, сестра.
– Пустяки. Мы сами так перепугались, что у нас расстроились желудки.
В полночь мы прибыли в монастырь. Высокие стены, огромные двери. Возница поехал ставить лошадей и повозку на место. Трех девочек увели в монастырь. На ступенях монастырского двора разгорелся жаркий спор между двумя монахинями и сестрой-привратницей. Ирландка пояснила, что та не хочет будить настоятельницу, чтобы мне разрешили переночевать в монастыре. Здесь я совершил большую глупость, а следовало бы пошевелить мозгами. Надо было воспользоваться заминкой и уходить в Санта-Марту. До города оставалось всего восемь километров.
Эта ошибка стоила мне семи лет каторжных работ.
Наконец матушку настоятельницу разбудили, и мне предоставили комнату на втором этаже. Из окна виднелись огни города, маяк и огни бакенов на канале. Большое судно медленно выходило из гавани.
Лег спать. С восходом солнца в комнату постучались. Ночью мне приснился кошмарный сон. Лали раздирала себе живот прямо у меня на глазах, и оттуда кусками выпадал наш ребенок.
Я быстро побрился и умылся. Спустился вниз. У нижней ступеньки меня поприветствовала ирландка-монахиня с вымученной улыбкой на лице.
– Доброе утро, Анри. Хорошо ли спали?
– Да, сестра.
– Пройдите, пожалуйста, в приемную матушки настоятельницы. Она желает вас видеть.
Мы вошли. За столом сидела женщина лет пятидесяти или даже старше. Выражение лица злое, если не сказать свирепое. Черные глаза буравили меня насквозь без всякого снисхождения.
– Señor, sabe usted hablar español? (Вы говорите по-испански?)
– Muy poco. (Немного.)
– Bueno, la hermana va a servir de intérprete. (Хорошо, сестра нам переведет.) Говорят, вы француз?
– Да, матушка.
– Вы убежали из тюрьмы Риоачи?
– Да, матушка.
– Давно?
– Около семи месяцев.
– Где вы были все это время?
– У индейцев.
– Что? У индейцев гуахира? Не верю. Эти дикари никого не пускают в свои земли. Даже ни один миссионер не смог туда попасть, представьте себе. Это не ответ. Где вы были? Говорите правду.
– Я был у индейцев, матушка, и могу это доказать.
– Каким образом?
– Вот этим жемчугом, который они ловят.
Мешочек был пришпилен булавкой к куртке изнутри. Я отстегнул его и передал ей. Она открыла его, и горсть жемчужин высыпалась на стол.
– Сколько здесь жемчужин?
– Не знаю, может, пять, а может, шесть сотен. Что-то около того.
– Это не доказательство. Вы могли его и украсть где-нибудь.
– Чтобы вы успокоились, матушка, я останусь здесь, если вам будет угодно, до тех пор, пока вы не выясните, пропадал ли у кого-нибудь жемчуг за последнее время. У меня есть деньги, и я могу оплатить свое содержание. Обещаю, что никуда не двинусь из своей комнаты без вашего позволения.
Она жестко посмотрела на меня. Ее глаза как бы говорили: «А что, если ты убежишь? Ты убежал из тюрьмы, а отсюда и подавно удерешь».
– Я оставлю у вас мешочек с жемчугом – все мое состояние. Я знаю, оно в надежных и добрых руках.
– Ну хорошо. Зачем же вас запирать в комнате? Вы можете гулять в саду утром и в полдень, пока мои дочери молятся в часовне. Вы будете питаться на кухне вместе с прислугой.
Я вышел от нее более или менее успокоенным. Хотел пойти в комнату, но ирландка повела меня на кухню. Большая чашка кофе с молоком, свежий черный хлеб, масло. Монахиня стояла рядом и смотрела, как я завтракаю. Она испытывала какое-то беспокойство. Я сказал:
– Спасибо, сестра, за все, что вы сделали для меня.
– Я бы хотела сделать больше, но это не в моих силах, друг Анри.
И с этими словами она вышла из кухни.
Я сидел у окна и смотрел на город, порт и море. Земля вокруг была хорошо обработана и ухожена. Но чувство опасности не покидало меня. Я стал даже подумывать о побеге предстоящей ночью. Да шут с ним, с этим жемчугом: пусть матушка настоятельница употребит его на монастырь или заберет себе – это ее дело. Я ей не доверял, и на это были причины. Удивительно, как это она, каталонка, настоятельница монастыря, а следовательно, образованная женщина, не знает французского? Невероятно. Вывод: ночью надо бежать. Да, в полдень я выйду во двор и выясню, где можно перелезть через стенку. Около часа в дверь постучали.
– Пожалуйста, спускайтесь вниз на обед.
– Да, иду. Спасибо.
Я сидел за кухонным столом и едва успел притронуться к мясу с отварным картофелем, как дверь открылась и вошли четверо полицейских в белой униформе. У троих – винтовки, у офицера – револьвер.
– No te muevas, o te mato. (Не двигаться, а то пристрелю.)
Он надел на меня наручники. Ирландка-монахиня пронзительно закричала и упала без чувств. Ее подхватили под руки сестры, работавшие на кухне.
– Vamos (идем), – сказал начальник.
Пришли в комнату. Разворошили мой узел и тут же нашли тридцать шесть золотых монет. Футляр с отравленными стрелами отложили в сторону, не поинтересовавшись содержимым. Они были уверены, что это карандаши. Начальник с нескрываемым удовольствием положил золотые себе в карман. Во дворе уже поджидала полицейская колымага.
Пятеро полицейских и я втиснулись в эту машину-развалюху и помчались на полной скорости. За рулем сидел малый в полицейской форме, черный, как антрацит. Я был настолько ошеломлен происходящим, что не сделал ни малейшей попытки протестовать. Старался держать себя в руках: любые просьбы о пощаде и прощении – не к месту и не ко времени. «Будь человеком, – внушал я сам себе, – и не теряй надежды». Вылезая из машины, я решительно настроился остаться мужчиной, а не превращаться в половую тряпку. Мне это удалось, о чем полицейский офицер, принявшийся меня допрашивать, не преминул сразу же заметить: «Этот француз крепкий орешек, его, кажется, совсем не смущает, что он попался!» Вошли в кабинет. Я снял шляпу и сел без приглашения, положив свой узел между ног.
– Tú sabes hablar español? (Можешь говорить по-испански?)
– Нет.
– Llame al zapatero. (Позовите сапожника.)
Через несколько минут появился человек небольшого росточка в синем переднике и с молотком в руке.
– Ты тот француз, что убежал из Риоачи год назад?
– Нет.
– Не ври.
– Я не лгу. Я не тот француз, что убежал из Риоачи год назад.
– Снимите наручники. Задери-ка куртку да рубашку, дружище. – Он взял лист бумаги и стал его изучать. В нем была описана татуировка. – У тебя не хватает большого пальца на левой руке. Так оно и есть. Это ты.
– Нет, это не я. Я убежал не год назад, а семь месяцев.
– Это все равно.
– Может быть, для тебя и все равно, дружище, а для меня – нет.
– Понял: ты типичный убийца. Француз или колумбиец, вы, убийцы, все одного поля ягода – неукротимые. Я всего лишь заместитель начальника тюрьмы. Не знаю, что с тобой сделают, но пока посажу тебя к твоим приятелям.
– Каким приятелям?
– Французам, которых ты привез в Колумбию.
Я последовал за полицейским. Он привел меня в камеру, зарешеченные окна которой выходили во двор. Вот так встреча! Все пятеро снова со мной. Обнялись.
– Мы думали, что ты далеко и с тобой все в порядке, друг, – сказал Клузио.
Матюрет рыдал, как ребенок. Трое других тоже были изумлены до крайности. Увидев всех рядом с собой, я снова обрел силы и уверенность.
– Расскажи нам все о себе.
– Потом. Ну как вы здесь?
– Уже три месяца сидим.
– С вами обращаются хорошо?
– Ни так ни сяк. Нас собираются переправить в Барранкилью, где передадут французским властям, – так, кажется.
– Вот свиньи! А что, если нам рвануть отсюда?
– Ты едва появился, а уже помышляешь о побеге!
– А что в этом плохого? Уж не думаете ли вы, что я с этим смирюсь! Наблюдают за вами строго?
– Днем не очень. Но на ночь выставляется специальная стража. Из-за нас.
– Сколько?
– Трое стражников.
– Как твоя нога?
– В порядке. Даже не хромаю.
– Вы всегда под запором?
– Нет, выпускают во двор погреться на солнышке. Два часа утром и три после полудня.
– Как к вам относятся заключенные колумбийцы?
– Есть несколько очень опасных типов, воры – те же убийцы.
В полдень нас вывели во двор. Мы с Клузио уединились, чтобы поговорить. Но за мной прислали полицейского, который отвел меня в тот же кабинет, в котором я побывал утром. Меня встретили начальник тюрьмы и его заместитель, уже знакомый мне. Начальник сидел на почетном месте. Очень темный цвет кожи, почти черный. Похож больше на негра, чем на индейца. Короткие курчавые волосы. Короткие усы над толстой губой. Резкие и злые складки у рта. Глаза черные и жесткие. Ему около пятидесяти. Ворот рубашки расстегнут, галстука нет. Слева на груди бело-зеленая лента – знак отличия за какие-то заслуги. Присутствовал и сапожник.
– Француз, ты находился в бегах семь месяцев, пока тебя снова не сцапали. Что ты делал это время?
– Был у индейцев гуахира.
– Не советую играть со мной в кошки-мышки, мы тебя быстро исправим.
– Я говорю правду.
– Никто с индейцами никогда не жил. Только за этот год они убили больше двадцати пяти пограничников береговой охраны.
– Нет, пограничников убили контрабандисты.
– Откуда ты знаешь?
– Я жил там семь месяцев, индейцы гуахира никогда не покидают свою территорию.
– Ну ладно, может, ты и прав. Где ты украл тридцать шесть золотых монет по сто песо каждая?
– Они мои. Мне их дал вождь индейского племени, живущего у подножья гор, по имени Хусто.
– Как это у индейца может оказаться такое богатство? Да еще он отдал его тебе?
– Вот что, шеф, вы слышали что-нибудь о краже золотых монет в сто песо?
– Верно, не слышали. По донесениям такой кражи не было. Но это не значит, что мы не наведем справки.
– Наведите, это пойдет мне на пользу.
– Француз, за тобой серьезное преступление – побег из тюрьмы Риоачи. Еще более тяжкое преступление – ты помог бежать Антонио, на совести которого жизнь нескольких пограничников береговой охраны. Его ждал расстрел. Тебя разыскивают французские власти. Ты приговорен к пожизненной каторге за убийство. Ты опасный убийца, и я не позволю тебе находиться в одной камере со своими дружками, а то ты снова постараешься удрать. Слишком большой риск. Тебя посадят в карцер до отбытия в Барранкилью. Если будет установлено, что деньги не украдены, мы их тебе вернем.
Меня выдворили из кабинета и отправили вниз по лестнице, которая вела в подземелье. Отсчитал более двадцати пяти ступенек. Едва освещенный, мрачный, сырой коридор. По обе стороны клетки для узников. Одна из них открыта, меня туда и втолкнули. Как только за полицейскими закрылась дверь, на меня пахнуло гнилью и затхлостью от скользкого и грязного земляного пола. Меня стали окликать со всех сторон. В каждой клетке сидели один, двое или трое узников.
– Francés, Francés! Qué has hecho? Por qué estás aquí? (Француз, что ты сделал? За что тебя?) Ты знаешь, что это камеры для смертников?
– Да заткнитесь. Пусть он скажет, – послышался голос.
– Да, я француз. Бежал из тюрьмы Риоачи.
Мою тарабарщину по-испански поняли хорошо.
– Послушай, француз. Надо тебе кое-что сказать. У задней стены камеры – доска. На ней можно лежать. Справа найдешь жестяную банку с водой. Не очень расходуй: дают только немного утром, а просить больше нельзя. Слева – параша. Накрой ее курткой, чтобы меньше воняло. Куртка тебе не нужна – и так жарко. Мы все тут накрываем параши своим тряпьем.
Я подошел к решетке, чтобы лучше разглядеть их лица. Удалось рассмотреть двоих в клетке напротив. Они стояли у решетки, просунув ноги в коридор. Один испанско-индейского происхождения, очень похож на тех полицейских, которые арестовали меня в Риоаче. Другой – довольно светлокожий негр, очень красивый юноша. Негр предупредил меня, что во время приливов в камере поднимается вода. Но мне не следует опасаться: выше пояса вода не доходит. Я не должен ловить крыс, которые могут на меня забраться, – их надо бить наотмашь. Ловить их нельзя – могут укусить. Я спросил:
– Сколько времени вы в этой дыре?
– Два месяца.
– А сколько другие?
– Держат не более трех. Если оставят дольше, значит здесь и сдохнешь.
– А кто здесь сидит дольше всех? И сколько уже сидит?
– Восемь месяцев. Он долго не протянет. Сейчас он может подняться только на колени. Ноги не держат. Посильнее прилив – и он утонет.
– В вашей стране живут дикари.
– А я и не спорю. Твоя страна цивилизованна не больше, чем наша, если дают пожизненное заключение. Здесь, в Колумбии, либо двадцать лет, либо смерть. Больше не дают.
– Согласен. Везде одно и то же.
– Многих угробил?
– Нет. Только одного.
– Быть не может. За одного – и пожизненная каторга?
– Правду говорю.
– Ну, значит, твоя страна такая же дикая, как и моя, не так ли?
– Не будем касаться стран. Ты прав. Полиция везде дерьмовая. За что посадили?
– Убил человека вместе с его сыном и женой.
– За что?
– Они скормили свиньям моего маленького брата.
– Боже, как это? Какой ужас!
– Брат, пятилетний несмышленыш, каждый день бросался камешками в их сына. Несколько раз угодил тому в башку.
– И все-таки это не повод.
– Я тоже так подумал.
– А как ты узнал?
– Брат пропал, и его не было трое суток. Я стал искать и нашел его сандалию в навозной куче. А навоз выбрасывали из свинарника. Я разрыл кучу и обнаружил белый окровавленный носок. Сразу все понял. Женщина призналась перед смертью. Я им разрешил помолиться, прежде чем застрелить. Первым выстрелом я перебил человеку ноги.
– Ты правильно сделал. Что тебе корячится?
– Двадцать лет, не больше.
– А в этой дыре за что?
– Ударил полицейского, родственника той семейки. Он служил здесь, в тюрьме, но сейчас его перевели в другое место. Теперь я спокоен.
Открылась главная дверь в подземелье. Появился надзиратель с двумя заключенными, которые несли деревянную бадью на двух шестах. Сзади, у них за спиной, маячили еще две фигуры стражников с винтовками. Заключенные обходили клетки и опорожняли параши в бадью. Удушливая вонь от экскрементов и мочи повисла в воздухе. Она перехватывала дыхание. Никто не разговаривал. Когда они пришли в мою клетку, тот, кто взял мою парашу, обронил на землю небольшой пакет. Я тут же ногой задвинул его подальше, где потемнее. Когда они ушли, я развернул пакет и нашел в нем две пачки сигарет, зажигалку и записку, написанную по-французски. Сначала я прикурил две сигареты и перекинул ребятам в клетку напротив. Затем позвал соседа. Он, просунув руку между железными прутьями, принимал от меня сигареты и передавал дальше. Я тоже закурил и принялся рассматривать записку. Света не хватало. Я скрутил жгутом оберточную бумагу и после нескольких попыток зажег ее. Быстро стал читать: «Держись, Папийон. Рассчитывай на нас. Береги себя. Завтра мы пришлем тебе бумагу и карандаш. Ты сможешь нам написать. Вместе до самой смерти». Как она меня успокоила, эта записка, как согрела мне сердце! Я не один. Со мной мои друзья, и я могу рассчитывать на их помощь.
Никто не разговаривал. Все курили. По количеству розданных сигарет я понял, что в клетках для смертников сидит девятнадцать человек. Да, меня снова опускают вниз по сточной канаве, теперь я в ней сижу по самую шею. Эти сестрички Господа нашего оказались сестрами дьявола. Не верилось, чтобы монахини – ирландка или испанка – могли выдать меня. И я-то хорош – поверил монахиням! А может, они ни при чем? Может, возница? Два или три раза мы неосторожно разговаривали по-французски. Мог он подслушать? Какое это имеет значение? На этот раз ты попался, петушок. Попался, и очень крепко. Монахини, шофер, матушка настоятельница – да какая разница? Все хороши!
Вот и сиди теперь в этой вонючей дыре, с наводнением по два раза в сутки. Жара несусветная. Снял рубашку, затем штаны. Снял ботинки. Потом весь скарб повесил на решетку.
Пройти две с половиной тысячи километров – и на тебе, пришел! Ошеломляющий успех! Боже! Ты был так добр и щедр ко мне! Неужели Ты меня оставил? Боже праведный, не лишай меня Твоей милости. Ты сердишься на меня, о Боже! И поделом! Ты дал мне свободу. Самую прекрасную свободу! Ты дал мне даже не одну, а двух замечательных жен! И солнце, и море. И дом, где я был полным хозяином. Жизнь на природе, такую простую, но такую милую и спокойную. Какой уникальный подарок я получил от Тебя, о Боже, – свободу! Жизнь без полиции, судебного магистрата, без завистников и недоброжелателей вокруг. И я этого не оценил! Голубое море, временами почти изумрудное или черное. Солнечные восходы и закаты, когда все, казалось, перед тобой плывет в дивном прозрачном мареве. Жизнь без денег, но при наличии всего, что требуется человеку для жизни. У меня было все, но я отверг Твои милости с презрением гадкого человека и растоптал их. Чего ради? Ради человечества, которому на меня ровным счетом наплевать? Ради людей, которые даже не удосужились разобраться, есть ли во мне что-нибудь хорошее? Ради этого мира, который отвергает меня, не оставляя никаких надежд на будущее? Ради общества, которое стремится любой ценой стереть меня в порошок?
Ох уж и посмеются надо мной все эти сволочи, когда узнают, что меня снова поймали! Двенадцать вонючих ублюдков, или как их там, присяжных заседателей. Вшивый Полен, фараоны и прокурор! Разумеется, найдется какой-нибудь журналист, который сообщит эту новость во Францию.
А как же там мои родные и близкие? Порадовались, наверное, за меня, когда жандармы им сообщили, что я улизнул от тюремщиков. А теперь придется перестрадать все сызнова.
Я совершил ошибку, оставив свое племя индейцев. Я имею полное право называть гуахира своим племенем. Они меня приняли, они сделали меня своим. Я плохо поступил и заслужил наказание. И все же… Ведь не для того я бежал, чтобы увеличить индейское население Южной Америки. Боже праведный, Ты ведь должен понять, что мне суждено жить в обыкновенном цивилизованном обществе, и я хочу доказать, что смогу быть для него совершенно безвредным. Вот моя судьба – с Твоей ли помощью или без всякой помощи.
Я должен и постараюсь доказать, что я не худший из людей, а просто обыкновенный человек, не лучше и не хуже других для данного человеческого сообщества и для данной страны.
Я продолжал курить. Вода стала прибывать. Закрыла ступни ног.
– Черный, – крикнул я, – как долго вода стоит в камере?
– Зависит от силы прилива. Час, самое большее – два.
Я слышал, как некоторые заключенные сказали:
– Está llegando. (Она прибывает.)
Вода медленно, очень медленно поднималась. Метис и негр забрались на решетку, свесив ноги в проход коридора, а руками обхватив два вертикальных железных прута. В воде послышался шум и плеск: большая канализационная крыса размером с кошку подгребала ко мне. Я вскочил на решетку, отвязал один ботинок и, когда она подплыла, с силой ударил ее по голове. Она выскочила в коридор и с визгом удрала.
– Ты уже приступил к охоте, француз? – спросил негр. – Если ты хочешь перебить всех, то никогда не кончишь. Лучше полезай на решетку. Держись за прутья и не волнуйся.
Я внял его совету, но железные прутья врезались мне в бедра, и я не смог долго выдержать такой позы. Я снял куртку с параши и привязал ее к прутьям решетки. Получилось что-то такое, на чем можно было сидеть. Теперь мое положение оказалось довольно сносным. Сидеть на решетке все-таки удобнее, чем висеть.
Вторжение воды, крысы, сороконожки, малюсенькие крабы, принесенные водой, были, пожалуй, для меня самым отталкивающим, самым угнетающим испытанием. Через час с лишним вода ушла, оставив после себя слой липкой жидкой грязи толщиной не менее одного сантиметра. Я надел ботинки, чтобы не месить босиком эту вонючую жижу. Негр бросил мне кусок доски, предлагая выгрести ил в проход коридора, начиная от лежака, на котором я буду спать, а затем от задней стенки камеры. На это занятие ушло полчаса, оно меня отвлекло от других мыслей. Я думал только об этом конкретном деле. Это уже кое-что. Теперь воды не будет до следующего прилива, то есть одиннадцать часов, так как она начинает прибывать через одиннадцать на двенадцатый. Уже можно обмозговать ее график: шесть часов на отлив и пять на прилив. Мелькнула довольно-таки абсурдная мысль: «Папийон, твоя судьба связана с приливами и отливами. Луна в твоей жизни играет важную роль, желаешь ты этого или нет. Прилив и отлив сослужили тебе верную службу, когда ты спускался вниз по Марони после побега с каторги. Точный расчет времени прилива и отлива помог тебе пуститься в плавание от Тринидада и Кюрасао. Причиной твоего ареста в Риоаче послужил отлив, который нарастал очень медленно, и отчего лодка не могла быстро выскочить в океан и уйти от погони. И вот ты здесь по милости прилива. Хочешь не хочешь, а это так».
Если однажды эти страницы будут напечатаны, может быть, среди читателей найдутся такие, которые немного пожалеют меня за то, что мне довелось испытать в Колумбии. Эти читатели – хорошие люди. Другие, двоюродные братья в первом колене двенадцати ублюдков, осудивших меня на каторжные работы, и братья прокурора по духу, скажут: «Так ему и надо: остался бы в исправительной колонии, ничего бы не случилось». Пусть так. Но позволят мне и читатель-доброжелатель, и читатель-ублюдок сказать еще несколько слов по этому поводу? Я вовсе не испытывал отчаяния. Отнюдь! Более того, я предпочел бы остаться в камерах старой колумбийской крепости, построенной испанской инквизицией, чем оказаться на островах Салю, где и следовало мне быть. Здесь я все-таки рассчитывал на побег, даже из этого вонючего подземелья. Я ведь находился на расстоянии двух тысяч пятисот километров от колонии. Здесь, правда, собираются принять все меры предосторожности, чтобы выдворить меня на «законное место жительства» – на каторгу, для чего мне придется, не по своей воле, преодолеть эти километры в обратном направлении. Только об одном я сожалел – о племени гуахира, Лали и Сорайме, о свободной жизни на природе. Без удобств, желанных для цивилизованного человека, но зато без полиции, тюрем и тем более без карцеров. Мне померещилось, что моим дикарям никогда бы и в голову не пришло наказывать врага таким вот варварским способом, и менее всего такого, как я, не принесшего колумбийцам ни малейшего вреда.
Я лег на доску и выкурил две или три сигареты у задней стенки камеры. Поступил так специально, чтобы не видели другие. Когда я возвращал негру кусок доски, которой выгребал грязь, то бросил ему зажженную сигарету. Он, чувствуя неловкость, поступил так же, выкурив ее у задней стенки клетки. Эти подробности могут кому-то показаться не такими уж важными, а по мне, они очень значимы. Не говорило ли это о том, что мы, отбросы общества, действительно обладали по крайней мере остатками понятия о правильном поведении в присутствии других.
Здесь не так, как в Консьержери. Тут можно мечтать, мысленно залетая куда угодно, и не надо прикрывать глаза платком от резкого, яркого света.
Кто же меня выдал полиции в монастыре? О, если мне доведется узнать об этом, он отправится на тот свет. И тут я сказал сам себе: «Не мели чепуху, Папийон. У тебя во Франции столько дела по части мести, так стоит ли затевать злодеяние против кого-либо здесь, в этой далекой и забытой Богом стране. Жизнь сама накажет доносчика, а если уж тебе действительно придется сюда возвратиться, то, конечно, не ради мести, а ради счастья Лали, и Сораймы, и детей, которые народятся от тебя. Если ты вернешься, то только ради них да индейцев гуахира, оказавших тебе честь, приняв в свое племя, и относившихся к тебе как к соплеменнику. Меня все еще несет вниз по сточной канаве, но даже здесь, в подтопляемом морем подземелье, я помышляю о побеге и, нравится это кому-то или нет, бегу и бегу к свободе. Это невозможно отрицать».
Мне принесли бумагу, карандаш и две пачки сигарет. Прошло три дня, как я здесь. Вернее, три ночи, ибо внизу ночь круглые сутки. Зажег сигарету. Как было не восхищаться чувством солидарности среди заключенных?! Колумбиец, передавший мне пакет, чертовски рисковал. Если его поймают, он наверняка сам окажется в этих клетках. Он знает об этом и соглашается помочь истязаемому в узилище. Он проявляет не только личное мужество и храбрость, но и благородство своей души. Прежним способом зажег бумагу и прочитал: «Папийон, мы знаем, что ты держишься молодцом. Браво! Дай знать о себе. У нас все в порядке. Приходила к тебе одна монахиня. Она говорит по-французски. Встретиться с нами ей не разрешили. Но один колумбиец успел ей передать, что ты в камере для смертников. Она сказала, что еще придет. Все. Привет от друзей».
Отвечать было нелегко. Но мне все же удалось написать: «Спасибо за все. Держусь. Напишите французскому консулу – как знать, где повезет. Не передавайте записки через других. Если поймают, будет лучше, если пострадает один. Не притрагивайтесь к кончикам стрел. Да здравствует побег!»
Побег из Санта-Марты
Из подземельной дыры меня выпустили на двадцать восьмой день, и это не без вмешательства бельгийского консула в Санта-Марте по имени Клаузен. Негр, которого звали Паласио, освободился из карцера через три недели после моего водворения туда. Он рассказал своей матери на свидании, что в карцере сидит бельгиец и попросил ее известить об этом бельгийское консульство. Такая идея пришла ему в голову однажды в воскресенье, когда он увидел, что бельгийский консул навестил узника-бельгийца.
Итак, в один прекрасный день меня доставили в кабинет начальника тюрьмы, встретившего меня словами:
– Ты француз, так почему же обращаешься к бельгийскому консулу?
В кресле сидел господин лет пятидесяти с дипломатом на коленях. Белая одежда; светлые, почти белые волосы; круглое, чисто выбритое, розовощекое лицо. Я сразу оценил ситуацию.
– Это вы говорите, что я француз. Я признаю, что я совершил побег из французской тюрьмы. Но я бельгиец.
– Вот видите, – умиленно заметил господин с лицом священника.
– Почему ты раньше не сказал об этом?
– Я полагал, что вам до этого нет никакого дела. Я не совершал никаких преступлений на вашей территории, а то, что бежал, – так это естественное желание каждого заключенного.
– Хорошо. Ты пойдешь к своим приятелям. Но, сеньор консул, я вас предупреждаю, что при первой же попытке к бегству я снова засажу его туда, откуда он явился. Отведите его к парикмахеру, а потом в камеру к дружкам.
– Благодарю вас, месье консул, – сказал я по-французски. – Очень благодарен и простите за хлопоты.
– Боже всемогущий! Да, досталось вам в этой ужасной черной дыре. Скорее идите отсюда, пока этот скотина не передумал. Я вас навещу. До свидания.
Парикмахера на месте не оказалось, и меня провели прямо в камеру к друзьям. Должно быть, я страшно выглядел, поскольку они то и дело повторяли:
– Да ты ли это? Не может быть. Что с тобой сделали эти свиньи? Скажи что-нибудь, да говори же! Что с глазами? Ты ослеп? Почему все время моргаешь?
– Отвык от света. Для меня он слишком ярок. Глаза привыкли к темноте.
Я сел спиной к окнам и стал рассматривать стены камеры.
– Так лучше.
– От тебя несет гнилью. Невероятно – даже тело пахнет гнилью.
Я разделся, и они сложили мое барахло у двери. Руки, спина, ноги, бедра – все тело было покрыто красными точками, словно от укусов домашних клопов; на самом деле это были следы от укусов малюсеньких крабов, приносимых в подземелье морскими приливами. Я пришел в ужас: не требовалось никакого зеркала, чтобы понять, как я выглядел. Пять каторжников, повидавшие много на своем веку, замолчали, пораженные. Клузио позвал надзирателя и сказал ему, что если нет парикмахера, то во дворе, во всяком случае, есть вода. Последний ответил, что мы подождем и до прогулки.
Я вышел во двор в чем мать родила. Клузио принес чистую сменную одежду. С помощью Матюрета я мылся, намыливаясь хозяйственным мылом. Чем больше мылся, тем больше сходило грязи. Наконец после нескольких намыливаний и ополаскиваний я почувствовал себя превосходно. Высох на солнце за пять минут. Надел чистое белье. Пришел парикмахер. Он собирался стричь под горшок. Я возразил:
– Сделай нормальную стрижку и побрей. Я заплачу.
– Сколько?
– Песо.
– Хорошо стриги, я дам два, – добавил Клузио.
Вымытый, выбритый, аккуратно подстриженный, в чистой одежде, я снова возвращался к жизни. Вокруг меня хлопотали друзья и все расспрашивали: «Как высоко подступала вода? А крысы? А сороконожки? А грязь? А крабы? А параши? Сколько вынесли трупов? Умирали естественной смертью или вешались? Бывало ли, что стражники убивали, сваливая на самоубийство?»
Вопросам не было конца. После такого длинного разговора я почувствовал страшную жажду. Во дворе разносчик-торговец продавал кофе. За три часа прогулки я выпил дюжину чашек кофе с сахаром. Мне он тогда показался лучшим в мире напитком. Подошел негр, сидевший в карцере напротив. Вполголоса он рассказал мне историю с матерью и бельгийским консулом. Я пожал ему руку. Он гордился, что с его подачи меня выпустили из карцера. Уходя, весь сияя от счастья, он сказал:
– Завтра поговорим. На сегодня хватит.
После карцера наша камера выглядела дворцом. У Клузио был гамак, который он купил на свои деньги. Он предложил мне поваляться в нем. Я лег поперек. Он удивился, а я объяснил ему, что он ложится вдоль, потому что не умеет пользоваться гамаком.
Едим, пьем, играем в шашки, пускаем в ход колоду испанских карт, разговариваем по-испански между собой, равно как с полицейскими и заключенными-колумбийцами, чтобы лучше научиться языку. За такими вот занятиями проходят наши дни и часть вечеров. Не очень-то хорошо ложиться спать в девять часов. Стоит только лечь, как все подробности побега от больницы в Сен-Лоране до Санта-Марты всплывают перед глазами, призывая к продолжению действия. Фильм не может оборваться на этом месте, он должен иметь продолжение. И он будет его иметь. Дайте только набраться сил, и поверьте, еще много новых эпизодов прибавится к рассказу. Я нашел свои стрелы и два листа коки. Один совсем сухой, а другой немного зеленый. Положил зеленый в рот и стал жевать. Остальные смотрели на меня с удивлением. Я объяснил, что из этих листьев приготавливают кокаин.
– Ты нас разыгрываешь.
– Попробуй.
– Да, действительно, язык и губы немеют.
– Их продают здесь?
– Не знаю. Как ты обходишься с деньгами, Клузио?
– Разменял их в Риоаче и теперь держу на виду у всех.
– А мои деньги у начальника тюрьмы, – сказал я. – Тридцать шесть золотых монет по сто песо. Каждая в размене на бумажные деньги стоит триста песо. На днях я собираюсь поднять этот вопрос.
– Почему бы не предложить ему сделку? Они все пройдохи.
– В этом что-то есть.
В воскресенье я разговаривал с бельгийским консулом и заключенным-бельгийцем. Он сидел за надувательство американской банановой компании. Консул обещал, насколько это возможно, оказать нам содействие и взял под свою защиту. Консул заполнил официальный документ по специальной форме, где говорилось о моем рождении в Брюсселе в бельгийской семье. Я поведал ему историю с монахинями и жемчугом. Консул был протестантом и о местных священниках и монахинях не знал ровным счетом ничего. Он немного был знаком с епископом. В отношении монахинь он посоветовал помалкивать. Это очень опасно. За сутки до нашего отъезда в Барранкилью консула поставят в известность.
– Вот тогда вы можете заявить об этом в моем присутствии, ведь у вас есть свидетели, если я вас правильно понял?
– Да.
– Но сейчас не делайте никаких заявлений: он вас снова может упрятать в это проклятое подземелье или даже убить. Золотые монеты – целое состояние. Их обменный курс не триста песо, как вы думаете, а все пятьсот пятьдесят. Большая сумма. Не вводите дьявола в искушение. Жемчуг – это другое дело. Дайте мне время подумать.
Я предложил негру бежать со мной и спросил, как, по его мнению, это дело следует обтяпать. При одном только слове «побег» негр весь посерел.
– Послушай, парень, даже не помышляй. Не туда идешь. А если затея провалится, тебя ждет медленная мучительная смерть. Ты только понюхал, что это такое. Подожди следующего раза – скажем, в Барранкилье. А здесь – просто самоубийство. Ты хочешь умереть? Ну и давай, только тихо. Во всей Колумбии не отыщется другой такой черной дыры, как в Санта-Марте. Зачем рисковать!
– Да, но здесь легче: стены невысокие.
– Парень, легче не легче, а на меня не рассчитывай. Не собираюсь не только бежать, но даже помогать отказываюсь. Даже разговаривать не хочу об этом.
И перепуганный до смерти негр ринулся от меня прочь, бросив напоследок:
– Ненормальный: такое в голову может прийти только сумасшедшему. И где? В Санта-Марте!
По утрам и днем наблюдаю за узниками-колумбийцами. Они выполняют тяжелую работу. У всех морды завзятых убийц, но чувствуется, что приручены. Страх перед карцером парализовал их волю. Четыре дня или все пять назад из черной дыры вывели парня по прозвищу Кайман. Ростом выше меня на голову. Имеет репутацию чрезвычайно опасного преступника. Я стал к нему подъезжать с разговорами. После трех или четырех совместных прогулок во дворе я сказал:
– Caimán, quieres fugarte conmigo? (Хочешь со мной бежать?)
Он посмотрел на меня, как на черта, и ответил:
– А при неудаче снова отправиться в то место, откуда пришли? Нет, спасибо. Я скорее убью родную мать, чем полезу туда.
Так закончилась моя последняя попытка склонить кого-нибудь к побегу. Я решил больше ни с кем не говорить на эту тему.
Днем на прогулке я повстречал начальника тюрьмы, проходившего мимо. Он остановился, посмотрел на меня и сказал:
– Как дела?
– Порядок, но было бы лучше, если бы я получил свои монеты.
– Зачем?
– Я бы смог нанять адвоката.
– Идем со мной.
Пришли в кабинет. Один на один. Начальник предложил мне сигару – уже хорошо. Сам поднес огонь – еще лучше.
– Если я буду изъясняться медленно, сможешь ли ты говорить со мной по-испански и правильно меня понять?
– Да.
– Хорошо. Итак, ты говоришь, что хочешь продать свои двадцать шесть монет?
– Нет, тридцать шесть монет.
– Ах да. И заплатить адвокату? Но нас ведь только двое, кто знает о твоих монетах?
– Нет, что вы! Еще сержант, арестовавший меня в монастыре, да с ним пятеро полицейских. Да ваш заместитель, державший их при себе до передачи вам. И затем – мой консул.
– Ха-ха! Хорошо. Это даже лучше, если знает столько людей, – можем действовать открыто. Видишь ли, приятель, я ведь оказал тебе добрую услугу, помалкивая об этом деле. Я не передал запрос в различные полицейские инстанции, чтобы узнать, где ты проходил и о возможной пропаже такой суммы.
– Но вам следовало бы это сделать.
– Нет, это не в твоих интересах тоже.
– Я вам благодарен.
– Ты хочешь, чтобы я их продал для тебя?
– За сколько?
– Ну, ты же сам сказал, что продал три монеты за триста песо каждую. За мою услугу ты можешь дать мне по сто песо с монеты. Что ты на это скажешь?
– Нет, ты будешь выдавать мне монеты по десять штук. И я тебе заплачу не по сто песо, а по двести с каждой. Таким образом я смогу рассчитаться с тобой за услугу.
– Да ты тертый калач, француз. А я только лишь бедный колумбийский офицер. Слишком доверчив и туго соображаю. Ты действительно умен. Но тертый, как я уже сказал.
– Ладно. Что ты можешь предложить тогда?
– Завтра к себе в кабинет я вызову покупателя. Он посмотрит на монеты, назовет свою цену, и мы разделим. Пополам. Так или ничего. Иначе я пошлю тебя в Барранкилью вместе с твоими монетами, если не передумаю. А то оставлю их здесь и сделаю запрос.
– Нет. Вот мое последнее предложение. Пусть человек придет и посмотрит на монеты. И все деньги, что сверх трехсот пятидесяти за штуку – твои.
– Está bien; tú tienes mi palabra. (Идет, даю слово.) Но куда ты денешь такую кучу денег?
– При расчете ты пошлешь за бельгийским консулом, и я передам ему деньги, а он наймет адвоката.
– Не годится, не хочу свидетелей.
– Тебе ничего не грозит. Я дам расписку в получении всех тридцати шести золотых монет. Согласен? Если будешь работать со мной, у меня есть еще дельце.
– Какое?
– Уж поверь, не хуже первого. И там мы поделим барыш пополам.
– Cuál es? (Что за дело?) Говори.
– Подождем до завтра. А завтра в пять вечера, когда моя доля будет передана консулу, я скажу тебе о другом деле.
Наш разговор продолжался долго. Я вышел во двор очень довольный собой. Друзья уже были заперты в камере.
– Что случилось?
Я передал им свой разговор с начальником тюрьмы слово в слово. Мы просто выли от смеха, невзирая на собственное незавидное положение.
– Хитрый лис начальник, но ты его перехитрил. Ты думаешь, дело на мази?
– Ставлю двести песо против ста, что он попался. Может, поспорим?
– Не надо. Он уже точно на крючке.
Всю ночь я снова и снова мысленно возвращался к сложившейся ситуации. Первая сделка прошла без сучка без задоринки. От второй он тоже придет в восторг – обязательно отберет у матушки настоятельницы жемчуг. Остается еще третья сделка. Третья… Она будет заключаться в том, что я предложу ему всю свою долю за лодку в гавани. Я мог бы купить ее и за деньги, оставшиеся в гильзе. Сумеет ли он противостоять искусу? А чем я рискую? Он даже не сможет меня наказать, если учесть первые две сделки. Посмотрим. Что делить шкуру неубитого медведя? Не повременить ли до Барранкильи, Папийон? Зачем? У большого города большая тюрьма, поэтому и стерегут лучше, и стены выше. Мне следует вернуться к Лали и Сорайме. Мне надо немедленно бежать. Проведу с ними несколько лет, а потом через индейцев-скотоводов свяжусь с венесуэльцами. Налажу контакты через горы. Побег должен состояться любой ценой. Целую ночь я думал над тем, как провести успешно третью сделку.
На следующий день события развивались быстро. В девять утра за мной пришли, сказав, что в кабинете начальника тюрьмы меня ждет какой-то сеньор. Когда я прибыл, охранник, сопровождавший меня, остался за дверью. В кабинете сидел мужчина лет шестидесяти в светло-сером костюме и сером галстуке. Перед ним на столе – серая шляпа наподобие ковбойской. В галстуке торчала, словно в коробочке, большая серая жемчужина с серебристо-голубым отливом. Чувствовалось, что этот тощий, сухопарый человек имел свое собственное представление об элегантности.
– Доброе утро, месье.
– Вы говорите по-французски?
– Да, месье, я из Ливана. Я так понимаю, что у вас имеется несколько золотых песо. Для меня это представляет интерес. Предлагаю вам пятьсот песо за монету.
– Нет, шестьсот пятьдесят.
– Вас неправильно информировали, месье: предельная цена – пятьсот пятьдесят.
– Готов уступить, поскольку вы берете всю партию. Шестьсот.
– Нет, пятьсот пятьдесят.
Короче, сговорились на пятистах восьмидесяти. Сделка состоялась.
– Qué han dicho? (О чем договорились?)
– Сделка совершена, начальник. Пятьсот восемьдесят песо за монету. Продажа состоится сегодня после двенадцати.
Меняла ушел. Начальник тюрьмы встал из-за стола и сказал мне:
– Прекрасно, а что же причитается мне?
– Двести пятьдесят песо с монеты. Ты хотел сто, а получаешь двести да еще полста.
Он улыбнулся и спросил:
– А другое что за дело?
– Сначала пусть консул заберет деньги. После двенадцати, когда он уйдет, я и скажу тебе о другом деле.
– Что, действительно есть другое?
– Даю слово.
– Прекрасно. Ojalá. (Пусть так и будет.)
В два часа прибыли консул и ливанец. Меняла дал мне двадцать тысяч восемьсот восемьдесят песо. Я отсчитал двенадцать тысяч шестьсот консулу, а восемь тысяч двести восемьдесят передал начальнику тюрьмы, после чего подписал документ о получении всех тридцати шести золотых монет. Когда мы снова оказались с начальником наедине, я рассказал ему про случай в монастыре и про матушку настоятельницу.
– Сколько жемчужин?
– От пяти до шести сотен.
– Она воровка, а не матушка настоятельница. Ей следовало бы принести их тебе или переслать через кого-то. Или сдать все в полицию. Я ее разоблачу.
– Нет. Ты должен навестить ее и передать от меня письмо. Я напишу по-французски. Но прежде, чем говорить о письме, скажи ей, чтобы послала за монахиней-ирландкой.
– Понял. Ирландка, значит, понимает по-французски, и она ей прочитает письмо и переведет. Прекрасно. Я пошел.
– Подожди письмо.
– Ах да! Верно! Хосе! – крикнул он через полуоткрытую дверь. – Приготовь машину и двух человек со мной.
Я сел за стол начальника тюрьмы и на официальном тюремном бланке написал письмо:
...
«Мадам настоятельнице монастыря,
просьба передать через благочестивую
и милосердную монахиню-ирландку.
Когда, по милости Божией, я пришел в Ваш дом, где, я считал, гонимому должна быть оказана помощь согласно канонам христианской веры, я с доверием вручил Вам на сохранение мой мешочек с жемчугом в знак того, что я не покину тайком Ваш кров. Нашелся бесчестный человек, посчитавший за благочестие выдать меня полиции, которая не заставила себя ждать и арестовала меня в доме Господа. Надеюсь, что низкая душа, виновная в моих бедах, не имеет никакого отношения ни к одной из монахинь Вашего монастыря. Не могу заверить Вас в том, что я простил этого злого человека, будь он мужчина или женщина, иначе я бы покривил душой перед истиной. Напротив, я страстно молю Бога или одного из Его святых нещадно покарать лицо (мужчину или женщину), виновное в ужасном преступлении. Я прошу Вас, матушка настоятельница, переправить мне мешочек с жемчугом через доверенное лицо, начальника тюрьмы дона Сесарио. Я уверен, что он, как истинный христианин, исполнит свой долг и передаст мне мою собственность. Настоящее письмо является доверенностью.
Искренне Ваш и так далее!».
От Санта-Марты до монастыря восемь километров. Полицейская машина вернулась через полтора часа. Начальник тюрьмы послал за мной.
– Вот, получи. Да сосчитай хорошенько, не пропало ли чего?
Я пересчитал, но не для того, чтобы убедиться в пропаже, поскольку с самого начала не знал, сколько их там, а для того, чтобы узнать, сколько жемчужин осталось после того, как мешочек побывал в руках этого негодяя: пятьсот семьдесят две.
– Правильно?
– Да.
– No falta? (Ни одной не пропало?)
– Нет. Теперь расскажи все по порядку.
– Приехав в монастырь, я застал матушку настоятельницу во дворе. Подхожу, двое полицейских по бокам, и обращаюсь: «Сеньора, в вашем присутствии я должен буду говорить с ирландкой-монахиней об очень серьезном деле, о сути которого вы, несомненно, догадываетесь».
– Что дальше?
– При чтении письма матушке настоятельнице монахиню пробирала дрожь. Настоятельница промолчала. Она низко опустила голову, открыла ящик стола и сказала мне: «Вот мешочек с жемчугом. В полной сохранности. Да простит Господь того, кто совершил преступление против этого человека. Скажите ему, что мы молимся за него перед Всевышним». Ну как, приятель? – закончил начальник тюрьмы, весь сияя от удовольствия.
– Когда мы продадим жемчуг?
– Mañana (завтра). Я не спрашиваю, откуда у тебя жемчуг. Я знаю, что ты опасный матадор (убийца), но я также знаю, что ты человек слова и честный человек. Возьми-ка эту ветчину, вино и французскую булку. Отнеси приятелям да выпейте за такой памятный день.
– Доброй ночи.
Я вернулся в камеру с двухлитровой бутылкой вина, куском копченой ветчины на три килограмма и четырьмя длинными французскими булками. Закатили настоящий банкет. Ветчина, булка и вино таяли на глазах. Пили от души.
– Ты считаешь, адвокат сможет нам в чем-то помочь?
Я прыснул. Бедолаги, даже они позволили себя провести на мякине с этим адвокатом!
– Не знаю. Надо хорошенько все продумать, прежде чем платить.
– Лучше не платить, если не уверен в успехе, – сказал Клузио.
– Правильно. Надо найти еще такого адвоката, который бы взялся за наше дело.
Мне стало немного стыдно перед друзьями, и я прекратил разговор на эту тему.
На следующий день ливанец появился снова. Начал он так:
– Сложно, очень сложно. Сначала надо рассортировать жемчуг по размеру, затем по цвету, а уж потом по форме, то есть круглые жемчужины или неправильной формы.
Короче, сложность не только в этом, сказал ливанец, в деле должен принять участие более сведущий специалист и возможный покупатель. Через четыре дня сделка состоялась. Он заплатил тридцать тысяч песо. В последний момент я исключил из продажи одну розовую и две черные жемчужины, решив подарить их жене бельгийского консула. Как хорошие коммерсанты, они не преминули заметить, что эти три жемчужины сами по себе стоят пять тысяч. И тем не менее я их оставил при себе.
С большим трудом удалось уговорить бельгийского консула принять жемчуг. Но он охотно согласился взять на сохранение мои пятнадцать тысяч. Теперь у меня двадцать семь тысяч песо. Встал вопрос об осуществлении третьего дела.
Как к нему подступиться? С какой стороны, чтобы не дать маху? В Колумбии хороший рабочий зарабатывал от восьми до десяти песо в день. Двадцать семь тысяч – это большая сумма. Куй железо, пока горячо. У начальника тюрьмы двадцать три тысячи. Если положить двадцать семь сверху, будет все пятьдесят.
– Начальник, сколько надо вложить в хорошее дело, чтобы жить лучше, чем ты сейчас живешь?
– Хорошее дело – деньги на бочку – тянет от сорока пяти до шестидесяти тысяч.
– А каков барыш? В три раза больше твоего жалованья? В четыре?
– Нет, в пять или шесть раз.
– А почему бы тебе не стать коммерсантом?
– Мне потребуется вдвое больше капитала.
– Послушай, начальник, я могу предложить тебе третье дельце.
– Не разыгрывай меня.
– Нет, я серьезно. Хочешь, я отдам тебе свои двадцать семь тысяч песо. Они твои, только скажи.
– Ты о чем?
– Отпусти меня.
– Послушай, француз. Я знаю, ты мне не доверял. Прежде ты, возможно, был прав. Но сейчас я вылез из нищеты или почти вылез. Теперь я могу купить дом и послать детей в платную школу. И все это благодаря тебе. Теперь я твой друг. Не хочу тебя грабить и не хочу, чтобы тебя убили. Здесь я ничего не могу для тебя сделать, даже за целое состояние. Не могу я помогать тебе в побеге, в котором нет никаких шансов на успех.
– А что, если я докажу обратное?
– Ну, тогда посмотрим. Но ты сначала все хорошенько обмозгуй.
– Начальник, у тебя есть какой-нибудь приятель среди рыбаков?
– Допустим.
– Может, он вывезет меня в море и продаст лодку?
– Не знаю.
– Сколько, грубо говоря, стоит его лодка?
– Две тысячи песо.
– Положим, я дам ему семь и тебе двадцать, идет?
– Француз, с меня хватит и десяти. Оставь себе хоть что-то.
– Значит, устроишь.
– Валишь один?
– Нет.
– Сколько?
– Со мной трое.
– Сначала дай мне поговорить с рыбаком.
Просто удивительно, как этот тип изменил свое отношение ко мне. У него на морде написано, что он живоглот, но вот, поди же, где-то в глубине души зазвучали и человеческие нотки.
Во дворе я имел разговор с Клузио и Матюретом. Они сказали, что мне решать, они готовы бежать со мной. Друзья вручали мне собственную жизнь, отчего я почувствовал огромное удовлетворение. Я не буду злоупотреблять их доверием. Приму все меры предосторожности, поскольку этим решением взваливаю себе на плечи груз неимоверно тяжелой ответственности. Но надо обо всем рассказать и остальным. Мы только что закончили партию в домино. Уже около девяти вечера. Еще успеем заказать по последней чашке кофе. Я крикнул: «Cafetero! Принеси шесть чашек горячего кофе».
– Мне нужно вам кое-что сказать. Я снова готовлю побег и думаю, что он удастся. К сожалению, могут пойти только трое из нас. Естественно, я беру с собой Клузио и Матюрета, поскольку именно с ними я бежал с каторги. Если у кого-либо появятся возражения, говорите прямо, я готов выслушать.
– Нет никаких возражений, – сказал бретонец. – Их и быть не может, с какой стороны ни посмотреть. Начать с того, что вы бежали вместе. А потом, вы же по нашей вине оказались в этой дыре. Это мы захотели высадиться в Колумбии. И все же спасибо, Папийон, что спрашиваешь наше мнение. Конечно, ты имеешь полное право делать то, о чем говоришь. Я искренно надеюсь на Господа, у тебя все получится. Иначе, ты же знаешь, – это верная смерть. И прекрасно представляешь, в каких условиях.
– Нам это хорошо известно, – сказали Клузио и Матюрет.
Начальник вызвал меня на разговор. Его друг дал согласие. Он спросил, что я собираюсь взять с собой в лодку.
– Бочонок на пятьдесят литров воды, двадцать пять килограммов кукурузной муки, шесть литров растительного масла. Это все.
– Carajo! Разве можно с такой малостью идти в море?
– Да.
– Ну ты и храбрец, француз! Ну и храбрец!
Все тип-топ. Начальник решился на третье дело. Он спокойно добавил:
– Веришь ты мне, друг, или нет, но я делаю это в первую очередь ради своих детей и ради тебя – во вторую. Ты заслужил это своей храбростью.
Я знал, что он говорит правду, и поблагодарил.
– Как бы устроить так, чтобы я сам не очень-то засветился?
– Тебя и не втягивают в неприятности. Я уйду ночью, когда заступит на дежурство твой заместитель.
– Какой план?
– Начнешь с того, что завтра сократишь ночную охрану на одного человека. Через три дня уберешь еще одного. Когда останется лишь один, караульную будку перенесешь и поставишь напротив двери в нашу камеру. Первой же дождливой ночью часовой укроется в будке, а я в это время вылезу через заднее окно. От тебя только потребуется устроить короткое замыкание, чтобы вырубить прожекторы вокруг стены. Больше ничего. Можно сделать таким образом: к концам медной проволоки длиной, скажем, в метр привяжешь два камня и забросишь на два электрических провода, идущих от столба к системе освещения. Теперь насчет рыбака. Пусть он поставит лодку на цепь с висячим замком, но не запирает, чтобы мне не терять лишнего времени. Паруса должны быть наготове, чтобы осталось только их поднять. Да пусть приготовит три весла, чтобы нам поскорей выбраться на ветер.
– Но лодка с небольшим мотором, – сказал начальник.
– Да? Тем лучше. Пусть мотор тарахтит потихоньку, будто он его прогревает, а сам зайдет в ближайшее кафе выпить спиртного. Когда увидит, что мы на подходе, он должен стоять рядом с лодкой в черном клеенчатом плаще.
– А деньги?
– Твои двадцать тысяч я делю пополам – даже по купюрам. Рыбаку отдам его семь тысяч вперед. Ты получишь половину от двадцати авансом, а другую половину – от француза, оставшегося здесь. Я скажу от кого.
– Ты не доверяешь мне. Это плохо.
– Не в этом дело. Ты можешь подкачать с коротким замыканием. За что тогда платить? Без этой штуки побег не состоится.
– Согласен.
Все устраивалось как нельзя лучше. Через начальника я передал рыбаку семь тысяч песо. Через пять дней в ночном наряде стоял только один часовой. Караульная будка переместилась к нашей камере. Оставалось ждать дождя, но его как не бывало. Железные прутья на окне подпилены. Сам начальник тюрьмы предоставил в наше распоряжение полотна от слесарной пилы. Подпил прутьев тщательно замаскировали. Более того, его прикрывает клетка с попугаем, который уже научился выговаривать слово «говно» по-французски. Нервы напряжены. Сидим как на иголках. Начальник уже получил половину денег. Ждем каждую ночь. А дождя все нет. Договорились, что начальник устроит короткое замыкание час спустя после начала ливня. Ни одной капли: в это время года такое просто невероятно. Появилось небольшое облако в очень подходящее время. Мы следим за ним из зарешеченного окна. Оно вселило надежду – и опять ничего. Можно сойти с ума. Целых шестнадцать дней. Уже все наготове. Целых шестнадцать ночей сплошного ожидания. Душа ушла в пятки. В воскресенье утром во дворе появился начальник тюрьмы. Он увел меня в свой кабинет. Там он вручил мне вскрытую пачку, в которой не хватало половины денег, и целую пачку.
– В чем дело?
– Француз, друг мой. У тебя осталась только сегодняшняя ночь. В шесть утра вас отправят в Барранкилью. Я возвращаю тебе только три тысячи песо из тех, которые ты отдал рыбаку. Остальное он уже успел потратить. Если Господь пошлет нам дождь, рыбак будет тебя ждать в условленном месте, и ты сможешь ему отдать эти деньги, когда заберешь лодку. Тебе я доверяю, и нечего бояться.
Но дождь так и не пошел.
Побег из Барранкильи
В шесть утра восемь солдат и два капрала во главе с лейтенантом надели на нас наручники, посадили в военный грузовик и отправили в Барранкилью. За три с половиной часа проехали сто восемьдесят километров. В десять утра уже были в тюрьме под названием «Восьмидесятка» в пригороде Медельина. Сколько труда положено на то, чтобы не оказаться в Барранкилье, и тем не менее мы здесь! Барранкилья – большой город. Главный атлантический порт Колумбии, расположенный в устье реки Магдалена. Тюрьма тоже большая: четыреста заключенных и около сотни надзирателей. Она почти ничем не отличается от любого европейского узилища. Ее окружают две стены высотой более восьми метров. Нас приветствует высокое тюремное начальство во главе с доном Грегорио – самым большим начальником. В тюрьме четыре двора – по два слева и справа. Посередине тянется длинная часовня, где проходят мессы, одновременно она служит комнатой для свиданий. Нас поместили во двор для «особо опасных преступников». При обыске надзиратели обнаружили двадцать три тысячи песо и две небольшие стрелы. Я счел своим долгом предупредить начальника, что стрелы отравлены. Последнее обстоятельство вряд ли отрекомендовало нас как примерных граждан.
– У этих французов еще и отравленные стрелы!
Для нас тюрьма в Барранкилье представляется самым опасным звеном во всей цепи предшествовавших ей приключений. Здесь нас собираются передать в руки французских властей. Итак, Барранкилья, или ее большая тюрьма, становится критической точкой. Бежать во что бы то ни стало! Бежать любой ценой! Поставить все на карту!
Наша камера находится посередине двора. Впрочем, это даже не камера, а клетка: бетонная крыша покоится на мощных железных столбах. В одном углу находится туалет и умывальник. Весь двор представляет собой прямоугольник со сторонами сорок на восемьдесят метров. Клетки расположены по периметру четырех дворовых стен, решетки камер выходят во двор. В этих камерах-клетках еще сотни заключенных. Нас, шестерых французов, поместили в отдельную камеру. Через решетку днем и ночью можно наблюдать, что происходит в других камерах и во дворе. Разумеется, мы тоже под перекрестным наблюдением как со стороны заключенных, так и со стороны надзирателей. По сути, камеры закрываются только на ночь, а с шести утра до шести вечера можно свободно шляться туда и обратно. Сверху над решетками проходят водостоки, не позволяющие дождевой воде проникать в камеру. Весь день мы проводим во дворе и, как говорилось выше, входим в камеру и выходим из нее по собственному усмотрению. Мы ходим по двору, разговариваем и даже едим.
Через два дня нас, всех шестерых, привели в часовню. Там находились начальник тюрьмы, несколько полицейских, семь или восемь фоторепортеров местных газет.
– Вы бежали из французской исправительной колонии в Гвиане?
– Мы никогда это не отрицали.
– За какие преступления каждого из вас приговорили к столь суровому наказанию?
– Это не имеет значения. Важно то, что нами не совершено никакого преступления на территории Колумбии, в то время как колумбийцы не только отказывают нам в праве встать на честный путь, но и принимают участие в нашем преследовании, то есть выполняют роль добровольного жандарма в интересах французского правительства.
– Колумбия не считает возможным принять вас на своей территории.
– Но я и двое других моих товарищей не только не помышляли об этом, но и до сих пор решительно настроены против пребывания в вашей стране. Нас арестовали в море. Мы не делали никаких попыток высадиться на вашей земле. Напротив, мы делали все, чтобы убраться отсюда.
– Я журналист и представляю католическую газету. Скажите, французские католики похожи на наших, колумбийских?
– Возможно, колумбийцы – крещеные католики, но ваш образ мышления и поведение далеки от христианских.
– В чем же вы нас упрекаете?
– Вы сотрудничаете с тюремными властями, преследующими нас. Более того, вы за них выполняете их же работу. Вы забрали нашу лодку и все, что в ней находилось. Вы лишили нас собственности, полученной нами в качестве подарка от католиков острова Кюрасао в лице епископа Ирене де Брюина, так благородно их представляющего. С вашей стороны совершенно несправедливо отказывать нам в возможности искупить собственные грехи. Более того, вы препятствуете нашему выезду в другую страну. Все расходы мы несем сами. Если ваша страна не может рисковать, то почему не отпустить нас в другую? Я считаю это верхом несправедливости.
– Значит, вы на нас сердитесь, вы сердитесь на колумбийцев?
– Не на колумбийцев как таковых, а на полицию и правовую систему.
– Что вы имеете в виду?
– Я полагаю, что любую ошибку можно исправить, проявив добрую волю. Разрешите нам уйти морем в другую страну.
– Мы постараемся добиться для вас такого разрешения.
Когда мы снова очутились во дворе, Матюрет сказал мне:
– Теперь ты понял? На этот раз хватит иллюзий, не будем играть с огнем. Нас загнали в угол, из которого не так-то легко выбраться.
– Послушай, – ответил я, – не знаю, сильнее ли мы будем, находясь все вместе, но вот что хочу сказать тебе: каждый волен делать то, что считает нужным. Что касается меня, то я должен бежать из их долбаной «Восьмидесятки».
В четверг меня вызвали в комнату свиданий, где я увидел хорошо одетого человека лет сорока пяти. Я посмотрел на него внимательно, он мне чем-то напомнил Луи Дега.
– Папийон?
– Да.
– Я Жозеф, брат Луи Дега. О вас узнал из газет и вот пришел навестить.
– Спасибо.
– Ты видел моего брата Дега в Гвиане. Ты знаком с ним?
Я подробно рассказал о своих встречах с Дега вплоть до самого последнего дня в больнице, когда мы расстались. По словам Жозефа, его брат в настоящее время отбывал срок на островах Салю, эти новости он получил из Марселя. Свидания в часовне разрешались по четвергам и воскресеньям. Жозеф открыл мне, что в Барранкилье сейчас обретается дюжина-другая французов. Все они сутенеры и приехали сюда попытать счастья, прихватив с собой и «девочек». В особом районе города полторы дюжины шлюх изысканно занимались профессиональной любовью в духе лучших французских традиций. Где только не встретишь этих мужчин и женщин, удивительно похожих друг на друга, исповедующих свои идеалы через известную «специальность»! От Каира до Ливана, от Англии до Австралии, от Буэнос-Айреса до Каракаса, от Сайгона до Браззавиля они занимаются древнейшей профессией, старейшей во всем мире, полагая, что красиво жить не запретишь.
Жозеф Дега открыл мне глаза на некоторые любопытные вещи: французские сутенеры из Барранкильи сильно обеспокоены. Они боятся, что наше пребывание в здешней тюрьме может нарушить их спокойную жизнь и нанести ущерб процветающему делу. И в самом деле, убеги кто-нибудь из нас, один или несколько, полиция сразу же навестит французские притончики, разыскивая беглецов, даже если последние там вовсе и не появятся и не попросят помощи. А это позволит полиции косвенным путем раскрыть много разных дел и делишек: поддельные документы, просроченные или аннулированные виды на жительство и прочее и прочее. Конечно же, в поисках беглецов полиция у всех будет требовать и проверять удостоверение личности и вид на жительство в Колумбии. И если что обнаружится, да при отягчающих обстоятельствах, то никому не поздоровится – неприятностей будет хоть отбавляй.
Теперь я знал, где нахожусь. Жозеф Дега, со своей стороны, обещал мне оказать любую услугу. Он также пообещал навещать меня по четвергам и воскресеньям. Я поблагодарил. Жозеф Дега оказался приличным парнем, что подтвердилось последовавшими событиями. Он указал еще и на такой факт: из газет ему стало известно, что требование французских властей о нашей выдаче удовлетворено.
– Ну, ребята, у меня для вас ворох новостей.
– Каких новостей?! – закричали все пятеро хором.
– Начнем с того, что оставим все иллюзии. Из Французской Гвианы отряжено специальное судно, которое и доставит нас туда, откуда мы прибыли. Кроме того, наше присутствие здесь не дает покоя сутенерам-французам, прекрасно устроившимся в Барранкилье. Я говорю не о Дега, навестившем меня. Ему, собственно, наплевать на последствия. Речь идет о его партнерах по ремеслу. Те очень боятся, что мы убежим и наделаем им неприятностей.
Все разразились смехом: они думали, что я шучу. Клузио продолжал в том же духе:
– Месье Понтий Пилат, разрешите мне удрать.
– Хватит смеяться. Если вдруг нас вздумают навестить шлюхи, мы должны сразу дать им от ворот поворот. Поняли?
– Поняли.
Как говорилось ранее, в нашем дворе было около сотни заключенных колумбийцев. И далеко не все дураки. Были тут и воры-профессионалы, ловкие фальшивомонетчики и мастера по подделке документов, неистощимые на выдумку мошенники по вымогательству денег, специалисты по вооруженным ограблениям и налетам, торговцы наркотиками и несколько профессиональных убийц высокого класса. Последнее призвание – банальное явление в Америке. Богачи, политики, заезжие гастролеры прибегают к их услугам и хорошо оплачивают свои грязные заказы.
Какой цвет кожи здесь только не встретишь! От черного у сенегальца до чайного у креола с Мартиники; от кирпичного у индейца с прямыми иссиня-черными волосами до совершенно белого. Стараюсь войти в контакт с этими людьми. Остановился на нескольких и пытаюсь выяснить их возможности и желание совершить побег. Многие, как и я, либо ожидают длительного срока, либо уже получили, поэтому живут и дышат только одной мечтой – бежать хоть сейчас.
По периметру четырехугольного двора сверху по стене днем и ночью ходят часовые. По углам для них сделаны небольшие будки. В ночное время весь верхний участок стены и внутренний двор освещается прожекторами. Часовых четверо. Пятый стражник внизу у дверей в часовне. Этот последний – без оружия. Пища здесь хорошая. Кроме того, многие узники продают свои вещи, чтобы купить продукты и напитки: кофе, фруктовые соки. Соки самые разные: апельсиновый, ананасовый, сок из папайи. Все это доставляется извне. Торговцы то и дело становятся жертвами нападений. Нападение всегда удивительно скоротечно. Прежде чем торговец сообразит, что происходит, сзади ему на лицо набрасывается полотенце, чтобы не орал, а к спине или к горлу приставляется лезвие ножа, готовое войти в тело при малейшем сопротивлении. Вся выручка уплывает в чужие руки. Как только тугой перехват полотенца начинает ослабевать, торговец тут же получает удар по затылку. На этом все и прекращается. Никому ни слова и без лишних претензий. Но иногда торговец отставляет все в сторону, закрывает лавчонку и принимается разыскивать обидчиков. Если находит – дело всегда заканчивается поножовщиной.
Два вора-колумбийца вышли на меня с предложением. Я выслушал их внимательно. В городе, по их словам, есть воры-полицейские. Когда они заступают на дежурство в определенном районе, они дают знать своим сообщникам, что пора выходить на дело.
Оба моих посетителя знали их всех. Они полагали, что на этой неделе один такой полицейский обязательно будет дежурить у дверей в часовню. От меня требовалось достать револьвер, который мне могли бы передать в дни свиданий. Полицейский-вор не будет возражать, если мы силой заставим его постучать в дверь, ведущую из часовни в небольшое караульное помещение. Там еще четверо полицейских, от силы шестеро. Застигнутые врасплох, под угрозой револьвера они не смогут воспрепятствовать нашему прорыву на улицу. А там сильное движение транспорта, масса пешеходов и можно легко затеряться в толпе.
Предложенный план не очень-то мне понравился. А идея с револьвером и тем более. Спрятать и пронести в комнату свиданий можно лишь небольшой пистолет, которым вряд ли запугаешь караульных. А кто-нибудь на него даже не среагирует, тогда его наверняка придется шлепнуть. Это меня не устраивало, и я отказался.
Я был не единственный, кто предпринимал какие-то лихорадочные действия: мои друзья тоже пытались подсуетиться. Но вот в чем разница. В течение нескольких дней они чувствовали себя крайне подавленно, но затем этого чувства поубавилось и они смирились с мыслью дождаться посланное за нами судно в тюрьме. От состояния «будь что будет» до признания своего поражения – только один шаг. Они даже пустились в рассуждения, какое наказание их может ожидать в Гвиане и как к ним будут там относиться.
– Меня тошнит от той хреновины, какую вы несете, – сказал я. – Если вы хотите поговорить о такого рода будущем, делайте это без меня. Идите и обсуждайте там, где меня нет. Только евнух может сложить руки перед тем, что вы называете судьбой. Вы что, евнухи? Покажите, кто из вас кастрирован? Если есть такой, то говорите прямо, не стесняйтесь! Вот что я вам скажу, ребята, если уж я думаю о побеге, то думаю за всех нас. Когда у меня голова раскалывается от мыслей, как выбраться отсюда, это значит я забочусь не только о себе, но и о вас. Шесть человек – ведь это не так просто! В отношении себя лично добавлю: все будет гораздо проще. Если увижу, что дата отъезда неумолимо приближается и ничего не сделано, я убью колумбийского фараона, чтобы выиграть время. Меня уже не выдадут Франции, поскольку я убил их полицейского. У меня будет время пораскинуть мозгами. А одному бежать легче и безопаснее.
Колумбийцы предложили другой план с неплохой стыковкой деталей. Во время воскресной утренней мессы в часовне всегда полно и узников, и посетителей. Сначала мессу слушают все вместе, а после службы в часовне остаются те заключенные, кого навестили. Колумбийцы попросили меня посетить службу в ближайшее воскресенье, чтобы подробно ознакомиться с ходом отправления мессы. Это необходимо знать для подготовки побега и координации действий на следующей неделе. Они предложили мне возглавить мятеж, но я отказался от этой чести, сославшись на то, что плохо знаком с теми, кто примет участие в планируемых событиях.
Я высказал свои соображения от себя лично и еще от троих французов. Бретонец и «утюжник» отказались присоединиться. Из-за этого трудностей не прибавится – они просто останутся в камере и не пойдут в часовню. В воскресенье мы вчетвером, участники заговора, отправимся на мессу. Часовня имеет четырехугольную форму: хор в дальнем конце, по обеим сторонам выходы в смежные дворы. Главная дверь открывается в караульное помещение, она предохраняется решеткой, за которой находятся около двух десятков стражников. И наконец, за стражей имеется дверь, ведущая на улицу. Поскольку часовня во время мессы заполнена до отказа, зарешеченная дверь в караульное помещение остается открытой, а стражники внутри стоят плотной шеренгой. Среди посетителей, вошедших в часовню, должны быть двое наших. Оружие доставят одновременно. Это сделают женщины. Они пронесут два револьвера, подвязав их между ног. Как только все окажутся в сборе, женщины передадут тяжелые револьверы руководителям заговора, то есть тем двоим, пришедшим с посетителями, после чего сами тихонько смоются. И как только мальчик в хоре звякнет своим маленьким колокольчиком во второй раз, мы все сразу вместе нападаем. Я должен буду приставить огромный нож к горлу начальника тюрьмы дона Грегорио и сказать:
– Don Gregorio, da la orden de dejarnos pasar, si no, te mato. (Отдай приказ пропустить нас, иначе я тебя убью.)
Еще один человек проделает ту же манипуляцию со священником. Трое других, вооруженные револьверами, с трех различных позиций направят оружие на стражников у главной зарешеченной двери часовни, ведущей на улицу. Приказ стрелять в первого же багра, который не подчинится и не бросит оружие. Первыми выскакивают на улицу невооруженные. Священник и начальник тюрьмы сыграют роль щита для прикрытия тыла. Если все пройдет хорошо, винтовки охраны будут валяться на полу. Самих стражников мы затолкаем в часовню, закроем за ними сначала решетку, а потом и деревянную дверь. Караульное помещение окажется пустым, поскольку все стражники во время мессы должны слушать проповедь стоя. В пятидесяти метрах от тюрьмы нас будет поджидать грузовик. Чтобы не замешкаться при посадке в кузов, к нему будет приставлена небольшая лестница. Машина тронется с места сразу, как только глава заговора окажется в ней. А он сядет в грузовик последним. Лично ознакомившись с порядком проведения мессы, я дал согласие. Произошло все так, как Фернандо и говорил мне.
В то воскресенье Жозеф Дега не должен навещать меня. Он знает почему. Жозеф достанет для нас легковую машину под видом такси, так что с грузовиком нам связываться не придется. Он также приготовит местечко, где мы сможем укрыться. Всю неделю я ходил взвинченный, с нетерпением ожидая начала действия. У Фернандо есть револьвер, он сумел его достать своим путем. Поистине внушительное оружие колумбийской гражданской гвардии. В четверг меня навестила женщина от Жозефа. Очень миловидная особа. Она сказала, что машина – желтого цвета, ее нельзя спутать с другими.
– Спасибо.
– Удачи.
Она нежно расцеловала меня в обе щеки, чем совершенно растрогала себя и меня тоже.
– Entrad, entrad. (Входите.) Да заполнится этот храм, да будет услышано слово Божье, – сказал священник.
Клузио едва сдерживается. У Матюрета сверкают глаза. Леблон держится рядом, не отступая от меня ни на шаг. Я совершенно спокойно занял свое место. Дон Грегорио сидит на стуле, рядом с ним – полная женщина. Я встал у стены. Клузио – справа. Двое других приятелей – слева. Мы одеты так, что, если удастся прорваться на улицу, можем легко затеряться в толпе. Открытый нож наготове в правом рукаве рубашки защитного цвета. Он плотно прилегает к руке и держится на резинке. Манжета рубашки застегнута на пуговицы. Наступает возвышенный момент начала мессы, когда каждый из присутствующих низко опускает голову, как бы что-то отыскивая в своей душе, и колокольчик мальчика из церковного хора издает дробную трель, после которой последуют три четких звонка. Второй звонок – наш сигнал. Каждый знает, что следует делать.
Первый звонок, второй… Я бросаюсь к дону Грегорио и приставляю нож к его длинной морщинистой шее. Раздается пронзительный крик священника: «Misericordia, no me mate». (Смилуйтесь, не убивайте меня.) Не вижу, но слышу, как трое приказывают стражникам бросить винтовки. Все идет хорошо. Я беру дона Грегорио за воротник шикарного костюма и говорю:
– Sigue y no tengas miedo, no te haré daño. (Следуй за мной и не бойся: я ничего тебе не сделаю.)
Священника держат рядом с моей группой. К его горлу приставлена бритва. Фернандо кричит:
– Vamos, Francés, vamos a la salida. (Идем, француз, идем на выход.)
Радостный от грандиозного успеха, я подталкиваю свою команду к главным воротам, ведущим на улицу. Прогремели два выстрела, почти одновременно. Фернандо упал. Упал и другой наш вооруженный сообщник. Я продвинулся вперед еще на какой-то метр, но пришедшие в себя стражники преградили винтовками нам дорогу. К счастью, между ними и моей группой оказалось несколько женщин, что им и помешало стрелять. Еще два выстрела из винтовок и один из револьвера. Наш третий вооруженный сообщник тоже убит, однако он успел выстрелить наобум и ранить одну девушку. Бледный, как смерть, дон Грегорио сказал мне:
– Отдай нож.
Я повиновался. Не было никакого смысла продолжать борьбу, за какие-то полминуты ситуация круто изменилась.
Через неделю я узнал, что мятеж провалился по вине одного заключенного из другого двора. Он наблюдал за мессой снаружи. Как только события стали разворачиваться в часовне, он предупредил часовых на стене. Те спрыгнули во двор с шестиметровой высоты: один – с одной стороны часовни и еще один – с другой. Сквозь решетки боковых дверей они выстрелили в вооруженных мятежников, стоявших на скамье и державших стражников под прицелом. Через несколько секунд они застрелили и третьего, как только он попал в подходящий сектор обстрела. После этого началась настоящая «коррида». Я продолжал стоять рядом с начальником тюрьмы, который криком отдавал приказания. Шестнадцать человек, в том числе и нас, четверых французов, заковали в железо и посадили в карцер на хлеб и воду.
Жозеф нанес визит дону Грегорио. Начальник тюрьмы вызвал меня и сказал, что готов оказать услугу хорошему человеку и выпускает меня из карцера вместе с моими приятелями. Благодаря Жозефу с нами выпустили и колумбийцев. И вот через десять дней мы снова на своем дворе и в той же камере. Я предложил друзьям почтить минутой молчания память погибших – Фернандо и еще двоих колумбийцев. Вскоре меня навестил Жозеф. Он рассказал, что ему пришлось пустить шляпу по кругу среди сутенеров. Собрали пять тысяч песо, которые и убедили дона Грегорио в целесообразности оказать услугу хорошему человеку. После такого жеста мы сутенеров зауважали.
Что же дальше? Что бы еще придумать? В конце концов, я не собираюсь сдаваться и обреченно ожидать посланное за нами судно. Надо что-то делать.
Затаившись в общей душевой комнате, прячась от палящих лучей солнца, я наблюдаю за часовыми, выхаживающими по круговому манежу наверху стены. Они меня не видят, ибо я ничем не выдаю себя и не привлекаю их внимание. Ночью каждые десять минут они кричат по очереди: «Часовые, гляди в оба!»
Таким образом старший караульного наряда может проверить, все ли часовые бодро несут службу или кто-то из четверых уснул на посту. Если кто-нибудь не откликается сразу, другой будет кричать до тех пор, пока тот не отзовется.
Мне показалось, что я нащупал слабое место в этой системе. У каждой будки в четырех углах настенного манежа на бечевке свисала жестяная банка. Когда часовому хотелось выпить кофе, он подзывал разносчика, который вливал в нее две или три чашки напитка. Часовому оставалось только поднять банку наверх. В дальнем правом углу будка напоминала башню с некоторым выступом и нависанием в сторону двора. Мне подумалось, что если бы удалось сделать кошку приличного размера да привязать к ней хорошую веревку, то можно было бы легко зацепиться за выступ. За несколько секунд можно перелезть через стену и оказаться на улице. Единственная задача – нейтрализовать часового. Но как?
Я вижу, как он встал и сделал несколько шагов. Впечатление такое, что его доняла жара и он с трудом борется со сном. Боже праведный! Так ему следует помочь уснуть. Сначала надо сделать веревку и подыскать хороший крюк. А уж затем надо будет одурачить этого типа и не упустить свой шанс. Через два дня семиметровая веревка была готова. Ее мы сплели из прочных полотняных рубашек преимущественно защитного цвета. Рубашки искали где только могли. Крюк тоже подвернулся под руку. Это была скоба, удерживавшая металлический навес, защищающий двери камер от дождя. Жозеф Дега принес мне пузырек с очень сильным снотворным. В предписании было сказано, что следует принимать не более десяти капель за один прием. В пузырьке снотворного оказалось не менее шести столовых ложек. Раз за разом я стал предлагать часовому кофе. И он вскоре к этому привык. Часовой спускал мне банку на бечевке, и я постоянно вливал туда три чашки. Приняв во внимание, что все колумбийцы любят спиртные напитки и что снотворные капли по вкусу напоминают анисовые, я заказал себе бутылку анисовой водки.
И вот я говорю ему:
– Хочешь кофе по-французски?
– А что это такое?
– С анисовой водкой.
– Давай. Сначала попробую.
Уже несколько часовых попробовали мой кофе с анисовой водкой, и теперь, когда я им предлагаю чашечку-другую, они говорят:
– По-французски!
– Пожалуйста!
Плюх – и в чашку доливается анисовая.
Приближался час «Ч». Полдень. Суббота. Изнуряющая жара валила с ног. Мои друзья понимали, что предложенный способ бежать мог оказаться успешным для одного. Двое вряд ли проскочат одновременно. Однако один колумбиец с арабским именем Али решился последовать за мной. Я согласился. Таким образом с остальных французов снималось подозрение в соучастии, и последующее наказание рисовалось менее вероятным. С другой стороны, мне нельзя маячить перед часовым с припрятанной веревкой и крюком: у него будет достаточно времени хорошенько разглядеть меня и в чем-то заподозрить, когда я буду предлагать ему кофе. Мы рассчитывали, что снотворное свалит часового через пять минут.
До часа «Ч» ровно пять минут. Я окликнул часового:
– Кофе?
– Да.
– Как всегда?
– Да, по-французски. Он лучше.
– Момент. Сейчас принесу.
Я сказал разносчику:
– Две чашки.
В жестяную банку уже влит полный пузырек снотворных капель. Лошадиная доза наверняка свалит часового с ног. Подошел к стене. Он видит, что я добавляю к кофе анисовой водки, но совсем немного.
– Тебе покрепче?
– Да.
Тогда я расщедрился и плеснул в банку от всей души. Он тут же поднял ее наверх.
Прошло пять минут. Десять, пятнадцать и двадцать! А он все не спит. Более того, даже не присел, а стал расхаживать взад и вперед с винтовкой наперевес. Столько выпил – и хоть бы хны! В час дня произойдет смена караула.
Я чувствовал себя как на иголках, наблюдая за движением часового. Было такое впечатление, что он вовсе не принимал снотворного. Ага! Стал спотыкаться! Сел рядом с будкой, поставив винтовку между ног. Тяжело уронил голову на плечо. Мои друзья и трое колумбийцев, посвященных в дело, вместе со мной внимательно следили за происходящим.
– Пошли, – сказал я колумбийцу. – Веревку!
Колумбиец приготовился было бросить крюк, как вдруг стражник встал, уронил винтовку, потянулся и, покачиваясь, принялся маршировать на месте. Колумбиец вовремя спохватился и ничем себя не выдал. До смены часовых оставалось восемнадцать минут. Мысленно стал призывать на помощь Всевышнего: «Прошу Тебя, помоги мне еще только раз. Не оставь меня!» Но тщетны были мои молитвы, обращенные к Богу христиан, такие неуклюжие, особенно если учесть, что исходили они от атеиста.
– Невероятно, – сказал Клузио, приблизившись ко мне. – Невероятно, что этот идиот не засыпает.
Часовой наклонился, чтобы поднять винтовку, постоял несколько секунд в такой позе и рухнул плашмя на манеж, как будто его сзади ударили. Колумбиец бросил крюк, но тот сорвался и полетел вниз. Снова бросил, на этот раз удачно – крюк зацепился. Потянул веревку на себя, чтобы убедиться, крепко ли держит. Я проверил и только было уперся ногами в стену, готовясь рывком преодолеть ее, как услышал голос Клузио:
– Берегись! Смена караула!
Я едва убрался незамеченным. Тут же сработали инстинкт защиты и дух солидарности, столь распространенные в среде заключенных: полтора десятка узников-колумбийцев быстро окружили меня, и я растворился в их толпе. Мы стали уходить вдоль стены, оставив веревку болтаться у караульной будки. Один из караульных новой смены заметил кошку и тут же часового, лежавшего в беспамятстве на своей винтовке. Пробежав вперед два или три метра, он включил сирену, поскольку был, очевидно, уверен, что совершен побег.
К бесчувственному часовому подбежали с носилками. На стене собралось более двадцати полицейских. С ними был и дон Грегорио. Он поднял крюк и вытащил наверх веревку. Через несколько минут весь двор был оцеплен полицейскими с винтовками наперевес. Последовала перекличка. Отозвавшись на свое имя, каждый заключенный должен был идти в свою камеру. Удивительно! Все до единого! Камеры – на замок. Двор опустел.
Вторая перекличка с проверкой по камерам. Нет. Никто не исчез. К трем часам нас снова выпустили во двор. Там мы узнали, что часовой продолжает храпеть вовсю. И попытки разбудить его ни к чему не привели. Я потрясен неудачей, равно как и мой напарник-колумбиец. Последний был так уверен, что все должно сработать! Он обрушил весь свой гнев на янки, ругая на чем свет стоит всю американскую продукцию, поскольку, как оказалось, снотворное было изготовлено в Соединенных Штатах.
– Что делать?
– Начать сначала.
Это все, что я мог ему сказать. Он же подумал, что я имею в виду усыпить другого часового, хотя моя фраза просто-напросто означала, что давай, мол, поищем другие пути.
– Ты думаешь, что все надзиратели такие простофили, что среди них найдется еще один любитель кофе по-французски?
Несмотря на всю трагичность момента, я не мог удержаться от смеха.
– Конечно, приятель, конечно.
Наш постовой проспал три дня и четыре ночи. Когда он проснулся, то, разумеется, показал на меня: это я его «вырубил» своим французским кофе. Дон Грегорио послал за мной и устроил нам очную ставку. Начальник охраны хотел ударить меня саблей. Я отскочил в угол кабинета и стал его провоцировать. Он снова замахнулся саблей, но в этот момент между нами встал дон Грегорио, который и принял удар на себя. Сабля пришлась ему по плечу и перерубила ключицу. Дон Грегорио упал и так истошно завопил, что начальник охраны, растерявшись и позабыв про все, бросился к нему и стал поднимать с пола. Дон Грегорио продолжал орать и звать на помощь. Из всех служебных комнат, расположенных близко к кабинету, уже сбегались гражданские служащие. Начальнику охраны, еще двум полицейским и постовому, проспавшему так долго, пришлось вступить врукопашную против дюжины молодцов, искренне желавших отомстить за своего начальника, дона Грегорио. В этой потасовке некоторые были изрядно поколочены. А на мне – хоть бы одна царапина! Закрутилось большое дело, на этот раз уже не мое дело, оно меня не касалось. Дело завертелось между начальником тюрьмы и офицером охраны. Дона Грегорио отправили в госпиталь, а его заместитель вывел меня во двор и сказал:
– С тобой мы еще разберемся, француз. Дай только срок.
На следующий день начальник тюрьмы появился с гипсовой повязкой на плече. Он попросил меня сделать письменное заявление против проштрафившегося офицера. Я это сделал с большим удовольствием и написал все, что он хотел. История со снотворным была полностью забыта. Ею даже не интересовались. Очень мило с их стороны!
Прошло несколько дней. Жозеф Дега предложил свой план действий. Я ему уже говорил, что ночью бежать невозможно из-за ярких прожекторов. Надо поискать способ отключить электричество. Он его нашел. Один электрик согласился выключить рубильник в будке трансформатора, которая находилась с внешней стороны тюрьмы. Мне оставалось только подкупить двух часовых: на улице и во дворе, у дверей часовни. Но план осложнялся следующим обстоятельством. Сначала надо было убедить дона Грегорио в необходимости выдать мне из моих денег десять тысяч песо под предлогом необходимости переслать их семье через Жозефа Дега. Разумеется, его также надо было убедить в необходимости взять от меня две тысячи песо жене на подарок. Далее, надо было установить имя разводящего, кто производит смену караула и устанавливает очередность и время заступления на пост. Его тоже надо было купить. Он взял три тысячи песо, но отказался вступать в переговоры с двумя другими постовыми. Мое дело их найти и устроить сделку. После я передам ему их имена, а он выставит этих охранников в то время, которое я укажу.
Подготовка к новому побегу заняла более месяца. Наконец все утряслось. Поскольку теперь во дворе будет свой полицейский, мы без всякого опасения за один заход перепилим решетку слесарной пилой. У меня три сменных полотна для работы по металлу. Я предложил это сделать и колумбийцу, метальщику кошки. Он сказал, что перепилит свою решетку в несколько приемов. В ночь побега один из его друзей – до этого несколько дней подряд он разыгрывал из себя дурака – будет бить в цинковый лист и орать песни. Колумбийцу было известно, что часовой согласился пропустить через стену только двоих французов. Если на стене появится третий, он будет стрелять, и тем не менее ему хотелось попытать счастья. Он сказал мне, что если мы будем тесно держаться друг друга, то в темноте часовой даже не разберет, сколько проскочило – один или двое. Клузио и Матюрет бросили жребий. Со мной пойдет Клузио.
Наступила безлунная ночь. Сержант и двое полицейских получили половину причитавшихся им денег. На этот раз я не стал выделять их по индивидуальному вкладу в мероприятие – все тянули одну лямку. Вторую половину они получат при окончательном расчете в Баррио-Чино, где проживала подруга Жозефа Дега.
Погас свет. Мы налегли на решетку. Через десять минут она была перепилена. Оставляем камеру одетые в темные рубашки и брюки. По дороге к нам присоединяется колумбиец. Кроме нательной темной рубашки, на нем ничего нет. Влезаю наверх по дверной решетке calabozo (тюремной камеры), огибаю нависающий карниз, бросаю крюк на трехметровой веревке и через минуты три без всякого шума оказываюсь на стене, где ходят часовые. Лежу, прижавшись животом к манежу, поджидаю Клузио. Ночь темная, хоть выколи глаз. Вдруг вижу, вернее, чувствую протянутую ко мне руку. Хватаюсь за нее и начинаю тащить. Раздается страшный шум. Клузио, пытаясь пролезть между стеной и карнизом, зацепился поясом от штанов за оцинкованное железо. Я ослабил руку, и шум прекратился. Жду, когда Клузио освободится. Снова начинаю тянуть на себя что есть силы, полагая, что Клузио уже отцепился. Снова ужасный лязг и грохот оцинкованного листа. Под этот аккомпанемент Клузио оказывается рядом на стене.
Раздался выстрел. Стреляли с других постов. Наши молчали. С перепугу мы стали прыгать со стены не в том месте. Высота девять метров. Чуть поодаль – всего пять. Результат: Клузио снова сломал правую ногу. Я сломал обе и не мог подняться. Как потом выяснилось, у меня были сломаны пяточные кости на обеих стопах. Колумбиец вывихнул колено. Под винтовочные выстрелы охранники высыпали на улицу. Вспыхнул мощный электрический фонарь, нас окружили и взяли на прицел. Ярость душила меня, и я рыдал, как ненормальный. К тому же охранники не верили, что я не могу подняться на ноги. Обратно в тюрьму я полз на карачках, подбадриваемый сзади штыками. Клузио скакал на одной ноге, колумбиец тоже. От удара прикладом из головы захлестала кровь.
Выстрелы разбудили дона Грегорио, спавшего у себя в кабинете. В эту ночь он нес дежурство, что нас и спасло. Если бы не он, нас прикончили бы штыками и прикладами. Подкупленный мною сержант, расставивший на постах своих людей, бил меня с особой жестокостью. Дон Грегорио прекратил избиение. Он пригрозил им трибуналом за нанесение нам увечий. При этом магическом слове охранники угомонились. Оно остудило их служебный пыл.
На следующий день в тюремной больнице на ногу Клузио наложили гипс. Костоправ-заключенный вправил колумбийцу коленный сустав и сделал повязку. Ночью обе ступни мои распухли и стали размером с голову. Как две маленькие пуховые подушки красно-черного цвета с кровоподтеками. Врач предписал мне ножные ванны из теплой соленой воды. Три раза в день ставили пиявки. Насосавшись крови, пиявки отпадали сами. Их затем клали в уксус, они отдавали кровь и снова были готовы к употреблению. На голову наложили шесть швов.
Местный журналист написал обо мне статью. Из-за недостатка информации в ней было порядком нелепиц. Оказывается, я возглавил мятеж в часовне, я «отравил» часового, а теперь организовал групповой побег с помощью злоумышленников, разгуливающих на воле. Как иначе объяснить случай с электроосвещением, вышедшим из строя во всем районе, да еще и поломку трансформатора? Статья заканчивалась словами: «Будем надеяться, что Франция избавит нас от своего гангстера номер один, и чем скорее, тем лучше».
Меня навестил Жозеф с женой Анни. К ним наведывались сержант, двое полицейских и электрик, каждый по отдельности. Требовали оставшуюся половину денег. Анни спрашивала, как поступить. Заплатить – они сдержали свое слово. Наш провал – не их вина.
Уже неделя, как меня возят по двору на железной коляске. Она мне служит и кроватью. Я лежу с высоко задранными ногами, покоящимися на простыне, привязанной к двум вертикальным стойкам. Это единственное положение, смягчающее мои страдания. Огромные распухшие ступни, затвердевшие от запекшейся крови, не выносят собственного веса, даже когда я лежу. В коляске боль переносится легче. Через пару недель опухоль спала наполовину. Сделали рентген. Перелом пяточных костей обеих ступней. Теперь до конца своих дней я обречен на плоскостопие.
В сегодняшней газете сообщается, что посланное за нами судно ожидается в Барранкилье к концу месяца. Название судна – «Манá». На его борту эскорт французских полицейских. Сегодня двенадцатое октября. Остается восемнадцать дней, чтобы разыграть последнюю карту. Какую карту с переломанными ногами?
Жозеф пребывает в отчаянии. Он навестил меня в очередной раз и рассказал, что вся французская колония вместе с женщинами из Баррио-Чино страшно переживает за меня. Все очень расстроены неотвратимостью судьбы, передающей беглеца в руки французских властей. И это несмотря на то, что я с таким ожесточением боролся за свою свободу. Осталось всего лишь несколько дней. Никто не знает, что еще можно сделать. Такое участие ко мне со стороны и мужчин, и женщин утешило меня и укрепило морально.
Я оставил пустую затею убить колумбийского охранника. И в самом деле, я не мог взять на себя столь тяжкий грех, как убийство ни в чем не провинившегося передо мной человека. А если у него отец, мать, жена, дети, да к тому же он единственный кормилец? Я сам себе улыбнулся. Мелькнула забавная мысль: надо поискать злого полицейского, да еще без семьи. Потеха! Я подхожу к нему и спрашиваю, например: «А что, если я тебя убью, будет ли кто по тебе скучать?» Утром семнадцатого октября я пребывал в мрачном настроении. Попались на глаза кристаллы пикриновой кислоты. Я слышал, что если их проглотить, то можно разыграть желтуху. Может, меня отправят в больницу, а там люди Жозефа вызволят меня? На следующий день, восемнадцатого, я был желтее лимона. Дон Грегорио пришел во двор «полюбоваться» на меня. Коляска моя в тени. Я полулежу на ней, задрав ноги кверху. Я не стал ходить вокруг да около, а сразу приступил к делу:
– Госпитализируйте меня и получите десять тысяч песо.
– Француз, я попытаюсь. Но не ради десяти тысяч песо. А потому, что мне больно смотреть на тебя, как ты бьешься, словно об стену головой, за свою свободу, и все впустую. Но я не думаю, что тебя положат в больницу. И причина тому – статья в газете. Они там все перепуганы.
Через час тюремный врач отправил меня в больницу. Но я так и не прикоснулся к полу больничной палаты. Меня вынесли на носилках из санитарной машины, внимательно осмотрели, проверили мочу и на этих же носилках, на этой же машине отправили назад в тюрьму, в которой я отсутствовал ровно два часа.
Наступил четверг, девятнадцатое октября. Меня навестила Анни и вместе с ней еще одна дама, жена какого-то корсиканца. Они принесли сигареты и сласти. Их милая болтовня растрогала меня и успокоила. Невероятно! Проявление их дружеского участия ко мне быстро растопило утреннюю горечь, и для меня снова засияло полуденное солнце. Сколько бы я ни говорил о солидарности и поддержке, оказанных мне со стороны богемного мира в период моего пребывания в тюрьме «Восьмидесятке», будет мало. Не говоря уже о Жозефе Дега, который постоянно рисковал своей свободой и положением, помогая мне в осуществлении побега.
Но одно только слово, брошенное Анни в шутку или нечаянно, заронило в моей душе навязчивое желание. Продолжая мило болтать, она сказала:
– Дорогой Папийон! Вы сделали все, что только в силах человека, чтобы добыть себе свободу. Судьба поступила с вами жестоко. Вам остается единственное – взорвать тюрьму.
– А почему бы и нет? Почему мне не взорвать эту старую тюрьму и не оказать тем самым некоторую услугу колумбийцам? Может, они построят новую, с более приемлемыми санитарными условиями?!
Я расставался с этими милыми и очаровательными женщинами навсегда. Обняв и расцеловав их на прощанье, я сказал Анни:
– Передай Жозефу, чтобы он пришел в воскресенье.
В воскресенье двадцать второго октября пришел Жозеф.
– Послушай, сделай невозможное. Достань мне к четвергу динамитную шашку, детонатор и бикфордов шнур. Сам я постараюсь достать дрель и три сверла.
– Что ты собираешься делать?
– Взорвать тюремную стену средь бела дня. Пообещай парню, работающему под таксиста, о котором мы говорили, пять тысяч песо. Пусть он стоит и ждет на улице в условленном месте каждый день от восьми утра до шести вечера. Он получит пятьсот песо в день, если ничего не произойдет, и пять тысяч, если дело выгорит. Через пролом в стене после взрыва меня вынесет на себе один детина-колумбиец, донесет до такси, а дальше пусть кумекает тот парень. Если с такси будет все в порядке, то пришлешь шашку, а на нет и суда нет, и прощай надежда.
– На меня можешь рассчитывать, – сказал Жозеф.
В пять часов вечера я попросил друзей отнести меня на руках в часовню. Сказал, что хочу помолиться наедине и чтобы позвали дона Грегорио. Он пришел.
– Парень, тебе осталась только неделя. Нам предстоит расстаться с тобой.
– Поэтому я вас и позвал. Речь пойдет о моих пятнадцати тысячах песо. Я хочу перед отъездом передать их другу, чтобы он переслал деньги моей семье. Прошу вас принять три тысячи. Я это делаю от чистого сердца, вы столько раз защищали меня от грубого обращения солдат. Не откажите в любезности вернуть мне деньги сегодня с рулоном клейкой бумаги, чтобы я их мог подготовить к четвергу и передать одной пачкой.
– Договорились.
Дон Грегорио вернулся с деньгами. Двенадцать тысяч разложены пополам. Себе он взял три тысячи. Возвращаюсь в коляске. Отозвал колумбийца, принимавшего участие в последнем побеге, в тихий уголок. Рассказываю о замысле и спрашиваю, хватит ли у него сил оттащить меня на закорках метров двадцать-тридцать до такси. В ответе колумбийца звучит даже некоторая торжественность: он все может, и сил хватит. Прекрасно. Веду себя так, как если бы не было ни тени сомнения в успехе Жозефа. В понедельник рано утром устраиваюсь в коляске под навесом общей душевой комнаты. Как всегда, Матюрет и Клузио за «шоферов». Посылаю Матюрета отыскать сержанта, которому я заплатил три тысячи песо и который бил меня больше всех за неудавшийся побег.
– Сержант Лопес, мне необходимо с вами поговорить.
– Что вы хотите?
– За две тысячи песо я хочу мощную трехскоростную дрель и шесть сверл. Два на пять, два на десять и два на пятнадцать миллиметров.
– У меня нет денег, чтобы это купить.
– Вот пятьсот песо.
– Ты все получишь завтра, во вторник, при смене караула в час дня. Готовь две тысячи.
Во вторник в час дня заказанный инструмент уже лежал в мусорном баке. При смене караула бак опорожнялся. Все это хозяйство принес Пабло-колумбиец в картонной коробке и хорошо припрятал.
В четверг, двадцать шестого, Жозеф не появился. Шел последний час, когда еще пускали посетителей. Меня вызвали в комнату свиданий. Ко мне приблизился старичок-француз от Жозефа. Морщинистое лицо похоже на печеное яблоко.
– Что просил – в буханке хлеба.
– Вот две тысячи для таксиста. По пятьсот на день.
– Водитель такси – старый перуанец. Бедовый мужик, не подведет. Чао.
– Чао.
Чтобы буханка хлеба не привлекала лишнего внимания, в большой бумажный мешок мне положили сигареты, спички, копченые сосиски, колбасу, пачку сливочного масла и флакон с автолом. При проверке я дал охраннику пачку сигарет, коробок спичек и две сосиски.
– Отломи-ка кусочек хлеба, – сказал охранник.
Это уж было слишком!
– Нет. Хлеб купишь сам. Вот тебе пять песо. А нам на шестерых буханки только-только.
Фу! Слава богу, пронесло! Полный идиотизм – предлагать сосиски этому кретину – он их не жрет без хлеба. Коляска сорвалась с места и помчалась прочь от набычившегося полицейского. Попробуй угадай, что он захочет хлеба. Меня прошиб холодный пот.
– Завтра – фейерверк! Все готово, Пабло. Пролом надо сделать под выступом будки часового. Часовой сверху нас не увидит.
– Но услышит.
– И это я продумал. Завтра в десять утра эта часть двора будет в тени. Там, у стены, должен работать жестянщик. Он будет править молотком медный лист. Хорошо, если бы их оказалось двое. Попробуй подыщи. Плачу каждому по пятьсот песо. Надо, чтобы они стучали беспрерывно. Мы будем рядом.
Пабло все устроил.
– Будут работать мои друзья. Постучат как следует. Часовой не расслышит звук дрели. Но ты на своей тележке и французы должны находиться посередине двора, чтобы прикрыть нас от часового с противоположного угла. Разговаривайте между собой погромче.
Через час подготовили шпур. Жестянщики стучали. Помощник Пабло подливал автол на сверло, чтобы от дрели было меньше шума. Часовой ни в чем нас не заподозрил. Динамитная шашка была заложена в отверстие вместе с детонатором и двадцатисантиметровым шнуром. Пустоты в шпуре заделаны красной глиной. Мы отступили от стены. Если все пойдет хорошо, взрыв обеспечит пролом в стене. Будка вместе с часовым полетит вниз. Я верхом на Пабло помчусь к такси. Остальные действуют по собственному усмотрению. Я полагал, что Клузио и Матюрет все равно добегут до такси первыми.
Перед тем как поджечь бикфордов шнур, Пабло предупредил группу колумбийцев:
– Если кто-то хочет бежать, не зевайте: через несколько минут в стене будет дыра.
– Это дело! Надо поторапливаться, а то со всех сторон сбегутся охранники и будут стрелять по последним.
Зажгли шнур. Взрыв потряс весь квартал. Будка полетела вниз. Сверху на нас свалился часовой. В стене образовались большие трещины. Через них просматривалась улица. Но они не были достаточно велики, чтобы через них мог пролезть человек. Проломом даже не пахло. Я понял, что это конец. Сама судьба предписала мне вернуться в Кайенну.
Последовавшая за взрывом суматоха просто не поддается описанию. Во дворе более полусотни полицейских. Дону Грегорио хорошо известно, где искать виновных.
– Ну, француз, думаю, что это последний раз. Куда уж больше!
Начальник гарнизона вне себя от ярости. Он даже не может отдать приказ избить раненого человека, лежащего в коляске. Чтобы не навлекать неприятности на других, я всю вину взял на себя. Взрыв подготовил я один без всяких помощников. Шесть охранников перед растрескавшейся стеной, шесть во дворе и шесть снаружи, на улице, несли постоянную службу до тех пор, пока каменщики не привели стену в порядок. К счастью, часовой, упавший со стены вместе с будкой, отделался легким испугом.
Возвращение на каторгу
Спустя три дня в одиннадцать часов утра тридцатого октября двенадцать французских охранников, одетые в белую униформу, пришли за нами. Перед отправкой из тюрьмы в Барранкилье надлежало пройти короткую официальную церемонию: каждый из нас должен был быть опознан согласно приметам, занесенным в уголовно-судебный реестр. В нем все антропометрические данные: и рост, и объем грудной клетки, и отпечатки пальцев, и фотографии, и цвет волос, и особые приметы, и прочее. После опознания и установления личности французский консул и представитель местного окружного суда подписали документ о передаче нас под юрисдикцию Франции. Все только диву давались, как дружески относились к нам приезжие багры, как вежливо они обращались с нами. Ни грубостей, ни бранных слов. Некоторых из них знали те трое, что присоединились к нам на Тринидаде и отсидели больше нашего. Они шутили с ними и разговаривали, как со старыми приятелями. Майор Бураль, старший группы сопровождения, поинтересовался состоянием моего здоровья. Он посмотрел на мои ноги и заверил, что на судне позаботятся обо мне – с ними прибыл хороший санитар, он-то и обеспечит за нами медицинский уход.
Нас отправили прямо в трюм судна. Плавание на этом старом корыте было не из приятных не столько из-за удушающей жары, сколько из-за самого способа перевозки живого груза, уходящего корнями во времена галерного флота и тулонской каторги с ее плавучими тюрьмами. На нас надели спаренные кандалы, которые сформировали из нас неотделимые друг от друга пары. Передвижение с места на место одного обязательно для другого. Кандальные цепи на кольцах скользят по железной направляющей. На обратном пути в Гвиану произошел единственный случай, достойный упоминания. На Тринидаде наше судно должно было пополнить запас угля. В порту английский морской офицер потребовал снять с нас кандалы. Очевидно, по каким-то международным нормам запрещалось содержать людей закованными в цепи на борту корабля. Я воспользовался этим инцидентом и ударил другого английского офицера, инспектировавшего наше судно. Я надеялся, что меня за это арестуют и снимут с вонючей посудины. Офицер сказал:
– Я не стану вас арестовывать и снимать на берег, хотя вы сейчас совершили тягчайшее преступление. Вы понесете куда более тяжелое наказание по возвращении в Гвиану.
Опять все напрасно. Нет, действительно, сама судьба отправляет меня на каторгу. Печально, но приходится признавать, что эти одиннадцать месяцев, проведенные в бегах и стоившие мне таких огромных и неимоверных усилий, заканчиваются плачевно. И все же, несмотря на оглушительный провал предпринятых мною действий, возвращение на каторгу со всеми горькими последствиями не вычеркнет из памяти незабываемые мгновения, которые мне пришлось пережить.
Совсем рядом с портом, который мы только что оставили на Тринидаде, всего в нескольких километрах, проживает замечательная семья Боуэн. Совсем недалеко мы прошли от Кюрасао, острова великого человека, епископа этих краев Ирене де Брюина. И уж совсем близко, должно быть, лежала от нас земля индейцев гуахира, где я узнал любовь самой высокой чистоты и страсти в самой естественной и непосредственной форме ее проявления. Всю ясность самовыражения, на какую способны только дети, умение непредвзято разбираться в подлинных человеческих ценностях, под которые так умело драпируется наш цивилизованный век, – все это я нашел у этих индейских женщин, одухотворенных от природы, искренне сопереживающих, любящих чисто и беззаветно.
А прокаженные с Голубиного острова! Эти несчастные узники, зараженные страшной болезнью и тем не менее не лишенные благородного порыва души! Помочь в беде человеку – это ли не мужество и красота их сердец!
А затем бельгийский консул с его удивительной мягкостью доброго человека. А Жозеф Дега, которого я, по сути, и не знал, рисковавший многим, помогая мне! Да только ради этих людей, людей с большой буквы, стоило бежать. Не соверши я побега – никогда бы не встретился с ними. Пусть провал, пусть неудача, но как обогатилась моя душа, как обогатился я сам дружбой этих необыкновенных людей! Нет, я нисколько не сожалею о побеге.
А вот и Марони и ее мутные воды. Мы на палубе «Мана». Тропическое солнце уже начинает раскалять землю. Девять часов утра. Я снова вижу устье реки, в которое мы медленно вползаем, но из которого совсем недавно я мчался стрелой. Друзья не разговаривают. Надзиратели радуются возвращению. Во время плавания море сильно штормило, поэтому они счастливы, что расстаются с ним.
16 ноября 1934 года . Пристань забита народом. Толпу разбирает любопытство посмотреть на тех, кто не побоялся бежать так далеко. Поскольку мы прибыли в воскресенье, это еще одна из причин нездорового ажиотажа: интересно поглазеть от нечего делать. До слуха доносится:
– Раненый – это Папийон. А этот – Клузио. А тот – Матюрет. А этот… – И так далее.
В зоне шестьсот человек, разбитые на группы, выстроены перед своими бараками. У каждой группы свои охранники. Первым, кого я узнал, был Франсуа Сьерра́. Он сидит на подоконнике санитарной комнаты. По лицу текут слезы, он их ни от кого не скрывает. Плачет искренне. Мы останавливаемся посередине двора. Начальник лагеря берет рупор:
– Ссыльные, вы видите всю тщетность побега. Во всех странах вы будете арестованы и выданы Франции. Вы нигде не нужны. Не лучше ли оставаться спокойно здесь и хорошо себя вести? Что ждет этих пятерых? Тяжелое наказание: сначала одиночные камеры в тюрьме на острове Сен-Жозеф, а затем пожизненное заключение на островах Салю. Вот чего они добились своим побегом. Надеюсь, вы поняли. Надзиратели, уведите их в дисциплинарный блок.
Через несколько минут мы в спецкамере дисциплинарного блока. Я немедленно потребовал оказать мне медицинскую помощь: на ступнях еще не прошли синяки и опухоль не спала. Клузио пожаловался на боль в ноге под гипсовой повязкой. Перед этим он ударил по ней кулаком. Хорошо бы попасть в больницу! Появился Франсуа Сьерра с надзирателем.
– Вот вам санитар, – сказал багор.
– Как дела, Папи?
– Болен. Хочу в больницу.
– Постараюсь, но боюсь, что ничего не выйдет. Тебя так хорошо помнят с последнего раза. Это касается и Клузио.
Он сделал мне массаж и смазал ноги. Поправил Клузио гипсовую повязку. И ушел. Из-за багров мы не смогли поговорить, но его глаза излучали тепло, что нас глубоко тронуло.
– Нет, ничего нельзя сделать, – сказал он мне на следующий день во время массажа. – Хочешь перейти в общую камеру? С тебя на ночь снимают кандалы?
– Нет.
– Тогда лучше перебраться в общую камеру: там хоть и в кандалах, да не один. Сейчас для тебя самое ужасное – это одиночество.
– Ты прав.
Да, в настоящее время одиночество труднее переносить, чем прежде. Я пребывал в таком состоянии духа, когда не надо закрывать глаза, чтобы переноситься из настоящего в прошлое и блуждать там, а затем возвращаться в настоящее. А поскольку я не мог ходить, одиночная камера сейчас была хуже, чем раньше.
Ага! Меня снова несет вниз по сточной канаве! А ведь от нее я мог бы так легко отделаться! И это уже было! Славно несло меня по морю к свободе. Я летел как на крыльях к заветной мечте стать новым человеком. Но я торопился и отомстить. Три субъекта в неоплатном долгу передо мной: Полен, полиция и прокурор. Забыть нельзя и не дóлжно. А что касается чемодана, так я и не буду его передавать шалопаям у входа в здание криминальной полиции. Я разыграю из себя представителя компании Кука, обслуживающей спальные вагоны железной дороги. В элегантной фирменной фуражке с чемоданом в руке, на котором висит внушительная этикетка: «Дивизионному комиссару Бенуа, набережная Орфевр, 36, Париж (Сена)», я сам прохожу в зал совещаний комиссариата. Часовой механизм запущен. Времени остается в обрез. На этот раз я их всех накрою. Едва покидаю здание, как раздается взрыв. Решение найдено, и с меня как бы сваливается тяжелый груз. А в отношении прокурора у меня будет достаточно времени, чтобы вырвать ему язык. Каким образом, я еще не придумал. Но вырву обязательно. По кусочку, по кусочку буду рвать его продажный язык.
Первым делом надо встать на ноги. Надо их хорошенько подлечить. Передвигаться, ходить во что бы то ни стало. Чем скорее, тем лучше. Через три месяца состоится суд. Надо успеть многое сделать. За три месяца может произойти что угодно. Один месяц уйдет на восстановление утраченной функции ног, один месяц – на отработку деталей побега. А затем – прощайте, месье! Все на борт! Идем в Британский Гондурас. На этот раз никто не наложит на меня свои грязные лапы.
Вчера, три дня спустя после нашего возвращения, меня перенесли в большую общую камеру. В ней сорок человек, и всех ждет трибунал. Одни обвиняются в воровстве, другие – в грабежах, поджогах, непреднамеренных и преднамеренных убийствах, покушениях на убийство, попытках совершить побег, побеге и даже людоедстве. Мы размещаемся на деревянных нарах по двадцать человек с каждой стороны, и все прикованы к единому железному брусу длиной более пятнадцати метров. В шесть вечера каждому на левую ногу надевается кандальная цепь с кольцом и прикрепляется к брусу. В шесть утра она снимается, и мы можем сидеть, ходить, играть в шашки, разговаривать в проходе между нарами шириной два метра, идущему через всю палату. Этот проход мы называем аллеей. Днем мне скучать не приходится. Каждый хочет со мной пообщаться. Подходят небольшими группками и расспрашивают о побеге. Все громко называют меня сумасшедшим, когда я рассказываю, как по своей воле оставил племя гуахира, бросил Лали и Сорайму.
– Ну и чего же тебе недоставало, приятель? – возмущался один парижанин, выслушав рассказ. – Трамвая? Лифтов? Кино? Электрического света и тока высокого напряжения, чтобы сработал электрический стул? Или тебе захотелось искупаться в фонтане на площади Пигаль? Подумать только! Имел двух баб, одна краше другой. Жил в чем мать родила в обществе симпатичных нудистов. Жрал, пил, охотился. Море, солнце, горячий песок. Даже жемчуга сколько хочешь. Бесплатно. Только не ленись ловить раковины. И ты не придумал ничего лучшего, как бросить все и уйти? Куда? Скажи мне. Тебе захотелось перебежать улицу перед несущимся транспортом, да так, чтобы тебя не сбила машина? Захотелось вносить квартплату, платить портному, оплачивать счета за электричество и телефон? Тебе захотелось потолкать тачку со щебнем, чтобы приобрести автомобиль? Или повкалывать, как ишаку, на какого-то босса, чтобы не сдохнуть с голоду? Не понимаю тебя, друг. Был в раю – спустился в ад. Вернулся в мир, в котором шагу не ступишь без забот и печали, да к тому же вся полиция бежит за тобой по пятам. Правда, ты новичок, недавно из Франции. Еще не успел насмотреться, как тебя унижают здесь и физически, и морально. У меня за плечами десять лет каторги, и я тебя совершенно не понимаю. И все же мы приветствуем тебя здесь. Нет никакого сомнения, что ты еще раз побежишь. Поэтому можешь на нас рассчитывать. Поможем. Верно я говорю, ребята? Все согласны?
Ребята согласны, и я их поблагодарил.
Вижу – крутые ребята. Поскольку мы живем ужасно скученно, трудно скрывать, есть у тебя гильза или нет. Ночью, когда мы все прицеплены к одному брусу, нетрудно безнаказанно убить человека. Надо только договориться с нашим «знакомцем» тюремщиком-арабом, чтобы он не дожимал замок до щелчка. Разумеется, ему надо заплатить за это. В темноте можно встать, сделать дело, вернуться, лечь на место и как следует запереть замок. Араб помнит, что он неким образом способствовал нашему побегу, и как косвенный соучастник помалкивает.
Прошло три недели, как нас привезли обратно. Они пролетели быстро. Я начинаю понемногу ходить, держась за железный поручень прохода, отделяющий один ряд нар от другого. У меня начинают брать показания. На прошлой неделе во время официального допроса я свиделся с тремя баграми из больницы, которых мы оглушили и разоружили. Они очень довольны нашим возвращением; надеются, что мы им еще попадемся на узенькой дорожке. За наш побег они понесли суровое наказание: каждый лишился шестимесячного отпуска в Европу, у них также на целый год сняли колониальные доплаты к жалованью. Так что наша встреча оказалась совсем не дружественной. Я потребовал у следователя занести их угрозы в протокол.
Араб вел себя лучше. Он давал правдивые показания без преувеличений, начисто забыв, однако, какую роль в этой истории сыграл Матюрет. Следователь-капитан очень жал на нас с вопросом, кто нам предоставил лодку. Мы несли разную ахинею, как то: мы соорудили плот и т. д. Он прилежно записывал всякую чушь в свою грязную книгу.
За нападение на стражников он пообещал нам с Клузио по пять лет одиночки, а Матюрету – три года.
– Вас называют Папийон, – сказал следователь, – так я вам подрежу крылышки, уж будьте уверены. На некоторое время мотыльку придется оставить свои полеты.
Я очень опасался, что так и произойдет. До трибунала еще более двух месяцев. Я ругал себя за то, что плохо распорядился отравленными стрелами. Надо было одну или обе положить в гильзу. Сейчас они мне очень бы пригодились. Я бы пошел на последний отчаянный шаг в дисциплинарном блоке. А пока с каждым днем я набираюсь сил. Стал ходить уже лучше. Как только меня навещает Франсуа Сьерра, он обязательно делает массаж. При массаже он пользуется камфорным маслом. И утром, и вечером. Его старания не проходят даром. Ступни ног приходят в норму, я приободряюсь. Какое счастье иметь в жизни настоящего друга!
Я заметил, что наш грандиозный побег принес нам бесспорное уважение среди каторжников. Престиж был высок. Мы чувствовали себя в полной безопасности. Никто бы не рискнул совершить на нас покушение или ограбить. Такой поворот событий не устроил бы подавляющее большинство, и злоумышленник рисковал сам быть убитым. Все без исключения питали к нам дружеское расположение, а некоторые просто восхищались нами. А то, как мы разделались с надзирателями, принесло нам репутацию серьезных ребят, которые ни перед чем не остановятся. Приятно сознавать себя хозяином положения. Интересно чувствовать себя в безопасности.
Хожу. С каждым днем стараюсь пройти немного больше. Многие предлагают мне свои услуги в качестве массажистов. Сьерра оставил мне бутылку с камфорным маслом. Нет недостатка в желающих сделать мне массаж. Массируют ступни, а заодно и мышцы ног, которые ослабли ввиду длительной неподвижности.Араб на муравьиной куче
В нашей камере есть два человека, которые ведут себя сдержанно и тихо. Они ни с кем не вступают в разговор. Держатся всегда рядом, говорят только между собой, и то вполголоса, чтобы никто не услышал. Однажды я предложил одному из них американскую сигарету из пачки, принесенной мне Франсуа Сьерра. Он поблагодарил меня и сказал:
– Франсуа Сьерра твой друг?
– Самый лучший.
– Возможно, скоро, если наше дело табак, мы передадим тебе через него наше наследство.
– Какое наследство?
– Мы с другом решили, что, если нас отправят на гильотину, мы передадим тебе нашу гильзу, чтобы помочь тебе снова бежать. Мы ее отдадим Сьерра, а он передаст тебе.
– Вы думаете, что вас приговорят к смертной казни?
– Почти уверены, шансов избежать ее очень мало.
– Если вы так уверены, то почему вас держат в общей камере?
– Они боятся, что в одиночке мы решимся на самоубийство.
– Ах так. Вполне вероятно. И что же вы сделали?
– Скормили одного черта хищным муравьям. Я говорю тебе об этом потому, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами. Нас застукали на месте.
– Где это произошло?
– На сорок втором километре, в лагере смерти за ручьем Спаруин.
В этот момент к нам присоединился его товарищ. Он из Тулузы. Я предложил ему сигарету. Он сел рядом с приятелем напротив меня.
– Мы никогда не интересовались чужим мнением, – сказал только что подошедший к нам, – но было бы интересно узнать, что ты думаешь о нас, Папийон?
– Что я могу думать, если ничего не знаю? Как я могу судить, правильно вы поступили или нет, скормив муравьям живого человека, пусть даже черта, по-вашему. Чтобы выразить свое мнение, мне необходимо знать это дело от А до Я.
– Я тебе расскажу, – сказал тулузец. – Лагерь «Сорок второй километр» – это лагерь лесорубов, он лежит на расстоянии сорока двух километров от Сен-Лорана. Дневная норма выработки на одного заключенного – один кубометр древесины твердых пород. А вечером ты должен стоять на своей делянке и отчитываться за работу. Срубленные деревья должны быть хорошо разделаны и аккуратно уложены в штабеля. Приходят надсмотрщики в сопровождении тюремщиков-арабов и начинают проверять, сделал ли ты свою норму или нет. Если норма сделана и они приняли работу, то каждый кубометр древесины метится своей краской: зеленой, красной, желтой – в зависимости от дня недели. Да еще проверяют, чтобы каждое бревно было твердой породы. Если нет – работа не принимается. Удобнее и лучше работать в паре. Так и поступают. Часто мы не справлялись с заданием. Тогда нас вечером сажали в карцер и не давали есть. Утром выгоняли на работу и снова не кормили. Новая норма возрастала ровно настолько, сколько было не сделано накануне. Они хотели, чтобы мы так и сдохли на работе. С нами обращались хуже, чем с собаками.
Так продолжалось долго, мы ослабели, и выработка наша упала. В довершение всего к нам приставили специального стражника, не просто надзирателя, а араба, который и надзирателем-то не был. Он пришел к нам на делянку, сел под куст, зажав свою плетку из сыромятной кожи между коленями, и принялся издеваться над нами и оскорблять. Он жрал у нас на глазах и облизывался, нарочно вызывая еще большее чувство голода. Короче, он устроил нам адскую жизнь без начала и конца. У нас были две гильзы по три тысячи франков в каждой. Мы приберегали деньги на побег. Однажды мы решили его подмазать. От этого нам стало еще хуже. К счастью, он подумал, что у нас только одна гильза. Его система оказалась простой: скажем, за пятьдесят франков он разрешил нам воровать из штабелей, уже оприходованных накануне. Мы брали неокрашенные бревна и таким образом делали свой кубометр. Таким способом он получил от нас около двух тысяч. Давали и по пятьдесят, и по сотне.
Как только мы стали справляться с нормой, араба от нас убрали. Думая, что араб, получивший от нас столько денег, не выдаст нас, мы продолжали действовать в прежнем духе. Брали бревна из оприходованных штабелей и укладывали в новые. Но мы ошиблись. Он стал следить за нами и однажды, незаметно подкравшись, увидел, что мы по-прежнему воруем бревна. Он выскочил из кустов и закричал:
– Так-так! Воруем – и не платим. Пятьсот франков, иначе – донесу.
Мы подумали, что дальше угрозы он не пойдет, и отказались платить. На следующий день он появился снова.
– Либо заплатите сегодня вечером, либо окажетесь в карцере.
Мы снова отказались. После полудня он появился в сопровождении багра. Это было ужасно, Папийон! Нас раздели догола и повели к штабелям, откуда мы брали бревна. Эти дикари избивали нас кулаками, а араб подгонял бычьей плеткой. Нас заставили работать бегом. Сначала велели развалить каждый штабель пополам, а затем нарастить бревнами до полного. Эта «коррида» продолжалась два дня. Ни есть, ни пить не давали. Мы падали от изнеможения. Араб поднимал нас пинками или плеткой. В конце концов мы свалились на землю, не в состоянии больше двигаться. И знаешь, что он придумал, чтобы поднять нас на ноги?! Осиное гнездо. Ты знаешь, там водятся красные осы, не просто осы, а сущее проклятье, их еще называют огненными мухами. Так вот, он срубил ветку с осиным гнездом и обрушил ее на нас. Боль была адская. Мы не только вскочили с земли, но и принялись бегать как сумасшедшие. Трудно себе представить наши страдания. И говорить бесполезно. Знаешь, как жалит оса? А теперь представь пятьдесят или шестьдесят укусов. Эти красные осы, или как их там еще, огненные мухи, жалят посильнее обыкновенных ос.
Нас бросили в карцер на хлеб и воду. Никакой другой пищи не было. Там мы просидели десять дней. Несмотря на то что мы натирали места укусов мочой, тело горело трое суток беспрерывно. Левый глаз у меня вытек – не выдержал дюжины жал этих огненных мушек. Когда нас вернули в лагерь, другие заключенные решили нам помочь. Постановили, что каждая бригада будет давать нам по бревну твердой древесины того же размера, что и мы рубили. Так получался примерно кубометр, другой мы едва делали вдвоем. С трудом делали, но делали. Их помощь нас спасла. Они нас еще и подкармливали. Постепенно мы стали набираться сил. И как-то сама по себе запала в голову мысль отомстить этому черту. Возникла идея с муравьями.
Однажды мы рубили лес и забрались в чащу. Видим огромную кучу хищных муравьев. Они как раз приканчивали лань величиной с козу.
Араб продолжал делать обходы делянок. В один прекрасный день мы его подстерегли и оглушили топорищем. Приволокли к муравьиному гнезду, раздели догола. Привязали к дереву, склонившемуся дугой к земле. В рот натолкали травы – своего рода кляп, чтобы не кричал. Топором сделали на теле несколько надрезов. Руки и ноги связали веревкой, которой обвязывали штабели. Стали ждать. Сначала муравьи его не трогали. Тогда мы разворошили муравейник палкой и сыпанули на араба.
Долго ждать не пришлось. Через полчаса тысячи и тысячи муравьев принялись за работу. Тебе приходилось видеть хищных муравьев, Папийон?
– Никогда. Я видел больших черных.
– А это крошечные и красные, как кровь. Они вырывают малюсенькие кусочки из тела и несут в гнездо. Нам досталось от ос, это правда, но только представь, что прочувствовал он, освежевываемый заживо тысячами муравьев. Он жил двое суток с небольшим. Через сутки муравьи выели ему глаза.
Признаю, что в своей мести мы были безжалостны, но он ведь сам довел нас до такого состояния. Ведь мы остались в живых просто чудом. Конечно, его искали везде. Надзиратели и арабы-тюремщики заподозрили, что мы приложили к этому делу руку.
Мы подыскали подходящее место в зарослях и стали там потихоньку копать яму, чтобы зарыть его. Мы не могли вырыть яму сразу, а постепенно день за днем углубляли ее. Араба продолжали упорно искать, но никак не могли напасть на след. Но вот один багор выследил нас, когда могила была почти готова. Он наблюдал за нами из укрытия и догадался обо всем. Так, собственно, мы и влипли.
Однажды утром мы пришли к тому месту и отвязали араба. Муравьи еще ползали по нему, хотя от человека остался всего лишь скелет. Мы потащили его волоком, поскольку нести не представлялось возможным без риска быть в кровь искусанными муравьями. Несколько багров и арабов-тюремщиков терпеливо ждали, когда мы его зароем. Они хорошо спрятались, и мы их не заметили.
Вот, собственно, и все. Мы стоим на том, что мы сначала убили его, а затем скормили муравьям. Следствие на основе медицинского освидетельствования утверждает, что раны были не смертельные и что мы отдали его на съеденье живым. Наш защитник-багор (надзиратели на каторге выполняли роль адвокатов на судебных процессах) говорит, что мы можем спасти свои головы, только твердо держась своей версии. Иначе наше дело труба. Сказать по правде, у нас нет никаких надежд. Вот почему мы с другом решили безусловно, что ты станешь нашим наследником.
– Будем надеяться, мне не придется наследовать ваши деньги. Я говорю это искренне.
Мы закурили по сигарете, и было видно, что они ждали от меня большего. Они хотели, чтобы я высказался более определенно.
– Послушайте, братья, вы хотите, чтобы я высказался, что я сам об этом думаю как человек. Но позвольте мне прежде задать вам вопрос – он ни в коей мере не повлияет на мой ответ. Как к этому относится большинство в нашей камере, почему вы ни с кем не разговариваете?
– Они считают, что мы поступили правильно, только не согласны с тем, что мы его оставили живым на съеденье муравьям. А не разговариваем мы с ними потому, что однажды выпал шанс поднять мятеж и бежать всем вместе, но нас не поддержали.
– Ну хорошо, друзья, я скажу свое слово. Вы поступили правильно, отплатив ему за красных ос в стократном размере. Этого и не следовало прощать. Если вам будут рубить головы, в последний момент перед смертью думайте о следующем: «Мне отрубают голову, вот меня привязывают, зажимают шею в деревянном хомуте, опускают нож гильотины – тридцать секунд. Его агония длилась шестьдесят часов. Я вышел победителем». В отношении других в камере, я не знаю, кто прав. Вы могли думать, что мятеж поможет совершить групповой побег, другие могли думать иначе. Кроме того, в таких заварушках никогда не обходится без жертв. Чаще убивают тех, кого и не предполагают. Теперь о здешних узниках. Я считаю, что над вашими головами да над головами братьев Гравилей действительно нависла опасность, друзья. Все будет зависеть от того, какое место вы выберете.
Я полагал, что оба были крайне удовлетворены нашим разговором. Однако они по-прежнему, следуя изначальной своей замкнутости, не разговаривали ни с кем.
Побег каннибалов
«Где деревянная нога? Съели!», «Порцию горяченького рагу из деревяшечки». Или раздается голос, подстраивающийся под женский: «Официант, принесите мне кусок человечинки, хорошо поджаренной и без перца!»
Редко когда в ночной тишине не раздавались эти крики. Иногда звучала одна фраза, две, а то и все три. Нас с Клузио разбирало любопытство, что здесь имелось в виду и о ком шла речь.
Сегодня ключ от этой тайны оказался у меня в кармане. А рассказал мне обо всем сам участник событий, главное действующее лицо, медвежатник – специалист по взлому сейфов Мариус де ла Сьота. Когда он услышал, что я был знаком с его отцом Титеном, он без всякого опасения поведал мне эту дикую историю.
Рассказав ему о некоторых деталях своего побега, я, естественно, спросил:
– А ты что скажешь?
– Что скажу? Вляпался я в одну грязную историю. За простой побег могу схлопотать пять лет одиночки. Это дело известно как «побег каннибалов». Слышишь, как ночью кричат: «Съели» или «Рагу» и прочее, так это о братьях Гравилях.
Нас бежало шестеро из лагеря «42-й километр». В побеге участвовали Гравили, два брата из Лиона – Деде́ и Жан, тридцати и тридцати пяти лет; неаполитанец из Марселя; один парень из Анжера на деревянном протезе, а с ним мальчишка лет двадцати трех, оказывавший ему известные услуги. Ну и я, конечно. Из Марони мы вышли достаточно хорошо, но оторваться от суши нам никак не удавалось. И через несколько часов нас прибило к берегу Голландской Гвианы.
Лодка разбилась, и спасти ничего не удалось. Ни пищи, ни других припасов. Хорошо, что одежда еще осталась на теле. Надо сказать, берег там отвратительный. Ни пляжа, ни удобного причала. Море врывается прямо в девственный лес. Деревья подрезаны волнами прямо под корень или вовсе выворочены вместе с землей. Все переплелось, срослось между собой, везде сплошные лесные завалы, так что даже не продраться.
Шли целый день и выбрались наконец на сухое место. Разбились на три группы: братья Гравили, я с Гезепи́ и Деревянная Нога со своим мальчиком. Короче, пошли все в разных направлениях, а через двенадцать дней мы с Гезепи встретились с братьями Гравилями почти на том же месте, где расстались. Место было грязное и топкое. По уши в грязи, мы никак не могли из него выбраться. Перевалялись, перепачкались – что и говорить! Прошло тринадцать дней, а жрать нечего. Коренья да молодые побеги веток. Измотались, изголодались – полные доходяги. Мы с Гезепи решили выбраться к морю, пока были силы. Там мы повесим рубашку высоко на дерево и сдадимся голландской береговой охране. Пусть нас подберет первая же лодка. Гравили хотели немного отдохнуть и отправиться на поиски третьей пары. Это в принципе было возможно, поскольку, прежде чем разойтись, мы договорились отмечать свои маршруты сломанными ветками.
Спустя несколько часов что ж они видят? Им навстречу шагает Деревянная Нога в гордом одиночестве.
– Где мальчишка?
– Я оставил его далеко. Он не мог больше идти.
– Сволочь, как ты мог его бросить?
– Он сам попросил меня вернуться назад, где мы разошлись.
В этот момент Деде увидел на единственной ноге этого проходимца башмак мальчишки.
– Так ты его оставил еще и босиком! Хорошенькое дельце! Да еще напялил его же ботинок! Поздравляю! Ты выглядишь как боров по сравнению с нами. Можно подумать, жратвы у тебя было от пуза.
– Да, я нашел большую обезьяну, подранка.
– Повезло.
С этими словами Деде выхватил нож. У Деревянной Ноги был набитый битком узел. Деде догадался, что могло произойти.
– Развяжи-ка узелок. Посмотрим, что там.
Деревянная Нога развязал узел. Показалось мясо.
– Это что?
– Часть обезьяны.
– Сука, ты убил мальчишку, чтобы жрать!
– Нет, Деде. Клянусь, нет! Я не убивал! Он вымотался и умер. А я съел совсем немного. Прости…
Не успел он закончить, как получил нож в живот. Его обыскали и нашли спички в кожаном мешочке. Сволочь, так он еще и спичками не поделился, когда расходились! Короче, они развели костер и с голодухи принялись жарить человечину.
В разгар пиршества появился Гезепи. Они предложили ему присоединиться к трапезе. Тот отказался. Гезепи наловил в море крабов и рыбешек и съел в сыром виде. Он сидел у костра и наблюдал, как Гравили раскладывали куски мяса на углях. В костер пошла и деревянная нога, чтобы лучше горел. В тот день и на следующий он видел, как они ели человечину, даже приметил, какие они выбирали куски – те, что помясистее.
А я все ждал у моря, – продолжал Мариус, – пока за мной не пришел Гезепи. Мы наполнили шляпу маленькими крабами и рыбешкой, пошли к костру Гравилей и там это дело зажарили. Я видел еще много кусков мяса в золе, сдвинутых на край костра.
Через три дня нас подобрала голландская береговая охрана и передала властям из Сен-Лорана-дю-Марони. Гезепи не мог придержать свой язык. Все в палате знают об этом, даже багры. Поэтому я и рассказываю тебе все как есть. Ты понял, кто такие Гравили. Понял теперь, почему по ночам раздается эта чепуха.
Официально нам предъявляют обвинение в совершении побега при отягчающих обстоятельствах – каннибализм. Хуже всего для меня – защищаться, обвиняя других. Я не в силах этого сделать. На допросе мы все как один всё отрицали. Мы сказали, что те двое ушли и пропали. На этом я и стою, Папийон.
– Я тебе сочувствую, брат. Защищать себя, обвиняя других, – это последнее дело.
Через месяц Гезепи убили. Ночью, ударом ножа в сердце. Вы спросите, кто это сделал? Дело ясное.
Вот, собственно, и вся подлинная история о каннибалах, съевших человека, которого они еще и зажарили на его же собственной деревянной ноге. Человека, который сам, в свою очередь, съел мальчишку, бежавшего с ним.
В ту ночь я переместился на край нар, заняв место выбывшего из наших рядов. Клузио попросил остальных передвинуться на одного человека и оказался рядом со мной. На новом месте, хотя и прицепленный левой ногой к брусу, я мог сидеть и наблюдать за всем, что делалось во дворе. Тюремные власти предпринимали чрезвычайные меры предосторожности. Никакой ритмичности и связи между сменами караула не прослеживалось. Патрулирование велось постоянно. Патрульные группы следовали одна за другой, часто меняя интервалы и направление. Они могли в любой момент неожиданно появиться с противоположной стороны.
На ногах уже стою крепко, их немного ломит к дождю. Снова нацелен на новые действия, но что предпринять – не знаю. В камере нет окон. Вместо этого – единый зарешеченный пролет во всю длину комнаты и от уровня нар до крыши. Камера устроена таким образом, что северо-восточный ветер (только ветер, к сожалению) гуляет в ней свободно. Неделя наблюдений не дала никаких результатов: никак не удалось найти брешь в системе организации охраны. Впервые я был близок к тому, чтобы признаться себе в собственном бессилии избежать одиночной камеры в тюрьме острова Сен-Жозеф. Мне рассказали, какой ужас меня ожидает там. За тюрьмой закрепилось прозвище «Людоедка». Еще одна справка: за восемьдесят лет существования тюрьмы из ее стен никто не убегал.
Конечно, признание самому себе, хотя бы наполовину, что ты на этот раз проиграл, побуждало задуматься о будущем. Сейчас мне двадцать восемь. Капитан обещает пять лет одиночки. На меньшее трудно рассчитывать. Значит, к освобождению мне исполнится тридцать три.
В гильзе еще достаточно денег. Если бежать не придется, что очень похоже, то, по крайней мере, надо позаботиться о собственном здоровье. Трудно выдержать пять лет одиночного заключения. Можно сойти с ума. Поэтому необходимо хорошо питаться, и с первого же дня заключения я должен подчинить свое тело и сознание строго продуманному и выверенному распорядку и линии поведения. Насколько это возможно, следует оставить мечты о воздушных замках, особенно в дневное время. Не тешить себя идеей мести. Значит, с сегодняшнего дня мне необходимо готовить себя к суровому наказанию, жестокому испытанию, из которого я обязательно выйду победителем. Да, злоба моих преследователей ни к чему их не приведет. Я выйду из одиночки умственно и физически полноценным.
Избрав себе линию поведения, я приободрился и обрел спокойствие. Ласковый ветер, гулявший по палате, коснулся меня и принес облегчение.
Клузио тонко чувствовал те моменты, когда я не был расположен к разговору. Поэтому он не мешал мне и много курил. На небе показались звезды. Я спросил его:
– С твоего места видны звезды?
– Да, – сказал он, немного наклонившись. – Но я бы предпочел не смотреть на них, они напоминают мне о тех, что сверкали над нами во время побега.
– Не беспокойся, мы увидим тысячи звезд в следующий раз.
– Когда? Через пять лет?
– Клузио, скажи, а разве не стоит прожитый нами год пяти лет одиночки? Наши приключения, люди, которых нам довелось встретить? Ты предпочел бы остаться на островах с самого начала и не бежать? Конечно, то, что нас ждет, не сахар, но неужели ты сожалеешь о том, что решился бежать? Скажи прямо: сожалеешь ты или нет?
– Папи, ты забываешь об одном: ты провел семь месяцев с индейцами. Если бы я был с тобой, я бы тоже так думал. Но я-то сидел в тюрьме.
– Прости. Я забываюсь. Вечно витаю где-то в облаках.
– Да нет, ты вовсе не витаешь. Несмотря ни на что, я все-таки рад, что мы бежали. У меня ведь тоже было несколько незабываемых минут. Беспокоит только, что́ меня ждет в чреве «Людоедки». Пять лет – пройти через это почти невозможно.
Я рассказал ему, какую линию поведения я себе придумал. Она нашла в его сердце положительный отклик. Я был счастлив, что таким образом мне удалось поддержать в нем моральные силы. Через две недели мы предстанем перед судом. Ходили слухи, что председательствовать будет один майор, человек жесткий, но справедливый. Он уж так просто не проглотит ту стряпню, что приготовила администрация.
Матюрет сидел в одиночной камере дисциплинарного блока со дня нашего приезда. Мы с Клузио решили отказаться от услуг надзирателя в качестве защитника и постановили, что я буду выступать за всех троих и вести нашу защиту.
Трибунал
Утро. Мы побриты и пострижены. Одеты в новую полосатую красно-белую арестантскую форму. На ногах ботинки. Стоим во дворе и ожидаем вызова в суд. Две недели назад Клузио сняли гипс. Он ходит нормально и даже не хромает.
Военный трибунал начал заседать с понедельника. Сегодня суббота. За пять дней рассмотрено несколько дел. Заседание по «делу о муравьях» продолжалось целый день. Обоим вынесен смертный приговор. Этих парней я больше не видел. Братья Гравили получили по четыре года (за недоказанностью акта каннибализма). Процесс длился полдня. По другим делам, связанным с убийством, давали от четырех до пяти. В целом, по четырнадцати подсудимым приговоры были суровыми, но в пределах разумной объективности. Слушание начиналось в половине восьмого. Нас ввели в зал суда. Почти сразу же с другой стороны в зал вошли майор в форме песочного цвета французских колониальных войск на верблюдах, за ним престарелый пехотный капитан и лейтенант – помощники майора.
Справа от судей – надзиратель в чине сержанта и капитан, представляющие обвинение со стороны администрации.
– Слушается дело: «Шарьер, Клузио, Матюрет».
Мы всего лишь в четырех метрах от судей. Времени было достаточно, чтобы хорошо разглядеть майора: ему около сорока или сорока пяти; пустыня испещрила и высушила его лицо, посеребрила виски; широкие черные брови нависают над красивыми черными глазами, которые прямо и внимательно смотрят нам в лицо. Настоящий солдат. Ничего злого и недоброго в его взгляде нет. Он испытующе оглядел нас и через две-три секунды составил свое мнение о каждом. Наши взгляды встретились, и я невольно опустил глаза.
Капитан, представлявший администрацию, построил свое обвинение по принципу кавалерийской атаки, почему и проиграл. Он квалифицировал наше нападение на надзирателей как покушение на их жизнь. Просто чудо, уверял капитан, что араб остался в живых после стольких ударов. Он допустил и другую ошибку, сказав, что за всю историю исправительной колонии никто из осужденных не бесчестил имя Франции так далеко от ее владений, как мы.
– Вплоть до самой Колумбии, месье председатель! Эти люди прошли две тысячи пятьсот километров. Тринидад, Кюрасао, Колумбия. Во всех этих странах их жители наверняка наслушались самой грязной лжи об управлении французскими исправительными колониями. Я прошу вынести два приговора по совокупности отягчающих обстоятельств общим сроком восемь лет: пять лет за попытку совершения убийства, с одной стороны, и три года за побег – с другой. Это касается Шарьера и Клузио. Для Матюрета я прошу три года за побег, поскольку материалами следствия установлено, что он не участвовал в покушении.
Председатель: «Трибунал желает услышать короткий по возможности рассказ об этой очень длинной одиссее».
В своем рассказе я опустил эпизод плавания по Марони. Я начал с морского путешествия на Тринидад. Описал семью Боуэн, их доброту к нам, процитировал замечание шефа полиции Тринидада: «Британские власти здесь не для того, чтобы судить о французской исправительной системе. Единственное, с чем мы не можем согласиться, так это с выдачей преступников Французской Гвиане. Поэтому мы вам и помогаем». Я рассказал о Кюрасао, отце Ирене де Брюине, о случае с мешком с флоринами и о Колумбии – как и почему мы там очутились. Затем несколько слов о моей жизни с индейцами. Майор слушал не прерывая. Он только попросил рассказать подробнее о моем пребывании у индейцев, его чрезвычайно заинтересовали некоторые детали. Потом я говорил о тюрьмах в Колумбии, особенно о подземелье в Санта-Марте, подтопляемом водой.
– Спасибо. Ваш рассказ прояснил кое-что для суда и определенно нас заинтересовал. Объявляется перерыв на пятнадцать минут. Однако я не вижу ваших защитников. Где они?
– У нас их нет. Прошу вашего разрешения на проведение собственной защиты и защиты моих товарищей.
– Вы можете это сделать. По положению это допускается.
– Спасибо.
Через четверть часа заседание трибунала возобновилось.
– Шарьер, – начал председатель, – суд разрешает вам вести собственную защиту и защиту своих товарищей. Однако мы вас предупреждаем, что суд лишит вас слова, если вы будете вести себя неуважительно в отношении представителя администрации. Вы можете защищаться совершенно свободно, но в рамках допустимых выражений. Вам предоставляется слово.
– Прошу суд отвести обвинение в преднамеренном покушении на убийство. Оно полностью неправдоподобно, и я покажу почему: в прошлом году мне было двадцать семь, а Клузио – тридцать лет. Мы только что прибыли из Франции и находились в хорошей физической форме. Мы били араба и надзирателей железными ножками от кроватей. И никто из четверых серьезно не пострадал. Мы не намеревались причинить им увечья, соблюдали осторожность. Мы просто хотели послать их в нокаут и этого добились. Инспектор, представляющий здесь сторону обвинения, забыл сказать, что железные ножки были обернуты в простыни, – может быть, он об этом и не знал. Таким образом, никакой опасности убийства не было. Суд, полностью состоящий из кадровых офицеров, легко может представить себе, что может сделать сильный человек, ударив другого по голове штыком, даже плашмя. Нетрудно также представить, что можно сделать железной ножкой. Мне хотелось бы обратить внимание суда на следующее обстоятельство: никто из четверых, подвергшихся нападению, не был отправлен в больницу.
Мы все приговорены к пожизненному заключению, поэтому, мне кажется, наш побег не столь серьезное преступление, его можно было бы рассматривать как таковое только в том случае, если бы мы имели недлительные сроки заключения. В нашем возрасте трудно свыкнуться с мыслью, что ты никогда не увидишь свободу и не будешь жить нормальной жизнью. Я прошу суд быть снисходительным ко всем троим.
Майор пошептался со своими коллегами, затем стукнул по столу деревянным молотком:
– Подсудимые, прошу встать.
Мы встали. Стояли, словно аршин проглотили. Ждали вынесения приговора.
Председатель заговорил:
– Суд отводит обвинение в покушении на убийство. Поэтому в этой части суд имеет право не выносить даже частное определение. Вы признаетесь виновными в преступлении, связанном с побегом. Преступление второй степени тяжести. Суд приговаривает вас к двум годам одиночного заключения.
И мы дружно сказали:
– Спасибо, майор.
А я добавил:
– Мы благодарим суд.
Багры, присутствовавшие на заседании суда и сидевшие в задней части комнаты, были ошарашены. Когда мы вернулись к нашим товарищам по камере, они были счастливы услышать такую новость. Никакой зависти. Напротив, даже те, кто получил на полную катушку, искренне поздравили нас с удачей. Пришел Франсуа Сьерра и крепко обнял меня. Он был в восторге.
Тетрадь шестая Острова Салю
Прибытие на острова
Завтра отплывает судно, которое доставит нас на острова Салю. На этот раз, несмотря на долгую борьбу, от пожизненного заключения меня отделяют всего лишь несколько часов. Сначала два года одиночки на острове Сен-Жозеф. Тюрьму называют «Людоедкой». Я надеюсь опровергнуть это.
Я проиграл, но разве я похож на побежденного?
Мне следовало бы радоваться: всего два года отсидки в одиночке – этой тюрьме в тюрьме. Я уже дал себе слово, что не буду витать в мыслях бог знает где, а это в условиях полной изоляции самое простое занятие. Нет! Я знаю, что надо делать. С этой минуты я считаю себя свободным человеком, уже свободным, здоровым и крепким, как и любой другой заключенный на островах. Мне исполнится тридцать, когда я выйду из одиночки.
Мне было известно, что побеги с островов случались, но крайне редко. Можно буквально пересчитать по пальцам. Но все равно они были. Я тоже убегу, будьте уверены. Через два года. Я повторил эту мысль Клузио, находившемуся рядом.
– Тебя трудно сломить, Папийон. Мне бы твою веру в грядущий день освобождения! В течение года ты то и дело был в бегах и никак не мог остановиться. Но очередная неудача не обескураживала тебя, ты снова был готов повторить все сначала. Меня только удивляет, почему ты здесь этого не сделал и даже не пытался?
– Да потому, дружище, что здесь может быть только один вариант – поднять мятеж. Но тут же встает вопрос: как взять этих трудных людей в руки? На такое дело у меня не было времени. Я совсем было начал готовиться к мятежу, но испугался, что он может выйти из-под контроля. Все эти сорок человек – старые волки. Их достаточно далеко протащило вниз по сточной канаве, и они не похожи на нас с тобой. Они реагируют на события в ином ключе. Посмотри, к примеру, на каннибалов, или на типов с муравьиной кучи, или на того, который захотел убить человека и, не колеблясь, подсыпал яд ему в суп. А перед этим он уже прикончил семерых таким же способом. Убил людей, которые ему не сделали ничего плохого!
– Но на островах мы встретимся с такими же.
– Да. Но я убегу с островов, и при этом обойдусь без посторонней помощи. Я побегу один или с одним напарником от силы. Чему ты улыбаешься, Клузио?
– Я улыбаюсь тому, что ты не сдаешься. Тебя так и подмывает явиться в Париж и предъявить счет твоим «друзьям». Поэтому ты так и мчишься вперед, в мыслях даже не допуская, что этого может и не произойти.
– Спокойной ночи, Клузио. До завтра. В конце концов нам придется посмотреть на эти долбаные острова Салю. Первым делом придется выяснить, почему эту преисподнюю называют островами Спасения.
Я отвернулся от Клузио, подставив лицо ночному ветру.
На следующий день рано утром нас погрузили на судно. Двадцать шесть человек на борту старого корыта водоизмещением четыреста тонн под названием «Танон». Это каботажное судно, совершающее рейсы Кайенна – острова Сен-Лоран и обратно. Нас попарно приковали кандалами к одной цепи, к тому же оставили в наручниках. Две группы по восемь человек на полубаке охраняются командами из четырех надзирателей с винтовками. Десять человек на кормовой палубе под надзором шестерых стражников. Команду сопровождения возглавляют два офицера. Таким образом, все мы размещены на палубе этой развалюхи, готовой того и гляди затонуть в штормовом море.
Я дал себе слово ни о чем не думать во время перехода и искал повод позабавиться хоть чем-нибудь. И вот я говорю громко и внятно, обращаясь к хмурому стражнику напротив. Я делаю это с единственной целью – вывести его из себя.
– К чему вы понавесили на нас все эти цепи? Все равно нет никаких шансов убежать, если это корыто затонет. А ведь похоже, так и произойдет – море уж слишком разгулялось.
Багор не обладал чувством юмора, он ответил примерно так, как я и предполагал:
– А нам все равно, потонете вы или нет. У нас приказ: приковать вас – вот и все. Отвечают те, кто отдает приказ. В любом случае с нас взятки гладки.
– В любом случае это уж точно, месье инспектор, с какой стороны ни посмотреть. Скажем, если этот плавучий гроб развалится в море, то все пойдут ко дну, в цепях или без цепей.
– Да уж давно так плаваем, – сказал недоумок, – и до сих пор ничего не случилось.
– Так-то оно так, но именно по этой причине (как вы правильно заметили – давно плаваем) посудина готова развалиться на части в любой момент.
Я добился, чего хотел: расшевелил людей, нарушил общую тишину, которая порядком действовала мне на нервы. Надзиратели и каторжники сразу же включились в разговор.
– Да, опасно плавать на этом старом корыте, да к тому же в цепях. Без цепей у нас, по крайней мере, был бы шанс.
– Да какая разница? При нашей амуниции, в ботинках да с винтовками, нам ничуть не легче.
– Винтовка в счет не идет: ее ведь при кораблекрушении можно и выбросить.
Увидев, что всех задело, я подлил еще масла в огонь.
– А где спасательные шлюпки? Я вижу только одну, небольшую, на восемь человек, не более. Для капитана да экипажа – и то не хватит. А остальные? Балласт, что ли? Прощайте все, целую ручки!
Вот сейчас уже всех задело за живое по-настоящему. Разговор продолжился на более высоких тонах.
– Верно, ни хрена здесь нет. Да и эта дерьмовая фелюга – настоящий гроб с музыкой. Только по преступной безответственности можно посылать семейных людей на такой риск, да еще сопровождать всякие отбросы.
Я в десятке узников на кормовой палубе. Рядом два офицера сопровождения. Один из них, посмотрев на меня, сказал:
– Ты тот самый Папийон? Это тебя вернули из Колумбии?
– Да.
– Неудивительно, что ты заплыл так далеко. Похоже, что знаешь море.
Я ответил нарочито вызывающе:
– Как свои пять пальцев.
Мои слова приводят всех в уныние. А что скажет капитан, тоже присутствующий на палубе? Перед этим он спустился с капитанского мостика, чтобы взять в свои руки штурвал, поскольку судно выходило из устья Марони, считавшегося самым опасным местом для навигации. Теперь все в порядке, и он передал штурвал рулевому. Капитан – коротышка, толстенький черный-пречерный негр с удивительно моложавым лицом.
– А ну, покажите-ка мне этих молодцов, которые на бревне дошли до Колумбии.
– Вот он, еще этот и там один, – сказал начальник конвоя.
– Кто капитан? – спросил карлик.
– Я, месье.
– Прекрасно, браток, как моряк я тебя поздравляю. Ты здесь не простой человек. – Он полез в карман кителя. – Возьми табак и папиросную бумагу. Закури да пожелай мне удачи.
– Спасибо, капитан. Но я вас тоже должен поздравить за ваше мужество. Вы плаваете на похоронных дрогах и делаете это раз и даже два в неделю. Я знаю, что говорю.
Капитан зашелся от хохота, перепугав до смерти людей, которые уже и так волновались.
– Ты прав. Корыто уже давным-давно следовало пустить на слом, да компания все ждет, когда оно затонет, чтобы получить страховку.
Я удачно подпустил последнюю шпильку:
– К счастью, для вас и команды имеется спасательная шлюпка.
– К счастью, – повторил капитан машинально, спускаясь вниз, в свою каюту.
Я затеял весь этот разговор с известной целью: более четырех часов он скрашивал наше плавание. У каждого нашлось что сказать, и как-то незаметно жаркая дискуссия с кормы перекинулась на полубак.
К десяти часам утра море немного штормило. Направление волн и неблагоприятный ветер трепали судно в бортовой-килевой качке. На румбе норд-ост. У многих стражников и узников разыгралась морская болезнь – укачало, что называется. К счастью, в паре со мной на цепи морской волк. Его не укачивает. Надо признаться, что не получаешь никакого удовольствия, когда рядом с тобой кого-то тошнит. Этот тип – настоящий парижский «тити́» (уличный мальчишка). Прибыл в Гвиану в 1927 году. Уже семь лет на островах. Сравнительно молод – тридцать восемь лет.
– Меня прозвали Тити Белот [7] за то, что, должен признаться, прилично играю в карты. Я только этим и пробавляюсь на островах. Режемся ночи напролет. Очко по два франка. При своем банке можно снять солидный куш. Если, скажем, в банке двести франков, а ты бьешь валетом, то проигравший платит вдвойне да еще в гору за каждое очко.
– Откуда же на островах такие деньги?
– Представь себе, водятся, старина. На островах полно гильз с наличными. Некоторые приезжают с ними, другие получают через надзирателей за половину суммы. Видно, что ты новичок, приятель. Ничего-то ты не знаешь.
– Разумеется. Откуда мне знать острова? Я знаю только, что с них трудно бежать.
– Бежать? Ты даже не заикайся об этом. Я тут уже семь лет, и за все это время было только два побега. И чем они закончились? Троих убили, а двоих сцапали – вот чем они закончились, брат. Никому не удавалось. Поэтому и охотников бежать не густо.
– Что делал на материке?
– Проходил рентген, выясняли, есть язва желудка или нет.
– Почему не попытался бежать из больницы?
– Ты еще спрашиваешь! Будто не знаешь, что ты сам, Папийон, все испортил. Так случилось, что я попал в ту же палату, откуда ты бежал. А теперь представь себе, какие строгости они ввели после твоего побега. Едва подойдешь к окну за глотком свежего воздуха, как тебя уже отгоняют. Спрашиваешь почему, а тебе отвечают: «А чтобы у тебя не появились такие же мысли, как у Папийона».
– Скажи, Тити, кто этот верзила, что сидит рядом с начальником конвоя? Стукач?
– Ты что, сдурел? Его здесь все уважают. Вообще-то, он фраер, но держится не хуже заправского блатаря: с баграми дружбы не водит и поблажек никаких не принимает, свое звание каторжника ничем не позорит. Может дать добрый совет и быть хорошим товарищем, с легавыми на сближение не идет. Ни священнику, ни доктору не удалось втереться к нему в доверие. И вот этот фраер с повадками крутого парня, представь себе, не кто иной, как потомок Людовика Пятнадцатого. Да, дружище, он граф, и самый что ни на есть настоящий, а зовут его граф Жан де Берак. Однако, чтобы завоевать наше уважение, ему понадобилось немало времени, потому как попал он сюда за очень грязное дело.
– И что же он натворил?
– Да, знаешь, он собственного ребенка сбросил с моста в речку. А поскольку то место оказалось совсем мелким, то у него хватило хладнокровия, чтобы спуститься, взять ребенка и снова бросить туда, где поглубже.
– Как? Выходит, он дважды убил собственное дитя?
– Один мой приятель – он работает бухгалтером и видел его досье – рассказывал мне, что этого парня замордовало его знатное окружение. А его мамаша выбросила на улицу, как собаку, девчонку-служанку, которая родила от него ребенка. Приятель говорил еще, что эта спесивая графиня держала сына под каблуком и то и дело оскорбляла и унижала его за то, что он, граф, спутался с простой служанкой и опозорил их древний род и фамилию. Парень так обезумел и разгорячился, что, не ведая, что делает, пошел и утопил своего ребенка в реке, а девчонке своей перед этим сказал, что сдал его в приют.
– Сколько ему дали?
– Только десять. Ты должен учесть, Папийон, он ведь не то что мы с тобой. Старая графиня, хранительница фамильной чести, должно быть, убедила судей, что убийство ребенка простой служанки, совершенное графом, не является серьезным преступлением. Он ведь совершил благое дело – спас честь своего рода.
– И какие выводы?
– Выводы? Каких выводов можно ждать от уличного картежника? Я человек скромный. Да ладно, скажу. Как он рос, как воспитывался, этот образованный дворянчик граф Жан де Берак? Без всяких рассуждений, без малейшего понятия о жизни. Его учили только одному: голубая кровь, голубая кровь. А остальное? Господи, какие пустяки, стоит ли беспокоиться! Вокруг живут мелкие людишки, если не совсем рабы, то подневольные. У графа на них как бы наследственное право. Почему бы не потешиться с девчонкой? А мать, напыщенная гордячка и эгоистка, испортила, искалечила его. Он, по сути, и сам стал подневольным. Только на каторге превратился в истинного аристократа в полном смысле этого слова. Может, это покажется смешным, но только здесь он стал настоящим графом Жаном де Бераком.
Острова Салю, пока для меня не известные, через несколько часов перестанут быть таковыми. Я знаю лишь то, что с них очень трудно бежать. Но все-таки есть такая возможность. Я полной грудью вдохнул свежий морской ветер и сказал про себя: «Сейчас ты встречный, но когда-нибудь ты станешь попутным и поможешь мне убежать?!»
Подходим! Вот и острова! Они образуют треугольник: Руаяль и Сен-Жозеф лежат в основании, а остров Дьявола – его вершина. Солнце уже низко над горизонтом, но освещает их удивительно ярко. Такое можно наблюдать только в тропиках. Времени еще достаточно, чтобы разглядеть их во всех подробностях со стороны моря. Начнем с Руаяля. Плоский карниз суши огибает круглый холм высотой более двухсот метров. Вершина тоже плоская. Остров напоминает мексиканское сомбреро со срезанной тульей, будто ее опустили в море – и вот она плывет. Повсюду высокие кокосовые пальмы ярко-зеленого цвета. Низенькие домики под красными крышами делают остров особенно привлекательным. Кто не знает, что́ там, на берегу, возможно, и захотел бы провести здесь всю свою жизнь. На плато виднеется маяк. Наверняка горит по ночам и в плохую погоду, чтобы корабли не налетели на скалы. Мы совсем близко. Я различаю пять длинных зданий. От Тити узнал, что в двух первых огромных бараках живут четыреста узников. Затем идет дисциплинарный блок с камерами и карцерами. Он окружен высокой белой стеной. Четвертое здание занимает больница, а в пятом размещаются надзиратели и администрация. По склонам холма рассыпаны маленькие домики с розовыми крышами. Там живут надзиратели. Немного подальше лежит остров Сен-Жозеф. Меньше пальм, меньше зелени. На плато высится огромное строение. Оно четко просматривается с моря. Я сразу догадался, что это за сооружение, – тюрьма одиночного заключения. Тити Белот подтвердил это. Он указал мне на лагерные бараки, где жили заключенные, отбывавшие обычные сроки. Они стояли ниже, у моря. Уже ясно стали видны наблюдательные вышки и амбразуры. На острове виднелись также маленькие опрятные домики с белыми стенами и красными крышами.
Поскольку судно подходило к Руаялю со стороны южного фарватера, остров Дьявола пропал из виду. Но еще издали он мне показался огромной скалой, поросшей пальмами. Никаких приметных сооружений. Только несколько желтых домиков с черными крышами, выстроившихся у прибрежной черты. Позже я узнал, что в этих домах содержались политические заключенные.
Мы входим в гавань острова Руаяль, хорошо укрытую за огромным волноломом, сложенным из больших каменных блоков. Возведение этого сооружения, должно быть, стоило жизни многим и многим узникам.
«Танон» дает три гудка и бросает якорь в двухстах пятидесяти метрах от причала, очень длинного. Причал сложен из валунов, скрепленных цементом, и возвышается над водой на три метра. Параллельно причалу идут здания, выкрашенные белой краской. Я читаю черные на белом фоне надписи: «Пост охраны», «Обслуживание судов», «Пекарня», «Администрация порта».
С берега на нас взирают заключенные. Они все не в полосатой одежде арестантов, а в белых брюках и куртках. Тити Белот поясняет, что если ты при деньгах, то на островах вполне возможно иметь приличную и удобную одежду, сшитую по мерке портным. Здесь портные наловчились шить одежду из мешков из-под муки, предварительно отбелив мешковину и выведя все надписи. Он сказал, что почти никто не ходит в арестантской форме.
К нашему судну приближается лодка. Один надзиратель управляет кормовым веслом. Справа и слева от него еще два надзирателя с винтовками. Шесть заключенных в белых брюках, голые по пояс, работают длинными веслами стоя. Они делают мощные гребки. Расстояние между судном и лодкой быстро сокращается. За первой лодкой тянется на буксире еще одна, пустая и по размерам более похожая на спасательную шлюпку. Лодка причалила к судну. Первыми в пустую шлюпку сходят офицеры сопровождения. Они размещаются на корме. Затем в носовую часть садятся два стражника с винтовками. С нас снимают кандалы, но оставляют в наручниках. Мы по двое спускаемся в лодку. Сначала наша группа из десяти человек, а затем восемь человек из группы на верхней палубе. Гребцы налегают на весла. Им предстоит еще одна поездка за остальными. Мы взошли на причал и выстроились у здания администрации порта. Ждем других. Никакого багажа у нас нет. Ссыльные, не обращая внимания на багров, открыто разговаривают с нами, держась на почтительном расстоянии, метрах в пяти-шести. Несколько человек из моего конвоя дружески приветствуют меня. Сезари и Эссари, два бандита-корсиканца, знакомые мне по Сен-Мартен-де-Ре, рассказывают, что работают здесь лодочниками в гавани. В этот момент появился Шапар, проходивший по делу марсельской биржи. Я его знавал еще во Франции до ареста. Прямо в присутствии стражников он сказал:
– Не волнуйся, Папийон. Положись на друзей. Ты ни в чем не будешь нуждаться в одиночке. Сколько дали?
– Два года.
– Прекрасно. Они скоро пройдут. Потом будешь с нами и увидишь, что жить здесь можно.
– Спасибо, Шапар. Как поживает Дега?
– Он учетчик. Удивляюсь, почему он не пришел. Он будет жалеть, если не повидается с тобой.
Появился Гальгани. Он направился прямо ко мне, а когда стражник попытался преградить ему дорогу, он с силой протиснулся, сказав при этом:
– Неужели вы не позволите мне обнять собственного брата? Не думаю. Что за дикие порядки?! – Он обнял меня и добавил: – Рассчитывай на меня.
Он уже собирался уходить, когда я спросил:
– Чем занимаешься?
– Почтарь в зоне.
– И как?
– Спокойная жизнь.
Сошли на берег остальные и пристроились к нам. С нас сняли наручники. Тити Белота, де Берака и еще нескольких мне незнакомых человек отделили от нашей группы. Стражник скомандовал им: «Пошли в лагерь». При них вещевые мешки с тюремным скарбом. Забросив мешки за плечо, они двинулись по дороге, ведущей, по всей вероятности, в глубину острова. Прибыл комендант островов в сопровождении шести стражников. Сделали перекличку. Все оказались на месте. Передача состоялась. Наше сопровождение удалилось.
– Где учетчик? – спросил комендант.
– Идет, шеф.
Появился Дега. На нем прекрасная белая форма, китель застегнут на блестящие пуговицы. Идет с надзирателем, у обоих под мышками гроссбухи. Они вызывают из шеренг по одному человеку, присваивая ему новый номер: «Заключенный такой-то, номер пересылки такой-то, присваивается номер такой-то. Срок?» – «Столько-то лет».
Подошла и моя очередь. Дега обнял меня, потом еще раз и еще. Тут появился комендант.
– Папийон?
– Да, комендант, – сказал Дега.
– Ведите себя хорошо в одиночке. Два года быстро пролетят.
Одиночное заключение
Лодка готова. Из девятнадцати одиночников десять пойдут первым рейсом. Меня вызывают. Дега спокойно говорит:
– Нет, этот человек отправится со второй партией.
Прибыв на острова, не перестаю удивляться, как тут себе позволяют разговаривать каторжники. Не чувствовалось никакой дисциплины, к надзирателям отношение совсем наплевательское. Дега стоял рядом со мной, мы продолжали беседовать. Он уже знал обо мне все и о побеге тоже. Люди, которые были со мной в Сен-Лоране, приехали на острова и рассказали ему обо всем. Он деликатно заметил, что сожалеет о моей неудаче. Он выдавил из себя одну лишь фразу, но зато искренне:
– Ты заслуживал успеха. Значит, повезет в следующий раз.
Он даже не сказал мне «мужайся», зная наперед, что мужества у меня хватает.
– Я тут главный учетчик и в хороших отношениях с комендантом. Побереги себя в одиночке. Я буду присылать табак и поесть. Нуждаться ни в чем не будешь.
– Папийон, в лодку!
Настала моя очередь.
– Передай всем привет и спасибо за добрые слова.
Моя нога ступила в лодку. Через двадцать минут причалили к острову Сен-Жозеф. Я отметил для себя, что в лодке было только три вооруженных стражника на шесть заключенных, работавших веслами, да на нас десятерых, отправлявшихся в места не столь отдаленные. Захватить лодку при таких обстоятельствах – пара пустяков. На острове мы попадаем на приемный пункт. Нам представляются два коменданта – обычной тюрьмы и тюрьмы одиночного заключения. В сопровождении стражников мы идем по дороге, ведущей вверх. Там тюрьма «Людоедка». Ни одного узника не встретилось нам на пути. Прошли большие железные ворота, надпись над которыми гласит: «Дисциплинарная тюрьма одиночного заключения». Мрачная силища этой тюрьмы действовала на психику безотказно. Весьма эффективное средство по вышибанию вольнодумства. За железными воротами и высокими стенами – небольшое здание тюремной администрации. За ним три здания побольше – блоки А, В и С. Нас привели в здание администрации. Большая холодная комната. Девятнадцать человек построены в две шеренги. Комендант тюрьмы-одиночки сказал нам свое слово:
– Заключенные, вам известно, что данное учреждение является местом, где отбывают наказание за преступления лица, уже осужденные и приговоренные к различным срокам каторжных работ или высылки. Здесь мы не пытаемся кого-либо исправлять и наставлять на путь истины. Мы прекрасно понимаем, что это бесполезно. Но вас обязательно научат понимать собачью команду «к ноге!». Здесь действует только одно правило: не вякай. Молчать и еще раз молчать. Никаких перестукиваний. Если поймают – суровое наказание. Лучше совсем не болеть, если вы не больны серьезно. Больным не прикидываться. Тому, кто станет симулировать болезнь, – суровое наказание. Вот и все, что я должен вам сказать. Да, между прочим, курение строго запрещено. Итак, инспекторы, тщательно всех обыскать и развести по камерам. Шарьер, Клузио и Матюрет размещаются по разным блокам. Месье Сантори, проследите за этим лично.
Через десять минут меня закрыли в камере 234 блока А. Клузио – в блоке В, Матюрет – в блоке С. Мы молча обменялись прощальным взглядом. Нетрудно было уяснить и зарубить себе на носу, что, если хочешь отсюда выбраться живым, надо повиноваться и следовать этим бесчеловечным правилам. Я смотрел, как уводили моих друзей, напарников по долгому и грандиозному побегу, гордых и смелых товарищей, мужественно разделивших со мной нашу общую долю, не жаловавшихся на превратности судьбы, не сожалевших о содеянном. К горлу подступил комок: четырнадцать месяцев бок о бок мы дрались за свою свободу. Эта борьба связала нас узами безграничной дружбы.
Я стал изучать камеру, в которую меня поместили. Никогда не смог бы предположить или представить себе, что такая страна, как моя Франция, где родилась идея о всемирной свободе, прародительница прав человека и гражданина, могла иметь – пусть даже во Французской Гвиане, на острове, затерянном в Атлантике и размером не более носового платка, – такое варварское репрессивное учреждение, как тюрьма-одиночка на Сен-Жозефе. Представьте себе сто пятьдесят камер, тесно прижавшихся друг к другу, с толстенными стенами и узкой железной дверью с небольшим окном. И на каждой двери над окошком написано краской: «Запрещается открывать без разрешения администрации». Слева откидная кровать с деревянным подголовником. Та же система, что и в Болье: кровать поднимается, прижимается к стене и крепится крюком; на кровати одеяло. Цементная тумба в дальнем углу – это стул. Веник, солдатская кружка, деревянная ложка. Стойка из стального листа, за которой спрятан металлический ночной горшок. Горшок прикреплен к стойке цепью. Он выдвигается в коридор для опорожнения и вдвигается в камеру при необходимости. Высота камеры три метра. Что представляет собой потолок? Он не сплошной, сделан из мощных железных балок толщиной с трамвайный рельс. Балки уложены крест-накрест, да так плотно, что в квадратную клетку этой своеобразной потолочной решетки вряд ли пролезет что-либо существенное. Над этим сооружением на высоте семи метров от земли идет настоящая крыша. Сверху над камерами нависает мостик для часовых шириной в один метр. Мостик огражден железным поручнем. По мостику без остановки ходят два стражника. Сходятся посередине и снова расходятся. Впечатление ужасное. Дневной свет в полной мере доходит только до мостика, в самих же камерах, даже среди бела дня, висят густые сумерки. Сразу же начинаю ходить, ожидая свистка или бог знает еще какого сигнала, когда можно будет откинуть кровать. Чтобы не создавать ни малейшего шума, все узники и стражники в тапочках. Мелькнула мысль: «Здесь, в камере 234, Шарьер, по прозвищу Папийон, будет отбывать двухлетний срок, или семьсот тридцать дней, и постарается не сойти с ума. Ему предстоит доказать, что эта тюрьма незаслуженно называется „Людоедкой“».
Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом! Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом! Вот багор прошел у меня над головой. Не слышно было, как он подходил, – я его увидел. Щелк! Включили свет. Он загорелся под коньком крыши, в семи метрах от меня, осветив манеж для часовых; камера по-прежнему погружена в сумерки. Я принялся ходить, и маятник снова закачался. Спите спокойно, присяжные заседатели, спите спокойно, вонючки, приговорившие меня. Знали бы вы, куда отправляете подсудимого, вы с отвращением отказались бы принимать участие в сотворении беззакония и в ужасе отшатнулись бы от судебной комедии. Трудно обуздать навязчивые мысли. Почти невозможно. Лучше заострить их на менее угнетающих мотивах, чем пытаться подавить совсем.
Койку можно опускать только по свистку. Слышится громкий голос:
– Касается новичков! Можете, если хотите, опустить койку и лечь спать.
Я обратил внимание только на «если хотите». Оно еще долго звучало в ушах: «если хотите», «если хотите». Нет, продолжаю ходить. Разве уснешь сейчас? Надо привыкать к этой клетке, открытой со стороны крыши. Раз, два, три, четыре, пять. Вошел сразу же в ритм маятника. Голову вниз, руки за спину, шаг выверен тютелька в тютельку – настоящий ход маятника. Взад и вперед, туда и обратно. Хожу беспрерывно, как во сне. В конце каждого пятого шага я не вижу стены. Делаю поворот кругом, едва не касаясь ее лицом. У этого марафона нет финиша. Никто не устанавливал время, когда он должен закончиться.
Да, Папи, тюрьма «Людоедка» – это совсем не смешно, это тебе не шуточки. И тень часового на стене вызывает несуразные чувства. Ты похож на леопарда, попавшего в яму, на которого сверху смотрит охотник, только что поймавший тебя. Ужасно неприятное чувство. Прошли месяцы, прежде чем я привык к этому.
В году триста шестьдесят пять дней. Два года – семьсот тридцать дней, если один из них не високосный. Я улыбнулся. Какая разница: семьсот тридцать или семьсот тридцать один? Разница? Ого, еще какая! Лишний день, а в нем ведь двадцать четыре часа! Так что лучше семьсот тридцать дней без двадцати четырех часов. Двадцать четыре часа – это долго. А сколько же часов в двух годах? Интересно, смогу ли я сосчитать это в уме? Как подступиться? Нет, невозможно. Почему невозможно? Очень даже возможно. Давай помаленьку. Сто дней – это две тысячи четыреста часов. Теперь умножим на семь, это просто, получим шестнадцать тысяч восемьсот часов. Еще остается тридцать дней по двадцать четыре часа. Получаем семьсот двадцать часов. Подсчитаем общую сумму: шестнадцать тысяч восемьсот да семьсот двадцать – это, если не ошибаюсь, семнадцать тысяч пятьсот двадцать часов. Уважаемый месье Папийон, в этой клетке с гладкими стенами, специально сделанной для диких зверей, вам придется убить семнадцать тысяч пятьсот двадцать часов. А сколько же минут? Но это уже неинтересно. Часы куда ни шло, а минуты? Не переборщи! Где минуты, там и секунды. А почему нет? Важно это или не важно, но меня в настоящее время секунды не интересуют. Лучше пошевелить мозгами насчет того, как провести в полном одиночестве, наедине с собой дни, часы и минуты! Кто от меня справа? Слева? Сзади? Трое. Если соседние камеры не пустуют, значит их обитатели тоже задают себе вопрос, кто поселился в двести тридцать четвертой.
За спиной у меня что-то мягко шлепнулось. Прямо в камере! Что бы это могло быть? Неужели кто-то из соседней камеры изловчился и забросил через верхние брусья что-то для меня? Пытаюсь разобраться. Едва различаю нечто длинное и тонкое – скорее даже не различаю, а ощущаю. Только приготовился поднять, как это нечто задвигалось и побежало к стене. Я отпрянул назад. Добравшись до стены, существо полезло вверх, но сорвалось и шмякнулось на пол. Стена оказалась слишком гладкой для него, чтобы удержаться. Три раза существо пыталось забраться по стене, но каждый раз неудачно. На четвертый, как только оно снова упало на пол, я раздавил его ногой. Под тапкой лопнуло что-то мягкое. Что бы это могло быть? Опустившись на колени, я принялся внимательно рассматривать. Наконец разобрался, в чем дело: гигантская сороконожка длиной более двадцати сантиметров и толщиной в два больших пальца. Отвращение было настолько сильным, что я не мог заставить себя поднять и бросить ее в парашу. Ударом ноги я послал ее под койку. Завтра разгляжу хорошенько. При дневном свете. С сороконожками пришлось завести достаточно близкое знакомство. Недостатка в них не было. Они обычно падали вниз с главной крыши высоко над головой. Научился терпеть их присутствие, а когда лежал, то позволял им ползать у себя по голому телу. Я их в таком случае не ловил и не тревожил, поскольку мне пришлось также узнать, какой боли может стоить маленькая тактическая ошибка: кусались они ужасно. Один укус этой твари на сутки вгонял организм в изматывающую лихорадку: тело горело как в огне в течение шести часов.
Однако они также доставляли мне некоторое развлечение и отвлекали от мыслей. Скажем, падает сороконожка, а я в это время не сплю. Беру веник и начинаю гонять ее по камере. Гоняю долго, устраивая ей настоящую пытку. Или играем на пару: я позволяю ей спрятаться, а потом, через некоторое время, начинаю искать.
Раз, два, три, четыре, пять… Кругом мертвая тишина. Неужели здесь не храпят? Не кашляют? Жарко и душно. А ведь еще ночь! Что же будет днем? Судьба распорядилась так, что приходится жить с сороконожками. Когда в Санта-Марте во время прилива подтапливало подземный карцер, их там тоже много появлялось. Правда, они были поменьше, но из этого же семейства. Хоть и каждый день подтапливало, но зато можно было разговаривать, обращаться с вопросами, слушать, как поют или кричат другие, как дикуются умалишенные. Там совсем другое дело. Если бы мне представился выбор, я бы остановился на Санта-Марте. В своих рассуждениях ты теряешь логику, Папийон. В подземелье Санта-Марты человек, по общему мнению, мог протянуть шесть месяцев от силы. А здесь многие отбывают сроки и по четыре года, и по пять лет, и даже больше. Но ведь одно дело – приговорить, а другое дело – отбарабанить этот срок. А сколько кончает самоубийством? Не вижу, как здесь можно покончить с собой. Пожалуй, есть такая возможность. С трудом, но можно повеситься. Скрутить из штанов веревку, привязать один конец к венику и, встав на койку, перекинуть ее через брус. Если сделать это у стены, над которой идет часовой, он может и не заметить веревку. Только он прошел, и ты бросаешься вниз с петлей на шее. Он возвращается, а ты уже висишь. Но стражник не будет торопиться открывать камеру и обрезать веревку. Открывать камеру? Да он и не сможет это сделать. На двери написано: «Запрещается открывать без разрешения администрации». Поэтому нечего беспокоиться. Времени хватит, чтобы покончить с собой. Жди, пока они вынут тебя из петли «по приказу администрации»!
То, что я описываю здесь, не так интересно и увлекательно для некоторых читателей, которые любят решительные действия и жаркие схватки. Можно пропустить эти страницы, если они слишком утомляют. И все-таки я считаю, что мне следует передать, насколько это в моих силах, точно и достоверно первые мысли, первые впечатления, лавиной обрушившиеся на меня от первого соприкосновения с новой камерой с первых же часов моего погребения в этой могиле.
Хожу по камере уже довольно долго. Расслышал бормотание в ночи – произошла смена часовых. Первый был тощий дылда, этот же – толстяк-коротышка. У него шаркающая походка. Хоть он и в тапочках, но слышно, как идет, за две камеры до и после. Его товарищ двигается бесшумно, а этот не укладывается в рамки абсолютной тишины. Продолжаю ходить. Должно быть, уже поздно. Интересно, который час? Завтра надо что-то придумать и научиться отмечать время. Окошечко в двери открывают четыре раза в сутки, благодаря такому распорядку можно будет грубо определиться со временем. Ночью заступает на дежурство новый наряд. Зная время и продолжительность первой смены, можно выйти на собственный хронометраж, согласно которому мне предстоит жить здесь. Первая смена караула, вторая, третья и так далее.
Раз, два, три, четыре, пять… Бесконечный механический ход маятника и, в довершение всего, усталость легко перенесли меня в недавнее прошлое. Сила воображения строится, вероятно, на игре контрастов: здесь темная камера, а я вдруг вижу себя сидящим на залитом солнцем пляже рядом с деревней моего родного племени. В двухстах метрах от берега на опалово-зеленой поверхности моря качается лодка. В ней Лали, она ловит жемчуг. Под ногами трется грубый песок. Сорайма принесла мне большую рыбину, испеченную на углях. Чтобы не остыла, она завернула ее в банановый лист. Я ем рыбу, конечно, руками, а она, скрестив ноги, сидит напротив. Ей нравится, как я ловко отслаиваю от хребта сочные куски и уплетаю за обе щеки. У меня на лице написано, что есть приготовленную ею рыбу – одно удовольствие.
Меня нет больше в камере. Я позабыл и о тюрьме-одиночке, и о Сен-Жозефе, и об островах Салю вообще. Я лежу на пляже, перекатываясь с боку на бок, вытираю руки коралловым песком, мелким и белым, словно мука. Потом иду к морю прополоскать рот чистой соленой водой. Складываю ладони лодочкой, набираю воды и умываю лицо. Затем мою шею. Заметил, как отросли на голове волосы. Когда вернется Лали, надо будет попросить ее, чтобы она их сзади подровняла. Всю эту ночь я провел в кругу своего племени. Прямо на берегу снял с Сораймы набедренную повязку, и под горячим солнцем при дуновении ласкового ветерка мы предались любви. Она чувственно постанывала, как это делала всегда, получая удовольствие. Наверное, ветер домчал до Лали музыку наших объятий. Во всяком случае, она видела нас достаточно ясно и поняла, чем мы могли заниматься в подобной позе, которую невозможно ни с чем иным спутать. Вот ее лодка уже спешит к нам и пристает к берегу. Лали мягко выпрыгивает из нее, улыбаясь. На ходу она расплетает косы и длинными пальцами расчесывает мокрые волосы. Ветер и солнце почти уже высушили их. Я подхожу к ней. Она кладет свою правую руку мне на пояс и начинает подталкивать меня к деревне, к нашей хижине. По дороге с пляжа она несколько раз принималась объяснять мне, что ей тоже хочется, очень-очень. Войдя в дом она бросила меня на гамак, сложенный на земле в виде одеяла, и, растворившись в ней, я забыл о существовании мира. Сорайма достаточно умна, чтобы нам не мешать. Она прикидывает в уме, когда наши игры могут закончиться, и только тогда она войдет в дом.
Сорайма пришла, а мы с Лали, еще голые, разбитые от любви, продолжаем лежать на гамаке. Сорайма присела рядом с нами, ласково потрепала сестру ладонью по щекам, несколько раз повторив одну фразу, которая, по всей видимости, означала: «У, жадина Лали!» Затем целомудренно, с чувством стыдливой нежности, она надела нам набедренные повязки. Всю ночь я провел с гуахира. Совершенно не спал. Я даже не ложился, чтобы, закрыв глаза, наблюдать за пережитыми сценами из-под опущенных век. Эта бесконечная ходьба взад и вперед ввела меня, без всяких усилий с моей стороны, в состояние гипноза, который и позволил мне пережить еще раз тот великолепный день, имевший место шесть месяцев тому назад.
Погас электрический свет, и можно было видеть, как наступающий рассвет вливается в мрак моей камеры. Раздался свисток. Послышался стук поднимающихся коек, я даже различил, как сосед справа закрепляет свою кольцом на стене. Сосед раскашлялся. Слышался плеск воды. Интересно, как здесь умываются?
– Месье инспектор, а как здесь умываются?
– Заключенный, незнание не освобождает от наказания. Но на первый раз я вас прощаю. Здесь строго запрещено разговаривать с надзирателем, находящимся при исполнении служебных обязанностей. Нарушение данного распоряжения ведет к суровому наказанию. А умываются так: встаньте над горшком, возьмите кувшин в одну руку и поливайте из него, а другой рукой умывайтесь. Разве вы не разворачивали одеяло?
– Нет.
– Тогда разверните – там найдете холщовое полотенце.
Вы можете себе представить? Запрещено разговаривать с тем, кто при исполнении. А если есть на то причина? А если заболел и страдаешь от дикой боли? А если умираешь? Сердце, аппендицит, смертельный приступ астмы? Запрещено просить о помощи, даже когда умираешь? Верх идиотизма! Нет, не совсем так. Скорее, это естественно. Это продумано. Чуточку в иных условиях было бы проще простого поднять шум, когда ты дошел до точки и сдали нервы. Мучает потребность слышать голоса, потребность в общении, чтобы с тобой говорили, пусть даже в такой форме: «Сдохни, но замолчи». Двадцать раз на день десяток-другой узников из двухсот пятидесяти наверняка ломают себе голову, как разрядить накопившееся зло, как найти предохранительный клапан, стравливающий давление.
Кому пришла в голову идея понастроить эти звериные клетки? Конечно, не психиатру: ни один врач не может опуститься так низко. Опять-таки не врач выдумал такие правила. Только архитектор-строитель да функционер системы могли соорудить подобное учреждение. Оба продумали до мелочей условия отбывания наказания. Они оба – отвратительные чудовища, мерзкие и злые психологи, полные садистской ненависти к заключенным.
Черная дыра – карцер центральной тюрьмы Болье вблизи Кана хоть и глубок – два этажа под землей, – но даже в этом случае эхо пыток и плохого обращения с узниками нет-нет да и долетает до остального мира. Об этом говорит хотя бы такой факт: когда с меня снимали наручники с зажимными наперстками для больших пальцев, на лицах надзирателей был написан страх, как бы чего не вышло, как бы не попасть в неприятную историю.
А здесь, в тюрьме-одиночке каторжной колонии, куда имели доступ только служащие ведомства, они могли творить все, что угодно. И все сходило им с рук.
Клак, клак, клак – открываются окошки всех камер. Я подошел к своему и рискнул выглянуть, затем высунулся побольше и вот уже всей головой торчу в коридоре. Слева, справа от меня ряды голов. Сразу понял, что в момент открытия окошек из каждой камеры тут же выныривает голова. Сосед справа посмотрел на меня. Но его взгляд абсолютно ничего не выражает. Несомненно, отупел от мастурбации. Лицо идиота, бледное и грязное. Сосед слева быстро спросил:
– Сколько?
– Два.
– Четыре. Один уже отбарабанил. Как зовут?
– Папийон.
– Жорж. Жожо из Оверни. Где повязали?
– В Париже. А тебя?
Он не успел ответить. Шла раздача кофе и хлеба уже за две камеры от нас. Он втянул голову в окошко, так же поступил и я. Я выставил кружку, в которую плюхнули кофе. К нему выдали положенную пайку хлеба. С хлебом я немного замешкался; упавшая вниз оконная железная шторка сбросила пайку на пол. Через четверть часа все стихло. Раздача, должно быть, идет по двум коридорам одновременно. Иначе не объяснишь, почему так быстро управились с завтраком. В полдень суп с кусочком мяса. Вечером чечевичная каша. За два года меню ни разу не менялось, за исключением вечернего приема пищи, когда иной раз выдавали бобы, горох, фасоль или рис. Полдничали всегда одним и тем же.
Через каждые две недели приходит свой брат-парикмахер. Ты выставляешь ему в окошку бороду, и он проходится по ней машинкой для стрижки волос.
Сижу уже три дня. А на уме только одно: друзья с Руаяля обещали прислать курево и поесть. Не получал еще ни того ни другого. И сам при этом удивляюсь, как им удастся совершить такое чудо. Поэтому не очень-то сетую, что ничего еще не получил. Курение здесь, должно быть, опасная штука. Однако и роскошь! Пожрать – другое дело; поскольку что это за суп? Горячая водичка с ошметками зелени да кусочком вареного мяса не более ста граммов. Еда, еда – вот что важно. По сути, и вечером одна вода, в которой гоняются друг за другом несколько фасолин или что-то из овощей. Честно говоря, я не столько подозревал администрацию в жульничестве с рационом, сколько самих заключенных, занятых на кухне и на раздаче пищи. И в этом вскоре убедился, когда один парень из Марселя, ведавший вечерней раздачей, запустил черпак поглубже и выдал мне порцию со дна бачка. Каждый раз, когда он заступал на дежурство, в моей миске овощей было больше, чем воды. С другими раздатчиками получалось все наоборот. Они немного помешают для видимости, а черпаком-то берут с самого верха – он у них никак не желает достать до дна! И что же в миске? Жижи много, а гущи нет! Недостаточное питание очень опасно. Откуда взяться силе воли в отощавшем теле?
Мели коридор. Мне показалось, что метла задержалась напротив моей камеры дольше обычного. Вот ее прутья снова и снова с шумом и свистом хлещут и царапают. Я присмотрелся повнимательней и заметил белый клочок бумаги, застрявший в щели под дверью. Я сразу же сообразил, что он предназначается мне, но его не удается протолкнуть дальше. Уборщик ждет, пока я его вытащу, чтобы уйти и продолжить работу в другом месте. Я вытащил бумагу и развернул ее. Это была записка, написанная фосфоресцентными чернилами. Выждав, когда пройдет багор, я быстро прочитал: «Папи, с завтрашнего дня ты будешь получать в параше по пять сигарет и по кокосовому ореху. Прожевывай орех хорошенько, если хочешь, чтобы он пошел тебе на пользу. Глотай разжеванную мякоть. Кури утром, когда выносят параши. Никогда этого не делай после утреннего кофе . В полдень – сразу же, как управишься с супом. И после ужина. Посылаем карандашный грифель и бумагу. В чем будешь нуждаться – напиши. Когда уборщик будет мести около твоей двери, поскреби по ней пальцами. Если он поскребет в ответ, тогда подсовывай записку под дверь. Не передавай записку без ответного сигнала. Спрячь бумагу в ухо, чтобы не доставать гильзу, а грифель где-нибудь у стены. Мужайся. Обнимаем. Игнас, Луи».
Это послание от Гальгани и Дега. Горячая волна переживаний захлестнула все мое существо: от одной мысли, что у тебя такие верные и преданные друзья, становится тепло. Теперь по камере шагается и легче, и веселее: прибавилось надежды и веры на будущее, выросла уверенность, что удастся вырваться живым из этой могилы. Повышенное настроение тут же передалось ногам: раз, два, три, четыре, пять, кру-гом и так далее. Ходил по камере и думал: «У этих ребят благородное сердце и возвышенная потребность творить добро. Они здорово рискуют, прежде всего своим положением учетчика и почтаря. Они оказывают мне поистине грандиозную услугу, подвергая себя неимоверным опасностям. Все это им влетает в копеечку – скольких надо подкупить, чтобы добраться от Руаяля до моей камеры в тюрьме „Людоедке“».
Читателю, должно быть, известно, что сухой кокосовый орех полон масла. Белая затвердевшая мякоть настолько богата им, что, если растереть шесть орехов и залить их горячей водой, на следующий день можно сверху собрать до литра масла. Оно крайне необходимо для поддержания нормального состояния организма в условиях сурового тюремного режима. Кроме того, орех просто напичкан витаминами. Для сохранения здоровья достаточно одного ореха в день. Во всяком случае, есть гарантия, что не произойдет обезвоживания организма и не наступит смерть от истощения. Прошло уже два месяца, как я без всяких осложнений получаю еду и курево. Курю с осторожностью краснокожего из племени сиу: затягиваюсь глубоко, а дым выпускаю помаленьку, разгоняя его при этом правой рукой.
Вчера случилось курьезное происшествие. Правильно или неправильно я поступил – не знаю. Караульный остановился около моей камеры, облокотился на ограждение и посмотрел на меня. Затем он зажег сигарету, сделал несколько затяжек, обронил сигарету к моим ногам и двинулся дальше. Я выждал момент, когда он возвращался, и демонстративно у него на глазах раздавил сигарету ногой. Он приостановился на какое-то мгновение, как бы размышляя над моим поступком, и ускорил шаг. Что это? Жалость ко мне? Стыд за администрацию, к которой он и сам принадлежал? А может, ловушка? Не знаю. До сих пор воспоминания об этом случае угнетают меня. Когда человек страдает, его подозрительность обостряется сверх меры. Я не хотел своим презрительным жестом обидеть стражника, если в тот раз у него и в самом деле проснулись ко мне человеческие чувства.Я в камере уже больше двух месяцев. Эта тюрьма, по моим понятиям, являлась единственной в своем роде, где нечему было научиться. Потому что не за что было взяться. Зато искусством раздвоения и совершения астральных полетов я овладел превосходно. Усвоенная тактика действовала безотказно. Сначала измотать себя, измотать до полного изнеможения, и затем умчаться к звездам. Без всякого труда, сами собой передо мной оживают картины из моей прошлой, полной приключений жизни: побег с каторги, детство и бесконечные воздушные замки. Какая-то сверхреальность, расцвеченная сверхкрасками. А что для этого надо сделать? Сначала ходить, ходить и ходить! Часами ходить без передышки, без остановок и ни на минуточку не присесть! И ни о чем не думать серьезном, а так, как обычно, о разных пустяках! Затем, дойдя до крайности, бросаешься на откидной топчан, ложишься на одну половинку одеяла, а другой половинкой накрываешься с головой. Разреженный воздух камеры с трудом начинает проникать через материю, обволакивая рот, нос и горло. Я начинаю задыхаться, сдавливает грудь, голова горит. Все немеет от жары и недостатка воздуха, и вдруг – раз, и я вылетаю из тела.
О, какие неописуемые путешествия совершал мой дух, какие чувства испытывал я во время этих полетов! Ночи любви более пылкой и трогательной, нежели на свободе; ночи более богатые ощущениями, чем те – из прожитых будней. Да! Что за силища несла меня через пространство и время! Она позволяла мне присесть рядом с матерью, умершей семнадцать лет тому назад. Я играл ее платьем, а она ласкала мои длинные кудрявые волосы, которые к пяти годам отросли настолько, что я стал похож на девочку. Я гладил тонкие и трепетные пальцы матери, кожа которых напоминала мягкий шелк. Вот мы с ней на прогулке. Идем вдоль речки, где купаются взрослые ребята. Они ныряют с разбега с высокой отвесной кручи. Мать весело смеется над моим дерзким желанием нырнуть так же, как они. Я решительно настроен и прошу ее позволить мне это сделать. Ее веселое настроение передается и мне. Мне становится смешно. Мы смеемся вместе. В памяти оживают до мельчайших подробностей ее прическа, нежная привязанность ко мне в ее светлых и лучистых глазах, незабываемый нежный голос: «Рири́, родной, будь славным мальчиком, будь таким славным, чтобы мама тебя любила. Когда подрастешь, ты сможешь нырять с самого высокого берега. Даже выше, чем этот. А сейчас ты еще маленький, дорогой. Но скоро, очень скоро ты вырастешь и станешь большим мальчиком». И, взявшись за руки, мы по берегу возвращаемся домой. И вот мы дома, в уютном домике моего детства. Мне так с ней хорошо и тепло, что я прикрываю своей ладонью ее глаза, чтобы она не занималась музыкой, а поиграла со мной чуть подольше. Все как есть наяву – это не просто воображение. Мое детство, моя мама. Я стою на стуле позади вращающегося табурета, на котором она сидит, и крепко-крепко закрываю большие глаза ее своими маленькими детскими ладонями. Ее проворные пальцы пробегают по клавишам пианино, и я слушаю музыку «Веселой вдовы» от начала и до конца.
Никто – ни безжалостный прокурор, ни полиция со своими темными делами, ни пройдоха Полен, купивший себе свободу ценой состряпанных показаний, ни двенадцать вонючих ублюдков, позволивших себя одурачить и принявших сторону обвинения с такой легкостью, как будто прокурор зашорил им глаза, ни местные багры, достойные помощники тюрьмы «Людоедки», – абсолютно никто и ничто, даже эти толстые стены или удаленность острова, затерянного в Атлантическом океане, – не могли помешать мне отправляться в удивительно красочные звездные полеты.
При разработке временного графика, в рамках которого мне предстоит провести наедине с собой в камере-одиночке два года, я не учел очень существенного фактора: я говорил о часах как о единице времени. В этом и заключалась моя ошибка. Наступают моменты, когда время измеряется в минутах. Например, опорожнение параш следует за раздачей кофе и хлеба примерно через час. Вот тогда-то в пустом горшке я и получал свои пять сигарет, кокосовый орех, а иногда и записку, написанную фосфоресцентными чернилами. В этот промежуток времени я считал минуты. Не всегда, но довольно часто. Делать это было легко, поскольку каждый мой шаг был выверен и длился секунду. Шагая взад и вперед, подобно маятнику, я в уме отмечал каждый поворот: «Раз!» При счете «двенадцать» получалась минута. Однако, прошу вас, не поймите меня так, что я только и думал о том, как бы получить свой кокосовый орех (хотя, конечно, орех для меня был равноценен жизни) или сигареты, чтобы иметь удовольствие покурить десять раз в течение двадцати четырех часов в этой могиле. Заметьте, я каждую сигарету растягивал на два раза. Нет, иногда при раздаче кофе меня охватывало какое-то беспокойство. Без всяких видимых причин мне вдруг начинало казаться, что с теми людьми, которые мне так щедро помогали с риском для собственного покоя и благополучия, случилась беда. Поэтому я ждал в жутком волнении и успокаивался только тогда, когда видел в ночном горшке свой орех. Вот он, желанный, значит и с ними все в порядке.
Медленно, очень медленно тянулись часы, дни, недели, месяцы. Сижу уже почти год. Точнее, одиннадцать месяцев и двадцать дней. За это время ни с кем не удавалось разговаривать больше сорока секунд. И то не членораздельно, а скороговоркой – что-то пробормотал, и конец! Хотя один раз поговорить пришлось, и громким голосом. Я простудился и сильно кашлял. Мне показалось, что этого достаточно, чтобы попасть на прием к врачу. Я заявил о своей болезни.
Появился врач. К моему великому изумлению, открылось дверное окошко, и в нем появилась голова.
– Что случилось? На что жалуетесь? Легкие? Повернитесь. Покашляйте.
Боже мой! Что это – шутка? И все же это суровая правда, без всяких прикрас. Оказывается, в штате колониальной службы имелся врач, который соглашался провести осмотр через окошко камеры. Ты, стоя в метре от него, должен повернуться, а он, приставив ухо к дырке, послушает твою грудь. Затем он сказал:
– Просуньте руку.
Я машинально чуть было не сделал этого, меня удержало чувство некоторого самоуважения. Я ответил этому довольно любопытному медику:
– Спасибо, доктор, не волнуйтесь. Не о чем беспокоиться.
По крайней мере, у меня хватило характера дать ему понять, что его осмотр я всерьез не воспринимаю, а у него хватило цинизма равнодушно ответить:
– Как хочешь.
И он ушел. И хорошо сделал, потому что я уже кипел и готов был взорваться от негодования.
Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом. Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом. Без устали туда и обратно. Без остановок. Сегодня я хожу объятый яростью, ноги напряжены, а обычно они расслаблены. Похоже, мне надо что-то растоптать, раздавить ногами после того, что сейчас произошло. Что бы такое мне растоптать? Под ногами лишь цементный пол! Нет-нет, тут многое найдется, что можно растоптать. И я топтал отвратительную бесхребетность медика, пошедшего на поводу у властей. Топтал полное безразличие одних людей к страданиям и горю других. Топтал невежество французской нации, безразличие с ее стороны к судьбе живого груза, отправляемого каждые два года из Сен-Мартен-де-Ре невесть куда. Топтал журналистскую братию, отрабатывавшую свой хлеб на криминальной хронике: напишут скандальную статью о человеке по поводу совершенного преступления, а через несколько месяцев даже и не вспомнят о его существовании. Топтал католических священников, хорошо осведомленных через исповедь о делах, творящихся в исправительных колониях Франции, но помалкивающих в тряпочку. Топтал судебную систему, превращенную в состязание по красноречию между обвинителем и защитником. Я топтал организацию под громким названием «Лига прав человека и гражданина», которая ни разу не выступила по этому поводу и не заявила: «Прекратите убивать людей, не приговоренных к гильотине; упраздните массовый садизм среди служащих тюремного ведомства». Я топтал тот факт, что ни одна организация или ассоциация не адресовала свой запрос высшим правительственным кругам этой системы, чтобы выяснить, как и почему исчезает восемьдесят процентов людей, отправляемых каждые два года в исправительные колонии. Топтал официальные свидетельства о смерти, подписанные врачами: самоубийство, общий упадок сил, смерть в результате длительного недоедания, цинга, туберкулез, буйное помешательство, одряхление по старости. Что же я топтал еще? Не знаю, но, во всяком случае, после того, что только что произошло, я определенно ходил необычно – что-нибудь да давил на каждом шагу.
Раз, два, три, четыре, пять… и усталость от медленно идущего времени успокоила мой немой мятеж. Еще десять дней – и пройдет половина срока одиночного заключения. Эту годовщину следует отметить. Хоть я и сильно простужен, но вполне здоров. С ума не сошел и далек от помешательства. Уверен на сто процентов, что к концу следующего года выйду отсюда живым и в здравом рассудке.
Меня разбудили приглушенные голоса. Кто-то сказал:
– Да он превратился в мумию, месье Дюран. Как же вы раньше-то не заметили?
– Не знаю, шеф. Он повесился в углу под самым мостиком. Уж сколько раз я тут проходил и ничего не замечал.
– Не важно, сколько раз вы здесь проходили. Но, согласитесь, как-то странно, что вы ничего не заметили.
Мой сосед слева покончил с собой. Это все, что я понял. Его унесли. Дверь закрыли. Порядок был строго соблюден. Дверь открыли и закрыли в присутствии высокого начальства, в данном случае самого начальника тюрьмы. Я его узнал по голосу. За десять недель уже пятый исчезает подле меня.
Пришла годовщина. В параше я нашел банку сгущенного молока. Мои друзья, должно быть, посходили с ума: такая банка стоит бешеных денег да плюс серьезный риск, чтобы мне ее передать. Для меня этот день был триумфом над враждебными силами. Дал себе слово не улетучиваться из этой камеры в небытие, а выйти живым. Здесь тюрьма-одиночка. Я уже год в ней и убегу хоть завтра, если подвернется случай. У меня хватит на это сил. Это надо записать в мой актив, которым не грех и гордиться.
После полудня – небывалый случай! – уборщик принес мне весточку от друзей! «Мужайся. Остался еще год. Знаем, что ты жив и здоров. У нас все в порядке. Обнимаем. Луи, Игнас. Если сможешь, черкни нам пару строк и перешли сразу же с передавшим эту записку».
На клочке бумаги, который был вложен в записку, я написал: «Спасибо за все. Силенок хватает. Благодаря вам надеюсь выйти таким же через год. Дайте знать, если сможете, о Клузио и Матюрете». А вот уже уборщик скребется в мою дверь. Я быстро просунул записку в щель, и она тут же исчезла. Весь этот день и часть вечера я стоял твердо на ногах, во всеоружии, готовый сражаться – в общем, был таким, каким я сам себя настраивал быть всегда. Через год меня ушлют на один из островов. Руаяль или Сен-Жозеф? Наговорюсь от души, накурюсь до чертиков и сразу за дело: бежать, бежать!
На следующий день я разменял первый из оставшихся трехсот шестидесяти пяти. Я был счастлив. Восемь месяцев все шло хорошо, но на девятый случилась беда. Утром при опорожнении параш человека, принесшего мне кокосовый орех, застукали. Взяли, что называется, с поличным. Он уже вдвигал горшок в мою камеру, а в нем орех и пять сигарет.
Инцидент был настолько серьезен, что даже на несколько минут забыли о правиле соблюдать тишину. Было слышно, как избивали несчастного. Раздался крик смертельно раненного человека. Распахнулось окошко, и искаженная от ярости морда стражника злобно проорала:
– Погоди, ты еще за все заплатишь!
– В любое время, пидер, – ответил я, готовый взорваться от того, как обходились с несчастным малым.
Это произошло в семь утра. И только в одиннадцать ко мне заявилась целая ватага подонков во главе с заместителем начальника тюрьмы. Они распахнули дверь, которая захлопнулась за мной двадцать месяцев назад и ни разу с тех пор не открывалась. Я стоял у задней стены камеры, сжимая в руке кружку. Приготовился к защите. Решил бить больно и серьезно по двум причинам: первая – чтобы стражники не избили меня безнаказанно и не уволокли избитого, вторая – побыстрее уйти в состояние нокаута. Ничего подобного не случилось.
– Заключенный, на выход.
– Вы хотите избить меня в коридоре, накинувшись со всех сторон? Делайте это здесь, мне будет легче защищаться. Первому, кто меня тронет, разобью морду в кровь.
– Никто не собирается бить вас, Шарьер.
– Кто может поручиться?
– Я, заместитель начальника тюрьмы.
– Вам можно доверять?
– Не оскорбляйте меня, это бесполезно. Слово чести, бить вас не будут. Я вам это обещаю. Выходите.
Я все еще сжимаю в руке кружку.
– Вы можете взять ее с собой, но она вам не понадобится.
– Ладно.
Я вышел из камеры и в сопровождении заместителя начальника тюрьмы и шестерых надзирателей двинулся вдоль по коридору. Едва ступил во двор, как закружилась голова, и глаза сами закрылись от кинжально-яркого света. Наконец понял, что нахожусь в небольшом здании, где нас принимали раньше. Там была еще дюжина стражников. Меня не втолкнули, а ввели в зал администрации. На полу, весь в крови, лежал человек и стонал. Часы на стене показывали одиннадцать. «Значит, пытали четыре часа», – подумал я. Начальник сидел за письменным столом, заместитель сел рядом.
– Шарьер, как долго вы получали пищу и сигареты?
– Должно быть, он вам уже сказал.
– Я спрашиваю вас.
– У меня провал памяти. Я не помню, что было вчера.
– Изволите шутить?
– Нет. Удивляюсь, разве это не записано в моем деле? Меня ударили по голове и отшибли память.
Начальник был настолько ошарашен моим ответом, что не нашел ничего лучшего, как сказать:
– Запросите Руаяль, имеется ли в досье подобная запись.
Пока звонили, он продолжал:
– Но вы помните, что вас зовут Шарьер?
– О да. – И скороговоркой, чтобы разыграть его еще больше, я выпалил, как автомат: – Зовут Шарьер. Родился в тысяча девятьсот шестом году в Ардеше. Приговорен к пожизненному заключению. Париж. Сена.
Глаза его округлились до размеров блюдца. Было видно, что я его потряс.
– Вы получали утром кофе и хлеб?
– Да.
– А вчера вечером какие овощи вам давали?
– Не знаю.
– Выходит, как вы говорите, у вас начисто отшибло память?
– Что было – ничего не помню. Например, знаю, что вы меня принимали в прошлый раз. Когда? Не могу сказать.
– Значит, вы не знаете, сколько вам осталось от срока?
– Пожизненно. Надо думать, пока не умру.
– Нет, речь не об этом. В одиночке?
– Меня посадили в одиночку? За что?
– Хватит. Всему есть предел. Богом прошу, не выводи меня из себя. Уж не хочешь ли ты сказать, что не помнишь, что отбываешь два года за побег? Хватит.
Но я убил его наповал:
– Какой побег? Я? Да что вы, начальник! Я серьезный человек и отвечаю за свои поступки. Пойдемте со мной в мою камеру и посмотрим, убежал я или нет.
В этот момент вмешался офицер:
– Руаяль на проводе, месье.
Начальник взял телефонную трубку.
– Ничего? Странно. Он заявляет, что у него амнезия. Отчего? Удар по голове… Так. Понимаю. Симулирует. Выясним. Простите за беспокойство, шеф. Проверю. До свидания. Дам вам знать. – Теперь ко мне: – А ну-ка, покажи голову, комедиант. Действительно шрам. И большой. А как же ты помнишь, что после этого удара ты потерял память? Что скажешь?
– Не могу объяснить. Помню только удар и что зовут Шарьер. И еще кое-что, но не много.
– Куда вас заносит, когда все уже сказано и сделано?
– Это – вопрос? Вы спрашиваете, давно ли я получаю пищу и сигареты. А я вам отвечаю, что решительно ничего не помню. Может, первый раз, а может, и тысячный. Что стряслось с памятью – не могу сказать. Это все. Делайте, что хотите.
– Что хочу, это проще простого. Ты жрал, как боров, все это время. Придется похудеть. Лишаешься ужина до конца срока.
В тот же день я получил записку через второго уборщика. К сожалению, не смог ее прочитать, поскольку она была написана простыми чернилами. Ночью зажег сигарету, оставшуюся от вчерашнего дня, которую я спрятал под топчаном так удачно, что ее не обнаружили во время шмона. Поднеся записку ближе к огоньку сигареты, я с трудом разобрал: «Уборщик не проболтался. Он сказал, что принес тебе поесть только второй раз. Он вызвался помогать тебе добровольно, поскольку знал тебя во Франции. Никто на Руаяле не пострадает. Мужайся».
Вот так я лишился кокосового ореха, сигарет и вестей от друзей с Руаяля. С ужином тоже покончено. А я ведь привык не голодать, да и десять перекуров скрашивали дни и часть вечеров. Я думал не только о себе, но и о том несчастном малом, избитом до полусмерти. Надо надеяться, что он не понесет сурового наказания.
Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом… Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом. Не так-то легко будет сесть на голодную диету. Как выдержать? Может быть, по этой причине надо менять тактику? Например, лежать как можно больше, чтобы не растрачивать энергию. Меньше двигаешься – меньше сжигаешь калорий. Днем часами будешь сидеть. Совсем другая жизнь, значит надо учиться жить по-другому. Четыре месяца – это сто двадцать дней. На предписанной диете через сколько же дней я ослабею? По крайней мере два месяца продержусь. Значит, останется два самых критических. Если основательно ослабею, ко мне тут же пристанут все болезни. Решил лежать с шести вечера и до шести утра. Буду ходить после кофе и чистки горшков, скажем, два часа. В полдень, после обеда, еще примерно два часа. Итак, получается четыре часа. А остальное время буду сидеть или лежать.
Трудно будет совершать астральные полеты без доведения себя до физического изнеможения. Однако буду стараться их продолжать.
Сегодня, после долгих раздумий о судьбе моих друзей и того несчастного малого, подвергшегося из-за меня такому скотскому истязанию, я решил следовать новому распорядку дня. Получилось неплохо, только время потекло медленнее, да ноги, привыкшие уже к усиленной ходьбе, горели, как от муравьиных укусов, и требовали движения.
Уже десять дней я подчиняюсь этому режиму. Круглосуточно ощущаю голод. Постоянно чувствую усталость. Страшно не хватает кокосового ореха, чуть меньше – сигарет. Ложусь очень рано и как можно скорее «вылетаю из камеры». Вчера я побывал в Париже в ресторанчике «У мертвой крысы» и пил шампанское с друзьями. Среди них был и Антонио Лондонец, испанец родом с Балеарских островов, но говоривший по-французски, как парижанин, и по-английски, как истинный англичанин. На следующий день в кабачке «У каштана» на бульваре Клиши он всадил пять пуль в одного из своих друзей. В преступном мире такое происходит часто, когда сердечная дружба неожиданно перерастает в смертельную ненависть. Да, вчера я был в Париже и танцевал под аккордеон в «Малом саду» на авеню Сент-Уан, где посетители были в основном с Корсики или из Марселя. Все друзья прошли перед моими глазами в этом мнимом путешествии с таким убедительным правдоподобием, что я нисколько не сомневался в их присутствии, а тем более в своем присутствии во всех тех местах, где веселилась ночная публика.
Итак, через очень скудную диету, даже при сокращенных нагрузках на ноги, я достиг того же результата, какого обычно добивался через физическую усталость. Образы прошлого с такой силой вырывали меня из камеры, что я в действительности провел больше времени как свободный человек, нежели как узник в одиночке.
Остался только один месяц. За последние три ел всего ничего: утром получал пайку хлеба да в полдень горячий жидкий суп с ошметком вареного мяса. Я постоянно был голоден и каждый раз начинал обед с тщательного изучения злополучного кусочка мяса, чтобы удостовериться, что это все-таки мясо, а не просто мясная кожица. Впрочем, чаще всего так оно и было.
Я сильно потерял в весе и понял, насколько важен был для меня кокосовый орех для поддержания здоровья и сохранения рассудка в этом ужасном состоянии изоляции от жизни. Мне повезло, что в течение двадцати месяцев я получал кокосовые орехи.
Сегодня утром у меня сдали нервы: за кофе я съел полпайки хлеба, чего раньше почти не позволял себе. Обычно я разламывал пайку на четыре примерно равные части и ел в шесть, в полдень, еще раз в шесть и, растягивая понемногу, ночью. «Почему ты это сделал? – ворчал я на себя. – Неужели сейчас, когда уже виден конец, ты готов рухнуть, как старая развалина?» – «Ты голоден, и у тебя нет сил». – «Не притворяйся. А вот так жрать – ты думаешь, их наберешься? Ты ослабел, это верно, но ты же не болен – в этом-то и заключается главная твоя победа. Логически рассуждая, ты выиграл, с некоторой долей везения, партию у „Людоедки“». После двухчасовой «прогулки» по камере сижу на бетонной тумбе, которая служит мне стулом, и размышляю. Еще тридцать дней, или семьсот двадцать часов, и дверь камеры откроется и мне скажут: «Заключенный Шарьер, выходите. Вы отбыли свой двухгодичный срок одиночного заключения». А что скажу я? А вот что: «Да, закончилась наконец моя двухлетняя голгофа». Тихо, не спеши! А если это будет начальник тюрьмы, перед которым ты разыгрывал дурочку с провалом памяти? Ты продолжишь совершенно спокойно: «Как, разве меня простили? Мне можно ехать во Францию? Пожизненное заключение закончилось?» Стоит посмотреть, как вытянется у него физиономия, когда он убедится, что совершенно несправедливо приговорил тебя к воздержанию от пищи. «Слушай, дружище, да что с тобой? Справедливо, несправедливо – начальнику наплевать и растереть! Ты, пожалуй, не дождешься от него признания своей ошибки. Подумаешь, важность какая, при его-то умственных способностях! Ведь не дурак же ты, чтобы поверить, что этого типа могут замучить угрызения совести из-за несправедливо наложенного наказания. И думать забудь, что тюремщик может быть нормальным человеком. Ни один уважающий себя человек не пойдет к ним служить. Хотя кое-кто умеет приспособиться ко всему, даже быть мерзавцем всю свою жизнь. Может быть, ближе к могиле, и только тогда, из страха перед Богом (если верующий), он вострепещет и раскается. И то не из-за своих подлых дел, вызвавших угрызения совести, а из чувства животного страха перед Всевышним, кто, в свою очередь, может спустить его в преисподнюю. Так что, когда выйдешь отсюда и попадешь на какой-нибудь из островов – не важно какой, – не имей никаких дел с этим крапивным семенем. Каждый из нас занимает свое место с той или другой стороны невидимой стены. По одну сторону – жалкое убожество, мелкое и бессердечное начальство, патологический, вошедший в привычку садизм. По другую – я и мне подобные, совершившие, правда, серьезные преступления, но у которых через страдания открылись замечательные черты: доброта, самопожертвование, сострадание, великодушие, мужество. Говорю со всей искренностью: я предпочту быть узником, чем тюремщиком.
Осталось двадцать дней. Я очень ослабел. Заметил, что пайка хлеба с каждым днем уменьшалась. Что за подлая душа готовила для меня особую пайку, отбирая последние крохи? И суп превратился в пустую горячую водичку с голой костью или жилой. Я стал опасаться, что заболею. Эта мысль преследовала меня как наваждение. Я настолько ослаб, что рассудок мой непроизвольно блуждал бог весть в каких видениях. При этом я не спал, а лежал с широко открытыми глазами. Глубокое изнеможение и сопутствующая ему депрессия сильно волновали меня. Я сопротивлялся, и мне с трудом удавалось не сломаться каждые очередные двадцать четыре часа. Но с каким трудом!
В дверь поскреблись. Я выхватил записку, написанную фосфоресцентными чернилами. От Дега и Гальгани. «Пришли строчку. Очень обеспокоены твоим здоровьем. Осталось девятнадцать дней. Мужайся. Луи, Игнас».
В записке клочок чистой бумаги и грифель. Я написал. «Креплюсь. Очень ослаб. Спасибо. Папи». Когда уборщик снова поцарапал в дверь, я выбросил ему записку. Ни сигарет, ни кокосового ореха. Зато записка стоила и того и другого. Знак удивительной продолжительной дружбы оказался для меня необходимой и своевременной поддержкой. Они там знают, в каком состоянии я нахожусь. Если заболею, то наверняка добьются вызова ко мне врача. Они правы: осталось только девятнадцать дней. Я приближаюсь к финишу этой изнурительной гонки, в которой состязаюсь со смертью и безумием. Мне нельзя болеть. Что мешает мне поменьше двигаться, чтобы сберечь столь нужные калории для поддержания организма? Перестану ходить утром и в полдень и выиграю два раза по два часа. Это единственный способ продержаться. Решено. Двенадцать часов лежу и двенадцать сижу на тумбе не двигаясь. Время от времени встаю, сгибаю ноги в коленях и делаю движения руками. И снова сажусь. Осталось только десять дней.
Я гулял где-то на Тринидаде, убаюканный жалобными звуками однострунных яванских скрипок, когда истошный человеческий крик опустил меня на землю. Крик шел из соседней камеры или рядом с ней. Я услышал:
– Мерзавец, спускайся ко мне в яму. Ты еще не устал смотреть на меня сверху? Ты же теряешь половину спектакля из-за недостатка света в этой дыре.
– Замолчите или вас сурово накажут! – ответил багор.
– Ха-ха! Рассмешил, хрен собачий. Разве можно придумать что-нибудь похуже этой немоты? Наказывай, если хочешь; бей, если нравится, палач проклятый, но ты не найдешь ничего похожего на тишину, в которой меня так долго держат. Нет, нет и нет! Не хочу, больше не могу жить без слова. Уже три года, как мне следовало тебе сказать: «Дерьмо, грязная скотина». И я, набитый дурак, ждал тридцать шесть месяцев, чтобы сказать, что я о тебе думаю! Боялся наказания! Плевал я на тебя и на все твое племя!
Через несколько минут открылась дверь, и я услышал:
– Не так. Давай сзади – это покрепче.
А бедняга орал:
– Надевай, как хочешь, свою смирительную рубашку! Давай сзади, чтобы задушить! Засупонивай, надави коленом. Это не помешает мне сказать, что надо драть твою мать-потаскуху за то, что принесла такого выродка.
Крик оборвался: наверное, в рот ему забили кляп. Дверь закрылась. Эта сцена, должно быть, разволновала молодого стражника, потому что спустя несколько минут он остановился над моей камерой и сказал:
– Этот малый, видно, спятил.
– Вы думаете? Между прочим, все, что он сказал, не лишено смысла.
Багра задело, – уходя, он бросил в ответ:
– И вы тоже? От вас я этого не ожидал.
Этот случай отрезал меня от Тринидада, где живет столько добрых людей, от скрипки, милых девочек-индусок, Порт-оф-Спейна. Он вернул меня в печальную действительность тюрьмы-одиночки.
Осталось десять дней, или двести сорок часов.
Эти дни проходили намного легче. Либо тактика ограничения движения приносила свои плоды, либо последняя записка и моральная поддержка друзей открывали второе дыхание. А вероятнее всего, я почувствовал себя сильнее от одной мысли, запавшей мне в голову: все познается в сравнении. Мне осталось сидеть в камере-одиночке двести сорок часов. Я ослаб, но сохранил ясность рассудка. Энергия восстановится, как только получит небольшую поддержку со стороны окрепшего физически тела. А в это время за стеной сзади, в двух метрах от меня, один бедолага входит в первую стадию сумасшествия – дверь насилия всегда широко распахнута в мир безумия. Он долго не протянет, поскольку его протест дает возможность властям применить самый богатый арсенал методов пресечения, научно обоснованных и ведущих к непременному убийству. Мне совестно чувствовать себя сильнее на фоне гибели другого.
Я спрашиваю себя, неужели и я сам из тех эгоистов, которые зимой носят добротные ботинки, хорошие перчатки и пальто на меху и наблюдают, как простые люди, плохо одетые, дрожащие от холода, с синими руками от утреннего мороза, идут на работу; наблюдают, как они бегут в метро или на первый автобус, и чувствуют себя еще теплее и уютнее при виде этого стада, и носят свои шубы с большим удовольствием. Все в жизни познается в сравнении. Скажем, мне дали десять лет, а Папийону закатили пожизненно. Верно и другое: мне дали пожизненный срок, но мне двадцать восемь, а ему пятьдесят, хотя дали только пятнадцать.
Все идет к своему логическому концу. И вновь я держу в руке символический трезубец – сила, дух, воля. Я совершу выдающийся побег. О первом только говорят, второй высекут на камне где-нибудь на тюремной стене. Так оно и будет. Не пройдет и полгода.
Последняя ночь в одиночной камере. Прошло семнадцать тысяч пятьсот восемь часов с тех пор, как я вошел в камеру 234. Дверь открывали только однажды, когда уводили меня к начальнику тюрьмы для наказания. Если не считать тех односложных слов, которыми я перекидывался с соседом в течение нескольких секунд каждый день, со мной разговаривали четыре раза. Первый раз в первый же день, когда мне сказали, что откидной топчан можно опускать только по свистку. Потом с врачом: «Повернитесь. Покашляйте». Более живой и длительный разговор у меня получился с начальником тюрьмы. И вот на днях перебросился несколькими словами со стражником, которого так потрясли признаки сумасшествия у бедного парня. Много это или мало – судите сами. Я спокойно лег спать с единственной мыслью: завтра откроют дверь, и все будет хорошо. Завтра я увижу солнце и, если пошлют на Руаяль, буду дышать морским воздухом. Завтра я буду на свободе. Я прыснул. На свободе? Что ты имеешь в виду? Завтра ты официально начинаешь отбывать свой пожизненный каторжный срок. Знаю-знаю! Но разве можно сравнить жизнь в одиночке с той, что предстоит. В каком состоянии сейчас Клузио и Матюрет?
В шесть часов утра мне выдали хлеб и кофе. Меня подмывало сказать: «Я же выхожу сегодня, к чему все это?» Но вовремя спохватился, вспомнив, что у меня провал памяти. Не смей раскрываться и признаваться в том, что ты вешал лапшу на уши начальнику. Кто знает, возьмет да и засадит в карцер еще на тридцать дней. Что бы ни случилось, по закону я должен выйти из одиночной камеры тюрьмы Сен-Жозефа сегодня, 26 июня 1936 года. Через четыре месяца мне исполнится тридцать.
Восемь часов. Съел всю пайку хлеба. В лагере дадут что-нибудь поесть. Открылась дверь. Появились заместитель начальника тюрьмы и два надзирателя.
– Шарьер, вы отбыли свой срок. Сегодня двадцать шестое июня тысяча девятьсот тридцать шестого года. Следуйте за нами.
Я вышел. На дворе уже ярко светило солнце, от которого можно было ослепнуть. Волной накатилась общая слабость. Ноги, словно ватные, с трудом повиновались. Перед глазами расходились черные круги. Идти не более пятидесяти метров, из них только тридцать по солнцу.
На подходе к административному корпусу я увидел Матюрета и Клузио. Матюрет стал кожа да кости, у него впалые щеки, провалившиеся глаза. Клузио лежал на носилках. Он поседел, и от него исходило дыхание смерти. «Что ж, братки, – подумалось мне, – одиночка не красит. Интересно, как выгляжу я?» Мне давно хотелось посмотреть на себя в зеркало. Я сказал:
– Порядок, ребята?
Они не ответили. Я повторил:
– Порядок, ребята?
– Да, – ответил Матюрет.
Я хотел сказать им, что наша одиночка закончилась и нам можно разговаривать. Поцеловал Клузио в щеку. Он посмотрел на меня и улыбнулся:
– Прощай, Папийон.
– Нет. Не говори так!
– Со мной все кончено, амба!
Он умер через несколько дней в больнице на Руаяле. Ему было тридцать два, дали двадцать за кражу велосипедов, которых он не воровал. Но вот и начальник идет.
– Введите. Матюрет и Клузио вели себя хорошо. Поэтому я вношу в дело: «Поведение хорошее». Что касается вас, Шарьер, то вы совершили серьезное преступление. Поэтому в вашем деле сделали запись, какую вы заслужили: «Поведение плохое».
– Простите, начальник, но какое преступление я совершил?
– Вы что, не помните о сигаретах и кокосовом орехе?
– Нет. Честное слово, нет.
– Хорошо. На какой диете вы сидели последние четыре месяца?
– О чем вы говорите? Вы имеете в виду пищу? Получал то же самое, что и в первый день.
– Это уж слишком. Что вы ели вчера вечером?
– Как обычно: что дали, то и съел. Откуда мне знать. Я ничего не помню. Может быть, бобы или жареный рис. А может, и другие овощи.
– Выходит, вы ужинали?
– А как иначе?! Не мог же я выбросить миску, не так ли?
– Конечно. Так нехорошо. Я отменяю решение. Значит, я вычеркиваю «поведение плохое». Месье X, дайте новую справку об освобождении. Я заменяю формулировку: «Поведение хорошее». Идет?
– Это справедливо. Другого я не заслужил.
С этими словами мы оставили кабинет.
Большие ворота тюрьмы-одиночки открылись, чтобы пропустить нас. Мы стали медленно спускаться по дороге, которая вела к лагерю. Нас сопровождал только один стражник. Далеко внизу виднелось море, белопенное и яркое. Напротив остров Руаяль с зелеными деревьями и красными крышами. Остров Дьявола мрачен и суров. Я попросил надзирателя разрешить нам присесть на несколько минут. Он согласился. Мы сели: один – справа от Клузио, другой – слева. И, не сговариваясь, взялись за руки. Этот контакт растрогал нас самым странным образом. Мы молча обнялись.
– Давай, ребята, – сказал стражник. – Надо идти.
И медленно, очень медленно снова пошли вниз к лагерю. Мы с Матюретом шли рядом, по-прежнему держась за руки. А за нами двое носильщиков несли нашего умирающего друга.
Жизнь на Руаяле
Едва мы оказались во дворе лагеря, как нас окружили со всех сторон каторжники, выказывая нам самое дружеское расположение. Узнаю среди них Пьерро Придурка, Жана Сартру́, Колондини, Шиссилья́. Всем нам троим надо идти в медпункт, говорит надзиратель. И в сопровождении человек двадцати мы идем через двор. Через несколько минут передо мной и Матюретом появляется дюжина пакетов: сигареты, табак, лучший шоколад. Перед нами дымится горячий кофе с молоком. Каждый хочет нас чем-то порадовать. В медпункте Клузио сделали укол камфорного масла и еще один адреналина для поддержания сердца. Тощий негр говорит санитару: «Отдай ему мои витамины, ему они больше нужны». Поистине волнующая демонстрация доброй солидарности с нами!
Пьер Бордле спросил меня:
– Деньги нужны? Я успею пустить шляпу по кругу, прежде чем вас отправят на Руаяль.
– Спасибо. У меня есть. А ты уверен, что нас отправят на Руаяль?
– Да, нам это сказал учетчик. Всех троих. Думаю, что там вас положат в больницу.
Санитара зовут Эссари. Он корсиканец, крепкий горец и разбойник первостатейный. Позже я с ним хорошо познакомился и расскажу подробно о его приключениях, весьма интересных. Два часа в амбулатории пролетели очень быстро. Мы наелись и напились. Довольные и счастливые, уезжаем на Руаяль. Клузио лежит с закрытыми глазами. И только тогда, когда я склоняюсь над ним и кладу свою ладонь ему на лоб, он их открывает. Вот и сейчас он открыл глаза, уже подернутые пеленой смерти:
– Друг Папи, мы с тобой настоящие друзья.
– Больше, Клузио. Мы братья.
В сопровождении все того же стражника мы направляемся к берегу. Носилки с Клузио – посередине, мы с Матюретом – по бокам. На выходе из ворот лагеря нас приветствуют узники, желая удачи. Мы их благодарим, они протестуют. Пьерро Придурок повесил мне на шею солдатский провиантский мешок, в нем табак, сигареты, шоколад и банки со сгущенным молоком. У Матюрета тоже такой мешок – он даже не знает, кто ему его дал. До причала нас сопровождают санитар Фернандес и конвоир. Каждому из нас выдают направление в больницу на Руаяле. Я догадываюсь, что нас госпитализируют санитары-каторжники Фернандес и Эссари без консультации врача. Вот и лодка. Шесть гребцов, на корме два конвоира с винтовками и один за рулем. Один из лодочников, Шапар, проходил по делу о марсельской бирже. Мы уже в пути. Весла на воду. Шапар гребет и обращается ко мне:
– Как дела, Папи? Ты все время получал кокосы?
– Нет, последние четыре месяца не получал.
– Знаю. Несчастный случай, а парень все выдержал и никого не заложил. Правда, он знал только меня, но не раскололся.
– Что с ним?
– Умер.
– Как? От чего?
– По словам одного санитара, ему ногами отбили печень.
Выгружаемся на пристани Руаяля, самого большого из островов. Часы на пекарне показывают три. Полуденное солнце печет, оно слепит и жарит меня сверх меры. Стражник вызвал двух носильщиков. Два каторжника крепкого сложения, одетые в безупречно белую одежду с черными ремешками на запястьях, поднимают Клузио, как перышко. Мы с Матюретом идем сзади. За нами шествует надзиратель с бумагами в руке.
Дорога шириной метров сорок вымощена булыжником. Идти трудно. К счастью, носильщики останавливаются время от времени, поджидая нас. Я присаживаюсь на ручку носилок рядом с Клузио, ласково глажу ладонью ему лоб и голову. И каждый раз он открывает глаза, улыбается и говорит:
– Дружище Папи.
Матюрет берет его руку в свою.
– Это ты, малыш? – шепчет Клузио.
Он счастлив, что мы рядом с ним. Во время последней остановки почти на подходе к лагерю нам повстречалась партия каторжников, идущих на работу. Почти все из моего конвоя. Каждый, мимоходом, бросает нам дружеское слово. Взойдя на плато, мы увидели все высокое начальство острова, расположившееся в тени деревьев перед белым зданием-коробкой. Приближаемся к коменданту Барро, по прозвищу Сухой Кокос. С ним и другие старшие начальники лагеря. Продолжая сидеть и не церемонясь, комендант сказал:
– Вижу, что им и одиночка нипочем. Значит, не так уж и трудно. А кто на носилках?
– Клузио.
Он посмотрел и добавил:
– Отправьте всех в больницу. А когда выпишутся, дайте мне знать. Представьте их мне перед отправкой в лагерь.
В больнице нас разместили в большой и светлой палате. Чистые белые койки. Свежие простыни, новые одеяла и белые наволочки на подушках. Первый санитар, которого я здесь встретил, был Шаталь. Вы помните санитара из спецблока в Сен-Лоран-дю-Марони? Он тут же занялся Клузио и потребовал у надзирателя вызвать врача. К пяти часам врач подошел. Я видел, как после долгого и внимательного осмотра он безнадежно покачал головой. Лицо его выражало озабоченность. Он выдал предписание и подошел ко мне. Обращаясь к Шаталю, он сказал:
– А нас с Папийоном добрыми друзьями не назовешь.
– Меня это удивляет, доктор. Он хороший парень.
– Может быть. Но строптивый.
– Что за причина?
– Был я у него с визитом в одиночке.
– Доктор, – вставил я, – и это вы называете визитом? Аускультация через окошко камеры?
– Таково предписание администрации: не открывать дверь в камеру заключенного.
– Допустим, доктор, но вы ведь только приданы администрации и не являетесь ее частью.
– Об этом мы поговорим как-нибудь потом. Я постараюсь поставить вас на ноги. А что касается вашего друга, боюсь, что слишком поздно.
Шаталь поведал мне, что его интернировали на острова по подозрению в подготовке побега. Он также рассказал, что Жезю, тот тип, который обманул меня и нажег с лодкой, убит. Сделал это один прокаженный, имени которого Шаталь не знал. Я спрашивал сам себя, уж не из тех ли прокаженных, которые так щедро помогли мне однажды?
Жизнь каторжников на островах Салю не укладывалась в рамки воображения. Большинство заключенных чрезвычайно опасны. Опасны по многим причинам. Во-первых, едят все хорошо, поскольку здесь можно купить абсолютно все: спиртные напитки, сигареты, кофе, сахар, шоколад, мясо, свежие овощи, рыбу, лангусты, кокосовый орех и прочее. Во-вторых, здоровье у всех отменное из-за благоприятного и здорового климата. Только приговоренные к ограниченным срокам имеют какую-то надежду получить свободу. А осужденные на пожизненную каторгу, люди пропащие, действительно очень опасны. В повседневных сделках все повязаны между собой – и заключенные, и надзиратели. Трудно уловить примерную схему: все так запутано и перемешано. Жены надзирателей среди молодых зэков присматривают для себя работников, которые зачастую становятся их любовниками. Этих помощников по ведению хозяйства называют «мальчиками по дому». Тут и садовники, и повара. Именно через эту категорию ссыльных шла связь между лагерем и поселком, где проживали надзиратели. Другие зэки относятся к «мальчикам» без всякого предубеждения, поскольку благодаря только им и процветает пресловутая торговля. И все-таки их относят к касте «нечистых». Уважающий себя каторжник никогда не согласится выполнять работу подобного рода. Не согласится он быть ни тюремщиком при ключах, ни работником при столовой для надзирателей. Напротив, он, скорее, заплатит большие деньги за место, которое позволяет ему держаться подальше от багров: мусорщика, уборщика, возчика на быках, санитара, тюремного садовника, мясника, пекаря, лодочника, почтаря, смотрителя маяка. Все эти места заняты крутыми ребятами. Крутой мужик никогда не будет надрываться на ремонте стен, дорог или каменных лестниц. Не будет потеть на посадке кокосовых пальм. В общем, не будет вкалывать на солнцепеке и под присмотром багров. Работали с семи до двенадцати и с двух до шести. Со стороны могло показаться, что вся эта пестрая публика живет в мире и согласии в небольшой тихой деревеньке; и заключенные, и надзиратели знают все друг о друге: кто что сказал, кто что сделал – в общем, все как на ладони и никаких секретов.
В воскресенье в больницу пришли Дега и Гальгани, чтобы провести этот день со мной. Мы ели чесночную похлебку с рыбой, картошку, сыр. Пили кофе и белое вино. Сидели в комнате Шаталя: Шаталь, Дега, Гальгани, Матюрет, Гранде и я. Меня попросили рассказать о побеге во всех подробностях. Дега принял решение отказаться от дальнейших планов на побег. Он ожидал из Франции пятилетней скидки. Отсидев там три и здесь столько же, он рассчитывал, что ему осталось четыре года. Он смирился с последним сроком. Гальгани сказал, что о нем хлопочет корсиканский сенатор.
Наступила моя очередь высказаться по этому поводу. Я попросил их изложить свои соображения насчет тех мест, откуда легче всего бежать, чем вызвал всеобщее возбуждение. Ни Дега, ни Гальгани даже не думали об этом. По мнению Шаталя, подходящим местом был сад, где можно приготовить плот. Гранде сказал, что он работает кузнецом в местных мастерских. У них были там маляры, плотники, слесари, каменщики, сантехники – всего около ста двадцати человек. Они обслуживают административные здания. Дега уже главный бухгалтер, и он устроит меня на любую работу, какую только захочу. Выбор за мной. Гранде предложил мне свои полставки распорядителя игорного стола. Сбор с игроков позволит мне жить прилично, и не надо будет тратить деньги из гильзы. Позже я убедился, что это занятие очень доходное, но чрезвычайно опасное.
Пролетело воскресенье.
– Уже пять, – сказал Дега. У него на руке прекрасные часы. – Пора собираться в лагерь.
Уходя, Дега вручил мне пятьсот франков для игры в покер. У нас в палате иногда играли, и ставки были приличные. Гранде дал мне великолепный нож со стопорным вырезом. Он сделал его сам из закаленной стали. Это было внушительное оружие.
– День и ночь носи при себе.
– А если обыск?
– Шмоном в основном занимаются арабы-тюремщики, сами из бывших. Когда они знают, что имеют дело с серьезным парнем, то нож не найдут, даже если нащупают. До встречи в лагере.
При расставании Гальгани сказал мне, что зарезервировал для меня место в своем уголке. Жить будем одним «шалашом», когда едят вместе и деньги общие. Дега в лагере не ночует, а спит в административном здании.
Мы здесь уже три дня, а поскольку ночи я провожу рядом с Клузио, по сути еще не знаю, как живет и чем дышит палата, в которой около шестидесяти человек. Состояние Клузио резко ухудшалось. Его перевели в другую комнату, где лежал еще один безнадежный больной. Шаталь напичкал его морфием. Он опасался, что до утра Клузио недотянет.
В нашей палате шестьдесят коек, и почти все заняты. Койки стоят по обеим сторонам прохода. Ширина прохода – три метра. Палата освещается двумя керосиновыми лампами.
– Там играют в покер, – сказал Матюрет.
Я подошел к игрокам. Их было четверо.
– Принимаете пятым?
– Садись. Минимальная ставка – сто франков. К игре допускаются имеющие до трех ставок, или триста франков. Вот жетон на триста франков.
Я передал двести на сохранение Матюрету. Парижанин Дюпон обратился ко мне:
– Играем по английским правилам, без джокера, умеешь?
– Да.
– Раздавай карты. Оказываем тебе честь.
Скорость, с какой играют эти люди, невероятна. Удвоение ставок идет настолько быстро, что стоит замешкаться, как уже слышишь голос распорядителя: «Делайте ставки», и ты проигрываешь всухую. Так я открыл для себя новую категорию каторжников – карточных игроков. Они живут игрой, для игры и в игре. Кроме игры, их ничего не интересует. Они забыли все: кто они, какой срок получили, что можно сделать, чтобы изменить жизнь. Им безразлично, кто сел с ними играть, порядочный или шулер. Их интересует только игра.
Мы проиграли всю ночь напролет. Остановились, когда уже разносили кофе. Я выиграл тысячу триста франков. Направился было к своей кровати, как меня перехватил Пауло и попросил в долг двести франков. Он хотел составить партию, а для игры не хватало двухсот франков – у него было только сто. Я дал ему триста и сказал:
– Выигрыш пополам.
– Спасибо, Папийон. Недаром говорят, что ты хороший парень. Мы подружимся.
И он протянул мне руку, а я пожал ее. Пауло отправился играть, весь сияя от удовольствия.
В то утро умер Клузио. Накануне, придя в сознание, он попросил Шаталя не давать ему больше морфия.
– Я хочу умереть в полном сознании, сидя на постели и чтобы рядом со мной были мои друзья.
Входить в изолятор было строго запрещено, но Шаталь взял всю ответственность на себя. Мы были рядом, и Клузио умер у нас на руках. Я закрыл ему глаза. Горе потрясло Матюрета.
– Вот и ушел наш друг, собрат по великому побегу. Его бросили акулам.
Когда я услышал слова «его бросили акулам», у меня кровь застыла в жилах. И в самом деле, на островах нет кладбища для каторжников. Когда узник умирает, его бросают в море в шесть часов, на закате солнца, между Сен-Жозефом и Руаялем. Это место кишит акулами.
Со смертью друга больница мне опротивела. Она стала для меня просто невыносимой. Я сказал Дега, что собираюсь уйти из нее послезавтра. Он прислал записку: «Попроси Шаталя выписать тебе освобождение от работы в лагере на пятнадцать дней, чтобы было время подобрать тебе место по вкусу». Матюрет останется в больнице еще на некоторое время. Возможно, Шаталь устроит его помощником санитара.
Перед выходом из больницы меня отвели в здание администрации, где я предстал перед комендантом Барро – Сухим Кокосом.
– Папийон, – сказал он мне, – прежде чем вас отправят в лагерь, я хочу с вами немного поговорить. У вас здесь отличный приятель, мой главный бухгалтер Луи Дега. Он утверждает, что вы не заслуживаете той характеристики, которую мы получили из Франции. Он считает, что поскольку вы якобы невинно осужденный, то для вас вполне естественно постоянно бунтовать. Я вам скажу, что не вполне с ним согласен. Мне хотелось бы знать, в каком состоянии духа вы сейчас пребываете.
– Прежде, месье комендант, чем я отвечу вам, не могли бы вы мне сказать, что понаписано в моем деле?
– Посмотрите сами.
И он протянул мне желтую папку, в которой я прочитал примерно следующее:
«Анри Шарьер, он же Папийон, родился 16 ноября 1906 года в Ардеше. Приговорен за умышленное убийство к пожизненным каторжным работам судом присяжных департамента Сена. Опасен со всех точек зрения. Содержать под строгим наблюдением. Не использовать на привилегированных работах.
Центральная тюрьма в Кане . Неисправимый преступник. Способен поднять мятеж и возглавить его. Содержать под постоянным наблюдением.
Сен-Мартен-де-Ре . Управляем в рамках дисциплины, но пользуется огромным влиянием среди своих товарищей. Склонен бежать из любого места заключения.
Сен-Лоран-дю-Марони . Совершил дерзкое нападение на трех надзирателей и стражника и бежал из больницы. Возвращен из Колумбии. Во время превентивного заключения и следствия поведение хорошее. Получил мягкий приговор: два года одиночного заключения.
Тюрьма одиночного заключения на Сен-Жозефе . Поведение хорошее до освобождения».
– С таким досье, дорогой Папийон, – сказал комендант, когда я вернул ему папку, – держать вас здесь на полном пансионе для нас будет слишком беспокойно. Хотите заключить со мной пакт?
– Почему бы нет? Все зависит от того какой.
– Я не сомневаюсь, что вы тот человек, который сделает все возможное, чтобы убежать с островов. Хотя это и очень трудно. Но, может быть, вам это даже удастся. Теперь посмотрим на это дело с моей стороны. Мне осталось управлять островами пять месяцев. Знаете ли вы, во что обходится один побег коменданту? Голый оклад – один год. Так сказать, полная потеря колониальной надбавки; задержка отпуска на шесть месяцев и сокращение его в три раза. А если в результате следствия будет установлено, что побег стал возможен из-за небрежного отношения коменданта к своей службе, то он теряет нашивку. Видите, как это серьезно. Но, если я несу свою службу честно, я не имею права запереть вас в камере или бросить в карцер только потому, что вы можете убежать. Разве что остается придумать и навесить на вас какое-нибудь преступление. А этого мне не хотелось бы. И я не сделаю этого. Поэтому я хотел бы, чтобы вы дали слово не пытаться бежать до моего отъезда. Пять месяцев.
– Комендант, даю вам честное слово, что не убегу до тех пор, пока вы здесь, но если это не продлится более шести месяцев.
– Я уезжаю даже раньше. Значит, вопрос решен.
– Хорошо. Спросите у Дега, он знает, что я умею держать слово.
– Я тоже так думаю.
– Но услуга за услугу. Мне надо еще кое-что.
– Что именно?
– Мне хотелось бы в течение пяти месяцев, пока я здесь, овладеть некоторыми ремеслами, которые мне могут понадобиться в будущем. И чтобы мне разрешили сменить остров, если потребуется.
– Договорились. Но все останется между нами.
– Да, месье комендант.
Послали за Дега, который убедил коменданта, что мое место не среди лиц с хорошим поведением, а среди крутых ребят в блоке для особо опасных преступников, где размещались все мои друзья. Меня экипировали по полной арестантской форме, да комендант от себя дал две пары новых белых штанов и три новые белые куртки. Все это барахло было конфисковано в пошивочной мастерской.
И вот я иду в лагерь, нагруженный шмотками с иголочки, на голове красуется соломенная шляпа. До центрального лагеря меня сопровождает один багор. Чтобы попасть из небольшого административного здания в лагерь, надо пересечь все плато. Проходим мимо больницы для надзирателей, расположенной с внешней стороны четырехметровой стены, которая окружает всю зону. Идем вдоль стены. Огибаем почти весь этот огромный четырехугольник и наконец оказываемся перед главными воротами. «Исправительная колония – отделение остров Руаяль» . Ворота, деревянные и большие, распахнуты настежь. Высота их почти шесть метров. Два караульных поста по четыре стражника. На стуле сидит сержант. Винтовок нет. Все вооружены револьверами. Насчитал также пять или шесть тюремщиков-арабов.
Когда я был уже в створе ворот, из караульных помещений вышли все стражники. Сержант-корсиканец сказал:
– А вот и новичок, классный парень.
Тюремщики-арабы уже готовы были меня обыскать, как он их остановил:
– Не копайтесь в дерьме, чтобы не воняло. Проходи, Папийон. В спецблоке у тебя наверняка много друзей. Они тебя ждут. Меня зовут Софрани. Желаю удачи на островах.
– Спасибо, начальник.
Выхожу на огромный двор, где стоят три большущих здания. Стражник подводит меня к одному из них. Сверху надпись: «Корпус А – специальная группа» . Остановившись перед открытыми дверями, стражник выкрикнул:
– Дежурный!
Тут же появился старый зэк.
– Принимай новенького, – сказал стражник и ушел.
Я вошел в очень большое четырехугольное помещение, где проживало сто двадцать человек. По планировке оно напоминало общую камеру в Сен-Лоране: тот же железный брус по обеим сторонам прохода, железные стойки и решетки. Решетчатая стена прерывается проемами, в которых навешены решетчатые двери. Двери закрываются только на ночь. От бруса до стены здания натянуты парусиновые подвесные койки. Окрестим их гамаками. Эти так называемые гамаки удобны и гигиеничны. Над изголовьем каждого гамака две полки. Одна – для вещей, другая – для прочих принадлежностей: кружки, пищи и так далее. Между гамаками проходы шириной три метра. Люди здесь живут тоже небольшими группами «шалашами». Есть группы по два человека, а есть и до десяти.
Едва я вошел, как со всех сторон потянулись ко мне зэки. Все одеты в белое.
– Папи, иди к нам.
– Нет, лучше к нам.
Гранде взял мой мешок и сказал:
– Он будет жить в моем «шалаше».
И я пошел с ним. Подвесили и туго натянули мой гамак.
– Лови пуховую подушку, – сказал Гранде.
Я повстречал многих друзей: с Корсики, ребят из Марселя, несколько человек из Парижа, знакомых по Санте, Консьержери и конвою. Я несколько удивился и спросил:
– Вы разве не работаете в это время?
Мой вопрос несказанно всех рассмешил. Смеялись от души.
– О, запиши это где-нибудь большими буквами. Ребята нашего блока больше часа не работают, потом все расходятся по своим «шалашам».
Встреча была теплой. Я надеялся, что так будет и дальше. Одно меня поразило, чего я, признаться, не ожидал, – предстоящая жизнь «шалашами». Я отвык от групп и коллективов; значит, придется этому снова научиться, хотя, конечно, некоторый опыт, вынесенный из тюремных больниц, у меня имелся.
Затем случилось нечто из ряда вон выходящее. Вошел малый в белой униформе и с подносом в руках, накрытым безукоризненно белой салфеткой. Он выкрикивал:
– Бифштексы, бифштексы, кто хочет бифштексы?
Передвигаясь таким образом между рядами коек, он добрался и до нашего уголка. Остановившись, он откинул салфетку, и я увидел бифштексы, аккуратно разложенные рядами на подносе, ну прямо как в мясной лавке во Франции. Чувствовалось, что Гранде его постоянный клиент, потому что он не предложил, а сразу спросил, сколько надо.
– Пять.
– Крестец или лопатка?
– Крестец. Сколько с меня? Дай счет, поскольку нашего полку прибыло, и теперь все пойдет по-другому.
Продавец бифштексов вынул блокнот и принялся считать:
– Всего сто тридцать пять франков.
– Получи, теперь в полном расчете.
Когда малый ушел, Гранде сказал мне:
– Здесь, если нет денег, сдохнешь как собака. Но есть немало возможностей выкручиваться и всегда быть при деньгах.
На каторге «выкручиваться» означает добывать деньги. Лагерный повар, например, продает бифштексы из мяса, предназначенного заключенным. Получая на кухне тушу, он отрубает примерно половину и при разделке готовит из нее бифштексы, рагу и кости для бульона. Часть мяса продается надзирателям через их жен, а часть раскупается каторжниками, располагающими деньгами. Разумеется, повар делится частью вырученных денег с надзирателем, ответственным за кухню. Первым делом повар со своим товаром направляется в спецгруппу, блок А, то есть в наш корпус.
Так что всяк выкручивается по-своему: повар продает мясо и жир; пекарь – сдобу и длинные белые батоны, выпекаемые для служебного персонала; мясник со скотобойни тоже торгует мясом; санитар продает лекарство для инъекций; нарядчику платят за хорошее место или освобождение от тяжелой работы; садовник продает свежие овощи и фрукты; зэк – помощник из лаборатории медицинского анализа – продает результаты анализов и может за деньги устроить справку о туберкулезе, проказе или воспалении тонкой кишки; специалисты по кражам из надворных построек надзирателей торгуют яйцами, домашней птицей, марсельским мылом; «мальчики по дому», торгующие вместе со своими хозяевами, несут все, что прикажете: масло, сгущенное молоко, сухое молоко, банки с тунцом и сардинами, сыр и, конечно, вино и крепкие напитки (у нас в «шалаше» всегда была бутылка вина, американские или английские сигареты), а те, кто имел разрешение на рыбную ловлю, торговали рыбой и крабами.
Но самая прибыльная и самая опасная «статья дохода» – держать игорный стол. Правилами запрещалось иметь в одном блоке на сто двадцать человек более трех или четырех держателей игорного стола. Тот, кто решается занять чужое место, представляется игрокам во время ночной партии следующим образом:
– Я хочу занять место держателя игорного стола.
Ему отвечают:
– Нет.
– Все говорят «нет»?
– Все.
– Тогда я называю такого-то и занимаю его место.
Названный понимает, о чем идет речь. Он встает из-за стола, выходит на середину комнаты, и двое дерутся на ножах. Кто победит, тот и берет игру в свои руки и получает пять процентов с каждого выигрыша.
Игра влечет за собой появление доходного сервиса. Один, к примеру, расстилает на полу одеяла; другой малый выдает напрокат небольшие табуретки тем, кто не может сидеть, скрестив ноги; третий продает игрокам сигареты. Он расставляет на одеяле несколько коробок из-под сигар, а в них сигареты: французские, американские, английские. На каждой коробке свой ценник, игрок же, взявший сигарету, скрупулезно отсчитывает и кладет деньги в коробку. Был также человек, присматривающий за керосиновыми лампами, чтобы слишком не чадили. У всех игроков лампы-самоделки из банок из-под сгущенки: в верхней крышке дырка, в нее вставлен фитиль, с которого постоянно приходится снимать нагар. Для тех, кто не курит, припасены конфеты и пирожные. Их изготовление – самостоятельный интересный сервис. В каждом блоке один или два разносчика кофе. Они заваривают его по-арабски и, чтобы не остыл, держат всю ночь под двумя джутовыми мешками. Время от времени они прохаживаются по камере и предлагают кофе или горячий шоколад, накрытый для сохранения тепла матерчатой бабой.
И наконец, товары совершенно другого вида, своего рода промысел. Некоторые специалисты обрабатывают черепашьи панцири, добываемые рыбаками. Один такой панцирь с тринадцатью пластинами может весить до двух килограммов. Мастера выделывают из них браслеты, серьги, ожерелья, портсигары, расчески, гребни и заколки для волос. Я видел даже чудесную белую черепаховую шкатулку для драгоценностей превосходной, как мне показалось, работы. Другие мастера режут по скорлупе кокосового ореха, украшают резьбой и орнаментом бычьи и коровьи рога, вырезают змеек из дерева твердой породы или эбонита. Третьи занимаются ремеслом краснодеревщика, изготавливая высококачественную мебель без единого гвоздика. Наиболее искусные работают с бронзой. Конечно же, есть и художники.
Бывает, что для выполнения какой-нибудь работы объединяются несколько талантливых мастеров. Например, рыбак поймал акулу. Он обрабатывает ее разинутую пасть, чистит и полирует зубы. Краснодеревец вырезает из гладкого дерева уменьшенную модель якоря, достаточно широкую в средней части, чтобы на ней можно было что-то нарисовать. Затем якорь вставляют в акулью пасть. После этого художник рисует картину и вешает ее над акулой. Обычно на картине изображаются острова Салю, окруженные морем. Чаще всего используется следующий сюжет: виднеется мыс острова Руаяль, пролив и остров Сен-Жозеф. Над голубым морем садящееся солнце разливается всеми красками. В центре – лодка с шестью каторжниками, обнаженными по пояс. Они стоят, держа весла вертикально вверх. На корме три стражника, вооруженные автоматами. На носу два человека опрокидывают гроб, из которого, зашитый в мешок из-под муки, выскальзывает труп каторжника. А вокруг в ожидании жертвы плавают акулы с широко открытыми челюстями. Внизу, справа, табличка с надписью: «Похороны на Руаяле» – и дата.
Многие предметы промысла приобретаются надзирателями и украшают их дома. Наиболее ценные вещи покупаются заранее или делаются по заказу. Остальное распродается морякам с судов, заходящих на острова. Торгуют лодочники – это их сфера деятельности. Находятся шутники, которые берут старую, помятую, побитую кружку, миску или ложку и делают на ней гравировку: «Эта кружка принадлежит Дрейфусу. Остров Дьявола». И дата. Для моряков-бретонцев на любом предмете неизменно пишут: «Сезенек».
Этот нескончаемый круговорот бизнеса привлекал большие барыши на острова. Надзиратели были весьма заинтересованы в его процветании. Бизнес поглощал огромное количество каторжников, удерживая их в разветвленной сети занятости. Привыкая к новому образу жизни, они становились легко управляемыми.
Гомосексуализм признавался официально или был близок к признанию. Каждый, начиная с коменданта, знал, что такой-то является «женой» такого-то. Если одного отправляли на другой остров, то следом ехал и другой. Или обоих высылали вместе.
Из всей массы заключенных едва ли набиралось три человека на сотню желающих бежать с островов. Даже среди отбывавших пожизненное наказание. А как бежать? Единственный способ – добиться перевода на материк, в Сен-Лоран, Курý или Кайенну. Это проходило только с отбывающими ограниченный срок. С пожизненным сроком об этом нечего было и думать, разве что совершить убийство. Если это случалось, виновного как подследственного отправляли в Сен-Лоран и там судили. Но опять-таки, чтобы попасть в Сен-Лоран, надо сначала признаться в содеянном, что могло обернуться пятью годами одиночки, ибо кто же мог поручиться, что за три месяца пребывания в следственном изоляторе твои потуги совершить побег окончатся удачей.
Можно было также спекульнуть на своем здоровье. Скажем, признали тебя больным туберкулезом. Тогда тебя отправляют в Новый лагерь для чахоточных, что в восьмидесяти километрах от Сен-Лорана.
Могли помочь также проказа или хроническое воспаление тонкого кишечника с подозрением на дизентерию. Достать справку – легче легкого, но при этом ты рискуешь очутиться в специальном изоляторе с перспективой провести ближайшие два года бок о бок с настоящими больными и подхватить болезнь, которую сам же и выбрал. От желания сойти за прокаженного до самой проказы только один шаг. Можно также заявиться в изолятор со здоровыми легкими, работающими, как пара первоклассных мехов, и выйти со скоротечной чахоткой. Зачастую так и бывает. Что касается дизентерии, то избежать инфекции еще труднее.Итак, я живу в блоке А, а вместе со мной еще сто двадцать человек. Надо еще научиться жить в этом обществе, где очень скоро распознают, кто есть кто. Прежде всего каждый должен знать, что тобой нельзя помыкать. Не дай бог струсить – только твердая линия поведения может обеспечить тебе уважение, и здесь все имеет значение: как ты держишься с надзирателями, соглашаешься ли выполнять определенные виды работ, отказываешься или нет от изнурительной поденщины. Ни в коем случае нельзя признавать над собой власть тюремщиков-арабов, повиноваться им, даже тогда, когда это может навлечь на тебя гнев надзирателя. Если ты проиграл целую ночь в карты, не следует вставать на утреннюю перекличку. Дежурный или старший по бараку отвечает в таком случае: «Болен, в постели». В другие два барака иногда заглядывают надзиратели и выгоняют так называемого больного на перекличку. В наш барак никто не заходит, здесь живут крутые ребята. А что у нас делать и искать? Все уже сделано и сказано. Все и так ясно. Живем мы тихо и спокойно.
Мой друг Гранде, приятель по «шалашу», родом из Марселя. Ему тридцать пять. Длинный и тощий, как жердь, но не обделен силой. Нам приходилось встречаться с ним и в Тулоне, и в Марселе, и в Париже. В общем, дружили еще во Франции. Зарекомендовал себя опытным специалистом по взлому сейфов. От природы добродушен, но иногда на него находит, и тогда он становится страшно опасным.
Сегодня я остался почти один в этом громадном зале. Дежурный по блоку подметает и спрыскивает водой цементный пол. Один человек сидит в углу и, зажав в левом глазу лупу в деревянной оправе, занимается починкой часов. С полки над изголовьем его гамака свисает до тридцати часов. На вид ему не более тридцати, а волосы совершенно седые. Подхожу и начинаю наблюдать за работой, затем пытаюсь вступить в разговор. Малый даже не поднимает головы, продолжая работать молча. В некотором раздражении я удаляюсь и выхожу во двор. Направляюсь к умывальникам. Там застаю Тити Белота с новенькой колодой карт в руках. Он быстро тасует карты. Пальцы неуловимым движением перебирают тридцать две карты. Не прекращая демонстрировать ловкость рук, он говорит мне:
– Ну как, старина? Порядок? Прижился на Руаяле?
– Вполне. Но сегодня мне такая жизнь осточертела. Надо чем-то заняться, а то нетрудно и свихнуться. Хотел сейчас поболтать с одним малым, часовщиком, но он даже не соизволил ответить.
– Что ты говоришь, Папи? Так, значит, малому наплевать на весь мир? Значит, у него на уме только часы, все прочее побоку? Все верно. После того, что с ним случилось, попробуй не замкнуться в себе! У него на это есть право. Представь себе, этот молодой парень – его вполне можно назвать молодым, поскольку ему еще нет и тридцати, – год назад был приговорен к смертной казни за так называемое изнасилование жены надзирателя. Сам понимаешь, насилием там и не пахло. Он давно уже голубил свою хозяйку, законную супругу одного старшего надзирателя-бретонца. Что делать, если работаешь «мальчиком по дому»? Бывало, бретонец только уйдет на дневное дежурство, а часовщик уже топчет его курочку. Только допустили они одну маленькую ошибочку. Птичка уж на что ленива, а сама вдруг стала стирать и гладить белье. Как говорят, услуга за услугу. Однако подобный оборот событий чем-то не устроил рогоносца. Сначала он удивился, потом стал сомневаться, наконец заподозрил неладное. Но где доказательства, что у него действительно выросли рога? И вот он придумал план, как их застать тепленькими, да заодно и прибить обоих. Однако баба тоже оказалась смекалистой. Однажды он заступил на дежурство, но через два часа оставил службу и отправился домой. Да прихватил с собой еще одного надзирателя под предлогом, что ему из деревни прислали ветчины и он хочет его угостить. Бесшумно открыли калитку, но едва вошли в дом, как заорал попугай: «Хозяин пришел! Хозяин пришел!» Попка всегда так встречал его. И тут же раздался женский крик: «На помощь! Насилуют!» Оба багра входят в спальню в тот момент, когда краля уже вырвалась из объятий каторжника, а сам он, захваченный врасплох, выпрыгивает в окно. Рогоносец открыл пальбу и попал бедолаге в плечо. Тот упал, а в это же время находчивая дамочка царапает себе сиськи, щеки и в клочья рвет пеньюар. Бретонец не успокаивается и готов уже добить часовщика, но его приятель успевает вовремя разоружить его. Другой-то багор, должен тебе сказать, был корсиканец и сразу сообразил, в какое дело его втравливает старший по званию. Он понял, что вся эта история – чистая стряпня и насилия в ней ничуть не больше, чем сливочного масла в заднице. Но корсиканец не мог прямо об этом сказать бретонцу, а сделал вид, что во все поверил. Часовщика приговорили к смерти. Так что, старина, ничего тут необычного нет. Но сама история имела интересное продолжение.
Здесь, на Руаяле, есть специальный блок, где приговор приводится в исполнение. Там стоит гильотина. Она в отличном состоянии, разобрана на части, все они аккуратно разложены и хранятся в отдельном месте. А на дворе отведен участок, где уложены по уровнемеру пять мощных железобетонных плит, сцементированных между собой. На этих плитах, как на платформе, и воздвигается гильотина. Раз в неделю палач и двое помощников из каторжников устанавливают ее полностью, монтируя все механизмы, нож и все прочее. Затем перерубают два ствола бананового дерева. Таким вот образом и проверяется ее рабочее состояние.
Итак, часовщик-савояр сидел в камере для смертников. С ним сидели еще четверо приговоренных к смертной казни – трое арабов и один сицилиец. Все пятеро ожидали ответа на прошения о помиловании, поданные их надзирателями, выполнявшими роль защитников.
Однажды рано утром установили гильотину. Дверь камеры, где сидел часовщик, резко открылась, и на парня набросились палачи. Они спутали ему ноги веревкой, сделав как бы кандальную восьмерку, затем пропустили эту же веревку к кистям рук, которые тоже спутали восьмеркой. Воротник рубашки отрезали ножницами, после чего он прошел маленькими шажками в предрассветных сумерках метров двадцать до известного снаряда. Надо тебе сказать, Папийон, что, когда ты подходишь к гильотине, то почти целуешься с вертикально установленной доской, к которой тебя пристегивают ремнями, висящими по бокам. Вот и его пристегнули и приготовились было опустить доску, чтобы подать голову под срез ножа. Но в этот момент появился нынешний комендант Сухой Кокос, который обязан лично присутствовать на всех казнях. В руке он держал большой корабельный фонарь, и когда осветил им эту сцену, то увидел, что раздолбаи-багры собирались по ошибке снести голову не тому, кому следует. В тот день, как оказалось, часовщику нечего пока было делать на этой церемонии. «Остановитесь! Остановитесь!» – закричал Барро. От волнения комендант, похоже, даже не мог как следует говорить. Он уронил фонарь, растолкал всех – и палачей, и багров, сам отвязал часовщика от доски, и только тогда к нему возвратилась способность отдавать приказания: «Уведите его в камеру, санитар. Займитесь им и оставайтесь с ним. Дайте ему рому. А вы, кретины, отправляйтесь и немедленно доставьте сюда Ранкассо. Сегодня надо казнить его и никого больше».
На следующий день часовщик поседел и стал таким, каким ты его увидел сегодня. Его защитник, багор из Кальви, написал новое прошение о помиловании на имя министра юстиции, в котором изложил и этот случай. Часовщика простили, заменив смертную казнь пожизненной каторгой. С тех пор он и занимается починкой часов для багров. Это его увлечение. Он их долго регулирует, пока не станут показывать точное время. Вот почему так много часов висит у него на полке. Теперь ты понимаешь, что малый имел полное право немного свихнуться. Скажи, Папи, прав я или нет?
– Прав, Тити. Конечно, после такого удара немудрено стать нелюдимым. Я искренне ему сочувствую.
В этой новой жизни каждый день чему-нибудь да учишься. В блоке А собрались люди поистине сомнительного поведения как в прошлом, так и в настоящем. Я не работал еще ни одного дня: жду места золотаря, которое вот-вот должно освободиться. Работа будет занимать у меня сорок пять минут в сутки, все остальное время я смогу свободно передвигаться по острову, и мне разрешат заниматься рыбной ловлей.
Сегодня утром во время переклички наш блок хотели отрядить на тяжелую работу – посадку кокосовых пальм. Выкрикнули имя Жана Кастелли. Он вышел из шеренги и спросил:
– Меня? Меня посылают на работу?
– Да, вас, – сказал багор, ответственный за работу на плантации. – Вот, держите мотыгу.
Кастелли холодно взглянул на него:
– Приятель, ты, должно быть, из овернской глуши. Сразу видно, что разбираешься в этих странных инструментах. Я же корсиканец из Марселя. У нас на Корсике орудия труда забрасываются чем дальше, тем лучше. А в Марселе даже не слышали об их существовании. Держи-ка при себе свою мотыгу и оставь меня в покое.
Молодой еще багор, не знавший, как выяснилось потом, о заведенных в нашем блоке порядках, замахнулся на Кастелли ручкой мотыги. Сто двадцать глоток истошно заорали:
– Только тронь, падла, – и ты не жилец.
– Разойдись, – скомандовал Гранде, и мы, не обращая внимания на то, что все надзиратели приняли боевую стойку, ушли в барак.
Блок В отправился на работу. Блок С тоже. Появилась дюжина стражников и заперла, что случалось очень редко, решетчатую дверь в наш блок. Через час прибыли еще сорок стражников. С автоматами в руках, они выстроились по обе стороны наших дверей. Пришли помощник коменданта, главный надзиратель, его заместитель и еще надзиратели. Не было лишь самого коменданта, поскольку он в шесть утра, еще до инцидента, отправился с проверкой на остров Дьявола.
Помощник коменданта сказал:
– Дацелли, начинайте перекличку по одному.
– Гранде!
– Здесь.
– Выходите.
Гранде выходит из блока и оказывается в центре между шеренгами надзирателей. Дацелли обращается к нему:
– Идите на работу.
– Не могу.
– Отказываетесь?
– Нет, не отказываюсь. Я болен.
– С каких пор? Вы не заявляли о своей болезни на первой перекличке.
– Утром я не был болен, а сейчас заболел.
Первые шестьдесят человек, вызванные во двор друг за другом, делают точно такое же заявление. Только один отказывается повиноваться. У него явное намерение побывать в Сен-Лоране и предстать перед трибуналом. Когда его спросили: «Вы отказываетесь?» – он ответил:
– Да, трижды отказываюсь.
– Почему трижды?
– Потому что, глядя на вас, блевать хочется. Я категорически отказываюсь работать на таких сук, как вы.
Напряженность достигла предела. Багры, особенно молодые, не выносили подобных оскорблений от каторжников. Они ждали только одного – угрожающего жеста, который им позволил бы применить оружие. А пока они его держат стволами вниз.
– Всем, кого вызвали, раздеться! Марш по камерам!
Лихорадочное и поспешное раздевание, последовавшее за этим, то и дело сопровождалось характерным стуком при падении ножа на булыжную мостовую. В этот момент появился врач.
– Отставить! Стой! Вот и доктор. Доктор, осмотрите, пожалуйста, этих людей. Всех, кто не болен, – немедленно в карцер.
– Все шестьдесят заболели?
– Да, доктор, кроме одного – он отказался работать.
– Прежде всего, – продолжал врач, – Гранде, что случилось?
– Несварение желудка, доктор, и все из-за тюремщиков. Мы все здесь обречены на длительное пребывание, большинство – пожизненно. Удрать с островов нет никакой надежды. Разве можно вынести такую жизнь без определенного послабления – щадящего соблюдения правил тюремного режима? Надо же и нас понять. Ты – мне, я – тебе, это же гораздо лучше. А сегодня один надзиратель зашел уж слишком далеко, дал волю рукам. У всех на глазах перед строем он замахнулся мотыгой, собираясь ударить нашего товарища, которого мы все уважаем. Парень никому не угрожал, поэтому поступок надзирателя нельзя рассматривать как действие в целях самообороны. Он просто сказал, что не умеет и не хочет пользоваться мотыгой. Вот истинная причина нашей эпидемии. А вам решать.
Врач опустил голову, сосредоточенно соображая, и через минуту сказал:
– Санитар, пишите: «Ввиду коллективного пищевого отравления дежурному санитару-надзирателю по блоку А принять необходимые меры по очищению желудков у всех ссыльных, заявивших сегодня о своей болезни. Каждому выдать по двадцать граммов глауберовой соли. Ссыльного Х поместить в больницу на обследование для выяснения, является ли его отказ работать следствием умственного расстройства, или здесь кроется другая причина».
Доктор повернулся к нам спиной и ушел.
– Всем в барак! – заорал помощник коменданта. – Вещи собрать! Да не забудьте прихватить с собой ножи!
В тот день на улицу никого не выпускали, даже разносчика хлеба. В полдень вместо супа дежурный санитар-надзиратель в сопровождении двух санитаров-каторжников принес нам полную бадью слабительного. Проглотили только первые трое. Четвертый виртуозно разыграл приступ эпилепсии, упав в ведро, разлив и разметав по сторонам и ведро, и слабительное, и разливочный черпак. Так закончился этот инцидент, доставивший дежурному по блоку много хлопот по уборке помещения.
После полудня я разговорился с Жаном Кастелли. Он пришел в наш «шалаш» перекусить. Сам он столовался с одним тулонцем, Луи Гравоном, попавшимся на ограблении ателье по пошиву меховых изделий. Когда я заговорил с Жаном о побеге, глаза у него загорелись. Он сказал мне:
– В прошлом году я едва не убежал, но в последний момент наклал в штаны. Я не сомневался, что ты именно тот человек, который не будет сидеть сложа руки. Только говорить на островах о побеге – все равно что разговаривать на древнееврейском. С другой стороны, я вижу, что ты пока не разобрался в каторжниках с островов. Девяносто процентов на свою судьбу особенно не жалуются. Никто не заложит тебя, что бы ты ни сделал. Убьют кого-нибудь – и свидетеля не найдешь. Украдут – никто ничего не видел. Что бы ты ни сделал, все скопом будут защищать тебя. Каторжники с островов боятся только одного – удавшегося побега. В этом случае их относительно спокойная жизнь летит ко всем чертям: шмон за шмоном, ни карт, ни музыки – все музыкальные инструменты, изъятые при обыске, разбиваются в щепки. Ни шахмат, ни шашек, ни книг – ничего! Все запрещено! Никакого тебе промысла! Абсолютно ничего! А шмон за шмоном, шмон за шмоном! Нет ни сахара, ни масла, ни мяса – все исчезает. Каждый состоявшийся побег с островов заканчивается на материке задержанием беглецов в окрестностях Куру. Но на островах-то он удался! Отсюда санкции против надзирателей, а те в свою очередь отыгрываются на зэках. Всем достается по первое число.
Я слушал очень внимательно. Просто диву давался. Никогда не приходилось рассматривать данный вопрос под таким углом зрения.
– Выход такой, – продолжал Кастелли, – надумал бежать – делай это с величайшей осторожностью. Не раскалывайся перед первым встречным, пока не убедишься в его надежности. Такое можно обсуждать только с ближайшим другом. Семь раз отмерь – один раз отрежь.
Жан Кастелли – профессиональный взломщик. Волевой и неглупый человек. Более того, по выдержке и рассудительности ему нет равных. Он презирал грубое насилие. Его прозвали «Старомодным». Например, он умывался, пользуясь только простым мылом. А случись, увидит у меня туалетное, непременно заметит:
– Боже, опять понесло педерастией. Как ты можешь пользоваться мылом, которым подмываются крали?
К сожалению, ему уже пятьдесят два. Но энергичен – любо-дорого поглядеть. Он говорит мне:
– Ты, Папийон, весь в меня, жизнь на островах тебе неинтересна. Ешь хорошо, но опять-таки для того, чтобы держать форму. Ты никогда не смиришься с жизнью на островах. С чем тебя и поздравляю. Здесь у нас с тобой наберется с полдюжины единомышленников. Побег – превыше всего. Конечно, найдутся и такие, кто дорого заплатил бы за выезд на материк, чтобы оттуда бежать. Но никто здесь в побег не верит.
Старина Кастелли посоветовал заняться изучением английского языка, не терять возможности совершенствоваться в испанском, разговаривая с испанцами. Он дал мне учебник испанского языка, где было двадцать четыре урока, а также французско-английский словарь. Кастелли очень дружил с одним марсельцем по имени Гардéс, ходячей энциклопедией по побегам. Гардес уже дважды совершал побег. Первый раз из португальской исправительной колонии, второй раз с материка. У Гардеса сложился свой взгляд на побег с островов, у Кастелли – свой. У тулонца Гравона свое мнение. Их взгляды и мнения не совпадают. С этого дня я решил жить только своей головой и по поводу побега ни с кем больше не разговаривать.
Это, конечно, тяжко, но ничего не поделаешь. В одном только мнения каторжан не расходились: сама по себе игра в карты не представляет интереса, а если уж играть, то только с единственной целью – делать деньги. Соглашались и в том, что играть очень опасно. В любое время можно было ожидать появления претендента на место за игорным столом, что означало улаживать спор в схватке на ножах. Все трое решительны в действиях и для своего возраста страшно опасны: Луи Гравону – сорок пять, а Гардесу – около пятидесяти.
Вчера вечером мне представился случай изложить перед всеми свой взгляд на вещи и взбудоражить почти всю нашу камеру. Один парень из Тулузы, небольшого роста, был вызван на поединок, разумеется на ножах, крепышом из Нима. Прозвище тулузца – Сардина, а верзилы из Нима – Баран. Баран, обнаженный по пояс, начал с места в карьер, поигрывая ножом:
– Либо ты платишь мне двадцать пять франков за каждую игру в покер, либо не играешь совсем.
Сардина ответил:
– Никто никогда и никому не платил за игру в покер. Почему ты ко мне пристал? Почему не вызываешь держателей стола, где играют по марсельским правилам?
– Это не твое дело. Или ты платишь, или не играешь. Или бьешься со мной.
– Нет, биться не стану.
– Что, сдрейфил?
– Да. Не хочу рисковать, чтобы меня порезал или убил такой хвастун, как ты, не совершивший ни одного побега. Я настроен бежать и здесь нахожусь не для того, чтобы убивать или быть убитым.
Все напряженно ждут, что произойдет дальше. Гранде говорит мне:
– Малыш – хороший парень, это видно. И он заряжен на побег. Жаль, что мы не можем ничего сказать.
Я открыл нож и положил под бедро. Я сидел на койке Гранде.
– Тогда, желторотик, либо плати, либо кончай играть. Отвечай! – Баран сделал шаг к Сардине.
И тогда я крикнул:
– Заткни свою глотку, Баран, и оставь парня в покое.
– Ты сдурел, Папийон? – вмешался Гранде.
Продолжая сидеть неподвижно и чувствуя под бедром рукоятку ножа, я сказал:
– Нет, я не сдурел, и послушайте все, что я хочу вам сказать. Баран, прежде чем драться с тобой, а я это сделаю, если ты будешь настаивать даже после того, что услышишь, позволь сказать тебе и всем остальным, что с тех пор, как я появился в этом блоке, где нас больше сотни и все из преступного мира, я, к стыду своему, обнаружил, что такое понятие, как «побег», самое прекрасное, самое стоящее, здесь не уважается. А ведь любого человека, доказавшего свое право называться беглецом, смело рисковавшего жизнью в побеге, следует уважать всем и каждому, независимо от других соображений. Кто-нибудь возражает? – (Тишина.) – У вас свои законы, пусть так. Но в них отсутствует одно очень важное правило, которое гласит: каждый обязан не только уважать беглеца, но и помогать ему и всячески поддерживать. Никто никого не заставляет бежать, и я вполне допускаю, что вы почти все смирились и решили доживать здесь. Но если у вас не хватает мужества изменить свою жизнь, то вы хоть имейте уважение к тем, кто все поставил на карту ради побега. И тех, кто забудет это правило, ожидают очень неприятные последствия. А теперь, Баран, если ты все же хочешь драться, давай!
И я выскочил на середину комнаты с ножом в руке. Баран бросил нож на пол и сказал:
– Ты прав, Папийон, я не хочу драться с тобой на ножах. Сойдемся в кулачном бою, чтоб ты не подумал, что я желторотик.
Я передал свой нож Гранде. Мы сцепились, как две бешеные собаки, и минут двадцать волтузили друг друга. Наконец удачным приемом – ударом головой – я решил спор в свою пользу. Вместе пошли в туалет, чтобы смыть кровь с лица. Баран мне так сказал:
– Верно, на этих островах превращаешься в скотину. Я уже пятнадцать лет здесь, но не истратил и тысячи франков, чтобы попытаться выбраться на материк. Стыдно.
Когда я вернулся в свой «шалаш», Гранде и Гальгани напустились на меня:
– Ты в своем уме? Так провоцировать и оскорблять всех?! Просто чудо, что никто не выскочил в проход с ножом и не пошел на тебя.
– Нет, друзья мои, ничего удивительного здесь нет. Люди из нашего мира реагируют нормально, если видят, что кто-то чертовски прав.
– Ну хорошо, – сказал Гальгани, – но впредь остерегайся играть с огнем.
Весь вечер ко мне подходили поговорить. Приближались как бы невзначай, заговаривали о разных пустяках, а уходя, заканчивали так: «Я согласен, Папи, со всем, что ты сказал». Этот случай упрочил мое положение.
С того дня мои товарищи стали смотреть на меня определенно другими глазами. Теперь у них не могло возникнуть никаких сомнений, к какому миру я принадлежу. Они поняли, что перед ними не тот человек, который со всем соглашается безусловно и без возражений. Я заметил, что, когда мне приходилось сидеть во главе игорного стола, споров возникало меньше и мое приказание немедленно исполнялось.
Держатель стола, или распорядитель игры, как говорилось выше, получает пять процентов с каждого выигрыша. Он сидит на маленькой скамеечке, прижавшись спиной к стене, во избежание возможного нападения. Следует помнить, что убийца всегда найдется. У него на коленях коврик, под ковриком раскрытый нож. А вокруг тридцать, сорок, иногда пятьдесят игроков из всех уголков Франции, много иностранцев, арабов в том числе. Игра очень проста: есть банкомет, и есть понтер. Каждый раз банкомет при своем проигрыше передает карты соседу. В ходу пятьдесят две карты. Понтер снимает колоду, тащит карту и кладет ее мастью вниз. Банкомет тащит карту и кладет ее мастью вверх. Затем делаются ставки. Ставят либо на карту банкомета, либо на карту понтера. Денежные ставки разложены наконец на столе небольшими кучками, и каждый начинает тащить по одной карте. Если вытянутая карта одинакового достоинства с теми двумя, что на столе, она проигрывает. Например, у понтера – закрытая дама, а у банкира – открытая пятерка. Если дама вышла раньше пятерки, проигрывает понтер. Если наоборот – проигрывает банкомет. Распорядитель игры должен помнить величину каждой ставки и не забывать, кто банкомет, а кто понтер, чтобы знать, как распределяются деньги. Это не просто. Надо защитить слабых против сильных, всегда готовых принизить и оскорбить их достоинство. Когда держатель стола принимает решение в каком-то сомнительном случае, это решение должно выполняться всеми безропотно.
Прошлой ночью убили одного итальянца по имени Карлино. Он жил с мальчишкой, игравшим роль известной половины. Оба работали в саду. Карлино, должно быть, знал, что его жизни угрожает опасность, поскольку, когда он спал, бодрствовал мальчишка, и наоборот. Под своим гамаком они поставили пустые банки, чтобы никто не мог проскользнуть под ним, не поднимая шума. И все-таки он был убит именно снизу. За криком сразу же последовал жуткий грохот от покатившихся банок, которые для убийцы вовсе не оказались помехой.
Гранде вел за столом партию «Марсельезы». В ней участвовало до тридцати человек. Я стоял рядом и разговаривал. Крик и шум от пустых банок оборвали игру. Все вскочили со своих мест и стали выяснять, что произошло. Приятель Карлино ничего не видел, а сам Карлино уже не дышал. Дежурный по блоку спросил, надо ли вызывать надзирателей. Нет. Успеется. Доложим на утренней перекличке: поскольку Карлино мертв, ничего уже сделать нельзя.
Гранде взял слово:
– Никто ничего не слышал. И ты, малыш, тоже. Когда завтра сыграют подъем, ты только тогда и заметишь, что Карлино мертв.
Игра тут же возобновилась. Игроки продолжали выкрикивать, как будто ничего не произошло: «Банкир! Понтер!» – и так далее.
Я с нетерпением ожидал утра. Хотелось посмотреть, что произойдет, когда стражники узнают о ночном убийстве. Полшестого – первый звонок. В шесть – второй и кофе. В шесть тридцать – третий звонок и перекличка. И так каждый день. Но сегодня все по-другому. По второму звонку наш дежурный доложил багру, сопровождавшему разносчика кофе:
– Начальник, убит человек.
– Кто?
– Карлино.
– Так.
Через десять минут появляются шесть стражников.
– Где мертвый?
– Там.
Стражники видят, что нож, прошивший парусину койки, торчит у Карлино в спине. Они его вытаскивают.
– Носильщики, убрать!
Двое носильщиков уносят труп. Занимается день. Раздается третий звонок. Продолжая держать окровавленный нож в руке, старший надзиратель отдает команду:
– Все на выход! Строиться на утреннюю перекличку! Сегодня никаких больных! Никаких коек!
Все выходят. На утренней перекличке присутствуют большие начальники и старшие надзиратели. Начинается перекличка. Когда дошли до имени Карлино, дежурный по блоку ответил:
– Умер ночью. Отправлен в морг.
– Хорошо, – говорит багор, ведущий перекличку. После переклички начальник лагеря поднимает нож вверх и спрашивает:
– Чей это нож?
Нет ответа.
– Кто-нибудь видел убийцу?
Мертвая тишина.
– Итак, никто ничего не знает. Обычная картина. Слушай! Руки вперед! Ша-гом арш! Все на работу, по своим местам. Как всегда, месье комендант, невозможно выяснить, кто это сделал.
– Следствие закончено, – говорит комендант. – Нож сохранить, повесить на него бирку, что им убит Карлино.
Вот и все. Я возвращаюсь в барак и ложусь спать, поскольку ночью не смыкал глаз. Перед тем как заснуть, я подумал о том, что жизнь каторжника ничего не стоит, так, пустяк какой-то! Даже если его убьют самым трусливым и паскудным образом, никто не побеспокоится, чтобы найти убийцу. А для администрации он вообще ноль! Дешевле собаки!С понедельника начинаю работать золотарем. В половине пятого выйдем с напарником опорожнять параши и выносить их содержимое из блока А. Правилами предписано выливать нечистоты прямо в море. Если же заплатить погонщику буйволов, то он будет ждать нас на плато, рядом с узким бетонным желобом, спускающимся прямо в воду. Очень быстро, меньше чем за двадцать минут, мы управляемся со своими лоханями, выплескивая их в желоб. Трех тысяч литров морской воды, которые вмещаются в доставленную нам огромную бочку, вполне достаточно, чтобы смыть нечистоты в море. Возчику, симпатичному негру с Мартиники, мы платим по двадцать франков за ездку. Он поливает водой желоб, а мы проходимся по всей его длине грубыми метлами, чтобы убрать все быстрее и чище. В первый день от переноски лоханей я натрудил себе руки до боли в запястьях. Но скоро я к этому привыкну.
Мой напарник – покладистый и работящий парень, но Гальгани предупредил меня, что он очень опасен. Ходили слухи, что он совершил семь убийств на островах. Его доходная статья – продажа дерьма. В конце концов, каждому садовнику нужен навоз. Для этого вырывалась яма, куда сбрасывались сухие листья и трава, затем в нее сливалась вонючая жижа. По нашей наводке возчик незаметно отвозил куда надо лохань-другую. Конечно, один человек с этим не справился бы, и мне приходилось помогать своему напарнику. Я понимал, что так делать нельзя: через зараженные овощи могла вспыхнуть дизентерия не только среди надзирателей, но и среди самих заключенных. Поэтому я решил, что, узнав своего напарника поближе, я постараюсь отговорить его от этого занятия. Разумеется, придется заплатить, чтобы он не оказался в убытке. Мой напарник занимался еще и резкой по рогу. Насчет рыбной ловли он не мог сообщить мне ничего полезного, но посоветовал обратиться на пристань к Шапару или еще кому-нибудь.
Итак, я золотарь. После работы принимаю душ, надеваю шорты и отправляюсь на рыбалку куда душе угодно. В полдень обязан быть в лагере. Благодаря Шапару у меня нет недостатка ни в удочках, ни в крючках. Когда я поднимаюсь по дороге со связкой барабулек на проволоке, пропущенной через жабры, редко кто не окликнет меня из домиков надзирателей. Чаще всего это их жены. Все они знают, как меня зовут.
– Папийон, продайте два кило барабульки.
– Вы больны?
– Нет.
– У вас болен ребенок?
– Нет.
– В таком случае рыбу я не продаю.
Бывают богатые уловы, тогда я раздаю рыбу друзьям. Меняю также на булку, овощи, фрукты. В нашем «шалаше» по крайней мере один раз в день едят рыбу. Однажды я наловил дюжину крабов и семь-восемь килограммов барабульки. Когда я проходил с уловом мимо дома коменданта Барро, ко мне обратилась довольно полная женщина:
– У вас прекрасный улов, Папийон. Море неспокойно, ни у кого рыба не ловится, а у вас ловится. Я уже две недели не ела рыбы. Жаль, что вы ее не продаете. Я слышала от мужа, что вы отказываетесь продавать ее женам надзирателей.
– Это так, мадам. Но для вас я могу сделать исключение.
– Почему?
– Ваша полнота говорит о том, что вам следует поменьше есть мяса, оно вам вредно.
– Это правда. Мне рекомендовали есть овощи и отварную рыбу. Но здесь это невозможно.
– Пожалуйста, мадам, возьмите этих крабов и барабульку.
И я дал ей около двух килограммов рыбы.
С этого раза при хорошем улове я всегда выделял ей приличную порцию рыбы для соблюдения предписанной диеты. Она хорошо знала, что здесь, на островах, все только покупается и продается, однако мне она говорила только «спасибо». И в этом она была права, ибо чувствовала, что, предложи она мне деньги, я мог бы неправильно ее понять. Зато она часто приглашала меня к себе в дом. Угощала аперитивом или подносила стакан белого вина, потчевала инжиром. Мадам Барро никогда не расспрашивала меня о моем прошлом. Только однажды, когда она заговорила о каторге, у нее вырвалась такая фраза:
– Верно, с островов не убежишь, но лучше жить здесь в здоровом климате, чем гнить на материке.
Это она объяснила мне историю происхождения названия островов. Когда-то во время эпидемии желтой лихорадки в Кайенне белые священники и сестры из одного монастыря бежали сюда и спаслись. Отсюда и название – острова Салю, то есть Спасения.Рыбная ловля дает мне возможность ходить повсюду. Уже три месяца, как я работаю золотарем, и за это время изучил остров как свои пять пальцев. Стал присматриваться к садам, куда заходил под предлогом обмена рыбы на овощи и фрукты. Садовника, работающего в саду рядом с кладбищем для надзирателей, зовут Матье Карбоньери. Мы с ним живем в одном «шалаше». Он работает один, и мне пришла в голову мысль, что в его саду можно сделать и спрятать плот. Комендант уезжает через два месяца, и я обретаю свободу действий.
Вот уже три месяца, как я работаю. Дело поставил так, что за меня трудится тот черный симпатяга с Мартиники. Разумеется, за деньги. Сам я регулярно выхожу как бы на работу. Завел дружбу с двумя свояками, приговоренными пожизненно. Их зовут Нарик и Кенье, прозвище у них «колясочники». Как мне рассказали, они обвинялись в том, что убили и замуровали в бетонный блок инкассатора. Нашлись свидетели, видевшие, как они везли этот блок в детской коляске и сбросили его то ли в Марну, то ли в Сену. Следствие установило, что последний раз инкассатора видели, когда он заходил к ним получить деньги по векселю, и с тех пор никто его больше не видел. Они отрицали свою причастность к убийству и даже на островах продолжали утверждать, что осуждены невинно. Полиции так и не удалось отыскать тело, нашли только голову инкассатора, завернутую в платок. У свояков обнаружили несколько платков, которые, «по определению экспертизы», и по ниточной основе, и по технологии плетения соответствовали первому. Несмотря на то что сами обвиняемые и их адвокаты без устали доказывали, что такой ткани по стране тысячи и тысячи метров, равно как и платков, из нее изготовленных, суд остался непреклонен. В конце концов оба свояка загремели на каторгу пожизненно, а жена одного из них, приходившаяся сестрой другому, получила двадцать лет тюрьмы.
Я с ними сошелся довольно быстро. Оба строители и работают здесь по специальности, поэтому им легко собрать мне по кусочку материал на плот. Надо только их уговорить.
Вчера я повстречался с доктором. Я поймал огромную рыбу килограммов на двадцать и тащил ее в лагерь. Пошли вместе. На плато присели отдохнуть. Он сказал, что из головизны можно приготовить отличную уху. Я тут же отрезал голову, прихватив хорошую порцию мяса, и предложил доктору. Он весьма удивился и заметил:
– Вы не из тех, кто долго сердится, Папийон.
– Как вам сказать, доктор. Я это сделал не из-за себя. Я благодарен вам за своего друга Клузио. Вы сделали все, что смогли.
Мы еще немного поговорили, и в конце беседы он сказал:
– Вижу, что хотел бы удрать, не так ли? Понимаю, ты не простой человек, Папийон.
– Верно, доктор, я не создан для каторги, здесь я только гость.
Он расхохотался, а я стал напирать:
– Скажите, доктор, разве вы не верите, что человек может исправиться?
– Верю.
– А можете вы представить себе, что я смогу стать честным человеком и честно служить обществу?
– Да, и совершенно искренне.
– В таком случае почему бы вам не помочь мне осуществить это?
– Каким образом?
– Отправить меня на материк как туберкулезника.
И тут он повторил то, о чем я уже слышал:
– Это невозможно, и я не советую тебе это делать. Очень опасно. Администрация не отправляет на материк ни одного больного, пока он не пролежит в инфекционном бараке по крайней мере год.
– Почему?
– Стыдно сказать, но, мне кажется, потому, что хотят наказать человека, дать ему понять, что, если он симулирует, он обязательно заболеет, заразившись от больного. Так на самом деле и происходит. Я ничем не могу тебе помочь.
С этого дня у меня с врачом установились довольно дружеские отношения. До того момента, когда он чуть было не убил моего друга Карбоньери. Матье Карбоньери, сговорившись со мной, согласился занять место шеф-повара в столовой для старшего надзирательского состава. Главной задачей было разузнать, нельзя ли украсть три пустых бочки из-под вина, уксуса или масла, найти, чем их связать вместе, и оттащить к морю. Разумеется, после отъезда Барро. Трудности предстояли большие: за одну ночь надо было украсть бочки, отнести их к морю, да так, чтобы никто не увидел и не услышал, и там связать канатами. Это дело можно было провернуть только в грозовую ночь с ветром и дождем. Правда, при этом море будет штормить, что может очень сильно затруднить спуск плота на воду.
Итак, Карбоньери – повар. Дежурный по столовой, надзиратель, дает ему трех кроликов, приготовить на завтра к воскресному обеду. Довольный Карбоньери снял с них шкуры и отослал одного брату на пристань и двух нам. Затем он убил трех жирных котов и приготовил великолепное блюдо.
К несчастью, на воскресный обед пригласили доктора отведать крольчатины. Он попробовал мясо, оценил его по достоинству и сказал:
– Месье Филидори, позвольте поздравить вас: ваше кушанье превосходно. Кот приготовлен отменно – пальчики оближешь.
– Не разыгрывайте меня, доктор, мы едим трех прекрасных кроликов.
– Нет, – говорит доктор, упрямый как бык, – это кот. Извольте взглянуть на ребрышки, которые я сейчас ем. Видите – они плоские, а у кролика – круглые. Нет никакой ошибки. Мы едим кота.
– Царица небесная! Господи Иисусе! – вскрикнул корсиканец. – У меня в желудке кошка!
И он бросился бегом на кухню, сунул Матье револьвер под нос и сказал:
– Может быть, ты бонапартист, как и я, но я тебя пристрелю за то, что накормил меня кошатиной.
– Если вы называете котом то, что дали мне сами, то это не моя вина.
– Я дал тебе кроликов.
– Я их и приготовил. Посмотрите: шкуры, головы – все на месте.
Ошалевший багор тупо смотрит на кроличьи шкуры и головы.
– Значит, доктор болтает, сам не зная что?
– Это вам доктор сказал? – спросил Карбоньери, вздыхая. – Скажите ему, что нельзя так разыгрывать людей.
Успокоенный и убежденный, Филидори возвращается в столовую и обращается к доктору:
– Говорите, что хотите. Это вам вино ударило в голову. Плоские или круглые ваши ребрышки, но я-то знаю, что съел кролика. Я только что видел и три пушистых костюмчика, и три головки с длинными ушками.
Матье легко отделался. Через несколько дней он принял решение, что лучше ему оставить пост повара.
Приближается день, когда у меня будут развязаны руки, чтобы действовать. Еще несколько дней, и Барро уедет. Вчера я навестил его полную жену, так сказать по пути, заметно похудевшую за последнее время благодаря постным блюдам из отварной рыбы со свежими овощами. Добрая женщина пригласила меня к себе в дом и предложила бутылку вина. Комната уставлена чемоданами – одни уже полностью упакованы, другие наполовину. Чета Барро готовится к отъезду. Комендантша, как и любая другая достойная женщина на ее месте, поблагодарила меня напоследок:
– Папийон, я не знаю, как вас и благодарить за ваше внимание ко мне эти последние месяцы. Я знаю, что бывали дни, когда ловилось мало рыбы, но вы отдавали мне весь улов. Я вам очень признательна. Благодаря вам я чувствую себя лучше и похудела на четырнадцать килограммов. Что я могу для вас сделать, чтобы засвидетельствовать свое уважение к вам?
– Вам трудно будет выполнить мою просьбу, мадам. Мне нужен хороший компас. Небольшой, но точный.
– Вы просите не много, Папийон. И в то же время задача эта непростая – осталось всего три недели до отъезда. Будет трудно, но я постараюсь выполнить вашу просьбу.
За неделю до отъезда эта добрая женщина, не сумев достать подходящего компаса на островах, отправилась в Кайенну на судне прибрежного плавания, вернулась через четыре дня и преподнесла мне великолепный противомагнитный компас.
Майор Барро с женой уехали сегодня утром. Вчера бывший комендант передал правление на островах Салю другому человеку в том же звании. Новый комендант родом из Туниса, зовут его Пруйе. Хорошая новость: новый комендант утвердил Дега в должности главного бухгалтера. Это очень важно для всех, особенно для меня. Выступая перед заключенными, выстроенными в каре на большом дворе, новый комендант произвел впечатление энергичного и при этом интеллигентного человека. Кроме всего прочего, он сказал:
– С сегодняшнего дня я принимаю на себя обязанности коменданта на островах Салю. Убедившись, что методы работы моего предшественника принесли положительные результаты, я не вижу причины менять что-либо. Я не вижу необходимости менять ваш образ жизни при условии, что ваше поведение не вынудит меня это сделать.
Я радовался отъезду майора Барро и его жены по вполне понятным причинам. Пролетели пять месяцев вынужденного ожидания, пролетели с невероятной быстротой. Эта фальшивая свобода, которой бы радовался почти любой каторжник, игра в карты, рыбалка, разговоры, новые знакомства, споры, драки и все прочие производные этой жизни мне пока еще не успели надоесть и наскучить.
Правда, я и сам не позволял себе с головой окунаться в эту обстановку. Каждый раз, когда я заводил нового приятеля, я мысленно сам себе задавал вопрос: «А мог бы он стать кандидатом на побег? Мог бы помочь в подготовке побега, если сам не решится на это?»
Бежать! Бежать! Бежать одному, бежать с другими, но бежать! Я жил только этим. Навязчивая идея захватила меня целиком, но я не делюсь ею ни с кем, как и советовал мне Жан Кастелли. Я не позволю себе расслабиться и осуществлю свою мечту: я решительно настроен на побег и сделаю это.
Тетрадь седьмая Острова Салю (Продолжение)
Плот в могиле
К концу пятого месяца я знал уже на острове все углы и закоулки. Пришел к выводу, что самым подходящим местом, где можно было бы подготовить плот, является сад моего друга Карбоньери по соседству с кладбищем. Правда, он уже там не работал. Я стал уговаривать Карбоньери вернуться на прежнее место и никого не брать себе в помощники. Карбоньери согласился, а Дега помог ему занять прежнюю должность.
Сегодня утром, проходя мимо дома нового коменданта с богатым уловом барабульки на проволоке, я услышал, как слуга-заключенный, или «мальчик по дому», сказал молодой женщине:
– Мадам, вот тот человек, который ежедневно приносил рыбу мадам Барро.
Миловидная смуглая брюнетка, похожая на алжирку, спросила:
– Так это Папийон? – И тут же обратилась непосредственно ко мне: – Я имела удовольствие отведать ваших крабов у мадам Барро. Зайдите. Стаканчик вина с ломтиком козьего сыра, только что полученного из Франции, не помешают.
– Спасибо, мадам, но не могу.
– Почему? Вы же заходили к мадам Барро, а почему не можете ко мне?
– Потому что я это делал только с разрешения ее мужа.
– Послушайте, Папийон, мой муж командует лагерем, а я командую домом. Входите и не бойтесь.
Я сразу же почувствовал, что эта своевольная и хорошенькая женщина может оказаться для меня либо полезной, либо опасной. Я вошел в дом.
В столовой она угостила меня копченой ветчиной и сыром. Без всякой церемонии села напротив, налила мне вина, затем угостила кофе и превосходным ямайским ромом.
– Папийон, – сказала она, – несмотря на всю спешку, связанную с собственным отъездом и нашим приездом, мадам Барро все же нашла время немного рассказать о вас. Я знаю, что, кроме мадам Барро, вы больше никому не поставляли рыбу. Я надеюсь, что вы не откажете мне в таких же услугах.
– Я это делал из-за ее болезни. Что касается вас, мадам, то вы прекрасно себя чувствуете.
– Не буду вас обманывать, Папийон, я совершенно здорова, но я выросла в морском порту и очень люблю рыбу. Я из Орана. Меня беспокоит только одно: вы не берете денег, и это действительно неловко.
Короче, мы порешили на том, что я буду приносить рыбу. Выделив ей килограмма три барабульки и шесть крабов, я закурил. И в этот момент вошел комендант.
Увидев меня, он сказал:
– Жюльетта, мы, кажется, договорились, что, кроме мальчика по дому, никто из ссыльных не будет вхож в наш дом.
Я встал, но она удержала меня:
– Сядьте. Об этом ссыльном мне перед отъездом рассказала мадам Барро. Поэтому это тебя не должно касаться. Больше никто к нам не придет, кроме этого человека. К тому же при необходимости он будет снабжать нас рыбой.
– Ну хорошо, – сказал комендант. – Как вас зовут?
Я было приподнялся, чтобы ответить стоя, но Жюльетта, положив руку мне на плечо, усадила меня на место.
– Это мой дом, – сказала она. – Здесь нет коменданта. Это мой муж, месье Пруйе.
– Благодарю вас, мадам. Меня зовут Папийон.
– Ха! Я слышал о вас и вашем побеге из больницы в Сен-Лоран-дю-Марони три с лишним года тому назад. Но вот ведь в чем штука: один из троих надзирателей, которого вы оглушили, был не кто иной, как наш племянник.
При этих словах Жюльетта звонко расхохоталась. Смеялась искренне, от души, что свойственно молодым.
– Так-так! Значит, вы нокаутировали Гастона! Но это никак не должно испортить наши отношения!
Комендант все еще продолжал стоять. Он сказал, обращаясь ко мне:
– Количество убийств, совершаемых на островах ежегодно, просто невероятно. Гораздо больше, чем на материке. Чем вы можете это объяснить, Папийон?
– Месье комендант, отсюда люди не могут бежать, поэтому они становятся очень раздражительными. Здесь годами живут друг на друге и ходят по головам, поэтому чувства дружбы и вражды чрезвычайно развиты. Кроме того, из всех убийств, преднамеренных и непреднамеренных, раскрывается менее пяти процентов. Поэтому убийца всегда надеется выйти сухим из воды.
– Разумное объяснение. С каких пор вы увлекаетесь рыбной ловлей и какую вы работу выполняете, если можете ею заниматься?
– Я золотарь. Заканчиваю работу в шесть утра, что позволяет мне побродить с удочкой.
– Весь день? – спросила Жюльетта.
– Нет. В полдень я должен быть в лагере, а затем мне снова разрешается ловить с трех до шести вечера. Это не совсем удобно: из-за смены приливов и отливов иногда теряешь подходящее для ловли время.
– Дорогой, ты выдашь ему специальный пропуск, не так ли? – сказала Жюльетта, обращаясь к мужу. – С шести утра до шести вечера, вот он и будет ловить, когда ему нужно.
– Хорошо, – ответил комендант.
Я покидал их дом, очень довольный собой и собственным поведением. Три часа, с двенадцати до трех, представляли для меня большую ценность: это время сиесты (полуденного отдыха), когда почти все надзиратели спят, а следовательно, слабеет строгость надзора.
Жюльетта завладела мною полностью. Я превратился в личного рыболова, доставлявшего дары моря к ее столу. Более того, она иногда посылала мальчика по дому, довольно молодого заключенного, отыскать меня и забрать весь улов. Парень зачастую, словно из-под земли, вырастал передо мной и говорил: «Жена коменданта послала меня взять все, что ты наловил. Она ожидает гостей и хочет сделать рыбную похлебку с чесноком и пряностями». Или что-то в этом роде. Короче, все, что наловил, отбирается да еще дается специальный заказ поймать ту или иную рыбу да понырять как следует, чтобы принести больше крабов. Такое положение вещей представляло собой серьезное неудобство с точки зрения обеспечения рыбным меню нашего «шалаша». Но вместе с тем я, как никто другой, чувствовал себя в безопасности. К тому же она проявляла заботу обо мне.
– Папийон, в час дня высокий прилив, не так ли?
– Да, мадам.
– Приходите ко мне обедать, чтоб вам не возвращаться в лагерь.
И я частенько так и поступал. Принимала она меня не на кухне, а всегда в столовой. Садилась напротив, угощая меня тем или другим блюдом и наливая вина. Она была не такая деликатная, как мадам Барро. Очень часто, под тем или иным благовидным предлогом, задавала вопросы о моем прошлом. Я всегда избегал разговоров о своей жизни на Монмартре, а ее она интересовала больше всего. Я рассказывал о детстве и юности. А в это время комендант, как правило, отдыхал в спальне.
Однажды мне крупно повезло. Я пришел к ней в дом в десять утра с богатым уловом: принес шестьдесят крабов. Мадам Пруйе сидела в кресле в белом халате, а за спиной у нее стояла молодая женщина и завивала ей волосы. Я поздоровался и предложил дюжину крабов.
– Нет, отдашь весь улов, – сказала она, впервые обратившись ко мне на «ты». – Сколько поймал?
– Шестьдесят.
– Прекрасно. Положи их там, пожалуйста. Сколько нужно тебе с твоими друзьями?
– Восемь.
– Хорошо. Возьми восемь, а остальные отдай мальчику по дому, чтобы он положил их в холодильник.
Я не знал, что сказать. Никогда она не разговаривала со мной таким образом, напирая на фамильярное «ты», да еще в присутствии другой женщины, которая наверняка не удержится от сплетен. Я засобирался уходить, чувствуя себя страшно неловко, но она предупредила:
– Садись. Останься и выпей аперитив. Тебе, должно быть, жарко.
Ее безапелляционный тон настолько поразил меня, что я от неожиданности сел. Медленно отхлебывая аперитив из стакана небольшими глотками и покуривая сигарету, я принялся наблюдать за молодой женщиной, занятой прической комендантши. Не отрываясь от работы, она время от времени поглядывала в мою сторону. У Жюльетты в руках было зеркало, и она заметила это.
– Мой дружочек красив, правда, Симона? Поди, все женщины сгорают от ревности ко мне, разве не так?
И они обе весело рассмеялись. Я не знал, куда отвести глаза, и сморозил глупость:
– К счастью, ваш дружочек, как вы сами его назвали, не может быть очень опасным. То положение, в котором он находится, не позволяет ему быть чьим бы то ни было дружочком.
– Ты же не хочешь сказать, что не желаешь быть моим дружочком? – продолжала Жюльетта. – Ты один из тех львов, которого никто не смог приручить, а я тебя обведу вокруг своего мизинца. На это, должно быть, есть причина, как ты думаешь, Симона?
– Не знаю, какая причина тут кроется, – отвечала Симона. – Но вы, Папийон, настоящий медведь, которого вряд ли кто обломает, кроме жены коменданта. На самом деле это так. Такой медведь, что отказались на прошлой неделе дать жене старшего надзирателя две каких-то несчастных рыбешки. А сами, говорят, несли больше пятнадцати килограммов. Она вас так умоляла продать ей рыбу, поскольку в мясной лавке не было мяса.
– Ха-ха! Для меня это новость, Симона! – сказала Жюльетта.
– А вы знаете, что он ответил мадам Каргере на днях? – продолжала Симона. – Она увидела, как он идет с крабами и большой муреной, и стала уговаривать его продать ей мурену или хотя бы половину. «Мы, бретонцы, знаем, как хорошо приготовить этого угря», – заверяла мадам Каргере. «Не только бретонцы могут оценить его по достоинству, – ответил ей Папийон. – Многим известно, включая и тех, кто проживает в Ардеше, что еще древние римляне готовили из мурены первоклассные блюда». И пошел дальше, так и не продав ей ни кусочка.
Женщины долго и весело смеялись.
Я возвращался в лагерь в плохом расположении духа и в тот же вечер обо всем рассказал своим друзьям.
– Дело серьезное, – заметил Карбоньери. – Эта краля ставит тебя в опасное положение. Ходи туда как можно реже, и только тогда, когда убедишься, что комендант дома.
Все с ним согласились. Я тоже решил придерживаться этой линии поведения.
В плане осуществления побега я вышел на столяра из Валанса, который почти что был моим земляком и отбывал срок за убийство лесничего из государственного заповедника. Он оказался заядлым игроком и постоянно ходил в долгах как в шелках. Днем он работал как одержимый, чтобы ухватить деньжат, а вечером спускал их в карты до последней монеты. Под бременем долгов он вынужден был выполнять ту или иную работу по заказу кредиторов. Например, сделает шкатулку из палисандрового дерева, которая стоит все триста франков, а ему заплатят только полтораста или двести от силы. В общем, кредиторы пользовались его зависимым положением к собственной выгоде. Я решил энергично заняться обработкой этого парня.
Однажды в умывальнике я сказал:
– Хочу потолковать с тобой вечерком, буду ждать в сортире. Кивну, когда надо.
Итак, в тот вечер мы уединились для тихого и спокойного разговора.
Я начал:
– Ты знаешь, Бурсе, мы ведь с тобой земляки.
– Нет, не знаю. А каким образом?
– Ты ведь из Валанса?
– Да.
– А я из Ардеша. Значит, земляки.
– И что из того?
– А вот что: надоело смотреть, как они на тебе ездят! Ты задолжал им деньги, а они платят тебе только половину того, что стоит твой товар. Неси мне и получишь полную цену. Вот и все.
– Спасибо, – сказал Бурсе.
И я стал помогать ему то здесь, то там, сглаживая натянутые отношения между Бурсе и его кредиторами. Все шло хорошо, пока он не задолжал крупную сумму Вичиоли, бандиту-корсиканцу, с которым я поддерживал тесные дружеские отношения. Бурсе первым мне признался, что ему угрожает расправой Вичиоли, если он не вернет долг в семьсот франков. У Бурсе нет таких денег, но он сейчас варганит письменный стол, а когда закончит, не знает. Нужно сказать, что мебель по индивидуальному заказу делать в лагере не разрешалось – на это уходило много древесины, и поэтому кустари-одиночки работали тайком. Я успокоил Бурсе, пообещав уладить дело, а сам договорился с Вичиоли совершенно о другом.
Вичиоли должен был поднажать на Бурсе, чтобы тот почувствовал, что запахло жареным, а я вовремя появлюсь и разряжу обстановку. Так и произошло. Бурсе после этого случая четко сидел у меня в кармане и не высовывался оттуда. Мне этого только и надо было! Он полностью доверился мне и абсолютно не сомневался, что если бы не я, то ему конец. Впервые за свою каторжную жизнь Бурсе вздохнул свободно. И тут я решил рискнуть.
Однажды вечером я заявил:
– У меня для тебя припасено две тысячи франков, если сделаешь то, что скажу. Мне нужен плот, достаточно большой, чтобы выдержать двоих. Его надо делать секциями, чтобы потом можно было собрать.
– Послушай, Папийон, никому бы не согласился делать, а тебе сделаю, пусть даже получу за это два года одиночки. Но вся гадость в том, что мне не вынести столько дерева из столярки.
– Найдутся, кто сможет.
– Кто?
– «Колясочники». Нарик и Квенье. Как ты думаешь, с чего начать?
– Сначала надо сделать масштабный чертеж плота в целом и по секциям. Потом приступить к изготовлению каждой детали в отдельности со всеми необходимыми пазами, гнездами, подогнать все части. Это все ясно. А вот где взять легкую плавающую древесину? Здесь, на островах, можно достать только материал твердых и тяжелых пород, а он тонет.
– Когда дашь знать?
– Дня через три.
– Пойдешь со мной?
– Нет.
– Почему?
– Боюсь акул и утонуть.
– Обещаешь помогать мне до конца?
– Клянусь жизнью своих детей. Только на это уйдет много времени.
– Послушай меня внимательно: с сегодняшнего дня я буду принимать все меры предосторожности, чтобы отмазать тебя на случай какой-либо неприятности. Я сам сниму копию с чертежа плота, перенесу его на лист из тетради и внизу напишу: «Бурсе, если не хочешь, чтобы тебя убили, делай плот, как показано выше». После этого ты будешь получать от меня письменные задания на изготовление каждой секции. И как только секция будет готова, ты будешь оставлять ее в условленном месте, откуда ее заберут. Не пытайся выяснить, кто это сделал и когда (эта идея, казалось, его успокоила). Таким образом, если тебя и схватят, то не станут пытать и дадут от силы шесть месяцев.
– А что, если ты попадешься?
– На этот случай есть свой вариант. Я признаюсь, что записки писал я. Ты, конечно, сохранишь все мои задания. Договорились?
– Да.
– Не боишься?
– Нет. Теперь не боюсь и буду рад тебе помочь.
О своем разговоре я никому ничего не сказал. Ждал окончательного и определенного ответа от Бурсе. Потянулись томительные дни ожидания, которым, казалось, не будет конца. В итоге, лишь неделю спустя утром в воскресенье нам представилась возможность встретиться в библиотеке и поговорить наедине. В библиотеке, кроме нас, никого не было. Внизу, во дворе под умывальником, вовсю шла игра. Собралось там до восьмидесяти игроков и столько же зевак.
От первых слов Бурсе сердце мое радостно затрепетало.
– Задачка оказалась дико сложной! Я говорю о том, что надо иметь под рукой необходимый запас сухого легкого дерева. Но я ее решил таким образом: сначала я делаю деревянный каркас, а затем полость плота нужно плотно набить сухими кокосовыми орехами. Легче материала не придумаешь, к тому же скорлупа прочна и водонепроницаема. Когда плот будет готов, тебе остается только запастись орехами. Завтра я приступаю к работе над первой секцией. Закончу через три дня. В любое время после четверга кто-нибудь из свояков-«колясочников» может забрать ее. Желательно во время сиесты. И пока ее не вынесут из столярки, я не начну новую секцию. Вот тебе чертеж, сними копию и напиши, как обещал. Ты уже говорил с «колясочниками»?
– Нет еще. Я ждал твоего ответа.
– Ну теперь ты его знаешь.
– Спасибо, Бурсе. Не знаю, как тебя и благодарить. Вот, держи пятьсот франков.
Глядя прямо мне в глаза, он ответил:
– Оставь деньги себе. Они еще пригодятся тебе при побеге, когда окажешься на материке. С сегодняшнего дня я прекращаю играть до самого твоего отъезда. А на сигареты и бифштекс я заработаю мелкими поделками.
– Почему ты все-таки не хочешь взять деньги?
– Я бы и за десять тысяч не взялся за это дело. Слишком опасно. А задаром – в этом что-то есть. Ты мне помог, ты единственный, кто за меня заступился. Хоть и боязно, но все равно я буду счастлив помочь тебе обрести свободу.
Я засел за копирование чертежа на листке бумаги, вырванном из тетради. И стыдно было за себя перед простым, прямодушным Бурсе. Ему и в голову не пришло, что мое поведение диктовалось голым расчетом и с самого начала было неискренним. Но чтобы оправдаться перед самим собой и не утратить чувства самоуважения, я стал настойчиво внушать себе, что вынужден так поступать, поскольку надо бежать во что бы то ни стало, даже ценой некрасивых ухищрений, пользуясь не всегда приятными ситуациями. Вечером я поговорил с Нариком и попросил его передать наш разговор свояку. Он ответил, даже не задумываясь:
– Можешь на меня рассчитывать. Я вынесу секции из столярки, но только не очень торопи нас. Надо подождать, когда на остров завезут материал для какого-нибудь большого строительства, вот тогда мы и вывезем все под шумок. Во всяком случае, обещаю, что не упустим ни малейшей возможности.
Прекрасно. Теперь осталось переговорить с Матье Карбоньери, с ним бы я убежал с удовольствием. И он согласился на все сто процентов.
– Матье, нашелся человек, который сделает мне плот. Нашелся еще один, который вынесет плот из столярных мастерских. Подыщи местечко в своем саду, где можно было бы его зарыть.
– Нет, в огороде слишком опасно. Туда по ночам наведываются багры воровать овощи. А если они прошвырнутся по грядкам да увидят, что под ними что-то спрятано? Тогда нам конец. Я лучше поддолблю подпорную стенку, выну из нее большой камень и устрою там нишу. Как только секцию принесут, я вынимаю камень, прячу ее и ставлю камень на место.
– Выходит, секцию надо нести прямо к тебе в огород?
– Нет, слишком рискованно. «Колясочники» ни за что не объяснят, что они делают в моем саду. Хорошо бы разработать четкую схему, в каких местах у огорода «колясочники» могут оставлять секции.
– Правильно.
Казалось, все шло гладко. Дело оставалось за кокосовыми орехами. Я ума не мог приложить, как достать такую уйму орехов, да еще не привлекая к себе никакого внимания.
Меня охватило такое чувство, будто я только-только начинаю жить или, вернее, возвращаюсь к жизни. Что еще осталось сделать? Поговорить с Гальгани и Гранде. Я не могу молчать. Я не имею права молчать, иначе их могут обвинить в соучастии. Лучше всего было бы объявить о моем разрыве с ними и о решении жить отдельно. Но когда я заявил, что готовлюсь к побегу и что мне следует отделиться от них, меня здорово отругали, резко возразив мне:
– Можешь отправляться хоть завтра, хоть сегодня. Мы как-нибудь перекантуемся. А пока оставайся с нами, мы сможем тебя прикрыть.
Прошел месяц с того дня, как план побега начал действовать. Семь секций я уже получил, из них две – большие. Осмотрел подпорную стену, в которой Матье Карбоньери устроил тайник. Он так искусно замаскировал мхом нарушенную кладку, что было совершенно незаметно, когда камень сдвигали. Тайник был прекрасно сработан, но мне казалось, что ниша недостаточно велика, чтобы вместить плот полностью. На какое-то время места все-таки хватит.
Сам же факт подготовки к побегу настолько взбодрил и воодушевил меня, что я воспрянул духом. Я и раньше не жаловался на аппетит, теперь же стал питаться еще лучше. Рыбалка здорово укрепляла меня физически. В довершение всего, я занялся скалолазанием и уделял этому делу не менее двух часов в день. Все внимание я сосредоточил на тренировке ног, руки же крепли сами по себе благодаря рыбалке. Я придумал еще одно прекрасное упражнение для ног: во время рыбалки я заходил в воду глубже обычного, и набегавшие волны разбивались о меня, массируя икры и бедра. Сопротивляясь их напору, каждая мышца напряженно работала. Результат превзошел все ожидания.
Жюльетта, жена коменданта, была по-прежнему мила со мной, но она заметила, что я стал появляться у нее в доме только в присутствии мужа. Об этом она и сказала мне со всей откровенностью и, чтобы вывести меня из неловкого положения, не дать запутаться и завраться в объяснениях, добавила, что в прошлый раз, во время укладки волос, она пошутила. А молодую женщину, выполнявшую тогда роль парикмахера, я встречал часто, возвращаясь с рыбалки. И каждый раз она находила для меня приятное слово: «Как здоровье? Как дела?» В общем, все шло прекрасно. Бурсе не упускал случая, чтобы сделать новую секцию. Прошло уже два с половиной месяца.
Как я и предвидел, потайное место заполнилось до отказа. Вот-вот должны прибыть две самые длинные секции: одна – около двух метров, другая – полтора, и, конечно, они не войдут в тайник.
Я заметил на кладбище свежую могилу. На прошлой неделе умерла жена одного надзирателя. На могиле лежал жалкий увядший букетик цветов. Сторож-каторжник уже старожил в этих местах и действительно стар и почти слеп. Все зовут его Папа. Он постоянно сидит у ограды в тени кокосовой пальмы. Могила с его места не просматривается, невозможно также увидеть, кто к ней подошел. У меня возникла мысль, что было бы неплохо использовать могилу для сборки плота и заполнения его каркаса кокосовыми орехами. Орехов понадобилось не больше тридцати – тридцати четырех, гораздо меньше, чем мы ожидали. У меня их скопилось более пятидесяти по разным местам. Только во дворе у Жюльетты хранилась целая дюжина. Мальчик по дому, вероятно, подумал, что я их берегу до поры до времени, а потом займусь выжимкой масла.
Как раз в это время до меня дошел слух, что муж покойной уехал служить на материк. Стечение обстоятельств как нельзя лучше позволяло убрать часть земли и докопаться до самого гроба.
И вот уже Матье Карбоньери сидит на стене, выполняя роль наблюдателя. На голове у него белый носовой платок, завязанный четырьмя узлами по уголкам. Рядом лежит такой же платок, только красный. Нет никакой опасности – на голове белый платок. Появился кто-то на горизонте, не важно кто, – на голове красный.
Я проделал эту опасную работу за один день и вечер. Яму пришлось расширить в расчете на размеры плота да еще с полутораметровым запасом, чтобы не рыть вглубь и не выгребать землю от самого гроба. Время тянулось медленно, и красный платок на голове Карбоньери появлялся несколько раз. Наконец сегодня утром все было готово. Яма прикрыта матами, сплетенными из пальмовых веток. Получился достаточно прочный настил наподобие пола. Сверху все засыпано землей с бровкой по периметру. Полная имитация могилы, яма почти не заметна. Я весь выдохся и еле держался на ногах.
Прошло три месяца со дня начала подготовки к побегу. Все секции плота, пронумерованные и собранные, вытащены из тайника и лежат теперь на гробе доброй женщины – вечная ей память! Плот укрыт матами, засыпанными сверху землей. В потайном месте, в стене, уже лежат три мешка из-под муки и два метра каната для паруса, бутылка со спичками и дюжина банок сгущенного молока. Пока все.
Бурсе весь в делах, активность его просто поразительна. Можно подумать, бежать собирается он, а не я. Нарик жалеет, что не согласился на побег с самого начала, а то бы плот можно было сделать на троих.
Наступил сезон дождей. Дождь идет почти каждый день, это мне на руку, когда я отправляюсь к тайнику готовить плот к плаванию. Пока остались незакрепленными две доски по бокам каркаса. Постепенно переношу кокосовые орехи все ближе и ближе к саду моего приятеля. Они лежат у меня в открытом загоне для быков, откуда их легче будет забрать, и притом без всякого риска. Друзья не спрашивают, какой стадии готовности я достиг. Иногда, как бы между делом, спросят:
– Лады?
– Нормально.
– Скоро?
– Скорее нельзя – рискованно.
На этом разговор и прекращался. Когда я забирал свои орехи от Жюльетты, пришлось натерпеться страху.
– Папийон, ты собираешься делать кокосовое масло? А почему не у меня на дворе? Вон деревянная колотушка – и коли свои орехи сколько влезет. А я дам тебе большую кастрюлю.
– Я лучше займусь этим в лагере.
– Странно! Там же неудобно. – Подумав с минуту, она сказала: – Знаешь, я что-то не верю, что ты вообще собираешься делать масло. – Меня прошиб холодный пот, а она продолжала: – Во-первых, что ты собираешься делать с этим маслом? Если оно тебе очень нужно, можешь взять у меня оливковое. Бери, сколько тебе надо. Орехи пойдут для другого дела, не так ли?
Я уже обливался холодным потом. Уже ждал: вот-вот с ее языка сорвется слово «побег». Мне стало нечем дышать.
– Мадам, это секрет. Но раз вы так любопытны и хотите непременно знать, то я скажу, что вы сами испортили сюрприз. Я отобрал эти большие орехи, чтобы сделать из скорлупы приятную вещицу для вас. Вот и вся правда.
Жюльетта поверила. Она стала возражать:
– Папийон, не надо меня так баловать. Я запрещаю тебе тратить деньги на какие-то безделушки для меня. Я тебе очень благодарна, поверь мне, очень. Но прошу тебя не делать этого.
– Хорошо, я подумаю.
Фу! Надо расслабиться. И я тут же попросил аперитив, чего раньше никогда не делал. К счастью, она не заметила моего волнения. Боже, пронесло!
Каждый день идет дождь, особенно после полудня и ночью. Я стал опасаться за тайник: как бы вода не смыла набросанную сверху землю и не обнажила плетеные пальмовые маты. Матье следит за ним постоянно, он подновляет его свежей порцией земли взамен унесенной водой. А внизу, очевидно, все промокло и поплыло. С помощью Матье я стащил маты с могилы и увидел, что вода уже плещется поверх крышки гроба. Дело принимало серьезный оборот. Почти вплотную к могиле прилегал склеп, в котором были похоронены два мальчика, скончавшиеся давным-давно. Однажды мы сдвинули надгробную плиту в сторону, и я спустился в склеп. Коротким ломиком принялся пробивать бетонную стенку со стороны могилы, где хранился плот. Я старался бить как можно ниже. Наконец бетон прошит насквозь. Едва лом коснулся земляной перегородки, из отверстия хлынула вода. Она била струей из нашей могилы. Я вылез из склепа, когда вода доставала уже до колен. Надгробную плиту поставили на прежнее место, и я прошелся по ее краям белой оконной замазкой, которую дал мне Нарик. Эта операция позволила сдренировать воду из тайника наполовину. Вечером Карбоньери предрек:
– Пожалуй, эти напасти, связанные с нашим побегом, никогда не прекратятся.
– Мы почти что у цели, Матье.
– Почти, хорошо бы так. Мы с тобой как два кота на горячих угольях, очень горячих.
Утром я отправился на пристань и попросил Шапара купить мне два килограмма рыбы. Я приду за ней днем. От Шапара пошел к Карбоньери. Подходя к саду, я заметил три белые фуражки. Какая нелегкая принесла этих багров? Чего им тут надо? Неужели обыск? Что-то не так. Ни разу не видел в саду Карбоньери трех багров сразу. Больше часа я выжидал. Наконец это мне надоело, и я решил идти напролом – будь что будет, а надо выяснить, в чем дело. Совершенно открыто я вышел на тропинку, ведущую в сад. Багры стали за мной наблюдать. Когда до них оставалось не более двадцати метров, было чрезвычайно забавно видеть, как Матье надевает на голову белый платок. Я перевел дух и успел собраться с мыслями.
– Доброе утро, месье инспекторы. Доброе утро, Матье. Я пришел за папайей, которую ты мне обещал.
– Прости, Папийон, но пока я утром ходил за палками для подпорки бобов, кто-то ее стащил. Но дня через четыре созреют другие, они уже начали желтеть. Прошу вас, месье инспекторы, возьмите салатика, редисочки, помидорчиков – жены ваши будут довольны.
– Сад у тебя хорошо ухожен, Карбоньери, – заметил один из них. – Поздравляю.
Они взяли помидоры, салат, редиску и ушли. Но я отчалил первым незадолго до их ухода, как бы нарочито подчеркивая, что мне здесь больше и делать нечего. Пошел через кладбище. Дождь смыл половину земли с могилы. За десять метров от нее я смог уже различить маты. Если нас еще не раскрыли, значит, о боже, опять пронесло.
Каждую ночь яростно дул ветер, протяжно завывая и со свистом проносясь над плато. Он часто сопровождался дождем. Пусть и дальше так дует – это вселяет в нас надежду. Идеальные условия для побега. Но только не для тайника в могиле.
Самый большой двухметровый деревянный брус доставлен благополучно. Он предназначен для соединения секций плота. Я даже попробовал установить его: направляющие ребра жесткости вошли в пазы тютелька в тютельку. Бурсе то и дело прибегает в лагерь, чтобы выяснить, получил ли я брус – эту длинную и очень важную деталь. Она выглядит необычно и очень громоздка. Он рад-радешенек, что все прошло как нельзя лучше. Можно было подумать, что его мучили какие-то сомнения. Я задал вопрос:
– В чем не уверен? Думаешь, кто-нибудь разузнал о нашей затее? Ты никому не проговорился? Скажи мне.
– Абсолютно никому.
– И все же, мне кажется, тебя что-то беспокоит. Говори!
– У меня какое-то скверное предчувствие. Один малый, по имени Бебер Селье, последнее время проявляет излишнее любопытство и вроде наблюдает за мной. Да и насчет этого бруса тоже. Он видел, как Нарик взял его из-под верстака, положил в бочку с известью и вышел из столярки. Бебер Селье следил за ним до самых ворот двора. Свояки направлялись белить одно здание. Все это как-то беспокоит меня.
Я сказал Гранде:
– Этот Бебер Селье из нашего блока. Он не может быть стукачом.
– Но он шатается по мастерским, когда и где ему заблагорассудится. Он из тех отбросов нашей армии, которыми комплектуются штрафные батальоны. По харе видно. Он прошел через все военные тюрьмы Алжира и Марокко. Задирист и опасен с ножом, охоч до мальчиков и игрок. Он никогда не жил на воле. Короче, ничего хорошего, да еще и опасен. Тюрьма ему мать родная. Если у тебя такие подозрения, действуй первым. Пришей его сегодня ночью. Если он и хочет тебя заложить, то уже не сможет.
– Но нет доказательств, что он стукач.
– Правильно, как и нет доказательств, что он порядочный парень. Ты же сам понимаешь, что подобного сорта каторжник очень не любит побеги. Любой побег нарушает их тихую, хорошо отлаженную жизнь. Чтоб они о чем-то когда донесли – боже упаси! А насчет побега – кто знает?
Я посоветовался с Матье Карбоньери. Он тоже стоял на том, чтобы его ночью убить. Я был дурак, что остановил его. Сама идея убийства человека только по подозрению была мне ненавистна. А что, если это всего лишь плод воображения Бурсе? У страха глаза велики – еще не такое можно увидеть. Я задал вопрос Нарику:
– Ты что-нибудь заметил за Бебером Селье?
– Нет, ничего. Я нес бочку на плече, чтобы тюремщик у ворот не заглядывал в нее. Я договорился с Селье, что пойду перед ним и не буду снимать бочку с плеча, а у ворот подожду свояка, который должен был догнать меня. Так мы условились, чтобы араб видел, что я не спешу, и не пытался заглянуть в бочку. Но после свояк сказал мне, что, ему кажется, Селье за нами следит.
– А что ты сам думаешь?
– Думаю, что у свояка сдали нервы: деталь большая и очень важная для плота. Конечно, он боялся. Может, он увидел то, чего и не было.
– Я тоже так думаю. Оставим все как есть. А насчет последней детали давай условимся: прежде чем ее взять, убедись, где Селье. В общем, будь осторожен с ним так же, как и с любым багром.
Всю эту ночь я играл в карты как сумасшедший. Выиграл семь тысяч франков. Чем рискованней играл, тем больше выигрывал. В половине пятого вышел из игры, сославшись на усталость. Сказал негру с Мартиники, чтобы работал за меня. Дождь прекратился, и я пошел на кладбище, хотя было еще совсем темно. Не мог найти лопату, поэтому стал набрасывать землю на могилу ногами. Около семи отправился на рыбалку. Уже ярко светило солнце. Двинулся к южной оконечности Руаяля – оттуда я намеревался спустить плот на воду. Море волновалось. У меня появилось такое чувство, что оторваться от острова на плоту будет нелегко. Волны могли подхватить его, как пушинку, и выбросить на скалы. Сразу же стал ловить и поймал много рыбы. Не успел и глазом моргнуть, как в садке у меня оказалось больше четырех килограммов. Я вычистил рыбу в морской воде и не стал больше ловить. На душе было неспокойно, да и усталость сказывалась после ночной игры. Присел под скалой, чтобы немного отдохнуть в тени. То напряжение, которое я постоянно испытывал в последние три месяца, достигло критической точки. Я снова стал размышлять о Селье и еще раз пришел к заключению, что убивать его я не имею права.
Пошел навестить Матье. Со стены его сада очень хорошо просматривается могила. Дождевые потоки нагнали на тропинку много земли. Карбоньери собирался расчистить ее в полдень. Я завернул к Жюльетте и отдал ей половину улова. Она сказала:
– Папийон, мне приснился плохой сон. Я видела тебя в крови и закованного в цепи. Не делай никаких глупостей. Если что-нибудь с тобой случится, я буду ужасно страдать. Этот сон меня настолько разволновал, что я не стала даже умываться и причесываться. Я взяла бинокль и пыталась увидеть, где ты ловишь, но не могла тебя найти. Где ты поймал эту рыбу?
– На другой стороне острова, поэтому вы меня и не увидели.
– А почему ты ходишь так далеко ловить?! Я не могу увидеть тебя даже в бинокль. А что, если тебя смоет волной? Никто не узнает и не сможет помочь тебе избежать пасти акулы.
– Ну что вы, не преувеличивайте.
– Ты считаешь это преувеличением? Я запрещаю тебе ловить на другом конце острова, а если не послушаешься, я прикажу отобрать у тебя специальный пропуск.
– Будьте благоразумны, мадам. Чтобы вы успокоились, я буду говорить вашему слуге, где я ловлю рыбу.
– Хорошо. Но ты выглядишь очень усталым.
– Да, мадам, я иду в лагерь, чтобы немного отдохнуть.
– Ну ладно. Я жду тебя в четыре на чашку кофе. Придешь?
– Благодарю, мадам, мы увидимся.
Да уж куда как успокоил меня этот сон Жюльетты! Как будто своих волнений не хватает, так на тебе, еще этот сон!
Бурсе сказал, что у него теперь нет никаких сомнений, что за ним следят. Уже две недели мы ждем последнюю полутораметровую секцию. Нарик и Кенье ничего необычного не замечают, но Бурсе по-прежнему тянет с этой обшивной доской. Если бы не пять пазов в детали, Матье сделал бы ее сам у себя в саду. Но здесь требуется точная подгонка к пяти принимающим ребрам. Нарик и Кенье ремонтируют часовню, они легко могли бы вынести секцию со двора мастерских. Они ездят на небольшом быке, запряженном в телегу, в которой хватает всякого материала. Таким удобным случаем просто грех было бы не воспользоваться.
Под нашим нажимом Бурсе, поступясь собственным, более здравым, как он считал, мнением, сделал деталь. Однажды Бурсе заявил, что в его отсутствие кто-то брал, он в этом уверен, обшивную доску и снова положил ее на место. Оставалось выдолбить только один паз. Мы решили, что Бурсе надо доделать секцию и спрятать под верхней частью верстака. Но посоветовали ему положить на нее волосок, чтобы убедиться, брал ее кто-нибудь или нет. В шесть часов он выдолбил паз и ушел из столярки последним, чтобы удостовериться, что в ней никого не осталось, кроме надзирателя. Секция лежала под верстаком, а на ней волосок. В полдень я был в лагере и поджидал возвращения из мастерских бригады строителей. В бригаде числилось около восьмидесяти человек. Вместе со всеми пришли Нарик и Кенье, но Бурсе не было. Ко мне подошел один немец и передал тщательно сложенную и заклеенную записку. Я видел, что записку не вскрывали. Я прочитал: «Волоска нет, кто-то трогал деталь. Я попросил багра разрешить мне остаться в мастерских, чтобы доделать небольшой сундучок из палисандрового дерева, над которым я сейчас работаю. Я возьму деталь и положу ее в инструмент Нарика. Скажи им. В три они должны обязательно вывезти ее со двора. Может, мы опередим негодяя, который следит за нами».
Нарик и Кенье согласились. Они пойдут в первой шеренге строительных рабочих. Как только колонна поравняется с мастерскими, двое затеют драку перед воротами. Эту услугу мы попросили оказать нам двух корсиканцев с Монмартра – Массани и Сантини, приятелей Карбоньери. Они даже не спрашивали для чего – значит, так надо. Нарик и Кенье воспользуются этим спектаклем, чтобы побыстрее вывезти строительный материал. Для них важнее всего завершить работы в часовне, а потасовки как бы вовсе их не интересуют. Мы по-прежнему считали, что у нас есть еще шанс. Если все завершится успешно, я могу выждать месяц-другой, ничего не предпринимая. Конечно же, кто-нибудь один или несколько человек могли пронюхать, что готовится плот. Пусть теперь попробуют выяснить, кто это делает и где находится потайное место.
Наконец пробило половина третьего. Люди стали собираться на работу. Полчаса ушло на перекличку. Колонна по четыре в ряд двинулась к мастерским. Бебер Селье в середине колонны. В колонне восемьдесят человек.
Нарик и Кенье в первой шеренге, Массани и Сантини в двенадцатой, Бебер Селье в десятой. Мне казалось, что все задумано и устроено хорошо. Пока еще бо́льшая часть колонны будет разбираться за воротами, что произошло, Нарик в это время уже доберется до своего материала, инструмента и заветной детали. Бебер еще не успеет пройти ворота, как два корсиканца, словно сумасшедшие, с дикими воплями набросятся друг на друга. Все, естественно, остановятся, включая и Бебера, чтобы посмотреть, из-за чего весь этот сыр-бор.
Четыре часа. Все произошло как нельзя лучше. Деталь вместе со всем строительным материалом – в часовне. Ее не успели пока продвинуть дальше, но и это уже хорошо. Я отправился навестить Жюльетту. Ее не было дома. Возвращаясь в лагерь, я проходил мимо здания администрации. Там в тени под навесом стояли Массани и Жан Сантини. Их ожидал карцер. Каждый знал: именно этим все и закончится. Я подошел и спросил:
– Сколько?
– Неделя, – ответил Сантини.
Багор-корсиканец заметил при этом:
– Черт возьми, и не стыдно?! Люди из одной страны – и дерутся между собой.
Я вернулся в лагерь. Шесть часов. Бурсе пришел довольный. Он сказал:
– Я словно только что от врача, который сначала определил у меня рак, а потом сказал, что ошибся и со мной все в порядке.
Карбоньери и другие мои приятели пребывали в приподнятом настроении. Они поздравили меня с успехом и похвалили за организаторские способности. Нарик и Кенье тоже были довольны. Все шло прекрасно. Ночью я спал как убитый, хотя с вечера меня приглашали играть в карты, но я отказался под предлогом головной боли. На самом деле я просто валился с ног от усталости, но был страшно доволен и счастлив, что вот-вот мои старания должны увенчаться успехом. Самое трудное уже позади.
Сегодня утром Матье перенес последнюю деталь в сад и спрятал пока в стене, поскольку в это же время сторож на кладбище разметал дорожки у могилы. Было бы глупо соваться туда в его присутствии. Теперь каждое утро на рассвете я спешу туда с деревянной лопатой, чтобы подправить могилу. Я набрасываю на нее землю и аккуратно ровняю. Иногда прохожусь метлой по прилегающим дорожкам. Вернулся к своему постоянному занятию – чищу параши. Разумеется, оставил и дублера. Уголок золотаря очень удобен для хранения деревянной лопаты и метел.
Прошло четыре месяца с начала подготовки к побегу и девять дней, как мы получили последнюю секцию. Дожди идут реже – не каждый день и не каждую ночь. Все мои помыслы связаны с днями икс. Первый – когда последняя секция перекочует из тайника в стене в могилу, где она будет поставлена на место и свяжет все ребра жесткости плота. Это могло быть сделано только днем. И второй день – день побега. Второй не может сразу же последовать за первым, поскольку, вынув плот из могилы, нам предстоит еще набить его орехами и разместить запасы провизии.
Вчера я поделился обо всем с Жаном Кастелли и сказал, на какой стадии подготовки находится вся операция. Он был рад за меня, за то, что я так близок к цели. Он сказал:
– Луна уже в первой четверти.
– Знаю. Она не помешает нам в полночь. В десять начинается отлив, поэтому в два ночи – самое подходящее время для спуска плота.
Мы с Карбоньери решили ускорить события. Завтра утром в девять надо поставить секцию. И этой же ночью отчаливаем.
На следующее утро, тщательно спланировав наши действия, я направился из сада на кладбище. Прыжком с опорой на лопату перемахнул через ограду. Подошел к могиле и стал сгребать землю с пальмовых матов. А в это время Матье поднял свой камень, вытащил секцию и принес ее мне. Вдвоем мы взялись за маты и оттащили их в сторону. Вот он, наш плот, в целости и сохранности. К нему пристало немного грязи, но это пустяки. Мы подняли плот, иначе не хватало места сбоку для установки секции. Наживив пазы на ребра, стали стучать по доске камнями, чтобы она плотно встала на место. Приладив секцию, мы уже начали опускать плот и посмотрели вверх. Прямо перед собой мы увидели надзирателя с направленной на нас винтовкой.
– Не двигаться! Стрелять буду!
Мы бросили плот и подняли руки. Я узнал багра: это был старший надзиратель из мастерских.
– Не вздумайте валять дурака и сопротивляться. Вы попались. Сдавайтесь, – может, шкуру свою спасете. Или хотите, чтобы я нафаршировал вас свинцом? Давай вылезай, да ручки-то, ручки не опускайте. Шагайте к административному зданию!
На выходе из ворот кладбища нам повстречался тюремщик-араб. Багор сказал ему:
– Мохамед, благодарю за работенку. Завтра утром зайдешь ко мне и получишь обещанное.
– Спасибо, – ответил араб, – непременно приду. Но, начальник, с Бебера Селье ведь тоже причитается, а?
– С ним разберешься сам, – сказал багор.
– Так это Бебер Селье выдал нас с потрохами, начальник? – спросил я.
– Я этого не говорил.
– Не важно. Хорошо, что мы это узнали.
Продолжая держать нас на прицеле, багор сказал:
– Мохамед, обыщи их.
Араб вытащил нож у меня из-за пояса. Нашел нож и у Матье.
– А ты шустрый парень, Мохамед, – сказал я. – Как тебе удалось все выведать?
– А я каждый день залезал на пальму и высматривал, где вы прячете плот.
– А кто тебя просил этим заниматься?
– Сначала Бебер Селье, а потом надзиратель Брюэ.
– Много болтаешь, – сказал багор. – Шагай! Можете опустить руки и поживей ножками.
Четыреста метров, отделявшие нас от административного здания, показались мне самой длинной дорогой за всю мою жизнь. Я был раздавлен. Предпринять столько усилий и попасться, как двум воробьям на мякине! Боже, как ты жесток ко мне!
Наш «поход» к зданию администрации вызвал всеобщее возбуждение. По пути к нам присоединялись другие надзиратели, а первый все еще не сводил с нас ствол винтовки. Когда мы подходили к зданию, за нами уже тянулся хвост из семи или восьми багров.
Коменданту уже обо всем доложили: араб дунул бегом впереди нас, как заправский скороход. Комендант встретил нас на ступеньках здания. С ним были Дега и пятеро главных надзирателей.
– Что случилось, месье Брюэ? – спросил комендант.
– А случилось то, что я поймал этих двоих на месте преступления. Они прятали плот – готовенький плот, как я полагаю.
– Что скажешь на это, Папийон?
– Ничего. Буду говорить на следствии.
– Отведите их в изолятор.
Меня посадили в камеру, окно которой, почти наглухо заколоченное, выходило на кабинет коменданта над входом в здание администрации. Камера темная, но с улицы доносились голоса, и было слышно, как разговаривают люди.
Дело раскручивалось быстро. В три – на нас надели наручники и вывели из изолятора. В большой комнате, куда нас привели, заседал некий суд: комендант, его заместитель, главный надзиратель. Дега сидел в стороне за маленьким столом, очевидно для ведения протокола допроса.
– Шарьер и Карбоньери, слушайте рапорт, поданный на вас месье Брюэ: «Я, Огюст Брюэ, старший инспектор, начальник строительных мастерских на островах Салю, обвиняю двоих заключенных, Шарьера и Карбоньери, в воровстве и использовании не по назначению казенных строительных материалов. Я обвиняю столяра Бурсе в соучастии в преступлении. Я также считаю Нарика и Кенье соучастниками преступления. И наконец, я заявляю, что застал Шарьера и Карбоньери на месте преступления при совершении акта осквернения могилы мадам Прива, которую они использовали в качестве потайного места для плота».
– Что скажете? – спросил комендант.
– Во-первых, Карбоньери не имеет к этому делу никакого отношения. Плот рассчитан только на одного человека. Я имею в виду себя. Я просто попросил его помочь оттащить маты с могилы, одному мне было не справиться. Следовательно, Карбоньери не может быть обвинен ни в воровстве казенных материалов, ни в использовании их не по назначению. Он также не может быть обвинен в соучастии в побеге, ибо побег как таковой не состоялся. А этому парню, Бурсе, я пригрозил, что убью, если не будет делать то, что сказано. Что касается Нарика и Кенье, то я едва их знаю. И к этому делу они ни пришей ни пристегни.
– Это не так. Мой информатор показывает другое, – сказал багор.
– Этот Бебер Селье, ваш стукач, может наговорить вам турусы на колесах, приплетя к этому делу совсем невинных людей. Как можно доверять доносчику!
– Короче, – сказал комендант, – вы обвиняетесь в воровстве и использовании не по назначению казенных материалов, в осквернении частной могилы, а также в попытке совершить побег. Будьте добры подписать протокол.
– Я не подпишу, пока не увижу в протоколе мое заявление относительно Карбоньери, Бурсе и свояков Нарика и Кенье.
– Принимается. Впишите данное заявление в качестве дополнения к протоколу.
Я подписал. Просто нельзя выразить словами, что творилось у меня на душе с момента нашей последней неудачи! В изоляторе я словно помешался: почти не ел, не ходил, но курил и курил сигарету за сигаретой, благо Дега хорошо снабдил меня табаком. Каждое утро мне давали час для прогулки во дворе изолятора.
Сегодня утром ко мне зашел комендант и имел со мной разговор. Получалась прелюбопытная вещь: если бы побег удался, он пострадал бы больше всех. И все же именно он сердился на меня меньше всех.
Улыбаясь, он сказал мне, что его жена пыталась ему втолковать, что для человека стремление к побегу из мест заключения вполне естественно, если он не совсем деградировал и не деморализован полностью. Очень тонко комендант пытался выудить из меня признание в соучастии Карбоньери. Но мне показалось, что я сумел убедить его в обратном. Я доказывал, что Карбоньери просто не мог отказать мне в минутной помощи – оттащить маты с могилы.
Бурсе представил следствию мою записку с угрозами и мой чертеж. В отношении Бурсе комендант полагал, что именно так оно и было. Я спросил коменданта, что мне грозит за воровство казенного материала.
– Не более восемнадцати месяцев, – сказал он.
Короче, я стал постепенно выплывать из той пучины, в которую погрузился с головой. Шаталь прислал записку, что Бебер Селье находится в больнице в палате на одного человека. Он ждет отправки на материк. Редчайшая болезнь приключилась с ним – нарыв в печени! Похоже, диагноз состряпан администрацией и врачом во избежание мести.
Меня ни разу не обыскивали и не устраивали шмон в камере. Я воспользовался этим и достал нож. Мне его прислали. Я попросил Нарика и Кенье потребовать у коменданта очную ставку между старшим надзирателем из мастерских, Бебером Селье, столяром и мной, с одной стороны, и ими – с другой, после чего пусть комендант сам решает, продолжать ли их допрашивать, подвергнуть ли дисциплинарному наказанию или освободить и вернуть в лагерь.
Сегодня на прогулке Нарик сказал мне, что комендант согласился. Очная ставка состоится завтра в десять утра. Следственную часть поручено провести главному надзирателю. Всю ночь я боролся с самим собой, взвешивал все за и против. Я намеревался убить Бебера Селье. Я не смог переубедить себя изменить решение. Нет, крайне некрасиво получается – позволить убраться этому гнусу на материк за подлость и там совершить побег – это в награду за провал нашего! Да, но в таком случае тебя, дорогой мой, могут приговорить к смертной казни, обвинив в злом умысле. Да и хрен с ним! Такое вот я и принял решение, окончательное и бесповоротное. Не осталось никаких надежд. Четыре месяца ожиданий и радости, страха, что попадешься, тщательно продуманных действий и усилий – и что же в результате? Все, казалось, уже на мази, и все так жалко и бездарно разрушил мерзкий язык стукача. Будь что будет! Завтра я должен убить Селье!
Единственная возможность избежать смертного приговора – это заставить Селье вынуть нож. А для этого он должен ясно увидеть, что мой уже наготове. Тогда он определенно выхватит свой. Надо, чтобы все это произошло прямо перед очной ставкой или сразу же после нее. Во время устного разбирательства убить Селье не будет никакой возможности, поскольку есть риск, что багор пристрелит тебя. Я положился на беспечность надзирателей, которая давно вошла в пословицу.
Всю ночь я боролся с этой навязчивой идеей и никак не мог ее подавить. В жизни есть такие вещи, которые нельзя прощать. Знаю, что никто не имеет права чинить самосуд, но эти рассуждения для людей другого социального круга. Просто непостижимо – нельзя думать о наказании, безжалостном наказании такого ползучего гада, такой низкой твари. Я не сделал этой залетной птичке ничего плохого, он даже не знал меня. Значит, он отправляет меня на энное количество лет в одиночку за просто так, не имея ничего лично против меня. Он стремится похоронить меня заживо, чтобы жить самому. Можно ли смириться с этим? Нет, я не мог. Непостижимо, чтобы эта канализационная крыса жуировала за счет других. Для меня, во всяком случае, непостижимо. Он мне устроил веселенькую жизнь. Ну и я ему устрою еще покруче. А как насчет смертного приговора? Так глупо подыхать из-за паскудной гниды! Я дал себе единственный зарок: если он не выхватит нож – пусть живет, падаль.
Не спал всю ночь, выкурил пачку сигарет. Осталось две, когда в шесть утра принесли кофе. Нервы натянуты до предела, и, хотя это было запрещено, я сказал разносчику в присутствии надзирателя:
– Дай мне несколько сигарет или немного табаку с разрешения начальника. Я на пределе, месье Антарталия.
– Да, дай ему, если есть. Искренне сочувствую тебе, Папийон. Я корсиканец и уважаю настоящих мужчин. Презираю мерзавцев.
Без четверти десять я уже был во дворе и ждал, когда меня поведут в главную комнату. Рядом стояли Нарик, Кенье, Бурсе и Карбоньери. К нам был приставлен надзиратель Антарталия, который присутствовал при раздаче кофе. Он разговаривал с Карбоньери по-корсикански. Из их разговора я понял, что он сочувствует Карбоньери, которому грозит до трех лет одиночки. В это время открылись ворота, и во двор вошли араб, лазавший на пальму, араб-тюремщик из строительных мастерских и Бебер Селье. Увидев меня, он отпрянул назад, но надзиратель, находившийся рядом с ними, сказал ему:
– Иди вперед и держись в стороне от остальных. Встань вон там справа. Антарталия, не позволяй им общаться между собой.
Нас отделяло друг от друга не более двух метров. Антарталия сказал:
– Никаких разговоров!
Карбоньери продолжал говорить по-корсикански с соотечественником, который теперь следил за обеими группами. Багор наклонился, чтобы поправить развязавшийся шнурок на ботинке. Я тихонько подтолкнул Матье вперед. Он все понял. Посмотрел на Бебера Селье и плюнул в его сторону. Когда багор снова выпрямился, Карбоньери, не прерывая разговора, настолько завладел его вниманием, что первый даже не заметил, что я сделал шаг вперед. В ладонь из рукава скользнул нож. Только Селье мог его видеть. С неожиданной быстротой он глубоко вонзил мне в правую руку нож, который держал открытым в кармане штанов. Я левша. Одним выпадом я всадил свой нож ему в грудь по самую рукоятку. Животный крик «а-а-а!», и он рухнул как сноп.
– Назад! – закричал Антарталия, наставив на меня револьвер. – Лежачего не бьют! Иначе пристрелю, хотя мне этого не хотелось бы делать.
Карбоньери подошел к Селье и отпихнул его голову ногой. Сказал пару слов по-корсикански. Я понял: Селье мертв.
– Дай сюда нож, парень, – сказал надзиратель.
Я повиновался. Он вложил револьвер в кобуру, подошел к железной двери и постучал. Дверь открылась, и он сказал появившемуся багру:
– Зови носильщиков убрать труп.
– Кто убит?
– Бебер Селье.
– О, а я думал – Папийон.
Нас снова отправили в изолятор. Очная ставка отменялась. В коридоре Карбоньери сказал мне:
– Ну, старина, теперь держись.
– Да. Но он-то мертв, а я живой.
Антарталия вернулся один. Тихо открыл дверь моей камеры и сказал:
– Постучи и скажи, что ты ранен. Он первый на тебя напал, я это видел.
И он так же тихо закрыл дверь. Было видно, что надзиратель обеспокоен.
Эти надзиратели-корсиканцы жуткие ребята: они либо свои в доску, либо настоящие дьяволы. Я стал колотить в дверь и крикнул:
– Я ранен. Отведите меня в больницу перевязать рану.
Багор вернулся с главным надзирателем изолятора.
– Что надо? Чего шумишь?
– Я ранен, начальник.
– Ах, ранен? А я думал, он промахнулся.
– На правой руке сквозная рана.
– Открывай, – сказал другой багор.
Дверь открылась, и меня выпустили из камеры. Действительно, на мышце правой руки был глубокий порез.
– Наденьте на него наручники и отведите в больницу. Там его не оставлять ни под каким предлогом. После оказания помощи сразу же в камеру.
Когда мы вышли из изолятора, нас встретили десять надзирателей во главе с комендантом. Багор из строительных мастерских прошептал:
– Убийца!
Прежде чем я успел ответить, комендант сказал:
– Спокойно, инспектор Брюэ. Тот первый напал на Папийона.
– Не похоже, – возразил Брюэ.
– Я видел и буду свидетелем, – сказал Антарталия. – И заметьте, месье Брюэ, корсиканцы не лгут.
Когда мы пришли в больницу, Шаталь послал за доктором. Врач молча зашил мне рану без всякой анестезии. Не произнося опять-таки ни слова, он наложил на нее восемь зажимных скобок. Я не возражал и не мешал ему заниматься делом. И тоже не издал ни единого звука. Закончив, доктор сказал:
– Надо бы под местной анестезией, но у меня ничего не осталось. – И добавил: – Твой поступок совершенно не оправдывает тебя.
– Видите ли, он все равно бы долго не протянул с этим нарывом в печени.
Мой неожиданный ответ поверг доктора в изумление.
Расследование возобновилось. Бурсе был выведен из-под следствия как лицо затерроризированное и запуганное, не способное отвечать за свои поступки. Я всячески способствовал следственной комиссии принять эту точку зрения. Обвинение против Нарика и Кенье было отведено за отсутствием доказательств. Остались мы с Карбоньери. Обвинения в краже строительного материала и использовании его не по назначению были с него сняты. Оставалось соучастие в попытке бежать. Самое большее, он может получить за это шесть месяцев. Мои дела усложнились. Несмотря на все показания в мою пользу, следователь не воспринимал мои действия как предпринятые в целях самообороны. Дега видел дело, заведенное на меня. Он сказал, что, несмотря на все усердие следователя, похоже, что меня не удастся подвести под гильотину, поскольку я был ранен. В обвинении против меня фигурировала одна досадная штука, на что и напирало следствие: оба араба-тюремщика видели, что я первым вытащил нож.
Расследование завершилось. Я ожидал отправки в Сен-Лоран, где должен буду предстать перед военным трибуналом. Не делаю ровно ничего – только курю. Даже не хожу. К моей утренней прогулке добавили час в полдень. Ни разу ни комендант, ни другие надзиратели, кроме багра из мастерских и следователя, не выказывали ко мне никакой враждебности. Они разговаривали со мной без всякой неприязни и разрешили приносить мне табак в любом количестве.
Отъезд назначен на пятницу, а дело закончили во вторник. В среду в десять утра, когда я уже находился на прогулке два часа, поступило распоряжение доставить меня к коменданту.
– Пойдемте со мной.
Я пошел с ним без всякого конвоя. Спросил, куда идем, хотя видел, что направляемся по тропинке, ведущей к его дому. По дороге он сказал:
– Жена хочет повидаться с вами перед отъездом. Я не хотел ее расстраивать присутствием вооруженного надзирателя. Уверен, что вы будете вести себя как положено.
– Да, месье комендант.
Мы подошли к дому.
– Жюльетта, я выполнил свое обещание и привел к тебе твоего протеже. Ты знаешь, что к двенадцати я заберу его обратно. На разговор даю около часа.
С этими словами комендант оставил нас.
Жюльетта подошла ко мне, положила свою руку мне на плечо, глядя прямо в лицо. Ее черные глаза светились еще больше оттого, что на них навернулись слезы, которые, к счастью, ей удавалось сдерживать.
– Ты с ума сошел, дружочек Папийон. Если бы ты мне сказал, что хочешь бежать, я смогла бы устроить все гораздо проще и легче. Я просила мужа помочь тебе, насколько это возможно, но он говорит, что, к сожалению, это не от него зависит. Я послала за тобой, чтобы посмотреть, как ты себя чувствуешь, – это во-первых. Поздравляю, ты не падаешь духом и выглядишь лучше, чем можно было ожидать. А во-вторых, я хочу расплатиться с тобой за рыбу, которую ты так щедро нам давал в течение этих месяцев. Вот тысяча франков – это все, что у меня есть. Жаль, что не могу дать больше.
– Послушайте, мадам, мне не нужны деньги. Поймите, прошу вас, я не могу их принять: это могло бы повредить нашей дружбе.
И я отстранил от себя ее руку с деньгами, которые она так красиво мне предложила – две банкноты по пятьсот франков.
– Прошу вас не настаивать, мадам.
– Как хочешь, – сказала она. – Не желаешь ли немного аперитива?
В течение часа с небольшим эта великолепная женщина в совершенно очаровательной манере разговаривала со мной. Она полагала, что суд должен отвести от меня обвинение в преднамеренном убийстве этой свиньи. Мне могут дать от восемнадцати месяцев до двух лет.
Когда я стал прощаться с нею, моя ладонь надолго задержалась в ее руках. Крепко пожав ее, она сказала:
– До свидания. Удачи.
И разрыдалась.
Комендант отвел меня в изолятор. На обратном пути я сказал ему:
– Месье комендант, ваша жена – самая благородная женщина на свете.
– Знаю, Папийон, она создана не для такой жизни, как здесь. Для нее она слишком жестока. Что поделаешь? Еще четыре года – и я выйду в отставку.
– Хотелось бы воспользоваться представившимся мне случаем, комендант, и поблагодарить вас за хорошее обращение со мной. И это несмотря на то, что у вас было бы больше всех неприятностей, окажись мой побег успешным.
– Да уж, головной боли было бы предостаточно. И все же, должен признаться, вы заслуживаете успеха.
Поравнявшись с воротами изолятора, комендант сказал мне:
– До свидания, Папийон. Да поможет вам Бог. Вам нужна его помощь.
– До свидания, месье комендант.
Да, Божья помощь мне действительно понадобится: военный трибунал под председательством жандармского майора был безжалостен. Три года за воровство, незаконное присвоение казенного имущества, осквернение могилы, попытку бежать. И сверх того пять лет за непреднамеренное убийство Селье. Отбытие наказания последовательное и непрерывное. Итого восемь лет одиночного заключения. Если бы я не был ранен, то меня, без всякого сомнения, ожидал бы смертный приговор.
Суд, который обошелся со мной столь круто, был более снисходителен к поляку Дондоскому, убившему сразу двух человек. Ему дали только пять, хотя преднамеренность и умысел присутствовали в этом случае без всякого сомнения.
Дондоский работал пекарем, делал опару и больше ничего. Трудился с трех до четырех утра. А поскольку пекарня стояла рядом с пристанью и ее окна выходили на море, он все свое свободное время удил рыбу. Это был тихий человек, по-французски говорил плохо, ни с кем близких дружеских отношений не заводил. Всю свою любовь и привязанность этот бессрочник направил на жившего с ним великолепного черного кота с зелеными глазами. Они спали вместе в одной кровати, кот следовал за ним повсюду, как собака, а когда Дондоский работал, кот тоже находился рядом. В общем, кот и человек оказались преданнейшими друзьями. Ходили они везде вместе; только когда день выдавался особенно жарким и не было тени, кот самостоятельно шел в пекарню и укладывался спать в гамаке своего друга. Когда колокол отбивал полдень, кот отправлялся к морю встречать поляка, который там же кормил его мелкой рыбешкой. Он подманивал кота, держа и раскачивая рыбу на весу, кот прыгал и ловил ее.
Все пекари жили вместе в одной комнате рядом с пекарней. Однажды два зэка, по имени Коррази и Анджело, пригласили Дондоского отведать тушеного кролика, приготовленного Коррази, который готовил это блюдо раз в неделю. Дондоский не отказался, сел за стол, поставил бутылку красного вина и съел свою порцию. А вечером кот домой не вернулся. Поляк искал его повсюду, но тщетно. Прошла неделя – кот как в воду канул. Поляк так убивался из-за потери друга, что, казалось, сама жизнь потеряла для него всякий смысл. Поистине грустно, когда любимое существо, отвечающее тебе взаимной любовью, так неожиданно и загадочно пропадает. Жена одного надзирателя, прослышав про такое великое несчастье, дала ему котенка. Дондоский прогнал его и с негодованием спросил женщину, как она могла вообразить себе, что он может любить какого-то другого кота, а не своего собственного: это было бы большим оскорблением памяти пропавшего друга. Так он сказал ей.
Однажды Коррази ударил мальчишку, ученика-пекаря, служившего также раздатчиком хлеба. Мальчишка не спал с пекарями, а приходил из лагеря. Разобидевшись и негодуя, он стал разыскивать Дондоского. Нашел его и сказал:
– Ты знаешь, не кролика ты ел у Коррази и Анджело, а своего кота.
– Где у тебя доказательства, паршивец? – закричал поляк, схватив мальчишку за горло.
– Я видел, как Коррази закапывал шкуру кота под манговым деревом, которое растет за жилищем лодочников.
Поляк помчался туда как угорелый и действительно обнаружил шкуру кота. Он выкопал ее, сгнившую уже наполовину, головы почти совсем не было, промыл в морской воде, высушил на солнце, завернул в чистое новое холщовое полотенце и захоронил глубоко в сухом месте, чтобы не добрались муравьи. Об этом он сам мне рассказывал.
Ночью Коррази и Анджело, сидя рядышком на массивной скамье в комнате пекарей, играли в карты при свете керосиновой лампы. Дондоский, сорокалетний крепыш среднего роста, широкоплечий и сильный, приготовил дубину из железного дерева, тяжелую – самое настоящее железо. Подойдя к игрокам сзади и не говоря ни слова, он нанес им удар по голове. Обе головы раскололись, как два спелых граната. Мозг разлетелся по всему полу. Дондоский не помнил себя от ярости. Ему было мало просто убийства: он собрал мозг с пола руками и размазал его по стене. Вся комната была забрызгана кровью и мозгом.
Хотя жандармский майор, председатель военного трибунала, не проявил ко мне никаких симпатий, в отношении Дондоского он проявил предельное милосердие, и тот отделался пятью годами за два преднамеренных убийства.
Второй срок одиночного заключения
Обратно на острова мы возвращались с поляком прикованные друг к другу. Нам не дали долго околачиваться в карцерах Сен-Лорана! В понедельник нас доставили туда, в четверг судили, а в пятницу утром уже отправили на острова.
Итак, мы на борту судна. Шестнадцать человек, двенадцать приговорены к одиночному заключению. Переход оказался не из легких: море штормило, зачастую крутая волна обрушивалась на палубу, окатывая всю посудину от киля до клотика. Наше отчаяние достигло предела: я стал надеяться, что старое корыто затонет. Я ни с кем не разговаривал, а морской ветер, насыщенный солевыми брызгами, жалил мне лицо, окутывал вихрем, оставляя меня наедине с собой. Я не прятался от него. Напротив, я нарочно дал сорвать с себя шляпу: восемь лет одиночки – какие тут могут быть шляпы! Ветер хлестал меня, а я подставлял ему лицо, глубоко дышал, почти задыхаясь. Я вдруг представил себе, как будет тонуть судно, и вдруг спохватился: «Акулы сожрали Бебера Селье. Тебе тридцать, и впереди восемь лет одиночки». Возможно ли выдержать такой срок в стенах «Людоедки»?
Опыт подсказывал, что это невозможно. Четыре, в крайнем случае пять – это предел человеческих сил. Если бы не убийство Селье, я получил бы три или два. Оно очень повредило мне, особенно осуществлению побега. Нельзя было убивать эту крысу. Долг человека, долг по отношению к самому себе обязывал меня не заниматься самосудом. Прежде всего надо было думать о жизни – жизни ради побега. Как я позволил себе совершить такую ошибку? Даже в тех обстоятельствах, когда решался вопрос кому жить – ему или мне? Жить, жить, жить. Эту религию – мою собственную религию следовало бы использовать раньше, а сейчас просто необходимо.
Среди конвойных я знал одного еще по одиночке, но не помнил его имени. Но мне страшно захотелось задать ему один вопрос.
– Начальник, можно вас спросить?
Удивившись моему обращению, он подошел ко мне:
– Что?
– Кому-нибудь удавалось отсидеть восемь лет в одиночке?
Немного подумав, он ответил:
– Нет. Но я знаю довольно многих, которые отсидели пять. Я даже помню одного, и очень хорошо, отсидевшего шесть лет. Он вышел в полном порядке и не тронулся головой. Я был там и видел сам, как его освобождали.
– Спасибо.
– Не за что. Приговорили к восьми?
– Да, начальник.
– Вы сможете отсидеть только при условии, что вас не подвергнут наказанию.
И надзиратель ушел.
Это очень ценное наблюдение. Да, я останусь в живых, если ни разу не буду наказан. В основе всех наказаний лежал принцип временного прекращения выдачи пищи или сокращения рациона. После этого, даже вернувшись на установленное довольствие, человек никогда не мог восстановить свои прежние силы. Несколько наказаний – и все. Ты уже не выдержишь, а скорее всего, сыграешь в ящик. Вывод: отныне никаких тебе кокосовых орехов, никаких сигарет! Никаких записок: тебе никто – и ты никому!
Весь оставшийся путь я снова и снова пережевывал это решение. Ничего, совершенно ничего, ни оттуда, ни отсюда. Зародилась мысль: единственный безопасный выход, чтобы помочь себе, – платить разносчикам, чтобы они давали мне в супе самые большие и лучшие куски мяса. Все делается очень просто: разносчиков двое – один разливает поварешкой жижу из ведра, другой, идущий сзади, кладет с подноса кусок мяса в миску. Первый может зачерпнуть со дна поглубже, чтобы на мою долю досталось побольше овощей. Мои расходы должен оплачивать кто-то за пределами стен тюрьмы. Натолкнувшись на эту мысль, я успокоился. Если как следует отработать эту схему, можно есть сколько хочешь и не голодать. А все остальное зависит только от меня: и звездные полеты, и мир грез. Надо только прилепиться к веселым сюжетам, чтобы не сойти с ума.
Достигли островов в три пополудни. Едва сошел на берег, как увидел Жюльетту в светло-желтом платье. Рядом находился муж. Комендант быстро подошел ко мне, перед тем как мы построились, и спросил:
– Сколько?
– Восемь лет.
Он вернулся к жене и стал что-то говорить ей. Она опустилась на камень, совершенно обессиленная. Было видно, что ей стало почти дурно. Муж взял ее под руку, она встала. Горько посмотрела на меня своими большими черными глазами, и супруги пошли прочь от пристани, ни разу не оглянувшись.
– Папийон, – спросил Дега, – сколько?
– Восемь лет одиночки.
Он ничего больше не сказал – ему было тяжело смотреть на меня. Подошел Гальгани, но я опередил его, прежде чем он успел открыть рот:
– Не посылайте мне ничего. И не пишите. С таким сроком я не могу рисковать и нарываться на наказание.
– Понял.
Я быстро и тихо добавил:
– Сделай так, чтобы меня как можно лучше кормили днем и вечером. Если это тебе удастся, может быть, и свидимся еще когда-нибудь. Прощай.
Я намеренно пошел к той лодке, которая первой отправлялась на Сен-Жозеф. Все смотрели на меня так же, как смотрят на гроб, опускаемый в могилу. Никто не проронил ни слова. За короткий переход от Руаяля до Сен-Жозефа я успел повторить Шапару то, что уже сказал Гальгани.
– Это можно. Держись, Папи. А что с Матье Карбоньери?
– Прости, совсем забыл о нем. Председатель трибунала послал документы на доследование, после чего будет принято окончательное решение. Как ты думаешь, хорошо это или плохо?
– Думаю, хорошо.
Я оказался в первой шеренге небольшой колонны из двенадцати человек, направлявшейся в тюрьму одиночного заключения. Пошел быстро. Со стороны, наверное, странно было смотреть, но я действительно спешил в камеру, чтоб остаться наедине с самим собой. Я вырвался вперед, на что багор сказал:
– Не торопись, Папийон, можно подумать, что ты ждешь не дождешься, как бы поскорее оказаться в том месте, откуда ты недавно выбрался.
Наконец мы пришли.
– Одежду снять! Слушайте коменданта тюрьмы.
– Сожалею, что ты снова здесь, Папийон. – Затем: – Заключенные… – И так далее (его обычная речь). – Блок А, камера сто двадцать семь. Это лучшая камера, Папийон. Она рядом с выходом из тюрьмы. В ней больше света и воздуха. Надеюсь, будешь вести себя хорошо. Восемь лет – большой срок, но кто знает, может быть, своим отличным поведением ты заслужишь, чтобы тебе сократили срок на два-три года. Будем надеяться, потому что ты храбрый человек.
Итак, я в камере сто двадцать семь. Она, как и сказал комендант, напротив огромной зарешеченной двери, ведущей во двор тюрьмы. Хотя сейчас около шести вечера, я могу видеть в камере все хорошо. Да и нет того характерного запаха гнили, который пронизывал мою прежнюю камеру. Настроение немного поднялось. Дружище Папийон, вот четыре стены, которые будут наблюдать за тобой в течение восьми лет. Не считай месяцы и часы – это бесполезно. Если же, однако, хочешь все мерить на подходящий аршин, то следует перейти на крупные единицы, скажем, шесть месяцев. Шестнадцать раз по шесть – и ты снова на свободе. Во всяком случае, эта камера имеет одну приятную особенность. Если тебе суждено умереть здесь, то, по крайней мере, умрешь при свете. Конечно, при условии, что отдашь концы днем. А это очень важно. Уж чего хорошего загибаться в потемках! Если заболеешь, то врач обязательно увидит твое лицо. Не надо себя ругать за неистребимое желание бежать и начать новую жизнь. Не надо, черт бы всех побрал, корить себя за убийство Бебера Селье. Представь себе, как бы ты страдал при мысли, что сидишь здесь, а он там сбежал и стоит на тропе, ведущей к свободе. Время подскажет, что надо делать. Может, будет амнистия, война, или землетрясение, или тайфун, которые сметут это место к чертовой матери. А почему бы и нет? Может, появится честный и порядочный человек, который вернется во Францию и поднимет общественное мнение на борьбу с существующими тюремными порядками, когда рубят головы без топора. Может, какой-нибудь врач, которому стало невыносимо все это, расскажет обо всем журналистам или лицам духовного звания – да мало ли что может произойти! Во всяком случае, акулы давно переварили Селье в своих утробах. А я здесь и, следуя собственным установкам, надеюсь выйти из этой могилы на своих собственных ногах.
Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом. Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом. Я стал ходить, приняв правильную позу, нужное положение головы и рук, точно выверенным шагом. Маятник заработал безупречно. Решил ходить по два часа утром и по два после обеда, пока не удостоверюсь, что с рационом у меня все в порядке и я поставлен на усиленное питание. Не дай этим первым дням обмануть себя. Не трать зря энергию.
Да, жаль, что в самом конце все провалилось. Надо признаться, это была только первая часть побега. Предстояло еще преодолеть сто сорок пять километров на плоту. А затем, в зависимости от места соприкосновения с материком, была другая часть побега, снова с самого начала. Если спуск на воду прошел бы удачно, то с парусом, сшитым из мешков из-под муки, можно было бы развить скорость свыше десяти километров в час. До материка сумели бы добраться за пятнадцать или двенадцать часов. Конечно, если бы в светлое время суток шел дождь; без дождя мы все равно не посмели бы поднять парус. Помнится, шел дождь, когда меня посадили в изолятор. Но не уверен. Стал думать, какие возможные ошибки или промахи я мог допустить. Я насчитал две ошибки. Столяр настоял на изготовлении слишком хорошего, солидного плота; а потому, чтобы набить туда орехов, ему пришлось сделать корпус, представлявший собой как бы конструкцию из двух плотов – один на другом. Отсюда много деталей и много времени было потрачено на их изготовление. А это опасно.
Вторая, куда более серьезная ошибка: по первому же твердому подозрению мне следовало убить Селье той же ночью. Если бы я сделал это, кто знает, где бы уже я был теперь? Если бы даже события развивались из рук вон плохо на материке или меня задержали бы при высадке, мне дали бы три вместо восьми и было бы о чем вспомнить с удовлетворением. А если бы все прошло гладко, где бы я был сейчас – на островах или на материке? Бог знает. Может быть, у Боуэнов на Тринидаде или на Кюрасао под защитой епископа Ирене де Брюина. Кюрасао мы покинули бы только тогда, когда убедились, что та или другая страна согласилась нас принять. В противном случае можно было бы легко воспользоваться небольшой лодкой и уйти прямо к полуострову Гуахира, к земле моего племени.
Лег спать очень поздно и отдыхал нормально. Первая ночь не слишком угнетала. Жить, жить, жить! Каждый раз, находясь на грани отчаяния, я повторял: «Пока есть жизнь, есть надежда». Три раза подряд.
Прошла неделя. Со вчерашнего дня заметил перемену в своем рационе. Великолепный кусок вареного мяса в обед и полная миска чечевичной каши на ужин, почти без воды. Как ребенку, я сказал себе: «Чечевица содержит железо, она очень полезна для здоровья».
Если так пойдет и дальше, то можно будет ходить по десять-двенадцать часов в сутки, а затем, устав до изнеможения, улетать к звездам. Нет, я не витал в мире иллюзий, я находился здесь, на земле, на твердой земле. Я думал о всех заключенных, которых знал на островах. У каждого была своя история, свое прошлое и настоящее. Как тут не вспомнить их рассказы? Вот один, который, я дал себе слово, надо проверить, если суждено снова побывать на островах. Это история с колоколом.
Как уже говорилось, заключенных не хоронили, а сбрасывали в море в месте скопления акул между островами Сен-Жозеф и Руаяль. Мертвеца заворачивали в мешковину, а к ногам привязывали большой камень. Четырехугольный сундук – неизменно один и тот же сундук – устанавливали на носу лодки на уровне борта. Когда лодка подплывала к условленному месту, шестеро гребцов, все заключенные, клали весла. Один из них открывал переднюю дверцу, а другой наклонял сундук. И покойник соскальзывал в воду. Акулы немедленно перекусывали веревку, на которой подвешивался камень. Ни один мертвец не успевал толком утонуть. Он тут же всплывал на поверхность, и акулы устраивали настоящее сражение за такую своеобразную добычу. По словам очевидцев, глазам открывалась жуткая картина: акулы пожирали человека. Когда акул скапливалось особенно много, они выталкивали саван вместе с его содержимым из воды, срывали мешковину и уносили большие куски человеческого тела.
Все было именно так, как я и говорил, но одну деталь мне не удалось проверить. Все каторжники, без исключения, утверждали, что акулы приплывают на звук колокола, звонившего в часовне по покойнику. Говорят, что если выйти на мол Руаяля в шесть часов вечера, то не увидишь ни одной акулы. Но стоит зазвонить колоколу, как их тут же появляется видимо-невидимо. Акулы поджидают мертвеца, иначе чем объяснить их присутствие там в данный конкретный момент? Будем надеяться, что я не попаду на обед акулам на Руаяле. Если они сожрут меня во время побега, это будет тоже плохо, но все же лучше быть съеденным акулами на пути к свободе, чем просто так. А ведь это может случиться, если я заболею и сдохну в камере. Нет, это не должно произойти.
Благодаря стараниям друзей я ел досыта и чувствовал себя очень хорошо. Ходил без остановки по камере с семи утра до шести вечера. Так что миска за ужином, полная овощей, бобов, чечевицы, гороха или жареного риса, уплеталась за милую душу. Я всегда съедал все без всякого труда. Ходьба укрепляла меня и бодрила, а появлявшаяся усталость не была изнурительной, наоборот, способствовала здоровью. В процессе ходьбы мне удавалось даже совершать звездные полеты. Вчера, например, я провел весь день в лугах Ардеша близ селения Фавра́. Когда умерла мать, я часто ездил туда и жил по несколько недель у тети, сестры матери, сельской учительницы. И вот вчера я побывал там в каштановой роще. Собирал грибы и слышал голос моего приятеля, деревенского подпаска. Он звал собаку, чтобы она пригнала к стаду отбившуюся овцу или наказала козу-блудню. Она удивительно слушалась его и выполняла все приказания. Более того, я ощущал во рту прохладу бурого ручья с железистой водой. Его мелкие брызги щекотали в носу. Это всеобъемлющее воспоминание событий пятнадцатилетней давности, повторное переживание прошлых эпизодов с такой живостью и очевидностью возможно только в камере, вдали от всякого шума, в глубочайшей тишине.
Я смог даже увидеть желтое платье тетушки Утин. Я слышал шепот ветра в листьях деревьев и звук падающего каштана. Звук был резким, когда каштан падал на сухую землю, и приглушенным, когда он падал на подстилку из листьев. Из-за высокого ракитника вышел огромный кабан. Он перепугал меня до смерти. В панике я бежал от него, растеряв почти все мои грибы. Да, шагая взад и вперед по камере, я провел целый день в Фавра, с тетей и своим приятелем Жюльеном, деревенским подпаском. Никто не мог лишить меня этих нежных и удивительных воспоминаний, ясных и острых, словно наяву. Никто не мог помешать им успокоить мое истерзанное сердце, которому непременно требовалась такая поддержка.
Что касается остального общества, разделявшего со мною участь в камерах тюрьмы «Людоедки», то я, несомненно, обкрадывал его эмоционально, пребывая целый день в зеленых лугах Фавра под каштанами. Я даже пил минеральную воду из источника с названием Персик.
Прошли первые шесть месяцев. Я сказал, что за единицу отсчета я приму именно этот период времени, и сдержал свое слово. Только сегодня утром я отнял от шестнадцати единицу. Оставалось пятнадцать раз по столько же.
Подведем некоторые итоги. Никаких особенных событий за эти шесть месяцев не произошло. Все та же пища и все в том же достаточном количестве, что никак не повредило моему здоровью. Вокруг меня люди совершают многочисленные самоубийства и сходят с ума. Но их быстро убирают из камер – слава тебе господи! Страшно угнетает, когда слышишь, как они кричат, рыдают, стонут часами или даже сутками. Я пошел на маленькую хитрость, которая едва не повредила моим ушам. Отрезал кусочек мыла и стал затыкать их, чтобы не слышать душераздирающих воплей. К сожалению, мыло оказалось плохим средством: через день или два уши заболели и потекли.
Впервые за все это время я унизился перед багром, попросив о некотором одолжении. Один из надзирателей, занимавшийся раздачей супа, был родом из Монтелимара, что рядом с моим родным департаментом. Я знал его по Руаялю и попросил принести мне воска. Надо было как-то спасаться от буйства сумасшедших, пока их не удалят из камер. На следующий день он принес мне шарик воска размером с грецкий орех. Просто невероятно, какое облегчение я получил, перестав слушать этих несчастных!
С большими сороконожками я управлялся просто здорово. Школа есть школа. За шесть месяцев меня укусили только раз. Научился спокойно переносить их непосредственное присутствие рядышком. Скажем, проснешься и видишь, что одна ползает по тебе, прямо по голому телу. Ко всему привыкаешь. Здесь нужно проявлять немалое самообладание, ибо щекотание всех этих ножек и усиков очень неприятно. Но если ее схватить, да неудачно, то она обязательно укусит. Лучше выждать, когда она сама уберется подобру-поздорову, а потом найти и раздавить ногой. На бетонной тумбе я всегда оставлял два-три хлебных кусочка от суточного рациона. Естественно, запах хлеба привлекал сороконожек, и они падали в том направлении. А я их бил.
Мне надо было избавиться от навязчивой идеи, все время преследовавшей меня: почему я не убил Бебера Селье в тот же день, когда мы почувствовали, что он затеял свою грязную игру? Эта отправная точка положила начало моей дискуссии с самим собой: когда человек имеет право убить другого человека? Я пришел к выводу, что цель оправдывает средства. Передо мной стояла цель – бежать. Мне удалось завершить строительство прекрасного плота и спрятать его в надежном месте. Счет уже шел на сутки, скоро я должен был отчалить с островов. А так как мне было хорошо известно, насколько опасно проявилась роль Селье во время подготовки предпоследней секции (это ли не чудо, что нам удалось продвинуться так далеко в этом деле?), мне следовало убить Селье без всякого колебания. А что, если бы я ошибся? Убить человека только по подозрению? Мне пришлось бы убить невинного человека! Это ужасно! Да стоит ли тебе, приятель, копаться в мелочах и так щепетильничать? Тебе, приговоренному к пожизненной каторге? Тебе, что еще хуже, схлопотавшему восемь лет одиночки?!
Что же думаешь об этом ты, пропащая душа, с которым обошлись, как с отбросом общества? Мне хотелось бы знать, какое право имели те двенадцать ублюдков заслать меня в эту преисподнюю. Проснулась ли у них хоть раз, заговорила ли совесть? А прокурор (я все еще не придумал, как вырву ему язык), задумался ли он хоть однажды, что слишком переборщил в своих обвинениях? Я был уверен, что даже мои адвокаты уже не помнят меня. Конечно, они обсудили между собой в общих чертах «неудачный процесс по делу Папийона» в суде присяжных 1932 года: «Видите ли, в тот злосчастный день я был совершенно не в форме, а Прадель, представлявший обвинение, был хорош. Он мастерски повернул процесс в нужное ему русло. Это действительно достойный оппонент, и его голыми руками не возьмешь». Мне слышится этот разговор между мэтром Юбером и другими адвокатами, как будто я стою рядом с ними где-то на приеме или в коридорах Дворца правосудия.
Только председателя суда Бевена можно было бы отнести к разряду прямых и честных судей. Этот умный человек со светлыми мыслями в голове вполне мог обсуждать в профессиональных кругах или за обедом вопрос о том, какую опасность таит в себе суд присяжных с точки зрения справедливого и адекватного исхода судебного разбирательства. В пристойных выражениях, разумеется, он мог высказать свое мнение о том, что эти двенадцать ублюдков, или присяжных заседателей, не подготовлены к тому, чтобы принимать на себя ответственность подобного рода. Они легко поддаются чарам как со стороны защиты, так и обвинения. Вопрос только в том, какая сторона выиграет состязание в риторике – защита или обвинение. Они легко могут и оправдать, и приговорить, едва ли понимая, что творят. Все зависит от положительного или отрицательного заряда в атмосфере, которую создает сильнейшая из сторон.
Это понимает председатель суда, а также моя семья. Хотя, может, моя семья настроена против меня из-за того позора, который я на нее обрушил? Только старик-отец, только он не станет жаловаться на тяжкий крест, который возлег на его плечи. Он несет его без плача и стенаний и не будет проклинать сына за содеянное. Именно так он будет поступать, несмотря на то что, будучи школьным учителем, сам уважает законы и учит своих учеников понимать и принимать их. Я уверен, что в глубине души он мог воскликнуть: «Свиньи, вы убили моего сына! Хуже того, вы приговорили его в двадцать пять лет к медленной смерти!» Если бы он знал, где сейчас его сын и что они с ним делают, он, несомненно, мог бы стать анархистом.
Прошлой ночью тюрьма «Людоедка» как нельзя лучше подтвердила свое прозвище: двое повесились, а третий задушился, набив себе в горло и ноздри тряпок. Рядом с камерой 127 проходила смена нарядов, и я слышал обрывки разговора между надзирателями. Сегодня утром, например, они не таились и разговаривали громко, так что я не мог ошибиться и пропустить нечто важное из сказанного о событиях прошедшей ночи.
Прошло еще шесть месяцев. Я отметил это, нацарапав гвоздем на дереве элегантную цифру «14». Гвоздем я пользуюсь только один раз в шесть месяцев. При этом я отметил про себя, что нахожусь в хорошем состоянии как физически, так и морально.
Благодаря звездным полетам приступы длительного отчаяния очень редко находят на меня. Они быстро проходят, а изобретенный мной метод отправляться в мнимые путешествия рассеивает черные мысли. Смерть Селье очень помогает преодолевать такие кризисы. Я начинаю говорить сам себе: «Я жив, жив, все еще жив и доживу до дня свободы. Он пытался мне помешать, за что и поплатился. Он мертв. Он никогда не будет свободен, как я. Мне будет только тридцать восемь, это еще не старость. А следующий побег обязательно завершится удачей».
Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом. Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом. Уже несколько дней, как у меня почернели ноги и из десен сочится кровь. Заявить о болезни? Я нажал большим пальцем на нижнюю часть ноги, и на ней осталась метка – углубление. Похоже на водянку. С неделю уже я не в силах ходить по десять-двенадцать часов: шесть часов в два приема – и то выдыхаюсь. Когда чищу зубы, то с трудом притрагиваюсь к ним грубым полотенцем, смоченным мыльной водой. Зубы болят, и сильно кровоточат десны. Вчера один зуб выпал сам по себе – верхний резец.
Третий шестимесячный период закончился полным переворотом. Вчера прозвучала общая команда высунуть головы в дверное окошко, и врач стал осматривать у всех десны, раздвигая губы. Сегодня, по истечении ровно восемнадцати месяцев, дверь камеры открылась, и я услышал:
– Выходите. Станьте лицом к стене и ждите.
Я стою первым от двери. В колонне около семидесяти человек. «Кру-гом!» И я шагаю последним в колонне, направляющейся в другой конец здания на выход в тюремный двор.
Девять часов утра. Во дворе на открытом воздухе сидит за небольшим деревянным столом молодой врач в зеленой рубашке-безрукавке. При нем два санитара из заключенных и один санитар-надзиратель. Я их никого не знаю, врача в том числе. Десять багров с винтовками в охране. Комендант и старшие надзиратели стоят и молча наблюдают.
– Всем раздеться! – скомандовал старший надзиратель. – Одежду под мышки! Первый пошел! Имя?
– Такой-то.
– Откройте рот. Ноги на ширину плеч. Удалить эти три зуба. Обработайте настойкой йода, затем метиленовой синькой. Настой ложечной травы два раза в день перед едой.
Я последний в шеренге.
– Имя?
– Шарьер.
– Почему ты один не такой доходяга, как все? Новичок?
– Нет.
– Давно здесь?
– Восемнадцать месяцев.
– Тогда почему же?
– Не знаю.
– Ну хорошо. Тогда я скажу. Ты жрешь больше других. Или меньше занимаешься онанизмом. Рот. Ноги. Два лимона в день – утром и вечером. Лимоны соси и втирай сок в десны. У тебя цинга.
Десны промыли и смазали настойкой йода и метиленовой синькой. Дали лимон. «Кру-гом!» И я замаршировал снова в камеру, замыкая колонну.
То, что нас, больных людей, вывели на открытый воздух под солнце и позволили врачу провести нормальный медицинский осмотр, смахивало на настоящую революцию. Ничего подобного тюрьма одиночного заключения до сих пор не ведала. Что произошло? Может быть, наконец нашелся врач, который отказался быть немым соучастником злодеяний и следовать омерзительным драконовским правилам? Этого врача, ставшего впоследствии моим другом, звали Жермен Гибер. Он умер в Индокитае, о чем мне написала много лет спустя его жена. Письмо застало меня в Маракайбо, в Венесуэле, в нем обо всем этом и было рассказано.
Каждые десять дней медосмотр на солнце. Лечение то же самое: настойка йода, метиленовая синька и два лимона. Здоровье от этого становилось не хуже и не лучше. Дважды я просил дать мне настой ложечной травы, и оба раза доктор как бы пропускал мою просьбу мимо ушей. Это стало меня раздражать: я не мог ходить больше шести часов, и ноги еще были синюшными, да и опухоль не спадала.
Однажды, дожидаясь своей очереди к врачу, я заметил, что веретенообразное дерево, в тощей тени которого я стоял, очень напоминает лимонное дерево, только без лимонов. Я сорвал лист и стал жевать. Затем я сломал небольшую ветку с листьями. Я это сделал без всякого умысла, просто машинально. Когда меня вызвали, я воткнул себе ветку сзади в ягодицы, листьями вверх, и сказал:
– Доктор, может, ваши лимоны всему виной, но посмотрите, что у меня выросло.
И я повернулся к нему задницей.
Все багры сначала заржали, как жеребцы, но старший надзиратель тут же сказал:
– Папийон, вы будете наказаны за проявление неуважения к доктору.
– Ни в коем случае, – возразил доктор, – я не заявляю никаких жалоб, поэтому вы не можете его наказывать. Ты что, не хочешь больше лимонов? Именно это ты желал сказать?
– Да, доктор, я наелся лимонов. Мне от них не лучше. Мне хотелось бы попробовать лечиться настоем ложечной травы.
– Я его тебе не прописывал, потому что остался очень небольшой запас и я берегу его на особо серьезный случай. Однако тебе будут давать одну ложку в день. А лимоны продолжай есть.
– Доктор, я видел, как индейцы едят морские водоросли. Такие же, я знаю, растут на Руаяле. И на Сен-Жозефе наверняка есть.
– Очень ценная идея. Я сам видел, что тут растут некоторые водоросли. Надо включить их в ежедневный рацион. Индейцы отваривают их или едят сырыми?
– Сырыми.
– Очень хорошо. Благодарю. Комендант, я надеюсь, что вы проследите, чтобы этого человека не наказывали.
– Хорошо, капитан.
Свершилось чудо. Теперь один раз в неделю нас выводят из камер на медосмотр под открытым небом. Он длится не меньше двух часов. Этого времени хватает, чтобы разглядеть лица, шепотом переброситься несколькими словами. Кто бы мог подумать, что такое случится? Люди стали совсем другими. Просто фантастическая перемена. Все дохляки вставали на ноги и прогуливались по двору под солнцем. Погребенные заживо, мы наконец-то получили возможность общаться друг с другом. Свежий воздух возвращал нас к жизни.
Клац, клац, клац. Бесконечное клацанье отпираемых дверных замков. Девять часов утра, четверг. Двери открыты, каждый стоит на пороге своей камеры. Гремит голос:
– Заключенные, приготовиться к обходу губернатора!
Высокий седовласый человек медленно идет по коридору, останавливаясь у каждой камеры. Его сопровождают пять офицеров из колониального ведомства. Несомненно, все врачи. Слышно, как губернатору докладывают, за что и на сколько приговорен тот или иной узник. Перед тем как подойти ко мне, инспектор задержался у соседней камеры. Ее «жилец» не стоял на ногах, его вынуждены поддерживать под руки. Это Гравиль, один из каннибалов. Кто-то из офицеров сказал:
– Так это же ходячий труп.
– Они все в жалком состоянии, – заметил губернатор.
Комиссия подошла ко мне.
– Ваше имя? – спросил губернатор.
– Шарьер.
– Сколько?
– Восемь лет за кражу государственного имущества, непреднамеренное убийство. Три и пять без перерыва.
– Сколько отсидел?
– Восемнадцать месяцев.
– Поведение?
– Хорошее, – ответил комендант тюрьмы.
– Состояние здоровья?
– Удовлетворительное, – отозвался доктор.
– Имеете что-либо заявить?
– Только то, что здешний режим бесчеловечен и недостоин Франции.
– В каком смысле?
– Абсолютная тишина, никаких прогулок, а до недавнего времени и никакой медицинской помощи.
– Ведите себя хорошо, и, может быть, пока я губернатор, мне удастся сократить вам срок.
– Спасибо.
С этого дня нам разрешили час прогулки с купанием в искусственном бассейне, отгороженном от моря огромными каменными блоками для защиты купающихся от акул. Все это делалось по распоряжению губернатора и главного врача колонии.
Каждое утро в девять часов группы заключенных по сто человек направлялись в чем мать родила из тюрьмы к морю. Жены и дети надзирателей в это время должны были сидеть по домам, чтобы дать нам возможность пройти мимо в костюмах Адама.
Это продолжалось в течение месяца. Лица людей совершенно изменились. Умственно и физически больные люди, томившиеся в камерах одиночного заключения, полностью преобразились. Сказывались солнечное тепло, купание в море и возможность поговорить часок каждый день.
Однажды мы возвращались с моря в тюрьму. Я плелся в хвосте колонны. И вдруг раздался душераздирающий крик, за которым последовали два револьверных выстрела.
– Спасите! На помощь! Моя девочка тонет!
Крик доносился со стороны небольшого причала, представлявшего собой простую бетонную дамбу, уходящую в море. К ней причаливали лодки. Послышались другие крики:
– Акулы!
И еще два револьверных выстрела. Все остановились и стали смотреть в сторону, откуда доносились крики и выстрелы. Не раздумывая, я оттолкнул надзирателя и, голый, бросился к молу. Прибежав туда, я увидел двух обезумевших от воплей женщин, трех надзирателей и нескольких арабов.
– Прыгайте! – кричала женщина. – Она недалеко! Я не умею плавать, а то бы… О, трусливое стадо!
– Акулы! – закричал один надзиратель и стал палить в них снова.
Девочка в бело-голубом платьице барахталась в воде. Течение медленно относило ее от берега. Ее несло точно к тому месту, где было кладбище узников; пока до него еще было далеко. Багры беспрерывно стреляли и, должно быть, задели акул, поскольку вода рядом с девочкой кипела и бурлила.
– Не стреляйте! – закричал я и прыгнул в воду.
Подхваченный течением, я стал быстро приближаться к девочке. Что есть мочи я бил ногами, чтобы отпугнуть акул. Девочка все еще держалась на плаву, благодаря вздувшемуся, как парус, платьицу.
До нее оставалось каких-то тридцать-сорок метров, когда с Руаяля подоспела лодка. Оттуда заметили, что происходит. Лодка подобрала девочку перед самым моим носом. Ее вытащили из воды, а я завыл от ярости и досады, не обращая никакого внимания на акул. Меня тоже втянули в лодку. Я рисковал своей жизнью впустую.
Я так думал, по крайней мере, сначала. Но спустя месяц доктор Жермен Гибер добился в качестве награды отмены приговора, и я «по состоянию здоровья» был выпущен из тюрьмы одиночного заключения.Тетрадь восьмая Снова на Руаяле
Буйволы
И вот я снова просто чудом оказался на Руаяле как обычный заключенный, отбывающий обычное заключение. Мне суждено было провести восемь лет в камере-одиночке, но я пытался спасти девочку, и этот поступок вернул меня на Руаяль через девятнадцать месяцев.
Со мной мои друзья: Дега, все еще главный бухгалтер; Гальгани – письмоносец; Карбоньери, полностью оправданный по делу о несостоявшемся побеге; и Гранде, и столяр Бурсе, и санитар Шаталь, и свояки-«колясочники» Нарик и Кенье; и Матюрет, мой партнер по первому побегу, – он все еще на Руаяле и работает в должности помощника дежурного санитара.
Корсиканские разбойники тоже все в сборе: Эссари, Вичиоли, Чезари, Разори, Фоско, Мокье и Шапар, который подвел под гильотину главаря по делу о марсельской бирже по кличке Коготь. В общем, представлены все «звезды» судебной хроники с 1927 по 1935 год.
Марсино, убивший Дюфрена, умер на прошлой неделе от полного физического истощения. Акулы полакомились особым блюдом из лучшего парижского эксперта по драгоценным камням.
Баррá, по кличке Артистка, в прошлом чемпион Лиможа по теннису и миллионер, сейчас заведует лабораторией и аптекой в больнице. Он сидит за убийство одного шофера и его мальчика, который в свою очередь ходил в любовниках у Барра. Наш доктор, большой любитель острой шутки, говорит по этому поводу, что из-за права первой ночи можно заработать чахотку на островах.
Одним словом, мое появление на Руаяле было как гром среди ясного неба. В субботу утром я снова вошел в свой корпус, где обитали осужденные за тяжкие преступления. Почти все были на месте, и все без исключения приветствовали меня самым дружеским образом. Даже часовщик, не разговаривающий ни с кем с того памятного утра, когда его чуть не гильотинировали по ошибке, подошел ко мне и громко поздоровался.
– Как дела, братья? Порядок?
– Да, Папи. Добро пожаловать.
– Давай на свое место, – сказал Гранде. – С тех пор как тебя увели, его никто не занимал.
– Спасибо всем. Какие новости?
– Есть одна хорошая новость.
– Какая?
– Вчера вечером убили араба, который донес на тебя. Это произошло в коридоре рядом с блоком, где размещаются зэки с хорошим поведением. Ты помнишь араба, который залезал на пальму и следил за тобой? Кто-то, должно быть из твоих друзей, побеспокоился о тебе, чтобы ты больше не встречался с ним и не нажил себе новых неприятностей.
– Мне хотелось бы поблагодарить этого человека.
– Он когда-нибудь сам скажет. Араба обнаружили во время переклички с ножом в сердце. Никто ничего не видел и не слышал.
– Так-то лучше. А как игра?
– Прекрасно. Твое место так и ждет тебя.
– Хорошо.
Итак, начнем все сначала. Жизнь продолжается. Я снова только лишь заключенный, приговоренный к пожизненному сроку. Кто знает, как и когда закончится эта история.
– Папи, мы все страшно переживали за тебя, когда услышали, что тебя приговорили к восьми годам одиночки, – продолжал Гранде. – Думаю, на островах не найдется ни одного человека, кто отказался бы помочь тебе, даже невзирая на риск. Слава богу, ты опять с нами.
Вошел араб-тюремщик:
– Вас вызывает комендант.
Я пошел за ним. Несколько багров в караульном помещении очень любезно поговорили со мной, и я последовал дальше за арабом. А вот и сам комендант Пруйе.
– Порядок, Папийон?
– Да, месье комендант.
– Рад за вас, что получили прощение. Вы проявили храбрость, когда пытались спасти дочку моего коллеги.
– Спасибо.
– Поработай пока на буйволах, а потом вернешься на должность золотаря и получишь разрешение заниматься рыбалкой.
– Если я вас не слишком скомпрометирую, это было бы прекрасно.
– Это моя забота. Бывший заведующий строительными мастерскими больше здесь не служит. А я сам через три недели отбываю во Францию. Завтра приступай к работе.
– Не знаю, как и благодарить вас, месье комендант.
– Может, тем, что потерпишь хоть месяц с новым побегом? – сказал комендант и рассмеялся.
Люди в нашем корпусе остаются все теми же людьми; их жизнь нисколько не изменилась с тех пор, как меня отправили в одиночку. Игроки – особый класс людей: они ни о чем не думают, и ничто их не интересует, кроме карт. Те, у кого есть мальчики, живут, едят и спят с ними. Образуются настоящие «супружеские» пары, денно и нощно пребывающие в своих забавах и привязанностях. Сцены ревности вспыхивают и разыгрываются там, где «муж» или «жена» начинают следить друг за другом в предчувствии измены. Это непременно заканчивается убийством, когда одна половина, устав от другой, пытается переметнуться к новым любовникам.
Неделя не прошла, как негр Симплон убил человека по имени Сидерó, и все из-за «красотки» Шарли́ (Барра). Симплон убил из-за него уже третьего.
Я еще не успел провести в лагере несколько часов, как ко мне уже подгребли два типа.
– Скажи Папийон, Матюрет твоя крошка или нет?
– А в чем дело?
– Так, из личных интересов.
– Послушай, Матюрет прошел со мной две с половиной тысячи километров и вел себя так, как подобает мужчине. Это все, что я могу сказать.
– Я хотел бы знать, был ли он твоей милочкой?
– Нет. В этом смысле ничего подобного за ним не водилось. Что касается нашей дружбы, то она действительно крепкая. Остальное меня не касается, если, конечно, его не собираются обидеть.
– А что, если он станет моей женой?
– Если дело полюбовное, я вмешиваться не стану. Но если ты силой и угрозами попытаешься добиться его взаимности, то, разумеется, придется считаться и со мной.
И так всегда у этих гомиков: активный он или пассивный, находят друг друга, устраиваются и живут своей любовью, ни о чем больше не задумываясь!
Я встретил итальянца из нашего конвоя, помните, того парня с золотой гильзой? Он подошел и поздоровался. Я спросил:
– Ты еще здесь?
– Делал все, что мог. Мать прислала мне двенадцать тысяч франков. Багор взял шесть тысяч комиссионных. Да я сам заплатил четыре тысячи, чтобы меня вывезли на материк. Добился отправки в Кайенну на рентген. Но там ничего не вышло. Затем устроил так, что меня судили за ножевое ранение моего друга. Ты знаешь его – это Разори-корсиканец, известный бандит.
– Да, и что дальше?
– Мы с ним договорились. Он проткнул себе живот, и нас обоих отправили в военный трибунал: его – в качестве истца, меня – как ответчика. Дело обтяпали за две недели. Но мы так и не попали на материк. Дали мне шесть месяцев одиночки, которые я и отбарабанил в прошлом году. Ты даже не знал, что я сижу вместе с тобой. Боюсь, здесь я больше не вынесу, Папи. Пора кончать с собой.
– Лучше погибнуть в море при побеге. По крайней мере, хоть умрешь свободным.
– Ты прав, я на все готов. Если что надумаешь, дай знать.
– Договорились.
Итак, жизнь на Руаяле снова потекла своим чередом. Работаю на буйволе по кличке Брут. Он весит две тонны и в сравнении с другими – настоящий убийца. От его рогов пали уже два самца.
– Это его последний шанс, – сказал надзиратель Ангости, отвечавший за работу. – Если прикончит еще одного – отправим на бойню.
Сегодня утром состоялось наше первое знакомство с Брутом. Негр с Мартиники, работавший на нем раньше, остался на неделю, чтобы обучить меня ремеслу. С Брутом мы подружились сразу: я помочился ему на морду, и он захлопал языком по ноздрям. Страшно любит лизать соленое. Затем я дал ему несколько зеленых плодов манго, которые сорвал в саду больницы. Брут впрягся в ярмо, привязанное крепкими гужами к огромному дышлу грубо сработанной повозки, принадлежавшей, должно быть, еще египетским фараонам. На повозке установлена бочка емкостью три тысячи литров. Вот с таким снаряжением мы направляемся к берегу моря. Наша с Брутом задача состоит в том, чтобы съехать вниз, наполнить бочку водой и поднять ее на плато по страшно крутому склону. Там я вытаскиваю из бочки затычку, и вода бежит по желобам, смывая нечистоты, скопившиеся за ночь и вынесенные утром золотарями. Работа начинается в шесть утра и заканчивается около девяти.
Через четыре дня негр с Мартиники сказал, что теперь я и сам справлюсь со всеми делами без посторонней помощи. Правда, была тут одна загвоздка: Брут не очень-то спешил на работу и прятался в пруду, так что мне приходилось в пять часов утра лезть туда и отыскивать ленивую скотину. У Брута очень чувствительные ноздри, в которые вдето железное кольцо. На нем цепь сантиметров пятьдесят в длину, она болтается на кольце постоянно. Стоило мне обнаружить буйвола, как он тут же бросался в сторону, нырял и показывался на поверхности на почтительном от меня расстоянии. Иногда приходилось ловить его больше часа, барахтаясь в этой вонючей луже, заросшей кувшинками и заполненной всевозможной водяной живностью. Тут уж я не выдерживал и принимался костить его на чем свет стоит: «Свинья! Вислобрюхая упрямая скотина! Да вылезешь ли ты, черт бы тебя побрал, из воды?» Но он смирялся лишь тогда, когда мне удавалось поймать его за цепь. Оскорбления быка ни капельки не задевали. Но стоило мне вытащить Брута из пруда, как мы становились друзьями.
У меня было два бидона из-под свиного сала. В них я держал свежую чистую воду и устраивал себе душ. Сначала смывал липкую грязь, затем намыливался и споласкивался. После этого у меня обычно оставалось еще полбидона воды, и я принимался мыть и чистить Брута. Скребницу мне заменяла грубая волосянистая половинка кокосовой скорлупы. Я чистил буйвола, одновременно поливая его водой и осторожно обходя самые чувствительные места. Брут терся головой о мои руки и добровольно подходил к дышлу. Я никогда не пользовался бодцом, как это делал негр, и в знак благодарности буйвол катил повозку гораздо быстрее, чем раньше.
У Брута была любимая подружка, небольшая и милая буйволица. Она ходила с нами, держась рядом с другом. Я не отгонял ее, как это делал мой предшественник. Напротив, я позволял ей обнюхивать Брута, лизать ему морду и сопровождать нас, куда бы мы ни ехали. Я никогда не мешал им обнюхиваться и облизывать друг друга, за что буйвол в порыве благодарности тащил свой груз с удвоенной резвостью. Казалось, он старался наверстать время, упущенное в процессе ухаживания за Маргеритой – такова была кличка нашей буйволицы.
Вчера в шесть часов утра во время утренней переклички разыгралась сцена, в которой участвовала Маргерита. Дело обстояло так. Негр с Мартиники каждый день пользовал Маргериту, предварительно влезая на невысокую ограду. Его застукал один багор, за что негра посадили в карцер на тридцать суток. За скотоложство – таков был официальный приговор. А вчера во время переклички в лагерь пожаловала Маргерита. Она обошла строй, пропустив более шестидесяти человек, и, когда приблизилась к негру, развернулась кругом и подставила ему зад. Лагерь катался от смеха, а чернокожий посерел от стыда и конфуза.
В день я делал три ездки. Больше всего времени уходило на заполнение бочки. Этим занимались два человека, поджидавшие меня на берегу. Они работали споро, и к девяти часам я был свободен и мог отправляться на рыбалку.
Чтобы было легче выгонять Брута из пруда, я сделал Маргериту своей союзницей. Я чесал ей ухо определенным образом, и она мычала, причем звук напоминал ржание загулявшей кобылы. И Брут вылезал из пруда по собственной воле. И хотя теперь отпала нужда обмывать себя, я все-таки продолжал с еще бóльшим усердием мыть и скрести Брута. Он сверкал чистотой, отмытый от вонючей грязи пруда, в котором проводил ночь, и становился еще более привлекательным для Маргериты.
На полпути вверх по склону имелось пологое место, где я хранил большой камень. У Брута была привычка останавливаться там минут на пять, чтобы перевести дух, и я подкладывал камень под колесо, чтобы ему лучше отдыхалось. Но в это утро нас поджидал там другой буйвол по кличке Дантон, такой же здоровый, как и сам Брут. Дантон прятался в густой зелени небольших пальм, которая хорошо скрывала его. И вот он выскочил из засады и бросился на Брута. Брут увернулся от удара, и Дантон врезался в повозку. Одним рогом он прошил бочку. В то время как Дантон прилагал чудовищные усилия, чтобы освободиться, я распрягал Брута. Как только Брут почувствовал, что ярма на нем больше нет, он тут же набрал боевую дистанцию метров за тридцать выше по склону и ринулся на Дантона. Страх или отчаяние помогли Дантону отделаться от бочки, хотя кончик рога так и застрял в ней. И очень вовремя! Брут уже не мог остановиться. Он врезался в повозку и опрокинул ее. Тут-то и случилось одно из самых странных событий, какое когда-либо мне доводилось видеть. Брут и Дантон соприкоснулись друг с другом рогами. Однако ни тот ни другой не делал каких-либо резких выпадов. Они как бы очень осторожно вострили свое грозное оружие. Казалось, они разговаривают без звука, при этом ноздри у них широко раздувались. Буйволица медленно пошла вверх по склону, за ней двинулись и оба быка. Время от времени они останавливались и снова терлись рогами, едва скрещивая их. Если они слишком затягивали с этим делом, Маргерита устало мычала и снова принималась подниматься по направлению к плато. Оба мастодонта в том же порядке следовали за ней. После трех таких остановок, причем каждый раз с теми же церемониями, мы достигли плато. Вышли на ровную площадку перед маяком. Голое пространство земли метров триста в длину. В дальнем конце виднеется лагерь, справа и слева две больницы, одна – для заключенных, другая – для надзирателей.
Дантон и Брут продолжали идти за Маргеритой, держась от нее сзади в двадцати шагах. Буйволица спокойно вышла на середину площадки и там остановилась. К ней присоединились и оба соперника. Время от времени она издавала длинное призывное мычание. Соперники снова соприкоснулись рогами, и на этот раз я почувствовал, что они действительно разговаривали между собой, поскольку не только раздували ноздри, но и издавали какие-то звуки, которые, несомненно, должны были что-то означать.
После разговора быки медленно разошлись по краям площадки. Между ними все триста метров. Маргерита стояла посередине и ждала. И тут до меня дошло, что происходит: настоящая дуэль с согласия обеих сторон, а в качестве приза – Маргерита. И Маргерита хотела этой дуэли. Она стояла очень гордая и наблюдала, как два ее дружка дерутся из-за нее.
Маргерита подала сигнал, и буйволы ринулись навстречу друг другу. Не буду гадать, во сколько раз могла возрасти сила удара двухтонной массы с каждой стороны, помноженная на скорость с разбегом в сто пятьдесят метров. Две рогатые башки сшиблись с таким треском, что оба буйвола не могли после этого очухаться целых пять минут. Первым пришел в себя Брут и бросился на исходную позицию. Битва продолжалась два часа. Багры хотели убить Брута, но я не дал им это сделать. В какой-то момент при столкновении Дантон сломал рог, тот самый, который он повредил о бочку. Он кинулся бежать, но Брут погнался за ним. Битва с преследованием длилась до следующего дня. Буйволы рушили и сметали все, что попадалось им на пути – в огородах, на кладбище и в прачечной.
Дрались целую ночь, и только утром часам к семи Бруту удалось прижать соперника к стенке пекарни на самом берегу моря. Там он всадил свой рог на полную глубину в брюхо Дантона. Чтобы покончить с противником раз и навсегда, Брут крутанул башкой раз-другой, разворотив Дантону все внутренности. Полезли кишки и полилась кровь. Дантон рухнул, поверженный и побежденный.
Борьба гигантов настолько обессилила Брута, что мне пришлось помочь ему вытащить рог из брюха Дантона, иначе ему никак не удавалось встать на ноги. Он побрел, пошатываясь и спотыкаясь, вдоль берега моря. К нему подошла Маргерита. Она подсунула свою комолую башку под его могучую шею, помогая держать ее на весу.
Я не смог присутствовать на их свадьбе, ибо багор, отвечавший за буйволов, обвинил меня в том, что я не по делу распряг Брута. И меня выгнали с работы.
Я попросил разрешения встретиться с комендантом. Хотелось переговорить с ним о Бруте.
– В чем дело, Папийон? Брута непременно надо прирезать. Он слишком опасен. Он уже загубил трех хороших буйволов! Этого мало?
– Я за этим и пришел и прошу вас спасти Брута. Надзиратель со скотного двора, приставленный к буйволам, ничего толком не знает. Позвольте мне рассказать вам, как Брут действовал на законных основаниях в целях самозащиты.
Комендант улыбнулся:
– Я слушаю.
– …Так что вы понимаете, месье комендант, не мой буйвол напал, а на него напали.
Закончил я свой подробный рассказ таким образом:
– Более того, если бы я не распряг Брута, Дантон убил бы его. Брут не смог бы постоять за себя, если бы оставался запряженным в повозку.
– Верно, – сказал комендант.
В это время появился багор со скотного двора.
– Доброе утро, комендант. Я вас ищу, Папийон. Вы вышли утром из лагеря так, словно собрались на работу. Но у вас нет работы – вы уволены.
– Месье Ангости, я хотел их разнять, но куда там – они так рассвирепели, что я ничего не мог поделать.
– Может быть, и так. Но вы уже не ездите на том буйволе, и вам об этом было сказано. В любом случае утром в воскресенье его зарежут. На всю тюрьму хватит мяса.
– Вы не сможете это сделать.
– Уж не вы ли мне запретите?
– Нет, не я, а комендант. А если этого недостаточно, я обращусь к доктору Жермену Гиберу, и он вступится за Брута.
– Зачем вы влезаете в это дело?
– Потому что это мое дело. Я погонщик буйвола, а он мой друг.
– Ваш друг буйвол? Не смешите!
– Месье Ангости, выслушайте меня. Всего минуту.
– Пусть говорит в защиту своего буйвола, – сказал комендант.
– Хорошо. Говорите.
– Месье Ангости, как вы думаете, животные могут разговаривать друг с другом?
– Почему бы нет, они же общаются между собой!
– Так вот. Брут и Дантон договорились драться на дуэли.
И снова я повторил весь рассказ с начала до конца.
– Боже! – воскликнул корсиканец. – Вы хороший мужик, Папийон. Делайте с Брутом, что хотите, но в следующий раз, если он что-нибудь натворит, его уже никто не спасет, даже комендант. Можете снова работать возчиком. Посмотрите, как дела с Брутом, и сразу же приступайте к работе.
Через два дня Брут вернулся к своим обязанностям по доставке морской воды. Он по-прежнему тащил повозку, которую починили в столярных мастерских. Рядом с ним шла его законная Маргерита. Когда мы достигали нашего места отдыха и под колесо был уже подложен камень, я спрашивал:
– Брут, а где Дантон?
И буйвол одним махом срывал с места повозку и резво шел вперед без передышки поступью победителя.
Мятеж на Сен-Жозефе
Острова были чрезвычайно опасным местом из-за той видимой свободы, которой пользовались заключенные. Было больно смотреть, как одни приноровились к однообразному течению жизни и ожидают окончания срока каторги, другие же все глубже погрязают в пороках и уже ничего не ждут.
Прошлой ночью я наблюдал, лежа в своей подвесной койке, как игра в дальнем углу комнаты настолько обострилась, что потребовались объединенные усилия моих друзей Карбоньери и Гранде, чтобы не дать ей выйти из-под контроля. Одному уже было не справиться. А я в это время размышлял, пытаясь оживить в своей памяти картины прошлого. Но картины не вызывались и не оживали. Казалось, присяжных заседателей и вовсе не существовало. Я старался высветить, выхватить из мрака событий те тусклые фигуры злополучно памятного дня – и ничего не получалось. Мне не удалось отчетливо увидеть ни одного лица. Только лицо прокурора, единственного, кто представлял для меня суровую действительность! А мне-то казалось, что ты перестал существовать для меня во имя спокойствия и добра. Я так думал еще тогда, когда находился на Тринидаде у Боуэнов. Какой черный рок преследует меня в твоем образе? Не ты ли, вошь, мера всех моих неудач, в том числе и шести провалившихся попыток бежать? А когда ты услышал о моем первом побеге с каторги, спал ли ты спокойно? Хотелось бы знать, испугался ли ты или просто пришел в ярость при этом известии? Надо же, добыча ускользнула прямо из сточной канавы, куда ты спустил ее! И всего-то через сорок три дня птичка вырвалась из клетки! Почему же судьба через одиннадцать месяцев снова привела меня в тюрьму? Вероятно, Господь наказал меня за презрение к примитивному, но прекрасному – о, такому прекрасному! – образу жизни, которым я мог бы наслаждаться вечно, если бы захотел.
Мои возлюбленные Лали и Сорайма; мое племя без жандармов и юстиции, где признается только один закон – безусловное взаимопонимание между соплеменниками. Да, это я виноват, что оказался здесь. И теперь я должен думать только об одном: бежать, бежать, бежать или умереть.
У тебя, прокурор, когда ты узнал, что меня схватили и снова возвратили на каторгу, на физиономии наверняка застыла улыбка победителя, не так ли? Ты, должно быть, подумал: «Все идет прекрасно: он там, где ему и следовало быть, – плывет вниз по сточной канаве». Но ты ошибся: сердце мое и душа никогда не опустятся до этого унизительного положения. Вы наложили лапы только на мое физическое тело. Дважды в сутки ваши стражники и ваша тюремная система отмечают, что я здесь, и это вас устраивает. В шесть утра: «Папийон!» – «Здесь!» В шесть вечера: «Папийон!» – «Здесь!» Прекрасно. Он у нас в руках уже шесть лет, поди уж дряхлеет, и, если немного повезет, однажды прозвучит колокол и приплывут акулы и получат его со всеми подобающими почестями. Ежедневно ваша система устраивает для акул такой праздник. Она сначала выматывает человека, а потом избавляется от него.
Но вы ошибаетесь, ваши расчеты не сбываются. Я связан телом, но дух мой свободен. Послушайте-ка, что я вам еще скажу: я ни в малейшей степени не смирился с тем, к чему приспособились мои собратья по несчастью, пусть даже мои ближайшие друзья. Я решительно настроен бежать в любое время дня или ночи. Круглосуточно. Жду на старте.
Мой спор с прокурором оборвался, потому что ко мне подошли двое.
– Ты спишь, Папийон?
– Нет.
– Надо бы поговорить.
– Начинайте. Если говорить тихо, никто не услышит.
– Послушай, мы готовы поднять мятеж.
– Какие у вас планы?
– Истребить всех арабов, всех багров, их жен и детей – все крапивное семя под корень. Меня зовут Арно́, а это мой друг Отен. Вшестером – с нами еще четверо – мы захватим арсенал. Я там работаю. Слежу, чтобы оружие содержалось в чистоте и порядке. В арсенале двадцать три легких пулемета, восемьдесят винтовок и карабинов, а может, и больше. Мы устроим так, что…
– Стоп, не продолжай. Я с вами не пойду. Спасибо, что поделились секретом, но я с вами не пойду.
– Мы полагали, что ты согласишься возглавить мятеж. Позволь мне изложить некоторые детали. Все продумано, и дело не должно сорваться. В течение пяти месяцев мы вынашивали этот план. С нами более пятидесяти человек.
– Не называй ни одного имени. Отказываюсь быть вожаком, не пошевелю даже пальцем в таком деле.
– Почему? Ты должен объясниться. Мы тебе доверились и все рассказали.
– Во-первых, я об этом не просил. Во-вторых, я делаю то, что сам считаю нужным, а не то, чего от меня хотят другие. И в-третьих, я никогда не соглашусь на поголовную резню. Я могу убить человека, против которого имею что-то серьезное. Но не женщин и не детей, которые не сделали мне ничего плохого. Более того, я вижу, что вы себе совсем не представляете самое худшее. Пусть даже мятеж удастся, вы все равно проиграете.
– Почему?
– Потому что самое-то главное – бежать. А вот бежать-то вы и не сможете. Представьте, в выступлении участвует сто человек. И как же им бежать? На островах только две шлюпки. Хоть умри, а больше сорока человек они не поднимут. Что прикажете делать с остальными, а их ведь ни много ни мало, а шестьдесят.
– Мы будем среди сорока в шлюпках.
– Это ты так думаешь, но другие не дурнее тебя. Они так же, как и ты, будут вооружены, и, если у каждого найдется в голове хоть пара извилин, никому не захочется, чтобы их всех, как ты выразился, извели под корень. Вы перестреляете друг друга, прежде чем доберетесь до лодок. Но вот что самое паршивое: ни одна страна не разрешит вам высадиться на свой берег. Во все концы полетят телеграммы, которые опередят ваше прибытие в любую страну. Вас уже будут ждать и встретят как надо, особенно после той кровавой бани, какую вы хотите здесь устроить. Где бы вы ни появились, вас арестуют и выдадут Франции. Как тебе известно, меня вернули из Колумбии, так что я знаю, о чем говорю. Клянусь честью, вас возвратят отовсюду за подобные дела.
– Так. Ты, значит, отказываешься?
– Да.
– Это твое последнее слово?
– Решительно последнее.
– А нам ничего больше не остается, как идти дальше.
– Минуточку. Прошу вас, не говорите ни с кем из моих друзей о вашем плане.
– Почему?
– Заранее знаю: они откажутся. Так что не стоит.
– Хорошо.
– Вы действительно не можете отказаться от этой затеи?
– Говоря откровенно, да, Папийон.
– Не могу понять, что вы преследуете, поскольку я вам говорю совершенно серьезно: если даже мятеж удастся, вы все равно не обретете свободу.
– Больше всего мы хотим отомстить. А теперь, когда ты нам разъяснил, что ни одна страна нас не примет, мы подадимся в буш и будем жить в лесу одной бандой.
– Даю вам слово, что я не заикнусь об этом никому и никогда, даже ближайшему другу.
– Мы и не сомневались.
– И последнее. Дайте мне знать, когда начнете, чтобы я вовремя убрался на Сен-Жозеф и не отсвечивал на Руаяле.
– Мы предупредим, когда надо будет менять остров.
– Может, я могу что-то сделать, чтобы вы передумали? Может, вместе поработаем над планом? Придумаем что-нибудь другое? Например, украдем четыре карабина, нападем на стражников в лодках. При этом никого не убьем. Возьмем лодку и отчалим вместе.
– Нет. Мы зашли слишком далеко. Для нас самое главное – месть. За это мы готовы заплатить жизнью.
– И детей? И женщин?
– Все крапивное семя под корень. Они все одинаковы – одна кровь. Им нет пощады – все как один должны умереть.
– Хватит об этом. Больше ни слова.
– Ты не хочешь пожелать нам удачи?
– Нет, не хочу. Прошу вас, откажитесь от этой затеи. Есть гораздо более стоящие вещи, чем эта кровавая бойня.
– Ты не согласен, что мы имеем право на месть?
– Имеете, но вымещайте не на тех, кто вам не сделал ничего плохого. Прощайте.
– Пока. Мы ни о чем не говорили. Так, Папи?
– Лады.
И Отен с Арно ушли. Ну и дела! Похоже, у этих ребят на плечах не голова, а что-то другое. Да не только у них: с ума посходили еще человек пятьдесят-шестьдесят. По их словам, именно столько и наберется. А в день мятежа уже будет целая сотня! Нет, такое могли придумать только сумасшедшие! Никто из моих друзей даже не намекал на что-то похожее. Значит, эти двое могли вести разговоры только с явными идиотами. Просто немыслимо, чтобы кто-то из моего окружения участвовал в подобном заговоре. А последнее обстоятельство только ухудшает положение вещей: безмозглые убийцы – это самые настоящие убийцы. Человек моего круга может убить, но за дело, а не просто так. Согласитесь, разница большая.
Примерно неделю я исподволь собирал информацию об Арно и Отене. Арно получил пожизненную каторгу за дело, которое не тянуло и на десять лет, – несправедливо, конечно. Но если учесть, что за год до этого его брата приговорили к смертной казни за убийство полицейского, становится понятным, почему так строго отнеслись к нему судьи. Отсюда и приговор, возмутительный по жестокости, поскольку прокурор на судебном процессе больше говорил о брате Арно, чем о нем самом, и тем самым создал враждебную ему обстановку. Арно подвергли ужасным пыткам, и все из-за того же брата.
Отен никогда не жил на свободе, он познакомился с тюрьмой уже в девятилетнем возрасте. А когда ему исполнилось девятнадцать и он должен был покинуть исправительное заведение для малолетних преступников, он убил одного парня. Именно в тот момент, когда он с приписным свидетельством на руках готовился к службе в военно-морском флоте. Отен, должно быть, слегка свихнулся на идее добраться до Венесуэлы и устроиться на работу на золотой рудник. Там он планировал подстроить все таким образом, чтобы ему оторвало ногу, за что можно было бы получить денежную компенсацию. Нога у него не сгибалась еще на Сен-Мартен-де-Ре: ввел шприцем в колено какую-то гадость.
Гром среди ясного неба! Сегодня на утренней перекличке из строя вывели Арно, Отена и Жана Карбоньери – брата моего друга Матье. Жан работал пекарем и жил поэтому у причала рядом с лодочной стоянкой. Их отправили на Сен-Жозеф без всяких объяснений и какой-либо видимой причины. Ни слова, хотя к этому времени Арно чистил и смазывал оружие уже в течение четырех лет, а Жан проработал пекарем все пять. Это не могло оказаться случайностью. Кто-то донес. Утечка информации, но каков объем и как далеко она зашла?
Я решил побеседовать со своими ближайшими друзьями: Матье Карбоньери, Гранде и Гальгани. Никто ничего не знал. Значит, все-таки Отен и Арно имели дело с заключенными не нашего круга.
– В таком случае почему они обращались ко мне?
– Потому что каждый знает, что ты хочешь сбежать любой ценой.
– Но не такой.
– Где им понять разницу!
– Что скажешь о Жане?
– Бог знает, как он мог оказаться таким дураком, чтобы влипнуть в подобную историю.
– Может, тот парень, который выдал его, просто ляпнул, а на самом деле ничего и не было?!
События разворачивались с нарастающей быстротой. Прошлой ночью убили Джиразоло, когда тот направлялся в гальюн. Кровь обнаружили на рубашке негра с Мартиники, известного вам погонщика буйволов. В результате слишком поспешного следствия и на основании показаний еще одного негра, который поначалу стал кое-что выбалтывать, но потом прикусил язык, парня с Мартиники приговорили к смерти.
Как-то у бани во дворе ко мне подошел старый пройдоха по имени Гарвель, а по прозвищу Савоец.
– Папи, у меня положение хуже губернаторского, ведь это я убил Джиразоло. Хотелось бы спасти чернокожего, но боюсь сам лечь под топор. Поэтому я и помалкиваю в тряпочку. Случись отделаться тремя-пятью годами одиночки, я бы признался.
– Какой приговор?
– Двадцать лет.
– Сколько отбарабанил?
– Двенадцать.
– Подумай, как получить пожизненный срок, и тогда тебя не отправят в одиночку.
– Но как?
– Надо прикинуть. Вечером скажу.
Наступил вечер, и я сказал Гарвелю:
– А нельзя ли сделать так, чтобы тебя осудили как уже раскаявшегося?
– Почему бы нет?
– Но могут ведь и к смерти приговорить. Единственный путь избежать одиночки – это получить пожизненный приговор. Начни с саморазоблачения. Говори, что твоя совесть не позволяет перекладывать свой грех на голову невиновного человека, который уже подведен под плаху. Надо выбрать в защитники одного из багров-корсиканцев. Я подскажу, к кому обратиться, но прежде сам с ним переговорю. Все надо делать быстро. Черному еще не успеют снести голову. Подождем дня два-три.
Я переговорил с надзирателем по имени Коллона, и он дал мне замечательный совет. Я должен сам отвести Гарвеля к коменданту и сказать, что тот попросил меня быть его защитником и отвести с признанием к властям. Я должен также сказать, что мне удалось убедить Гарвеля, что к смерти его не приговорят, приняв во внимание благородный поступок раскаявшегося. Но поскольку преступление является действительно очень серьезным, то его ожидает пожизненное заключение.
Все вышло как нельзя лучше. Гарвель спас чернокожего, которого тут же выпустили. Лжесвидетель схлопотал год одиночки. Сам Робер Гарвель получил пожизненный срок.
Все это было два месяца назад. А теперь, когда неприятности пронеслись и отчасти забылись, Гарвель рассказал о некоторых подробностях. Джиразоло дал согласие присоединиться к выступлению. Его посвятили в детали, после чего он и выдал Арно, Отена и Жана Карбоньери. К счастью, других имен он не знал.
Раскрытый заговор показался баграм настолько невероятным и чудовищным, что они в него просто не поверили. И все же меры предосторожности были приняты: троих, на которых поступил донос, отправили на Сен-Жозеф без предъявления им какого-либо обвинения и без всяких допросов.
– А как ты мотивировал причину убийства, Гарвель?
– Сказал, что он у меня спер гильзу. Сказал, что он спал рядом со мной, а это на самом деле так, и той ночью я вынул гильзу и спрятал ее под одеяло, которое у меня вместо подушки. Пока я ходил в гальюн, гильза пропала. Все уже дрыхли, а рядом со мной маялся бессонницей только одни человек – Джиразоло. Багры поверили, они мне даже не сказали, что он им настучал о якобы готовящемся мятеже.
– Папийон! Папийон! – донеслось вдруг со двора. – Перекличка! На выход!
– Здесь! – ответил я.
– Забирай вещи. Отправляешься на Сен-Жозеф.
– О, черт побери!
Во Франции только что разразилась война. А с ней наступил и новый дисциплинарный порядок. Начальники охраны, несущие ответственность за побег, отныне увольнялись со службы. Ссыльные, арестованные во время побега, приговаривались к смертной казни. Сам побег теперь рассматривался как доказательство желания присоединиться к движению Сопротивления, предавшему Францию. Ко всему можно относиться терпимо, но только не к побегу.
Комендант Пруйе уехал два месяца назад. Нового коменданта я не знал. Ничего не попишешь. Я простился с друзьями. В восемь сел в лодку и отправился на Сен-Жозеф.
Отец Лизетты больше не служил в лагере. За неделю до моего приезда он уехал в Кайенну вместе с семьей. Нынешний комендант Сен-Жозефа родом из Гавра. Его зовут Дютен. Он меня и встретил. Так уж случилось, что меня отправили одного. Старший надзиратель, ответственный за перевозку заключенных между Руаялем и Сен-Жозефом, передал меня на пристани дежурному багру вместе с сопроводительными бумагами.
– Вы и есть Папийон?
– Да, месье комендант.
– Странный вы субъект, – заметил он, перелистывая бумаги.
– Что же во мне странного?
– Видите ли, с одной стороны, вы характеризуетесь как опасный во всех отношениях. Вот тут даже выделено красным: «Постоянно настроен на побег». А с другой стороны, есть и такая запись: «Пытался спасти ребенка, дочь коменданта Сен-Жозефа, от акул». У меня у самого две маленькие девочки, Папийон. Хотите взглянуть на них?
Он позвал их, и пара белокурых девчушек трех и пяти лет появилась передо мной в сопровождении молодого араба в белой одежде и прехорошенькой шатенки.
– Ты видишь этого человека, дорогая? Именно он пытался спасти твою крестницу Лизетту.
– О, позвольте пожать вашу руку, – сказала молодая женщина.
Пожать руку заключенного – это большая честь для него. Никто из тех, кто на воле, не протянет ее заключенному. Для меня этот непроизвольный жест оказался весьма трогательным.
– Да, я крестная мать Лизетты. Мы близкие друзья семьи Грандуа. Что ты собираешься сделать для него, дорогой?
– Сначала он пойдет в лагерь, а затем, – комендант повернулся ко мне, – вы дадите мне знать, чем бы вы хотели заняться на острове.
– Благодарю, месье комендант. Спасибо, мадам. Скажите, пожалуйста, почему меня отправили на Сен-Жозеф? Ведь это же почти наказание.
– Причина мне неизвестна. Я бы сказал так: новый комендант боится, что вы убежите.
– Он не ошибается.
– Сейчас ужесточились меры наказания служащих, по вине которых произошел побег. Раньше, до войны, можно было потерять одну нашивку, а теперь без всяких-яких лишаешься всех вместе с мундиром. Потому-то он и послал вас сюда. Для него лучше, если вы будете на Сен-Жозефе, чем на Руаяле. Никакой ответственности.
– Сколько вам служить здесь, месье комендант?
– Восемнадцать месяцев.
– Я не могу так долго ждать, но я придумаю, как вернуться на Руаяль, чтобы не наделать вам каких-либо неприятностей.
– Спасибо, – сказала женщина. – Приятно знать, что вы так великодушны. Если в чем-то будете нуждаться, немедленно приходите к нам. Папа, предупреди караульный наряд в лагере, чтобы Папийона приводили ко мне, когда бы он ни пожелал.
– Да, дорогая. Мохамед, проводи Папийона в лагерь. Папийон, в каком корпусе вы хотели бы остановиться? Выбирайте.
– О, это нетрудно. Прошу поместить меня в корпус опасных преступников.
– Да, это действительно нетрудно, – сказал комендант, смеясь. Он написал записку и передал ее Мохамеду.
Я оставил дом на набережной, служивший коменданту и резиденцией, и офисом, в котором недавно жила Лизетта. В сопровождении молодого араба я явился в лагерь.
В тот день начальником караула оказался пожилой и злющий корсиканец, известный живоглот по имени Филиссари.
– Значит, Папийон. Ну-ну. Ты знаешь, либо я хороший, либо плохой. Не вздумай бежать. Если попадешься – пристрелю вот этой рукой. Через два года ухожу в отставку. Поэтому знай: никому спуску не даю.
– Мне нравятся корсиканцы. Обещать не буду, но побегу тогда, когда вы не будете на дежурстве.
– Прекрасно, Папийон. Только так мы не будем врагами. Молодым легче перенести весь этот шум и неприятности, связанные с побегом. А я уже в возрасте, да к тому же скоро ухожу в отставку. Итак, договорились. Отправляйся в корпус по предписанию.
И вот я в лагере. В точно таком же корпусе, как и на Руаяле. В нем проживает человек сто – сто двадцать. Тут и Пьерро Придурок, и Отен, и Арно, и Жан Карбоньери. По правде говоря, мне бы следовало присоединиться к «шалашу» Жана в том смысле, что он брат Матье. Но на черта мне нужны его приятели – Арно с Отеном. Поэтому я пристроился к Карьé и Пьерро Придурку.
Остров Сен-Жозеф более дикий, чем Руаяль, и поменьше, хотя кажется, что он больше, поскольку слишком вытянут. Лагерь расположен на полпути от моря. Сам остров состоит как бы из двух плато – одно над другим. На первом плато расположен лагерь, а на втором, более высоком, громоздится мрачное здание тюрьмы-одиночки. Кстати, узников из тюрьмы продолжают водить купаться на один час в день. Будем надеяться, что так будет и дальше.
Каждый раз, когда наступало время обеда, араб, служивший в доме коменданта, приносил мне в судках с деревянной ручкой обед из трех блюд на одну персону. Он выставлял три миски и забирал посуду, принесенную вчера. Это крестная мать Лизетты посылала мне те же кушанья, которые готовила для своей семьи.
В воскресенье я отправился к ней с визитом, чтобы поблагодарить. Весь день мы провели за разговорами, и я играл с детьми. Глядя на белокурые головки, я размышлял о том, как трудно бывает определить, где пролегает граница долга. Ужасная опасность нависала над этой семьей, если те два маньяка не отказались еще от своих замыслов. По доносу Джиразоло багры догадались выслать обоих на Сен-Жозеф, но недодумались разделить их. Если, положим, мне следует сказать, что их необходимо отделить друг от друга, тогда как бы подтвердится правдивость и серьезность первоначального сигнала. А как в этом случае отреагируют багры? И я решил, что будет лучше помалкивать в тряпочку.
Арно и Отен едва со мной разговаривали. Я предпочитал держаться с ними ровно, но не вступать в приятельские отношения. Жан Карбоньери вообще не сказал мне ни слова: он сердился на меня за то, что я отказался присоединиться к его «шалашу». В нашем «шалаше» было четверо: Пьерро Придурок, Маркетти, получивший как скрипач второй приз на музыкальном фестивале в Риме (он до сих пор может играть часами, чем повергает меня в меланхолию), Марзори, корсиканец из Сета, и я.
Я никому не говорил о неудавшейся попытке мятежа на Руаяле, и у меня сложилось впечатление, что здесь, на Сен-Жозефе, тоже никто ровным счетом ничего не знал о нем. Неужели те ребята все еще не отказались от своих намерений? Всех троих подрядили на действительно каторжную работу, состоявшую в том, чтобы таскать волоком огромные валуны, впрягаясь в своеобразное ярмо. Валуны предназначались для строительства плавательного бассейна в море. Делалось это так: камень опутывался цепями, к ним крепилась еще одна цепь метров пятнадцать-двадцать в длину, затем к ней справа и слева крюками цеплялись узники, а сам крюк являлся элементом упряжки, накидываемой на плечи или на грудь. Словно животные, они тащили проклятый валун до того места. Это была тяжелая работа. Да еще на солнцепеке! Да еще изнурительная до одури!
Послышались выстрелы со стороны причала – винтовочные, из карабинов и револьверов. Я знал, что это значит: маньяки начали действовать. Но как развиваются события? Кто побеждает? Стрельба застала меня в корпусе. Я как сидел на стуле, так и остался сидеть не шелохнувшись. Заключенные заволновались.
– Мятеж!
– Мятеж? Какой мятеж? – Этим я дал ясно понять, что мне ничего не известно.
В тот день Жан Карбоньери не вышел на работу. Он подошел ко мне, бледный как полотно, несмотря на загар, и едва слышно произнес:
– Это мятеж, Папи.
Очень холодно я произнес:
– Какой мятеж? Не знаю ни о каком мятеже.
Стрельба продолжалась. В камеру вошел Пьерро Придурок.
– Мятеж, но, кажется, не удался. Падлы! Суки! Маньяки! Папийон, вынимай нож. Надо продаться подороже, прежде чем нас прикончат.
– Да, – вставил Карбоньери, – убьем побольше.
Шиссилья́ выхватил бритву. У каждого в руке блеснуло лезвие ножа.
– Не будьте дураками! Сколько нас здесь?
– Девять.
– Бросьте ножи, вот вы, семеро. Убью первого, кто вздумает угрожать хоть одному багру. Не хочу, чтобы меня застрелили в этой вшивой комнате, как кролика. Вот ты замешан в этом деле?
– Нет.
– А ты?
– Тоже нет.
– А ты?
– Знать ничего не знал.
– Вот именно. Никто из нас ни слухом ни духом не ведал об этом мятеже. Поняли?
– Да.
– А если кто слабоват на язык, тому следует знать, что его прихлопнут, едва он начнет о чем-то вякать. Именно так. Вот и думайте, есть ли смысл раскалываться. Выбрасывайте свои ножи в парашу! Багры не замедлят явиться. Ждать осталось недолго!
– А если победит каторга?
– Если и победит, то пусть еще попробует удрать отсюда. Такой ценой – я не участник. А вы?
– Мы тоже, – сказали все восьмеро, включая и Жана Карбоньери.
О том, что каторга уже проиграла, я и виду не подал. Об этом можно было судить по утихшей стрельбе. Если бы задуманная резня продолжалась, она не могла бы завершиться так скоро.
Багры ворвались в лагерь как очумелые, гоня перед собой группу каторжников прикладами, палками и пинками. Их загнали в соседний корпус. Надзиратели били, топтали, крушили, рвали на своем пути все, что не входило в рамки правил содержания заключенных: гитары, мандолины, шахматы, шашки, лампы, скамейки, бутылки с растительным маслом, сахар, кофе и белую одежду. Это была месть за нарушение тюремных предписаний. Раздались два выстрела. Стреляли из револьвера.
В лагере было восемь зданий, и в каждом происходило одно и то же: багры работали прикладами без передышки. Вот они вытащили на улицу совершенно голого человека, и он побежал под градом ударов в карцер.
Вот они уже прочесывают седьмое здание – от нас рукой подать. Наше – последнее на их пути. Мы вдевятером сидим, не шелохнувшись, по своим местам. Молчим, словно воды в рот набрали. Ни один из ушедших сегодня на работу не вернулся в корпус. В горле пересохло. «Будем надеяться, – подумал я, – что не сыщется такого придурка или Богом проклятого человека, который, пользуясь неразберихой, захотел бы шлепнуть нас без суда и следствия».
– Идут, – сказал Карбоньери, сам ни жив ни мертв от страха. Скорее все-таки мертв, чем жив.
В камеру вломились более двадцати надзирателей с карабинами и револьверами наготове.
– Что за чертовщина! – заорал с ходу Филиссари. – Еще не разделись?! Чего ждете, крысы? Сейчас многие из вас отправятся на тот свет. Раздевайтесь! Мы не собираемся вытряхивать трупы из шмоток!
– Месье Филиссари…
– Заткнись, Папийон. Уговаривать бесполезно – пощады не будет. Вами задумано слишком гнусное дело, и вы все в нем участники – это уж как пить дать!
Налитые кровью глаза Филиссари, казалось, выкатились из орбит и потеряли связь с головой. В них ничего нельзя было прочесть, кроме дикого желания убивать.
– Валяйте, – выдавил из себя Пьерро.
Я решил поставить все на карту.
– Меня удивляет, что вы, бонапартист, собираетесь убивать невинных людей. Хотите стрелять? Прекрасно, не надо песен – стреляйте. Но, ради Христа, делайте это быстрее. Я думал, что вы настоящий мужчина, Филиссари, настоящий бонапартист, но вижу, что ошибался. Какого черта я еще смотрю вам в глаза! Вот вам моя спина – стреляйте. Братья, повернитесь к баграм спиной, чтоб они не трепались, что мы собирались на них напасть.
И все как один повернулись спиной к надзирателям. Этот прием их ошарашил. Они растерялись, если не сказать больше, поскольку (как выяснилось потом) Филиссари только что прикончил двух бедолаг в соседних корпусах.
– Еще что-нибудь скажете, Папийон?
Продолжая стоять к нему спиной, я произнес:
– Это чушь собачья, а не мятеж. Рассказывайте кому-нибудь другому, но только не мне. Мятеж во имя чего? Убить надзирателей? А потом бежать? А куда? Я беглец, но вот вернулся из Колумбии, что в двух с половиной тысячах километров отсюда. Какая страна примет беглых убийц, я вас спрашиваю? Назовите мне эту страну! Не будьте круглыми идиотами! Скажите, какой человек, если он действительно человек, мог бы присоединиться к подобному заговору?
– Ты, может быть, и нет, а Карбоньери? Он определенно в заговоре. Не далее как сегодня утром Арно с Отеном страшно удивлялись, что он сказался больным и не явился на работу.
– Это только предположение, уверяю вас. – Я повернулся лицом к Филиссари. – И я скажу почему. Карбоньери мой друг и знает все о моем побеге до мельчайших подробностей, а поэтому не питает никаких иллюзий. Ему известно, как закончится побег после мятежа, будьте уверены.
В этот момент появился комендант. Он остался стоять в коридоре. Филиссари вышел к нему. Комендант скомандовал:
– Карбоньери!
– Здесь.
– В карцер его, но не бить. Всем выйти вон. Остаются только старшие надзиратели. Собрать всех ссыльных, разбежавшихся по острову. Никого не убивать. Вернуть в лагерь всех до единого.
Тут комендант вошел в нашу камеру, с ним его заместитель, Филиссари и четверо надзирателей.
– Папийон, произошло нечто очень серьезное, – сказал комендант. – Как комендант я несу за все строгую ответственность. Прежде чем отдать какие-либо распоряжения, мне нужна определенная информация – и немедленно. Я знаю, в такой критический момент ты бы отказался разговаривать со мной приватно, поэтому я сам пришел сюда. Убит инспектор Дюкло. Была попытка захвата оружия в моем доме. Это означает мятеж. В моем распоряжении несколько минут. Я верю тебе – выскажи мне свое мнение.
– Если это мятеж, то почему мы не знали о нем? Почему нам никто ничего не сказал? И сколько человек замешано в нем? Я отвечу на эти три вопроса, месье комендант, но прежде скажите, сколько человек убежало после того, как они убили инспектора, прихватив с собой, как я полагаю, и его оружие.
– Трое.
– Кто они?
– Арно, Отен и Марсо.
– Понял. Думайте, что хотите, но это не мятеж.
– Хватит врать, Папийон, – вмешался Филиссари. – Этот мятеж хотели поднять на Руаяле. Джиразоло раскололся, а мы ему не поверили. Теперь-то мы понимаем, что он говорил правду. Хочешь нас надуть? Так, Папийон?
– Согласиться с вами все равно что поверить в то, что я доносчик. Добавьте сюда Пьерро Придурка, Карбоньери, Гальгани, бандитов-корсиканцев на Руаяле и всех остальных. Случившееся еще ни о чем не говорит. Я не верю. Если бы это был мятеж, то мы бы возглавили его, и никто другой.
– О чем ты говоришь? Выходит, больше никто не вовлечен в заговор? Быть того не может.
– А где же ваши мятежники? Кроме тех трех маньяков, кто еще хоть пальцем пошевелил? Был ли хоть намек на захват поста, на котором всего четверо вооруженных стражников, не считая месье Филиссари? Сколько на Сен-Жозефе больших шлюпок? Всего одна. Одна на шестьсот человек – не мало ли? Мы еще не совсем бараны! Убивать, чтобы бежать, – да это же абсурд! Положим, даже удрало бы человек двадцать, а куда они денутся? Их арестуют и вернут из любой страны мира. Комендант, я не знаю, сколько человек ухлопали вы или ваши люди, но я почти уверен, что убили невиновных. А потом, какой смысл бить и крушить ту малость, что принадлежит нам? Естественно, как тут не рассвирепеть? Но ведь поймите и то, что, едва вы лишите заключенного последней вещицы, которая как-то скрашивает его жизнь, тут-то вы и получите настоящий мятеж. Мятеж отчаявшихся людей. Массовое самоубийство. Убийство ради убийства. Тут все пойдут под нож – и мы, и надзиратели, и каторга, и начальники. Месье Дютен, я говорил с вами искренне. Думаю, вы это заслужили, поскольку пришли и спросили нас, прежде чем принимать решения. Оставьте нас в покое.
– А как насчет тех, кто замешан в заговоре? – спросил Филиссари.
– Ваше дело их найти. А мы знать ничего не знаем, поэтому от нас и пользы никакой. Еще раз говорю: вся эта бессмыслица – затея двух сумасбродов. А мы тут ни при чем.
– Месье Филиссари, – сказал комендант, – когда люди вернутся в корпус для опасных преступников, заприте дверь до дальнейших распоряжений. У двери поставьте двух стражников. Людей не бить, имущество их не ломать. Выполняйте.
И комендант ушел в сопровождении нескольких надзирателей.
Фу… Пронесло. А ведь все висело на волоске. Запирая дверь, Филиссари окликнул меня:
– Твое счастье, что я бонапартист.
Через час собрали почти всех проживавших в нашем корпусе, не хватало только восемнадцати человек. Но потом и они нашлись: оказалось, в слепой ярости багры закрыли их по ошибке в другом здании. Как только они снова были с нами, мы узнали, что произошло, поскольку эти люди таскали камни и все видели. Тихим голосом вор из Сент-Этьена поведал мне следующее:– Мы уже протащили валун весом с тонну метров четыреста. Участки дороги, по которой его волокли, не очень крутые. Добрались до колодца метрах в пятистах от дома коменданта. Здесь мы всегда останавливаемся. Колодец в тени кокосовых пальм, а от него переть валун еще с полкилометра. То есть почти половину пути. Как обычно, мы остановились; кто-то зачерпнул и вытащил из колодца бадью холодной воды; одни – стали пить, другие – смачивать платки, чтобы положить на голову. Как всегда, десятиминутная передышка. Багор тоже сел отдохнуть на краешек оградной стены. Он снял пробковый шлем и стал вытирать лицо и макушку большим платком. А в это время сзади к нему подошел Арно, держа в руке мотыгу. Он сделал все без замаха, поэтому никто не крикнул и не предупредил охранника. Арно действовал мотыгой, как хлыстом. Секунда – и лезвие врезалось в макушку. Багор свалился без звука, а череп его треснул пополам. Отен, естественно, стоял перед багром и, как только тот упал, схватил карабин, а Марсо снял с него пояс с револьвером. Вытащив револьвер из кобуры, Марсо повернулся лицом ко всей партии и сказал: «Это мятеж. Кто с нами – выходи». Ни один из арабов-надсмотрщиков не двинулся с места и не проронил ни слова. Никто из штрафной команды не подал никакого знака, что он готов последовать за мятежниками. Арно посмотрел на нас и сказал: «Вшивые трусы, мы вам покажем, как ведут себя настоящие мужчины». Он взял у Отена карабин, и они вдвоем побежали к дому коменданта. Марсо отошел немного в сторону и стоял спокойно. В руке тяжелый револьвер, с которым легко командовать. Он так и поступил: «Не двигаться, не разговаривать, не кричать. Надсмотрщикам-арабам лечь. Лицом к земле!» С того места, где я стоял, было видно все, что творилось. Арно уже поднимался на крыльцо комендантского дома, как дверь открылась и перед ним предстал араб-работник с двумя девчушками. Одну он держал за руку, а другую нес на руке. Как Арно, так и араб, оба какое-то мгновение стояли друг перед другом в растерянности. Первым опомнился араб. Он пнул Арно, а ребенок так и остался сидеть у него на руках. Арно вскинул карабин, но араб прикрылся ребенком, как щитом. Это была настоящая немая сцена. Никто – ни араб, ни другие не проронили ни звука. Раза четыре или пять направлял Арно карабин на араба то под одним, то под другим углом, и всякий раз перед дулом оказывался ребенок. Находясь сбоку и не поднимаясь на крыльцо, Отен бросился вниз под ногу арабу и поймал его за штанину. Теряя равновесие и падая, араб кинул девчонку на карабин Арно. Арно тоже потерял равновесие. У крыльца образовалась куча-мала; и Арно, и девчонка, и араб, сваленный Отеном. Вот тут-то и поднялся шум: дети заплакали, араб заорал, а Отен с Арно стали выкрикивать ругательства. Араб оказался проворнее других: он дотянулся до оброненного Арно карабина, однако схватил его за цевье левой рукой. Арно поймал его за правую руку и стал ее выкручивать. Арабу удалось отшвырнуть от себя карабин метров на десять.
Тут же все трое бросились за карабином, и в это время раздался первый выстрел. Стрелял багор, конвоировавший команду по уборке сухих листьев. В распахнувшемся окне появился комендант и открыл настоящую пальбу. Но, боясь задеть араба, он посылал пулю за пулей в то место, где лежал карабин. Отен с Арно побежали к лагерю по дороге, идущей по берегу моря, а вослед сухо защелкали винтовки. Колченогий Отен стал отставать, и его перехватили недалеко от уреза воды. Арно успел добежать до воды и бросился в море как раз посередине между бассейном, который строили мы, и бассейном для надзирателей. А там всегда много акул. Пули ложились вокруг Арно. Стреляли уже трое: на помощь коменданту и багру, следившему за уборкой сухих листьев, подоспел еще один надзиратель. Арно укрылся за выступом большой скалы. «Сдавайся, – кричали багры, – мы не станем тебя убивать!» – «Никогда, – послышался голос Арно. – Пусть лучше сожрут меня акулы, чем глядеть мне на ваши мерзкие хари!»
И он пошел прямо к акулам. Его, должно быть, ранили, поскольку он остановился на какое-то мгновение. А багры все продолжали стрелять. Потом он снова двинулся вперед по-прежнему на ногах, а не вплавь. Он не погрузился в море и по грудь, как акулы уже были рядом. Мы видели, как он ударил одну, показавшуюся из воды и нападавшую на него. Затем он буквально был четвертован акулами, тянувшими его со всех сторон за руки и за ноги. Не прошло и пяти минут, как все было кончено.
Надзиратели сделали не менее ста выстрелов в бурлящее месиво из акул с Арно посередине. Убили только одну акулу – ее вынесло волнами на берег брюхом кверху. Зная, что со всех сторон бегут багры, Марсо бросил револьвер в колодец и подумал, что тем самым спасет себе шкуру. Но не тут-то было: арабы-надсмотрщики повскакивали с земли и принялись его обрабатывать палками и пинками. Не переставая колотить, они погнали его к надзирателям и показали, что он заговорщик. Несмотря на то что он был весь в крови и шел с поднятыми вверх руками, багры убили его выстрелами из револьверов и карабинов. А в довершение всего один багор размозжил ему голову прикладом, держа карабин за ствол и работая им, как дубинкой.
Все багры разрядили свои револьверы в Отена. Их набралось человек тридцать, да у каждого в обойме шесть патронов. Вот и посчитай: живой или мертвый, Отен получил верные полторы сотни пробоин. А нескольких ребят убил Филиссари: на них показали арабы как на сообщников, которые было двинулись за Арно, но в последний момент сдрейфили. Брехня собачья: даже если это так, то они ведь и пальцем не пошевелили.
Так завершил свой рассказ вор из Сент-Этьена.
Двое суток держали нас взаперти по соответствующим корпусам. На работы не выводили. Стражники у наружной двери сменялись каждые два часа, их двое – слева и справа. Между корпусами установили сторожевые посты. Запретили переговариваться и подходить к окнам. Во двор удается заглянуть только через решетку в конце прохода, разделяющего два ряда подвесных коек. С Руаяля на Сен-Жозеф прислали подкрепление. Прием новых пересыльных на острове прекратился – чтоб ни одного со стороны! В корпусах ни одного араба-надсмотрщика. Все взаперти. Время от времени приходится наблюдать, как ведут в карцер голого человека, но уже без угроз и побоев. Багры частенько заглядывают в общую камеру через боковые окна. Стражники у двери не позволяют себе расслабиться – ни присядут, ни прислонят к стене винтовки. Оружие у них всегда наготове…
Мы решили сыграть в покер, разбившись на небольшие группы по пять человек – потихоньку, не собирая толпы и без шума. Маркетти взял скрипку и принялся за сонату Бетховена.
– Хватит пиликать: у нас, надзирателей, траур.
Сложилась донельзя необычная напряженность не только в корпусе, но и во всем лагере. Ни кофе, ни супа. Хлебная пайка утром, тушеная говядина в полдень, тушеная говядина вечером – банка на четверых. Поскольку наш корпус избежал разрушительного шмона, то у нас нашелся и кофе, и было кое-что из продуктов: масло сливочное и растительное, мука и прочее. В других корпусах ничего не осталось. Когда из клозета потянуло дымком и запахло кофе, стражник крикнул нам, чтобы мы прекратили безобразие. В том отхожем месте была устроена небольшая жаровня, где мы варили кофе. Обычно этим делом занимался старый каторжник из Марселя по имени Нистон, готовя его на продажу. У Нистона хватило смелости возразить багру совсем не в духе ситуации:
– Приятель, если ты хочешь, чтобы огонь погас, будь ласков, приди и сделай это сам.
В ответ последовало несколько выстрелов в окно, разметавших и жаровню, и кофе.
Одна пуля угодила Нистону в ногу. Состояние крайнего напряжения и нервозности мгновенно переросло в панику. Мы со страху побросались на пол, думая, что нас собираются всех перестрелять. В тот день начальником караула оказался все тот же Филиссари. Он ворвался к нам, злой, как фурия, в сопровождении четверых надзирателей. Постовой объяснил причину стрельбы, Филиссари грязно обругал его по-корсикански, а тому, не уловившему смысла слов, ничего не оставалось делать, как только повторять:
– Я вас не понимаю. Я вас не понимаю.
Мы снова разбрелись по своим углам и подвесным койкам. Нога Нистона кровоточила.
– Не говорите, что я ранен, – просил Нистон. – Меня могут вывести и там прикончат.
Филиссари прошелся по проходу камеры и остановился у прутьев решетки рядом с Маркетти. Тот переговорил с ним по-корсикански.
– Варите свой кофе, – сказал Филиссари. – Это больше не повторится.
И Филиссари удалился.
Нистону повезло: пуля не застряла в ноге, она прошила икру насквозь и ушла навылет. Мы наложили на ногу жгут, кровь остановилась, затем ногу забинтовали, предварительно обработав рану уксусом.
– Папийон, на выход!
Восемь часов вечера. Уже стемнело. Вызывавший меня надзиратель мне лично не знаком. Должно быть, бретонец.
– Кому я понадобился ночью? Мне нечего там делать.
– Тебя хочет видеть комендант.
– В таком случае пусть сам придет. Так и передайте!
– Отказываешься?
– Да, отказываюсь.
Друзья обступили меня кольцом. Багор разговаривал со мной через закрытую решетчатую дверь. Маркетти подошел к двери и сказал:
– Мы не выпустим Папийона, пока здесь не будет сам комендант.
– Но это комендант вызывает его.
– Скажите ему, чтобы пришел сам.
Через час у двери появились двое молодых надзирателей и вместе с ними араб из дома коменданта, который спас его и предотвратил мятеж.
– Папийон, это я, Мохамед. Я пришел за тобой. Комендант хочет тебя видеть. Он не может прийти сюда.
Маркетти сразу же обратил мое внимание на одну деталь:
– Папи, а у парня-то карабин.
При этих словах я вышел из круга друзей и направился к двери. Действительно, у Мохамеда под мышкой карабин. «Ну и ну, – подумалось мне. Теперь-то я все повидал на своем веку – даже заключенного, официально вооруженного карабином!»
– Пойдем! – сказал араб. – Я не дам тебя в обиду. Пойдем с нами.
До конца не доверяя им, я все-таки пошел. Мохамед шагал рядом, а багры держались сзади. Поравнялись с караульным помещением. Когда проходили лагерные ворота, ко мне обратился Филиссари:
– Папийон, я надеюсь, ты ничего не имеешь против меня.
– Лично у меня к вам никаких претензий, думаю, что и у других из моего корпуса тоже. За остальных не ручаюсь.
Мы спустились к морю. Здание администрации и причал освещались ацетиленовыми лампами, безуспешно пытавшимися рассеять ночной мрак. По дороге Мохамед сунул мне в руку пачку сигарет. Мы вошли в ярко освещенную двумя ацетиленовыми лампами комнату, в которой сидели: комендант Руаяля и его заместитель, комендант Сен-Жозефа и его заместитель и комендант тюрьмы-одиночки. Еще в прихожей я заметил четырех надсмотрщиков-арабов под охраной надзирателей. Я признал двоих – они принадлежали к той известной штрафной команде.
– Папийон доставлен, – доложил араб.
– Добрый вечер, Папийон, – сказал комендант Сен-Жозефа.
– Добрый вечер.
– Садитесь. Вот свободный стул.
Я сел лицом ко всей публике. В комнате была еще одна дверь на кухню, в которой я заметил крестную мать Лизетты, она сделала мне дружеский жест рукой.
– Папийон, – начал комендант Руаяля, – комендант Дютен считает вас человеком, достойным доверия, вернувшим себе доброе имя попыткой спасти крестницу его жены. Я же вас знаю только по официальным докладам, где вы характеризуетесь как чрезвычайно опасный преступник, с какой бы стороны вас ни копнуть. Да ладно, забудем об этих бумажках и положимся целиком на моего коллегу Дютена. Без всякого сомнения, сюда прибудет следственная комиссия, которая опросит все категории ссыльных по известному вам делу. Определенно, вы и еще несколько человек имеете большое влияние на заключенных, которые будут делать то, что вы им скажете, строго придерживаясь ваших указаний. Нам бы хотелось знать ваше мнение о мятеже, а также вашу приблизительную оценку возможной линии поведения заключенных, из вашего корпуса в первую очередь, а потом и из остальных. Можете ли вы спрогнозировать, что будут говорить люди следственной комиссии?
– Лично мне нечего сказать, да и влиять я не могу на то, что скажут другие. Если комиссия действительно без дураков проведет расследование в сложившейся ситуации, то вам не сдобровать – вас всех уволят.
– О чем вы говорите, Папийон? Мятеж был подавлен мной и моими коллегами.
– Вы, может быть, и спасетесь, а вот начальник с Руаяля – ни в коем случае.
– Что вы имеете в виду? – Оба коменданта с Руаяля привстали со своих мест и снова сели.
– Если будете и дальше официально твердить о мятеже, то вы все пропали. Если примете мои условия, то я вас спасу, за исключением Филиссари.
– Какие условия?
– Во-первых, жизнь в лагере должна снова войти в нормальное русло – и немедленно, с завтрашнего утра. Только благодаря свободному передвижению и свободному общению между людьми можно повлиять на их умонастроение и добиться однообразия в показаниях на следственной комиссии. Прав я или нет?
– Прав, – сказал Дютен, – но почему нас надо спасать?
– Вот вы, двое с Руаяля, отвечаете не только за Руаяль, но и за другие острова тоже.
– Да.
– Пойдем дальше. Доносчик Джиразоло слишком много натрепал о подготовке мятежа во главе с Арно и Отеном.
– И с Карбоньери тоже, – вставил багор.
– Неправда. Карбоньери был личным врагом Джиразоло еще с Марселя, поэтому этот стукач хотел его просто скомпрометировать из чувства мести. Так вот, вы не поверили в эту байку насчет мятежа . Почему? Потому что Джиразоло сказал вам, что цель мятежа – убить всех женщин, детей, арабов-надсмотрщиков, надзирателей, а в такое невозможно поверить. И сами посудите: две шлюпки на восемьсот человек на Руаяле и только одна на шестьсот на Сен-Жозефе. Какой нормальный человек ввяжется в эту канитель, если он только не придурок?
– Откуда вам обо всем известно?
– А это уж мое дело. Но если вы и дальше будете твердить о мятеже, все это выльется наружу и будет доказано, даже если я и исчезну по вашей милости, что на самом деле еще более проявит и без того явное. Итак, вся ответственность лежит на администрации Руаяля, которая выслала этих людей на Сен-Жозеф вместе, а не порознь . Правильным решением было бы послать одного на остров Дьявола, а другого на Сен-Жозеф, хотя, я допускаю, поверить в совершенно дикую историю было очень трудно. Вот почему вам не избежать сурового наказания при условии, что следствие все это обнаружит. Я еще раз повторяю: если вы и дальше будете вести разговоры о мятеже, вы пойдете ко дну – утопите себя собственными словами. Таким образом, если вы принимаете мои условия, то, во-первых, как я уже сказал, жизнь в лагере должна снова войти в нормальное русло – и немедленно, с завтрашнего утра; во-вторых, все люди, содержащиеся в изоляторах по подозрению в соучастии, должны быть немедленно выпущены и не должны подвергаться каким-либо допросам о той роли, какую они играли в мятеже, поскольку никакого мятежа и не было; и в-третьих, Филиссари должен быть переведен на Руаяль сию же минуту: это в интересах его собственной безопасности в первую очередь, поскольку, если не было мятежа, на что списать убийство тех трех человек? И еще потому, что сам Филиссари не лучше ползучего гада и убийцы – он тогда наклал в штаны от страха и готов был убить каждого, в том числе всех из нашего корпуса. И если принимаете эти условия, то я устрою так, что все как один будут объяснять поведение Арно, Отена и Марсо желанием как можно больше насолить лагерю перед тем, как отправиться на тот свет. Предупредить их действия было абсолютно невозможно. Они никому ничего не говорили, поэтому и сообщников у них не было. Каждый будет твердить, что этим парням взбрело в голову покончить с собой таким вот образом, то есть сначала прикончить как можно больше народу, а уж потом самим получить по голове. Они шли на самоубийство. Теперь, с вашего позволения, я пройду на кухню, а вы хорошенько подумайте, прежде чем дать мне ответ.
Я пошел на кухню и закрыл за собой дверь. Мадам Дютен пожала мне руку и угостила кофе с коньяком. Мохамед поинтересовался:
– Ты не замолвил за меня словечко?
– Это дело коменданта. Дал же он тебе карабин? Видимо, собирается выхлопотать тебе прощение.
Крестная мать Лизетты пробормотала:
– Эти люди с Руаяля не на шутку напуганы.
– Ха! Им проще простого сказать, что на Сен-Жозефе произошел мятеж. О нем, видите ли, знали все, кроме вашего мужа.
– Папийон, я все слышала. Насколько я понимаю, вы на нашей стороне.
– Правильно, мадам Дютен.
Дверь открылась.
– Входите, Папийон, – сказал надзиратель.
– Садитесь, Папийон, – предложил комендант Руаяля. – Мы обсудили вопрос и пришли к единодушному заключению, что вы правы: не было никакого мятежа . Трое известных ссыльных решили покончить с собой, но сначала хотели убить как можно больше людей. С завтрашнего дня жизнь войдет в свою обычную колею. Сегодня ночью месье Филиссари переводится на Руаяль. С ним мы сами разберемся, это наша забота, поэтому здесь мы не просим вашего содействия. А в остальном мы надеемся, что вы сдержите свое слово.
– Можете на меня положиться. До свидания.
– Мохамед и вы, двое инспекторов, отведите Папийона в его корпус. Приведите Филиссари: он едет с нами на Руаяль.
На обратном пути я высказал Мохамеду свою надежду, что он покинет остров свободным человеком. Он поблагодарил меня.
– Послушай, а чего багры хотели от тебя? – спросили меня в корпусе. Без обиняков в полной тишине я точно, слово в слово, передал смысл того, что произошло.
– Если кто-то не согласен или хочет возразить против моего способа обращения с баграми, направленного на общее благо, пусть выскажется.
Все ответили, что согласны.
– Ты думаешь, они поверили, что больше никто не был замешан в этом деле?
– Думаю, что нет. Но если им не хочется загреметь на дно, то уж лучше поверить. И если мы не желаем себе неприятностей, нам тоже надо поверить.
На следующий день в семь утра опустели все штрафные изоляторы. А в них было упрятано не менее ста двадцати человек. Никого не погнали на работу, все здания были открыты, а двор заполнился заключенными, свободно расхаживавшими по нему: курили, разговаривали, сидя в тени или на солнце, по собственному усмотрению. Нистона отправили в больницу. Карбоньери сообщил мне, что на дверях восьмидесяти или целой сотни камер-изоляторов уже не красовался ярлык: «Подозревается в соучастии в мятеже».
Оказавшись снова все вместе, мы наконец узнали, что произошло на самом деле. Филиссари убил только одного человека, еще двоих прикончили молодые надзиратели, которым угрожали заключенные. Затравленные люди подумали, что их собираются убивать, поэтому они выхватили ножи и бросились на тюремщиков в надежде свести счеты хотя бы с одним из них перед тем, как расстаться с собственной жизнью. Таким вот образом натуральный мятеж, который, к счастью, провалился в самом начале, обернулся странного рода самоубийством, затеянным тремя каторжниками. Это объяснение устраивало всех и было принято каждым как со стороны тюремной иерархии, так и со стороны самих заключенных. Оно оставило по себе то ли легенду, то ли правдивый рассказ – попробуй разберись. Думаю, что истина лежит все-таки где-то посередине.
Похороны Отена, Марсо и еще троих, убитых в лагере, проходили по следующему сценарию: поскольку на острове был только один ящик с дверцей для выброса трупов в море, багры сложили покойников на дно лодки и пометали акулам разом всех пятерых. Они полагали, что первые с привязанными к ногам камнями успеют дойти до дна под тяжестью своих товарищей по несчастью, пожираемых акулами. Но не тут-то было: ни один труп не успел затонуть, и все пять отплясывали джигу в море на закате солнца. Разворачивался настоящий балет белого савана: покойники дергались, словно куклы, толкаемые акульими рылами и хвостами. Это был пир, достойный самого Навуходоносора. Зрелище вызвало такой ужас у надзирателей и каторжников, что все побежали прочь, не досмотрев его до конца.
Прибыла следственная комиссия, которая провела около пяти дней на Сен-Жозефе и два на Руаяле. На допросах меня не выделяли. Через коменданта Дютена я узнал, что все прошло гладко. Филиссари отправили в длительный отпуск, вплоть до пенсии, так что сюда он уже не вернется. Мохамеду скостили весь оставшийся срок. Комендант Дютен получил еще одну нашивку.
Всегда и везде находятся нытики и недовольные. Вот и вчера один парень из Бордо спросил меня:
– А что получила каторга, стараясь для багров?
Я посмотрел на него и сказал:
– Немного. Пятидесяти или шестидесяти зэкам не придется отбывать пятилетний срок в тюрьме-одиночке за соучастие в мятеже. Совсем немного, согласен, приятель?
Гроза прошла. Между надзирателями и заключенными установилось молчаливое согласие, которое полностью сбило с толку следственную комиссию. А может, комиссии это и было на руку? Прекрасно, все утряслось самым мирным образом.
Лично я не выиграл и не проиграл, если закрыть глаза на тот факт, что друзья мои были мне очень благодарны за избавление их от перспективы понюхать суровой дисциплины. Более того, власти покончили с перетаскиванием валунов людьми. Ужасная каторжная работа была отменена. Теперь буйволы волокли камни, а заключенные их только устанавливали на месте. Карбоньери вернулся в пекарню. Я пытался вернуться на Руаяль. На Сен-Жозефе не было столярных мастерских, поэтому сделать плот не представлялось никакой возможности.
Приход к власти Петена [8] ухудшил отношения между надзирателями и ссыльными. Все принадлежавшие к тюремной службе громко и ясно объявляли себя сторонниками Петена. Один багор из Нормандии высказался уж куда более откровенно:
– А знаешь, Папийон, по сути, я никогда не был республиканцем.
На островах не было радио, и никто не знал, что происходит. Распространялись слухи, что на Мартинике и Гваделупе устроены базы снабжения для немецких подводных лодок. Где голова, а где хвост у этих слухов – вряд ли разберешься. Идут постоянные споры и дискуссии.
– Ты знаешь, о чем я подумал, Папи? Наступил подходящий момент поднять мятеж и передать острова свободной Франции де Голля.
– Значит, ты полагаешь, что Длинного Шарля приперла нужда заполучить каторжную колонию? А для чего? Ну скажи, для чего?
– Да чтоб набрать две-три тысячи людей в ряды Сопротивления.
– Прокаженных, лунатиков, туберкулезников, доходяг от дизентерии? Ну ты и шутник, однако. Тот парень не такой набитый дурак, чтобы связываться с каторгой.
– Но здесь же наберется и пара тысчонок здоровых людей?
– Это уж другой вопрос. Люди людьми, но выйдут ли из них хорошие солдаты? Не думаешь ли ты, что война и ограбление – одно и то же? Грабеж длится десять минут, а война – годы и годы. Патриотический порыв – вот что нужно для хорошего солдата. Что бы ты ни говорил, а я не вижу здесь ни одного парня, готового сложить свою голову за Францию.
– С какой стати? Это после того, что с нами сделала Франция?
– Вот мы и приехали: ты сам подтверждаешь, что я прав. К счастью, у Шарля есть другие, чтобы вести войну. А мы тут не пришей кобыле хвост. И все же, когда подумаю, что вшивые боши в нашей стране!.. А возьмем французов, которые заодно с Гансами! А возьмем наших багров, которые все как один ратуют за Петена.
Граф де Берак высказал мысль:
– Нам предоставляется единственный путь к избавлению – это искупить свою вину перед Францией.
Боже, произошло действительно нечто экстраординарное: раньше ни одна душа не заикалась ни об избавлении, ни об искуплении, а теперь вдруг все заговорили – и комар, и муха: в общем, для всей разнесчастной каторги блеснул вдруг луч надежды.
– Я серьезно, Папийон, если мы все-таки поднимем мятеж, как ты думаешь, возьмет нас де Голль под свою команду?
– Прости, но мне не перед кем искупать свою вину на этой Божьей земле. Если перед французским правосудием с его выморочной «реабилитацией», то пусть поцелуют мою задницу. Я им так и скажу при реабилитации. Мой долг – бежать и, обретя свободу, стать нормальным гражданином и не приносить вреда обществу. По-другому ничего не докажешь. И я готов обсудить любой вопрос, связанный с побегом. Затея с передачей островов Длинному Шарлю не вызывает у меня никакого интереса, уверен, что она его также не интересует. А ты знаешь, что скажут вам новые власти, если вы решитесь нанести удар? Они скажут, что вы взяли острова ради собственной свободы и отнюдь не ради свободной Франции. И еще, неужели вы действительно знаете, кто прав – де Голль или Петен? Я так абсолютно ничего не знаю. Но страдаю, как последняя сволочь, при мысли, что в мою страну вторгся враг: я думаю о своих близких, родственниках, сестрах и племянницах.
– Мы оказались бы настоящим сборищем кретинов, если б вдруг стали переживать за общество, никогда не имевшее к нам ни малейшей жалости.
– Но это же естественно: переживать за свою страну, потому что и полиция, и вся французская машина законов, и жандармы с баграми – это еще не Франция. Это выделившийся класс типов с совершенно повернутыми мозгами. Сколько их, готовых пойти на службу к немцам сию же минуту? Держу пари, что сейчас французская полиция арестовывает соотечественников и выдает их немецким властям. Вот так-то. Я уже говорил и еще раз скажу: мне нет никакого дела до мятежа, какие бы цели он ни преследовал. Я за побег. Но вот как и когда?
Серьезные споры велись между двумя сторонами. Одна ратовала за де Голля, другая – за Петена. Но стоило дойти до сути дела, как оказывалось, что никто ничего не знал и не мог объяснить, потому что, как я уже говорил, ни у багров, ни у каторжников не было радио. Новости долетали до нас с пароходами, заходившими на острова, чтобы оставить немного муки, сушеных овощей и риса. Нам было трудно понять войну, которая шла так далеко от нас, где-то у черта на куличках.
Говорили, что в Сен-Лоран-дю-Марони прибыл какой-то хмырь вербовать сторонников движения Сопротивления. А здесь, на отшибе, мы ничего не ведали – знали только, что вся Франция захвачена немцами.
На Руаяле произошла забавная вещь: приехал священник и после богослужения прочитал проповедь:
– Если острова подвергнутся нападению, вам выдадут оружие в целях оказания помощи надзирателям в защите французской земли.
Именно так он и сказал. Просто замечательный человек был этот кюре и удивительно низкого о нас мнения. Просит заключенных защищать собственные камеры! Боже мой, чего только мы не насмотрелись на каторге!
Однако война имела и к нам прямое отношение. В чем оно выражалось? Вдвое увеличился штат надзирателей, начиная с рядовых и кончая старшими надзирателями и самим комендантом; появилось множество проверяющих с очень сильным немецким или эльзасским акцентом. Пайку здорово урезали, доведя ее до четырехсот граммов, мяса выдавали совсем мало. Зато вес меры наказания сильно возрос: неудачный побег теперь заканчивался смертным приговором и казнью, ибо к обвинительному заключению добавлялась коротенькая приписка: «Попытка присоединиться к врагам Франции».
Я пробыл на Руаяле около четырех месяцев и очень близко сошелся с доктором Жерменом Гибером. Его жена, замечательная женщина, попросила меня сделать ей огород, который в качестве подсобного хозяйства мог бы давать солидную прибавку к скудному столовому рациону. Я вскопал и засадил участок салатом, редиской, фасолью, помидорами и баклажанами. Она была в восторге и стала относиться ко мне как к настоящему другу.
Позже, когда я наконец стал свободным человеком, я снова связался с доктором Жерменом Гибером через доктора Розенберга. Он прислал мне семейную фотографию из Марселя. Он возвратился тогда из Марокко, сердечно поздравил меня с обретением свободы и пожелал счастья. Его убили в Индокитае, когда он пытался вынести раненого с оставленных позиций. Доктор был исключительной личностью и имел во всем достойную себя жену. Когда в 1967 году я вернулся во Францию, мне захотелось навестить ее. Но я оставил эту мысль, потому что еще раньше она перестала мне писать – после того как я попросил ее дать мне одно рекомендательное письмо. Она мне его выслала, но с тех пор как в воду канула, и я о ней больше ничего не слышал. Не знаю причины ее молчания, но в сердце своем я сохранил чрезвычайную признательность этой паре за их великодушное отношение ко мне у себя в доме на Руаяле.
Вскоре я смог снова попасть на Руаяль.
Тетрадь девятая Сен-Жозеф
Смерть Карбоньери
Вчера мой друг Матье Карбоньери был убит ножом в сердце. Это убийство повлекло за собой ряд других. Зарезали его в умывальнике совершенно голым: он принимал душ. И именно в тот момент, когда он намылил лицо. Обычно, если моешься под душем, кладешь под свои вещи открытый нож на случай появления врага. Пренебрежение этим маленьким правилом предосторожности стоило Карбоньери жизни. Убил моего друга один армянин, сутенер с пожизненным сроком заключения.
С разрешения коменданта я сам отнес тело моего приятеля на причал. Мне помогал еще один человек. Карбоньери оказался тяжелым, пришлось три раза отдыхать при спуске с холма. К ногам его я привязал большой камень, но не веревкой, а проволокой. Акулы не смогут ее перекусить, он успеет дойти до дна и не попадет им в пасть.
Под звон колокола мы достигли гавани. Солнце уже касалось горизонта. Сели в лодку. Под крышкой хорошо известного ящика, служившего последним приютом всем покойникам, спал мой друг Матье вечным сном. Для него все было кончено.
– Отчаливай! Пошел! – скомандовал багор, сидевший за рулем.
Через десять минут мы уже были на течении между Руаялем и Сен-Жозефом. И тут же к горлу подкатил комок: над поверхностью воды появились дюжины акульих спинных плавников и закружили вблизи от нас на расстоянии не более четырехсот метров. Вот они, могильщики заключенных, вовремя явились на рандеву.
Боже, пронеси и помилуй, не дай им схватить моего друга. В знак прощания поднимаются весла. Ящик наклоняется, и тело Матье, завернутое в мешковину и увлекаемое за собой тяжелым камнем, тут же оказывается в море.
О ужас! Едва покойник коснулся воды и, мне показалось, стал благополучно погружаться, как вдруг был поднят вверх акулами – сколько их было: семь, десять, двадцать – поди сосчитай! Не успела еще лодка отплыть прочь, как мешковина с тела была сорвана и произошло нечто умопомрачительное и непонятное: секунды две или три Матье стоял в море в вертикальном положении. Стоя в воде по пояс – правая рука уже оторвана по локоть, – он двинулся прямо к лодке, затем закрутился волчком и исчез навсегда. Акулы проносились под лодкой, задевая днище. Один из присутствующих, потеряв равновесие, чуть было не очутился за бортом.
Ужас пронял всех нас до печенок, включая багров. Впервые в жизни мне захотелось умереть. Я был близок к тому, чтобы броситься к акулам и раз и навсегда покончить с нестерпимым адом.
Медленно возвращался я с причала в лагерь. Шел один. С носилками, перекинутыми через плечо, я подошел к тому ровному месту, где мой буйвол Брут схватился с Дантоном. Остановился и сел отдохнуть. Уже стемнело, хотя было еще только семь часов. Западный край неба еще слабо освещался закатившимся солнцем. Все остальное погрузилось в темноту, и только луч маяка время от времени прорезал ее. Щемило сердце, переполненное тоской и горем.
Какого черта понадобилось тебе смотреть на это погребение, да еще на погребение своего друга! Ну посмотрел. Послушал колокол. Может, хватит? Удовлетворил свое нездоровое любопытство?!
А теперь надо разделаться с тем, кто сотворил это зло. Когда? Сегодня же ночью. Почему сегодня? Рановато: парень ведь начеку. В его «шалаше» десять человек. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они опередили и взяли верх. На сколько человек можно рассчитывать? На четверых, пожалуй, точно, я – пятый. Так. С парнем надо разделаться и постараться попасть на остров Дьявола. А там никаких полетов и никаких приготовлений. Просто пара мешков с кокосовыми орехами – и бултых в море! До побережья совсем недалеко, каких-то сорок километров по прямой, с учетом волн, ветра, приливов наберется сто двадцать. Выдержу ли – вот в чем вопрос. Я сильный. Двое суток верхом на мешке – надо полагать, справлюсь.
Закинув носилки на плечо, я двинулся в лагерь. У ворот пришлось пережить неприятный и необычный момент – меня обыскали. Раньше такого не было. Никогда. Багор отобрал у меня нож.
– Хотите, чтобы меня убили? Зачем разоружаете? Вы прекрасно знаете, что посылаете меня на верную смерть. Если меня убьют, виноваты будете только вы.
Никто не ответил: ни багры, ни надсмотрщики-арабы. Открылась дверь, и я вошел в камеру.
– Ни черта не видно. Почему одна лампа вместо трех?
– Папи, иди сюда.
Гранде потянул меня за рукав. В комнате было совсем тихо. Чувствовалось, что-то должно произойти или уже произошло.
– У меня больше нет ножа. Обыскали и отобрали.
– Сегодня ночью он тебе не понадобится.
– Почему?
– Армянин с дружком в туалете.
– Что они там делают?
– Спят вечным сном.
– Кто их усыпил?
– Я.
– Быстро. А что с другими?
– У них в «шалаше» осталось четверо. Поло поклялся, что шума не будет. Он ждет тебя для разговора и предлагает на этом остановиться.
– Дайте мне нож.
– Возьми мой. Я останусь в углу, а ты иди и поговори с ними.
И я пошел. Глаза уже привыкли к темноте. Ясно вижу: все четверо стоят, плотно прижавшись плечами друг к другу, у своих подвесных коек.
– Хотел поговорить со мной, Поло?
– Да.
– Один на один или вместе с друзьями? Чего ты от меня хочешь?
Я сохраняю благоразумную дистанцию в пять шагов. Левой рукой плотно сжимаю рукоятку открытого ножа.
– Я хотел сказать, что твой друг вполне отомщен и надо на этом завязывать. Ты потерял своего лучшего друга, а мы – двоих. Мне кажется, на этом следует закругляться. А ты как думаешь?
– Поло, я понял тебя. Если согласен, давай договоримся не предпринимать друг против друга никаких враждебных действий в течение недели. А потом посмотрим, что нам делать. Согласен?
– Согласен.
И я удалился.
– Что они говорят?
– Считают, что смерть армянина и Сан-Суси – достаточная компенсация за утрату Матье.
– Нет, – сказал Гальгани.
Гранде промолчал, а Жан Кастелли и Луи Гравон высказались в пользу мирного соглашения.
– А ты как думаешь, Папи?
– Во-первых, кто убил Матье? Армянин. Так. Я за мировую и дал слово не предпринимать враждебных действий друг против друга в течение недели.
– Значит, ты не хочешь отомстить за Матье? – спросил Гальгани.
– За Матье уже отомстили: двое убитых, зачем еще убивать других?
– Надо выяснить, знали ли они о готовящемся убийстве Матье и как к этому отнеслись?
– Всем спокойной ночи. Прошу извинить – мне надо немного поспать.
В любом случае мне хотелось побыть одному. Лег и устало растянулся на своем гамаке. Почувствовал над собой легкое движение руки, которая забрала у меня нож. Из темноты донесся тихий голос:
– Спи спокойно, Папи. Мы подежурим по очереди.
Для внезапной, отвратительной по жестокости смерти моего друга Матье не было никакой видимой разумной причины. Армянин убил его просто из-за того, что во время карточной игры накануне ночью он нарушил правила и Матье заставил его в присутствии тридцати или сорока игроков заплатить сто семьдесят франков. Этот набитый дурак посчитал, что в глазах остальных уронили его достоинство. Гранде и Матье прижали его тогда, и ему ничего не оставалось делать, как выложить деньги.
И вот самым подлым и трусливым образом, из-за угла, он убил Матье, убил человека, являвшего собой подлинный образец искателя приключений, прямого и честного, по меркам преступного мира. Я был глубоко уязвлен, и только тот факт, что убийцы пережили свое преступление всего лишь на несколько часов, слегка успокаивал. Он давал мне пусть небольшое, но столь необходимое в таких случаях удовлетворение.
Гранде, проявив повадки тигра, поразил обоих в горло, заколов одного за другим, прежде чем они успели приготовиться к защите. Он действовал с быстротой и ловкостью заправского фехтовальщика. Место, куда они рухнули, подумалось мне, должно быть залито лужами крови. В голову заползла глупая мысль: «А кто же их затащил в гальюн?» Но мне было не до расспросов. Перед закрытыми глазами так и стоял багрово-фиолетовый закат, высвечивавший дантовские сцены битвы акул за тело моего друга… Вот оно, по пояс в воде, с оторванной по локоть правой рукой, движется к лодке! Значит, все верно: это колокол призывает акул. Знают, суки, что их будут кормить под похоронный звон… Снова вижу десятки спинных плавников, отливающих тусклым блеском и режущих воду круг за кругом, словно перископы подводных лодок. Их наверняка больше сотни. Все кончено для моего друга: его спустили в канализацию, и она его протащила от начала и до конца.
Быть зарезанным в сорок с небольшим! Бедный Матье! Не могу больше терпеть. Нет, нет и нет! Пусть меня сожрут акулы, но живого – на пути к свободе; без мешков из-под муки, без веревки и камня. И без зрителей из багров и заключенных. Без колокола. Пусть сожрут меня живого в борьбе с морем и небом, устремленного к материку.
Кончено и с другим: хватит тщательно готовиться к побегам. Остров Дьявола, два мешка кокосовых орехов – и вперед. Пусть все трещит и рушится вокруг – положимся на Господа.
В конце концов вопрос упирается в то, выдержу ли я. Сорок восемь часов или все шестьдесят? Не приведет ли длительное пребывание в воде с перенапряжением мышц от усилия удержаться верхом на мешках к параличу, который может случиться в любой точке моря? Если повезет и я попаду на остров Дьявола, то обязательно попробую. Прежде всего надо убираться с Руаяля на остров Дьявола. А там посмотрим.
– Спишь, Папи?
– Нет.
– Хочешь кофе?
– Не возражаю.
Я сел на койке и взялся за горячую кружку, протянутую мне Гранде вместе с зажженной сигаретой.
– Который час?
– Час ночи. Я заступил на дежурство в полночь, но поскольку вижу, что ты все время ворочаешься, решил, что не спишь.
– Не сплю. Матье не идет из головы, а эти похороны с акулами – просто какое-то наваждение. Страшно подумать, представляешь?
– Что ты мне рассказываешь, Папи. Воображаю, на что это похоже. Не надо было тебе ходить.
– Я думал, что россказни о колоколе – сущее вранье. Да потом, я и представить себе не мог, что акулы способны его перехватить с тяжелым камнем на проволоке. Бедный Матье! До конца дней своих не забуду эту ужасную картину. Расскажи-ка, как тебе удалось так быстро расправиться с армянином и Сан-Суси?
– Я был в дальнем конце острова: навешивал железную дверь на здание скотобойни. Там-то я и услышал об убийстве нашего друга. Был полдень. Вместо того чтобы идти в лагерь, я вернулся на работу, сказав, что мне надо еще поковыряться в замке. Взял трубку длиной в метр. К другому куску трубы приладил пику с двусторонней заточкой. Вставил пику острием внутрь первой трубы – и получилась полная маскировка. Возвратился в лагерь около пяти вечера. Багор спросил, что это я несу, а я ответил, что у меня в гамаке сломалась деревянная планка и надо заменить ее на ночь этой трубой. Было еще светло, когда я пришел в нашу камеру, благоразумно оставив трубу в умывальнике. Перед перекличкой я ее забрал оттуда. Темнело. Плотно окруженный друзьями, я быстро изготовил оружие к бою. Армянин и Сан-Суси находились в своей части камеры и стояли перед гамаками. Поло держался несколько сзади. Хорошие ребята Жан Кастелли и Луи Гравон, но, сам понимаешь, они уже в возрасте, и у них нет ловкости, необходимой в подобных драках. Мне хотелось управиться с этим делом до твоего прихода, чтобы тебя ни во что не впутывать. С твоим «послужным списком» ты бы мог точно схлопотать вышку. Жан вырубил свет в дальнем конце комнаты, то же самое сделал Гравон с ближним светом. Осталась одна лампа посередине, так что в камере стало почти темно. У нас был большой электрический фонарь, который дал нам Дега. Жан пошел спереди, а я позади.
Когда мы приблизились к ним, Жан включил фонарь, и яркий луч ударил прямо в лицо. Ослепленный армянин, защищаясь от света, поднес левую руку к глазам и в ту же секунду получил копье в горло. Сан-Суси, тоже ослепленный, выхватил было нож, но не знал, что предпринять, когда получил встречный удар. Я саданул его так сильно, что нож проткнул ему горло насквозь. Поло бросился на пол и забился под гамаки. Я не стал доставать его оттуда, поскольку Жан выключил фонарь, – это-то и спасло Поло.
– Кто их стащил в гальюн?
– Не знаю, должно быть, кто-то из их «шалаша», чтобы разрядить им задницы и прикарманить гильзы.
– Но там ведь лужи крови.
– Ты говоришь мне о лужах крови! Я им так исполосовал шеи, что она, поди, вытекла вся до последней капли вместе с желудочным соком. Когда я готовил свое копье, у меня возникла мысль о фонаре. В мастерские зашел один багор и стал менять батарейки в своем. Это и побудило меня обратиться к Дега с этой просьбой. И он дал мне фонарь. А теперь пусть наводят какой угодно шмон – все равно ничего не найдут. Я уже вернул фонарь Дега через одного надсмотрщика-араба. От ножа тоже отделался. Так что все шито-крыто. Я нисколько не сожалею. Они убили нашего друга, когда у него в глазах было полно пены, а я им помог отправиться на тот свет, когда у них в глазах было полно света. Значит, мы квиты. А ты как думаешь, Папи?
– Ты устроил все великолепно. Не знаю, как и благодарить тебя: мало того что так быстро отомстил, ты еще и не стал вмешивать меня в это дело!
– Да брось ты. Я только исполнил свой долг. Ты и без того натерпелся и так отчаянно рвешься на свободу. Я сделаю все, что надо.
– Спасибо, Гранде. Да, я желаю вырваться отсюда больше прежнего. Помоги мне разобраться с этим делом и поставить на том точку. Если честно, я не верю, что армянин предупредил свой «шалаш» о том, что собирается убить Матье. Поло никогда бы не примирился с таким трусливым убийством. Уж кто-кто, а он бы понял, к чему оно приведет.
– Я тоже так думаю. Только Гальгани уверяет, что они все виноваты.
– Ладно, посмотрим, что произойдет в шесть часов утра. Я не пойду на работу. Скажусь больным и останусь здесь.
Утром в пять к нам подошел старший по корпусу:
– Ребята, как вы думаете, вызывать мне охрану или нет? Я только что обнаружил в гальюне двух окочурившихся.
Старый каторжник лет семидесяти пытался убедить нас – нас убедить! – что с половины седьмого вечера он ничего такого не замечал, то есть с того момента, когда тех ребят окочурили. И это несмотря на то, что пол был залит кровью и народ ходил взад и вперед по кровавым лужам, разнося повсюду кровавые пятна. И все это не где-нибудь, а как раз посередине прохода нашей камеры.
Гранде отвечал не менее хитро, вторя изумлению старого прощелыги:
– Ну да?! Двое окочурившихся в гальюне? С каких пор?
– Понятия не имею, хоть режьте, – продолжает старик. – Я спал с шести вечера и ничего не видел. Вот только что зашел в туалет помочиться, наступил на что-то липкое и поскользнулся. Достал зажигалку, вижу – кровь. Потом гляжу – а в гальюне-то два покойничка!
– Вызывай, посмотрим, что скажут!
– Инспектор! Инспектор!
– Чего орешь, скотина? Или в блоке пожар?
– Нет, начальник. В сортире застряли два покойника.
– Ты что, хочешь, чтобы я их оживил? Еще четверть шестого, ждите до шести. Смотри, чтоб в сортир никто не заглядывал. Чтоб ни ногой.
– Никак невозможно. Скоро подъем, каждый попрется справить нужду.
– Тоже верно. Подожди минуту – доложу старшему.
Появились трое: старший надзиратель и с ним еще двое багров. Мы думали, они войдут в камеру, но нет – остановились у зарешеченной двери.
– Говоришь, в сортире два трупа?
– Да, начальник.
– С каких пор?
– Не знаю, только что обнаружил – зашел помочиться.
– Кто такие?
– Не знаю.
– Конечно, ты ничего не знаешь, старый дурак. Тогда я скажу: один из них армянин. Пойди загляни.
– Вы совершенно правы: армянин и Сан-Суси.
– Хорошо. Дождемся переклички.
Шесть часов – и первый звонок. Дверь открывается. Торопливо входят двое разносчиков кофе, за ними следует еще один с хлебом.
Половина седьмого – второй звонок. Занимается день. Весь проход в красных следах. Народ достаточно походил по крови в течение ночи.
Появились два коменданта. Уже совсем рассвело. С ними восемь надзирателей и врач.
– Всем раздеться. Стоять по стойке смирно у своих коек. Настоящая скотобойня – везде кровь!
Первым в гальюн направляется заместитель коменданта. Возвращается оттуда белее полотна.
– У них буквально искромсаны глотки. Никто ничего не видел и не слышал, разумеется?
Полная тишина.
– Старший по корпусу, трупы уже окоченели. Доктор, когда приблизительно наступила смерть?
– От восьми до десяти часов, – отозвался врач.
– А ты их обнаружил только в пять утра? Ничего не видел и не слышал?
– Нет. Я туговат на ухо и почти ослеп. Судите сами, семьдесят уже стукнуло, из них сорок лет на каторге. Поэтому и сплю много. Заснул в шесть вечера и проснулся в пять утра только потому, что захотелось помочиться. Еще повезло, обычно я сплю до звонка.
– Уж куда как повезло, – продолжал комендант с иронией в голосе. – Нам тоже повезло: все заключенные мирно спали, а с ними и оба надзирателя. Как хорошо! Носильщики, забрать трупы и отнести в покойницкую. Прошу вас, доктор, напишите заключение о смерти. Всем заключенным во двор по одному и голыми.
Все по одному стали проходить мимо коменданта и врача. Их тщательно осматривали. Никто не был ранен, на некоторых нашли следы кровяных брызг. Они объясняли это тем, что запачкались, когда ходили в туалет. Меня, Гранде и Гальгани осматривали внимательнее, чем других.
– Папийон, где твое место?
Перерыли все мои вещи.
– А где нож?
– Вчера в семь часов вечера у ворот в лагерь отобрал инспектор.
– Да, это так, – подтвердил багор. – Он еще нам нагрубил, будто мы хотим, чтобы его убили.
– Гранде, это твой нож?
– Позвольте. Должно быть, мой, коль лежал на моем месте.
Гранде стал очень внимательно рассматривать свой нож. Чист, как новенькая иголка, – ни одного пятнышка.
Из туалета вышел врач.
– У обоих порезы горла кинжалом с двухсторонней заточкой. Они стояли, когда их убивали. Невероятно. Не может же заключенный стоять, как кролик, и не защищаться, когда ему перерезают горло. Кого-то должны были ранить наверняка.
– Убедитесь сами, доктор, ни у кого нет даже царапины.
– Эти люди были из опасных?
– Не то слово, доктор. Вчера в девять утра в умывальнике убили Карбоньери. И это определенно сделал армянин.
– Расследование закрыто, – сказал комендант. – Все же сохраните нож Гранде. Всем на работу, за исключением больных. Папийон, вы заявили о болезни?
– Да, месье комендант.
– Вижу, времени вы не теряли, мстя за своего друга. Не такой уж я простофиля. К сожалению, у меня нет доказательств, и думаю, что их не получить. Последний раз спрашиваю, имеются у кого-либо заявления на этот счет? Если кто-то хочет пролить свет на данное двойное убийство, даю слово, что он будет деинтернирован и отправлен на материк.
Мертвая тишина.
Весь «шалаш» армянина сказался больным. В ответ Гранде, Гальгани, Жан Кастелли и Луи Гравон в самый последний момент тоже внесли себя в список больных. Комната опустела, освободившись от своих ста двадцати постояльцев. В ней остались пять человек из моего «шалаша», четверо из «шалаша» армянина вместе с часовщиком, старший по корпусу, продолжавший ворчать, что на него свалилось столько грязной работы по уборке, еще два-три заключенных, один из них эльзасец по прозвищу Большой Сильвен.
Этот человек жил на каторге сам по себе, ни с кем не объединяясь, но все его уважали и любили. Мотал он свои двадцать лет за дерзкое нападение на почтовый вагон скорого поезда Париж – Брюссель. В одиночку вырубил двух охранников сопровождения и побросал мешки с деньгами на железнодорожную насыпь, а там по ходу их уже подобрали его дружки – соучастники нападения. Взяли кругленькую сумму.
Видя, что мы шепчемся по своим углам, и не зная, что мы договорились не предпринимать друг против друга каких-либо действий, он решил взять инициативу в свои руки и заговорить первым:
– Надеюсь, вы не собираетесь идти врукопашную, как три мушкетера?
– Не сегодня, – ответил Гальгани. – Оставили на потом.
– Зачем же потом? Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, – вставил Поло. – Но лично я не вижу никакой причины убивать друг друга. А ты как думаешь, Папийон?
– Один вопрос: вы знали о том, что затевает армянин?
– Даю слово, Папи, мы ничего не знали. Если бы он еще был жив, я бы сам ему этого не простил.
– Если это так, – вступил в разговор Гранде, – почему бы нам на этом и не закончить?
– Мы тоже так считаем. Давайте пожмем друг другу руки, и больше ни слова об этом печальном событии.
– Договорились.
– Я – свидетель, – сказал Сильвен. – Искренне рад, что все так закончилось.
– Больше ни слова.
В шесть вечера зазвонил колокол. Слушая его, я не мог отделаться от вчерашней картины, снова возникшей перед глазами: обезображенное тело моего друга Матье, высунувшись из воды по пояс, быстро движется к лодке. Страшная, потрясающая картина нисколько не потускнела и через двадцать четыре часа. Вряд ли можно было надеяться, что акулы разделаются с армянином и Сан-Суси точно таким же образом.
Гальгани молчал. Он хорошо понимал, что произошло с Карбоньери. Он сидел на своей койке и болтал ногами, уставившись в пустоту. Гранде еще не вернулся. Колокольный звон длился не менее десяти минут. Продолжая болтать ногами, Гальгани тихо сказал мне:
– Надеюсь, акулы, сожравшие Карбоньери, не отведают ни кусочка от этого педераста-армянина. Было бы непростительно глупо, схватившись на смерть при жизни, оказаться после смерти в одном акульем брюхе.
С потерей искреннего и благородного друга в моей жизненной линии образовалась страшная незатягивающаяся брешь. Надо валить с Руаяля, и чем быстрее, тем лучше. Надо действовать. Изо дня в день я без устали твердил про себя эти слова.
Побег из дурдома
– Поскольку идет война, а наказание за провалившийся побег стало куда как сурово, может, не время рисковать, Сальвидиа? Как считаешь?
Мы ведем разговор с итальянцем, обладателем золотой гильзы, в душевой, обсуждая только что прочитанный листок с новыми положениями о мерах ответственности за побег.
Я продолжаю:
– Но даже смертный приговор меня не остановит. Что скажешь?
– С меня хватит, Папийон. Уже натерпелся. Надо бежать, а там будь что будет. Меня устраивают в психушку санитаром. Я знаю, что у них в кладовке есть две деревянные бочки по двести двадцать пять литров каждая. Из них можно сделать хороший плот. Одна с оливковым маслом, а другая с уксусом. Если их хорошенько связать вместе, чтоб не разошлись, то, пожалуй, можно добраться до материка. С внешней стороны стены, окружающей психушку, охраны нет, а внутри круглосуточно дежурит один фельдшер-надзиратель, ему помогают еще несколько зэков присматривать за придурками. Почему бы тебе не присоединиться ко мне?
– В качестве кого? Санитара?
– Нет, это невозможно, Папийон. Ты же прекрасно знаешь, что тебе работу в дурдоме не дадут. Далеко от лагеря, охрана слабая – в общем, все против тебя. Но ты вполне можешь попасть туда под видом больного.
– Это очень трудно, Сальвидиа. Когда врач признаёт тебя чокнутым, он тем самым подтверждает твою полную умственную несостоятельность и снимает с тебя всю ответственность за все твои поступки. Он официально удостоверяет твою невменяемость. Ты представляешь, какую ответственность он берет в этом случае на себя, выдавая подобную справку? Ты можешь убить зэка, даже багра, его жену или ребенка – и с тебя как с гуся вода. Ты можешь бежать, совершить мыслимое или немыслимое преступление, и закон будет на твоей стороне. Самое худшее, что может ожидать тебя, – это «музыкальная шкатулка» (камера, обитая мягким звуконепроницаемым материалом) да смирительная рубашка. И то на какое-то время, определяемое законом. Таким образом, делай, что хочешь, даже беги, и по закону тебя не имеют права наказывать.
– Папийон, я верю в тебя: ты как раз тот человек, с кем я согласен бежать. Сделай все возможное, чтобы попасть в психушку. Заделайся психом. Как санитар, я смогу тебе помочь устроить сносную жизнь и протяну руку, если придется туго. Я понимаю, как ужасно оказаться среди опасных придурков, будучи нормальным.
– Давай устраивайся в приют для душевнобольных, Ромео. А я постараюсь хорошенько вникнуть в суть дела. Прежде всего надо разузнать как следует о первых симптомах сумасшествия, чтобы убедить врача. Во всяком случае, идея неплохая – получить справку о невменяемости.
И я приступил к серьезному изучению вопроса. В тюремной библиотеке книг по интересующему меня предмету не оказалось. Когда представлялась возможность, я беседовал с бывшими клиентами упомянутого заведения, находившимися там какое-то время на излечении, и постепенно сформировал достаточно ясное понимание о нем.
1. У всех умалишенных жуткие головные боли в затылочной части.
2. Зачастую в ушах стоит шум.
3. Очень беспокойны, не могут долго лежать в одном положении без нервного потрясения, от которого пробуждаются. Тело начинает дергаться, конвульсии причиняют больному нестерпимые страдания.
Теперь надо было сделать так, чтобы эти симптомы были замечены у меня кем-то , а не сам я говорил о них открыто. Но тут важно не перегнуть палку. Надо сыграть такого помешанного, чтобы у врача было основание определить тебя в психушку, но не буйнопомешанного, чтобы оправдывалось плохое обращение к тебе со стороны надзирателей: смирительные рубашки, избиение, урезанное питание, инъекции брома, холодные или горячие ванны и так далее. Если разыграть все как по нотам, то можно наверняка провести врача.
В мою пользу говорило только одно обстоятельство: зачем мне, собственно, придуриваться? А поскольку врач не найдет ответа на этот вопрос, то, похоже, я выиграю затеянную мной игру. Нет для меня другого пути выбраться отсюда. В переводе на остров Дьявола мне отказали. А после убийства моего друга Матье лагерь стал для меня просто невыносим. Баста! Нельзя больше медлить и колебаться! Я уже настроил себя: в понедельник надо попасть в список больных. Будет лучше, если кто-то другой заявит о моей болезни в полной уверенности, что на самом деле так оно и есть. Время от времени надо проявлять признаки помешательства при нахождении в корпусе. Тогда старший доложит надзирателю, а тот сам внесет меня в список на прием к врачу.
Уже трое суток, как я не сплю, перестал умываться и бриться. По ночам усиленно занимаюсь онанизмом. Стал мало есть. Вчера я спросил своего соседа, почему он взял мою фотокарточку. Никакой фотокарточки, разумеется, не было и в помине. Сосед занервничал, стал клясться всеми богами, что не трогал, заерзал и сменил место. Перед раздачей первого блюда бачок зачастую стоял несколько минут открытым. Я подошел к бачку и у всех на глазах в него помочился. Мой поступок испортил настроение всему корпусу, но вид у меня был настолько обескураживающий, что никто не посмел возразить. И только Гранде на правах друга спросил:
– Зачем ты это сделал, Папийон?
– Забыли посолить, – ответил я и, не обращая внимания на других, сходил за миской и протянул ее старшему по корпусу, чтобы наливал. Я ел свой суп, а остальные молча наблюдали за мной.
Эти два происшествия привели меня сегодня утром на прием к врачу без всякой просьбы с моей стороны.
– Порядок, медицина? Да или нет?
Я повторил свой вопрос. Врач посмотрел на меня удивленно, а я уставился на него совершенно нормальным, невинным взглядом.
– Со мной все в порядке. А как ты себя чувствуешь? Ты что, болен?
– Нет.
– Тогда почему ты заявлен в списке?
– Не вижу на то причины. Мне сказали, что ты заболел, но теперь я вижу, что все в порядке. До свидания.
– Минуточку, Папийон. Садись напротив. Смотри мне в лицо.
И медик стал обследовать мои глаза с помощью небольшого фонарика, испускавшего узкий лучик света.
– Видишь их? Ты же их ищешь, медицина. Свет слабоват, но даже при таком свете… ты понимаешь, что я имею в виду. Скажи, видишь ты их?
– Вижу кого? – переспросил медик.
– Не валяй дурака. Ты врач или коновал? Не хочешь ли ты сказать, что не успеешь их разглядеть, как они уже прячутся. Либо ты не хочешь, либо считаешь меня полным идиотом.
Я посмотрел на него усталым взглядом. Немытый, небритый. Уже один внешний вид говорил сам за себя. Багры слушали и про себя потешались. Но с моей стороны не было ни малейшего резкого движения, которое позволило бы им вмешаться. Чтобы удержать пациента от возбуждения, врач, весело балагуря, принялся успокаивать меня. Затем он поднялся на ноги и положил руку мне на плечо. Я продолжал сидеть.
– Да, мне не хотелось тебе говорить, Папийон, но я успел их заметить.
– Не ври, медицина. Научился врать в колонии. Соврешь – глазом не моргнешь. Ты вообще ничего не видел. Я думал, что ты ищешь три крохотные черные мушки у меня в левом глазу. Я их вижу, когда ни на что не смотрю или когда читаю. Но стоит мне взять зеркало, как они пропадают, а глаз совершенно чистый. Они прячутся в ту же секунду, едва я берусь за зеркало, чтобы на них взглянуть.
– Направить в больницу. И немедленно. В лагерь не возвращать. Ты говоришь, что здоров, Папийон. Может, это и так. Но у тебя переутомление. Надо подлечиться. Несколько дней в больнице не помешают. Не возражаешь?
– А мне все равно: больница, лагерь – те же острова.
Первый шаг сделан. Через полчаса я уже находился в больнице. Лежу в светлой камере. Койка заправлена чистой белоснежной простыней. На двери табличка: «Под наблюдением врача».
Постепенно, раз за разом используя приемы самогипноза, я вогнал себя в состояние легкого помешательства. Игра приобретала опасные формы: нервное подергивание рта, постоянное закусывание нижней губы, тщательно отрепетированные мной перед зеркалом, кусочек которого я вынимаю украдкой, переросли в привычку, от которой трудно отделаться. Я часто ловлю себя на том, что эти судорожные движения возникают непроизвольно, без всякого желания с моей стороны. Смотри не заиграйся, Папи. Кончится тем, что, разыгрывая из себя сумасшедшего, ты и впрямь можешь малость свихнуться. И все же игру надо довести до конца, если хочешь победы. Шутка сказать, попасть в психушку с заключением о невменяемости! А там – побег с приятелем. Побег! Волшебное слово приводит меня в дикий восторг. Я уже вижу, как мы вдвоем с другом-итальянцем сидим на бочках, держа курс на материк.
Врач делает обход каждый день. Подолгу задерживается около меня. Разговариваем вежливо и учтиво. Он обеспокоен, но еще не уверен до конца. Значит, настал момент заявить о жутких головных болях в затылке. Первый симптом.
– Как дела, Папийон? Спал хорошо?
– Да, доктор. Спасибо, почти хорошо. Благодарю за журнал, который вы мне дали почитать. Да, как же я спал? Вроде ничего, только что-то снова начинается. Видите ли, доктор, за моей камерой установили насос для полива, должно быть, или еще для какой нужды, не в курсе, но целую ночь «бам-бам-бам», так что бьет по затылку. А затем отдается под черепом, как эхо, «бам-бам-бам». И так всю ночь. Невыносимо. Я был бы вам весьма признателен, если бы меня перевели в другую камеру.
Врач повернулся к фельдшеру-надзирателю и прошептал:
– Насос есть?
Тот мотнул головой, что нет.
– Перевести в другую камеру. Куда бы вам хотелось, Папийон?
– Подальше от этого проклятого насоса – в конец коридора. Спасибо, доктор.
Дверь закрылась, и я снова остался один в камере. До слуха доносится едва-едва различимый звук: за мной наблюдают в смотровой глазок. Определенно врач, поскольку я не слышал удаляющихся шагов, когда они вышли из камеры. Тут же бью кулаком в стенку, за которой стоит воображаемый насос, и кричу, но не слишком громко:
– Прекрати, прекрати, пьяная морда! Сколько можно поливать свой огород, ублюдок вонючий!
Бросаюсь на кровать и кладу на голову подушку.
Как опустилась медная пластинка на смотровой глазок, я не слышал, но удаляющиеся шаги явно различил. Так что тип за дверью, шпионивший за мной, был определенно доктор.
В полдень меня перевели в другую камеру. Похоже, утром я произвел на них должное впечатление, потому что несколько метров до конца коридора я прошел в сопровождении надзирателей и двух санитаров. Поскольку со мной не разговаривали, я тоже не навязывался с разговором. Так молча и проследовали на новое место. Через два дня – шум в ушах. Второй симптом.
– Как дела, Папийон? Прочитал журнал?
– Нет, не прочитал. Целый день и полночи все пытался разделаться с комаром или мошкой, поселившимися у меня в ухе. Закладывал ватой – не помогает. Не только щекочет, но и жужжит не переставая. Вот так вот: «бзз-бзз-бзз». С ума можно сойти, доктор. Что вы скажете? Если мне не удалось раздавить их, то нельзя ли утопить? Как вы думаете?
Я говорю, а рот у меня судорожно дергается и кривится. Вижу, он тоже это заметил. Взяв меня за руку, он посмотрел прямо мне в глаза. Я почувствовал, что он озабочен и обеспокоен.
– Да, Папийон, мы их утопим. Шаталь, промойте ему уши шприцем.
Эти сцены с вариациями продолжаются каждое утро. Но как-то все не похоже, чтобы доктор склонялся к мысли направить меня в дурдом. Когда он прописал мне инъекции брома, Шаталь предупредил:
– Пока все идет нормально. Врач потрясен, но может затянуть с твоим переводом надолго. Если хочешь, чтобы он принимал решение поскорее, покажи, что ты можешь быть агрессивным.
– Как дела, Папийон?
Доктор в сопровождении надзирателей и Шаталя открывает дверь и добродушно приветствует меня.
– Не гони лошадей, доктор. – Весь мой вид показывает, что я настроен агрессивно. – Ты ведь знаешь, что никаких дел нет. Я начинаю думать, что ты в сговоре с этим негодяем, который меня мучает.
– Кто тебя мучает? Когда? Как?
– Сначала скажи, знаешь ли ты работы доктора д’Арсонваля? [9]
– Надеюсь, что да.
– Тогда тебе известно, что он изобрел многоволновой вибратор для ионизации воздуха вокруг пациента с язвой двенадцатиперстной кишки. Этот вибратор посылает электрический ток. Верно? Так вот, один из моих врагов спер такую машинку из больницы в Кайенне. Каждый раз, когда я засыпаю, он нажимает кнопку, и ток бьет меня в живот и бедра. Я едва не слетаю с кровати: меня подбрасывает вверх сантиметров на пятнадцать. А теперь скажи, что мне делать и как мне спать? Так продолжалось всю прошлую ночь: едва закрою глаза, как бьет током. А тело трясется, как пружина, соскочившая с петли. Я не в силах больше терпеть, доктор. Передайте всем, кто помогает этому негодяю, что я их поймаю и разорву на куски. У меня нет оружия, но силы хватит, чтобы задушить любого подонка. Имеющий уши да слышит! А ты можешь подавиться своим лицемерным «Как дела, Папийон?». Еще раз говорю, доктор, не гони лошадей.
Инцидент принес свои плоды. Шаталь передал мне, что медик предупредил багров, чтобы были начеку. Открывать дверь в мою камеру можно только вдвоем или втроем. И разговаривать со мной только ровным голосом. У него мания преследования, сказал медик, и его надо поскорее отправить в приют для душевнобольных.
– Я полагаю, что сумею доставить его туда с одним охранником, – сказал Шаталь доктору, имея в виду избавить меня от смирительной рубашки.
– Ты хорошо пообедал, Папи?
– Прекрасно, Шаталь.
– Не хочешь ли пройтись со мной и месье Жаннюсом?
– Куда?
– До приюта. Мы несем туда лекарства, а для тебя это будет хорошая прогулка.
– Пойдем.
И мы отправились втроем из больницы в дурдом. По дороге Шаталь разговаривает со мной, а когда мы уже почти у цели, спрашивает:
– Лагерь надоел до чертиков?
– О да! Сыт по горло. Особенно с тех пор, как не стало Карбоньери.
– А почему бы тебе не остаться на несколько деньков в приюте? Парень с электрической машинкой может тебя там и не найти. Тогда и ток не будет пускать.
– Это мысль, друг. А ты что, полагаешь, меня возьмут? Ведь я еще не тронулся.
– Предоставь это дело мне, уж я замолвлю за тебя словечко, – сказал багор, очень довольный, что я попался в ловушку, расставленную Шаталем.
Так я и оказался в психушке среди сотни дураков. А с дураками жить – о, как несладко! Нас прогуливают во дворе группами по тридцать-сорок человек. И днем и ночью все как есть голые – абсолютно в чем мать родила. Хорошо еще, тепло! Мне оставили лишь тапочки.
Санитар только что выдал мне зажженную сигарету. Сидя на солнышке, размышляю: здесь я уже пять дней, но ни разу еще не удалось встретиться с Сальвидиа.
Ко мне подошел один псих по имени Фуше. Я знаю его историю. Мать этого парня продала свой дом и послала сыну пятнадцать тысяч франков на побег. Деньги передала через одного надзирателя. Тому полагалось пять тысяч, а Фуше – остальные. Надзиратель деньги прикарманил и смотался в Кайенну. Когда Фуше узнал из другого источника, что мать выслала ему звонкую монету, а сама осталась на бобах и деньги ушли в какую-то прорву, он в припадке буйного помешательства набросился на надзирателей. Те его скрутили, так что, по сути, он им никакого вреда не причинил. Третий или четвертый год он обретается в дурдоме.
– Ты кто?
Я смотрю на беднягу – на вид не более тридцати лет, – возникшего передо мной с таким вопросом.
– Кто я? Такой же мужик, как и ты, не больше и не меньше.
– Ну и дурацкий ответ. Вижу, что мужик, а не баба: при тебе и хер, и яйца, а у баб ни хера нет, кроме дырки. Я спрашиваю, кто ты? То есть как тебя зовут?
– Папийон.
– Папийон? Мотылек? Бедняжка. Мотылек летает, и у него крылышки. А где твои крылышки?
– Потерял.
– Надо найти. Только с ними и можно бежать. У багров нет крыльев, поэтому ты их и обставишь. Дай-ка сигарету.
И, не дожидаясь, тут же вырвал ее у меня из пальцев. Потом сел напротив и затянулся.
– А ты кто? – спрашиваю я.
– Я-то? Тронутый! Каждый раз, когда хочу тронуть свое, получаю в глаз. А почему? Да просто так. Однако давлю багров пачками. Сегодня ночью двоих повесил. Только, чур, никому.
– За что же ты их?
– Украли материнский дом. Видишь ли, мать послала мне дом, а он им приглянулся. Теперь так в нем и живут. Правильно сделал, что повесил. Согласен? Двое уже нажились. Видишь того жирного багра за решеткой? Он тоже живет в доме. И я до него доберусь.
Он поднялся и пошел прочь.
И слава богу! Жить вынужденно среди сумасшедших не представляет никакого удовольствия. Они к тому же опасны. По ночам орут и стонут. А когда встает полная луна, от их воплей мороз бежит по коже. Каким образом луна влияет на поведение умалишенных? Я этого не могу объяснить, но очень часто был тому свидетелем.
Если ты новичок и попал сюда с признаками помешательства, а при этом диагноз еще полностью не установлен, ты находишься под особым наблюдением врача, и багры регулярно докладывают о твоем поведении. Со мной проделали массу проверочных трюков. Например, умышленно забывают вывести меня на прогулку и смотрят, заметил ли и не буду ли жаловаться. Или еще – забывают накормить во время раздачи пищи. У меня была палка с ниткой, и я стал забавляться ужением рыбы.
– Клюет, Папийон? – спрашивает старший надзиратель.
– Не похоже. Потому что за мной постоянно плавает маленькая рыбка. Как только начинаю ловить, так вижу: вот-вот схватит большая рыбина, а маленькая ей тут же говорит: «Не хватай – это ловит Папийон». Вот и не ловится. Но я буду продолжать. Может, однажды какая-то ей не поверит и клюнет.
Слышу, багор уже передает санитару:
– В самом деле свихнулся.
Когда мы сидим за общим столом в столовой, мне никогда не удается съесть до конца свою порцию чечевичной каши. Причиной тому – верзила под метр девяносто, у которого руки, ноги и торс покрыты волосами, как у обезьяны. Меня он выбрал своей жертвой. Для начала, он всегда садится рядом со мной. Чечевица подается такой горячей, что, прежде чем приступить к еде, надо немного подождать, чтобы она остыла. Краешком деревянной ложки зачерпываю из миски чуть-чуть, дую на кашу и успеваю съесть всего ничего. Айвенго (он вообразил себя Айвенго) обхватывает края своей миски руками, делая из нее как бы воронку, и разом отправляет содержимое в глотку. Затем он берет без спроса мою и проделывает то же самое. Вылизав миску дочиста, он брякает ее о стол передо мной и уставляется на меня выпученными, налитыми кровью глазами. Вся его физиономия как бы говорит: «Видишь, как я ем чечевицу?» Айвенго стал мне порядком надоедать, но он же и дал повод для разыгрывания шумного спектакля и получения справки о невменяемости. Наступил снова чечевичный день. Айвенго тут как тут. Садится рядом со мной. Морда идиота сияет от удовольствия, заранее предвкушая и радуясь тому наслаждению, с каким он сожрет две порции каши! Я пододвигаю к себе большой и тяжелый глиняный кувшин, доверху наполненный водой. Едва верзила успел поднести мою миску ко рту и чечевица уже забулькала в глотке, как я встал, поднял кувшин и с силой опустил ему на голову. С диким воплем Айвенго рухнул на пол. В то же мгновение все идиоты повскакивали со своих мест и, вооружившись мисками, налетели друг на друга. Поднялся невообразимый гвалт. Эта коллективная драка сопровождалась неописуемыми воплями и криками. Орали все и на все голоса.
Четверо дюжих санитаров быстро подхватывают меня и волокут в камеру без всякой осторожности, словно бревно. Я ору, как ненормальный, что Айвенго стащил у меня бумажник с пропуском. На этот раз трюк прошел: врач решился признать меня душевнобольным, не отвечающим за свои поступки. Все багры согласились с диагнозом: тихое помешательство, переходящее временами в буйное. На башке у Айвенго появилась великолепная повязка. Я ему хорошо раскроил череп. К счастью для меня, нас выводят на прогулку в разное время.
Мне удалось поговорить с Сальвидиа. Он уже обзавелся ключом от кладовки, где хранятся бочки, и сейчас пытается достать проволоку, чтобы связать их вместе. Я высказал опасение, что проволока может перетереться и порваться в море, что лучше было бы найти веревочный канат – упругий и надежный. Он постарается добыть и проволоку, и канат. Следует также запастись тремя ключами: от моей камеры, от прохода, ведущего к ней, и от главных дверей психушки. Ночная охрана совсем небольшая. Дежурят два надзирателя, сменяя друг друга каждые четыре часа. Первый – с девяти вечера до часу ночи, второй – с часу ночи до пяти утра. Как тот, так и другой, заступив на смену, дрыхнут, никаких обходов не делают, целиком полагаясь на санитара-заключенного, заступающего на дежурство вместе с ними. Таким образом, все идет хорошо. Надо только набраться терпения. С месяц выдержу, но не больше.
На прогулке во дворе старший надзиратель протянул мне зажженную сигару. Табак был плохой. Правда, в моем положении, плохой ли, хороший ли, – он все равно чудесный. Я сел и стал смотреть на это стадо обнаженных людей: кто поет, кто рыдает, кто-то снует между другими, делая несуразные движения и разговаривая сам с собой. Все мокрые: не обсохли еще после душа, через который пропускают всех перед выходом на прогулку. На тщедушных телах – следы побоев, чужих и своих, рубцы от туго стянутых смирительных рубашек. Это был действительно конец пути вниз по сточной канаве. Сколько же из них, этих людей, находящихся теперь здесь, было осуждено во Франции потому, что психиатры признали их вменяемыми!
Вот один из них, по прозвищу Титен, – мы с ним из одного конвоя 1933 года. В Марселе он убил человека, взял такси и отвез свою жертву в больницу. А там сказал: «Помогите ему, мне кажется, он болен». Его арестовали на месте, и суд присяжных набрался наглости признать его в своем уме и способным отвечать за собственные поступки. Неужели было не ясно, что человек в здравом рассудке не совершит такое? Здесь и ежу было бы понятно, что у бедняги съехала крыша. Вот он сидит рядом со мной, этот Титен. У него хроническая дизентерия – ходячий живой труп. Он рассказывает мне:
– Знаешь, у меня в животе завелись маленькие обезьянки. Одни злые – они-то и грызут мне кишки, когда сердятся. Поэтому я и хожу кровью. А другие – добрые и ласковые. Они такие пушистые, с мягкими лапками. Жалеют меня, и гладят, и не дают злым больно кусаться. Когда добрые обезьянки вступаются за меня, я уже не хожу кровью.
– Ты помнишь Марсель, Титен?
– Уж ты и скажешь, помню ли я Марсель! Очень хорошо помню. Плас-де-ла-Бурс с сутенерами и шайками крутых ребят…
– А ты помнишь их имена? Скажем, Ангел Скряга, Грава, Клеман?
– Нет, имен не помню. Помню, одна сволочь-шоферюга завез нас с больным другом в больницу и свалил все на меня. Вот и все.
– А помнишь друзей?
– Не знаю.
Эх, бедняга Титен. Отдал я ему недокуренную сигару и поднялся на ноги. Сердце переполнилось жалостью к этому бедолаге: ведь сдохнет здесь, как собака. Да, опасно жить среди душевнобольных, но что поделаешь? Во всяком случае, только здесь можно готовиться к побегу, не опасаясь смертной казни.
У Сальвидиа почти все готово. Уже есть два ключа, недостает только от моей камеры. Заполучил он и хороший канат, да еще плюс к нему сплел из гамака, как он сам выразился, пятипрядную веревку. В этой части все шло хорошо.
Мне не терпелось приступить к действию, поскольку и вправду было тяжко затягивать эту комедию. Для того чтобы и дальше оставаться в этом крыле здания психушки, где находилась моя камера, приходилось время от времени изображать состояние кризиса.
Однажды я так хорошо разыграл приступ, что баграм-санитарам пришлось посадить меня в горячую ванну и вкатить два успокаивающих укола. Сверху ванну обтягивал прочный брезент, так что выбраться из нее при всем желании было невозможно. И только голова торчала сверху, просунутая в дыру. Больше двух часов просидел я в такой своеобразной смирительной рубашке, когда в ванную комнату вошел Айвенго. Скотина посмотрел на меня так выразительно, что я оцепенел от страха и с ужасом подумал: сейчас начнет душить. А я не мог даже защищаться – руки-то под брезентом.
Айвенго подошел, уставился на меня огромными глазами, как будто стараясь припомнить, где он мог видеть эту голову, выскочившую, словно из рамки. Он дышит мне в лицо, а изо рта несет гнилью. Хотелось закричать и позвать на помощь, но страх, что он может еще больше рассвирепеть от моего крика, удержал меня от этого. Я закрыл глаза и стал ждать, будучи совершенно уверен, что он меня задушит своими огромными ручищами. Эти секунды страха не скоро забудутся. Наконец он делает шаг назад, кружит по комнате и подходит к кранам, регулирующим подачу воды. Затем перекрывает кран с холодной водой и полностью открывает с горячей. Я истошно заорал, поскольку меня буквально варили заживо. Айвенго ушел. Вся ванная комната заполнилась паром. Совершенно нечем дышать, и я задыхаюсь. Делаю сверхчеловеческие усилия, чтобы разорвать этот проклятый брезент и вырваться из ванны, но все напрасно. Наконец помощь пришла: багры заметили, что из окна валом валит пар. Когда меня вытащили из этого котла, адская боль пронзала все тело – я страшно обварился. Особенно горели и саднили бедра и деликатные части тела – с них полностью сошла кожа. Обработав места ожогов пикриновой мазью, меня уложили в небольшой санитарной комнате психушки. Ожоги были настолько серьезными, что срочно вызвали врача. Первые сутки меня держали на уколах морфия. Когда лекарь спросил, что приключилось, я ответил, что в ванной произошло извержение вулкана. Так никто и не понял, что же случилось на самом деле. А медик-надзиратель обвинил санитара, отвечавшего за подготовку ванны и неправильно отрегулировавшего подачу воды.
Приходил Сальвидиа. Он обработал мне раны пикриновой мазью. У него все готово. Он заметил, что лучше не придумаешь, как бежать из санитарной части: из нее и удрать легче, и можно вернуться незаметно в случае провала. Только надо побыстрее изготовить к ней ключ, слепок с которого он уже сделал из куска мыла. Завтра ему изготовят ключ. Когда я достаточно поправлюсь, я назначу день побега. И надо воспользоваться первой дежурной сменой, когда багры спят и не делают обхода.Побег назначен на сегодняшнюю ночь в смену, которая длится с часу до пяти утра. Сальвидиа свободен от дежурства. Чтобы выиграть время, он опорожнит бочку с уксусом к одиннадцати вечера. Другую, с маслом, мы покатим полной. Поскольку море неспокойно, масло может пригодиться, чтобы унять волны и спуститься на воду.
У меня есть штаны из мешковины, достающие только до колен, шерстяной свитер и хороший нож на поясе. На шею я повешу непромокаемый мешочек для сигарет и зажигалки. У Сальвидиа водонепроницаемый рюкзак, в нем килограмма три муки маниоки, пропитанной маслом и сахаром. Уже поздно. Сижу на кровати и поджидаю приятеля. Сильно бьется сердце. Побег должен состояться через несколько минут. Да не отвернется от меня удача и да поможет Господь выйти победителем из сточной канавы!
Странно, в голове никаких мыслей о прошлом, за исключением тусклых обрывков об отце и семье. Ни одного лица из компании судей, присяжных заседателей и прокуроров.
И только когда открылась дверь, передо мной непроизвольно возник образ Матье: он стоял в море, и его уносили акулы.
– Идем, Папи!
Я последовал за Сальвидиа. Он быстро запер дверь и спрятал ключ в углу коридора.
– Скорее. Скорее.
Подошли к кладовке. Дверь открыта. Вынести пустую бочку – пара пустяков. Он повесил через плечо веревку, а я взял проволоку. Затем закинул рюкзак с мукой за спину, вынес пустую бочку и покатил ее в темную ночь прямо к морю. Сальвидиа шел сзади и катил бочку с маслом. К счастью, Сальвидиа очень силен: он легко удерживает бочку на склоне, не давая ей скатиться вниз и наверняка разбиться.
– Легче! Осторожнее! А то и сам загремишь с этой бочкой к чертовой матери.
Я остановился и поджидаю Сальвидиа на случай, если ему потребуется моя помощь: бочка с маслом может вырваться из рук, тогда я своей заблокирую ей дорогу. Начинаю спускаться задом наперед – сам спереди, а бочка сзади. Без труда достигли подножия дороги. Море рядом. К нему ведет небольшая тропинка, но она каменистая, и ее трудно преодолеть.
– Сливай масло, все равно по камням ее полной не протащишь.
Дует сильный ветер, и волны сердито разбиваются о камни. Готово – бочка пустая.
– Забивай плотнее затычку! Постой, сверху наложи-ка оцинкованную пластину.
В пластине уже заранее просверлены отверстия.
– Заколачивай гвозди.
Из-за шума ветра и плеска волн вряд ли кто услышит, как мы стучим.
Обе бочки связаны крепко-накрепко, но тащить их в таком виде через скалы крайне трудно. Вместимость каждой – двести двадцать пять литров. Конструкция получилась громоздкой и неудобной в обращении. И место, выбранное моим другом для спуска на воду, не облегчало задачи.
– Ради бога, подтолкни чуток. Приподними малость. Осторожно, видишь волна.
И нас обоих вместе с бочками подбросило вверх и вышвырнуло обратно на берег.
– Осторожно, а то их разобьет! И мы, само собой, останемся без рук и без ног.
– Спокойней, Сальвидиа. Либо иди спереди, либо помогай сзади. Во, вот так. По моей команде тяни на себя, а я в тот же момент подтолкну, и мы наверняка проскочим камни. Только смотри, держись крепче, даже если тебя накроет волной.
Даю команду моему другу, стараясь перекричать рев ветра и волн, и думаю, что он ее услышал; большая волна накрывает нас с головой, но мы крепко держимся за бочки. Яростно, изо всех сил толкаю наш плот и одновременно чувствую рывок на себя Сальвидиа.
Отступающая волна подхватывает нас и относит от прибрежных камней. Сальвидиа уже сидит на бочках; и в тот момент, когда я рывком тоже влезаю на них, гребень набегающей волны бьет снизу и бросает нас, словно перышко, на острый зубец скалы, возвышающийся поодаль в море. Страшный удар – и бочки напрочь разваливаются, остаются лишь доски да щепки. Отхлынувшая волна относит меня от скалы в море метров на двадцать. Я плыву и отдаю себя на волю набегающей волны, которая катится прямо к берегу. Меня буквально втискивает волной и сажает между двумя камнями. Успеваю только крепко ухватиться за один из них, чтобы не смыло обратно. Я весь в синяках и ссадинах. Выбравшись на сухое место, я увидел, что меня отнесло метров на сто от той точки, где мы спускали плот.
Наплевав на всякую осторожность, я стал кричать:
– Сальвидиа! Ромео! Ты где?
Нет ответа. Ошеломленный, я лег на тропинку и принялся снимать с себя штаны и свитер. И вот я уже снова голый, но в тапочках. Боже, где мой друг? И я снова закричал что было мочи:
– Где ты?!
Мне отвечали только ветер, море и волны. Не знаю, сколько времени я там оставался, подавленный, разбитый морально и физически. От ярости зарыдал. Сорвал с шеи и забросил подальше мешочек с табаком и зажигалкой – знак братского внимания ко мне Сальвидиа, который не курил.Встав лицом к ветру и чудовищным волнам, сметавшим все на своем пути, я поднял вверх сжатый кулак в припадке богохульства:
– Подлец, свинья, негодяй, педераст! Тебе не стыдно так гнать меня? И тебя еще называют добрым?! Негодяй – вот кто ты есть. Садист! Грязная скотина! Я никогда больше не произнесу твоего имени! Ты этого не заслуживаешь!
Ветер стих, и наступившее успокоение вернуло меня к реальной жизни.
Надо возвращаться в психушку и, если повезет, незаметно пробраться в санитарную часть.
Стал подниматься вверх по холму с единственным желанием поскорее вернуться назад и завалиться в койку. И чтоб никто не видел и не слышал. Без труда пробрался в коридор, ведущий к санитарной комнате, а перед этим перелез через стену вокруг здания психушки, поскольку не знал, куда Сальвидиа положил ключ от ворот.
Ключ от самой комнаты искал недолго. Вошел в нее и запер дверь на два оборота. Подошел к окну и забросил ключ подальше. Он упал по другую сторону стены. Лег в постель. Единственное, что могло меня выдать, – это мокрые тапочки. Я встал с кровати, отправился в туалет и там хорошенько их выжал. Забравшись под простыни с головой, стал постепенно согреваться. От ветра и морской воды я сильно продрог. Неужели мой друг действительно утонул? Может быть, его отнесло дальше, чем меня, и он выбрался на берег в конце острова? Не рано ли я ушел? Надо было подождать еще немного. Я стал себя ругать, что так поспешно похоронил своего приятеля.
В выдвижном ящике тумбочки нашел две сонные таблетки. Проглотил их с ходу, не запивая водой, – слюны во рту достаточно, чтобы они проскользнули в желудок.
Я все еще спал, когда меня кто-то встряхнул, и, открыв глаза, я увидел перед собой надзирателя. Вся комната залита солнцем. Окно открыто. В комнату заглядывают трое больных.
– Ну, Папийон, ты и горазд спать! Уже десять часов, пора пить кофе. Он уже остыл. Давай же, пей.
Еще не совсем проснувшись, я все же понял, что все прошло нормально.
– Почему вы меня разбудили?
– Потому что ожоги у тебя зажили, а кровать требуется другим. А ты пойдешь в свою камеру.
– Хорошо, начальник.
И я поплелся за ним. Меня оставили во дворе, чем я не преминул воспользоваться, чтобы просушить на солнце тапочки.
Прошло три дня, как сорвался побег. О нем никаких разговоров. Перемещаюсь из камеры во двор, со двора – снова в камеру. Сальвидиа не появлялся – значит, погиб наверняка, разбившись о скалы. Я и сам едва избежал смерти. Сиди я спереди, а не сзади, все могло быть наоборот. Кто знает? Надо выбираться из психушки. Трудно будет доказать, что я выздоровел и могу вернуться в лагерь. Сюда легче попасть, чем вырваться отсюда. Теперь следует убедить доктора, что мне уже лучше.
– Месье Рувиó (старший надзиратель-санитар), я озяб сегодня ночью. Обещаю, что не буду пачкать одежду. Выдайте, пожалуйста, мне штаны и рубашку.
Багор обалдел. Он смотрит на меня изумленными глазами и говорит:
– Садись-ка рядышком, Папийон. Скажи мне, что происходит?
– Меня удивляет, начальник, что я нахожусь здесь. Это же дурдом. Я что, значит, среди дураков? Неужели я ненароком тоже свихнулся? Почему я здесь? Скажите мне, начальник, будьте добры.
– Дружище, Папийон, ты был болен. Теперь я вижу, что тебе лучше. Не желаешь ли поработать?
– Да.
– Чем хочешь заняться?
– Все равно чем.
И вот я одет и помогаю убирать камеры. Дверь моей камеры открыта до девяти часов вечера. Ее запирает дежурный надзиратель, заступая на смену.
Вчера вечером со мной впервые заговорил один санитар из Оверни. Он был пока один на дежурстве, багор еще не пришел. Я не знал этого парня, а он заявил, что знает меня хорошо.
– Хватит притворяться, дружище, – сказал он мне.
– Ты о чем?
– О чем? Не держи меня за дурака. Я уже семь лет вожусь с ними и в первую же неделю понял, что ты дурочку валяешь.
– А дальше что?
– Что дальше? Искренне сожалею, что вам не удалось удрать с Сальвидиа. Ему это стоило жизни. Жаль, он был мне хорошим другом, хотя и не посвящал меня в это дело. Но я не сержусь. Если что надо, обращайся ко мне. Рад буду оказать услугу.
Он смотрит на меня совершенно открыто, так что сомневаться в его искренности и честных намерениях не приходится. Раньше ничего хорошего о нем я не слышал, но и плохого тоже. Должно быть, хороший парень.
Бедный Сальвидиа! Воображаю, какой начался переполох, когда узнали, что он бежал. Море выбросило на берег куски от бочек – их и обнаружили. Все были уверены, что его самого сожрали акулы. Лекарь кричал и ругался, что пропало столько оливкового масла. И это во время войны, когда вряд ли нам удастся получить хоть каплю.
– Что ты посоветуешь мне делать?
– Я включу тебя в команду по доставке провизии из больницы. Каждый день ты будешь ходить туда и обратно – все-таки прогулки. Начинай вести себя хорошо. Когда с тобой будут разговаривать, в восьми случаях из десяти отвечай разумно. Быстро поправляться тоже нельзя.
– Спасибо. Как тебя зовут?
– Дюпон.
– Спасибо, приятель, не забуду твоих советов.
Прошел месяц со дня неудавшегося побега. Спустя шесть дней в море нашли труп моего приятеля с проломленным черепом. По странной случайности акулы его не сожрали, но зато потрудилась другая рыбешка, выев у него все внутренности и часть ноги. Мне обо всем рассказал Дюпон. Посмертного вскрытия не проводили, поскольку труп уже успел сильно разложиться. Я попросил Дюпона помочь мне отправить письмо. Его следовало передать Гальгани, который в свою очередь подсунет письмо в мешок с почтой в момент опечатывания.
Я писал матери Ромео Сальвидиа в Италию:
«Мадам, ваш сын умер без кандалов. Он принял смерть мужественно в море, вдали от жандармов и тюрьмы. Он умер свободным в доблестной борьбе за свою свободу. Мы обещали друг другу известить наши семьи, если с одним из нас произойдет несчастье. Я выполняю этот печальный долг перед вами и по-сыновьи целую ваши руки. Друг вашего сына Папийон ».
Выполнив свой долг, я решил не думать больше о том кошмаре. Жизнь есть жизнь. Надо выбраться из дурдома, любой ценой попасть на остров Дьявола и организовать новый побег.
Один багор назначил меня садовником в свой огород. Вот уже два месяца, как я веду себя хорошо и добился в работе таких успехов, что этот кретин не хочет меня отпускать. Парень из Оверни сказал, что во время последнего обхода врач хотел меня выписать и перевести из психушки в лагерь на испытательный срок. Багор воспротивился под предлогом, что его огород никогда раньше так заботливо не возделывался.
Поэтому сегодня утром я вырвал с корнем всю клубнику и побросал ее в мусорную кучу. А вместо каждого куста клубники поставил маленький крест. Сколько кустов – столько и крестов. Можете себе представить, какой разразился скандал?! Жирная туша охранника чуть не лопнула от негодования. Брызжа слюной и захлебываясь, он пытался говорить; он словно подавился собственными словами. Тяжело опустив задницу на тачку, он в конце концов залился горючими слезами. Я, кажется, немного переборщил, но что делать?
Доктор считает, что ничего страшного не произошло. Этого больного, настаивает он, надо перевести в лагерь на испытательный срок. Только там он сможет реадаптироваться к нормальной жизни. Лишь в огороде от одиночества ему могла взбрести в башку столь странная идея.
– Скажи, Папийон, почему ты вырвал клубнику, а на ее место поставил кресты?
– Не могу объяснить свой поступок, доктор, но я извиняюсь перед инспектором. Он так любил клубнику, что я искренне и безутешно переживаю. Я буду молить Господа нашего ниспослать ему еще клубники.
И вот я в лагере и снова с друзьями. Место Карбоньери пустует. Я подвешиваю свою койку рядом с этим пустующим местом, как если бы Матье был со мной рядом.
Доктор велел мне пришить на куртку такую бирку: «Под особым наблюдением». Никто, кроме врача, не может отдавать мне приказания. Он назначил меня убирать листья перед больницей с восьми до десяти утра.
Я выпил кофе и выкурил несколько сигарет, сидя в кресле перед его домом в компании самого доктора и его супруги. Доктор пытается меня разговорить о моем прошлом, ему помогает жена.
– А что случилось потом, Папийон? Что с вами произошло, когда вы покинули индейцев – охотников за жемчугом?..
Беседы ведутся после полудня, когда я навещаю этих замечательных людей.
– Всегда приходите к нам, Папийон, – говорит супруга доктора. – Во-первых, мне хочется вас видеть, а во-вторых, послушать ваши рассказы.
Каждый день я бываю у них по несколько часов. Чаще они разговаривают со мной вдвоем, иногда – только жена. Они считают, что беседы о прошлом помогут мне восстановить умственное равновесие и укрепят здоровье. Я решаюсь попросить доктора отправить меня на остров Дьявола.
Сказано – сделано. Завтра я отбываю. Доктор и его жена знают причину моего отъезда. Они были настолько добры ко мне, что я не решился на обман.
– Доктор, я не в силах больше терпеть каторгу. Пошлите меня на остров Дьявола, откуда я смогу бежать или погибну при попытке к бегству. Надо прийти к какому-то концу.
– Понимаю тебя, Папийон. Эта репрессивная система ужасна. Администрация, все службы прогнили насквозь. Прощай! И желаю удачи!Тетрадь десятая Остров Дьявола
Скамья Дрейфуса
Этот остров самый маленький из трех в составе островов Салю. И самый северный, наиболее открытый ветрам и волнам. Суша, узкой полоской идущая вдоль всего острова на уровне моря, поднимается затем круто вверх и образует плато. На нем расположен пост охраны и барак для каторжников, которых здесь не больше десятка. Официально сюда за обычные уголовные преступления не ссылают, остров предназначен для политических ссыльных.
Каждый такой ссыльный живет в отдельном домике под железной крышей. По понедельникам им завозят провизию на целую неделю и выдают по буханке хлеба на день. Политических набирается до тридцати человек. Медицинское обслуживание возложено на доктора Лежé, отбывающего здесь срок за то, что отравил всю свою семью в Лионе или где-то в его предместьях. Политические никак не общаются с обычными каторжниками. Иной раз они пишут жалобы на них в Кайенну, после чего того или иного уголовника возвращают на Руаяль.
Между Руаялем и островом Дьявола протянут железный трос, поскольку море бывает настолько бурным, что только с его помощью шлюпка может пристать к небольшому бетонному причалу.
Начальника охраны лагеря (а охранников всего трое) зовут Сантори. По сути, это грязная скотина с запущенной бородой: он бреется не чаще одного раза в неделю.
– Папийон, надеюсь, ты будешь вести себя хорошо. Не выводи меня из терпения, и я оставлю тебя в покое. Ступай в лагерь, там увидимся.
В бараке меня встретили шесть заключенных: два китайца, два негра, один парень из Бордо, другой из Лилля. С одним из китайцев я знаком, наши дороги пересекались в Сен-Лоране; он проходил по делу об убийстве. Он индокитаец, один из оставшихся в живых участников мятежа в Пуло-Кондоре – колонии каторжников в Индокитае.
Пират-профессионал, он нападал на китайские лодки-сампаны, иной раз убивая всю команду вместе с владельцем и его семьей. Очень опасный тип, но по меркам нашего общежития человек, достойный доверия и симпатии.
– Как дела, Папийон?
– Нормально. А у тебя как, Чан?
– Да-да. Здесь хорошо. Твоя ест со мной. Твоя спит рядом. Моя готовит пища день два раза. Твоя ловит рыба. Здесь много рыба.
Появился Сантори:
– Ну как, устроились? Завтра утром пойдете с Чаном кормить свиней. Чан будет носить кокосовые орехи, а вы будете разрубать их пополам. Небольшие и мягкие откладывайте отдельно: они пойдут поросятам, у которых еще нет зубов. Днем в четыре – то же самое. Работы всего на два часа: утром час и час днем. Остальное время делайте, что хотите. Каждый, кто ходит рыбачить, отдает мне на кухню ежедневно килограмм рыбы или несколько крабов. Итак, все будут довольны. Идет?
– Да, месье Сантори.
– Я знаю, что ты любишь бегать, но отсюда не убежишь. Поэтому я и не беспокоюсь. На ночь вас запирают, но мне известно, что некоторые бродят и по ночам. Держитесь подальше от политических. У них у всех тесаки. Когда ночью приближаешься к их домам, они думают, что ты идешь воровать курицу или яйца. Могут убить или ранить, потому что они тебя видят, а ты их нет.
На следующий день, накормив свиней – а их было более двухсот голов, – я бродил по острову в сопровождении Чана, знавшего его вдоль и поперек. По дороге, идущей вдоль берега, нам повстречался старец с длинной седой бородой. Им оказался журналист из Новой Каледонии, который в 1914 году в своих статьях ругал Францию с прогерманских позиций. Встретили мы также и того негодяя, который застрелил Эдит Кавелл, английскую или бельгийскую сестру милосердия, спасавшую английских летчиков в 1917 году. Этот разъевшийся пес отталкивающей наружности занимался тем, что бил палкой полутораметровую мурену, толстую, как бревно.
Доктор Леже, выполнявший роль санитара, жил также в одном из маленьких домиков, предназначенных только для политических заключенных. Во всей его высокой и мощной фигуре сквозила какая-то неряшливость и неопрятность, чего нельзя было сказать о лице, обрамленном шапкой седеющих волос, ниспадавших на шею и виски. Руки все в полузаживших ранах – следы, должно быть, встреч с острыми камнями в море.
– Если тебе что-то надо, заходи – я дам. Но если не болен, не ходи. Я не терплю посетителей, еще меньше люблю болтать. Я продаю яйца, иной раз кур и цыплят. Если тихонько зарежешь поросенка, принеси мне ляжку на окорок и получишь цыпленка и полдюжины яиц. Но раз уж ты зашел, вот тебе пузырек с таблетками от малярии. Здесь сто двадцать штук. Похоже, ты прибыл сюда, чтобы бежать, и, если каким-то чудом это тебе удастся, таблетки пригодятся в буше.
Теперь утром и вечером хожу на рыбалку. Ловится астрономическое количество рыбы. Три-четыре килограмма ежедневно отношу баграм в столовую. Сантори рад-радешенек: никогда ему еще не перепадало столько крабов и рыбы, да притом в таком ассортименте.
Вчера остров Дьявола посетил доктор Жермен Гибер. Море было тихим и ласковым. Он прибыл со своей женой и комендантом Руаяля. Мадам Гибер – первая женщина, ступившая на этот остров. По словам коменданта, гражданские здесь никогда не высаживались на остров. Мы беседовали с ней больше часа. Она прогулялась со мной и до скамьи, на которой, бывало, сиживал Дрейфус, глядя на море в сторону Франции, в сторону отвергнувшей его страны.
– Если бы этот гладкий камень мог рассказать нам о думах Дрейфуса… – сказала она, ласково погладив его рукой. – Папийон, мы с вами видимся сегодня в последний раз. Я это чувствую, ведь вы совсем недавно говорили, что собираетесь бежать. Я буду молиться за вас. Но перед тем, как вы решитесь, прошу вас, придите сюда, постойте у этой скамьи немного и, дотронувшись до камня, как это сделала сейчас я, попрощайтесь со мной.
Комендант разрешил мне в любое время посылать доктору крабов и рыбу. Сантори не возражает.
– До свидания, доктор. До свидания, мадам.
Я с грустью машу им рукой, перед тем как лодка отчаливает от берега. Мадам Гибер смотрит на меня, как бы желая сказать на прощанье: «Помни о нас всегда, и мы тебя тоже не забудем».
Скамья Дрейфуса находится на северном мысе острова, метров на сорок пять возвышаясь над уровнем моря.
Сегодня я не пошел на рыбалку: у меня в садке около сотни килограммов рыбы, а в железной бочке с полтысячи крабов. Можно и отдохнуть немного – хватит всем: и доктору, и Сантори, и нам с китайцем.
Шел 1941 год. Уже одиннадцать лет, как я в тюрьме. Мне тридцать пять. Лучшие годы жизни прошли либо в камере, либо в карцере. И только семь месяцев из них я дышал свободой среди индейцев. Детям моим, если им суждено было появиться на свет от моих жен-индианок, исполнилось уже восемь лет. Страшно подумать! Как быстро пролетело время! Но стоит оглянуться назад, сразу видишь, как невыносимо долго тянулись эти часы и минуты, они, словно острые шипы, рассеяны на моем пути на голгофу.
Тридцать пять! Где теперь Монмартр, Плас-Бланш, Пигаль, танцы в «Пти-Жарден», бульвар Клиши?! Где Ненетта с лицом мадонны? В зале суда ее большие черные глаза, как и тогда, смотрят на меня, в отчаянии она кричит: «Не волнуйся, милый! Я тебя найду!» Где Рэймон Юбер с его «Нас оправдают!»? Где эти вонючие присяжные, аж двенадцать человек? Где прокурор? Что стало с отцом и сестрами под немцами?
Столько раз бежать! А сколько? Что ж, давайте разберемся.
Первый раз я бежал из больницы, оглушив перед этим багров.
Второй раз – из Риоачи в Колумбии. Отличный побег, удавшийся до конца. Почему я ушел от индейцев? По телу пробежала любовная истома. Я снова погрузился в мир ощущений, испытанных мной, когда я занимался любовью с сестрами-индианками.
Затем третий, четвертый, пятый и шестой в Барранкилье. Сколько неудач! А во время мессы – какой провал! Динамит подкачал, Клузио зацепился штанами! Даже снотворное и то вовремя не сработало!
Седьмой на Руаяле, когда нас выдал этот выродок Бебер Селье. Если бы не его донос, нас бы точно ждала удача. Если бы он не квакнул, мы бы с Карбоньери уже давно были на свободе.
Восьмой, и последний, из дурдома. Ошибка, большая ошибка с моей стороны. Нашел кому доверить найти спуск к воде! Итальянцу! Ему бы спуститься всего на двести метров ниже, у скотобойни, – и то легче было бы отчалить.
Скамья Дрейфуса, человека, невинно осужденного и нашедшего в себе мужество не расстаться с жизнью, да сослужит она мне хорошую службу! Ни в коем случае не признавать себя побежденным! Настойчиво готовиться к новому побегу!
Да, этот гладко отполированный камень, нависший над раскрытым зевом скал, в котором непрестанно и сердито плещутся волны, должен придать мне сил и стать примером. Дрейфус боролся до конца. Правда, за него вступился Эмиль Золя в своем знаменитом памфлете «Я обвиняю!». И тем не менее, если бы Дрейфус не закалился в борьбе с несправедливостью, он наверняка бросился бы с этого камня в морскую пучину. Но он выдержал удар, и я должен сделать ничуть не меньше, причем из девиза «победить или умереть» надо вычеркнуть последнее слово. Только победить и быть свободным!
Долгие часы провожу я здесь, сидя на скамье Дрейфуса. Мысли блуждают и переносят меня в розовое будущее. Глаза слепит мощный свет солнца и платиновый отблеск от гребней волн. В такие минуты я смотрю на море и не вижу его. Но мне знакомы все мыслимые и немыслимые причуды гонимых ветром волн. Море без устали набрасывается на скалы, наиболее удаленные от острова. Оно их хлещет, рыщет вокруг и донага раздевает, как бы приговаривая: «Поди прочь, Дьявол! Не стой на моем пути к материку. Исчезни. Я разрушу тебя и разгрызу по кусочкам. Поди прочь, Дьявол!» Когда на море разыгрывается шторм, оно в своей восторженной стихии со страшной силой обрушивается на скалы, не только разрушая и размывая их, но и подтачивая снизу, врываясь во все уголки и расщелины этих гигантов, которые, в свою очередь, говорят: «Здесь не пройдешь».
Тогда-то я и сделал для себя важное открытие. Как раз под скамьей Дрейфуса два огромных горбатых камня образуют подкову от пяти до шести метров шириной, посередине которой поднимается утес. Масса воды, накатываемая волной и обжимаемая подковой, не разбегается в стороны, а вся целиком отступает назад, в море.
Почему это так важно? Если броситься в воду с мешком кокосовых орехов как раз в тот момент, когда волна заполняет подкову, она обязательно подхватит меня и, откатываясь, вынесет в море.
Я знаю, где можно достать джутовые мешки – их сколько угодно в свинарнике, мы в них собираем кокосовые орехи.
Прежде всего надо проделать опыт. Самые сильные приливы и высокие волны – в период полнолуния. Его и следует подождать.
Прочный джутовый мешок, заполненный сухими кокосовыми орехами, был спрятан кем-то в гроте, куда можно было проникнуть, только нырнув под воду. Этот грот я обнаружил однажды, когда охотился за лангустами: великое множество их устроилось на своде грота, в который поступал воздух только во время отлива. К мешку с кокосами я привязал другой мешок, положив в него камень килограммов на тридцать пять – сорок. Поскольку я собирался отправиться в плавание на двух мешках, а не на одном, то, учитывая, что мой вес равен семидесяти килограммам, я полагал, что все пропорции будут выдержаны.
Предпринятый эксперимент заставил меня здорово поволноваться. Эта часть острова наиболее подходящая для успешного выполнения задуманного предприятия. Никому и в голову не могло бы прийти, что кто-то рискнет бежать отсюда, поскольку это самый открытый для волн участок и на первый взгляд самый опасный.
И все-таки это единственное место, откуда, если удастся оторваться от берега, меня вынесет в открытое море и не прибьет к Руаялю. Поэтому именно отсюда и надо бежать.
Мешки с кокосовыми орехами и камнем очень тяжелые, и мне одному их не унести. И нельзя мешки тащить волоком: могут порваться. Кроме того, скалы скользкие и липкие и постоянно окатываются водой. Я поговорил с Чаном, и он вызвался мне помочь. Чан прихватил с собой рыболовные снасти, в основном донки и наживку: если нас неожиданно прихватят, можно будет сказать, что мы собираемся ловить акул.
– Так, Чан, еще немножко. Вот и хорошо.
Полная луна освещала место действия. Кругом все видно, как днем. Шум от дробящихся о камни волн оглушает.
– Готов, Папийон? – спрашивает Чан. – Бросай.
Волна метров пять высотой вздыбилась, яростно обрушилась на скалу и разбилась под нами. Однако удар волны так силен, что гребень ее выплеснулся наверх и окатил нас с ног до головы. Но это не помешало нам бросить мешок именно в тот момент, когда вода достигла самой высокой отметки, готовясь осесть и отхлынуть назад. Мешок, словно соломинку, выкинуло в море.
– Смотри, Чан, он поплыл? Прекрасно!
– Подожди, несет обратно.
Я оцепенел от ужаса. И пяти минут не прошло, как мой мешок уже возвращался обратно на гребне крутой семи-восьмиметровой волны. Он летит, как пушинка, словно нет в нем ни орехов, ни камня. Волна несет его чуть спереди пенного барашка и с невероятной силой бросает на скалу немного слева от того места, где он был сброшен. Мешок лопнул, высыпались орехи, а камень с ворчанием покатился вниз и исчез под водой.
Промокнув до нитки (волны окатывали нас снова и снова, едва не сбивая с ног, но, к счастью, в направлении к берегу), подавленные и побитые, мы с Чаном выбираемся побыстрее из этого злосчастного места и спешим без оглядки в лагерь.
– Нехорошо, Папийон. Нехорошо бежать с Дьявола. Лучше Руаяль. И с южной стороны легче бежать, чем отсюда.
– Да, но на Руаяле побег обнаружится максимум через два часа. У меня надежда только на волны, поскольку мешок не ахти какое плавсредство, а на Руаяле три лодки, и беглеца могут спокойно перехватить. А здесь, для начала, нет лодок, и потом вся ночь впереди, пока спохватятся, что меня нет. И наконец, могут подумать, что я утонул, когда рыбачил. На Дьяволе нет телефона, и во время шторма лодка не может пристать к острову. Так что бежать надо только отсюда. Но как?
В полдень солнце в зените. Тропическое солнце, от которого возникает ощущение, будто мозг закипает у тебя под черепом. Солнце, под которым вянет любое растение, успевшее проклюнуться из земли, но не сумевшее подняться и окрепнуть, чтобы ему сопротивляться. Солнце, от которого за несколько часов пересыхает мелкий бочаг с морской водой и от него остается только тонкая пленка сели. Солнце, от которого дрожит воздух. Да, воздух колышется, и жаркое марево плывет перед глазами, отражаясь в море и выжигая зрачки. И все же я упорно продолжаю сидеть на скамье Дрейфуса – даже такое солнце не может помешать мне заниматься изучением моря. Вот тут-то меня и осенило: какой же я все-таки набитый дурак!
Тот крутой вал, который был выше других волн в два раза и который выбросил на скалы и разнес в клочья мой мешок, следовал за каждой шестой волной.
С полудня до заката изучал я этот механизм; мне хотелось точно установить, не нарушается ли данная периодичность и не изменяется ли при этом форма и размеры гигантской волны.
Нет, ни разу мой «седьмой» вал не пришел ни до, ни после. Сначала идут шесть обычных волн шестиметровой высоты, а за ними, седьмая по счету, катится огромная крутая волна, сформировавшаяся в трехстах метрах от берега. Она надвигается как стена. По мере приближения волна растет, увеличивается в размерах. В отличие от шести предшественниц, на ее гребне нет пены. Ну, может быть, чуть-чуть. Но шум у нее особый: он напоминает раскат грома, затухающего вдали. Столкнувшись с горбатыми скалами, она бросается в проход между ними, натыкается на утес и задыхается в многочисленных вихрях и водоворотах. Масса воды, гораздо большая, чем у других волн, прокручивается несколько раз в каменном котле, прежде чем через десять-пятнадцать секунд устремиться обратно в море, увлекая за собой огромные валуны и осколки скал. Грохот поднимается такой, как если бы с сотен повозок, доверху заполненных камнями, разом сбросили весь этот груз.
Я положил в свой мешок с десяток кокосовых орехов, туда же засунул камень килограммов на двадцать и бросил мешок в воду, как только волна коснулась скал.
Я не смог проследить за ним глазами из-за белой пены, и только на какую-то секунду он мелькнул передо мной уже на выходе в море. Мешок не вернулся. Шесть последующих волн были недостаточно сильными, чтобы выбросить его на берег. Он, должно быть, проскочил и то место, где зарождалась седьмая, поскольку я его больше не видел.
Я возвратился в лагерь довольный и радостный. Появилась надежда. Просто здорово. Найден совершенный способ спуска на воду! Спокойно, не сломай шею! Надо еще раз проверить и перепроверить на более серьезном уровне, приближенном к реальным условиям побега. Два мешка с кокосовыми орехами, прочно спаренные между собой. Сверху семьдесят килограммов груза. Это могут быть два или три камня. Обо всем я рассказываю Чану, моему приятелю из Пуло-Кондора. Он слушает мои объяснения, навострив уши.
– Хорошо, Папийон. Мне кажется, ты нашел способ. Я помогу проверить. Надо дождаться большого прилива. Восемь метров. Скоро наступит равноденствие.
Мы с Чаном решили воспользоваться приливом весеннего равноденствия, чтобы забросить два мешка с орехами и тремя камнями в мою замечательную седьмую волну.
– Как зовут девочку, которую ты плавал спасать на Сен-Жозеф?
– Лизетта.
– Назовем волну Лизетта, она тебя унесет отсюда. Так?
– Так.
Приближение «Лизетты» сопровождалось таким шипением и шумом, какой издает скорый поезд, прибывающий на станцию. Волна зародилась примерно в двухстах пятидесяти метрах от берега, она надвигалась, словно отвесный утес, увеличивалась в размерах с каждым мгновением. Зрелище было поистине впечатляющим. Удар оказался настолько сильным, что нас с Чаном сбило с ног, а мешки сами собой полетели в кипящую бездну. В последнюю долю секунды мы сообразили, что нам на скале не удержаться, и мы тут же, как по команде, из неудобного лежачего положения отпрянули назад. Это нас спасло: со скалы не смыло, но окатило с ног до головы. Опыт мы проводили в десять часов утра. Никакая опасность нам не угрожала, поскольку трое багров были заняты приемкой продуктов на другом конце острова. Мешки благополучно вынесло в море: мы их ясно увидели вдали от берега. Удалось ли им проскочить то место, где зарождаются волны? У нас нет точного ориентира, чтобы знать, где начинается безопасный водораздел. Шесть волн, последовавших за «Лизеттой», вернулись ни с чем. Значит, не зацепили. Вот снова катится «Лизетта», врывается в скалы, но и она ничего с собой не принесла. Должно быть, мешки уже оказались по другую сторону, там, где волны не имеют над ними никакой власти.
Чтобы увидеть их еще раз, спешим к скамье Дрейфуса, и, к нашей радости, это удается: наши мешки четыре раза промелькнули перед нами далеко-далеко в дикой пляске на гребнях волн, которые понесли их не к Дьяволу, а прочь от него, на запад. Несомненно, опыт удался. Значит, скоро я отправлюсь на спине «Лизетты» в захватывающее путешествие.
– Вон она, посмотри! Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая… «Лизетта»!
Море всегда неспокойно у скамьи Дрейфуса, сегодня же оно явно не в духе. «Лизетта» надвигается с характерным для нее шумом, но мне кажется, что сейчас она больше, чем обычно. И воды гораздо больше у основания. Вся эта огромная масса точнее и сильнее обычного бьет по скалам. А когда волна разбивается вдребезги, она оглушает больше прежнего.
– И ты говоришь, что нам придется здесь нырнуть? Ну и местечко ты выбрал, приятель. Ну нет! Мне не подходит. Конечно, я хочу бежать, но не такой же ценой. Это явное самоубийство!
Я представил «Лизетту» Сильвену, и она произвела на него неизгладимое впечатление. Он уже три дня обретается на Дьяволе, и, разумеется, я предложил ему бежать вместе. Каждый на своем плоту. Если он примет мое предложение, у меня будет надежный товарищ на материке, чтобы продолжить побег. В буше одному совсем не весело.
– Не пугайся раньше времени. Конечно, эта идея кого хочешь приведет в изумление. Но только эта волна способна отнести достаточно далеко от берега, а у следующих за ней волн нет такой силы, чтобы выбросить плот на скалы.
– Не волнуйся, – вступил в разговор Чан, – мы проверяли. Как твоя поплыть – уже Дьявол не вернуться. И Руаяль тоже.
Потребовалась неделя, чтобы убедить Сильвена. Крепкий парень, одни мускулы, рост метр восемьдесят, сложен пропорционально – настоящий атлет.
– Ну хорошо. Допустим, нас отнесет далеко. Но сколько же пройдет времени, прежде чем нас прибьет к материку?
– Откровенно говоря, Сильвен, не знаю. Чуть больше, чуть меньше – все будет зависеть от погоды. Ветер большой роли не играет, поскольку мы почти распластаемся на воде. А при плохой погоде волны будут выше и нас быстрее пригонит к бушу. Через семь, восемь, максимум десять приливов прибьемся к берегу. С учетом состояния воды между приливами и отливами потребуется от сорока восьми до шестидесяти часов.
– Как ты рассчитал?
– От островов до материка по прямой не более сорока километров. Мы будем дрейфовать по гипотенузе прямоугольного треугольника. Посмотри на направление волн. Грубо говоря, нам придется проплыть сто двадцать – сто пятьдесят километров. По мере приближения к берегу отклонение будет уменьшаться, и волны понесут «нас почти по прямой. По моей прикидке, скорость дрейфа у здешнего берега около пяти километров в час.
Сильвен смотрел на меня и внимательно слушал. Он тоже умеет соображать.
– Вижу: знаешь, о чем говоришь. Если бы не отливы и не потеря времени при выходе в открытое море, мы могли бы покрыть это расстояние и за тридцать часов. А так, я полагаю, ты прав: потребуется сорок восемь – шестьдесят.
– Значит, убедился? Пойдешь со мной?
– Почти убедился. Положим, мы с тобой уже в буше на материке. Что дальше?
– Нам нужно будет добраться до предместий Куру. Там есть приличная рыбацкая деревня, в которой вместе с рыбаками живут собиратели каучука и старатели. Но не следует забывать и о мерах предосторожности, поскольку там же расположен лагерь лесорубов, в котором работают заключенные. Наверняка к Кайенне или китайскому лагерю Инини ведут лесные дороги. Мы захватим какого-нибудь зэка или чернокожего из гражданских и заставим его проводить нас до Инини. Если парень поведет себя хорошо, дадим ему пятьсот франков – и пусть катится на все четыре стороны. А если это будет зэк, уговорим его бежать с нами.
– Зачем нам в Инини? Это же спецлагерь для индокитайцев.
– Там брат Чана.
– Да, мой брат там. Он пойдет с вами. Найдет лодка, найдет еда – все найдет. Ваша встречает Квик-Квик, он все есть для побега. Китаец никогда не доносит. Ваша найди любой аннамит [10] в буше, говори с ним, он скажет Квик-Квик.
– Почему ты называешь своего брата Квик-Квик? – спросил Сильвен.
– Не знаю, француз так звал – Квик-Квик. Берегись. Когда ваша будет рядом земля, там много грязи. Не ходи грязь: грязь плохо – засосет. Жди еще прилив, плыви буш, хватай лиана, ветка, тяни. Иначе беда: ваша пропал.
– Это верно, Сильвен. В грязь не лезь, даже если ты совсем рядом с берегом. Как только сможешь ухватиться за ветки деревьев или лианы, тогда и вылезай.
– Хорошо, Папийон. Решено: бежим.
– Очевидно, сделаем два одинаковых плота: наш вес почти не отличается, поэтому нас не должно отнести далеко друг от друга. Само собой, нам надо договориться, как встретиться в случае, если мы потеряем друг друга. Куру отсюда не видать. Но вспомни: когда ты был на Руаяле, видел ли ты белые скалы километрах в двадцати справа от Куру? Меня интересует, ясно ли их видно, когда они освещены солнцем.
– Да.
– Так вот, это единственные скалы вдоль всего побережья. А вокруг справа, слева, вообще в море, насколько может охватить глаз, – топкая грязь. Белые пятна на скалах – птичий помет. Там их тысячи. Птиц никто не тревожит. Это отличное место для отдыха. Наберемся сил и двинемся в буш. Питаться придется яйцами и кокосовыми орехами, которые мы возьмем с собой. Никаких костров. Кто доберется туда первый, ждет второго.
– Сколько дней?
– Пять. Максимум пять дней: хватит за глаза и за уши, чтобы дождаться другого.
Вот и готовы оба плота. Мешки прочно спарены. Но я не стал спешить: предложил Сильвену задержаться дней на десять, чтобы как следует натренироваться в плавании на мешках. Много часов посвятил я этим занятиям. Сильвен тоже. Мы заметили, что требуется немало усилий, чтобы выправить и удержать в изначальном положении мешки, вот-вот готовые перевернуться. И вообще, мешки более надежны, когда на них лежишь, надо пользоваться любой предоставившейся возможностью. И боже упаси уснуть! Стоит только свалиться в море и потерять мешки – их уже не догнать. Чан сделал мне водонепроницаемый мешочек для сигарет и зажигалки. Повешу его на шею. Надо еще натереть орехи, по десять на брата. Возьмем с собой – очень помогает при голоде и жажде. У Сантори вроде есть бурдюк для вина, он им никогда не пользуется. Чан иной раз заходит к багру и при случае попытается его умыкнуть.
Побег назначили на воскресенье в десять вечера. Как раз полнолуние и восьмиметровый прилив. «Лизетта» наберет всю свою силу. Утром Чан один накормит свиней. Всю субботу и воскресенье я буду отсыпаться. Отчалим в десять, через два часа после начала отлива.
Мешки спарены надежно, им уж никак не разойтись. Они связаны прочным крученым канатом из пеньки и медной проволокой. Между собой они скреплены суровой ниткой, используемой для сшивки парусов. Мы нашли другие мешки, размером побольше, и вложили в них – горловина в горловину – те, что с орехами. Теперь орехи никуда не денутся.
Готовясь к побегу, Сильвен усиленно занимался гимнастикой, а я часами простаивал в море, подставляя ноги небольшим волнам. Водный массаж при моем упорном сопротивлении волнам, пытавшимся свалить меня с ног, укрепил икры и бедра. Мышцы затвердели и стали железными.
Бродя по острову, я нашел в заброшенном колодце трехметровую цепь. Пропустил ее через связывающие мешки веревки. Приспособил болт, в паре с кольцом от цепи образовавший крепежный замок, – это на случай, если не хватит больше сил держаться на мешках: можно привязываться. Вероятно, таким вот образом удастся и поспать на мешках без риска упасть в воду и потерять плот. Если мешки, не дай бог, перевернутся, я в воде очухаюсь и сумею выправить положение.
– Осталось три дня, Папийон.
Мы сидим на скамье Дрейфуса и наблюдаем за «Лизеттой».
– Да, Сильвен, три дня. Думаю, мы доведем дело до конца. А ты как считаешь, брат?
– Как пить дать! Во вторник вечером, в крайнем случае в среду утром, мы будем в буше. А там – ищи ветра в поле!
Чан собирается тереть орехи: по десять на брата. Вместо ножей берем два тесака – заблаговременно сперли их из кладовой для инвентаря.
Лагерь Инини лежит к востоку от Куру. Только ориентируясь на утреннее солнце, мы можем быть уверены, что идем в нужном направлении.
– В понедельник Сантори с ума сошел, – сказал Чан. – Моя не говорит до трех часов, что ты пропал и Папийона пропал. Моя говорит, когда багор отдыхает.
– А почему бы тебе не побежать к Сантори и не заявить, что нас смыло волной, когда мы ловили рыбу?
– Нет. Моя не хочет сложный вещь. Моя говорит: «Начальник, Папийон и Сильвен сегодня нет работать. Моя кормит один свиней». Говорю так, больше ничего не говорю.
Побег с острова Дьявола
Воскресенье. Семь часов вечера. Я только что проснулся. Завалился на боковую в субботу утром и все это время заставлял себя спать. На улице уже темно. Звезд на небе не много. Над головой проносятся большие дождевые облака. Мы только что покинули барак. Хотя это и не разрешалось правилами, мы часто рыбачили по ночам или просто бродили по острову, так что все к этому привыкли, как будто это было в порядке вещей.
В то же самое время в барак возвращался мальчик со своим любовником, толстенным арабом. Определенно, крутили любовь в каком-нибудь укромном местечке. Я видел, как они поднимали доску, чтобы проникнуть в помещение. Араб, находясь в обществе своего дружка и отлучаясь с ним по два-три раза в день, всем своим видом выражал, что счастлив до одури. Для него даже тюрьма, где есть возможность тешить свою похоть, могла превратиться в рай. Без всякого сомнения, нечто подобное чувствовала и «прорва». Мальчику двадцать три или двадцать пять. Конечно, не первой молодости и свежести, помят телом, далеко не томный юноша. Он постоянно прячется в тени и не вылезает на солнце, чтобы не потускнел молочно-белый цвет кожи. Но, несмотря на все его ухищрения, уже заметно, как он теряет прелести Адониса. И все же здесь, на каторге, у него такое количество любовников, о каком вряд ли он мог даже мечтать на свободе. Кроме милого дружка-араба, у него большая клиентура, готовая платить по двадцать пять франков за прием, как и у любой шлюхи на бульваре Рошешуар на Монмартре. К удовольствию, какое он получает от своих клиентов, добавляются еще деньги, достаточные для безбедной и уютной жизни с «муженьком». Эта пара и их клиентура добровольно погрязли в пороке, едва ступив на грешную каторжную землю. У них в башках крутится лишь одна мысль – секс.
Прокурор, выбирая наказание, явно прогадал, спустив их в сточную канаву: именно здесь, в канаве, они обрели подлинное счастье.
Доска закрылась за педерастом, и мы остались одни: Чан, Сильвен и я.
– Пошли.
Мы быстро добрались до северного мыса острова. Вытащили оба плота из грота. Все трое уже промокли до нитки. Ветер, словно сорвавшись с цепи, ревет с характерным для взморья завыванием. Сильвен и Чан помогают мне втащить плот на вершину скалы. В последний момент я решил привязать запястье левой руки к веревкам мешка: страшно потерять его и оказаться в море без плота. Сильвен с помощью Чана поднялся на противоположную скалу. Луна уже высоко в небе, кругом все видно как на ладони.
Я обмотал голову полотенцем. Ждем, когда прокатятся шесть волн. Это больше получаса.
Чан подошел ко мне и стал рядом. Вот он обнимает и целует меня в шею. Он намеревается примоститься в уступах камней и, придерживая меня за ноги, помочь мне выдержать удар «Лизетты».
– Еще одна, – кричит Сильвен, – а затем наша! И поехали!
Стоя перед плотом, он защищает его от огромной массы воды, готовой обрушиться и смыть со скалы это хлипкое суденышко вместе с человеком. Я занял такую же исходную позицию, но мне легче – руки Чана крепко держат меня за ноги. Я чувствую, как он возбужден, ногти его впиваются мне в икры.
И вот «Лизетта» пришла за нами, высокая и прямая, как колокольня. Она разбилась о две скалы с обычным для нее оглушительным треском, обдав утес пеной и водой.
Мы бросились в воду почти одновременно. Сначала я, Сильвен за мной через долю секунды. «Лизетта» подхватила беглецов вместе с плотами, почти прижатыми друг к другу, и с головокружительной скоростью вынесла в море. Не прошло и пяти минут, как нас от берега уже отделяло более трехсот метров. Сильвен еще не успел забраться на плот, а мне удалось оседлать свой через две минуты. Чан поспешил к скамье Дрейфуса, откуда стал усиленно махать нам вслед куском белой материи. Так он прощался с нами. Прошло еще пять минут после того, как мы миновали опасную зону, где зарождались волны, устремлявшие свой бег к острову Дьявола. А те, что несли нас прочь от него, были гораздо длиннее. На них почти отсутствовала пена. Они накатывались с удивительной периодичностью, и наши плоты как бы составляли с ними единое целое. Нас не швыряет и не подбрасывает, а плоты не грозят опрокинуться. Огромные водяные валы плавно поднимают и опускают их, медленно вынося со взморья в открытое море. Отлив.
Еще раз, поднявшись на гребень волны, я оглянулся и едва различил белый платок Чана. Сильвен плывет впереди совсем недалеко от меня – в каких-то пятидесяти метрах. Время от времени он поднимает руку и машет мне в знак победы.
Ночь проплыли легко. Ясно чувствуется, как море меняет направление. Сначала отлив отогнал нас от островов, а теперь прилив несет к материку.
Солнце поднялось над горизонтом: шесть часов. С поверхности моря разглядеть побережье не удается. Но можно с уверенностью сказать, что мы очень далеко от островов. Хотя их вершины освещены солнцем, они едва различимы: три острова как бы слились в один. Исходя из этого, делаю заключение, что до них около двадцати пяти километров.
Радость успеха и одержанной победы настроила меня на веселый лад. Я рассмеялся. А не попробовать ли плыть на плоту сидя? Ветер тогда будет дуть в спину и ускорит продвижение вперед.
Задумано – сделано, и вот я уже сижу, сняв цепь с запястья и пропустив ее с одним перехлестом через поясной ремень. Болт хорошо смазан, поэтому гайка завинчивается легко. Поднял ладони вверх, чтобы обсохли на ветру. Решил выкурить сигарету. Закурил. Делаю первые поспешные и глубокие затяжки и медленно выпускаю дым. Страх прошел. Не стоит долго рассказывать вам о болях в животе, которые я испытывал перед броском в море и в первые минуты плавания на плоту. Да, страх прошел, и я настолько успокоился, что после сигареты решил подкрепиться мякотью ореха. Съел полную горсть и зажег еще сигарету. Сильвен оторвался от меня довольно далеко. Время от времени мельком поглядываем друг на друга, когда оказываемся одновременно на гребне одной волны. Солнце с дьявольской силой печет голову. Кажется, под черепом вот-вот закипит мозг. Смочил полотенце и накрутил его на макушку. Снял свитер – даже при ветре в нем жарко и душно.
О боже! Мой плот перевернулся, и я едва не утонул. Хватил два больших глотка морской воды. Несмотря на все усилия, мне никак не удавалось перевернуть мешки и снова влезть на них. Всему виной цепь: она сковала мои движения. Отпустив ее на полную длину и сместив по поясу на бок, я наконец ухитряюсь вынырнуть рядом с мешками и жадно глотнуть воздуха. Делаю попытку полностью освободиться от цепи, но никак не могу нащупать гайку. Злюсь и нервничаю, и по этой причине, когда гайка нашлась, пальцы не слушаются – в них недостает силы, чтобы открутить ее.
У-у-ф! Наконец-то гайка поддалась! Какие неприятные минуты пришлось пережить! Я чуть было совсем не ошалел при мысли, что от цепи мне отделаться не удастся. Даже не удосужился перевернуть плот. Да и сил совсем нет – весь выдохся! Какая разница, если низ стал верхом? Никакой: все едино. И привязываться больше не буду – ни цепью, ни еще чем. Хватит глупостей – напривязывался и за кисть, и за пояс. Печального опыта уже достаточно.
Солнце нещадно обжигает мне руки и ноги. Лицо горит. Если его смочить водой, будет еще хуже: вода испарится, и жар будет еще нестерпимее.
Ветер почти стих, и плыть стало гораздо спокойнее: волны небольшие. Правда, упала скорость. Именно поэтому я предпочел бы и ветер, и шторм, но только не штиль.
Жуткая судорога стала сводить правую ногу. От дикой боли я закричал, как будто кто-то мог меня услышать. Вспомнил, как учила меня бабушка поступать в таких случаях: в местах судороги прочертить сильно прижатым пальцем крест – и она пройдет. Так я и сделал, но домашнее средство нисколько не помогло. Солнце уже клонилось к закату. Было приблизительно четыре часа дня – четвертый прилив по счету с момента побега. Этот прилив, как мне показалось, сильнее прежних гнал нас к материку.
Теперь я почти постоянно вижу Сильвена, как и он меня. Поскольку волны не так высоки, он редко скрывается из виду. Он снял рубашку и сидит на плоту голый по пояс. Сильвен делает мне какие-то знаки. Он плывет метрах в трехстах впереди, и я вижу, что он сильно отклонился от прямого курса, ведущего к материку. Кажется, он гребет руками: вокруг него взбилась легкая пена. Можно предположить, что он табанит, стараясь притормозить ход плота, чтобы я мог приблизиться к нему. Ложусь на мешки и погружаю руки в воду. Начинаю грести. Если он притормозит, а я поднажму, может, нам удастся сократить дистанцию между нами?
Все-таки хорошего напарника я выбрал для побега! Сильвен оказался прямо-таки на высоте! На все сто процентов!
Я перестал грести. Чувствую усталость. Следует поберечь силы. Захотелось подкрепиться, а для этого необходимо сначала перевернуть плот: ведь мешок с едой и бурдюк с пресной водой как раз внизу. И пить хочется, и проголодался. Губы потрескались и горят. Самый лучший способ перевернуть мешки – уцепиться за них руками с перевесом на один бок, противоположный ходу волны, а затем оттолкнуться ногами, как только плот поднимется на ее гребень.
После пяти попыток мне удалось рывком перевернуть его. Но я совсем обессилел и с трудом вскарабкался на свои мешки.
Солнце уже садилось за горизонт. Пройдет еще немного времени, и оно скроется совсем. Значит, сейчас около шести. Будем надеяться, что ночь не окажется слишком беспокойной, поскольку из-за долгого пребывания в воде я потерял много сил.
Напился я вволю, хорошенько приложившись к бурдюку Сантори, но перед этим съел две пригоршни ореховой мякоти. Очень довольный, я высушил руки на ветру, вытащил сигарету и с наслаждением затянулся. Перед наступлением темноты Сильвен помахал мне полотенцем, а я помахал ему в ответ: так пожелали мы друг другу спокойной ночи. Сильвен плывет на прежнем расстоянии от меня. Я сижу на плоту, вытянув ноги, и стараюсь как можно крепче выжать свитер, после чего натягиваю его на себя. Эти свитеры, даже мокрые, держат тепло, а без него при закате солнца чувствуется холод.
Ветер посвежел и подул сильнее. Только нижняя кромка облаков на западе отливала розовым светом. А кругом все погрузилось в полутьму, которая сгущалась с каждой минутой. На востоке, откуда дул ветер, облаков не было. Значит, дождя не предвидится.
Абсолютно ни о чем не думаю, разве только о том, как бы удержаться на мешках да не промокнуть больше, чем уже промок. Да еще подумываю, стоит ли привязываться к плоту на случай, если одолеет усталость, или не стоит подвергать себя опасности, какую уже пришлось пережить. И тут я обнаружил причину собственного невезения – слишком короткая цепь. Один конец ее замотан и перезамотан без всякой надобности в веревках и проволоках, что, естественно, съело полезную длину цепи. Надо переделать. Тогда у меня будет бóльшая свобода движений. Я заново закрепил цепь и привязал ее к поясу. На этот раз хорошо смазанная гайка сработала нормально – раньше я ее перезатягивал. Почувствовал себя более спокойно, а то ведь действительно страшно свалиться во сне в воду и потерять мешки.
Да, ветер крепчал, а с ним росли и волны; подъем стал выше, и глубже падение. Несмотря на большой перепад, плот вел себя безупречно.
Стало совсем темно. Небо усыпано мириадами звезд и созвездий, из которых ярче всех выделяется Южный Крест. Друга я не вижу. Наступившая ночь очень важна для нас: если ветер и дальше будет дуть с такой силой, то к утру мы успеем покрыть большое расстояние.
С продвижением ночи ветер все крепчал и крепчал. Из моря медленно всплывала красная луна. Но вот она просветлела, как только поднялась над горизонтом, и на ее поверхности обозначились характерные темные пятна, придавшие ей сходство с лицом.
Значит, перевалило за десять часов. Стало светлее. Луна поднималась все выше и выше, и свет ее становился все ярче. Засеребрились волны, и от их необычного блеска резало глаза. Но я был не в силах оторваться от этого зрелища и продолжал смотреть, превозмогая острую, как кинжал, боль. Глаза все еще горели от солнца и соленой воды, словно кто-то насыпал в них песку. «Ну хватит, нечего злоупотреблять», – внушал я сам себе, но ничего не мог поделать, кроме как взять и выкурить три сигареты подряд.
Плот ведет себя хорошо, вполне приспособившись к неспокойному морю. Его поднимает, опускает и легко раскачивает. Я больше не могу сидеть на мешках с вытянутыми вперед ногами: в неподвижной позе их чаще сводит судорога, я уже не в силах терпеть невыносимую боль.
Конечно же, меня постоянно обдавало снизу водой. Грудь чуть-чуть мокровата, но когда ветер высушил свитер, влага уже не впитывалась выше пояса. Резь в глазах нарастала. Я закрыл их и невольно задремал. «Ты не должен спать, старина!» Легко сказать – не должен, а как? Больше не выдержу. Вот черт! Я борюсь с этой ужасной дремой, и каждый раз, когда мне удается привести себя в состояние полного бодрствования, голову пронзает острая боль. Взял зажигалку. Время от времени прижигаю огнем то правую руку, то шею.
Меня вдруг охватило страшное беспокойство, от которого я никак не могу отделаться. Неужели усну? А если упаду в море, проснусь в холодной воде? Все-таки я правильно сделал, что привязался к мешкам цепью. Их нельзя потерять – в них вся моя жизнь. Как это глупо – свалиться в воду и не проснуться!
Я уже в течение нескольких минут плыву совершенно мокрый. Шальная волна пересекла дорогу другим и ударила справа. Она не только окатила плот, но и бросила его в сторону под две другие волны, которые и накрыли меня с головой.
Заканчивалась уже вторая ночь. Интересно, который час? Судя по луне, начавшей клониться к западу, было около двух или даже трех. Встречаем уже пятый прилив, а это значит, что мы провели в море примерно тридцать часов. Это даже полезно, что я насквозь промок: от холода сон как рукой сняло. Весь дрожу, но держусь настороже. Ноги задеревенели, поэтому я решил на них сесть. Двумя руками по очереди я завел ноги под себя. Может быть, в таком положении закоченевшие пальцы отойдут.
В этой позе я просидел довольно долго. Смена положения помогла, и я в результате почувствовал себя лучше. Великолепная луна освещала море. Я решил поискать Сильвена. Но свет бил прямо в глаза – уже близился заход луны, – и мне трудно было различить что-либо отчетливо. По правде говоря, я вообще ничего не видел. У Сильвена нечем даже привязаться к плоту, кто знает – там он или нет? Отчаянно пытаюсь отыскать его, но тщетно. Резко дует ветер, устойчиво, без порывов, что очень важно. Я так привык к его ритму, что совершенно слился с мешками, образуя с ними одно целое.
Долго и упорно осматриваю все вокруг. В голове вертится только одна мысль – найти приятеля. Высушив пальцы на ветру, я засунул их в рот и принялся свистеть что было мочи. Прислушался. Никакого ответа. Может быть, Сильвен не умеет свистеть? Не знаю. Не мешало спросить его об этом перед отплытием. В конце концов, не трудно было бы сделать и прихватить с собой пару свистков! Упрекаю себя, что не подумал об этом. Затем приставляю ладони рупором ко рту и начинаю кричать: «А-ууу! А-ууу!» В ответ только шум ветра и плеск волн.
Не выдержав, я встал на ноги, натянул цепь левой рукой и, удерживая равновесие, пропустил под собой пять волн, одну за другой. Когда плот взбирался на гребень волны, я стоял во весь рост, и только на спусках и подъемах присаживался на корточки. Ни справа, ни слева, ни спереди – ничего. Неужели он сзади? Но я стою и не решаюсь оглянуться назад. Единственное, что мне удается рассмотреть в лунном свете, – это темная полоска слева. Определенно лес.
Значит, днем я увижу деревья. Такая мысль придала мне силы. «Днем ты увидишь лес, Папи! Помоги, Господи, увидеть и друга!»
Я вытянул ноги, растер занемевшие пальцы. Затем решил обсушить руки и выкурить сигарету. Выкурил две. Сколько же сейчас времени? Луна стоит низко. Не помню, когда вчера она зашла. Закрываю глаза и стараюсь припомнить, вызывая в памяти картину первой ночи. Все тщетно. Ах да! Вспомнил и теперь ясно вижу: восход солнца четко уже обозначился на востоке, в то время как верхний краешек лунного диска на западе виднелся над горизонтом. Значит, сейчас около пяти. Луна все медлит окунуться в море. Давно исчез Южный Крест вместе с Малой и Большой Медведицами. И только Полярная звезда продолжает сиять ярче других звезд. Она одна царит в небесах.
Судя по всему, ветер усилился. Во всяком случае, он стал, если можно так выразиться, более упругим, чем ночью. Волны сейчас выше и глубже, гребни все в белых барашках, чего не было в начале ночи.
Уже тридцать часов, как я в море. Надо признать, что до сих пор дела шли скорее хорошо, чем плохо. А предстоящий день, по всей вероятности, готовит мне тяжелейшее испытание.
Вчера, пробыв на открытом солнце с шести утра до шести вечера, я сильно обгорел. Сегодня солнце снова достанет меня сверху, для меня это отнюдь не подарок. Потрескавшиеся губы ноют, а ведь еще не спала ночная прохлада. Глаза, как и губы, горят. С руками творится то же самое. По возможности, надо беречь их от солнца. Посмотрим, усижу ли я в свитере. Вокруг анального отверстия жжет и саднит ничуть не меньше. Но солнце тут ни при чем – всему виной вода и потертости от мешков.
И все же, брат, обгорел ты или нет, побег-то прошел успешно. Следует примириться со всеми неудобствами и даже, более того, подумать, где ты есть и что еще будет. Перспективы добраться живым до Большой земли весьма вероятны, скажем, на девяносто процентов, а это чего-нибудь да стоит, не так ли? Даже если ты доберешься совершенно лысым или полуживым, плата за подобное путешествие в сравнении с конечным результатом все равно не будет высокой. Учти также, что ты не встретил ни одной акулы. Неужто они все на каникулах? Говорят, дуракам везет, – значит, быть дураком не так уж и плохо. Ты и сам это видишь. Сколько на твоем счету уже побегов? Уж, кажется, все рассчитал, все приготовил, а чем все кончилось? Взять хотя бы этот, последний, что ни на есть наиглупейший: это только полному идиоту придет в голову набить два мешка кокосовыми орехами и бултыхнуться в море, отдав себя на волю ветра и волн. Несите, мол, к материку! Согласитесь, не надо ходить в школу, чтобы узнать, что плывущее бревно обязательно прибьет к берегу.
Если ветер и волны продолжат свою работу в том же духе, что и ночью, мы, без всякого сомнения, коснемся земли еще засветло.
За моей спиной наконец появляется тропическое чудовище. Его огненная мощь дышит одним желанием – сжечь все дотла. В два счета, едва только выкатившись из постели, оно разогнало лунный свет и дало ясно понять, кто тут хозяин и кто неоспоримый властелин тропиков. В мгновение ока ветер потеплел. Через какой-то час он будет горячим. По телу разливаются первые ощущения комфорта, мягкое тепло поднимается от пояса к голове. Сняв полотенце, замотанное на макушке тюрбаном, я подставил щеки первым лучам, как будто стоял у костра. Перед тем как испепелить меня, чудовище желает, чтобы я прочувствовал, что оно прежде всего источник жизни, а потом уж смерти.
Кровь побежала по венам быстрее, и даже в промокших и онемевших бедрах ощутился ее живительный ток.
Совершенно отчетливо вижу лес и даже отдельные вершины деревьев. Впечатление такое, что до него рукой подать. Как только солнце поднимется выше, встану на мешки и попытаюсь отыскать Сильвена.
Проходит меньше часа, а солнце уже высоко. Боже, оно уже припекает! Левый глаз заплыл и закрылся наполовину. Протер его, зачерпнув пригоршню воды. Защипало. Снял свитер: посижу немного нагишом, пока еще не совсем припекло.
Мощная упругая волна подхватывает меня снизу и приподнимает над остальными. А перед самым спуском с ее пенистого гребня я вдруг увидел своего приятеля. На какое-то мгновение он мелькнул передо мной, не заметив меня. Он сидит на плоту тоже голый. Не меньше чем в двухстах метрах от меня и чуть слева. Мы с ним почти на одной линии, поэтому я решил приблизиться к нему, воспользовавшись все еще сильным ветром. Натянув на руки свитер и подняв их вверх, зажал в зубах низ свитера. С таким парусом меня понесет быстрее, чем Сильвена.
Полчаса плыву под парусом. Зубы заболели: чтобы удержать свитер, приходится тратить много сил на борьбу с ветром, так и норовящим вырвать его изо рта. Вскоре, однако, я выдохся и оставил затею, но меня все-таки не покидало чувство, что плыл я гораздо быстрее, чем просто по волнам.
Ура! Только что заметил Сильвена. До него не более ста метров. Чем же он, однако, занят? Неужели его нисколько не волнует, где я и что со мной. Очередная волна выталкивает меня вверх, и я вижу его раз, второй и третий. Теперь я уже отчетливо вижу, что его правая рука, как козырек, приставлена к глазам – ага, рассматривает море! Да оглянись же назад, дуралей! И действительно, оглянулся, эх, жаль – ничего не увидел.
Я поднялся на ноги и свистнул. Волна в очередной раз выплеснула меня из самой глубины на гребень, и я снова увидел Сильвена. Он стоял на плоту, обратившись лицом в мою сторону. Сильвен помахал мне свитером. Затем мы еще раз двадцать поприветствовали друг друга таким манером, прежде чем снова уселись на мешки. Получилось так, что волны в удивительном ритме одновременно поднимали и опускали нас, и, очутившись на гребне, мы каждый раз салютовали друг другу. На вздыбе двух последних волн Сильвен протянул руку в сторону леса, который уже просматривался в деталях. Осталось не более десяти километров. Я потерял равновесие и шлепнулся задницей на плот. Еще бы! Увидеть друга и лес. Да еще так близко! Чувство огромной радости охватило меня. Я так расчувствовался, что даже разрыдался, как мальчишка. Сквозь слезы, очистившие глаза от гноя, я различаю тысячи мельчайших кристаллов всевозможных расцветок. В голове мелькает глупая мысль: церковные витражи. Сегодня с тобою Бог, Папи. Только среди стихий природы – океанского простора, ветра, бесконечных волн, огромных зеленых лесных массивов – осознает себя человек бесконечно крохотным существом в сравнении со всем окружающим. И только тогда, быть может, вовсе не ища Бога, он находит Его и притыкается к Нему. Не так ли и я, погребенный и проведший тысячи часов в мрачных подземельях, куда не проникал ни один луч света, чувствовал Его в темноте? И сегодня под лучами восходящего солнца, – восходящего, чтобы пожрать все слабое, не способное противостоять огненной силе, – я воистину прикоснулся к Богу: я почувствовал Его во всем – в себе и вне себя. Он даже прошептал мне на ухо: «Ты страдаешь, и тебя ждут еще страдания. Но на этот раз Я решил быть с тобой. Ты будешь свободным и победишь, Я обещаю тебе».
Я не получил религиозного воспитания, не ведал даже азбучных истин христианской религии. В своем невежестве я дошел до того, что не знал, кто был отцом Иисуса – плотник или караванщик – и действительно ли матерью Господа была Дева Мария. Никакое темное невежество, однако, не помешает обрести Бога тому, кто ищет Его. Он встретит Его и узнает в ветре, море, солнце, лесах, звездах и даже в рыбах, щедро посеянных Им на пропитание человеку.
Солнце поднялось быстро. Должно быть, сейчас около десяти утра. От пояса до головы я полностью высох. Смочил полотенце и замотал его на голове тюрбаном. Надел свитер, поскольку плечи, спину, руки сильно припекало. Даже ноги, больше всего находившиеся в воде, стали похожи на пару вареных раков.
Чем ближе побережье, тем сильнее притяжение к нему, и волны накатываются почти перпендикулярно линии берега. Лес просматривается уже довольно хорошо, это дает мне веское основание предположить, что за каких-то четыре-пять часов мы покрыли утром порядочное расстояние. Еще в свой первый побег я научился определять дистанцию. Если уже хорошо различаешь предметы, значит осталось не более пяти километров, а я сейчас отличаю даже деревья по ширине стволов. С высокого гребня я вижу огромное дерево: оно лежит поперек волн, а его листва полощется в море.
Дельфины и птицы! Не приведи господь, если дельфинам взбредет в голову позабавиться моим плотом. Мне доводилось слышать рассказы о том, что они имеют привычку толкать к берегу деревья-плывуны или людей. Последних они даже могут утопить носами из самых лучших побуждений помочь. Но, кажется, пронесло. Три или четыре дельфина только описывают круги из простого любопытства узнать, что же это такое. Меня они не трогают и плывут прочь. И на том спасибо!
Полдень. Солнце стоит прямо над головой. Определенно, хочет сварить меня заживо, приготовив крутой бульон. Глаза беспрерывно слезятся, с носа и губ слезла кожа. Волны стали короче. Яростно, с оглушительным грохотом несутся они к берегу.
Сильвен почти не пропадает из виду – он постоянно у меня перед глазами. Волны уже невысокие. Он поворачивается ко мне время от времени и машет рукой. По-прежнему на теле ничего, только полотенце на голове.
Да это уже не волны, скорее, широкие перекатывающиеся валы, устремленные к берегу. На их пути определенно лежит наносная гряда, о которую они дробятся с характерным шумом и, пенясь, мчатся дальше к лесу.
До берега не более километра. Я вижу белых и розовых птиц с аристократическими хохолками. Они прохаживаются туда и сюда, что-то выклевывая из грязи. Тысячи и тысячи птиц. Ни одна из них не взлетает выше двух метров. И то для того, чтобы не замочить и не запачкать дивное оперение. А пены полно, и море кругом грязно-желтого цвета. До суши уже так близко, что я различаю на стволах грязные полосы – следы высоких нагонных паводков.
Шум пенных валов не способен заглушить резкий многоголосый крик водоплавающих охотников. Хлюп! Хлюп! Задержка. Хлюп! Еще продвинулся на два-три метра. Плюх! Все – сел на мель. Не хватает глубины, чтобы двигаться к берегу. Судя по солнцу, уже два часа пополудни. С момента отплытия прошло сорок часов. Это было позавчера, в десять вечера, спустя два часа после начала отлива. Значит, отсчитали седьмой прилив, и то, что я на мели, вполне нормально: закончился отлив. В три часа начнется новый подъем воды. К вечеру я уже буду в лесу. Сейчас проверим цепь, чтобы не сорвало с мешков в самый опасный момент, когда валы понесутся над головой, а глубина еще будет недостаточной, чтобы сдвинуть плот с места. Два или три часа придется подождать, перед тем как снова оказаться на плаву.
Сильвен в каких-то ста метрах справа от меня и чуть впереди. Он смотрит в мою сторону и руками подает знаки. Кажется, он хочет что-то крикнуть, но в горле не хватает воздуха, чтобы выдавить звук, а то бы я его услышал. И пенные валы затихли позади, а мы застряли в грязи, и, кроме птичьего гама, ничего не слыхать. От меня до леса метров пятьсот, а от Сильвена сто или сто пятьдесят. Сильвен несколько ближе к берегу. Но что он делает, дуралей? Слез с плота и стоит. В своем ли он уме? Ни в коем случае идти вперед нельзя – увязнешь. И с каждым шагом будет засасывать больше и больше, и он уже не сможет вернуться к плоту. Хочу свистнуть, но никак не получается. В бурдюке осталось немного воды. Смочил горло и опять пытаюсь крикнуть и остановить его. Не могу выдавить из себя ни звука! Снизу поднимаются и лопаются на поверхности пузырьки газа. Только сверху запеклась тонкая корочка, а под ней – топкая жижа. Попадешься в нее – пиши пропало!
Сильвен поворачивается в мою сторону, смотрит и делает знаки, смысл которых до меня не доходит. Я же широко размахиваю руками, как бы желая сказать: «Не двигайся! Не уходи от плота! Тебе не добраться до леса!» Он сейчас стоит за мешками, и я не могу прикинуть, близко ли, далеко ли он от своего плота. Сначала мне показалось, что близко, и сто́ит только упасть плашмя, как можно за него зацепиться.
И вдруг я понял: Сильвен отошел достаточно далеко, его засосало, и он не в состоянии сдвинуться с места, чтобы вернуться к плоту. До меня донесся его крик. Я лег на мешки пластом, вогнал руки в грязь и принялся грести что было силы. Мешки сдвинулись с мертвой точки, и мне удалось проскользить на них по жиже более двадцати метров. Поднявшись на ноги, я увидел, что плот Сильвена больше уже не заслоняет обзор. Душераздирающая картина предстала передо мной: мой друг, мой дорогой брат и напарник стоял в грязи по пояс, и от плота его отделяло более десяти метров. Чувство ужаса вернуло мне голос, и я закричал: «Сильвен! Сильвен! Не двигайся! Ложись на живот! Если можешь, освободи ноги!» Ветер донес до него мои слова, он их услышал и в знак согласия кивнул. Я снова ничком бросился на плот и принялся взрывать грязь перед собой, заставляя мешки скользить вперед. Ярость придала мне сверхчеловеческие силы, и я продвигался к Сильвену довольно быстро, проделав таким образом еще метров тридцать. Правда, на это ушло больше часа, но до Сильвена было уже совсем близко – каких-то метров пятьдесят-шестьдесят. Я стал плохо различать, что творится вокруг.
Я сел. Руки, лицо и все тело были заляпаны липкой жижей. Попробовал вытереть левый глаз – брызги соленой воды вызвали сильную резь, глаз щипало, и я не мог им смотреть. От боли заслезился и правый, и это тоже сильно мешало. Наконец я увидел Сильвена. Он уже не лежал, а стоял по самую грудь в грязевой ванне.
Прокатилась первая волна. Буквально совершив прыжок через меня, она рассыпалась поодаль и стихла, смочив пеной грязевую чашу. Я даже не тронулся с места. Волна прошлась и по Сильвену, продолжавшему стоять в прежней позе. Мелькнула мысль: «Чем больше пронесется волн, тем жиже будет грязь. Надо во что бы то ни стало скорее добраться до него».
Меня охватила дикая ярость, какая бывает у животного, выводку которого грозит гибель. Словно мать, стремящаяся вырвать своего ребенка из опасности, бросился я на помощь своему другу и стал грести и разгребать, грести и разгребать липкий ил, чтобы побыстрей добраться до Сильвена. Он смотрит на меня без слов, не делая никаких движений, широко открытые глаза глядят прямо на меня, а мои – застыли на нем. Только не лишиться этого взгляда, не потерять из виду! Гребу, не обращая внимания, куда и как погружаются мои руки. Подался вперед совсем немного. Две набежавшие волны захлестнули меня с головой. Ил разжижился и превратился в текучую массу – продвигаться стало труднее, ход замедлился. Теперь он гораздо тише, чем час назад. Большой вал навалился сзади, едва не удушив и не стащив меня с плота. Я сел, чтобы оглядеться. Грязь уже доходила Сильвену до подмышек. Нас отделяли какие-то сорок метров. Сильвен безотрывно смотрел на меня, и глаза его выражали полную обреченность. Он понял, что ему суждено умереть, он, родной мой бедолага, знал, что погибает в трехстах метрах от земли.
Я снова распластался на мешках и воткнул руки в грязь – теперь уже не грязь, а просто жидкое месиво. Наши глаза словно прикованы друг к другу. Сильвен покачал головой, как бы говоря, что все бесполезно и не надо тратить усилий. Но я не сдаюсь и продолжаю свое дело. До него оставалось не более тридцати метров, как вдруг огромный вал обрушился на меня всей своей водяной массой, чуть не сорвав с плота и отбросив вперед на шесть или пять метров.
Вал проскочил, и я огляделся. Сильвен исчез. Поверхность грязевой ванны под тонким слоем пенистой воды была совершенно гладкой. Даже рука моего бедного друга не поднялась над ней, чтобы послать мне последнее прощай. Моя реакция на случившееся была совершенно скотской и отвратительной. Инстинкт самосохранения заставил меня преступить границы всякого приличия: «Ты жив! Жив! Но ты остался один! А в джунглях без поддержки друга не так-то легко будет продолжить побег. Он может сорваться».
Волна хлестко ударила в спину, приведя меня в чувство и призвав к порядку. Она согнула меня вдвое; сила удара была такова, что дыхание сбилось, и я в течение некоторого времени не мог очухаться. Плот продвинулся еще на несколько метров, и только тогда я заметил, что волна добежала до берега и замерла в деревьях. Вот тут-то я и разрыдался, оплакивая Сильвена: «Мы были уже так близко, если бы ты только не двигался! Меньше трехсот метров до деревьев! Ну зачем?! Скажи мне, зачем ты совершил эту глупость? И почему тебе пришло в голову, что сухая корка достаточно тверда и прочна, чтобы добраться по ней пешком до берега? Солнце? Отражение? Кто знает? Ты не мог больше вынести, да? Скажи мне, почему такой обстоятельный человек, как ты, не мог посидеть еще несколько часов в этом пекле?»
Валы с громовым треском беспрерывно следовали один за другим. Они стали теснее и выше. Набегая друг на друга, они каждый раз окатывают меня с ног до головы, приближая плот к зарослям, но пока еще не отрывая его от грязевой чаши. К пяти часам катящиеся валы превратились в обычные волны. Они оторвали меня наконец от мели, и я поплыл. Чувствуя под собой глубину, волны не производят почти никакого шума. Громовой треск прекратился. Плот Сильвена уже вошел в буш.
Меня слегка тряхнуло, и мой плот остановился метрах в двадцати от девственного леса. Когда волна схлынула, я снова оказался на грязной мели. Но я решил не слезать с мешков до тех пор, пока не ухвачусь руками за ветку дерева или лиану. Двадцать метров! Прошло еще больше часа, прежде чем подо мной образовалась достаточная глубина. Плот приподняло и понесло прямо к зарослям. Шумная волна буквально швырнула меня под деревья. Я отвинтил гайку и снял цепь. Но решил цепь не выбрасывать – авось еще пригодится.
В буше
Чтобы успеть до захода солнца, я, не мешкая, углубился в лес, продвигаясь где вплавь, где на ногах, поскольку местами здесь тоже топь и может засосать. Вода далеко проникла в заросли, и я еще не добрался до сухой земли, когда наступила ночь. Сильно пахнет гниющими растениями – хоть нос затыкай. Вонючий газ выделяется в изобилии, он ест глаза. Ноги путаются в стеблях, накрутилось много травы и листьев. Приходится еще и толкать перед собой плот. Каждый шаг я делаю осторожно, сначала пробуя, как держит почва под водой, и, только убедившись, что она не проваливается, иду дальше.
Первую ночь я провел на большом упавшем дереве. Каких только тварей не ползало по мне! Все тело горело, болели ушибы и ссадины. Надел свитер, подтянув перед этим плот к дереву и закрепив его обоими концами на стволе. Вся моя жизнь сейчас в мешках: стоит только вскрыть орехи – и пища готова. На орехах можно продержаться. К правому запястью привязал тесак. Устало растянулся в развилке дерева, образованной двумя ветвями, которые приготовили для меня большую нишу, где я устроился и заснул, ни о чем не думая. Нет, может быть, пробормотал раза два или три: «Бедный Сильвен», прежде чем провалиться, как в яму.
Меня разбудили крики птиц. Солнечные лучи стелились по земле, светя издалека, из-за деревьев. Должно быть, семь или восемь часов утра. Вокруг много воды, значит идет прилив. Пожалуй, это конец десятого по счету.
Уже шестьдесят часов, как я рванул с острова Дьявола. Не могу представить, далеко ли отошел от моря. Во всяком случае, как только спадет вода, надо вернуться на берег, чтобы обсушиться и погреться на солнце. У меня кончилась вся пресная вода. Осталось три горсти ореховой мякоти, которой я полакомился с большим удовольствием. Частью мякоти я протер обожженные солнцем места, ореховое масло успокоило боль. Затем выкурил две сигареты. Вспомнил о Сильвене, на этот раз без всякого эгоизма. Может, мне следовало бежать одному и не втягивать в это дело друга? Ничего страшного – и один бы справился и сумел бы о себе позаботиться. Большая печаль защемила сердце, и я закрыл глаза, как будто это могло помочь мне отмахнуться от страшной картины гибели Сильвена. Да, для него все уже кончено.
Надежно заклинив мешки в развилке, я вытащил сначала один орех. Всего мне удалось расколоть два ореха. И вот каким образом: повернувшись к дереву спиной я стал что было силы колотить орехи прямо о ствол между ног, пока не треснула скорлупа. Получилось лучше, чем тесаком. Я съел один орех полностью и запил сладким-пресладким соком, которого в орехе оставалось совсем немного. Отлив закончился быстро, вода спала; плотная грязь держала хорошо, когда я отправился к берегу моря.
Ярко светит солнце. И море сегодня красоты необыкновенной. Долго смотрю на то место, где предположительно исчез Сильвен. Обмылся морской водой, которая собралась в ложбинке. Обсушился. Вскоре высохла и одежда. Выкурил сигарету. Бросив последний взгляд на могилу друга, я возвратился в лес, шагая на этот раз без всякого труда. Взвалив плот на плечо, я медленно двинулся вперед сквозь заросли. Через два часа я наконец-то выбрался на сухой участок земли, который никогда не затоплялся. На стволах деревьев никаких признаков, что сюда могли добираться приливы. Здесь я решил устроить привал и сутки отдохнуть. Потихоньку буду колоть орехи и складывать в мешочек, чтобы всегда иметь пищу под рукой. Можно было бы развести костер, но я подумал, что лучше этого не делать.
Прошел день и прошла ночь без всяких приключений. Птичий гам разбудил меня на восходе солнца. Доколол орехи и с небольшой поклажей через плечо отправился на восток.
К трем часам пополудни вышел на тропинку. Ею, должно быть, пользуются сборщики балаты (натурального каучука), лесорубы в поисках делянок или даже старатели. Тропинка прямая и чистая – не валяется ни ветки, ни сучка. Похоже, ходят по ней часто. То тут, то там встречаются отпечатки копыт осла или неподкованного мула. В засохшей грязи видны следы человека, особенно заметна вдавленность от большого пальца. Шел, пока не наступила ночь. На ходу жевал орехи, они заглушали голод и в то же время утоляли жажду. Хорошо разжеванные, обильно смоченные слюной и собственным маслом, орехи представляют собой отличную мазь. Несколько раз я натирал ею губы, нос и щеки. Глаза слезятся, слипаются от гноя. Промываю их пресной водой, как только представляется возможность. В мешочке, кроме орехов, лежит герметичная коробка, в которой имеется кусок мыла, бритвенный станок, дюжина лезвий и кисточка для бритья. После морского плавания все осталось в целости и сохранности.
Иду по тропинке с тесаком в руке, однако в дело его пускать не приходится, поскольку путь свободен и никаких препятствий нет. Про себя отметил: на деревьях по обеим сторонам тропки виднеются почти свежие срезы веток. Ходит, ходит здесь народ, надо держаться осторожней.
Здешний буш совсем не тот, что встретился мне во время первого побега из Сен-Лоран-дю-Марони: двухэтажный и не такой густой, как на Марони. Первый уровень – подлесок высотой около пяти-шести метров, а второй – уже верхний свод, отстоящий от земли метров на двадцать и выше. Справа от тропинки еще день, а слева уже почти темно.
Продвигаюсь быстро. Иной раз пересекаю открытые места – участки, выжженные лесным пожаром, результат деятельности человека или удара молнии. Сверяю свой путь по солнечным лучам. Угол падения говорит о том, что до захода солнца осталось совсем немного. Я иду на восток. Там должны быть негритянская деревня Куру и лагерь для заключенных с тем же названием.
Вот-вот опустится ночь, а ночью идти нельзя. Надо зайти в лес подальше и отыскать уголок для ночлега.
Углубившись в буш метров на тридцать от тропинки, я устроил себе ложе из гладких широких листьев, которые срубил тесаком с дерева, напоминавшего банановое. Листьями же я и укрылся. Получилась сухая и удобная постель. Похоже, дождя не будет, – значит, ночь скоротаю. Выкурил две сигареты.
Особой усталости не чувствуется. Благодаря кокосовым орехам, я вполне сыт, но во рту пересохло и почти не выделяется слюна.
Началась вторая часть побега, и вот уже третью ночь я провожу на Большой земле без всяких неприятных происшествий.
Ах! Если бы рядом был Сильвен! Но нет со мной моего брата, и ничего не поделаешь. А нуждался ли ты в своей жизни в чьей-либо помощи и поддержке? Капитан ты или солдат? Не дури, Папийон. Потеря друга – это вполне понятное горе. Ты остался в буше один, но не стал от этого слабее. Далеко позади лежат острова Руаяль, Сен-Жозеф, остров Дьявола – прошло шесть дней, как ты их покинул. Куру, должно быть, оповестили. Сначала предупредили багров из лагеря лесорубов, а потом – черных из деревни. Там еще должен быть пост жандармерии. Благоразумно ли идти к деревне? Я ничего не знаю об этой местности. Лагерь расположен где-то между деревней и рекой. Вот и все, что мне известно о Куру.
Еще на Руаяле я решил перехватить первого встречного, чтобы заставить его довести меня до Инини, лагеря для китайских заключенных, в котором сидит Квик-Квик, брат Чана. Зачем менять план? Если на Дьяволе думают, что мы утонули, тогда бояться нечего. А если нет, если они убеждены в том, что это побег, тогда Куру представляет большую опасность. А раз лагерь лесорубов, то наверняка там козлов-арабов до черта, этих ищеек, в любую секунду готовых устроить охоту на человека. Берегись, Папи! Не делай ошибок! Не попадись на мякине! Хорошенько присмотрись к встречному, кто бы он ни был, и только потом открывайся. Вывод: по тропке идти нельзя – только по бушу, параллельно дороге. Ты сегодня уже совершил грубейшую ошибку, когда несся по тропке как очумелый, с тесаком в руке. Грозное оружие – что и говорить! И все это не от безумия, а от дурости! Итак, завтра пойдешь по бушу.
Я проснулся рано, разбуженный криком птиц и животных, приветствовавших восход солнца. В общем, поднялся вместе с джунглями. Для меня начинался новый день. Проглотил горсть ореховой мякоти. Смазал лицо и отправился в путь.
Иду рядом с тропинкой, скрываясь от посторонних глаз. Продвигаюсь с трудом. Ветки деревьев и лианы не так густы, но, чтобы протиснуться вперед, их приходится раздвигать. Хорошо, что свернул с тропинки, – очень скоро услышал насвистывание. Тропка метров на пятьдесят идет прямо, но свистуна я пока не вижу. А вот и он. Черный-пречерный негр. В правой руке ружье, а на плече поклажа. Рубашка цвета хаки, шорты, идет босиком, наклонив голову, не отрывая глаз от земли. Спина согнулась под тяжелой ношей.
Я спрятался за большое дерево. Открыв нож, я замер у самой тропинки, дожидаясь, когда он со мной поравняется. Вот негр прошел мимо дерева, и в ту же секунду я бросился на него. Правой рукой я схватил его за руку, в которой он нес ружье, и вывернул ее – ружье упало.
– Не убивайте меня! Сжальтесь, ради бога!
Негр продолжает стоять с приставленным к горлу ножом. Наклонившись, я поднял ружье – старенькое ружьишко, которое, несомненно, было набито порохом и дробью по самое дуло. Я взвел курок и, отступив шага на два, сказал:
– Бросай поклажу. И не вздумай бежать. Убью, как падаль.
Перепуганный черный повиновался. Затем он посмотрел на меня:
– Вы беглый?
– Да.
– Чего вы хотите? Берите все, что у меня есть. Но только не убивайте. У меня пятеро детей. Прошу вас, сжальтесь, не убивайте меня.
– Замолчи. Как тебя зовут?
– Жан.
– Куда идешь?
– Несу продукты и лекарство своим братьям. Их двое. Они рубят лес.
– Откуда идешь?
– Из Куру.
– Ты что, там живешь?
– Да, я оттуда родом.
– А Инини знаешь?
– Да. Иногда я торгую с китайцами из лагеря.
– Это видишь?
– А что это?
– Пятьсот франков. Выбирай: либо ты делаешь все, что скажу, и тогда я дарю тебе пятьсот франков и возвращаю ружье, либо ты отказываешься и пытаешься меня обмануть, тогда я тебя убью. Выбирай.
– Что мне надо делать? Я сделаю все, что скажете, даже даром.
– Мне надо, чтобы ты без всякого риска вывел меня к лагерю Инини. Как только я встречусь там с одним китайцем, ты свободен. Идет?
– Согласен.
– Смотри не обмани, иначе ты покойник.
– Нет-нет! Уверяю вас, я помогу, и без обмана.
У Жана нашлось сгущенное молоко. Целых шесть банок. Он вынул и протянул их мне. Затем еще буханку хлеба с килограмм весом и окорок.
– Спрячь свой мешок в лесу, потом вернешься и подберешь. Видишь, я делаю зарубку на дереве. Запоминай.
Я выпил банку молока. Жан отдал мне длинные синие штаны, какие обычно носят механики. Я надел их на себя, не выпуская при этом из рук ружья.
– Вперед, Жан. Да постарайся, чтобы нас никто не увидел. Пеняй на себя, если нас застанут врасплох. Уж тогда не обессудь.
Жан лучше меня знает, как ходить в буше. Я с трудом за ним поспеваю, настолько ловко и привычно он избегает встреч с ветками и лианами. Он чувствует себя в буше как рыба в воде.
– Знаете, в Куру сообщили, что с островов бежали два каторжника. А потому скажу вам откровенно: нас подстерегает масса опасностей, когда мы будем проходить возле лагеря в Куру.
– Похоже, ты честный малый, Жан. Надеюсь, я не ошибаюсь. Ты можешь посоветовать, как лучше добраться до Инини? Учти, моя безопасность – это твоя жизнь. Если ищейки или багры застанут меня врасплох, я вынужден буду тебя убить.
– Как я должен вас называть?
– Папийон.
– Хорошо, месье Папийон. Надо углубиться в буш и обойти Куру стороной. Ручаюсь, что доведу вас до Инини через лес.
– Я тебе доверяю. Веди меня самой верной дорогой, как ты считаешь.
По лесу идем медленнее. Я почувствовал, что, как только мы сошли с тропинки, негр пришел в себя и расслабился: меньше потеет и с лица спала напряженность.
Похоже, он совсем успокоился.
– Мне кажется, Жан, ты сейчас уже меньше боишься.
– Да, месье Папийон. Идти рядом с тропкой и для вас, и для меня очень опасно.
Продвигаемся быстрее. Этот черный не лишен сообразительности: больше чем на три-четыре метра от меня не отрывается.
– Стой. Надо закурить.
– Вот вам пачка сигарет.
– Спасибо, Жан. Хороший ты парень!
– Я хороший, это правда. Видите ли, я католик. Я очень страдаю, когда вижу, как белые надзиратели обращаются с каторжниками.
– Ты видел? И много раз? А где?
– В Куру, в лагере лесорубов. Такая жалость, когда видишь, как они медленно умирают на прожорливом лесоповале. И от лихорадки, и от дизентерии. На островах все-таки лучше. Впервые вижу такого здорового заключенного, как вы.
– Да, на островах лучше.
Присели отдохнуть под большой ветвью дерева. Я предложил ему банку молока. Он отказался и попросил немного кокосовых орехов.
– У тебя жена молодая?
– Да. Ей тридцать два. А мне сорок. У нас пятеро детей: три девочки и два мальчика.
– А как заработки? Хватает на жизнь?
– На заготовке ценной древесины можно неплохо продержаться. Моя жена стирает и гладит для надзирателей. Это тоже какая-то помощь. Мы очень бедны. Правда, еды хватает на всех. Дети учатся в школе. И обувка у них есть.
Бедняга полагает, что если у его детей есть башмаки, то все идет прекрасно. Мы с ним почти одного роста, в его черной физиономии я не вижу ничего неприятного. Напротив, глаза полны смысла и понимания, что делает ему честь. Здоров, хороший работник, отец семейства, прекрасный муж, добрый христианин.
– А вы, Папийон?
– Я, Жан, хочу начать новую жизнь. Десять лет я был погребен заживо, поэтому бежал снова и снова, чтобы однажды стать, как и ты, свободным, обзавестись семьей, иметь жену и детей и никому даже в мыслях не делать зла. Ты же сам говоришь, что каторга – гиблое место, и человек, если он себя уважает, должен вырваться из этой грязи.
– Я вам помогу и не выдам. Идемте.
У Жана замечательное чувство ориентации. По пути он нигде не задерживался и благополучно вывел меня прямо к месту. Мы прибыли уже затемно; прошло два часа, как наступила ночь. Издалека доносился приглушенный шум, но огней не было видно. Жан пояснил, что придется обойти один или два наружных поста, чтобы наверняка подобраться к лагерю. Мы решили заночевать.
Я чертовски устал, но спать побоялся. А вдруг я ошибся в негре? А если он только разыгрывает добродушного малого, а сам возьмет ружье да прикончит меня во сне? При этом он выигрывает дважды: отделывается от опасности, каковую я для него представляю, и получает награду за убийство беглого преступника.
Да, он слишком умен. Не мешкая, без лишних слов взял да завалился спать. Хорошо, а цепь с болтом у меня на что? Хотел было привязать его, но потом раздумал: если я могу отвинтить гайку, то почему он не может? Если будет действовать осторожно в то время, как я буду дрыхнуть, словно сурок, то я могу ничего и не почувствовать. Прежде всего надо попытаться не уснуть. У меня целая пачка сигарет. Нужно сделать все, чтобы не задремать. Нельзя доверяться этому человеку, пусть даже честному, ведь я-то для него всего-навсего бандит.
Ночь выдалась темная-претемная. Жан спит в двух метрах от меня. Если всматриваться в темноту, то ничего не различишь, кроме бледных подошв его босых ног. В джунглях свои характерные ночные звуки: без конца орет обезьяний вожак, хриплый, раскатистый и мощный крик его слышен за километры. Для стаи это очень важно: если крик повторяется регулярно, она может спокойно кормиться или спать. Это не сигнал тревоги или опасности, это знак, что поблизости нет ни хищных зверей, ни человека.
Собрав в кулак всю свою волю, я без труда борюсь со сном. Но не без помощи прижигания сигаретой и тучи комаров, явно решивших высосать из меня кровь, всю до последней капли. От комаров я все-таки мог бы оборониться, стоило лишь разжевать табак и смазаться никотиновой жвачкой. Но если поступить так и избавиться от комаров, то тогда мне не справиться со сном. Остается только надеяться, что среди комаров нет разносчиков малярии или желтой лихорадки.
Вот я и выбрался наконец из сточной канавы, не знаю только, временно или навсегда. Мне было двадцать пять, когда меня спустили в канализацию. Это было в 1931 году. Сейчас 1941 год. Прошло десять лет. А в 1932 году бездушный прокурор Прадель потребовал для меня безжалостного и бесчеловечного приговора, по которому бросили меня, молодого и сильного, в ту яму, что называется тюремной системой, заполненную липкой жидкостью, где я должен был медленно раствориться и исчезнуть навсегда. Наконец мне удалась первая часть побега. Я поднялся из глубины этой ямы и нахожусь на ее краю. Я должен приложить все свои силы и смекалку для завершения второй его части.
Ночь тянется медленно, но все-таки идет. А я не сплю. И ружье не отставляю в сторону. Прижигания и укусы комаров меня настолько взбодрили, что я ни разу не выронил из рук оружия. Могу быть собой довольным: я не рисковал свободой и не капитулировал перед усталостью. Дух оказался сильнее материи, и я поздравил себя, когда услышал первые крики птиц, возвестившие о наступлении утра. Это только ранние птицы, но другие не заставили себя долго ждать.
Негр потянулся, почесал пятки и сел.
– Здравствуйте, вы не спали?
– Нет.
– Напрасно. Уверяю вас, меня нечего бояться. Я решил вам помочь.
– Спасибо, Жан. Скоро ли рассветет в лесу?
– Через час с небольшим. Только звери задолго чуют наступление рассвета. Через час будет все видно. Позвольте ваш нож, Папийон.
Я дал, не раздумывая. Он отошел шага на два-три и срубил ветку кактуса. Протянул мне большой кусок, другой взял себе:
– Выпейте воду, что внутри, и освежите лицо.
Из этой своеобразной раковины я напился и умылся. А вот и рассвет. Жан вернул мне нож. Я зажег сигарету, он тоже закурил. Мы тронулись в путь. Нам пришлось пересечь порядочно труднопроходимых участков, и к полудню мы достигли окрестностей лагеря Инини, не встретив на своем пути ни добрых людей, ни лихих.
Мы приблизились к главной дороге, ведущей в лагерь. По одну сторону широкой просеки была проложена узкоколейка.
– Это железная дорога, – сказал Жан, – но по ней ходят только вагонетки, их толкают китайцы. От вагонеток стоит такой страшный шум, что слышно издалека.
Мы стали свидетелями прохода такой вагонетки. Спереди поставлена скамейка, на ней сидят два багра. Сзади два китайца с длинными шестами, которые служат им тормозом. Из-под колес летят искры. Жан пояснил, что шесты снабжены стальными наконечниками и ими пользуются как для толкания, так и для торможения.
На дороге полно народу. Идут китайцы. У некоторых с плеч свисают лианы, другие несут диких свиней, у третьих – связки пальмовых веток. Похоже, все направляются в лагерь. Жан пояснил, что есть несколько причин для выхода в буш: охота на дикую птицу; за лианами, которые идут на изготовление мебели; за пальмовыми ветками для плетения матов, чтобы защитить от жаркого солнца грядки с овощами; лов бабочек, насекомых, змей и так далее. Некоторым китайцам разрешается выходить в лес на несколько часов после того, как они сделают положенную работу. К пяти часам вечера они должны быть в лагере.
– Послушай, Жан, вот твои пятьсот франков и ружье (которое я заблаговременно разрядил). У меня есть нож и тесак. Можешь уходить. Спасибо. Да вознаградит тебя Бог еще больше за помощь несчастному, который пытается начать новую жизнь. Ты не подвел меня. Еще раз спасибо. Надеюсь, когда-нибудь ты расскажешь об этой истории детям, и скажешь им: «Этот каторжник был хороший парень, я нисколько не раскаиваюсь, что помог ему».
– Месье Папийон, уже поздно, и я не успею уйти далеко до ночи. Держите ружье. Я останусь с вами до завтрашнего утра. Если позволите, мне хотелось бы самому остановить китайца по вашему выбору, чтобы он пошел и предупредил Квик-Квика. Он не испугается так, как при виде белого беглеца. Разрешите мне выйти на дорогу. Если даже и подвернется багор, то, увидев меня здесь, он не заметит ничего странного. Скажу, что ищу палисандровое дерево для мебельного комбината «Сенфорьен» в Кайенне. Положитесь на меня.
– Ну ладно, в таком случае ты хоть ружье возьми – безоружный человек в джунглях выглядит подозрительно.
– Тоже верно.
Жан вышел на дорогу. Договорились так: если появится китаец и он мне понравится, я тихонько свистну.
– Здлавствуй, холосый человека, – сказал маленький старый китаец на ломаном французском. Он нес на плече порядочный кусок капустной пальмы – великолепная еда. Я свистнул, мне понравился этот вежливый старичок, поприветствовавший Жана первым.
– Здравствуй, шин. Постой, надо поговорить.
– Ичито хотеть холосый человека?
И китаец остановился.
Они болтали больше пяти минут. Я не слышал, о чем шел разговор. Появились еще два китайца. Они несли на шесте большую лань – ноги привязаны к шесту, а голова волочится по земле. Черного они не приветствовали и прошли мимо, а вот соотечественнику бросили несколько слов на своем языке, и он им ответил тоже коротко.
Жан повел старика в лес. Подошли ко мне. Приблизившись, китаец подал мне руку:
– Твоя фруфру (бежал)?
– Да.
– Откуда?
– С Дьявола.
– Холосо, холосо.
Он смеется и смотрит на меня глазами-щелочками.
– Холосо, холосо. Твоя как зовут?
– Папийон.
– Моя не знает.
– Я друг Чана. Чана Вокьена, брата Квик-Квика.
– Аха?! Холосо, холосо.
Он снова пожал мне руку:
– Твоя ичито хотеть?
– Передать Квик-Квику, что я здесь и жду его.
– Моя не мозет.
– Почему?
– Квик-Квик украл шестьдесят утка начальник лагерь. Начальник лагерь хотеть убить Квик-Квик. Квик-Квик фруфру.
– Давно?
– Два месяца.
– Ушел морем?
– Моя не знает. Моя ходить лагерь, говорить другой китаец, холосая друг Квик-Квик. Он решает. Твоя сидит здесь. Моя вернется эта ночь.
– В каком часу?
– Моя не знает. Моя придет, несет есть, сигареты. Твоя не делает здесь огонь. Моя свистеть «Ла Мадлон» [11] . Твоя слышит, твоя выходит дорогу. Поняла?
– Понял.
И китаец ушел.
– Что скажешь на это, Жан?
– Вы ничего не теряете; если хотите, можем вернуться по нашим следам в Куру. Там я раздобуду лодку, еду и парус, и вы сможете выйти в море.
– Жан, я направляюсь очень далеко, а одному бежать невозможно. Спасибо за предложение. Может быть, в худшем случае придется его принять.
Китаец оставил нам большой кусок капустной пальмы, и мы принялись за него. Блюдо свежее и приятное, с резко выраженным привкусом ореха. Жан вызвался подежурить. Я полностью ему доверяю. Натер себе лицо и руки табачным соком, так как уже начали донимать комары.
– Папийон, свистят «Ла Мадлон».
Жан только что меня разбудил.
– Который час?
– Еще не поздно. Может быть, девять часов.
Мы выбрались на дорогу. Ночь темная, хоть глаз выколи. Свистевший приблизился, я ответил. Он подошел еще ближе. Чувствуется, где-то рядом, но я его не вижу. Так, свистя по очереди, подошли друг к другу. Их трое. Каждый пожал мне руку. Скоро должна взойти луна.
– Давайте присядем у дороги, – предложил один из них на прекрасном французском, – в темноте нас никто не увидит.
К нам присоединился Жан.
– Сначала поешьте, а потом будем разговаривать, – сказал образованный китаец.
Мы с Жаном принялись за горячий овощной суп. Он нас хорошо согрел. Съели не весь, оставили про запас. Выпили горячего сладкого чая с мятой. До чего хорошо!
– Ты близкий друг Чана?
– Да. Он попросил меня найти Квик-Квика, чтобы вместе с ним бежать. Однажды я уже бежал и добрался до самой Колумбии. Я неплохой моряк, вот почему Чан хотел, чтобы я взял с собой его брата. Он мне доверяет.
– Очень хорошо. Какая у Чана татуировка?
– Дракон на груди и три точки на левой руке. Три точки означают, что он был одним из вожаков мятежа в Пуло-Кондоре. А его лучший друг тоже был в числе вожаков и зовут его Ван Хуэ. У него нет руки.
– Это я, – сказал интеллектуал. – Ты действительно друг Чана, значит и наш друг. Слушай: Квик-Квик еще не смог выйти в море, поскольку не умеет управлять лодкой. Сейчас он один в буше, в двенадцати километрах отсюда. Делает древесный уголь. Друзья продают, а ему отдают деньги. Когда скопится достаточная сумма, он купит баркас и будет подыскивать напарника, чтобы вместе бежать. Там, где он сейчас, ему нечего опасаться. Он живет на своего рода острове, который со всех сторон окружен трясиной. К нему не подобраться, если не знаешь дороги: засосет. Я зайду за тобой на рассвете и провожу к Квик-Квику. Пойдемте с нами.
Мы двинулись вдоль дороги, чтобы нас не заметили, потому что уже взошла луна и было достаточно светло. Кругом все просматривалось метров на пятьдесят. Когда подошли к деревянному мосту, он мне сказал:
– Спускайся под мост, там выспишься, а утром я за тобой приду.
Они пожали мне руку и пошли. Шли в открытую, не прячась. Если их прихватят, они скажут, что проверяли капканы, поставленные в буше днем. Жан посоветовал:
– Папийон, не спи здесь. Иди спать в буш. А я останусь тут. Когда он утром придет, я тебя позову.
– Ладно.
Я возвратился в буш и сладко заснул, выкурив напоследок несколько сигарет. На сытый желудок очень хорошо спится. Славный был супчик!
Ван Хуэ объявился на зорьке. Чтобы выиграть время, мы быстро зашагали по дороге, не дожидаясь рассвета. Заданный темп держался в течение сорока минут. Но вот и рассвело; издалека донесся шум вагонетки, катившейся по железной дороге. Мы вошли под полог леса.
– До свидания, Жан. Спасибо и удачи тебе. Да благословит Господь тебя и всю твою семью.
Я настоял на том, чтобы он принял от меня пятьсот франков. На случай, если с Квик-Квиком произойдет что-то неладное, он объяснил мне, как добраться до его деревни, как обойти ее и выйти на тропку, где мы встретились впервые. Он ходит по ней два раза в неделю. Я пожал руку этого благородного негра из Гвианы, и он заспешил домой.
– Вперед, – скомандовал Ван Хуэ и углубился в чащу. Он тут же определил направление, и мы быстро пошли через буш, который нельзя было назвать непроходимым. Ветки и лианы, преграждавшие ему путь, он не рубил, а отодвигал в сторону.
Квик-Квик
Не прошло и трех часов, как мы подошли к трясине. На топкой ее поверхности цвели кувшинки и расстилались широкие зеленые листья. Прошлись по берегу. Заметив, что я споткнулся, Ван Хуэ предупредил:
– Смотри не упади. Если свалишься, то наверняка утонешь – тебя уже ничто не спасет.
– Иди вперед, а я за тобой. Постараюсь быть внимательным.
Перед нами метрах в ста пятидесяти лежал островок. Из центра этого крошечного клочка земли подымался дым. Должно быть, из угольных ям. В зеркале грязевой чаши я заметил каймана, над поверхностью торчали только глаза. И чем он только здесь питается, этот крокодил?
Пройдя еще с километр вдоль грязного озера, Ван Хуэ остановился и стал громко напевать по-китайски. К кромке островка приблизился какой-то человек, небольшого роста, одетый только в шорты. Оба китайца заговорили, и говорили долго. Я уже стал терять терпение, когда наконец они остановились.
– Иди сюда, – сказал Ван Хуэ. Он повернулся и пошел назад, я последовал за ним. – Все идет хорошо. Это друг Квик-Квика. Сам Квик-Квик ушел на охоту. Но он не задержится, скоро придет. Мы его подождем здесь.
Присели. Меньше чем через час появился Квик-Квик, небольшого роста, сухонький, желтолицый аннамит с зубами, покрытыми черным лаком. Зубы так и отливают угольным блеском. Но взгляд умный и открытый. При нем черная свинка.
– Ты друг моего брата Чана?
– Да.
– Хорошо. Ты можешь идти, Ван Хуэ.
– Спасибо, – ответил Ван Хуэ.
– Постой, возьми эту куропатку с собой.
– Спасибо, не надо.
Ван Хуэ пожал мне руку и ушел.
Квик-Квик повел меня за собой. Впереди трусит свинья, Квик-Квик идет за ней следом.
– Осторожно, Папийон. Малейший неверный шаг, малейшая ошибка – и ты соскользнешь вниз. Если это случится, мы не сможем даже помочь друг другу: засосет уже обоих. Место перехода то и дело меняется, потому что трясина подвижна, но свинья всегда отыщет дорогу. Только раз был такой случай, когда мне пришлось ждать два дня, прежде чем удалось переправиться.
И действительно, черная свинка понюхала грязь и быстро спустилась на трясину. Китаец говорил с ней на своем языке. Я шел следом, совершенно обалдев от того, как маленькое существо повинуется ему, словно собака. Квик-Квик внимательно следил за свиньей, а я ошалело таращил глаза. Свинья пересекла топь и выбралась на другой берег, ни разу не провалившись глубже нескольких сантиметров. Мой новый приятель быстро и ловко шел за ней, приговаривая:
– Ступай по моим следам. Нельзя мешкать, потому что чушкины следы тут же затягиваются грязью.
Перешли без труда. Ни разу грязь не поднялась выше икр, и то уже в конце пути.
Свинка сделала по дороге два длинных крюка, заставив нас пройти по грязи более двухсот метров. С меня пот катился градом. Я не то чтобы испугался, а просто чуть не умер от страха.
Когда мы шли по трясине в самом начале, я задавался вопросом, неужели судьбе угодно, чтобы я умер, как Сильвен. Бедняга вновь предстал перед моими глазами в свою последнюю минуту. Находясь в полном сознании, а не в каком-то бреду, я отчетливо увидел его тело, но черты лица моего приятеля почему-то напоминали мои собственные. Какое впечатление осталось от этого перехода?! Он если и не запомнится мне на всю жизнь, то уж забудется не скоро.
– Дай руку.
И Квик-Квик, этот малыш, с виду – кожа да кости, помог мне выбраться на берег.
– Ну вот, приятель, охотничкам на людей сюда уж не добраться!
– Куда им! В этом смысле здесь спокойно!
Мы проникли вглубь островка. Угольный газ сдавил горло. Я раскашлялся. Уголь обжигался в двух ямах, сверху присыпанных землей. Комаров здесь нечего бояться. С подветренной стороны, вся в дыму, стояла лачуга с крышей из листьев и стенами, сплетенными из веток. Дверь, а перед ней индокитаец маленького роста, которого я уже видел с другого берега.
– Здлавствуй, холосый человека.
– Говори нормально, не ломай язык. Это друг моего брата.
Китаец осмотрел меня с ног до головы и остался доволен. Он протянул мне руку, и его рот растянулся в беззубой улыбке.
– Заходи. Садись.
Одна комната, она же и кухня. Над огнем висит большая кастрюля, в ней что-то варится. Одна кровать из веток возвышается над землей на метр.
– Помоги мне приготовить место, где он будет спать ночью.
– Да, Квик-Квик.
Через полчаса мое ложе было готово. Китайцы вдвоем накрыли стол. Мы отведали великолепного супа, потом ели рис, приготовленный с луком.
Приятель Квик-Квика и занимается продажей угля. Он не живет на острове, и на ночь мы остались с Квик-Квиком наедине.
– Да, я переворовал у начальника лагеря всех уток, вот почему и пришлось бежать.
Мы сидим друг против друга. Слабое пламя небольшого костра освещает наши лица. Пытливо изучаем друг друга. Рассказывая о себе, каждый хочет понять другого.
На физиономии Квик-Квика ничего почти не осталось от желтой расы. Естественная желтизна приняла под солнцем медный оттенок. Когда он говорит, узкие глаза-щелочки смотрят мне прямо в лицо, отливая черным блеском. Он курит длинные сигары, которые скрутил сам из листьев табака. Я продолжаю курить сигареты-самокрутки, насыпая табак в тонкую рисовую бумагу, которой снабдил меня однорукий Ван Хуэ.
– Пришлось бежать – начальник, хозяин уток, хотел меня убить. Вот уже три месяца прошло. Беда в том, что я проиграл не только деньги, которые получил за уток, но и те, что заработал на угле из двух ям.
– Где играешь?
– В буше. Каждую ночь собираются. Приходят китайцы из Инини и освобожденные из Каскада.
– Так ты решился бежать морем?
– Само собой. Когда я продавал древесный уголь, я думал купить лодку, подыскать себе толкового напарника, который захотел бы плыть со мной. Недели через три угля будет достаточно, чтобы ее купить. Мы могли бы отправиться вместе, ты ведь знаешь море.
– У меня есть деньги, Квик-Квик. Зачем ждать продажи угля?
– Это меняет дело. У меня на примете хорошая шлюпка за тысячу пятьсот франков. Ее продает один негр-дровосек.
– Ты ее видел?
– Да.
– Мне надо бы посмотреть на нее.
– Завтра я собираюсь зайти к Шоколаду – это я его так зову. Расскажи о своем побеге, Папийон. Раньше я считал, с Дьявола бежать невозможно. Почему мой брат Чан не пошел с тобой?
Я ему все рассказал: и о «Лизетте», и о смерти Сильвена.
– Теперь понял, почему Чан не захотел отправиться с тобой. Ты удачливый человек, только поэтому и добрался сюда живым. И хорошо, что он не пошел.
Наш разговор продолжался больше трех часов. Спать легли рано – завтра на рассвете Квик-Квик собирается навестить Шоколада. Подбросив в костер толстенный сук для поддержания огня в течение всей ночи, мы завалились на боковую. От дыма першило в горле, я раскашлялся. Но зато ни одного комара – и то благо.
Я растянулся на своем ложе, укрылся теплым одеялом и, разомлев в тепле, закрыл глаза. Но не мог заснуть. Сказывалось сильное перевозбуждение. Да, пока все идет хорошо. Если лодка подойдет, можно будет за неделю подготовиться к выходу в море. Квик-Квик мал ростом, сухощав, но, пожалуй, силы необыкновенной. А в том, что он вынослив, я сам убедился. Для друзей он верный друг, но к врагам, похоже, жесток и неумолим. Трудно прочитать что-либо на лице азиата, оно ничего не выражает. Однако глаза говорят в его пользу.
Я сплю и вижу себя в открытом море, залитом солнцем. Моя лодка весело рассекает волны на пути к свободе.
– Тебе кофе или чаю?
– А ты что пьешь?
– Чай.
– Дай и мне чаю.
Забрезжил рассвет. Огонь горит со вчерашнего дня, в казанке кипит вода. Голосисто и радостно прокукарекал петух. Голосов других птиц не слыхать: их, несомненно, разогнал дым от угольных ям. Черная чушка лежит на постели Квик-Квика – лентяйка все еще спит. На углях пекутся рисовые лепешки. Квик-Квик налил сладкого чая, разломил лепешку пополам, намазал половинку маргарином и предложил приступить к завтраку. Мы плотно поели. Сам я съел три рисовые лепешки.
– Я ухожу, проводи меня немного. Услышишь крик или свист – не отвечай. Ты ничем не рискуешь: сюда никто не доберется. Но если ты выйдешь к берегу, на трясину, тебя могут застрелить из ружья.
На окрик хозяина свинья проснулась. Квик-Квик задал ей корм и приготовил пойло. Управившись с тем и другим, она побежала за ним, как только он показался у хижины. Свинка прямым ходом направилась к трясине, но спускаться стала довольно далеко от того места, где мы вышли вчера. Отойдя от берега на десяток метров, чушка вернулась. Что-то ей не понравилось. И только после третьей попытки она начала переход. Квик-Квик тут же, не раздумывая, бросился за ней и вскоре оказался на другом берегу.
Вернется он только к вечеру. Я остался один. Решил поесть супу, который разогрел на медленном огне. Потом пошел в курятник и вынул из кладушек восемь яиц. Из трех яиц я приготовил себе омлет на маргарине. Ветер изменил направление, и дым от хижины понесло в сторону. Спасаясь от дождя, зарядившего в полдень, я уютно устроился в своей постели из веток, а угольный дым меня уже не донимал.
Еще утром я обошел весь остров. Почти посередине тянулась широкая просека. Повсюду лежали поваленные деревья и заготовленные бревна, указывавшие на то, что именно здесь Квик-Квик берет древесину для угольных ям. Обнаружил я также и большой отвал с белой глиной – наверняка отсюда берется земля для отсыпки буртов над бревнами, чтобы они обжигались без доступа воздуха и горели без пламени. По просеке бродили курицы, рылись в мусоре и что-то клевали. Из-под ног порскнула большая крыса, а чуть поодаль я увидел мертвую двухметровую змею. Без всякого сомнения, ее убила крыса.
Все то утро меня ожидали сплошные открытия. Я, например, наткнулся на семейку муравьедов. Самка и три малыша. Они копошились в огромном муравейнике, а вокруг кишели муравьи. У просеки я встретил дюжину обезьян. Мартышки прыгали с дерева на дерево. При моем появлении они завопили так, будто вынимали у тебя душу.
Вечером вернулся Квик-Квик.
– Я не видел ни Шоколада, ни лодки. Он, должно быть, ушел за продуктами в Каскад, маленькую деревушку, у него там свой дом. Ты поел?
– Да.
– Еще хочешь?
– Нет.
– Я принес тебе две пачки солдатской махорки, больше ничего не достал.
– Спасибо. Все равно что курить. Когда ушел Шоколад и сколько он пробудет в деревне?
– Дня два-три, но я завтра опять пойду. Буду ходить каждый день, потому что не знаю, когда он ушел.
На следующий день хлынул проливной дождь. Но это Квик-Квика не остановило. Он отправился совершенно голый, взяв под мышку свою одежду, завернутую в тонкую клеенку. Я его не провожал.
– Незачем тебе мокнуть, – сказал он мне.
Дождь прекратился. По солнцу можно было определить время: между десятью и одиннадцатью. Под сильным ливнем одна из насыпей провалилась. Я подошел поближе к яме, чтобы посмотреть, в каком она состоянии. Дождь не успел погасить огонь полностью. Из бесформенной кучи все еще поднимался дым. Я просто не поверил своим глазам. Протер их и снова уставился на яму: из-под древесного угля торчали ботинки – пять штук. Тут же сообразил, что ботинки не просто лежат носком вверх, а надеты на ноги. Значит, трое жарятся в дымной груде. Моя первая реакция не нуждается в объяснении: по спине пробежал холодок. Я наклонился и, отбросив пинком наполовину обуглившееся бревно, увидел шестой ботинок.
Да, этот Квик-Квик очень скор на расправу. Сначала заманивает к себе простофиль, а потом одного за другим превращает в золу и пепел. Под впечатлением от подобной картины я отпрянул от угольной ямы и пошел на солнышко к расчищенному месту. Надо было согреться. Да, в этой духоте я вдруг почувствовал, что озяб и что мне крайне необходимо постоять под лучами тропического светила.
Читатель может не поверить мне на слово. Он подумает, что было бы логичнее, если бы меня прошиб пот при подобном открытии. Но нет же – меня сковал жуткий холод, и моральный, и физический. Уже потом, час спустя, если не больше, на лбу появилась испарина, и капли пота потекли по щекам. Раз за разом я стал про себя повторять: «Если я до сих пор жив с кучей денег в гильзе, то это просто чудо. Наверное, он меня приберегает, чтобы выстелить моим трупом дно третьей угольной ямы».
Вспомнил, как брат его Чан рассказывал, что Квик-Квик был осужден за пиратство и убийство на джонке. Лодку захватили с целью грабежа, но когда при этом вырезали и всю семью, то, конечно же, под голый разбой подвели некие политические мотивы. Для таких ребят убить, зарезать ничего не стоит – дело привычное. По сути, я здесь пленник. Положение, прямо сказать, хуже не придумаешь.
Пораскинем мозгами. Если пришить Квик-Квика на острове и, в свою очередь, сунуть в угольную яму, все будет шито-крыто. Но свинья не захочет мне повиноваться, эта глупая прирученная чушка ни черта не смыслит по-французски. Выходит, с острова не выбраться. Под дулом его можно заставить перевести меня на другой берег, но тогда ничего другого не остается, как только убить потом. Труп сбросить в трясину, и он исчезнет, но ведь должна же быть какая-то причина, что он их не топит, а сжигает, хотя утопить гораздо легче. Плевать мне на багров, но вот его дружки-китайцы, если только пронюхают, что это я убил Квик-Квика, вмиг превратятся в охотников за скальпами, а при их знании буша мне несдобровать.
У Квик-Квика только лишь одноствольная шомполка, но он с ней не расстается даже тогда, когда готовит обед. Он и спит с ней, и с собой прихватывает каждый раз, когда ему, что называется, приспичит. Нож все время придется держать открытым, но ведь когда-то надо и спать! Хорошего напарника я подобрал себе в дорогу!
Целый день я ничего не ел. И решения еще никакого не принял, когда услышал, что кто-то напевает. Это возвращался Квик-Квик. Спрятавшись за куст, я стал за ним наблюдать. Он идет и несет на голове пакет, а когда почти поравнялся с островом, я вышел из-за куста. Улыбаясь, Квик-Квик передал мне свою ношу, завернутую в мешок из-под муки, выбрался на берег рядом со мной и направился к хижине. Я последовал за ним.
– Хорошие новости, Папийон. Шоколад вернулся. Лодка пока при нем. Он говорит, что она спокойно выдержит груз в пятьсот килограммов и более без всякой осадки. А то, что ты держишь в руках, – это мешки для главного паруса и кливера. Первая партия. Завтра принесем остальные. Ты пойдешь со мной и сам посмотришь лодку – годится или нет.
Все это Квик-Квик объясняет, не поворачивая головы в мою сторону. Мы идем гуськом: впереди чушка, за ней он, а следом я. Лихорадочно соображаю: не похоже, чтобы он намеревался запихнуть меня в угольную яму. Зачем тогда ему брать меня с собой осматривать лодку? Уже понес затраты на побег – вот мешки купил.
– Яма-то обвалилась. Дождь, черт его побери! Налило столько воды, что все раскисло. В этом нет ничего удивительного.
Но он и не подумал взглянуть на яму, а вошел прямо в хибару. Я не знал, что сказать и что предпринять. Притвориться, что ничего не заметил, вряд ли пройдет. Довольно-таки странно пребывать целый день на острове и ни разу не подойти к яме, до которой от жилья всего-то метров двадцать пять.
– У тебя же огонь погас.
– Да? Не обратил внимания.
– Значит, ты ничего не ел?
– Нет. Но я и не голоден.
– Нездоровится?
– Нет.
– Тогда почему же не поел супу?
– Сядь, Квик-Квик. Надо поговорить.
– Позволь сначала развести огонь.
– Не надо. Хочу с тобой поговорить, пока еще светло.
– Что случилось?
– А то, что яма обвалилась и обнажила трех человек, которых ты поджариваешь в ней. Можешь ты это объяснить?
– Ах вот что тебя беспокоит! – И, нисколько не смутившись, он посмотрел мне прямо в лицо. – После такого открытия ты места себе не находишь. Понимаю, это вполне естественно. Счастье еще, что ты не запорол меня ножом в спину. Послушай, Папийон, эти трое были ищейками. С неделю, точнее, десять дней тому назад я продал Шоколаду хорошую партию древесного угля. Китаец, которого ты видел здесь, помог мне вытащить мешки с острова. Сложное это дело: с помощью веревки длиной более двухсот метров приходится тянуть целый поезд из мешков по трясине. Короче, отсюда до ручья, где стояла пирога Шоколада, мы порядком наследили. Некоторые старые мешки прохудились, и из них вываливался уголек. По этим следам и стал кружить первый охотник. По крику зверей я понял, что в буше творится неладное. Я его засек, а он меня не заметил. Зайти с противоположной стороны и, сделав полукруг, напасть сзади никакого труда не составило. Дурень отправился на тот свет, даже не увидев, кто его порешил. Я тебе уже говорил, что трясина засасывает людей, но через несколько дней она выбрасывает трупы на поверхность. Поэтому я притащил его сюда и свалил в яму.
– А другие двое?
– С другими произошло то же самое за три дня до твоего прихода. Ночь выдалась очень темная и тихая, что редко случается в буше. Те двое уже с вечера ошивались вокруг острова. Один охотничек, когда дым гнало прямо на них, время от времени покашливал. По кашлю я и определил их присутствие. Перед самым рассветом я рискнул перейти трясину со стороны, противоположной той, где слышался кашель. Если ближе к делу, то первой ищейке я перерезал горло. Он даже не пикнул. А второй, вооруженный охотничьим ружьем, проявил неосторожность и обнаружил себя – ему так не терпелось поскорее узнать, что же творится на острове. Я сделал один выстрел, но, поскольку он был еще жив, пришлось дорезать ножом. Вот, Папийон, пожалуй, и все о той троице, которую ты видел в угольной яме. Два араба и француз. Пришлось мне с ними повозиться, прежде чем перетащил всех на остров. Хитрая штука, надо сказать, нести покойника на плече через трясину. И тяжелые были, сволочи.
– Это действительно так?
– Клянусь, Папийон, так и было.
– Почему не сбросил их в болото?
– Я уже говорил, что трясина выбрасывает трупы. Иногда в нее попадаются большие лани, а через неделю оказываются на поверхности. Стоит ужасная вонь от разложения падали, пока ее не сожрут грифы. А это долго, к тому же крик и кружение хищных птиц привлекают любопытных. Папийон, со мной тебе нечего бояться. Для большей уверенности возьми ружье, если хочешь.
У меня чесались руки взять ружье, но я подавил в себе это дикое желание и как можно естественнее ответил:
– Нет, Квик-Квик. Я пришел к тебе как к другу и чувствую себя здесь в полной безопасности. Но завтра надо снова зажечь трупы. Кто знает, что может произойти, когда мы покинем остров? Не хочу, чтобы меня обвинили в трех убийствах, даже если я буду далеко отсюда.
– Хорошо, я их завтра запалю. Но ты успокойся: ничьей ноги здесь не будет. На остров попасть невозможно – обязательно утонешь.
– А на надувной резиновой лодке?
– Я об этом не подумал.
– Если кто-то приведет сюда жандармов и тем взбредет в голову добраться до острова, то, мне кажется, с помощью резиновой лодки они это сделают. Вот почему надо убираться поскорее отсюда.
– Согласен. Завтра разожжем яму, она, кстати, еще не совсем потухла. Потребуется только сделать два рукава для подвода воздуха.
– Спокойной ночи, Квик-Квик.
– Спокойной ночи, Папийон. Еще раз говорю: спи спокойно – мне ты можешь доверять.
Натянув одеяло по самый подбородок, я почувствовал уют и тепло. Закурил сигарету. Квик-Квик захрапел. Чушка пристроилась к нему под бок и тяжело засопела. Пламя в костре погасло, но обугленный ствол дерева слабо тлел, мерцая красными огоньками, которые вспыхивали ярче каждый раз, когда ветер проникал в хижину. От их мерцания на душе становилось легче и спокойнее. Наслаждаясь комфортом, я заснул с задней мыслью: «Либо я проснусь завтра и между мной и Квик-Квиком все пойдет хорошо, либо я больше не увижу солнца, если китаец делает свое грязное дело и умеет при этом хорошо заговаривать зубы. Я много теперь знаю и могу представлять для него определенную опасность».
Но вот с кружкой кофе в руке специалист по массовым убийствам разбудил меня и как ни в чем не бывало поприветствовал, пожелав мне доброго утра и расплывшись при этом в лучезарной сердечной улыбке. Занималось утро.
– Выпей кофе и съешь лепешку – она уже намазана маргарином.
Проглотив то и другое, я вышел умыться. Воду черпал из бочки, которая всегда стояла полной.
– Ты мне поможешь, Папийон?
– Да, – ответил я, даже не спрашивая, что надо делать.
Мы вытащили за ноги полуобгоревшие трупы. Я заметил, не проронив ни слова, что у всех троих вспороты животы: симпатяга-китаец, должно быть, покопался в кишках, чтобы убедиться, нет ли там гильз. Действительно ли они были охотниками на людей? А почему не за бабочками или дичью? Он убил их в целях самозащиты или грабежа? Хватит об этом. Мы снова отправили покойников в угольную яму, накрыв сверху хорошим слоем дров и глины. Сделали рукава для подвода воздуха, и яма снова заработала, выполняя две задачи: по обжигу древесного угля и превращению трупов в золу и пепел.
– Идем, Папийон.
Свинка быстро отыскала дорогу. Следуя гуськом друг за другом, мы стали пересекать трясину. Непреодолимый страх охватил меня, стоило только ступить туда. Участь Сильвена настолько еще была жива в памяти, что я не мог и шага ступить без содрогания и жути. Холодный пот прошиб меня, когда я бросился за Квик-Квиком, стараясь идти след в след. Если он не тонет, то почему я должен утонуть?
Часа через два с небольшим мы добрались до делянки Шоколада, где он рубил лес. В буше нам никто не встретился по пути, поэтому прятаться не пришлось.
– Здравствуй, дорогой!
– Здравствуй, Квик-Квик!
– Порядок?
– Порядок.
– Покажи лодку моему другу.
Лодка оказалась крепкой, она была сделана под шлюпку для перевозки грузов. Тяжелая, но прочная. Я везде потыкал ножом – нигде он не вошел глубже чем на полсантиметра. Обшивка новенькая, из первоклассного дерева, и пригнана безупречно.
– Сколько просите?
– Две тысячи пятьсот франков.
– Даю две.
Сделка состоялась.
– У лодки нет киля. Я заплачу еще пятьсот, но только вы должны поставить киль, руль и мачту. Киль и руль сделайте из твердых пород, а трехметровую мачту из легкого и гибкого дерева. Когда сможете закончить?
– Через неделю.
– Вот две банкноты по тысяче франков и одна – пятьсот. Каждую из них я разрезаю пополам. Вторую половину получите, когда все будет готово. В каждой бумажке заложена ваша половина. Так?
– Так.
– Мне требуется марганцовка, бочонок воды, сигареты и спички. Еще месячный запас муки, растительного масла, кофе и сахара на четверых. За продукты плачу отдельно. И все, вместе взятое, доставите на реку Куру.
– Дорогой, я не могу сопровождать вас до устья.
– Об этом вас и не просят. Я только хочу сказать, что лодка должна быть на реке, а не в этом ручье.
– Вот, возьмите, я вам принес мучные мешки, канат, иголки и суровые нитки для паруса.
Мы с Квик-Квиком отправились назад к нашему логову. Добрались засветло без всяких приключений. Всю обратную дорогу он нес свинку на плече. Чушка устала.
На следующий день я снова остался один на острове. Я сидел и шил парус, как вдруг услышал крики. Прячась за деревьями, я незаметно подобрался к трясине и посмотрел на другой берег. Там я увидел Квик-Квика и китайца-интеллектуала, они о чем-то жарко спорили и размахивали руками. Мне показалось, что интеллектуал хочет перейти на остров, а Квик-Квик его не пускает. У обоих в руках по тесаку. Особенно разошелся однорукий – не дай бог, убьет Квик-Квика. Я решил показаться. Свистнул. Они оба повернулись ко мне.
– В чем дело, Квик-Квик?
– Я хочу поговорить с тобой, Папийон! – закричал другой. – Квик-Квик не дает мне перейти на остров.
Спор по-китайски продолжался еще минут десять, но затем чушка опустилась на трясину, и они оба перебрались за ней на нашу сторону. Сидим в хижине и молчим, у каждого в руке кружка с чаем. Я жду, когда они заговорят.
– Послушай, – начал Квик-Квик, – он хочет во что бы то ни стало бежать с нами. Я ему объясняю, что ничего не решаю в этих делах. Ты платишь деньги – ты и командуешь. А он мне не верит.
– Папийон, – вступил другой, – Квик-Квик обязан меня взять с собой.
– С какой стати?
– Два года назад в драке по карточному делу он отрубил мне руку. С меня он взял клятву, что я его не убью. Я поклялся, но с одним условием, что он будет кормить меня всю жизнь или, по крайней мере, тогда, когда я потребую. Что же получается? Он уедет, и я его никогда больше не увижу. В таком случае пусть он отпускает тебя одного или забирает меня с собой.
– Да ради бога! Чего только я в жизни не насмотрелся! Послушай, я согласен взять тебя с собой. Лодка большая и хорошая. Понадобится – мы можем и еще кого-нибудь прихватить. Если Квик-Квик не возражает, приходи.
– Спасибо, – сказал однорукий.
– А ты что скажешь, Квик-Квик?
– Согласен, если ты так хочешь.
– Но тут важно следующее: сможешь ли ты выбраться из лагеря под таким предлогом, чтобы тебя не посчитали пропавшим и не выслали за тобой поисковый отряд?
– Не составит никакого труда. Мне разрешено покидать лагерь в три пополудни, а за два часа я спокойно доберусь до реки.
– Квик-Квик, сумеешь ли ты в темноте отыскать место, где мы смогли бы взять твоего друга на борт и при этом не потерять времени?
– Пара пустяков – какие могут быть сомнения?
– Приходи через неделю: я скажу, когда мы отчаливаем.
Страшно довольный, однорукий попрощался со мной и ушел. Я наблюдал за их расставанием на другом берегу, видел, как они пожимали друг другу руки, перед тем как разойтись. Значит, все утряслось. Когда Квик-Квик возвратился, я спросил его:
– Что за странное соглашение заключил ты со своим противником? Кормить всю жизнь? Никогда не слышал ничего подобного. За что ты отрубил ему руку?
– Подрались из-за карт.
– Лучше было бы убить.
– Нет, он мне очень хороший друг. В военном трибунале он стоял за меня горой – доказывал, что это он на меня напал, а я законно защищался. Я сам добровольно заключил с ним такое соглашение и должен до конца выдержать условия. Я тебе не говорил, потому что ты ведь оплачиваешь побег.
– Ладно, Квик-Квик, дело улажено. Не стоит больше говорить об этом. Станешь свободным – а на все воля Божья, – то и поступать будешь по собственному усмотрению.
– Я сдержу слово.
– Чем думаешь заняться на свободе?
– Рестораном. Я очень хороший повар, а он специалист по блюду из макарон по-китайски.
Этот случай поднял настроение. Я пребывал в веселом расположении духа. Вся история мне показалась настолько забавной, что я не мог удержаться от того, чтобы время от времени не подтрунивать над Квик-Квиком.
Шоколад сдержал слово: через пять дней все было готово. В проливной дождь мы отправились осматривать лодку. Ничего не скажешь! Мачта, руль и киль изготовлены мастерски из высококачественного дерева. Лодка стояла в речной заводи, на борту бочонок с водой и съестные припасы. Оставалось предупредить безрукого. Шоколад вызвался сходить в лагерь и переговорить с ним. Во избежание опасности, связанной с причаливанием лодки к берегу и взятием однорукого на борт, мы договорились, что Шоколад приведет его прямо к затону.
Устье реки Куру отмечено двумя створными маяками. В дождь можно без всякого риска выйти на середину – разумеется, со спущенными парусами, чтобы не засекли. Шоколад дал нам черной краски и кисть. Надо нарисовать на главном парусе большую букву «К» и цифру «21». «К-21» – регистрационный номер рыбачьей лодки, которая иной раз выходит в море на ночной промысел. Если мы поднимем парус на выходе из реки и нас увидят, то могут принять наше судно за другую лодку.
Отъезд назначили на завтра в семь вечера. А в шесть уже темно. Квик-Квик заверил меня, что он нашел тропинку, которая выведет прямо к речной заводи. С острова уйдем в пять, чтобы иметь в запасе час, пока еще светло. За это время вполне возможно добраться до лодки.
Мы бодро и весело возвращались на остров. Квик-Квик идет впереди и несет на плече свинку. Я поспеваю сзади. Не поворачивая головы в мою сторону, Квик-Квик без умолку болтает:
– Наконец-то я покину каторгу. И все благодаря тебе и брату Чану. Может быть, однажды, когда французы уйдут из Индокитая, я вернусь на родину.
Короче, он верил в меня, а увидев, что лодка мне понравилась, развеселился и распелся, как зяблик. Последнюю ночь я сплю на острове и, надеюсь, последнюю ночь на земле Гвианы.
Если удастся выйти из реки в море, то мы, считай, уже на свободе. Конечно, лодка может разбиться, но это единственная опасность, так как во время войны ни одна страна не выдает беженцев. В этом смысле война нам даже сослужит добрую службу. Если поймают французы, то уж как пить дать приговорят к смерти. Но им надо сначала нас поймать. Я подумал о Сильвене: не соверши он тогда ошибки, был бы он рядом со мной. Уже засыпая, я мысленно отстучал телеграмму: «Месье Праделю, прокурору. Из вашей канализации, куда вы меня спустили, я вышел наконец победителем. На это ушло девять лет».
Когда меня разбудил Квик-Квик, солнце стояло уже высоко. Чай и лепешки. Везде полно коробок. На глаза попались две плетеные клетки.
– Что ты с ними собираешься делать?
– Посажу куриц – в дороге съедим.
– Ты сдурел, Квик-Квик. Нельзя их брать с собой.
– А я хочу и возьму.
– Ты что, совсем больной? А что, если затемно мы еще не успеем выйти в море и утром на реке распоются петухи и раскудахчутся куры? Ты не чувствуешь опасности?
– Кур я не брошу.
– Да изжарь ты их, залей смальцем и добавь немного масла. Курятина хорошо сохранится, и мы ее слопаем за первые три дня.
Наконец Квик-Квик сдался и отправился на поиски куриц. Но крик первых четырех, которых ему удалось поймать, распугал остальных: они действительно почувствовали, что запахло жареным. Разбежавшись и попрятавшись по кустам, они так замаскировались, что Квик-Квик не нашел больше ни одной. Просто диву даешься, насколько животные чувствуют опасность.
Нагруженные, словно вьючные лошади, мы, следуя за свинкой, пересекли трясину. Квик-Квик стал меня уговаривать взять чушку с собой.
– А ты даешь слово, что она не завизжит? Отвечаешь ты за свою скотину?
– Уверяю, что нет. Она молчит, когда я ей прикажу. Раза два-три нас преследовал ягуар. Он ходил вокруг нас, пытаясь застигнуть врасплох. Чушка ни разу не пикнула, хотя каждая щетинка стояла дыбом.
Квик-Квик убедил меня, и я позволил ему взять с собой его дорогую свинку. Уже стемнело, когда мы добрались до речной заводи. Шоколад и безрукий уже поджидали нас. С помощью двух фонариков убеждаюсь, что все в порядке: парусные кольца посажены на мачту, кливер на своем месте и готов к подъему. Я показал Квик-Квику, как это делается, и он, повторив прием два или три раза, сразу понял, что от него требуется. Я расплатился с негром – он вел себя безупречно. Черный настолько наивен, что принес с собой клейкую бумагу и половинки своих банкнот. Негр попросил меня склеить деньги. Он даже на минуту не задумался, что я мог бы их отобрать. Люди, не думающие плохо о других, всегда прямодушны и порядочны. Шоколад был добрым и честным малым. Насмотревшись, как обращаются с заключенными, он не испытывал угрызений совести из-за того, что помогал троим совершать побег из этого ада.
– Прощай, Шоколад. Удачи тебе и твоей семье.
– Большое спасибо.
Тетрадь одиннадцатая Прощай, каторга
Побег с китайцами
В лодку я забрался последним, и она, после того как Шоколад оттолкнул ее от берега, устремилась к реке. Оба весла добротные, не какие-нибудь лопатки. Квик работает на носу одним, я управляюсь другим. Меньше чем через два часа мы вышли на главный фарватер.
Зарядил дождь и льет уже больше часа. Я укрываюсь мучным мешком, пропитанным краской. Он служит плащом или накидкой. У Квика и однорукого точно такие же мешки. Река быстрая, с многочисленными водоворотами. Несмотря на сильное течение, мы одолели за час половину пути. На исходе третьего часа мы миновали створные маяки, значит море уже совсем близко, поскольку они отмечают крайние точки речного устья. Выходим на Куру под парусом и кливером без всяких помех. Сбоку налетел сильный ветер. Пришлось приспустить парус, чтобы не завалиться на борт. Лодку резко понесло в море, мы стрелой проскочили узкий створ и стали быстро удаляться от берега. Впереди, в сорока километрах от материка, маяк Руаяля указывает нам путь.
Еще тринадцать дней назад я находился по ту сторону маяка на острове Дьявола. И вот я уже в пути. Должен сказать, этот ночной выход в море, быстрый отрыв от материка не вызвал приступа радости у моих китайских товарищей. Сыны Поднебесной не позволяют своим чувствам вырваться наружу, как это делаем мы.
Уже далеко в море Квик-Квик всего-то и заметил нормальным голосом:
– Вышли очень хорошо.
А однорукий добавил:
– Да, вышли в море без всяких трудностей.
– В горле пересохло, Квик-Квик. Плесни-ка немножечко тафьи.
Обслужив меня, они тоже дернули рому.
Идем без компаса. Но в свой первый побег я научился ориентироваться по солнцу, луне, звездам и ветру. Не раздумывая, я направил мачту на Полярную звезду, а лодку – прямо в открытое море. Лодка слушается хорошо. С изящной легкостью она поднимается на волну, почти не испытывая бортовой качки. Уже утром при сильном ветре мы далеко ушли от берега и от островов Салю. Если бы не большой риск, я бы с шиком прокатился под носом у Дьявола. Подошел бы поближе, поглядел бы на него со стороны и, небрежно откинувшись на борт, поплыл дальше.
В течение шести дней море бурлило, но до шторма дело не дошло. Крепкий ветер гнал нас на запад с приличной скоростью. Квик-Квик и Ван Хуэ оказались приятными напарниками. Никогда ни на что не жалуются: ни на погоду, ни на солнце, ни на холодные ночи. Одно плохо – не хотят даже пальцем касаться руля и управлять лодкой, когда мне требуется поспать несколько часов. Три-четыре раза в день они готовят пищу. Съели всех петухов и куриц. Вчера ради забавы я сказал Квик-Квику:
– Когда примемся за чушку?
Он совершенно изменился в лице – так близко принял к сердцу.
– Это животное мне друг. Если кто-то захочет зарезать ее на еду, пусть сначала убьет меня.
Мои приятели за мной очень ухаживают. Даже бросили курить, чтобы я не испытывал недостатка в табаке. Горячий чай всегда наготове. Они делают все – даже просить не надо.
Со дня нашего отъезда прошла неделя. Едва держусь. Солнце жарит с таким рвением, что даже мои китайцы покраснели, как креветки. Решил поспать. Закрепил намертво руль и приспустил парус, отдав лодку на волю ветра. Часа четыре спал как убитый.
Проснулся от очень сильного толчка, заставившего меня резко подняться. Сполоснув лицо водой, я, к своему удивлению и удовольствию, отметил, что, пока я спал, Квик-Квик успел меня побрить. Кожу не сводило: он после бритья смазал мне лицо маслом.
Со вчерашнего вечера держусь юго-западного направления, поскольку мне показалось, что мы слишком отклонились на север. Преимущество тяжелой лодки заключается в том, что она не только прекрасно держит волну, но и слабо дрейфует в подветренную сторону. Именно с учетом дрейфа, которого могло не быть и вовсе, я сделал предположение, что высоко поднялся к северу. Вот те на, дирижабль! Вижу первый раз в жизни. Не похоже, чтобы он направлялся в нашу сторону, а издалека трудно судить о его размерах.
Он весь сверкает в лучах солнца, на него долго смотреть невозможно, потому что режет глаза. Дирижабль изменил курс, судя по всему, приближается к нам. Действительно, растет прямо на глазах и через двадцать минут оказывается у нас над головой. Квик-Квик и однорукий настолько поражены видом этой машины, что без умолку тараторят взахлеб по-китайски.
– Да говорите же по-французски, ради бога! Ничего невозможно понять!
– Английская сосиска, – сказал Квик-Квик.
– Нет, это не сосиска, а дирижабль.
Огромная махина теперь летит низко, хорошо различимы многие детали, она делает над нами узкие круги. Выброшены сигнальные флажки. Мы не понимаем, поэтому не реагируем и не отвечаем. Дирижабль настойчиво повторяет маневры, он опускается еще ниже и летит в такой близости от лодки, что мы даже видим людей в его кабине. Но вот он отвалил в сторону и полетел к земле. Меньше чем через час прилетел самолет и сделал над нами несколько заходов.
Море стало штормить, внезапно усилился ветер. Но горизонт чист со всех сторон, и дождя не предвидится.
– Смотрите! – крикнул однорукий.
– Куда?
– Туда! Видите точку? В той стороне должна быть земля. Эта черная точка наверняка судно.
– Откуда ты знаешь?
– Я так полагаю и даже скажу, что это морской охотник.
– Почему?
– Потому что идет и не дымит.
Действительно, через какой-то час мы уже ясно различаем серый военный корабль, направляющийся в нашу сторону. Он быстро увеличивается в размерах, так как идет с огромной скоростью. Нос его смотрит прямо на нас, и я уже замер от страха, что нам не избежать столкновения. При сильной волне, когда корабль режет ее поперек, возникает большая опасность для крохотной лодки: она может в любой момент опрокинуться и затонуть.
Корабль пошел на разворот, подставив нам свой борт, на котором можно было прочитать: «Тарпон». Корабль под английским флагом закончил маневр и плавно приблизился к нам с кормы. Он продолжает идти параллельным курсом и с той же скоростью, что и наша лодка. Бóльшая часть команды в голубой форме английских военных моряков собралась на палубе. С корабельного мостика офицер в белой униформе крикнул в рупор:
– Stop. You stop! (Остановитесь!)
– Спускай парус, Квик.
Через пару минут убраны фок, грот и кливер. Лодка без парусов прекратила ход, и только волны сносят ее куда-то в сторону. Долго оставаться в таком положении небезопасно. Лишенная тяги от двигателя или ветра, лодка не слушается руля. И уж совсем опасно, когда идет высокая волна. Сложив ладони рупором, я крикнул:
– Капитан, вы говорите по-французски?
Рупор взял другой офицер.
– Да, капитан, я понимаю французский.
– Что вы от нас хотите?
– Поднять вашу лодку на борт.
– Нет, это очень опасно. Я не хочу, чтобы вы разбили мое судно.
– Это военный сторожевой корабль. Вы должны подчиниться.
– А мне плевать – мы не воюем.
– А вы разве не с торпедированного судна?
– Нет, мы бежим с французской bagne.
– С какой bagne, что вы хотите сказать словом bagne?
– Тюрьма, исправительная колония, каторга. Convict по-английски, hard labour.
– Ах так! Да-да, я понял. Кайенна?
– Да, Кайенна.
– Куда идете?
– Британский Гондурас.
– Это невозможно. Следуйте западным курсом в Джорджтаун. Вы должны повиноваться – это приказ.
– О’кей.
Я велел Квик-Квику поднять паруса, и мы взяли направление, указанное с военного корабля.
Сзади послышался шум мотора. Шлюпка, спущенная с корабля, вскоре настигла нашу лодку. На носу стоял матрос с закинутым через плечо карабином. Шлюпка подошла к нам справа почти впритык, не останавливаясь и не требуя, чтобы мы остановились. Матрос спрыгнул к нам в лодку. Шлюпка отвалила и пошла к эсминцу.
– Good afternoon! (Добрый день!) – сказал матрос.
Он приблизился ко мне, сел рядом и, положив руку на руль, направил лодку южнее, чего не сделал я. Теперь за управление лодкой отвечает матрос, а мне остается только смотреть, как он это делает. Матрос знает свое дело – получается толково. Но я продолжаю сидеть рядом. Мало ли что.
– Сигареты?
Он достал три пачки английских сигарет и раздал каждому из нас.
– Клянусь, – заметил Квик-Квик, – сигареты ему вручили перед спуском шлюпки, иначе зачем ему таскать три пачки с собой.
Сообразительность Квик-Квика меня рассмешила. Теперь все мое внимание приковано к английскому моряку, который знает свое дело и управляет лодкой лучше меня. Предаюсь досужим размышлениям. Побег удался на славу. На сей раз я действительно свободный человек. Свободный. Теплый комок подступил к горлу, на глаза навернулись слезы. Да, я действительно свободен, ибо в военное время ни одна страна не выдает беглых.
Чувство безопасности, радость победы в сражении со сточной канавой настолько захватили меня, что ни о чем другом думать не хотелось. Наконец-то ты победил, Папийон! К концу девятого года ты стал победителем! Слава Тебе, Господи! Может быть, Ты мог для меня сделать это и раньше, но Твои пути неисповедимы, и грех жаловаться. С Твоей помощью я еще молод, здоров и свободен.
Девять лет каторги плюс два года тюрьмы во Франции, итого – одиннадцать лет. Мои размышления прервал жест матроса. Он показал рукой и сказал:
– Земля.
В четыре часа дня мы миновали потушенный маяк и вошли в устье огромной реки Демерара. Снова появилась корабельная шлюпка. Матрос уступил мне руль, а сам перебрался в нос лодки. Он принял конец брошенного ему каната и закрепил его на передней банке. Сам же спустил паруса, и моторная шлюпка плавно протащила нас на буксире вверх по желтым водам реки. Прошли двадцать километров, а сзади, в ста метрах от нас, следовал эсминец. За поворотом нашему взору открылся большой город.
– Джорджтаун! – крикнул английский моряк.
Именно так, следуя на буксире за шлюпкой, мы и вошли в столицу Британской Гвианы. У причалов скопилось много гражданских судов, сторожевых катеров и военных кораблей. Вдоль реки рассредоточены башенные орудия. Мощный арсенал вооружений представлен как на земле, так и на морских боевых объектах.
Война есть война. Уже два года, как она грохочет, а у меня никаких ощущений. Джорджтаун, столица Британской Гвианы, – важный порт на реке Демерара, занят войной на все сто процентов. Смешное и вместе с тем дикое впечатление производит этот город, вставший под ружье. Едва мы коснулись морского причала, как сопровождавший нас корабль мягко пришвартовался рядом. Квик-Квик с чушкой, Ван Хуэ с небольшим узелком в руке и я, как есть пустой, поднялись на пристань. Ни одного гражданского лица – одни солдаты и матросы. Прибыл офицер, которого я тут же узнал: это он разговаривал со мной по-французски с корабельного мостика. Офицер вежливо протянул мне руку и произнес:
– Вы здоровы?
– Да, капитан.
– Прекрасно. И все же придется пройти в санчасть, где вам сделают некоторые прививки. Вам и вашим друзьям.
Тетрадь двенадцатая Джорджтаун
Жизнь в Джорджтауне
В полдень после вакцинации нас препроводили в главное полицейское управление города, своего рода гигантский комиссариат. Сотни полицейских сновали по всему зданию туда и обратно. Нас немедленно принял в своем кабинете шеф полиции Джорджтауна – первое должностное лицо, отвечающее за порядок и спокойствие важного порта. Он сидел в окружении английских офицеров, одетых в безупречно чистые рубашки и шорты цвета хаки. На ногах белые гольфы. Полковник жестом пригласил нас сесть напротив и заговорил на прекрасном французском:
– Откуда вы шли, когда вас перехватили в море?
– Из Французской Гвианы, с каторги.
– Будьте любезны, укажите точно то место, откуда вы бежали.
– Я – с острова Дьявола. Другие – из лагеря Инини, наполовину политического, близ Куру во Французской Гвиане.
– Ваш приговор?
– Пожизненное заключение за непреднамеренное убийство.
– А у китайцев?
– Пожизненное заключение за непреднамеренное убийство.
– Профессия?
– Электрик.
– А у них?
– Повара.
– Вы за де Голля или Петена?
– Мы ничего не знаем, и нам трудно разобраться. Мы заключенные и хотим начать новую честную жизнь на свободе.
– Вам предоставляется камера, которая не запирается ни днем, ни ночью. Вас освободят, как только проверят ваши показания. Если вы сказали правду, вам нечего бояться. Вы должны понять нас: идет война, и мы вынуждены принимать дополнительные меры предосторожности, излишние в мирное время.
Короче, через неделю нас освободили. Пребывая в гостях у полиции, мы не теряли времени зря, а обзавелись приличной одеждой. И вот в девять утра мы стоим на улице – Квик-Квик, Ван Хуэ и я. Все трое принарядились, каждому выдано удостоверение личности с приклеенной на нем фотографией.
В городе двести пятьдесят тысяч жителей. Он почти весь деревянный и построен в английском стиле; первый этаж – камень и цемент, остальные – из дерева. Улицы и проспекты запружены народом – тут собрались представители всех рас: белые, желтые, черные, индусы, китайцы, английские и американские моряки, скандинавы. Мы идем в этой пестрой толпе, чувствуя легкое опьянение. Радость перехлестывает через край, она переполняет сердце, сияет не только у меня на лице, но и у китайцев. Ее замечают и прохожие, многие смотрят на нас и приветливо улыбаются.
– Куда пойдем? – спрашивает Квик-Квик.
– Есть у меня один адресок. Негр-полицейский сунул мне адрес двух французов на Пенитенс-Риверз.
Согласно полученной справке, в этом квартале живут исключительно индусы. Я подошел к полицейскому в безупречно белой форме и показал адрес. В ответ он потребовал наши документы. Я с гордостью показал удостоверения.
– Благодарю. Все в порядке.
Затем он не поленился проводить и посадить нас в трамвай и переговорил с кондуктором. Поехали от центра города, и минут через двадцать кондуктор высадил нас. Приехали. Очутившись на улице, мы стали спрашивать: «Frenchmen? (Французы?)» Один молодой человек сделал нам знак следовать за ним. Он вывел нас прямо к небольшому одноэтажному домику. Не успели мы приблизиться к дому, как из него вышли три человека, подняв руки в дружеском приветствии.
– Какими судьбами, Папи?
– Уму непостижимо! – воскликнул самый пожилой из них с копной седых волос. – Входи. Я здесь живу. Китайцы тоже с тобой?
– Да.
– Входите. Добро пожаловать.
Пожилого каторжника зовут Огюст Гитту, или просто Гитту. Он коренной марселец. Мы с ним из одного конвоя и приплыли на «Мартиньере» в 1933 году. Девять лет прошло. Один раз бежал, но неудачно. Потом был пересуд, и первый приговор был заменен простым поселением. Его расконвоировали. Три года назад он бежал из колонии. Двое других – Малыш Луи из Арля и тулонец Жюло. Они тоже бежали, отбыв наказание, но по закону должны были оставаться во Французской Гвиане еще на один срок, равный первоначальному приговору – десять и пятнадцать лет (этот второй срок называется «дубляжем»).
В доме четыре комнаты: две спальни, одна кухня-столовая и мастерская. Они занимаются изготовлением обуви из балаты, своего рода натурального каучука, собираемого в тропических лесах. С помощью горячей воды он поддается обработке и принимает любые формы. Без вулканизации на солнцепеке балата плавится – это единственный недостаток, против которого тоже есть средство: слои балаты усиливают холщовыми прокладками.
Приняли нас чудесно, от всего сердца и так радушно, как могут принять люди, прошедшие через страдания. Страдание делает человека благородным. Гитту без всяких колебаний оставил нас у себя, отведя комнату на нас троих. Возникла лишь одна проблема – чушка Квик-Квика, но последний уверял, что свинка не пачкает в доме и по своим делам сама ходит во двор.
Гитту не возражал.
– Ладно, там видно будет, а пока пусть живет с тобой.
Из стареньких солдатских одеял, расстеленных на полу, мы на скорую руку приготовили для себя постель.
И вот все шестеро мы сидим перед открытой дверью, покуривая сигареты, и я рассказываю Гитту о своих приключениях за эти девять лет. Оба его приятеля слушают внимательно и остро переживают вместе со мной. У каждого из них случалось в жизни нечто похожее. Двое знали Сильвена и искренне сожалели о его ужасной кончине. Мимо нас туда и обратно проходят люди всех цветов и национальностей. Время от времени кто-нибудь заходит, чтобы купить обувь или метлу, поскольку Гитту с друзьями делают и метлы, зарабатывая себе на жизнь. От наших хозяев я узнал, что в Джорджтауне проживает человек тридцать бывших каторжников и ссыльных, в свое время тоже бежавших. Они встречаются в ночном баре в центре города, чтобы выпить в компании рому или пива. Все работают, рассказывает Жюло, большинство ведет себя хорошо.
Прохлаждаясь в тени за разговором, мы сидели перед дверью домика, когда мимо нас прошел какой-то китаец. Квик-Квик его окликнул. Затем, не сказав мне ни слова, Квик-Квик и однорукий ушли с ним. Далеко они не должны уйти: следом побежала свинка. Часа через два Квик-Квик вернулся с ослом, тянувшим маленькую тележку. Гордый, как павлин, он останавливает ослика, разговаривая с ним по-китайски. Скотинка, похоже, понимает этот язык. В тележке три походные койки, три матраса, три подушки, три чемодана. В чемодане, который он передал мне, полно рубашек, кальсон, маек, две пары ботинок, галстуки и прочее.
– Где ты все это раздобыл, Квик?
– Земляки дали. Завтра их навестим. Пойдешь с нами?
– С удовольствием.
Все мы думали, что Квик-Квик усядется в тележку и поедет обратно, но не тут-то было. Он распряг ослика и привязал во дворе.
– Они мне подарили и осла, и тележку. С этим, они сказали, можно легко заработать на жизнь. Завтра ко мне придет земляк и обучит, как делаются дела.
– Умеют жить твои земляки.
Гитту сказал, что осла и тележку можно пока поставить во дворе. Все идет прекрасно в наш первый свободный день. Вечером все шестеро сидим за рабочим столом и едим хороший суп, приготовленный Жюло. На второе – спагетти.
– Каждый по очереди моет посуду и прибирается в доме, – сказал Гитту.
Этот совместный обед символизирует образование первой тесной общины. Сознание того, что тебя не оставят в беде и помогут сделать первые шаги в свободной жизни, действует весьма успокоительно. Квик, однорукий и я поистине счастливы. Крыша над головой, постель, щедрые друзья, которые в своей бедности великодушно стараются нам помочь. Чего еще надо?
– Что ты собираешься делать сегодня вечером, Папийон? – спросил Гитту. – Не желаешь ли поехать в центр и посидеть в баре, где собираются все беглые?
– Мне хотелось бы остаться здесь. Съезди, если хочешь. Я буду возражать, если ты не поедешь из-за меня.
– Да, я поеду. Мне надо встретиться кое с кем.
– А я останусь с Квиком и одноруким.
Малыш Луи и Гитту принарядились, надели галстуки и отправились в центр. Жюло остался заканчивать несколько пар обуви. Я с товарищами пошел прогуляться по прилегающим улицам, чтобы лучше познакомиться с кварталом. Везде одни индусы. Очень мало негров и почти нет белых. Два-три китайских ресторанчика.
Пенитенс-Риверз – это название квартала, где проживают в основном выходцы из Индии и с острова Ява. Молодые женщины просто очаровательны. Старики носят длинные белые одежды. Многие ходят босиком. Это кварталы бедняков, но одеты все чисто и аккуратно. Улицы плохо освещены; бары, где пьют и едят, заполнены посетителями. Повсюду звучит индийская музыка. Меня остановил один негр в белом костюме и при галстуке:
– Вы француз, месье?
– Да.
– Приятно встретить соотечественника. Не откажитесь пропустить стаканчик.
– Как вам угодно, но со мной два моих приятеля.
– Не имеет значения. Они говорят по-французски?
– Да.
И вот мы уже сидим вчетвером за столиком в баре с видом на тротуар. Негр с Мартиники изъясняется на изящном французском – мы так не умеем. Он просит нас обратить внимание на английских негров, которые, заявляет он, все обманщики.
– Это не то что мы – французы. Мы держим слово, а они нет.
Я улыбаюсь про себя, когда этот черный говорит «мы, французы». Вдруг страшное беспокойство охватило меня: этот месье действительно француз, даже больше француз, чем я. Смотрите, с каким жаром и верой вступается он за свою нацию. Он готов отдать жизнь за Францию, а я нет. Поэтому он больше француз, чем я. Но мы продолжили прежнюю линию разговора.
– Мне очень приятно встретить соотечественника и поговорить на родном языке, поскольку я плохо владею английским.
– А я говорю по-английски и бегло, и правильно. Если я могу быть чем-то вам полезен, я всегда к вашим услугам. Вы давно в Джорджтауне?
– Всего неделю.
– Откуда прибыли?
– Из Французской Гвианы.
– Что вы говорите? Значит, вы либо беглый, либо из надзирателей, желающих присоединиться к де Голлю?
– Нет, я беглый.
– А ваши друзья?
– Тоже.
– Месье Анри, я не хочу ничего знать о вашем прошлом. Настало время прийти на помощь Франции и искупить свою вину. Я за де Голля и жду погрузки на судно, отправляющееся в Англию. Заходите ко мне завтра в клуб «Мартинер», вот адрес. Буду рад, если вы присоединитесь к нам.
– Как вас зовут?
– Омер.
– Месье Омер, на такой поступок я не могу решиться сразу. Сначала мне необходимо навести справки о семье, а потом крепко подумать, прежде чем принять столь серьезное решение. Видите ли, месье Омер, если быть объективным, то надо сказать, что Франция причинила мне много страдания и обошлась со мной бесчеловечно.
Негр с Мартиники с жаром и задором, достойным восхищения, пытается переубедить меня и обратить в свою веру. И делает он это совершенно искренне. Нельзя слушать без волнения его доводы во благо несчастной и многострадальной Франции.
Домой мы вернулись поздно, и уже в постели я снова вспомнил о том, что говорил мне этот «великий француз». Надо серьезно поразмыслить над его предложением. В конце концов полиция, адвокаты, тюремная администрация – это еще не вся Франция. Сердцем чувствую, что не перестал ее любить. Подумать только – боши во Франции! Боже, как, должно быть, страдают мои родные и близкие! Какой стыд и позор для французов!
Проснувшись, я обнаружил, что все мои куда-то уже исчезли: осел и тележка, свинка, Квик-Квик и однорукий.
– Хорошо ли спалось, браток? – спросили меня Гитту с друзьями.
– Да, спасибо.
– Что будешь пить: кофе черный или с молоком? Может, чай? Кофе и хлеб с маслом?
– Спасибо.
Я уписывал все за обе щеки, наблюдая за их работой.
Жюло готовит порцию балаты по мере необходимости: он кладет твердые куски в горячую воду, где они размягчаются, затем вынимает их и месит.
Малыш Луи вырезает матерчатые прокладки, а Гитту делает обувь.
– И большой оборот?
– Нет. Делаем столько, сколько требуется, чтобы заработать двадцать долларов в день. Пять идет на аренду дома и питание. И по пять на брата – на карманные расходы, одежду и прачечную.
– Все раскупают?
– Нет. Иногда приходится продавать обувь и метлы на улицах Джорджтауна. Покрутишься на ногах на солнце да на ветру – бывает, и устанешь.
– Если надо, я охотно этим займусь. Не хочу быть здесь паразитом. Должен и я вносить свою лепту, чтобы заработать на жратву.
– Это правильно, Папи.
Целый день я бродил по индийскому кварталу Джорджтауна. Увидел большую афишу кино, и так захотелось посмотреть первый раз в жизни цветной звуковой фильм. Вечером попрошу Гитту сводить меня в кино. Исколесил на своих двоих все улицы в Пенитенс-Риверз. Внешность людей мне очень понравилась, особенно присущие им два качества: опрятность и вежливость. Впечатление от прогулки в этом районе Джорджтауна оказалось куда более сильным, чем от памятного пребывания на Тринидаде девять лет тому назад.
Тогда на Тринидаде, когда я гармонично влился в толпу прохожих, испытывая наплыв самых удивительных чувств и ощущений, меня постоянно преследовала мысль: через две недели, максимум через три, я должен отправиться в море. Какая страна захочет меня принять? Найдется ли такая нация, которая предоставит мне убежище? Что ждет меня в будущем? В Джорджтауне все иначе. Я действительно свободен и даже могу, если захочу, поехать в Англию, чтобы присоединиться к силам французского Сопротивления. Что мне делать? Решиться и пойти за де Голлем? Но не скажут ли потом, что такое решение было продиктовано моим незнанием, как поступить? Не найдутся ли среди прочих честных людей и такие умники, которые станут относиться ко мне как к каторжнику, перебежавшему к ним, потому что некуда было бежать? Говорят, Франция разделилась на два лагеря: сторонников Петена и сторонников де Голля. А что же, маршал Франции не знает, где лежат интересы и честь Франции? И если однажды я вступлю в силы Сопротивления, не придется ли мне потом стрелять в своих же французов?
Трудно, ох и трудно заработать здесь на приличное житье-бытье! Гитту, Жюло и Малыш Луи далеко не дураки, а зарабатывают всего по пять долларов в день. Прежде всего мне надо научиться жить на свободе. С 1931 года я заключенный. Сейчас 1942 год. Разумеется, за первый день свободы не решить жизненной задачи со многими неизвестными. Я даже не знаю, какие проблемы в начале свободного пути могут возникнуть передо мной в первую очередь. Я никогда не вкалывал в поте лица. Я всего лишь плохонький электрик. Любой, кто работает по этой профессии, знает больше меня. Но я должен сам себе обещать, что буду жить честно, во всяком случае в рамках своей собственной морали.
Домой я вернулся в четыре часа пополудни.
– Ну как, Папи, на вкус первый глоток свободы? Хорошо погулял?
– Да, Гитту, покрутился я по нашему кварталу и по всем его закоулкам.
– Видел своих китайцев?
– Нет.
– Они во дворе. Ох и оборотистые у тебя ребята, ничего не скажешь. Уже успели заработать сорок долларов. Пытались всучить мне двадцать, но я отказался, понятное дело. Иди погляди на них.
Квик-Квик рубил капусту для свинки, а однорукий намывал осла, стоявшего тихо и, по всему, очень довольного.
– Порядок, Папийон?
– Да. А у вас как дела?
– Очень хорошо, мы заработали сорок долларов.
– Каким образом?
– В три часа поутру мы отправились еще с одним китайцем, обещавшим научить нас делу. У него с собой было двести долларов. В деревне мы закупили помидоры, салат, баклажаны – в общем, всякие овощи и зелень. Да еще взяли кур, яйца и козье молоко. Потом поехали на рынок, что у гавани. Там немного продали местному населению, а все остальное – американским морякам. Они были страшно довольны нашими ценами и попросили завтра подъехать к главным воротам гавани. Они скупают все оптом. Так что на рынок ездить незачем. Вот деньги. Ты у нас старший, так что тебе и распоряжаться ими.
– Ты же знаешь, что у меня есть деньги, Квик. Я не испытываю нужды.
– Бери деньги, а то больше работать не будем.
– Послушай, французы живут на пять долларов в день каждый. Возьмем себе тоже по пять на брата, а еще пять будем отдавать за жилье и питание. Остальные отложим, чтобы возвратить долю долга твоим друзьям-китайцам, ты ведь взял у них двести долларов.
– Понял.
– Завтра я пойду с вами.
– Не надо, Папийон. Лучше поспи. Но если хочешь, встречай нас в семь утра у главных ворот в гавани.
– Годится.
Все довольны. Приятно сознавать, что мы можем заработать себе на жизнь и не быть обузой нашим друзьям. Рано или поздно Гитту с приятелями, при всей их доброте, задались бы вопросом, когда же наконец мы встанем на ноги.
– Потрясающие у тебя ребята, Папийон. Надо это дело спрыснуть. Отметить надо. Купим пару литров аперитива.
Жюло сгонял за крепким белым напитком из сахарного тростника и принес закуску. Через час мы уже пили аперитив, как бывало в Марселе. Алкоголь развязал язык. Голос окреп, раздался жизнерадостный смех, не по-будничному громкий. Услышав, что у французов гуляют, пришли соседи-индусы и без всяких церемоний оказались в числе приглашенных. Их пятеро – трое мужчин и две девушки. Они принесли с собой мясо, зажаренное на вертеле, и свежую ветчину, сдобренную перцем и приправами. Обе девушки красоты необыкновенной: в белом наряде, босиком, на левой ноге у каждой блестит серебряный браслет.
– Не сделай глупости, Папийон, – предупредил Гитту, – это порядочные девчонки. Не приставай с сальностями. Ты не смотри, что у них грудки торчат под прозрачной тканью. Это естественно для них. Сам я староват для шалостей, а вот Малыш Луи с Жюло пытались подъехать к ним на вороных, и это девчонок страшно огорчило. Тогда мы еще были здесь новичками и многого не знали. Они долго потом к нам не заглядывали.
Удивительной красоты эти две индианки. Голубое пятно татуировки во лбу придает им загадочный и экзотический вид. С моим никудышным английским я понял из их вежливого и учтивого разговора, что они желают нам доброго пребывания в Джорджтауне.
Вечером мы с Гитту отправились в центр города. Там совсем другая цивилизация, совершенно отличная от той, что в нашем квартале. Город запружен народом. Белые, негры, индусы, китайцы, солдаты и военные моряки, матросы с гражданских судов. Множество баров, ресторанов, кабаре и ночных клубов. Они так ярко освещены и расцвечены огнями, что вокруг светло как днем.
Тем вечером я впервые в жизни посмотрел цветной звуковой фильм. Я выхожу из кино оглушенный и очарованный этим новым для себя открытием, а Гитту тянет уже меня в большой бар. В одном из его уголков пристроились французы – их набралось десятка два. Пьют «Cuba libre» (ром с кока-колой).
Все бывшие каторжники. Одни бежали до освобождения, другие после, когда их перевели на «дубляж». Последние бежали потому, что голодали да и работы не могли найти. Кроме того, на них косо смотрели тюремные власти и население, поэтому они предпочли смыться и поискать счастья в другой стране, где можно было бы устроиться получше. Но и здесь приходится трудно, говорят они.
– Вот я, например, рублю лес для Хуана Фернандеса за два доллара пятьдесят центов в день. Каждый месяц спускаюсь на недельку в Джорджтаун. Ужасная работа – я просто в отчаянии.
– А ты?
– А я составляю коллекции бабочек. Охочусь в лесу, а когда наловлю их порядком, красивых и разных, помещаю в коробки под стеклом и продаю как коллекции.
Другие работают в порту грузчиками. Трудятся все, но едва сводят концы с концами. Трудно, говорят они, но все-таки на свободе. Это прекрасное слово – «свобода».
Познакомился я и с одним ссыльным, Фоссаром, который всех угощал и за всех платил. Он находился на борту канадского судна, груженного бокситами, когда на выходе из Демерары их торпедировала немецкая подводная лодка. Утонула почти вся команда, а он спасся и получил деньги как потерпевший при кораблекрушении. Ему повезло – подобрала спасательная шлюпка. Субмарина всплыла, рассказывает он, и вела с ними переговоры. Их спросили о количестве судов в порту, загруженных бокситами и готовых выйти в море. Они ответили, что не знают. А тот, кто допрашивал их, даже рассмеялся. «Вчера, – сказал он, – я был в Джорджтауне в таком-то кинотеатре. Видите – половинка входного билета». И, расстегнув пиджак, заявил: «Костюмчик-то из Джорджтауна». Кто-то не поверил Фоссару и заорал, что он несет чепуху, но тот настаивал, и это действительно было похоже на чистую правду. С лодки их даже предупредили, что такой-то корабль придет их спасать. И что же? Именно этот корабль и появился.
Каждый рассказывает свою историю. Мы с Гитту сидим рядом со старым парижанином и слушаем, а он повествует:
– Старина Папийон, я придумал неплохую комбинацию, позволяющую мне жить, не ударяя палец о палец. Тут в газете печатают рубрику «Погиб за короля и королеву. Кто его знает?» Так вот, как только в ней появлялась французская фамилия, я намыливался к одному мраморщику и писал краской на могильной плите название судна, дату его гибели во время торпедной атаки, имя того француза, что вычитал в газете, и все это дело запечатлевал на фотографии. Затем появлялся в богатых английских домах, говоря, что собираю пожертвования на покупку и установку на кладбище надгробного памятника храброму французскому моряку, отдавшему жизнь за Великобританию. Все шло замечательно вплоть до прошлой недели, когда вдруг объявился неизвестно откуда взявшийся бретонец, имя которого попало в списки погибших, причем объявился не только живым, но и чертовски здоровым. Он заявился к тем же добрым женщинам, что жертвовали мне по пять долларов, и стал их уверять, что он никогда не погибал и что я не купил ни одного памятника у мраморщика. Теперь надо подыскивать какое-то другое занятие, ведь я в моем возрасте не могу больше работать.
Разгоряченные коктейлем, все рассказывают свои необыкновенные истории громким голосом, явно полагая, что никто, кроме нас, французского не разумеет.
– А я, – говорит другой, – делаю куклы из балаты и ручки для велосипедов. К сожалению, когда маленькие девочки оставляют их в саду на солнцепеке, куклы плавятся и теряют форму. Столько шума поднимается, стоит только по забывчивости забрести на ту улицу, которую ты уже обработал. В последний месяц я не осмеливаюсь появляться днем на большей части улиц Джорджтауна. С велосипедными ручками то же самое. Оставят велосипед на солнце, потом берутся за руль, а ладони-то так прилипнут, что не отдерешь.
– А я, – продолжает еще один, – делаю палки с набалдашником из балаты в виде головы негритянки и продаю их военным морякам. Притом я еще говорю им, что они просто обязаны купить, поскольку я один из тех, кто спасся в Мер-эль-Кебире, и не их заслуга в том, что я остался в живых. Покупают восемь из десяти.
Меня очень позабавили эти «идущие в ногу со временем» чудеса, вместе с тем в тот вечер я действительно убедился, как нелегко зарабатывать хлеб насущный.
Кто-то в баре включил радио, и мы услышали речь де Голля. Все слушают этот голос, который из Лондона воодушевляет французов, в этот момент находящихся в колониях и на заморских территориях. Речь де Голля полна патетики; слушаем молча, никто не решается нарушить тишину. Совершенно неожиданно один из «бывших», очевидно набравшись коктейля, вскакивает и кричит в возбуждении:
– Братва, это потрясающе! Я понимаю английский! Я понял каждое слово, которое сказал Черчилль!
Все расхохотались, но никто не стал разубеждать его, что он по пьяни малость ошибся.
Да, мне предстоит сделать первые шаги, чтобы зарабатывать на жизнь. Судя по опыту других, это будет нелегко. Раньше такая проблема передо мной не стояла. За время с 1930 по 1942 год я совершенно потерял чувство ответственности и умение распорядиться своей судьбой. Человек, так долго находившийся в заключении, не обремененный заботами о пище, жилье, одежде, человек, которого вели, которым управляли и помыкали, человек, привыкший ничего не делать самостоятельно, лишь повиноваться любым приказам не раздумывая, человек, приученный есть и пить в установленные часы, – этот человек, оказавшись вдруг посреди большого города, должен переучиваться: ходить по тротуарам, не сталкиваясь при этом с прохожими, пересекать улицу и не быть задавленным автомобилем. Кроме того, такой человек реагирует на ситуацию самым неожиданным образом. Например, когда я сидел в баре и внимательно слушал рассказы ребят, говоривших по-французски с употреблением испанских и английских слов, мне вдруг захотелось в туалет. Вы просто не поверите, но я сначала посмотрел по сторонам, отыскивая глазами надзирателя, чтобы попросить разрешения на выход. Правда, это состояние длилось мгновение, мне стало даже смешно, когда я сообразил, в чем дело. И я сказал себе: «Папийон, если ты захочешь помочиться или еще что-то, отныне и вовеки ни у кого не спрашивай разрешения».
И в кинотеатре то же самое: когда девушка-билетерша искала место для нас, я чуть было не сказал: «Пожалуйста, не беспокойтесь, я всего лишь каторжник – стоит ли обращать на меня внимание?» А когда шли по улице от кинотеатра до бара, я несколько раз оглянулся. Гитту понял, в чем дело, и сказал:
– Что ты все время оглядываешься? Хочешь убедиться, что за тобой не идет багор? Нет здесь багров, Папи: ты их оставил там, на каторге.
На языке заключенных бытует такое выражение – «сбросить платье арестанта». Но его значение гораздо глубже, ибо тюремная одежда – это только символ: не только сбросить платье арестанта, но и освободиться от клейма, каленым железом выжженного на сердце и в душе.
В баре появился полицейский патруль – английские негры в безупречно чистой форме. Они обошли столики, требуя предъявить удостоверение личности. Когда добрались до нашей компании, сержант оглядел всех внимательно и заметил одного незнакомого – меня.
– Позвольте ваши документы, сэр.
Я достал удостоверение. Он посмотрел на меня, вернул его мне и сказал:
– Простите, я вас не знаю. Добро пожаловать в Джорджтаун.
И с этими словами ушел.
Поль Савойяр заметил:
– Эти ростбифы – замечательные парни. Из всех иностранцев кому они доверяют на сто процентов – это сбежавшим каторжникам. Если ты сумеешь доказать, что ты действительно удрал из мест заключения, английские власти немедленно отпускают тебя на свободу.
Хотя мы и поздно возвратились домой, на следующее утро ровно в семь я был у главных ворот гавани. Через полчаса подъехали Квик и однорукий. Тележка доверху заполнена свежими овощами. Имеются и яйца, и цыплята. Они одни. Я поинтересовался, где же земляк, который хотел научить их торговле. Квик ответил:
– Он нам вчера показал, уже достаточно. Теперь нам никто не нужен.
– Далеко ездили за продуктами?
– Да. Больше двух с половиной часов езды. Отправились в три и вот только вернулись.
Привычно, как если бы он прожил здесь уже лет двадцать, Квик достал горячий чай и лепешки. Сидим на тротуаре рядом с тележкой, пьем и едим, поджидая покупателей.
– Ты думаешь, они придут, твои вчерашние американцы?
– Надеюсь, но если не придут, продадим другим.
– А цена? Как ты ее установил?
– О цене не договаривались. Сделаем так: я их спрошу: «Сколько даете?»
– Но ты же не говоришь по-английски.
– Верно, но я умею объясняться на пальцах. Проще простого. А слов я знаю достаточно, чтобы продать и купить.
– Да, но мне для начала хотелось бы посмотреть, как это у тебя получится.
Ждать пришлось недолго. Подкатила большая машина наподобие джипа, из которой вышли шофер, старшина и два матроса. Старшина залез в тележку и все пощупал: салат, баклажаны и прочее. Осмотрев каждую корзину, потыкал пальцем цыплят.
– Сколько за все?
И торговля началась.
Американец говорит в нос, и я не понимаю ни слова. Квик лопочет по-китайски вперемешку с французским. Увидев, что они никак не могут договориться, я отозвал Квика в сторону.
– Сколько ты израсходовал?
Он порылся в карманах и достал семнадцать долларов.
– Сто восемьдесят три доллара.
– Сколько он тебе дает?
– Кажется, двести десять. Но это мало.
Я подошел к старшине. Он спросил, говорю ли я по-английски.
– Говорите медленно, – предложил я.
– О’кей.
– Сколько вы даете?! Двести десять? Ну что вы – двести сорок!
Не хочет. Делает вид, что уезжает. Возвращается и снова садится в джип. Но я-то чувствую, что он разыгрывает комедию. В тот момент, когда он снова вылезает из машины, появляются прелестные девушки-индианки, наши соседки. Они наверняка наблюдали за сценой, так как делают вид, что нас не знают. Одна из них даже заглянула в тележку, стала рассматривать товар и обратилась к нам:
– Сколько за все?
– Двести сорок долларов, – ответил я.
– Берем.
Но американец уже достал двести сорок долларов и протянул Квик-Квику, сказав девушкам, что товар уже закуплен. Мои соседки не уходят, они стоят и наблюдают, как американцы разгружают тележку и складывают продукты в джип. В последний момент один из матросов взял на руки свинку, полагая, что она является частью только что состоявшейся сделки. Разумеется, Квик не хочет отдавать чушку. Завязывается спор, в котором мы не можем втолковать им, что свинка не входит в покупку.
Я пытаюсь объяснить ситуацию соседкам, но тщетно – они также ровным счетом ничего не понимают. Американские моряки не хотят отдавать свинку, а Квик-Квик не желает возвращать деньги. Все грозит обернуться потасовкой. Однорукий уже вооружился шкворнем из тележки, но, на наше счастье, в это время мимо проезжал джип американской военной полиции. Старшина засвистел, и военная полиция подрулила к нам. Я стал убеждать Квик-Квика вернуть деньги, но он и слышать ничего не хотел. Моряки держат свинку и тоже не собираются возвращать. Квик встал перед машиной, загородив путь. Вокруг этой шумной сцены собралась уже довольно большая толпа любопытных. Полиция приняла сторону американцев, да, впрочем, она и сама не могла ничего разобрать из нашей тарабарщины. Полиция откровенно посчитала, что мы хотели надуть моряков.
Не зная, что предпринять, я вдруг вспомнил, что у меня записан номер телефона клуба «Мартинер», который дал мне негр с Мартиники. Я показал его офицеру-полицейскому и сказал:
– Переводчик.
Он подвел меня к телефону. Я позвонил, и, к счастью, мой друг-голлист оказался у себя. Я попросил его объяснить полиции, что свинка не входит в покупку. Она ручная и для Квика словно домашняя собака. Мы забыли предупредить моряков, что ею мы не торговали. Затем я передал трубку полицейскому. Трех минут оказалось достаточно, чтобы все утряслось. Полицейский сам отобрал у моряков чушку и передал Квик-Квику. Тот, не помня себя от радости, взял ее на руки и отправил в тележку. Инцидент исчерпан, американцы заливаются смехом, словно дети. Все расходятся. Все хорошо, что хорошо кончается.
Вечером в домашней обстановке мы благодарим девушек-индианок. Они громко смеются над этой историей.Уже три месяца, как мы в Джорджтауне. Сегодня мы переехали к нашим друзьям-индусам. Мы сняли у них половину дома. Две светлые просторные комнаты, столовая, небольшая кухня, отапливаемая древесным углем, и огромный двор с закутком под навесом из гофрированного железа. Это стойло. Теперь для осла и тележки есть свое место. Я буду спать в отдельной комнате на большой кровати, приобретенной по случаю, на хорошем матрасе. В другой комнате будут спать друзья-китайцы, каждый на своей кровати. У нас есть также стол, шесть стульев и четыре табурета. На кухне вся необходимая посуда. Поблагодарив Гитту и его друзей за гостеприимство, мы вступили, как выразился Квик-Квик, во владение собственным домом.
В столовой перед окном, которое выходит на улицу, стоит плетенное из тростника кресло. Это подарок милых девушек-индианок! В столовой же на столе стоит ваза с цветами. Их принес Квик-Квик.
Чувство, что ты у себя в доме, пусть скромном, но чистом, светлом и уютном, придает мне уверенность в себе и в будущем. Это первый результат нашей совместной работы всего лишь за три месяца.
Завтра воскресенье. Рынок не работает. Целый день свободный. Все втроем решили закатить званый обед. Пригласили Гитту с друзьями, прелестных девушек с братьями. Почетным гостем у нас будет китаец, который помог Квик-Квику и однорукому, ссудив им двести долларов и подарив осла с тележкой. С его легкой руки наши коммерческие дела пошли в гору. Завтра в своей тележке он найдет конверт с двумястами долларами и слова нашей благодарности, написанные на китайском языке.
После обожаемой свинки я у Квик-Квика первейший друг. Он постоянно заботится обо мне: из нас троих я одет лучше всех, он частенько возвращается в дом, неся то рубашку, то галстук, а то и пару штанов. И все это он покупает для меня на свои деньги. Квик-Квик не курит, почти не пьет, его единственная страсть – игра. Он думает только об одном: как бы сэкономить деньжат и пойти в китайский клуб поиграть в карты.
Перепродажа закупленных утром продуктов не представляет серьезных трудностей. Я уже довольно сносно объясняюсь по-английски, чтобы купить или продать. В день мы имеем от двадцати пяти до тридцати пяти долларов на троих. Маловато, но мы очень довольны, что так быстро нашли способ зарабатывать себе на жизнь. Я не всегда езжу с ними на закупки, хотя при моем участии эта операция всегда обходится для нас дешевле, зато продаю теперь только сам. Меня уже знают многие английские и американские моряки, которые сходят на берег, чтобы закупить продукты для своей команды. Мы торгуемся вежливо и по вопросу цен никогда не доводим друг друга до белого каления. Я познакомился с одним американским моряком итальянского происхождения. Он ведает закупкой продуктов для офицерской столовой. Этот здоровенный черт всегда говорит со мной по-итальянски и очень бывает рад, когда я отвечаю на его родном языке. И торгуется он со мной только ради забавы, платя в конце концов ту цену, которую я запросил.
В половине девятого или десять мы уже возвращаемся домой. Готовим легкий завтрак, после которого Квик-Квик и Ван Хуэ ложатся отдыхать. А я отправляюсь к Гитту, или ко мне приходят соседи. Работы по хозяйству не много: подмести, постирать белье, заправить кровати, вытереть пыль. Все это делают для нас милые сестры почти задаром, всего за два доллара в день. Я по достоинству оценил, что значит быть свободным и не волноваться за будущее.Моя индийская семья
Велосипед – самое распространенное средство передвижения в городе. А раз так, я тоже купил себе велосипед, чтобы разъезжать на нем, когда и куда вздумается. Поскольку город и его предместья расположены на ровной местности, то можно без труда преодолевать большие расстояния. Два багажника – спереди и сзади – позволяют прихватить еще двух пассажиров, что многие здешние жители и практикуют.
Два раза в неделю я выезжаю на часок-другой с моими девушками. Каждый раз они приходят в бурный восторг, и я начинаю уже понимать, что одна из них – та, что помоложе, – готова влюбиться в меня.
Вчера даже приходил ее отец, которого раньше я в глаза не видел. Он живет недалеко, но нас ни разу не навещал, поэтому я знал только ее братьев. В дом вошел высокий старик с длинной белоснежной бородой. Седые волосы расходятся в стороны, открывая умный и благородный лоб. Старик говорил на хинди, а дочь переводила. Он пригласил меня к себе в гости. «На велосипеде это совсем недалеко», – сказал он через маленькую принцессу (так я называл его дочь). Я пообещал нанести вскоре ответный визит.
Выпив чаю с пирожными, старик ушел, но я заметил, что он успел рассмотреть в доме все до мельчайших подробностей. Маленькая принцесса была счастлива, чувствуя, что отец доволен и своим визитом, и нами.
Мне исполнилось тридцать шесть, я вполне здоров и чувствую себя еще молодым; и все, к счастью, считают меня молодым и больше тридцати не дают. А этой малышке девятнадцать. Истинная дочь своего народа, она унаследовала от него красоту, спокойствие и некий фатализм, всецело полагаясь на судьбу. Любить такую чудесную девушку и быть любимым – это ли не величайший дар, ниспосланный мне небесами!
Когда мы выезжаем втроем, она всегда занимает место спереди, очень хорошо зная, что стоит ей только выпрямиться, а мне нажать на педали, как в тот же момент я наклоняю голову немного вперед и почти касаюсь ее лица. Стоит ей откинуться назад – и я созерцаю всю красоту ее обнаженной груди под газовой тканью: под тканью она даже лучше видна, чем если бы вообще ничем не была прикрыта. От взаимного легкого прикосновения ее большие черные глаза вспыхивают огненным блеском, алые губы, оттененные кожей цвета чая, приоткрываются в жажде поцелуя. Великолепные зубы достойны этих чудесных губ, а свойственная только ей одной манера произношения некоторых слов заставляет кончик ее розового язычка чуть-чуть показываться из полуоткрытого рта. Святейшие из святых, давших нам католическую веру, не смогли бы удержаться при виде ее от шаловливых мыслей.
Сегодня вечером мы идем в кино вдвоем. У сестры разыгралась мигрень. Мигрень, похоже, притворная, чтобы оставить нас наедине. Индара появилась в длинном белом платье из муслина, доходившем ей до лодыжек, обнажавшихся при ходьбе, при этом взору открывались три серебряных кольца. Сандалии с позолоченными ремешками делали ножку очень элегантной. Крошечная золотая ракушка закреплена на правой ноздре. На головке, подвязанная золотой лентой, короткая муслиновая накидка, которая едва прикрывает плечи. С ленты опускаются, доходя до середины лба, три нитки крошечных разноцветных полудрагоценных камней. Нитки раскачиваются на ходу, то открывая, то закрывая на лбу яркое голубое пятно татуировки – ну просто фантастика.
Все, в том числе и мои домочадцы в лице Квик-Квика и однорукого, с умилением наблюдали за нашим отъездом. Мы не можем скрыть от них нашего счастья. Они уверены, что из кинотеатра мы вернемся уже женихом и невестой.
Усадив ее поудобнее на подушку багажника, я направился в центр города. На одной из плохо освещенных улиц я раскрутил педали, и велосипед пошел длинным свободным накатом. Именно тогда она и наградила меня легким поцелуем. Ее губы, как бы украдкой, едва коснулись моих. Никак не ожидая, что она первой решится на этот шаг, я чуть не упал с велосипеда.
Мы сидим в глубине зала, держась за руки. Я разговариваю на языке пальцев, она отвечает. Дуэт влюбленных исполняется молча. Он звучит в зале кинотеатра, где демонстрируется фильм, который мы не смотрим. Песня слышится и в ее пальцах, и в длинных ухоженных ногтях, и в пожатии руки. Она понятна без слов. В ней дышат любовь и желание быть моей. Она склонила голову мне на плечо, и я покрываю ее чистое милое лицо поцелуями.
Любовь, столь робкая поначалу, так долго боявшаяся раскрыться, мгновенно переросла в непреодолимую страсть. Перед тем как она стала моей, я объяснил ей, что не могу сочетаться с ней законным браком: во Франции у меня есть жена. Это ее расстроило, но не больше, чем на один день. Однажды она осталась у меня на ночь. Из-за братьев и в определенной мере из-за соседей-индусов, сказала она, будет лучше, если мы переберемся жить к ее отцу. Я согласился, и мы переехали. Отец жил с молодой индианкой, приходившейся ему дальней родственницей. Она прислуживала ему и вела домашнее хозяйство. Мой новый дом всего в полукилометре от дома Квик-Квика. Поэтому друзья приходят ко мне каждый день посидеть часок-другой. Очень часто они у нас и обедают.
Мы еще продолжаем торговать овощами в гавани. Я отправляюсь туда в половине седьмого, и моя индианка всегда идет со мной. В большой кожаной сумке мы несем термос с чаем, банку варенья и жареные хлебцы. Придя на место, мы ждем, когда подъедут Квик-Квик и однорукий, чтобы вместе почаевничать. Моя подруга сама готовит нам этот маленький завтрак с соблюдением неизменного ритуала: первый прием пищи обязательно проводится вчетвером. В сумке у нее имеется все, что требуется для этого: небольшая скатерть с кружевом, которую она церемонно расстилает на тротуаре, вычистив его предварительно щеткой, и четыре фарфоровые чашки с блюдцами. Мы садимся и начинаем завтракать с самым серьезным видом.
Мне кажется смешным пить чай, сидя на тротуаре, но она находит это вполне естественным, а Квик-Квик разделяет ее мнение. Они совершенно не обращают внимания на прохожих, поскольку считают, что ведут себя как обычные люди. Она с удовольствием разливает чай и намазывает хлебцы вареньем. Чтобы не обижать ее, приходится участвовать в этих трапезах.
В прошлую субботу произошло событие, давшее мне ключ к одной загадке. Вот уже два месяца, как мы вместе, и все это время я получаю от нее золото в небольших количествах. Но это всегда лишь кусочки драгоценных изделий: половинка золотого кольца, сережка без пары, обрывок цепочки, половинка или четвертинка монеты или медали. Она сказала, что я могу продавать золото, но, поскольку денег на жизнь хватало, я складывал и хранил его в коробке. Скопилось почти четыреста граммов. Как-то раз я спросил, откуда оно у нее. Она обняла меня, поцеловала и рассмеялась. Но так ничего и не сказала.
Итак, в ту субботу индианка попросила меня отвезти ее отца на велосипеде в какое-то место, теперь уже даже не помню какое. «Папа покажет тебе дорогу, – сказала она, – а я останусь дома гладить белье». Меня это заинтриговало, но я подумал, что старик хочет навестить кого-то, а путь дальний. Я с готовностью согласился.
Посадил я его на передний багажник, и мы поехали. Поскольку старик говорил только на хинди, он молча показывал мне рукой, куда надо ехать. Далековато. Уже час кручу педали. Приехали в богатый квартал на берегу моря. Кругом одни прекрасные виллы – и больше ничего. По знаку тестюшки остановился и стал наблюдать. Он достал из-под туники круглый белый камень, опустился на колени перед первой ступенькой лестницы и стал катать камень по ступеньке, что-то при этом напевая. Через несколько минут появилась женщина в индийском наряде и, приблизившись к нему, что-то отдала, не говоря ни слова.
Он переходил от одного дома к другому, и эта история повторялась вплоть до четырех часов. Я долго терялся в догадках, но так и не смог ничего понять. Из последней виллы к нему вышел уже мужчина в белых одеждах. Он поднял старика с колен и, взяв под руку, увел в дом. Прошло более четверти часа. Наконец старик вышел из дома, опять-таки в сопровождении этого господина. Тот перед расставанием поцеловал старика в лоб или, скорее всего, в седые волосы. Затем мы отправились домой, и я жал изо всех сил на педали, чтобы приехать пораньше, потому что на часах было уже около пяти.
К счастью, домой успели добраться еще засветло. Моя прекрасная Индара сначала проводила отца в его комнату, а вернувшись, бросилась мне на шею и принялась целовать как сумасшедшая, после чего потащила в ванную, чтобы я принял душ. Свежее и чистое белье уже наготове. Я помылся, побрился, переоделся и сел за стол. Индара, как обычно, ухаживает за мной. Пытаюсь заговорить, но она все крутится туда-сюда, делая вид, что очень занята. Тянет время, чтобы я не приставал с расспросами. Я сгораю от нетерпения, но четко знаю, что индуса или китайца никогда понуждать рассказать о чем-то нельзя. Нужно сначала выждать некоторое время, а затем спрашивать. Потом они сами расскажут обо всем, понимая, что ты ждешь к себе доверия, а когда они, в свою очередь, убедятся, что тебе можно доверять, они так и сделают. Так оно и вышло с моей Индарой.
Уже в постели после затяжного любовного акта Индара, расслабленная, прижалась горячей щекой к моей голой руке, стала говорить как бы отрешенно, не глядя на меня:
– Ты знаешь, дорогой, когда папа отправляется за золотом, он никому не причиняет зла. Напротив, он призывает духов, чтобы они охраняли дом, где он катает камень. В знак благодарности ему дают кусочек золота. Это старинный яванский обычай. Мы ведь приехали с Явы.
Вот что поведала мне моя принцесса. Но однажды на рынке со мной заговорила ее подруга. Я был один: Индара еще не дошла, а Квик-Квик с одноруким еще не подъехали. Красивая девушка, тоже с Явы, рассказала мне нечто совсем другое:
– Почему ты работаешь, раз живешь с дочерью колдуна? Ни стыда у нее, ни совести! Поднимает тебя в такую рань, даже если идет дождь. С тем золотом, что получает ее отец, ты мог бы и не работать! Уж если бы она любила тебя, то не будила бы ни свет ни заря!
– А чем занимается ее отец? Расскажи мне, я ничего не знаю.
– Ее отец – колдун с Явы. Стоит ему захотеть, он накличет смерть на тебя и твою семью. Единственный способ отвратить колдовство, которое он напускает с помощью волшебного камня, – дать ему золота. Тогда он начинает катать камень в другую сторону и отгоняет смерть, а заодно отвращает все несчастья от человека, призывает здоровье и благополучие для него, его близких и всего его дома.
– Индара не говорила мне ничего подобного.
Я решил проверить, кто из них прав. Несколько дней спустя я оказался с моим длиннобородым тестюшкой на берегу речки, пересекавшей квартал Пенитенс-Риверз и впадавшей в Демерару. На лицах рыбаков был написан страх. Они спешили предложить ему рыбину и тут же отгребали от берега. Я все понял. Расспрашивать еще кого-нибудь уже не было никакой необходимости.
Лично мне тестюшка-индус не доставлял особых хлопот. Он говорит со мной только на хинди и полагает, что я понимаю немного. На самом деле я никак не могу уловить, что он хочет сказать. Но, с другой стороны, это и хорошо – между нами не возникает никаких разногласий. И все же он подыскал для меня работенку: я наношу татуировку на лоб девочкам-подросткам от тринадцати до пятнадцати лет. Иногда он обнажает им грудь, и я рисую листья или лепестки цветов зеленой, розовой и голубой тушью, обводя в центре сосок, который после этого торчит, словно пестик. Самые храбрые – а это очень больно – соглашаются на ярко-желтое кольцо вокруг соска, но еще реже – на желтую татуировку самого соска.
Перед домом тесть повесил объявление на хинди: «Художник-татуировщик. Цена умеренная. Работа с гарантией». Сама работа хорошо оплачивается. Я доволен вдвойне: любуюсь прелестными грудками яванок и прилично заколачиваю. И так хорошо, и этак.
Рядом с гаванью Квик обнаружил ресторан, на него объявлена продажа. Он с гордостью сообщил мне эту новость и предложил купить заведение. Цена вполне сносная – восемьсот долларов. Если продать золото колдуна плюс наши сбережения, ресторан можно откупить. Я пошел посмотреть. Он расположен на маленькой улочке по соседству с портом. В любое время дня и ночи посетители найдутся. Большой зал весь в черно-белом кафеле. Восемь столов слева, восемь справа. В центре круглый стол для закусок и фруктов. Большая кухня, светлая и просторная. Четыре большие печи и две огромные кухонные плиты.
Ресторан и бабочки
Мы купили заведение. Индара сама продала наше золото. Впрочем, папа был очень удивлен, узнав, что я к нему даже не притрагивался, хотя он отдавал золото дочери для нас обоих. Он сказал:
– Я даю вам золото, чтобы вы с выгодой использовали его для себя. Меня не надо спрашивать, как его потратить. Делайте с ним, что хотите.
Выходит, мой тестюшка-колдун не такой уж и плохой мужик. У Индары тройственная роль: любовницы, жены и друга. Она не рискует вступать со мной в спор, а все время поддакивает, что бы я ни сказал. У нее бывает кислая физиономия, но только тогда, когда я разрисовываю девчонок.
Итак, я хозяин ресторана «Виктория» на Уотер-стрит в портовом центре Джорджтауна. Квик займется кухней, он любит свое дело, это его профессия. В обязанности однорукого входит закупка продуктов и приготовление шумэня. Шумэнь – что-то вроде китайских спагетти. Они делаются так. Пшеничная мука высших сортов смешивается с большим количеством яичных желтков и хорошо взбивается. Затем тесто раскатывается долго и упорно. Раскатка теста – очень трудная работа. Сначала оно раскладывается на столе, к центру которого крепится длинная, хорошо отполированная скалка. Однорукий перекидывает одну ногу через нее, а на другой скачет вокруг стола, опираясь на скалку рукой. Обработанное таким образом тесто становится легким и воздушным. В последний момент добавляется немного масла – и вкусное блюдо готово.
Ресторан, ранее убыточный, быстро приобрел известность. С помощью напарницы, очень красивой девушки-индианки по имени Дая, Индара обслуживала многочисленных посетителей, спешивших к нам отведать китайской кухни. Стали нашими завсегдатаями и беглые каторжники. Те, кто имел деньги, платили за обед, а кто был без денег, ели бесплатно.
– Накормишь голодного человека – будет удача, – сказал Квик-Квик.
Все вроде хорошо, но вот загвоздка – блеск и привлекательность наших официанток, особенно Индары. Обе выставляют напоказ свою прелестную грудь, прикрытую только легкой газовой тканью платья, боковой разрез которого при некоторых движениях обнажает еще и ножку вплоть до самого бедра. Американские, английские, шведские и норвежские моряки зачастую по два раза на день захаживают к нам, чтобы перекусить и насладиться зрелищем. Друзья называют мое заведение рестораном «подглядывающих котов». Ну что ж, а я хозяин ресторана. Для всех я стал боссом. В ресторане нет кассы, и официантки сдают выручку мне, а я складываю ее себе в карман. Я сам и рассчитываюсь, если требуется сдача.
Ресторан открывается в восемь вечера и работает до пяти или шести утра. Стоит ли говорить, что к трем часам у меня собираются проститутки со всего квартала. После хорошей ночи они приходят в ресторан со своими сутенерами или клиентами съесть цыпленка карри или салат из зеленой фасоли. Пьют пиво, предпочитая английское, виски, местный ром с содовой или кока-колой. Ресторан стал местом встречи для беглых французов, а я, будучи сам в бегах, стал и советчиком, и судьей, и доверенным лицом для всей колонии каторжников и ссыльных.
Случались в связи с этим и неприятности. Однажды коллекционер бабочек рассказал мне, как он охотится за ними в лесу. Сначала вырезает бабочку из картона, затем сверху наклеивает крылья той, какую хочет поймать. Свою бабочку он крепит к концу метровой палки. На охоте держит палку в правой руке и своеобразными движениями имитирует полет настоящей бабочки. Местом охоты он всегда выбирает лесные полянки, открытые солнечным лучам. Ему известен срок выхода из куколок для каждого вида. Есть такие виды бабочек, которые живут не более двух суток. Когда солнце начинает пригревать, только что вышедшие из куколок бабочки, увлекаемые инстинктом продолжения рода, устремляются к свету. Они издалека примечают особь своего семейства и быстро спускаются вниз. Если бабочка-приманка самец, к ней подлетает самец, чтобы поспорить за территорию. Мой приятель держит в левой руке сачок и не упускает момента поймать ее. В сачке имеется верхний пережим, куда и попадает бабочка. Ловцу нечего бояться, что она улетит, – он может продолжать охоту.
Если приманка – самочка, самцы летят к ней на спаривание. Результат тот же самый.
Самые красивые – ночные бабочки или мотыльки. Но внизу, у самой земли, очень трудно встретить хотя бы одного с непопорченными крыльями, так как они часто натыкаются на различного рода препятствия. Почти у всех крылья поцарапаны. Поэтому он лезет за ними на верхушку большого дерева и берет с собой рамку с натянутой на нее белой материей и карбидную лампу.
Получается как бы экран с нижней подсветкой. Большущие мотыльки с размахом крыльев от пятнадцати до двадцати сантиметров садятся на белое полотно. Остается только быстрым и сильным приемом придушить его, но при этом не раздавить тельце. Нельзя давать им трепыхаться, иначе попортятся крылья и цена на них упадет.
У меня на витрине всегда лежали небольшие коллекции бабочек, насекомых, маленьких змей и вампиров. Покупателей было больше, чем товара. Поэтому цены держались высокие.
Один американец показал мне бабочку с нижней парой крыльев стального и верхней парой светло-голубого цвета. Он заплатит пятьсот долларов за такой экземпляр. Это двуполая особь, или гермафродит.
Я поговорил с охотником, и он сказал, что однажды ему такая попалась и он продал ее за пятьдесят долларов. Позже один серьезный коллекционер его предупредил, что она стоит не меньше двух тысяч.
– Папийон, янки хочет тебя облапошить. Он считает, что ты дурачина-простофиля. Если бы этот экземпляр стоил полторы тысячи, он и то бы нажился на твоем невежестве.
– Ты прав. Выходит, он мерзавец. А что, если нам его облапошить?
– Каким образом?
– Надо, например, бабочке женской особи прилепить пару крыльев мужской, или наоборот. Сложность в том, как их закрепить, чтобы не было заметно.
После нескольких неудачных попыток нам прекрасно удалось прилепить пару мужских крыльев к великолепному экземпляру барышни – так, что комар носа не подточит. Мы сделали тончайшие боковые надрезы и вставили в них концы крыльев, смазав их прозрачным раствором балаты. Держит хорошо. Бабочку можно поднимать за ложные крылья – и они не отрываются. Я подсадил бабочку под стекло к другим из коллекции стоимостью около двадцати долларов, будто бы ничего не заметив. Наживка сработала. Стоило американцу увидеть свою мечту, как он тут же подошел ко мне и нахально протянул двадцать долларов за всю коллекцию. Я сказал, что уже пообещал коллекцию одному шведу, который попросил меня ее отложить.
В течение двух дней американец раз десять вертел в руках эту коробку. В конце концов он не выдержал и обратился с предложением:
– Я покупаю одну бабочку из коллекции. Даю двадцать долларов. Остальные остаются у вас.
– А что необычного в этой бабочке? – Я стал внимательно изучать ее. И спохватился: – Да это же гермафродит!
– Что вы сказали? Да, пожалуй. Поначалу я был не совсем уверен. Под стеклом не очень-то разглядишь. Позвольте вынуть?
Он стал рассматривать ее со всех сторон и под разными углами.
– Сколько хотите?
– Помнится, вы сами говорили, что подобный экземпляр стоит пятьсот долларов?
– Говорил и еще раз повторяю. И охотников предупреждал, что не собираюсь наживаться на их неосведомленности. Бабочка стоит этих денег.
– Значит, пятьсот.
– Покупаю. Отложите для меня. Держите шестьдесят и дайте расписку в получении аванса за покупку. Завтра принесу остальную сумму. Прошу вас, уберите ее из коробки.
– Хорошо. Она ваша. Я ее припрячу. Вот расписка.
Точно к открытию к дверям ресторана подкатил «линкольн». Из машины вылез американец. Он снова принялся рассматривать бабочку, но на этот раз с помощью небольшой лупы. У меня ушла душа в пятки, когда он стал переворачивать ее верх тормашками. Довольный, он оплатил покупку, положил бабочку в свою коробку, попросил другую расписку и с этим уехал.
Через пару месяцев меня замела полиция. По прибытии в участок я получил разъяснение, что арестован по обвинению в мошенничестве. На меня заявил некий американец. Шеф полицейского участка добавил по-французски:
– Речь идет о бабочке, которой вы приклеили крылья. Обманным путем вы, кажется, продали ее за пятьсот долларов.
Часа через два приехали Квик и Индара и привезли с собой адвоката. Адвокат хорошо говорил по-французски. Я ему объяснил, что ничего не понимаю в бабочках: я не охотник и не коллекционер. Я продаю коробки и этим оказываю услугу охотникам за бабочками, которые являются моими клиентами. А янки сам предложил купить эту бабочку за пятьсот долларов, лично я ему ничего не предлагал. И между прочим, если бы бабочка оказалась подлинной, как он и полагал, то вором следовало бы считать его, поскольку цена такой бабочки около двух тысяч долларов.
Через два дня состоялся суд. Мой адвокат выполнял роль и переводчика. Я повторил свои показания. Надо отдать должное адвокату: при нем оказался каталог цен на бабочек. По книге цена такого экземпляра составляла свыше полутора тысяч долларов. Американец проиграл иск. Он вынужден был оплатить судебные издержки, гонорар моему адвокату и двести долларов сверх всего.
Отпраздновать мое освобождение каторжники и индусы собрались все вместе. Пили домашний аперитив. Из семьи Индары все как один были на суде. Они очень гордятся, что породнились с таким большим человеком, правда гордость пришла после моего оправдания. Но они не так уж глупы, чтобы сомневаться, что это я приклеил крылья.
Настал день, когда пришлось продавать ресторан, – рано или поздно это должно было случиться. Индара и Дая были чертовски красивы, а их своеобразный стриптиз – за гранью дозволенного, но не дальше – распалял полнокровных моряков еще сильнее, чем если бы они были совершенно голыми. Мои красотки заметили, что чем ближе они подсовывают свои едва прикрытые соски под нос матросам, тем больше получают чаевых. Склонившись над столом в три погибели, они никак не могут разобраться со счетом, копаются со сдачей, все больше и больше наступая грудью на клиента. И в тонко рассчитанный момент, когда глаза матроса уже вылезают из орбит, они вдруг выпрямляются со словами:
– А мои чаевые?
– А-а!
И щедрая морская душа, распалившись сверх меры, сорит деньгами налево и направо.
Однажды произошло именно то, что я и предвидел. Рыжий и веснушчатый верзила, не удовлетворенный созерцанием обнаженного бедра в разрезе платья и задетый за живое краешком трико чуть повыше, запустил туда всю пятерню, а другой ручищей обхватил мою яванку, как тисками. У той в руках оказался кувшин с водой, который в ту же секунду обрушился ему на голову. Матрос поплыл вниз, но, падая, спустил трусики с маленькой принцессы. Я бросился его поднимать, однако дружки подумали, что я намерен избить матроса. Я и ахнуть не успел, как получил удар прямо в глаз. Возможно, боксер-мореход и впрямь хотел вступиться за своего приятеля или просто желал отыграться на муже за поступок прекрасной индианки, до которой никак не удавалось добраться. Кто его знает! Во всяком случае, глаз у меня заплыл. Он слишком скоро посчитал себя победителем и, приняв боксерскую стойку, заорал: «Box man, box!» Удар ногой в пах и следом удар головой а-ля Папийон уложили боксера на пол.
Завязалась всеобщая драка. Из кухни на помощь примчался однорукий со скалкой и принялся колошматить кого попало. Появился и Квик-Квик с длинной двузубой вилкой и стал ею тыкать направо и налево. Крутой парижанин, бывший некогда грозой дансинг-холлов на улице Лапп, вооружился стулом и орудовал им, как дубинкой. По вполне понятным причинам Индара покинула поле боя.
В итоге пять американцев получили серьезные ранения в голову, другие – двойные дырки в разных местах от вилки Квик-Квика. Везде кровь. В проеме входной двери появился негр-полицейский. Он там и остался стоять, чтобы никто не вышел. И очень кстати, поскольку тотчас же к ресторану подкатил джип американской военной полиции. Парни, одетые в белые гетры, размахивая дубинками, пытались силой вломиться в ресторан, видя своих моряков, истекающих кровью. Им очень хотелось отомстить за матросов. Но черный полицейский оттеснил их назад и, подняв руку с дубинкой поперек двери, сказал:
– Полиция его величества.
Только после этого появились и английские полицейские. Они вывели нас из ресторана и усадили в воронок. Привезли в участок. Кроме меня с фингалом под глазом, ни у кого нет даже царапины. Этот факт ставил под сомнение наши заверения, что мы действовали в законных пределах самообороны.
Через неделю состоялся суд. Председательствующий принял наши показания и всех освободил, кроме Квик-Квика. Ему дали три месяца за нанесение ран и побоев американским морякам. Трудно было найти какое-либо невинное объяснение тем двойным дыркам, на которые китаец оказался столь щедр.
Как следствие, за какие-то полмесяца – шесть драк. Стало невыносимо. Моряки решили не считать эту историю законченной. А поскольку в ресторане появляются все новые и новые морды во флотской форме, поди узнай – приятели они тем побитым или нет.
Итак, мы продали ресторан, не вернув даже тех денег, за какие покупали. И то верно, с такой репутацией вряд ли стоило ожидать, что покупатели станут в очередь.
– Что будем делать, безрукий?
– Подождем, когда выйдет Квик. Надо отдохнуть. Осла и тележки тоже нет: продали так же, как и своих клиентов. Лучше ничего не делать, а отдыхать. После увидим.
Квик освободился. Он нам сказал, что с ним обращались хорошо, не понравилось только то, что его поместили рядом с камерами, где сидели двое смертников. У англичан гадкий обычай: за сорок пять дней они объявляют приговоренному день и час его казни и что прошение к королеве о помиловании отклонено.
– Каждое утро, – продолжал рассказывать Квик, – они кричали друг другу: «Еще один день прошел, Джонни! Осталось еще столько-то!» А другой принимается его ругать и оскорблять все утро.
Вот только это, а в основном было спокойно. И англичане остались о Квике очень хорошего мнения.
«Бамбуковая хижина»
Паскаль Фоско приехал в город с бокситных рудников. Он один из участников вооруженного нападения на марсельский почтамт. Напарника казнили. Паскаль, пожалуй, самый лучший человек из наших. Хороший механик, он зарабатывает всего лишь четыре доллара в день, но даже на эти деньги умудряется кормить одного-двух каторжников, оказавшихся в нужде.
Этот рудник прячется глубоко в лесу очень далеко от Джорджтауна. Около жилпоселка расположилась еще небольшая деревенька, в которой живут рабочие и техперсонал. В порту идет непрерывная погрузка бокситов на суда. У меня вдруг возникла идея: а почему бы нам не создать увеселительное заведение в этой глуши? Должно быть, людям осточертело копаться в руде – им даже негде скоротать вечер.
– Верно, – подтвердил Фоско, – осточертело, и ни хрена там нет.
Прошло какое-то время, и вот мы сели на буксир – Индара, Квик, безрукий и я – и через пару дней по реке подошли к руднику «Маккензи».
На участке, где живут инженеры, мастера, рабочие высокой квалификации, – чистота и порядок. Уютные домики защищены металлическими сетками от комаров. Сама же деревня – сплошное убожество. Ни одного дома из кирпича, камня или железобетона. Какие-то глинобитные развалюхи с бамбуковым каркасом, покрытые листьями дикой пальмы. Только хижины самой последней застройки имеют крышу из оцинкованного железа. Четыре бара постоянно переполнены. Толкотня и давка за кружкой теплого пива. Ни одна точка не оборудована холодильником.
Прав Паскаль: тут есть где развернуться. Прежде всего, я беглый, привык к риску и не могу вести, как мои товарищи, нормальный образ жизни. Зарабатывать только на жизнь мне неинтересно.
Когда идет дождь, улицы деревни тонут в липкой грязи. Поэтому я выбрал место на возвышении рядом с центром. Я был уверен, что даже во время ливней мое заведение, которое я собирался построить, не будет подтопляться ни изнутри, ни снаружи.
Через десять дней с помощью плотников-негров, работавших на руднике, был построен прямоугольный зал размером двадцать на восемь метров. Тридцать столов, каждый на четыре человека, позволят обеспечить сто двадцать посадочных мест. Эстрадные подмостки, где будут проходить представления. Бар тянется во всю ширину зала. Дюжина высоких табуретов. Вплотную к кабаре – пристройка на восемь комнат, где могут расположиться шестнадцать посетителей.
Я поехал в Джорджтаун закупить материал, столы, стулья и прочее. По пути уговорил четырех негритянок поработать официантками. Дая, работавшая у меня в ресторане, тоже решила поехать с нами. Девушка-китаянка согласилась бренчать на стареньком пианино. Инструмент взял напрокат. Теперь осталось назначить день первого представления.
Мне стоило большого труда и уговоров заполучить двух яванок, португалку, китаянку и двух метисок на стриптиз. Пришлось пустить в ход все свое красноречие, чтобы убедить их оставить прежнее занятие – проституцию. Купил старый занавес красного цвета в лавке старьевщика. Теперь можно открывать и закрывать представление.
Закупать продукты и реквизит мы отправились всей компанией. С этой целью наняли рыбака-китайца вместе с его вместительным баркасом и отправились вверх по реке. В винной лавке нам отпустили в кредит всевозможные напитки. Мне доверяли, и я обязался платить каждый месяц от продажи, сверяясь с накладной. Новые поставки будут производиться по нашему запросу по мере необходимости. Купили подержанный граммофон и несколько стареньких пластинок, чтобы заполнять паузу, когда наша пианистка устанет мучить свой инструмент. Я разыскал одного индуса, в свое время скупившего барахло у бродячих артистов. Набрал у него разных платьев, юбок, черных и цветных чулок, поясов и лифчиков. Отобранный реквизит оказался в хорошем состоянии и отличался буйством расцветок. Теперь у моих артисток появился гардероб.
Квик, не теряя времени, закупал деревянную мебель и кровати; Индара – стаканы и все, что нужно для бара; я – напитки и все остальное по артистической части. Пришлось попотеть, чтобы все успеть: через неделю открываем заведение. Управились вовремя, баркас полностью загружен материалами и продуктами. Все заняли свои места, и мы двинулись в путь.
Через два дня мы прибыли в деревню. Появление десяти девушек в лесной глуши произвело настоящую сенсацию. А мы сразу же отправляемся к «Бамбуковой хижине» – так мы окрестили свой ночной бар. Каждый несет свой узел.
Начались репетиции. Научить моих артисток стриптизу не очень-то просто. И прежде всего потому, что я очень плохо говорю по-английски и мои пояснения туго доходят, а потом, девочки привыкли раздеваться в темпе, чтобы побыстрее обслужить клиента. А теперь все наоборот: чем медленнее раздеваешься, тем больше секса. Каждая девочка должна иметь свой сценический образ, гармонично сочетающийся с ее нарядом.
Маркиза, выступавшая в розовом корсете, кринолине, в длинных кружевных панталонах, медленно раздевалась перед огромным зеркалом за ширмой, что позволяло публике видеть каждый кусочек постепенно обнажаемого тела.
Ее сменяла девушка по прозвищу Прыткая, с гладким, аккуратно подтянутым животиком и кожей кофейно-молочного цвета с преобладанием светлых тонов – великолепный образчик смешения крови белого мужчины и метиски. Она удивительно хорошо сложена, а оттенок слегка поджаренных зерен кофе лишь подчеркивает правильность форм. Длинные черные волосы свободной волной падают на плечи, божественные в своей округлости. Полная высокая грудь смотрится превосходно, несмотря на некоторую утяжеленность. Соски чуть-чуть потемнее и почти сливаются с ней. Наряд, в котором она выступает, весь в застежках-молниях. Она выходит на сцену в костюме ковбоя: на голове шляпа с широкими полями, белая рубашка, на манжетах кожаная бахрома. Ее появление сопровождается звуками военного марша, сапожки сами собой слетают с ножек поочередно. Разом расстегиваются молнии на бедрах, и брюки падают к ее ногам. Летят застежки на рукавах – и рубашка распахивается.
Это потрясающее зрелище. Публика в отпаде. Обнаженная раскрепощенная грудь Прыткой в гневе и ярости выбрасывается наружу, как бы вырываясь из долгого заточения. Обворожительные бедра и стан. Прыткая, широко расставив ноги и упершись руками в бока, рассматривает зал, затем снимает шляпу и бросает ее на первый попавшийся столик у сцены.
Прыткая не манерничает и не делает стыдливых движений, как бы в нерешительности, когда дело доходит до главного. Она распахивает трико с обеих сторон и скорее срывает с себя, чем выходит из него. И в тот самый момент, когда она предстает перед публикой в костюме Евы с «велюровым бутоном» напоказ, другая девочка передает ей огромный веер из белых перьев. Она раскрывает его и прячется за ним.
В день открытия «Бамбуковая хижина» ломилась от гостей. Присутствовала вся администрация бокситного рудника. Шоу закончилось танцами. Уже светало, когда разошлись последние посетители. Успех грандиозный – большего нельзя было ожидать. Не обошлось без дополнительных затрат, но высокие цены с лихвой компенсировали расходы. Создавалось впечатление, что развлекательные программы кабаре в лесной глуши в скором времени обеспечат ему такую популярность, что для всех просто не хватит места.
Мои четыре черненькие официантки не успевали выполнять заказы. В коротеньких юбках, блузках с глубоким вырезом и красных платочках они выглядели очень эффектно, производя сильное впечатление на гостей. Индара и Дая присматривали каждая за своей половиной зала. Квик и однорукий хозяйничали за стойкой бара, принимая многочисленные заказы. А я везде поспевал, поправляя то, что не ладилось, и разряжая обстановку там, где это требовалось.
– Вечер удался на славу, – сказал Квик, когда официантки, артистки и сам хозяин остались одни в огромном помещении. Сели за стол одной большой семьей подкрепить свои иссякшие силы – и патрон, и служащие. Валились с ног от усталости, но были счастливы. Потом все отправились спать.
– Папийон, ты не собираешься вставать?
– А который час?
– Шесть вечера, – сказал Квик. – Твоя принцесса уже с двух часов помогает нам. Все готово к новому представлению.
Появилась Индара с кувшином горячей воды. Я побрился, помылся, привел себя в порядок, обнял жену за талию и повел в «Бамбуковую хижину». На меня посыпался град вопросов:
– Все ли нормально, босс?
– А я хорошо раздевалась? Что, по-вашему, можно было бы сделать лучше?
– А как я пела? Неужто не врала? Правда, публика очень доброжелательна.
Моя новая команда действительно хороша. Бывшие шлюхи, став артистками, серьезно относятся к своей работе и, кажется, очень рады, что оставили старое ремесло. Коммерческий успех грандиозен. Единственная трудность: на такое количество одиноких мужчин очень мало женщин. Все клиенты хотели бы провести если не всю ночь, то хотя бы бóльшую ее половину с одной из девушек, особенно из артисток. Стали возникать сцены ревности. То и дело публика взрывалась протестами, когда за одним столиком случайно оказывались сразу две девочки.
Черненькие официантки тоже нарасхват: во-первых, потому что милы, а во-вторых, потому что в лесу нет женщин. Иной раз Дая стоит за стойкой бара и отпускает напитки. Она любезна со всеми. В таких случаях у стойки собирается десятка два мужчин, чтобы насладиться компанией юной индианки, девушки поистине редкой красоты.
Во избежание ревности и недовольства со стороны клиентов, желавших заполучить артистку за свой столик, я завел лотерею. Взял колесо, разбил его на тридцать два сектора и пронумеровал от одного до тридцати двух: один номер на каждый столик и два на бар. Куда направиться исполнительнице стриптиза или песни, теперь решало колесо. Для участия в лотерее нужно было купить билет, стоимость которого равнялась цене бутылки виски или шампанского.
Такой системой, как мне казалось, я убивал двух зайцев. Во-первых, она устраняла все споры, а во-вторых, выигравший получал за свой столик на целый час цыпочку, входившую в стоимость его бутылки. А делалось это следующим образом: пока обнаженная исполнительница пряталась за огромным веером, раскручивалось колесо. И когда оно останавливалось на каком-либо номере, девушка поднималась на большой поднос, выкрашенный серебряной краской, и четверо молодцов несли ее к обладателям счастливого билета. Она сама открывала шампанское, делала глоток, оставаясь при этом голенькой; потом, извинившись, удалялась и возвращалась через пять минут уже одетой.
Шесть месяцев все шло хорошо. Но кончился сезон дождей, и стала прибывать новая клиентура из свободных старателей, этих охотников за золотом и алмазами, рыскавших в здешних лесах, столь богатых наносными залежами. Искать и добывать золото и алмазы старым дедовским способом – очень тяжелая забава. Среди самих старателей процветают убийства и грабежи. А посему вся эта армия была вооружена, и, когда у них появлялись мешочки с золотым песком, они никак не могли удержаться от того, чтобы не потратить добычу самым шальным образом. С каждой бутылки девочкам доставалось много спиртного. Очевидно, целуясь и обнимаясь с клиентами, они старались быстро и незаметно вылить шампанское или виски в ведерко со льдом, чтобы поскорее закончилась бутылка. Некоторые клиенты даже в страшном подпитии замечали эти проделки и реагировали так бурно, что мне пришлось и столы, и стулья посадить на шурупы.
С новой клиентурой случилось то, что и должно было случиться. Девушку, о которой пойдет речь, мы прозвали Цветок Корицы. Кожа ее действительно напоминала этот цветок. Свежая цыпочка, вытащенная мною со дна Джорджтауна, своей манерой исполнения стриптиза буквально сводила с ума посетителей «Бамбуковой хижины».
Когда наступал ее черед, на сцену выносился небольшой диванчик, обитый белым сатином, и она, исполнив стриптиз со свойственной только ей вакханальной фантазией, ложилась на него и принималась ласкать свое собственное тело. Длинные точеные пальцы легко скользили по всем его частям, вибрировавшим и двигавшимся при их прикосновении. Все тело при этом от головы до ступней ног как бы играло и волновалось.
Чувствуя к себе повышенный интерес, она потребовала, чтобы разыгрывавшие ее в лотерее покупали две бутылки шампанского вместо одной, положенной для других девочек. Случилось как-то раз затесаться в «Бамбуковую хижину» одному здоровяку-старателю, обладателю запущенной черной бороды. Много раз он пытался поставить на Цветок Корицы, но тщетно. И вот перед ее последним выходом, когда Индара пошла продавать билеты, он не придумал ничего лучшего, как скупить все номера в зале. Тридцать штук – остались только два на бар.
Заплатив за шестьдесят бутылок шампанского, наш бородач нисколько не сомневался в своей победе. Он уверенно ждал выхода Цветка Корицы и розыгрыша лотереи. В ту ночь Цветок Корицы выпила лишнего, и вино ударило ей в голову. Было уже четыре утра, когда она начала свое последнее представление! Под воздействием алкоголя она была еще более сексуальна, а ее движения и жесты – еще более обещающими. Дррр-ыыы-нь! И колесо закрутилось, его маленькая стрелка сейчас укажет того, кто выиграл приз.
Бородач изошел слюной при выступлении Корицы. Он весь в ожидании. Сейчас-сейчас ее поднесут на серебряном блюдце. Ему, кому же еще?! Поднесут накрытую знаменитым веером из перьев, и между парой волшебных ножек – две бутылки шампанского. Катастрофа! Проиграть с тридцатью номерами на руках! Выпал номер тридцать один – бар! Поначалу он даже ничего и не понял или почти ничего. Сообразил только тогда, когда увидел, что Корицу подняли и опустили на стойку. Тут-то негодяй и совсем сдурел. Рывком опрокинул стол и в три прыжка оказался у стойки. Выхватив пистолет, он всадил три пули подряд в бедную девчонку. На все ушло не более трех секунд.
Цветок Корицы умерла у меня на руках. Я поднял ее, уложив перед этим скотину ударом полицейской дубинки, с которой никогда не расставался. Если бы не официантка с подносом, подвернувшаяся некстати, мне кажется, я успел бы вмешаться и трагедии могло бы не произойти. В результате полиция закрыла «Бамбуковую хижину», и мы возвратились в Джорджтаун.
И снова мы живем в своем доме. Индара, истинная приверженка индуистской философии судьбы, не меняет своего характера. Для нее случившаяся катастрофа не имеет никакого значения. Можно заняться еще чем-нибудь! Китайцы такого же мнения. Ничего не изменилось в нашей дружной команде. Ни одного упрека в мой адрес за дурацкую идею разыгрывать девчонок в лотерею. Хотя, может быть, именно она и стала причиной печальной неудачи. Из заработанных средств мы скрупулезно рассчитались со всеми долгами и выделили некоторую сумму матери погибшей девушки. И нечего беспокоиться! Каждый вечер ходим в бар, где собирается «старая гвардия». Прекрасно проводим вечера. Но Джорджтаун с его ограничениями военного времени начинает мне надоедать. Кроме того, моя принцесса раньше никогда не была ревнивой и ничем не ущемляла мою свободу, а теперь она не отпускает меня ни на шаг, всюду следует за мной, часами может просиживать рядом, где бы я ни находился.
Открыть новое дело в Джорджтауне становится все сложнее и сложнее. Наступил день, когда мне страшно захотелось покинуть Британскую Гвиану и переехать в другую страну. Я же ничем не рискую – идет война. Ни одна страна не выдает беглецов. Во всяком случае, я так думал.
Побег из Джорджтауна
Гитту согласен со мной. Он полагает, что найдутся страны и получше, где живется легче, чем в Британской Гвиане. Стали готовиться к побегу. Что ни говори, а покинуть Британскую Гвиану – значит совершить серьезное преступление. Идет война, и ни у кого из нас нет паспорта.
Три месяца назад Шапар, после того как его деинтернировали, бежал из Кайенны. С тех пор он прохлаждается здесь, готовя лед у одного китайского пирожника за полтора доллара в день. Он тоже хочет распрощаться с Джорджтауном. И еще нашлись двое, готовые составить нам компанию: парень из Дижона по имени Депланк, другой – из Бордо. Квик и однорукий предпочли остаться. Они считают, что здесь все прекрасно.
Поскольку выход из устья Демерары находится под усиленным наблюдением и там понатыкано на каждом шагу пулеметных гнезд, торпедных аппаратов и тяжелой артиллерии, мы решили построить точную копию рыболовного судна, приписанного к Джорджтауну, и выйти в море. Конечно же, я очень ругал себя за то, что на исключительную привязанность ко мне Индары и ее преданность я отвечал черной неблагодарностью. Но я ничего не мог с собой поделать: она настолько в меня вцепилась, что это начало меня раздражать и я стал злиться. Среди простых людей встречается масса таких, которые лишены способности сдерживать свои чувства и даже не пытаются выждать ответного шага партнера. Эта индианка вела себя точно так же, как и две сестры из племени гуахира. Стоит только их чувствам раскрыться, как они тут же предлагают себя, и если не находят ответа, то последствия бывают самые тяжелые. Глубоко внутри их сознания зарождается червь сомнения в предчувствии надвигающегося несчастья, что всегда раздражало меня, хотя, честно говоря, я ничего не желал плохого ни Индаре, ни двум сестрам-гуахира. Поэтому часто приходилось принуждать себя, чтобы Индара, находясь в моих объятиях, не чувствовала с моей стороны никакого охлаждения.
На днях мне пришлось наблюдать забавную сценку с точки зрения мимики или притворства. В Британской Гвиане существует своего рода современное рабство. Яванцы, нанимаясь на работу на плантации хлопка, сахарного тростника или какао, подписывают контракт на пять-десять лет. Муж и жена обязуются выходить на поденную работу каждый день, кроме тех, когда они больны. Но если врач не установит их болезни, они штрафуются дополнительным месяцем работы по истечении срока контракта. А там добавляются еще месяцы за разные малые проступки. Но поскольку они все страшно любят азартные игры, то быстро залезают в кабалу на той же плантации: чтобы рассчитаться с кредиторами, они продлевают контракты на год и еще на год, а из полученного аванса делают новые долги.
Практически они так с плантации и не вылезают. Для этих людей, способных поставить на кон собственную жену и сдержать слово в случае проигрыша, существует один священный закон – дети. Они сделают все, чтобы только их дети не попали в кабалу. Они могут попасть в какие угодно трудности, перенести какие угодно лишения, но их дети чрезвычайно редко подписывают контракт с плантацией.
Так вот, в тот день одна молодая индианка выходила замуж. Собралась уйма народу, все одеты в длинные платья: женщины под белой вуалью и мужчины в белых туниках до пят. Много флердоранжа. После всевозможных религиозных церемоний, когда муж стал уводить жену, развернулось настоящее представление. Слева и справа от дорожки, ведущей из дома, рядами разместились приглашенные: женщины – с одной стороны, мужчины – с другой. На крыльце перед открытой дверью сидят отец и мать. Новобрачные, расцеловавшись на прощанье с родителями и родственниками, пошли между рядами. Пройдя несколько метров, жена вдруг вырвалась из рук мужа и бросилась назад к матери. Мать одной рукой прикрыла глаза, а другой стала делать знаки, чтобы дочь возвращалась к мужу.
Муж протягивает руки к жене и зовет ее, она жестами и мимикой показывает, что не знает, как поступить. Ведь мать родила ее – следует пантомима появления на свет. Ведь мать вскормила ее своей грудью – разыгрывается сцена кормления. Неужели ей придется все позабыть, чтобы пойти за любимым?! Может быть, но не торопи, говорят ее руки, потерпи немного, дай мне последний раз взглянуть на возлюбленных родителей, единственно ради которых я жила, пока не встретила тебя.
Жесты мужа утверждают, что так требует жизнь: ей тоже надлежит стать женой и матерью. И все это сопровождается пением девочек, которым вторят мальчики. Наконец она в последний раз вырывается из рук мужа, прощается с родителями, бежит назад к любимому и падает в его объятия. Он поспешно ее уводит, сажает в небольшую повозку, убранную гирляндами цветов, и они уезжают.
Побег готовится очень тщательно и со всеми предосторожностями. Мы выбрали широкую и длинную лодку с хорошим главным парусом и фоком, с первоклассным рулем. Приняли меры, чтобы полиция не могла нас ни в чем заподозрить. Мы прячем нашу лодку в нижней части притока Пенитенс-Риверз, впадающего в большую реку Демерару. Она выкрашена в тот же цвет и имеет тот же номер, что и китайское рыболовное судно, зарегистрированное в Джорджтауне. Правда, команда не та: китайцы – сухопарые коротышки, а мы – высокие здоровяки. Договорились в лодке не стоять, а сидеть на корточках на случай, если луч прожектора выхватит нас из темноты.
Все прошло без сучка без задоринки. Стрелой проскочили Демерару и вышли в море. То, что нам удалось улизнуть совершенно не замеченными, доставляет определенную радость, но она не может быть полной, потому что эта радость с горчинкой: убежал, как вор, ни о чем не предупредив мою маленькую принцессу. Я не доволен собой. Ни Индара, ни ее отец, ни их знакомые не сделали мне ничего плохого. Я видел от них одно хорошее. И вот как я им ответил – злом на добро. Я не ищу никаких оправданий своему поступку. Да и что, собственно, можно найти в нем хорошего?! Поэтому я очень не доволен собой. Просто некрасиво. Да еще оставил после себя совершенно открыто на столе шестьсот долларов. То, что мне дали, не оплатишь никакими деньгами.
В течение сорока восьми часов буду держать строго на север, захотелось осуществить старую идею – добраться до Британского Гондураса. Таким образом, двое суток будем идти в открытом море.
В побеге участвуют пятеро: Гитту, Шапар, Баррьер из Бордо, Депланк из Дижона и я, Папийон, капитан и штурман.
Едва перевалило за тридцать часов с начала нашего плавания, как на море разыгралась страшная буря, переросшая в тайфун или циклон. Молнии, гром, дождь, огромные и беспорядочные волны, ураганный ветер с сильными вихрями, которому невозможно было ни противостоять, ни сопротивляться. Волны громоздились друг на друга, и наша лодка плясала, как необъезженный конь. Никогда в жизни не видел я ничего подобного и даже не мог себе представить. Впервые в своей практике я встретился с ветром, постоянно менявшим направление. Попутный пассат вдруг прекратился, и нас несло в темпе вальса в противоположную сторону. Если бы так продолжалось неделю, нас снова принесло бы на каторгу.
Этот тайфун, между прочим, запомнился не только нам, о чем я узнал уже позже на Тринидаде от французского консула месье Агостини. У него на плантации тайфун срезал шесть тысяч кокосовых пальм, пройдясь по ним, как пилой, на высоте человеческого роста. Тайфун поднимал в воздух целые дома, унося их далеко и бросая на землю или в море. Мы потеряли все: и съестные припасы, и багаж, и даже бочки с водой. Мачта сломалась на высоте двух метров и умчалась вместе с парусом. Но что хуже всего – разбился руль. Шапару просто чудом удалось спасти небольшое весло, и этой лопаткой я пытался управлять лодкой. Мы стали собирать с миру по нитке, чтобы соорудить какое-то подобие паруса. Разделись до трусов: в дело пошли куртки, штаны, рубашки. На борту оказался небольшой моток железной проволоки, с помощью которой мы сшили парус и закрепили его на обрубке мачты. Хоть так, но все-таки плывем.
Снова задули пассаты, и я, воспользовавшись их возвращением, направил лодку на юг, чтобы добраться хоть до какой-нибудь земли, пусть даже до Британской Гвианы. Приговор, который нас может ожидать там, показался бы нам благостью, ибо я не устану повторять, что это был не просто шторм или ураган, а поистине катаклизм, светопреставление. Однако мои товарищи проявили себя с хорошей стороны.
Только к концу шестых суток, при полном штиле в последние два дня, мы увидели землю. С этим парусом-портянкой и ветром, гуляющим во всех его дырах, идешь не так, как хочется, а как бог велит. Да и руль слабоват, чтобы уверенно держать нужное направление. Оттого что мы голые и на всем теле нет живого места, вдвое убавилось сил. Нос у каждого облупился до живого мяса. Кожа на губах, руках, бедрах потрескалась и кровоточит. Мучит страшная жажда. Депланк и Шапар дошли до того, что стали пить соленую воду. После этого они страдают еще больше. Несмотря на жажду и голод, который тоже все испытывают, никто не жалуется. Никто никому не дает советов. Хочешь пить соленую воду – пей. Сполоснулся и при этом утверждаешь, что освежает, – ради бога. Но и то и другое приносит только дополнительные страдания. Минутная свежесть после испарения соленой воды сменится в ранах усиленным жжением.
У меня единственного остался один здоровый глаз, он пока еще открыт. У товарищей вместо глаз сплошные гнойники, постоянно заплывающие гадкой слизью. Но даже ценой адской боли их надо промывать, чтобы смотреть в оба. Солнце палит с такой силой, будто хочет превратить наши болячки в сплошные язвы. Депланк стал заговариваться, бредит идеей выброситься за борт.
Прошел час с того момента, когда мне показалось, что я увидел землю на горизонте. Не говоря ни слова, я направил лодку куда следует, хотя полной уверенности не было. Появились первые птицы и закружились над нами, значит я не ошибся. Их крик взбодрил моих товарищей, обалдевших от солнца и усталости: до сих пор они лежали на дне лодки, прикрываясь руками от жарких лучей.
Гитту прополоскал рот, чтобы выдавить из себя хотя бы слово:
– Ты видишь землю, Папи?
– Да.
– Сколько, по-твоему, времени до нее идти?
– Часов пять или семь. Послушайте, братья, я выдохся. Меня так же, как и вас, прижарило солнцем. К тому же задницу и ляжки натерло деревом и разъело морской водой. Ветра нет, и нас гонит потихоньку. Руки постоянно сводит судорога, а запястья так натружены, что больно держать это проклятое весло, которое у нас вместо руля. Согласитесь ли вы с тем, что я сейчас скажу? Давайте спустим парус и натянем его над лодкой наподобие тента, чтобы уберечься от солнца хотя бы до вечера. Лодку все равно прибьет к берегу. Вот что надо сделать, если никто не хочет сесть на мое место за руль.
– Нет-нет, Папи. Поступай, как знаешь. Надо бы поспать под тенью паруса, а один подежурит.
Солнце только что прошло зенит, когда я внес такое предложение. Наконец-то с удовольствием и облегчением, какое может испытывать животное, я растянулся в тени на дне лодки. Друзья отвели мне лучшее местечко на носу, где забортный воздух как-то проникал внутрь судна. Наш вахтенный сидел, но тоже в тени. Вскоре все мы вместе с вахтенным поплыли в дреме. Люди были до того измождены беспощадным солнцем, что едва благодатная тень и божественная прохлада коснулись нас, как мы тут же погрузились в глубокий сон.
Вдруг нас всех разбудил вой сирены. Я оттолкнул от себя парус: за бортом темно. Который час? Когда я снова занял свое привычное место за рулем, прохладный бриз ласково пробежался по избитому телу. Я тут же озяб, но до чего же было приятно ощущение, что ты уже больше не сидишь на раскаленной сковородке! Мы подняли паруса. Когда я сполоснул лицо морской водой – к счастью, только один глаз гноился и болел, – то слева и справа от себя очень ясно увидел землю. Где это мы? К какому берегу направиться? Снова раздался вой сирены. Я засек его: он слышался справа. Что он хочет мне этим сказать?
– Как ты думаешь, где мы, Папи? – спросил Шапар.
– Честно говоря, не знаю. Если эта земля не остров и все остальное залив, тогда мы, возможно, достигли оконечности Британской Гвианы в том месте, где она граничит с Венесуэлой по реке Ориноко. Но если между левым и правым берегом пролегает большое расстояние, тогда вон та точка будет островом. Это Тринидад. В таком случае слева от нас Венесуэла, и, значит, мы находимся в заливе Пария.
Весь этот мысленный расклад я провел по картам, которые раньше приходилось изучать. Если справа Тринидад, а Венесуэла слева, то куда податься? Наша судьба зависела от нашего же решения. Ветер хорош, и он может домчать нас до любого берега. Какое-то время мы не двигались ни туда, ни сюда. На Тринидаде англичане – то же самое правительство, что и в Британской Гвиане.
– Уверен, что с нами обойдутся хорошо, – сказал Гитту.
– Да, но что нам скажут, когда узнают, что мы нелегально оставили их территорию в военное время?
– А что ты знаешь о Венесуэле?
– Не знаю, как сейчас, – продолжил Депланк, – но при президенте Гомесе беглых каторжников заставляли работать на строительстве дорог в жесточайших условиях. А потом все равно выдавали французским властям.
– Да, но теперь другое время. Идет война.
– В Джорджтауне я слышал, что Венесуэла не воюет. Она придерживается нейтралитета.
– Ты уверен?
– Более чем уверен.
– В таком случае нас там не ждет ничего хорошего.
Слева и справа видны огни. И снова сирена – на этот раз три коротких гудка. Справа вспыхнул прожектор и прошелся по нашему судну своим лучом. Далеко впереди только что взошла луна, и дорожка от нее захватила нашу лодку. Спереди в непосредственной близости от нас из воды торчат две остроконечные скалы. Так вот почему воет сирена – она нас предупреждает, что здесь опасно.
– Посмотри, буи! Целая цепочка. Почему бы нам не пристать к ним и не дождаться рассвета? Шапар, спусти парус.
Шапар тут же стащил вниз коллекцию штанов и рубашек, которую я так помпезно называл парусом. Я заработал веслом и подогнал лодку носом к одному из буев. К счастью, на лодке оказался линь порядочной длины, крепко прицепленный к причальному кольцу, его даже циклон не сумел сорвать. Пришвартовались. Но привязались не к бую, вид которого был очень странным (на его поверхности не оказалось ничего такого, за что можно было бы закрепиться), а к тросу, который шел от одного буя к следующему. Несомненно, этими буями отмечен судоходный фарватер, поэтому мы сделали все правильно. Не обращая внимания на сигналы сирены, продолжавшей завывать с правого берега, мы легли на дно лодки, укрывшись от ветра нашим парусом. На ветру и ночном воздухе я продрог до костей, но теперь стал приятно согреваться и наверняка уснул одним из первых.
Когда я проснулся, уже вовсю светило солнце. Утро было ярким и светлым. Под нами играла и бежала вода, по ее зелено-голубому цвету можно было догадаться, что дно выложено кораллами.
– Что будем делать? Не пора ли причаливать к берегу? Жрать и пить так хочется, что я чуть не подыхаю.
Впервые послышались жалобы, что мы ничего не ели с того злополучного дня. А таких дней набралось уже семь.
– До берега рукой подать. Что за преступление, если мы причалим? – осведомился Шапар.
Сидя на корме и глядя вперед за большие скалы, поднимавшиеся из воды, я отчетливо увидел гигантскую расселину в суше. Все правильно: справа Тринидад, слева Венесуэла. Нет никакого сомнения, что мы находимся в заливе Пария. Теперь понятно, почему вода голубая, а не желтая: мы стоим на морском течении, которое разделяет две страны и далеко выносится в море. Только так, а не в устье Ориноко.
– Что будем делать? А это вам решать, ребята. Слишком большая ответственность одному принимать решение. Справа английский остров Тринидад. Слева Венесуэла. Куда хотите идти? Нам надо выбираться на берег поскорее. Лодка в таком же плачевном состоянии, как и мы сами. Здесь у нас двое, которые отбарабанили свой срок: Гитту и Баррьер. Мы втроем: Шапар, Депланк и я рискуем больше. Нам всем решать. Что скажете?
– Лучше идти на Тринидад. Мы ничего не знаем о Венесуэле.
– Незачем принимать решение, – сказал Депланк. – За нас это сделает катер, который сюда направляется.
И действительно, к нам быстро приближался катер. Подъехал и остановился метрах в пятидесяти. Человек поднес к губам рупор. Я заметил флаг – не английский. Такого флага я раньше не видел: очень красивый и весь усыпан звездами. Должно быть, венесуэльский. Позже этот флаг стал «моим флагом», штандартом моей новой родины, самым волнующим для меня символом, воплощающим в куске ткани самые благородные качества замечательного народа, ставшего впоследствии моим народом.
– Quiénes son? (Кто вы?)
– Французы.
– Están locos? (Вы сошли с ума?)
– Почему?
– Porque están amarrados a las minas. (Потому что вы привязались к мине.)
– Вы поэтому и не подходите ближе?
– Да. Немедленно отчаливайте.
– Хорошо.
Шапар в три секунды отвязал линь. Оказывается, мы пришвартовались к связке плавающих мин. Мы подошли к катеру, и капитан сказал нам, что это просто чудо, что мы не взлетели на воздух. Они не стали спускаться в лодку, а передали нам кофе, горячее молоко с сахаром и сигареты.
– Идите в Венесуэлу. Вас хорошо примут, уверяю вас. Мы не можем взять вас с собой, потому что спешим на маяк Баримас. С него надо снять тяжело раненного человека. Срочное дело. Решайте сами, но на Тринидад не ходите: десять против одного, что подорветесь на мине. А там…
И с последними словами капитана «Adiós, buena suerte (до свидания, удачи)» катер отвалил. Нам оставили два литра молока. Мы подняли парус. К десяти часам утра, после кофе и горячего молока, мой желудок стал приходить в порядок. Покуривая сигарету, я направил свою лодку без всякой предосторожности к берегу, и вскоре она уткнулась в мягкий пляжный песок. На берегу нас встречало человек пятьдесят, пришедших посмотреть на прибытие странного судна, на котором вместо мачты какой-то обрубок, а вместо паруса болтались куртки, рубашки и штаны.Тетрадь тринадцатая Венесуэла
Рыбаки из Ирапы
Я открыл для себя новый мир, народ и цивилизацию, ранее совершенно не известные мне. Эти первые минуты нашего пребывания на венесуэльской земле были настолько волнующими, что не с моими талантами их описывать. Здесь требуется талант посолиднее, чтобы объяснить, выразить, обрисовать всю атмосферу сердечного приема, оказанного нам этими простыми и щедрыми людьми. Среди них есть белые и черные, но основной оттенок кожи – светлый, какой бывает у белого человека, если он несколько дней позагорает на солнце, и почти у всех штаны закатаны до колен.
– Бедные люди, до какого состояния вы дошли! – причитали они.
Рыбацкая деревня, куда мы прибыли, называется Ирапа, административно она входит в штат Сукре. Женщины деревни, все без исключения, немедленно превратились в наших нянечек, сиделок и опекунш. Тут и молодые (небольшого роста, но, боже, до чего изящные), и среднего возраста, и пожилые.
Нас привели в дом, где висело пять гамаков, сплетенных из шерсти, стояли стол и стулья. Там каждого из нас натерли с головы до пят маслом какао. Ни одну живую ранку не обошли. Оголодавшие, умирающие от усталости, после столь длительного поста, вызвавшего определенное обезвоживание организма, мы попали в добрые руки рыбачек. Они были прекрасно осведомлены, что в подобном состоянии больному надо не только спать, но и питаться, съедая за раз очень небольшие порции пищи.
Мы лежали каждый в своем гамаке, и наши сиделки-самоучки кормили своих пациентов с ложечки даже во сне. Силы полностью оставили меня в тот момент, когда меня уложили в гамак, предварительно смазав все мои болячки маслом какао. Я словно куда-то провалился: спал, ел и пил, совершенно не сознавая, что творится вокруг меня.
Мой пустой желудок никак не хотел принимать первые ложки тапиоки. Впрочем, не только мой. Нас всех рвало по несколько раз иногда с частичным, а иногда с полным отторжением пищи, которую эти добрые женщины вводили нам в рот.
Жители Ирапы исключительно бедны. И тем не менее никто не остался к нам безучастным – каждый старался помочь, чем мог. Через три дня благодаря их коллективной заботе и нашей молодости мы были снова почти на ногах. Мы уже не лежим часами, а сидим в прохладной тени под навесом из веток кокосовой пальмы и разговариваем с жителями Ирапы. Они не так богаты, чтобы одеть нас всех сразу. Поэтому организовались небольшие группы: одна занимается Гитту, другая – Депланком и так далее. А мною занимается целая дюжина.
Первые дни нас одевали во что попало, все поношенное, но безупречно чистое. Сейчас, если предоставляется возможность, нам покупают то новую рубашку, то штаны, то ремень, то пару домашних туфель. Среди ухаживающих за мной есть две очень молоденькие девушки. Они похожи на индианок, но уже заметно чувствуется испанская и португальская кровь. Одну зовут Тибисай, другую – Ненита. Они мне купили рубашку, штаны и домашние туфли, которые они называют «альпаргатас». Туфли с открытой пяткой, поддерживаемой ремешком, подошва без каблуков, открытый носок, а сверху матерчатая плетенка.
– Нам незачем спрашивать, откуда вы. И по татуировке видно, что бежали с французской каторги.
Это растрогало меня еще больше. Надо же! Знают, что мы отбывали срок за серьезные преступления, бежали из тюрьмы. А ведь в газетах и журналах каких только ужасов про нас не понаписано! И что же? Эти скромные и послушные люди считают вполне естественным взять нас к себе и оказать помощь? То, что богатый или просто зажиточный человек раздает нуждающимся одежду или кормит их из своих обильных запасов, – это уже добродетель. Но когда бедняк отдает последнее и делит пополам маниоковую или кукурузную лепешку, в то время как ему самому и его семье не хватает еды, – это высшая добродетель. Разделить скудную трапезу с незнакомцем, беженцем правосудия – это ли не проявление истинного благородства!
Сегодня утром все как-то присмирели – и мужчины, и женщины. На лицах – озабоченность и беспокойство. Что случилось? У меня Тибисай и Ненита. Я побрился первый раз за две недели. Вторую из них мы гостим у наших великодушных хозяев. Солнечные ожоги затянулись на лице тонкой корочкой, поэтому вполне можно пользоваться бритвой. Борода скрывала мой возраст, и девушки имели о нем самое смутное представление. Они были приятно удивлены, увидев, что я молод. Так прямо и сказали по своей наивности. Мне тридцать пять, но выгляжу, пожалуй, на двадцать восемь или тридцать. Чувствую, что беспокойство, проявляемое сегодня этими гостеприимными и сердечными людьми – и мужчинами, и женщинами, – явно касается нас.
– Что произошло? Скажи мне, Тибисай. В чем дело?!
– Мы ожидаем представителей власти из Гуирии, большой деревни, что рядом с Ирапой. Здесь нет администрации. Полиция каким-то образом прознала, что вы у нас. Вот-вот они приедут.
Ко мне пришла высокая миловидная негритянка и привела с собой юношу, сложенного удивительно пропорционально. Юноша голый по пояс, в штанах, закатанных по колено. В Венесуэле цветных женщин часто называют ласкательным именем Негрита. В этом не чувствуется никакой предосудительности и нет ничего от религиозной или расовой дискриминации. Итак, Негрита сказала мне:
– Сеньор Энрике, к нам едет полиция. Не знаю, как они с вами обойдутся, плохо или хорошо. Не хотите ли на некоторое время спрятаться в горах? Мы можем вам помочь. Брат отведет вас в хижину, где никто вас не отыщет. Тибисай, Ненита и я по очереди будем носить вам еду каждый день и сообщать, как обстоят дела.
Я был тронут до глубины души и пытался поцеловать руку благородной девушки, но она отвела ее и поцеловала меня в щеку нежно и непорочно.
В деревню галопом прискакала группа всадников. У всех на боку слева, словно мечи, болтаются мачете – длинные ножи для рубки сахарного тростника. У всех на поясе патронташи, набитые пулями, и у каждого большой револьвер в кобуре. Спешились. К нам приблизился длинный и тощий человек с монголоидными чертами лица и раскосыми глазами-щелочками. Он весь красный, как медный котел. На вид ему не более сорока. На голове огромная широкополая шляпа из рисовой соломки.
– Добрый день. Я префект местной полиции.
– Добрый день, сеньор.
– Вы, люди, почему не сообщили, что у вас живут пятеро беглых каторжников из Кайенны? Говорят, уже неделю. Отвечайте.
– Мы ждали, когда они смогут встать на ноги и когда у них заживут солнечные ожоги.
– Мы приехали за ними и заберем в Гуирию. Сейчас приедет грузовик.
– Хотите кофе?
– Да, пожалуйста.
Мы сели в круг, и каждый получил свой кофе. Я стал разглядывать префекта и полицейских. Они не показались мне злыми. Складывалось впечатление, что они лишь исполнители приказа сверху, с которым в душе необязательно согласны.
– Вы бежали с острова Дьявола?
– Нет, мы прибыли из Джорджтауна, Британской Гвианы.
– И что же вам там не сиделось?
– В тех краях трудно заработать себе на жизнь.
Он усмехнулся и сказал:
– Вы полагаете, что здесь вам будет лучше, чем у англичан?
– Да, потому что мы, как и вы, романского происхождения.
К нашему кругу приблизилась группа из семи или восьми мужчин во главе с седовласым человеком лет пятидесяти, среднего роста, с кожей совершенно шоколадного цвета. В больших черных глазах светится живой острый ум. Правая рука – на рукоятке мачете сбоку.
– Префект, что вы собираетесь делать с этими людьми?
– Отвезу в Гуирию и посажу в тюрьму.
– Почему вы не позволяете им остаться здесь, с нами? Мы их всех разберем по семьям.
– Это невозможно – у меня приказ губернатора.
– Но они не совершили никаких преступлений на земле Венесуэлы.
– Это мне известно. И все же они очень опасны. Чтобы попасть во французские исправительные колонии, надо совершить что-то серьезное. А кроме того, они бежали без документов, и французы обязательно потребуют их выдачи, как только узнают, что они в Венесуэле.
– Мы хотим, чтобы они остались с нами.
– Невозможно – приказ губернатора.
– Все возможно. Что знает губернатор о несчастных и бедных? Человека никогда нельзя считать пропащим. Что бы он ни совершил, в жизни всегда наступает момент, когда ему хочется искупить свою вину, когда он сможет стать полезным обществу. Разве это не так? Люди, скажите!
– Так, так, – отвечали хором мужчины и женщины. – Оставьте их нам, и мы поможем им начать новую жизнь. За эту неделю мы убедились, что они хорошие люди.
– Люди куда более цивилизованные, чем мы, посадили их в камеры, чтобы им неповадно было творить зло, – сказал префект.
– Что вы называете цивилизацией, начальник? – спросил я. – Вы полагаете, что если у нас есть лифт, самолеты и метро, то из этого следует, что французы более цивилизованные, чем ваши люди, которые приняли нас и оказали нам помощь? А по моим скромным понятиям, здесь, в этой бедной общине на лоне природы вдали от промышленной цивилизации, в каждом из живущих гораздо больше цивилизованности, благородства души и человеческого сострадания. И если они обойдены благами технического прогресса, то уж христианского милосердия в каждом из них больше, чем у всех претендующих называться цивилизованными нациями мирового масштаба, вместе взятых. Я предпочту иметь дело с любым жителем вашей деревни, не умеющим ни читать, ни писать, чем с выпускником Сорбонны, – я имею в виду того, кто приговорил меня к каторге. Первый всегда остается человеком, второй даже забыл, что он человек.
– Я все понимаю. Однако всего лишь выполняю приказ. А вот и грузовик. Прошу вас проявить благоразумие и помочь мне исполнить мои обязанности без всяких осложнений.
Женщины стали по очереди прощаться со своими подопечными. Со мной попрощались Тибисай, Ненита и Негрита. Все трое заливаются горючими слезами. Мужчины пожимают нам руки – им очень больно наблюдать, как нас увозят в тюрьму.
Прощайте, люди Ирапы! Вы имели мужество вступиться перед своими властями за гонимых и страждущих, которых вы не знали еще вчера. Вы разделили с нами хлеб, заработанный в поте лица, которого постоянно не хватает вашим собственным семьям. Вы оторвали его от себя и дали нам. Пусть этот хлеб станет для меня символом человеческого братства, назиданием из кладезя древней мудрости: «Не убий, делай добро, не отринь руки просящего, сам пребывая в нужде, помоги несчастному и всем тем, кто более страждет, чем ты сам».
Если однажды мне суждено стать свободным, то я буду помогать другим, чем только смогу. Этому меня научили первые венесуэльцы, которых я встретил, и я еще встречу много таких.
Тюрьма в Эль-Дорадо
Через два часа мы очутились в большом поселке, расположившемся на берегу моря. Он имеет все основания превратиться в скором времени в город и морской порт. Название поселка Гуирия. Префект передал нас в руки районного шефа полиции. В полицейском участке с нами обходились довольно сносно, но допрашивали дотошно. Проводивший дознание чиновник, глупый, как пробка, напрочь отказался поверить, что мы приплыли из Британской Гвианы, где пользовались совершенной свободой. Он попросил нас объяснить, каким образом за такое короткое расстояние – от Джорджтауна до залива Пария – мы умудрились довести себя до состояния почти полной дистрофии? И когда я рассказал ему, что на пути к Венесуэле нас настиг жесточайший ураган, который и был всему причиной, – поверить в это оказалось выше его сил. Он посчитал, что мы его разыгрываем.
– В этом шторме погибли два больших судна, груженные бананами, вместе с командой. И еще один сухогруз с бокситами, и тоже с командой. А вы утверждаете, что выжили на своей пятиметровой лодке, открытой всем четырем ветрам? Кто же поверит в эти басни! Даже старый дурак, который клянчит милостыню на рынке, ни за что не поверит. Врите, да не завирайтесь. Видно, дело нечисто, что-то вы скрываете.
– Наведите справки в Джорджтауне.
– Не хватает еще, чтобы англичане подняли меня на смех.
Не знаю, что и куда настрочил на нас этот тупорылый кретин, безмозглый и надутый чинуша, ни во что и никому не верящий, но только как-то поутру, часов в пять, нас разбудили, заковали в цепи, посадили в грузовик и повезли неведомо в каком направлении.
Раньше говорилось, что Гуирия находится на заливе Пария, как раз напротив Тринидада. Гуирия лежит в устье большой реки Ориноко, по величине не уступающей Амазонке, это еще одно ее преимущество.
Так вот, из Гуирии, привязанные друг к другу цепью, в сопровождении десятка полицейских, мы подъезжали на грузовике к Сьюдад-Боливару, крупному городу и столице штата Боливар. Путешествие на колесах по грунтовым дорогам весьма изнурительное и невеселое занятие. И узники, и стража одинаково страдали от жуткой тряски в кузове машины. Грузовик гремел на рытвинах и ухабах, а вместе с ним гремели и мы, словно мешки с орехами. До города добирались пять дней: дело в том, что ночью мы спали прямо в машине, а с утра снова отправлялись в дурацкую гонку неведомо куда.
Наконец, оторвавшись от моря более чем на тысячу километров, мы достигли места своего назначения, проехав от Сьюдад-Боливара до Эль-Дорадо по грунтовой дороге, пробитой через девственный лес. Тут дорога и оборвалась. К этому времени стража и узники выдохлись полностью.
Что же собой представляет Эль-Дорадо? Он прежде всего был надеждой испанских конкистадоров, которые, видя, что местные индейские племена носят много золота, твердо полагали, что где-то в этих местах скрывается гора из золота или по крайней мере наполовину из земли и наполовину из золота. Сейчас Эль-Дорадо представляет собой просто деревню на берегу реки, в которой полно харибы, пираньи – этих хищных рыб, способных за несколько минут сожрать человека или животное; электрических угрей, обвивающих свою жертву, человека или животное, и убивающих ее электрическим разрядом, а затем высасывающих разлагающуюся плоть до самого скелета. Посередине реки лежит остров, а на острове – концлагерь. Это венесуэльская каторга.
Из всего, что мне довелось увидеть в этом роде, исправительно-трудовая колония Эль-Дорадо отличалась от прочих жестокостью, дикостью и бесчеловечностью обращения. Здесь заключенных подвергают постоянным побоям и издевательствам. С точки зрения постройки, она представляет собой квадратную площадку на открытом воздухе со стороной сто пятьдесят метров, обнесенную колючей проволокой. В ней содержится до четырехсот человек, которые живут и спят под открытым небом, доступные всем стихиям, поскольку навес из оцинкованного железа над лагерем не сплошной, а хаотично разбросан по периметру.
Все мило и очень просто: нас ни о чем не спросили и ничего нам не объяснили – прямо с колес взяли да посадили в тюрьму Эль-Дорадо. Привезли нас туда в три пополудни измотанных, усталых да еще на цепи. Не потрудились даже записать наши имена или хотя бы поинтересоваться ими; но уже в половине четвертого скомандовали на выход, дали три кирки и две лопаты и под угрозой применения силы погнали на работу. Сопровождали нас пятеро солдат во главе с капралом. Все вооружены винтовками и плетками из сыромятной кожи. Мы сразу поняли, что тюремная стража решила продемонстрировать перед нами свою мощь, поэтому не повиноваться в тот момент было неразумно и очень опасно. Что ж, посмотрим, что будет дальше.
Подвели к месту работы, где уже вовсю вкалывали узники. Заставили копать канаву по обочине дороги, которую вели через тропический лес. Мы молча принялись за дело, выкладываясь настолько, насколько позволяли силы. Однако это не избавляло нас от неприятной необходимости слышать оскорбления и удары, беспрерывно сыпавшиеся на заключенных. Нас не били. Смысл нашего немедленного подключения к работе сразу по прибытии, несомненно, заключался в том, чтобы мы воочию убедились, как здесь обращаются с подневольными.
Была суббота. По окончании работы нас, потных и покрытых пылью, привели обратно в лагерь, опять-таки без каких-либо формальностей.
– Пятеро из Кайенны, сюда.
С нами разговаривает капрал. Метис, ростом метр девяносто. Грязная скотина отвечает за дисциплину, но только внутри лагеря. Он показал место, где мы должны повесить гамаки. Прямо на открытом воздухе, как раз напротив лагерных ворот. Правда, над головой несколько листов оцинкованного железа. Значит, можно скрыться от дождя и солнца.
Бóльшая часть здешних зэков – колумбийцы. Остальные венесуэльцы. Ужасы и жестокости этой трудовой колонии не идут ни в какое сравнение ни с одной каторгой. Того, как здесь обращаются с людьми, не выдержит даже лошадь. Но физически заключенные выглядят прекрасно: тут одна своя особенность – кормят хорошо, пища обильная и разнообразная.
Мы провели маленький военный совет. Если кого-нибудь ударит солдат, лучше всего нам всем лечь на землю и не вставать, что бы с нами ни делали. О случившемся обязательно узнает кто-нибудь из офицеров, я тогда мы его спросим, за что нас посадили в эту каторжную тюрьму, если мы не совершили никаких преступлений. Гитту и Барьер, уже отбывшие свой срок, говорили, что они потребуют, чтобы их выдали французским властям. Затем мы решили вызвать на разговор капрала. Говорить с ним было поручено мне. Капрала звали Негро Бланко (Белый Негр). За ним пошел Гитту. Скотина появился с бычьей плеткой в руке. Мы окружили его.
– Чего вы от меня хотите?
Я стал говорить:
– Мы хотим вам сказать только одну вещь. С нашей стороны не будет никакого неповиновения правилам тюремного распорядка, а следовательно, и никаких причин для применения к нам телесных наказаний. Но мы наблюдали, как вы совершенно произвольно бьете всех, кто попадется вам под руку. Вот почему мы и попросили вас прийти к нам, чтобы сказать вам откровенно: если вы ударите кого-то из нас, то вы в тот же день будете покойником. Вы поняли, что я хотел сказать?
– Да, – сказал Негро Бланко.
– И последний совет.
– Что еще? – выдавил он.
– Только то, что, если сказанное мною необходимо кому-то повторить, пусть это будет офицер, а не солдат.
– Ладно.
И он ушел. Все это было в воскресенье – в нерабочий день. Появился офицер.
– Ваше имя?
– Папийон.
– Вы старший у французов?
– Нас здесь пятеро, и все мы старшие.
– В таком случае почему вы говорили с надзирателем от лица всех, а не от себя лично?
– Потому что я говорю по-испански лучше остальных.
Офицер, разговаривающий со мной, – капитан национальной гвардии. Он сообщил, что не командует здесь, над ним еще двое, но они пока отсутствуют. Он исполняет обязанности до их приезда. А те двое будут здесь во вторник.
– Когда вы говорили от себя и от имени остальных, вы угрожали убить надзирателя, если он ударит кого-нибудь из вас. Так ли это?
– Да. И это очень серьезная угроза. Но я также сказал, что мы не сделаем ничего такого, что могло бы оправдать применение телесного наказания. Как вы знаете, капитан, мы не состояли здесь под судом, потому что не совершали никаких преступлений в Венесуэле.
– Мне ничего не известно об этом. Вас доставили в лагерь без всяких сопровождающих документов. Есть только записка от местной администрации: «Заставить этих людей немедленно по прибытии работать».
– Капитан, поскольку вы солдат, прошу вас до приезда вашего начальства приказать вашим людям не обращаться с нами так, как с другими заключенными. Я еще раз заверяю вас, что мы оказались здесь без всякого суда, да нас и нельзя судить, потому что мы не совершили никаких преступлений на территории Венесуэлы.
– Хорошо. Я отдам соответствующие распоряжения. Надеюсь, вы мне не солгали.
В воскресенье у меня было предостаточно времени понаблюдать за другими заключенными. Первое, что бросилось в глаза, было то, что все они пребывали в прекрасной физической форме. Второе – побои были таким обычным и повседневным явлением и раздавались так щедро и свободно, что они к ним привыкли. Даже в воскресенье, в день отдыха, когда можно было бы легко избежать всяких колотушек, только веди себя прилично, они, словно мазохисты, получали, казалось, удовольствие, играя с огнем. Они не прекращали делать то, что было запрещено: играли на деньги, сношали «мальчиков» в туалетах, воровали друг у друга, обзывали грязными словами женщин, приносивших сигареты и конфеты для тех же заключенных. Они также приторговывали: плели корзинки или вырезали по дереву и выменивали вещицы на несколько монет или пачки сигарет. Были и такие, которые выхватывали у женщины из рук то, что она протягивала через колючую проволоку, и убегали, прячась среди других, ничего не дав ей взамен. И все это свелось к тому, что телесное наказание превратилось в орудие, от которого заключенные закалялись, как в горниле. Разгул террора в лагере не пошел на пользу ни обществу, ни порядку – он не оказывал никакого положительного воздействия на бедных зэков.
Тюрьма-одиночка на Сен-Жозефе с ее гробовой тишиной куда страшнее, чем эта. Здесь страх длится лишь считаные минуты, зато ночью можно поговорить, и по воскресеньям, и после работы. Еды всегда навалом. Здесь можно тянуть свой срок, в любом случае не превышающий пяти лет.
Воскресенье прошло за разговорами, курили и пили кофе. К нам пытались подъехать несколько колумбийцев, но мы вежливо и твердо попросили их заняться своим делом. Нельзя допустить, чтобы на нас смотрели как на обычных заключенных, иначе сядут и не слезут. Тогда – пиши пропало.
В понедельник в шесть утра после плотного завтрака нас погнали на работу со всеми вместе. Вот как она начиналась: две шеренги выстраивались друг против друга – шеренга солдат и шеренга заключенных. Пятьдесят человек на пятьдесят. На каждого зэка один солдат. Между шеренгами разложен рабочий инструмент: кирки, лопаты, топоры. Обе шеренги наблюдают друг за другом. Шеренга зэков смотрит затравленно – шеренга солдат с садистским нетерпением.
Сержант выкрикивает:
– Такой-то, кирка!
Бедняга бросается вперед и в тот момент, когда он, схватив инструмент и положив его на плечо, кидается бегом к месту работы, следует команда сержанта:
– Рядовой номер такой-то!
Солдат срывается с места и бежит за несчастным зэком, охаживая его плеткой на ходу. Ужасный спектакль повторяется два раза в день. Со стороны можно подумать, что все пространство между лагерем и рабочей площадкой заполнено вьючными ослами, которых лупцуют погонщики, чтобы скотина не сбавила шаг.
Ожидая своей очереди, мы застыли в недобром предчувствии. Но, к счастью, все обошлось; с нами поступили иначе.
– Пятеро из Кайенны, подойдите сюда. Кто помоложе берет кирки и топоры, кто постарше – две лопаты.
К рабочей площадке мы не бежим, но идем резвым шагом охотников. Нас сопровождают четверо солдат и капрал. Этот день был утомительнее и длиннее первого. Люди, которых, что называется, достали, совершенно выбившись из сил, выли как безумные и, падая на колени, умоляли, чтоб их больше не били. В полдень поступила команда сносить с выжигаемого участка леса из многочисленных кострищ не сгоревшие до конца ветки и бревна в одну большую кучу. Одни сносили, другие подчищали за ними. И эта куча снова превратилась в большой костер. И снова гуляла солдатская плетка по спинам заключенных, принявшихся разбирать кострища и сносивших бегом тлеющие головешки в центр расчищаемого участка. Эта дьявольская гонка доводила некоторых до умопомрачения. В спешке они хватались за тлеющие концы головешек и обжигали руки. На них тут же сыпались удары, и бедняги неслись босиком по углям и дымящимся сучьям, разбросанным вокруг. Это фантастическое представление продолжалось целых три часа. Никого из нас не пригласили участвовать в расчистке чертова места. И слава богу, так как с помощью коротких фраз мы договорились, не отрываясь от работы и не поднимая головы, броситься на солдат во главе с капралом, разоружить их и открыть огонь по этой банде дикарей.
Во вторник мы не пошли на работу. Нас вызвали в кабинет двух начальников исправительно-трудовой колонии – майоров национальной гвардии. Военные очень удивились, узнав, что нас доставили в Эль-Дорадо без всяких сопроводительных документов, касающихся решения какого-либо суда. Они пообещали потребовать объяснений у начальника колонии Эль-Дорадо.
Ждать пришлось недолго. Эти два майора, в ведении которых находилась охрана тюрьмы, несомненно относились к категории самых жестких служак – даже чрезмерно жестких с точки зрения проводимых ими репрессий, – но порядочных в отношении соблюдения законности. Они вынудили начальника встретиться с нами для выяснения дела.
И вот начальник перед нами в сопровождении своего шурина, русского, и двух офицеров национальной гвардии.
– Французы, я начальник колонии Эль-Дорадо. Вы просили встречи со мной. Что вы хотите?
– Прежде всего узнать, какой суд без разбирательства по существу приговорил нас отбывать срок в этой каторжной колонии? На сколько лет и за какое преступление? Мы пришли морем в Ирапу. Мы не совершали никакого преступления. Спрашивается, что мы здесь делаем? И как вы можете объяснить, что нас здесь заставляют работать.
– Прежде всего мы находимся в состоянии войны. Поэтому мы должны точно знать, кто вы такие.
– Очень хорошо. Но это не оправдание тому, что нас загнали на каторгу.
– Вы скрываетесь от французского правосудия. Нам следует выяснить, требуют ли французские власти вашей выдачи.
– Допустим. Но я еще раз требую объяснить, почему нас содержат в тюрьме и обращаются с нами как с заключенными.
– Вы временно задержаны на основании закона o vagos y maleantes (бродягах и мошенниках) до выяснения обстоятельств и наведения справок.
Спор мог бы продолжаться до бесконечности, если бы один офицер не встрял со своим мнением:
– Господин начальник, честно говоря, мы не можем обращаться с этими людьми как с обычными заключенными. Я предлагаю подождать решения Каракаса по данному вопросу, а пока занять их чем-нибудь другим и не посылать на строительство дорог.
– Они опасные люди. Они угрожали убить надзирателя, если он их ударит. Разве не так?
– Не только его, господин начальник, но любого и каждого, кто ударит кого-нибудь из нас.
– А если солдат?
– И его тоже. Мы не заслужили, чтобы с нами так обращались. Наши законы и тюремная система, может быть, похлеще и более бесчеловечны, чем ваши, но у нас никто не имеет права избивать людей, как животных.
Начальник повернулся к офицерам, торжествуя, что он прав:
– Вы же сами видите каковы!
Майор, что постарше, выждал минуту или две, а затем сказал, ко всеобщему изумлению:
– Беглые французы правы. С какой стати они должны в Венесуэле содержаться в тюрьме и подчиняться режиму нашей колонии? Я считаю, что они правы. Есть два пути решения вопроса, господин начальник: либо они работают отдельно от других заключенных, либо их вообще не выводят на работу. Иначе рано или поздно их обязательно ударит солдат.
– Посмотрим. Сегодня пусть остаются в лагере, а завтра я скажу, что надо делать.
Я поблагодарил старших офицеров. Они дали нам сигарет и пообещали зачитать сегодня на вечернем докладе распоряжение по колонии для всех солдат и офицеров, запрещающее бить нас под любым предлогом.
Прошла неделя. Мы больше не работаем. Вчера, в воскресенье, случилась ужасная история. Колумбийцы тянули жребий, кто должен убить капрала Негро Бланко. Проиграл один тип лет тридцати. Ему дали железную ложку, ручка которой была заточена на бруске в виде обоюдоострого пера. Парень сдержал слово и мужественно выполнил условия жребия. Он нанес три удара, метя в сердце Негро Бланко, но перо прошло рядом. Надзирателя срочно увезли в больницу, а убийцу привязали к правежному столбу в центре лагеря. Солдаты забегали как угорелые в поисках другого оружия. Посыпались удары со всех сторон. В тупой ярости один из них, раздосадованный тем, что я медленно снимаю штаны, вытянул меня плеткой по ляжке. Барьер схватил скамейку и занес ее над головой солдата. А в это время другой солдат саданул его штыком в руку. Я уложил своего обидчика ударом ноги в живот и подхватил с земли оброненную им винтовку. И тут мы услышали громкий голос, прозвучавший для нас как приказ:
– Остановитесь! Не трогайте французов! Француз, брось винтовку!
Это капитан Флорес, офицер, разговаривавший с нами в первый день. Он и отдал приказ.
Вмешательство капитана оказалось своевременным, так как я уже был готов открыть бесшабашную стрельбу по кровожадной своре. Если бы не он, прихлопнул бы я одного-другого идиота, но мы и сами бы наверняка поплатились жизнью, сгинули бы глупой смертью в лесах Венесуэлы, на задворках мира, в лагере, до которого у нас не было никакого дела.
Благодаря энергичным действиям капитана, солдаты оставили нашу группу в покое и отправились тешить свою мясницкую натуру в других местах. Тогда-то мы и стали свидетелями самого омерзительного и самого гнусного истязания человека, перед которым спасовало бы даже изощренное воображение.
Колумбийца, привязанного к правежному столбу в центре лагеря, лупцуют сразу трое – два солдата и капрал. Начали в пять пополудни и будут бить до шести утра. Не знаю, как такое может выдержать человек и сколько времени потребуется, чтобы забить его до смерти. Во время порки делаются короткие передышки для того, чтобы спросить, кто соучастники, кто дал ложку и кто ее заточил. Человек никого не выдал, даже не отреагировал на посулы прекратить пытку, если он заговорит. Несколько раз он терял сознание, но его приводили в чувство ведрами холодной воды. В четыре утра наступила кульминация. Увидев, что кожа никак не реагирует на удары и больше не дергается, они отступились.
– Сдох? – спросил офицер.
– Не знаем.
– Развязать и бросить на четыре кости.
Поддерживая вчетвером, они кое-как поставили его на четвереньки. Затем один из мучителей прошелся плеткой по складке между ягодицами, при этом кончиком хлыста наверняка достав гениталии. Мастерский удар мучителя вырвал у жертвы крик отчаяния.
– Продолжайте, – сказал офицер, – еще не сдох.
Пороли до рассвета. Это средневековое истязание сгубило бы лошадь, но не прикончило колумбийца. Они оставили его одного на какой-то час, вылив на несчастного перед тем несколько ведер воды. В конце концов он нашел в себе силы даже подняться на ноги, правда с помощью солдат. Ему удалось какое-то время даже стоять прямо самостоятельно. Но вот появился санитар со стаканом в руке.
– Выпей слабительного, – приказал офицер, – легче будет.
Колумбиец помедлил, но затем одним глотком осушил стакан. Через минуту он упал на землю, и на этот раз к лучшему. В предсмертной агонии он выдавил из себя:
– Дурак, они тебя отравили.
Стоит ли говорить, что никто из заключенных, никто из нас не имел ни малейшего намерения пальцем пошевелить, чтобы прийти к нему на помощь. Каждый в отдельности был запуган. Второй раз в жизни мне захотелось умереть. Рядом стоял солдат и очень небрежно держал винтовку. Меня так и подмывало схватить ее, но останавливала единственная мысль, что не успею я передернуть затвор, как меня убьют.
Спустя месяц Негро Бланко снова стал грозой лагеря. Он свирепствовал даже больше, чем прежде. Но судьба распорядилась так, что он должен был умереть в Эль-Дорадо. Однажды ночью солдат из охраны взял его на прицел, когда капрал проходил мимо.
– Встань на колени, – приказал солдат.
Негро Бланко повиновался.
– Молись. Пришла твоя смерть.
За короткой молитвой прогремели три выстрела. Заключенные говорили между собой, что солдат убил его потому, что ему самому надоело смотреть на бесчинства этого мясника и его издевательства над подневольными людьми. Некоторые утверждали, что Негро Бланко выдал солдата, сказав офицерам, что он знал его как вора еще по Каракасу, до призыва того в армию. Негро Бланко похоронили вместе с замученным колумбийцем, кстати в прошлом действительно вором и в то же время, как мы убедились, человеком необычайного мужества и достоинства.
Разыгравшиеся события помешали властям принять по нашему вопросу какое-либо решение. Более того, остальные заключенные оставались в лагере в течение двух недель, не выходя на работу. Штыковую рану Барьера лечил врач из деревни и делал это очень хорошо.
Нас зауважали. Вчера Шапара пригласили работать поваром у начальника. Гитту и Барьера освободили, так как из Франции на нас всех пришли бумаги, из которых стало ясно, что Гитту и Барьер отбыли свой срок. Я выдавал себя за итальянца, по документам установили мое подлинное имя. В них были отпечатки моих пальцев и выписка из приговора – пожизненная каторга. Депланк и Шапар были приговорены на двадцать лет каждый. Губернатор с гордостью объявил нам эти «новости» из Франции. Однако добавил:
– Учитывая тот факт, что вы не сделали ничего плохого в Венесуэле, вы временно остаетесь под стражей, а затем вас освободят. Но для этого надо работать и вести себя хорошо. Вы проходите испытательный срок.
Разговаривая со мной, офицеры несколько раз жаловались на большие трудности со свежими овощами. В поселке занимаются сельским хозяйством, но не выращивают овощи. Сеют только рис, кукурузу, сажают фасоль – вот и все. Я предложил свои услуги по огородничеству, если мне достанут семена. Согласились.
Нас с Депланком выпустили из лагеря – это уже дело. В нашу компанию добавили еще двоих беглых ссыльных, арестованных в Сьюдад-Боливаре. Один из них – парижанин Тотó, другой – корсиканец.
Вчетвером мы соорудили два небольших домика, деревянных, с крышами из пальмовых веток. Один заняли мы с Депланком, в другом разместились наши новые товарищи.
Мы с Тото смастерили высокие стеллажи, ножки которых поставили в банки с керосином, чтобы до семян не добрались муравьи. Очень скоро у нас появилась прекрасная рассада томатов, баклажан, дыни и бобов. Высадили ее в открытый грунт на грядки, поскольку молодые растения достаточно уже окрепли и муравьи им теперь не так страшны. Вокруг каждого кустика томатов сделали углубления, которые постоянно заполняем водой. Влажная почва мешает многочисленным паразитам подобраться из невозделанной земли к растениям.
– Посмотри, что это? – спросил Тото, рассматривая крошечный камешек, ослепительно сверкавший на солнце.
– Промой-ка его.
– Держи.
Маленький кристалл величиной с зернышко нута. Промытый, он блестит еще ярче, особенно со стороны скола жильной породы в обрамлении очень твердой оболочки.
– Неужто алмаз?
– Заткнись, Тото. Хотя бы и так, зачем орать на всю вселенную? Предположим, нам чертовски повезло и мы нарвались на кимберлитовую трубку? Спрячь, подождем до вечера.
Вечером я даю уроки математики одному капралу (сегодня он полковник), который готовится к конкурсному экзамену на звание офицера. Человек он порядочный и честный (доказательство тому – наша уже более чем двадцатипятилетняя дружба). Сейчас его зовут полковник Франсиско Баланьо Утрера.
– Что это, Франсиско? Кристалл кварца?
– Нет, – ответил он после долгого и внимательного изучения. – Это алмаз. Хорошенько спрячь, чтобы никто не видел. Где ты его нашел?
– Под кустом помидоров.
– Странно. Может, ты занес его туда с водой из речки? Ты скребешь ведром по дну, когда зачерпываешь воду? Бывает в ведре песок?
– Иногда бывает.
– Вот тебе и ответ. Ты добыл свой бриллиант из реки Карони. Внимательно осмотри грядки, не принес ли ты еще несколько камешков: где один, там обязательно и другие.
Тото принялся за работу. Никогда в жизни он так не вкалывал. Наши товарищи, не ведавшие о секрете, принялись его уговаривать:
– Остановись, Тото. Что ты так надрываешься? Все равно всю воду из реки ведрами не перетаскаешь. Да не зачерпывай так глубоко – в воде один песок.
– Я хочу, чтобы земля стала легкой, как пух, брат. Когда ее смешаешь с песочком, она лучше пропускает воду.
Несмотря на то что все мы открыто потешались над ним, Тото продолжал таскать воду и совершенно не думал останавливаться. Однажды в полдень, когда мы отдыхали в тени, он проходил мимо нас с очередным ведром и, засмотревшись на что-то, споткнулся и упал. Из перевернутого ведра вместе с водой и песком выкатился бриллиант величиной с два зернышка нута. И на этот раз на камешке был скол, иначе его никто бы не заметил. Тото сделал тактическую ошибку: слишком поспешно стал его поднимать.
– Ты смотри, – сказал Депланк, – похож на алмаз! Солдаты говорили, что в реке есть алмазы и золото.
– Вот поэтому я и ношу воду. Теперь убедились, что я вам не хрен собачий?! – сказал Тото, довольный тем, что наконец-то и мы увидели, что он не зря так работает.
Короче, чтобы закончить эту историю с бриллиантами, скажу, что через шесть месяцев у Тото их скопилось от семи до восьми карат. У меня – двенадцать и сверх того тридцать мелких-премелких камешков, которые на языке шахтеров называются промышленным или техническим алмазом. Но однажды я нашел камень весом более шести карат. Уже позже, в Каракасе, мне огранили его, и получился бриллиант в четыре карата; с тех пор этот камень всегда при мне, я не снимаю его с пальца ни днем ни ночью. Депланк и Антарталья тоже набрали драгоценных камней. Я никогда не расстаюсь с моей гильзой, сохранившейся еще с каторги. В ней я храню камешки. Ребята сделали себе что-то наподобие гильз из бычьего рога и тоже хранят в них свои сокровища.
Ни одна душа ничего не знала об этом и даже не догадывалась, кроме будущего полковника, а в то время капрала Франсиско Боланьо. Томаты росли и вызревали. Поспевала и другая зелень. Офицеры честно расплачивались с нами за свежие овощи, которые мы ежедневно поставляли в столовую.
Мы пользуемся относительной свободой. Работаем без охраны и спим в своих домиках. В лагерь не ходим. К нам относятся уважительно и обращаются с нами хорошо. Само собой разумеется, при каждом удобном случае мы напоминаем о себе губернатору насчет освобождения. Каждый раз он отвечает: «Скоро». Но вот уже восемь месяцев, как все остается по-старому. В связи с этим я начал поговаривать о побеге. Тото и слышать ничего не хочет. Другие – тоже. Для изучения реки я обзавелся леской и крючками. Стал продавать рыбу, в частности знаменитую хищную кари́бу, вес которой доходит до килограмма, зубы страшные и расположены, как у акулы.
Сегодня поднялась ужасная суматоха: из колонии бежал Гастон Дюрантон, по прозвищу Хлынога, и прихватил с собой семьдесят тысяч боливаров из сейфа начальника.
Его история такова. Еще ребенком он попал в детскую исправительную школу на острове Олерон и работал там в обувной мастерской. Однажды кожаный ремень, пропущенный под ступней и удерживающий ботинок на колене, лопнул, и Гастон получил вывих бедра. По небрежности врача головка бедра не попала в свое место в вертлюжной впадине. В результате мальчишка на всю жизнь остался скособоченным. Больно было смотреть, как он идет, худой и скрюченный, волоча за собой непослушную ногу. В двадцать пять он попал на каторгу. Ничего удивительного в том, что после длительного пребывания в исправительной школе он вышел из нее вором.
Все его звали Хлынога. Почти никто не знал настоящего имени Гастона Дюрантона. Хлынога – и все тут. Но с каторги, хотя и скособоченный, он все-таки бежал и добрался до Венесуэлы. В то время в стране заправлял диктатор Гомес. Редкий каторжник выживал в условиях репрессий. Были исключения, в частности доктор Бугра, но только потому, что он спас все население острова Маргарита от эпидемии желтой лихорадки. Жители острова занимались охотой за жемчугом.
Хлыногу арестовала специальная полиция Гомеса, так называемая Sagrada («священная»), и отправила на строительство шоссейных дорог Венесуэлы. Заключенных – французов и венесуэльцев – приковывали цепями к чугунным шарам, изготовленным в Тулове, на которых был изображен знак королевской лилии. Жалобы французов встречали один ответ: «Но ведь эти цепи, кандалы и шары сделаны в вашей стране! Видите – лилия!» Короче, Хлынога бежал из «летучего лагеря», когда он работал там на строительстве дорог. Через несколько дней его поймали и возвратили в эту так называемую передвижную тюрьму. Перед всеми заключенными его раздели догола и разложили на земле животом вниз. Приговорили к порке, прописав сто плетей.
Редко кто выносит восемьдесят ударов. Хлынога вынес, очевидно, благодаря своей сухощавости: когда он лежал на земле, плетка никак не приставала прямо к печени, которая от прямого удара с оттяжкой могла бы лопнуть изнутри. По заведенному правилу, исполосованное в клочья тело посыпают солью и человека оставляют лежать на солнце. На голову ему кладется широкий мясистый лист какого-нибудь растения: наказуемому умереть под плетьми не возбраняется, а от солнечного удара никак нельзя!
Хлынога вышел живым из средневековой пытки, и когда первый раз поднялся на ноги, к своему удивлению, обнаружил, что скособоченность пропала. Удары плетки разорвали неправильные спайки тазобедренного сустава, и головка бедра встала на свое место. Солдаты и зэки кричали о чуде, никто так толком ничего и не понял. В этой суеверной стране иначе нельзя и подумать – только Господь воздал Хлыноге за все его страдания. С того дня на него не надевали кандалы и не привязывали к чугунному шару. Его стали опекать, поставили на распределение питьевой воды. Он быстро поправился, разъелся на дармовых хлебах и стал крепким и сильным парнем.
Во Франции было известно, что многие беглые каторжники работают в Венесуэле на строительстве дорог. Власти посчитали, что было бы лучше направить национальную силу и энергию во Французскую Гвиану. С этой целью в Венесуэлу прибыла правительственная миссия во главе с маршалом Франше д’Эсепре, потребовавшая у диктатора вернуть дармовую рабочую силу во Францию – попользовался, и хватит.Гомес согласился, и за французами в порт Пуэрто-Кабельо пришло судно. Многие каторжники, стекавшиеся сюда, строили другие дороги и об истории с Хлыногой ничего не знали, поэтому при встрече с ним разыгрывались забавные сценки.
– Привет, Марсель! Как дела?
– А ты кто?
– Хлынога.
– Не смеши. Что ты меня разыгрываешь?! – возражали встречные, видя перед собой высокого, красивого и веселого парня, крепко и прямо стоявшего на обеих ногах.
Хлынога был молод, и ему очень понравилась собственная шутка. Поэтому, пока шла погрузка французских каторжников на корабль, он то и дело подходил к своим бывшим знакомым, представляясь вышеописанным образом. Те, конечно, не верили своим глазам. Я слышал этот рассказ на Руаяле, когда меня снова привезли на каторгу, из его собственных уст. И от других тоже.
В 1943 году он снова бежал и высадился в Эль-Дорадо. Он заявил властям, что уже бывал в Венесуэле, конечно не добавляя, в каком качестве. Его сразу определили на кухню вместо Шапара, а сам Шапар занял место садовника. Вот так и очутился Хлынога в доме начальника колонии в поселке на другом берегу реки.
В кабинете начальника стоял сейф, в котором хранились все деньги колонии. Из него-то в тот день и спер Хлынога семьдесят тысяч боливаров, что по тогдашнему курсу составляло около двадцати тысяч долларов. Отсюда и закрутилась вся кутерьма и докатилась до нашей плантации. Начальник, его шурин и два майора появились у нас сердитые и возбужденные. Начальник пожелал водворить нас в лагерь немедленно. Офицеры возражали. Они стояли горой за нас и вместе с тем за свои овощи. Им удалось убедить начальника, что мы ничего не знали и не имеем к грабежу никакого отношения, иначе бежали бы вместе с Хлыногой. У нас же другая цель, объяснили офицеры, – дождаться освобождения в Венесуэле, а не в Британской Гвиане, куда, по всей вероятности, и отправился Хлынога. Его нашли мертвым в буше в семидесяти километрах от лагеря, совсем рядом с границей Британской Гвианы. Над трупом кружили грифы. Эти стервятники уже принялись за трапезу, они-то и помогли его найти.
Сначала думали, что его убили индейцы. Это была первая и самая удобная версия: валить на индейцев здесь в порядке вещей. Но потом в Сьюдад-Боливаре арестовали человека при размене новеньких купюр в пятьсот боливаров. Банк, выдававший деньги для колонии, подтвердил серию и номера украденных банкнот. Задержанный выдал также еще двух соучастников, но их так и не поймали. Вот и все о жизни и смерти моего приятеля Гастона Дюрантона, известного по кличке Хлынога.
Некоторые офицеры колонии тайно и незаконно заставляли заключенных искать золото и алмазы в реке Карони. Результаты не были баснословными, но обнадеживали, чем и подогревался дух старателей. За моим огородом работали двое с промывальным лотком в виде перевернутой китайской шляпы. Заполнив лоток землей и песком, они начинают промывать, а поскольку алмазы тяжелее породы, то они оседают на дне «шляпы». Вскоре один из них был убит за то, что обокрал «хозяина». Этот маленький скандал положил конец незаконному старательству.
В лагере сидел один человек, тело которого сплошь покрывала татуировка. На шее было написано: «Кукиш парикмахеру». Правая рука у него парализована, иногда кривился рот, и из него вываливался язык, большой и влажный, ясно указывая на приступы гемиплегии (одностороннего паралича). От чего? Неизвестно. Сюда он прибыл раньше нас. Откуда? Ясно одно, что он беглый каторжник или ссыльный. На груди татуировка: «Бат д’Аф» – штрафной батальон французской армии. Последняя надпись вместе с той, что на шее, позволяет без всякой натяжки сказать, что он каторжник.
Багры и зэки зовут его Пикколино. С ним хорошо обращаются и заботливо кормят три раза в день. Снабжают сигаретами. Голубые глаза его полны жизни, и только изредка в них закрадывается печаль. Когда он смотрит на того, кто ему нравится, в зрачках вспыхивает радость. Он все понимает, что ему говорят, но не может ни говорить, ни писать: правая рука парализована и не в состоянии держать перо, а на левой не хватает трех пальцев – большого и еще двух. Этот калека часами простаивает у колючей проволоки и ждет, когда я пойду мимо с овощами, так как именно здесь я хожу в офицерскую столовую. Итак, каждое утро, шествуя с овощами, я останавливаюсь, чтобы поговорить с Пикколино. Он стоит, опираясь на колючую проволоку, и смотрит на меня своими прекрасными голубыми глазами, в которых светится жизнь. Тело почти мертвое – а в глазах жизнь. Я говорю ему добрые слова, а он кивком или смежением век показывает, что понимает. Безжизненное лицо его оживляется на мгновение, глаза загораются желанием сказать мне очень многое. Бог весть о чем. Я всегда приношу ему что-нибудь вкусненькое: помидоры, салат, огурцы, небольшую дыньку, рыбу, испеченную на углях. Он не голоден: кормят на венесуэльской каторге хорошо, но все-таки какое-то разнообразие в меню. К подаркам я всегда добавляю несколько сигарет. Короткие визиты к Пикколино стали для меня привычными. Солдаты и зэки уже зовут его Пикколино – сын Папийона.
Свобода
Венесуэльцы оказались настолько любезными, добрыми и обаятельными людьми, что в моем умонастроении произошло нечто необычное: я решил полностью довериться им. Зачем и куда бежать? Приму все как есть и смирюсь с несправедливостью заключения, но с тайной надеждой, что рано или поздно я вольюсь в эту нацию и буду принадлежать ей. Кому-то это может показаться абсурдом. Зверское отношение к заключенным никак не поднимает настроения и не пробуждает желания жить среди венесуэльцев. С другой стороны – и я это прочувствовал и хорошо понял, – и солдаты, и узники смотрят на принцип телесного наказания как на совершенно естественное явление. Если солдат совершает какой-либо проступок, он также подвергается наказанию плетьми. А через несколько дней этот солдат уже разговаривает как ни в чем не бывало с капралом, сержантом, офицером, поровшими его накануне. Диктатор Гомес годы и годы правил именно таким способом, и венесуэльцы унаследовали от него эту варварскую систему. Она вошла в плоть и кровь людей, превратившись в привычку и обычай, – даже в гражданской жизни администратор наказывал своих подопечных хлыстом.
Я стоял на пороге свободы – причиной тому была революция. Президент республики генерал Ангарита Медина был свергнут в результате полувоенного, полугражданского государственного переворота; он был одним из величайших либералов в истории Венесуэлы – настолько хорош и настолько демократичен, что не имел ни способностей, ни желания противостоять мятежу. Мне кажется, он решительно отказался проливать кровь венесуэльцев в борьбе за удержание кресла президента. Этот великий солдат-демократ определенно не знал, что творилось в Эль-Дорадо.
Во всяком случае, ровно через месяц после революции все офицеры колонии были заменены. Новые власти затеяли расследования, добрались до так называемого дела со слабительным и смертью колумбийца. Начальник вместе с шурином исчезли, на их место пришел один адвокат, в прошлом дипломат.
– Да, Папийон, завтра я вас освобождаю, но мне бы хотелось, чтобы вы взяли с собой несчастного Пикколино. Мне стало известно, что вы с участием относитесь к его судьбе. Личность его официально не установлена, но я выпишу ему пропуск. А вот ваша cédula, здесь все в порядке, документ выправлен на ваше настоящее имя. Условия таковы: год вы должны проживать где-то в небольшой деревне, потом вам будет разрешено жить в большом городе. Это своего рода испытательный срок, но не для того, чтобы за вами следила полиция, а для того, чтобы посмотреть, чего вы сможете добиться в жизни, как распорядитесь собственной судьбой. Если администрация района выдает вам свидетельство о хорошем поведении – а я надеюсь, так оно и будет, – то это и положит конец вашему confinamiento – ограничению в правах по выбору места жительства. Я думаю, что Каракас очень подойдет вам. Во всяком случае, вам разрешено проживать в этой стране на легальном положении. Ваше прошлое для нас ничего не значит. Теперь все зависит от вас, вам предоставляется шанс снова стать достойным и уважаемым членом общества. Надеюсь, через пять лет вы станете моим соотечественником – акт о натурализации дает вам новую страну. Эта страна будет и вашей. Да поможет вам Бог. Благодарю за желание и готовность помочь несчастному Пикколино. Я могу его выпустить только при наличии вашего письменного согласия позаботиться о нем. Будем надеяться, что в какой-нибудь больнице его сумеют подлечить.
Завтра в семь часов утра я выхожу на свободу. Вместе с Пикколино. На сердце нахлынула теплая волна: наконец я выбрался из канализации, все будет хорошо. Я ждал этого часа тринадцать лет. Сейчас август 1944 года.
Я пошел к своему домику на огороде. Попросил друзей простить меня за то, что мне захотелось побыть одному. Слишком огромные чувства завладели мной, чтобы их можно было выразить в присутствии других. Стал изучать удостоверение личности, только что выданное мне начальником: в левом углу фотография; сверху номер – 1728624; действительно с 3 июля 1944 года. Прямо посередине – фамилия, под ней имя. На обороте – дата рождения: 16 ноября 1906 года. Удостоверение личности в полном порядке. Оно даже подписано директором паспортного бюро и скреплено печатью. Статус в Венесуэле: житель. Это слово – «житель» – потрясает. Значит, в Венесуэле мне предоставляется вид на жительство. Сердце готово выскочить из груди. Чувствую потребность встать на колени и поблагодарить Бога. Но ты же не знаешь, как молиться, Папийон, ты даже не крещен. Какому богу ты собираешься возносить молитву, когда сам не исповедуешь ни одной религии? Богу католиков? Протестантов? Иудеев? Мусульман? Какого же мне выбрать, чтобы помолиться? Но и молитву надо еще придумать – я толком не знаю ни одной. А почему я должен беспокоиться о том, какому богу молиться именно в этот день? Когда я обращался к Нему на своем жизненном пути или даже проклинал Его, разве я не думал о Боге как об Иисусе Христе, младенце в яслях, с ослом и быком рядом с Ним? Неужели мое подсознание до сих пор в обиде на колумбийских монахинь? Почему в таком случае не подумать о великодушном и благородном епископе Кюрасао Ирене де Брюине? Или пойти еще дальше и вспомнить о добром кюре из Консьержери?
Завтра я выйду на свободу и стану совершенно свободным. Через пять лет я буду гражданином Венесуэлы, ибо я уверен, что не совершу ничего предосудительного на этой земле, принявшей меня и оказавшей мне доверие. В предстоящей жизни я должен быть честным вдвойне по сравнению с кем бы то ни было.
В действительности, хотя я и не убивал того малого, за которого прокурор, фараоны и двенадцать вонючих ублюдков приговорили меня к каторге, у этих сволочей, в сущности, не оставалось выбора, потому что я к тому времени стал для них бельмом на глазу. Фактически я был вне закона, что облегчало им задачу вить паутину лжи вокруг моей личности. Вскрывать чужие сейфы не очень похвальное занятие, и общество имеет право и обязано защитить себя. Я должен честно признаться, что причиной моего спуска в канализацию послужило то, что я уже был готовым кандидатом на эту дорожку. Но с другой стороны, разве французская нация, наказав меня не по заслугам, не упала в ту же канализацию? Не долг ли общества, защищая себя, не опускаться до низкой мести? Но это уже другой вопрос. Я не могу вычеркнуть из жизни свое прошлое, я должен реабилитировать себя во что бы то ни стало, прежде всего в собственных глазах, а потом уже перед другими. Возблагодари Бога католиков, Папи, пообещай Ему что-то очень важное.
– Прости меня, Господи, за мое неумение молиться, загляни в душу мою, и Ты прочтешь, что у меня нет слов, чтобы выразить мою благодарность Тебе. Благодарю Тебя, Господи, что Ты привел меня сюда. Тяжел был мой крест, и тяжел путь на голгофу, на которую меня отправили другие. Но Ты подал мне руку помощи, и я преодолел все препятствия, дожив до благословенного дня в добром здравии. Что могу я сделать в доказательство того, что я искренне благодарен Тебе за Твою заботу?
– Оставь помыслы о мести.
(Только послышалось мне или я действительно услышал эти слова? Не знаю. Но они явились мне неожиданно, как пощечина. Я готов был поклясться, что действительно их слышал.)
– О нет! Только не это! Эти люди принесли мне столько страданий! Как я могу простить вероломных полицейских и лжесвидетеля Полена? Как отказаться от желания вырвать язык прокурору? Невозможно. Ты от меня слишком много хочешь. Нет, нет и нет! Мне жаль, что я Тебе прекословлю, но я отомщу любой ценой.
Я вышел на воздух, убоявшись расслабиться и уступить. Прошелся по огороду. Тото закручивает побеги тянущейся вверх фасоли вокруг опорных палок. Ко мне подошли все трое: Тото, большой французский оптимист из самых низов улицы Лапп; Антарталья, вор-карманник с Корсики, долгие годы облегчавший карманы парижан, и Депланк, дижонец, убивший напарника по сутенерству. Все трое смотрят на меня, их лица светятся радостью по поводу моего освобождения. Скоро придет и их очередь.
– Ты не забыл принести из деревни бутылочку вина или рома отпраздновать свое освобождение?
– Простите, братья, так разволновался, что даже и не подумал. Прошу вас, не сердитесь на мою забывчивость.
– Тебе не в чем извиняться перед нами. Сварганим кофе на всех.
– Какое счастье, Папи, что после стольких лет борьбы ты наконец-то свободен. Мы рады за тебя.
– Надеюсь, скоро и ваш черед.
– Как пить дать. Капитан сказал, что нас будут выпускать по одному через каждые две недели. Что собираешься делать на свободе?
Я помедлил с ответом, но, набравшись мужества, несмотря на страх показаться смешным перед ссыльным и двумя каторжниками, выпалил:
– Что собираюсь делать? Нетрудно ответить: буду работать и буду всегда честным. В стране, оказавшей мне доверие, стыдно совершать преступления.
Я был поражен, когда услышал в их голосах такую же убежденность:
– Я тоже решил исправляться. Ты прав, Папи. Будет трудно, но игра стоит свеч. Венесуэльцы заслуживают, чтобы к ним относились уважительно.
Я не верил своим ушам. Представить себе Тото, тюремного выкормыша, с такими идеями? Потрясающе! Или Антарталью, всю жизнь охотившегося за чужими кошельками, с подобными мыслями? Удивительно и труднее всего представить Депланка, прожженного сутенера, без всяких планов найти женщину и заставить ее работать. Все разразились хохотом.
– Просто умора! Только представить себе, что мы на Монмартре или Плас-Бланш и рассказываем об этом! Кто бы нам поверил!
– Люди нашего мира поверили бы. Они бы нас поняли. Обыватели – ни за что! Подавляющее большинство французов никогда не согласятся с тем, что из человека с таким прошлым, как у нас, может получиться человек порядочный во всех отношениях. Вот в чем разница между французами и венесуэльцами. Я вам рассказывал о бедном рыбаке из Ирапы, который убеждал префекта, что человека нельзя считать потерянным навсегда: ему надо только дать шанс и оказать помощь, чтобы он снова стал честным человеком. Эти почти безграмотные рыбаки с залива Пария, затерявшегося на краю света в огромном устье Ориноко, мыслят по-человечески, чего явно не хватает многим нашим соотечественникам. Технический прогресс, суетная жизнь, общество с единственным идеалом – побольше изобретений и новшеств, во имя чего? Для того, чтобы жизнь стала еще легче и чтобы постоянно рос жизненный уровень. Вкусить научных открытий – это все равно что лизнуть мороженого: хочется еще и еще. Жажда все большего и большего комфорта заставляет вести постоянную борьбу за его достижение. Это иссушает душу и сердце людей – уходят сострадание, понимание и благородство. Не хватает времени позаботиться о других, не говоря уже о преступниках. Здесь, в Венесуэле, даже власти отличаются от наших. Они хоть и отвечают за общественный порядок в целом, но все-таки идут на риск, чтобы спасти отдельного человека, невзирая на возможные серьезные неприятности и последствия. И это великолепно.
У меня прекрасный костюм цвета морской волны. Его дал мне мой ученик, ныне полковник. Месяц назад он поступил в офицерское училище, успешно сдав экзамены и оказавшись в тройке лучших по конкурсу. Я очень рад, что своими уроками способствовал его успеху. Перед отъездом он оставил много другой одежды, почти новой, оказавшейся мне впору. Благодаря Франсиско Боланьо, капралу национальной гвардии, женатому человеку и отцу семейства, я выйду на свободу прилично одетым.
Этот старший офицер, ныне полковник национальной гвардии, на протяжении двадцати шести лет оказывал мне честь своей дружбой, нерушимой и великодушной. Он воплощение подлинного благородства, цельного характера и возвышенных мыслей – всего того, чем может гордиться человек. Никогда, несмотря на свое высокое положение в военной иерархии, не переставал он быть моим верным другом, ни разу не колебался и не отказывался оказать мне помощь. Полковнику Франсиско Боланьо Утрера я многим обязан.
Да, я сделаю все возможное и даже невозможное, чтобы всегда оставаться честным. Только как быть с тем, что я никогда не работал и ничего не умею делать? Возьмись за любое дело, чтобы зарабатывать на жизнь. Это нелегко, но вполне возможно. Завтра я стану человеком, как и все другие. Ты проиграл партию, прокурор: я выбрался из канализации.
Перевозбужденный, лежу и ворочаюсь в гамаке. Идет последняя ночь моей тюремной одиссеи. Встал и прошелся по огороду, за которым я так заботливо ухаживал последние месяцы. Ярко блестит луна: светло как днем. Бесшумно течет река. Не слышно крика птиц – угомонились и спят. Небо усеяно звездами, но свет луны растворяет их свечение. Надо повернуться к луне спиной, чтобы увидеть звезды. Передо мной сплошной стеной тянется лес, он расступается только там, где стоит деревня Эль-Дорадо. Мирное царство природы успокаивает и меня. Постепенно уходит тягостное возбуждение, и тишина ночи передает мне свой удивительный покой.
Я представил в своем воображении то место, где я выйду из лодки и ступлю ногой на землю Симона Боливара, человека, освободившего Венесуэлу от испанского ига и завещавшего своим сыновьям те понятия туманности и сострадания, благодаря которым мне удалось обрести новую родину и начать новую жизнь.
Мне тридцать семь, я еще молод. Я жив и здоров. Никогда не болел серьезно. Психически уравновешен и, позволительно будет сказать, вполне нормален. Дорога вниз по сточной канаве не оставила на мне следов деградации. И мне кажется, только потому, что я по ней никогда и не шел по-настоящему.
В первые же недели свободы мне предстоит найти способ не только зарабатывать себе на жизнь, но и позаботиться о Пикколино. Я взял на себя серьезную ответственность. И все же, несмотря на всю тяжесть предстоящей ноши, я выполню свое обещание, данное мною начальнику колонии. Я не оставлю несчастного парня и постараюсь определить его в ту больницу, где умелые руки смогут вернуть ему здоровье.
Не следует ли известить отца о моем освобождении? Уже многие годы он обо мне ничего не знает. А где он сам? Все новости о сыне он получал из рук жандармов во время моих побегов. Нет, не стоит спешить. К чему бередить старые раны, возможно зарубцевавшиеся с годами. Напишу, когда встану на ноги, когда получу честную, пусть даже скромную, работу, когда я смогу сказать: «Дорогой папа, твой малыш стал честным человеком – он живет честным трудом. Работает там-то, зарабатывает столько-то, должность такая-то. Тебе не надо больше низко опускать голову, когда о нем говорят. Поэтому я тебе и пишу и хочу сказать, что всегда любил тебя, почитал и любить не перестану».
Идет война. Кто мне скажет, стоят ли немцы в моей маленькой деревне? Ардеш не ахти какая важная часть Франции. К чему ее оккупировать? Что они там найдут, кроме каштанов? Да, как только встану на ноги, обрету вес и уважение, так сразу и напишу. Постараюсь написать.
Куда податься? Пожалуй, поселюсь в деревне Кальяо, что рядом с золотыми приисками. Там и проживу положенный мне год. А чем займусь? Бог знает. Не беги впереди паровоза. Если предстоит сначала копать землю, чтобы заработать на хлеб, то необязательно всю жизнь оставаться землекопом. Надо прежде всего научиться жить на свободе. А это нелегко. За исключением нескольких месяцев проживания в Джорджтауне, я в течение тринадцати лет не заботился о хлебе насущном. А в Джорджтауне у меня получалось неплохо. Хочешь жить – умей вертеться. Разумеется, без разных штучек, чтобы никому не было вреда. Посмотрим. Итак, завтра – Кальяо!
Семь утра. Великолепное тропическое солнце, безоблачное небо. Заливаются птицы, радуясь жизни. У садовой калитки собрались друзья. Пикколино чисто выбрит и одет по-граждански. Все – и природа, и звери, и люди – дышат вольно и радостно, празднуя мое освобождение. С нами стоит один лейтенант. Он сопровождает нас с Пикколино до Эль-Дорадо.
– Обнимемся, – говорит Тото, – и ступай. Так-то будет лучше.
– До свидания, братья. Будете проезжать Кальяо, загляните ко мне. Если у меня будет дом, он станет и вашим.
– До свидания, Папи. Удачи тебе!
Быстро дошли до пристани и сели в лодку. Пикколино шел хорошо. Он парализован выше пояса, а ноги в полном порядке. Меньше чем за пятнадцать минут мы переехали реку.
– Так. Вот документы Пикколино. Удачи вам, французы. С этой минуты вы свободны. Adios! (Прощайте!)
Неужели все так просто: взял и сбросил с себя цепи, которые таскал тринадцать лет? «С этой минуты вы свободны». Стоит повернуться к ним спиной – и мы уже не под стражей! Вот и все. Быстро поднялись вверх от реки по дороге, мощенной булыжником. Несем с собой только небольшой пакет с тремя рубашками и штанами на смену. На мне костюм цвета морской волны, белая рубашка и голубой галстук в тон.
Жизнь прожить – не поле перейти. И если сегодня, двадцать пять лет спустя, я женат, имею дочь и как венесуэлец счастливо живу в Каракасе, то это стало возможным только после других многочисленных приключений, завершавшихся когда успехом, а когда и поражением, через которые мне суждено было еще пройти. Но все это время я оставался свободным человеком и достойным гражданином. Может быть, придет день, и я расскажу вам о них и других интересных историях, для которых на этих страницах не хватило места.Анри Шарьер и его роман «мотылек»
Весь 1970 год Франция говорила о Мотыльке, о феномене Папийона. За несколько месяцев было продано 850 тысяч экземпляров одноименной толстой книги! Ее читали все: от известных писателей, членов Французской академии, до рядовых французов, читающих от случая к случаю. Маститые литераторы обычно очень осторожны в оценке достоинств любой новой книги, но в этом случае известнейший литератор Франсуа Мориак нарушил традицию. Его отзыв о книге Шарьера выше всяких похвал:
«Я слышал, что эту книгу пытаются отнести к жанру устной литературы. Я не согласен. Даже в чисто литературном плане это чрезвычайно талантливая книга. Я всегда считал, что нельзя добиться большого, ошеломляющего успеха, если он не заслужен. Думаю, что громкий успех „Мотылька“ прямо пропорционален достоинствам книги и всему тому, что пришлось пережить ее автору. Ведь другой человек, прожив ту же самую жизнь, испытав то же самое, ничего не создал бы. А эта книга – поистине литературное чудо. Быть в заключении, бежать с каторги еще ничего не значит: надо иметь талант, чтобы обручить повествование с правдой. Наш новый коллега – настоящий мастер».
Анри Шарьер родился в 1906 году в департаменте Ардеш (Франция). Отслужив на флоте (1923–1926), он поселился в Париже и вскоре завоевал известную репутацию в кругах парижского преступного мира. В 1931 году Анри Шарьер, по прозвищу Папийон (Мотылек), был обвинен в убийстве, которого не совершал, приговорен к пожизненной каторге и отправлен морским конвоем вместе с сотнями других осужденных во Французскую Гвиану. Очутившись в мире жестокости и коррупции, где убийства и содомия были обычным явлением, Папийон не теряет человеческого достоинства, остается верен друзьям и проникается ненавистью к официальному правосудию и тюремным властям. Им постоянно руководит идея мести. Он жаждет отомстить всем, по чьей вине он оказался на каторге, и даже пытается подражать герою известного романа Дюма. Он дает себе клятву бежать и на сорок третий день пребывания в Сен-Лоран-дю-Марони вместе с двумя товарищами совершает первый побег. По реке Марони они плывут в разваливающейся на ходу лодке, на Голубином острове (остров для больных проказой) меняют лодку, в чем им великодушно помогают прокаженные. Много дней и ночей проводят беглецы в океане, прежде чем попадают на Тринидад. Затем Кюрасао, где их лодка разбивается о скалы. На новой лодке они плывут дальше, держа курс на Британский Гондурас, но у порта Риоача их перехватывает колумбийская береговая охрана и отправляет в местную тюрьму. Грозит выдача французским властям. Новый побег из тюрьмы в Риоаче Папийон совершает с колумбийским контрабандистом Антонио, который провожает его до земли индейцев гуахира. Индейцы принимают беглеца в свою семью, дают ему двух жен, а когда белому человеку становится невмоготу, когда им вновь овладевает жажда мести, они снабжают его в дорогу жемчугом и тридцатью девятью золотыми монетами. В Колумбии Папийона вновь арестовывают. Три попытки бежать из тюрем в Санта-Марте и в Барранкилье заканчиваются неудачей. Папийона выдают французским властям и возвращают в Гвиану, где он сидит два года в одиночной камере на острове Сен-Жозеф. Через два года он снова готовится к побегу, делает плот, но его выдает свой же брат-каторжанин. Папийон убивает предателя. Снова камера-одиночка. Приговор – восемь лет. Из одиночки его выпускают досрочно на девятнадцатый месяц за попытку спасти от акул маленькую девочку. Его переводят на остров Дьявола, откуда он бежит, бросившись со скалы в море на двух спаренных мешках, набитых высушенными кокосовыми орехами. На этот раз он попадает в Британскую Гвиану, живет некоторое время в Джорджтауне, заводит новую жену. После ряда ярких приключений Папийон бежит из Джорджтауна в Венесуэлу и опять оказывается в тюрьме, где царят жестокие, нечеловеческие нравы. Благодаря революции в 1944 году его освобождают, а через двенадцать лет он получает венесуэльское гражданство. В общей сложности Анри Шарьер провел в тюрьмах и на каторге тринадцать лет.
В Венесуэле Шарьер женился в последний раз и навсегда. Он скопил денег, построил дом. Но тут новое несчастье – землетрясение, и все пошло насмарку. Тогда и пришла Анри Шарьеру счастливая мысль написать обо всем книгу. А в Париж Папийон все-таки приехал, но когда стал знаменитым и состоятельным. И мстить он уже никому не захотел.
Книга «Мотылек» переведена на все европейские и другие языки мира. Тиражи ее огромны – десятки миллионов экземпляров, а в США по ней поставлен фильм с участием известных актеров. Популярность романа необыкновенно велика. Надеемся, что наши соотечественники также прочтут ее с большим удовольствием.
...
И. Стуликов
Сноски
1
Папийон (Papillon) – по-французски мотылек.
2
10 000 франков.
3
Палач в 1932 году.
4
От фр . battre – бить, колотить.
5
Буш – неокультуренная земля, покрытая зарослями.
6
Анимистический культ, исповедуемый неграми Гаити.
7
Карточная игра.
8
Петен Анри Филипп – глава капитулянтского правительства во время оккупации Франции фашистами в 1940–1944 гг.
9
Д’Арсонваль Жак Арсен (1851–1940) – французский физиолог, исследовавший воздействие на организм токов высокой частоты.
10
Вьетнамец.
11
Народная песня, популярная во Франции в годы Первой мировой войны.

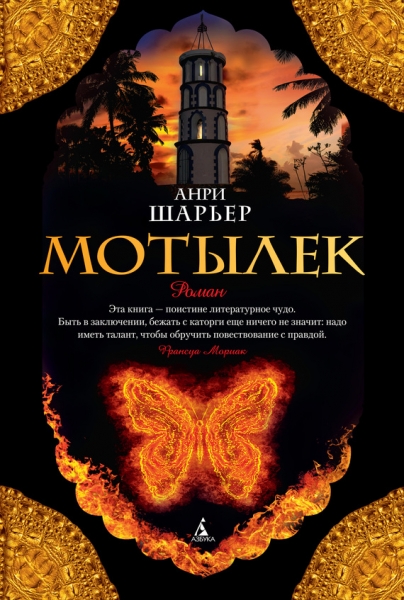

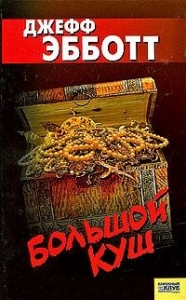
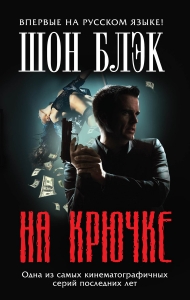
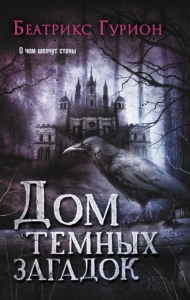
Комментарии к книге «Мотылек», Анри Шаррьер
Всего 1 комментариев
Влад
25 июл
Слишком много читать сколько там нахер часов нужно чтобы прочитать????