Том Нокс «Метка Каина»
ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА
«Метки Каина» — выдумка. Однако при работе над ней использовалось множество подлинных исторических, археологических и научных источников. В частности:
Монастырь Святой Марии Туретской стоит среди лесов и виноградников в центре Франции. Здание по проекту Ле Корбюзье построено в пятидесятых годах. Но пять лет спустя после завершения строительства монастырь чуть не закрыли, потому что очень многие монахи начали страдать умственными расстройствами.
Евгений Фишер был немецким ученым, известным своими исследованиями в области наследственности, особенно среди бастеров Намибии, а потом работой для Гитлера и нацистской партии. Он пережил Вторую мировую войну и продолжил свою деятельность, даже не подвергнувшись судебному преследованию.
В 1610 году король Наварры попросил своих медиков исследовать двадцать два своих подданных «кагота».
БЛАГОДАРНОСТИ
Я хотел бы выразить свою благодарность всем, кто помогал мне в изучении Намибии, особенно жителей Кэнон-Лодж, Намиб-Дезерт-Лодж, Людериц-Нест и Кляйн-аус-Виста. Все это совершенно необычные места. И я благодарю волонтеров из общества по спасению пустынных слонов Намибии за их поистине бесценную помощь.
Также большое спасибо Марку Курлански и Пэдди Вудворту за их весьма познавательные книги о культуре басков, о каждом жителе города Сугаррамурди в Наварре, об ученых Стэнфордского университета, занятых в проекте по изучению генома человека (закрытом, несмотря на интерес к нему, в девяностых годах), и о монахах-доминиканцах из приората Ла-Туретт.
Благодарю моих редакторов, Джошуа Кендалла из Нью-Йорка и Джейн Джонсон из Лондона, за их терпение, трудолюбие и понимание в течение многих месяцев; я им бесконечно благодарен. И точно так же я благодарен Евгении Фурнисс, моему агенту в издательстве «Уильям Моррис», и Джей Мэндел из Нью-Йорка.
И, наконец, мне хотелось бы поблагодарить Мари-Пьер Мане Безок, которая позволила мне жить в ее доме в Тарбесе, на юге Франции, и рассказала о своей весьма примечательной родословной.
Эта книга посвящается Мари — последней из каготов.
Голос брата твоего вопиет ко Мне от земли.
Быт. 4:101
Саймон Куинн слушал молодого человека, который описывал, как именно отрезал себе большой палец.
— И это, говорил он — было началом конца. Я хочу сказать, если ты отрезаешь себе палец, просто берешь и отрезаешь ножом, это ведь не пустяк, а? Это серьезное дерьмо. Я хочу сказать, отхватывать себе пальцы. Это черт знает что такое.
Саймону отчаянно захотелось рассмеяться, но он подавил этот импульс. Худшее, что ты можешь сделать на встрече анонимных наркоманов, — это засмеяться над чьей-нибудь ужасной историей. Это просто недопустимо. Люди пришли сюда, чтобы поделиться с другими своими бедами, исповедаться, достичь некоего катарсиса благодаря выявлению своих самых тайных страхов и постыдных поступков и таким образом исцелиться.
Молодой человек завершил рассказ:
— Ну и вот, тогда меня вроде как стукнуло. Я вдруг понял, что должен что-то сделать, ну, я о наркотиках и всяком таком. Спасибо.
Мгновение-другое в комнате было тихо. Потом женщина средних лет сердечно произнесла: «Спасибо, Джонни», и все забормотали следом за ней: «Спасибо, Джонни».
Они все дошли почти до предела. Шесть человек, получивших брошюрки с приглашением. Для Саймона это была новая группа, и ему это нравилось. Обычно он посещал вечерние встречи рядом с той квартирой, где жил с женой и сыном, на Флинчи-роуд, в пригороде Лондона. Но сегодня ему пришлось поехать по делам в Хэмпстед, и по пути он решил заглянуть в другую группу, испытать нечто новое; ему уже наскучили пьянчуги, с которыми он встречался, и их истории о том, как они глотают жидкость для заправки зажигалок. Поэтому он позвонил по горячей линии общества анонимных наркоманов и нашел адрес вот этого собрания, куда никогда прежде не заглядывал, и оказалось, что здесь встречаются регулярно во время обеденных перерывов, — а люди здесь интересные, и истории у них необычные.
Пауза затянулась. Возможно, теперь ему следует поделиться собственной историей? Он решил рассказать самую первую. Главную.
— Привет, меня зовут Саймон, и я наркоман.
— Привет, Саймон…
— Привет, Саймон.
Он немного наклонился вперед и заговорил:
— Я много пил… лет десять, не меньше. Но я не был просто алкоголиком, я был… так сказать, неразборчивым потребителем. Я пил абсолютно все. Но я не хочу говорить об этом. Я хочу… объяснить, как это началось.
Руководитель группы, мужчина лет пятидесяти с небольшим, с добрыми голубыми глазами, осторожно кивнул.
— Говори о чем хочешь. Пожалуйста, продолжай.
— Спасибо. Ну вот. Ладно. Я… я вырос не так уж далеко отсюда, в Белсайз-парке. Мои родители были довольно состоятельны. Отец архитектор, мать — преподаватель. Мы родом из Ирландии, но… я учился в частной школе в Сассексе. Отсюда и этот глупый акцент английского среднего класса.
Руководитель вежливо улыбнулся. Он слушал очень внимательно.
— И… и у меня был старший брат. Мы, в общем, были довольно счастливой семьей… поначалу. А потом, когда мне исполнилось восемнадцать, я отправился учиться в университет, и вот туда-то мне позвонила мать, она была просто вне себя. Она сказала: «Твой брат Тим свихнулся!». Я спросил, что она имеет в виду, а она ответила: «Просто свихнулся!» И это действительно было так. Он вдруг вернулся домой из университета и начал болтать что-то совершенно безумное, писать и декламировать уравнения и формулы… и самым безумным было то, что он делал это на немецком!
Саймон окинул взглядом лица людей, собравшихся в этом подвальном помещении. Потом продолжил:
— В общем, я помчался домой и обнаружил, что мать была совершенно права. Тим бесповоротно свихнулся. Полностью и окончательно. Он устраивал разные гадости товарищам по учебе… может, его это как-то стимулировало… но я думаю, что это уже было проявлением шизофрении. Потому что шизофрения ведь именно в таком возрасте чаще всего и начинается — между восемнадцатью и двадцатью пятью годами. То есть тогда, конечно, я этого не знал.
Женщина средних лет пристально смотрела на него, прихлебывая чай из пластиковой чашки.
— Тим был склонен к науке. Он был по-настоящему умен — куда умнее, чем я. Я едва могу выговорить bonjour[1], а он говорил на четырех языках. И он готовился получить ученую степень по физике, в Оксфорде, но вдруг вернулся домой… без предупреждения… и болтал всякую ерунду, декламировал научные формулы на немецком. Он этим занимался ночь напролет, маршируя вверх-вниз по лестнице. Das Helium und das Hydrogen[2] бла-бла-бла… И так всю ночь. Мои родители поняли, конечно, что с братом случилось что-то серьезное, и отвезли его к врачу, а тот выписал Тиму обычные в таких случаях лекарства. Эти поганые маленькие пилюльки. Антипсихотические, нейролептические… И на какое-то время они помогли… Но однажды ночью, когда я приехал домой на Рождество, я услышал какое-то бормотание… Это был его голос. Все началось сначала. Да. Das Helium und das Hydrogen. А я лежал в своей комнате и гадал, что тут можно сделать. Но потом до меня донесся ужасный крик, и я выскочил из спальни и увидел, что мой брат… — Саймон на мгновение закрыл глаза. — Я увидел, что брат — в комнате родителей и они там с матерью одни, потому что отец как раз уехал… и… мой брат нападает на мать, рубит ее мачете. Такой большой нож. Мачете. Я не знаю, как все это началось. Я просто увидел, что он рубит огромным ножом нашу мать, и потому я бросился на него и повалил на пол, а вокруг была кровь… везде, везде… она просто сплошь покрыла все стены. Я его чуть не задушил. Чуть не убил брата. — Саймон перевел дыхание. — Приехали полицейские и увезли Тима… мать отправили в больницу, она осталась жива, ей наложили множество швов… но она осталась без нескольких пальцев, и кое-какие нервы были перебиты. И все равно это было просто невероятным везением. Она могла погибнуть — но осталась в живых. А потом перед нашей семьей встала совершенно ужасная дилемма — должны ли мы выдвигать обвинение? Мы с отцом сказали «да», но мать заявила — «нет». Она любила Тима больше, чем всех остальных. Она думала, что его можно вылечить. И мы с ней согласились… да, это глупо, безумно, но мы согласились. Потом Тим вернулся домой, и какое-то время казалось, что с ним все в порядке, он принимал лекарства… но однажды ночью я опять услышал: «Das Helium und das Hydrogen…»
Саймон почувствовал, как у него на лбу выступает пот. Он поспешно продолжил рассказ:
— Тим снова бормотал в своей комнате. И конечно, это было то самое. Мы позвонили в полицию, и они мгновенно приехали, забрали брата и увезли в сумасшедший дом. Там он и находится до сих пор. Запертый на ключи и засовы, засунутый в коробку… Он с тех самых пор там. И останется там на всю жизнь… — Заканчивая свою историю, Саймон ощутил привычное облегчение. — Вот тогда-то я и начал пить — чтобы забыть обо всем, понимаете? А потом сульфаты, а потом много всего подряд… Но я перестал пьянствовать шесть лет назад, да, и прошел курс лечения антибиотиками, и шесть раз в неделю посещаю собрания. И с тех пор — ничего! А сейчас у меня жена и сын, и я их невероятно люблю. Так что чудеса случаются. Действительно случаются. Конечно, я до сих пор не знаю, почему мой брат сделал то, что он сделал, и что все это значило, но… Я смотрю на это так: может быть, у меня тоже такие гены, а может быть, с моим сыном все будет хорошо. Кто знает? Всему свое время, поживем — увидим. Вот такая у меня история. И большое вам спасибо за то, что выслушали меня. Спасибо.
Жаркую душную комнату наполнило бормотание: «Спасибо, спасибо…» — это откликнулось собрание. Последовавшее за ним молчание было чем-то вроде знака: час подходил к концу. Все встали, обнялись друг с другом и прочли благодарственную молитву. На этом все закончилось, и наркоманы потянулись к выходу, с трудом поднимаясь по скрипучей деревянной лестнице, ведущей во двор Хэмпстедской церкви.
В кармане Саймона зазвонил мобильный телефон. Остановившись у церковных ворот, он ответил на вызов.
— Куинн! Это я!
На дисплее телефона вспыхнула надпись: «Номер не определен», но Саймон сразу узнал голос. Это был Боб Сандерсон. Его коллега, его источник жизни, его друг: детектив, старший инспектор Скотланд-Ярда.
Саймон ответил ему бодрым «Привет!». Он всегда был рад слышать Боба, потому что этот полицейский регулярно скармливал журналистам интересные истории: сплетни о дерзких грабежах и кражах, слухи о пугающих самоубийствах… В обмен за информацию Саймон всегда заботился о том, чтобы старший инспектор был на виду; о нем всегда упоминалось в обзорных статьях, причем в самых лестных выражениях — «умный полицейский, раскрывающий все преступления, восходящая звезда» и так далее. Это была неплохая сделка.
— Рад слышать твой голос, инспектор. Я немножко не удел.
— Ты всегда не у дел, Куинн.
— Это называется «внештатный сотрудник». Чем порадуешь?
— Возможно, чем-то любопытным. Странный случай в Примроуз-Хилл.
— Вот как?
— О да.
— И… что такое случилось? Где именно?
Детектив немного помолчал, потом ответил:
— Большой старый дом. Убита старая леди.
— Отлично.
— Не слышу особого энтузиазма.
— Ну… — Саймон мысленно пожал плечами, глядя на автобус, поворачивающий налево, к Белсайз-Парк. — Примроуз-Хилл? Я полагаю… какой-нибудь нервный грабитель, охотник за драгоценностями… Обычная история.
— О нет, на этот раз ты ошибся, — полицейский хихикнул, но в его смешке слышалась и определенная доля серьезности. — Это не стандартный случай ограбления, Куинн.
— Ладно, и что тогда? Что делает его необычным?
— Способ убийства. Выглядит так, словно леди сначала… связали узлом.
— Связали узлом?
— Именно так. Мне тут подсказывают верное слово… — полицейский немного помедлил, потом повторил: — Связали узлом! Возможно, тебе следует приехать и взглянуть самому.
2
За окном хосписа раскинулась бесплодная красота аризонской пустыни, с ее покоренными песками, пузырями базальтовых выступов… Зеленые руки гигантских кактусов-цереусов тянулись вверх, обращаясь с мольбой к неумолимому солнцу.
Если тебе предстоит умереть, думал Дэвид Мартинес, то это как раз самое подходящее местечко для этого, на самой окраине Феникса, почти в пригороде, где уже начинается великий пустынный край Сонора.
Дед что-то бормотал, лежа в постели. Капельница с морфином делала свое дело. Деда сейчас невозможно было понять. Впрочем, его теперь вообще редко кто понимал.
Внук наклонился и промокнул бумажной салфеткой пот со лба деда. Он снова пытался понять, зачем он приехал сюда, проделал весь этот путь из Лондона, потратив на поездку драгоценные свободные дни. Но ответ был тем же, что и прежде.
Он любил своего деда. Он мог бы вспомнить и лучшие времена: мог бы вспомнить деда темноволосым, крепким, бодрым человеком; тот сажал Дэвида к себе на плечи под жаркими лучами солнца. В Сан-Диего, у моря, когда они еще были настоящей семьей. Маленькой семьей, но настоящей.
А может быть, была и другая причина, по которой Дэвид ехал так долго. Его мать и отец погибли в автомобильной катастрофе пятнадцать лет назад. И уже пятнадцать лет Дэвид пребывал в Лондоне, а его дед доживал свои дни в далеком Фениксе. И зависело это только от Дэвида. Столь печальный факт требовал правильной оценки; поэтому Мартинес и приехал, чтобы должным образом попрощаться с единственным родным человеком.
Лицо деда исказилось во сне.
Уже около часа Дэвид сидел здесь, читая книгу. А потом, наконец, его дед проснулся, закашлялся и открыл глаза.
Умирающий пациент озадаченно уставился в окно, на голубой квадрат неба пустыни, как будто впервые его увидел. Потом его взгляд перешел на посетителя. Дэвид ощутил укол страха: а что, если дед, посмотрев на него, скажет: «Ты кто такой?» За последнюю неделю это случалось слишком часто.
— Дэвид?
Дэвид придвинул стул поближе к кровати.
— Дед…
То, что последовало за этим, нельзя было назвать настоящим разговором, но тем не менее это был разговор. Они поговорили о том, как дед себя чувствует; они вкратце затронули тему больничной еды. «Слишком много мексиканского, Дэвид, слишком много мексиканского». Дэвид упомянул о том, что неделя его отпуска почти закончилась и что он через день-другой должен уже будет лететь в Лондон.
Старик кивнул. За окном в небе над пустыней кружил ястреб, и тень большой птицы пронеслась по комнате.
— Мне очень жаль… я не был с тобой, Дэвид, когда… когда твоя мама… и папа… ну, ты понимаешь… когда это случилось.
— Не понял?
— Ты знаешь. То… ну, что случилось… я так чертовски сожалею обо всем этом. Я был дураком.
— Нет. Будет тебе, дед. Не надо начинать все снова. — Мартинес покачал головой.
— Выслушай меня, внучек… пожалуйста… — старик поморщился. — Мне надо сказать тебе кое-что.
Дэвид кивнул, внимательно вслушиваясь в слова деда.
— Я должен это сказать. Я бы мог… я мог бы сделать больше, помочь тебе больше. Но ты так хотел остаться в Англии, подруга твоей мамы увезла тебя туда, и казалось, что это к лучшему… ты ведь не знал, как это было трудно. Приехать в Америку. После войны. Когда… когда твоя бабушка умирала…
Он надолго умолк.
— Деда?
Старик посмотрел на полуденное солнце, бросившее свои лучи в палату.
— Я хочу тебя спросить, Дэвид.
— Да. Конечно. Спрашивай.
— Ты думал когда-нибудь о том, откуда ты взялся? Кто ты есть на самом деле?
Мартинес давно привык к тому, что дед задает ему разные вопросы. Это было частью их родственных отношений, они именно так ладили, притирались друг к другу: старый человек расспрашивал внука о разных делах молодежи. Но на этот раз вопрос был совсем другим, неожиданным, и притом весьма интересным, и он не был похож на все прежние. Это был Настоящий Вопрос.
А кем он был на самом деле? Откуда он на самом деле взялся?
Дэвид обычно приписывал свое чувство отсутствия корней хаотическому воспитанию и не совсем обычной родословной. Дед был испанцем, но в 1946 году вместе с женой приехал в Сан-Диего. Она умерла, давая жизнь отцу Дэвида; затем его отец встретил его мать, медицинскую сестру из Англии, которая работала на базе военно-воздушных сил в Калифорнии.
В итоге в первые годы жизни Дэвид, в общем, мог в определенном смысле сказать, кто он: американец англо-испанского происхождения, калифорниец, — но латиноамериканская фамилия и испанская внешность все же выделяли их семью на общем фоне, они были не такими, как стопроцентные американцы. А потом они отправились в Британию, потом в Германию, а потом в Японию, после чего опять вернулись в Британию — то есть они жили там, куда направляли по службе отца Дэвида.
К концу этого мирового турне, к тому времени, когда ему исполнилось лет десять или двенадцать, Дэвид уже не чувствовал себя ни американцем, ни британцем, ни испанцем, ни калифорнийцем — ни вообще кем-нибудь. А потом его отец и мать погибли в катастрофе, и он вообще остался без каких-либо чувств, одинокий, безымянный, плывущий невесть куда, и все становилось только хуже и хуже. Один в целом мире.
Дед повторил вопрос.
— Ну же, Дэвид… как? Думал ты когда-нибудь об этом? Откуда ты взялся?
Дэвид пожал плечами и солгал, сказав:
— Нет, вообще-то.
Он не чувствовал себя готовым вникать в эту тему; только не сейчас.
Но если не сейчас, то когда?
— Ладно. Хорошо, — пробормотал старик. — Хорошо, Дэвид. Хорошо. А как твоя новая работа? Работа? Тебе она нравится? Чем ты занимаешься, я забыл…
Похоже, дед снова проваливается в забытье? Дэвид нахмурился и сказал:
— Я юрист, работаю в средствах массовой информации. Юрист. И всё в порядке.
— Только в порядке?
— Нет… я ненавижу эту работу. — Дэвид вздохнул, удивленный собственной откровенностью. — Я думал… по крайней мере, рассчитывал, что в этом будет нечто эффектное, интересное. Ну, знаешь, поп-звезды, вечеринки… Но я просто сижу в мрачном кабинете и звоню другим юристам. Чистое дерьмо. А мой босс — просто онанист какой-то.
— Ах… ах… ах… — Кашель старика звучал как скрип ржавого железа. Потом дед откинулся на спину и уставился в потолок. — Разве ты не учился в хорошем колледже… что-то связанное с наукой, нет?
— Ну… да, я занимался биохимией, дед. В Англии. Но этим делом много не заработаешь. Вот я и занялся законами.
Наступила очередная пауза. Палату заливал яркий свет. Наконец дед заговорил:
— Дэвид… ты должен кое-что знать.
— Что же?
— Я лгал.
Тишина в комнате стала удушающей. Где-то в коридоре громыхали колеса каталки.
— Ты лгал? Что это значит?
Дэвид внимательно всматривался в лицо деда. Может быть, у старика очередной приступ слабоумия? Дэвид не мог сказать наверняка, но его лицо выглядело живым и встревоженным, когда он продолжил:
— По сути, я и сейчас лгу, сынок… я просто… просто не могу… оставить все как есть. Но поздно что-либо менять. A las cinco de la tarde. Мне очень жаль. Desolado.[3]
Дэвид был озадачен. И внимательно смотрел на деда.
— Ладно, я устал, Дэвид. Я… я… я… теперь я должен это сделать. Прошу, загляни туда… мне самому никак. Пожалуйста.
— Извини, не понял?
— Сумка там, в ногах… моей кровати. Сумка «Кей-Март», универсам. Загляни. Прошу тебя!..
Дэвид живо вскочил и быстро подошел к куче сумок и пакетов, сваленных в углу комнаты, за кроватью. Алая сумка «Кей-Март» бросалась в глаза среди этого жалкого хлама. Дэвид поднял ее и сунул руку внутрь: на дне он нащупал что-то бумажное, свернутое в трубку. Может, это какая-то карта?
Карты были детской страстью Дэвида, карты и атласы. И теперь, развернув лист, он понял, что держит в руках поистине прекрасный экземпляр.
Это была отличная старая дорожная карта, раскрашенная в благородные, элегантные цвета. Мягкие серые переливы показывали горы и предгорья, озера и реки были окрашены в лирический голубой цвет, неровные зеленые пятна обозначали болота рядом с Атлантикой. Это была карта южной части Франции и севера Испании.
Дэвид сел и принялся внимательно ее рассматривать. Пометки на ней были очень аккуратно сделаны синими чернилами: маленькие синие звездочки усеяли серые волны гор между Францией и Испанией. Еще одна одинокая синяя звезда украшала верхний правый угол карты. Она находилась рядом с Лионом.
Дэвид вопросительно посмотрел на деда.
— Это Бильбао, — сказал старик, и теперь было слишком очевидно, что он очень устал. — Это Бильбао… Ты должен отправиться туда.
— Что?!
— Лети в Бильбао, Дэвид. Пойди в Лесака. И отыщи Хосе Гаровильо.
— Не понял?..
Старый человек сделал последнее усилие; его глаза помутнели.
— Покажи ему… эту карту… А потом расспроси о церквях. Пометки на карте. Церкви.
— Но кто этот человек? Почему ты не можешь просто сказать мне?
— Это было слишком давно… слишком много ошибок, я не могу, не могу признаться… — Голос старика стал тише, он перешел в шепот. — Да и в любом случае… Даже если бы я тебе рассказал, ты бы мне не поверил. Никто бы не поверил. Даже тот сумасшедший старик. Ты бы сказал, что и я безумен, старый безумный дурак… потому ты должен сам все выяснить, Дэвид. Но будь осторожен… будь осторожен…
— Дед?..
Но его дед уже отвернулся и уставился в потолок. А потом, с пугающим выражением неизбежного, он еще раз глянул на внука, и его веки опустились. Старик погрузился в прерывистый сон, усиленный лекарствами.
Капельница с морфином уже почти опустела.
Очень долго Дэвид сидел рядом с дедом, наблюдай за тем, как тот тяжело вдыхает и выдыхает, ничего не осознавая. Потом встал и закрыл жалюзи; солнце над пустыней уже почти закатилось.
Дэвид посмотрел на карту, лежавшую на больничном стуле; он не имел ни малейшего представления, что она может означать, какова связь его деда с Бильбао или с церквями. Возможно, это было нечто вроде забытой мечты, вернувшихся юношеских воспоминаний, некое промежуточное состояние сознания… А может быть, это вообще ничего не значило.
Да. Наверняка это именно так. Все это было просто бредом умирающего старика, некий лишенный логики выброс расстроенного мозга перед окончательным распадом. Печально, однако, если это действительно так, то дед сошел с ума.
Мартинес сложил карту и сунул ее в карман, потом наклонился и сжал руку деда, однако старик никак не откликнулся.
С тяжелым вздохом Дэвид вышел в горячий летний вечер Феникса и сел во взятую напрокат «Тойоту». По городской автостраде он поехал к своему мотелю, где уселся смотреть футбольный матч по мексиканскому спутниковому каналу с ужасным качеством изображения, и компанию ему составили упаковка пива и пицца.
Его дед умер на следующее утро. Медсестра позвонила Дэвиду в мотель. Он тут же позвонил в Лондон, чтобы сообщить об этом друзьям, — ему просто необходимо было услышать какие-то знакомые, приятные ему голоса. Потом связался со своей конторой и продлил «отпуск» на несколько дней в связи с тяжелой утратой.
Лондонский босс отнесся к сообщению Дэвида явно с некоторой долей презрения, поскольку речь шла «всего-навсего о каком-то дедушке».
— У нас очень много работы, Дэвид, так что все это весьма, весьма некстати. Постарайся не задерживаться.
Заупокойная служба прошла в безлюдном крематории в другом пригороде Феникса, в маленькой часовне. А Дэвид оказался единственным действительно сострадающим человеком во всем здании. Еще показались две сиделки из хосписа, и на том все кончилось. Больше никого и не извещали. Дэвид уже знал, что больше у него в Америке нет родных — да и нигде в другом месте, если уж на то пошло, — но здесь это одиночество выглядело особенно подчеркнуто, ощущалось в особенности остро… по-настоящему безжалостно. Однако что он мог изменить? Поэтому Дэвид просто молча пребывал рядом с сиделками; они были вместе, но каждый сам по себе, в одиночестве.
И церемония была в равной мере суровая, аскетическая: по просьбе самого деда не было чтения соответствующих текстов, вообще ничего не было; звучала только запись какой-то экзотической мелодии, полной диссонансов, исполняемой на гитаре, — ее заранее выбрал сам дед.
Когда музыка закончилась, гроб покатился прямиком в пламя. Дэвид ощутил быстроту его движения, как удар в живот. Как будто старик отчаянно спешил убежать со сцены, стремясь ускользнуть из этой жизни — или же ему хотелось поскорее сбросить с себя некую ношу…
Днем Дэвид отправился в глубь пустыни, разыскивая какое-нибудь уединенное местечко, как будто надеялся разогнать свою грусть в этих пустынных краях. Под угрожающе штормовым небом он рассыпал прах между колючей грушей и терновым кустом. Постоял на месте около минуты, наблюдая за тем, как разлетается по ветру пепел, а потом пошел к машине. Когда Дэвид возвращался в город, в ветровое окно уже ударили первые капли дождя; к тому времени, когда он добрался до своего мотеля, разразилась настоящая пустынная гроза — изломанные арки молний то и дело проносились между черной землей и зловещими тучами.
Близилось время отлета. Мартинес начал укладывать вещи. А потом в его номере зазвонил телефон. Может быть, его бывшая подружка? Она то и дело звонила в последние дни: пыталась поднять ему настроение. Старалась выглядеть хорошим другом.
Дэвид снял трубку и ответил:
— Э-э?..
Но это была не подружка. Голос в трубке звучал с ярко выраженным американским акцентом.
— Дэвид Мартинес? С вами говорит Фрэнк Антонеску…
— Э-э… добрый день.
— Я адвокат вашего дедушки. И прежде всего должен сказать — я с большой грустью узнал о его кончине.
— Благодарю вас. Простите… э-э… у деда был свой юрист?
Голос в трубке подтвердил: да, у деда был юрист. Дэвид удивленно покачал головой. Сквозь окно номера он видел, как хлещущий над пустыней дождь выбивает фонтанчики из бассейна перед мотелем.
— Так, ладно. Продолжайте, прошу вас.
— Спасибо. Вы кое-что должны знать. Я распоряжался состоянием вашего дедушки.
Дэвид рассмеялся — слишком громко. Его дед жил в медленно разрушавшемся старом бунгало; он ездил на «Шевроле» двадцатилетней давности, и у него, по сути, ничего не было. Состояние? Ну да, конечно.
Но тут Дэвид подавился смехом, потому что его вдруг укололо странное опасение. А не было ли именно это поводом к вечным страданиям деда? Возможно, старик завещал ему какой-нибудь громадный долг?..
— Мистер Мартинес… Состояние вашего дедушки составляет два миллиона долларов, или около того. Наличными. На сберегательном счете в банке Феникса.
Дэвид покачнулся, как от хорошего удара; затем попросил адвоката повторить сумму. Юрист повторил, и Дэвида тут же охватил истинный гнев.
Все это время! Все это время его дед был жутким, самым настоящим, чертовым миллионером? Все то время, пока он, Дэвид, его осиротевший внук, боролся, пробиваясь в жизни, грыз гранит наук в университете, выбивался из сил просто ради того, чтобы удержать голову над водой… и все это время его горячо любимый дедушка сидел на двух миллионах долларов?!
Дэвид спросил адвоката, как давно его дед обладал этими деньгами.
— С тех самых пор, как нанял меня. Как минимум двадцать лет.
— Значит… но почему, черт побери, он жил в этом дерьмовом старом домишке? Ездил на такой машине? Не понимаю.
— Это вы в точку попали, — ответил адвокат. — Поверьте мне, мистер Мартинес, я не раз предлагал ему воспользоваться деньгами, потратить что-нибудь на себя или отдать вам. Но он меня не слушал. Ну, по крайней мере, там накопились проценты, — адвокат грустно усмехнулся. — Если вы когда-нибудь узнаете, откуда взялись эти деньги, уж, пожалуйста, дайте мне знать. Меня всегда это очень интересовало.
— Так, и что мне теперь делать?
— Приезжайте завтра в мою контору. Подпишете кое-какие документы, и деньги ваши.
— Вот так просто?
— Вот так просто. — Последовала пауза. — Однако… Мистер Мартинес, вам лучше сразу узнать, что в завещании есть некое дополнительное условие, отдельный пункт…
— И в чем он состоит?
— Там сказано… — юрист вздохнул. — Ну… это несколько эксцентрично, конечно. Там сказано, что, прежде всего, вы должны потратить часть денег на то, чтобы кое-что сделать. Вы должны поехать в края басков и найти некоего человека по имени Хосе Гаровильо, он живет в городе под названием Лесака. Думаю, это где-то в Испании. Я имею в виду, край басков. — Юрист замялся. — В общем… я думаю, лучше всего сделать так: как только доберетесь до Испании, сообщите об этом мне, и я переведу деньги на ваш счет. И после этого делайте с ними что хотите.
— Но зачем ему нужно… зачем он хотел, чтобы я отыскал этого типа?
— Спросите что-нибудь полегче. Но это обязательное условие.
Дэвид все так же смотрел в окно, на дождь, который уже превратился в морось.
— Хорошо… Я приеду к вам завтра утром.
— Отлично. Встретимся в девять. И еще раз — примите мои соболезнования по поводу вашей потери.
Дэвид бросил трубку и посмотрел на часы: разница во времени с Англией слишком велика. И уже поздно звонить и рассказывать кому бы то ни было о необычной, удивительной новости; и слишком поздно звонить боссу и предлагать ему подавиться его идиотской работой.
Вместо того Дэвид подошел к маленькому журнальному столику и достал из сумки карту. Он развернул мягкий, печально поблекший лист и внимательно всмотрелся в крошечные синие пометки. Звезды уверенно и аккуратно были нарисованы рядом с названиями населенных пунктов. Поразительными названиями. Аризкун. Элизондо. Сугаррамурди. Почему отмечены именно эти места? Почему вообще у его деда оказалась эта карта?
И как могло получиться, что его нищий дед владел двумя миллионами долларов, к которым так ни разу и не прикоснулся?
Дэвид решил, что нужно поскорее узнать, есть ли какие-то рейсы до Бильбао.
3
В набитой людьми зоне прибытия аэропорта Бильбао Дэвид открыл свой ноутбук и отправил электронное сообщение Фрэнку Антонеску. К сообщению он приложил собственную цифровую фотографию — с басконской газетой в руке, чтобы доказать: он действительно прибыл в эту страну ради того, чтобы выполнить последнюю волю деда. Все это предприятие выглядело сюрреалистичным, на грани полной глупости, и тем не менее именно этого желал его дед. И потому Дэвид был только рад повиноваться ему.
Несмотря на проблемы с разницей во времени, адвокат сразу же прислал ответное сообщение и с впечатляющей деловитостью сообщил, что деньги уже переводятся.
Заглянув на соответствующий сайт, Дэвид проверил свой банковский счет. И правда, они были уже там. Деньги действительно уже лежали на его счету.
Два миллиона и сто тысяч долларов.
Дэвид чувствовал себя слегка растерянным, но также и бесконечно довольным.
Он был богат, но при этом пребывал в полном замешательстве; он чувствовал себя не в своей тарелке. Это было похоже на то, как если бы кто-то тайком прокрался в его дом и позолотил всю мебель. Да можно ли теперь садиться на эти стулья?
Закрывая ноутбук, Дэвид зевнул, потом зевнул еще раз и посмотрел сквозь широкое стекло дверей терминала. Снаружи шел дождь, настоящий ливень. А Дэвид очень устал. Завтра ему неплохо было бы отдохнуть от всех этих приключений.
Без особого смысла прикрываясь газетой «Эль Коррео», Дэвид покатил свой чемодан к стоянке такси; его спас некий бодрый таксист в яркой майке футбольного клуба «Барселона», поверх которой был надет щеголеватый кожаный пиджак; таксист непрерывно курил и болтал, когда они выбирались из аэропорта.
Такси мчалось по залитому дождем шоссе. Слева виднелась далекая серая масса Атлантического океана, справа неожиданно высились горы, уходящие в облака; на крутых склонах между ними прятались стальные конструкции бумажных фабрик, и эти фабрики, с высокими трубами красного кирпича, выпускали длинные ленты дыма цвета посеревшего от времени белого белья.
Дэвид опустил окно, позволяя дождю заливать лицо. Прохладный дождь был хорош — потому что пробивал усталую онемелость; он будил, он напоминал. Дэвид смотрел на Страну Басков. Он был здесь.
За время своего тридцатичасового перелета вокруг земного шара Мартинес успел провести кое-какие исследования — нашел в Интернете все, что мог, не только о Стране Басков, но и о жителях, ее населяющих.
Теперь он знал, что кое-кто полагал, будто баски произошли прямиком от неандертальцев. Он знал, что у них удивительно длинные мочки ушей. Он знал, что их язык уникален и не находится в родстве ни с одним другим языком мира; он знал, что слово «аррауктака» означает «ударить кого-нибудь веслом».
Дэвид также выяснил, что слово «бизарре» произошло от баскского слова, означающего «бородатый»; что эти люди высоки ростом и гораздо крепче испанцев; что баски — искусные китобои; что они выращивают особый сорт вишен, страстно любят регби, носят белье особого фасона и особый символ в виде волнистого солнца, называемый лаубуру, и что у них есть крошечные дикие лошадки поток.
Дэвид поднял стекло. Поиски его вполне отвлекли, вот только они не смогли дать ему те сведения, которые были по-настоящему нужны. Кто такой Хосе Гаровильо? Какое он имеет отношение к церквям? При чем тут карта деда?
Воспоминания о деде вызывали ощутимую боль. Дэвид постарался подавить эмоции; если он начнет думать о деде, то нить ассоциаций неизбежно приведет его к мыслям о родителях. Поэтому он должен действовать, а не думать; и сейчас он должен был оборвать кое-что, совершить еще одно решительное действие, ведущее к полным переменам.
Дэвид достал из кармана мобильный телефон. Звонок прозвучал в Лондоне.
— Роланд де Вилльерс. Слушаю.
Это был привычный высокомерный голос, привычная манера речи. Тот самый голос, который Дэвиду приходилось терпеть добрую половину десятилетия.
— Роланд, это Дэвид. Я…
— Ох, черт побери! В самом деле, Дэвид, куда ты провалился? Где ты сейчас?
— Роланд…
— Ты вообще понимаешь, что твой стол завален бумагами? Меня совершенно не интересуют все эти твои обстоятельства. Ты профессионал, не забывай это! Так что жду, что ты появишься в своем кабинете в течение часа, или…
— Я не вернусь.
Последовала пауза.
— У тебя час на то, чтобы добраться сюда…
— Отдай мое место тому парню из бухгалтерии. Тому, который трахает твою жену. Привет!
Дэвид отключил трубку. А потом негромко рассмеялся. Он без труда вообразил своего босса, сидящего в кабинете с пунцовым от злости лицом. Отлично.
Прямо перед ним дорога извивалась, спускаясь вниз; похоже, они направлялись прямиком к центру города. Серые многоквартирные дома, запятнанные дождем, ждали внимания, стоя вдоль шоссе.
Водитель посмотрел на Дэвида в зеркало.
— Centro urbano, señor?[4] Отель «Доностия»? Si?
— Si. Э-э… ну да, si. Да. Центр города. Отель… «Доностия».
Водитель повернул с autopista[5] и погнал машину по широким центральным улицам города. Большие офисные здания в сумерках источали влажную напыщенность. Похоже, большая часть из них была банками. «Банко Вискайя». «Банко Сантандер». «Банко де Бильбао». Люди спешили в разные стороны мимо этих торжественных архитектурных сооружений, держа над собой зонтики; это напоминало фотографии Лондона пятидесятых годов.
Отель «Доностия» оказался весьма похожим на свои изображения в Интернете: поблекший, но весьма официальный. Портье неодобрительно посмотрел на помятую рубашку Дэвида. Но Мартинеса это не озаботило — он почти ничего не соображал от усталости. Найдя свой номер, Дэвид некоторое время сражался с электронным ключом; потом просто упал на слишком мягкую кровать и проспал подряд одиннадцать часов, видя во сне какой-то пустой дом. Еще ему снились родители, живые, едущие в машине, — а вдоль дороги скакали маленькие дикие лошадки.
Потом — крик. Потом — все заливает красным. Потом маленький мальчик бежит по гигантскому пустынному пляжу. Бежит к морю.
Проснувшись, Дэвид раздвинул занавески — и разинул рот. Небо сияло яркой голубизной: вернулось сентябрьское солнце. Он оделся, подкрепился кофе с булочками, а потом поймал такси и поехал на вокзал, где взял напрокат машину. После недолгого колебания Мартинес решил, что заключит договор об аренде на месяц.
Центральная улица закопченного Бильбао повела его на восток, к французской границе. И снова Дэвид вспомнил о своих родных; он отогнал от себя эти мысли и сосредоточился на дороге. В нужную ли сторону он едет? Дэвид остановился на станции обслуживания «Агип»; ее огромный пластиковый знак — черный пес, извергающий алое пламя, — сверкал почти ослепительно в солнечном свете. Припарковавшись, Дэвид снова достал старую карту и осторожно повел пальцем по ее линиям, исследуя маленькие синие звездочки, усыпавшие серые подножия холмов. Они выглядели как далекие огни полицейских машин, светящиеся сквозь туман и дождь.
Потом он сложил карту пополам и только теперь впервые заметил, что на ее обратной стороне, в одном из углов, что-то написано совсем другой рукой. В ярком свете надпись выглядела едва заметной; возможно, она была на баскском или на испанском. А может, даже и на немецком. Буквы были такими маленькими и бледными, что разобрать их было просто невозможно.
И это представляло собой новую головоломку, а Дэвид ничуть не приблизился к разгадке хотя бы одной из них. Но карта, по крайней мере, сообщила ему кое-что: он должен был повернуть направо, в «настоящую» Страну Басков. Дэвид снова тронул машину с места.
Дорога завораживала. Иной раз Мартинес замечал синеву океана, Бискайский залив, сияющий на солнце. Иногда шоссе ныряло куда-то вниз, вместо того чтобы пройти через темно-зеленые тенистые долины, где красовались выкрашенные белым дома басков, похожие на кубические грибы, внезапно выросшие ночью.
Наконец, неподалеку от Сан-Себастьяна, дорога разделилась; более узкая и симпатичная вела во внутреннюю часть страны, в долину Бидасоа. Это был именно тот самый театральный пейзаж, который обещал Дэвиду Интернет. Узкие горные речки падали в темные ущелья, леса, состоящие из огромных дубов и каштанов, что-то шептали в чистом сентябрьском воздухе. Городок Лесака был совсем близко. Дэвид находился в баскской Наварре. Он почти уже добрался до места.
Когда Мартинес сбросил скорость, он вдруг увидел…
В Лесаке что-то происходило. На окраине города стояли большие черные полицейские фургоны с металлическими решетками на передних стеклах. На каменных стенах сидели крепкие испанские спецназовцы, говорящие по мобильным телефонам; в руках они держали весьма впечатляющее оружие.
Один из копов уставился на Дэвида, потом нахмурился, глядя на его машину, и тут же проверил ее номер. Потом покачал головой и показал на парковку. Слегка заволновавшись, молодой человек поставил машину. Полицейский тут же отвернулся, утратив к нему всякий интерес. Стражу порядка только и нужно было, чтобы Дэвид оставил машину и дальше шел пешком.
Мартинес послушно забросил на плечо рюкзак и зашагал к Лесаке. Он прекрасно помнил все то, что прочитал о баскских террористах: что войну за независимость басков ведет некая террористическая группа ЭТА, «Эускади Та Аскатусуна». Они занимались грязным делом: убивали и взрывали, проявляя крайнюю и неестественную жестокость… мужчины в женских париках стреляли в подростков… Отвратительно.
Возможно, активность полиции связана именно с этим?
Такое было вполне возможно; хотя трудно было связать чудовищные преступления с таким обаятельным местечком, как Лесака. Спокойный воздух был напоен прохладой и ароматами; это была настоящая горная свежесть. На небе проплывали облачка, однако солнце все так же освещало древние каменные дома, старую церковь на холме и уютные каменные дворцы, окружающие маленькие площади. На углах улиц красовались странные колонны, покрытые вырезанными изображениями солнца с изогнутыми лучами, похожие на свастики в стиле модерн. Лаубуру. Давид произнес про себя это слово, шагая через Лесаку.
Лаубуру.
Не слишком хорошо представляя, что ему делать дальше, Дэвид сел на скамью на центральной площади, глядя на большой каменный дом, увешанный баскскими флагами — зеленое-красное-белое. Иккурина. Дэвид вдруг почувствовал себя ужасно глупо. Что же ему теперь делать? Может, просто… расспросить людей? Как какой-нибудь детектив-любитель?
Рядом с ним сидела какая-то старуха, сжимавшая в руках четки и что-то бормотавшая себе под нос.
Дэвид осторожно кашлянул, стараясь проявить максимальную вежливость, потом чуть наклонился к женщине и спросил на очень плохом испанском, не знает ли она некоего человека… по имени Хосе Гаровильо.
Женщина с опаской посмотрела на него, как будто заподозрила в готовности совершить некое ужасное уличное преступление, потом покачала головой, встала и ушла, распугав по дороге голубей. Дэвид наблюдал за тем, как ее тень исчезла за углом.
Остаток дня он старался изо всех сил: расспрашивал прохожих на улицах, зашел в два супермеркадос[6] но везде его встречали такие же пустые взгляды, а то и враждебность. Никто не знал Хосе Гаровильо, или, по крайней мере, никто не хотел о нем говорить. В полном разочаровании Дэвид вернулся к своей машине, прихватил кое-что из одежды и зубную щетку и снял номер в маленькой гостинице в конце главной улицы — «Отель Эгуски».
Якобы двухкомнатный номер был оформлен под пастушескую хижину: из стен торчали крюки, из кранов в ванну с кашлем бежала ржавая вода. Дэвид провел вечер, жуя купленную в универсаме испанскую сырокопченую колбасу чоризо и глядя в телевизор, где шли какие-то развлекательные испанские программы; и еще рассматривал нечитаемую надпись на оборотной стороне карты. Он ощущал свое одиночество как повисшую в воздухе песню. Тоскливую старую народную песню.
Утро Дэвид встретил в более решительном настроении. И первым делом отправился в церковь, полуразрушенное затхлое здание. В нем пахло заплесневелыми кожаными подушками для сидения. Деревянный распятый Христос с тоской смотрел на пустые скамьи. В церкви имелись две купели. Меньшая была украшена странным символом, похожим на стрелу, глубоко врезанным в древний серый камень.
Дэвид коснулся этого камня, отполированного за долгие века миллионами крестьянских рук, тянувшихся к святой воде, мазавших ею грязные лбы.
In nomine patris, et filii, et spiritus sancti…[7]
Достаточно. Все это было бесполезно. Дэвид поднял рюкзак и вышел из церкви, с облегчением выбравшись в пахнувшее травой пространство. Где тут могут собираться люди? Где он может найти жизнь, и разговоры, и ответы?
Бар.
Он зашагал по самой шумной из улиц, вдоль которой выстроились магазины и кафе; потом он выбрал бар «Бильбо». Внутри звучала музыка, а сквозь толстые оконные стекла он увидел выпивающих людей.
Когда он вошел, несколько лиц повернулись в его сторону. Темный и грязноватый бар был набит битком. В углу болтала компания подростков, говоря на самом гортанном испанском, какой только вообще слышал Дэвид. За столом напротив сидела молодая женщина, весьма привлекательная блондинка. Она посмотрела в сторону Дэвида и тут же отвернулась, заговорив по сотовому телефону. Остальную часть бара заполняли смеющиеся смуглые черноволосые мужчины, поднимавшие стаканы мутноватого сидра.
И тут именно это и припомнил Дэвид — музыку. Она была очень похожа на ту, что звучала на похоронах деда. Вроде так? Энергичная песня под гитару, с легкими диссонансами. Что это означало? Не было ли то прямым указанием на басков? Не был ли его дед на самом деле… баском?
Дэвид никогда не слышал, чтобы дед говорил на каком-нибудь языке, кроме испанского и английского. И фамилия их семьи совершенно точно испанская. Мартинес. Однако вон тот коренастый мужчина очень похож на его деда. Да и на отца Дэвида тоже, если уж на то пошло.
Еще одна загадка. Тайны просто множились сами собой.
Облокотившись на барную стойку, Дэвид на своем жалком испанском заказал сервезу[8]. Потом он уселся за ближайший столик и принялся пить свое пиво. И опять почувствовал себя совершенно по-идиотски. Но он слишком хорошо помнил слова деда; ему было велено отправиться в Лесаку, найти Хосе Гаровильо и расспросить о карте. Так он и сделает.
Надо просто это сделать.
Дэвид встал и коснулся плеча самого здоровенного из мужчин, стоявших у бара.
— Э-э…
Мужчина не обратил на него внимания.
— Э-э… Buenos dias[9].
Несколько других посетителей, с широкими задумчивыми лицами, наблюдали за безуспешными попытками Дэвида завязать разговор. Бесстрастные лица. Отчасти угрюмые.
Дэвид еще раз похлопал по широкому плечу коренастого мужчины.
— Buenos dias, señor?
Но мужчина опять его не заметил.
Зато теперь двое других любителей сидра уставились на Дэвида, о чем-то резко спрашивая его на своем гортанном языке. Так ничего и не поняв, что от него хотят эти незнакомцы, он просто показал им карту и перешел на английский.
— Послушайте, мне не хочется вас беспокоить, но… Мне действительно очень неловко. Но эта карта… Я, в общем-то, получил ее от своего деда… и он велел мне приехать сюда и посмотреть… вот на эти места, видите… Арис… Элизонда? И еще мне необходимо найти одного человека, Хосе Гаровильо. Вы не знаете, как мне его отыскать?
Теперь наконец самый крупный мужчина обернулся и что-то произнес коротко и резко.
Дэвид растерялся:
— Э-э… виноват… Боюсь, мой испанский никуда не годится…
Мужчина нахмурился с откровенной яростью; Дэвид осознал, что, должно быть, совершил некую грандиозную ошибку. Он зашел слишком далеко. Он понятия не имел, в чем это выражалось, но он сделал какую-то глупость. Атмосфера в баре явно накалилась. Кто-то выключил музыку.
Один из выпивох выкрикнул какое-то оскорбление. Бармен с другого конца комнаты ткнул пальцем в сторону двери. Дэвид понимал, что ему следует поскорее понять намек. Он вскинул вверх руки и направился к выходу.
Но выпивохи оказались быстрее; трое из них уже вскочили и перегородили ему дорогу, лишая возможности мирно уйти. К ним присоединился крупный мужчина и еще один, в джинсовой рубахе и грязных ботинках; и тут же рядом встал парень в майке с изображением рок-группы «Лед Зеппелин» и татуировкой на предплечьях.
Боже праведный… И что теперь?
Лучше всего было бы просто рвануть вперед, в надежде добраться до двери и выскочить на свободу. Но Дэвид предпринял еще одну попытку договориться.
— Послушайте, ребята… извините… por favor… — Все было бесполезно; Дэвид начал запинаться.
Один из поклонников сидра уже начал закатывать рукава.
— Эй, хватит!
Дэвид быстро обернулся — и увидел ту самую блондинку. Она буквально вклинилась между Дэвидом и его противниками и что-то быстро заговорила, обращаясь к мужчинам. Она говорила с такой скоростью, что Дэвид не понимал ни слова. Но в ее стремительном и уверенном испанском слышался какой-то акцент.
Но как бы то ни было, ее вмешательство помогло. Чтобы она ни говорила, это подействовало. Злость мужчин заметно поутихла; ярость во взглядах сменилась угрюмостью, ледяной гнев отступил куда-то в тень. Девушка явно спасла его от хороших колотушек.
Дэвид смотрел на девушку, она посмотрела на него, а потом уставилась куда-то ему за спину.
И только теперь Дэвид догадался, что могла быть и другая причина к тому, что забияки отступили. Он обернулся. Прямо позади него кто-то шагал через комнату. И если пьянчуг слегка остудила девушка, то перед этой новой фигурой, появившейся невесть откуда, они явно струсили. Что это за человек?..
Он был высок и смугл. Он был плохо выбрит, на его суровом лице отражалась мрачная агрессия. Лет ему было около тридцати пяти, возможно, сорок. Кто он таков? Почему заставил всех умолкнуть?
— Мигель?.. — Это нервно пробормотал бармен. — Э… Мигель… э… два пива?
Мигель игнорировал предложение. Его темные, глубоко сидящие глаза в упор смотрели на блондинку и Дэвида. Он подошел ближе. От него попахивало спиртным — то ли крепким вином, то ли бренди. Но он не казался пьяным. Мигель чуть повернулся и уставился на девушку. Голос у него оказался низким и ровным.
— Эми?
Ее ответ прозвучал вызывающе:
— Пока, Мигель!
Девушка схватила Дэвида за руку и потащила к выходу. Быстро и решительно. Но Мигель остановил ее. Он протянул руку — и просто-напросто схватил Эми за горло. Ее пальцы разжались, отпуская Дэвида.
А потом Мигель ударил ее. Сильно. Это был ошеломительный, жестокий удар по лицу. Девушка упала на пол, растянувшись между окурками и смятыми использованными салфетками.
Дэвид задохнулся. Эта внезапная жестокость по отношению к маленькой юной женщине была настолько немыслимой, настолько внезапной и бессмысленной, что он просто окаменел. Он был не в силах пошевелиться. Что делать? Дэвид огляделся вокруг. Никто явно не собирался вмешиваться. Кое-кто из пьянчуг даже отвернулся, и на всех лицах блуждали слабые трусливые усмешки.
Мартинес бросился на Мигеля. Конечно, этот баск был крупнее и выше Дэвида — хотя и он сам не был карликом, — но сейчас это совершенно его не заботило. Он слишком хорошо помнил, как его били в детстве. Он был сиротой. А люди сразу замечают в других слабость и ранимость. Чтоб им сдохнуть…
Он обхватил Мигеля за шею, пытаясь замахнуться и нанести удар кулаком. Но ничего у него не вышло. Это было равносильно попытке оседлать бешеного быка; здоровяк на мгновение замер, а потом повернулся всем телом и небрежно сбросил Дэвида на пол. Мартинес схватился за барный табурет, пытаясь подняться на ноги. Но тут же ощутил совершенно невыносимую боль: его ударили чем-то металлическим.
И когда на него уже обрушилась тьма, в самое последнее мгновение он успел понять: его двинули рукояткой пистолета.
4
Саймон Куинн расплатился с водителем, отпустил такси и сразу же посмотрел вдоль изукрашенной лепкой георгианской террасы. Сумка с ноутбуком оттягивала ему плечо.
То, что именно здесь находится место убийства, было слишком очевидно. Неподалеку были припаркованы два полицейских фургончика, у здания толпились офицеры отдела тяжких преступлений. Некоторые были в белых комбинезонах, в них полагается осматривать место убийства. Желто-голубая полицейская лента оплела фронтон высокого элегантного здания.
Саймон вдруг ощутил укол странного предчувствия. Детектив Сандерсон описал это убийство как некое… завязывание узлом. Что, черт побери, он имел в виду?
Саймона охватила нервозность, видимая невооруженным глазом: у него начали слегка дрожать руки. Он по долгу службы побывал на многих местах преступления — это было его журналистским хлебом, но это слово… завязывание? Очень странно. Тревожно.
Нырнув под полицейскую ленту, он на пороге дома столкнулся с молодым сержантом уголовной полиции Томаски. Это был новичок в отделе Сандерсона, бодрый лондонец польского происхождения. Саймон уже как-то раз встречался с ним.
— Мистер Куинн… — Томаски улыбнулся. — Боюсь, тело вам уже не увидеть. Ее только что увезли.
— Я приехал, потому что старший инспектор позвонил мне…
— Опять хочет, чтобы его имя появилось в газетах? — Томаски рассмеялся, глянув на ласковое осеннее солнце, но тут же умолк. — Думаю, он может показать вам несколько фотографий.
Да?
— Да. Весьма отвратительно. Я вас предупредил.
Томаски опирался рукой на противоположную сторону дверного проема, физически не позволяя журналисту войти в дом. За его рукой Саймон видел еще двух офицеров в комбинезонах, то входивших в какую-то комнату, то выходивших из нее; их голубые бумажные респираторы, опущенные с лиц, свободно болтались на резинках.
— Сколько лет было жертве?
Полицейский и не подумал убрать руку.
— Старая. Из Южной Франции. Очень старая.
Подняв взгляд к лепному фасаду здания, Саймон посмотрел направо, налево.
— Недурное местечко для старой леди.
— Верно. Должно быть, она была богата.
— Эндрю, можно мне войти?
Сержант Томаски почти улыбнулся:
— Ладно. Инспектор в комнате слева. Я просто хотел… подготовить вас.
Детектив убрал руку, позволяя Саймону войти внутрь. Журналист быстро прошел по коридору, пахнувшему пчелиным воском и увядшими цветами… а также химикатами, которые применяются при осмотре места происшествия.
Его остановил голос:
— Ее звали Франсуаза Гоше. Старая дева.
Это был Сандерсон. Его живое худощавое лицо выглядывало из-за двери комнаты в самом конце коридора.
— Инспектор! Привет!
— Не забыл прихватить блокнот?
— Нет, конечно. — Саймон извлек блокнот из кармана.
— Как я уже сказал, ее имя — Франсуаза Гоше. Никогда не была замужем. Была богата, жила одна… Нам известно, что в Британии она уже шестьдесят лет, близких родственников не имеет. И это все на настоящий момент. Хочешь взглянуть на место преступления?
— Да, если ты не намерен прямо сейчас отправиться куда-нибудь… перекусить, например.
Сандерсон с трудом заставил себя улыбнуться.
Они вошли в комнату. Детектив продолжил:
— Тело было обнаружено вчера, уборщицей. Эстонская девушка по имени Лара. Она до сих пор наливается водкой.
Они прошли в глубь гостиной. Офицер в белом комбинезоне и в респираторе отодвинулся чуть в сторону, чтобы мужчины могли все увидеть.
— Вот здесь ее и нашли. Прямо тут. Тело увезли только сегодня утром. Она… сидела вот тут. Ты готов взглянуть на фотографии?
Сандерсон протянул руку к небольшому пристенному столу. Взяв какую-то папку, он открыл ее и извлек пачку фотоснимков.
На первой фотографии была убитая женщина, полностью одетая, стоявшая на полу на коленях, спиной к ним. На ней были перчатки, что выглядело достаточно странно. Саймон сравнил снимок с интерьером перед собой.
Потом он снова посмотрел на фото. Под таким углом жертва казалась живой, как будто просто опустилась на колени, чтобы найти что-то под телевизором или диваном. По крайней мере, она выглядела живой — если смотреть не выше шеи.
Но изображение головы заставило Саймона вздрогнуть — то есть то, что убийца или убийцы сделали с головой жертвы.
— Что за…
Сандерсон протянул ему другую фотографию.
— Это сделано под другим углом. Взгляни.
На этот раз полицейский фотограф передвинулся на несколько дюймов в сторону, и на снимке было видно, что вся верхняя часть скальпа снята с головы женщины и наружу торчала белая окровавленная чаша черепа.
— А теперь посмотри сюда.
Сандерсон уже держал в руке третью фотографию.
Теперь фотограф запечатлел собственно снятый скальп — окровавленную путаницу смятой кожи и длинных седых волос, лежавших на ковре; в скальп была воткнута какая-то толстая палка — нечто вроде ручки от метлы. Седые волосы были плотно обернуты вокруг этой палки много-много раз, перепутанные и оборванные. Связанные узлом.
Саймон осторожно, очень осторожно вздохнул.
— Спасибо. Наверное.
Он окинул взглядом гостиную: кровавые пятна на ковре были до сих пор отчетливо видны. Было совершенно очевидно, как именно произошло убийство… дико, чудовищно, но очевидно. Кто-то заставил старую женщину опуститься на колени перед телевизором, а потом в ее длинные седые волосы сунули палку и начали эту палку поворачивать снова и снова, все туже наматывая на нее волосы, превращая их в один плотный узел крови и боли, вырывая корни из кожи головы, а когда, наконец, повернуть палку стало уже невозможно, сорвали скальп целиком.
Саймон взял одну из оставшихся фотографий. Снимок был сделан спереди, он показывал выражение лица женщины. Следующие слова вырвались у Саймона непроизвольно:
— Ох, Боже мой…
Рот старой женщины разинут в громком, хотя и неслышном теперь крике; это был последний миг ее страданий, когда с ее головы срывали кожу и отшвыривали прочь.
Это было уж слишком. Саймон застыл и уронил папку со снимками на столик; он повернулся и подошел к мраморному камину. Камин был пустым и холодным, на его полке в вазе стояли засохшие цветы и фотографии каких-то немолодых людей. Аляповатая статуэтка Девы Марии улыбалась с центральной части полки, а рядом красовался маленький глиняный ослик. Образ зевающего брата с руками, покрытыми кровью, сам собой вспыхнул в памяти Саймона. Он отогнал его и повернулся к инспектору.
— Значит… детектив… судя по этой ручке от метлы… выглядит как будто… то есть они наматывали и наматывали ее волосы, пока те не оторвались… от ее головы?
Сандерсон кивнул:
— Да. И это называется «связать узлом».
— Именно так?
— Да, это такой вид пытки. Судя по всему, ее использовали в течение многих веков, — старший инспектор посмотрел на дверь. — Томаски провел кое-какие исследования, как и положено хорошему парню. Он говорит, что эта пытка обычно применялась к цыганам. И во время русской революции.
— Значит… — Саймон содрогнулся при мысли о том, какую боль пришлось испытать этой женщине. — Значит… она умерла от шока?
— Нет. Ее удушили гарротой. Посмотри сюда.
Еще один фотоснимок. Авторучка Сандерсона показывала на шею женщины; теперь, когда журналист присмотрелся, он заметил тонкие красные полосы.
Это ставило в тупик, это выглядело просто абсурдным. Журналист с отвращением нахмурился и сказал:
— Но это… непонятно, просто сбивает с толку. Кто бы это ни сделал, он сначала долго мучил старую женщину. А потом убил ее… вполне профессионально. За каким чертом нужно было все это проделывать?
— Да кто может знать? — ответил Сандерсон. — Но выглядит все довольно зловеще, согласен? И тут есть еще кое-что. Ничего не похищено.
— Не понял?
— Там, наверху, куча драгоценностей. И ничего не тронуто.
Они направились к двери; Саймону отчаянно захотелось броситься вон из этой комнаты. Сандерсон говорил не переставая:
— В общем… Куинн, ты хороший журналист. Один из семи лучших в Британии криминальных репортеров. — Его натянутая улыбка погасла. — Я не шучу, приятель. И именно потому просил тебя приехать сюда — ты ведь любишь разные кровавые таинственные истории. Если разгадаешь эту загадку, дай нам знать.
5
Когда Дэвид очнулся, ослабевший и онемевший, они оба находились снаружи, перед дверями бара. Под лучами горного солнца. У девушки из раны на лбу сочилась кровь, но не сильно. Девушка трясла его, пытаясь привести в чувство.
Над ними нависла чья-то тень. Это оказался бармен. Он стоял, нервно переминаясь с ноги на ногу, на его лице виднелись и сострадание, и страх.
Он заговорил по-английски:
— Эми… Мигель… я пока удержу его внутри, но… ты лучше уйди, ты должна уйти, уйти поскорее…
Девушка кивнула.
— Я знаю.
И снова блондинка схватила Дэвида за руку. Она тянула его, поднимая на ноги. Когда он встал, молодой человек почувствовал, что у него болит все лицо — и мышцы, и кости. Но вроде бы ничего сломано. На пальцах подсыхала кровь — видимо, руки были разбиты, когда Дэвид пытался защититься сам и защитить девушку.
— Безумие. — Эми покачала головой. — Я хотела сказать… спасибо, что вы так поступили. Но это безумие.
— Мне очень жаль. — Дэвид был совершенно сбит с толку: девушка оказалась англичанкой. — В любом случае это вы спасли меня. Но… я не… я не понимаю. Что там вообще случилось, в этом баре?
— Мигель. Там случился Мигель.
Это он и сам знал. А девушка уже вела его по молчаливой басконской улице, мимо маленьких ресторанчиков, завлекающих посетителей разными raciones и gorrin. Мимо безмолвных каменных зданий с башенками.
Дэвид посмотрел на свою спасительницу. Ей было лет двадцать семь, может быть, двадцать восемь, и у нее было решительное, но очень хорошенькое лицо, несмотря на синяк и пятна крови. И она была настойчива.
— Идемте же! Быстрее! Где ваша машина? Нам нужно убраться отсюда, пока он не разозлился по-настоящему. Я потому и спешу увести вас подальше.
— Так это еще не был… настоящий гнев?
Девушка качнула головой.
— Да это вообще было ничто.
— Не понял?
— Вы никогда не слыхали о Мигеле? Об otsoko?
— Нет.
— Otsoko — это баскское слово, означает «волк». Это его кодовое имя. Кодовое имя в ЭТА. «Эускади Та Аскатусуна». «Страна Басков и свобода».
Дэвид не стал ждать дальнейших объяснений; они бегом бросились к его машине и запрыгнули внутрь.
Мартинес посмотрел на девушку.
— И куда нам ехать? Куда?
— В любую деревню, кроме Лесаки. Давайте в ту сторону… к Элизондо. Я там живу.
Дэвид тронул машину с места, и они помчались прочь из города. Эми добавила:
— Там безопасно. — Она покосилась на Дэвида. — И там вы сможете отмыться, а то вид у вас не очень…
— А вы?
По ее лицу скользнула улыбка.
— Со мной все в порядке. Спасибо.
Дэвид крутил руль, а его нервы натягивались при мысли о Мигеле, Волке. Бармен и посетители бара явно как-то удержали его от дальнейшего проявления насилия; но, может быть, Волк вот-вот передумает?
Волк?
Дэвид решительно увозил их обоих из этого маленького городка, мимо испанских полицейских, мимо последнего из каменных зданий; он был вне себя от бесконечных головоломок. Что произошло в баре? Кто такой Мигель? Кто эта девушка, сидящая рядом с ним? В очередной раз он подумал о том, что по-испански она говорила с британским акцентом. Но что она делает здесь?
Когда они уже ехали по узкой дороге сквозь леса, Дэвид почувствовал, что просто должен расспросить спутницу и что сама она, без понуждения, не собирается говорить ему слишком много. И потому начал задавать вопросы. Лицо девушки, когда она повернулась к нему, покрывали пятна света и тени, маскировавшие синяк. А Дэвид прежде всего задал вопрос, который напрашивался сам собой:
— Ладно. Я так понимаю, мы едем в полицию? Чтобы рассказать обо всем?
Но с изумлением увидел, что Эми отрицательно качает головой.
— Нет. Нет, мы не можем, мы просто… не можем. Извините, но я работаю с этими людьми, живу рядом с ними, они мне доверяют. Здесь вообще территория ЭТА. А в полиции служат испанцы. Никто не обращается в полицию.
— Но…
— Да и что бы я могла сказать? Ммм… — Голубые глаза девушки вспыхнули. — Что я скажу? Что какой-то парень ударил меня в баре? Полицейские поинтересуются его именем… и мне придется сказать, что его имя — Волк. И таким образом получится, что я предаю героя ЭТА, прославленного борца за свободу басков… — Эми помрачнела. — Это вряд ли поможет мне прожить достаточно долго. По крайней мере, не здесь, в центре Эускади.
Дэвид медленно кивнул, принимая такое объяснение. Но ответ Эми породил новые вопросы: она работает с этими людьми? Как? Где? И почему?
И он напрямую спросил об этом. Девушка отвернулась, глядя на пышную зелень вокруг дороги.
— Вы хотите узнать об этом прямо сейчас?
— У меня масса всяких вопросов. Так что почему бы и не сейчас?
Эми некоторое время молчала, потом заговорила:
— Хорошо. Хорошо. В конце концов, вы пытались спасти мою жизнь. Возможно, вы заслуживаете ответа.
Ее решительное тонкое лицо было повернуто к Дэвиду в профиль, когда она начала свой рассказ.
Ее звали Эми Майерсон. Она была иудейкой двадцати восьми лет от роду, из Лондона, где получила образование и ученую степень по иностранным языкам. Теперь она преподавала в университете в Сан-Себастьяне, вела курс английской литературы для детей басков. Сюда она переехала после пары лет скитаний.
— В Марокко слишком много курят в ресторанах, понимаете?
Дэвид заставил себя улыбнуться, но Эми не ответила улыбкой. Вместо этого она добавила:
— А потом я нашла себя здесь, в Стране Басков, между лесами и городами. — Пятна света, просачиваясь сквозь листву, падали на лобовое стекло машины. — И так уж получилось, что я оказалась вовлечена в борьбу за независимость. Познакомилась кое с кем из «Герри Батасуна», это политическое крыло ЭТА. Конечно, я не одобряю насилия… но я верю в их цель. Свобода басков, — она снова смотрела наружу, за окно. — Почему бы им не стать свободными? Баски живут здесь дольше, чем кто-либо другой. Может, тридцать тысяч лет. Затерянные в тихих долинах Наваррских гор…
Они уже ехали по скоростной трассе Бидасоа; мимо них громыхали огромные грузовики с цементом. Эми подсказала:
— Теперь направо.
Дэвид кивнул; он все еще ощущал пульсирующую боль в губах. И челюсть болела там, где к ней крепко приложился пистолет. Но Мартинес понимал, что все его кости целы. Жизнь сироты, когда приходилось самому стоять за себя, научила его отлично оценивать собственное физическое состояние. Он знал, что все будет в порядке. Но как насчет девушки?
Эми смотрела в его сторону.
— Ну вот. Такая у меня биография, не похожая на бестселлер. А как насчет вас? Расскажите мне о себе.
Это было вполне справедливо; она была вправе знать.
Дэвид вкратце обрисовал свое странное и немножко дон-кихотское в настоящий момент положение: рассказал о своих родителях, о полученном от деда наследстве, о карте и о церквях. Голубые глаза Эми Майерсон все больше расширялись по мере его рассказа.
— Два миллиона долларов?!
— Два миллиона долларов.
— Боже! Хоть бы мне кто-нибудь оставил парочку этих чертовых миллионов! — Тут она прижала ладонь к губам. — Ох… вы, должно быть, горюете по деду. Впрочем, это глупейшие слова в мире… Мне очень жаль… я просто… такое уж сегодня утро…
— Все в порядке. Я понимаю. — Дэвид не ощущал ни малейшего раздражения. Девушка только что спасла его от хорошего мордобоя — а то и от чего похуже, — а он спас ее. Мартинес вспомнил огонь, полыхавший в темных глазах Мигеля.
— Здесь возьмите влево.
Дэвид послушно повернул рулевое колесо, и они съехали со скоростной трассы; теперь они очутились на куда более тихой дороге. Впереди Дэвид видел широкую яркую долину, уходящую к подернутым дымкой голубым горам. Верхняя часть их склонов была слегка припорошена снегом.
— Долина Бастан, — сказала Эми. — Красиво, правда?
Девушка была права; красота долины ошеломляла. Дэвид во все глаза смотрел на умиротворяющий пейзаж: коровы стояли по колено в золотистой речной воде, дремлющие леса тянулись до самого туманно-голубого горизонта…
Проехав около десяти минут среди красот Пиренеев, они проскочили мимо мастерской по ремонту тракторов, потом мимо супермаркета «Лидл» и наконец въехали в маленький городок с горделивыми площадями и маленькими магазинчиками и с щебечущим что-то горным ручьем, который протекал мимо садов и древних домов, выстроенных из песчаника. Элизондо.
Эми жила в квартире в современном доме, неподалеку от главной улицы. Девушка отперла дверь, они крадучись вошли внутрь; в ее квартире имелись высокие окна с прекрасным видом на долину и Пиренеи. Горы с покрытыми льдом и туманом склонами, с поднимавшимися все выше и выше вершинами на заднем плане выглядели как ряд мафиози, сидящих в парикмахерской, — они были по горло укутаны в белые простыни…
Ряд наемных убийц.
Пока Эми хлопотала в кухне, Дэвид вспоминал Мигеля. Мигель, Otsoko, Волк. Невероятно крепкие мышцы, высокая темная фигура, глубоко сидящие глаза. Дэвид изо всех сил старался не думать об этом человеке. Он стал рассматривать квартиру: стены здесь были почти голыми, зато книжные полки битком забиты книгами: Йитс, Хемингуэй, Оруэлл… И здоровенный том под названием «Поэзия жестокости».
Чему только она учила ту молодежь в университете Сан-Себастьяна?
Потом Дэвид отвернулся от книг: из кухни появилась Эми, неся бумажные полотенца, лоскуты белой фланели, антисептическую мазь и пластиковый таз с горячей водой. Они вместе устроились на голом деревянном полу и занялись ранами друг друга. Эми промокнула разбитую губу Дэвида белой фланелью; лоскут тут же покрылся красными и коричневыми пятнами свежей и подсохшей крови.
— Ох!.. — выдохнул Дэвид.
— Ничего не сломано, — заметила Эми. — Стойкий оловянный солдатик.
Дэвид отмахнулся от абсурдного комплимента; Эми наклонилась над тазом, прополаскивая и отжимая фланель, и вода стала нежно-розовой от его крови. Потом девушка заговорила.
— Нам следовало бы обратиться к врачу… но тогда, пожалуй, мы там просидим целую вечность, пока нам будут накладывать швы. Не вижу в этом смысла. А?
Дэвид кивнул. Лицо у Эми было серьезным, бесстрастным, замкнутым. Он догадывался, что она не стала рассказывать ему об очень многих вещах; но он ведь пока что и не задавал ей по-настоящему важных и сложных вопросов. Вот, например: почему Мигель вдруг напал на нее так внезапно, так яростно?..
— Ладно, Эми, теперь позвольте мне помочь вам.
Мартинес взял чистый фланелевый лоскут и окунул в горячую воду.
Эми подставила лицо, закрыв глаза, и Дэвид начал осторожно промокать и смывать кровь с ее лба, у самых волос. Девушка слегка поморщилась — от воды ссадины начало щипать, — но промолчала. А Дэвид, покончив с делом, снова приступил к расспросам.
— Я хочу все узнать о том баре.
— А?
— Я не смог уловить… там… Дело не в этом парне, Мигеле; там вообще все казались странными и агрессивными. Но что за ужасную ошибку я совершил? Как я мог умудриться вывести из себя такое множество людей, всего-навсего задав пару вопросов?
Эми вскинула голову, позволяя Дэвиду протереть свой лоб. Некоторое время она молчала, потом заговорила:
— Ладно, скажу вам все. Лесака — один из самых националистически настроенных городов в Стране Басков. Бешено гордые люди.
Дэвид кивнул и, взяв бумажное полотенце, начал просушивать глубокую, но уже переставшую кровоточить царапину.
— И что?..
— И еще есть ЭТА. Террористы. Друзья Мигеля. — Эми нахмурилась. — Они убили несколько гражданских гвардейцев, всего пару недель назад. Сразу пятерых, мощной бомбой, в Сан-Себастьяне. А потом испанские полицейские застрелили четверых активистов ЭТА. Мадрид заявил, что они тоже замышляли кого-то взорвать. Но баски говорят, что это была просто хладнокровная ответная мера.
— Ох…
— Вот поэтому сейчас тут столько полицейских. Все очень напряжено. Испанская полиция может быть крайне жестокой, когда дело касается ЭТА. Это некая бесконечная спираль насилия.
Дэвид отклонился назад, изучая взглядом результат своих действий. Ничего, с девушкой все будет в порядке. И с ним самим все будет в порядке. Но было тут и кое-что странное, нечто такое, что настораживало.
Когда Дэвид смывал кровь со лба Эми, он увидел шрам. Странный, необычный шрам: изогнутая аркой линия каких-то глубоких фигурных порезов, скрытых под светлыми волосами.
Но он промолчал.
Когда с обработкой ран было покончено, Эми отодвинулась от Дэвида. Она уселась на голых досках пола, скрестив ноги в джинсах, положив ладони на пол.
— Значит, хотите знать, в чем именно вы ошиблись?
— Хочу.
— Тогда давайте по порядку. Во-первых, вы оскорбили этих парней, заговорив на испанском в этом сугубо баскском районе. Это уже само по себе плохо. К тому же вы должны припомнить нынешнюю весьма непростую политическую ситуацию. Как я вам уже и говорила.
— Понял. И?..
— И… ну… да, есть и еще кое-что.
— Что именно?
— Вы сказали нечто такое, что чрезвычайно их взволновало, до предела.
— Я такое сказал?!
— Вы упомянули Хосе Гаровильо. Именно тогда я и вмешалась и попыталась вам помочь, когда вы назвали это имя. Я сказала им, что знаю вас, что вы просто полный идиот и им следует вас пожалеть…
— Вот спасибо!
— Мне пришлось так сказать. Потому что, когда я услышала, как вы допытываетесь насчет Хосе, я сразу поняла, что вы влипли в серьезные неприятности.
— Ну так… кто же он такой?
Эми уставилась на мутную воду в пластиковом тазу.
— А вы не знаете?
Дэвид чувствовал себя все более и более глупо и не мог скрыть разочарования.
Эми объяснила:
— Хосе Гаровильо теперь уже очень стар, но он по-настоящему известен в этих местах.
— Вы хотите сказать, что вы его знаете?! Вы можете мне помочь найти его?
— Я очень хорошо его знаю. Я могу отправить ему письмо по электронной почте, прямо сегодня, и рассказать о вас. Если хотите.
— Но… Потрясающе! Это просто потрясающе!
— Погодите. — Лицо Эми было серьезным; она вскинула руку, заставляя Дэвида замолчать. — Послушайте. Множество людей в этих краях знают Гаровильо. Потому что он — нечто вроде символа сопротивления, предмет поклонения. Он один из тех интеллектуалов, которые в шестидесятые и семидесятые годы помогли оживить баскский язык и культуру. И еще, пожалуй, самое главное: в шестидесятых он состоял в ЭТА.
— Он так известен? Но я искал его в Сети! Никаких упоминаний!
Эми объяснила и это:
— Он известен только среди басков. А в ЭТА его называют просто Хосе. Вы никогда и нигде не найдете его фамилию, ее не пишут… Члены ЭТА предпочитают держаться незаметно. А Гаровильо примкнул к радикалам после возвращения… его интернировали немцы во время войны, отправили туда, в Ипарральде.
— Не понял?
Эми повернулась и махнула маленькой белой рукой в сторону окна.
— Там. По ту сторону гор — Французская Страна Басков. В 1970-м Хосе арестовали люди Франко, пытали, потом за него взялись социалисты. Он раньше, много лет назад, постоянно заходил в бар «Бильбо». Он действительно известен… точнее, печально известен. — Эми очень серьезно посмотрела на Дэвида. — И не в последнюю очередь благодаря своему сыну…
— То есть?
— Его сын… его сына зовут Мигель.
— Тот парень, что налетел на нас…
— Сын Хосе. Волк — сын Хосе Гаровильо.
6
Дэвид поселился в отеле на окраине Элизондо, чтобы дождаться, когда электронное письмо Эми сделает свое дело. Отель «Герника» не представлял собой ничего особенного. При нем имелся маленький бассейн, скромный бар, где можно было перекусить; здесь обитало множество старых французов, путешествовавших на велосипедах и носивших пугающе тесные костюмы из лайкры. Но Дэвиду все это нравилось.
Конечно, с его деньгами, с его пока что непривычным богатством он мог бы поселиться в лучшем отеле Наварры — но ему это казалось неправильным. Он не хотел привлекать к себе внимания. Анонимность и незаметность; просто еще один турист в милой, но посредственной гостинице. Поэтому Дэвид решительно взял ключ от предложенного ему номера и потратил остаток дня, стоя на простеньком балконе и глядя на горы. Горные склоны и вершины мерцали, как будто понимающе подмигивая, торжествуя в своей безмолвной отстраненности.
День был жаркий и пыльный. К вечеру Дэвид надумал искупаться; он спустился в прилегающий к отелю сад, разделся до плавок и нырнул в приветливую воду бассейна. И тут же выскочил на поверхность, задыхаясь; вода оказалась просто ледяной, она поступала в бассейн с гор и не подогревалась.
Все его тело покалывало, сердце колотилось как сумасшедшее — эта метафора очень точно описывала ситуацию. Всего три недели назад Дэвид был скучающим, апатичным горожанином, который читает в электричке газетные новости, во время обеда пьет кофе из кофейного автомата и целые дни напролет тратит на пустяки. Но как только он приехал в Страну Басков, тут же окунулся в неведомое, с головой ушел в тайны, и странности, и жестокость… и тем не менее чувствовал себя отлично. Все это потрясало — но все-таки было здорово; это возбуждало и бодрило. Как прыжок в бассейн с ледяной горной водой, от которой пощипывало все тело.
Я живой…
На следующий день ему позвонила Эми; у нее возникла некая идея. Она решила, что Дэвиду, возможно, следовало бы опубликовать свою историю, чтобы сложить вместе кусочки головоломки. Эми сказала, что знает одну местную журналистку, которая разбирается в теме, и это наилучший шанс раздобыть хотя бы часть ответов.
Дэвид согласился с предложением Эми, хотя и с некоторой неохотой.
На этот раз они встретились в скромной белой квартирке журналистки; молодая темноволосая писательница Сара Гарсиа набрала статейку на ноутбуке. Полдня спустя ее сочинение уже появилось в одной из испанских газет. Ее тут же заметили и перевели на английский некоторые поставщики новостей.
Когда Дэвид наконец прочел опубликованную историю на своем собственном ноутбуке, сидя вместе с Эми в маленьком интернет-кафе неподалеку от центральной площади Элизондо, он взволновался и встревожился. Статья была озаглавлена так: «Странное наследство ведет к невероятной тайне басков».
К статье прилагался фотоснимок, сделанный Сарой: Дэвид, держащий в руках карту. Газета давала и электронный адрес, по которому люди могли бы связаться с Дэвидом, если полагали, что могут чем-то помочь.
Журналистка не стала упоминать о Хосе Гаровильо; она пояснила, что это было бы уж слишком опасно, провокационно при нынешнем политическом климате. Читая статью, Дэвид решил, что эта недомолвка была воистину хорошей идеей; он почувствовал себя выставленным напоказ благодаря газете, а если бы в статье был упомянут еще и Хосе… Что, если ее прочитает Мигель?
Мартинес закрыл компьютер и посмотрел на Эми. На ней была простая хлопчатобумажная куртка пурпурного цвета и джинсы. Она ответила ему молчаливым взглядом голубых глаз; и тут Дэвид ощутил вдруг всю странность своего положения — и это был как внезапный озноб в очень жаркий день. Они с Эми уже стали чем-то вроде друзей: их свела вместе та ужасная, пугающая сцена в баре Бильбо. И все же они не были друзьями, до сих пор практически ничего не зная друг о друге. И это, как чувствовал Дэвид, было неправильным.
А может быть, он просто нервничал из-за шума в баре? Смех малышей, играющих снаружи на площади в пелоту, весьма своеобразную баскскую игру, был слишком хорошо слышен здесь. Дети швыряли маленький жесткий мяч пелота в высокую стену. Создаваемый ими шум был однообразным и навязчивым. Эми посмотрела на него.
— Может, пойдем куда-нибудь в другое место?
— Если у вас есть время.
— Академические каникулы. И мне не помешала бы помощь, пока мои студенты стреляют в полицейских. — Она улыбнулась, увидев испуг в его глазах. — Эй, я пошутила! Куда бы вы хотели отправиться?
— Мне бы хотелось начать осматривать все эти церкви. Те, что на моей карте…
— Отлично.
— Но сначала… Мне бы хотелось заглянуть в такое местечко, где можно нормально выпить.
Он на долгое мгновение задержал взгляд на девушке и вынужден был признаться себе: он все еще чувствовал нервозность и страх, так и не прошедшие с тех пор, как на него напал Мигель.
— Ладно, идем туда, где можно пропустить стаканчик и поговорить, — согласилась Эми.
Они ехали всего несколько минут и очутились в тихой маленькой деревушке; указатель на въезде сообщал, что она называется Ирурита. Перед местным кафе сидел дремлющий старик в берете. Оставив машину перед деревенской церквушкой, Дэвид и Эми подошли к кафе и уселись под зонтом снаружи. Чистый горный воздух освежал, солнце согревало. Эми заказала оливки и бутылку местного охлажденного белого вина, которое она назвала txacolli.
Официантка быстро принесла все и с ловким реверансом поставила на столик.
Эми заговорила:
— Вы до сих пор не задали мне ни одного наиболее очевидного вопроса.
Дэвид попытался возразить, но Эми была чрезвычайно серьезна.
— Вы должны это знать… если я собираюсь представить вас Хосе.
Дэвид отпил немного прохладного легкого вина и кивнул.
— Хорошо. Если вы настаиваете. Почему Мигель накинулся на вас? Он вдруг появился ниоткуда и тут же… налетел на вас. Почему?
Эми ответила мгновенно:
— Он меня ненавидит.
— За что?
Девушка сложила ладони вместе, как в молитве.
— Когда я только-только приехала в Страну Басков, я была… ну, я уже говорила, меня очень интересовала ЭТА. Их стремление к независимости. Я думала, это весьма похвальное стремление для такого древнего народа. Я даже симпатизировала террористам. Некоторое время. Несколько месяцев.
— И?..
— А потом я встретила Хосе. Великого Хосе Гаровильо. Мы стали очень хорошими друзьями, он показывал мне, где в Бискайе подают самые лучшие пинчо, это такие маленькие бутерброды к пиву или красному вину… Он рассказывал мне обо всем. Объяснил, почему отказался от насилия после падения режима Франко. Он считает, что терроризм для басков — это тупик в демократической Испании.
— Но его сын…
— Не согласен с ним. Это же очевидно. — Эми посмотрела на Дэвида в упор. — А потом Хосе нашел мне работу, преподавать английский в университете. И, видите ли… большинство молодежи, посещающей мои занятия, настроены крайне радикально, они ведь родились на дальних улочках Виттории и Бильбао, и они готовы умереть за ЭТА. Причем девушки даже более яростны, чем парни. Эдакие киллерши в мини-юбках, — губы Эми были розовыми и влажными от вина. — Я считаю, что моя задача — по возможности увести их от ЭТА, от жестокости, от саморазрушительного терроризма. Поэтому я преподаю им литературу революции: Оруэлл и Гражданская война, Йитс и ирландский мятеж… Я пытаюсь открыть им не только романтику, но и трагедию подобных жестоких национальных столкновений.
— И за это Мигель вас ненавидит? Он считает, что вы действуете против ЭТА?
— Да. Я знала, что он на некоторое время уехал за границу, хотя до меня и доходил слух о его возвращении. Но я думала, что вполне могу поехать повидаться со своими друзьями в «Бильбо», что мне ничто не грозит. И надо же было ему оказаться в том баре… Он встречался там со своими в одной из задних комнат, с товарищами по ЭТА…
— И услышал шум.
— Да. И сразу вышел. И увидел меня. С вами. — Эми поморщилась. — И, конечно, тут же принялся за свое.
Объяснение было хорошим, если не безупречным. Дэвид до сих пор ощущал отзвуки того непонятного нападения как некое темное размытое пятно в сознании… А о чем еще она ему не рассказала? Как насчет шрама на ее голове?
Дэвид отвлекся от своих мыслей, когда официантка поставила на их стол еще одно блюдце с оливками.
— Gracias, — сказал он.
Девушка кивнула, присела и ответила с горловым испанским акцентом:
— Kakatazjaka…
Потом помахала рукой какому-то приятелю на другой стороне вымощенной булыжником площади и вернулась к бару.
— А знаете, это забавно, — сказал Дэвид, полуобернувшись к Эми. — Я ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил по-басконски. Пока не слышал.
— Простите, не поняла?
— Я уже два дня нахожусь в Стране Басков. Я вижу везде вывески на их языке. Но я не слышал, чтобы кто-нибудь на этом языке говорил.
Эми уставилась на него из-под светлой челки так, словно он был умственно неполноценным.
— Но эта девушка только что говорила по-басконски.
— Она?..
— Ага.
Эми сняла куртку; когда она снова потянулась к своему бокалу с вином, Дэвид заметил на ее загорелых руках нежные золотистые волоски.
— И все те парни в Лесаке, — продолжила Эми, поднося бокал к губам. — Все они говорили на баскском. Они потому в первую очередь и разозлились на вас, что вы пытались говорить по-испански.
Дэвид склонил голову набок, прислушиваясь к болтовне официантки. Kazakatchazaka.
Эми была права. Это, безусловно, был баскский язык. И все равно это звучало так, словно все вокруг говорили на очень причудливом испанском. И он все это время слушал их и не осознавал…
— Не беспокойтесь, — сказала Эми. — Когда я приехала сюда, мне понадобилось некоторое время, чтобы осознать: вокруг меня все говорят на языке басков. Я просто думала, что у них какой-то извращенный испанский диалект… — Она посмотрела за спину Дэвида, на побеленные стены церкви. — Думаю, что просто потому, что баски уж очень странные, ухо и ум не сразу постигают то, что слышат.
— А вы научились их языку?
— Я пыталась, конечно. Но это просто невозможно, у них какие-то невероятные согласования, уникальный синтаксис. Когда вы учите какой-нибудь иностранный язык, что вы хотите запомнить в первую очередь?
— Фразу «говорите ли вы по-английски?».
— Очень смешно. А еще что?
— «Можно мне пива?»
— Ну, конечно. Une biere s'il vous plait. Ein bier bitte.[10]
— Ладно, а как спросить пива на баскском?
Эми пристально посмотрела на него.
— Garagardoa nahi nuke.
Они сидели на солнце, некоторое время пребывая в спокойном молчании. А потом зонтик содрогнулся под внезапным порывом ветра. Дэвид посмотрел налево: на западе с ближайшего склона Пиренеев катились вниз плотные облака, как белая шуба из овечьей шкуры, медленно соскальзывающая с чьих-то плеч.
— Прекрасно, — сказал он. — А откуда нам знать, что Мигель не направляется уже сюда, преследуя вас? Чтобы с вами разобраться. Не понимаю. Вы кажетесь спокойной. Совершенно безмятежной.
— Он был пьян. В прошлом он лишь однажды ударил меня.
— Так он уже делал это?
Эми вспыхнула и быстро добавила:
— Он обычно болтается в Бильбао или Байонне — с другими руководителями ЭТА. В Наварре он появляется редко, там его могут поймать. Так что нам с вами просто очень не повезло. Да и в любом случае я не позволю этому ублюдку выжить меня отсюда.
Ее последние слова прозвучали вызывающе: Эми вскинула голову, ее глаза расширились и вспыхнули гневом.
Дэвид слышал убежденность в ее заявлении, но сам он пока что ощущал себя неуверенно и напряженно. Ему хотелось просто сидеть вот здесь, на осеннем солнышке. И ничего не делать.
— Ладно. Давайте тогда отправимся взглянуть на церкви с моей карты.
Эми кивнула, и они поднялись из-за стола. Когда они уже садились в машину, в ветровое стекло ударились первые капельки дождя.
— Как быстро меняется погода. Вот что значит осень.
Дождь бодро барабанил по крыше автомобиля. Дэвид достал из отделения для перчаток свою драгоценную бумагу, заставившую его обогнуть земной шар. Осторожно развернув карту, показал ее девушке. Когда Эми ткнула пальцем в одну из звездочек, он заметил, что ногти у нее обгрызены.
— Вот. Аризкун.
— Вы знаете это место?
— Я знаю о нем. Одна из наиболее традиционных деревень басков. Выше в горах, — она глянула на Дэвида. — Могу вам показать.
Мартинес повернул машину. Он следовал четким указаниям Эми: в сторону французской границы, к насупившимся горам. К земле, лежащей по ту сторону.
По мере того как они поднимались, деревни встречались все реже. Клочья тумана плыли над круто уходящими вверх полями, и от тумана исходило уныние, его обрывки походили на обвисшие флаги отступающей призрачной армии.
— Мы уже совсем рядом с границей, — произнесла Эми. — Здесь частенько попадаются контрабандисты. И мятежники. И ведьмы. И террористы.
— Ладно, а нам куда?
— Туда.
Эми показывала на едва заметный поворот — рядом с ним стоял какой-то знак, почти не заметный сквозь туман.
Дорога к Аризкуну была самой узкой в мире: огромные каменные изгороди, состоявшие из обломков скал, высились вдоль нее, как великаны, пытающиеся загнать чужаков в угол. На западе высились все новые и новые вершины, целый их ряд прорисовывался в тумане.
— В ясный день отсюда видна Франция, — сказала Эми.
— Ну, пока что я даже эту чертову дорогу почти не вижу.
Они наконец въехали на крохотную и очень баскскую деревенскую площадь. Вокруг нее имелись обычная площадка для игры в пелоту и несколько террас средневековых каменных зданий; среди прочего выделялся большой особняк, украшенный каменным гербом. На влажном геральдическом камне красовался двуногий дракон, злобно хлещущий шипастым хвостом.
Деревня выглядела совершенно пустой. Дэвид поставил машину около особняка, на стенах которого красовались граффити, нанесенные краской из баллончика.
Eusak Presoak, Eusak Herrira.[11]
Граффити под этим слоганом были еще крупнее. Это слово, написанное традиционным угловатым, древним баскским шрифтом, было понятным.
Otsoko.
А рядом с ним была изображена черная волчья голова.
Волк.
Эми уже стояла рядом с Дэвидом и тоже смотрела на граффити.
— Кое-кто из молодых басков просто боготворит его, — сказала она.
— Но почему?
— Потому что он абсолютно беспощаден. Блестящий убийца… который приходит и уходит. Его никто не может поймать. — Эми заметно содрогнулась. И добавила: — А они восхищаются жестокостью. Само собой.
— Мигель как-то… в особенности жесток?
— Восторженно. Сладострастно. Поэтически. Испанцы мучают баскских радикалов, но Мигель пытает их в ответ. Он до чертиков пугает испанских полицейских. Даже анти-террористическое подразделение.
Эми всматривалась в граффити. Дэвид спросил:
— И что это за пытки?
На светлой челке Эми от тумана осели капельки воды.
— Он похоронил одного гражданского гвардейца в негашеной извести.
— Чтобы уничтожить улики?
— Нет-нет-нет. Мигель закопал этого человека в известь живым, по самую шею. Он, собственно, растворил гвардейца в извести. Заживо.
Она внезапно быстро пошла вперед. Дэвид догнал ее, и они вместе пошли по мокрой каменной дорожке между двумя старыми баскскими зданиями. Дэвид посматривал то налево, то направо. Потемневшие растрепанные подсолнухи украшали мокрые деревянные двери, бесцеремонно прибитые к доскам. Некоторые кусты чертополоха, росшие на обочине, были подстрижены так, что напоминали людей; создавалось впечатление, что кто-то соорудил из чертополоха карликов.
Тишина в этой деревне действовала на нервы. Когда Дэвид и Эми шагали сквозь липнущий к ним туман, единственным звуком было эхо их собственных шагов.
— Куда, черт побери, все подевались?
— Убиты. Умерли. В Америке.
Они дошли уже до конца дорожки. Дома разошлись в стороны, Дэвид и Эми оказались в окружении камней и кустов. Где-то неподалеку находилась Франция, и океан… и города, и поезда, и аэропорты…
Где-то.
И вдруг в тумане возникла церковь. Очень старая, сложенная из серого камня, она возвышалась над ущельем, заполненным туманом. Окна в ней были высокими и узкими. Место, где она стояла, выглядело чрезвычайно суровым.
— Не слишком приветливый вид. И это дом Божий?
Эми толкнула заржавевшую железную калитку.
— Здешние церкви часто выглядят именно так. Их обычно строили на местах древних поселений, там, где располагались языческие святилища. Возможно, ради особой атмосферы.
Дэвид остановился в полном недоумении. Старые круглые камни, похожие на колеса, установленные на квадратные основания, красовались вдоль дорожки к церковной двери. Все эти камни были помечены знаком lauburus — загадочной и вечной свастикой. Дэвид никогда прежде не видел круглых надгробных камней.
— Попробуем войти? — предложил он.
Они дошли по скользким булыжникам до скромной деревянной двери церкви. Она была черной, старой, мокрой — и запертой.
— Черт побери!
Эми повернула налево, вокруг церкви, кутаясь в туман. Дэвид поспешил за ней. Они нашли вторую дверь, еще меньше первой. Девушка повернула ржавую ручку; дверь открылась. Мартинес ощутил касание влаги к шее; было уже холодно, к тому же сумеречно. Ему захотелось оказаться в помещении.
Но внутри церковь оказалась такой же непривлекательной, как и снаружи. В ней было сыро и темновато, ряды деревянных сидений ничто не украшало. Вонь гниющих цветов ударяла в нос; пять окон, украшенных цветными витражами, свободно пропускали и холод, и туманный дневной свет.
— Удивительно, — пробормотала Эми, показывая вверх.
Витраж на одном из окон изображал большого быка, горящее дерево и белый баскский дом. Эми пустилась в объяснения, все так же показывая на окно.
— Баски очень набожны, они насквозь католики. Но до десятого века были язычниками и сохранили очень много дохристианских образов. Вроде этого. Тот дом — вон там, — Эми показала на центральное окно, — это exte, семейный дом, священный краеугольный камень языческой культуры басков. Считается, что души умерших басков возвращаются в такой дом по тайным подземным ходам…
Дэвид смотрел во все глаза. Дерево на витраже пылало холодным стеклянным огнем.
— А вон та женщина? На том окне.
— Это Мария, госпожа ведьм.
— А?..
— Богиня колдуний. Баскских ведьм. «Мы не существуем; да, мы существуем; наша сила — четырнадцать тысяч». — Эми смотрела на Дэвида, ее глаза в рассеянном свете были светлыми, ледяными. — Это их прославленное — или бесславное — высказывание. «Мы не существуем; да, мы существуем; наша сила — четырнадцать тысяч».
Ее слова повисли в холоде призрачной дымкой; выражения лица Эми рассмотреть было невозможно. Дэвид испытал сильное желание выйти из церкви; он не знал, да и вообще не понимал, зачем сюда приехал. Поэтому он направился к маленькой двери и с облегчением выбрался на неяркий дневной свет. Эми вышла следом за ним и сразу же повернула налево. В сторону от дорожки. И исчезла за театральным занавесом тумана.
— Эми?..
Тишина. Дэвид позвал еще раз:
— Эми?..
Тишина. Но наконец он услышал:
— Здесь… что это? Дэвид!
Мартинес присмотрелся и наконец увидел ее: смутная тень на туманном кладбище, женственная, стройная, ускользающая… Дэвид быстро шагнул в ее сторону.
— Посмотрите, — сказала она. — Еще одно кладбище… совсем заброшенное.
Она была права. Здесь действительно оказалось еще одно место захоронений, отделенное от основного церковного двора невысокой каменной стенкой. И это кладбище было запущено куда сильнее. Примитивная статуя ангела упала в пропитанную влагой траву; ее глаз украшал презрительно воткнутый коричневый окурок. Поверженную фигуру окружали круглые надгробия.
Внимание Дэвида и Эми привлек какой-то шум. Мартинес обернулся. Из тумана возникла какая-то старуха. У нее было темное мрачное лицо. Одета она была в длинную черную юбку и поношенный синий джемпер, поверх которого была натянута футболка, украшенная изображениями диснеевских персонажей — Короля-Льва, Олененка, индейской принцессы Покахонтас…
Сама женщина выглядела неважно. У нее имелся зоб размером с хороший грейпфрут: огромная опухоль выпирала из шеи, и старуха напоминала толкателя ядра, державшего свой спортивный снаряд прямо под подбородком, готовясь запустить его подальше.
Старая карга заговорила.
— Ggghhhchchc… — произнесла она.
Старуха тыкала пальцем в их сторону, ее зоб колыхался, когда она бормотала, на лице светилась бешеная злоба. Она была похожа на каркающую жабу.
— Ggghhhchchc…
Старуха снова ткнула в них пальцем, потом показала на заброшенное кладбище.
— Что такое? Что она говорит?
Сердце Дэвида забилось быстрее, что, конечно же, было глупо. Перед ними стояла всего лишь старая женщина, несчастная искалеченная старуха. И тем не менее Мартинес почувствовал настоящий страх, явную, хотя и необъяснимую тревогу.
— Эми… что она говорит?
— Думаю, это на баскском. Она говорит… «дерьмовые люди»! — шепотом ответила Эми, неловко отворачиваясь.
— Не понял?..
— Она говорит, что мы дерьмовые люди. Дерьмовые люди. Понятия не имею, почему она так решила.
Старуха таращилась на них. Потом прокаркала что-то еще. Это было почти похоже на смех.
— Эми… а не убраться ли нам отсюда?
— С удовольствием.
Они быстро пошли по дорожке, и Дэвид изо всех сил старался не смотреть на гигантский зоб женщины, когда они проходили мимо нее; но потом он обернулся и все-таки посмотрел назад. Старуха продолжала тыкать пальцем в их сторону, то ли в чем-то обвиняя, то ли за что-то осуждая, то ли насмехаясь.
Они уже почти бежали; Дэвид на ходу засунул в карман старую карту.
Чувство облегчения, которое они испытали, добравшись до машины, было всеобъемлющим — и безусловно нелепым. Дэвид быстро завел мотор, схватился за руль, переключил скорость… Машина запрыгала по булыжникам мимо изображенного на стене Otsoko — безмолвно ухмыляющейся черной волчьей головы.
Сотовый телефон Эми пискнул, когда они перевалили через вершину: связь восстановилась.
— Это Хосе Гаровильо. Это Хосе…
— Ну, и?.. — Дэвид заволновался, тут же забыв о пережитом страхе. — Что он ответил?
Эми всмотрелась в дисплей, читая сообщение.
— Он говорит… он хочет встретиться с вами. Завтра. — Эми покачала головой. — Но… это немножко странно… он еще кое-что добавил.
— Что именно?
— Что он знает, почему вы здесь.
7
Крошечный четырехместный самолет парил над открытыми всем ветрам просторами Шетландских островов, направляясь к взволнованному синему морю, уже видневшемуся вдали.
— Всего двадцать пять минут осталось лететь, — сообщил пилот, перекрикивая гул моторов. — Может немножко поболтать, когда доберемся до побережья.
Саймон Куинн был втиснут в заднюю часть самолетика вместе со старшим инспектором Сандерсоном; рядом с пилотом пристроился детектив Томаски.
События неслись с ошеломляющей скоростью. Всего лишь накануне днем, когда Саймон вместе со своим сыном Коннором смотрел «Шрека», он узнал о том, что случилось еще одно убийство, связанное со «связыванием» в Примроуз-Хилл. И вот он уже был здесь, летел над одинокими, освещенными солнцем утесами, с напутствием от взволнованного редактора «Дейли телеграф», все еще звучащим в его ушах: «Ты прекрасно знаешь это клише, Саймон: убийство — всегда деньги! Наши читатели слопают это за милую душу. Так что отправляйся туда и сам на все посмотри!»
История и в самом деле была первоклассная. Саймон уже видел заголовки статей и фотографию их автора. Но была здесь еще и некая загадка. Все, что сообщили Куинну, — это имя новой жертвы, Джулия Карпентер, и что она также была стара и приехала с юга Франции. И связь с предыдущим случаем была очевидной, к удовлетворению полицейских, поскольку и эту женщину тоже пытали. Вот только о подробностях пыток Саймону пока что не сказали ни слова.
Когда Куинн узнал об этом убийстве, ему пришлось просто умолять Сандерсона взять его с собой; он обещал старшему инспектору как можно чаще упоминать его в будущей статье. Сандерсон поддался на журналистские просьбы и сказал с коротким смешком:
— Ну, надеюсь, у тебя достаточно крепкий желудок. Труп оставался там несколько дней, так что это малоприятное зрелище.
Самолет мчался над утесами к морю. Наклонившись вперед, журналист спросил пилота:
— Каково это?
— Простите? — Пилот, Джимми Николсон, сдвинул один из наушников, чтобы лучше слышать. — Не расслышал. Что вы сказали?
— Каково это, жить на Фоулере?
— Фу-ла! — Джимми рассмеялся. — Запомните это. Произносится «Фула»!
— Ага. Извините.
— Да ничего, не страшно, — ответил пилот. — Мы уж привыкли к тому, что люди ничего о нас не знают.
— В каком смысле?
— Да после того как власти расселили Сент-Килду, Фула — самое отдаленное из населенных мест… во всей Британии!
Саймон уставился в окно, всматриваясь в океан. Барашки волн мелькали белыми крохотными пятнышками в бесконечном пространстве воды. Следующие несколько минут они летели в полном молчании. Куинн ощутил, как что-то дернулось в его желудке; вот только он не понял, то ли его начинает тошнить оттого, что самолет то и дело встряхивало, то ли его просто начинает одолевать страх перед картиной страшного убийства. Но как бы то ни было, он чувствовал себя совершенно по-юношески взволнованным. И продолжал воображать заголовки статей. Это будут заголовки его статей.
— Ну вот, — сообщил Джимми Николсон. — Фула!
В повисшей над водой дымке едва различался дерзко возвышавшийся над океаном островок: Саймон увидел смутные очертания голых камней, лишь кое-где покрытых скудной травой, окруженных крутыми холмами. Прибрежные утесы выглядели гигантскими, а дальние холмы — столь устрашающими, что трудно было поверить, будто кто-то мог решиться разбить здесь лагерь, не говоря уж о том, чтобы найти достаточно ровное место, где можно было бы построить дом. Но дома здесь были: маленькие фермы и коттеджи, прилепившиеся на склонах.
И теперь они направлялись к единственному на Фуле месту, где можно было сесть. К пятнышку зеленого дерна.
Сандерсон рассмеялся.
— Это и есть посадочная полоса?
— Самое ровное место на всем острове, — ответил Джимми. — И у нас тут никогда не было крушений. Но вообще-то, если промахнешься, как раз окажешься в море, — он хихикнул. — Придержите шляпы, джентльмены!
Это было самое резкое снижение, какое только довелось Саймону испытать при полетах: они просто нырнули к посадочной полосе, как будто намеревались пропахать поле пропеллером. Но потом Джимми с силой дернул рычаг, и самолет вдруг задрал нос и тут же остановился, в каком-нибудь десятке ярдов от бесчинствующих волн.
Томаски от души зааплодировал.
— Отличное приземление!
— Спасибо, — кивнул Джимми. — Теперь смотрите, вон там — вдова Холбурн. И Хэмиш Леск.
Через мгновение краснощекие местные жители уже хлопали Джимми по спине и помогали ему разгружать все то, что он привез на своем маленьком самолете; некоторые уважительно кивали старшему инспектору Сандерсону. Высокий рыжеволосый мужчина в полицейском мундире подошел и представился офицерам Скотланд-Ярда.
— Хэмиш Леск, полиция Шетландского графства.
Сандерсон вежливо улыбнулся.
— Да, конечно. Нам сообщили. Привет! — Он махнул рукой в сторону своих спутников. — Это тот свободный художник, о котором я говорил. Саймон Куинн. Он… пишет для «Телеграф».
— О да… правильная газета! — Леск с сокрушительной силой пожал руку Саймона.
Но прежде чем журналист успел открыть рот, вмешался Джимми:
— Страшное дело, Хэмиш! Страшное дело.
Леск кивнул. Просто кивнул, молча. Потом обернулся к гостям.
— Ну что, парни… сразу к делу?
— Если можно.
— Я тут пользуюсь машиной Джимми. Очень любезно с его стороны. Вон туда.
Пятеро мужчин зашагали через лужок к синему и очень грязному внедорожнику. В «Рейнджровере» пахло торфом, собаками и овечьей шерстью.
Они проехали мимо маленького залива. На усыпанном галькой пляже лежали на боку маленькие деревянные лодки, похожие на пьяниц, заснувших на скамьях в парке. Самая большая из лодок, красный металлический буксир, странно возвышалась над ледяной водой: она буквально была поднята в воздух огромной металлической лапой.
Леск объяснил:
— Им пришлось поднять это судно, иначе его расколотило бы штормом.
— Но… — удивился Саймон, — буксир ведь железный!
Джимми рассмеялся.
— Вы просто не видели штормов на Фуле!
Дорога бежала между лугами, перемежавшимися пятнами темно-коричневой голой почвы, — в тех местах, где из земли бесцеремонно вырезали торф. Овцы пощипывали соленую траву.
Наконец они резко повернули, и дорога превратилась в проселок; за ним на последнем куске плоского пространства пристроились несколько смиренных, некогда белых коттеджей, смотревших на море; некоторые выглядели пустыми, над другими вился белесый дымок. И все эти жилища выглядели прижавшимися к земле и испуганными, они как будто пытались укрыться от бьющего наотмашь ветра — как собаки, которым слишком часто доставалось от жестокого хозяина.
Подъездная дорога к ферме Карпентеров — месту преступления — была короткой и пропитанной водой. Саймон порадовался тому, что надел дорожные ботинки.
— Ну вот, приехали, — сказал шетландский инспектор. — Мы тут ничего не трогали с тех пор, как нашли тело.
— То есть там все осталось как было? — спросил Сандерсон.
— Да, и вид там невеселый. Так что держитесь. Тело обнаружила подруга погибшей, Эдит Тэйт. Еще одна старая леди, что живет в коттедже вон за тем полем. Она предпочла жить на другой стороне острова.
Скромная ферма выглядела совсем невинно в прохладных лучах северного солнца. Квадратный дом с побеленными стенами. И не видно было никаких признаков активной деятельности полиции, никакой суеты, ожидаемой Саймоном.
Хэмиш оглядел всю компанию, сделав театральную паузу.
— Ну что, входим?
Все кивнули; Хэмиш Леск распахнул наружную дверь, внутреннюю — и Саймон быстро оглядел комнату. Мебель здесь была весьма простой, обстановка — скудной; рядом с фотографией Папы Римского висел живописный портрет английской королевы. И тут же лежал труп: на полу, перед камином.
Старая женщина была одета в нечто вроде капота. Ее тело ниже шеи выглядело нетронутым; седые длинные волосы оставались на месте. У жертвы были темная кожа и босые ноги. И только ее лицо и плечи говорили о том, что здесь на самом деле произошло.
Лицо убитой было изрезано в клочья. Изрезано в клочья в самом буквальном смысле: лоскуты кожи свисали со щек и лба; губы были отрезаны, но остались висеть на тонких полосках кожи, и в жестоких ранах виднелась розовая плоть. Язык старой леди разрезали пополам; он был вытащен изо рта и разделен надвое. Кровь залила ее горло, и самая длинная полоса кожи спускалась на грудь. И, несмотря на все эти многочисленные и варварские увечья, больше всего Саймона поразило выражение лица убитой; он вдруг подумал, что оно навсегда останется в его памяти.
Саймона охватила странная слабость при виде чудовищной картины; это было нечто куда худшее, чем он мог ожидать. Намного хуже. Но он должен был сохранить ясность мысли и восприятия и делать свою работу, оставаясь журналистом. Куинн достал из кармана авторучку — ему нужно было держать что-нибудь в руках, чтобы чуть-чуть успокоиться.
Старший инспектор Сандерсон подошел к трупу, нагнулся, чтобы рассмотреть повреждения на шее. Кровь залила грудь жертвы и обесцветила кожу. Сильный запах разложения уже заполнил дом. Труп следовало убрать скорее, как можно скорее.
— Эй, Томаски… взгляни-ка сюда!
Поляк послушно подошел ближе. Саймон, подавив рвотный позыв, сделал то же самое, не дожидаясь приглашения.
Сандерсон присвистнул чуть ли не одобрительно.
— Однако профессионально сделано. Тоже гаррота.
Саймон проследил взглядом за авторучкой старшего инспектора — тот показывал на некие тонкие рубцы на шее жертвы. Они были неприятного синевато-багрового цвета. И очень тонкими. Убийство явно было быстрым, безжалостным и совершено опытной рукой. Как и сказал старший инспектор. И притом пытка выглядела дикой и безумной.
Тут кое-что еще привлекло внимание Саймона. Он посмотрел на ноги женщины. Что-то там было не так; что-то там было… совсем не так. Он не знал, стоит ли говорить об этом.
Сандерсон выпрямился и энергично произнес:
— Вы должны отправить ее патологоанатомам в Лервике, так?
— Да, погрузим ее на самолет сегодня днем. И так уж она слишком долго здесь пролежала. Но мы думали, что вы, возможно, сначала захотите сами увидеть всю картину, детектив. Выглядит все уж слишком… необычно.
— Что-нибудь передвигали?
— Нет. И не было заметно, чтобы кто-то вломился в дом… но это ничего не значит на Фуле, здесь люди не запирают двери. И отпечатков мы не нашли… вообще ничего.
Он пожал плечами; Сандерсон рассеянно кивнул.
— Да. Да, спасибо.
Детектив Томаски задумчиво произнес:
— О, Пресвятая Дева, Матерь Божья… Лицо…
Сандерсон отошел в сторону.
Журналист был озадачен в той же мере, что и напуган. Он все еще думал о ногах женщины. Это было не только странно, но и придавало картине убийства какое-то таинственное значение. Он повернулся к Сандерсону.
— Для меня главный вопрос вот в чем: что связывает эту женщину с Франсуазой Гоше?
Сандерсон осматривал комнату.
— Ну да. То самое, — меланхолично произнес он. — Она ведь была из Гаскони. Так, Хэмиш?
— Ага. Французская Страна Басков, неподалеку от Биаррица. Приехала сюда вместе с матерью, когда была совсем еще молодой, лет шестьдесят или семьдесят назад.
Грустное молчание воцарилось в комнате; единственным звуком был неумолчный стон несущегося над островом ветра, доносившего едва слышное блеяние овец.
— Ну что, достаточно? — спросил Хэмиш.
— Пока достаточно, — кивнул Сандерсон. — И, конечно, нам нужно поговорить с ее подругой.
— Эдит Тэйт.
— Может быть, завтра?
Шетландский инспектор кивнул и повернулся к Джимми Николсону. Вся бодрость оставила пилота.
— Она была такой отличной старой теткой… Говорят, приехала сюда сразу после войны. А теперь гляньте на нее… — Он прикрыл глаза ладонью и вышел из дома.
Леск вздохнул.
— Фула — совсем крошечное местечко. Это всех просто убило. Идемте-ка, пройдемся.
Он вывел их наружу, в холодный чистый воздух. Джимми Николсон уже сидел в своей машине, яростно куря. Томаски отправился было к нему, но Хэмиш Леск уже быстро шагал в противоположном направлении — вверх по ближайшему склону. Он обернулся и крикнул через широкое плечо:
— Давайте-ка поднимемся на Снуг! Мне просто необходимо очистить легкие!
Саймон и Сандерсон переглянулись, потом повернулись и пошли следом за местным офицером.
Подъем был крутым, так что разговаривать оказалось практически невозможно. К тому времени, когда они наконец добрались до вершины могучего холма, журналист обнаружил, что сердце болезненно колотится у него в груди.
На вершине яростно дул ветер. Они стояли на краю отвесного обрыва. Саймон подошел поближе к краю, чтобы посмотреть вниз.
— Черт побери!
У подножия утеса кружили чайки, но сверху они выглядели как едва заметные снежинки.
— Боже праведный… Какая же тут высота?
— Это один из самых высоких прибрежных утесов в Европе, а может, и в мире, — сообщил Леск. — Больше полумили!
Саймон поспешно отступил назад.
— Весьма мудро, — одобрительно кивнул Леск. — Ветер легко может смахнуть вас с этого утеса и сбросить вниз. — Хэмиш мрачно хихикнул и добавил: — Но знаете, что тут по-настоящему изумляет?
— Что?
— Благодаря этим утесам Фула жива многие века.
— В смысле?..
— Посмотрите туда. Вон туда… — Местный офицер показывал на некие отдаленные точки, означающие птиц, примерно на середине гигантской каменной стены неподалеку. — Буревестники, они гнездятся на обрывах. В прежние времена, когда после долгой зимы людям было нечего есть, местные мужчины спускались по утесам и воровали у буревестников яйца и птенцов. Это было источником жизненно необходимого белка в тяжелые годы. Птенцы буревестников очень вкусные, сплошной жир, понимаете?
— Люди спускались вот по этим обрывам?!
— Ага. У них даже развилась необычная деформация из-за этого. Они стали чем-то вроде особого человеческого подвида.
— О чем это вы?
— О мужчинах Фулы. И Сент-Килды тоже. — Хэмиш пожал плечами, его ржаво-рыжие волосы трепал ветер. — За многие века они отрастили себе очень большие пальцы на ногах, потому что постоянно цеплялись ими за камни. Полагаю, это своего рода эволюция. Так уж получилось, что те мужчины, у которых пальцы на ногах были подлиннее, более ловко карабкались по скалам, и потому им доставались жены, и они могли хорошо кормить детей, и передавали им свои длинные пальцы на ногах.
— Вы это серьезно?
— Вполне серьезно. — Хэмиш безмятежно улыбнулся.
Но Саймон был весьма далек от спокойствия своего собеседника; разговор о странных пальцах на ногах жителей Фулы сразу напомнил ему… Напомнил то, что он увидел. Босые ноги старой женщины. Он должен был упомянуть об этом…
— Ребята… а мы не можем уйти куда-нибудь, где не так дует?
— Конечно.
Два полисмена и журналист отошли в ложбинку и улеглись на влажный торф. Саймон заговорил:
Вы упомянули о пальцах на ногах, мистер Леск.
— Ага.
— Ну вот. Забавно, но… пальцы на ногах Джулии Карпентер… Кто-нибудь из вас заметил?
Леск одарил его непонимающим взглядом.
— В смысле?
— Вы ничего необычного не заметили в этой жертве? Как насчет ее ног?
— Чего?
Саймон подумал, не будет ли он выглядеть сейчас полным идиотом.
— Пальцы на ее правой ноге были деформированы. Слегка.
Сандерсон нахмурился.
— Продолжай, Саймон.
— Я думаю, это то, что называется синдактилией. Моя жена — врач…
— И эта син…
— Да. Синдактилия. Перепончатые пальцы. Два пальца на ноге той старой леди были соединены — по крайней мере частично. Это довольно редкий дефект, но не такой уж неизвестный…
Сандерсон пожал плечами:
— И что?
Саймон понимал, что его догадка покажется странной. Но притом он чувствовал, что наткнулся на нечто…
— А ты помнишь ту женщину из Примроуз-Хилл? Что она носила?
Выражение лица Сандерсона изменилось в долю мгновения.
— Ты о перчатках? Об этих долбаных перчатках!
И прежде чем Куинн успел произнести еще хоть слово, Сандерсон уже вскочил на ноги и схватился за мобильный телефон; старший инспектор пробежал немного вниз по склону, ища лучшее место для связи.
Ветер дул с такой силой, что Саймон не слышал, о чем говорил инспектор Скотланд-Ярда. Он просто сидел в прохладных, но ослепительных лучах солнца, думая о боли, перенесенной той женщиной, о ее одинокой, чудовищной боли… Хэмиш Леск тоже молчал, закрыв глаза.
Через несколько минут Сандерсон вернулся, и его обычно красное лицо выглядело слегка побледневшим, даже сильно побледневшим от удивления.
— Я позвонил в анатомичку, в Лондон. — Он смотрел прямо на Саймона. — Ты оказался прав. Перчатки предназначались для того, чтобы скрывать деформацию. Патологоанатом уже это отметил, — старший инспектор отвернулся и уставился на далекий океан. — Он сказал, что там действительно синдактилия. У жертвы из Примроуз-Хилл были два пальца с перепонкой.
Внизу под обрывом пронзительно кричали чайки.
8
Они ехали по шоссе Бидасоа, через туманную зеленую долину, вдоль текущей внизу реки, а потом резко повернули вправо, вверх по склону, к еще одной наваррской деревушке басков, мимо неизбежного каменного фонтана и запущенного серого фронтона. Дэвида подергивала легкая тревога: что мог знать Хосе Гаровильо? Что он собирался сказать?
Эта деревня называлась Этксалар.
Дэвид произнес слово «Этксалар» вслух, тренируясь; Эми улыбнулась, очень мягко.
— Нет. Не надо произносить «кс», они говорят «чххх»… с придыханием.
— Этч… аларрр?
— Так гораздо лучше.
Они остановились за каким-то грузовиком для перевозки скота. Эми казалась рассеянной. Всю дорогу она, как бы между делом, задавала Дэвиду вопросы о его прошлом, о Лондоне, об Америке, о его работе. Он рассказал ей кое-какие ничего не значащие подробности.
А потом она спросила его о личной жизни.
Мартинес немного помолчал, но потом признался, что одинок. Эми спросила почему. Коровы, стоявшие в грузовике, неодобрительно посматривали на них.
— Наверное, я отталкиваю людей до того, как они успевают в достаточной мере ко мне приблизиться, — ответил Дэвид. — Возможно, это из-за того, что я рано потерял родителей. И не доверяю людям, которые трутся возле меня.
Снова последовала долгая пауза. Потом Мартинес спросил:
— А вы? У вас кто-то есть?
И опять последовало молчание. Грузовик с коровами тронулся с места, они последовали за ним, катя мимо маленьких грушевых садов. Наконец Эми сказала:
— Дэвид, я должна кое в чем вам признаться. Я лгала вам. По крайней мере…
— Что?
— Я далеко не все вам рассказала.
— О чем?
Зеленовато-голубой фон горных склонов обрисовывал ее профиль. На лице Эми отражалась внутренняя борьба. Дэвид предложил:
— Не хотите — не рассказывайте, не надо.
— Нет, — возразила Эми. — Вы заслуживаете объяснения. К тому же мы едем к Хосе, отцу Мигеля.
Она повернулась к Дэвиду и внимательно посмотрела на него; в ее глазах были и напряжение, и отчаянная храбрость.
— Мы были любовниками. Мигель был моим парнем. Давно.
— Боже…
— Мне было тогда двадцать три года. Я только-только приехала в Страну Басков. Я была совершенно одинока. Молодая и глупая. Я не упоминала об этом, потому что… ну, наверное, мне было стыдно…
Дэвид повернул руль, они обогнули угол; деревья и живые изгороди плавно скользили мимо. Потом Дэвид все же сказал:
— Вы знали, что он состоит в ЭТА. И все же?..
— Все же спала с ним? — Эми вздохнула. — Да, я знала. Muy stupido.[12] Но я уже сказала: я была очень молода, и… молодых девушек вечно притягивают к себе разные ублюдки, разве не так? Плохой парень. И так далее. Даже насилие не пугает. — Эми покачала головой. — Наверное, это было нечто вроде юношеского протеста. К тому же Мигель казался таким загадочным… и он умен, и хорош собой, и широко известен, невероятно силен и энергичен… — Эми заставила себя улыбнуться. — Вообще-то он немножко похож на вас. Только старше и более поджарый.
— Только я не калечу, не пытаю и не убиваю людей и… не бью женщин в барах.
— Разумеется. Разумеется. Я и сама все поняла через пару месяцев, разобралась, что он настоящий подонок. И… — Эми неловко помолчала, собираясь с силами, и наконец призналась: — И еще в нем есть что-то нездоровое. Он очень странно себя вел… в постели. Я ушла от него через два месяца.
Дэвид не знал, что и сказать; ее откровенность обезоруживала.
Когда они проезжали мимо какой-то фермы, он смог задать еще один вопрос:
— И вы до сих пор поддерживаете какие-то отношения?
— Нет. Нет, если это зависит от меня. Но иногда встречи просто неизбежны. Мигель познакомил меня со своим отцом, Хосе, и с ним мы до сих пор остаемся хорошими друзьями, он помогает мне в работе. А я по-настоящему люблю свою работу… точно так же, как люблю эти горы. — Эми вздохнула. — Но Мигель постоянно где-то неподалеку, прячется, таится; он преследует меня с тех самых пор… Знаете, то, как вы вели себя там, в баре, было очень храбрым поступком…
— Он бил вас, когда вы были вместе?
— Да. Именно тогда это и случилось. Он однажды ударил меня, и я от него ушла. Ублюдок.
Дэвид снова подумал о шраме на ее лбу. Шрам совсем не был похож на результат домашнего скандала. Но Дэвиду не хотелось любопытствовать дальше. Фермы кончились, начался лес, они медленно поднимались все выше.
— Эми… спасибо, что рассказали мне… — Дэвид посмотрел на нее. — Вы ведь совсем не обязаны были все это говорить. По сути, вы вообще не обязаны были что-то для меня делать.
— Я теперь сама в это замешана.
— Да будет вам.
— Но это действительно так. Определенно. И, кроме того, я чувствую в вас нечто вроде… родственной души.
— В каком смысле?
— Дело в моей собственной семье. — По ветровому стеклу застучали легкие, сердитые капли дождя. — Мой отец умер, когда мне было десять лет, а мать немного погодя начала пить. Мы с братом оказались практически предоставлены сами себе. Потом брат эмигрировал в Австралию. И все, что у меня осталось, — пьющая мать и далекий брат… потому что вся остальная родня погибла во время холокоста — все предки, все двоюродные и троюродные… Все умерли. Потому, наверное, я себя ощущаю… немножко сиротой. — Эми повернулась и посмотрела на Дэвида. — Примерно как вы.
В приоткрытое окно машины врывался ветер, трепавший ее светлые волосы. Монолог, похоже, немного успокоил девушку; теперь она выглядела не такой встревоженной.
— Здесь поверните направо. Мимо часовни.
Дэвид послушно повернул руль.
— Иной раз мне хочется понять, — снова заговорила Эми, — не потому ли я так привязана к баскам, что я еврейка? Они очень остро ощущают себя как народ, знают, кто они такие, где их родина. Они ведь так долго живут здесь. Единый народ, живущий на одном и том же месте. А евреи вечно блуждали, мы и сейчас продолжаем блуждать… — Она сильно потерла лицо, словно пытаясь проснуться. — Ну, неважно. Мы почти приехали.
Дэвид переключил скорость, огибая очередной угол. Он думал о Мигеле Гаровильо, о его худощавом опасном лице, о темных жестоких глазах… Эми заверила его, что Мигель не появится в доме своего отца. Хосе обещал, что его сына вообще не будет поблизости.
Но то, как Мигель налетел на Эми в баре, было слишком трудно забыть. Дикая, жестокая ревность. Или нечто большее, чем ревность. Что-то похожее на страстную ненависть.
Эми показала рукой вперед:
— Сбросьте скорость… здесь очень узкая дорога.
Перед ними возник тенистый проселок с глубокими колеями, который, казалось, уводил прямо в туманный горный лес. Дэвид осторожно вел машину по грязным выбоинам; и как раз тогда, когда колеса уже готовы были забуксовать, дорога вышла на поляну, и Эми сказала:
— Здесь.
Дом, стоявший на открытом пространстве, был маленьким, нарядным, с яркими белыми стенами, его украшали зеленые деревянные жалюзи. Дождь прекратился, лучи солнца прорезали тающий туман. А перед домом, важно размахивая беретом, стоял самый бодрый и веселый старик, каких только приходилось видеть Дэвиду. И у него были очень длинные мочки ушей.
— Ой! — заговорил Хосе Гаровильо, внимательно всматриваясь в Дэвида, когда тот выходил из машины. — Zer moduz? Pozten naiz zu ezagutzeaz![13]
— Э-э…
— Xa! Да не пугайся ты, друг мой Дэвид… Мартинес! — старик хихикнул. — Входи, входи, я не заставлю тебя говорить по-басконски. Я прекрасно говорю на твоем языке. Мне нравится английский, я обожаю ваши ругательства. Долбаный идиот! Это куда выразительнее, чем финские словечки!
Он улыбнулся и повернулся к Эми. И его улыбчивое лицо на мгновение затуманилось, когда он увидел поблекший синяк на лице девушки.
— Эй… Эми! Ай… Мне так жаль. Lo siento.[14] Я уже слышал о том, что случилось в «Бильбо». — Старик содрогнулся от сочувствия. — Но что я могу поделать? Мой сын… мой ужасный сын… Он пугает меня. Но, Эми, скажи, что я могу для тебя сделать, и я это сделаю.
Эми шагнула к нему и обняла.
— Со мной все в порядке. Дэвид мне помог. Правда, Хосе.
— Но, Эми… El violencia?[15] Это так ужасно!
— Хосе! — довольно резко произнесла Эми. — Прошу тебя! Я в полном порядке.
Старик снова улыбнулся.
— Тогда… мы должны поскорее войти в дом и поесть! Мы всегда должны есть. Когда возникают какие-то неприятности, баски должны есть. Входи в дом, Давидо. Мы устроим пир, чтобы порадовать лесных духов.
Не время было задавать какие-то вопросы; как только они уселись за стол, им пришлось есть и пить, бесконечно долго есть и пить.
Фермина, жена Хосе, намного моложе его, оказалась страстной кулинаркой; с горящими глазами, закатав рукава, она выносила из миниатюрной кухни все новые и новые басконские блюда, а Хосе пространно представлял каждое из них и объяснял, как оно готовится.
Огненные кусочки перца espelette на шампуре, вместе с tripotx — сосисками из овечьей крови из Бирату; Gerezi beltza arno gorriakin — вишневый суп цвета старого кларета, поданный вместе с пышно взбитыми сливками; цыплята, зажаренные на деревянной решетке, украшенные оливками; за всем этим последовали маслянистые kanougas — шоколадные ириски, и turron — нуга из Виская, и овечий сыр в компании с вишневым джемом… и все это обильно орошалось пенящимся баскским сидром, красным, зеленым и желтым и очень крепким.
Между переменами этого бесконечного обеда Хосе говорил и говорил, объясняя происхождение беретов, которые придумали когда-то беарнские пастухи, рассуждал о великолепии бараньих боев в Аспейте, показывал Дэвиду драгоценное для него золоченое распятие, некогда благословленное самим Папой Пием X, таинственным тоном рассуждал о дольменах в лесах у Ронсеваля, на севере Испании, якобы построенных легендарными гигантами и мистическими морами, о jentilaks и mairuaks.[16]
Это почти изматывало — но в то же время и захватывало, почти гипнотизировало. К концу обеда Дэвид ощущал себя разбухшим, пьяным — и кем-то вроде любителя-лингвиста. Он почти забыл о постоянно державшей его тревоге и о причине, приведшей его сюда. Но не совсем забыл. Совсем забыть он никогда бы не смог. El violencia. El violencia.
Это было бы очень трудно забыть.
Дэвид посмотрел на Эми. Она устремила взгляд за окно. Он снова повернулся к Хосе.
Старик прихлебывал шерри; Фермина хлопотала в кухне, похоже готовя кофе. Момент был самым подходящим. Дэвид нарушил наступившее ненадолго молчание и спросил Хосе, не хочет ли тот кое-что услышать, узнать, почему он приехал в Испанию. Гаровильо откинулся на спинку стула.
— Конечно! Но, как я сообщил по электронной почте, думаю, я уже знаю ответ. Я знаю, почему ты здесь!
Дэвид уставился на старика.
— И?..
Тот выдержал театральную паузу.
— Я знал твоего деда. Как только Эми сообщила мне его фамилию, Мартинес, я все понял.
— Вы были с ним знакомы? Когда?
— Очень давно… много лет назад, — старик непрерывно улыбался. — Мы были друзьями еще в детстве… в Доносте, перед войной. Потом наши семьи бежали во Францию, в 1936 году. В Байонну. Там делали еврейский шоколад. Лучший шоколад в мире!
Дэвид наклонился вперед, задавая вопрос, который сам собой напрашивался:
— Мой дед был баском?
Хосе расхохотался с презрительным видом — как будто вопрос был глуп до неприличия.
— Ну разумеется! Да. Разве он тебе не говорил об этом? Как это характерно для него! Он был человек… полный тайн. Но — да, он был баском. И его жена тоже, само собой! — Хосе окинул Эми дерзким взглядом, потом снова посмотрел на Дэвида. — Так что вот такие дела, Дэвид Мартинес. Ты — баск, по крайней мере отчасти; ты — человек из Эускади, Страны Басков. Ну что, я ответил на все твои вопросы? Тайны раскрыты?
Мартинес несколько секунд сидел неподвижно, переваривая услышанное. Неужели только к этому все и шло? Дед был баском, но никогда в этом не признавался…
Тут Дэвид вспомнил о карте и о церквях. И о наследстве. Как все это вписывается в общую картину?
— Вообще-то нет, Хосе. Есть кое-что еще.
— Кое-что?..
Вмешалась Эми:
— Хосе… Все дело в документах. Наследство… и карта. Ты о них знаешь?
— Я никогда не читаю газеты, — сообщил Хосе, и его улыбка слегка угасла. — Но что это за новая загадка? Расскажите! Что еще вам нужно узнать?
Дэвид вопросительно посмотрел на Эми, а та пожала плечами, как бы говоря: «Вперед, почему бы и нет? Мы все равно уже здесь».
И Мартинес начал рассказ. Он изложил историю своего деда, церквей и наследства. По ходу рассказа достал из кармана и развернул карту, украшенную синими звездочками.
Атмосфера в коттедже мгновенно изменилась.
Фермина застыла у двери в кухню, погрузившись в сосредоточенное молчание. Старик нахмурился, глядя на старую бумагу. Хмурился он сильно, почти трагически. И выглядел… выглядел так, словно у него что-то отняли.
Пораженный впечатлением, которое произвел его рассказ, Дэвид положил карту на стол. И в комнате как будто сразу стало темнее; единственным ярким пятном остался мягкий белый лист карты.
Хосе наклонился и коснулся карты обеими руками. Несколько минут он как будто ласкал старую бумагу, исследовал пальцами синие звездочки, что-то бормоча себе под нос. Никто не решался пошевелиться.
Наконец Хосе поднял голову и посмотрел на Дэвида.
— Забудь об этом. Забудь, умоляю тебя! Забудь об этом. Тебе незачем узнавать что-то об этих церквях. Оставь себе деньги. Избавься от этой карты. Вернись в Лондон. Por favor.[17]
Дэвид открыл рот… но так и ничего не смог сказать.
— Убери ее, — потребовал Хосе, возвращая карту молодому человеку. — Унеси из моего дома. Я знаю, что ты ни в чем не виноват. Но… унеси ее отсюда. И никогда больше не упоминай о ней. Никогда. Эта… карта… эти церкви… Это дорога в ад. Умоляю вас обоих — остановитесь!
Дэвид не представлял, что ему теперь делать. Жена Хосе старательно вытирала руки полотенцем, все так же стоя у двери кухни. Снова и снова вытирала руки, нервно и испуганно.
В напряженное молчание ворвался какой-то шум. Хосе Гаровильо посмотрел в окно; скрип гравия на дороге стал совсем громким.
К дому приближался красный автомобиль.
Эми испуганно прижала ладонь к губам.
— Ох, нет…
Хосе задохнулся.
— Нет! Я же не разрешал ему приезжать! То есть… виноват, я говорил ему, что ты будешь здесь, Эми, но просил его держаться подальше. Barkatu.[18] Barkatu. Фермина!
Из машины уже выходил очень высокий человек, и ошибиться тут было просто невозможно: это был Мигель Гаровильо. Секундой позже он уже толкнул дверь дома и ворвался внутрь, высокий и дикий, — и уставился на Эми и Дэвида. А потом на карту. Что-то вспыхнуло в его глазах, и это было так же заметно, как тонкий шрам над его губой.
— Папа! — воскликнул Мигель с нескрываемым презрением.
Сын вскинул руку; на один кошмарный момент показалось, что он действительно готов опустить ее на Хосе, ударить собственного отца. Старик отшатнулся. Фермина вскрикнула. Черные глаза Мигеля обежали комнату; Дэвиду удалось заметить угловатые очертания кобуры под кожаной курткой террориста.
Фермина пыталась оттолкнуть своего сына подальше, но Мигель уже кричал на отца, на Эми и Дэвида — кричал по-басконски, и Дэвид не понимал его слов, одно только было абсолютно очевидным: звериная ярость. Хосе выкрикнул несколько слов в ответ — но как-то неуверенно, неубедительно.
А потом Мигель перешел на английский. Глядя на Дэвида. Его низкий злобный голос заставлял воздух дрожать.
— Убирайся к чертям собачьим отсюда! Тебе нужна эта шлюха? Так забирай ее! Забирай ее и это вот дерьмо и проваливай! Быстро!
Дэвид попятился.
— Мы собирались… мы хотели…
— В прошлый раз я тебя ударил. В следующий раз я тебя пристрелю!
Эми с Дэвидом поспешно развернулись, выбежали во двор и буквально прыгнули в машину.
Но Мигель выскочил следом за ними из дома. Он уже извлек свой пистолет и держал его перед собой. Держал так, как будто желая продемонстрировать его гостям. У Дэвида возникло странное, раздражающее ощущение чего-то нечеловеческого в Мигеле: он казался великаном, гигантом басков. Жестоким лесным духом, демонстрирующим свою силу и злобу. Пистолет был уж очень черным. И блестел в неярких солнечных лучах.
Дэвид поспешно запустил мотор. Он нервно крутил руль — и наконец они повернули, разбрасывая колесами грязь, выскочили на подъездную дорогу и помчались по колдобинам.
В течение получаса Дэвид изо всех сил гнал машину, стремясь к серовато-зеленым подножиям гор, желая просто очутиться как можно дальше от Мигеля Гаровильо.
Когда паника и потрясение слегка утихли, Дэвид почувствовал, как в нем нарастает гнев, и ему остро потребовалось остановиться и как следует подумать.
Он поставил машину у обочины. Они как раз подъехали к какой-то деревушке, и слева от них виднелся склад древесины. Далекие Пиренеи теперь выглядели немного симпатичнее; вершины сосен торчали из вечно клубящегося тумана. Церковь, окруженная круглыми надгробиями, стояла на склоне холма над ними.
Все вокруг было влажным, все вокруг них казалось слегка, но отчетливо гниющим в этой вечной сырости.
Дэвид выругался:
— Что. За. Хрень.
Эми виновато посмотрела на него.
— Да, понимаю. Мне очень жаль.
— Что?
— Мне очень жаль…
— Это не ваша вина.
— Но… — девушка покачала головой. — Именно моя. Может быть, вам лучше вернуться домой, Дэвид. Мигель — это моя проблема.
— Нет. Ерунда. Он и моя проблема тоже.
— Но я ведь говорила вам, каков он. Убийственно ревнив. Он… он действительно может… что-нибудь сделать. Он даже может…
— Убить меня?
Эми поморщилась.
В Дэвиде проснулся бунтарский дух.
— Да пошел он!.. Я хочу найти ответы. — Он снова тронул машину с места и несколько минут молча вел ее по дороге, медленно, не спеша. — Я хочу узнать все. Мой дед не стал бы посылать меня сюда, впутывать меня во все это, если бы у него не было к тому серьезных причин. И я хочу выяснить, почему он это сделал.
— Карта.
— Именно. Карта. Вы ведь слышали, что сказал Хосе, видели, как он отреагировал… тут что-то… что-то…
Он пытался найти подходящие слова, чтобы описать всю сложность возникшей перед ним головоломки, но не успел; Эми тихо сказала:
— Не останавливайтесь.
— Что?
— Прибавьте скорости.
— Что?
Сердце Дэвида сжалось от леденящего предчувствия.
И Эми подтвердила его опасения:
— Мигель. Его машина. Позади нас.
9
Эми смотрела в зеркало заднего вида. Дэвид тоже глянул туда.
— Боже… — Он прищурился. — Вы уверены? Это та самая машина?
— Номера. Да, это его авто.
Дорога впереди была узкой, туман сгущался по мере того, как они поднимались выше.
— Но… — Дэвид крепко стиснул руль. — Он что, так и ехал за нами? Преследовал?
— Кто знает. Может, ехал за нами. Или…
— Что?
— Он ведь из ЭТА. А здесь их владения.
— Значит…
— Они постоянно следят за этими дорогами. У него тут множество друзей и помощников. Может быть, кто-то ему позвонил. Мы ведь только что останавливались у какой-то деревни. И что нам теперь делать?
Страх был физически ощутим. Но Дэвид чувствовал еще и возмущение. Он подумал о своих любимых родителях, оставивших его одного. Подумал о своем одиночестве: ему пришлось с боем добиваться диплома в колледже, он был предоставлен сам себе, а дед жил в далеком Фениксе. Но Дэвид прошел через все это дерьмо, он справился со всем этим и не позволит себя запугивать, даже самому бесноватому из всех этих поганых террористов. Не сейчас. Не тогда, когда он узнал, что тайна его деда связана с его собственными предками, с его собственной историей. Когда он узнал, что по крови он принадлежит к баскам.
И еще ему не нравилось, когда его преследовали.
— Давайте оторвемся от этого ублюдка.
Нажав на педаль газа, он помчался по узкой извилистой дороге; мотор болезненно ревел, когда они неслись между каменными изгородями и по скользким кочкам. Потом Дэвид снова посмотрел в зеркало.
Красный автомобиль приближался.
— Дерьмо…
Дэвид просто ощущал на языке горьковатый вкус тревоги; не обращая на него внимания, он переключил скорость — и рванулся вперед как можно быстрее.
— Дэвид…
Слева от них показался обрыв. Он был смертельно опасным, высотой не менее трехсот метров, а то и больше. Стоило ошибиться совсем чуть-чуть, и они полетели бы вниз и разбились бы вдребезги. Дэвид поневоле сбросил скорость.
Бам!
Красный автомобиль ударил их сзади. Удар был сильным, намеренным, чрезвычайно опасным. Дэвид отчаянно вцепился в руль, стараясь удержать машину на дороге, а потом бросил испуганный взгляд в зеркало. Он не мог сказать наверняка, но ему показалось, что их преследователь… улыбался?
— Не бойтесь, все в порядке, — сказал он Эми.
Зачем он это сказал? Он ведь сам был просто в ужасе. Но его также уже охватила ярость. Только не теперь. Только не сдаваться сейчас. Если он сдастся — то чего ради все это было? Все эти годы ничегонеделания, бессмысленного сидения в стерильно чистом кабинете, годы бессмысленной юридической практики; он пытался наладить отношения, но так всего боялся, что люди отворачивались от него — и он снова оставался один.
Сердце Дэвида переполнилось мятежными чувствами; он хотел спасти Эми и спастись сам — и он мог это сделать.
Вдавив в пол педаль акселератора, Мартинес погнал машину вперед так быстро, как только осмеливался. Несмотря на грызущий страх, его охватила некая уверенность в том, что он делал. Дэвид научился отлично водить машину еще в юности. Он действительно это умел.
Но сейчас, конечно, все было несколько иначе: машина прыгала по кочкам от одного резкого поворота к другому, поднимаясь все выше и выше. И за ними гнался сумасшедший.
Потом дорога и вовсе пошла зигзагами, превращаясь в крутой серпантин, и, наконец, повернула за вертикальную каменную стену, за которой ничего не было видно… у Дэвида перехватило дыхание, сердце подпрыгнуло… но он миновал поворот.
Снова глянул в зеркало. Красный автомобиль на мгновение притормозил, и Дэвид немного оторвался от их беспощадного преследователя. У него было несколько секунд на передышку.
Они мчались вперед, и Мартинес пытался думать. Если они остановят машину и бросятся бежать, может, им и удастся спрятаться… но красная машина была слишком близко. У Мигеля есть пистолет, он может погнаться за ними и в скалах. Подразнить их… а потом пристрелить. Такая простенькая казнь в лесу.
— Дэвид!..
Красная машина догоняла их. Мартинес не мог ехать быстрее. Они уже достигли предела, крайней точки. Никто ничего не увидит. Они уже поднялись выше уровня облаков; солнце здесь сияло ослепительно, его лучи отражались от вечных снегов. Значит, вот здесь им и предстоит умереть. Мужчина и женщина в автомобиле. Как его родители. Оба мертвы.
Но тут Дэвид увидел некий шанс… Впереди и немного выше тянулись голые камни на относительно ровной площадке. Три секунды спустя он уже бросил машину в сторону этих известняковых выходов и рванул ручной тормоз. Они развернулись на месте, как дети на какой-нибудь самой кошмарной из всех ярмарочных каруселей.
И это сработало. Красный автомобиль стремительно пронесся мимо. А Дэвид тут же погнал машину в обратную сторону, по крутому опасному спуску.
Он мчался по головокружительному серпантину горной дороги; в зеркало заднего вида было видно, как красный автомобиль разворачивается… Но на этот раз у Дэвида уже был некий план, и он, на скорости восемьдесят миль в час обогнув вертикальную каменную стену, сразу погнал машину к серому лесу. На подъездную дорогу какой-то фермы.
В гущу деревьев.
Дорога металась то туда, то сюда, швыряя их по лесной тьме. Машина скрипела и стонала, а дорога через полмили кончилась. Дэвид резко остановил авто, пинком распахнул дверцу и выпрыгнул. Эми уже была снаружи. Молодой человек схватил ее за руку, и они побежали в лес, между деревьями и камнями, перепрыгивая через ручьи, — пока не нашли огромный валун. Здесь они наконец остановились, спрятавшись за гигантским камнем. И ждали молча, задыхаясь.
Сердце Дэвида бешено стучало в грудную клетку; он крепко сжимал влажную руку девушки.
Они сидели за валуном, замерзшие, онемевшие. Лес слегка потрескивал под унылым моросящим дождем. Ничего не происходило. Клочья тумана ползли между мрачными темными лиственницами, как сказочные призраки.
Вдали послышался тихий гул автомобильного мотора. Видимо, это была красная машина, искавшая их. Похоже, она приостановилась где-то на дороге. Где-то довольно близко. Дэвид почувствовал, как пальцы Эми стиснули его руку. Мучительные мгновения медленно ползли мимо, словно похоронная процессия. Двое беглецов ждали, когда их найдут и застрелят. Или сделают что-нибудь гораздо хуже.
Мотор машины заработал снова. Звук удалялся. Красный автомобиль уезжал, возможно направляясь вниз. Наконец Дэвида и Эми окружила полная тишина. Дэвид позволил себе вздохнуть.
Но чувство облегчения мгновенно угасло, потому что послышался новый звук: под чьей-то ногой треснула сухая веточка…
10
Старые женщины что-то напевали себе под нос, и странные звуки сливались в бодрую мелодию; дрожащий голос мужчины в темном костюме, стоявшего перед ними, взмахивающего руками, направлял их, и все интенсивнее звучал хор гудящих женских голосов.
Они все еще были на Фуле, почти в трех сотнях миль от Глазго.
Саймон, Сандерсон и Томаски провели весьма неприятную ночь в единственной на всю Фулу гостинице, дожидаясь возможности поговорить с Эдит Тэйт. Владелец гостиницы, вдовец средних лет из Эдинбурга, был настолько взволнован наплывом приятных гостей — новых людей, с которыми можно поговорить, — что вцепился в них мертвой хваткой и не отпускал, между глоточками виски вываливая на них леденящие кровь истории о всяких сверхъестественных событиях, происходивших на острове.
Он рассказал им о некоем немецком орнитологе, который поскользнулся на овечьем последе и ударился головой о камень, и его мозги сожрали арктические поморники. Следующий рассказ был о паре туристов, покоривших самый высокий здешний утес, Кэйм, и свалившихся в пропасть из-за того, что один из них чихнул.
Все это Саймон выслушивал со сдержанной улыбкой, а Сандерсон не скрывал сарказма.
— Получается, здесь гибнет примерно пятьдесят процентов туристов?
Но было в этих историях и кое-что такое, что по-настоящему, всерьез заинтересовало журналиста: это гэльское наследие острова. Как объяснил хозяин гостиницы, Фула всегда была настолько изолированным местом, что сумела сохранить северогэльские культурные особенности, почти полностью исчезнувшие в других местах. Здесь пользовались собственным григорианским календарем, Рождество праздновали шестого января, и кое-кто из местных по-прежнему говорил на настоящем шотландско-гэльском диалекте. В особенности этот язык был в ходу в церкви, где, видимо, велись самые древние из сохранившихся служб: только здесь можно было услышать носовое пение а капелла, известное как «диссонансные гэльские псалмы», о чем с искренним наслаждением сообщил владелец гостиницы.
И вот теперь они действительно находились в кирхе, слушая носовую гэльскую гетерофонию, ожидая возможности поговорить с Эдит. Саймона полностью захватила эта аутентичная, древняя, возможно, даже языческая церемония; на старшего инспектора Сандерсона все это производило гораздо меньшее впечатление.
— Они гудят, как туча сумасшедших ирландских шмелей в душевой.
Его небрежное замечание прозвучало слишком громко. Одна из женщин обернулась и окатила старшего инспектора холодным взглядом; но, несмотря на это, продолжала гудеть через свои столетние ноздри, хотя глаза ее пылали.
Старший инспектор смущенно вспыхнул, встал и, пройдя вдоль ряда скамей, поспешил выбраться из церкви. Саймон, почувствовав себя как будто голым и слишком бросающимся в глаза, поспешил за ним. Он нашел Сандерсона у кладбища; тот курил.
Но инспектор быстро бросил сигарету, раздавил ее каблуком и уставился на Снек о'да Смаале — огромное ущелье неподалеку от церкви; оно спускалось прямо к бурлящему морю, дергавшемуся, как упавший на землю эпилептик в синей смирительной рубахе; утренний дождик кончился, небо прояснилось.
— Ты не слишком религиозен, детектив, да?
— Полагаешь? — Сандерсон саркастически улыбнулся. — Вообще-то я ходил в церковную школу, потому что мои родители были по-настоящему верующими. А это гарантирует нелюбовь к религии.
Саймон кивнул.
— Ну да… А у меня полностью противоположный опыт, мои родные были атеистами. Ученые и архитекторы. — В его уме вспыхнуло запретное воспоминание: «das Helium und das Hydrogen…». Саймон поспешил продолжить разговор: — Поэтому они никогда не навязывали мне никакой религиозной системы. И теперь я… ну, имею весьма расплывчатое представление о вере.
— Тебе только на пользу, — старший инспектор всмотрелся в какую-то белую тень, возникшую неподалеку. Это оказалась овца, забредшая на кладбище. — Боже, что за местечко! Все эти овцы, на каждом шагу… Овцы. Что они тут делают? Безмозглые шерстяные комки. — Сандерсон положил руку на плечо журналиста и посмотрел ему прямо в глаза. — Куинн… Тебе следует кое-что знать. Если ты все еще хочешь написать об этом случае.
— Да?
— Произошло еще одно убийство. Сегодня утром. Мне передали по рации. И мы уверены, что оно связано с этими двумя, — инспектор нахмурился. — Ну, насколько я могу пока тебе сказать.
— И где это?
— Неподалеку от Виндзора. Старик по имени Жан Мендиа. Так что Томаски утром улетел домой, чтобы начать разминку.
Носовое пение в церкви умолкло.
— Дай угадать… жертва из Южной Франции? Он тоже изуродован?
Сандерсон кивнул.
— Да, французский баск. Из Гаскони. Но — нет, не изуродован. И его не пытали.
И прежде чем Саймон успел задать вполне очевидный вопрос, Сандерсон добавил:
— Мы уверены во взаимосвязи этих убийств вот почему: новая жертва очень стара, далее — это баск, и еще — там не было ограбления. Убийство выглядит бессмысленным.
— Значит, эти трое…
— Да.
— Но кто, черт побери, это делает? И зачем?
— Бог знает… так что можешь спросить у него, — детектив отвернулся.
Служба закончилась. Церковные двери широко распахнулись, и старые леди в чепчиках торжественно выплыли из кирхи на дневной свет, болтая на английском и гэльском.
Эдит Тэйт обнаружилась быстро. Она оказалась куда более живой и подвижной, чем ожидал Саймон; несмотря на свои шестьдесят семь лет, эта женщина могла бы посостязаться с пятидесятилетними. Но искры в ее глазах сразу погасли, как только мужчины объяснили ей, кто они такие и зачем она им понадобилась. На мгновение у Эдит даже стал такой вид, словно она готова была разразиться слезами. Но она лишь тщательно застегнула на себе твидовое пальто и повела мужчин назад, в опустевшую церковь, где они могли устроиться на скамье и поговорить.
Эдит Тэйт не была свидетельницей, как надеялся детектив. Она признала, что слышала в ту страшную ночь некий странный звук — но она не может быть до конца уверена в том, что именно она слышала. Скорее всего, в столь ранний час это шумела маленькая лодка, но точно она сказать не могла.
Эдит Тэйт вообще ни в чем не была уверена — но вряд ли стоило винить ее за это. Она изо всех сил старалась помочь, и этот процесс явно давался ей с трудом. В конце допроса пожилая женщина тихонько всхлипнула, прикрыв лицо бледными руками. Потом опустила ладони и внимательно посмотрела на журналиста.
— Мне очень жаль, но я ничем больше не могу помочь. Знаете, она была моей очень близкой подругой. Настоящей подругой. Мне так жаль, мистер… джентльмены. Вы проделали такой долгий путь, чтобы со мной встретиться. Но чего я не видела, того не видела.
Саймон обменялся с Сандерсоном понимающим взглядом. Эта старая милая леди старалась как могла, а они и так уже зашли так далеко, как только было возможно. Но оставался еще один, последний вопрос, и его, пожалуй, необходимо было задать.
— А когда и почему Джулия переехала на Фулу, Эдит? Это ведь такое удаленное место.
— Уверена, она приехала сюда в конце сороковых… — Эдит нахмурилась. — Да. В сороковых годах. Мы подружились позже, когда моя мамочка умерла и я получила в наследство ферму по соседству с Джулией.
— То есть вы не знаете, почему она эмигрировала из Франции и перебралась на Фулу?
— Не-ет. — Эдит покачала головой. — Она никогда об этом не говорила, а я никогда не спрашивала. Может быть, тут какая-то семейная тайна. Может быть, она просто любила уединение и тишину, только и всего. Многим людям это нравится, знаете ли… А теперь мне действительно пора идти. Меня ждут друзья.
— Разумеется.
Разговор был окончен. Саймон закрыл блокнот.
Однако, уже направляясь к выходу из церкви, Эдит приостановилась и вскинула голову. Она еще раз прокрутила в голове один из заданных ей вопросов.
— Вообще-то… есть еще кое-что. Такое, что, возможно, вам следует знать. Маленькая странность.
Саймон снова открыл блокнот.
— Да?
— Совсем недавно… Ее все беспокоил какой-то молодой человек, молодой ученый. Ее это очень расстроило.
— В смысле?
— Ангус Нэрн, так его звали, — пожилая леди на мгновение прикрыла глаза — и тут же снова их распахнула. — Да, так. Хорошее шотландское имя. Да. Он надоедал ей телефонными звонками и какой-то научной болтовней.
— Что вы имеете в виду под «надоедал»?
— Он хотел ее исследовать. Говорил, что она — уникальный случай. Баск, я думаю. Это правильно? Я не знаю. Баск, наверное. Ну да.
— И это ее расстроило?
— И даже очень. Куда сильнее, чем можно было бы ожидать. Она целую неделю не могла прийти в себя. Этот человек, Нэрн, по-настоящему ее разволновал… Ну ладно, вон подруги мне машут.
Но Саймон задержал ее:
— Но, миссис Тэйт…
Она бросила на него вежливый взгляд.
— Вы сказали, что тот человек хотел как-то ее исследовать, но о чем шла речь? Что именно он собирался изучать?
Эдит безмятежно ответила:
— Ее кровь.
11
Дэвид всмотрелся в лес, поверх мокрых папоротников.
Это была лошадь. Маленькая лошадка с лохматой гривой.
— Потток, — сказала Эми.
Маленький пони уставился на них с выражением созерцательной меланхолии, а потом ускакал в лес; таинственный и дикий, древний, исчезающий…
Напряженные до боли мышцы Дэвида расслабились. Он снова посмотрел в глубину леса. Машина явно была далеко внизу, на склоне. Они были в безопасности. Они сбежали. Мартинес протянул руку к камню, чтобы опереться на него и встать.
Эми быстро шепнула:
— Погоди!
Дэвид ощутил, как возвращается пронзительный страх.
Эми снова зашептала:
— Что там?
Дэвид посмотрел туда, куда она показывала, прищурился — и застыл. Примерно в пятистах ярдах от них медленно пробиралась сквозь туман смутная фигура; человек поворачивал голову в одну сторону, в другую… Сквозь шевелящийся туман трудно было рассмотреть его как следует, но все же…
— Мигель?
Вопрос был явно бессмысленным. Наверняка это был Мигель. Черный волк, шедший сквозь лес по их следу.
Дэвид схватил девушку за руку.
— Назад…
Та молча кивнула. Они вместе поползли назад, стараясь забраться как можно глубже в лес. Потом поднялись — и долго, медленно и мучительно отступали, пригибаясь к мокрой траве, прячась за поросшими мхом стволами, стараясь не хрустнуть даже самой крошечной веточкой, не зашелестеть самым маленьким листком.
Дэвид оглядывался назад снова и снова, но не был уверен в том, что видел. Был ли там действительно Мигель, упорно продолжавший погоню? Туман заполнял лес молочным маревом, черные фигуры оказывались деревьями, тонкие стволы сгибались под ветром и дождем, издавая жалобные мяукающие звуки…
Мартинес сосредоточился; нужно было найти какую-то дорогу сквозь всю эту мутную осеннюю путаницу.
— Туда, вниз…
Дэвид понятия не имел, куда он ведет Эми, — просто хотел оказаться от Мигеля как можно дальше. Где-то около часа они продолжали спускаться; лес вокруг был густым, угрожающим. Несколько раз Эми чуть не падала; Дэвид скользил по мокрым листьям и грязи. Несмотря на холод, царивший в промокшем горном лесу, Мартинес вспотел. И рука Эми в его ладони была влажной. И они все еще слышали — или им казалось, что они слышали, — тихое угрожающее потрескивание веток за своими спинами. А может быть, там просто бродил еще один потток.
Склон стал более пологим, чернота столпившихся вокруг мокрых деревьев расступилась, открыв белизну, небо и свет. Они вышли к чему-то вроде тропы. Долгие минуты бегства и страха вывели их к цивилизации.
— Так… идем туда.
Дэвид снова взял Эми за руку. Они, пригнувшись, прошли под старым, наполовину упавшим дубом. Тропу с обеих сторон охраняли колючки ежевики. Каменистая дорожка, извиваясь, тянулась к маленькой долине.
Эми заговорила:
— Я знаю, где мы.
— И где?
— Очень близко от Сугаррамурди. — Эми показала на расползающийся туман. — Деревушка, вон там, сразу под склоном.
— Так чего же мы ждем? Вперед! Мы можем найти там кафе, и…
— Нет! Погоди! — Голос девушки прозвучал резко, настойчиво, испуганно. — Он знает эти леса… он будет ожидать, что мы пойдем именно туда. Нам нужно… — Эми сунула руку в карман, достала телефон. — Нам нужно спрятаться, пока кто-нибудь не сможет нам помочь, забрать нас.
Она вскарабкалась немного выше по склону, явно ища лучшее место для сигнала. Дэвид наблюдал за тем, как Эми набирает номер, слышал, как она отчаянным шепотом говорила «Сара» и «por favor», он догадался, что девушка звонит своей подруге, Саре Гарсиа. Через мгновение она уже снова сунула телефон в карман и повернулась к Дэвиду.
— Все хорошо, она приедет сюда, в деревню. Примерно через полчаса.
— Но где мы спрячемся пока?..
— Сюда.
Она уже спускалась вниз с решительным видом. Растерянный Мартинес неловко последовал за ней, хватаясь за корни деревьев, чтобы удержаться на ногах. Наконец мокрая тропа еще раз повернула и расширилась — и Дэвид увидел естественную площадку из плитняка. А за ней в склоне горы разинула пасть огромная пещера.
Эми показала на нее:
— Пещера ведьм Сугаррамурди.
Большая пещера была открыта с обеих сторон, это был некий природный туннель в камне, и по его дну бежал небольшой поток — как струйка воды в гигантской бетонной трубе. Тусклый серый свет отражался от пузырящейся воды, бросая блики на высокий потолок пещеры.
— Какая пещера?..
Лицо Эми стало неподвижным.
— Пещера ведьм. Сугаррамурди. Мы можем в ней спрятаться. Здесь целая система пещер, она бесконечна.
— Ты уверена?
Она не стала задерживаться, чтобы ответить; и возможно, подумал Дэвид, была совершенно права. Их бегство через лес было слишком изматывающим, и ему отчаянно хотелось отдохнуть; Эми тоже выглядела крайне усталой, а все ее лицо было покрыто грязью. Им нужно продержаться всего полчаса.
Эми осторожно шла впереди. Наконец они добрались до боковой тропинки, нырявшей под каменную крышу. Это был плоский скальный выступ, нависавший над основным пространством пещеры просторным гулким туннелем. Тут и там виднелись темные углубления в мягком белом камне, говорившие о наличии других туннелей. Эми снова оказалась права; они вошли в настоящий лабиринт переходов и пещер, манивших в них заглянуть.
Они сели. Сухой теплый камень ощущался как настоящий шелк после промозглой сырости леса, сквозь который они пробирались так долго.
Вконец измученный Дэвид прислонился затылком к скале и закрыл глаза. Но тут же открыл их, настороженный, испуганный, стряхнул с себя сонливость и стал всматриваться в глубь пещеры.
— Ты сказала, это пещера ведьм?
— Да.
— Но почему ее так называют?
Эми равнодушно пожала плечами:
— Это довольно захватывающая история. Мне ее рассказал Хосе. Он любит такие истории.
— И?..
В улыбке Эми отразилась вся ее усталость.
— Тебе всегда хочется все знать.
— Да, я всегда хочу все знать. Пожалуйста, расскажи мне что-нибудь. Я не хочу вот так взять и заснуть.
— Ладно. Хорошо. — Эми недовольно поморщилась, напряженно вспоминая. — Эта пещера и луга вокруг были akelarre, тем местом, где ведьмы басков устраивали свои шабаши.
Дэвид собрался задать вопрос, но девушка жестом заставила его замолчать. И пояснила:
— Около четырехсот лет назад Сугаррамурди был чем-то вроде центра изучения ведьм. Французский охотник на ведьм Пьер де Ланкре был твердо убежден, что… — Эми сердито качнула головой. — Он решил, что все баски — колдуны и ведьмы. Потому что баски были уж слишком другими, их сразу можно было заметить… такое опознаваемое меньшинство. Они были иными.
— Ты хочешь сказать… как иудеи?
— Именно так. Это началось примерно в 1610 году. Басконская девушка, работавшая на стороне, в Сибуре — это на побережье, около Сент-Жан-де-Лю, — вернулась в свою деревню на холмах. В Сугаррамурди.
Свет, отражаясь от потока, танцевал на потолке пещеры. Пустоту пронзали сталактиты.
— …Молодую женщину звали Мария де Чимилдегу. И она начала доносить на своих друзей и родственников, обвиняя их в колдовстве. Местные священники вызвали инквизиторов. Детей отрывали от семей и допрашивали. Те начали рассказывать о своих ночных кошмарах — им снились обнаженные ведьмы, намазанные жиром, и они уносили детей с собой и летели на шабаш дьявола. Сатана появлялся в образе огромного козла, который ходил на задних ногах. Он совокуплялся с женщинами и детьми. И у него был просто чудовищный пенис, черный, толстый, ледяной. А после того он когтем ставил им на лоб метку. Проклятая метка дьявола. Знак того, что он обладал ими.
Эми бесстрастно смотрела на Дэвида. Он не знал, что и сказать; то ли рассмеяться, то ли возразить… Девушка продолжила рассказ, и ее голос тихим эхом отдавался от стен пещеры.
— И вот так началось это безумие. Священники доложили о своем открытии, и ведьмовская истерия раскатилась по всей долине, дошла до Элизондо, Лесаки, Сан-Себастьяна. Тысячи были арестованы, Дэвид, буквально тысячи — женщин, мужчин, детей… А потом инквизиторы принялись за работу: они пытали людей на дыбе, протыкали иглами, мучили и терзали всех…
Дэвид старался не думать о ее шраме. Он сказал:
— Но… они по всей Европе творили то же самое, ведь так? Так что здесь не происходило ничего необычного по тем временам. Это было как в Салеме, такое же помешательство на ведьмах. Нет?
— Нет. В таких масштабах помешательства на ведьмах не было больше нигде в Европе. Они называли это Эпидемией Снов Басков. Инквизиторы искалечили сотни людей. Десятки других линчевали сами деревенские жители. А пятерых официально сожгли в Лонгроно.
— А де Ланкре?
Эми смотрела прямо перед собой, в серое пространство пещеры.
— Де Ланкре был даже более активен в поисках, чем инквизиция. Как я уже сказала, он был одержимым: думал, что все баски — колдуны и что расу дьявола необходимо уничтожить. Он сжег несколько сотен, а может, и больше. Это был настоящий холокост. Как раз вот там, в Иппаральде. За теми горами. Во французской Стране Басков.
Девушка показала на неширокий ручей.
— Здесь этот ручей до сих пор называют Потоком Дьявола. Но главная ирония в том, что сам этот де Ланкре был баском. Ненавидящим самого себя.
Ее слова затихли под потолком пещеры. Дэвид уже готов был задать очередной вопрос, но его не до конца сформировавшаяся мысль была нарушена. Чьим-то низким голосом. Родившим эхо в пещере.
— Ера.
Дэвид быстро повернулся.
Мигель. Это он стоял там. У входа в пещеру ведьм.
Дэвид посмотрел направо, налево, быстро соображая. Спуститься с выступа они могли бы только одним способом — идя к свету входа, мимо Мигеля. Они оказались в ловушке.
— Ера.
Дэвид знал только одно слово на баскском языке — «Привет». Улыбка террориста была и ленивой, и гневной; его пистолет смотрел в их сторону.
— Euzkaraz badakisu? Ах, нет. Вы, американцы, говорите только на одном языке. Так позвольте мне объяснить… по-дружески.
Высокий баск пошел по каменистому выступу, и дуло его пистолета все так же смотрело на Эми и Дэвида. Он замедлил шаг, приблизившись к беглецам, и обернулся. Дэвид только теперь заметил, что Мигель был не один: следом шел невысокий полный мужчина. Мигель махнул ему рукой.
— Enoka? La cuerda…[19]
На руке спутника Мигеля красовалась татуировка: лаубуру, волнистое солнце. И именно этой татуированной рукой он держал веревку. Невысокий мужчина, Энока, шагнул вперед.
Дэвид бросил на Эми отчаянный взгляд. Их что, прямо сейчас повесят? Вряд ли можно было сказать, что они к этому готовы.
Сообщник террориста, Энока, принялся за работу. Он связал Эми и Дэвиду руки за спинами, — а они только и могли, что молча сидеть, не шевелясь, под прицелом пистолета Мигеля. Через несколько секунд они были связаны, как бессловесные животные перед забоем.
Потом Мигель заговорил с печальной хмурой страстью. Его длинная тень тянулась по потолку пещеры, ее рождал мерцающий свет потока.
— А знаете, Мартинес, вы хорошо водите машину. Очень хорошо. Впечатляюще. Но вы все равно не понимаете по-настоящему эти холмы. Вы не понимаете это место. Наш язык. Вы и не можете все это понять. Hikuntzta ez da nahikoa![20] Разве не так?
По губам Мигеля скользнула странная полуулыбка, и он окинул взглядом пещеру; его слова гулко разносились в пустоте.
— Я вам говорил, что будет, когда я снова вас найду. И вот я вас нашел. В пещере ведьм! Надо же было выбрать именно это место… Маленькая ведьма и ее большой гасконский дружок. То, что надо, — он снова повернулся к ним. — Помнишь, Эми? Помнишь наш сказочный ужин на природе?
Он наклонился над девушкой, очень низко, вглядываясь в ее лицо. Дэвид с отвращением увидел, как террорист поглаживает ее щеку дулом пистолета. Гладит ее.
— Ммм… Эми? Ведь это было? Помню потрясающие кровяные колбаски. Tripota. И твою сладкую marmatiko.
Эми молчала. Мигель продолжил:
— Разве мы не тут занимались сексом? Или это было в какой-то другой пещере? Это было здесь, ведь правда? Я забыл.
Эми сидела отвернувшись, но убийца подцепил ее под подбородок стволом пистолета, заставив поднять голову и посмотреть на него. Он безмятежно улыбался. Эми нахмурилась. Он действительно улыбался.
И тогда она тоже улыбнулась.
Дэвид в ужасе уставился на них.
Эми смотрела вверх, улыбаясь почти сладострастно, а Мигель журчал:
— Ты ведь знаешь, что я собираюсь его убить, да?
Она кивнула:
— Да.
— В таком случае, Эми, не поразвлечься ли нам сначала?
Она снова кивнула; он наклонился еще ближе.
— Dantzatu nahi al duzu nirekin?[21] Прежде чем мы убьем его.
— Да, — согласилась она. — Пожалуйста… трахни меня здесь. Трахни, как прежде.
Мигель захохотал. Это был печальный и жадный смех, заморозил кровь Дэвида, превратив ее в крошечные кристаллы скорби. Что здесь происходит?
А террорист опять провел дулом пистолета по лицу Эми, по ее уху, по губам — как хирург, намечающий линию будущего разреза, или мясник, размечающий тушу для рубки. Потом он повернулся к своему приятелю, маячившему в тени.
— Энока… Vaya, adiós![22]
Приземистый мужчина поспешил прочь, явно испытав немалое облегчение. Дэвид переводил взгляд с Мигеля на Эми, с Эми опять на Мигеля… Его сердце сжималось от страха.
А Эми продолжала улыбаться, вскинув голову, она улыбалась этому террористу — смиренно и одновременно страстно… Выражение глаз бандита изменилось. И стало отчетливо видна эрекция, приподнявшая его камуфляжные штаны.
Не только страх, но и отвращение переполнили Дэвида. Он уже не хотел смотреть на Эми. Как она могла держаться вот так? Не было ли все предыдущее просто чудовищной шуткой, которую сыграли с иностранцем? Или она просто хочет спасти свою жизнь? Или и вправду испытывает страсть к Мигелю? Не было ли все вообще некоей странной, извращенной сексуальной игрой между ними… игрой, для которой был необходим зритель?
Дэвида начал охватывать гнев… и презрение… и неуемная ярость…
Энока исчез за камнями. Они остались одни. Мигель, Эми и Дэвид. Террорист уже развязывал девушке руки. А она, едва освободившись, потянулась к нему; быстро расстегнула ремень на его штанах, спустила их, потянула рубашку… Она целовала бандита в небритый подбородок, гладила его шею, как какая-нибудь наложница, готовящая султана к ночи любви. Или как ведьма, угождающая повелителю.
Дэвид отвернулся и зажмурился, его мутило. Он не желал этого видеть; да, он был связан, он не мог уйти, он был вынужден слушать, но он не обязан был смотреть.
Низкий голос раздался над его головой:
— Эй, ты!
Дэвид открыл глаза.
Мигель уже лежал на Эми, его огромное тело выгнулось над маленькой молодой женщиной, как темная крыша. Но смотрел он на Дэвида, по-прежнему держа в руке пистолет.
— Ты, Мартинес! Смотри, или я тебя убью! Смотри, а потом я тебя убью.
Дэвида уже просто выворачивало от ярости. Он прищурил распухшие веки и стал смотреть.
Эми лежала на спине. Ниже талии она была обнажена. Ее губы жадно целовали голые плечи Мигеля. Дэвид с отвращением наблюдал за тем, как Мигель овладел ею. Теперь они оба ритмично двигались, они действительно этим занимались, и Эми целовала его. Она вложила пальцы ему в рот, и он посасывал их, наслаждаясь вкусом. Покусывал и посасывал. Его губы быстро двигались, он млел от наслаждения. Он стонал…
— Моя сладкая красная марибу… Малышка. Да? Ты ведь все еще любишь своего папочку?
Он стал покусывать ее грудь, его темные ладони сжимали белые ягодицы, он нависал огромной темной тенью над белизной плоти девушки, терся носом о ее красные соски; его волчья пасть как будто пожирала ее. Дэвида охватило отчаяние.
А потом террорист вдруг как-то мгновенно и нелепо дошел до финала. Его руки дернулись — и он упал на Эми.
Его голова лежала теперь на белой обнаженной груди. А Эми гладила его волосы, ласкала его.
Потом ее расширенные глаза взглянули на Дэвида с непонятным выражением.
— Все, идем.
Дэвид задохнулся от потрясения.
— Что?..
— Он заснул. Он всегда спит после секса. Всегда. Глубочайший сон. Мы можем сбежать!
Она уже осторожно отталкивала Мигеля. Дэвид, не веря собственным глазам, понял, что девушка права: Мигель храпел, совершенно ничего не ощущая. Террорист даже не дернулся, когда Эми отпихнула его на песчаный пол пещеры.
Мартинес отвел глаза, когда Эми одевалась; в нем бурлил целый водоворот вопросов: неужели она действительно проделала все это для того, чтобы они могли сбежать? Что это была за черная комедия? Когда он смотрел в сторону, он заметил пистолет, выпавший из пальцев Мигеля.
— Мои руки… Эми…
Эми уже была рядом, развязывала его. Как только с его запястий соскользнула веревка, Дэвид потянулся и схватил пистолет; потом он огляделся, проверяя, нет ли поблизости Эноки.
Он вполне мог бы пристрелить террориста. Уничтожить Волка. Дэвид посмотрел на голову спящего мучителя.
Нет, он не мог этого сделать. Он не мог убить спящего человека, он вообще не мог никого лишить жизни. Он был юристом, а не убийцей, и вообще все это выглядело абсурдом, чудовищным злобным абсурдом; и, кроме того, даже если бы Дэвид и убил Мигеля, это не было бы победой над ним. На стенах домов в деревнях басков все равно бы красовались изображения волчьей головы. Otsoko. Волк. И те сцены, которым он только что стал свидетелем, никогда не сотрутся в его памяти.
Эми умоляюще произнесла:
— Пожалуйста, скорее!
Дэвид сдался перед ее настойчивостью. Они поползли вниз со скального выступа, вон из пещеры, подальше отсюда… Они должны были сделать это. Дэвида охватила лихорадка побега, хотя в его голове продолжали кружиться немыслимые картины, которые он был вынужден наблюдать; Эми бежала впереди, вверх по тропе, между деревьями и кустами.
— Сара. Она будет там с минуты на минуту.
Они добрались до конца тропы, потом тропа перешла в проулок, а потом проулок стал туманной деревенской дорогой. Шпиль церкви Сугаррамурди высился над пустынной площадью.
— Вон там!
Эми стремительно бросилась к машине, остановившейся у церкви. Она рывком открыла дверцу, Дэвид распахнул другую. Сара стремительно задавала подруге какие-то вопросы на испанском, но Эми только коротко бросила:
— Поехали! Скорее!
И машина помчалась прочь с площади, прочь от Сугаррамурди, вниз по еще одной горной дороге.
Дэвид посмотрел вперед.
Эми безмолвно плакала.
12
Сара быстро доставила их к тому месту, где они оставили взятый напрокат автомобиль; на машине им понадобилось для этого всего несколько минут, а по горам они ползли почти час. Эми молчала все это время; она вытерла слезы и так и не произнесла ни слова, хотя Сара постоянно повторяла свои вопросы.
Испанская журналистка недоуменно посмотрела на Дэвида и Эми, когда они вышли из ее машины под дождь. Сару явно раздражали и все эти тайны, и упорное молчание подруги. Надувшись, журналистка подала подруге ее сумку: в ней лежало все то, что она взяла, как ей было велено, из квартиры, воспользовавшись запасным ключом, оставленным у нее Эми.
Потом Сара еще раз окинула подругу испытующим и недоуменным взглядом, прежде чем тронуть с места свою машину и умчаться прочь.
Все так же молча Дэвид и Эми быстро прошли по насквозь пропитанной водой дорожке и сели в грязную арендованную машину Дэвида.
Они действовали как будто автоматически. Словно какие-нибудь роботы. Между деревьями клубился туман. Молодой человек сел на водительское место, завел мотор и вывел машину к дороге. Они находились в темной лесной глуши.
Дэвид достал из кармана пистолет, мгновение-другое задумчиво смотрел на него, а потом с отчаянной решимостью выбросил его в окно машины. Они резко повернули вправо и помчались прочь от этого места, в сторону Франции. Подальше от Испании, подальше от Мигеля, подальше от убийцы. И подальше от пещеры ведьм Сугаррамурди.
Эми продолжала молчать. Дэвид спросил:
— Ты как, ничего?
— Да. — Она смотрела в окно ничего не выражающим взглядом, просто наблюдала за мелькающими деревьями. — Я в порядке.
Впереди послышался гул мотора какой-то машины, и Дэвид похолодел от страха; но это оказался всего лишь голубой фермерский фургон, забрызганный грязью. Они обогнали его, и Дэвид в окно заднего вида наблюдал за тем, как грузовичок тает в тумане.
Протекло много долгих минут. Эми наконец вопросительно посмотрела на Дэвида.
— Мы едем во Францию?
Да.
— Да… это хорошо.
Дорога снова шла вверх. Через десять километров они добрались до серого каменистого перевала, некоей голой точки среди лесов, за которой присматривали парящие орлы, раскинувшие царственные крылья, а через минуту пересекли неощутимую границу и очутились во Франции. Проскочили мимо давно опустевших старых пограничных будок, и стали опять спускаться.
Дэвид наслаждался чувством некоторого облегчения. По крайней мере, они уже не в Испании, где его и Эми чуть не убили. Где Эми была… изнасилована. Но было ли это изнасилованием? Что вообще там только что произошло?
Уже в пятнадцатый раз за последние тридцать минут Мартинес посмотрел в зеркало заднего вида. Просто на всякий случай, просто чтобы проверить, не следует ли за ними какая-нибудь машина. Какая-нибудь красная машина.
Но они были одни на этой дороге. Дэвид осторожно растер задеревеневшие мышцы шеи. И пока они кружили по горной дороге, он вдруг заметил, что думает о том, как сжигали ведьм. В Сугаррамурди.
Он легко мог представить себе все эти чудовищные картины. Вот какую-то молодую женщину тащат за волосы через ту самую мрачную площадь; Дэвид словно воочию видел, как деревенские жители кричат на нее, швыряют в нее камни, как запаршивевшие собаки лают на нее, кусают… В его голове как будто звучал плач перепуганных крестьянских детей, запертых в темнице… зовущих своих родителей. Он видел священника в черном плаще с капюшоном, тот срывал с женщины одежду, ища на ее теле отметки дьявольского когтя…
Дэвид попытался выбросить все это из головы, сосредоточиться на дороге. Они теперь спускались уже к самым подножиям гор, а сквозь редеющие облака начали пробиваться солнечные лучи; скоро облака почти полностью рассеялись. Голубое осеннее небо засияло над зелеными холмами и долинами Южной Гаскони.
— Он рубил деревья, когда я впервые его увидела, — сказала вдруг Эми.
Дэвид повернулся к ней, отвлекшись от своих фантазий.
Она повторила те же слова. Это было начало монолога, который ей необходимо было произнести.
— Когда я впервые увидела Мигеля. Это было на басконской ярмарке. У местных крестьян есть такой вид спорта. Они называют его la force Basque. Herri Korolak. Это испытание силы для деревенских. — Челка Эми взлетела вверх от порыва ветра, ворвавшегося в открытое окно машины. — Он швырял валуны, и рубил бревна, и тянул канат… знаешь, он был чем-то вроде настоящей древней легенды. Вообще-то Волк уже был легендой, все говорили о нем, о гиганте из Этчалара, сыне знаменитого Хосе Гаровильо, о парне, обладавшем нечеловеческой силой. О jentilak из лесов Ирауту. У него была обнажена грудь, когда я его увидела, а мне было двадцать три, и все это было чисто физическим влечением. Мне жаль. Прости. Мне так жаль, черт побери…
Дэвид пытался понять, за что она извиняется; он гадал, перед кем она чувствует себя виноватой. Он слушал, а Эми все говорила и говорила, и ее слова время от времени сливались с гулом мотора, а саму ее заливал солнечный свет…
— Потом я поняла, что он очень умен, но… знаешь, просто настоящий жестокий и расчетливый убийца. Но его сила… то, что он был так известен, этот jentilak, все это… дразнило, как бы заслоняло собой чистую звериную суть. И поначалу секс с ним был хорош. Это правда, и мне очень жаль… Он обычно связывал меня. Я его кусала. Однажды он ранил меня, порезал кожу головы ножом. Это была сексуальная игра, с ножом. И меня это возбуждало…
Эми смотрела прямо перед собой, ее взгляд сосредоточился на холмах у горизонта.
— А потом мне стало это надоедать. И очень быстро. Потому что секс всегда был заражен насилием. И Мигель действительно был не в порядке — и умственно, и эмоционально, и вообще. Патологически не в порядке. И при том, что у нас случался по-настоящему страстный секс, он всегда после этого засыпал, невероятно крепко засыпал, это было похоже на кому. Что все это значит? Я не знаю.
Теперь Эми смотрела на Дэвида.
— Вот такие дела. Так что я видела только один способ… только одну возможность сбежать. Он ведь действительно собирался тебя убить. А может быть, и меня тоже. Поэтому я позволила ему трахнуть себя; я знала, что это может нас спасти. Прости. Ты можешь остановить машину, если хочешь, и оставить меня здесь. Я могу доехать на попутке.
Видно было, что она с трудом сдерживает слезы. Гнев Дэвида угас, его сменило какое-то извращенное сочувствие, он как будто сам ощутил все те ужасы, через которые пришлось пройти Эми. Значит, она это сделала только для того, чтобы спасти их обоих; это действительно было изнасилование. Нечто вроде изнасилования. Может быть, не совсем изнасилование. Но она спасла ему жизнь.
— Нам незачем больше об этом говорить, — сказал он. — И тебе ни к чему как-то еще все это объяснять.
И он действительно так думал. Но Эми покачала головой; ее губы дрожали, когда она из окна машины окидывала взглядом волнистые гасконские долины, зеленые и пышные.
— Мне нужно об этом поговорить. Как только он вошел в ту пещеру, я поняла, что он намерен сделать… нечто в этом роде. У него была та самая голодная улыбка. Ему нравилось заниматься сексом где-нибудь на открытом месте, рискуя тем, что его застанут врасплох, что его увидят. Мы уже занимались этим в пещере ведьм. Потому я и поняла, куда именно мы попали. Он всегда был сексуально ненасытен, как будто умирал от голода.
— Мне очень жаль, Эми.
— Не стоит сожалеть. Это не было изнасилованием. Это было просто отвратительно. Когда-то я была влюблена, и я не могу себя простить за это. Но он собирался тебя убить. Возможно, перед этим ему хотелось тебя помучить… И так далее.
— Так он… — Дэвид не знал, как сформулировать свой вопрос. — Он болен? Я хочу сказать, он, несомненно, настоящий ублюдок, но что-то чувствуется во всем этом… еще что-то.
— Кто знает?.. Возможно, он психопат. У него иногда бывает лицевой тик, так что я уже думала об этом. И этот его сон, и безжалостное половое влечение… Ему обычно хотелось секса по пять-шесть раз за день. Где угодно. И при этом постоянно… — Эми поморщилась и продолжила: — Ну, я уже говорила. Связывать. Кусать. Резать. И еще похуже. Ты понимаешь.
— Ну да…
Дэвид протянул к ней руку; не сводя глаз с извилистой дороги между холмами, он коснулся ее пальцев. И потом несколько километров просто молчал.
А потом у него возник вопрос, который напрашивался сам собой. Тот же самый вопрос, что и прежде.
— А теперь мы можем обратиться в полицию?
— Нет.
— Я так и знал, что ты это скажешь.
Эми вежливо улыбнулась.
— Конечно, знал. Но это действительно так. Никакой полиции. Это главное, чему меня научил Хосе. Когда дело касается басков, полиции нельзя доверять нигде, ни по какую сторону границы. — Она еще раз вежливо, напряженно улыбнулась Дэвиду. — Ты знаешь, что в Стране Басков постоянно находятся пять разных полицейских подразделений? И все они опасны. Среди них есть убийцы из Испании. Кое-кого внедрила в полицейские ряды ЭТА. Так что мы можем просто снова оказаться в большой опасности.
— Да, но мы во Франции.
— Никакой разницы. Давай просто… куда-нибудь сбежим, скроемся. Подумай об этом.
Дэвид на некоторое время умолк. Возможно, Эми была права; вообще-то он подозревал, что она ошибается, но после нескольких последних часов ему уже не хотелось расспрашивать девушку или как-то давить на нее, требуя, чтобы она делала то, что он считал нужным. Они теперь просто ехали, и их согревало теплое солнце, и они ехали, ехали…
Потом Дэвид и Эми поменялись местами. Мартинес был твердо убежден в том, что им следует направиться дальше на север и восток, в глубь Гаскони, подальше от Испании. К следующим городам, помеченным на карте. Савин. Кампань. Лю-Сен-Саво.
Он знал, куда они едут, потому что теперь куда более решительно, чем раньше, был настроен на то, чтобы узнать всю правду о церквях, помеченных на карте его деда. Дикость и ужасы последних дней лишь утвердили его уверенность в этой цели. И к собственному удивлению, Дэвид осознал, что его волнует скорость развития событий, гонка, поиск логического, разумного объяснения всему. Наконец-то в его жизни появилась трудная цель, его существование перестало быть вялым, он обрел направление — после доброго десятилетия медленного распада личности и апатии; это было похоже на то, как если бы он успел запрыгнуть в самый последний поезд после того, как бессмысленно валялся на каком-нибудь пляже.
Знала ли Эми, куда им ехать? Наверное, возможно… кто знает? Она как будто дурачила его и в то же время открывалась перед ним. Она была похожа на глубокое горное озеро, полное обманчиво прозрачной воды. Когда Эми говорила, она была честна и искренна, и он думал, что может видеть все: видеть до самого дна, до последнего камня. Но когда Дэвид нырял в эту воду, он осознавал правду. Он мог утонуть в этой холодной бесконечной воде, ее глубины оказывались бесконечными.
В общем, пока они просто ехали.
Но вокруг была большая пустынная страна, и узенькие французские дороги несли на себе только тракторы и фермерские грузовики. Несколько часов подряд они катили мимо сонных деревушек и заброшенных басконских ферм, мимо домов, украшенных самодельными вывесками, приглашающими остановиться и отдохнуть. В усыпляющем полуденном свете Дэвид вдруг заметил, что снова углубился в воспоминания, на этот раз о своем детстве. О том, как в ясный день играл в регби со своим отцом… он помнил его радостную улыбку; помнил острый запах кожаного мяча, как тот прикасался к его ладоням… Их большая собака вертелась тут же на лужайке. Счастье. А потом — печаль.
Наконец они остановились у большого супермаркета на въезде в Мюлон, где в одиночестве устроились в стерильном кафе, чтобы съесть croquet monsieur и salade verte[23]; потом они купили кое-что из одежды и зубную пасту, молча поглядывая друг на друга через проход между полками супермаркета. Они были беженцами, они скрывались. И неужели они не могли доверять даже полиции?
Потом они въехали в сам маленький городок Мюлон-Лешар, лежавший у симпатичной реки и окруженный зелеными вершинами Пиренеев. Дэвид погнал машину прямиком к средневековому центру городка и припарковал машину. Потянулся, чувствуя, что у него все тело болит после долгой езды, после страха, пережитого в пещере и в лесу. В городке было тихо, по мощеным мостовым бродили парочки. Эми и Дэвид присоединились к гуляющим: они дошли до реки и стали с моста смотреть на воду. Над ними в мягких осенних сумерках проносились ласточки. Дэвид зевнул.
— Я страшно устал.
— Я тоже.
Они оставили машину там, где припарковались, и направились к ближайшему отелю, симпатичному, но скромному, украшенному всего двумя звездами, — он находился рядом с центральной городской площадью, и в нем распоряжалась француженка лет пятидесяти с небольшим. Ногти у женщины были такими длинными и покрыты таким ярким лаком, что выглядели как пурпурные когти.
— Bonsoir! J'ai deux chambers… mais très petites…[24]
— Это замечательно, — сказал Дэвид. Он изо всех сил старался не обращать внимания на руки хозяйки гостиницы.
Лифт здесь был наверняка самым маленьким во всей Гаскони. Очутившись в номере, Дэвид сразу заснул, но его сон был неровным, тревожным. Всю ночь его мучили кошмары.
Ему снился горящий дом. Изнутри, из огня, доносились голоса, просившие Дэвида о помощи, — но он ничего не мог сделать. Он стоял в саду, глядя на яростно пылавшее здание, на то, как языки огня лижут стены, а потом заметил в окне обгоревшее, почерневшее лицо. Это была его мать. Это она была в горящем доме, это она стучала в стекло, пытаясь дотянуться до своего сына, это она повторяла: «Ты не виноват, Дэвид, ты не виноват…», а потом вдруг бешено зазвонили церковные колокола, и Дэвид…
Проснулся.
Весь в поту.
Это не был колокольный звон.
Пот лился потоком.
Это звонил гостиничный телефон. Откашливаясь после дурного сна, Мартинес сонно потянулся к трубке.
— Дэвид? Алло!
Было уже девять утра. Звонила Эми.
Приняв душ и одевшись, Дэвид спустился вниз. Когда Эми присоединилась к нему для завтрака на украшенной фресками террасе отеля, нависшей над рекой, она сразу бросила на него вопросительный взгляд.
Дэвид мгновенно признался:
— Кошмары мучили. Я все продолжаю думать о смерти родителей… Вот и снится всякое.
— Наверное, ничего удивительного…
— Мне все это кажется взаимосвязанным, но я не знаю почему.
— Может, тебе стоит рассказать все мне? Объяснить. Это может помочь.
— Но… что? — Дэвид пожал плечами, чувствуя себя абсолютно беспомощным, жертвой бесконечных разрозненных воспоминаний. — Что я должен тебе сообщить?
— Не знаю. Можешь рассказать, как это произошло? — Эми улыбнулась, и в ее улыбке светилось осторожное сочувствие. Дэвиду захотелось обнять ее, но он отогнал это желание. — Расскажи, как ты узнал о катастрофе?
— Ладно… хорошо…
Тут Дэвид умолк, потому что все это было невероятно трудно. Он на самом деле никогда не говорил об этом прежде. Дэвид не сводил взгляда с недоеденного круассана и вазочки вишневого джема.
Эми чуть помогла ему:
— Сколько тебе было лет в тот момент?
— Пятнадцать.
Эми произнесла медленно, с мягким недоверием:
— Пятнадцать?..
— Да, — кивнул Дэвид. — Просто однажды летом они поехали отдохнуть, мои мама и папа.
— Ты, пожалуй, был слишком юн для того, чтобы твои отец и мать оставили тебя одного?
— Да, — согласился Дэвид. — И это было странно — они были очень хорошими родителями, и мы всегда отлично отдыхали все вместе. А потом вдруг, совершенно неожиданно, мама сообщила, что они с папой уедут на месяц одни. За границу.
— И они оставили тебя в Англии совершенно одного?
Дэвид посмотрел по сторонам. На террасе были лишь еще два постояльца, какой-то немец с женой, которые молча намазывали масло на багет. Сезон отпусков уже закончился. Дэвид постарался не думать о Мигеле. И снова посмотрел на Эми.
— Они оставили меня у своих друзей в Норидже. Друзья моей мамы, Андерсоны. Я был очень дружен с их детьми. И вообще-то именно Андерсоны взяли меня к себе, когда… когда мама и папа… когда они… Ну, когда случилась та катастрофа и они погибли.
— Так…
— Но вот что странно! — сказал Дэвид, и его голос прозвучал неожиданно громко. Он смутился, потом продолжил гораздо тише: — Вот что тут странно: я помню, как просил маму, перед их отъездом, не уезжать без меня, а она сказала: «Мы едем, чтобы узнать правду», а отец при этом вроде как засмеялся, но не как всегда, а смущенно.
Эми наклонилась немного ближе к нему.
— «Чтобы узнать правду». Но почему она так сказала?
— Не знаю. Полагаю, я прежде никогда по-настоящему об этом не думал. Никогда не хотел об этом задумываться.
Дэвид вздохнул, покачал головой и, сделав глоток кофе, уставился на реку, на древний мост. Он гадал, станет ли Мигель их преследовать; ему также хотелось бы понять, как Волк узнал, что они находятся в пещере ведьм. И при этом он ощущал, что террорист может отыскать их везде, где бы они ни спрятались, куда бы ни убежали.
Но гадать было ни к чему. С холодным потрясением Дэвид вдруг осознал, что Мигель смотрит на них прямо сейчас. С моста.
Средневековые парапеты моста были изукрашены граффити ЭТА. Грубо намалеванные слова гласили: Viva Otsoko! А рядом со словом Otsoko была нанесена по трафарету огромная и весьма выразительная черная волчья голова.
Волк.
Так значит, он был здесь, он наблюдал, он всегда наблюдал. Он следил за тем, как они доедали свои круассаны с вишневым джемом и абрикосовым конфитюром.
Дэвид постарался смыть горький привкус воспоминания глотком кофе с молоком. Он решительно отвел взгляд от моста и тревожащих граффити, посмотрел через реку, на серые крыши мансард Мюлона. Там, за стремительно бегущей горной речкой, он видел церковный шпиль, ряд припаркованных «Рено» и «Ситроенов» и хорошенькую женщину лет тридцати, выходившую из булочной; из ее сумки торчало несколько багетов. В витрине булочной были выставлены басконские пироги, большие жирные пирожные со взбитыми сливками и сахаром, сверкающим, как снег, на нежном оранжевом бисквите, с прослойкой из вишневого джема.
Дэвид следил взглядом за светловолосой женщиной, так похожей на его мать.
И тут, наконец, старая глубокая рана открылась, показав, что скрывали годы забвения и бесконечных умалчиваний. Пирожное разломилось надвое, показав красный вишневый джем.
В мозгу у Дэвида вспыхнула сцена: подруга его матери, миссис Андерсон, входит в его спальню, пряча покрасневшие от слез глаза, чтобы сообщить… и то, как она запиналась, потом зарыдала, потом просила прощения. А потом наконец рассказала о том, что случилось с его мамой и папой. Автомобильная авария во Франции.
В то время Дэвид уже устал оттого, что его постоянно поучают. Ему было только пятнадцать лет, он был мальчиком, но страстно желал стать настоящим мужчиной. Он отказался плакать в присутствии миссис Андерсон, но когда она осторожно прикрыла за собой дверь, вот тогда он взвыл. И в это мгновение что-то высвободилось у него внутри, что-то щелкнуло, что-то навеки сломалось в серебряном ожерелье жизни, и он уткнулся в подушки, пытаясь спрятать от мира пылающее мальчишеское лицо, и плакал, плакал в одиночестве, пытаясь справиться с всепоглощающей болью, пытаясь заглушить звуки своих постыдных, слабых рыданий.
И с тех пор он никогда не приезжал сюда, никогда не посещал Францию, никогда не пожелал узнать, что произошло, как именно они разбились, как его мама и папа погибли, погибли вместе. Вместо того Дэвид собрал все свои чувства, воспоминания, мрачные мысли и рассуждения и запер их в черном железном ящике в соляной шахте своей души, как некое сокровище, скрытое ради сохранности в момент вторжения нацистов; а потом ему пришлось работать, и учиться, и держаться на плаву, несмотря ни на что, и защищаться… но теперь он был здесь, в Гаскони. Рядом с Наварреном. Рядом с Наварреном.
— Эй, что с тобой?
Улыбка Эми была полна сочувствия, и тревоги, и почему-то любви. А может, ничего такого в ней и не было. Может, он просто ошибался?
— Все в порядке, — в горле у него слегка пересохло. — Просто… я только что… Я кое-что понял. И это все время было у меня перед глазами.
— Что?
Онемев от изумления, Дэвид сунул руку в карман куртки, достал карту. Эми наблюдала за тем, как он расстелил ее на столе, эту мягкую, потрепанную карту с маленькими синими звездочками.
Мартинес уже всматривался в крошечные пометки, в городки, помеченные синими звездами. Карта внезапно обрела некую ужасающую значимость; молодой человек сглотнул, пытаясь избавиться от комка в горле.
— Смотри. Сюда. Видишь, как нарисованы эти звездочки, как тщательно? Я теперь узнал стиль.
— Прости?..
— Это рука моего отца! Должно быть, карта принадлежала ему. И именно он поставил отметки… Вот это место. — Дэвид показал на города, отмеченные на французской части карты; Эми даже привстала со стула и пристально всмотрелась.
— Навар… рен, — прочитала она. — Недалеко отсюда… и он помечен, значит, там тоже есть церковь. Ладно…
— Но рядом с ним, вот… — палец Дэвида чуть передвинулся и показал на крохотный городок рядом с Наварреном.
Эми посмотрела на него.
— Гюрс? Да, рядом…
Дэвид кивнул. Во рту у него стало сухо, как в пустыне.
— Гюрс.
— И это значит?..
— Я уже слышал это название. Давным-давно. Помню, миссис Андерсон шепотом произносила это слово. Знаешь, так говорят взрослые, когда что-то обсуждают и не хотят, чтобы дети их услышали.
— Значит, Гюрс…
— Думаю, это то место, где разбились мои родители. А эта карта, должно быть, находилась у отца, когда все это случилось. Когда моих родителей убили… Они следовали по этой карте.
13
Сидя в своем кабинете, окно которого выходило на маленькую лужайку перед его скромным домом в северном пригороде Лондона, Куинн пытался работать. Но его четырехлетний сын Коннор то и дело врывался в кабинет — то для того, чтобы показать отцу паука, то чтобы спросить, что любят есть овцы, то вдруг решал, что ему просто необходимо прямо сейчас посмотреть мультфильм «Паровозик Томас и его друзья»…
Отец не находил в себе сил сопротивляться требованиям сына; Саймон понимал, что он слишком снисходительный родитель, но, возможно, дело было в том, что он обзавелся сыном довольно поздно — в тридцать шесть лет. Но скорее он потворствовал всем прихотям Коннора просто потому, что слишком любил мальчика, его пытливые светло-голубые глаза, то, как упорно пацан сражался с непослушным мячом, когда они играли в футбол. Коннор был олицетворением бешеной энергии детства. И он постоянно смешил родителей.
Но Саймон просто обязан был закончить работу. Две его первые статьи в «Телеграф» — о весьма странных и притом явно связанных между собой убийствах — вызвали достаточный интерес, чтобы редактор потребовал продолжения. Еще и еще. В результате журналисту пришлось всю неделю заниматься кое-какими исследованиями.
Наконец, умиротворив Коннора с помощью натурального малинового сока, извлеченного из холодильника, Саймон вернулся в кабинет, решительно захлопнул дверь и предоставил паровозику Томасу самостоятельно развлекать своего сына. Снова усевшись перед компьютером, журналист еще раз бросил взгляд в окно, на бесконечный пригород, на какую-то полную домохозяйку, развешивавшую постиранное белье…
А потом окунулся в Интернет.
Синдактилия.
Проблема оказалась в том, что узнавать-то особо было и нечего. Получасовые поиски сообщили Дэвиду только то, что уже рассказала супруга доктора: эта деформация была в общем обычной. Она связана с некоторыми генетическими синдромами, проявлявшимися в определенном наборе болезней, обусловленных особыми нарушениями на уровне хромосомного набора. Синдромы носили весьма звучные имена: синдром Аарскога, синдром Смита — Лемли — Опица, синдром Корнели де Ланж…
Саймон моргнул, всматриваясь в светлый экран компьютера. Он дважды прочитал все имена. Потом взял авторучку и выписал их в блокнот.
Что-то щелкнуло у него в голове. Многие из имен были французскими: синдром Барде — Бидля, синдром Апе…
Французские имена?
Еще двадцать минут поиска в Интернете объяснили Саймону, почему это так. Многие из перечисленных синдромов были напрямую связаны с близкородственными браками, или, как причудливо обозначил это явление один из сайтов, с «единокровным спариванием». И такие близкородственные браки были обычным делом в изолированных горных поселениях.
Таких, как поселения в долинах Альп и Пиренеев.
Именно потому столь много французских докторов первыми заметили такое нарушение и дали им собственные названия. Все эти синдромы частенько встречались в горных французских деревеньках.
Саймон смотрел и смотрел на пульсирующие на экране слова. Пиренеи. Юг Франции. Пиренеи. Французская Страна Басков. Снова взяв авторучку, журналист бесцельно, не зная причины, записал слово «Пиренеи» в своем блокноте. Потом уставился на страничку блокнота. Он слышал, как где-то в глубине дома радостно смеется его сын, но воспринимал все отстраненно… Куинн был сосредоточен до предела. Мысль работала стремительно.
Снова вернувшись к компьютеру, Саймон быстро набрал «Пиренеи» и «деформации». И просмотрел несколько сайтов. Он нашел упоминания о зобе. О психотических расстройствах. Наследственных недугах, первичными причинами которых были укусы насекомых, или недостаток йода, или недостаток еще чего-либо в питании.
И вплоть до XVIII века по всем Пиренеям разного рода деформации частенько воспринимались людьми как знак проклятия или ведьмовства.
На одном из склонных к цветистости сайтов говорилось: «В период великого ведьмовского безумия XVI и XVII веков сотни невинных жертв были подвергнуты пыткам, изувечены или сожжены у столба просто потому, что им не повезло родиться с лишним пальцем или третьим соском; людей буквально забивали камнями из-за врожденного кретинизма…»
Пытки. Нанесение увечий и сожжение. Мысли Саймона мгновенно вернулись к отвратительным фотографиям жертвы из Примроуз-Хилл. Ее «связали узлом». Была ли это особая пытка для ведьм?
На поиск ответа ушло ровно четыре секунды. Вот оно. Саймону показалось, что его сердце забилось настолько громко, что его можно было услышать в соседней комнате.
«Связывание узлом. Обычная пытка в XVII веке; заключалась в том, что в волосы женщины, обвиняемой в колдовстве, втыкали кол и начинали наматывать на него волосы все туже и туже. Когда у инквизитора уже не хватало сил на то, чтобы вращать кол, он мог схватить голову ведьмы и крепко держать ее или закрепить в особом устройстве, в то время как более сильный человек продолжал действие. Таким образом обычно срывали скальп с головы жертвы».
Саймон не понимал, почему копы сами все это не выяснили. Если верить Сандерсону, Томаски ведь уже искал справки по «связыванию узлом». Видимо, здесь полиция сработала непрофессионально… или они просто скрыли кое-что от журналистов. Придержали кое-что для себя. Такое часто случается.
Саймон повернулся налево и записал кое-что в свой блокнот. Некое напоминание. Потом снова уставился на экран. А что насчет той женщины с острова Фула? Той, лицо которой изрезали на ленты? Саймон просмотрел список пыток, применявшихся к ведьмам; от охватившего его ужаса ему потребовался небольшой перерыв. «Испанский паук», пытка на колесе, «кресло Иуды», «испанский сапог», четвертование лошадьми, «груша боли» — «груша боли»?… а потом он наконец нашел и то, что искал.
Порезы.
Ему не удалось отыскать это сразу просто потому, что эта пытка не называлась порезами. Та пытка, примененная к несчастной с острова Фула, обозначалась как «метки вокруг рта». И описывалась она очень просто: кожу ведьмы методично разрезали вокруг рта, потом переходили к щекам. Все это проделывали простым ножом, пока наконец все лицо не превращалось в «сплошную массу глубоких порезов; кожу и мышцы срезали до самых костей; боль от этой чрезвычайно жестокой экзекуции была настолько ужасной, что жертва теряла сознание».
Саймон потянулся к чашке кофе, стоявшей рядом с ним, но напиток уже безнадежно остыл, и поэтому журналист несколько минут просто сидел в тишине своего кабинета, пытаясь осмыслить то, что узнал за прошедшее утро. Но ничего не получалось.
События на первый взгляд не были связаны между собой. Саймон так и не смог ничего вычислить. Три убийства произошли в разных концах страны, хотя все три жертвы и были одинокими людьми родом из баскских Пиренеев; два убийства были связаны с пытками, применяемыми к ведьмам. Но притом не имелось никаких доказательств того, что несчастные одинокие старики действительно были «ведьмами» — что бы это ни означало.
Более того, две подвергшиеся пыткам жертвы также страдали генетическими дефектами, синдактилией, сращиванием пальцев на руках и ногах, обычным для изолированных горных поселений… таких, как поселения в Пиренеях. На юге Франции.
Саймон чувствовал себя как маленький ребенок, усевшийся слишком близко к экрану телевизора; он видел перед собой мелькание цветных пятен и мелких деталей, но находился слишком близко к светящейся поверхности, чтобы уловить картинку целиком.
Значит, ему нужно отодвинуться подальше. Занять более объективную позицию.
Куинн обратился к другим фактам, имевшимся в его распоряжении.
Манера всех убийств была весьма профессиональной, несмотря на чудовищные предварительные пытки. Убийца или убийцы на Фуле должны были очень хорошо подготовиться, ведь никто не заметил, как они пришли или ушли; возможно, они подобрались к берегу на шлюпке. Скорее всего, именно так — они прибыли морем, в темноте, направились прямиком к дому Джулии Карпентер, пытали ее и убили. А потом покинули остров, исчезнув с места преступления еще до рассвета.
Случай в Примроуз-Хилл демонстрировал сходную опытность, и сноровку, и предусмотрительность, а также и аналогичное профессиональное умерщвление жертвы с помощью гарроты после чрезвычайно жестокой пытки. В Виндзоре пыток не было, но убийца действовал точно так же квалифицированно. Следовательно, все эти убийства не могли быть совершены какими-нибудь обкурившимися подростками-готами, это совершенно точно. Был некто, действовавший в соответствии с точным планом — собственным или предложенным кем-то другим.
Но было еще и третье обстоятельство, приводящее в недоумение. Воистину любопытное обстоятельство. Одной из убитых женщин совсем недавно надоедал некий молодой ученый-генетик по имени Ангус Нэрн, пытавшийся добиться разрешения на исследование крови. И именно этот генетик куда-то пропал.
Это было самым ошеломляющим результатом поисков Саймона чуть раньше на этой же неделе. Только вернувшись домой из Шотландии, он принялся за поиски Ангуса Нэрна в Сети, и оказалось, что этот человек, Нэрн, сам по себе представляет сплошную загадку. Восемь недель назад он как будто растворился в воздухе.
Нэрн работал в некоем частном научно-исследовательском институте в Лондоне, называемом «Карта Генов», — эта организация посвятила себя изучению «разнообразия геномов». Но из-за каких-то юридических проблем лаборатория была закрыта около трех месяцев назад, и вскоре после этого ученый просто исчез. Никто не знал, куда он подевался. Его родители, его бывшие коллеги по лаборатории, его друзья… Никто.
Конечно, вполне возможно и то, что исчезновение Нэрна именно в это время было простым совпадением. Может быть, его интерес к Карпентер тоже был случаен. Однако что-то подсказывало Саймону, что это не так; связь пока что была едва заметной, но она все же просматривалась. Генетика, деформации, Пиренеи, баски, анализ крови… Саймону нужно было только время, чтобы вытянуть все ниточки.
Посмотрев на часы, журналист схватил пиджак. Наступил полдень, а у него была назначена довольно неприятная встреча, он должен был выполнить некий тягостный долг.
Быстро сев в машину, Куинн поехал к одному из дальних лондонских пригородов, где кольцевая дорога уже встречалась с первыми неряшливыми фермами и тщательно выкошенными полями для игры в гольф. И там же раскинулись акры бархатной зелени, окружавшей Институт умственного здоровья Святой Хилари.
Через сорок минут после выезда из дома журналист уже наблюдал за командой шизофреников, играющих в футбол.
Если бы Саймон не знал, что именно он видит — безумцев, пинающих мяч, — он бы никогда не догадался о сути происходящего. Лишь когда Куинн подошел ближе, к самой боковой линии, стало очевидным, что в игре есть нечто странное. Многие игроки двигались с заметной скованностью. Вратарь бродил по штрафной площадке без какой-либо видимой причины. А один из защитников о чем-то спорил с угловым флажком, яростно и упорно.
— Саймон!
Доктор Фэнторп, заместитель главного психиатра больницы, махал рукой, шагая к Саймону прямо через поле для игры.
«Лечение футболом» было любимой идеей Билла Фэнторпа. Суть ее состояла в том, чтобы помочь социализации серьезно ушедших в себя больных; играя в команде, они как бы получали вознаграждение, достигая цели, и это помогало им повысить чувство самоуважения. Более того, движение на воздухе способствовало снижению веса пациентов: слишком многие из психически больных были просто жирными.
— Привет, Билл!
Доктор улыбался; он носил шорты размера на три больше, чем ему было нужно.
— Я видел вашу статью в «Телеграф». Невероятная история. Убийство басков!
— Да… все это довольно странно. Ну, как бы то ни было… Как Тим? Он…
Билл еще тяжело дышал после гонки за мячом.
— Он… в порядке. На прошлой неделе у нас были кое-какие трудности, но сейчас все не так уж плохо. То есть совсем даже неплохо… Эй, держи его!
Психиатр выразился довольно энергично, когда игрок противоположной команды без труда забил гол. Это оказалось легко потому, что вратарь сидел на земле, закрыв глаза.
Саймон с трудом сдержал смех. Но если бы сейчас он не боролся с улыбкой, то мог бы и заплакать. Ведь это его брат был там: пухлый шизофреник слегка за сорок топтался в углу у флажка. Брат, нападавший с ножом на их мать. В дальнем конце поля слонялся охранник. Саймон подумал о том, вооружен ли тот, — это ведь был надежно охраняемый сумасшедший дом.
Судья дунул в свисток.
— Три — два, — возбужденно сообщил Билл. — Это отлично, просто отлично! Ну что, приведу Тима?
Саймону вообще-то хотелось прямо сейчас сбежать. Он выполнил свой долг и повидал Тима — пусть всего лишь издали, — и мог с уверенностью сказать, что его брат жив, и вернуться домой, к сыну и жене, прислуге, сделать вид, что его брата просто не существует, сделать вид, что в его семье отсутствует эта кровавая наследственность, притвориться, что и не думает хотя бы раз в день бросить на сына внимательный взгляд и подумать… «А ты? Ты не… Что ты унаследовал?»
— Саймон?..
Тим, похоже, был очень рад повидать брата; Саймон обнял его. Пухлые белые бедра Тима выглядели странно уязвимыми в синих нейлоновых футбольных шортах.
— Неплохо выглядишь, Тимоти. Как поживаешь?
— О, хорошо, хорошо-хорошо, прекрасная игра, ведь правда? — Он радостно ухмылялся.
Саймон всмотрелся в лицо брата; в волосах Тима прибавилось седины, щеки стали еще толще, и все равно он не выглядел на свои годы. Неужели безумие сохраняет молодость? А может быть, Саймон просто видит тот образ брата, намертво застрявший в его памяти, Тим с ножом в руке, нападает на маму в спальне… И кровь. Пинты крови.
— Ты очень хорошо играл, — сказал журналист, пытаясь не ненавидеть старшего брата. Он ведь не виноват…
— О да! Очень хороший спорт. А ты давно здесь… да. Ах да, без сомнения. Да.
Они оба пытались поддерживать разговор, но Тим сдавался перед каждой фразой, забывая ее начало, и через несколько минут диалог потерял всякий смысл. Внимание Тима уплыло куда-то далеко. Саймон слишком хорошо знал это рассеянное и страдальческое выражение его лица: брат вслушивался в голоса, звучащие в его голове. Его черты исказились легкой тревогой, Тим дергался и подмигивал. Он пытался удержать улыбку, но ему постоянно приказывали что-то делать, и он путался в этих приказах…
Жалость наполнила сердце Саймона, жалость, и ненависть, и любовь… все сразу. Но сильнее всего была печаль. Ему хотелось уйти; Тим все равно останется здесь навсегда.
— Ладно, Тим, мне уже пора идти.
Брат укоризненно глянул на него.
— Но ведь ненадолго? Не задерживайся надолго, мы должны заняться делом. Делом, как всегда. Да, делом, пока…
— Тим?
— Я, конечно, очень занят. Блестяще… внутри системы.
— Тим, послушай… папа шлет тебе привет. Он любит тебя.
Глаза Тима как будто горестно затуманились, он неподвижно замер в неярких лучах осеннего солнца посреди двора сумасшедшего дома. Неужели он собирался заплакать?
— Саймон?..
— Да, Тим?
— Ты, скорее всего, знаешь, без сомнения, мать и отец в Южной Африке. Саймон. Я… я кое-что сделал. Для тебя.
— О чем ты?
Билл Фэнторп отошел от них и наблюдал с расстояния в пару ярдов.
Тим сунул руку в карман своих нейлоновых шортов. И вытащил какой-то маленький предмет, нечто кое-как вырезанное из дерева.
— Гасти. Ужасно смешно. Помнишь Гасти, помнишь, помнишь его? Я сделал собаку, надеюсь, понравится. Тебе понравится.
Младший брат внимательно рассмотрел маленькую деревянную игрушку. Теперь он понял. Когда они были детьми, у них был спрингер-спаниель Августус — Гасти. Саймон и Тим все свободные дни напролет играли с псом, носясь по вересковым пустошам, или бегали вперегонки по солнечным пляжам. Это был некий символ счастливых дней, тех времен, пока Тима не поглотила тьма шизофрении.
— Спасибо, Тим… Большое спасибо!
Саймон с трудом подавил желание швырнуть глупую деревяшку в кусты. Но в то же время ему хотелось и нежно прижать эту ерунду к груди. Было нечто нестерпимо мучительное в жалобной примитивности деревянной собачки.
Билл Фэнторп подошел поближе.
— Тим сам это сделал. Подумал, что тебе понравится…
— Да, — кивнул Саймон. — Это чудесно. Спасибо.
Билл снова отошел; журналист еще раз обнял брата, Тим просиял обычной своей широкой, безумной, тревожной улыбкой, и у младшего брата тут же возникло привычное ужасное ощущение того, что Тимоти уж слишком похож на его собственного сына, Коннора… у него была та же самая улыбка, точно такая же улыбка…
Насмехаясь над собой, Саймон все же с трудом удержался от того, чтобы бегом броситься прочь; он еще пожал руку доктору Фэнторпу, а потом медленно зашагал к своей машине. Но при этом его душа рыдала от горя. Саймон все еще держал в руке маленькую деревянную игрушку. Он достал бумажник и сунул собачку туда, рядом с локоном волос, который тщательно хранил, — это были волосы Коннора, младенца Коннора…
Тоскливая печаль была так велика, что Саймон просто выплеснул ее на машину… и почувствовал облегчение, когда тридцать минут спустя попал в автомобильную пробку; застрял в вечном скоплении машин на северной развязке. Основательность этого ужасающего скопления машин почему-то успокаивала его. Она ведь была такой предсказуемой…
Авто Саймона торчало на месте уже минут десять, окропляемое редкими каплями сентябрьского дождя, когда зазвонил телефон. Это оказалась Эдит Тэйт. Она сообщила ему, что только что получила невероятный сюрприз. Она оказалась упомянутой в завещании Джулии Карпентер.
Но Саймону это не показалось таким уж удивительным. Глядя на стоявшую впереди машину, он попросил старую леди объяснить, в чем суть.
— Суть в сумме, мистер Куинн, в завещанной сумме! Я позвонила в полицию, вашему знакомому, но его не было на месте… ну, я и подумала, что, наверное, лучше вам рассказать. Вот я и попробовала…
Саймон переключил скорость, его автомобиль продвинулся вперед на три дюйма.
— Да, слушаю. И сколько же?
— Ну, в общем… — Эдит растерянно и немножко самодовольно засмеялась. — Это, в общем, как-то даже смущает.
— Эдит?..
Шотландская леди глубоко вздохнула и ответила:
— Джулия оставила мне полмиллиона фунтов стерлингов.
Погода становилась все хуже. И уже настоящие потоки угрюмого дождя заливали разгневанные потоки машин.
14
Эми, отойдя на край террасы, где они завтракали, звонила Хосе. Дэвид наблюдал за ней — за ее оживленной жестикуляцией, за тем, как путал ее светлые волосы свежий ветерок. По тому, как девушка хмурилась, он мог догадаться, что разговор шел то ли странно, то ли трудно. Наконец Эми вернулась к столу и села. Дэвид наклонился к ней.
— И что сказал Хосе? Ты спросила его о моих родителях?
Эми положила мобильный на стол.
— Ну… его довольно трудно было понять. Он что-то бормотал бессвязно, как-то непоследовательно. Хуже, чем тогда, когда ты показал ему карту.
— И?..
— Он сказал, что мы должны скрыться. Что Мигель более чем опасен. И еще сказал, что нельзя доверять полиции. Как я и предполагала. И утверждал, что Мигель, скорее всего, будет нас преследовать.
Дэвид даже зарычал от нетерпения.
— И всё? Но это мы и сами знали!
— Да. Но он говорил как-то… странно. — Эми поставила локти на скатерть, усеянную золотистыми крошками круассана. — Хосе заявил, что он уезжает. Собирается где-то спрятаться.
— Хосе? Почему?
В том, как Эми пожала плечами, отразилась вся ее растерянность.
— Понятия не имею. Но он был напуган.
— Чего он боится? Мигеля?
— Может быть. Или полиции. Хотела бы я знать.
На бумажную скатерть упало несколько капель дождя, рядом с телефоном появились серые пятна.
— Ну а я не собираюсь пускаться в бега, черт побери, — заявил Дэвид. — Мне необходимо узнать, что случилось с мамой и папой. И не связано ли все это… черт знает, как именно. — Он в упор посмотрел в чудесные голубые глаза Эми, немножко похожие на глаза его матери. — Так он вообще ничего не сказал о моих родителях?
Эми пробормотала:
— Нет, ничего. Мне очень жаль.
Дэвид резко, разочарованно вздохнул и откинулся на спинку стула. Они получили от Хосе все, что могли, хотя он наверняка знал куда как больше. Допивая свой кофе, Дэвид поморщился, когда на язык попал осадок, а потом снова скривился, уставившись на сотовый телефон Эми.
Мобильник.
Открытие было подобно легкому электрическому шоку. Дэвид протянул руку, схватил телефон и посмотрел на Эми.
— Вот оно!
— Что?
— Должно быть, он использует это! Я думаю, Мигель использует телефоны! Чтобы находить нас!
— Что?..
— Мобильник ведь можно проследить. Триангуляция. Это просто.
— Но как…
— Ты ведь сама говорила — это французская Страна Басков. У ЭТА здесь множество сочувствующих, даже в полиции. Возможно, и в сотовых компаниях тоже.
Эми пристально смотрела на него.
— Я звонила по телефону около пещеры ведьм.
— Именно так! А он знает твой номер. И ты позвонила Хосе и сказала, что Мигель нашел нас в Мюлоне. Он, возможно, уже идет сюда, прямо сейчас.
Свежий порыв ветра пронесся по террасе. Дэвид встал, открыл телефон и вынул сим-карту. Потом перегнулся через перила террасы и, прицелившись, запустил ее в реку. Девушка смотрела на него во все глаза. Дэвид резко закрыл крышку телефона и вернул его Эми.
— Вот так. Теперь пошли. Твои вещи уложены?
— Они уже в машине, вместе с твоими, но зачем ты…
— Мы можем купить новую сим-карту. Идем!
Молодой человек быстро спустился по ступеням террасы к машине. И они помчались прочь от Мюлона.
Дэвид, не глядя, ткнул в сторону карты, ведя машину; они уже мчались со скоростью девяносто километров в час.
— Ладно. Эми, пожалуйста, разработай маршрут. Какой-нибудь непредсказуемый зигзаг. Давай поедем и глянем на все эти церкви. Прямо сейчас.
Девушка послушно всмотрелась в старую карту, в узор синих звезд. Машина неслась вперед, через лес. Вдали виднелись покрытые снегом горные вершины, как ряд застывших на посту куклуксклановцев.
Отыскать городок Савин было нетрудно. Через час быстрой, нервной езды они добрались до скопления его покатых крыш. Савин премило устроился на холме, глядя на серые фермы и виноградники. Они припарковали машину на какой-то боковой улочке, сначала внимательно посмотрев во все стороны. В поисках Мигеля. В поисках красного автомобиля. Но улица была пуста.
Запах благовоний окутал Дэвида, когда они вошли в городскую церковь. Несколько американцев фотографировали эффектно декорированный орган. Дэвид посмотрел на примитивную древнюю купель, основание которой было украшено каменными фигурами трех крестьян, несущих воду. Лица крестьян были печальными. Бесконечно печальными.
Потом Дэвид обошел неф, заглянул на хоры; он не оставил без внимания и алтарь, где на каменном полу лежали мягкие разноцветные полосы света, проникающего сквозь витражные окна. Зашел в боковой придел, посвященный Папе Пию X. Его строгий портрет доминировал в маленьком приделе. Давно умерший первосвященник вечно смотрел сквозь клубы благовонного дыма и могильный мрак.
Больше в церкви ничего не было. Эми уже сдалась; она сидела на скамье, и вид у нее был очень усталый.
Но Дэвида заинтересовало еще кое-что. Или это ничего не значило? Или все же таило в себе какой-то смысл?
В церкви имелась еще одна дверь, поменьше, сбоку. Зачем в церкви нужны две двери, притом столь откровенно разные по размерам? Дэвид остановился и посмотрел по сторонам. Потом обернулся назад. Маленькая дверь была загнана в самый угол церкви, в юго-западный угол; она была низенькой и скромной. Но могло ли это иметь значение? Сколько церквей имеют по две двери? Да сотни, наверное.
Осторожно приблизившись к маленькой двери, Дэвид пощупал гранит рядом с ней: холодный древний дверной косяк был гладким. Железная ручка двери выглядела заржавевшей, словно ею никто не пользовался. А на перемычке двери была грубо высечена длинная, тонкая, своеобразная стрела, и три ее линии соединялись в одну точку; стрела показывала вниз.
Дэвид отступил назад, едва не налетев на священника, топтавшегося за его спиной.
— О, простите… виноват…
Священник бросил на него острый подозрительный взгляд, потом отошел в придел, шелестя нейлоновой рясой. А Дэвид, не двигаясь с места, все смотрел на стрелу. Он вспомнил купель в Лесаке. В той церкви было две купели, и на одной из них была вырезана такая же примитивная стрела. Примитивная, но узнаваемая: три глубоко врезанные в камень линии, сходящиеся в одну точку. Именно стрела. Та стрела показывала вверх.
Мысли Дэвида теперь неслись стремительно, частицы головоломки начали быстро поворачиваться. Как насчет церкви в Аризкуне, где тоже было две двери, да еще и два кладбища? Как он мог забыть об этом втором кладбище? Статуя какого-то ангела, в глаз которого был воткнут коричневый окурок, всплыла в его памяти.
Как и старуха с зобом, которая шипела и тыкала в них пальцем.
Ну, дерьмо… Дерьмо, дерьмо…
Мартинес подошел ближе к сути. Насколько близко, он не знал. Но он был на пороге разгадки и хотел идти дальше. Молодой человек махнул рукой Эми.
— Идем? — Она утомленно улыбнулась и встала.
Они вернулись к машине, но Дэвид не стал делиться с девушкой своими мыслями. Потому что некоторые из них по-настоящему его тревожили. Имелась ли некая зловещая связь между метками на купелях… и метками на голове Эми? Дэвид поверил ее рассказу о Мигеле: сексуальная игра с ножом… Болезненная откровенность девушки в момент ее рассказа была слишком явной. Но вот шрамы… Сами шрамы были очень странными. Метки, поставленные на лбы ведьм после того, как на шабаше они совокуплялись с Сатаной.
Всего оказалось слишком много, и все навалилось слишком быстро, и чересчур много отвратительных идей перемешалось в голове Мартинеса. Его даже слегка подташнивало, когда он шел по посыпанной гравием парковке к машине. С неба сыпался серый мелкий дождик. Дэвид и Эми не произнесли ни слова, катя к следующему городку, кружа по Гаскони, пытаясь сбить Мигеля со следа.
Шестьдесят километров по пустынной дороге — и они не спеша добрались до Лю-Сен-Саво. Извилистая дорога петляла так, что захватывало дух; она вилась между каменными стенами, и лишь время от времени между гнетущими скалами прорезалась боковая дорога: они снова ехали к Пиренеям. Облака окружали черные, унылые, свинцовые вершины, как белые кружевные воротники вельмож на картинах голландца Ван Дейка.
Миновав последний поворот, они увидели цель своей поездки, устроившуюся в яркой зеленой долине. В старом и торжественном сердце Лю-Сен-Саво скрывались древние здания с низкими покатыми крышами, окружавшие очень старую церковь. Дэвид остановил машину прямо возле церкви и сразу направился внутрь. Он просто ощущал, что находится уже совсем близко от сокровенного сердца головоломки — по крайней мере, от той части, что скрывалась в церквях. Мартинес понятия не имел, какой может быть разгадка, но слышал ее шум, слышал протяжный зов признания: вот что все это означае….
Внутри церкви находились два человека. На задней скамье рядом с женщиной, которая, видимо, была его матерью, сидел молодой, но явно сильно заторможенный мужчина. Глаза у него были выпуклыми, на подбородке виднелась влажная полоска, оставленная каплей стекшей слюны, — она походила на след слизня. Лицо его матери казалось преждевременно состарившимся, женщина явно была измучена необходимостью постоянно заботиться о сыне. Кретин. Дэвид ощутил всплеск искреннего сочувствия; он беспомощно, но искренне улыбнулся женщине.
Эми уже внимательно осматривала алтарную часть церкви. Но когда она вернулась к Дэвиду, на ее лице было написано разочарование.
— Ничего не заметила. Там ничего нет.
— Я не уверен… может, это и неважно…
— В смысле?
Дэвид посмотрел на нее.
— Ищи пары. Два чего-нибудь. Две двери, два кладбища, два…
— Две купели? Я там видела две купели. Вон там…
Они быстро пошли в указанную Эми сторону, и их шаги породили эхо в каменной тишине.
Да, в этой церкви тоже стояли две купели, и одна из них была упрятана в затянутый паутиной угол, почти незаметная, заплесневелая. Она была маленькой и скромной и почему-то казалась одинокой.
Точно так же, как в Лесаке.
— Но… зачем их две? — спросила Эми. — С какой стати вдруг две купели?
— Не знаю, — ответил Дэвид. — Давай просто будем двигаться дальше.
Еще один напряженный и молчаливый час дороги — и они очутились в глубине Пиренеев, в деревушке Кампань, затаившейся в дальнем конце какой-то небольшой долины. Дэвид опустил стекло и с изумлением смотрел по сторонам, пока они медленно катили по главной улице.
С подоконника какого-нибудь из окон каждого дома на них смотрела, ухмыляясь, большая тряпичная кукла; кое-где куклы сидели перед входной дверью. Примитивные тряпичные куклы ростом почти с человека сидели в окнах магазина. Еще одна большая кукла лежала прямо на дороге, упав с одного из высоких подоконников, — она таращилась на сердитые вершины Пиренеев, захватившие в плен Кампань.
Эми тоже во все глаза смотрела на кукол.
— Боже мой…
Они оставили машину на какой-то узкой боковой улочке и направились к пустынному центру деревни. Им пришлось пройти мимо крошечного, захудалого, запущенного бюро путешествий; в его окне висело маленькое, отпечатанное на машинке объявление. Эми прочитала его вслух, а потом перевела для Дэвида: фестиваль самодельных тряпичных кукол оказался местной традицией, и жители маленькой Кампани веками шили этих больших кукол, известных как mounaques[25], а в середине сентября выставляли их перед окнами и дверями, в магазинчиках и в автомобилях.
Это была деревня кукол. Деревня молчаливых, бесстрастных кукольных лиц, бессмысленно улыбающихся пустоте. Эти улыбки ощущались как насмешки или оскорбление.
Вот только здесь некому было почувствовать угрозу или оскорбление: Кампань была пустой, запертой, молчаливой, с закрытыми дверями и ставнями. Какая-то старуха вышла из крошечной мясной лавки; она посмотрела в сторону приезжих, потом нахмурилась и быстро ушла, повернув за угол.
Дэвид и Эми дошли до центральной площади городка. Здесь располагались военный мемориал, автобусная остановка и еще одна лавка, также запертая, но явно отмечавшая собой центр этого захолустья; одна короткая дорога вела от площади к мосту через стремительно бегущую реку Адур. И даже отсюда Дэвиду было видно, что противоположный берег реки представляет собой крайне заброшенное место, там стояло множество домиков без крыш и гниющих амбаров.
Кампань была совершенно пуста и наполовину брошена людьми.
Вторая дорога с площади уходила прямиком к церкви. Металлические ворота открывались в заросший травой церковный двор, окруженный высокой, серой каменной стеной. Дверь самой церкви была распахнута, поэтому Дэвид и Эми сразу вошли внутрь. Главный неф был украшен дешевыми пурпурными пластмассовыми цветами. Четыре куклы восседали на передней скамье, таращась на алтарь: они изображали собой семью.
Дэвид стал искать парные предметы, но ничего не мог найти. В церкви Кампани были одна дверь, одна купель, одна кафедра и четыре тряпичные куклы, ухмылявшиеся, как кретины, как прирожденные идиоты.
И никаких пар.
Эми, видимо, почувствовала его разочарование и, подойдя к нему, положила руку ему на плечо.
— Может быть, все несколько сложнее…
— Нет. Я уверен, что это то самое. Пара. Она должна быть…
Дэвид говорил резко, сердито. Эми отпрянула, и Дэвид тут же извинился. Он сказал, что ему надо глотнуть свежего воздуха, и снова вышел на церковный двор. Пасмурный осенний день был сырым и гнетущим, но все же это было лучше, чем мрачная темнота церковного помещения.
Дэвид глубоко вздохнул, резко выдохнул, стараясь взять себя в руки. Смотри внимательно, сказал он себе. Думай, ищи. Далекие горные вершины выглядывали поверх оштукатуренной церковной стены.
Дэвид уставился на эту стену.
Если здесь имеется вторая дверь, она вполне может быть прорезана в этой странной, высокой, зубчатой стене, окружающей весь двор церкви.
Дэвид отправился на поиски, пробираясь сквозь заросли мокрой ежевики, разросшейся между могилами. Из-под его ног выскакивали огромные пауки.
— Что ты делаешь?
Эми уже шла за ним следом.
Дэвид, не оборачиваясь, взмахнул рукой.
— Ищу… двери. В стене. Просто не знаю, что еще делать.
Он отпихивал ногами пропитанную водой траву, расползшиеся дикие розы, перебирался через разбитые надгробия. Воздух был сырым, перенасыщенным влагой, могильные камни — скользкими на ощупь. Дэвид карабкался через них, спотыкаясь, внимательно осматривал все подряд.
Стена везде была сплошной, древние кирпичи явно никто никогда не трогал.
— Вот! — вдруг вскрикнула Эми.
Она стояла за спиной Дэвида, пытаясь отодрать от стены подушку плюща, полностью затянувшего часть кладки. За плющом виднелась дверь — запертая, давно заброшенная, но тем не менее дверь. Дэвид быстро вернулся к девушке и наклонился, чтобы рассмотреть все получше. Крошечная дверца всем своим видом выдавала свой возраст — камни вокруг нее покосились, коричневая древесина сгнила, — но каким-то чудом продолжала держаться. И она была заперта навсегда. На столетия.
Дэвид присмотрелся к ней. На каменной перемычке виднелась резьба.
Дэвид оборвал последние стебли плюща — и тогда стал виден символ, вырезанный в центре камня.
— Вот оно… — Дэвид разволновался. — Та самая стрела. Я ее постоянно вижу. На купели, на дверях… везде стрелы.
Эми покачала головой.
— Это не стрела.
— Что?..
— Я знаю, что это не стрела.
— Откуда ты знаешь?
— Такой знак есть на одном из домов в Элизондо. Я помню, мы с Хосе как-то проходили там, это было уже давно, несколько лет назад. И я его спросила, что означает этот символ. Он ушел от ответа. Очень странно, однако так ничего и не сказал.
— Я не…
— Я помню только вот что: Хосе назвал этот символ Patte d'oie. Я это очень хорошо запомнила, потому что он воспользовался французским.
— Patt… Что это значит? Patt…
— Patte d'oie. Гусиная лапка. Древний символ. — Эми стерла грязь с линий, глубоко и грубо врезанных в камень. — Это гусиная лапка, а не стрела. Это перепончатая гусиная лапка.
15
Впереди лежал последний отрезок маршрута: Дэвид и Эми направлялись к последнему из мест, обозначенных на карте. Приближались к центру лабиринта.
Наваррен. Неподалеку от Гюрса.
Наваррен лежал дальше к северу, поэтому им пришлось заехать в какую-то придорожную мастерскую с гаражом, дозаправить машину. Дэвид направился к крошечному магазинчику, на ходу все так же пытаясь понять, что могли означать все эти двери. Меньших размеров двери, меньших размеров кладбища, меньших размеров купели… Зачем?
В этом невозможно было найти хоть какой-то смысл. Зачем все дублировалось столь эксцентричным, почти гротескным образом? Может, это было каким-то вариантом апартеида, вроде скамей для черных в церквях Алабамы в пятидесятые годы? Как в Южной Африке?
Или это значило что-то другое? Может быть, маленькие двери прорезали… для маленьких людей?
Но зачем бы это делать? Люди маленького роста вполне могут пройти и в обычную дверь.
У входа в магазинчик при гараже звякнул колокольчик, когда Дэвид переступил порог; молодой человек первым делом купил новую сим-карту для Эми и еще новый телефон — просто на всякий случай. Владелец гаража, сидя за кассой, жевал багет вприкуску с огромной сосиской. Дэвид посмотрел на сумму в окошке кассы и напомнил себе, что ему незачем тревожиться о деньгах.
Возвращаясь к машине, они оба были задумчивы и подавлены. И Дэвид чувствовал, как грусть все сильнее наваливается на него, когда они одолевали последний отрезок пути. Он думал о своих родителях. И эти воспоминания не отпускали его даже тогда, когда горы растаяли за их спинами, исчезнув из зеркала заднего вида.
Дэвид вспоминал…
Вот он сидит на широких плечах деда, его улыбающийся рот перемазан розовой сладкой ватой. Синева Тихого океана ослепительно сверкает, и мама, молодая и красивая, идет рядом, и папа тоже здесь, смеется… Когда это было? Что они там делали? Сколько ему тогда было лет? Пять? Семь? Девять? Все было слишком неотчетливо, слишком расплывчато.
И страшной пыткой было то, что ему не у кого было теперь спросить. Это казалось самым худшим. Он не мог позвонить маме и сказать: «Когда мы туда ездили?», он не мог задать деду вопрос: «Что мы там делали?» Не осталось никого, кому можно задавать вопросы, никто не объяснит события его детства, не посмеется вместе с ним над забавными воспоминаниями, никто не скажет: «А помнишь, как мы тогда поехали на пикник?» Дэвид остался совершенно один, все его бросили, и он с отчаянной грустью хотел понять, почему это так. Дед отправил его сюда по какой-то причине, и это должно все объяснить. Должен найтись ключ к головоломке.
Дэвид крепко сжал руль. Дорога в Наваррен бежала через деревню Гюрс, по сути представлявшую собой пригород Наваррена.
Гюрс выглядел каким-то непонятным. Вдоль дороги здесь выстроились деревья, побеленные у основания, как и положено на французской дороге. Но к югу от города виднелось странное пустое пространство, украшенное чем-то вроде клумб, похожее на автобусную остановку. Дэвид посмотрел туда — и тут же отвел взгляд. Над этой площадкой возвышался огромный черный крест. Дэвиду вдруг отчаянно захотелось прибавить скорость. Крест был уж слишком черным.
Они промчались мимо, насквозь через деревушку Гюрс, приткнувшуюся к дороге, и через несколько минут уже увидели дорожный знак — «Наваррен».
Наконец Эми нарушила молчание.
— Знаешь, нам ведь не обязательно делать это прямо сейчас… — В ее грустной улыбке светилось сочувствие.
— О чем это ты?
— Мы можем и подождать. У нас был длинный день. Может, нам даже следует подождать.
— Я в полном порядке. Прекрасно себя чувствую. А если Мигель продолжает гнаться за нами, то нам лучше покончить с делами как можно скорее.
Дэвид пытался понять, почему сказал именно так. Он ведь точно знал, что Мигель продолжает погоню. Возможно, сейчас он в Мюлоне, расспрашивает хозяйку гостиницы. Наклонился через стойку портье, высокий, покрытый шрамами, внушительный. «В каком направлении уехала та пара, что говорила по-английски?»
Когда они одолевали последние километры, Эми спросила:
— Почему ты никогда даже не пытался узнать больше? О той катастрофе.
Дэвид глубоко вздохнул.
— Я был так молод… Мне хотелось спрятаться. От боли. От знания.
— Тебе потому и не приходило в голову, что эта карта как-то со всем связана.
— Наверное. Да. Отрицание. Желание все стереть из памяти. Вытеснение в подсознание. Я не хотел знать подробности. И Андерсоны оберегали меня от правды. Мне ведь было всего пятнадцать… и я остался совсем один.
— Да, тебя можно понять.
— Да уж. Но теперь я просто обязан подумать обо всем этом.
Дэвид перешел на вторую передачу, видя какого-то мужчину, выехавшего на пригородную дорогу на велосипеде. А в конце дороги показался красный автомобиль. Дэвид подавил отчаянный вскрик.
Они припарковались перед въездом в центральную часть Наваррена; ничего другого им не оставалось, потому что это был исторический город с древними фортификациями и машинам просто запрещалось въезжать в centre du ville[26]. Поэтому они заперли автомобиль и дальше пошли пешком.
На краю пустынной серой площади стоял стенд с огромной схемой города. При взгляде на нее стало ясно, что они находятся неподалеку от церкви. Они прошли еще несколько сотен метров и очутились перед впечатляющим фронтоном наварренской церкви Сен-Жермен. Здание было серым, суровым, с намеком на готические арки, но не более того, — как некое туманное напоминание о готике.
Внутри было относительно пусто, как и в других церквях. Старый священник складывал книги возле алтаря; Дэвид заметил на стене над лысой головой священника какой-то портрет. Ему не нужно было подходить ближе и читать табличку под ним; это был тот же самый портрет, что и в Савине. Тот же самый строгий викторианский образ, нахмуренный, неодобряющий, высокомерный.
Римский Папа Пий X.
Главная дверь церкви со стуком захлопнулась за молодыми людьми. Священник, чье внимание привлек шум, обернулся — и уставился на Дэвида. Он явно был потрясен, настолько, что его старое лицо побледнело.
Дэвид хотел подойти к нему и заговорить. Но священник тут же зашаркал прочь, качая головой, и начал перекладывать книги на другом столе, как будто стараясь скрыться от взглядов вошедших, делая вид, что не замечает их присутствия.
Что все это значило? Дэвида охватило раздражение, нетерпение, он был испуган. Возможно, ему просто почудилось? Может быть, у него уже началась настоящая паранойя? И все равно он знал, что Мигель сейчас движется прямиком к ним. Он это знал, потому что его сердце выстукивало: быст-рее, быст-рее, быст-рее…
Дэвид внимательно осмотрел церковные двери. Опять все повторилось. Здесь было две двери.
Эми подошла к нему.
— Точно. Кампань, Лю, Савин, Наваррен. Две двери. Каждый раз две двери. И два кладбища. Все это взаимосвязано. Но как именно?
Дэвид пожал плечами.
— Две двери еще можно как-то объяснить, я думаю… но две купели, две чаши со святой водой? Бессмыслица какая-то. — Дэвид вздохнул. — И этот символ. Гусиная лапка. Не понимаю.
Чье-то настойчивое шипение прервало их разговор. Это оказался священник.
Старик уже стоял рядом с ними и тянул Дэвида за рукав; он начал что-то быстро говорить по-французски, нервно, убедительно, явно сообщая что-то очень важное. Желтые белки его глаз были налиты кровью, как протухший яичный желток. Дэвид ответил ему растерянным пожатием плеч; он не понимал ни слова.
Эми шагнула вперед; она хмурилась, слушая старого священника. Потом перевела его речь для Дэвида:
— Он говорит, что… узнает тебя. Это очень странно, но он говорит — «они тебя ждали». Однако теперь, когда он присмотрелся к твоему лицу, он замечает разницу. И хочет знать, не звали ли твоего отца Эдуардом…
Дэвид содрогнулся при этих словах. Он сначала посмотрел на Эми, потом на старика.
— Да. Эдвард! Эдуардо Мартинес. Но в чем дело?..
Старый священник несколько раз перекрестился, повторяя:
— Эдуардо Мартинес… Эдуардо Мартинес…
Эми прислушалась и стала переводить следующие слова священника:
— Видимо, ты очень похож на своего отца. Он говорит, что все в Наваррене знают, что здесь случилось, та авария… Ох… ох, Боже мой… — Лицо Эми отразило бурю чувств. — Дэвид… я не знаю, как об этом сказать… это не было несчастным случаем, это было… кое-что другое…
— Просто скажи, и всё.
— Он говорит, что твоих родителей убили.
Ее голубые глаза светились сочувствием. Но Дэвиду нужна была только правда.
— Спроси его, — сказал он, — прошу, спроси его, не хочет ли он где-нибудь посидеть с нами. И рассказать мне как можно подробнее.
Старый священник выглядел обеспокоенным, даже испуганным, но, похоже, готов был продолжить беседу.
— Он говорит, что не очень много знает. Но это опасно. Общество ждет нас. И он… он должен им сообщить. Понятия не имею, что это значит. Он спрашивает… не можем ли мы осторожно уйти куда-нибудь, прямо сейчас?
— Merci! — огрызнулся Дэвид. — Спасибо. Спасибо!
Они все втроем направились к свету — к распахнутой двери. К той большой двери, которая только что захлопнулась за ними, когда они вошли. Но прежде чем они вышли наружу, Эми вскинула руку и сказала:
— Стойте!
— Что такое?
В позе Эми было что-то… она как будто сильно испугалась и готовилась к защите.
Девушка кивнула в сторону площади.
— Машина. Только что подъехала.
Дэвид уже знал, что она скажет дальше.
— Мигель…
16
Ледяной ужас охватил Дэвида с головы до ног. Сражаться или бежать?.. Он ладонью прикрыл глаза от света и всмотрелся через площадь.
Эми была права. Там только что появился красный автомобиль. Дверцы распахнулись, из машины вышли Мигель и еще двое темноволосых мужчин. И зашагали прямиком к церкви.
Дэвид шарахнулся назад, в тень. Он онемел от страха. Эми тоже осторожно отступила назад от порога.
— Он пока нас не видел.
— Но увидит. Он ведь идет прямо сюда… Мы в ловушке.
Из полутьмы церкви они смотрели в зловещий свет.
Их напряженный диалог прервал чей-то голос. Священник подталкивал Эми рукой, что-то очень быстро бормоча.
Девушка перевела:
— Он говорит, мы можем скрыться. Через другую дверь. Дверь… qu'est-ce que с'est?[27]
— La porte des Cagots! — бормотал священник. — La porte des Cagots![28]
Он уже быстро шел через церковь, ведя их к другому выходу, что-то отчаянно бормоча на ходу. Эми и Дэвид поспешили за ним. Эми прошептала:
— Он что-то говорит насчет двери… каготов? Она ведет в средневековый квартал… мы можем уйти той дорогой. Он говорит, мы можем скрыться…
Они уже подошли к боковой двери, скромной и маленькой. Молодые люди переглянулись.
— Дэвид!
Мартинес прищурился, всматриваясь в то, что происходит на улице. Расстояние было большим, а свет снаружи казался просто ослепительным по сравнению с полумраком церкви, но вроде бы три фигуры остановились напротив входа…
А потом быстро направились к двери.
— Он идет!
— La porte![29]
Старый священник пытался открыть дверь, но ручку явно не поворачивали уже много десятилетий. Дэвид тоже предпринял попытку; он потянул ручку, повернул… ничего не произошло.
— Да она совсем заржавела!
У Дэвида от напряжения вспотели ладони… от напряжения и от страха, но он снова схватился за старую железную ручку и опять повернул изо всех сил…
Мигель был уже совсем близко, он подходил к церкви… Еще несколько секунд — и он войдет внутрь, увидит их загнанными в угол… и выхватит пистолет. А дверь не открывалась.
— Попробуй это!
Эми протягивала ему стеклянный флакон.
— Это с алтаря. Масло.
Масло полилось на ручку, которую отчаянно терзал Дэвид. Старик продолжал бормотать: «Votre père, votre père…»[30]
Металл заскрежетал… потом как будто вздохнул… и в этот момент дверные петли громко взвизгнули. В проеме главного входа обрисовались силуэты троих мужчин, но ручка старой двери уже поворачивалась. И, наконец, выбросив облако ржавчины, дверь распахнулась в нечто вроде светового колодца, окруженного нависшими над ним средневековыми зданиями, покосившимися, древними. Несколько переулков уводили с этого внутреннего двора, исчезая в темноте.
Голос ли Мигеля прозвучал за их спинами? Невнятный шум разнесся по церкви. Священник захлопнул дверь; он остался внутри, он преградил дорогу Волку. Он дал им шанс.
Дэвид закричал:
— Туда!
Эми уже была рядом. Мартинес схватил ее за руку, и они рванули с места. Он не осмеливался оглянуться. Священник остался там, в церкви, может быть, он их как-то защитит, как-то остановит Мигеля… Что вообще может там произойти? Мигель может выстрелить. Он может открыть дверь, и тогда… и тогда…
Дэвид бежал не останавливаясь. Переулок оказался чем-то вроде крытого перехода, над которым нависали сильно выступающие верхние этажи средневековых домов. Иногда сквозь узкую щель наверху проскальзывал солнечный луч, как некий хлыст, от которого лучше увернуться. На бегу, задыхаясь, Дэвид продолжал думать о родителях. Убиты. Умерщвлены. Кем-то.
Страх смешивался с гневом; желудок Дэвида буквально переворачивался от всего этого. Наконец они вырвались из узкого перехода — на широкое пространство зеленой травы, рядом со старыми осыпающимися военными укреплениями.
— Теперь туда?
Там была готическая арка, прорезанная в белом известняке стен Наваррена. За ней тянулся ров с водой, а за перекинутым через ров пешеходным мостиком виднелась автомобильная стоянка.
— Туда!
Ключи едва не выскользнули из вспотевшей руки молодого человека, когда он открывал машину. Они упали на сиденья. Дэвид мгновенно запустил мотор — и они вынеслись на дорогу.
На юг. Несколько минут они просто ехали — быстро, молча. Дэвид то и дело посматривал в зеркало заднего вида. Ничего. Смотрел снова. Ничего. Эми напряженно вздохнула.
— Это уж слишком. Мы так близко подобрались…
Дэвид снова посмотрел в зеркало. Но дорога позади них была пуста. Никто за ними не гнался. Чудовищное напряжение слегка ослабело, но лишь слегка. Они уже вырвались в сельскую местность, и границу между ней и городской территорией обозначила большая сельскохозяйственная постройка из алюминия.
Дэвид сунул руку в карман. Достав новый телефон, купленный в гараже, он протянул его Эми.
— Проверь кое-что, пожалуйста.
— Что именно?
— Те люди, для которых двери… как он их назвал… каготы?
Эми покачала головой:
— Прямо сейчас? А не лучше нам просто убраться отсюда к чертям собачьим?
Дэвид язвительно выругался:
— Да пошло оно все! Куда мы побежим? И если я буду просто метаться туда-сюда… я же никогда не найду ответа! Мои родители умерли здесь; их, черт побери, убили здесь! Это должно быть как-то связано с церквями, с каготами, иначе зачем бы дед отдал мне карту, карту моего отца, где отмечены эти самые церкви каготов?
Эми кивнула. И горестно улыбнулась. Затем, глубоко вздохнув, взяла телефон, включила его и вышла в Интернет.
— Ищи каготов. И тот символ, гусиную лапку.
Эми затихла, копаясь в Сети. Дэвид отвернулся и опустил стекло; автомобиль наполнил влажный запах коровьего навоза. И еще запах гниющей травы. Вдали парил канюк, высматривая добычу, и его силуэт вырисовывался на голубом фоне далеких гор.
— Есть, — сказала Эми. — Кое-что нашла, немного, но выглядит странно. Каготы, похоже, были чем-то вроде племени париев, так на них смотрели; похожи на индийских неприкасаемых. В Пиренеях. — Она немного помолчала. — Да, для них были отдельные двери. Отмеченные особым символом. Конечно, pattes d'oie.
— Племя? Парии?!
— Так здесь говорится. Да. Для них в церквях были специальные маленькие двери. Тут особо ничего и нет. Я думаю… если мы хотим узнать побольше…
— Да?
— Тут упомянут один хороший сайт, и адрес есть. Это сайт человека, который сам — кагот, и он живет в Гюрсе. Мы могли бы…
Дэвид уже поворачивал.
— Дэвид, но это же очень близко от Наваррена! — запротестовала Эмми. — А Мигель?
Мартинес ответил очень выразительным тоном:
— Эми… Я могу довезти тебя до ближайшего вокзала и дать тебе десять тысяч, и тебе незачем будет когда-либо еще видеться со мной, и я полностью тебя пойму, и…
Она порывисто схватила его за руку.
— Нет уж, мы вместе в это влипли. Нет. И все-таки… я ведь знаю Мигеля. — Эми покачала головой, в ее глазах вспыхнуло что-то, то ли страх, то ли печаль. — Я знаю его. Он теперь будет гоняться за мной, куда бы я ни направилась, что бы ни делала. И он убьет и меня, и тебя. Порознь или вместе. Так что…
— Так что останемся вместе.
Дэвид гнал машину по направлению к Гюрсу; Эми подсказывала дорогу, используя спутниковый навигатор в телефоне.
— Теперь туда, налево, а на следующей развилке…
Гюрс оказался весьма банальным местечком: здесь имелось несколько унылых старых вилл и заброшенная железная дорога. Несколько беспорядочно построенных особнячков окружали потрепанного вида ратушу, а маленький ресторан оказался решительно закрытым. Это было одно из тех мест, где жизнь высасывали расположенные по соседству более крупные города. Или просто такое место, где никому особо и не хотелось жить.
За крутым поворотом открылся еще один ряд домов, с садами, ярко зеленеющими после недавно прошедшего дождя.
— Вот здесь, вон нужный номер, — сказала Эми, показывая на завершающий улицу особнячок.
Этот домик стоял как бы в сторонке от других, напротив современной и довольно уродливой церкви, к ней примыкали офисные здания. А дальше виднелась неряшливая пустошь.
Они пошли по дорожке к парадной двери. Та была выкрашена в слишком бодрый желтый цвет. Дэвиду показалось, что где-то на молчаливой пригородной улочке зашевелились занавески, из окон выглядывали старые лица… Он обернулся. Никто на них не смотрел.
Дэвид нажал на кнопку дверного звонка. Где-то далеко послышалось слабое дребезжание. Но ничего не произошло. Эми всмотрелась в окна.
— Может, никого нет…
Дэвид нажал на кнопку еще раз. При этом он гадал, где сейчас может быть Мигель. А потом услышал шум. Пронзительный крик. За дверью кто-то кричал:
— Что такое?..
Крик повторился. Яростный и испуганный.
Дэвид приподнял крышку почтового ящика и заглянул внутрь.
В холле пригнулась к полу молодая женщина. В руках она держала дробовик. Женщина дрожала, ружье тряслось в ее руках, но она решительно направляла его на дверь. На Дэвида и Эми.
17
Старший инспектор Сандерсон весьма скептически отнесся к идее Саймона взять интервью у профессора Эмеритуса Франциска Сен-Джона Фазакерли, однажды получившего Уиллардовскую премию за исследование человеческого генома, а ныне являвшегося бывшим руководителем проекта «Карта генов».
— Ну-ну, удачи тебе. А она тебе понадобится, приятель, — сказал Сандерсон, и его бодрый голос отчетливо звучал в трубке мобильного телефона, прижатой к уху журналиста. Детектив добавил: — Он весьма скользкий старый хрен, мы с ним говорили на прошлой неделе.
— И что?
Саймон перешел Истор-роуд и уставился на сияющие строения института «Уэлкам»: вся территория здесь была занята лабораториями медицинских исследований и современных технологий разных факультетов университета, и молодые гении громко переговаривались и хохотали тут и там, заставляя Саймона ощутить тяжкий груз его сорока лет. Он сказал в телефон:
— Но разве он ничего не знает о Нэрне?
Сандерсон фыркнул.
— Если и знает, все равно ничего не скажет. Томаски чуть ли не наизнанку вывернулся… Ты ведь встречаешься с этим профессором в той лаборатории, «Карта генов»?
— Да.
— Он и нас тоже туда приглашал. Полагаю, он предпочитает для встреч нейтральные территории.
Саймон зашагал по Гордон-стрит.
— Детектив…
— Приятель, зови меня Бобом, черт побери!
— Боб… детектив… Боб…
Боб Сандерсон засмеялся.
— Если разузнаешь что-нибудь насчет этих анализов крови, уж будь добр, расскажи… может, твое искусство ищейки окажется немножко лучше нашего.
— Боб, ты так говоришь, как будто… ты не слишком ему доверяешь, да?
В трубке некоторое время было тихо. Саймон повторил вопрос. Старший инспектор наконец ответил, медленно произнося слова:
— Толком не уверен. Что-то там… ну, неуловимое, так скажем. Постарайся разобраться.
Закончив разговор, Куинн вошел в старую, с облупившейся краской дверь. Он поднялся на лифте на верхний этаж, где его ждал старый, очень старый человек в твидовом пиджаке, с обвисшей шеей и желтыми глазами. Выглядел он не намного лучше какого-нибудь бродяги. Однако, как уже знал Саймон, это и был сам профессор Фазакерли, некогда стоявший в ряду лучших генетиков своего поколения.
Фазакерли внимательно посмотрел на визитера. Желтозубая улыбка ученого была барственной, но отвратительной, как оскал ящерицы, ухмыляющейся после того, как она с удовольствием сожрала свою добычу.
— Мистер Куинн из «Дейли телеграф»? Прошу, проходите, и извините за беспорядок. Я тут разбираю разные документы. Давно пора было это сделать.
Фазакерли открыл стеклянную дверь и провел своего гостя через главную лабораторию проекта «Карта генов», ныне закрытого. Свидетельства того, что проект более не существует, наблюдались на каждом шагу. Большинство аппаратов было демонтировано, наполовину заполненные упаковочные ящики стояли по всем комнатам в пыльной тишине, в некоторых Саймон увидел какие-то штуковины размером с холодильник — и все это ждало отправки.
Старый профессор показал на пару самых больших, еще не запакованных приборов и сообщил журналисту их названия и назначение: термоциклические аппараты для быстрого деления клеток, огромная лабораторная микроволновая печь для стерилизации и гистологических анализов, программируемые контроллеры для анализа флюорохром. Саймон записал в блокнот все непонятные слова; он чувствовал себя так, словно пишет диктант на совершенно непонятном ему языке.
Потом Фазакерли пригласил журналиста в задний кабинет, закрыл дверь и уселся за письменный стол. Куинн сел напротив него на металлический стул. На столе, покрытая пылью, лежала черно-белая фотография мужчины в одежде Викторианской эпохи.
Фазакерли кивком указал на нее.
— Вот, только что снял со стены. Это Гальтон.
— Простите?..
— Фрэнсис Гальтон, что-то вроде героя науки. Основатель евгеники. Провел кое-какие блестящие исследования в Намибии.
Ученый взял фотографию и положил ее в картонную коробку, стоявшую рядом со столом; там уже лежали три пустые бутылки из-под виски.
— Что ж, мистер Куинн, я догадываюсь, что у вас есть кое-какие вопросы, как и у ваших друзей-полицейских?
— Да.
— Чтобы ускорить дело, я предпочел бы сначала сделать некоторое, так сказать, вступление. Вы не против?
— Хорошо.
Фазакерли принялся болтать: о человеческой наследственности, о проекте исследования генома человека, о финансировании чистых научных исследований. Саймон послушно записывал.
Но журналист уже начал улавливать то, о чем говорил старший инспектор Скотланд-Ярда: ученый старался уклониться от разговора, он просто наполнял воздух сладко-звучным многословием, как будто стараясь заманить журналиста в какую-то ловушку.
Надо было направить разговор в другое русло.
— Профессор Фазакерли… но почему именно закрыли проект «Карта генов»?
Профессор потянул носом.
— Боюсь, потому, что он требовал очень больших денег. Генетика — дорогое удовольствие.
— Значит, в этом не было… какой-то политической подоплеки?
Профессор сверкнул желтыми зубами.
— Ну…
Молчание.
— Профессор Фазакерли… я знаю, вы очень занятой человек. Так что буду говорить прямо. — Саймон в упор уставился на ученого генетика. — Я уже пошарил в Сети. Проект «Карта генов» в основном финансировался частным образом ради продолжения той работы, что была начата в Стэнфордском университете, там исследовали различия в человеческих геномах. Ведь так?
— Ну, да…
— Вас закрыли по той же причине, что и исследования в Стэнфорде?
В первый раз за все время разговора ученый как будто почувствовал себя неловко.
— Мистер Куинн… прошу вас, помните вот о чем. Я — всего лишь отставной биолог.
— А что вынудило вас уйти в отставку?
— Мне кажется, «Карта генов» — прекрасная идея: мы должны… должны были составить карту различий между разными человеческими расами… и если бы мы сумели это сделать, работа принесла бы немалую пользу.
— В каком смысле?
— В медицинском. Есть, например, некоторые новые препараты, которые помогают при повышенном артериальном давлении американцам, но ухудшают состояние африканцев. И так далее. Работая в рамках нашего проекта, мы в особенности надеялись понять суть болезни Тея — Сакса[31]. Это заболевание, судя по всему, прежде всего поражает евреев-ашкенази из Центральной и Восточной Европы…
— Но тут возникли политические возражения, так?
Последовал выразительный вздох.
— Да.
— Но почему?
— Подозреваю, что вам это известно так же хорошо, как и мне, мистер Куинн. Потому что некоторым людям сама мысль о том, что могут существовать заметные этнические различия на уровне генетики, кажется чистой ересью. Многие «мыслители» и политики предпочитают утверждать, что расовые различия — всего лишь иллюзия, что это некая чисто социальная выдумка. Басня. Химера. А уж никак не научный взгляд.
— Но вы с этим не согласны?
— Нет. Всем известно, что в среднем молодые чернокожие могут бегать намного быстрее, чем молодые белые. И это и есть некое фундаментальное расовое и генетическое различие. Конечно, от вас ждут, что вы не станете говорить вслух о подобных вещах… — Профессор невесело усмехнулся. — Но меня это уже не слишком волнует в любом случае. Я слишком стар.
— Более чем откровенно. А молодые ученые?
Лицо профессора стало сварливым.
— Для молодых ученых тут, конечно, разница есть, да; если сунуться в такие вещи, это будет равносильно научному самоубийству. Все это весьма спорно. Корейцы лучше играют в шахматы, чем австралийские аборигены, и так далее. Евгеника умерла как наука после Второй мировой войны, по вполне очевидным причинам. И оказалось очень трудным возобновить исследования расовых различий. Проект в университете Стэнфорда был началом, но политики добились его закрытия. После этого многие решили вообще не соваться в область генетических различий между людьми. И, конечно, есть еще и юридические проблемы…
— Биологическое пиратство?
— Вы хорошо выполнили домашнее задание, — в глазах профессора светилось нечто вроде тоски. — Да. Видите ли, в процессе исследований мы предполагали изучить ДНК представителей изолированных племен и рас, вроде меланезийцев, жителей Андаманских островов и так далее.
— Но зачем?
— Потому что редкие народы, подобно редким растениям Амазонки, могут обладать уникальными полезными генами. Если бы мы нашли, например, некое изолированное племя в Конго, которое обладает генетической невосприимчивостью к малярии, мы могли бы отыскать кратчайший путь к вакцине против этой болезни, основанной на генетическом материале.
Саймон записал все это в свой блокнот.
— Но представители племен воспротивились этому? И обратились в суд, да? Потому что это их ДНК?
— Именно так. — Фазакерли нетерпеливо пожал плечами. — Да, некоторые из племен австралийских аборигенов обвинили нас в биологическом пиратстве, и это добавило еще одну ложку дегтя в и без того уже подпорченный мед наших отношений со спонсорами. С Фондом Гриллера, «Келлерман Намкорп» и другими. И они дали отмашку. С проектом «Карта генов» было покончено. — Фазакерли смотрел в окно. — Просто стыд, и так жаль сотрудников… тут у нас были просто по-настоящему замечательные ученые. Невероятно умная девушка из университета Киото. И выдающийся китаец из Канады. И, конечно…
Они посмотрели друг на друга. И журналист сказал:
— Ангус Нэрн.
— Да, молодой Ангус Нэрн. Пожалуй, лучший из молодых генетиков Европы. Он уже опубликовал несколько совершенно потрясающих статей.
— Но… потом он исчез?
— Да, после того, как нас прикрыли. Да.
— Почему?
— Понятия не имею.
— И вы не знаете, куда он мог отправиться?
— Нет. — Фазакерли пожал плечами. — Я даже думал, не покончил ли он с собой, как хороший сократик. У молодых людей бывают весьма странные причины для самоубийств. Я лично подозреваю, что он был достаточно… амбициозен для того, чтобы прыгнуть с Тауэрского моста. — Желтозубая улыбка была невероятно грустной. — В общем, это действительно загадка. И я ничем не могу вам помочь.
— А что насчет связи с теми… убийствами? Вы сказали по телефону, что прочли мои статьи. Значит, вам все это известно. Ангус Нэрн исследовал басков как раз перед тем, как исчезнуть.
— Баски представляют собой огромный интерес для генетиков.
— Но, как ни странно, как раз недавно случилось убийство женщины-баска. Некая леди по фамилии Карпентер…
В лаборатории было тихо. Фазакерли вдруг встал и сказал:
— Послушайте, у меня есть некая теория. Насчет Нэрна. Но у меня уже нет времени на разговор с вами. Так что… может, прогуляетесь по площади вместе со мной?
— Как пожелаете.
— Вот и хорошо. Может быть, я смогу вам показать там кое-что — кое-что такое, что объяснит то, что я хочу вам сообщить.
Они вдвоем вышли из опустевших лабораторий; мягкие лучи осеннего солнца как будто увеличивали пространство.
Фазакерли шагал слишком живо для старика. Он повел своего гостя вниз по лестнице и вон из здания, через пустую дорогу, за железные ворота, в зелено-золотой по-сентябрьски парк на Гордон-сквер. Студенты, туристы и служащие обедали на лужайках, доставая сэндвичи из прозрачных пакетов и подхватывая палочками суши с маленьких пластиковых подносов. Лица обедающих были и белыми, и черными, и вообще всевозможных оттенков.
И это, подумал Саймон, и есть самое замечательное в Лондоне: он дает надежду всему миру. Все расы съезжаются сюда. Но постоянно люди вроде этого смахивающего на ящерицу Фазакерли пытаются разделить человечество, снова и снова: разложить всех по отдельным коробочкам, заставить всех потерять доверие друг к другу…
Саймон без труда мог понять, почему людям не нравился проект «Карта генов». В нем ощущалось что-то неправильное, подавляющее расовое разделение человечества. И в то же время это ведь была просто наука, но, несмотря на все это, подобные исследования в состоянии спасать жизни. Парадокс смущал. И таил в себе вызов.
— Вот, — пробормотал Фазакерли.
Он наклонился к самой земле. Протянув руку, покрытую коричневыми «печеночными» пятнами, профессор что-то поднял. На его морщинистой старой ладони очутился красный муравей, желающий вырваться на свободу.
— Взгляните, мистер Куинн. — Он снова нагнулся к земле.
На плоских плитах известняка кружил настоящий водоворот. Бесчисленное множество черных муравьев толпились здесь, пытаясь окружить кем-то брошенный огрызок яблока.
Фазакерли осторожно опустил красного муравья в густую толпу его черных собратьев. Саймон наклонился пониже, хотя и чувствовал себя чуть ли не нелепо. Он гадал, не смеются ли над ними студенты, видя, как они вдвоем уставились на муравьев.
Фазакерли начал объяснять:
— Я уверен, вы должны счесть это достойным школьника с перепачканными чернилами пальцами. Однако это просто захватывающий процесс. Наблюдение.
Красный муравей, явно смущенный внезапным перемещением, поворачивал то туда, то сюда, потом выбрал направление к цветочной клумбе. Но дорогу ему преградили черные муравьи.
Саймон наблюдал.
Красный муравей натолкнулся на черного.
— А теперь… — пробормотал Фазакерли.
И в то же мгновение муравьи сцепились друг с другом. Черный ухватил более крупного красного за мандибулы. Красный ответил на атаку, перевернув черного на спину, — но на помощь уже спешил другой черный; и вот уже целая толпа собралась вокруг одинокого и напуганного красного муравья, и черные оторвали ему все лапы по одной, а потом отвернули и голову. Издыхающий красный муравей несколько раз дернулся и затих.
— Вот так, — сказал Фазакерли, выпрямляясь.
— И что? — спросил Саймон, тоже вставая во весь рост. — Что вот так?
— То, чему вы только что были свидетелем, представляет собой межвидовое соревнование.
— А поточнее?
— Жесточайшая конкуренция между близкородственными видами, которые занимают одну и ту же эволюционную нишу. Это просто разновидность дарвиновской межвидовой борьбы. Но очень деструктивная. Очень яростная.
Фазакерли направился к ближайшей скамье. Он сел на согретое солнцем дерево; журналист последовал его примеру. Старый профессор опустил морщинистые веки и подставил лицо солнечным лучам. А потом продолжил:
— Внутривидовая борьба может быть почти такой же жестокой. Конкуренция родственников. Комплекс Каина. Убийственная ненависть одного брата к другому.
— Хорошо… — Саймон несколько раз глубоко вздохнул, стараясь не думать о Тиме. Изо всех сил стараясь. — Хорошо, это я понял, и все это очень интересно. Спасибо вам. Но какое это имеет отношение к Ангусу Нэрну?
Профессор открыл глаза.
— Ангус был ученым. Он жадно искал истину, готов был принять самую горькую правду, такую, которую вы… обычные люди не примут или не смогут принять.
— И в чем состоит эта истина?
— В том, что вселенная не такова, как нам того хочется. Она совсем не похожа на увеличенный вариант Швеции, управляемой социальными работниками… и даже не какое-нибудь королевство, где властвует капризный монарх. Мир вокруг нас — это жестокая и бессмысленная анархия, полная безжалостной борьбы, — старый ученый радостно улыбнулся. — Естественный отбор может ощущаться как нечто вроде прогресса, но это не так! Эволюция в смысле улучшения, движения вперед — редкое явление, она… она не везде случается. Это всего лишь закон выживания, убийства, драки. Война всех против всех. И мы не исключение. Человечество подчиняется тем же самым законам бессмысленного состязания, как и животные, как муравьи и жабы, и благородные тараканы.
Ветер шелестел листвой дуба над их головами.
— А Ангус Нэрн?..
— Человечеству совсем не хочется знать эту истину. Теории Дарвина знакомы нам уже полтораста лет, но люди до сих пор отвергают открытую им жестокую правду. Даже те, кто признает теорию естественного отбора, предпочитают напускать на нее теологического тумана, заявляют, что все это имеет цель, направление, что это движение к неким высшим формам… — Профессор неодобрительно хмыкнул. — Но все это, конечно же, отъявленная чушь. Просто никто не хочет знать. И я гадаю, не могло ли это расхолодить Ангуса. Может быть, он просто сдался и отправился куда-нибудь загорать. В таком случае я бы не стал его винить, — последовал грустный вздох. — Он был блестящим генетиком, и это в мире, который просто не желает слышать об истинах, так щедро находимых этой наукой… — Старик снова глубоко вздохнул. — Хотя тут, конечно, кроется и немалая ирония.
— В каком смысле?
— Нэрн был религиозен.
— Простите, не понял?
— Да, вот такая причуда. Несмотря на свой блестящий научный ум, он… он был вроде как глубоко верующим. — Фазакерли пожал плечами. — Я уверен, его воспитывали в вере, какой-нибудь папочка-проповедник… вот он и получил чересчур много разных мистических знаний. Ангус Нэрн не видел противоречия между безжалостной эволюцией и довольно злобным божеством.
Саймон тут же подумал о своем брате. Проклят неким жестоким богом? Мысль была мимолетной, и тревожащей, и болезненно неуместной. Он сосредоточился на интервью.
Старый профессор извлек из кармана алый шелковый носовой платок, осторожно промокнул выступивший на лбу пот и продолжил:
— Ангус мог без конца говорить на эту тему. До самого конца. Когда к нам заглядывали… гости… кто-нибудь из наших спонсоров, они тут же начинали спорить. Библия и… как ее… Тора. Так это называется? Я как-то забыл. Священная книга иудеев.
— Талмуд.
— Да! И если хотите знать, по-моему, все это вроде астрологии. Руны и гороскопы! Утешение для дураков, вроде лотерейных билетов для бедняка. Но Ангус очень пылко рассуждал обо всяких сложностях своей веры. Какая-то странная доктрина, которую он называл «Семя Змея», «Проклятие Каина» и так далее.
— И что?
— Я не понимал всех этих невразумительных подробностей. Если хотите узнать — поговорите с Эммой Вайнард. Ее порасспрашивайте. Она была очень значимой фигурой для Ангуса. В последние несколько недель он был просто без ума от нее, постоянно ее цитировал. Вот это и запишите.
— Я не понимаю…
— Ее имя! Она, возможно, расскажет вам больше.
Саймон извинился и приготовил авторучку. Фазакерли заговорил медленно, и его старое лицо казалось серым в солнечных лучах.
— Эмма Вайнард. Королевский колледж. Факультет теологии.
— Королевский колледж в Лондоне?
— Да. Я знаю, что он часто с ней беседовал, вплоть до самого исчезновения. Может быть, это важно. А может быть, вполне может быть, это ничего не значит.
Журналист сделал соответствующую заметку в блокноте. После этого они несколько минут молчали. И вдруг старик сказал с откровенной грустью:
— По правде говоря… я очень по нему скучаю, мистер Куинн. Мне не хватает Ангуса. Он заставлял меня смеяться! Так что, если вы его найдете, уж дайте мне знать. А теперь мне пора вернуться и закончить укладывать вещи… У вас по брюкам муравьи ползают.
И в самом деле, парочка муравьев забралась на джинсы Саймона. Он стряхнул их. Фазакерли уже быстро шел прочь.
Некоторое время Саймон еще сидел на скамье. Потом встал и направился к станции, где сел на поезд и поехал домой, — и в его голове продолжали вертеться муравьи. Борьба. Убийство. Война между видами, война всех против всех…
Когда он выходил на своей станции, зазвонил телефон у него в кармане. Это оказался старший инспектор Боб Сандерсон, весьма взволнованный.
— Деньги!
— Что-что?
— Денежки! У нас есть направление!
Сандерсон был явно весьма оживлен; он говорил о странном наследстве Эдит Тэйт. Журналист только рад был отвлечься; он стал прислушиваться внимательнее. Сандерсон продолжал:
— Когда ты мне об этом сказал, у меня сразу возникла догадка. Насчет Карпентер. Поэтому я организовал такую, знаешь, старомодную проверочку. У них у всех были деньги. Убитый в Виндзоре оставил восемьсот тысяч фунтов. А у жертвы из Примроуз-Хилл было больше миллиона!
Саймон почувствовал потребность поиграть в адвоката дьявола.
— Но у многих старых людей есть деньги, Боб! Да и просто чудесный дом в самой лучшей части страны стоит не меньше полумиллиона.
— Конечно, конечно, однако… — весело протянул Сандерсон. — Но давай присмотримся ко всему повнимательнее. А? Почему все эти люди не тратили свои деньги? Особенно Карпентер. Она жила в вонючей хибаре на Фуле с тех самых пор, как приехала в Соединенное Королевство, насколько нам известно. И притом у нее имелось с тонну налички.
— Это странно.
— И эти деньги уже были у нее, когда она эмигрировала.
— В сорок шестом году?
— Именно так, мой старый лопух. Именно. В сорок шестом! Тогда из Франции прибыла целая компания, и все они принадлежали к баскам. Они явились в Британию сразу после войны, а до этого жили в оккупированной Франции, и у всех у них имелись денежки, а семь десятилетий спустя их всех поубивали!
— И это значит?..
— Это значит, Саймон… — Сандерсон уже чуть ли не смеялся. — Значит, что со всеми этими людьми что-то случилось.
Легкий холодок пробежал по спине Саймона, несмотря на теплое осеннее солнце. Он вздохнул, быстро и глубоко.
— А…
— Уловил, да? Кто-то дал им целое состояние — или они его как-то нашли — там, в оккупированной Франции!
— Так ты думаешь, это имеет какое-то отношение к войне, да?
— Ага, — кивнул Сандерсон. — Думаю, это грязные деньги. Или… — Старший инспектор сделал паузу ради вящего эффекта. — Или золото нацистов.
18
Девушка пронзительно кричала:
— Qui est-ce? Qui est-ce?[32]
Дэвид обернулся к Эми.
— Не шевелись. У нее дробовик.
Та побледнела и застыла, но заговорила за них обоих по-французски. Дэвид напряженно вслушивался, пытаясь понять. Эми обращалась к девушке, называя их с Дэвидом имена.
Стало тихо. Молодой человек ощущал, как за его спиной из окон подглядывают соседи. Он чересчур остро чувствовал за дверью заряженное охотничье ружье; один выстрел мог разнести в щепки дверь и, возможно, убить их обоих.
Надо было как-то кончать с этим спектаклем.
— Извините, — заговорил он, глядя на дверь и чувствуя и страх, и полную абсурдность ситуации, — прошу вас… Мы хотели просто поговорить. Не знаю, понимаете ли вы по-английски, но… я просто хотел что-нибудь разузнать о своих родителях. Они погибли здесь. Их здесь убили. Если вы не хотите с нами разговаривать, мы можем уйти. Мы можем уйти?
Тишина.
Дэвид посмотрел на Эми. На ее лбу выступили капельки пота; прядь светлых волос прилипла к коже. Дэвид подавил желание бегом броситься к машине. Дверь внезапно распахнулась. На пороге стояла девушка. Дробовик лежал на ее руке.
— Я Элоиза Бентайо, — сказала она. — Что вам нужно?
Дэвид посмотрел на девушку-кагота. Ей было лет семнадцать или восемнадцать. На ее шее висел маленький серебряный крестик, ярко выделявшийся на загорелой коже; ногти были покрыты очень ярким лаком. Девушка была смуглой, почти как арабы. Но ее черные волосы, как у всех басков, были совершенно прямыми и плотно прилегали к голове.
— Мы… — Дэвид искал слова для объяснения. — Мы хотели узнать что-нибудь о каготах.
Элоиза окинула их взглядом хмурым и подозрительным.
— Значит, вы сюда явились, чтобы посмотреть на неприкасаемых, — она с безнадежным видом пожала плечами. — А… Ладно, что тут поделаешь… Входите. Сюда.
Дэвид и Эми перешагнули порог. На стене одиноко висели деревянные часы с изображением Девы Марии. Элоиза провела их в гостиную, где в углу стоял большой, немножко старомодный телевизор. На его экран смотрела пожилая женщина, сидевшая на диване.
— Grandmère? — Элоиза заговорила с бабушкой по-французски, быстро, но заботливым тоном, однако женщина даже не шевельнулась, продолжая смотреть на экран.
Звук был выключен, но старая леди продолжала смотреть какое-то французское шоу. Наконец она подняла голову, глянула на Эми, потом на Дэвида, потом снова отвернулась к телевизору. На ее ногах были клетчатые шотландские шлепанцы.
Элоиза вздохнула.
— После… после тех убийств… она как неживая. Не существует. Et… Grandmère? Une tasse de thé?[33]
Женщина продолжала смотреть на экран; Элоиза покачала головой.
— Идемте лучше в кухню, — предложила она. — Вы хотите поговорить о каготах? Последних каготах в мире… Пока они не убили всех, кто еще остался… — Она направилась к двери. — Я могу приготовить чай. Английский чай.
Кухня выглядела так же невзрачно, как и гостиная. Она не была грязной, просто выглядела запущенной. Молоко в блюдце, поставленном в углу для какого-то домашнего существа, уже начало сворачиваться.
Они уселись за голый деревянный стол и ждали, пока Элоиза заварит чай. Дэвид посмотрел на Эми, не зная, что сказать. И попытался сделать девушке комплимент:
— Вы очень хорошо говорите по-английски.
Но тут же почувствовал фальшь собственных слов.
— Меня научила бабушка. Она отлично говорит на английском. Она училась в колледже… была экскурсоводом. Много лет назад. До того, как все это случилось. А теперь просто сидит там. — Элоиза смотрела на чашки, уже наполненные чаем. Она подвинула их через стол. — Вот. «Эрл Грэй». Есть и лимон, если хотите.
Они взяли чашки. Элоиза снова заговорила:
— Извините за ружье. Оно принадлежало отцу, пока… пока он не умер.
Эми спросила:
— Элоиза, а можно… можно узнать, что именно случилось?
Девушка едва заметно вздрогнула.
— Месяц назад моих родителей убили.
— Боже… — выдохнула Эми.
— Мне очень жаль, — пробормотал Дэвид.
Темные глаза девушки в упор уставились на Мартинеса.
— Потому-то я вас и впустила. Из-за вашей истории. Это очень печально. Я знаю, каково пережить такое. Я вам сочувствую.
— А как их убили?
— Застрелили.
— Но кто?
— Полиция никого не нашла. Полиция вообще ничего не делает.
— Ничего?
— Совершенно. Они… просто этим не интересуются. Chomage![34] Два человека убиты, а они никого не находят! Это incroyable[35]. — Элоиза жадно глотнула из чашки. Чай Дэвида был еще слишком горячим, чтобы можно было его пить; но Элоиза, похоже, и не заметила температуры. — Их застрелили в машине. Взяли и застрелили! Может, это потому, что мы каготы? Мы не знаем почему. Вы сами видите, как я напугана. Я всех боюсь, даже полицейских. Каготов убивают.
Итак, тема была открыта: каготы. Дэвид напомнил о сайте в Интернете, и девушка нахмурилась.
— Это была идея отца. Дурацкий сайт! Последние каготы и так далее. Я ему говорила, что это опасно — открывать такой сайт! Я ему говорила, что он привлечет к нам внимание. Но они с мамой считали, что нам, каготам, хватит уже стыдиться, что это просто глупо — постоянно скрываться. И поскольку мы, возможно, остались последними, он хотел, чтобы мир о нас узнал. — Элоиза пожала плечами. — Он говорил, что кто-нибудь должен записать историю нашего народа. Каготы! Может, потому мои родители и погибли. N'est ce pas?[36] С тех пор я постоянно держу наготове ружье. Отец охотился на голубей… теперь оно всегда заряжено. Они могут прийти и за нами. Мы последние из оставшихся в живых, я и моя бабушка. Только не думаю, что бабушку беспокоит, убьют ее или нет; она уже как будто умерла.
Дэвид, слушая девушку, чувствовал себя совершенно беспомощно. Что могло помочь ее горю? Дэвид хорошо знал, что значит быть сиротой, будучи единственным ребенком; он понимал это несправедливое одиночество, он знал эту внутреннюю тоску, это отчаяние. Ему хотелось помочь Элоизе; и он понимал, что помочь этой девушке невозможно…
Элоиза со сдержанной печалью кивнула в ответ на вопросы Эми. Она была такой хорошенькой и такой мрачной, что ее горе выглядело еще более острым.
— Да, я могу вам рассказать… Я знакома с историей. Отец учил меня с самого детства, он хотел, чтобы мы гордились своим прошлым. А не стыдились его. — Она склонила голову набок, к чему-то прислушиваясь; возможно, к движениям бабушки. Потом снова посмотрела на Дэвида. — Вот что я знаю. Вот что рассказывал мне отец. Мы, каготы, были… мы — народность. Уникальная раса. Впервые мы появились… это правильное слово? — нет, впервые мы упомянуты в документах примерно в XIII веке. В этих самых краях. Наварра и Гасконь.
Дэвид сделал глоток чая. Пристально вслушиваясь в каждое слово.
— А уже потом к нам, каготам, стали относиться как к низшей расе. Как к париям…
Эми перебила ее:
— Как к неприкасаемым?
— Да. В Средние века каготов отделяли разными способами… от обычных крестьян. Мы жили в особых районах городов — обычно на плохой стороне реки, на низкой, малярийной. — Элоиза снова сделала глоток чая и продолжила: — Следы таких гетто и сейчас можно найти в разных поселениях в Пиренеях, если захочется… вроде Кампани.
Дэвид энергично кивнул.
— Мы видели. Старые дома и развалины в Кампани.
— Да. Такие гетто называли каготериями. В Кампани — один из самых больших каготериев.
— А что еще? — спросила Эми. — Двери, да?
Элоиза возразила:
— Сначала вы должны ознакомиться с историей, это важно. Жизнь каготов всегда была отмечена обособленностью: нас отделяли от всех, как будто прятали, словно некий постыдный секрет. Каготам запрещалось заниматься большинством ремесел. Нам предоставлялось возить воду и рубить деревья. Мы делали бочки для вина и гробы для умерших. И еще мы стали очень хорошими плотниками, — по лицу Элоизы скользнула слабая улыбка. — И именно мы построили многие церкви в Пиренеях — те самые церкви, из которых нас время от времени изгоняли.
— И снова — как в Кампани?
— Кампань… да. И многие другие поселения, — теперь Элоиза говорила немного быстрее. — Некоторые из запретов, касавшихся каготов, были странными, уж такими странными… Нам нельзя было ходить босиком, как ходили обычные крестьяне, и из-за этого родилась легенда, будто у всех нас перепончатые пальцы. Каготы не могли пользоваться теми же банями, что прочие люди. Нам не разрешалось прикасаться к стенам или мостам. Безумие, правда? А когда мы выходили из дома, мы должны были прикреплять к одежде гусиную лапку, la patte d'oie. Эдакий символ перепончатых ног. Мифическое уродство.
— Это похоже на то, как евреям приказывали пришивать к одежде желтую звезду. Во время войны, — сказала Эми.
— D'accord.[37] И одним из многих способов показать каготам, что они не такие, как все, было обращение с ними в церквях. Для нас существовали особые двери, слева от главного входа. Маленькие двери, очень низкие, вы видели? И еще для нас ставили отдельные купели — benitiers. Помеченные гусиной лапкой! А причастие нам подавали на очень длинных деревянных ложках, чтобы священник не мог даже прикоснуться к нам. Не прикоснуться к грязным людям.
— Но почему? — спросил Дэвид.
Чай в его чашке кончился. Ему хотелось еще, он проголодался; чтобы отвлечься, ему хотелось хоть что-нибудь съесть. Переживания этой девушки пробудили и вытащили на поверхность его собственную скрытую боль.
— Элоиза, но почему с каготами обращались подобным образом? Почему твой народ так унижали?
Девушка вскинула голову, на ее лице была совершенно детская презрительная гримаса.
— Да никто этого не знает! Никто понятия не имеет, почему с каготами обращались именно так! Крестьяне всегда говорили, что каготы — сумасшедшие. К нам относились, как вы знаете, как к низшим, как к грязным, оскверненным. Как к заразным.
— А каготов… убивали?
— Oui, oui.[38] Иногда фанатизм проявлялся очень жестоко. Очень жестоко. В начале восемнадцатого века одного богатого кагота в Ле Ланде поймали на том, что он взял святую воду из общей чаши… для некаготов… и ему отрубили руку и приколотили ее к церковным дверям.
Эми поморщилась; Элоиза продолжила рассказ:
— Ужасает, да? А другому каготу, который осмелился обрабатывать свою землю, что было строжайше запрещено, проткнули ноги раскаленным железным прутом. Если в деревне случалось какое-то преступление, в нем обвиняли кагота. Некоторых даже сожгли у столбов. Но даже после смерти преследование продолжалось — каготов всегда хоронили на отдельных кладбищах.
Дэвид посмотрел на Эми, та кивнула: Аризкун.
Эми спросила:
— Но откуда вообще взялся ваш народ? Как он произошел, кто вы такие?
— Происхождение неизвестно, поскольку сами каготы в основном просто исчезли… из разных документов. Говорят, во время Французской революции все законы против каготов были отменены… но вообще-то я думаю, что многие каготы сами постарались уничтожить архивы, украли и сожгли все документы, которые доказывали их происхождение. Просто чтобы избавиться, наконец, от этого позора! После 1789 года мы, каготы, постепенно… ассимилировались. Многие из нас сменили фамилии. Большинство просто вымерли. У каготов… у каготов не все ладно с деторождением.
Дэвид пристально смотрел на девушку. Он думал о своем деде: тот ведь сменил фамилию с басконской на испанскую…
Эми продолжала задавать вопросы:
— Но есть хоть какие-нибудь теории? О происхождении каготов?
— Naturellement.[39] Но разные современные исследования только все запутывают. Они даже не могут прийти к общему мнению о том, как мы, предположительно, выглядели и выглядим! Кто-то описывает каготов как малорослых, смуглых и даже толстых людей. К тому же страдающих базедовой болезнью и кретинизмом. Другие утверждают, что мы светловолосы и, знаете ли, с ярко-голубыми глазами. Один человек, ученый по имени Мишель, написал об этом целую книгу — «L'Histoire des Races Maudites».
Эми перевела для Дэвида:
— «История… проклятых рас»?
— Да-да. В 1847 году. Это одно из самых первых исследований. Мишель отыскал по меньшей мере десять тысяч каготов, до сих пор рассеянных по Гаскони и Наварре, до сих пор страдающих, до сих пор отверженных… — Элоиза встала и отнесла свою чашку к кухонной раковине. И очень небрежно вымыв ее, продолжила говорить: — После Мишеля еще кое-кто из историков пытался разрешить великую тайну каготов, несмотря на то что французы вообще не желали о нас вспоминать. Одна из теорий утверждает, что мы были прокаженными… это могло бы объяснить правила запретов, применяемых к каготам, то, что они не должны были прикасаться к некаготам и так далее; другая теория заявляла, что мы страдаем некоей заразной психической болезнью. Однако и это никуда не годится, потому что в других книгах мы описаны как здоровые и сильные люди. И умные. Как, я надеюсь, вы и сами уже видите. У нас нет проказы! Мы смуглые. Но у нас нет проказы и мы не сумасшедшие.
Дэвид кивнул:
— Это точно.
Элоиза опять заговорила:
— Я думаю, что мы можем быть потомками солдат-мавров, оставшихся в Испании и Франции после вторжения мусульман в восьмом веке. Может быть, именно поэтому кое-кто называет нас сарацинами. Я знаю, что все мои предки очень смуглые. — Девушка немного помолчала. — То есть были очень смуглыми. Но теперь ничего нельзя знать наверняка. Уже слишком поздно, разве не так? Никто здесь не хочет о нас говорить. Нас и осталось-то, может быть, всего несколько человек. Может быть, моя семья вообще была единственной чистокровной семьей каготов… которая могла проследить всю линию предков. Во всем мире.
— А само название? Каготы.
— Готские псы? Думаю, и название возникло не просто так. Мне кажется, что оно само по себе представляет оскорбление. Грязные люди. Отбросы. Теперь понимаете? Понимаете, почему мы, каготы, всегда старались скрыться, ассимилироваться…
Эми судорожно вздохнула.
— Последние из каготов. Просто потрясает…
— Да. — Элоиза на мгновение прикрыла глаза. — Но наплевать бы на историю, если бы из-за нее… если бы из-за нее не убили моих отца и мать.
Дэвиду хотелось задать вполне очевидный вопрос: зачем кому-то убивать каготов именно теперь? Но и вопрос, и скрытая за ним логика были слишком жестокими, чтобы озвучивать все это сейчас.
Терзания Дэвида нарушил какой-то шум. В дверях кухни стояла бабушка Элоизы, в вязаном жакете и клетчатых шлепанцах.
— Бабушка? — Элоиза явно обеспокоилась.
Старая женщина подняла хрупкую руку. Она пристально посмотрела на Дэвида и сказала:
— Я знаю, зачем вы здесь, месье Мартинес. Я знала вашего отца.
19
Дэвид вдруг понял, что ему трудно смотреть на мадам Бентайо. Но все-таки он спросил:
— Откуда вы могли его знать?
Старая женщина села к кухонному столу, обхватила ладонями пустую чашку.
— Я познакомилась с ним здесь, в Гюрсе. Пятнадцать лет назад.
— Вы хотите сказать, именно тогда, когда его убили… вместе с моей матерью? — Кровь Дэвида загудела в венах.
— Я могу вам сказать, где именно они оба погибли, если вам хочется это знать. Это в нескольких минутах ходьбы отсюда. Около лагеря.
В кухню вошла кошка; она осторожно подкралась к блюдцу и стала лакать скисшее молоко.
— Около лагеря?..
В ответе старой женщины прозвучала странная нежность:
— Я могу показать…
Они шли всего около десяти минут — через заросший травой заброшенный пригород, мимо уродливой церкви, мимо полупустого пивного бара, вдоль длинной прямой дороги. Наконец они добрались до старого, поросшего крапивой, ржавого железнодорожного полотна и осторожно перешли через него, как будто боялись появления поезда, — хотя этими рельсами явно не пользовались уже многие десятилетия. Все вокруг выглядело неестественно ровным. Дэвид не понимал, почему вся эта местность ощущается как мертвая. Как будто сюда никогда не приходили люди. В сумерках кружили какие-то черные насекомые.
Следом за мадам Бентайо они пересекли открытую площадку из цемента и гравия, над которой возвышалось распятие. Мадам Бентайо, все в тех же шотландских шлепанцах, села на деревянную скамью рядом с внучкой. Дэвид остался стоять и спросил старую каготку:
— Значит… это и есть лагерь? Вот этот крест? Но что здесь произошло?
Мадам Бентайо устало взмахнула рукой, показывая на пустые акры земли, заросшие сорняками, на серые бетонные основания зданий.
— Здесь был нацистский лагерь. Концентрационный лагерь.
Воцарилось молчание.
Дэвид смотрел вокруг. Так вот в чем дело; вот почему так опустел маленький городок — никто больше не хотел здесь жить. Это место было отравлено горестной историей, как некий район в городе, известный как место убийств, где полиция то и дело находит трупы. Кому захочется здесь жить…
Старая женщина снова заговорила:
— Нацисты оккупировали всю юго-западную часть Франции, вплоть до испанской границы. Границы с Виши, где сидела эта марионетка, Петен, — в ста милях к востоку отсюда. А здесь был главный концлагерь нацистов во всей юго-западной Франции.
— И кого сюда привозили?
— Обычных людей. Это — мемориал, крест, и еще стеклянные стены. — Мадам показала налево. — Вон те два здания — это бараки. Их сохранили.
Эми нахмурилась:
— Здесь держали евреев?
— Да. Но еще и… — Мадам Бентайо помолчала. — Еще и многих других. Когда нацисты сюда явились, здесь уже была тюрьма для тех, кто сбежал от испанской войны. Так что тут было полным-полно коммунистов и, знаете ли, басков. Гестапо добавило к ним евреев и цыган. И прочие меньшинства.
Почва здесь местами выглядела настоящим болотом, протухшие лужи отражали темнеющие облака. Дэвид посмотрел на заднюю часть лагеря: самая отдаленная его часть была отделена низкой стеной. И над ней возвышался второй крест, еще один мемориал.
Женщина заметила его взгляд и пояснила:
— Там тоже все сохранено. Потому что там была самая страшная часть лагеря.
— Почему?
Мадам Бентайо опять надолго замолчала, как бы собираясь с силами.
— Там был медицинский сектор. Это очень, очень ужасно. Немцы отделили ту часть лагеря… они ставили там эксперименты… проводили научные исследования… Медицинские эксперименты.
Старая дама стиснула в кулаке носовой платок, готовая мгновенно уничтожить выступившую слезу. И продолжила:
— Исследования крови. Различных тканей организма. И прочие пытки. Людей убивали или пытали. Очень многих.
Она недоговаривала слова, давясь слезами. Дэвид вдруг понял все то чудовищное, что скрывалось за ее словами.
— Мадам Бентайо, — запинаясь, выговорил он. — Вы там были?
Голос старой женщины прозвучал едва слышно:
— Да. Я там была. Я тогда была очень молодой. И моя мать тоже, она тоже была в лагере. Как и многие другие каготы. — Она покачала головой. — Я знаю, что вы спросите теперь. Вы хотите знать, почему мы так и не уехали отсюда после войны? — Старуха посмотрела на Дэвида, и ее глаза страстно, вызывающе сверкнули. — Каготы жили здесь тысячу лет, так с какой стати позволять им выгнать нас?! Мы остались. Мы всегда остаемся, пока они нас не убьют. — Она опять промокнула глаза скомканным платком и, похоже, взяла себя в руки. — Мсье Мартинес…
— Дэвид. Пожалуйста.
— Мсье Дэвид, я хочу вернуться домой. Мне очень жаль. Как вы должны и сами видеть, все это очень расстраивает. Я никогда не могла говорить об этом спокойно.
Она встала. Мартинес ощутил незаданные вопросы как острую боль.
— Но, прошу вас… мне действительно нужно узнать… о моих родителях. — Он и сам слышал что-то жалкое в собственном голосе, но ему было наплевать на это. — Что они здесь делали? Где их убили? Как вы с ними познакомились?
Лицо женщины затуманилось печалью.
— Ваш отец… он приехал в Гюрс. И я его узнала.
— Как это?
— Ваш отец был очень похож на вашего деда. Разве не так? Разве это неправда?
— Да, — согласился Дэвид. — Да, это правда. Темные волосы, широкие плечи. Высокий рост…
— В вашем отце я увидела вашего деда, и точно так же я узнала вас самого. Вы все трое очень, очень похожи… И я тогда сказала вашему отцу вот что: «Мсье Эдуардо, я была в этом лагере вместе с вашим отцом, Серхио Мартинесом…»
— Это мой дед.
— Да.
Холодный порыв ветра пронесся над тополями, что охраняли лагерь, выстроившись по его периметру; их ветви тревожно изогнулись, как будто растревоженные внезапным порывом.
Старая женщина снова заговорила:
— Это очень удивило вашего отца. Он не знал истории своей семьи, и именно поэтому он сюда и приехал, чтобы выяснить хоть что-то. — Глаза мадам Бентайо были полузакрыты. — Он не знал, что ваш дед был баском и во время войны сидел в этом лагере. Я рассказала ему об этом. И, Дэвид, когда ваши отец и мать узнали все это, они остались здесь. На две недели. Они задавали все новые вопросы… ваш отец, Эдуардо, много раз ходил в пивной бар в Гюрсе, вместе с вашей матушкой. Думаю, мой муж многое ему рассказал, многое о лагере, и другие люди тоже, — она тихо вздохнула. — Я овдовела десять лет назад.
— А потом? Мои родители пробыли во Франции месяц.
— Да… Ваш отец поехал в Прованс, а может быть, и еще куда-то, на неделю или чуть больше. Я не знаю, зачем он туда отправился. Но… но когда они оба вернулись, у него появились новые вопросы. Трудные вопросы. О лагере, и о басках, и о каготах. О Евгении Фишере. О многом. Об одном местном жителе, предателе.
— И кто это?
— Я не помню его имени. Но я постараюсь припомнить. Позже. Все это для меня ужасные воспоминания, да и для любого кагота, да и для кого угодно…
Но Дэвид просто должен был задать еще один вопрос, совершенно необходимый. Он чувствовал себя так, словно стоял на заброшенных рельсах, а эти рельсы вдруг ожили, и прямо на него несся поезд. Поезд, который вез в своих заржавевших вагонах чудовищную правду.
— Так где же их убили? Маму и папу?
Мадам Бентайо показала на широкую дорогу на краю лагеря. За ней раскинулось поле подсолнухов; отцветшие растения осенью выглядели как крошечные мертвые деревья, сделанные из обгоревшей, помятой бумаги.
— Прямо здесь. В машине. Взрыв. Кто-то взорвал их машину… или, по крайней мере, так думают все в Гюрсе и Наваррене. Полиция даже не провела настоящего расследования. Точно так же, как они не стали расследовать убийство моего сына, убийство его жены, совсем недавно. — Голос мадам Бентайо дрожал. — Я все думаю: может, это сделали те же самые люди? Я думаю: может, я видела одного из них в городе, того самого человека? Оба раза… высокого… Но извините, я слишком много болтаю, я чокнутая, так ведь говорят? Моя внучка думает, что я теряю рассудок. Я пойду. Мне нужно немножко побыть одной. Мы можем поговорить позже.
Мадам Бентайо с трудом поднялась со скамьи. Она подошла к Дэвиду и, сжав его руку маленькими холодными ладонями, посмотрела ему прямо в глаза. А потом повернулась и медленно пошла к своему дому.
Дэвид смотрел ей вслед. Он также ощущал потребность побыть одному, отчаянную потребность. И направился к дороге.
Мартинес смотрел на гудронированное шоссе, что, конечно, было глупостью… разве здесь могли остаться какие-то следы? Свидетельства взрыва? Пятнадцать лет прошло. А тогда мелкие осколки ветрового стекла поблескивали в придорожной канаве. Запятнанные кровью его матери. И стебли травы покраснели…
И автомобиль, черный, вывернутый наизнанку, с двумя телами внутри…
Теперь же здесь не было ничего. Дэвид около десяти минут стоял на пронизывающем ветру, думая, вспоминая. Голубое платье матери. Ее улыбка, ее энергия… Он чувствовал себя так, словно пытался дотянуться до нее… надеялся увидеть ее призрак, именно здесь, где она умерла. Он был маленьким мальчиком, бегущим по дорожке к распахнутым навстречу ему рукам улыбающейся матери. Тяжесть воспоминаний была такой же ощутимой, как ветер, несущийся с гор.
Солнце зашло, и на улице заметно похолодало.
Дэвид пошел назад, к девушкам. Элоиза говорила по телефону. Выражение ее лица сразу привлекло внимание молодого человека. Девушка повернулась к нему.
— Это опять моя бабушка. Она вспомнила имя, мсье Дэвид. Имя предателя. Его звали Хосе. Хосе…
— Гаровильо?
— Да.
Дэвид бросил быстрый взгляд на Эми: «Неужели?..»
Но Элоиза уже кричала в трубку:
— Grandmère? Grandmère!
Эми вскрикнула:
— Что такое? Элоиза, что?..
Молодая каготка сунула телефон в карман.
— Она говорит, к дому подходят какие-то мужчины. Она говорит, что узнала его — что это тот самый человек, которого она уже видела…
Элоиза уже бежала через лагерь.
Неслась к своей бабушке.
Пока Мигель не добрался до нее.
Они все бежали. Пот заливал глаза Дэвида, старавшегося не отстать от Элоизы — она ведь была молодой, сильной… Скоро они уже пересекли старую железнодорожную ветку, промчались мимо облупившейся деревянной двери пивного бара. Элоиза хотела спасти бабушку; Дэвид хотел спасти Элоизу, а возможно, и всех их. И на бегу логика всех событий вдруг разом, как взрыв, оформилась в его голове. Так в некоторых научно-популярных фильмах мгновенно расцветает на экране темно-красная роза, снятая замедленным кадром…
Конечно же, это был Мигель; Мигель совершил все эти убийства. Это каждый раз был Мигель, Волк, уничтожающий каготов, уничтожающий всех. Лис, который режет всех кур в курятнике без разбора, — просто так.
Они подобрались к дому со стороны лесных зарослей, и Дэвид замер, всматриваясь.
Неужели они опоздали? Залитая сумерками дорога выглядела тихой и безлюдной. Нигде не было видно красного автомобиля. И домик казался пустым и непотревоженным. Но потом в окне на какое-то мгновение возникло и тут же исчезло темное лицо. Высокий человек. Однако голова тут же скрылась. Элоиза вскрикнула — и Дэвид тут же схватил ее и увлек назад, под деревья. Зажав ей рот ладонью, он прошипел:
— Элоиза, тот человек, в доме, — психопат. Безумно жестокий. Он пытался убить нас. Он всех убивает. И твоих маму и папу. И тебя тоже убьет…
Элоиза пыталась вырваться, всхлипывая, не желая оставаться на месте. Но что делать? Что делать? Дэвид вдруг понял, что не может удерживать здесь девушку — в этом было что-то неправильное. Если она хочет спасти свою бабушку, если она хочет при этом умереть, то он должен ее отпустить. С обреченным вздохом Мартинес разжал руки — и упал в мокрую траву.
Эми что-то отчаянно шептала, но Элоиза ее не слушала, она двинулась вперед, осторожно, присматриваясь — в окнах горел свет… а потом стремительно рванулась через дорогу, в тень около дома, спеша к своей бабушке. Дэвид стоял на месте, его подташнивало от стыда, он был как парализованный… Прошло около полминуты, а потом он хрипло прошептал, обернувшись к Эми:
— Что мы тут делаем? Что мы вообще делаем, черт побери?
Эми вскинула руку и одними губами произнесла:
— Элоиза…
Девушка уже бежала обратно, ее лицо исказилось от ужаса, нежные губы дрожали.
— Эло…
Девушка покачала головой. Серебряный крест на темной коже блеснул в свете одинокого уличного фонаря.
— Я вижу, я видела… вижу… я вижу… — забормотала Элоиза, пытаясь удержать то ли слезы, то ли крик. — Через окно…
— Что?
Девушка снова качнула головой. Не произнеся ни слова. Элоиза просто неподвижно стояла на месте, дрожа, как испуганный олененок, почуявший близко подошедшего хищника. Эми осторожно положила ладонь на плечо Элоизы. Дэвид сунул руку в карман, достал телефон и яростно прошептал:
— Звони в полицию! Позвони им! Даже если ты им не доверяешь…
Элоиза взяла трубку и набрала номер. Эми и Дэвид перешептывались, пытаясь придумать, куда они могли бы направиться, где спрятаться теперь. Куда бы они ни поехали, за ними будет продолжаться погоня, и возможно, все это совершенно безнадежно. Элоиза уже что-то нервно говорила в телефон.
Дверь домика открылась. Дэвид снова схватил Элоизу и утащил подальше за деревья.
— Сюда, сюда!..
Наконец девушка заговорила.
— Я знаю… я знаю, куда мы можем уехать. Мы ведь должны спрятаться, да? Он и нас тоже убьет!
— Да…
— Дай мне ключи от твоей машины!
Мартинес отдал ей ключи; они прокрались за деревьями к автомобилю Дэвида.
— Быстро! — прошептала Элоиза.
Они запрыгнули в машину. Мартинес сел сзади, Эми — впереди, и Элоиза мгновенно рванула машину с места, и они помчались прочь; свет фар прыгал по узкой проселочной дороге, уводящей их от Гюрса к горам. Дэвид оглянулся назад — дорога позади была пуста; он снова повернулся и посмотрел на Элоизу. Ее лицо было залито слезами ярости.
Дэвид даже гадать не хотел о том, что девушка могла увидеть, заглянув в окно своего дома. Ее бабушку убили — или, что еще хуже, убивали как раз в тот момент… И Элоиза, безусловно, находилась сейчас в шоковом состоянии. И тем не менее она отлично вела машину. Да, она плакала, но при этом действовала. Дэвид всмотрелся в ее смуглый профиль. В ее юношеской грации было нечто горделивое — и в то же время невыносимо печальное. И снова он обратил внимание на крест, висящий на смуглой шее. Крест блеснул в свете фар встречной машины.
Эми опустила стекло, и в машину ворвался холодный ночной воздух. Дэвид откинулся назад совершенно разбитый. Он весь был покрыт вонючей грязью после того, как ползал под деревьями.
Но они, по крайней мере, были живы; и Эми, и Элоиза были живы…
Вот только они оставили мадам Бентайо умирать.
Элоиза уже не плакала. На ее лице теперь не отражалось ничего. Она вела машину, очень быстро, очень умело, по каким-то объездным дорогам, и на них уже надвигались черные горы: облака разошлись, и самую высокую из вершин окружило слабое гало звездного света, и оно вырисовывалось на фоне темно-синего неба.
Они были живы. Но бабушка Элоизы наверняка уже умерла.
Эми обернулась и посмотрела на Дэвида, потом перевела взгляд на его руку. Он тоже посмотрел на нее: на ладони красовался глубокий порез, сочившийся кровью. Видимо, это произошло тогда, когда молодой человек упал там, среди деревьев.
— Ох, — выдохнула Эми.
Дэвид покачал головой.
— Даже не болит.
— Надо перевязать.
Эми схватила футболку, лежавшую на заднем сиденье, и с силой дернула ее, разрывая пополам. Куском трикотажа она плотно замотала рану Дэвида и сказала:
— На время поможет. Пока мы не доберемся… куда?
Вопрос повис в воздухе. Мартинес кивнул.
— Ну да… Элоиза, а куда мы едем?
Девушка не ответила. Дэвид и Эми обменялись встревоженными и понимающими взглядами.
— Элоиза?..
Машина неслась по дороге, девушка молчала. Наконец она ответила, тихо, но решительно:
— В Кампань.
Снова наступило молчание. Эми нарушила болезненную тишину:
— Элоиза, послушай, я…
— Нет! Нет!! Не говорите об этом! Прошу, не говорите об этом, или я поверну машину и поеду обратно… Я не могу вам сказать, что я видела! Нет-нет-нет! И никогда меня не спрашивайте!
Дэвид посмотрел на Эми. Та молча кивнула. Им нужно было так или иначе отвлечь девушку. И Дэвид заговорил:
— Кампань, Элоиза? И что там?
— Каготерий. — Элоиза вывернула руль, следуя резкому повороту дороги. — Старые развалины, туда никто не ходит. Руины, которые тянутся к оврагу… и там есть один дом…
— Кампань, — прошептал Дэвид самому себе.
Деревня кукол.
Эми спросила:
— Думаешь, там мы можем надежно спрятаться?
— Да, — с горечью ответила Элоиза. — Проклятая сторона реки. Все избегают тех мест, никто никогда туда не заглядывает. Там абсолютно безопасно. Totalement[40].
Дэвид согласно кивнул, а Эми снова повернулась к нему и потуже завязала лоскут на его кровоточащей ладони. В лунном свете кровь на тряпке выглядела черной, как чернила кальмара.
Да, теперь все действительно было понятно. Ясно было, кто делает все это, кто убил его родителей. Кто убивает каготов. Все точно.
Дэвид произнес:
— Мигель. Это все его рук дело. Или большая часть.
Эми сосредоточенно нахмурилась.
— Но почему, зачем? И как?
— Не знаю. Я только знаю, что это именно он. Мигель убил моих родителей. Ва… — голос Дэвида упал до мрачного шепота. — Ваша бабушка кого-то видела. Высокого человека, помните? Так вот, она видела его. И она заподозрила, что тот же самый человек убил и моих родных, и ее. Это так, Эми. Должно быть так. Он убивает по какой-то причине. У него есть причина преследовать нас. Он пытается нас убить по какой-то причине.
— Но что это может быть? — Вопрос Эми прозвучал тихо, но яростно. — Как все это связано с тобой, с тобой и… и Хосе? И каготами?
— Там, в доме Хосе, он видел мою карту. — Говоря это, Дэвид продолжал напряженно размышлять. — Возможно, он понял, что мы идем по тому же следу. Следуем по тому же маршруту, который привел к убийству моих родителей. Поэтому он должен убить и нас тоже.
Эми смотрела в окно машины, на звезды.
— Наверное… и Хосе знал… Он знал, что, если мы попытаемся решить ту же самую головоломку, Мигель погонится и за нами. Он пытался спасти нас от своего сына… Боже мой…
Дэвид кивнул, чувствуя себя почти глупо. Он как будто восхищался каким-то маленький кусочком картины, совершенно не осознавая, что все полотно в целом — в десять раз больше. А теперь ему открылся весь ужас происходящего: некая гротескная, библейских масштабов живая картина, изображающая жестокого и неукротимого сына, убивающего матерей и отцов.
— Но почему? — снова заговорила Эми. — Какая тайна может быть настолько пугающей, что Мигель просто должен убивать ради нее? Лишь бы сохранить секрет…
— Это должно быть нечто связанное с его отцом. И с войной, — предположил Дэвид. — Он ведь был в Гюрсе. Тот предатель был в Гюрсе?..
Мимо пронесся дорожный знак Кампани, сверкнув в лучах фар красным и белым. Потом машина замедлила ход.
Элоиза в первый раз за полчаса заговорила:
— Дальше будет довольно сложно…
Они поехали к мосту. В слабом ночном свете Дэвид узнал унылый шпиль местной церкви, возвышавшийся над покатыми крышами; он заметил и одну из тряпичных кукол, лежавшую рядом с мостом, радостно ухмыльнувшуюся им в лучах фар; но машина уже углубилась в каготерий, находившийся на «дурной» стороне реки. По обе стороны дороги стояли полуразрушенные коттеджи с пустыми черными окнами, их окружали покосившиеся сараи и амбары, заброшенные участки земли. Густой лес надвигался на каготерий, постепенно заявляя свои права на древнее гетто неприкасаемых.
Дорога стала совсем никудышной, ее сплошь покрывали камни и сломанные сухие ветки. В холодной темноте Дэвида охватило ощущение, что они катят где-то под землей — с обеих сторон чуть поодаль поднимались стены ущелья. Домиков стало меньше, их невысокие серые силуэты терялись в деревьях. Через дорогу метнулась призрачно-белая сова.
— Ну вот, приехали.
Это был очень большой, очень старый каменный дом. Возможно, средневековый. И все же, несмотря на размеры, он был весьма искусно спрятан; поворот к нему скрывался в густых кустах, толстые деревья образовали по периметру настоящую стену, вокруг лежали развалины проклятого каготерия, — и вообще находился он далеко в черном ущелье.
— Дедушка однажды привозил меня сюда, — сказала Элоиза. — Специально, чтобы показать мне этот дом, где каготы прятались в дни особо жестоких преследований. Это наше убежище. Там, позади, под домом, есть пещеры и подземные ходы. Les chemins des Cagots[41]. Так что каготы и теперь могут здесь спрятаться.
Они вышли из машины. Ночной воздух был почти морозным и был напитан пряным ароматом леса.
Дэвид насторожился.
В доме мелькнул свет. Слабый огонек, прикрытый чем-то фонарь или свеча… Внутри кто-то был.
Страх смешался с любопытством. Дэвид прижал палец к губам, призывая Эми и Элоизу к молчанию, осторожно подошел к окну и заглянул в дом.
И тут же отшатнулся. Да, действительно, в едва освещенной комнате сидели два человека.
Это были Хосе Гаровильо и его жена.
20
Они сидели в ресторане поблизости от мясного рынка в Смитфилде.
— Я надеялся, что вы мне объясните… расскажете о Семени Змея.
Эмма Вайнард улыбнулась. Потом повернулась к подошедшему официанту и попросила принести еще воды, давая Саймону возможность оценить мисс Эмму Вайнард, профессора церковной истории из Королевского колледжа в Лондоне.
Она была хорошенькой, элегантной и представительной: в свои сорок с небольшим явно умела быть сдержанной в отношении драгоценностей, носила очень дорогую обувь и ценила модные рестораны. Именно она предложила встретиться здесь, потому что, как она сказала по телефону, «было бы мило пообедать там, поскольку я сейчас занимаюсь исследованиями в Гайдхолле».
— Семя Змея, да… — Она снова улыбнулась. — Это весьма противоречивое учение. Оно утверждает, что тот змей, в саду Эдема, имел связь… а, вот и мой заказ принесли. Быстро они тут.
Эмма отклонилась немного назад, позволяя поставить перед собой тарелку.
Саймон невольно уставился на поданное ей блюдо. Это было нечто похожее на мелко нарезанные резиновые трубки… или кишки, украшенные букетиком петрушки.
Эмма взяла вилку и продолжила:
— Эта доктрина утверждает, что в Эдеме змей совокупился с Евой и что результатом этого скотоложства стал Каин.
— То есть змей и Ева занимались сексом?!
— Да. То есть, конечно, это сам Сатана в облике змея овладел Евой. И, следовательно, Каин — сын самого дьявола, а все его потомство нечисто.
— Так… ладно. — Журналист просто не знал, что на это сказать. Его смущенное молчание прервал телефонный звонок; он посмотрел на дисплей. Ему звонил Фазакерли. Что могло понадобиться старому профессору? Наверняка ничего важного. Журналист сбросил звонок, предложив звонившему оставить голосовое сообщение, и тут же снова обратил внимание на собеседницу. — Простите… — Он гадал, как ему продолжить разговор; потом снова посмотрел на ее тарелку. — Что это вы такое едите?
— Это требуха, — ответила Эмма. — Жареные кишки. Очень соленые, но вкусные.
— Кишки?
— Ну да, — профессор улыбнулась. — Здешний шеф-повар, Фергюс Хендерсон, славится тем, что ищет рецепты старинной английской кухни. Мясные блюда. Он широко известен. И, конечно, не зря этот ресторан устроился рядом со Смитфилдским мясным рынком. Он тут стоит с XIII века. Вы не против, если я продолжу есть? Это блюдо теряет вкус, когда остынет. А ваше вот-вот подадут.
— Да ради бога…
Саймон подождал, пока женщина положит в рот очередную порцию кишок, и снова принялся задавать вопросы:
— И кто же верит в это Семя Змея?
— Небольшие группы чудаков, мелкие секты, представители разрозненных культов. — Она некоторое время задумчиво жевала, потом добавила: — Считается, что эта теория имеет некоторые подтверждения в Библии.
— То есть?
— На то, что Ева согрешила с Сатаной и родила от него Каина, есть разнообразные намеки, разбросанные по Библии. Например, в Новом Завете, в первом послании Иоанна, глава третья, сказано: «…не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего»[42]. Та же мысль о змее присутствует в некоторых ранних текстах гностиков. — Профессор Вайнард сунула в рот новую порцию кишок и принялась жевать. Потом добавила: — Это тексты вроде Евангелия от Филиппа. Однако эта идея была позже отвергнута как ересь отцом церкви Иустином, и позже — основным направлением христианской теологии.
Саймон оценил ее слова. Каин, который был от лукавого… Журналист подумал о двух братьях, двух сыновьях Адама и Евы: Каине и Авеле. Как он сам и Тим… Только кто из них двоих был Каином?
Он ощутил приступ грусти и сильное желание выпить. И потому уставился на Эмму Вайнард. Сосредоточился.
— Но это все отброшено, так? Серьезные христиане в это не верят?
Снова появился официант. На этот раз он принес тарелку с костью. Просто костью. Вроде жареной коленной чашечки.
Саймон, будучи новичком в этом странном ресторане, позволил профессору Эмме Вайнард сделать заказ за него. Но он никак не ожидал получить мосол.
Эмма осторожно показала на кость своим ножом.
— Едят то, что внутри.
— Э-э… не понял?
— Это жареный костный мозг, мистер Куинн. Вам именно потому подали маленькую вилку — чтобы извлечь мозг из кости. А потом намазать его вот на этот жареный хлеб. Это деликатес.
Журналист взял маленькую вилку и снова положил ее на стол.
— Зовите меня просто Саймоном. — Он снова посмотрел на коленный сустав на своей тарелке. — Сейчас я ее…
— Забавно. — Эмма радостно подхватывала вилкой серовато-коричневые кишки. — Мне продолжить теологические истории?
— Да, прошу вас.
— Важность идеи Семени Змея вот в чем: возможно, ее принимают лишь крошечные протестантские секты, вроде Подлинных Христиан в Америке или иудаистских Мидрашей, но она связана с одним из толкований Пятикнижия, имеющим огромное значение.
— Виноват… вы на английском говорите?
Профессор улыбнулась.
— Я хочу сказать — это связано с неким весьма спорным толкованием текстов Библии, причинившим много боли и страданий в течение веков.
— А конкретнее?
— Проблема В жене Каина. И так далее.
— А…
Кажется, они подбирались к главному. Но Саймону просто необходимо было что-нибудь положить в рот, потому что он весь день ничего не ел. Поэтому Куинн снова взял крошечную вилку и воткнул ее в серединку круглой кости, на удивление мягкую. Из кости показался маленький, странный, колышущийся шарик чего-то желеобразного. Жареный костный мозг. Выглядел он отвратительно, однако запах был приятным. Саймон положил шарик на ломтик жареного хлеба, глубоко вздохнул — и сунул хлеб в рот.
Несмотря на мерзкую внешность, мозг обладал нежным вкусом.
— Вот видите! — сказала Эмма Вайнард. — Не так уж и плохо, в конце концов.
— Да, пожалуй… Расскажите еще об этой ереси.
Эмма уже покончила с кишками. Она отложила вилку и нож, выпила немного воды и наклонилась вперед.
— Рассказывать недолго, вы как раз успеете справиться с вашей костью. Первое, что нужно знать: в Книге Бытия имеются непонятные намеки на то, что Адам и Ева не были единственными людьми в период сотворения мира.
Саймон перестал жевать, едва не подавившись костным мозгом.
— Что-что?
— Да. В Пятикнижии имеются довольно странные и загадочные намеки на то, что существовали и некие другие люди — неадамиты, они были на земле уже до Адама и Евы. Например, в Книге Бытия говорится, что Бог как бы «пометил» Каина, чтобы никто, встретив, не убил его[43]. Вопрос вот в чем: а кто мог его встретить и убить? Ведь теоретически в тот момент только и было людей, что Адам, Ева и их сыновья. И кого бы бояться Каину?
Саймон откинулся на спинку стула и посмотрел на сумку с ноутбуком, стоявшую рядом с ним на полу. Он подумал, не следует ли ему прямо сейчас сделать кое-какие записи. Информация и в самом деле была уж очень интригующей; и это даже волновало, эта библейская идея о каком-то другом человечестве, о людях, уже существовавших к тому времени, но где-то вдали, как некое племя бледных теней.
— Это и в самом деле очень странно, — сказал он. — Продолжайте.
Но элегантная мисс Вайнард отвлеклась; она снова чуть отодвинулась от стола, пока официант убирал ее закуску и ставил на стол новую тарелку. Лицо профессора просияло.
— Свиные щеки с каролинскими бобами, одно из моих любимых блюд.
А официант уже и перед Саймоном ставил новую тарелку. На ней лежало что-то красное и горячее, похожее на нечто… на результат аборта.
— О!..
— Я заказала вам кровяную запеканку.
— Очень мило…
Телефон Саймона снова зазвонил, и журналиста это рассердило. Он посмотрел на дисплей — Фазакерли. Да что это случилось со старым профессором? Саймон вспомнил желтозубую улыбку старика, его любопытные метафоры и рассуждения о дарвиновской борьбе видов, и опять сбросил звонок, не ответив. И вообще выключил телефон.
Эмма с едва заметным раздражением посмотрела на наручные часы.
— Что, продолжать?
— Да, прошу вас. Извините, что постоянно мешают.
— Принимается. Итак, перейдем к проклятию Каина. Если вкратце, то тут вообще нечто странное. Это Книга Бытия, девятая глава. Там говорится, что Ной, отец Хама, проклял Хама и его сына Каина за то, что Хам увидел своего отца обнаженным, и сказал, что быть им рабами.
— Но это же совсем другой Каин, не так ли?
— Да. И в том-то и сложность. Это другой Каин — сын Хама, внук Ноя. Он также известен как Ханаан, прародитель ханаанитов…
Саймон пытался проглотить кусок кровяной запеканки, но ему это не удалось. Он отодвинул тарелку, с трудом справившись с тошнотой, и попросил Эмму продолжать. Та была только рада.
— И о чем говорит нам эта странная история? Ну, прежде всего проклятие Каина использовалось религией абрахамитов для узаконивания расизма и сионизма, и в особенности — для оправдания порабощения черных африканцев. Потому что негры считались потомками Хама и Каина.
— Каким образом? Я что-то совсем запутался. Снова. — Саймон пожал плечами. — Что, разве Каин был африканцем?
Профессор улыбнулась.
— На самом деле все просто. В Библии напрямую говорится, что Хам и его сын Каин вечно должны быть рабами за свои грехи, за то, что совершили неслыханное — посмотрели на пьяного голого Ноя, так некстати заснувшего. Только и всего. Но ранние иудейские и христианские теологи утверждали, что Иегова пошел дальше — и пометил Каина чернотой. В Вавилонском Талмуде, например, категорически заявлено: «Каин был поражен через свою кожу», то есть стал черным. Зохар, наиболее важная книга Каббалы, содержит сходное утверждение: «Сын Хама Каин почернел в своем естестве». И следовательно, африканцы — потомки Каина.
— Но это ведь в основном иудаистские теории?
— О нет. Нет-нет. Отцы христианской церкви от них не отставали. В одном из трудов восточного христианства, «Пещере сокровищ», это четвертый век, прямо устанавливается связь между рабством и чернокожими людьми. — Эмма проглотила большой кусок свиной щеки и пояснила: — А почему все это вызывает такую суету? Возможно, африканцев уже порабощали к тому времени, и применить тут идею проклятия Каина было бы весьма полезно, поскольку это давало бы отличное оправдание к тому, чтобы закрепить униженное положение чернокожих. И в течение самого темного периода Средневековья многие ученые-схоласты связывали воедино Каина, черную кожу и рабство.
— И эту же доктрину люди использовали в период… колонизации?
— Именно так! — Эмма положила на тарелку вилку и нож. — Испанские конкистадоры, британские империалисты, французы и португальцы, многие американские работорговцы — все они ухватились за эти псевдобиблейские тексты, чтобы придать видимость законности чудовищной торговле живым товаром. Идея, собственно, состояла в том, что Бог либо намеренно сотворил некую низшую расу одновременно с Адамом, либо он также намеренно создал касту чернокожих рабов, прокляв Каина. Следовательно, с рабством все в порядке.
Она промокнула губы салфеткой и продолжила:
— И эта теория до сих пор не потеряла силу. Мормоны отказались от нее только в 1977 году.
Наступил подходящий момент для того, чтобы поговорить на главную для Саймона тему.
— Эмма, а вы ведь говорили обо всем этом с одним парнем по имени Ангус Нэрн, да? Несколько месяцев назад.
Профессор Вайнард резко выпрямилась.
— Да. Говорила. Но… а вы откуда знаете? — Ее постоянная улыбка угасла. — Я думала, вы просто ведете журналистское исследование корней расизма?
— Да, это так. Но… есть и еще кое-что. И мне необходимо знать: чего хотел от вас Нэрн?
Профессор нахмурилась.
— Ладно. Да… Мы с Ангусом довольно близко знакомы. Он весьма эксцентричен… но все-таки обаятельный молодой человек. Очень талантливый ученый. Шотландский пресвитерианин.
— Понятно.
— Но я уже очень давно ничего о нем не слышала. Впрочем, я так погрузилась в работу…
— Так о чем вы с ним говорили?
— О многом. Его интересовали некоторые весьма странные вещи. Как связана история проклятия Каина с инквизицией, с басками и каготами.
— Каготами?
— Да, это такое племя французских париев, неприкасаемых.
— Никогда о них не слышал.
— А о них большинство людей никогда не слышали. Они были как раз одной из групп жертв этой экстремистской теологической теории проклятия Каина. Некоторые католические священники считали их сыновьями Каина, бла-бла-бла, а потому и преследовали их. Во французском католицизме есть в высшей степени расистское течение, иной раз антисемитское, и оно существует по сей день.
— То есть?..
— Помните французского архиепископа Лефевра? Он был отлучен от церкви за свои крайне ортодоксальные взгляды, противоречащие Ватикану, ну, и так далее. Кое-кто из его последователей открыто поддерживал холокост. Это направление католицизма было связано с марионеточным профашистским режимом Виши во Франции. А некоторые французские священники-ренегаты открыто сотрудничали с нацистами.
— Как именно, в чем это выражалось?
— Прежде всего, они служили капелланами в концентрационных лагерях. — Эмма снова посмотрела на часы. — Боюсь, мне действительно скоро пора будет идти…
Саймон кивнул.
— Но еще на парочку вопросов ответите?
— Постараюсь. Только давайте побыстрее.
— Что еще вы обсуждали с Нэрном?
— О… многое, очень многое. Мы даже вместе ужинали пару раз, — на лице профессора на мгновение вспыхнуло выражение задумчивой тоски. — Его, кстати, чрезвычайно интересовало, что случилось с результатами медицинских исследований каготов.
— Простите? Какие исследования?
— В 1610 году, в период наиболее сильного преследования каготов, король Наварры приказал своим придворным медикам изучить анатомические особенности каготов. — Эмма Вайнард взмахом пальцев обозначила кавычки, цитируя: — «Их отличия от других людей». Результаты этих исследований остались неизвестными. Но известно, что вскоре после этого высшие церковные иерархи начали эмансипировать каготов, чтобы остановить преследования, хотя им понадобились века для того, чтобы искоренить фанатическую неприязнь к каготам у младшего духовенства и крестьян. То же самое относится и к баскам.
— То есть?
— Басков ведь тоже постоянно преследовали, считая народом колдунов. Ирония тут в том, что сожжение басков было прекращено испанской инквизицией. Некий инквизитор по имени де Салазар изгонял и преследовал охотников на ведьм. Он лишил положения французского охотника на ведьм де Ланкре, одержимого проклятием Каина. — Эмма мягко улыбнулась. — Это, кажется, противоречит общепринятому мнению о Риме и инквизиции как яростных преследователей еретиков и разных меньшинств — но в действительности католическая элита стремилась к добру, и именно благодаря ей в итоге смогли выжить и баски, и каготы.
— А что случилось с результатами обследования каготов?
— Вот как раз это и интересовало Нэрна больше всего. — Эмма Вайнард взяла сумочку, готовясь уйти. — Я ему сказала, что инквизиторы особо охраняли все свои тайные документы относительно басков и каготов, это был высший уровень секретности.
— Тогда, полагаю… эти документы отсылались в Рим, в Ватиканскую библиотеку?
— И да и нет. Не забывайте, что инквизицией руководили доминиканцы, черные монахи, или псы Господа, как их называли за их фанатизм и садизм. Это средневековый каламбур, основанный на названии их ордена. Domine Cani на латыни — Dogs of God[44] на английском.
— Мне нравится этот средневековый каламбур.
— Доминиканцы были самыми яростными сжигателями ведьм в Средние века. Две таких «собаки Господа» сочинили Malleus malleficarum, «Молот ведьм», ставший буквально библией охотников на ведьм. Боже, уже почти три часа!
Женщина уже поднималась с места. Саймон встал и пожал руку мисс Вайнард, пока она элегантно приносила извинения:
— Мне очень жаль, что приходится убегать. Но нужная мне библиотека закрывается в четыре. Однако я могу еще ответить на ваш последний вопрос — вы ведь хотите знать, что случилось со всеми теми соблазнительными архивами?
— Очень хочу.
— Отлично. Некоторые из самых реакционных доминиканцев в особенности цеплялись за проклятие Каина. Они и по сей день в него верят и отказываются бросить материалы, которые, как им кажется, подтверждают их точку зрения. Но в то же время Папа Римский не хотел раскола — Папы никогда не хотят раскола! — так что в итоге был достигнут некий компромисс.
— Продолжайте…
— Документы, относящиеся к каготам и баскам, были сохранены, но в великой тайне. Их держали в Ангеликуме, доминиканском университете в Риме. И многие века они пребывали там в полной сохранности. Но потом, после войны, после нацистов, кто-то счел, что это место недостаточно надежно для столь… провокационных документов. Вы и сами понимаете, что это действительно проблема, — она снова осторожно улыбнулась. — И что же случилось? По слухам, архив переправили в какое-то другое место, еще более надежное. Но это всего лишь слухи. Так что ответ на ваш вопрос представляет вот такую любопытную истину: никто этого не знает наверняка! Ученые десятилетиями спекулировали на этой теме. Рассуждали, что же случилось с документами о басках и каготах. Это теперь настоящая теологическая головоломка.
— А вы сами что думаете?
— Я? Я подозреваю, что эти архивы были просто уничтожены и что вся эта болтовня о конспирации — просто фантазии. Именно это я и сказала Ангусу Нэрну, к его великому разочарованию. Но так уж обстоит дело. А теперь я должна вас покинуть, пока у меня весь день не пропал понапрасну.
— Ох… большое вам спасибо! — Саймон чувствовал себя пресыщенным; он все еще переваривал странный обед и еще более странную информацию. — Еще раз спасибо. Все это невероятно полезно и интересно. Просветляюще.
Профессор небрежно бросила, что благодарить тут не за что. Ее улыбающееся лицо исчезло, когда леди спустилась вниз по винтовой лестнице. Оплатив счет и спрятав в карман чек, Саймон через минуту-другую тоже покинул ресторан.
На улице он поймал такси, чувствуя себя довольным проделанной работой. Теперь Куинн вполне мог позволить себе отправиться домой. Он развалился в большом лондонском такси и закурил толстую воображаемую сигару.
Но тут он вспомнил. Фазакерли. И пока такси катило мимо часовых мастерских и стеклянных стен квартир на Клеркен-уэлл, журналист достал из кармана телефон и прослушал голосовые сообщения.
Первое сообщение было длинным, несвязным и непоследовательным. Профессор сказал, что он сидит в своем кабинете в последний раз и что у него есть кое-какие новые теории, которые, как ему кажется, могут заинтересовать Саймона. Он что-то бормотал насчет «церковных оппонентов» его исследований. Даже упомянул Папу Римского. Он извинялся за то, что говорит так долго, «как старый болтливый холостяк, любящий морализировать»; послание действительно было настолько длинным, что последние слова затихли, не уместившись в выделенное время.
Саймон начал слушать второе сообщение.
Но это вообще не было сообщением. По крайней мере, это не было сознательным вызовом как таковым. Ясно было, что звонок сделан случайно, когда по ошибке нажали кнопку повтора вызова, то ли сев на трубку, то ли как-то задев ее.
Фазакерли по ошибке позвонил Саймону во второй раз. И аппарат записал чей-то крик — крик невыносимой боли. Возможно, наверняка, как ни чудовищно… но кто-то умирал.
Это казалось абсурдным. Саймон откинулся назад, на его лбу выступили капли пота, как липкие и холодные капли росы… невозможно было слушать эту чудовищную запись.
Начало «послания» представляло собой нечто вроде низкого, стонущего вздоха. А на заднем плане слышалось какое-то гудение. Похожее на гудение бензопилы где-то в лесу. Лесорубы за работой. Стон был искренним и отчаянным, в нем смешивались страх и боль; потом дыхание ускорилось, стало отчаянным… А потом его сменило бульканье, прерывистое бульканье, как будто кого-то энергично рвало и человек не мог дышать. И все это время слышалось все то же пугающее гудение.
Самым страшным во всей этой невыносимой записи было одно-единственное различимое слово — «хватит…», произнесенное между бульканьем, и потом — последний ужасающий хриплый вздох. Но этого слова было достаточно для того, чтобы узнать Фазакерли.
— Стойте! — закричал Саймон, колотя в стекло, отделявшее его от водителя такси.
Они были в каких-нибудь двухстах ярдах от лабораторий «Карты генов».
Водитель резко остановил машину и удивленно обернулся к Саймону.
Куинн отдал ему двадцать фунтов, выскочил из такси и помчался по элегантной Гордон-сквер. Нашел старую облупившуюся дверь — она была приоткрыта. Саймон побежал вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Он был в отчаянии.
Но вот журналист добрался до лаборатории и офисов «Карты генов». Аппараты все так же стояли вокруг, холодные и никому не нужные. Гидравлический резак и центрифуга помалкивали. Все выглядело обычно, то есть точно так же, как в прошлый раз. Пыльная аппаратура. Пустые письменные столы. Заброшенные комнаты. Открытые двери. На одном из столов — забытая кем-то из ученых яйцеобразная кукла с кучерявыми волосами и широкой ухмылкой.
Но где же Фазакерли? Может, все эти звуки ничего не значили? Может быть, Саймон просто неправильно понял это жуткое второе сообщение?
Панический страх вернулся, когда Саймон услышал гудение. Это было то же самое гудение, что записал его телефон. Как звук пилы, доносящийся сквозь бесконечный голый лес, заваленный снегом… Кто-то там заготавливал дрова, далеко, в черно-белом пространстве…
Саймон приостановился. Там. Звук исходил из дальнего угла лаборатории. Работал один из тех аппаратов, которые Фазакерли показывал Саймону во время их небрежного осмотра помещений. Микроволновая печь промышленных размеров, которую использовали для стерилизации, и гистологии, и…
Саймон рванулся вперед. Огромный, как шкаф, аппарат был включен. Он что-то приготовлял, хлопотливо подогревал, как счастливая домохозяйка, напевающая себе под нос. В печи что-то лежало…
Конечно, Саймон знал, что именно там лежит, и, конечно же, он не хотел этого знать. Он отвернулся, потом снова посмотрел на печь, подавляя желание бегом броситься вон, на улицу, чтобы заглушить этот омерзительный, чудовищный страх.
К темноватому стеклу дверцы просторной печи прижималось лицо. Запеченное, покрытое влагой старое лицо, из белых сморщенных ноздрей которого свисали тошнотворные нити. Сварившееся, но не зарумянившееся. Кожа была бесцветной, местами розоватой, один выскочивший из орбиты глаз висел на тонком нерве…
Гудение затихло. Микроволновка дала свисток и отключилась.
21
Рана на его руке уже покрылась тонкой корочкой засохшей крови, но Дэвид все еще чувствовал боль. И не утихала тревога.
Дэвид стоял в залитом солнцем саду дома каготов, наматывая свежую повязку на пораненную руку. Сад весь зарос, деревья кое-где упали, между камнями обрушившейся стены проросли цветы, дорожки затянуло плющом. Зато сад был велик и хорошо скрыт, и в нем было много воздуха и света, в отличие от сырых и зловещих переходов и комнат древнего дома каготов. Хорошее место для разговора. Хорошее место для того, чтобы подумать о связи любимого деда с нацистами.
Закрепив узел повязки, Дэвид снова ощутил внутри, совсем недалеко от поверхности, всплеск горя, охватившего его после разговора с мадам Бентайо. Он так и эдак вертел в памяти их примечательный диалог и каждый раз приходил к одному и тому же неизбежному выводу. Никуда не мог от него деться. Они должны были все быть пленниками здесь, в Гюрсе, — Хосе, дед, бабушка Элоизы.
Да, факты определенно указывали на то, что они были заключенными в нацистском лагере; более того, тайное богатство его деда, его чувство вины и скрытность вроде бы заставляли предположить об определенном способе нажить состояние. Каком угодно способе. Вплоть до предательского сотрудничества с немцами.
Идея была отвратительной, но от нее было не уйти. Неужели дед связался с нацистами? А если нет, откуда у него такие деньги? И почему он был таким скрытным до самого конца? К чему все эти тайны?
Дэвид сел на каменную скамью, потом снова встал. От мокрого мха его джинсы тут же насквозь промокли. Все в этом гниющем и разлагающемся местечке было черт знает каким мокрым. И стены насквозь пропитались средневековой сыростью. В саду бесчинствовали самые непривлекательные формы жизни: в самый первый день Дэвид видел жирного неторопливого червя, лениво ползшего через кухню.
Все это было просто тошнотворно. Грязный дом каготов. Это вызывало у Дэвида отвращение и к ним самим, к каготам… Ему хотелось сбежать от всей той глубоко въевшейся грязи, которую оставили прятавшиеся здесь люди, жившие и спавшие здесь, совокуплявшиеся, готовившие свою дурацкую еду…
Дэвид постарался взять себя в руки. Каготов убивали. Они заслуживали сострадания.
Как, оказывается, это легко — ненавидеть!
В небе, которое быстро затягивали облака, пронеслась пустельга. Дэвид услышал какой-то шум и обернулся; в дверях стояла Эми. Она хмурилась, глядя на него; Дэвид в ответ улыбнулся. Им в последние несколько ночей пришлось ночевать в одной спальне — темной и затхлой; пришлось, потому что другие свободные комнаты были еще гаже, еще сырее, сильнее заросли плесенью. Они лежали на стоявших рядом койках. Конечно, ничего физического между ними не произошло, и тем не менее… что-то между ними все-таки случилось.
Они подолгу разговаривали в темноте, одни, при мигающем огоньке свечи. Лица в нескольких дюймах друг от друга: как дети, прячущиеся под простынями от неведомого чудовища.
И вот теперь Эми стояла в дверях: открытая и спокойная. Его самый близкий друг. Нечто хорошее, прорвавшееся сквозь весь этот ужас и тьму, — его растущая дружба с Эми Майерсон. Но потом Дэвид осознал: она же хмурилась.
— Что случилось? Что-то с Хосе?
— Нет. Он по-прежнему не желает ничего говорить. Нет… — она еще сильнее нахмурилась. — Элоиза.
— Что такое?
— Она исчезла. По крайней мере, я так думаю. Нигде не могу ее найти.
Первые капли холодного дождя упали на шею Дэвида.
Он мгновенно бросился в дом. И они начали искать. Они нашли Хосе и Фермину, сидевших в отсыревшей гостиной, хмурых и молчаливых. Как крестьяне на картинах средневековых фламандцев. Как два несчастных человека, сумевших пережить суровую зиму, прижавшись друг к другу, чтобы защититься от холода.
— Хосе, мы не можем найти Элоизу. Ты ее не видел?
Хосе пробормотал: «Нет». На его лице держалось то самое выражение, что появилось с момента их прихода в этот дом. Он как будто жалел себя, и был на что-то обижен, и едва скрывал свои горестные страхи. Но чего он боялся?
Эми раздраженно вздохнула.
— Давай еще наверху посмотрим.
Но и наверху они ничего не нашли; Элоиза действительно исчезла. Они обшарили все многочисленные комнаты. Ничего и никого. Они обошли сад перед домом, сад за домом; даже сделали несколько нервных шагов в темную глубину леса, уходившего в ущелье, чьи суровые каменные стены возвышались над коттеджем.
Никого.
Постепенно Дэвидом овладела леденящая неприятная мысль. А что, если девушку схватили? Если она отправилась в Кампань на богослужение? Элоиза несколько раз говорила о том, что ей очень хочется воспользоваться электронной почтой и что она отчаянно хочет пойти в церковь, на исповедь. И то и другое могло увести ее за мост. Неужели она решила так глупо рискнуть? Неужели пошла в деревню?
Они стояли в полутемном коридоре и перебирали варианты. Оба понимали, что у них нет выбора. Что они должны пойти и привести ее назад. Эми вызвалась обследовать деревню; Дэвид настоял на том, что сделать это должен он сам.
Мартинес вышел из дома и направился вверх по изрезанной колеями дороге, что вела к мосту. Он находился в самом центре каготерия, в руинах гетто. Окликая Элоизу по имени, Дэвид быстро шагал мимо разрушающихся домов и амбаров. Вдруг она спряталась в одной из хибар каготов? Нет, к сожалению; черные глазницы пустых окон явно никого не скрывали. Потрескавшиеся, облупившиеся двери домов каготерия явно не открывались в последние пятьдесят лет. В траве валялись ржавые косы. На стене одного дома, размером побольше, была нарисована масляной краской гусиная лапка, кое-как, криво. А на соседнем красовалось подростковое граффити «Fous les camps Cagot!»[45].
Дэвид перешел мост. Дождь уже моросил непрерывно, но Мартинес не обращал на него внимания. Он добрался до конца тропинки, до обнесенного стеной церковного двора. Прошел мимо валявшейся на земле ухмылявшейся тряпичной куклы с разорванной головой; из нее торчала желтая солома. Он толкнул калитку, медленно прошагал по дорожке и вошел в церковь.
Был будний день, не воскресенье, и потому Дэвид удивился, обнаружив, что внутри идет служба.
Собрание прихожан было невелико, с полдюжины старых людей да дряхлый священник. И четыре тряпичные куклы в человеческий рост. Служба оказалась чем-то вроде праздника урожая. У алтаря были аккуратно уложены помидоры, кукурузные початки и банка консервированных ананасов. Дэвиду понадобилась всего пара секунд, чтобы понять, что Элоизы нет среди прихожан. Священник уставился на Дэвида, но тот не обратил внимания на его враждебный взгляд.
Он быстро вышел из церкви, снова толкнул скрипучую калитку и под усилившимся дождем побежал к тому единственному месту, куда могла отправиться Элоиза, туда, где она могла воспользоваться Интернетом, к маленькой табачной лавке, где был установлен терминал, или даже два. Но лавка была заперта; здесь даже куклы в окне не было. Элоиза просто исчезла, исчезла без следа. Дэвид и сердился, и тревожился… и горячо сочувствовал девушке. Тоска Элоизы, ее печаль недавно осиротевшего человека слишком живо напомнили Мартинесу его собственное горе, его собственное сиротство. Элоиза была такой же, как он сам. Она страдала так же, как он. Дэвид подумал о ее гордых, вызывающих, молчаливых слезах, когда она вела машину, вынужденная бежать от Гюрса, от Мигеля…
Элоиза была очень храброй. Она заслуживала лучшей жизни, чем та, что ей досталась. Дэвид должен найти ее раньше, чем найдет Мигель. Но он просто не знал, в какую сторону направиться. Куда она пошла? И почему? Что вообще происходило с ними всеми?
Вопросов было слишком много, они наваливались друг на друга, громоздились, как тучи над Пиренеями. Дэвид просто тонул в головоломках и тайнах. А ведь им только и нужно было, что добиться ответа от того единственного, кто мог их спасти.
От Хосе.
Дэвид побежал бегом мимо военного мемориала, по мосту через реку, в гниющую каготерию. Он уже насквозь промок, рубашка прилипла к телу. Но ему было наплевать. Мартинес был разъярен; мелькнувшая у него мысль, что Элоизу мог схватить Мигель, вызвала и отвращение, и гнев.
Он нашел Эми в холле старого дома каготов; она ждала его, ее светлые волосы отчетливо выделялись в полумраке. Они быстро переговорили и пришли к одному и тому же выводу. Эми согласилась с Дэвидом: они должны были добиться ответа от Хосе. И Дэвид был как раз тем человеком, который мог это сделать, потому что разговор мог оказаться жестким и жестоким, а Эми слишком много связывало с Гаровильо, чтобы на него давить.
Минуя холл, Дэвид готовился к разговору; он сосредоточился, систематизируя свои мятущиеся мысли. Он собирался добиться правды. Чего бы это ни стоило.
22
К тому времени, когда Дэвид отыскал Хосе, заглянув предварительно во множество комнат старого дома, дождь уже превратился в настоящую горную грозу, и струи воды колотили по древнему шиферу крыши.
Хосе Гаровильо стоял в одиночестве на кухне, склонившись над плитой, и наливал оливковое масло в большое жаропрочное керамическое блюдо. Его жена, видимо, заперлась в своей комнате. Хосе выглядел полностью ушедшим в себя, и таким он был с того самого момента, когда Дэвид и Эми обнаружили его в тайном убежище каготов.
— Angulas, — сообщил Хосе, показывая на тарелку, на которой горкой лежали скользкие белые червяки.
Дэвид озадаченно уставился на тарелку. Мокрая холодная рубашка противно липла к спине. Он содрогнулся и переспросил:
— An… gulas?
— Да. Мальки угря. Мороженые, конечно. Фермина ходила в Кампань, в магазин.
— Она выходила из дома?
— Не беспокойся. Она была очень осторожна.
Хосе обернулся и на мгновение остановил взгляд на Дэвиде. Глаза у него были серыми и провалившимися от тоски. Потом старик снова сосредоточился на блюде, добавляя в масло прозрачные ломтики чеснока, половинку острого перчика чили… Потом включил газ. Острый запах чеснока наполнил кухню.
— Мне просто хотелось их попробовать, Давидо, попробовать angulas bilbaina[46]. Еще один раз. — Хосе заметно дрожал. — Самые лучшие мальки угря — на реке Дэв, их ловят в безлунные ночи… — старая рука устало потянулась к тарелке, Хосе взял горсть червяков и высыпал их в большое блюдо. С минуту мальки шипели в масле, потом Хосе выудил их ложкой.
— Это очень тонкий процесс. Вынешь их слишком рано — будут невкусными, запоздаешь — будут вконец испорчены. Ну вот, готово…
Он поднял керамическое блюдо и вылил масло с мальками в приготовленное заранее сито. Странный запах поплыл по кухне: наполовину рыбный, наполовину грибной. Хосе завершил готовку, разложив мальков на две тарелки.
— Попробуйте, — он взял из чашки какую-то нарезанную зелень и посыпал блюдо. — Фермина не хочет есть. Присоединитесь ко мне?
— Я, наверное… хорошо.
— Только нужно пользоваться деревянной ложкой; металлическая вилка или ложка испортит весь вкус.
Дэвиду ничего другого не оставалось, как согласиться на трапезу: старик явно очень хотел есть. Мужчины взяли тарелки и перешли в унылую гостиную, где яркий огонь в скромном очаге испускал пряный дым.
Хосе поморщился, положив в рот скользких маленьких угрей.
— Ай… мороженые. Не слишком хороши. Но лучше поддельных. Знаете, как делают фальшивых мальков угря? Да-да, их подделывают, потому что настоящие очень дороги, пятьдесят евро за полкило.
Дэвид ощущал все нарастающий гнев. И нетерпение. Момент настал.
— Хосе… нам необходимо поговорить. Немедленно.
— Их делают из… обработанных особым образом рыбьих внутренностей. Из макрели. Скумбрии. Кто знает, из чего еще. — Хосе вздохнул, почти растроганно. — А настоящие ангулас исчезают, как поэты, как песни басков, как все хорошее…
— Хосе…
— Они даже рисуют крошечные глазки этим фальшивым угрям! Вы можете это представить, Дэвид? Фальшивые маленькие глазки на каких-то кишках!
— Хватит!
Хосе умолк.
Поставив тарелку на грязный дощатый пол, Дэвид начал:
— Послушайте меня. Бабушка Элоизы рассказала мне… кое-что. Это неприятно, Хосе. Но я должен знать.
Хосе покачал головой и присмотрелся к своей порции мальков, явно не обращая внимания на слова Дэвида.
— Хосе! Она сказала, что вы были хорошо известны в Гюрсе.
Старый баск пристально смотрел на серебристых мальков.
Дэвид не отступал.
— Говорят, кое-кто хорошо вас знал как предателя. Это ложь? Или это правда? Вы именно поэтому так упорно молчите все последние дни? К чему вся эта загадочность? Чего вы стыдитесь?
Хосе продолжал сидеть неподвижно, держа на коленях тарелку. Потом поднял на Дэвида водянистые глаза. И их напряженный, страдальческий взгляд заставил Дэвида вздрогнуть; с ним случилось нечто ужасное, или, может быть, Хосе совершил что-то непоправимое?
— Хосе?..
— Это… потому, что… — Его губы побледнели, став почти бесцветными, лицо выглядело серым, как утренний туман над рекой. — Все это правда. Кое-что случилось в Гюрсе.
— Вы были заключенным вместе с моим дедом?
Хосе раскачивался взад-вперед на отсыревшем деревянном стуле.
Дэвид предпринял еще одну попытку:
— Вы сидели в лагере вместе с моим дедом?
— Да.
— Но, Хосе… почему вы сразу не рассказали нам об этом?
— Из-за… много из-за чего. Из-за того, что случилось. Я не могу никому доверять. Когда вам известны такие тайны, как мне, тайны, которые я узнал в Гюрсе, вы понимаете, что следует быть очень осторожным. Всегда, — он скорбно посмотрел на Дэвида. — И тем не менее… Когда я в тот день увидел твое лицо, когда ты пришел ко мне в дом… я вспомнил старого друга Мартинеса, и мне захотелось, чтобы ты узнал всю правду, насколько я в силах был рискнуть… — Старик то и дело вздыхал. — Я чувствовал: ты заслуживаешь того, чтобы узнать, кем был твой дед. Баском. Но ты тоже нуждался в защите.
— От Мигеля?
— От Мигеля. И от многих подобных ему. Но в особенности от Мигеля.
— Это он убил моих родителей?
В гостиной хорошо был слышен шум дождя, заливавшего дом снаружи.
— Да…
Этот ответ как будто выдернул что-то из Хосе, и он содрогнулся всем телом, закрыв глаза. А потом чуть повернул голову и уставился в разбитое окно через плечо Дэвида. Мартинес резко оглянулся, мгновенно преисполнившись тревоги… вроде бы в лесу за садом мелькнула чья-то тень?..
Но из-за дождя трудно было что-либо рассмотреть; может быть, в лесу просто бродил pottok, маленькая дикая лошадка, ищущая только ей известные тропинки… но Дэвиду уже начало казаться, что там, совсем рядом, — Мигель. Что это он подкрадывается к дому, о чем-то перешептываясь со своими сообщниками, а дождь стучит по капоту его красной машины, когда Волк вскидывает пистолет…
Нет; это было невозможно. Никто не знал об этом тайном убежище. Никто не знал, что они отправились в Кампань, не говоря уж о том, что кто-то мог бы знать о том, что за рекой был каготерий… Да и сам дом стоял слишком уединенно; он был так хорошо скрыт за стеной елей, и его можно было обнаружить, только лишь если уткнуться лбом в древнюю каменную перемычку над дверью, с грубо вырезанной в граните гусиной лапкой.
Но тут возникал другой вопрос: а откуда сам Хосе узнал об этом доме? Это ведь было древнее убежище каготов, а не басков. Как мог Хосе Гаровильо очутиться здесь?
И тут Дэвида окатило холодом от нового предположения, сжавшего когтями его мозг: если о доме узнал Хосе, почему не мог узнать Мигель?
Мартинес наклонился вперед. Дальнейший разговор требовал большей настойчивости. Возможно, даже некоторой угрозы.
— Хосе, Мигель знает об этом доме?
— Нет. Я никогда не говорил ему о нем, нет. Если бы он знал, меня бы здесь не было! Однажды я понял, что мне может понадобиться сбежать от него, что мне будет необходимо иметь какое-то место, где можно спрятаться, когда он начнет охоту на меня… или полиция.
— Но вы-то сами как узнали о тайном доме каготов?
Хосе быстро сунул ложку крошечных мальков угря в рот и сжал побелевшие губы.
Дэвид схватил его за другую руку. И сильно сжал ее.
— Рассказывайте! Что случилось в Гюрсе? Из-за чего Мигель убил моих родителей?
Старик скривился от боли. Дэвид еще крепче стиснул его руку. Хосе, перекосившись, выдавил из себя ответ:
— Из-за того, что они чуть не узнали.
— Вы говорите о том, что произошло в Гюрсе? О вашем предательстве?
— Да.
Дэвид только теперь заметил — с нахлынувшим на него презрением, смешанным с жалостью, — что Хосе плачет. Две-три слезинки ползли вниз по морщинистым щекам, когда Гаровильо объяснял:
— Да, я кое-что сделал в Гюрсе. Там такое творилось… Мигель не хотел, чтобы об этом узнали люди…
— Хосе, что именно вы сделали?!
Старик что-то пробормотал; Дэвид наклонился ближе к нему, не расслышав. Хосе повторил:
— Они нас пытали, мучили. Ты не должен забывать: они нас пытали…
— Кто?
— Евгений Фишер…
Дэвид покачал головой.
— Я уже слышал о нем мельком, от бабушки Элоизы. Кто это такой?
— Нацистский врач.
— И что он делал?
Дэвида охватило странное горьковатое возбуждение; он чувствовал, что приближается к трагической сути всей этой тайны. Но при этом он далеко не был уверен, что ему так уж хочется знать ответ; и все равно он хотел его услышать, хотел как никогда.
— Что они там делали? Хосе! Как именно они вас пытали?
— Они нас исследовали. Множество анализов крови. И волос, и… и крови. Исследовали кровь.
— А еще что?
— Там были и другие доктора. А потом появились и католики, много священников. — Хосе дрожал. Он дрожал, как дрожат под холодным горным дождем листья старого дуба…
— И что делали эти священники?
— Они нас жгли. Некоторых из нас. Убивали.
— Но зачем они этим занимались?
Хосе сунул в рот еще немножко уже остывающих маслянистых мальков. А потом сказал:
— Они думали, что мы не люди; они думали, что нас просто необходимо изучать, как змей. Чтобы мы умирали, как язычники или как колдуны… Чтобы они могли завершить свои исследования нашей крови… Евгений Фишер мог передать этим священникам и убийцам еще кого-то из нас… — Хосе в отчаянии взмахнул рукой. — Они нас забирали, они нас сжигали… многих, очень многих. В болоте на краю лагеря.
— Но зачем они так вас терзали? — спросил Дэвид. — Что это было, нечто вроде сожжения ведьм? Как в Сугаррамурди? Когда на костры отправляли басков?
Хосе посмотрел на Дэвида с бесконечной печалью и ответил:
— Нет.
Плечи Мартинеса огорченно обвисли. Тайна продолжала от него ускользать.
Но теперь он разозлился. Разозлился на себя, за то, что никак не мог во всем разобраться, разозлился на деда. Но больше всего Дэвид злился на Хосе. Этот старик мог рассказать и объяснить ему все, разогнать туман, поймать, наконец, дикую лошадку истины. Хосе обязан был исповедаться. Дэвид должен был добраться до сути.
Снова схватив старика за руку, он продолжил расспросы.
— Хосе, люди всегда умирают. Они и сейчас продолжают умирать. Так что же случилось в Гюрсе? Почему вас звали предателем?
Карие глаза закрылись, но Хосе кивал, бормоча:
— Да… ты прав. Пора… да…
Дэвид не собирался отпускать руку Хосе, не в этот раз. Ему уже было наплевать на то, что он причиняет боль старому человеку. И Хосе заговорил, его голос хрипло шелестел:
— Они исследовали всех нас, Дэвид. Множество анализов крови, измерения черепа… Каготы и цыгане, коммунисты и баски, французы и испанцы… все там были… — Хосе посмотрел на пальцы Дэвида, сжимавшие его предплечье. И продолжил: — У Фишера имелись еще и результаты исследований в Намибии, его работа с… народностью бастеров. И, конечно, бушмены… Он рассказал нам все это… он рассказал мне. В особенности мне.
— Не отвлекайтесь. Какое это имеет отношение к баскам? Почему он выбрал именно вас?
— Потому что я стал… — Гаровильо сильно содрогнулся всем телом. — Я стал его союзником. Другом и помощником Фишера.
— Вы именно этого стыдитесь? Того, что помогали Фишеру?
— Да.
— Но почему вы это делали?
— Я думал, что я баск… — Гаровильо снова плакал. — Я родился как баск, я говорю как баск. Я горжусь тем, что я баск…
На черное пятно тайны упал яркий свет. И Дэвид увидел…
— Хосе, вас они тоже исследовали? Проверяли… на расовую принадлежность?!
— Да.
— И они вам сказали, что вы — не баск?
Ответ прозвучал почти неслышным шепотом:
— Да…
— Они что, сказали вам, что вы — кагот?
В оконные стекла колотил дождь. Хосе Гаровильо смотрел на тарелку с наполовину съеденными мальками угря, стоявшую на его коленях, — а потом вдруг поднял ее и швырнул в огонь. Жареные мальки высыпались в умирающий огонь.
Хосе уже невнятно бормотал:
— Да-да-да-да-да! Они мне сказали, что я не баск, что на самом деле мои предки были каготами. Проклятый народ. Люди гусиной лапы, люди с зобом! Безумцы. Сарацины. Неприкасаемые с перепончатыми пальцами! Да!
Дэвид, справившись с изумлением, продолжил расспросы:
— Значит, вы именно потому оказались здесь? В доме каготов? Поэтому вы знали, где он находится?
— Да, Дэвид. Когда Фишер получил результаты моих тестов, они перевели меня из барака с басками в барак с каготами. Нацисты были просто одержимы тем, чтобы… чтобы правильно всех рассортировать. Эта раса там, этот народ здесь. Иудеи — отдельно. Цыгане — отдельно. Они были похожи на хлопотливых старух. Расовая иерархия. Мерзость! Но я так стыдился того, что они сделали со мной, так стыдился… — Хосе стер очередную слезу тыльной стороной ладони, покрытой коричневыми пятнами, и посмотрел на Дэвида в упор. — Меня с детства учили презирать… нет, держаться подальше от каготов. Мы, баски, знали, что это такое — быть париями, быть меньшинством. Мы, в общем, сочувствовали каготам, да. Но все равно где-то в глубине души мы, как французы и испанцы, считали каготов ниже себя, чем-то вроде крыс или змей. Дрянные люди! Что-то с ними не так.
— Значит, Фишер вам сообщил, что по крови вы кагот, а не баск. А потом нацисты перевели вас в ту секцию лагеря, где размещали каготов. Но что случилось потом, Хосе, как вы…
— Там, в бараках, я разговаривал с многими каготами. Они и рассказали мне об этом доме. Они вообще многое мне рассказали о своем народе. О моем народе. Я пытался смотреть на них как на свой народ, пытался поверить, что они мне братья, но…
— Но вы слишком стыдились этого?
— Да.
Дэвид чувствовал, как наконец начинает проявляться логика всей этой странной и чудовищной истории.
— Так что же вы сделали, Хосе? Вы от них отказались?
— Хорошее слово. Отказываться. Да, я отказался от собственной крови. Потому что я хотел жить. В том лагере нацисты и священники были в особенности жестоки именно с каготами; священники называли их сыновьями Каина и пытали и убивали их больше, чем прочих, так что мне хотелось снова стать баском — просто для того, чтобы спасти собственную жизнь. И меня ведь воспитывали как баска, и я продолжал в душе чувствовать себя баском.
— И вы обратились к Евгению Фишеру?
— Да, я пошел к Фишеру и другим докторам. Я сказал им, что если они сделают вид… если они забудут о том, что я кагот, и вернут меня к баскам, я буду им помогать.
— Как именно?
Старик долго смотрел на чуть дышащий огонь.
— Я ведь был тогда очень молод, почти мальчишка, но уже был известен как радикал. Я имел влияние на других молодых басков в лагере. На настоящих басков, — он поднял горестный взгляд на Дэвида. — Баски — очень храбрый народ, у них мятежный дух, неукротимый. Они постоянно задирали нацистов, затрудняя работу Фишера, то и дело пытались бежать… — Хосе покачал головой. — Вот я и стал их выдавать. Да, я стал предателем. Я объяснил Фишеру, что могу воспользоваться своим влиянием, чтобы облегчить ему жизнь. Я мог бы убедить басков объединиться, чтобы можно было разом выявить всех бунтовщиков… Но только если меня переведут из секции каготов и вернут мне мою баскскую кровь.
— И так оно все и было?
Голос Хосе снова упал до шепота.
— Так и было. Они сделали вид, что отправили меня в бараки каготов по ошибке. И я вернулся, меня снова сделали баском! А потом я стал пользоваться своим авторитетом, чтобы… чтобы помогать Евгению Фишеру в его чудовищных экспериментах… Я убеждал людей позволить Фишеру исследовать их. И Фишер стал мне чем-то вроде друга. Он многое мне рассказывал. Он рассказал мне об иудеях…
— Что именно? Что он вам рассказал об иудеях?
Хосе внимательно посмотрел на Дэвида.
— О холокосте. Евгений Фишер объяснил мне, почему немцы сделали то, что сделали. Правду о холокосте. Это все, что я могу сказать.
— Что?!
Веки Хосе трепетали. Как будто старик просто засыпал сидя. Дэвид решил, что Гаровильо, должно быть, устал до полного изнеможения: признание в таких убийственных тайнах, так долго хранимых, вымотало его. Он отпустил руку старика, но продолжил расспросы:
— Хосе, мне необходимо знать как можно больше о Мигеле. Он именно поэтому убил моих родителей, да? Он стыдился того, что по крови он — кагот? Да?
— Да. Это худшая из всех ошибок, какие я когда-либо совершал. Я рассказал своему сыну правду, когда ему было около девятнадцати лет. И он так и не простил меня. Он ведь тоже до того момента так гордился тем, что он — баск… Великий активист ЭТА…
— Ладно, он разозлился. И решил, что мои отец и мать… приехали сюда, чтобы разоблачить его?
— Да…
— А потом он обнаружил, что и я иду по тому же следу. И ему теперь нужно убить и меня.
Ветер встряхнул пыльные стекла окон.
— Да, да, это так. — Хосе поморщился. — Но тут есть и еще кое-что… Давидо.
— Мой дед, вы его имеете в виду? — Дэвид чувствовал, что вопрос висит в воздухе, как сырость в доме. Возвращение прошлого. Призрак, который необходимо изгнать. — Расскажите мне, Хосе. Мой дед… он тоже был коллаборационистом? Сотрудничал с немцами?
— Нет! — Ответ прозвучал почти яростно. — И не думай такого! Твой дед был хорошим человеком. Нет… я имел в виду Мигеля.
— Но в чем дело?
— В моем сыне есть нечто странное и пугающее. Ты должен быть очень осторожен. Иногда я даже думал о том, чтобы самому убить его. Потому что он убивает меня… постоянно. И убьет однажды.
— Почему?
— Так уж он создан. Господом. Мой сын… дурной крови. Так ведь говорят? И все равно я его люблю. Он ведь мой сын. Не забывай, я уже очень стар, мне уже казалось, что у меня никогда не будет детей, но потом молодая Фермина… мы зачали ребенка. Сына. Мы были так счастливы. Ena semea…[47]
Глаза старика вспыхнули, впервые за много дней; но тут же они снова погасли, утонув во тьме.
— Но когда он подрос… мы поняли, что он унаследовал все худшее от каготов. Самое худшее. Но он большой, и сильный, и умный. И у него есть друзья, помощники. Могущественные люди, тебе этого просто не понять. Общество.
— Что за общество?
— Нет. Я не могу сказать. Довольно. Пожалуйста… — Из глаз Хосе градом катились слезы. — Позволь мне скрыть этот последний позор. — Хосе стер с губ масло, оставшееся после мальков. — Я и так уже сказал тебе слишком много. Слишком много, слишком поздно. Если я скажу больше, тебе просто не позволят остаться в живых. Потому что тайна, которую охраняет Мигель, касается не только меня, его и каготов. Все гораздо глубже, Дэвид, и это так ужасно и опасно для всех нас, для всего la humanidad[48]. Тайна, которая убьет тебя, и если не Мигель это сделает, так кто-то другой. Его друзья. Общество. Кто угодно, — старик пристально посмотрел на Дэвида. — Ты понимаешь? Я тебе жизнь спасаю, не рассказывая большего!
Все, что сейчас услышал Дэвид, поставило его в тупик. Это было дико и странно. Он сидел в сумеречной сырости, пытаясь разобраться во всем. Дождь продолжал колотить по крыше. Сквозь окна Мартинес видел туман, изгоняемый из леса ливнем; клубы тумана сползали вниз по склонам, чтобы влиться в быстро мчащиеся воды Адура.
Дэвид предпринял еще одну попытку, задал еще один вопрос. Но Хосе был решительно недоступен. Похоже, с него было более чем довольно.
Тишина. Молчание.
Дэвида охватило сильнейшее разочарование, он ведь хотел спросить еще о многом. О смерти своих родителей. О том, откуда взялись деньги. Было ли это как-то связано с холокостом? Что за тайна могла быть настолько ужасной, что означала собой неминуемую смерть? Но он не собирался задавать все эти вопросы; по крайней мере, прямо сейчас.
Дверь внезапно распахнулась; это была Фермина. Она пылала гневом, она кричала на Хосе, ее браслеты громко звенели, она просто била мужа словами.
Ее яростный монолог произносился на баскском и испанском, но его смысл был понятен; Фермина допытывалась у Хосе, что именно он рассказал Дэвиду. Она обзывала его дураком. Она хотела знать, какие тайны он выдал чужаку.
А потом прямо на глазах у Дэвида молодая жена шагнула вперед и влепила пощечину старому мужу — с невыразимым презрением.
Хосе съежился, но даже не подумал как-то уклониться от удара.
Дэвид был просто парализован этой отвратительной сценой. Он смотрел, онемев и окаменев, как Фермина еще дважды ударила Хосе, а потом схватила мужа за тонкую старую руку и рывком подняла на ноги и потащила из комнаты, как непослушного младенца. Дверь за ними захлопнулась. Заскрипели ступени лестницы.
Оставшись один в самом сердце дома каготов, Дэвид услышал, как где-то наверху хлопнула другая дверь. Все здание содрогнулось в ответ; пропитанная влагой паутина, свисавшая с карнизов над окнами, задрожала, в комнате закружилась пыль…
23
Свет казался каким-то болезненным. Саймон встал и, подойдя к окну, раздвинул занавески. Ему открылась картина относительно спокойного дорожного движения середины утра. Поправив часы на запястье, Куинн проверил время. Было около одиннадцати утра; после долгих ночных мучений он, судя по всему, наконец-то заснул.
Тишина внизу подсказала ему, что Сьюзи и его сын уже ушли. Он, должно быть, проспал все: и как она готовила завтрак и одевала Коннора, и как увезла его в детский сад, прежде чем отправиться на свою смену в госпитале.
Саймон почувствовал, как на него снова нахлынули страх и чувство вины. Снова. Те же самые чувства терзали его всю ночь, всю неделю. Может быть, он никогда уже не сможет нормально спать? Без порции спиртного. Без множества порций спиртного. Он был напуган и не находил себе места. И еще ему было очень, очень скучно. После убийства Фазакерли редактор «Телеграф» отстранил Саймона от этой темы, потому что все становилось уж слишком неприятным. «А что, если они теперь придут за тобой, Саймон? Что, если твои статьи провоцируют убийцу?»
Стоя в одиночестве у окна, журналист смотрел на машины, катящие мимо. Один из автомобилей рванулся вперед, явно рассчитывая проскочить перекресток до смены сигналов светофора, потом резко остановился, взвизгнув тормозами. Саймон испытал привычный всплеск родительского гнева — тормози вовремя, ублюдок! У меня маленький сын… И тут же снова его укололо: а что на самом деле может грозить его сыну? На самом деле? Кого могла заинтересовать его юная жизнь? Кто привел смерть и увечья так близко к его дому?
Он. Отец. Амбициозный карьерист. Он.
Саймон понимал, что сильно рисковал. И сейчас ему хотелось выпить куда сильнее, чем много лет подряд. Он рисковал своей трезвостью, завоеванной с таким трудом. Но что ему было делать? Он не имел ни малейшего желания отправляться на сборища анонимных алкоголиков. Просто ему было скучно, он был напуган, он чувствовал себя виноватым.
Войдя в ванную комнату, Саймон принял очень горячий душ, почистил зубы, что-то натянул на себя, не глядя, и вернулся в спальню, чувствуя себя лишь ненамного лучше.
Может быть, это была не его ошибка.
Конечно, это была его ошибка.
Может быть, это вообще была не его ошибка…
Открыв ноутбук и выйдя в Сеть, Саймон снова просмотрел электронные письма от Томаски и Сандерсона, рассуждавших о смерти Фазакерли, о странном ряде событий и их последствиях.
Через несколько мгновений после того, как он обнаружил профессора, сваренного в его же собственной лабораторной печи, туда ворвались полицейские, вызванные Саймоном. Они быстро выставили за дверь что-то бессвязно бормочущего журналиста, потом опрашивали его, успокаивали, снова опрашивали; даже в последующие дни дважды предоставляли ему бесплатного психолога, специалиста по такого рода травмам…
Но Саймон по-прежнему видел перед собой невыносимую картину в лаборатории проекта «Карта генов» и пытался найти помощь и утешение, посылая детективам электронные письма и звоня им. Он обнаружил, что Томаски отлично умеет слушать: бодрый поляк был искренне верующим католиком, и это помогало; детектив обладал немного мрачным (на славянский лад), но все же вполне лондонским чувством юмора, и это тоже помогало: соленые шуточки насчет смерти, которая «так же плоха, как выходные в Катовице».
Томаски и Сандерсон пытались объяснить Саймону «логику» убийства профессора Фазакерли, говоря, что такого рода вариант — в микроволновой печи — был очень умным и чудовищно эффективным: тихо и быстро, и никаких огнестрельных ран, и никаких следов вроде ДНК убийцы. Убийце не повезло только в том, что мощный мобильник Фазакерли мог ловить сигнал даже внутри металлического ящика.
И тем не менее Саймону все это казалось чем-то вроде гротескной средневековой пытки — быть сваренным заживо в микроволновке… Ведь плазма крови действительно буквально кипела в венах…
Он с глубоким вздохом закрыл почту. Мысль о крови напомнила Саймону о брате; воспоминания были тревожными, но все же ободряли. Ведь прямо сейчас, в эту самую минуту, Тим был надежно заперт. И таким образом Саймон оставался единственным Куинном, имеющим потомство и будущее. И ответственность. Работать, завоевывать место под солнцем и передавать дальше свое имя.
И тут Саймон почувствовал, как к нему возвращаются гордость, довольство собой — и даже гнев.
К чертям все это! Надо, наконец, твердо сказать себе: он не виноват в смерти Фазакерли. Конечно, его статьи могли направить убийцу к профессору; но в равной мере могли и не сделать этого. Как бы то ни было, он журналист, и он просто делал свою работу, найдя некую тему. Шел в нужном направлении. Да, теперь у него болела душа от страха за свою семью… но как еще он мог ее прокормить?
И ничего другого за всем этим не скрывалось: Саймон просто работал, делал карьеру. Но все равно оставалась некая практическая проблема. Как он собирается кормить свою семью теперь? Куинн был свободным художником, самостоятельно искавшим темы, — но его отстранили от его лучшей находки. И больше никаких гонораров. Что он собирается делать сегодня, завтра, на следующей неделе? Вернуться к статейкам о разных жалких мелких преступлениях?
Саймон от скуки решил поискать в Сети «убийства ведьм». Просто чтобы проверить, нет ли чего-нибудь новенького. На всякий случай.
Новых сообщений этим утром было куда меньше по сравнению с тем, что говорилось об убийстве Фазакерли на прошлой неделе: всего лишь одна-две дополнительные заметки. Один американский сайт заново пересказывал всю цепь странных событий для своих наиболее любопытных читателей. Саймон отметил, что этот американский журналист на самом деле просто украл кое-что из статей Саймона и бесстыдно использовал те цитаты из Фазакерли, которые приводил Саймон.
Ублюдки.
Он выпил немного воды. И тут его осенила некая задумка. Весьма хитроумная идея. Что может помешать ему и дальше изучать улики, идти по следу, даже если он так ничего и не опубликует? Он может продолжать писать и вести исследования — пусть даже просто для собственного удовольствия. И пусть ему не дадут вести чисто журналистскую публикацию продолжающейся истории, он в конце концов мог бы… написать книгу? Да! Если собрать все заметки и найти что-то новое, он вполне может написать книгу. А потом, когда все закончится, заработает настоящие деньги. Он может это сделать, чтобы обеспечить жену и сына, и заплатить долг своей совести, а заодно и банку, не раздражая ни своего редактора, ни копов.
Саймон размял пальцы. А потом набросился на поисковые системы.
Фокус, которым он воспользовался, был одним из его любимых приемов при расследовании запутанных историй, когда Куинну были нужны какие-то новые направления: он запускал в Интернет и на новостные серверы выбранные наугад из своих статей слова и фразы, играя кавычками, и смотрел, что из этого получится.
Два часа без передышки Саймон играл словами. Он испробовал самые разные сочетания слов «шотландец», «убийство», «Нэрн», «Карта генов», «Фазакерли» и «баски».
Ничего.
Он продолжил попытки.
Синдактилия, ведьмы, каготы, наследие, умышленное убийство, Ханаан…
Ничего.
Куинн начал снова, используя весь набор слов: классификация, французы, нацисты, сожжение, деформация, пытка, генетика, лишение человека жизни, Гасконь, наследство…
И… вот оно! Да. Ему повезло: две статьи, возможно, связанные с его темой. Целых две.
В первой говорилось об убийстве в Квебеке. Канадский новостной сайт дал краткое сообщение. Очень старая женщина была убита три недели назад в собственном доме в пригороде Монреаля. Женщину застрелили без какой-либо видимой причины. Но Саймон обратил внимание на статью из-за самой последней строчки: женщина была из народа басков и в юности была отправлена в нацистский концентрационный лагерь. В Гюрсе. Французская Страна Басков. Это убийство представляло собой абсолютную загадку, потому что ничего не было украдено, несмотря на состоятельность жертвы.
Это должно было быть связано с убийствами в Англии. Должно было. Но даже если и нет, все равно случай требовал дополнительного расследования. Саймон записал в блокнот детали, потом взялся за следующую статью в сводке новостей. Эта статья повторялась дважды несколько недель назад.
Заголовок гласил: «Странное завещание на два миллиона долларов и тайна басков».
С фотографии смотрел мужчина лет тридцати с небольшим, по имени Дэвид Мартинес; он держал в руке какую-то карту. Мартинес на фотографии неловко улыбался, демонстрируя карту. В статье говорилось, что на карте отмечены определенные места в Стране Басков. Более того, сообщалось, что дед этого молодого мужчины умер, оставив ему два миллиона долларов, — и, согласно газете, это явилось для внука полнейшим сюрпризом.
Саймон еще раз просмотрел статью, чувствуя, как его охватывает волнение. Ему уже не хотелось выпить. Ему хотелось узнать, что все это значит, как это связано с басками, откуда взялась огромная сумма денег, узнать все об очень старом человеке, умершим за тысячи миль от него.
Статья дала ему почти все; здесь даже говорилось, что Дэвид Мартинес был адвокатом в Лондоне, прежде чем получил таинственное наследство.
Понадобилось две минуты, чтобы отыскать «хорошо известную юридическую компанию», в которой служил Дэвид Мартинес: каждая такая фирма выставляла в Интернете список своих адвокатов.
Подойдя к окну, Саймон позвонил по сотовому в фирму Мартинеса. Вялый, невыразительный голос попросил представиться. Саймон Куинн из «Дейли телеграф».
Журналиста довольно долго переадресовывали с номера на номер, просили подождать, снова куда-то переключали, снова просили подождать… но наконец он добрался до в высшей степени высокомерного типа, видимо, начальника Дэвида Мартинеса, — Роланда Де Вильерса, и тот оказался более чем любезен и дал Саймону номер мобильного телефона Мартинеса. А потом босс добавил, видимо, для собственного удовольствия: «Надеюсь, у него большие неприятности».
И резко отключил свой телефон.
Саймон посмотрел на свой блокнот, лежавший на подоконнике. Номер был британским. Саймон набрал его, и в трубке послышались долгие пронзительные гудки, означавшие, что этот парень, Мартинес, был где-то за границей. Возможно, в Испании?
Но потом до Саймона донесся через спутник неуверенный голос:
— Да… Кто это?
24
Запах мороженых мальков висел в воздухе. Туман украдкой просачивался в комнату, бесшумно, понемногу. Дэвид сидел в тишине и промозглом холоде, размышляя над словами Хосе. Потом наконец с некоторой радостью ощутил, что к нему возвращается способность трезво рассуждать. Ему необходимо было поговорить с Эми. Рассказать ей все, что услышал.
— Эми!
Его голос гулко разнесся по комнате. Дэвид позвал еще раз:
— Эми?
Где она? Дэвид не видел ее уже около часа. Вряд ли можно было предположить, что она вышла погулять под дождем.
Он позвал девушку еще раз. Звук его голоса оттолкнулся от гниющего дерева, пронесся по пустому коридору. Тишина.
Быстрый осмотр комнат дал Дэвиду знать, что на первом этаже Эми нет: он слышал только непрерывный шорох крысиных лап и хвостов, когда грызуны разбегались при его приближении к каждой из всех этих непривлекательных комнат.
А как насчет их общей комнаты? Его и Эми? Той, где они разговаривали ночь напролет?
Он должен подняться наверх; он должен пройти по лестнице… Звук его шагов не заглушил биения сердца, громко колотившегося в ушах Дэвида, когда он снова позвал девушку — и снова не дождался ответа, в коридоре наверху тоже было пусто.
Он толкнул дверь, и в то же мгновение в его памяти вспыхнула воображаемая картина смерти родителей в автомобиле, вспыхнула внезапно и ярко. Разбитая голова его матери, тихо стекающая из полуоткрытого рта кровь…
А если то же самое случилось и с Эми? Все, с кем он близок, уходят, всех забирают у него… всех…
Дэвид окинул взглядом комнату, которую они делили с Эми. Пусто. Здесь не было даже крыс, даже какой-нибудь вороны снаружи на подоконнике. Койки стояли все так же, сдвинутые друг к другу; на облупившейся стене все так же криво висело изображение какого-то святого иезуита. Потолок был в пятнах сырости, как в трущобах.
Оставалась неосмотренной только одна комната, спальня Фермины и Хосе. И можно было не сомневаться, что дверь той комнаты крепко заперта, ограждая обитателей от мира.
Может быть, она все-таки там?
Дэвид набрался храбрости и, пройдя по коридору, позвал через дверь: «Эми, Эми…» — но ответом ему была тишина, способная вызвать клаустрофобию.
Это было невыносимо. Дэвиду отчаянно захотелось броситься вниз, отыскать наконец правду и найти Эми — а потом бежать, бежать из этого ужасного дома, от этой гнетущей путаницы; боль уничтожаемых каготов — униженных, изгнанных, заклейменных, — казалось, насквозь пропитала эти стены, просочившись в кирпичи и известку. Дэвиду хотелось найти Эми и поскорее уехать.
Он уже занес кулак, чтобы постучать в запертую дверь. Он готов был вышибить эту дверь, если понадобится.
Но его остановил чей-то голос — прямо у него за спиной.
— Дэвид?..
Он резко обернулся. Это была Эми.
— Где ты пропадала?!
— Внизу… — Эми встряхнула головой. — В подвале… проверить хотела…
Что?
— Ходы. Chemins des Cagots. Ты помнишь? Элоиза говорила, что здесь некогда были подземные ходы, построенные каготами. Я подумала, если вдруг что-то произойдет, мы могли бы воспользоваться ими… но я ничего не нашла, там просто подвал…
Дэвид положил ладони ей на плечи.
— Хосе мне рассказал… рассказал все, все. А теперь заперся там, с Ферминой.
Он, нахмурившись, кивнул налево, указывая на дверь спальни.
— Но почему?..
Дэвид начал объяснять.
Но почти сразу умолк. Их с Эми разговор был прерван ужасным звуком, слишком хорошо знакомым.
Выстрел. А потом второй.
В спальне Гаровильо.
Дэвид и Эми бросились к двери и налегли на нее. Гнилое дерево и ржавый замок сопротивлялись минуту, потом вторую… Но доски двери были насквозь изъедены червями, а петли были слишком древними; наконец доски разъехались, замок соскочил и дверь распахнулась. Дэвид и Эми ворвались в спальню.
Молодой человек замер, глядя в другой конец комнаты, чувствуя, как его сердце как будто съеживается от горького отвращения. Эми прижала ладонь к лицу, сдерживая крик.
В двух креслах находились два трупа.
Фермина Гаровильо была убита выстрелом в висок, почти в упор, и половина ее головы просто исчезла; непристойного вида рана была как бы отражена и удвоена пятном крови, распластавшимся на стене по соседству. Хосе, похоже, сначала убил жену — а уж потом повернул ствол пистолета к себе. И его рана выглядела еще хуже: он снес себе всю верхнюю часть головы. Пороховой ожог на тонких белых губах говорил о том, как именно он это сделал: всунул ствол пистолета между зубами и нажал спуск… вышибив напрочь собственные мозги.
Кровь на потолке и на стене за спиной Хосе подтверждали догадку. Дэвид еще раз бросил короткий взгляд на серое, похожее на желе вещество, еще не упавшее со спинки стула, — и почувствовал, как к горлу подступает тошнота.
Но почему?
Почему они это сделали?
Некий ответ… верный ответ пришел мгновенно. Это был угрожающий звук мотора и шорох шин снаружи.
Дэвид быстро подошел к окну и выглянул на улицу, и все его мышцы болезненно напряглись от тревоги. Да, верно. Так оно и есть. Возможно, это и была причина, по которой Хосе и Фермина покончили с собой. Красная машина медленно ползла между деревьями, с которых стекала вода. В машине наверняка сидел Мигель. Дэвид вспомнил слова старого Хосе: «Однажды он убьет меня».
Эми подошла к Дэвиду и тоже посмотрела в окно. И тут же одновременно вздрогнула и выругалась.
Но у них еще оставалась слабая надежда. Красная машина замедлила ход, остановилась, а потом двинулась в неверном направлении. Дэвид с крошечным всплеском надежды осознал, что Мигель только еще их ищет. Что Волк не знает точно, где находится дом, и просто ездит туда-сюда по местным дорогам. Кто знает, сколько еще времени ему понадобится… Хотя он и узнал об их бегстве в Кампань — возможно, пытая Элоизу? — ему осталось неизвестным точное расположение убежища.
И все равно это не задержит его надолго. Так или иначе он обнаружит скрытый поворот. И тогда проедет мимо зарослей кустарника и посмотрит в нужную сторону. И увидит дом. А потом войдет в него и убьет их. И так далее… то есть всё.
— Пистолет! — тихо сказала Эми.
— Что?
— Здесь же должен быть пистолет.
Она была права. Дэвид быстро осмотрел комнату в поисках оружия Хосе. Ведь старик из чего-то убил жену и себя. И вот, наконец, в сером свете блеснул черный металл. Дэвид просунул руку между безжизненными ногами Хосе и поднял пистолет. Тот был еще теплым. Дэвид предположил, что в обойме должны были остаться патроны. Ведь выстрелов было всего два. Он поднял пистолет вверх и направил в потолок.
На какую-то секунду безумие всего происходящего ошеломило Дэвида: совсем недавно он был сонным адвокатом в агентстве, обслуживающем шоу-бизнес. Ездил в метро, дома разогревал в микроволновке карри, иной раз пропускал пинту пива с приятелями. Если ему везло, занимался безрадостным сексом с какой-нибудь женщиной, которую не любил. А теперь он был напуганным и разгневанным преследуемым — но вот ведь парадокс: он ощущал себя более живым, чем когда-либо прежде.
И теперь ему хотелось жить; он отчаянно хотел жить. Узнать, наконец, истинную, глубинную причину убийства его родителей и отомстить за их смерть. Но первым делом необходимо было сбежать отсюда.
— Сад за домом, — сказала Эми, явно уже справившись с истерикой. Она была сильной женщиной, и она выглядела сильно разозленной. — Если через сад и через ущелье? Можем мы уйти в ту сторону?
Они быстро вышли из спальни, пробежали по коридору; отсыревшие старые доски стонали и трещали, когда Дэвид и Эми спускались вниз, к задней двери дома, откуда через сад и калитку можно было выйти в лес. Но Эми вдруг дернула его за руку.
— Послушай!
Дэвид прислушался; Эми не ошиблась. Голоса. Там, в саду… или, возможно, за стеной, в лесу.
— Мы не можем рисковать, — прошептала Эми. — Дорога?
— Там Мигель.
Они вздохнули от разочарования и страха. Но Дэвид уже чувствовал, как в нем нарастает ярость.
— Мы тут застряли! Черт побери, мы просто попались! Он загнал нас в ловушку!
— Нет. Подвал. — Эми схватила его за руку. — Я уверена, оттуда есть выходы. Идем, мы должны их найти!
Они повернулись и бегом бросились по заплесневевшему коридору, повернули направо… Старая дверь в подвал находилась под лестницей. Дэвид схватился за ее ручку.
Тихий звук автомобильного мотора был отчетливо слышен. Где-то там, под дождем, среди развалин гетто каготов машина подбиралась все ближе и ближе, ползя мимо старых коттеджей, разыскивая поворот, который приведет к убежищу. Голоса снаружи, в лесу за домом, тоже были по-прежнему слышны. Они даже приблизились.
Сразу за дверью подвала начинались грязные ступени, уходящие вниз, в темный-претемный подземный мир убежища каготов.
Но у них не было выбора. Дэвид следом за Эми начал спускаться вниз, в черноту. Он повернулся и тщательно закрыл за собой дверь, отрезав остатки света, погрузившись в еще более густую тьму. Двое беглецов как будто утонули в ночи.
— Эми…
— Да?
— Ты как там?
— Это уже пол… я думаю.
Дэвид достал из кармана телефон и включил его, чтобы в свете монитора хоть что-то увидеть; слабое мерцание осветило гулкий черный подвал. Дэвид огляделся по сторонам.
— Погоди…
Эми приложила к губам палец. Они замерли, онемев. Напуганные. Отчетливо слышались мужские голоса. В доме.
— Здесь несколько частей…
Дэвид прищурился. Теперь, когда его глаза немного привыкли к темноте, он смог оценить истинные размеры этого подвала. Он был огромен — высокие сводчатые потолки и гигантское пространство, уходящее во тьму; это был настоящий средневековый подвал. Наверное, когда-то его использовали для хранения припасов, когда каготам приходилось здесь прятаться.
От центрального, главного помещения уводили двери из дерева и железа; за ними, судя по всему, скрывались другие, еще более темные, сырые и холодные помещения. Три двери были открыты, две — закрыты.
— Нам нужно осмотреть… те части…
Они заглянули в первое отделение. В этом дополнительном подвале было так холодно и промозгло, что из их ртов вырывались клубы пара. Дэвид посветил телефоном вокруг. На перемычке двери была вырезана гусиная лапка. Метка Каина. Дэвид быстро повел телефоном в разные стороны, но вокруг было пусто. Вдоль стены тянулась каменная скамья, но ни на ней, ни под ней ничего не было. В воздухе попахивало тухлятиной.
Наверху послышались новые звуки. Потом по ступеням лестницы тяжело затопали башмаки. Мужчины осматривали верхний этаж дома. Они вот-вот должны были найти Хосе и Фермину. Это могло их немного задержать. Дэвид попытался представить реакцию Мигеля. Что он почувствует, увидев ужасающую картину смерти своих родителей? Скорее всего, взбесится, как никогда прежде.
А потом террорист сообразит кое-что и спустится вниз. И найдет дверь в подвал.
Пытаясь подавить панический страх, Дэвид направился к следующему отделению подвала. Но оно было таким же, как первое, — пустым, длинным и пропитанным странным запахом. Тревога нарастала в Дэвиде, колотясь внутри, как барабанный бой. Набирая темп.
Он прошел дальше в помещение, чтобы убедиться, что ничего не пропустил. Но здесь ничего не было. Третье помещение ничем не отличалось от двух первых: в нем не было дополнительных дверей. Теперь уже было слышно низкий голос Мигеля — в коридоре наверху. Он что-то кричал. Скоро он начнет искать вход в подвал.
Они должны были осмотреть четвертое, предпоследнее помещение. Но оно было закрыто. Высокая железная дверь поросла лишайниками, поселившимися на слое грязи.
— Попробуй! — прошептала Эми. — Мы должны…
— Держи телефон.
Эми взяла телефон и светила Дэвиду, пока он яростно тянул и дергал холодную металлическую ручку. Он потянул раз, другой, сильнее, еще сильнее… Дверь тронулась с места, очень медленно. Она хрипела и жаловалась, с трудом уступая отчаянным усилиям Дэвида. Металл обиженно скрипел по камню — а потом как будто вдруг взорвался: дверь разом распахнулась, и на Дэвида с Эми хлынул бешеный поток темной вонючей жидкости, волна густой зловонной смеси, настолько сильная, что сбила их обоих с ног.
Они скользили и задыхались, пытаясь подняться в этой густой вязкой воде; и Дэвид, спотыкаясь и ловя ногами ускользающий пол, видел в этом потоке размякшие остатки плоти, перекошенные человеческие головы, отделенные от тел руки… головы наполовину разложились, волосы над одним из сгнивших лиц были похожи на ржавую коричневую проволоку… из полос отвалившихся мышц торчала локтевая кость…
— Эми?..
Она тоже пыталась встать, увязая в мешанине останков тел. Дэвид посмотрел на нее, онемев от ужаса. Они оба были сплошь покрыты зеленовато-коричневой восковой слизью. И Дэвид уже не мог удержаться; его вырвало, сильно и быстро, потом еще раз… Эми задыхалась от кашля, поднимаясь на ноги; потом, похоже, она взяла себя в руки и закрыла глаза, а потом снова их открыла и показала на потолок.
Голоса наверху звучали громче, ближе, злее, мужчины обыскивали дом.
— Последняя дверь… куда деваться… — прошипела Эми.
Спотыкаясь об останки, они подошли к последней двери.
Безумие происходящего не уменьшало приближавшейся опасности. Они вместе потянули за ручку двери; металл скользил под их покрытыми омерзительной слизью пальцами. На лице Эми был написан неприкрытый страх — что, если оттуда хлынет еще один поток, поток плоти и костей? — но ничего такого не произошло. Дверь открылась довольно легко. За ней скрывалось сухое высокое помещение, а в конце его… в конце был туннель. Затянутый паутиной, длинный и мрачный и уходящий в еще большую темноту.
— Chemin![49]
Эми уже нырнула туда, маня Дэвида за собой. Мартинес задержался только для того, чтобы закрыть за собой дверь в последнее помещение. Тихо и старательно. Конечно, никого она не остановит. Не ей останавливать Волка. Эта мнимая преграда может только задержать преследователей на одну-две жизненно важные минуты.
— Да, иду…
Тоннель был слишком низким, чтобы можно было просто по нему идти; им пришлось согнуться почти вдвое и бежать так, словно они превратились в каких-нибудь насекомых.
Но они наконец-то действительно удалялись от дома. Шаги и голоса были уже почти не слышны. Но что будет, когда мужчины найдут дверь подвала и спустятся вниз?
— А теперь куда?
Дэвид повел телефоном вправо-влево, и жалкий свет открыл перед ними новые тоннели, отделявшиеся от основного. Потолок ближайшего прохода был битком набит червями, розовыми, шевелящимися. Дэвид остро ощутил липкую жижу, покрывшую его джинсы, он весь был облеплен разлагающимися человеческими останками, смазан пеной древнего человеческого жира… И Дэвида снова одолела тошнота.
— Сюда, — с трудом выговорила Эми, показывая налево. — Этот должен… точно, должен вести в лес.
— Вперед!
Они продолжали путь в испуганном молчании, пока их движение не остановил тихий гул, за которым послышался звук падающих капель: вода просачивалась сквозь почву над ними и стекала по грязным стенам.
— Адур? — тихо произнесла Эми. — Мы пошли в другом направлении…
— Теперь уже поздно поворачивать. — Дэвид схватил влажную руку Эми. — Быстрее…
Еще через несколько метров грязный туннель начал расширяться, стал выше — настолько, что уже почти можно было идти в полный рост. А потом и почти бежать.
И они побежали. Туннель повернул налево, направо, а потом закончился у каких-то ступеней, выбитых в плотно утрамбованной земле. А наверху, над ступенями, они увидели люк.
— Он может открываться куда угодно, — сказала Эми. — В чей-нибудь дом. В boulangerie[50].
— Мы их здорово удивим…
Дэвид поднялся по земляным ступеням и с силой нажал плечом на люк; деревянная конструкция начала поддаваться, на лицо Дэвида упал слабый свет — и люк вдруг распахнулся с громким ударом. Дэвид огляделся… четыре лица таращились на него, ухмыляясь.
Что?..
Но это не были человеческие лица: это были четыре тряпичные куклы: mounaques Кампани. Семейство тряпичных кукол, усевшееся на передней скамье в церкви.
Эти куклы непрерывно улыбались. Улыбались, глядя на то, как Дэвид выбирался из люка, потом наклонялся и вытаскивал на поверхность Эми. Она осмотрелась по сторонам.
— Церковь… ну конечно.
Дэвид кивнул.
— Нам лучше избавиться от нашей одежды… можем у них позаимствовать… пусть пользу принесут.
Он показал на тряпичных кукол. И через несколько минут они оба уже разделись, забрав из карманов деньги и прочие мелочи, и натянули на себя кукольную одежду, мешковатые джинсы и джемперы. Дэвид отбросил в сторону свои вещи, стараясь не думать о том, что именно… какая именно грязь прикасалась к его коже.
— Порядок? — спросил он.
Эми снятым с себя джемпером вытирала голову. Девушка содрогнулась.
— Боже мой… Дэвид… Что это было такое? Там, в подвале.
— Трупная жидкость.
— Что?!
— Если хранить тела в герметичном пространстве, без доступа воздуха, долгие века, они разлагаются… определенным образом. Но…
— Но превращаются в жидкость?
— Постепенно. — Дэвид осмотрел церковь, пытаясь сообразить, что им делать дальше.
Эми не отставала:
— Объясни же!
— Тела постепенно, очень медленно превращаются в жировоск… трупный воск. Нечто похожее на зернистый пчелиный воск. А потом, с течением веков, они снова меняются, становясь… — Дэвид старался не думать о том, что говорит, — чем-то вроде густого супа. С остатками плоти. Мне очень жаль. Но это именно то, что мы там нашли.
— А откуда ты все это знаешь?
— Биохимия человека. Прослушал курс.
Эми дрожала с головы до ног.
— Ох, Боже… ох, Боже… ох, Боже…
Она плотно зажмурила глаза, побледнев от ужаса. Дэвид решил не говорить ей о своих худших опасениях. Одной из причин того, что вы складываете трупы так тщательно и усердно, может быть ваш страх того, что они таят в себе страшную болезнь. Заразную болезнь.
— Ладно, ладно, — пробормотала наконец Эми, открывая глаза. — Всё в порядке. Но Хосе… — она глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. — Бедный Хосе… А теперь что?
— Надо убираться из Кампани ко всем чертям.
Дэвид осторожно подошел к входной двери и приоткрыл ее. Они с Эми крадучись прошли по дорожке через заросший травой церковный двор к главным железным воротам. И посмотрели на улицу. Вокруг не было ни людей, ни машин; единственным человеческим существом оказалась какая-то старуха, спешившая куда-то по серой и пустынной центральной улице, прикрываясь зонтом.
— Бежим!..
Они рванули вон с церковного двора, понеслись по тихой главной улице Кампани, мимо последних обветшалых домов, прямо в поля. И продолжали бежать, бежать…
Через двадцать минут Эми потребовала остановки и согнулась, уперев ладони в колени, задыхаясь и вздрагивая. Дэвид тоже остановился, лишенный сил, и огляделся по сторонам. Они добрались до места слияния дорог; впереди видны были машины, мчащиеся по шоссе.
Эми снова рванула с места.
— Мы должны поймать попутку! Нам надо проголосовать…
— Но куда мы…
— В Биарриц! Вообще куда-нибудь, где шумно, где много людей, где мы сможем затеряться. Эта дорога ведет в Биарриц!
Дэвид поспешил за ней, а Эми уже бежала к дороге, подняв вверх большой палец, надеясь, что кто-то остановится. Мартинес был в отчаянии: да какой дурак станет тормозить ради них? Одеты как бродяги, лица испуганные, перемазаны чем-то невыразимо вонючим…
Но через пять минут рядом с ними остановился французский грузовик с яблоками; шофер перегнулся со своего места и распахнул пассажирскую дверцу. Они забрались в кабину, многословно благодаря добряка. Он посмотрел на их одежду, втянул носом воздух, потом пожал плечами… и тронул машину с места.
Они сбежали. Они удалялись от Кампани. Они неслись по громыхающей автотрассе к Биаррицу. Дэвид откинулся на спинку сиденья; руки у него болели, в мыслях была полная сумятица. Он старался немного успокоиться. Но тут послышался писк телефона. Дэвид похлопал по достойным огородного пугала джинсам. Он и забыл, что включил телефон, чтобы воспользоваться его светом; в последнее время он постоянно держал мобильник выключенным, на тот случай, если Мигель выслеживает и его номер тоже.
Когда Дэвид достал телефон из кармана, его охватило чувство несоответствия, неуместности здесь этого признака современного мира и безумия ситуации. Он только что тонул в море мертвых тел — и вдруг телефонный звонок…
На дисплее мигал британский номер. Дэвид ответил.
А потом ему пришлось пережить самый странный разговор в его жизни. С журналистом из Англии. С журналистом по имени Саймон Куинн. Разговор продолжался почти час; к тому времени они уже ехали через гасконские холмы, подбираясь к Камбо-ле-Бану.
Дэвид наконец отсоединился. А потом набрал один номер, которым пользовался очень редко; как только ему ответили, он открыл окно кабины и с огромным облегчением выбросил мокрый, грязный телефон в высокую траву на обочине. Если кто-то и отслеживает его звонки, они смогут проследить его только до Камбо-ле-Бана.
Эми спала рядом с ним. Водитель грузовика энергично курил, не обращая никого внимания на пассажиров.
Дэвид задумчиво откинулся на спинку. Телефонный звонок этого журналиста был странным. Что все это значит? Убийства в Британии? Ученые? Генетика?
Деформации?
25
К концу телефонного разговора у Саймона устала рука, потому что он непрерывно делал записи. Журналист поблагодарил Дэвида Мартинеса и отключился, после чего упал на кровать и его глаза загорелись от нахлынувших на него мыслей и идей.
Невероятно. Это было воистину невероятно! И это напряжение в голосе собеседника… Через что ему пришлось пройти? Что сейчас происходит там, в Пиренеях?
Как бы там ни было, этот телефонный разговор стал настоящим открытием. Прорывом… и это необходимо отпраздновать. Саймон чуть ли не бегом помчался вниз, на первый этаж. Ему необходимо поговорить с Сандерсоном, и ему необходимо выпить чашку кофе.
Засыпая в кофеварку темный колумбийский кофе, он набрал номер Нового Скотланд-Ярда. Одновременно ему пришло в голову, что Сандерсона может рассердить то, что журналист так упорно продолжает заниматься этой историей; но ему также пришло в голову и то, что инспектора может крайне заинтересовать новая информация.
Но до Сандерсона он не дозвонился. Его соединили с Томаски. Молодой детектив, похоже, слушал его с весьма лестным для журналиста интересом; а Саймон, рассказывая всю историю, чувствовал себя на седьмом небе от своего успеха. Это было нечто! Теперь у них имелось объяснение: синдактилия. Да.
Объясняя все это детективу, Саймон одновременно проклинал себя за то, что не сумел раньше самостоятельно установить эту связь, — как только Эмма Вайнард упомянула о каготах, ему следовало узнать о них все! А потом он мог и вытянуть всю цепочку: перепончатые пальцы, каготы, Пиренеи.
Но он хотя бы первым добрался до конца нити.
Кофе сварился, чашка наполнилась. Пришел черед говорить Томаски, а журналист пока прихлебывал кофе.
— Так значит, Саймон, — начал сержант, — вы утверждаете, что эти люди… какоты…
— Каготы. Ка-готы.
— Да, так. Так вы утверждаете, что эти ка… готы все страдают деформациями? Что у них у всех перепонки между пальцами на руках или ногах?
— Ничего подобного. Но именно это считалось одной из характеристик каготов. Еще со Средневековья. Именно поэтому их заставляли носить на одежде гусиную лапку! Как символ и обозначение их дефектности.
— Но почему? Почему у них такие перепонки?
— Генетика. Это ведь горный народ, у них в ходу близкородственные браки. Подобные уродства — обычное дело для изолированных поселений с недостаточно широким набором генов. От этого выявляются разные побочные признаки. Понятно?
— Вполне. — Томаски некоторое время молчал. Потом добавил: — И вы говорите, что наши жертвы — это… каготы? Кто-то убивает этих?..
— Похоже на то, Эндрю. Не знаю почему, но мы точно знаем, что некоторые из них — каготы и что тех, кто одновременно и кагот, и имеет какое-то уродство, пытали. И такие убийства происходят везде. Франция, Британия, Канада. — Саймон глубоко вздохнул. — И некоторые из них очень, очень стары, и они находились во время войны в оккупированной Франции, возможно, в том же концлагере в Гюрсе. Может, именно это и связывает их всех. И кое-кто из них имел очень большие деньги… — Саймону хотелось смеяться при упоминании этого изумительного факта, ведь это было доказательством! — Мне очень нужно поговорить с Бобом Сандерсоном. Он должен об этом узнать!
— Конечно. Я все понял. Я скажу старшему инспектору, как только его увижу.
— Отлично. Спасибо, Эндрю.
Саймон дал отбой и, положив телефон, уставился в окно. С полчаса он радовался своему открытию. Потом его внутренняя ликующая песнь счастья слилась со звуком дверного звонка. Журналист промчался через вестибюль и открыл дверь. За ней стоял Эндрю Томаски. Саймон вытаращил глаза.
— Привет, детектив. Я думал…
Полисмен ворвался в дом и резко захлопнул за собой дверь. Саймон отступил назад.
26
Томаски зарычал от ярости, когда его первый взмах ножом не достиг цели и лезвие прошло на дюйм мимо шеи Саймона.
Журналист задохнулся, когда ощутил порез после второго взмаха, и дернулся в сторону, отбивая нож, — но Томаски ринулся на него в третий раз, прыгнув вперед и сбив журналиста с ног. На этот раз он одной рукой схватил свою жертву за горло, а нож направил в глаз Саймона.
Задыхаясь и давясь, журналист успел перехватить руку детектива в самый последний момент. Острие замерло буквально в нескольких миллиметрах от его зрачка, дрожа от бешеных усилий обоих мужчин.
Томаски напирал, журналист держал его за запястье и толкал руку вверх. Они лежали на полу. Нож был слишком близко, чтобы Саймон мог его рассмотреть, это было просто некое угрожающе размытое пятно, нависшая над ним серая масса. Острие ножа придвинулось, журналист содрогнулся — его собирались ослепить, а потом убить. Вонзить лезвие прямо в мозг через глазницу.
Он рефлекторно моргал, смахивая слезы. Где-то послышался громкий шум — Саймон даже не понял, где именно. Лезвие ножа вздрогнуло от нового усилия, приложенного к нему борющимися. Куинн закричал и сделал последнюю попытку оттолкнуть лезвие, но он уже проиграл схватку. Саймон закрыл глаза и приготовился к тому, что сталь сейчас вонзится в мягкую ткань глазного яблока, а потом прорвется прямиком в мозг…
Но вместо этого на его лицо внезапно пролилась какая-то влага, как будто он ткнулся носом в густое бланманже; а Томаски вдруг превратился просто в тело, в неживую тяжесть, обрушившуюся на Саймона… Журналист с трудом столкнул мертвого полицейского со своей груди и посмотрел вверх.
Сандерсон.
Старший инспектор стоял в дверях; рядом с ним Саймон увидел какого-то полисмена в бронежилете. Дверь была распахнута настежь. Полисмен в бронежилете держал в руке пистолет.
— Хороший выстрел, Ричман.
— Да, сэр.
Сандерсон наклонился и рывком поднял журналиста на ноги. Но Саймон, поднявшись, понял, что его колени слишком сильно дрожат, что он весь трясется от страха и пережитого потрясения; и он снова опустился на пол. Куинн уставился на труп Томаски. Почти вся его голова была снесена выстрелом с близкого расстояния. Череп разлетелся вдребезги, и его куски валялись по всему холлу.
Потом журналист остро ощутил влагу на своем лице. Вязкую влагу. На его лице была кровь Томаски, а может быть, и мозги… Горло Саймона сжалось от подступившей тошноты, и он бросился наверх, в ванную комнату, где прежде всего отвернулся от зеркала; он не желал видеть себя покрытым чужими мозгами и кровью. Журналист снова и снова обливал лицо водой; он использовал целую коробку салфеток, полбутылки жидкого мыла, потом, наконец, стал полоскать рот, и его чуть не вырвало, но он прополоскал горло еще раз…
И только после этого он посмотрелся в зеркало. Его лицо было чистым. Но что-то осталось на щеке, глубоко вонзившись в кожу. Что-то похожее на маленький осколок стекла, зарывшийся в его плоть. Наклонившись поближе к зеркалу, Саймон осторожно вытащил это «нечто» из кожи.
Это оказался осколок зуба Томаски.
— Союз польских семей.
Голос был знакомым. Позади, в дверях верхнего коридора, стоял старший инспектор Сандерсон.
— Что?..
— Томаски. Мы уже довольно давно следили за этим ублюдком. Извини, что он сумел к тебе подобраться. Мы прослушивали его звонки, но он сумел ускользнуть из здания…
— И ты…
— Прости, приятель. Пришлось вызвать спецназ. Мы слишком долго ждали.
У Саймона все еще дрожали от страха руки. Он осторожно поднял одну, просто чтобы проверить, как обстоят дела. Посмотрел, как трясутся пальцы. Схватил полотенце, вытер лицо. Он старался взять себя в руки, держаться как мужчина. Но ничего у него не вышло.
— А почему вы его подозревали?
Сандерсон грустно, сочувственно улыбнулся.
— Да было кое-что странное. То завязывание узлом, пытка… помнишь?
— Да.
— Ты за час сумел выяснить, что это особая пытка, которая применялась к ведьмам. А Томаски этого не сделал. Я приставил его к этому делу раньше, чем ты к нам присоединился, но он якобы не нашел ничего подобного. А он ведь был умным полицейским. Так что… не вязалось все это вместе, — старший инспектор показал на лицо Саймона. — У тебя все еще идет кровь.
Саймон снова повернулся к зеркалу. Ранка, оставшаяся на месте вонзившегося в щеку зуба, действительно кровоточила. Но не слишком сильно. Обшарив шкафчик в ванной, Куинн нашел вату и, скатав небольшой ее клочок в тампон, смочил его водой и приложил к щеке. Белая вата, красная вата, чистая вода, розовая вода… Кровь в воде. Сандерсон продолжал говорить.
— Когда я это заметил — я имею в виду то «связывание узлом», — я сразу заинтересовался. Вспомнил прежде всего, что Томаски сам очень хотел участвовать в расследовании этого случая. Очень-очень хотел. А потом мы обнаружили, что он принимал некоторые телефонные сообщения, предназначенные для меня, а мне ничего не говорил, — вроде того звонка от Эдит Тэйт. И другие версии как бы не замечал. Поэтому мы покопались в его прошлом…
Журналист взмахнул рукой, глянув на Сандерсона. Ему хотелось выйти из ванной комнаты. Ему хотелось выйти из дома. Он слышал внизу голоса. Наверное, там прибавилось полицейских. Снаружи перед дверью уже стояла медицинская машина, готовая увезти труп.
Они спустились вниз, на площадку лестницы, и перегнулись через перила, глядя в холл. Тело все еще лежало там, вокруг него суетились парамедики. Большое пятно крови, как яркая красная краска, расплылось на блестящем деревянном полу. Этот пол был предметом особой гордости и радости Сьюзи. Саймону некстати пришла в голову мысль, что жена, должно быть, ужасно рассердится из-за испорченного пола.
— Ты сказал что-то о его прошлом?
— Ага, — кивнул Сандерсон. — В общем, он поляк. Приехал сюда с семьей около десяти лет назад. На учете в полиции не состоял. Никаких сведений о чем-либо подозрительном, он даже учился на священника… или монаха, что-то такое. Но его отец был важной фигурой в Союзе польских семей. А его брат работал на радио «Мария».
— А это?..
— Ультраправые националисты, ультракатолические политические партии. Связаны с националистами во Франции и разными католическими сектами вроде секты Папы Пия X. Большинство из них абсолютно законны, но… с радикально правыми программами. Предельно правыми.
— Так он был нацистом?
— Нет. Все эти компании, насколько мы можем утверждать, не совсем нацисты. Они куда больше сосредоточены на идее дома, домашнего очага. Благословенная Дева Мария и симпатичная большая армия… Они на самом деле не нацелены на то, чтобы вышибать дух из чернокожих. Или убивать англо-ирландских журналистов. В целом нет.
— Я что-то не понимаю.
— Да и я тоже, приятель, и я тоже. — Сандерсон бросил на журналиста оценивающий взгляд. — Но тут может быть некая связь… ну, понимаешь, с этой твоей теорией насчет ведьм. Она нас насторожила. Мы продолжали следить за Томаски. Он очень часто ходил в церковь. Ведьмы и церкви, церкви и ведьмы… кто знает?
— Так вы прослушивали мой разговор с ним?
— Именно так, — подтвердил Сандерсон. — Он, должно быть, решил, что ты вышел на нечто важное, на что-то такое, что он хотел скрыть. И потому ему только одно и оставалось: избавиться от тебя.
— Дело в каготах?
— Ага, похоже на то. Это ведь был главный пункт твоего разговора с Томаски. А те бедняги во Франции?.. Очень интересно. Но что, черт побери, все это значит?
— Не понял?..
Старший инспектор на мгновение помрачнел, уйдя в себя. Но тут же продолжил:
— Помнишь, что я тебе как-то говорил? И ведь прав оказался.
— А что ты говорил?
— Это все не просто так, Куинн, это все не просто так. Тут что-то кроется. Черт его знает, что именно… — Сандерсон как будто очнулся. — Ладно. Давай как-то все это систематизировать. Хватит просто болтать. Сначала мы должны официально опросить тебя. А потом, боюсь…
— Что?..
— Боюсь, нам придется приставить к тебе охрану. Всего лишь на время. И к твоим ближайшим родственникам.
Они спустились по оставшимся ступеням, прошли мимо тела Томаски. Осторожно, на цыпочках, пробрались между кровавыми пятнами, извинившись перед парамедиками и криминальными фотографами. Насыщенный влагой серый воздух конца сентября взбодрил их. Солнце пыталось пробиться сквозь облака.
Сандерсон открыл перед Саймоном дверцу машины и устроился рядом с ним на заднем сиденье. Машина двинулась к Новому Скотланд-Ярду. Финчли, Хэмпстед, Белсайз-парк…
— И, — продолжил Сандерсон, — мы будем охранять твою семью в целом. Твоих родителей, Коннора и Сьюзи наравне с тобой…
— Вы намерены отправить к моим родителям вооруженную армию?
Сандерсон подтвердил это коротким «ага», потом наклонился вперед и похлопал водителя по плечу.
— Каммингс, тут черт знает что на дороге. Попробуй через Сен-Джонвуд.
— Пожалуй, вы правы, сэр.
Сандерсон снова повернулся к Саймону.
— Так вот, твои жена и ребенок, мать и отец, чтобы до них никто не смог добраться. Согласен?
Журналист кивнул, потом отвернулся и стал смотреть через окно полицейской машины на улицу, на привычный, такой обыкновенный Лондон. Красная машина, желтая машина, белый грузовик… Детская коляска. Супермаркет. Остановка автобуса. Лезвие ножа в трех миллиметрах от его глаза, мужчина, рычащий от ярости, толкающий нож вперед…
Саймон потер лицо обеими ладонями, пытаясь избавиться от всего этого ужаса.
— Ты еще какое-то время будешь чувствовать себя не в своей тарелке, — довольно мягко произнес Сандерсон. — Боюсь, тебе лучше заранее с этим смириться.
— Посттравматический стресс?
— Ну… да. Но ты ведь справишься, верно? Ты ведь воинственный ирландец?
Саймон выдавил из себя слабую улыбку, а потом произнес:
— Расскажи мне о расследовании, Боб. Мне надо… как-то отвлечься. Что вы обнаружили за последнее время?
Ослабив галстук, Сандерсон попросил водителя открыть окно. Свежий воздух наполнил автомобиль. Старший инспектор заговорил:
— Мы нашли кое-что интересное в лабораториях «Карты генов». Это связано с Намибией. Один из самых крупных спонсоров проекта — это намибийская алмазная компания, «Келлерман Намибия Корпорейшен».
— Помнится, Фазакерли о них упоминал. И что?
— Все это кажется мне немного странным. Когда я начинаю об этом думать. Вот такая кровопускающая алмазная компания, да? Какое они могут иметь отношение к генетике? В общем, я отправил нашего парня из Скотланд-Ярда на поиски одного ученого из «Карты генов». Это канадец, китайского происхождения, Алекс Шенронг. Мы обнаружили его в Ванкувере. И он рассказал нам… довольно много интересного.
Они как раз проезжали мимо мечети на Риджент-парк. Ее золотой купол отражал слабые солнечные лучи.
— Что, например?
— Ну… много чего. Он сказал, что сначала проект не находил желающих поддерживать исследования деньгами, после того, что случилось в Стэнфорде.
— Но «Келлерман»… им проект показался интересным?
— Эта компания включилась в дело через год после того и действительно проявила интерес. Уж такой интерес, такой интерес… И только «Келлерман», больше никто. Но лабораторию просто завалили деньгами. На несколько лет. Исследование геномов — недешевое дело, однако проект «Карта генов» получал любые аппараты, какие только им хотелось. От корпорации «Келлерман».
— А что она собой в действительности представляет, эта корпорация?
— Занимается алмазами, как я и сказал. Большая корпорация, транснациональная, агрессивная. Разработка месторождений и экспорт. Они сотрудничают с компанией «Де Бирс», но полновластно распоряжаются в собственной части Намибии, у них прииски в Сперргебите. В запретной зоне. Владельцы корпорации — очень старая еврейская семья, южноафриканцы. Еврейская династия.
— Но почему они так щедро финансировали эту лабораторию?
— Из-за Фазакерли и Нэрна. Ну, если верить Шенронгу.
— Так, объясни-ка…
— Фазакерли двадцать лет назад был лучшим генетиком Британии. Высочайшая научная репутация. «Келлерман» понадобились его мозги. И им нужны были результаты.
— Значит, для проекта это было только на пользу.
Сандерсон кивнул и посмотрел в окно, когда они обгоняли двухэтажный автобус, битком набитый любителями покупок.
— Да, но… Ну, так сказал нам Шенронг, — «Келлерман» хотели и получать кое-что за свои денежки. Им нужна была отдача от вложений. Так что они потребовали направить исследования… в определенную сторону, если ты понимаешь, о чем я.
— Нет. Не понимаю.
Последовало короткое молчание. Журналист окинул взглядом салон полицейской машины. Так все спокойно, разумно, обычно… совсем не так, как сейчас в его голове.
— В общем, в итоге, похоже, Нэрн и Фазакерли исследовали генетические различия не так, как… как можно было бы предположить, — объяснил Сандерсон.
— Не понимаю.
— Слушай, Куинн, я ведь не молекулярный биолог, как тебе может показаться. Но я понял все это вот как. Начальная идея, стоявшая за «Картой генов», предполагалась как медицинская. Искать лекарство от ряда болезней путем выявления генетического различия рас. — Сандерсон покачал головой. — Ну, Алекс Шенронг именно из-за этого присоединился к проекту. Но в итоге, по настойчивому требованию Натана Келлермана, Фазакерли и Нэрн, если верить этому китайскому парню, начали искать генетические отличия между расами, не уделяя никакого внимания медицинским исследованиям. Они просто хотели доказать, что между людьми существует серьезная разница на генетическом уровне. Понимаешь?
— Следующая остановка — Геббельс?
— Ага. Возможно.
— Но в таком случае… Ты полагаешь, они… они расисты? Или были расистами? Нэрн и Фазакерли. Парочка наци? В компании с Томаски. — Саймон содрогнулся при воспоминании о поляке-полисмене, гневно оскалившем зубы, и отвернулся.
— Нет. — Сандерсон покачал головой. — Нет, мы не думаем, что Ангус был расистом. Судя по словам его коллег, да и Шенронга тоже, он просто хотел прославиться, хотел публиковаться. У него было огромное самолюбие, только и всего. Конечно, он выглядел довольно эксцентричным, но также был и чрезвычайно умен. Но уж нацистом он точно не был. — Сандерсон чуть наклонился к Саймону. — И мы думаем, что они с Фазакерли могли наткнуться на что-то стоящее. Хотя и не сказали никому, что это такое. Но, должно быть, они нашли то, чего по-настоящему хотелось Натану Келлерману.
— А как вы-то об этом узнали?
— Фазакерли начал хвастаться. В подпитии. — Сандерсон скривил лицо, изображая пьяного человека. — Шенронг говорит, Фазакерли был жутким пьяницей. Около шести месяцев назад состоялась генетическая конференция в Перпиньяне, и Фазакерли тоже там присутствовал. И заявил во всеуслышание, что они с Ангусом намерены опубликовать нечто такое, что изумит всех, что после этого все труды Евгения Фишера будут выглядеть чистой ерундой. Кстати, это не Шенронг так сформулировал, это мои слова.
— Евгений Фишер? Я ведь слышал это имя… совсем недавно. — Саймон нахмурился. Он уже устал от загадок. — О нем упоминал тот парень из Франции, Мартинес.
— Правда? Ну, Фишер исследовал расы. Работал в Намибии, потом на Гитлера, и он — один из основателей евгеники. Настоящий ублюдок. Считал немцев суперменами.
— Намибия?
— Намибия.
— Погоди-ка, я вспомнил… — сказал Саймон. — Я помню, в кабинете Фазакерли висела фотография Фрэнсиса Гальтона. Он был евгеником… и он работал в Намибии.
— Вот видишь? — Сандерсон широко улыбнулся. — Все это связано! Намибийский след! Я тебе все это рассказываю только потому, что в тебя нынче утром врезался зуб сержанта. Но ты пока придержи это при себе, ладно? Я думаю, что ты хочешь написать книгу, когда все кончится, ведь так?
Саймон почувствовал, что краснеет.
— Ха! — фыркнул Сандерсон. — Вы, чертовы писаки, просто не можете устоять перед такими вещами. Да, вот еще что. Натан Келлерман, наследник всех этих алмазных миллиардов, очень сблизился с Нэрном. Похоже, они неплохо спелись и болтали обо всем на свете, когда Келлерман бывал в Лондоне; он ведь частенько приезжал, чтобы проверить, как расходуют его денежки.
— И много они разговаривали?
— Да. О Библии. — Сандерсон пожал плечами. — О проклятии Ханаана. Книге Бытия или что-то в этом роде. Шенронг просто иногда слышал их разговоры. А иной раз даже прислушивался.
— Та самая доктрина Семени Змея? Проклятие Каина?
— Да-да. Все то, что ты слышал от Вайнард. Странно, правда?
— Как ты сказал, когда они с Келлерманом сблизились… и насколько?
— Ну, они не были… э-э… любовниками. Но несколько лет назад Нэрн начал время от времени ездить в Намибию.
Машина теперь ползла по Бейкер-стрит. Солнца уже не было видно; улицы заполнились людьми. Три арабские женщины в бирюзовых хиджабах шли в нескольких шагах позади своего супруга, принаряженного в джинсы и бейсболку.
— Так. И что?
— Такие поездки недешево обходятся, это же другой конец света. А Нэрн не был богат.
Саймону не составило труда догадаться.
— Келлерман оплачивал его перелеты!
— Именно. Мы это можем с уверенностью сказать, потому что Ангус летал туда несколько раз за три года. И никогда никому не говорил, зачем он это делал и чем там занимался.
— Может, просто отдыхал?
Сандерсон прищурился.
— Далековато для простого серфинга!
— И ты уверен, что он теперь там, в Намибии, да?
Старший детектив улыбнулся с легким оттенком самодовольства.
— Уверен. Я даже пытался связаться с ним по его электронному адресу, вкратце сообщил о событиях. Решил проверить, нельзя ли его выманить оттуда. Ведь если он действительно там, то, скорее всего, продолжает просматривать электронную почту. Сам прикинь.
Саймон задумался. А Сандерсон признался:
— Я вообще-то не слишком далеко продвинулся. Не очень хорошая работа. Черт знает что такое… Но я, по крайней мере, успел спасти твой датский язык… вовремя подоспел.
Усталая улыбка полицейского была искренней и теплой. Саймон почувствовал себя немного лучше. Потом он вспомнил выражение лица Томаски. Его растущую ярость. Бешенство. И ему опять стало хуже.
Остаток пути до Скотланд-Ярда Куинн молчал. Он был задумчив и все то время, пока с него снимали официальные показания; оставался неразговорчив и тогда, когда вернулся наконец домой и обнял Сьюзи и Коннора с отчаянной родительской любовью, от которой едва не разорвалось его собственное сердце и не треснули ребра сына.
Подавленное тяжелое чувство не уходило, как слишком засидевшийся гость, как кровавое пятно, которое невозможно было устранить с пола у входа, как бы ни терли его песком и ни полировали. Журналист был подавлен и встревожен. Он наблюдал за полной домохозяйкой напротив, развешивающей на просушку кучу постельного белья. Жирная черная ворона прыгала по саду. К ним в дом явился полисмен, чтобы жить с ними, спать в гостевой спальне. Он слишком громко и в самое неожиданное время включал радио. У него был пистолет. Он читал спортивные журналы.
А Саймон тем временем искал сведения о католических сектах и польских скинхедах. Он пил слишком много кофе и разбирался в последних генетических исследованиях. Он отправил письмо по электронной почте Дэвиду во Францию и получил в ответ два сообщения. Эти письма были невероятно интересны и битком набиты информацией, но от них журналист стал еще острее ощущать опасность и чувство вины.
Саймон чувствовал себя виноватым, поскольку рассказал полицейским о Дэвиде, и все только потому, что Мартинес и его подруга, Эми, похоже, слишком боялись вмешательства стражей порядка. Все и везде были подозрительными, не достойными доверия, везде таилась угроза…
Теперь же Саймон гадал, а может ли он на самом деле доверять Сандерсону. Ведь Томаски выглядел вполне надежным человеком, веселым и порядочным, Саймону он в общем нравился, но этот самый Томаски пытался его убить… Кто мог бы с уверенностью утверждать, что хозяева поляка не находятся где-то рядом? Насколько глубоко, насколько далеко Саймон забрался во все это? И куда все это тянется?
Это все не так-то просто, Куинн, это все не так-то просто…
Пять дней спустя, сидя за своим письменным столом и опять грезя наяву, Саймон услышал телефонный звонок. Ему звонила какая-то растерянная, едва ли не обезумевшая полячка. Это оказалась сестра Томаски. Ее английский был ужасающ, но смысл слов был очевиден: женщина сгорала от стыда за то, что сделал ее брат, она хотела принести извинения Саймону. Она добралась до него с помощью кого-то из полицейских, так она объяснила.
Куинн несколько минут вслушивался в искренние слезливые слова, цветисто выражавшие славянское горе, чувствуя себя очень неловко. Да, конечно, Томаски напал на Саймона, однако в результате брат этой несчастной женщины погиб. И что тут можно было сказать? «Ничего, не беспокойтесь, все не так уж плохо?»
Женщина все бормотала и бормотала.
— Эндрю был хорошим поляком, мистер Куинн! Хорошим человеком, отличным парнем! Правильным… — Ее слова вдруг затихли, перейдя в напряженное молчание. — Он любил smalec и piwo[51]. Он хороший. Обычный. Как все мужчины. А потом то место его изменило, оно его изменило…
— Простите?
— Да! Тот монастырь… тот монастырь, в Туретте, во Франции. — Послышался очередной сдавленный всхлип. — Когда он туда поехал, что-то случилось. Что-то очень плохое, и он стал другим. Przykro mi[52]. Мне очень жаль. Przykro mi…
Снова послышались рыдания, и разговор прервался.
27
— Bonjour!
Дэвид, выглянувший на крошечный балкончик гостиничного номера, нервно ответил на приветствие учтивого французского джентльмена средних лет, сидевшего с экземпляром «Фигаро» на соседнем балконе. Мартинес с трудом улыбнулся, потом решительно повернул голову в другую сторону. Он не желал разговаривать, он не хотел, чтобы хоть кто-то узнал его. Он хотел оставаться полностью и абсолютно анонимной персоной.
Поэтому Дэвид стал смотреть в другом направлении, в сторону морского горизонта Биаррица. Картина была впечатляющей: огромные золотые пляжи, обрамленные мерцающим кружевом набегающих на берег волн; архитектура, представлявшая собой смесь викторианских городских домов, бетонных казино и розовых оштукатуренных дворцов… Эта странная и нелепая путаница вполне соответствовала душевному состоянию Дэвида.
Они уже несколько дней прятались в этом отеле, пользуясь только телефонами-автоматами и время от времени выбираясь в интернет-кафе, чтобы получить электронную почту. Дэвид получил два сообщения от Саймона Куинна с кое-какими новыми сведениями. Очень полезными.
Но все равно его не оставляло чувство какого-то смещения. Из-за того, что он находился здесь. И его дезориентация подчеркивалась одним ошеломительным новым фактом: они с Эми начали спать вместе.
Это случилось на вторую ночь их пребывания в Биаррице. Они решили, что с них довольно сидеть в крошечных смежных комнатках их номера в отеле. И потому тихонько отправились к Скале девственницы, самой высокой точке на здешнем мысу, откуда открывался прекрасный вид. И когда они стояли там, робко глядя на фонари, и звезды, и луну над заливом, и на туристов, поглощающих омаров в ресторанчиках внизу, — Эми вдруг разрыдалась.
Ее слезы были совершенно понятны. Она не могла справиться с истерикой не менее получаса. Не зная, что делать, Дэвид проводил ее в свою комнату, и Эми, содрогаясь с головы до ног, зашла в его ванную комнату, чтобы принять душ. А он сидел у окна, прислушиваясь к тому, как льется вода по пластиковым занавескам душа. И начал уже беспокоиться — не случилось ли с ней чего?
А потом она вышла, завернувшись в белое гостиничное полотенце, с порозовевшим лицом и влажными волосами, и ее тело по-прежнему дрожало. Голубые глаза Эми были полны бесконечного горя; она окинула себя взглядом, потом посмотрела на Дэвида, открыто и невероятно печально. И сказала, что чувствует себя грязной, замаранной. Запятнанной.
Дэвид спросил почему. Девушка начала объяснять, потом умолкла; и, наконец, излила душу, и ее слова звучали прерывисто, но отчетливо. Она сказала, что все это потому, что она некогда любила Мигеля. А значит, во всем случившемся виновата она. Во всем. Из-за того, что она его когда-то любила, она отравляет все. Она стала нечистой.
На Эми не было ничего, кроме полотенца. Они находились в нескольких дюймах друг от друга. Дэвид ощущал тонкий запах французского мыла, исходивший от ее розовой кожи. Девушка снова содрогнулась, а потом повернулась к нему и прошептала:
— Мне не следовало любить Мигеля…
То, как она произнесла эти слова, как это прозвучало — необычно, низко, опьяняюще, сочно и уступчиво… И Дэвид ощутил приказ в ее голосе, и понял, что у него нет выбора: он наклонился вперед и коснулся губами ее влажного рта, и слово «Мигель» исчезло в поцелуе, яростном поцелуе, а потом его рука скользнула в ее мокрые светлые волосы, и между поцелуями Эми прошептала: «Очисти меня», и повторила еще раз: «Очисти меня», а потом прошептала: «Возьми меня…»
Это был один из самых прекрасных моментов в жизни Мартинеса — и один из самых запутанных.
Дэвид нервничал и продолжал нервничать, потому что их секс был таким напряженным, таким яростным, таким освежающе необычным… Дэвид никогда ничего подобного не испытывал. Они оба задыхались, покрылись потом, несмотря на то что дверь балкона была распахнута настежь и прохладный ночной воздух омывал их нагие тела. И все это продолжалось снова и снова, страстно и первобытно. Они трахались. Эми оставила на его спине такие глубокие царапины, что когда утром он принимал душ, их основательно пощипывало.
Дэвид время от времени пытался понять, почему их секс оказался таким по-настоящему дикарским… одновременно нежным и звериным. Из-за того, что они оба были невероятно одиноки? Из-за пережитых несчастий? Из-за того, что смерть подкралась к ним так близко? Эми иногда рассказывала кое-что о своей еврейской родне, о смерти отца, о родственниках, погибших во время холокоста… и Дэвид снова отмечал в ней глубоко укоренившееся чувство вины. Вины оставшейся в живых. А может быть, он и сам страдал тем же. Чувствовал себя виноватым в том, что выжил.
Может быть, именно это и рождало в них такую страсть. Они были одиноки — и сумели выжить. Они были подобны умирающим от голода людям, которым за много недель досталась первая крошка еды. Они словно пожирали друг друга, пировали, наслаждаясь друг другом, цеплялись друг за друга, и иногда Эми кусала плечи Дэвида чуть ли не до крови, а он иной раз слишком сильно дергал ее за волосы, а Эми нередко ругалась, когда он переворачивал ее, боролась с ним, потом уступала, потом снова сопротивлялась, и ее слегка загоревшие ноги колотили по простыням. Она кричала в подушку, цеплялась за кровать. Сильнее, просила она, сильнее…
И во всем этом присутствовал призрак Мигеля. Воспоминания о Мигеле, насиловавшем ее в пещере ведьм. Дэвид хотел отбросить все это, но не мог. Мигель постоянно был рядом. Он был рядом даже тогда, когда они занимались сексом. Может быть, даже в особенности в эти моменты он оказывался рядом…
Eusak Presoak! Eusak Herrira! Otsoko.
Но теперь, когда они провели здесь уже пять дней и Дэвид понял, что влюбился в Эми, он пытался понять, что же им делать дальше.
Молодой человек вернулся с балкона в номер. Он услышал, как в замочной скважине поворачивается ключ; вернулась Эми. Он вопросительно посмотрел на нее, когда она вошла. Девушка ходила в интернет-кафе, она бывала там по нескольку раз в день… они вместе решили, что ее свободное знание французского и испанского языков сделает девушку более неприметной. И поэтому она ходила туда чаще, чем он.
По лицу Эми Дэвид без труда понял, что она принесла какие-то новости.
— Пришло письмо?
— Да, — она села на кровать и сбросила с ног сандалии.
Эми была одета в джинсы в обтяжку и серый кашемировый джемпер; осенью в Биаррице было хоть и солнечно, но прохладно. Глядя на ее голые лодыжки, Дэвид подавил всплеск желания; они уже занимались сексом утром, и это было бы уже слишком. Да и вообще все это было слишком. Но это было прекрасно. Дэвид ощущал голод. Ему хотелось съесть огромный завтрак, с бриошами и багетом, со сладким confit de cerise[53]. Ему хотелось видеть Эми обнаженной, касаться ее израненной кожи, кожи волчицы, подстреленной охотниками, истекающей кровью на снегу… Все было слишком.
— Элоиза прислала письмо.
Она легла на кровать. Уставилась в потолок. Голубые глаза, смотревшие вверх, были как голубое небо, раскинувшееся под солнцем.
— Ты был прав. Она в Намибии. Сообщает, что с ней все в порядке. Мы не должны о ней беспокоиться… И пишет, что если мы хотим приехать, она может нам сообщить, куда лучше направиться. Она дала мне… инструкции.
— О чем ты?
— О Намибии. Она не написала в точности, где именно находится, но обещает, что там мы будем в безопасности. Мы должны кое с кем встретиться в отеле, когда туда доберемся. И он уже объяснит нам дальнейшее.
— Так она с тем парнем. С Ангусом Нэрном.
— Как ты и предполагал. Нэрн снабдил ее деньгами. Видимо… — Эми потянулась к Дэвиду, когда он подошел поближе, и взяла его за руку. — Видимо, это Нэрн убедил ее приехать на некоторое время в Африку.
— Вот как?
Эми крепче сжала руку Дэвида. И продолжила:
— Он хотел провести исследования ее крови, ее и ее родных.
— Потому что они каготы.
— Разумеется. Он несколько месяцев убеждал их согласиться, но ее отец и мать отказывались, хотя он предлагал им деньги.
Ее волосы все еще пахли цитрусовым шампунем. Дэвид поцеловал ее в шею. Эми мягко оттолкнула его.
— А потом, после тех убийств, она испугалась. И после, видимо, Ангус Нэрн снова предложил ей безопасное убежище — когда она была с нами в Кампани, и она сбежала, получив от него письмо по электронной почте. Он предложил ей увезти ее на самолете куда-то очень далеко. Туда, где никто не сможет до нее добраться. — Эми пожала плечами. — Могу ли я ее за это винить? Последняя из известных каготов в целом мире… Да еще в репродуктивном возрасте.
— Если не считать Мигеля.
Эми вздрогнула. Дэвид погладил ее по щеке.
— Может, и нам следует туда отправиться? — сказал он. — Пляжи Намибии. Там и вправду может быть безопаснее… Да наверняка там будет лучше!
Он погладил волосы Эми, прижал ладонь к ее щеке; ему искренне хотелось не влюбляться в нее; Мартинес знал, что это слишком опасно. Нырнув в эти глубины, он вполне мог сломать шею, потому что ему до сих пор ничего не было известно о том, что таится в темных водах. Он снова поцеловал Эми, хотя и не желал этого делать; он поцеловал ее, потому что должен был поцеловать.
Но она снова отстранила его.
— И она сказала кое-что еще. Это мне напомнило…
— О чем?
— О том, что говорил тебе Хосе.
— Что ты имеешь в виду?
Лицо Эми напряглось, стало жестким.
— Вот что. Она сказала, что вся эта тайна, все дела Нэрна, вообще все, что с нами случилось, куда более значимо, чем мы можем себе вообразить, вообще грандиознее всего. Это имеет какое-то отношение к холокосту, к нацистам, к евреям… не знаю.
— Она так сказала?
Эми вздохнула.
— Ну, вроде того… — А потом вдруг, совершенно неожиданно улыбнулась. — Значит, мы едем туда. Или мы не едем туда. Иди ко мне…
Она уже потянулась к пуговицам его рубашки.
Но тут их прервал короткий стук в дверь номера.
— Мсье! Мадемуазель!
Дэвид мгновенно испуганно насторожился. В напряженной тишине он посмотрел на Эми, спрашивая взглядом: «Что нам делать?» Она в ответ пожала плечами — безнадежно, отчаянно.
Дэвид встал и, стараясь подавить страх, подошел к двери.
— Кто там?
— S'il vous plaît. La porte[54].
Их загнали в угол. Бежать было некуда. Они могли разве что прыгнуть с балкона. В дверь снова постучали, громче и настойчивее.
— Открывайте!
28
За дверью стоял полицейский. Он предъявил Дэвиду свою бляху и сообщил с акцентом, но, в общем, на отличном английском, что его зовут офицер Сарриа. На копе были щеголеватая фуражка и темный мундир, и рядом с ним стоял сослуживец. Второй полицейский был одет в черный однобортный костюм и ослепительно-белую рубашку. Он не улыбался. И на его лице красовались солнечные очки.
Сарриа втиснулся в комнату мимо Дэвида; полисмен посмотрел на Эми, сидевшую на краю кровати.
— Мисс Майерсон.
— Вы меня знаете?..
— Я гнался за вами обоими через всю Францию. Нам необходимо поговорить. Немедленно. Это мой коллега, — он жестом указал себе за спину. — Он тоже полицейский. Я намерен с вами побеседовать. Прямо сейчас.
Дэвид понял, что допроса не избежать. Он почувствовал себя в ловушке. Летящим под откос. Что-то ужасное должно было произойти, здесь, в стороне от чужих глаз. В уединении их комнаты, на верхнем этаже. Перед его глазами вспыхнула картина: кровь… пятна крови на стене ванной комнаты…
Он посмотрел на Эми; та едва заметно пожала плечами, как бы говоря: «А куда нам деваться?»
Он снова повернулся к полисмену.
— Ладно. Но… лучше внизу. На террасе. За гостиницей. Пожалуйста…
Сарриа нетерпеливо вздохнул.
— Да, ладно, внизу.
Они все вчетвером втиснулись в скрипучий гостиничный лифт и спустились на первый этаж. В вестибюле Дэвид заметил еще одного полицейского, стоявшего у входа в отель; его рация гудела. Отель охранялся.
Они пошли в другую сторону, на украшенную фресками террасу, к столику, стоявшему поодаль от других — почти у самого моря, пожалуй, даже ближе, чем бар. Столик скрывался за маленькими пихтами в горшках. Никто не увидел бы их там.
Эми взяла Дэвида за руку; ее ладонь вспотела. Полисмены уселись по обе стороны от пары. Дэвид чувствовал, что тоже покрывается потом. И даже подумал, не заболел ли он. Что, если они с Эми подхватили какую-то инфекцию? От тех трупов в подвале, превратившихся в жидкость? Зачем бы тела хранили так тщательно укрытыми от воздуха?
Слова «оспа» и «чума» разнесли вдребезги все его самообладание. Он пытался сосредоточиться на том, что происходило сейчас. Потому что полицейский уже говорил.
— Я родился как раз там, в Байонне, — между прочим сообщил Сарриа. Он посмотрел на Эми, потом на Дэвида. — Да, я баск. И как раз поэтому я знаю, что вы нуждаетесь в помощи.
— Да, но… в чем дело? — тусклым голосом спросила Эми. — Почему вы здесь, детектив?
— Мы искали мисс Бентайо. Она может быть очень важным свидетелем по делу об убийстве ее семьи. — Он мрачно кивнул. — Да-да. И мы знаем, что она сбежала в Биарриц, а из Биаррица — во Франкфурт.
— Так она теперь в Германии? — поспешил сказать Дэвид.
— А оттуда она улетела прямиком в Намибию, если верить записям аэрокомпании. — На лице полицейского отразилось раздражение. — И не вздумайте меня обманывать, месье Мартинес. Мы уже давно пытаемся раскрыть всю эту тайну. След хаоса и крови после тех убийств в Гюрсе ведет… ведет в тот самый дом в Кампани, где некто слышал два выстрела. А один старый священник из церкви Наваррена сообщил нам ваше имя. И после того нетрудно было выяснить дальнейшее. Та история с заметкой в газете и так далее… — Полицейский посмотрел на крошечную чашечку, принесенную официантом — изысканный café noir[55], — но не прикоснулся к напитку. — Возможно, вам приятно будет узнать, что с тем священником все в порядке. Думаю, он спас вам жизнь. Как раз вовремя захлопнул дверь.
Эми не выдержала и спросила:
— Но как вы нас отыскали? Здесь?!
— Я старший офицер жандармерии. И часть моей работы — знать как можно больше о баскских террористах.
Дэвид бросил на Эми быстрый взгляд; ее лицо было спокойным, светлые волосы слегка шевелил ветер. Но он ощутил бурю чувств, скрывавшихся под демонстративно бесстрастным выражением. Он хотел бы знать, думает ли она сейчас о Мигеле; он хотел бы знать, что именно она думает о Волке.
Сарриа покосился на своего коллегу и продолжил:
— У нас есть связи по всей Стране Басков. Полезные связи. Мы предположили, что вы можете отправиться в Биарриц, потому что именно сюда бежала Элоиза. Я попросил всех владельцев интернет-кафе наблюдать, не появится ли у них английская девушка. И дал ваше описание, мисс Майерсон. Ничего сложного.
Молчаливый полицейский рассматривал террасу и пляж за ней; он вел себя как телохранитель какого-нибудь президента, смотрящий то направо, то налево.
Сарриа решил добавить кое-какие подробности:
— Я также знал, конечно, что вас преследует Мигель Гаровильо. Один из самых опасных убийц ЭТА. Прославившийся своим садизмом. Мне бы хотелось лично арестовать его. Но он умен. Так же, как и жесток. — Сарриа перевел взгляд на Дэвида. — И у него есть очень, очень много весьма… значительных помощников. Важные люди стоят за ним.
— Что вы имеете в виду?
— Прежде чем я вам это скажу, вам нужно узнать еще кое-что. Из истории. Вы должны быть готовы.
Дэвид снова посмотрел на Эми; осеннее солнце ярко играло в ее волосах. Мартинес обернулся к загорелому французскому копу.
— Рассказывайте.
— Отлично, — полицейский сделал крошечный глоток café noir и спросил: — У вас ведь есть карта? Та карта, что упомянута в статье?
Дэвид ощутил дрожь тревоги.
— Да. Она здесь… Я всегда держу ее при себе. — Он ощупал карман пиджака, потом достал весьма потрепанную дорожную карту.
Офицер Сарриа взял ее и развернул; бумага выгорела от солнца, и синие звездочки выглядели слишком ярко. Полицейский кивнул и посмотрел на своего коллегу, потом снова сложил карту и опустил ее на стол.
— Я уже видел ее прежде.
— Что?
— Это карта вашего отца, мсье Мартинес. Я вернул ее вашему деду. После того убийства.
— Я знаю, что это карта отца, но я не понимаю…
Еще произнося это, Дэвид понял, что еще немного, и он сможет добраться до истины. И, запинаясь, спросил:
— Вы были… вы хотите сказать…
— Именно это я и хочу сказать, — офицер пристально смотрел на Дэвида. — Месье Мартинес, может быть, сейчас я и выгляжу стариком с седыми волосами, но когда-то я был молодым офицером. В Наваррене. В Гюрсе. Пятнадцать лет назад.
Реальность словно ударила Дэвида; боль потери стиснула его грудь.
— Как раз тогда, когда были убиты мои родители?
— Я с самого начала подозревал в их убийстве ЭТА. Там были все признаки, если можно так сказать, проведенной террористической акции. Испорченный автомобиль, отвратительный взрыв — все было таким же, как другие убийства, совершенные ЭТА, все, что мы расследовали в то время. И я подозревал, что в этом замешан молодой Мигель Гаровильо; у нас даже был свидетель.
— Так какого черта вы его не арестовали?
Сарриа нахмурился:
— Когда я находился в полицейском участке Наваррена, туда приехал один из старших офицеров всей той области.
— И кто это был?
— Неважно. А важно вот что: он приказал мне закрыть дело. Приказал прекратить расследование и пометить его как безнадежное. Хотя у нас были улики. Я очень разозлился тогда.
— Но зачем? Зачем им это делать?
Сарриа посмотрел на Эми.
— Первой моей мыслью было, что тут замешан ГАЛ.
Дэвид тоже посмотрел на Эми.
— Не понял… кто такой этот «галл»?
Эми пояснила:
— Это не человек, Дэвид. Это ГАЛ, — девушка побледнела от волнения. — Заглавная «Г», заглавная «А», заглавная «Л». ГАЛ. Это были отряды, созданные испанскими властями для того, чтобы похищать и казнить баскских радикалов. В восьмидесятых и девяностых годах. Их тайно поддерживали некоторые… элементы во французском правительстве.
— Совершенно верно, мисс Майерсон. — Сарриа коротко кивнул. — Это был очевидный ответ. И мой начальник сразу понял намек. Это сделал ГАЛ — и оставьте все это. Значит, в дело вовлечены власти, и нам дали понять, что ваши родители были баскскими террористами, мсье Мартинес. А следовательно, их смерть не была такой уж трагедией для французского государства.
Дэвид молча смотрел на полицейского, ожидая продолжения.
Сарриа вздохнул:
— Но мне это казалось бессмыслицей. Полной бессмыслицей. Насколько я мог понять, ваши родители никак не были связаны с террористами. Обычный американец и женщина-англичанка, путешествующие по здешним местам. И зачем бы известному баскскому радикалу, возможно самому жестокому из всех террористов ЭТА, Otsoko, Волку, сыну великого Хосе Гаровильо, — с какой бы стати ему вдруг начать работать на ГАЛ? Решил вдруг стать предателем ради именно этого случая?
Вопрос повис в воздухе, как соленый привкус моря, плескавшегося в сотне метров к западу от них.
— Ну, и… — тихо произнесла Эми, — и зачем бы?
— Вот в том-то и вопрос. Зачем были совершены три эти убийства?
Дэвид перебил его:
— Три убийства?
— Да. Конечно. — Сарриа вдруг помрачнел и нахмурился. — Вы… вы что же, не знали?
— Мне было тогда пятнадцать. Мне никто ничего не говорил. Я не знал чего?
— Результатов вскрытия. Ваша мать была на пятом месяце беременности, когда умерла. Она носила девочку…
За столом стало очень тихо. В душе Дэвида творилось нечто невообразимое. Всю свою жизнь он был единственным ребенком. Страстно мечтал иметь сестру или брата. А когда он осиротел, это одиночество, эта жажда иметь кого-то лишь усилилась. И теперь вот это. У него почти уже появилась сестренка…
Его болезненные воспоминания сами собой перешли от отчаяния к глубокой задумчивости. Возможно, именно поэтому мама и папа устроили себе эти странные каникулы во Франции? У них возникло желание исследовать свои корни? И возникло оно в результате так давно ожидаемой второй беременности?
Сарриа снова заговорил:
— Мне очень жаль, мсье Мартинес. Вы теперь понимаете: я здесь, чтобы помочь вам. Как только я увидел снимок в газете, сразу узнал вас. Вы очень похожи на своего отца. Я ведь видел его там, в машине… — Офицер на мгновение отвел взгляд, посмотрев на море, потом снова повернулся к Дэвиду. — Мне бы очень хотелось отправить Мигеля Гаровильо во французскую тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Но прежде чем я расскажу вам кое-что еще, мне нужно знать всю вашу историю.
Он передвинул свою крохотную кофейную чашку и оперся локтем на стол.
— Désolé[56]. Вы можете не захотеть мне поверить. И я даже уверен, что вы мне не доверяете. Но я помню, как все это было, когда мы нашли ваших родителей. Уж поверьте, такие картины никогда не забываются. Поэтому мой вам совет: расскажите мне обо всем, прямо сейчас, и побыстрее… — Он немного помолчал, тяжело вздохнул. — К тому же, по правде говоря, разве у вас есть выбор?
Дэвид бросил на Эми долгий многозначительный взгляд, и их пальцы переплелись на столе. Эми сказала:
— Да, придется. Нам придется быть откровенными.
Конечно, она была права. Возможность выбора у них сжалась практически до нуля. Поэтому Дэвид кивнул, сделал глубокий вздох — и рассказал полицейскому всё, всю историю от начала и до конца. О связи местных событий с убийствами в Британии, Франции и Канаде. О журналисте из Англии. О дверях каготов. Об их с Эми сюрреалистическом путешествии по дороге, каждый дюйм которой был окрашен кровью.
К концу его монолога Сарриа снял фуражку и положил ее на белую бумажную скатерть. Но его взгляд ни разу не оторвался от Дэвида.
— Так, значит… Как я и думал. Les églises… La Societé…[57] — Он говорил как бы сам с собой, глядя поверх голов Дэвида и Эми, словно искал ответа в небе над Биаррицем.
Потом он, наконец, вынырнул из своих мыслей и объяснил кое-что:
— Все дело в тех церквях. Мигель выслеживал вас не просто с помощью мобильных телефонов, мсье Мартинес. Дело в тех церквях. В дело замешаны священники Наваррена.
Эми тут же спросила:
— Что вы имеете в виду?
— Когда меня отстранили от расследования убийства семьи Мартинесов, когда это дело было закрыто… я… в общем, я предпринял собственное, частное расследование. Я покопался в прошлом тех, кто связал мне руки. Проверил, не связаны ли они как-то с ГАЛ, «эскадронами смерти». Конечно, такой связи не обнаружилось. Mais…[58] — Он опять немного помолчал, потом продолжил: — Но имелась связь с церквями. Точнее, с Обществом Пия X.
На лице Эми отразилось неприкрытое удивление.
— Я слышала о них. Да. И… и… Хосе был связан с этим Обществом. У него было распятие, благословленное Пием X. Да… — Она стиснула руку Дэвида. — Тот священник, в Наваррене!
Дэвид вспомнил.
— Да, он упоминал об этом Обществе. Говорил, что его просили сообщить им… или кому-нибудь… о нас. И в некоторых церквях висел портрет этого человека. — Дэвид был в растерянности, он пытался осмыслить подсказанную ему идею. — Но кто они такие?
Сарриа разъяснил:
— Это большая группа, отколовшаяся от католической церкви, она имеет сильную поддержку на юге Франции. И в Стране Басков. Поддерживает традиции. Основатель этого течения — архиепископ Лефевр. Они связаны с Национальным фронтом, самым правым политическим крылом. Некоторые из их епископов отрицают холокост. И у них есть единомышленники во всем государстве. Они… — Офицер нахмурился. — Они также действуют за границей. В Баварии и Квебеке, в Южной Америке. У них есть друзья-политики в Польше, это Союз польских семей. И крепкая рука в Австрии. Предполагается, что у них около восьмисот тысяч членов. Собственные священники, свои семинарии, свои церкви.
Эми спросила:
— Вы уверены, что все это касается нас напрямую?
— Совершенно уверен. Куда бы я ни посмотрел, мадемуазель, я нахожу связь с Обществом. Un réseau, une conspiration![59] Мой собственный начальник был их решительным сторонником. Самое правое крыло.
Дэвид во все глаза смотрел на офицера, по-прежнему совершенно озадаченный.
— Но зачем, почему они все это делают?
Офицер неуверенно покачал головой.
— Мне лично кажется, что католическая церковь хочет… скрыть некое знание, некие сведения, обнаруженные во время войны. Возможно, связанные с Гюрсом. Ваши родители случайно открыли… ту самую тайну. Может быть, просто нечаянно, по ошибке. Accidentellement[60].
— Вы говорите, во все это замешано Общество, и тут же утверждаете, что это дело рук всей католической церкви?
Офицер пожал плечами:
— Это лишь моя… догадка, это правильное слово? Моя догадка. Я стал заниматься Обществом со времени самых первых убийств в Гюрсе. Несколько лет назад Общество Пия X было… excommunié…[61] Папой Иоанном-Павлом II за отрицание решений Ватикана по ряду вопросов. И за их экстремистские взгляды. Но недавно появились кое-какие признаки того, что Папа готов возродить Общество… Были замечены попытки начала мирных переговоров. — Сарриа чуть заметно улыбнулся. — Только я думаю, что церковь попросила Общество кое-что сделать в обмен на устранение раскола.
— Покончить с этой тайной? Тайной Гюрса, да? Раз и навсегда?
Офицер вздохнул:
— Да. Кто может сделать это лучше, чем Общество? Они ведь знают историю во всех ее деталях, потому что их собственная история уходит корнями в Виши и во времена оккупации. Тогда все это началось. Реакционные французские священники служили в Гюрсе капелланами. Они пытали каготов, иудеев…
Картина событий, или хотя бы их части, начала проясняться перед Дэвидом. Он смотрел мимо темных деревьев в кадках на голубой Бискайский залив. И тихо сказал, как бы самому себе:
— Куда бы мы ни приехали, мы… мы натыкались на церкви. Наваррен, Савин, Люц. Дом Элоизы стоял прямо напротив церкви. Она ходила в церковь в Кампани…
— Именно так. Общество, скорее всего, просило помочь ему найти вас… Священники и монахини, церковные чиновники — они, возможно, узнавали вас, когда вы перебирались с места на место. Надо сказать, что рядовые церковные служители, скорее всего, даже не знали, зачем их просили это делать. Но они выполняли приказ, потому что всегда подчиняются начальству. Преданность имеет большое значение в этой части мира.
Эми задала новые вопросы:
— А потом все сведения о нас передавались в Общество, так? И Мигелю?
— Et voilà. Но что еще нам известно? Мне незачем объяснять вам это, ведь так? Личные мотивы Мигеля.
Полисмен сделал еще один крошечный глоток кофе, бросил короткий взгляд на море и опять сосредоточился на своих собеседниках.
— Гаровильо вырос как баскский радикал. Он безумно гордился своим басконским наследием. А потом… он однажды узнает от своего отца, что он вообще не баск, а кагот, презренный кагот. Мигель Гаровильо должен был быть раздавлен, уничтожен. Но потом он, должно быть, нашел решение. — Сарриа нахмурился. — Решил, что он сделает все, лишь бы сохранить свою тайну, убьет каждого, кто будет угрожать раскрыть унизительную правду о его отце… и о самом Мигеле. И это счастливым для него образом совпало с пожеланиями Общества. Возможно, они привлекли его как раз благодаря его тайне, а возможно, оба Гаровильо уже были членами Общества. И все встало на свои места.
Дэвид наконец тоже заговорил:
— И ему помогал кто-то из высшего руководства ЭТА, верно? Ему ведь нужны были все эти бомбы и вообще оружие, снаряжение… Для убийств.
— Vraiment[62]. И однажды Мигель узнал, что ваши родители приехали во Францию и расспрашивают о каготах, и остановились поблизости от Гюрса. Они беседовали с людьми в том самом пивном баре, куда заходили и вы. Это должно было напугать Мигеля, насторожить его, он почуял опасность. И тогда Волк начал действовать.
Ветер донес с берега далекий звук детского смеха. По лицу Сарриа проскользнуло выражение глубокого чувства, искренней печали. Он добавил:
— Но вашей семье, мсье Мартинес, все это уже, конечно, не поможет. Мне очень жаль, что я не смог сделать большего. Я пытался. Прошу, простите меня.
Дэвид мягко кивнул. Но он думал совсем о другом: он не хотел прощать, он не искал раскаяния; ему нужны были ответы. Как можно больше ответов. К нему вернулась решительность, он жаждал мести за своих родителей. За свою нерожденную сестру. Но чтобы отомстить, он должен был увидеть всю картину целиком. Прежде чем Мигель уничтожит все свидетельства.
Дэвид произнес:
— Но офицер Сарриа, как насчет связи с Гюрсом? Что произошло там?
Сарриа пожал плечами.
— Этого я вам сказать не могу — просто потому, что не знаю. И, похоже, никто не знает. Но что я могу… — Он наклонился к центру стола, заговорил тихо и озабоченно: — Пока что я могу только защитить вас. Вы в очень большой опасности. Очень серьезной. Общество и его высокие политические покровители все еще хотят вашей смерти. Им необходимо, чтобы вы умерли.
— Ну и какого черта нам делать? — спросила Эми. Она скрестила руки на груди. — Куда нам деваться? В Британии тоже слишком опасно. И в Испании. Куда же?
— Куда угодно. Вы даже не представляете, какая это угроза… — Офицер многозначительно посмотрел на молодых людей. — Может, вот это вам немного поможет. Если вам нужны какие-то факты…
Он сунул руку в свой портфель и достал большой коричневый конверт. Открыв его, вынул пачку фотографий.
— Это снимки с места убийства в Гюрсе. Мадам Бентайо, бабушка Элоизы.
Дэвид взял несколько глянцевых снимков. Не слишком уверенно. Он должен был сейчас увидеть то, что увидела через окно бунгало Элоиза. То, что она не хотела, не могла рассказать: невыразимо страшное убийство ее бабушки.
Дэвид собрался с силами, потом посмотрел на самый большой снимок.
— Ох, Боже…
На фотографии было все место убийства целиком.
Тело мадам Бентайо лежало на полу кухни, и весь этот пол был залит ее кровью. Опознать женщину можно было только по одежде — и клетчатым шотландским шлепанцам; но лица, которое подтверждало бы личность, не осталось. Потому что голова у мадам Бентайо отсутствовала. И она, похоже, была не отрублена и не отрезана, а оторвана. Неровные края чудовищной раны, лоскуты и ленты кожи, нити вырванных вен — все выглядело так, словно кто-то начал отрезать голову, а потом просто с силой повернул ее и дернул, — то ли от злобной ярости, то ли от нетерпения… или от жажды крови. Дэвид постарался заглушить воображение… он не хотел представлять себе, как безумный террорист тянет голову живого человека до тех пор, пока не рвутся позвонки, мышцы…
И это было еще не все. Некто — наверное, Мигель… конечно же, Мигель… отрезал еще и руки: запястья старой женщины превратились в окровавленные обрубки, из них тоже свисали белые нитки вен и волокна мышц. Лужи крови, вытекшей из них, лежали на полу, как плоские красные перчатки.
А потом кисти оборванных рук были приколочены к двери. Несколько других фотоснимков показывали эти проткнутые ладони. Две отделенных от тела руки. Прибитые гвоздями. К двери кухни.
Эми закрыла лицо ладонями.
Ужас. Ужас-ужас-ужас…
Сарриа пробормотал:
— Конечно. Мне очень жаль. Но и это не всё…
Дэвид крепко выругался.
— Да как это может быть «не всё»? Неужели может быть что-то еще хуже?!
Офицер снова открыл конверт и достал из него последнюю фотографию. Это был крупный план одной из мертвых кистей. Сарриа концом авторучки показал в левую часть снимка.
Дэвид прищурился, всматриваясь. Это было похоже… некая полукруглая метка на плоти… Неглубокая, но отчетливая. Изогнутый ряд маленьких углублений в бледной плоти…
— Это что… — Дэвид с трудом подавил рвотный позыв. — Это… то, что мне показалось?..
— Qui. Укус человеческих зубов. След укуса. Это похоже на некую пробу… как будто кто-то просто поддался порыву и попробовал укусить человеческую плоть. Просто проверить, какова она на вкус.
Они замолкли. Волны ритмично плескались, набегая на берег. А потом второй полицейский наклонился к Дэвиду. И заговорил в первый раз за все это время:
— Allez. Бегите. Куда угодно. Пока он вас не нашел.
29
В доме было тихо. Скучающий, зевающий полицейский констебль — их страж и защитник — лежал на кровати в свободной комнате, читая журнал «Гол». Сьюзи была в госпитале: она отказалась бросить работу, но позволила со-провождать ее на дежурство. Их помощница по хозяйству, перепуганная видом крови на полу, два дня назад сбежала обратно в Словению, и матери Сьюзи пришлось перебраться к ним, чтобы помочь присматривать за Коннором.
А Саймон читал о Евгении Фишере.
Найденная в Интернете биография этого немецкого ученого оказалась достаточно впечатляющей:
«Евгений Фишер (5 июля 1874 — 9 июля 1967) немецкий профессор медицины, антропологии и евгеники. Он был ярым защитником теории нацистских ученых о расовой гигиене, оправдывавшей уничтожение евреев, отправку приблизительно полумиллиона цыган на смерть, принудительную стерилизацию сотен тысяч других жертв…»
Саймон сидел в десяти дюймах от экрана, ощущая во рту металлический привкус отвращения. Три момента в истории долгой жизни Фишера казались особенно любопытными. Первым была выраженная связь Фишера с Африкой.
«В 1908 году Евгений Фишер проводил полевые исследования в немецком протекторате в Юго-Западной Африке, на территории нынешней Намибии. Он изучал потомство „арийских“ мужчин, матери которых были туземками. Он пришел к выводу, что отпрыски подобных союзов, так называемые „мишлинге“, должны быть полностью искоренены в силу их полной бесполезности».
Искоренены? Бесполезность? Пришел к выводу? Эти слова были еще страшнее потому, что звучали сухо и как-то антисептично.
Саймон глубоко вдохнул, медленно выдохнул. И на мгновение прикрыл глаза. Но тут же перед ним вспыхнул образ Томаски, переполненного яростью… и Саймон поспешил открыть глаза. Он слышал голос Коннора, игравшего в соседней комнате, слышал, как сын гудит, загоняя маленький автомобиль в игрушечный гараж.
Прислушиваясь к бормотанию сына, к тому, как мальчик что-то рассказывает сам себе, Саймон ощутил отчаянный прилив родительской любви, желание защитить… Защитить Коннора. Защитить от всего существующего в мире зла.
Но лучший способ, пришедший ему в голову в этот момент, — продолжить работу над книгой. Надо сосредоточиться. И Куинн вернулся к компьютеру.
«Гитлер был пылким поклонником Евгения Фишера, в особенности программного труда профессора, Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene („Наследственность человека и расовая гигиена“). Когда в 1933 году Гитлер пришел к власти, он назначил ученого ректором Берлинского университета.
Завоевание нацистами Европы (1939–1942) дало Фишеру — при полном одобрении Гитлера — возможность расширить свои расовые исследования, начатые им несколько десятилетий назад в Намибии. В концентрационном лагере в Гюрсе, на юго-западе оккупированной Франции, Фишер начал серию подробных исследований разных европейских народов: басков, цыган, евреев и других».
Саймон теперь энергично делал заметки в блокноте. Взгляд на экран — взгляд на страницу блокнота. И уже старался не думать о близких ему людях.
«Нацистский режим не жалел денег на „медицинский отдел“ в Гюрсе. В то время ходили слухи о серьезных открытиях, полученных в результате так называемых экспериментов Фишера. Однако все документы об этом были Утрачены в хаосе вторжения в Европу союзников и гибели нацистского режима (1944–1945). И так никогда и не было выяснено, действительно ли Фишер получил какие-либо результаты, имеющие научное значение. Но общее мнение в наши дни таково, что все эти разговоры о „расовых открытиях“ были нацистской пропагандой в чистом виде и что Фишер не открыл ничего важного».
Последний раздел биографии Фишера оказался еще более загадочным.
«Многие люди были ошеломлены, когда после падения Третьего рейха Евгений Фишер избежал какого-либо серьезного наказания за свои связи с нацистами и за работу на них. Вместо того он позже стал заслуженным профессором университета во Фрайбурге, а в 1952 году был назначен почетным президентом нового Германского антропологического общества.
Эта невероятная снисходительность к ученому, известному как один из основоположников и вдохновителей нацистской расовой политики, была, вне всяких сомнений, чем-то уникальным. Многие из коллег Фишера по работе в Гюрсе и других местах тоже избежали наказания или же провели в тюрьмах в лучшем случае по нескольку недель. Например, профессор доктор Фриц Ленц, возглавлявший евгеников в Берлине и соавтор ключевых работ по нацистской расовой теории, вернулся к работе сразу после войны, и ему было предложено место преподавателя курса наследственности человека в университете в Геттингене».
Эти последние строки показались Саймону настолько дикими, что он дважды прочитал весь абзац. Потом перечитал его еще раз. Потом заглянул на другой сайт, где нашел все те же статьи — слово в слово.
Слово в слово? Саймон подумал: а не является ли это удивительное заявление ложью, сохраненной в Интернете благодаря простой лени?
Он встал, открыл дверь и вышел в гостиную. Коннор играл на ковре со своими машинками, сосредоточившись на приключениях дизеля Дерека.
Куинн подошел к книжным полкам. На самой верхней из них, собирая пыль уже десяток лет, стояла старая отцовская энциклопедия «Британника». Саймон вытащил нужный ему том и быстро перелистал его, отыскивая статью «Ленц, Фриц».
Все оказалось правдой. Это чудовище, это ужасный человек, этот толкователь евгеники, друг Менгеля, нацистский мыслитель, безмятежно вернулся к работе в 1946 году. Он даже не попал в тюрьму. Союзники даже не посадили его!
Почему всех этих докторов просто отпустили с миром?
Саймон растрепал светлые волосы сына, вернулся в кабинет и плотно прикрыл дверь. Снова. Он был взволнован. Давняя тайна оживала, но она свернулась клубком, как змея, как кобра, и шипела. Пряча что-то в кольцах своего тела.
Кажется, день прошел не напрасно. Саймон изложил все факты в электронном письме, которое отправил самому себе, — это был один из его любимых способов решить какую-нибудь головоломку. Точно так же художник переворачивает свою картину вверх ногами, чтобы увидеть ее свежим взглядом, чтобы найти ошибки и добиться безупречного исполнения.
Саймон отодвинулся от компьютера и вздохнул. Мысли у него прыгали туда-сюда. Полная бессмыслица и невероятная чепуха. Деньги, нацисты, каготы, возможное сотрудничество с немцами… и что? У него так и не возникло точной теории, объяснявшей произошедшие убийства, которые теперь уже казались почти случайными.
Саймон почувствовал, как утихает охватившее его возбуждение. Он оказался почти там же, откуда начинал. Ему необходимо было поговорить с Дэвидом и Эми. Где они сейчас? Что происходит там, в Южной Франции?
Он вспомнил сестру Томаски. То, что она говорила. О каком-то монастыре во Франции.
Во Франции? Ну да, туреттский монастырь.
Быстро наклонившись к клавиатуре, Саймон набрал название монастыря.
На экране мгновенно появился ответ.
«Монастырь Де-Ла-Туретт. Построен между 1953 и 1960 годом по инициативе преподобного отца Кутюрье из лионского отделения доминиканского ордена. Архитектор — Шарль-Эдуар Жаннере-Гри, известный как Ле Корбюзье».
Саймон замер.
Орден доминиканцев?
Куинн вспомнил, что рассказывала ему профессор Вайнард. Доминиканцы. Псы Господни. Сжигатели ведьм. «Молот ведьм». Malleus Malleficarum.
Пульс Саймона резко участился. Этот монастырь, судя по всему, находится неподалеку от Лиона. Рядом с Лионом?!
Дэвид Мартинес рассказал Саймону о некоей карте его отца. Перед смертью его дед передал ее внуку. На ней, насколько помнил Куинн, имелись некие любопытные пометки, и одна из голубых звездочек лежала за пределами района проживания басков и вне тех мест, где жили каготы. Вроде она была возле Лиона? Или около Марселя? Нет, это ведь был Лион, так?
Тайна сворачивалась кольцами и шипела.
Саймон стал читать.
Ле Корбюзье, как сообщил ему сайт, был величайшим архитекторов последнего столетия. Он был прославлен своей чистотой архитектурных взглядов, строго следовал правилу формы и функции. Форма соответствует назначению. Все, что он делал, было тщательно обдумано и создавалось сознательно. Еще он был известен как атеист, «вследствие чего его согласие построить после войны монастырь Де-Ла-Туретт стало для всех большим сюрпризом».
Но в том, что касалось этого монастыря, сюрпризов, судя по всему, было в избытке. Откуда взялись деньги на его постройку? В разоренной войной Франции? Почему доминиканцы вдруг решили соорудить новый большой приорат, хотя в восстановлении нуждалось множество старых, пострадавших от войны зданий? И самое главное, почему такая странная, ни на что не похожая архитектура?
В одной из книг это объяснялось так: идея Ле Корбюзье состояла в том, что жизнь в монастыре Де-Ла-Туретт должна была стать сама по себе неким наказанием. Устрашающая конструкция строения, трудность пребывания в нем должны были подчеркивать суровость и аскетизм монашеской жизни.
Суровость и аскетизм легли в основу постройки монастыря. Здание было «в основном закончено» в 1953 году. К 1955 году «половина изначального монашеского сообщества уже страдала умственными расстройствами». Это выражалось в нервных срывах, массовой депрессии, и естественным образом возникла мысль, что все это из-за того, что само здание «слишком подавляет». Гулкие пространства и брутализм дизайна явно доводили обитателей монастыря до крайности.
Другим фактором тяжелого воздействия здания на людей, как утверждал один из критиков, была акустика. По ночам «малейший звук в здании многократно усиливался». Каждое дыхание, каждый шепоток, каждый стон… Это, судя по всему, было результатом использования бетона в качестве основного материала и наличие больших пространств, по своей природе усиливающих звук. Другими словами, враждебная человеку архитектура была намеренно достигнутым результатом, нацеленным на дезориентацию всех, кто жил в монастыре.
Уже после Саймон нашел еще один сайт. Это были воспоминания студента, занимающегося архитектурой. В свое время он, судя по всему, решил как-то пожить в этом монастыре после нескольких лет исследования творчества Ле Корбюзье. Его эссе начиналось с краткой автобиографической справки. А потом превращалось в яростную атаку на архитектора.
Основной мыслью студента, ничем не подтвержденной, была идея о том, что Ле Корбюзье являлся нацистом. В военные годы Ле Корбюзье вроде бы был очень близок с Петеном, главой марионеточного фашистского режима Виши во Франции. Архитектор, заявлял автор блога, был большим поклонником Гитлера. В эссе цитировалось одно «известное» замечание Ле Корбюзье, назвавшего фюрера «удивительной личностью».
При этом автор блога старался выглядеть непредвзятым. Он признавал, что Ле Корбюзье был не одинок в своих ошибках, что многие архитекторы симпатизировали фашистам или марксистам — потому что были просто утопистами. «Архитекторы желают изменить общество. Но это не делает их равными с нацистами, коммунистами или убийцами…»
Далее блог втыкал в архитектурное творение очередную шпильку. Его автор утверждал, что прославленное здание Ле Корбюзье в Марселе, Unite d'Habitation[63], было излюбленным местом самоубийц всей Южной Франции. Но, как отмечалось в статье, монастырь Де-Ла-Туретт оказался еще более мрачным и подавляющим, и единственной причиной того, что там не совершалось такого количества самоубийств, было простое бегство всех его посетителей уже через несколько дней. А монахов удерживали от самоубийства только их религиозные убеждения.
А потом автор эссе задавал вполне очевидный вопрос: почему? Почему доминиканцы таинственным образом заказали такому человеку, как Ле Корбюзье, построить такое таинственное здание, как этот монастырь?
Саймон закрыл компьютер, чтобы прислушаться к тишине своего кабинета и к доводам железной логики.
Эссе могло завершаться вопросом. Но для Саймона ответ был ясен. Форма следует содержанию; это было основным жизненным убеждением Ле Корбюзье. Задачей этого здания было, возможно, сокрытие фактов, и возможно, ужасающих фактов. И здание служило неким аутентичным утверждением этой зловещей функции. Здесь скрыто зло. Не подходите близко. Это было нечто вроде яркой и неприятной взгляду окраски какого-нибудь ядовитого насекомого.
Куинн припомнил слова профессора Вайнард о том, что до сих пор, возможно, где-то существуют подлинные, чрезвычайно важные документы об исследованиях крови каготов и сожжении баскских ведьм и колдунов. Документы, которые утаил и спрятал Ватикан.
Что говорила профессор? Что документы хранились в Ангеликуме, доминиканском университете в Риме. И многие века они там были в полной безопасности. Но потом, после войны, после нацистов, кому-то показалось, что в таком месте эти бумаги слишком доступны, слишком провоцируют любопытных. И пошли слухи о том, что весь архив куда-то увезли, в какое-то более надежное место. Только никто не знает, куда именно.
Никто не знает, куда именно? В самом деле? А как насчет странного доминиканского монастыря, построенного как раз после войны, монастыря, который ассоциируется с Виши и нацистами?
Тайна теперь становилась похожей на ночной цветок, медленно раскрывающий лепестки в лунном свете. И заливающий своим ароматом полуночный сад.
Но Саймону нужно было еще одно подтверждение его догадки. Ему необходимо было связаться с Дэвидом Мартинесом и уточнить, как именно расположены синие звездочки на карте. И сделать это было необходимо прямо сейчас.
Саймон постарался успокоиться. Он встал, вышел в кухню и приготовил себе чашку ромашкового чая, потому что где-то слышал, что этот напиток должен успокоить расшатавшиеся нервы.
Чертов чай оказался невероятной гадостью. Саймон выплеснул его остатки в раковину, быстро вернулся в кабинет и решительно набрал номер Мартинеса. Гудка не было. Саймон повторил попытку через три секунды, как будто это могло что-то изменить. Гудка не было. Но Саймон и сам ведь прекрасно понимал, что Дэвид должен был отключить телефон: весьма разумный поступок.
И что теперь делать? Впрочем, наверняка Мартинес перезвонит ему с какого-нибудь автомата в Биаррице, если… если сможет.
Саймон шагал взад-вперед по кабинету, от одной стены до другой. И лихорадочно думал о Дэвиде и Эми, стараясь при этом не вспоминать о безумном нападении Томаски.
Чтобы дойти от стены до стены, достаточно было трех с половиной секунд. Их дом был чертовски мал. Слишком мал. Может быть, если Саймон раскрутит эту потрясающую историю, он напишет отличную книгу и купит дом побольше, и…
Довольно! Журналист сел к компьютеру и отправил электронное письмо Дэвиду Мартинесу. А потом вышел из кабинета и присоединился к сыну, сидевшему на диване в гостиной, и они в семнадцатый раз посмотрели «Корпорацию монстров».
Потом они посмотрели мультик еще раз.
Было семь вечера и Коннор уже лежал в постели, когда зазвонил мобильник Саймона, а на дисплее высветился код Франции. Стараясь убедить себя в том, что его сердце вовсе не стучит, как папуасский барабан, Саймон ответил:
— Да… алло?
— Саймон?
— Дэвид! Слава богу, ты позвонил. Ты в порядке? Как вы там с Эми, у вас все хорошо?
— Да… мы в порядке… мы пока еще в Биаррице, но скоро улетаем. Как у тебя де…
— Все в порядке, ничего пока особо нового, то есть я хочу сказать, мне нужно кое-что выяснить. — Саймон ощутил укол вины из-за того, что так резко ответил Мартинесу, но тревога подгоняла его. — Дэвид, скажи, та карта сейчас с тобой?
— Да, конечно.
— Пожалуйста! Это очень важно! Достань ее. Ты говорил, там есть одна звездочка, поставленная неподалеку от Лиона…
— Да, верно. Около Лиона. Мы так и не смогли понять, что она означает.
— Прошу, посмотри еще раз.
Саймон слышал, как Дэвид послушно разворачивает бумагу и водит по ней пальцем. Он явно воспользовался стационарным телефоном. Некий никому не известный телефон-автомат в маленьком баскском городке.
Наконец Мартинес снова заговорил:
— Вот, нашел эту звездочку. Что ты хочешь узнать?
Это был момент наивысшего напряжения для Саймона.
— Скажи, где в точности она находится. Ну, какая там деревня или что за город…
Журналист почти слышал, как Дэвид всматривается в надписи на старой карте.
— Да, тут это есть. Отметка стоит у крошечной деревни под названием Эвё.
— Эвё?
Последовала пауза.
— Да, Эвё… около Л'Арбрель… к северо-западу от Лиона. — Голос Дэвида зазвучал резче. — Зачем тебе нужно это знать?
Саймон не ответил, потому что склонился к компьютеру и набрал «Де-Ла-Туретт». На экране появился сайт монастыря с его полным, звучным французским названием и адресом.
Приорат Святой Марии Туреттской.
Эвё-сюр-Л'Арбрель.
30
Взятый напрокат автомобиль Саймон поставил на парковке у аэропорта Лиона. Потом, бросив в багажник сумку, влился в полуденное движение и помчался по автостраде, уводившей прочь от Лиона.
К северу, по долине Роны.
Саймон размышлял о своем импульсивном поступке. Не было ли все это ошибкой? Он спросил Сьюзи, что она думает о таком путешествии, обо всем этом мрачном приключении, и жена ответила с едва заметной грустью во взгляде, что согласна: ему надо туда поехать. Она согласна, потому что любит его. И потому что им с Коннором ничто не грозит под постоянной охраной полицейских. И потому что он просто сходит с ума, сидя дома и ничем не занимаясь, и это может кончиться тем, что он снова запьет, а это ее очень тревожит.
Журналист смотрел на едущие впереди машины. Автострада была весьма оживленной.
Он прекрасно понимал, что почти все сказанное Сьюзи — ложь. Она не хотела, чтобы он уезжал. Она думала, что он совсем не обязан туда ехать. И единственной причиной ее согласия было то, что она действительно его любила. Саймону очень повезло с женой.
И он был полным идиотом.
Но он уже прилетел во Францию. И каковы бы ни были его мотивы, азарт охоты наполнил его жизнь энергией и смыслом. На что может быть похоже это место? Монастырь, доводящий людей до безумия? Найдет ли он те позорные архивы?
Саймон чуть сбросил скорость, глядя на указатели вдоль дороги: Экуйи, Дардийи, Шарбоньер-ле-Бан… Вот оно. Он внимательнее всмотрелся в указатель. Да, дорога номер семь — к Л'Арбрелю.
Саймон вывернул руль, поворачивая налево. Теперь он ехал через пышно зеленеющий район Божоле, славный своими винами. Мысли его блуждали, когда журналист потянулся к большому атласу дорог Франции, чтобы уточнить маршрут. В нескольких сотнях миль к юго-западу отсюда, в Биаррице, Дэвид и Эми сейчас скрывались, надеялись, ждали, собирались улететь в Намибию.
Что он может сделать, чтобы им помочь? Возможно, ничего, может быть — что-нибудь, а может быть — это как раз то, что он делает прямо сейчас. В уме Саймона царила полная сумятица от растерянности и любопытства.
Последняя часть пути пролегала мимо виноделен и уже желтеющих дубовых рощ. Потом дорога вышла на просторную равнину. И в центре ее стоял монастырь Де-Ла-Туретт.
При виде его Саймон воскликнул:
— Bay!
Он несколько часов потратил на то, чтобы изучить это модернистское строение, но действительность все равно его ошеломила.
На зеленой плоскости стояло… нечто. Оно было похоже на отпрыска, родившегося в результате союза многоэтажной автостоянки и угрюмого средневекового замка. Скучно-серый бетон. И единственными пятнами цвета являлись большие окна, приукрашенные яркими красными и оранжевыми занавесками.
Саймон медленно повел машину к комплексу приората. По мере приближения его взгляду представали новые необычные детали. Точно в центре строения торчала сюрреалистическая бетонная пирамида. Несколько серых галерей как будто наугад торчали на внешней стене под разными углами. Все это сооружение поддерживалось с одной стороны поросшей травой насыпью, а с другой — бессистемно стоящими бетонными стропами, похожими на паучьи лапы.
Саймон припарковал машину и нашел вход: тот оказался чем-то вроде бетонной рамы, сквозь которую можно было проникнуть внутрь здания.
Возможно, интерьеры в глубине монастыря были более продуманы, но вход выглядел просто, почти небрежно. Здесь явно привыкли к постоянным гостям и паломникам, а в особенности к людям, проявляющим интерес к архитектуре. Саймона приветствовал в боковой бетонной комнате какой-то монах, одетый в голубые джинсы и серую футболку.
Когда Саймон подтверждал, что он и есть тот самый Эдгар Харрисон, британский архитектор, звонивший в монастырь и предупреждавший о своем визите, он ощутил легкий укол страха и всмотрелся в лицо монаха, боясь увидеть на нем выражение любопытства, или скептицизма, или подозрения. Но монах просто кивнул.
— Мсье Харрисон… un moment[64].
Монах проверил по компьютеру имя и прочие детали. Саймон в ожидании рассматривал комнату. Помещение выглядело абсолютно банальным, как обычный средний офис, где громоздились папки с бумагами и прочая дребедень, стояли радиотелефон и факс, и большой застекленный шкаф, в котором висели ключи от разных комнат — на крючках, с аккуратными этикетками. Le Refectoire, Le Libraire, La Cuisine.[65]
Le Libraire? Что ж, здесь, по крайней мере, имелась библиотека. Но если в ней хранятся столь глубокие тайны, почему она так беспечно упомянута здесь, в общем списке? Le Libraire…
Монах покончил с делом; он встал и взял ключ из другого шкафчика, а потом повел Саймона на бетонный верхний этаж, чтобы показать ему отведенную для него комнату, монастырскую келью, где журналисту предстояло провести три дня «уединения». Лестница была крутой. По дороге они молчали. И, наконец, дошли до верхнего этажа.
Вдоль бетонного коридора выстроились двери, как высокие солдаты, вышедшие на парад. Все это слишком напоминало тюрьму.
Монах протянул Саймону ключи, после чего предоставил паломника самому себе. Журналист вошел в комнату, бросил сумку на узкую кровать и осмотрелся — в некотором испуге. Келья выглядела убийственно мрачно: чуть шире, чем какой-нибудь гроб, с низким, сыроватым бетонным потолком… а завершалась она стеклянной дверью и окном. И отовсюду слышались приглушенные звуки. Бульканье воды в трубах. Покашливание…
Потом раздался телефонный звонок — сработал его новый мобильник. Когда Саймон нажал на кнопку «Ответить», тревога разбухла в его груди, как начинающийся сердечный приступ. Только его жена знала новый номер. Что могло случиться?..
Но это оказался Дэвид.
— Саймон… где ты? Сьюзи дала мне твой номер.
Журналист огляделся. Посмотрел на серые бетонные стены, покрытые уродливыми пятнами сырости. И вышел в коридор, надеясь, что там сигнал будет лучше.
— Я уже в этом монастыре.
— В том, где архивы?
— Надеюсь на это, Дэвид. Надеюсь на это.
В конце коридора показался монах. На его шее висел деревянный крест, резко контрастируя с яркой футболкой. Он рассеянно улыбнулся Саймону. И Куинн старательно выдавил нечто похожее на оскал.
Дэвид шептал в трубку:
— Мы улетаем в Намибию. Прямо сейчас.
— Элоиза уже там, да?
— Да.
— Отлично. Ну… — журналист вздохнул. — Вы уж там будьте поосторожнее. Это все… э-э… просто нелепо, честное слово. Но за вами гоняется кровавый безумец. Так что… будьте осторожны!
Минутное молчание. Потом Дэвид произнес:
— И ты тоже, Саймон. Я знаю, мы никогда не встретимся, но… знаешь, ты все-таки побереги себя.
— Спасибо.
Журналист закрыл крышку телефона и начал исследовать здание. Le Priore de Sainte Marie de La Tourette.[66]
Два часа блужданий дали ему понять, что весь монастырь внутри так же странен и устрашающ, как его келья. Странные двери открывались в уродливые комнаты неправильной формы. Бессистемно разбросанные окна в потолках открывали серое небо под самыми невероятными углами. Бетонные балки пронзали пустые пространства — у них, похоже, не было другого предназначения, кроме как лупить неосторожных паломников по головам. Все это в достаточной мере интриговало, но также и вносило толику разочарования. Здесь не было никакого намека на тайну, не было ощущения чего-то скрытого.
Библиотека оказалась просто собранием книг на третьем этаже здания. Никто ее не скрывал, и ее содержимое было абсолютно ординарным. Здесь не имелось древних текстов, прикрепленных к полкам цепочками. Не было папских пергаментов в футлярах из красного дерева. Никаких затхлых манускриптов, переплетенных в козью кожу. Здесь вообще не было ничего, кроме стопок самых обычных книг и больших металлических столов. Не было даже кофейного автомата.
Библиотека выглядела как муниципальная.
Тяжело вздохнув, Саймон уселся к одному из столов, чтобы просто полистать какие-нибудь книги, — но его бессмысленное занятие прервал новый телефонный звонок. Что случилось, почему ему стали звонить так часто?
Он вышел в очередной унылый бетонный коридор.
Это оказался Билл Фэнторп, психиатр из лечебницы Святой Хилари.
— Привет, Билл, я…
— Привет, Саймон. Мне очень неприятно тебя беспокоить. Но… — В голосе врача слышалась скрытая тревога.
— Что случилось, Билл?
— Боюсь, что Тим исчез.
Отдаленный гул отразился в стенах здания. Это промчался по равнине сверхскоростной поезд Лион — Париж.
— Исчез?..
— Да. Но прошу, не стоит очень уж беспокоиться.
— Боже… Билл, я…
— Такое постоянно случается, обычное дело. — Тревога исчезла из тона Фэнторпа, сменившись отработанной заботливостью. — Шизофреники бывают чрезвычайно изобретательны. К тому же Тим ведь уже убегал два года назад.
— Но когда? Когда именно он сбежал? И как?
Доктор замялся.
— Мы думаем, прошлой ночью. Как мне сказали… — Последовала задумчивая пауза. — Я понимаю, что ты чувствуешь личную ответственность за безопасность родных тебе людей. Твоя жена мне кое-что объяснила. И тем не менее… Мы уже связались с полицией, и нас заверили, что не стоит и думать… — Снова короткая неловкая пауза. — Не стоит думать, что тут что-то необычное. Но, безусловно, это серьезная ошибка нашей охраны. Прими мои извинения.
— Боже праведный…
— Пожалуйста! Возьми себя в руки. Мы найдем его. Скорее всего, уже к вечеру. Точно так же, как нашли его в прошлый раз.
Саймон невидящим взглядом уставился на сырое пятно на бетонной стене напротив. Во всем этом был виноват только он. Он сбежал. Он оставил свою семью без защиты, без особой на то причины. Зачем вообще он здесь? Потихоньку вышел из дома ранним утром, не сообщив копам о своих замыслах, взял такси, потом сел в поезд, потом первым самолетом отправился из Хитроу в Лион — как будто гнался за самой неуловимой из теней, за нелепой мечтой, воображая себя великим журналистом, намеренным создать самую великую историю десятилетия.
Каким же он был дураком… В реальности он просто криминальный репортер второго сорта, ему уже за сорок, и он слишком много лет потратил зря, просто пьянствуя, а теперь с отчаянием пытался ухватить удачу за хвост, преследуя некую ускользающую фантазию. Он мчался в никуда. А его брат тем временем… сбежал, он тоже стремился куда-то… Что он сейчас делает? Как он добывает себе еду, питье?..
И тут мысли Саймона обратились к Томаски; он постарался не думать о сержанте. Он очень старался.
Внезапно Куинн осознал, что все еще держит в руке телефонную трубку, а Билл Фэнторп продолжает что-то говорить. Саймон извинился перед доктором, отключил телефон и сразу же позвонил жене.
Сьюзи подтвердила то, что сообщил психиатр, добавив, что тут, похоже, нет ничего страшного, Тим просто блуждает где-нибудь в окрестностях больницы, он не в первый раз удрал, и в прошлый раз его нашли через двенадцать часов…
Но Саймона это не успокоило. Он громко сказал жене, что любит ее, ничуть не заботясь о том, что его кто-то может слышать. Потом добавил, что вернется домой как можно быстрее.
— Хорошо, Саймон. Конечно… — Сьюзи говорила заботливо. С любовью. Он такого не заслуживал.
— Я тебе еще позвоню, попозже, милая.
Куинн тут же позвонил в аэропорт, но услышал совсем не то, чего ему хотелось. Он уже опоздал на последний сегодняшний рейс из Лиона в Лондон. Следующий был на рассвете. И это самый быстрый способ вернуться в Англию. Если Саймон хотел попасть домой как можно скорее, ему некуда деваться. Нужно ждать до утра.
После короткого колебания он заказал билет.
Что ж, пусть будет так. Сегодня он проведет день в монастыре, потом уедет еще до рассвета и улетит домой из Лиона. У него есть день и вечер на то, чтобы проверить, можно ли здесь что-то найти. А потом он должен вернуться к семье. Чтобы ее защитить.
Саймон продолжил скучные и бесполезные поиски. Он чувствовал себя болваном, хотя вроде и был занят делом. Добрался до крыши. Она была плоской и унылой, как его настроение, вся поросшая травой. Странные конструкции, похожие на ящики, заменили архитектору-модернисту старомодных горгулий.
Потом Саймон отправился вниз. В середине здания располагалось религиозное сердце монастыря: большая, темная, загадочная церковь, наполовину погруженная под землю; свет в нее проникал сквозь узкие окна с цветными стеклами, расположенные только по одной стороне.
Но тем не менее это была именно церковь, и это был монастырь. Уступив нервному порыву, Саймон вышел на крытую галерею и по телефону отправил Сьюзи вопрос: «Есть новости?»
Сьюзи тут же прислала ответ: «Никаких».
Рассерженный, почти в ярости, Саймон снова отправился в библиотеку. Может, там все-таки отыщется хоть что-нибудь. Там ведь множество книг. Но очень скучных. Французские книги. Ему все это неинтересно. Труды Аквината. История ордена «черных монахов». Жизнеописание святого Доминика. Подборка монографий по архитектуре для наезжающих сюда специалистов. Тоненькая книжка на французском — биография Папы Пия X — на мгновение пробудила интерес Саймона, но он тут же заметил по меньшей мере три сотни сходных изданий: это была серия жизнеописаний всех Римских Пап.
В бетонном помещении кроме Саймона было еще два человека. Молодая женщина погрузилась в толстую книгу Ле Корбюзье в желтом переплете — Vers un Architecture Libre.[67] Вторым читателем был монах в жакете и свободных брюках, и на его носу красовались такие толстые очки, что он выглядел как напуганная древесная лягушка.
Саймон постарался выбросить из мыслей Тима. Но брату снова удалось прокрасться в его голову сквозь неплотно закрытое окошко души. Где он сейчас мог бы быть? Бродил по каким-то дорогам? Спал под лестницей? Покупал большой острый нож?..
Саймон ничего не мог сделать, находясь здесь, сейчас. И ему необходимо было как-то отвлечься, заняться работой. Он без особой надежды начал перелистывать какое-то глянцевое современное издание об уникальном дизайне монастыря. В брошюре упоминалось о нескольких интересных деталях; книга подробно рассказывала об окнах в потолках, о поддерживающих здание столбах…
Откинувшись на спинку стула, Саймон вздохнул и посмотрел по сторонам. Большое, высокое окно библиотеки выходило на долину с бесконечными фермами и винодельнями. Монастырь стоял очень уединенно. Квадратный, странный и очень одинокий под серо-черным лионским небом.
Надвигалась осенняя буря — нешуточное природное явление. Первые раскаты грома прокатились над долиной Роны, заставив здание монастыря буквально завибрировать. Даже тихий маленький монах в очках поднял голову от своих бумаг, вытаращив большие глаза.
Шум громовых раскатов был чем-то похож на скандал родителей на верхнем этаже, над головой маленького испуганного ребенка; это напоминало приглушенный, но зловещий звук падения чьего-то тела на пол в спальне.
Das Helium und das Hydrogen.
Журналист вздрогнул и обратил свое внимание на книгу, лежавшую в конце длинного стола. Книга отзывов, куда все посетители заносили свои имена. Это был гигантский том в коже: не меньше тысячи страниц, и даты записей уходили на десятилетия в прошлое. Саймон придвинул книгу и просмотрел последние записи, то есть те из них, что были сделаны на английском.
«Шум по ночам — невыносимо!»
«Выражение абсолютной гениальности».
«Самое прекрасное здание в мире! И в то же время самое уродливое».
«Я обрел здесь безмятежность. Спасибо».
Над потемневшей долиной вспыхивали молнии, на мгновение заливая светом серые стены и оранжевые занавеси. Широкая стена дождя двигалась по долине, заливая маленькую деревушку Эвё-сюр-Л'Арбрель.
Эвё и Л'Арбрель?
Эвё… сюр… Л'Арбрель.
Что-то шевельнулось в его памяти. Что-то вздрогнуло под жужжащей тревогой, сосредоточенной на Тиме; Саймон понял, что он кое-что забыл.
Та звездочка на карте Дэвида: синяя пометка, так тщательно нарисованная отцом Мартинеса, Эдуардо. Монастырь мог представлять собой что угодно, но Эдуардо был уверен, что он важен…
Мог ли он… был ли он…
Саймон начал быстро и энергично перелистывать страницы книги отзывов, мысленно перебирая даты. Когда произошло убийство супругов Мартинес? Он вспомнил информацию об этом событии, сосредоточившись на дате, и тут же нашел нужные страницы в книге записей. Пятнадцать лет назад.
Вот то, что ему нужно. Он посмотрел на имена. Люди из Франции, Америки, Испании, Германии. Особенно много людей приезжало из Германии и Франции. А потом…
Это оно?
Сердце Саймона громыхало под стать грозе, бушевавшей над долинами Божоле.
Он нашел короткую фразу на английском. Она гласила: «Искать значит находить?»
А дальше сообщалось о самом паломнике. Город: Норидж. Страна: Англия. Дата посещения монастыря: 17 августа.
И, наконец, имя.
Эдуардо Мартинес.
31
Им понадобилось три дня, чтобы разработать согласованный маршрут до Намибии и дождаться нужного момента. Но, наконец, они вышли из отеля, чтобы тайком отправиться в аэропорт и улететь во Франкфурт. А уже из Германии ночью начнут перелет в восемь тысяч миль на юг. Через экватор, через всю черную Африку — к Намибии.
Все это время они почти не разговаривали, чувствуя себя подавленно даже наедине друг с другом. И в самолете, когда они уже летели в Африку, тоже все больше молчали, как будто серьезность того, что они делали, не нуждалась в словах. Потому что они летели в неведомое.
Когда самолет пересекал обширную темную Сахару, Дэвид гадал, что они могут найти в Африке… отыщут ли они Ангуса Нэрна и Элоизу? Что, если с ними что-нибудь случилось? Что, если они их просто не встретят? Что тогда делать? Просто спрятаться где-нибудь навсегда в песках? Возможно, если им удастся справиться с подхваченными инфекциями. От трупов в том подвале.
Дэвид старался подавить свои страхи. Какая бы судьба ни ждала их, тайну необходимо раскрыть — а значит, решение поискать ответ в самом центре загадки было правильным. И даже если на них снова будут охотиться, то они должны хотя бы постараться обогнать своих преследователей, первыми найти правильный путь. И это еще одна причина к тому, чтобы рискнуть, чтобы лететь в Намибию.
Эми дремала рядом с ним. Дэвид взял из кармана кресла журнал и перелистал его глянцевые страницы, ища карту: Намибия была огромной страной. Большой оранжевый неправильный прямоугольник. Дэвид всмотрелся в названия нескольких городов.
Виндхук. Уис. Людериц. Аус. Звучит совсем по-немецки. Реликты Германской империи. Но почему городов так мало? На карте — большое пустое ничто…
Большую часть двадцатичетырехчасового перелета Эми спала. Полное изнеможение. Дэвид то и дело посматривал на любимое лицо; старательно укрыл ее пледом, чтобы она не замерзла. Дыхание девушки постепенно стало глубоким и ровным.
А потом и Дэвид закрыл глаза и погрузился в сон.
Когда он проснулся в очередной раз, в иллюминаторы самолета били ослепительные лучи солнца; они уже приземлялись в аэропорту, подобного которому Дэвид никогда в жизни не видел.
Вокруг раскинулась пустыня. Даже сам аэропорт был пустыней. Парочка жалких пальм стояла около пыльной взлетно-посадочной полосы, но сразу же за ее гудроновым покрытием вздымались огромные песчаные дюны, похожие на застывшие оранжевые волны прилива, только вместо барашков пены на них лежала пыль.
Сонные пассажиры спустились по трапу в оглушительную жару. Африканское солнце обжигало мгновенно, едва коснувшись кожи. Эми подняла журнал, чтобы прикрыть лицо, Дэвид поднял воротник рубашки, чтобы хоть чуть-чуть защитить шею. Аэропорт — островок раскаленного асфальта в море горячего песка — был таким крошечным, что до терминала они добрались за две минуты.
Паспортный контроль осуществляли три бесстрастных парня, очевидно понимавшие английский язык; десять минут спустя молодые люди были уже на территории Намибии. Как только они вышли из здания терминала под ослепляющие лучи солнца, к ним подошел улыбчивый чернокожий таксист. Куда гости хотят отправиться?
Дэвид и Эми не зря тайком прокрадывались в интернет-кафе в Биаррице, не зря старались узнать о Намибии как можно больше; кое-какие результаты имелись. Свакопмунд, то место, которое указала им Элоиза, находился на побережье, в центре приморского района страны. И также там, судя по всему, они могли бы найти людей, готовых проводить их в пустыню и в горы. Проводников и поставщиков снаряжения.
Дэвид сказал таксисту:
— Свакопмунд. Можно?
— Отлично! Свакоп!
Сумки были небрежно брошены в багажник. Такси вырвалось со стоянки на дорогу, прорезавшую пустыню. Сквозь слепяще-прозрачный африканский воздух Дэвид увидел тонкую голубую линию на горизонте.
— Это море?
— Да, сэр! — ответил водитель. — Валвис и Свакоп — они у моря. У моря, где много фламинго. Но нельзя купаться, очень много медуз и много-много акул.
Машина повернула, по ней ударил яростный порыв ветра. Водитель засмеялся.
— Вы выбрали плохое время года!
— Вот как? Почему?
— Зима холодная. Ветер, а может быть даже дождь.
— Холодная?
— Да, сэр. Но в Свакопе всегда ветер. А сейчас холодно. Бенгальское течение.
Дэвид смотрел на бесконечные, огромные, волнообразные дюны; в безжалостных солнечных лучах они были резкого желтовато-белого цвета. Вдоль дороги ветер нес песок — оранжевые змеи пыли, извивающиеся, рассыпающиеся…
Итак, они с Эми были здесь, и теперь желание найти Элоизу казалось нелепым, почти донкихотским. Они очутились в мире пустоты, в стране могучего разорения, с населением едва ли в два миллиона, разбросанным по раздавленным солнцем пространствам размером с Францию и Англию, вместе взятым. И они искали одного-единственного мужчину и одну-единственную женщину. В этой дикой бесконечности. Да существуют ли здесь вообще гостиницы?
Водитель показал куда-то:
— Свакоп!
Дэвид во все глаза смотрел на город, когда они ехали по его улицам. Его охватило глубокое ощущение дезориентации. Прямо из песка перед ним вдруг возникло нечто вроде баварского городка: пряничные домики, немецкие церквушки со шпилями, маленькие тевтонские магазинчики с причудливыми готическими вывесками, рекламой немецких газет и домашнего пива. Но улицы при этом были заполнены чернокожими и людьми с кожей оранжево-бежевого цвета; и еще Дэвид заметил несколько пар, похожих на американцев или, может быть, австрийцев, и еще здесь были самые настоящие немцы, одетые в… альпийские кожаные брюки с подтяжками?..
Водитель привез их к отелю, о котором упоминала Элоиза; он вполне одобрил их выбор, потому что его брат, который однажды останавливался в этом отеле, говорил, что съел тут так много устриц, что чуть не заболел. Отель был большим, белым, неряшливым, и краска на его фасаде покрылась пузырями от ветра и солнца, но зато он стоял прямо на берегу, выходя окнами на волнорез и на бесконечно голубовато-серый океан.
На пирсе сидели несколько белых парней, удивших рыбу; они были укутаны в куртки с капюшонами и джемперы. Перепачканные кровью корзины с жирными рыбинами свидетельствовали об их успехе. Парни говорили по-немецки и смеялись. И смачно жевали темные печенья.
Увидев рыбу, Дэвид сразу же подумал о мальках угря, которые готовил Хосе, о его последней трапезе… А потом — выстрел, самоубийство, непристойное пятно крови на стене. Трупная жидкость, выплеснувшаяся на пол подвала…
Они с Эми купили в гостиничной лавке свитеры из овечьей шерсти. Потом приняли душ, переоделись и начали поиски. Сразу же. Они устали до полного изнеможения, но им нужно было найти Элоизу, и эта необходимость подгоняла их. Отогнав усталость парой чашек самого крепкого кофе, они попытались сделать то, ради чего сюда прилетели. Найти безопасность, найти Элоизу, найти ответ.
Их «контактом» был некий менеджер отеля по имени Раймонд. Через несколько минут поисков они обнаружили его: это был невысокий, довольно грустный с виду намибиец. Он находился в маленькой комнатке, за стойкой портье и не сводил взгляда с экрана старенького компьютера.
Он бросил на них быстрый взгляд — белый мужчина и белая женщина, которые спрашивают об Элоизе, — и серьезно кивнул. Потом сказал:
— Я знаю, зачем вы приехали. Но прежде вы должны мне кое-что рассказать. — Он чуть не поклонился. — Что делала Элоиза в тот момент, когда вы впервые ее увидели?
Дэвид не задумываясь ответил:
— Она была в своем доме и целилась в нас из охотничьего ружья.
Ответом послужил понимающий кивок. Раймонд повернулся и выдвинул ящик письменного стола, чтобы достать оттуда какой-то листок бумаги. На листке был написан ряд цифр и букв. Дэвид сразу узнал стиль и почерк.
— Это координаты джи-пи-эс?
— Да.
— Но где это место?
Менеджер пожал плечами:
— Возможно, Дамараленд? Где-то в буше. Вот все, что я знаю. А теперь прошу меня извинить, я должен работать, мне очень жаль, но мы тут слишком заняты. Туристы из Швейцарии.
Он бросил взгляд на молодых людей — внимательный, настороженный. Ему явно хотелось, чтобы эти опасные типы с их странными договоренностями поскорее вышли из его кабинета. Что ж, он был совершенно прав, но Эми и Дэвид остались практически с тем же, с чем и были. Несколько цифр координат, указывающих неведомо куда? Из своих поисков в Интернете Дэвид уже знал, что Дамараленд — это воистину обширное пространство пустыни и нескольких оазисов, к северу и востоку от Свакопа. Как можно посреди всего этого найти кого-то, одного или двух человек? Пусть даже с помощью навигатора?
Но на отчаяние времени не было, и они сразу же приступили к делу, начав искать кого-нибудь, кто мог бы проводить их в глубь страны. Однако дело оказалось трудным; оно оказалось просто неподъемным. Они заходили в туристические бюро, в пункты проката автомобилей, в бюро, организующие пешеходные экскурсии. Когда они объясняли, что им нужно, менеджеры и проводники откровенно смеялись. Один австралиец, одетый в шорты, несмотря на холод, снисходительно обнял Дэвида за плечи и сказал:
— Послушай, приятель! Дамараленд? Там нет дорог. Туда нужно снаряжать экспедицию. Тебе понадобятся два-три внедорожника и чертова куча оружия. Это тебе не Гайдпарк. Займись лучше серфингом.
И так оно и шло, никаких изменений к лучшему. А потом город накрыло туманом. Дэвид и Эми два дня просидели в отеле в нарастающей тревоге, а вокруг царили ветер и холод; потом погода стала еще хуже. Туман над Свакопмундом сгустился, прославленный туман с Берега Скелетов.
Это было похоже на погоду в Шотландии в декабре: туман был густым и гнетущим, он погрузил во тьму нарядные немецкие кондитерские, заставив туристов из Германии засесть в теплых уютных номерах гостиниц; полностью скрыл черные промышленные суда, что вяло скользили по холодному намибийскому морю; только желтовато-оранжевые люди сидели на корточках на улицах с непроницаемым выражением лиц; прищурив обожженные солнцем глаза, одетые в вязаные жакеты и дырявые джинсы, они смотрели в серое сырое ничто. Они были похожи на басков в беретах, смотрящих на спускающийся с гор туман в деревушках высоко в Пиренеях.
В самый туманный из всех вечеров, когда Дэвид и Эми уже готовы впасть в полное отчаяние, они брели, дрожа, по Мольткештрассе — и обнаружили бар, которого не видели прежде: бар «Беккенбауэр».
Он был крошечным, совершенно баварским с виду, и доносившийся из него шум был слышен уже метрах в пятидесяти. Стремясь хоть ненадолго укрыться от пронизывающей сырости, они вошли в этот бар, набитый битком; сидевшие там люди пели по-немецки и заказывали легкое пиво, кружку за кружкой, чокались друг с другом и громко смеялись.
Эми с Дэвидом отыскали столик в углу и сели, радуясь теплу. К ним подошел чернокожий официант и спросил, перекрикивая шум, хотят ли они чего-нибудь.
Дэвид неуверенно произнес:
— Ein bier?..[68]
Официант улыбнулся:
— Все в порядке, я говорю по-английски. Какое пиво, крепкое или легкое?
— А… — Дэвид слегка смутился. — Крепкое, пожалуй.
Эми в явном замешательстве смотрела на буйно веселящихся и распевающих немецких мужчин. Когда официант повернулся, чтобы уйти, она его остановила:
— Простите…
— Да, мисс?
— Почему… — Эми говорила тихо. — Чему они так радуются?
Официант едва заметно пожал плечами:
— Думаю, празднуют День Вознесения.
Эми нахмурилась:
— День Вознесения — через сорок дней после Пасхи, разве не так? Обычно в мае. — Она нахмурилась еще сильнее. — А сейчас сентябрь.
Официант кивнул:
— Да. Но речь не о Христе. О Гитлере.
32
Саймон постарался сдержать вскрик, когда прочел эту запись, — вскрик победы. Отец Дэвида действительно был здесь. Пятнадцать лет назад. Он распутывал ту же самую нить. Саймон на полпути к той же самой тайне.
Очередной раскат грома прозвучал заметно тише. А потом возбуждение угасло. Да, отец Дэвида, Эдуардо Мартинес, посетил этот монастырь пятнадцать лет назад. И что? Это ведь не означало, что он здесь что-то нашел.
«Искать значит находить?»
Почему фраза заканчивалась знаком вопроса? Что это значило? Если бы Эдуардо Мартинес действительно что-то нашел, он бы не поставил после этой фразы знак вопроса. Но… зачем он вообще написал это? Должно быть, ощущал, что вот-вот доберется до чего-то… конечно, никакое это не совпадение — то, что старший Мартинес приезжал в этот монастырь.
Саймон обрадовался, услышав звонок, сообщавший о начале ужина. Он был голоден так же, как и растерян. И продолжал слышать неустанную мольбу, стучащую в висках: возвращайся домой, возвращайся домой, возвращайся домой… Найди Тима, найди Тима, найди Тима…
Как только прозвучал низкий звонок, монастырь сразу ожил. Из всех его бетонных углов, из церкви, с крыши, из келий и сада монахи, паломники, туристы и просто ищущие уединения собирались в большую трапезную, чтобы выпить поданного в кувшинах местного вина и съесть салат и кусок тушеного ягненка, взяв тарелку с длинной стальной стойки.
Чувствуя себя почти как робкий первоклассник, Саймон сел к самому длинному столу вместе с другими людьми. Робость боролась в нем с тревожной жаждой найти нужную информацию. И быстро. У него остался всего один вечер. Потом он уедет, еще до рассвета. Ему хотелось выпить вина. Но он пил воду. В момент перемены блюд Куинн отправил жене вопрос: «Есть новости?» Она ответила сразу: «Никаких».
В другом конце длинного стола сидели и пили монахи. Некоторые разговаривали с гостями, другие хранили сосредоточенное молчание; один доминиканец, лет шестидесяти, со скорбным лицом, оживленно разговаривал с молодым светловолосым парнем, явно гостем монастыря. Монах был в повседневной одежде, впрочем, как и большинство остальных. Саймону показалось, что этот печальный немолодой человек пьет слишком много вина.
Журналист немного поговорил с теми, кто сидел неподалеку от него. Художник-словак, искавший вдохновения. Бельгийский дантист, страдавший кризисом религиозности. Два студента из Дании, явно приехавшие сюда просто так, шутки ради: пугающий монастырь, который доводит людей до безумия! Как интересно! Пара истовых паломников из Канады, верующие люди.
Буря наконец стихла; синяя и пурпурная темнота окутала пейзаж за окном. Саймон покончил с ужином и снова впал в отчаяние. Через несколько часов он должен будет уехать. Сидел, наклонившись вперед, чувствуя себя ужасно одиноким, и прихлебывал кофе. Потом снова отправил Сьюзи все тот же вопрос.
«Извини, новостей нет».
Но потом, когда он все так же сидел, не меняя позы, согнувшись над чашкой кофе, он вдруг услышал, как кто-то произнес: «Пий Х».
Журналист осторожно придвинулся к беседующим, хотя и продолжал демонстративно смотреть в пространство перед собой.
И он услышал неторопливую беседу двух людей, сидевших недалеко от него. Монах лет сорока и паломница, женщина постарше. Американка или, возможно, канадка.
— Брат Мак-Магон провел здесь уже восемь лет.
— И?..
— Как я уже говорил, мисс Тобин, предыдущий библиотекарь был… ну… оказывал довольно плохое влияние. Он был членом Общества, пока их не отлучили от церкви.
— Это я поняла. А когда это было? Когда вы учились в семинарии?
— Да. Многие молодые монахи проходили здесь обучение в девяностых годах. Но тот библиотекарь со своим учением был подобен злокачественной опухоли. Да, в те дни Общество имело здесь большое влияние. И библиотекарь учил весьма неподобающим вещам. Использовал неподходящие тексты, не получившие одобрения документы и материалы. Но теперь у нас — брат Мак-Магон. И у нас уже не проходят обучение семинаристы. Хотите еще вина?
Женщина протянула ему свой стакан. Их разговор иссяк.
Саймон допил кофе, даже не почувствовав его вкуса; он ощущал только вкус маленькой победы. Так вот оно, объяснение! Томаски учился здесь, он был одним из пылких католических семинаристов. И чему-то выучился от того библиотекаря…
Но что это было? Что меняло людей? В монастыре должны были скрываться какие-то секреты, способные пробудить в людях религиозную воинственность, даже готовность к убийству…
А вот следов архива нигде не наблюдалось.
Саймон встал, собираясь выйти из трапезной, подумав, что ему, пожалуй, стоит еще раз порыться в книгах из библиотеки. Может быть, указания на архив спрятаны в книгах — на каком-нибудь иностранном языке. На греческом. Или арабском. Или вообще в зашифрованном виде…
Конечно, это был просто жест отчаяния, но Саймон и был в отчаянии. У него остался один вечер, и все на этом; он поедет домой, обнимет Коннора и найдет Тима. Журналист повернулся к выходу — и тут увидел светловолосого парня, того самого, который разговаривал с монахом; теперь молодой человек сидел за столом в одиночестве.
И вид у него был задумчивый и печальный.
Что они обсуждали так страстно? Монах и этот парень?
Журналист воспользовался моментом и протянул молодому человеку руку. Тот бодро улыбнулся.
— Guten tag[69]. Юлиус Денк.
— Сайммм… Эдгар Гаррисон.
Глупейшая ошибка. Но Юлиус Денк то ли не заметил ее, то ли не обратил внимания. Он казался оживленным — и в то же время рассеянным. Его очки в тонкой оправе отражали свет ламп. На английском он говорил хорошо; рассказал, что учится на архитектора в Штутгарте и очень интересуется работами Ле Корбюзье. Журналист знал об архитектуре достаточно много — благодаря отцу, — чтобы и самому сойти за архитектора, хотя, возможно, и слегка глуповатого. Они обменялись мнениями о монастыре.
Потом Юлиус сам упомянул о немолодом лысеющем монахе, об их разговоре за ужином.
— Тот монах… он очень несчастен. Американский ирландец. Пьет. Он здесь уже семь лет.
— О?..
— Да. Думаю, он архивариус. Говорит, у него кризис веры. Он теряет веру в Бога. Не слишком хорошо для монаха, мне кажется! — Молодой немец рассмеялся. — Знаете, мне стало его жалко. Но он слишком много говорит. А вино здесь хорошее, nicht wahr?[70]
Саймон согласился с этим. Но его уже уколола догадка. Архивариус, теряющий веру… почему?
Юлиус продолжал говорить:
— Вы не говорили, герр Гаррисон, вы здесь потому, что вам нравится Корбюзье? Или нет? Что вы о нем думаете?
— А… ну да. Ле Корбюзье. Думаю, он хорош.
— Да? А что именно из его работ вам нравится?
— Ну… та вилла в Париже.
— Савой?
— Да, она самая. Она в порядке.
Юлиус просиял.
— Верно. Я восхищаюсь его виллами. Но это здание — полная неудача. А?
На этот раз Саймон просто пожал плечами. Он не в состоянии был вступать в заумную дискуссию о штукатурке с добавлением каменной крошки и об использовании в архитектуре ничем не прикрытого бетона или о бессистемно разбросанных световых окнах — только не сейчас, когда его так тревожили тайны этого строения.
Но он постарался высказать более или менее связное мнение:
— Это здание… оно приводит в замешательство. Серьезно. Постоянные звуки тут и там… наверху.
— Верно, каждый звук умножается! Да-да! И думаю, по ночам шум даже усиливается. Мне даже кажется, я слышу, как монахи мастурбируют. — Немец хихикнул. — Н-да… Я все гадаю: почему оно построено именно так? Чтобы наказывать грешные души?
— Да, возможно… или в первую очередь чтобы не позволять делать то, что не нужно… акустика в роли системы безопасности. Ведь если вас кто-нибудь услышит…
Юлиус перестал смеяться. Саймон попытался продолжить разговор. Ну, еще шаг-другой…
— В общем, Юлиус, я так полагаю, что вам не нравится Ле Корбюзье.
— Не нравится. И это здание подтверждает мое мнение.
— Как это?
— Так, что Ле Корбюзье был лжецом!
— Простите, не понял?
Немец нахмурился, глядя на Саймона поверх стакана.
— Помните, что Корбюзье сказал по-английски? — Выражение лица Юлиуса Денка стало меланхоличным, почти высокомерным. — Помните?
— Нет.
— Он сказал, что форма следует за функцией. Так? Но в самом ли деле он так думал? Я уверен — нет.
— Так, хорошо, и?..
— И я могу вам кое-что показать. Могу доказать это. Hier[71].
Юлиус Денк сунул руку в свою сумку и достал какую-то бумагу. Саймон присмотрелся.
— Это похоже на… светокопию?
Немец взмахнул рукой.
— Именно. Это пример. Я его привез с собой. Тут схема всего здания, из музея Корбюзье в Швейцарии.
Схема. Копия.
Вот это уже было действительно интересно. Это было очень интересно. Полный план всего монастыря. Глаза журналиста расширились, но он постарался не выдать своего крайнего любопытства.
— И?..
— Вот, смотрите, — немец ткнул пальцем в план. — Вот здесь. Если все у него так уж функционально, то это что такое?
«Этим» оказалась путаница пунктирных линий и слабо обозначенных углов, помеченных цифрами и греческими буквами. Но Саймон не понимал, что имеет в виду Юлиус. Он ведь был архитектором всего часов шесть или около того. Куинн уже не в силах был поддерживать эту жалкую хромую иллюзию.
— Да вроде бы все в порядке.
— Вы не видите?
— А почему бы вам просто не объяснить мне?
Юлиус победоносно улыбнулся:
— Я специально изучал это здание. Но вот эта его часть не имеет смысла!
— Как это?
— Пирамида! Пирамида не несет никакой нагрузки! Она ни для чего не предназначена! Она просто торчит тут, в середине, без какой-либо цели! Я проверял, там нет ни тепло-проводов, вообще никаких коммуникаций. И никто не может этого объяснить! Из чего я сделал вывод, что она — чисто декоративный элемент. Понимаете?
Саймон замялся, чувствуя, как у него сжимается горло.
— Да, понимаю.
— Вот я и говорю, что он был лжецом! Этот самый великий Ле Корб был просто мошенником! Он добавил сюда пирамиду в качестве чистого украшения! Чисто декоративное дополнение к архитектонике. Да он был шарлатаном! Форма следует функции? Чушь!
Взяв схему, Саймон внимательно всмотрелся в нее. Пирамида начиналась прямо от фундамента. Если в нее вообще имелся вход, он должен был располагаться в самом нижнем этаже монастыря. Где-то в таинственной тьме под церковью.
Да, именно так и должно было быть. В любом случае это место осталось единственным уголком, которого Саймон еще не видел.
Пирамида.
33
— Отвратительно, ведь правда?
Дэвид обернулся. Крупный блондин в рубашке-регби сидел за соседним столом и смотрел на бесчинствующих немцев. Он говорил с акцентом, похожим на южноафриканский. Дэвид пожал плечами, не зная, что сказать.
— Прошу прощения, — мужчина рыгнул. — Но я просто услышал ваш разговор. Официант прав. Эти ублюдки празднуют день нацистов. День прихода Гитлера к власти.
Мужчина запустил пальцы в густые светлые волосы; он был высок, загорел, энергичен, а лет ему было около тридцати пяти.
— И ведь я тоже немец! По крайней мере, по происхождению, — сказал он, протянув Дэвиду крепкую руку. — Меня зовут Ганс. Ганс Петерсен. Я только что приехал из Тэфела. Тут в Свакопе — лучшее пиво! — Он улыбнулся. — Я из Оташи. Скотоводческая ферма.
Дэвид тоже представился и представил Эми.
— Но… — Он взглядом показал на радостных нацистов. — Почему они это делают? Это что, шутка?
— Для кого-то из них — да. — Ганс сделал хороший глоток пива. — Они прилетели сюда из Германии и устроили большое представление. Говорят, что это… ирония. Шокируют буржуа. Но для кого-то это совсем не шутка. Кое-кто здесь ведет род от тех нацистских семей, которые сбежали сюда после войны. А есть и представители старых колониальных семейств — они отмечают этот день с 1933 года. — Ганс вытер губы широким запястьем. — А как насчет вас? Вы туристы?
Поющие немцы понемногу затихли; многие из «иронизирующих» нацистов выходили из бара, и клубы холодного воздуха врывались внутрь каждый раз, когда распахивалась дверь.
— Мы… мы пытаемся найти кого-нибудь, кто помог бы нам добраться до Дамараленда. Нам там нужно кое с кем встретиться. Но, похоже, это… просто невозможно.
Немец уставился на них, почти не мигая.
— Вы сказали — Дамараленд?
— Да.
Он окинул обоих внимательным взглядом.
— Ну, может, у вас сегодня удачный день.
— То есть?
— Я могу вас прихватить. Возможно. Я туда отправляюсь завтра, вместе с несколькими защитниками природы, у нас там дела насчет наших элечек.
— Насчет чего?
— Пустынные слоны. Это то, чем я сейчас занимаюсь. А ферму оставил на брата. Слишком скучно. — Ганс хихикнул. — Я помогаю экологам, правительству. Сафари для туристов и так далее. Намибия — не из тех мест, где можно просто гулять по окрестностям.
Эми тревожно улыбнулась.
— Мы уже заметили.
Ганс кивнул, рассмеялся и заказал еще пива. Он задал Дэвиду и Эми пару вопросов, потом еще пару вопросов — а потом встал, положил на стол несколько намибийских долларов и помахал рукой официанту.
— Ладно. Будем считать, что договорились. Рад вам помочь. Похоже, вы в этом нуждаетесь, как никто другой в этом месте. — Он направился к двери, но остановился. — Но вам придется встать очень рано, ребята. Отправляемся в семь утра. Дорога долгая.
— Но… где мы встретимся?
— У мемориала гереро[72]. Это название племени. Вы нас сразу заметите — мы будем на «Лендроверах».
Дэвид и Эми во все глаза смотрели, как Ганс исчезает в ночи. Наконец-то им повезло. Они облегченно вздохнули, расплатились за пиво, поймали такси и поехали в свой отель.
Но их хорошее настроение очень скоро подверглось очередному испытанию.
Когда они проходили мимо стойки портье, перед ними вдруг возник робкий, несчастный Раймонд; он перегородил им дорогу к лифту.
— Привет.
— О, Раймонд…
Менеджер был явно встревожен; он приложил палец к губам, давая знать, что следует вести себя как можно тише. Жестом указывая на темный угол, зашептал:
— Пожалуйста, пожалуйста… давайте отойдем… послушайте!
— Раймонд, что…
Он нахмурился, прячась в тени.
— Вас кто-то ищет.
— Кто?
Глаза Эми расширились от испуга. Раймонд пожал плечами, продолжая хмуриться. Весь отель как будто потемнел и затих.
— Невысокий человек. Довольно полный. Почти бородатый. Акцент испанский.
Эми прошептала, склонившись к Дэвиду:
— А что, если это… Энока?
Дэвид резко спросил:
— Что он говорил, тот человек?
— Не особенно много. Сказал только, что ищет белую пару. По описанию — вас. Я ничего ему не сказал… но он вас ищет. У него татуировка на руке. Похоже на немецкую… свастику.
— Энока, — выдохнула Эми.
Энока.
Дэвид почувствовал себя так, словно в него влили порцию ужаса. Те сжигающие душу картины и так не оставляли его… Раболепный сообщник Мигеля, спешащий вон из пещеры… а потом сам Мигель. Насилующий Эми. Не насилующий Эми.
Девушка уже направлялась к лифту.
— Идем в номер.
Они проскользнули в свою комнату, тщательно заперли дверь и легли не раздеваясь, но заснули с трудом.
Когда Дэвид открыл глаза, он смутно помнил приснившийся ему очередной кошмар, как горькое послевкусие какого-нибудь снотворного. Сон с элементами секса. Сон об Эми и Мигеле. Дэвид был только рад тому, что не помнил подробностей.
Туман рассеялся. Молодые люди побросали в сумки свои вещи, посмотрели на море — теперь сиявшее в солнечных лучах — и, осторожно выйдя из отеля, взяли такси, чтобы проехать несколько сотен метров до мемориала гереро. Они были так напуганы, что сидели в машине пригибаясь, чтобы их нельзя было заметить из окон отеля.
Как и говорил Ганс, его компанию невозможно было не заметить: два больших коричневато-желтых «Лендровера» с надписями на бортах, нанесенными по трафарету: «Проект Слоны Пустыни». «Лендроверы» были до отказа нагружены разным снаряжением. Ганс приветствовал их очередным крепким рукопожатием и показал на вторую машину.
— Та уже битком набита. Вам лучше ехать с нами. — Он подхватил их сумки и понес к первой машине. Потом всмотрелся в их лица со сдержанной улыбкой. — У вас все в порядке? Вид у вас как будто… встрепанный.
— Мы в порядке. Просто хотим поскорее отправиться.
— Хорошо, что туман смылся, а? Ну, я уже сказал, вам лучше ехать со мной и Сэмом. Если, конечно, вы не хотите двенадцать часов подряд болтать о зоологии… Эй, а вот и мой лейтенант-гереро! Сэмми!
Молодой чернокожий парень обернулся с улыбкой. Ганс ткнул пальцем в Эми и Дэвида.
— Эти ребята поедут с нами. Подбросим их к Угабу. Они сядут в нашу машину. — Он повернулся к Мартинесу. — Ладно, по коням!
Дэвид и Эми немедленно забрались в «Лендровер». И взялись за руки. Медленно тянулись секунды. Машина продолжала стоять на месте.
— Ну же, поехали, — прошептала Эми себе под нос, очень тихо. — В чем дело-то? Мы что, не можем просто уехать?
Они ждали. Эми обливалась потом. Они оба старались стать как можно более незаметными в полутемном салоне автомобиля. Прошло шесть минут, потом шесть с половиной, потом шесть и три четверти минуты… и тут, наконец, Ганс ввалился внутрь, захлопнул дверцу и, громко присвистнув, тронул машину с места. Наконец-то они выбирались из города, тряслись через пригороды Свакопа… они проезжали мимо бунгало, выкрашенных красной и голубой краской, мимо последних строений, напоминающих о городе, мимо последнего пыльного супермаркета, через заброшенное железнодорожное полотно — и потом в пустыню.
Тишина и необъятность простора, казалось, поглотили их целиком. У Дэвида от облегчения закружилась голова. На благодушных улочках Свакопа «Лендроверы» выглядели огромными и важными и уж слишком бросались в глаза; а теперь они превратились в две крохотные точки в суровой бесконечности.
Вот и отлично.
Дэвид и Эми сидели сзади, Сэмми и Ганс болтали о чем-то впереди. Похоже, они говорили на языке гереро — по крайней мере, так предположил Дэвид; в любом случае это был какой-то местный племенной язык. У Ганса были координаты навигатора, которые отдала ему Эми. Время от времени немец сверял их с показаниями своего бортового джи-пи-эс и кивал, явно удовлетворенный.
Гравийная дорога, освещенная косыми лучами утреннего солнца, была почти пустой. Лишь изредка по ней громыхал какой-нибудь ржавый грузовик или новенький внедорожник, чаще всего, катя им навстречу, поднимая клубы пыли, и пыль взлетала вверх, как оранжевые сигнальные столбы дыма в чистом голубом воздухе. Некоторые грузовики подвозили чернокожих рабочих; те лениво лежали в кузовах, куря или просто погрузившись в дремоту. Блестящие внедорожники в основном несли в себе одиноких белых мужчин, которые, видя «Лендроверы», небрежно поднимали палец в знак приветствия.
Дэвид гадал: неужели Раймонд действительно видел Эноку? Может быть, это просто паранойя, ошибка, невинная ошибка? Но татуировка… тут невозможно было ошибиться. Да, Раймонд видел именно Эноку.
В машине было жарко; Дэвид вспотел. Он нервно потер лоб, пытаясь расставить все по местам. Да, вполне возможно, что Мигель и Общество вычислили, куда отправилась Элоиза. Общество, что было совершенно очевидно, хорошо знало обо всех связях проекта «Карта генов». Они знали все о «Карте генов», и они прикрыли этот проект с крайней жестокостью, точно так же, как садистски уничтожали всех, кто был хоть как-то связан с Гюрсом и каготами. По приказу церкви? Да, конечно, они наверняка отлично знали о намибийских связях проекта — о связи между Фишером и корпорацией «Келлерман».
Складывая вместе простые числа, нетрудно было получить очевидный ответ: Нэрн и Элоиза в Намибии. Дэвид и Эми тоже. И Мигель должен был отправиться следом за ними.
Дэвид огляделся по сторонам, приближаясь к грани отчаяния. Да могут ли они хоть где-то чувствовать себя в безопасности?
На горизонте появились черно-фиолетовые горы. Возник и растаял мираж — озёра, сверкающие в лучах могучего солнца. Жара уже была почти нестерпимой. Все в машине то и дело пили воду.
Горы напомнили Дэвиду о Пиренеях. Воспоминания о тех горах привели к мысли о карте, все так же лежавшей в его кармане, плотно сложенной, поблекшей… Дэвид сунул руку в карман пропылившейся куртки и достал карту. Эми дремала рядом с ним.
Молодой человек наполовину развернул мягкую потертую бумагу. Все звездочки на карте получили объяснение, даже та, что находилась около Лиона. Но оставалась еще маленькая цепочка букв на обратной стороне листа. Дэвид перевернул карту и всмотрелся в надпись. Она была такой истертой, выгоревшей, едва видимой, такой маленькой… И это писал не его отец. Дэвид всмотрелся так пристально, как только мог. Не немецкое ли это слово? Strasse? Как название улицы? А вдруг…
Возможно. Или, может быть, это просто тевтонская атмосфера Намибии вызвала в его уме такой логический выверт.
Крайне аккуратно, продолжая думать о последнем неразгаданном ключе, Дэвид свернул старый лист бумаги. А потом поцеловал нежное, обнаженное, сонное плечо Эми, надеясь, что ей не снится Мигель.
Ганс наконец обернулся назад, держа одну руку на руле, и кивнул Дэвиду.
— Пустынно, да?
— Что?
— Я говорю, Намибия такая пустынная. А знаешь почему?
— Нет.
— Это мой народ сделал. Опустошил эту чертову страну. — Ганс нахмурился. — Немцы. Ты когда-нибудь слышал о геноциде гереро?
Дэвид извинился: виноват, не слышал.
Эми пошевелилась у него под боком. Потерла сонные глаза. И стала слушать Ганса.
— Невероятная история.
Ганс бросил взгляд на Сэмми. Тот помалкивал. Огромный немец снова повернулся вперед, глядя на ухабистую дорогу, и выпил немного воды из маленькой бутылки, после чего приступил к рассказу.
— В 1904 году народ гереро восстал и убил десятки немецких поселенцев. Мой прапрадядя чуть не погиб тогда. — Ганс вдруг ткнул пальцем в ветровое стекло: — Страусы!
Эми и Дэвид быстро посмотрели туда: по дороге впереди них бежали три или четыре огромные нескладные птицы. В черном пышном оперении с белыми задами они чем-то напоминали всполошившихся викторианских старых дев, удирающих от обидчика-соблазнителя. Зрелище было комичным. Но Ганс не смеялся.
— На чем я остановился? Ну да. Немцы восприняли этот бунт как серьезную угрозу будущему их алмазной колонии, а потому послали прусского империалиста, Лотара фон Троту, разобраться с ними. — Ганс выпил еще воды. — Кайзер приказал фон Троту «превзойти варваров» в дикости. Тот поклялся, что он «вовсю развернет жестокость и терроризм». Славные ребята эти германские империалисты. — Ганс вывернул руль налево, потом направо. — И так оно в точности и произошло. Жестокость и терроризм. И геноцид. После нескольких сражений, когда гереро просто уничтожали в огромных количествах, милый фон Трота решил покончить с делом одним махом и уничтожить всю народность гереро. В 1907 году он издал свой знаменитый приказ об уничтожении. Задумал убить их всех разом. Всех до единого. Весь народ.
— Боже… — выдохнула Эми.
— Да уж… — откликнулся Ганс. — И потому гереро загнали на запад, в пустыню Калахари, и там оставили просто умирать. У всех источников воды поставили охрану, чтобы люди не могли напиться; колодцы намеренно отравили. Следует помнить, что там ведь была настоящая пустыня, обжигающая пустыня Омахака. У людей не было ни пищи, ни воды, целый народ — без крошки еды и капли влаги. Они не могли продержаться долго. Кое-кто из женщин и детей пытался вырваться оттуда, но в них сразу стреляли. — Он резко бросил машину в сторону, чтобы избежать столкновения со стайкой мелких птиц. — Вот и представьте себе результаты такого массового уничтожения. Невозможно. Сотни людей просто лежали в пустыне, умирая от жажды. Дети сходили с ума над трупами родителей; и наверняка там были миллионы мух, и они оглушающе жужжали, а беспомощных людей пожирали заживо леопарды и шакалы.
— И сколько народу тогда погибло? — тихо спросила Эмми.
Ганс пожал плечами.
— Никто толком не знает. Достойные доверия историки подсчитали, что, скорее всего, было убито около шестидесяти тысяч гереро. Это семьдесят или восемьдесят процентов всей народности. — Ганс горько рассмеялся. — Ох, да, числа, мы все очень любим числа, не правда ли? Так для белого человека все становится гораздо проще. Милое, ощутимое число в процентах. Семьдесят пять целых шестьдесят две сотых процента! — Он гневно взмахнул рукой, указывая на пустыню. — Эта бойня до сих пор сказывается на демографии Намибии. Нетрудно объяснить, почему здесь до сих пор никто не живет.
Дэвид был ошеломлен всем сразу — чудовищной историей, пустынностью ландшафта, невероятной жарой и ослепительным солнцем. Намибия, казалось, меняет все… делает все мелким, незначительным.
— Юис. Мы почти добрались до Юиса.
Город Юис, на карте выглядевший вполне значительно, на деле оказался едва ли не деревушкой. Возле трех автозаправок красовалась парочка винных магазинов. Бетонное здание, судя по всему — ресторан, предлагало отведать пирожки с мясом и греческий салат. Несколько лачуг из металлических листов, парочка больших домов за высокими заборами и россыпь маленьких домиков и бунгало составляли весь этот населенный пункт.
У заправок сидело на корточках довольно много мужчин, смотрящих в ослепительную пустоту, таращащихся на «Лендроверы». Грунтовые дороги разбегались отсюда в разные стороны, и впереди виднелись зеленые места. Тени, отбрасываемые людьми и зданиями, были резкими, они четко вырисовывались в пыли. Черное-черное-черное — а потом ослепительно-белое.
Ганс остановил машину у одной из заправок; второй «Лендровер» последовал его примеру. Дэвид и Эми сразу вышли, чтобы немного размять уставшие от неподвижности ноги, но жара была обжигающей, солнце — немилосердным, и оно быстро загнало их обратно в укрытие. Ганс скептически посмотрел на них, расплачиваясь за горючее.
— У вас, ребята, шляпы-то есть?
Оба ответили, что нет.
— Ну и ну! В Намибии существует три главных правила выживания. Всегда носи шляпу. Используй каждую возможность дозаправить машину. И никогда не пей виски с бастерами, — он засмеялся. — Ладно, мы уже почти приехали, если ваши координаты правильны. Может, еще пару часиков.
Машины отправились дальше, все более углубляясь в буш. Дэвид никогда не видел подобной местности: вокруг как будто раскинулся парк Сент-Джеймс. Мартинес радовался тому, что теперь они теряются в абсолютной глуши: так их будет гораздо труднее отыскать. Если их до сих пор преследуют. Но так ли это на самом деле?
— Здесь уже начинаются болота Дамары, — сообщил Ганс. — Подземные реки выходят на поверхность. И на эту воду все возлагают надежды. Мы проедем напрямик.
Контраст был просто разительным. Из обжигающей пустыни они внезапно переместились в изумрудный рай, где тут и там вдруг возникали реки. Болота наполняли звуки, непрерывно квакали жабы и лягушки… а машины катили по центру всего этого, и их колеса до половины погружались в грязную воду. Как будто они двигались к Эдему.
Внедорожники давили тростник, из-под колес с пронзительным кряканьем вылетали утки; не раз и не два казалось, что они вот-вот безнадежно увязнут в липкой черной жиже, так что придется ждать помощи. Но как только машина намеревалась сдаться, Ганс начинал энергично манипулировать рулевым колесом и переключателем скоростей, и они снова вырывались из засасывающей трясины, выскакивали на относительно сухой участок…
Дэвид опустил оконное стекло. Они наконец добрались до куда более твердой почвы, пышно заросшей, но сухой. А потом по обе стороны дороги встали большие оранжевые утесы, и машины въехали в пыльный каньон. То ли газель, то ли антилопа стояла на камне, насмешливо поглядывая на машины.
— Клипшпрингер, антилопа-прыгун, — сообщил Ганс. — Прекрасное существо. Всегда напоминает мне о русских гимнастках… — Он в очередной раз проверил координаты, данные ему Эми. — Почти приехали. Надеюсь, ваша женщина правильно записала цифры. Было бы очень неприятно, если бы вы, ребята, проделали весь этот путь понапрасну…
— Вон там, — сказала вдруг Эми.
34
Дэвид проследил за ее взглядом и за протянутой рукой. У самой стены каньона он увидел несколько палаток — это был довольно большой лагерь, состоявший, кроме палаток, еще и из фургонов; людей там было немало. Один мужчина, с яркими рыжими волосами, стоял в стороне. Он втыкал шприц во внутренний сгиб локтя какой-то чернокожей девушки; та была вся перемазана жиром, а ее грудь была обнажена.
— Должно быть, это Нэрн.
«Лендровер» остановился, Дэвид и Эми выбрались из машины, подошли к рыжеволосому мужчине, и только тогда он обернулся и посмотрел на них. Он еще не закончил брать кровь у чернокожей девушки.
— Отлично. С этой группой почти всё. — Голос Ангуса Нэрна был громким и сочным. Он улыбнулся гостям, потом повернулся к коллегам и начал распоряжаться: — Альфонс, Альфи! Хватит болтать, или мне придется напустить на ваши задницы фон Троту. Скажите Донне, что можно накрывать столы. И я бы не отказался от хорошего куска жареного куду. Блестяще. Великолепно. А вы, должно быть, Дэвид и Эми? Элоиза рассказала мне о вас. Дайте мне секунду, мы уже почти закончили. Отлично, дамочки…
Дэвид и Эми застыли на месте, чувствуя себя лишними, растерянными, а деловая суета в лагере только набирала обороты. Дэвид задумчиво рассматривал продолжавшего говорить Нэрна. Но где же Элоиза?
Ганс тоже вышел из машины, растирая уставшие от вождения плечи. Когда он пожал Ангусу руку, шотландец улыбнулся довольно устало, но его зеленые глаза сверкали.
— Так, а вы?..
— Ганс Петерсен. Подвез ваших ребят.
— Это я понял. Думаю, я слыхал о вашей работе со слонами. Спасаете пустынных красавцев, да?
Да.
— Знакомый акцент. Дорсландер? Северные районы? Но не Центральная Германия, нет?
Ганс улыбнулся Ангусу.
— Голландия. — Он попрощался с Эми и Дэвидом. — Ну ладно. Нам надо до ночи добраться до Хуаба. Рад, что сумел помочь.
Нэрн кивнул, Ганс вернулся к машине. «Лендроверы» активистов по спасению пустынных слонов уехали, оставив за собой тучи оранжевой пыли, похожие на облака пушечного дыма на поле сражения. Ангус взял большой шприц и подозвал очередную женщину-аборигенку. Дэвид чувствовал себя нелепо, стоя здесь и ничем не занимаясь. Где же Элоиза? Приехал ли Энока вместе с Мигелем?
Мигель и Энока.
— Мистер Нэрн… мы подозреваем, что нас могут преследовать. Даже здесь, в Намибии.
Генетик рассеянно кивнул. И, разговаривая, продолжал отбирать пробы крови.
— Зовите меня Ангусом. Преследуют? В каком смысле?
— Мы не уверены. Просто думаем, что, возможно, кто-то искал нас в Свакопе. Один приятель Мигеля. Но мы можем и ошибаться.
Ангус вздохнул:
— Элоиза рассказывала мне об этом Мигеле. Гаровильо, так? Ну да. Я знал, что они должны к нам явиться. Но мы в любом случае уже почти закончили. И здесь, в буше, что нам может грозить?
— А где Элоиза?
Ангус вскинул руку:
— Погодите. Дайте мне закончить. Осталось всего несколько нама и дамара. И всегда восхитительных химба.
Дэвид наблюдал за тем, как Ангус берет образцы крови У последних представителей местных племен. Процесс сбора крови, похоже, был совсем прост. Местные терпеливо ждали своей очереди под солнцем, потом подставляли Ангусу черные и коричневые руки, чтобы тот вонзил блестящую иглу в мягкую вену на сгибе локтя. А он в уплату за образцы осматривал их и выдавал насмешливо заинтересованным, но все же явно благодарным аборигенам кое-какие лекарства — антибиотики, анальгетики, противомалярийные препараты.
Дело подходило к концу. Осталась только одна девушка, ее волосы и тело были покрыты чем-то вроде растительной краски цвета красной охры, — Ангус объяснил, что это особый состав, который готовят из местной красной пыли и масла.
— Те, что с обнаженной грудью, — из племени химба. Не знаю, почему лифчики для них — табу… Ладно, хорошо, ты просто разогни руку. И немножко поработай пальцами, вот так.
Сверкнул шприц. Стеклянная пробирка наполнилась кровью, густой темно-алой кровью, рубиновой в лучах уже заходящего, но еще обжигающего солнца. Тень стены каньона Дамара удлинилась на камнях; пронзительные крики и стрекотание птиц и даманов наполнили воздух. Пустыня возвращалась к жизни после адской дневной жары.
— Ну вот, — сказал Ангус, — еще одна унция жидкости — и мы свободны.
Он повернулся и выпустил кровь из шприца в запечатанную пробирку и передал ее Альфонсу, который унес ее с церемониальной осторожностью. Как будто нес на весы новорожденного младенца. Ангус промокнул место укола ватным тампоном, пропитанным спиртом.
— Отлично, милая. Спасибо тебе большое. А это тебе лекарства для маленького. Ты понимаешь? De Calpol juju?
Девушка улыбнулась, потом повернулась и повела свое семейство домой, через заросли акаций, казавшиеся гуще из-за длинных темных теней, залегших между деревьями.
— Ну, наконец-то! — Ангус явно радовался окончанию дела. — Финито Бенито! А теперь давайте-ка примемся за мясо и сладости. Догадываюсь, что вы слегка растеряны, вы ведь добирались сюда так долго, а Элоизу не видите? Все может быть объяснено, только сначала мы выпьем. И поедим!
Он был прав. Посреди лагеря уже были накрыты складные столы. На них стояли большие миски с жареным мясом антилопы куду, чашки с холодным перечным соусом, а золотистое вино из Виндхука и пиво были разлиты по стаканам. На столах имелись также и фрукты, и шоколад.
— Это все благодаря любезности Натана Келлермана, весьма щедрого дарителя, хотя и сионистского гангстера. Вперед, усаживайтесь, черт побери, вы слишком долго были в пути! Из Свакопа — в Дамараленд? Безумцы! Эми… вас ведь зовут Эми Майерсон, верно? Элоиза мне все рассказала.
Девушка кивнула и тут же резко спросила:
— Где Элоиза?
Рядом зазвенел москит. Ангус вскинул руку и прихлопнул насекомое. Москит размазался черным пятном по его ладони.
— Черт побери! — Ангус внимательно посмотрел на убитое насекомое. — Anopheles Moucheti Moucheti. Дневная разновидность бесспорно более опасна, они переносят…
— Прошу вас… Где Элоиза? — повторила Эми. — Она просила нас приехать сюда…
— Она была здесь, в этом вы совершенно правы. Но я немного беспокоился. И решил отправить ее на юг.
— Куда именно?
— В Шперргебит. На запретные территории. Самое надежное место в мире — в особенности для последнего в мире кагота, способного дать потомство.
— Если не считать Мигеля. Глаза Нэрна вспыхнули.
— Так он тоже кагот? Этот террорист?! Но как же. Расскажите мне сейчас же. Расскажите все. Пиво холодное, вечера в пустыне долгие. Расскажите мне!
Сидя над тарелками с холодным жареным мясом, запивая еду пивом, Эми и Дэвид изложили Ангусу Нэрну всю историю с самого начала. Они уже привыкли то и дело ее рассказывать. Похоже, любому их потенциальному союзнику полезно было ее знать. Мигель был общим врагом.
Наконец Ангус откинулся на спинку складного стула, позволяя пустынному ветру трепать свои рыжие волосы.
— Что ж, теперь многое проясняется. И понятны те убийства, о которых вы говорили.
Дэвид недоуменно спросил:
— Но… почему? Все равно ведь непонятно, почему Мигель…
— Разве вы не видите? Он замешан в тех убийствах, где применялись пытки. И две первые жертвы, те бедные старые девы, оказались очень богатыми.
Логика событий начала проясняться, но пока слишком смутно.
— Полагаю… Он тогда только что вернулся из-за границы. Когда пришел в тот бар… Эми?..
Эми кивнула.
— И после того как Мигель вернулся в Испанию, убийства стали другими. Тот человек в Виндзоре — он ведь был просто убит. Его не пытали. И Фазакерли, ученый, тоже был… просто убит. Жестоко, но быстро. Я так полагаю. Однако как только Мигелю подвернулся новый шанс, в Гюрсе… с матерью Элоизы… Изощренные пытки. И снова это был Мигель. Но почему? — Голубые глаза Эми отчаянно спрашивали Ангуса. — Зачем бы ему убивать и мучить, когда другие просто убивают?
Ангус отщипнул кусочек хлеба и принялся со вкусом жевать.
— Думай, думай. Одна из причин очевидна.
— То есть…
— Именно! — Ангус широко улыбнулся. — Почему он так чудовищно жесток именно с каготами? В особенности с каготами!
Истина наконец прорезалась в уме Дэвида.
— Потому что… он узнал правду о себе?
— Точно! Он просто ненавидит самого себя! Как тот урод, который сжигал баскских ведьм.
— Де Ланкре?
— Ага. Оно самое! Он не в силах взглянуть в лицо собственной сущности, собственному происхождению, своему ужасному наследию. Не в силах с этим справиться. А подавленная ненависть к себе воплощается в форме противоестественной жестокости. Это и должно быть ответом. В точности как говорил Фрейд. Ведь Мигель Гаровильо — кагот! И потому все свои яростные чувства он изливает на ненавистных соплеменников, они для него не только воплощение отвращения и гадливости, но и всего того горя, испытанного им, когда он узнал правду о своем происхождении. Он использует те самые пытки, которым некогда подвергались люди с деформациями: ведьмы, отверженные, парии… Он не в силах принять их как родню по крови.
— Но…
— Возможно, он слышал в детстве истории о баскских ведьмах, которых сжигали на кострах. И это на него сильно подействовало. Предания об огне и пытках! Скорее всего, он страдает определенным психосексуальным неврозом, возникшим на пережитых в детстве ужасах, и травме, нанесенной собственным отцом, когда тот сообщил ему правду о его происхождении.
На несколько мгновений воцарилось молчание. Дэвид повернулся к Эми — и вздрогнул от уколовшей его в сердце боли. Потому что он заметил: Эми как раз в эту секунду бессознательно коснулась головы. Как будто пыталась прикрыть тот шрам. Метку ведьмы. Дэвид ведь рассматривал ее шрам, его перепутанные изгибы. Был ли он просто еще одним доказательством одержимости Мигеля, его сексуального расстройства, того, что психика убийцы нуждалась во все новых и новых переживаниях чужих страданий, повторения пыток? Но почему Эми позволила ему сделать это? Играть с ножом! Разрезать кожу надо лбом! Почему?
Дэвид вспомнил, что говорила Эми в Аризкуне.
«Мы не существуем; да, мы существуем; наша сила — четырнадцать тысяч».
Ангус уже снова говорил, а на его оживленное лицо падали тени долгих сумерек Дамары.
— И Мигель, возможно, при этом испытывает так и не осознанное им до конца желание, своего рода импульс. Он видимо, осознает, что ему присущ один из самых неприятных моментов «синдрома кагота»: тяга к насилию. Несчастный выродок. Можно не сомневаться в том, что церковь приказывает своим агентам действовать жестоко и незамедлительно. Но когда Мигелю выпадает шанс, он, не в силах удержаться, применяет к жертвам средневековые пытки…
Большая ночная бабочка метнулась в неверном желтом свете; фонари висели на деревьях вокруг всего лагеря. Дэвид от удивления разинул рот.
— Ты знал, что за этим стоит… церковь?
— Ну, я предположил. Я угадал, да? Я прав или нет?
— Вообще-то, — вмешалась Эми, — это Общество Пия X.
— Ага!.. Прелестные фанатики! — Ангус ликующе хлопнул ладонью по столу. — Один — ноль в мою пользу! Впрочем, я мог бы и раньше сообразить. Важные, богатые фанатики. С кучей денег и могучими покровителями. А если не они, то еще какая-нибудь религиозная секта. Ну, вы ведь, наверное, знаете, что именно церковь в первую очередь хлопотала о том, чтобы наш проект в Стэнфорде был закрыт; они нас просто на дух не выносили. Просто ненавидели «Карту генов». И конечно, если подумать, Общество должно иметь в своем распоряжении неких людей, способных выполнять разного рода грязную работу. Я имею в виду по-настоящему грязную работу. — Нэрн отпил глоток пива и продолжил: — Меня всегда это просто зачаровывало — бесконечная способность человека к насилию. Откуда она берется? Честно говоря, я во всем виню девушек. Цыпочек. Если бы не они, мужчины просто сидели бы за пинтой пива и болтали бы о футболе.
— Прошу прощения… девушек?! — В голосе Эми слышался вызов.
Дэвид уставился на шотландца, который жевал почти с такой же скоростью, как говорил. Нэрн поглощал огромное количество еды; притом он был очень худым. Угловатые скулы, ярко-рыжие волосы, зеленые глаза, казавшиеся еще зеленее оттого, что отражали зелень буша.
— Ага, — кивнул Нэрн, отламывая еще один кусок лепешки. — Женщин. Самок данного вида. Именно они подталкивают мужчин, двигают эволюцию. Через сексуальный отбор, разве не так? И как именно они направляют эту самую эволюцию? Куда они ее направляют? К дурному, потому что выбирают плохих парней. Мерзких. Так или нет? Ладно, согласен, они всегда делают вид, что им нравятся метросексуалы, городские модники, попивающие шардонне, но на самом-то деле их тянет к головорезам, разве нет? К выродкам, уродам, к Мигелю Гаровильо — и потому эти выродки оставляют потомство, а эволюция мужчины идет в сторону все большей жестокости, и это, возможно, объясняет сплошные кровопролития, составляющие историю двадцатого века. — Ангус рыгнул.
Какой-то зверь залаял и взвыл в сумраке за лагерем. Шакал или гиена. Ангус на некоторое время затих, продолжая есть и пить, не забывая широко улыбаться Альфонсу, своему грациозному помощнику. Остальные обитатели лагеря, похоже, исчезли вместе с наступлением сумерек, разбежались по своим деревням.
Эми продолжила задавать вопросы:
— Значит, Элоиза теперь в безопасности, но вы сами остаетесь здесь. Почему?
— Потому что я исследую последние племенные варианты. — Ангус с довольным видом пожал плечами. — Мне нужно собрать максимальное количество проб, чтобы разобраться в путанице хромосом. Эта чертова испанская инквизиция опоздала. Я уже взял пробы крови намибийцев, и они готовы к работе. — Он снова громко рыгнул. — Нам только и осталось, что упаковать все завтра и отправиться в Шперргебит. В безопасное местечко. — Последовала краткая пауза. — Мы нашли здесь все, что нам было нужно. Корпорация Келлермана готовилась к этому многие годы, как раз на тот случай, если проект «Карта генов» прикроют. Мы организовали параллельную лабораторию в Шперргебите, чтобы можно было закончить работу там, если до этого дойдет. — Ангус хихикнул. — Вот и дошло. Нам нужно еще несколько дней, еще раз исследовать Элоизу, и… готово! Эксперименты Фишера повторены. — Он повернулся и ласково посмотрел на своего помощника. — Альфи, да выпей же ты пива! Ты слишком много работал.
— Конечно, Ангус.
— Альфи, я серьезно! Иди сюда.
Шотландец подтащил молодого человека с кожей цвета охры к столу. У Альфонса были мерцающие кошачьи глаза и гибкое тело. Ангус поцеловал его в губы. Альфонс засмеялся и оттолкнул его.
— Сумасшедший шотландец! — воскликнул он, показывая на почти опустевшие блюда. — Ты что, съел всего куду? Опять? Да ты же растолстеешь!
— Я? Растолстею? Как бы не так! — Шотландец задрал футболку и похлопал себя по белому животу. — Да я сложен как Аполлон! — Потом он снова сел на место и уставился на Альфонса. — Не смейся надо мной, мой маленький шутник, или мне придется взяться за ремень!
— Нет, нет, сэр! Белый хозяин такой добрый. Он дал мне хорошую работу, собирать хлопок…
Мужчины захохотали и снова поцеловались. Потом Ангус повернулся к Эми и предложил ей кусок жареного мяса из большой стальной миски. Дэвид во все глаза смотрел на Альфонса.
Ангус вдруг повернулся и уставился в темноту.
— Черт… черт побери… Что это там?
Шотландец всматривался в ночь. Теперь уже все слышали негромкий шум. Дэвид вдруг осознал, что он давно уже слышал эти звуки, но принимал их за далекий рык какого-то зверя или за гул ветра в ветвях деревьев…
Но это были машины. Большие темные машины, которые вдруг появились в сухом русле реки… они направлялись к лагерю. Рев моторов, свет фар… Дэвид смотрел на них. Страх ощущался, как физическая боль.
— Палатки… ружья в палатках!
Ангус уже вскочил, чтобы броситься к палаткам, — но тут тихий воздух прорезал винтовочный выстрел. Взметнулся песок между столом и палатками. Предупреждающий выстрел.
Ангус очень медленно опустился на место.
Дэвид смотрел теперь в противоположную сторону. Там тоже вздымались облака пыли. Тоже. В два раза больше пыли. И они приближались… Со всех сторон на них надвигались мрачные тени. Самый большой автомобиль, черный, с затемненными окнами, резко развернулся перед лагерем и замер на месте. Из-под его колес вылетели фонтаны песка, засыпавшие стол.
Высокая гибкая фигура появилась из этой машины; походка, движения, бледное лицо в шрамах — все это было слишком узнаваемым, даже в темноте.
На них смотрел Мигель.
— Наконец-то я вас нашел.
35
В церкви еще пел церковный хор, а паломники уже разошлись по своим кельям.
Саймон пересек трапезную, быстро прошел по длинным коридорам, закрыл дверь своей кельи и стал ждать. Мысли в его голове кипели. Пирамида. Похоже, ему повезло. Похоже, ему очень повезло. За один день он нашел то, чего Эдуардо Мартинес не сумел обнаружить за неделю. Пирамида. Архивы. Они скрыты в чопорной и бросающей в дрожь пирамиде, торчащей в центре здания. Она сразу заметна, но существует как бы сама по себе.
На мгновение Саймон восхитился мрачным артистизмом архитектора. Это был воистину зловещий гений.
Потом он лег на кровать.
По монастырю разносились звуки храпа обитателей и шагов ночных дозорных. Саймон вздохнул и, глядя в нелепый низкий потолок, стал думать о Тиме. Ему казалось, что потолок буквально опускается на него, — если он быстро отводил взгляд, а потом снова смотрел вверх, у него возникало отчетливое ощущение, что потолок стал ниже, что он приближается к нему миллиметр за миллиметром. И постепенно он просто раздавит Саймона. Как ведьму, которую убили, положив между двумя огромными камнями. Громадный каменный пресс. Саймон как будто почувствовал тяжесть камня на своей груди. Как будто на него неумолимо кладут все больше и больше тяжелых камней. Пока не треснут ребра. Как будто на нем лежал Томаски, прижимая нож к его горлу…
Довольно!
Он должен это сделать. Просто сделать, и всё. Одна попытка. А потом он уедет домой, чтобы защитить сына и жену и спасти брата.
Саймон встал и вышел из кельи. В коридоре было темно. Монастырь поскрипывал и шелестел, как какой-нибудь елизаветинский галеон, скользящий по морю. Скрип, стоны, зловещие отдаленные звуки… Саймон слышал, как дышат во сне десятки людей. Как будто дышало само здание. Как будто у него были гигантские бетонные легкие. И злоба в сердце. Черная расплывчатая точка, которую можно увидеть в рентгеновских лучах.
Чтобы дойти до вестибюля, Саймону понадобилось две минуты. И — да, конечно, ключи висели там на своих крючках, и на одном из них была этикетка: «Пирамида».
Но стеклянный шкаф с ключами был заперт. Само собой.
Саймон посмотрел направо, налево, потом, как это ни было глупо, вверх и вниз, а потом открыл швейцарский армейский складной нож и сунул его кончик в скважину замка на дверце шкафа. Тут Куинн услышал какой-то шум. Он обернулся, вмиг покрывшись потом. Но вокруг было пусто. Похолодев от напряжения, Саймон вернулся к своему делу: он как следует поднажал на нож.
Стеклянная дверь распахнулась. Журналист, охваченный почти паническим страхом, схватил нужный ключ и рванулся в темный пустой коридор.
Он был готов действовать. Очень осторожно спустился вниз по темной лестнице, стремясь вниз, к самому длинному наклонному коридору.
Его остановил резкий голос. Журналист застыл, вжавшись в стену. Он в ужасе вглядывался в темноту… а потом понял: это все дурацкое здание. Голос мог прозвучать тремя этажами выше. Может быть, это пьяный архивариус закричал во сне, страдая от потери веры, проклиная Бога за свои ночные кошмары.
Бетонный пандус привел его к огромной бронзовой двери подвальной церкви. Дверь была не заперта; она, похоже, вообще не имела замка. И распахнулась при первом же прикосновении, с удивительной легкостью, бесшумно; петли были отлично отрегулированы. А когда ее створки разошлись, в центре дверного проема оказалась вертикальная бронзовая линия — нечто вроде плоского столбика. Точно за дверью располагалось горизонтальное окно, пропускавшее серебристый лунный свет. И эти две линии образовали крест.
Эффект оказался потрясающим.
Саймон огляделся; он просто не смог удержаться, ведь он впервые рассматривал эту церковь по-настоящему, когда здесь было тихо и торжественно, не было людей… и теперь он понял: она по-настоящему прекрасна. Высокое бетонное пространство заполняли безмятежные деревянные скамьи и архаический алтарь; в дальнем конце узкие окна с цветными стеклами раскрашивали проникавший снаружи свет, рисуя в надменном помещении изысканные разноцветные полосы.
Саймон ощутил странное желание остаться здесь. Навсегда. Но разум напомнил ему о деле.
Пирамида.
Церковь тянулась вдоль здания, и в ней должен был быть выход где-нибудь в задней части, выход, который привел бы Саймона к таинственному внутреннему святилищу этого монастыря.
Он искал не больше двух минут и нашел то, что ему было нужно, без особого труда: маленькая металлическая дверка спряталась в сухой тени в углу. Саймон сунул руку в карман и достал ключ. И тут снова услышал шум. Непонятно откуда. Резкий скребущий звук, отталкивающийся эхом в пустых бетонных коридорах.
Скорей, скорей, скорей…
Замок взвизгнул. Саймон шагнул в узкий, почти абсолютно черный проход. Он пробирался по этому проходу, как будто протискивался в трубу, и гадал, не похоже ли это на то, как если бы он проник в ум своего брата… Стены сближались, темнота давила со всех сторон, каждый день, вечно…
Стены уже сблизились настолько, что Саймону пришлось повернуться боком, чтобы протискиваться дальше, но наконец проход закончился у другой ржавой стальной двери, едва видимой в темноте. Саймон толкнул ее.
И оказался в яркой белизне пирамиды.
Он прикрыл ладонью ошеломленные глаза.
На стуле в центре комнаты сидел монах-архивариус. Брат Мак-Магон. Его губы были красными от вина.
— К пирамиде имеется несколько ключей, мистер Куинн.
36
В рассеянном свете сумерек Дамары Мигель выглядел старше, жестче, он казался почти диким. Jentilak. Он направлял ствол пистолета на голову Дэвида. Каблуки ботинок стучали по плотному песку, когда из машин с затемненными окнами выходили люди… четверо… шестеро… Их было восемь человек. Один из них заговорил с сильным американским акцентом. За его спиной маячил Энока.
— Так, значит, это и есть Ангус Нэрн? — проговорил американец. — И Дэвид Мартинес, и Эми Майерсон?
Мигель кивнул.
— Да. Но вот где эта девчонка-каготка, Элоиза? Где она?
Его сообщник пожал плечами.
— Нигде ее не видел.
Мигель рявкнул:
— Искать! Обыскать машины, лагерь! Алан! Жан-Поль! Энока!
Мужчины повиновались приказу; они быстро разбежались между фургонами и розовыми нейлоновыми палатками, обшарили сухое речное русло. Поиски заняли у них какую-нибудь минуту, и за это время они успели убедиться, что в лагере нет никого, кроме Альфонса, Дэвида, Эми и Ангуса.
Самый высокий из бандитов, Алан, сообщил:
— Очень жаль, Мигель, но ее тут нет. Должно быть, куда-то увезли.
— Мы ее найдем. Mierda. Pincha puta![73] Мы ее найдем! — Мигель злобно уставился на небо. Потом, похоже, ему удалось обуздать свои чувства. — Давайте сюда этих.
Кто-то подошел к Дэвиду сбоку. Его рывком подняли на ноги, руки завернули за спину и бесцеремонно надели наручники. То же самое проделали с Альфонсом, Ангусом и Эми. Потом Дэвида развернули лицом от стола, и он уже не мог видеть, что происходит. Он теперь смотрел в затихшую ночную пустыню; тьма казалась еще гуще по контрасту со слепящим светом автомобильных фар.
— Эми?..
— Я здесь, — ответила она прямо из-за его спины. — Что они делают? Дэвид?..
Ее вопрос заглушил громкий голос. Мигель допрашивал Ангуса. Бил его по лицу. Это Дэвид мог видеть — все происходило слева от него.
— Говори! Где Элоиза?
Ангус отрицательно качнул головой. К нему подошел Энока. И снова этот маленький, приземистый человек как будто невольно, как будто даже неестественно подчинялся Волку так молодой неопытный самец ищет благосклонности доминирующей особи, вожака волчьей стаи. Мигель кивнул.
Энока схватил руку Ангуса и вывернул ему пальцы. Нэрн скривился от боли.
Мигель подошел ближе.
— Говори! Где она? Ты уже проверял ее, брал кровь? Ну?
Ангус выплюнул в ответ:
— Пошел ты…
— Ты лучше расскажи. Или мы сделаем тебе больно. Все больнее и больнее. И еще больнее.
— Убьешь меня — ничего не узнаешь. Так что делай что хочешь.
Лицо Мигеля исказилось; он отошел на несколько метров в сторону, потом повернулся.
— Зачем ты в Дамараленде? Ты ведь не закончил свои тесты, разве нет?
Дэвид вытянул шею влево, кое-что заметив.
Несколько человек окружили «Лендровер» экспедиции, забрались внутрь. Из машины послышался новый голос, на этот раз с французским акцентом:
— Мы нашли образцы крови, Мигель!
Гаровильо улыбнулся.
— Milesker[74]. Проверьте все как следует, чтобы ни одной пробирки не пропустить.
Мужчины продолжали свои поиски.
Дэвид снова тихо окликнул:
— Эми?..
Он не мог ее видеть, она стояла позади него. В ночи ослепительно горели фары, направленные в центр лагеря. Они напоминали яркий свет софитов в очень темном театре.
А главной звездой был, безусловно, Мигель, исполняющий главную трагическую роль. Он задумчиво стоял, глядя на лунный свет. Потом его взгляд переместился на Дэвида. На Альфонса. Его улыбка стала шире. Он снова глянул на Альфонса, как бы проверяя свои подозрения. А потом заговорил, ни к кому в особенности не обращаясь.
— Ezina, ekinez egina…[75] Нам только и осталось, что найти эту Элоизу. Они не закончили свои эксперименты. У них есть только образцы крови намибийцев, да и те пока что тут — их нужно еще исследовать. Это уже куда лучше. — Он шагнул к Эми. — Это хорошо. И еще… Эми Майерсон, очень любезно было с твоей стороны позволить моему отцу покончить с собой. И убить мою мать. Jakina…
Дэвид ощутил, как задрожала Эми.
Мигель наконец выплеснул свой гнев.
— Aizu![76] Мы должны убедить Ангуса Нэрна рассказать нам, где находится Элоиза. И для этого нам кое-что понадобится. Я вижу, тут много дров для костра. В пустыне по ночам холодно, правда? — Террорист нахмурился и одновременно улыбнулся. — Давайте-ка мы немножко согреемся…
Дэвид мог только беспомощно наблюдать. Эми бесцеремонно оттащили в сторону; его самого пнули в лодыжку, заставляя сдвинуться с места. Их выволокли на открытое место, в стороне от стола, на площадку между машинами. Здесь уже был разложен большой костер, над этим постарались Альфонс и другие помощники. Дэвид смотрел на груду сухого дерева и гадал, где могли быть сейчас те, кто работал в лагере. Наверное, спокойно сидят в своих деревенских хижинах, спят или ужинают. Их не интересует то, что происходит в нескольких милях от них, они об этом даже не догадываются.
Всех четверых заставили опуститься на колени. Как пленники каких-нибудь бешеных исламистов, они, стоя в пыли, ждали, когда их обезглавят. Рядом с ними пирамида нарубленных дров, только ждущих, чтобы к ним поднесли спичку…
Они ждали. Пустынный ветер стал нестерпимо холодным. Их враги сидели и курили возле своих автомобилей; но несколько человек еще продолжали шарить в экспедиционном «Лендровере».
— Они собираются нас убить?
Голос Эми дрожал от напряжения. Дэвиду хотелось обнять ее, защитить, спасти. Все тот же древний инстинкт. Но он стоял на коленях, в наручниках. И мог только одно: солгать. И он солгал Эми.
— Нет. Мы им нужны, чтобы найти Элоизу… Какой им смысл убивать нас?
— Какого черта ты там бормочешь? Конечно, они нас убьют, чтоб им… — Ангус смеялся. — Мы уже покойники. Мы — ископаемые. Мы долбаные, хорошо зажаренные французские гренки. Вы были свидетелями самоубийства его отца! Он, скорее всего, думает, что вы в этом и виноваты. Он знает, что вам известна его ужасная тайна. Самая мрачная из тайн семьи Гаровильо! — Смех шотландца наполнился гневом. — Они сначала будут нас пытать, чтобы выяснить все-таки, где прячется Элоиза. А потом убьют. Прямо здесь, в пустыне. Но для смерти есть места и похуже. Камбернолд, например. Городок в Шотландии. Бывали когда-нибудь в Камбернолде?
Эми плакала. Ангус опять рассмеялся.
— На самом-то деле лучше умереть здесь, чем жить в Камбернолде.
Гаровильо вернулся к ним.
— Отлично. Jenika. Noski[77]. А теперь… — Он посмотрел сначала на Ангуса Нэрна, потом на Эми, Альфонса, Дэвида… а потом опять вернулся к ученому. — Доктор Нэрн, нам действительно нужно знать, где находится Элоиза, так что я намерен выбить это из вас. Выдрать это из вашего долбаного сердца.
— Пошел ты!..
По лицу террориста проскользнул с трудом сдерживаемый гнев, и он показал на Альфонса:
— Его возьмите. Сердечного друга. Sexuberekoi[78]. Его.
Помощники Мигеля подтащили к нему Альфонса. Ноги молодого намибийца дрожали. Мигель снова оглядел всех пленников по очереди и заговорил:
— Я всегда пытался понять… все эти истории о сожжении ведьм, это ведь просто легенды? Или нет?
У Дэвида внутри все сжалось от страха.
— А теперь я хочу понять другое… — Улыбка Мигеля стала шире. — На что это похоже? Каково это? Наблюдать за тем, как кто-то горит на костре? А вы никогда не хотели это увидеть? Не хотите завершить исследования? О ведьмовских кострах. А?
Мигель придвинулся к Ангусу так, что между их лицами осталось не больше двух дюймов.
— Если ты не скажешь, где сейчас Элоиза, мы привяжем твоего маленького бежевого дружка к столбу. И сожжем его заживо. Тебе ведь нравится этот хорошенький мальчик-бастер, правда? Этот симпатичный бежевый ублюдок? Этот хитрозадый гомик? — Мигель развернулся в другую сторону. — Ну, так мы его зажарим! На самом настоящем хворосте, эдакое свеженькое жаркое на хорошем огне.
Дэвид в ужасе посмотрел на Ангуса. Лицо шотландца выглядело странно — оно было неподвижным и при этом как будто рассечено яростью.
Наконец Ангус открыл рот:
— Каготский выкидыш.
Глаза Гаровильо бешено вспыхнули.
— Что-что?!
— Мы знаем, что ты — кагот. Кусок дерьма. Как и твой отец. Кагот.
Лицо Мигеля перекосилось.
— Чушь! Впрочем, о чем я беспокоюсь? — Он резко взмахнул рукой. — Сожгите мальчишку! Agur![79]
За его спиной помощники уже втыкали в сухую землю кол, окружали его сухими дровами. Большой деревянный кол.
Альфонс бился и извивался в руках молчаливых мужчин. Он даже не кричал, он лишь что-то бормотал несвязно, совершенно парализованный ужасом. Кол вбили в землю поглубже. Ярко светила луна. Где-то в темной листве деревьев тарахтели ночные птицы. Долина реки Дамары, сухой каньон и заросли акации лежали вокруг, скрытые густой тьмой.
Ангус уже кричал:
— Да какой смысл скрывать, Мигель? Тебе все равно это не утаить, мы уже это знаем. И всем известно, что ты — просто кусок дерьма! Ты сам-то посмотри, как у тебя глаза дергаются! Какие еще нарушения у тебя есть? Синдром Галлервордена — Шпатца? Иногда плохо двигаются руки, ноги, да? Или вдруг дергаются, как сейчас глаз? Это признаки кагота. Безумие гор!
Гаровильо ударил Ангуса по лицу так сильно, что изо рта шотландца вылетел комок слюны и крови, упавший в пыль и мутно блеснувший в свете автомобильных фар. Террорист заорал:
— Зажигайте факелы! Быстро!
Альфонса поволокли к столбу. Дэвид смотрел на все, парализованный ужасом. Они действительно собирались это сделать…
Эми закричала:
— Мигель! Остановись! Пожалуйста! Зачем это?
— О, красотка заговорила? Да? Bai? Ez?[80] Скажи мне, где прячется Элоиза Бентайо, и я остановлюсь. А до того я буду жечь долбаных полукровок, как жгли мой народ, как пытали мой народ, как сжигали баскских ведьм…
— Ты не баск, ты сам долбаный слабоумный, — Ангус как будто выплевывал слова. — Ты кагот! Кусок дерьма. Посмотри на себя…
— Ангус, помоги! Помоги мне!
Это закричал Альфонс, пронзительно завывая. Его уже привязали к столу; небо за его спиной было невероятно темным. Лицо Эми перекосилось от ужаса.
— Прекрати это… Мигель!
— Только если вы мне скажете. Где Элоиза? А?
Ангус резко бросил:
— Зачем? Ты, каготская задница, зачем она тебе? Ты ведь ее тоже убьешь, разве не так?
Мигель взмахнул рукой:
— El fuego. Mesedez…[81]
Дэвид просто смотрел, почти не дыша. Один из помощников Мигеля наклонился к сухим поленьям, сложенным у ног Альфонса. Мартинес заметил, что дружок Ангуса носит кроссовки «Найк». И вдруг понял, что думает только о том, расплавится ли пластик подошв. Дэвид глубоко вздохнул, он ничего не сможет сделать, лишь стать свидетелем чудовищного убийства. Энока щелкнул зажигалкой «Зиппо». Вспыхнул крошечный огонек, начал разгораться…
— Ангуссс…
Альфонс пронзительно кричал, его голос бился в каньоне, как колокольный звон.
Неуверенно всплеснулись первые языки пламени, как будто сначала им хотелось рассмотреть жертву, слегка попробовать его плоть. Как пробуют первое свежее мясо детеныши хищников.
— Заодно и мы согреемся, — сказал Гаровильо. — Пока жарится этот выродок.
Пламя набирало силу, поднималось все выше и увереннее. Деревья пустыни были очень сухими. Огонь трещал в холодном прозрачном воздухе. Запах дыма наполнил ночь. Луна равнодушно бросала свои лучи. Альфонс кричал, визжал, извивался в своих путах.
Гаровильо выразительно вздохнул.
— Вот так оно и пойдет дальше. Ангус Нэрн, ученый Ангус Нэрн… Теперь-то ты должен мне сказать, где она. Альфонс вот-вот умрет, поджарится, превратится в бифштекс. Ты ведь этого не хочешь, правда? Не хочешь, чтобы он стал просто куском жареного мяса? Чтобы… покрылся аппетитной корочкой?
Ангус смотрел на Мигеля в упор.
— Да ты ведь все равно всех нас убьешь. Так что можешь делать что вздумается. Какое это имеет значение?
Альфонс кричал без умолку. Он дергался и выл:
— Ангус… нет… Ангус… прошу, скажи ему…
Мигель снова улыбнулся.
— А ему ведь хочется жить, доктор Нэрн. Он не хочет, чтобы… чтобы его юные ручки и ножки поджарились, как на гриле. И я вполне его понимаю. Я вегетарианец. Barazkijalea naiz![82] — Он демонстративно вздохнул. — Так что лучше говори.
Ангус промолчал. Дэвид видел, как дергается щека шотландца — тот изо всех сил стискивал зубы. Альфонс завывал:
— Мне больно! Ангус! Я горю! Умоляю…
Пламя вздымалось все выше, искры долетели до волос Альфонса; волосы задымились, съеживаясь, и вонь паленой шерсти смешалась с древесным дымом. Альфонса уже охватывал огонь. Он начинал гореть.
Секунды ожидания бесконечно тянулись во тьме.
— Ладно! Прекрати это! — закричал Ангус. — Я тебе скажу, где Элоиза. Загаси огонь!
Мигель повернулся к нему и рявкнул:
— Говори сейчас!
— Она в Шперргебите!
— Где это?
— Двадцать шесть километров к югу от Диас-Пойнта! Погаси огонь, прекрати это…
— Точнее, где именно?
— Заброшенный рудник Тамар Майнхед. Рош-роуд. Прячется в офисных строениях. Гаровильо…
Мигель ухмыльнулся. Повернулся к своим подручным. И махнул им рукой.
— Плесните в огонек немножко бензина. Ночь обещает быть очень холодной, нам не помешает хороший большой костер.
Следующий час стал невероятно долгим и самым чудовищным в жизни Дэвида. Это было намного хуже всего того, чему он уже стал свидетелем за последнюю страшную неделю, полную насилия.
Альфонс горел медленно, основательно, испытывая невыносимые муки. Сначала задымились его кроссовки; они почернели и расплавились, стиснув ступни в обжигающем пластике; потом, задымившись, упали со светло-коричневых ног хлопковые штаны, оставив на коже прилипшие к телу горящие лоскуты. И, наконец, начала жариться плоть. Это было непристойное зрелище. Бежевая кожа облезала, выставляя напоказ жир и мышцы. А потом начал таять жир на бедрах юноши, и от его брызг огонь шипел и плевался искрами. И все это время Альфонс кричал. Такого пронзительного, безумного крика Дэвид не слышал никогда. Пронзительный визг разносился по затихшей пустыне… человек медленно сгорал заживо.
А потом крик затих, перейдя в низкий утробный стон. Пламя уже бушевало вовсю, а Альфонс как будто воспевал собственную смерть. Его волосы давно уже превратились в бесформенную черную массу, вонь горящего мяса была сладкой и зловещей… это был запах крематория, запах барбекю…
Над костром то и дело проносились летучие мыши. Дэвид видел в темноте сверкающие глаза пустынных хищников, привлеченных светом и запахом, — там, в ночи, рыскали шакалы. Надеялись поживиться. Их привел сюда аромат жареного мяса.
Стоя у самого костра, Мигель жадно вдыхал дым. Внезапно террорист наклонился к ревущему огню и ткнул в почерневшее тело палкой. Альфонс пошевелился. Он все еще был жив. Все еще был жив. Огонь ревел…
Эми рвало. Она наклонилась в сторону и извергала из своего желудка остатки еды, смешанные с желчью Дэвид ощущал такой же рвотный рефлекс. Слева от него стоял Ангус, он крепко зажмурил глаза. Лицо шотландца было пустым и неподвижным. И тем не менее Дэвид понимал, насколько опустошен и сломлен этот человек.
А потом Альфонс наконец умер. Почерневшая голова упала. Пламя поглотило его целиком. Дело было сделано. Огонь начал угасать. Тело превратилось в кучу красных углей, все еще сохраняя форму светящихся костей и плоти. Черно-алая модернистская скульптура человека в черной ночи пустыни. Ребра провалились, стало видно сердце: светящийся красный комок мышц.
Мигель все еще с наслаждением вдыхал запах горящей плоти. А Ангус не сводил с него прищуренного взгляда. И в нем читалась ледяная раскаленная ярость, трезвый расчетливый гнев. Ничем не сдерживаемый бешеный гнев.
Дэвид заметил, что даже подручные Мигеля не смогли скрыть охватившего их ужаса и отвращения от этого заклания. Они старательно отводили взгляды от Мигеля, осторожно поглядывали друг на друга, качая головами. Но они подчинялись. Никому и в голову не приходило остановить вожака. Тут крылось нечто большее, чем простой страх. Они панически боялись Волка, поэтому и подчинялись.
Гаровильо наконец бросил оценивающий взгляд на Дэвида.
— Ну что, впечатляет, а, Мартинес? — Он провел рукой по своим длинным черным волосам. — А ты… довольно храбрый парень. Или тебе наплевать на жестокость. Только ты смотрел все представление от начала и до конца. И тебя не выворачивает, как Эми. У тебя крепкий желудок. И ты крепко скроен. Ты здоров как бык. Как дикий хряк.
И Мигель посмотрел на небо. Дым костра тянулся вверх, превращая луну в бледное лицо молодой вдовы, скрытое тонкой вуалью похоронного серого цвета. Дым уже становился прозрачнее, костер почти догорел.
— Нам надо разжечь новый костер. Да, чтобы всем согреться. Но здесь уже нечему гореть. Значит, нам нужно больше хвороста. Чтобы поджарить следующее блюдо. Большого мужчину… приготовить американский баскбургер.
Алан покачал головой:
— Дров больше нет, Миг.
— Но нам необходимо его сжечь! Сжечь его следующим! — Голос Мигеля звучал сдавленно, в нем слышался отзвук разочарования. — Если мы убьем и сожжем американо, то Элоизу нам просто поднесут в подарок.
Дэвид почувствовал, как сильные руки приспешников Мигеля грубо поднимают его на ноги. Колени у него подгибались, ужас настолько завладел им, что он даже не мог вздохнуть.
Его собирались тоже сжечь заживо. Как Альфонса.
37
Журналист застыл на месте, совершенно ошеломленный. Он понял, что угодил в ловушку.
— Вы знаете мое имя?
— Ха! — рассмеялся монах. — Ты думаешь, мы газет не читаем? Ты писал о тех убийствах в Англии, разве не так? Я видел фотографии.
У Саймона подкосились колени.
— Но…
— Я наблюдал за тобой с того момента, как только ты здесь появился. Нас предупредили, что кое-кто может нас навестить… Я Мак-Магон. Патрик. Пэдди Томас Мак-Магон.
Саймон прислонился к куче книг. Теперь он уже был в силах оглядеться по сторонам и заметил, что многие книжные стеллажи пусты — было похоже на то, что библиотеку ограбили.
Лысый монах кивнул.
— И… эй, ты ведь теперь видишь, что в любом случае опоздал.
— Что?..
— Папские представители явились к нам два месяца назад. Забрали почти все, — монах поднял бутылку с вином, стоявшую возле его стула, и наполнил стальную кружку. — Хочешь выпить?
Саймон отрицательно качнул головой и снова огляделся. Теперь уже брат Мак-Магон был совершенно не похож на всех тех, кого он видел в коридорах монастыря — в старых коричневых вельветовых штанах, поношенных свитерах, грязных теннисных туфлях…
— Они забрали все документы?!
— Все мало-мальски важные, ага. — Мак-Магон безрадостно засмеялся. — Все, что могло привести тебя к… они сказали, что здесь это хранить небезопасно. Что у них есть разрешение от Ватикана. Все так важно, что сам Папа согласился все перепрятать! А когда они тут были, то говорили, что некоторые люди могут сюда приехать в поисках этих документов и, если они появятся, я должен сообщить наверх. И вот ты — тут как тут! Добро пожаловать в мой дворец! Правда, теперь тут и посмотреть-то не на что, монах сделал основательный глоток вина и прищурился, оглядывая ряды высоких пустых стеллажей. — Тебе ведь хотелось бы узнать, что там было, в этих документах, да?
— За этим я и приехал. Да вот опоздал.
— Уж это точно… — На лице Мак-Магона появилось выражение пьяной язвительности.
Саймон вдруг понял, что к нему возвращается надежда.
— Ты можешь мне рассказать, да?
Молчание.
Журналист повторил:
— Ты можешь мне рассказать? Можешь? Ты ведь знаешь, что там было, в этих бумагах, правда?
— Ну… — монах вздохнул. — Я могу рассказать тебе кое-что. Только какое теперь это имеет значение…
— Расскажешь мне о басках? О каготах? О делах инквизиции?
Монах кивнул. Потом вскинул голову. Секунду-другую он, казалось, размышлял, оценивая свои возможности. Потом медленно проговорил:
— Всего я не помню, конечно, но могу тебе сказать, почему они перестали сжигать басконских ведьм и колдунов. Был тут один документ, который они в особенности хотели упрятать подальше.
— И?..
— И упрятали. Потому что церковь обеспокоилась, как бы баски не стали вторыми иудеями. Еще одни сыновья Хама.
— Не понял?
— Это церковь так говорит.
— Объясни же!
— Инквизиция и кардиналы встревожились… возможностью «разделения в неделимом хоре человеческом». Такая фраза попалась мне в этих архивах. Поразительно, да? Конечно, их страх был основан на разных скрытых в Библии мыслях, и в Талмуде тоже. И в текстах отцов церкви.
— Проклятие Каина? Семя Змея?
— Ага. — Мак-Магон улыбнулся, его пьяное веселье было приправлено меланхолией. — А ты сразу все уловил, умница. Две тысячи лет ученые, священники и кардиналы сражались с ужасными и… — Он осторожно рыгнул. — С ужасными и смущающими идеями о существовании Семени Змея, о людях, происходящих не от Адама. Другая линия, ветвь человечества. Но они никогда не могли решить проблему до конца. И на самом деле исследования делали все только хуже.
— Физическое обследование каготов?
— Да, конечно.
— И что они обнаружили?
— Да снова кое-что спорное… — Библиотекарь снова глотнул вина и продолжил: — Королевские врачи пытались даже как-то проверить кровь каготов. Но ничего не вышло. Наука тогда была слишком слаба для этого, это ведь был семнадцатый век. Но даже чисто внешнее, физическое обследование каготов вызвало у церковников и епископов настоящий ужас. Я помню точно эту строку: «Есть опасение, что люди, известные как каготы, могут и не быть детьми Господа». Это из донесения архиепископа Бордо королю Наварры. После того, как он получил от докторов результаты осмотра.
Фраза гудела в ушах Саймона; он ощущал, как она отзывается эхом в унылых бетонных стенах монастыря. Двери тайны открывались одна за другой.
У Куинна оставался еще один вопрос, и после этого ему нужно было уходить. Ему действительно нужно было уходить. Он не мог избавиться от воспоминаний о Томаски. О зубах, впивающихся в его щеку. Если его обнаружит здесь кто-нибудь не столь пьяный, как брат Мак-Магон, может случиться все, что угодно; а возможно, это приведет к еще худшим последствиям. Ему надо было очень быстро выбираться отсюда — после того, как он задаст еще один вопрос.
— Ладно… Но что могло случиться такого, что заставило тебя потерять веру? Ты ведь здесь наткнулся на что-то такое, что лишило тебя веры.
— Да разве я…
— Что это было?
Странное бетонное пространство пирамиды как будто съежилось вокруг них. Безумные углы, сильно наклоненные стены словно стали резче и темнее. И в центре всего этого сидел пьяный, несвязно бормочущий монах, больше не веривший в Бога.
Мак-Магон с грустным видом потер ладонью глаза.
— В 1942 году Папа Римский учинил сделку с Гитлером. Что-то вроде мирного договора.
— Что?!
Голос монаха звучал теперь мягко и тихо.
— Документы об этой договоренности хранились здесь. Вместе с исследованиями о басках и каготах. Потому что… они были взаимосвязаны.
— И что это за договор?
Библиотекарь продолжал тереть глаза. Без удержу. Как будто просто не в силах был смотреть на окружающий мир.
— Ты никогда не задумывался о том, почему Папа Пий XII помалкивал во время холокоста? Вообще в течение всей Второй мировой войны?
Саймон нахмурился:
— Да. Я хочу сказать, конечно. Думал.
— Вот-вот! Все это выглядело как величайший позор и скандал за все века существования Римской церкви. Не имеющий прецедентов ни до, ни после. В Риме хранили полное молчание, когда Гитлер уничтожал евреев. Католическая церковь даже не прокляла холокост, лишь что-то смутно бормотала о… несчастьях.
Саймон снова спросил:
— Так что за договор?
— Гитлер кое-что обнаружил. Благодаря своим ученым в лагерях на юго-западе Франции.
— Ты имеешь в виду Евгения Фишера и его «работу» в Гюрсе?
Монах кивнул и, откинувшись на спинку стула, уставился вверх, на безумно сходящуюся в точку крышу пирамиды. Как будто смотрел вслед своей исчезающей вере.
— Да. И сделка касалась именно этого. Гитлер согласился не раскрывать те выводы, к которым пришли его ученые. Потому что они действительно кое-что нашли, подтвердили научно то, что лишь могли предполагать инквизиторы, что подразумевалось, когда исследовали каготов. Нечто такое, что смущало церковь уже в Средние века… что так ее смущает, что пришлось основательно спрятать доказательства. Сначала в Ангеликуме, папском университете Святого Фомы Аквинского. Потом здесь. Материалы, доводившие архивариусов до безумия. В здании, которое вызывало у монахов неврозы, и это происходило слишком быстро. Документы, слишком пугающие, чтобы понять их до конца, но притом слишком важные, чтобы просто их уничтожить.
Саймон перебил его:
— Так ты не знаешь, что там на самом деле было? Не знаешь результатов исследований в Гюрсе?
— Не-а… после того как последний туреттский библиотекарь присоединился к этой банде — к Обществу Пия X, — самые серьезные секреты были заперты отдельно, вон там. Я лично никогда их не видел. Своими глазами — нет.
— Но тебе известна подоплека… — Саймон пытался разобраться в путанице собственных мыслей. — Ты знаешь, что Папа согласился хранить молчание в обмен на то, что Гитлер не стал обнародовать эту тайну. И молчал во время холокоста. Правильно?
Библиотекарь поднял стальную кружку с вином и с горечью ответил:
— Верно. Ты правильно понял. Папа договорился с Гитлером, он заключил сделку с самим дьяволом, и шесть миллионов долбаных евреев умерли. — Чуть помолчав, монах добавил: — Кстати, у тебя есть всего один час, чтобы уехать отсюда. Я не могу просто сделать вид, что тебя тут не было. У меня здесь работа. Я могу что угодно думать об этих поганых фанатиках, которые увезли отсюда документы, я могу что угодно думать обо всей этой поганой шараде и об этом чертовом предательском соглашении, — но мне шестьдесят пять, и я не хочу куда-то отсюда уезжать. Что мне делать? Поселиться в Майами? — Монах покачал головой. — Так что я собираюсь сказать, что ты сюда ворвался и поколотил меня. А это значит, что тебе надо удирать отсюда как можно быстрее. Я позвоню им через час. А в уплату за то, что я постараюсь дать тебе возможность скрыться… я хочу, чтобы ты мне рассказал.
— Что?
— Если когда-нибудь узнаешь, что именно там накопал Гитлер… что так напугало церковь. Расскажешь? Я всю жизнь верил во все это дерьмо, и служил доминиканцам, и мучился в этом безумном монастыре, и мне, черт побери, хочется узнать, почему я лишился веры. Потому что я родился в вере, я был для нее рожден! А теперь остался совсем один. Совсем один… — Мак-Магон уставился на железную кружку в своей руке. — Кровь Христова, тело Христово, тело лжи… Ура!
38
Выражение лица Мигеля было предельно понятным: он устал, но чувствовал себя насыщенным, победившим. Дэвид вдруг понял, что это же самое выражение было на лице террориста после совокупления с Эми в пещере ведьм в Сугаррамурди.
— Погоди. Погоди-погоди… я спать хочу, — сказал Мигель. Его дыхание вырывалось в холодный воздух облачками пара. — Мы можем подождать. Bukatu dut![83] Американец согреет нас утром.
Ангус во все глаза смотрел на террориста.
Мигель отдавал приказы своим людям; Ангуса, Эми и Дэвида крепко привязали к акации, спинами к стволу, и приставили к ним стража. А потом террорист как-то сразу заснул, так быстро, как будто потерял сознание. Он теперь лежал как мертвый, на куске брезента возле умирающего огня, и его продолжало чуть-чуть согревать еще не остывшие угли жертвенного костра.
— Клейне — Левин, — тихо и невыразительно произнес Ангус.
Дэвид шепотом спросил ученого, привязанного к дереву рядом с ним:
— Что ты сказал?
— Синдром Клейне-Левина, вот чем можно охарактеризовать состояние Мигеля. Внезапный сон, лицевой тик. Склонность к насилию. Думаю, это синдром Клейне — Левина.
— И что?
— Да просто… интересно.
Некоторое время они молчали. Потом заговорила Эми. Ее голос дрожал от обуревавших девушку чувств.
— Ангус… как бы то ни было… мы должны, должны что-то сделать. Просто хоть что-нибудь…
Нэрн кивнул.
— Понимаю. Но… что именно? Что мы можем сделать?
Никто ему не ответил.
Эта была холодная и нелепая ночь, полная страданий. Дэвид не мог заснуть. Его мысли постоянно устремлялись в один и тот же черный туннель ужаса: его сожгут утром… на рассвете. Он будет страдать так же, как Альфонс. Он очень надеялся, что к нему смерть придет быстрее.
Только он один оказался не в силах заснуть. Ангус и Эми сначала шептали ему разные слова, стараясь немного успокоить, но потом усталость навалилась на них, и они задремали, повесив головы.
А Дэвид так и сидел без сна. Смотрел в черноту пустыни. Его заедали москиты. Мошки мельтешили перед его лицом, как крошечные перепуганные призраки. Но даже они разлетелись, когда стало еще холоднее.
Но потом, в осторожном сером свете приближавшегося утра, что-то зашевелилось. Какой-то человек поднялся… Дэвид присмотрелся.
Это был Мигель. Он осторожно подкрался к почти остывшим углям костра. Все его подельники спали, кроме стража. Мигель сменил его на посту. А когда тот отошел и лег, Мигель тихо-тихо подобрался к едва-едва дымящейся горке углей.
Террорист из ЭТА посмотрел налево, направо, чтобы убедиться: на него никто не смотрит. Дэвид находился в тени под деревом, вдали от фонарей. Мигелю явно и в голову не могло прийти, что Дэвид может за ним наблюдать.
Но за чем он наблюдал? Чем там занимался Гаровильо? Во всей этой ночной сцене было что-то и непонятное и пугающее.
Сын Хосе Гаровильо шагнул прямо в теплые угли догоревшего костра и положил руку на тело Альфонса. И потащил к себе. Он тащил из кучи мертвую обгоревшую плоть…
Мигель вытащил наружу ногу. Бедро несчастного намибийского юноши. Нога легко отделилась от тазовой кости. Как будто в руках Мигеля оказался перепревший под крышкой куриный окорочок. Мигель опустил жареную ногу на песок. А потом сунул руку в карман, достал и раскрыл большой острый нож. Он уже истекал слюной, серебристая струйка на его подбородке поблескивала в лунном свете; Дэвид видел, как террорист погрузил нож в ногу, вырезая кусок из обгоревшего, зажаренного человеческого тела.
Потом Мигель еще раз посмотрел направо, налево — ночной Волк охранял свою добычу. А потом, насадив кусок человеческой плоти на острие ножа, жадно поднес его ко рту, к слюнявой волчьей пасти.
Otsoko.
У Дэвида судорожно сжался желудок в рвотном позыве.
Мигель мгновенно обернулся в сторону тихого звука. Террорист увидел Дэвида. Увидел, что его заметили.
Его лицо исказилось — невыразимый стыд и чувство вины отразились в его глазах. Террорист уронил нож в пыль, как будто никогда и не держал его в руках. Резко поднявшись на ноги, он грубым пинком отправил плоть и кости обратно в покрытые золой угли костра. А потом стер с подбородка слюну и ухмыльнулся, глядя на Дэвида. Молча. Но его ухмылка выглядела неубедительно; стыд все еще горел в его взгляде. Бесконечный стыд.
Мигель ушел в тень, волоча за собой свое одеяло. И снова заснул.
Дэвид продолжал смотреть в его сторону. Его взгляд как будто остановился от ужаса всего увиденного.
А потом он, бодрствуя в одиночестве, долго смотрел в небо. Рассвет понемногу пробуждал древнюю землю к жизни. Он окрасил горизонт сначала зелеными и холодными синими тонами, потом бледными абрикосовыми полосами… Поперек дна каньона начали протягиваться пока еще неуверенные тени. Тонкие молодые деревья кланялись, как придворные, в свежеющем утреннем ветре. Все в лагере спали, кроме Дэвида.
Вдруг он заметил большую кошку в нескольких сотнях метров от лагеря, в пересохшей речной долине, и прищурился, наблюдая за ней; кошка была рыжевато-коричневой, грациозной, с кисточками на ушах и длинным подвижным хвостом, и она крадучись пробиралась между верблюжьими колючками. Каракал, степная рысь…
А далеко в глубине каньона Дэвид различил огромные черные тени. Пустынные слоны. Они совершали свой невероятный переход через пересохшие земли Намибии в поисках воды.
Дэвиду хотелось кричать. Потому что он должен был вот-вот умереть. А мир вокруг был так прекрасен! До жестокости прекрасен. Мир был диким, угрожающим — и прекрасным. Каждый жук, эбонитово-черный на золотистом песке, каждый звук, издаваемый пустынной птицей, спрятавшейся в ветвях акации, — все было прекрасно. А он должен был умереть.
Над лагерем разнесся голос Мигеля:
— Эй, к делу! Черт знает как холодно. Надо нам его сжечь. Вставайте! Egun on denoi![84] Просыпайтесь!
И лагерь как-то вдруг наполнился людьми. Дрожащие от холода мужчины ждали приказа.
— Но ведь нам нужны дрова, Мигель?
— Так пойдите и найдите их! — рявкнул их вожак. — Прихватите с собой Эми и Нэрна. Пусть тоже собирают ветки, чтобы зажарить своего дружка. Мы сварим кофе на его мозгах.
— Ладно. — Алан бесцеремонно ткнул пистолетом в сторону пленников. — Слышали, что он сказал? Незачем нам одним париться с этими дровами. Вы будете их собирать. А мы за вами присмотрим.
Эми и Ангуса развязали. Подталкивая стволом пистолета в спину, указали, в какую сторону двигаться. Дэвид смотрел им вслед, он так и остался привязанным к дереву. Двух пленников погнали в каньон; Эми наклонилась и подняла маленький обломок сухой ветки акации. Мужчины курили и смеялись, отпуская грязные шуточки на тему предстоящей экзекуции.
Дэвид заметил, что Ангус что-то говорит Эми. Шепчет. Но тут же Алан крикнул через облако пыли, сопровождавшее усиленно трудившихся пленников:
— А ну, заткнулись! Собирайте дрова, молча!
Ангус обернулся и извинился, потом наклонился к песку и выдернул из земли маленькое деревце с несколькими оставшимися на нем зелеными листками. Эми последовала его примеру: тоже выдернула точно такое же деревце, в нескольких ярдах в стороне.
Начался день, продолжались дела. Ангус и Эми медленно и уныло выполняли задание, и горка дров в середине лагеря все росла; холодный ветер метался по пустыне, солнце уже светило вовсю, но все равно было слишком прохладно.
Голос Мигеля звучал при дневном свете просто оглушительно.
— Алан, разжигай огонь! Просто мороз какой-то! А нашего дружка поставь в середину.
— Да, Миг…
Дэвид чувствовал, как его просто разрывает на части от ужаса. Несмотря на то что он готовил себя к этому всю ночь, реальность была слишком чудовищной, чтобы все, что происходило с ним сейчас, было правдой. Этого не должно было случиться. Этого не должно быть! Но бандиты уже подошли к нему. Дэвид боролся и извивался, но он был один, а их было много; он попытался укусить одного из террористов, но сильный удар по лицу заставил его оставить попытки. И неумолимо, непреклонно его тащили по пыльной земле к ожидавшей куче сухих дров.
— Веревки где?
С жестокой силой его наполовину толкнули, наполовину подняли прямо в середину костра. На мгновение его руки оказались свободными, и Дэвид постарался ударить кого-нибудь, кого угодно — но мужчины поймали его кулаки; он ощутил, как его запястья связывают вместе позади столба, а потом то же самое произошло с его лодыжками, их тоже намертво прикрутили к столбу… Привязали его к большому деревянному колу.
Дрова громоздились вокруг Дэвида, он был по колено в этих серых пыльных пустынных ветках. Сухих, ждущих…
Мартинес смотрел на Эми; она смотрела на него. По ее щекам бежали слезы, но она молчала. Дэвид заглядывал в ее голубые глаза; в эти последние моменты он искал какого-то подтверждения, какого-то доказательства того, что Эми его любила. Да, в ее лице было нечто отстраненно нежное, чистое, задумчивое… но что это?
— Хватит! — рявкнул Мигель. — Пора позавтракать. Torrijas, Kafea![85]
— Погоди, — заговорила Эми. — Позволь мне поцеловать его на прощание.
Мигель посмотрел на нее скептически и сухо, почти не скрывая улыбки. Солнце уже поднялось достаточно высоко, и Дэвид чувствовал на лице настоящее тепло. Скоро жара станет обжигающей, а его поджарят, и кровь вскипит в его венах…
— Почему бы и нет? Поцелуй его, попрощайся. Скажи agur. Попробуй его на вкус еще разочек. А я посмотрю.
Эми покорно кивнула. Она подошла к костру и, перешагнув через дрова, потянулась к Дэвиду, чтобы нежно поцеловать его в губы. При этом она прошептала — очень тихо и очень отчетливо:
— Старайся не вдыхать дым. Среди дров — молочай. Просто постарайся.
Дэвид постарался подавить все чувства. И кивнул. Молча. Эми поцеловала его еще раз и отошла, а Алан приблизился к костру.
— Ну что, какую марку бензина возьмем сегодня?
Кто-то заржал.
— У кого есть зажигалка?
Француз Жан-Поль уже выплескивал бензин из канистры на сухие дрова. Дэвид ощутил, как холодная жидкость попала ему на лодыжки, к его лицу поднялся сладковатый запах бензина, а потом Энока взял в руки зажигалку. Приземистый выродок щелкнул ею и прикрыл огонек ладонью, защищая от дувшего из пустыни ветра, как маленького птенца, как цыпленка, — и тут же опустился на корточки и осторожно поднес огонек к дровам… и сразу медленно отступил назад, вопросительно глядя на кучу дров… а в следующую секунду бензин с вежливым вздохом вспыхнул, и дрова охватило огнем.
Это происходило на самом деле. Здесь. Сейчас. В желтой долине Дамары. А над бушем кружили соколы. А Дэвида собирались сжечь заживо.
Пустынное дерево было настолько сухим, что загорелось в одно мгновение, и вот уже большие желтые языки пламени гудели вокруг молодого человека. Ангус и Эми присели на корточки у огня, грея руки. Мигель расхохотался.
— Вот это недурно! Согревайте ручки на огоньке своего дружка! Он жарится, вы греетесь. Я тоже. — Мигель обратил взгляд на своих подручных и резко бросил: — Держите их под прицелом.
Сам Мигель подошел поближе, чтобы наблюдать за муками своей жертвы. У Дэвида уже слезились глаза от дыма; ногам было горячо; он ощущал, как пламя подбирается к его телу, как оно шарит вокруг, словно руки какого-нибудь мерзкого попрошайки. Он старался не вдыхать дым. Молочай. Неужели Ангус и Эми что-то задумали? Мартинес почти терял сознание от страха. Он должен был умереть. Он больше не мог ни о чем думать, все затопил жуткий страх, но где-то в уголке сознания оставалось место для крупицы надежды. Что они такое делают? Эми и Ангус пристроились так, чтобы ветер относил от них густой маслянистый дым, поднимавшийся над сухими потрескивавшими ветками. И смотрели на Мигеля, в сторону которого дул ветер.
Волк вдыхал дым. Вдыхал и безмятежно улыбался.
— Пахнет. Пахнет мясом, вроде баранины. Смахивает на то, что жарится барашек, нет? Да? Ez? Bai? Эми? Ты чуешь? Это ведь… это твой дружок… горит… и… — Речь Мигеля стала несвязной, он бормотал, глядя на огонь и дым: — Д-да… Marmatiko… он будет…
Дэвид уставился на него в изумлении, на мгновение даже перестав ощущать жар.
Мигель пошатнулся, склонился вбок. Он продолжал что-то бормотать, медленно шатаясь из стороны в сторону… а потом вдруг очутился стоящим на коленях, почти без сознания.
А потом террорист ЭТА растянулся на земле.
И Ангус тут же ринулся к нему, стремительно, как хищник; прежде чем кто-либо успел отреагировать, ученый уже обежал костер и схватил Мигеля за шею, одновременно другой рукой выхватив из-за пояса террориста пистолет и прижав его к безжизненно болтавшейся голове Мигеля.
Убийца вяло пробормотал какое-то ругательство, он был без сознания. Его подельники застыли на месте от потрясения. А шотландец рявкнул:
— Стоять всем! Или я его убью!
Это был напряженный момент. Руки бандитов лежали на оружии.
А Эми уже схватила нож, лежавший в пыли, тот самый нож, которым Мигель резал человеческую плоть. Нырнув в разгоравшееся пламя, она перерезала веревки, удерживавшие Дэвида у столба; как только они упали в огонь, молодой человек прыгнул в сторону вместе с Эми. Он был свободен. Ангус бешено кричал:
— Я убью вашего Мигеля! Не двигаться!
Никто и не двигался. Кроме Эми. Она пыталась голыми руками сбить языки пламени с одежды Дэвида, с его тлеющих джинсов и кроссовок. Огонь ревел, как будто гневаясь, что у него отобрали пищу. Эми приложила ладонь к щеке Дэвида.
— Ты как?
— В порядке… я в порядке… — Он почти не слышал ее сквозь рев огня и звуки собственного кашля; отплевывался, стараясь избавиться от привкуса собственной горящей одежды во рту.
В нескольких шагах от них Ангус волочил по земле не способного сопротивляться Мигеля, а подельники террориста только и делали, что переглядывались. На их лицах в чистом утреннем свете без труда читалось полное замешательство. Что делать без Мигеля? Без их командира, отдающего приказы?
Ангус пронзительно кричал:
— Только попробуйте подойти, и он останется без головы, чертовы ублюдки! Эми… бери ключи от машины! И прихвати ящик с пробирками! Дэвид, возьми какой-нибудь пистолет — и в машину… в «Лендровер»!
И снова бандиты переглянулись — растерянно, злобно, беспомощно. Через несколько секунд Эми уже держала в руке ключи от машины.
— Ангус, нашла! И образцы тоже.
— В машину, Дэвид!
Мартинес, подавив свои страхи, послушно побежал к автомобилю и запрыгнул в него на водительское место. Не обращая внимания на ожоги, он вставил ключ в зажигание и завел машину. Дэвид был готов рвануть с места, как только Ангус окажется рядом.
Шотландец подтащил бесчувственного Мигеля ближе к «Лендроверу». Ствол пистолета был все так же прижат к виску террориста. Эми уже сидела рядом с Дэвидом, наблюдая. Она была готова бежать. Абсолютно готова.
Но Мигель уже начал подавать признаки жизни; что бы ни сделал с ним дым молочая, его действие начало ослабевать. Террорист пытался вырваться из рук Ангуса; Дэвид видел, как Мигель старается освободиться.
— Ангус!..
Ученый прижимал дуло пистолета к виску Мигеля. Дэвид знал, что должно произойти. На лице Ангуса Нэрна горела мрачная решительность.
Дэвид с ужасом наблюдал за тем, как Нэрн нажимает на спусковой крючок: это была настоящая казнь.
Но он недостаточно крепко держал Мигеля, и в самый последний момент террорист резко дернулся. Он снова превратился в jentilak, гиганта лесов, неистребимого, легендарного… Ангус выстрелил, и кровь брызнула… но ученый промахнулся, оцарапав висок, пуля ушла в сторону. Волк был жив и свободен. И уже подавал знак своим людям.
Первый винтовочный выстрел разорвал утренний воздух. Дэвид дернул машину с места — и тут же вторая пуля с громким стуком ударилась о металл. Дверца машины распахнулась, Эми вцепилась в Ангуса, помогая ему ввалиться внутрь, на заднее сиденье; машина взметнула колесами песок и тут же стала набирать скорость. Быстрее. Еще быстрее.
Заднее стекло разлетелось на тысячу кусков, когда в него угодила очередная пуля; Ангус отстреливался через образовавшуюся дыру. Один выстрел, второй, третий… Один из бандитов упал, приземистый, крепкий… Энока. Готов.
— Гони, гони! — орал Ангус.
Дэвид, стараясь не налететь на какой-нибудь куст, прокричал в ответ:
— Но куда?..
— Прямо!
Они на полной скорости перескочили через пригорок, подпрыгнув в воздух, обрушились на песок и помчались дальше, подпрыгивая на кочках, скользя колесами по каменистой пыли, их заносило то вправо, то влево, и Мартинес отчаянно сжимал руль, пока машина мчалась по сухому руслу реки, стараясь только не налететь на крупные кусты верблюжьей колючки…
Эми отчаянно вскрикнула:
— Дэвид!
За очередным пригорком прямо перед ними возник огромный слон. Они должны были вот-вот налететь на него. Неторопливое серое животное жевало какую-то ветку; слон повернулся и посмотрел на них спокойно и равнодушно…
Дэвид вывернул руль в последний момент, и машину на полной скорости бросило в сторону; два колеса «Лендровера» зависли в воздухе. Мартинес чувствовал, что они сейчас должны перевернуться и расшибиться в лепешку. Но машина вдруг снова встала на все четыре колеса, и они помчались дальше.
— Река! Давай вдоль реки!
Это был приказ Ангуса. Дэвид повиновался.
Русло этой реки еще не пересохло до конца, и колеса машины захлюпали по грязи, распугивая диких гусей, уток, еще каких-то птиц, с шумом взлетавших перед ними. Дэвид выжимал скорость, как мог. Казалось, что сам большой белый автомобиль помогает ему в этом.
Десять, двадцать, тридцать минут они мчались вдоль реки. Газели, мирно дремавшие, стоя по колено в воде, вскидывали головы, заслышав шум, и бросались бежать. Антилопы-прыгуны взлетали в воздух от страха, когда машина вдруг вырывалась из-за крупных камней и мчалась прямо на них с бешеной скоростью.
— Туда!
Ангус показывал направление — там река разделялась на два рукава; Дэвид повернул в нужную сторону и воспользовался моментом, чтобы еще раз посмотреть назад… и его надежда разгорелась еще сильнее: они действительно уходили от террористов.
Им удалось сбежать.
Дэвиду захотелось разом разрыдаться от ужаса и заорать от счастья. Но он не сделал ни того, ни другого. Он просто гнал машину. Молча. И в салоне было тихо. Еще через несколько минут они остановились. Эми нашла в аптечке мазь и перевязала обожженную руку Дэвида. Пока она этим занималась, Мартинес смотрел на нее. Она не плакала, но глаза у нее были затуманены, она просто не выпускала наружу испытанный ужас. Потом они снова сели в «Лендровер» и двинулись дальше.
Солнце висело высоко в небе, было жарко. Дэвид постарался справиться с обуревавшими его эмоциями и подумать.
Почему? Почему Мигель нашел их даже здесь? Он всегда их находил. Как будто за ними гналась сама смерть: гибкая, жестокая, безжалостная. Otsoko. Волк. Неутомимый Волк.
Еще Дэвид никак не мог выкинуть из головы запах собственной тлеющей одежды. Он молчал. Эми то и дело дотрагивалась до него. И тоже молчала.
Еще час они ехали вдоль реки, потом Ангус велел сменить направление; Дэвид кивнул и резко повернул вправо — и они покатили по совершенно сухой земле. Камни и песок. Они ехали и ехали. И никто не говорил ни слова.
Они направлялись точно на юг. Здесь не было никаких дорог. Относительная пышность долин рек Дамары сменилась полной и абсолютной сухостью. По обе стороны от машины высились песчаные дюны.
Ангус первым решился нарушить гнетущую тишину. Казалось, прошло не меньше суток с тех пор, когда кто-то из них действительно говорил.
— Мы сейчас уже собственно в пустыне Намиб, — сказал он. — В самой настоящей. Все это тянется на сотни миль.
Дэвид во все глаза смотрел на пустую бесконечность. Огромные дюны, издали они смахивали на горы лимонного и апельсинового мороженого. С них то и дело срывались легкие струйки песка, а между ними лежали плоские пыльные сковородки тверди, обожженной до зловещей белизны; кое-где виднелись черные, искривленные стволы мертвых деревьев. И все это было похоже на декорации какого-то третьеразрядного фильма ужасов.
Довольно. Дэвид встряхнулся, отгоняя от себя никому не нужные сейчас фантазии. Образы, роившиеся в его уме, были так пугающи, что их трудно было вынести. И все же сквозь эту какофонию ужаса прорывался некий ритм; в окружавшем Дэвида мире крылась гармония, пугающая, но естественная…
Дэвид все еще перебирал в уме картины, не дававшие ему покоя: Мигель с куском плоти Альфонса… Робкая исповедь старика Гаровильо в тайном доме каготов: «Мигель таит в себе вечный позор каготов»… А потом — чудовищная волна киселя из человеческих тел в подвалах под тем домом…
А что, если те ныне почти растворившиеся тела были сложены в этот подвал без доступа воздуха не для того, чтобы предотвратить распространение инфекции, а для того, чтобы… сохранить их? Как еду?
Глотнув воды, Дэвид напрямую спросил Нэрна:
— Ангус, были ли каготы…
— Что?
— Были ли каготы… людоедами?
Эмми уставилась на них, побледнев от ужаса.
39
С километр или около того Ангус молчал. Дэвид снова попытался заговорить с шотландцем. В ответ — тишина. Молодой человек вот уже в третий раз повторил вопрос. На этот раз Ангус откашлялся и сказал с не свойственным ему оттенком нервозности, как будто ему не хватало кислорода, а горло запорошил песок пустыни.
— Почему ты так говоришь?
Дэвиду совсем не хотелось говорить: «Потому что я видел, как Мигель отрезал кусок от твоего друга». Но он чувствовал, что выбора у него нет. И в качестве предисловия к своему вопросу рассказал шотландцу все. О том, что делал Мигель ночью. А потом — о событиях в тайном убежище каготов. О жидкости, образовавшейся из давно сложенных в особую яму и полурастворившихся тел.
Ангус смотрел в окно машины, на бесконечную пустоту великой Намиб. А потом сказал, не оборачиваясь:
— Да, конечно. И именно поэтому сработал фокус с дымом.
Эми перебила его:
— Простите, о чем вы?
— Это выглядит… даже бессердечным. Обсуждать такое. Ведь каготов почти не осталось, они вымерли или ассимилировались. Зачем же валить всякую дрянь на их могилы?
— Но…
— Но ты уже догадываешься. Ты ведь… стал свидетелем… И мне, черт побери, можно быть откровенным. Да, это правда. Мигель склонен к каннибализму. Потому что он кагот. Это часть их генетического проклятия. — Ангус наклонился немного вперед. — Да, каготы были каннибалами.
Эми растерянно покачала головой:
— Прошу… объясни, пожалуйста!
— В период раннего Средневековья их обвиняли в том, что они едят человеческую плоть, и эта репутация намертво за ними закрепилась. Конечно, это могло оказаться полной ерундой, вроде разного рода клеветы на иудеев… но это оказалось правдой. Они действительно были Семенем Змея, проклятием Каина. Сторонняя раса, потомство проклятого народа. Все это правда.
— Как?.. Я не понимаю! — Эми побледнела от гнева; ее белое лицо как бы взяли в раму желтые пески пустыни, мелькавшие за окном машины. — Элоиза?! Она не сумасшедшая. И она никогда ничего подобного не говорила.
— Ну, она и не могла, разве не так? — саркастически бросил Ангус. — Это великий позор каготов, это не то, о чем можно поболтать с соседями… ну, вроде: «Почему бы вам не заглянуть к нам на ужин, зажарим жирненького соседа…»
— Но что говорит наука? — Дэвид провел «Лендровер» между двумя мертвыми деревьями с жесткими острыми ветвями. — Каннибализм? Какого черта, как он мог… возникнуть?
Ангус нахмурился:
— Это все из-за близкородственных браков, из-за изолированности каготов. И синдактилия потому же, перепонки между пальцами на руках и ногах. Типичное явление для горных народов, когда набор генов слишком ограничен. Синдактилия сродни многим другим хромосомным нарушениям. Иные из них ведут к психозам, жестокости, странным сексуальным потребностям, бог знает к чему еще… понимаете?
Эми бросила быстрый взгляд на Дэвида, потом опять посмотрела на Ангуса.
— Мигель был… обладал большим сексуальным аппетитом.
— Избыточное либидо, конечно. — Ангус даже улыбнулся. — Гиперсексуальность, сатириазис. Это психиатрический термин. И патологическая сонливость.
— Он всегда сразу засыпал после секса.
— Типичный представитель. Ничего не поделаешь. — Ангус некоторое время смотрел в пустоту, потом продолжил: — В общем, я подозреваю, что у Мигеля присутствует некая довольно сложная комбинация синдромов Клейне — Левина и Галлервордена — Шпатца, что, в общем, обычно для каготов в среднем. И симптоматика ухудшается, усиливается со временем. И одним из психосексуальных синдромов может быть антропофагия, каннибализм. Я понял, что у него есть эта тяга, когда увидел, как он принюхивается к дыму… прошлой ночью.
Дэвид глянул на шотландца: в агрессивном юморе ученого слышалась явная и неизбывная печаль, хотя Ангус и улыбался.
Эми сказала:
— Так вот почему на него подействовал молочай…
— Именно. После того как я видел, как он наслаждается запахом горящего Альфи, я знал, что он снова будет вдыхать дым костра, радуясь запаху горящей человеческой плоти. Я знал, что он это сделает, когда они начнут жечь тебя, Дэвид. Просто не сможет удержаться.
— А молочай?..
— Euphorbia virosa. Известный также как бушменская отрава. Если съесть листья этого растения, оно очень быстро тебя убьет. Да и дым может убить со временем, а уж с ног сбивает моментально. И я рассчитывал на то, что Мигель подойдет ближе и вдохнет этот дым, пытаясь уловить соблазнительный для него запах.
Дэвида охватила тошнотворная слабость, у него даже голова закружилась.
— Но, Ангус… а если бы Мигель не подошел к костру и не… ведь дым молочая убил бы меня?
В машине стало тихо. Старая пыльная тропа превратилась в настоящую дорогу. Черную, гудронированную, убийственно прямую: как будто идеальная игла упала на землю, указывая строго на юг. Тени пробегавших вдали страусов тянулись прямиком к пустынному горизонту. Дэвид подумал о своем исхудавшем деде, лежавшем в хосписе посреди пустыни: desolada, desolada, desolada… Стыд и печаль его деда; ужасная судьба его родителей…
Эми спросила:
— Куда мы направляемся?
— В Рехобот. Город ублюдков.
— То есть?..
Дэвид снова посмотрел на Ангуса; шотландец продолжал улыбаться кривой нагловатой улыбкой.
— Я хочу повидаться с матерью Альфонса, всего на минутку. Рассказать ей, что случилось. Альфонс был бастером. Бастардом. Ублюдком. Его мать живет в Рехоботе, и мы должны добраться туда как можно скорее, потому что Мигель не умер и он со своими людьми выберется из пустыни и отправится в Шперргебит, они отыщут Элоизу…
Эми перебила его:
— Но почему он тебе не поверил? Когда ты сказал ему, что Элоиза — на запретных территориях? Почему он продолжил… то, что делал? Он ведь получил ответ.
Ангус фыркнул:
— Ты все еще не понимаешь? Этого человека ведут его постыдные импульсы, его каготский каннибализм. Возможно, он подавлял все это долгие годы, но синдромы развивались, набирая первобытную силу, и зло его желаний в конце концов выбралось на поверхность…
— Он кусал руку той женщины-каготки, которую убил в Гюрсе. Бабушки Элоизы. Полицейские назвали это «пробой»…
— Вот видишь. Первая попытка. Он наконец понемногу уступает этим прирожденным желаниям — и сходит с ума. Синдром крепнет, сжимает его ум. Можешь обогнать ту машину, между прочим. Нам надо торопиться.
Это был первый автомобиль, который они увидели за целый час. Дэвид промчался мимо машины; ее водителем был крупный мужчина, похожий на немца. Он мигнул фарами, когда они его обогнали: два раза вспыхнули серебристые круги в мерцающем от жары воздухе.
Ангус продолжил:
— Так что, как видите, Мигель просто воспользовался ситуацией, чтобы… кого-нибудь зажарить. Да, он получил ответ, но его импульсы, его тяга оказались сильнее. Чего он хотел на самом деле, так это попробовать человеческую плоть. Получить кусок побольше. Это был шанс удовлетворить свои самые дурные потребности. Он просто не в силах был удержаться.
— А теперь что?
— Он будет гоняться за Элоизой. В конце концов, это работа, которую он должен сделать. Уничтожить результаты экспериментов и прервать наши исследования, а потом убить Элоизу, последнюю из каготов.
В голове Дэвида вспыхнула пугающая мысль.
— Ангус… а Элоиза что, тоже сумасшедшая?
— Нет. Совсем не каждый кагот страдает от этих синдромов. С ней все в порядке. Да и множество каготов абсолютно здоровы… то есть были здоровы. В особенности в самом начале их изоляции.
— А потом?
— А потом, с течением столетий, генетический фонд иссяк и стали распространяться разного рода генетические нарушения, и здоровые каготы стали редкостью, а несчастные безумцы подвергались еще худшим преследованиям, как люди из проклятого племени, и в результате их возможность освежить генофонд стала еще меньше. Они просто вынуждены были заключать близкородственные браки, потому что не могли найти партнеров на стороне; не исключено, что они дошли и до прямого инцеста. А от этого появлялось еще больше каннибалов, и кретинов, и насильников с перепончатыми пальцами… Нам бы лучше заправить машину.
Заправочная станция возникла как-то вдруг, как некий аванпост сложного и разветвленного бизнеса в унылой безлюдной пустыне. У заправки стоял мини-фургон с полудюжиной монахинь, черных монахинь с улыбчивыми черными лицами, смеющихся. В тени сидели два байкера; они обливали водой из бутылок сожженные солнцем лбы.
Набрав воды и заправив машину, беглецы купили орехов, вяленых яблок и несколько полосок вяленого мяса. Потом снова сели в машину. Бесконечная черная лента дороги продолжила разматываться в пустоте.
Ангус все продолжал говорить, как будто видел в беседе способ заглушить воспоминания о том, через что им пришлось пройти. Дэвид был только рад этому; он и сам постоянно гнал прочь мысли о том, что они все пережили прошлой ночью.
— А теперь вы мне скажите, вы оба, — заявил Ангус, отпив немного воды из бутылки. — Нам ведь необходимо знать, кто именно нас предал, так?
— Да…
— Но мне кажется, это совершенно очевидно. Это ведь ты?
— Нет, — удивленно ответил Дэвид.
Ангус продолжил недовольным тоном:
— За тобой начали присматривать еще там, в Свакопе. И тот парень, Ганс Петерсен… Он ждал тебя. Ты думаешь, что ты и вправду вот так случайно наткнулся на него и он любезно согласился подбросить тебя до нашего лагеря? Да ничего подобного. Я сразу заподозрил неладное, когда ты появился, но я был рассеян, как последний дурак, и ничего не предпринял. Просто не подумал.
Дэвид возразил:
— Не думаю, что это он нас выдал. Нет, он…
— Да чтоб тебя… это был он! Слоновий человек. Он хорошо известен в Намибии, он ненавидит нацистов, ему ненавистен любой намек на расистскую науку. Ему, скорее всего, сказали, что мы продолжаем эксперименты Фишера, и он согласился помочь — чтобы узнать, где мы… я так предполагаю.
— Мы не говорили ему, зачем сюда едем.
— Он уже это знал. Кто-то в Свакопе ему сказал, и он был готов подружиться с тобой, чтобы ты выдал ему местонахождение Элоизы… к счастью, я уже отправил ее отсюда… — Еще один глоток воды. — Ну, как бы то ни было, черт побери, мы добрались. Вот он, город ублюдков.
Они въехали в довольно большой город, окруженный заправочными станциями и металлическими бунгало. Вокруг торчали белые вышки телефонных ретрансляторов на голых пыльных холмах. В такой жаркий час улицы были широкими и безжизненными. И все они носили пышные немецкие наименования: Банхофштрассе, Кайзерштрассе… Крупные собаки бегали за высокими проволочными оградами. Девушки с кофейной, с оранжевым оттенком кожей смеялись перед розовым строением с вывеской: «Бассейн». Дэвид опустил стекло и уставился на покупателей, заходящих в супермаркет «Спар».
Люди здесь были ошеломительно красивыми. Как Альфонс. Кофейного цвета кожа, миндалевидные глаза, невероятно изысканно очерченные скулы…
— Да кто такие эти бастеры?
Ангус объяснил:
— Это потомки смешанных союзов… союзов между крепкими, здоровыми немецкими поселенцами и миниатюрными людьми койсанских племен — прославленных бушменов из солончаковых пустынь, возможно, также нама и дамара. Это тоже племена миниатюрных людей. Немцы и бушмены давали потомство в XVIII и XIX веках. В Капской колонии. Здесь поверни налево… вот тут, приехали… — Голос Ангуса надломился. — Здесь живут родные Альфонса. Я познакомился с ним в университете в Виндхуке. Мне был нужен помощник… он был так прекрасен… прекрасный бастард из Рехобота…
Эми посмотрела на Дэвида. Потом сказала:
— Ангус, если хочешь побыть один… мы можем…
— Нет-нет. Со мной все в порядке. Я в порядке. Позволь кое-что объяснить, Эми. Бастеров ненавидели и презирали все, и немцы, и племенные народы, потому что это было уж слишком необычно — родиться, так сказать, между кастами; они выглядели смесью уж слишком разнородных начал. Из-за расовых предрассудков их постепенно вытеснили на север, на другую сторону пустыни, в Намибию. И они осели здесь, на довольно высоком плато, к югу от Виндхука. Разводили скот. — Ангус ткнул пальцем назад, в сторону мясной лавки, мимо которой они только что проехали — с солидными решетками на окнах. — Они стали отдельной народностью, с собственным флагом и гимном. Народом бастардов. Именно это и означает слово «бастер». Бастард, ублюдок. — Ангус хмыкнул. — Так они и существуют здесь по сей день. Драгоценный генетический пережиток. Уникальное смешение генов сделало бастеров экстатически прекрасными — кофейная кожа, высокие скулы; иногда у них бывают светлые волосы, но при этом все равно смуглая кожа. Буквально самый красивый народ в мире. Да вы и сами можете видеть… посмотрите на тех девушек возле почты. Ошеломительно. Они любят алкоголь, азартные игры, всяческие авантюры. И они жутко скандальны и любят подраться. Каждый раз, как выпьют. Ладно, подождите меня немного. Пять минут.
Они остановились перед ярким голубым бунгало с баскетбольным кольцом у гаража, с высокой проволочной оградой вокруг аккуратной, хотя и излишне строгой зеленой лужайки. Такой дом вполне мог стоять где-нибудь в Америке, если не брать в расчет обжигающее африканское солнце, акации вдоль улицы и странных, стройных, прекрасных людей с высокими скулами, смеющихся на ступенях лютеранской церкви и возле подражающего дворцу аляповатого зеленого игорного зала по соседству.
Дэвид и Эми молчали. Они сидели в раскаленном автомобиле, и Эми коснулась руки Дэвида, а он в ответ сжал ее пальцы, и они молчали.
Вскоре шотландец вернулся.
— Это было… забавно, — сказал он, сев в машину, и отмахнулся от возможных вопросов Дэвида. — Держи теперь на юг. Нам нужно просто добраться туда. Добраться до Шперргебита как можно быстрее. И все. Вперед!
Они поехали, и Ангус снова начал говорить, говорить… Он рассказывал о бастерах и Евгении Фишере. Казалось, его бесконечная речь служила ему чем-то вроде лекарства. Дэвид вслушивался в гипнотизирующую болтовню шотландца. Эта болтовня отчасти успокаивала, отчасти тревожила. Пустыня вновь окружила их, а они все катили на юг по прямой черной дороге со скоростью сто миль в час. Шоссе было таким пустым и прямым, таким хорошим и гладким, что Дэвиду казалось — они могли бы увеличить скорость до трехсот, чтобы поскорее оставить позади эту пустоту. И не было никаких машин.
— Ты ведь хотел бы узнать, почему Фишер явился сюда. В Рехобот. В Намибию. Да? Так?
Дэвид пожал плечами:
— Пожалуй.
— Ответ прост. Потому что здесь — настоящий рай для тех, кого интересует генетика, вроде Фишера. В Африке вообще наибольшее количество генетических вариаций, чем можно отыскать где-либо в мире. А в Намибии их больше, чем где-либо на этом континенте. Столько племен! От нама до чистокровных буров. И у меня есть образцы крови всех! Я собрал все. Я даже добрался до койсанов, бушменов! Предки Альфи… Они были так важны для экспериментов фишера. Теперь нам нужно свернуть направо, с дороги. Вон на ту тропу.
И они мгновенно очутились в другом мире. Машина громыхала по затопляемой низине, мертвой, насыщенной пылью и выпарившейся солью. Дюны здесь были гораздо ниже.
Ангус тем временем продолжал:
— Итак, чем здесь занимался Фишер? Он был уверен, что в строгом смысле бушмены — особая ветвь человечества, особая разновидность людей. Конечно, они ведь самым уникальным образом приспособлены к жизни в сухих песках пустыни. Они очень маленького роста и чрезвычайно проворны, но в остальном такие же, как все люди. Просто они в процессе эволюции мудрейшим образом приобрели миниатюрность. Как японская электроника. Я называю их «бушменами Сони».
— То есть? Но в чем тогда их отличие?
— У бушменов отличающийся набор генов и физиогномика. И стеатопигия.
— Стеато… что?
— Очень большие задницы. Это такая форма адаптации к суровому климату и регулярно повторяющемуся голоду. Как горбы у верблюда. А у женщин имеется то, что называется «готтентотским фартуком». Фрэнсис Гальтон, великий ученый-евгеник, назвал это гипертрофией малых половых губ. Что, конечно, сказано весьма деликатно. Он вообще-то измерял вагины этих женщин с помощью секстанта.
— То есть ты утверждаешь, — заговорила Эми чуть дрожащим голосом, — что женщины-бушменки, готтентотки или кто там еще, что у них… другие… гениталии?
— Да. Именно так. У них другое влагалище, по-другому устроены половые губы. Они раздуты и слегка перекошены. Если бы бушмены были… ну, скажем, морскими чайками, систематики выделили бы их в самостоятельный вид. Точнее, подвид. — Ангус улыбнулся, посмотрев в зеркало заднего вида на ошеломленное лицо Дэвида. — Кстати, разве это не странно — что Евгения Фишера, величайшего евгеника после Гальтона, назвали именно Евгением? Ген. Это как если бы родители Чарльза Дарвина назвали сына Эволютом, а не Чарли. — Ангус помолчал. — Но это совсем не значит, что Фишер был настоящим убежденным расистом. Он им не был. Находясь в Намибии, он подружился с Келлерманами. Ему нравились образованные, интеллигентные миллионеры-иудеи в Йоханнесбурге и Кейптауне… и их прекрасные жены-иудейки. И, в общем-то, он неплохо относился к зулусам. Ладно, где это мы?
Ангус уставился на подвижные пески впереди. Дюны уже почти исчезли, они приближались к другому пейзажу — более плоскому, с легкими признаками зелени; это все еще была пустыня, но с маленькими, странно выглядевшими деревцами верблюжьей колючки и желтыми акрами девственной древней ныли. Дэвид посмотрел на часы. Они ехали уже много часов. Сотни и сотни миль, прямиком через Центральную Намибию. И не встретили ни единого человеческого существа.
Ангус сказал:
— Нам сейчас надо двигаться к Аусу. А потом — через пустыню к Рошу. — Прищурившись, посмотрел на солнце. — Хотя нам не добраться до Ауса до темноты… — Он откинулся на спинку сиденья. — Так, я говорил о готтентотах. Еще одно койсанское племя — хотти, оседлый вариант бушменов. Ну, как бы то ни было, у них у всех есть весьма странные обычаи, от которых просто бросает в дрожь. Ранние исследователи находили их в высшей мере возмутительными. Вроде обыкновения шамана мочиться на молодоженов. Вряд ли это может кому-то понравиться. Или почитание саранчи. И, конечно, поедание внутренностей поверженного врага. А бушмену после свадьбы удаляли одно яичко. Разве это не сверхстранно? — Ангус диковато усмехнулся. — Я частенько дразнил Альфи на эту тему. Предлагал уехать со мной в Шотландию, с одним яичком. В медицине отсутствие одного яичка называется монорхизмом. Он мог бы стать Монорхом долины Глен!
Эми заговорила, и в ее голосе слышались переполнявшие девушку чувства:
— Ангус, мне это совсем не кажется смешным!
— Нет?
— Ты что, расист? Или поддерживаешь некоторые идеи расистской теории?
Следом за ними над дорогой тянулся огромный шлейф пыли, похожий на шлейф платья невесты, оранжево-серый, плывущий по ветру…
Шотландец ответил очень резко:
— Я презираю расизм. Расизм — это просто глупость. Это как ненавидеть обезьяну за то, что она — не овца. Кроме того, все мы — дети Божьи. Все мы братья и сестры.
Дэвид был изумлен не на шутку:
— Ты веришь в Бога?
Ученый почти разгневался:
— Да как можно не верить в Бога? В таком месте, как это? Вот величайшая пустыня Намибии. Посмотри на нее, на самое засушливое место в мире, которое питается только влагой туманов, приходящих с моря… Присмотрись к этим пародиям на деревья. Суккуленты. Им достаточно тумана и росы, чтобы выжить. Это же совершенно ни на что не похожая экосистема!
Он показывал на толстые, колючие, неуклюжие деревья с массивными ветками, резко выделявшиеся на фоне безоблачного неба.
— Это кокебром, колчанное дерево, суккулент. Флора и Фауна здесь весьма примечательны. Особые кактусы, особые виды жуков, тысячелетние деревья, зарывающиеся в землю… И еще тут есть гиены — невероятно злобный подвид бурой гиены. Я видел однажды такую в Людерице, так она меня напугала до полусмерти. Эти гиены пробираются на песчаные побережья и крадут детенышей тюленей. Смахивают на театральных злодеев.
Дэвид подумал о Мигеле, который гнался за ними, подкрадывался к ним… как бурая гиена.
Ангус все говорил и говорил, продолжая бесконечный монолог:
Вот потому-то я и верю. Посмотрите на все это! Оглядитесь вокруг! Это ведь не случайность, что так много религий родилось именно в пустыне. А эта пустыня — самая устрашающая из всех. Вы посмотрите на нее! — Ангус почти яростно взмахнул рукой, показывая на дикий ландшафт. — Мне бы хотелось доставить в аэропорт Людерица полный самолет атеистов и отправить их через эти пустоши с горсточкой орехов кешью. Десяти дней не пройдет, как они либо помрут, либо станут глубоко верующими. Атеисты! Ха! Шли бы они…
Дэвид совсем запутался. Он ничего не мог понять в этом Ангусе Нэрне. Шотландец не был похож ни на одного из знакомых Дэвиду людей. А ученый все продолжал говорить:
— Конечно, я совсем не думаю, что Бог — славный парень. Нет, он не таков. И Вселенная устроена на фашистский лад. Это тирания, безумная диктатура. Сталинский террор. Ирак Саддама. Все в ней основано на случайности, все пугает. Мы все по ночам лежим и думаем: когда за мной придет смерть? Разве не так? И исчезаем один за другим. Приходит смерть-гестаповец и тащит тебя неведомо куда, и тебя изощренно пытают — то раком легких, то сердечными приступами, то болезнью Альцгеймера. — Ангус говорил почти сам с собой. — И люди шепчутся, говоря друг другу: «А ты слышал о таком-то? Он умер. А о таком-то? Он тоже умер. Его увезли прошлой ночью…» — Шотландец покачал головой. — Альфонс, бедняга Альфонс…
Машина продолжала нестись на юг. Ангус наконец умолк.
Дэвид думал о своем деде и об орле, кружившем в небе Аризоны. Пустыня Сонора выглядела прекрасной, но Ангус был прав: это все равно пустыня, обитель суккулентов, хотя она может и ошеломлять иной раз своей красотой. Зеленая и желтая бушменская трава, бледные акации, розовые солончаки, пересеченные рубцами давно заброшенных железнодорожных путей. Эта пустота зачаровывала; а красные и фиолетовые дюны, внезапно возникавшие на горизонте, парили над подернутыми дымкой вечными песками как некое воспоминание… воспоминание о призрачных горах…
Дэвид смотрел вперед, и гнал машину, и думал о своем деде. О непонятном чувстве вины старика.
Desolada, desolada, desolada…
Три часа спустя солнце зашло, и красновато-пурпурное небо стало угольно-черным. Они молча и очень быстро продолжали нестись сквозь тьму. Сквозь настоящую, великую тьму пустыни.
Стало холодно.
Они молчали, вконец измученные. И слишком часто в свете фар вспыхивали глаза ночных зверей — лисиц, охотившихся на летучих мышей, пустынных зайцев. И снова тьма. А потом фары высветили большой указатель: «Шперргебит. Алмазная зона 1. Крайне опасно».
— Хорошо, — сказал Ангус. — Давай по той грязной дороге.
Еще двести метров — и внезапно вспыхнули ослепительные огни. Два вооруженных чернокожих появились из деревянной хибары с винтовками на изготовку. Они держали факелы; лица у них были мрачными и решительными.
— Стой!
Ангус высунулся из окна машины.
— Соломон, Тилак! Это я.
Последовало молчание.
— Ангус?
Теперь мужчины улыбались.
— Ангус, чертяка! Мы же могли тебя подстрелить!
— Извините, ребята… извините…
Охранники отступили назад. Один из них махнул выразительно рукой, позволяя им проехать дальше.
И они поехали. Проселочная дорога была усыпана камнями, машина отчаянно подпрыгивала. Хотя в серебристой темноте трудно было что-либо рассмотреть, но ландшафт вокруг вроде бы изменился. И воздух стал еще холоднее.
Дэвид вдруг осознал, что ощущает запах моря, соленый, пряный.
А потом перед ними и впрямь возник океан, злобно мерцавший в лунном свете. Дорога побежала по берегу, по голым серым камням. Впереди замигали огоньки, возникли силуэты каких-то строений, больших зданий, ощетинившихся антеннами, увешанных тарелками спутниковых приемников.
— Рудник Тамар Майнхед, — сообщил Ангус. — Остановись вон там.
Реакция на их прибытие последовала незамедлительно: сразу же откуда-то появились несколько мужчин; один из них был высоким и апатичным белым, в невероятно неуместном здесь сером фланелевом костюме.
— Натан, — очень устало произнес Ангус, — это Эми Майерсон и Дэвид Мартинес. Друзья. Те самые друзья Элоизы. Ребята, это Натан Келлерман.
Келлерман подошел ближе. Он был молод и хорош собой.
— Бог мой, Ангус, что с вами всеми случилось? Ты ужасно выглядишь!
— Ничего, мы в порядке. Просто нам нужно поспать. А так все хорошо…
— А Альфонс, где Альфонс? И другие? Какого черта случилось?
Ангус только пожал плечами, и они замолчали.
Натан Келлерман вскинул наманикюренную руку. Его тон стал резче. В голосе прорезался американский акцент.
— Ты привез те образцы крови? Последние образцы, Ангус!
— Да.
— Тогда… — Дэвид увидел, с каким облегчением улыбнулся Келлерман, продемонстрировав безупречные белые зубы, — тогда все в порядке. Идемте в дом. Робби, Антон! Помогите хорошим людям.
Они медленно шли через светлое современное здание — кабинеты, коридоры, спальни… Чистота и современность являли собой разительный контраст с нищетой пустыни. Дорогие плоские телевизоры, сияющая белая кухня. Стальные холодильники, наполненные пробирками. Это было похоже на перемещение во времени, на вывих пространства… как если бы посреди джунглей кто-то наткнулся на венецианское палаццо.
Дэвида и Эми проводили в спальню. Мартинес пытался выглядеть спокойным, обычным, пока они раздевались, но некая не оформившаяся до конца мысль тревожила его. Что-то такое… что-то… Что именно?
Он посмотрел на свои руки. Они что, действительно слегка дергаются? Может быть, они все же подхватили неведомую инфекцию… от растворившихся трупов…
Дэвид подумал о Мигеле, нюхавшем мясо. Он подумал о глазах Эми, о том, как она смотрела на него… не смотрит ли она до сих пор и на Мигеля так же, время от времени? Дэвида смущало отсутствие Элоизы. Эми подошла, поцеловала его.
— Эй…
— Элоиза, — сказал он. — Где Элоиза?..
— Понимаю, — ответила Эми. — Да, но… я так устала… Я даже думать не могу. Давай просто… завтра…
Она прижалась к нему. Испуганная, изможденная. Окно спальни выходило на море; резкий соленый ветер трепал занавески на открытом окне. Луна поднялась уже высоко. Она выглядела как белое лицо, зашедшееся в крике, лицо человека, которого пытают…
Они легли вместе в освещенной луной спальне и несколько мгновений лежали совершенно неподвижно.
А потом сразу заснули.
И Дэвиду снился сон.
Он ел какое-то мясо, вяленое, жилистое, жевал старательно; оно было очень жестким, с костями. Он находился в больничной палате своего деда, а за окном ослепительно сверкала пустыня. Потом дед приподнялся на кровати и на что-то показал; Дэвид обернулся, с полным ртом вяленого мяса, и увидел обнаженную девушку, стоявшую за окном, в пустыне. А потом он заметил: у нее нет рук. И рук у нее не было потому, что их жевал Дэвид. Он вдруг осознал, что он жует ее руки.
Дэвид проснулся, охваченный ужасом: была середина ночи, и он долго сквозь квадратное окно смотрел на все так же исходящую беззвучным криком луну, а Эми тихонько посапывала рядом с ним.
И, наконец, Дэвид обрел истину. Он все понял: понял, почему постоянно думал о своем деде. О стыде и чувстве вины деда. И почему он не мог этого объяснить, почему все это было покрыто тайной.
Он находился на запретных территориях своего ума, вошел в запретные земли.
Дед был каготом. Это было единственным объяснением, имевшим хоть какой-то смысл… это объясняло все. Дед был каготом. Неприкасаемым. Парией. Каннибалом из Гаскони. Каготы действительно были каннибалами. А Дэвид происходил от каготов. Он был одним из них.
Эми всхрапнула и повернулась; ее светлое обнаженное плечо выглядело в лунном свете мягким. Мягким, как какой-нибудь персик-суккулент.
40
Саймон стоял у телефона-автомата, рядом с кучкой изгнанных наружу курильщиков, прямо перед входом «А» лионского аэропорта. Над терминалами поднималось водянистое октябрьское солнце. Первые самолеты уже с ревом взлетали в серый утренний воздух.
Журналист взвесил на ладони блестящие евроценты. Он всю ночь пытался дозвониться до Сьюзи, но она так и не ответила. Не случилось ли с ней чего? Где сейчас Тим? Саймон чувствовал себя виноватым, его сердце то и дело покалывало. Он узнал кое-что от того монаха в Туретте, но стоила ли овчинка выделки? Где Сьюзи? А что, если там действительно что-то случилось? Она могла быть просто на работе… нет, еще слишком рано. И Коннор. Что с Коннором? Где его теща? И Тим?..
Эти вопросы просто рвали Саймона на части.
Ему больше некому было звонить. Он уже попытался связаться со своими родителями, но и их не оказалось дома…
Значит, выбора не оставалось. Он должен попробовать позвонить в полицию. Саймон уставился на монетки. Одна, Две, три…
Он опустил монетку в прорезь автомата. Прозвучал гудок. И журналист услышал:
— Старший инспектор Сандерсон.
Саймон заговорил не сразу, он сначала глубоко вдохнул пропитанный запахами аэропорта воздух — а потом начал стремительно задавать вопросы. Тим. Коннор. Сьюзи. Коннор. Тим.
Полицейский перебил его:
— Эй, Куинн, погоди, все в порядке. Я же здесь. Успокойся. Ты в телефоне-автомате?
— Да.
— Где именно?
Саймона тут же охватили сомнения.
— Во Франции. Я выбросил мобильник. Не мог ему доверять. Не знаю вообще, кому тут доверять. Объясни, что происходит?
Сандерсон ответил очень осторожно:
— С ними все в порядке. Твои жена и сын… они в порядке. Но… в общем, события развиваются. Прошлой ночью… Я сейчас как раз направляюсь к своему начальству. Мы тебе позвоним, обещаю, буквально через несколько секунд. Какой там номер?
— Развиваются? С Коннором действительно все в порядке? Они нашли Тима?
— Коннор в полном порядке. И Сьюзи тоже. Они как в сейфе, не беспокойся. Какой там номер?
Саймон постарался подавить свою тревогу; она подпирала к горлу чистой желчью, как будто его только что вырвало. Он заткнул второе ухо пальцем, чтобы ему не так мешал шум аэропорта, и продиктовал Сандерсону цифры.
— Жди там, — сказал старший инспектор. — Я сейчас переговорю с руководством. Жди на месте и… верь мне.
Саймон кивнул и повесил трубку. И уставился на скучный стальной телефонный аппарат.
— Bonjour…
Саймон резко обернулся. Учтивого вида француз в аккуратных джинсах и светло-бирюзовом кашемировом джемпере вежливо касался его плеча; мужчина показывал на телефон и улыбался.
— Je voudrais utiliser?[86]
— Иди отсюда! — прорычал Куинн.
Мужчина растерянно уставился на журналиста.
Саймон снова грубо произнес:
— Иди отсюда! Merci fucking beaucoup![87]
Француз отшатнулся, а потом буквально бегом бросился к терминалу.
Телефон зазвонил. Саймон схватил трубку.
— Отлично… — Голос Сандерсона звучал монотонно, однако в нем слышалось сочувствие. — Я просто хотел узнать последние новости у руководства.
— Так что там за… развитие событий?
— Я поставил дополнительную охрану к твоим жене и сыну. И к твоим родителям. Так что им ничто не грозит. Никто до них не доберется — ни эти религиозные чокнутые, ни кто-либо еще. Никто к ним не прикоснется! Мы тебе не звонили, потому что старались соблюдать крайнюю осторожность после случившегося…
Журналиста наконец осенило — он понял, к чему подбирается полицейский.
И Сандерсон тут же подтвердил его догадку:
— Это Тим, Саймон. Твой брат Тим. Почему ты нам раньше ничего о нем не рассказывал?
— Я… я не знаю… не знаю почему.
Саймон содрогнулся от страшной догадки и раскаяния. Тим. Ну конечно же Тим. Почему, в самом деле, он никогда не упоминал о Тиме? Ведь Сандерсон расспрашивал его о том, кто из членов его семьи нуждается в защите, а он не посчитал Тима. Почему? Потому что он стыдился брата? Или потому, что просто не желал думать о нем? Или потому, что думал: Тим и так в безопасности, так что это не имеет значения?
Возможно, все три объяснения подходили. Спутавшись в тугой узел отрицания и боли.
— Так что с ним случилось? Боже… Неужели он…
— Он жив. Но нам известно, что он исчез. Похищен.
— Откуда ты знаешь? Ты уверен, что он попросту не сбежал из больницы?
Сандерсон заговорил сухо и холодно:
— Извини. Нет. У нас есть доказательства. Они его схватили.
— Доказательства?
— Видео. Пришло по электронной почте. Те, кто его похитил, разослали это видео вчера поздно ночью. Твоей жене, твоим родителям… Если у тебя будет возможность, загляни в свою электронную почту. Сразу найдешь. Только лучше сразу же и удали.
— Не понял?
— Не смотри это, Саймон. Правда. Не смотри!
— Почему?
— Это… чертовски неприятно.
Приземлился какой-то самолет, заглушив все звуки бешеным ревом. Саймон плотнее прижал к уху трубку.
— Они его пытают?
— Нет. Но они… они его используют. Манипулируют эмоциями. И делают это весьма искусно. Они хотят надавить на твои чувства, на твое ощущение вины, добраться до тебя. Он — их средство добраться до тебя. Они явно знают, что ты встречался с Мартинесом и Майерсон. Они хотят все узнать, все то, что известно тебе. Так что Тим в большой опасности.
— И что мне теперь делать? Что я могу сделать? Вернуться домой?
— Нет.
— Тогда что?
— Спрячься.
Саймон снова прижал трубку поплотнее, желая убедиться, что он не ошибся, расслышал верно.
— Спрятаться? Ты хочешь, чтобы я… просто сбежал?
— Это ненадолго. — Голос Сандерсона зазвучал тише, ниже. — Мне очень жаль, но так уж обстоят дела. Ты сам решил сделать то, что сделал. Сам во все влез. И я тебя за это не виню. Но… ты начал охоту во Франции. И ничего не сказал нам. Не слишком умно. Однако ты сам сделал свой выбор. А теперь, если ты вернешься в Лондон, то, скорее всего, окажешься в опасности, здесь риск куда больше… Тебя могли засечь где-то по дороге; они будут ждать тебя, попытаются найти твоих родных. Твои друзья говорили, что мы не можем доверять французской полиции, так? Значит, все становится еще запутаннее. Кто знает, где у них есть свои люди. — Сандерсон громко вздохнул. — Я свое дело сделал: твои жена, сын, родители в безопасности, в этом я могу поклясться. Мои люди промаха не дадут. А ты совершенно ничего не можешь сделать, чтобы помочь нам найти Тима.
— Значит, мне остаться здесь?
— Да, пока оставайся там, пока мы со всем не разберемся. Сиди тихонько во Франции или в Германии, благодаря Шенгену ты проскочишь границы незамеченным. Заляг на дно. Очень, очень глубоко, черт побери. И ты сам понимаешь: звонить можно только из телефонов-автоматов.
— Да.
— Но ни в коем случае не используй дважды одну и ту же будку. Звони прямо мне, как раньше. И позвони Сьюзи вот по этому номеру…
Куинн похлопал себя по карманам и нашел авторучку. Записал номер.
Старший инспектор снова шумно вздохнул.
— Саймон… Мне очень жаль, что так случилось. Но ты должен… подготовиться к худшему. И не смотри то видео. Ты знаешь, насколько жестоки те выродки… Ладно, поговорим снова в ближайшее время.
В трубке щелкнуло, послышались длинные гудки. Саймон думал о своем брате.
«Я сделал собаку. Надеюсь, она тебе понравится…»
41
Утро было ярким, неописуемо ярким. Дэвида разбудил стук в дверь. Вошел какой-то служащий и сообщил:
— Мистер Келлерман хочет, чтобы вы вышли к нему на террасу.
Дэвид посмотрел на окно. Конечно, он снова заснул после того пробуждения, и спал долго и крепко; они с Эми даже не заметили, как за прозрачными занавесками поднялось солнце.
Он старался не думать о кошмарном сне, не вспоминать его. Но Эми что-то почувствовала.
— Ты как, в порядке?
— Да. Да, конечно… Слава богу, мы выбрались.
Эми посмотрела на него:
— Идем искать Элоизу.
Они переоделись в чистую одежду, которую нашли в шкафу, а потом вышли в коридор. Тут же появился служащий и проводил их наружу, на залитую солнцем террасу, выходившую на море.
Ветер утих. Пейзаж был суровым и первозданным: совершенно пустой песчаный берег, пара маленьких каменистых островков в заливе… Далекие крики чаек. Направо и налево тянулась каменистая пустошь, повторяющийся рисунок пещер и утесов. И только неуклюжая металлическая громада алмазного рудника вдали нарушала эту картину.
На террасе был накрыт стол. За ним уже сидел Ангус, попивая кофе. Рядом с ним находился Келлерман. На этот раз на нем был кремовый льняной костюм со сдержанным шелковым галстуком.
А напротив них за этим же столом сидела Элоиза.
Эми бросилась к ней и обняла молодую каготку.
Натан жестом пригласил Дэвида к столу, тут же добавив:
— Прошу, садитесь!
Они с Эми сели и оживленно заговорили с Элоизой. Девушка выглядела спокойной, даже счастливой. Или, по крайней мере, не испуганной.
Кто-то принес им корзинку булочек и печений, еще кофе, свежевыжатого сока и холодного мяса с хлебом. Роскошь стола просто ошеломляла: как будто они въехали в пятизвездочный отель, находившийся в аду.
Дэвид и Эми набросились на еду, внезапно осознав, насколько голодны. Но потом Дэвид вдруг перестал жевать, замер и вздрогнул… и сбросил кусок розового окорока со своей тарелки на сервировочное блюдо. И взял себе фруктов и хлеба. Не мяса. Мяса ему совсем не хотелось.
Келлерман наблюдал за ними, не спеша попивая кофе из фарфоровой чашки. Молчаливый, отчужденный. Рядом с ним на столе лежал очень плоский сотовый телефон. Дэвид никогда не видел таких тонких трубок.
Ангус заговорил первым:
— Ребята, пока что мы в полной безопасности. Я уже переговорил с Натаном. Бандиты не осмелятся сунуться в Шперргебит. Только не мимо охраны.
— Ты уверен?
Ангус бросил быстрый взгляд на Натана. Тот кивнул, рассеянно, что-то проверяя в своем телефоне.
Ангус снова повернулся к Дэвиду и Эми.
— Так что можете расслабиться. На денек-другой.
Дэвид чуть не рассмеялся — открыто, зло. Расслабиться?
Образ Альфонса не покидал его мысли, он как будто врезался в подкорку. Человек, сгорающий в огне, превращающийся в уголь, отчаянно кричащий в смертельной агонии… Мигель, вдыхающий запах человеческого мяса… Кагот-каннибал…
Но Дэвид, сгорбившись над тарелкой, все же закончил завтрак. Хлеб, фрукты, сыр. Никакого мяса. Они говорили о пингвинах и чайках, живущих на островах в открытом море. Элоиза сказала, что накануне нашла на пляже янтарь, прекрасный янтарь.
— И там полно агатов!
Ее энтузиазм трогал, ее детская непосредственность очаровывала, но Мартинес не мог справиться с собой. Слишком многое произошло, и он не мог просто болтать о пустяках. Не мог, и всё. Он отодвинул стул, встал и извинился, сказав, что ему нужно побыть в одиночестве. Эми посмотрела на него, Дэвид попытался улыбнуться, но это ему не удалось. И он не произнес ни слова — не хотел говорить о чем попало.
Мартинес пересек террасу и спустился по бетонным ступеням на пустой пляж. Большое промысловое судно стояло на якоре в заливе, за островами. Песок здесь был серым, он сверкал в горячих лучах солнца. Береговая линия, насколько мог видеть Дэвид, была пустынной, как лунный пейзаж. Берег запретных территорий. Последнее убежище каготов.
— Эй…
Мартинес обернулся. К нему подходил Ангус.
— Дэвид… с тобой все в порядке?
Последовала короткая болезненная пауза.
— Да, все хорошо.
Ответная улыбка шотландца была и грустной, и скептической. Он ничего не сказал. А Дэвид уже не в силах был терпеть. Он должен был признаться; ему необходимо было высказаться.
— Ангус… как ты думаешь, возможно ли… — Он с трудом выдавливал из себя слова. — Могу ли я оказаться каготом? Или потомком каготов, по меньшей мере. Я просто думаю о своем дедушке… о том, что он постоянно чего-то стыдился, чувствовал себя виноватым. Единственное, что приходит мне в голову, — он тоже был каготом. Может, узнал об этом в Гюрсе, как и Хосе Гаровильо.
Ученый вскинул голову, и его бледное, белое лицо в резком солнце Шперргебита показалось Дэвиду еще бледнее.
— А я все думал, когда ты доберешься до этой мысли.
— Ну, и?.. Что ты думаешь?
— На мой взгляд, у тебя нет никаких внешних признаков синдрома кагота, кроме разве что цвета кожи и волос.
— Я так и думал. Боже…
— Но это совсем не значит, что ты сойдешь с ума. Не наверняка. Ты можешь оказаться совершенно здоровым и нормальным, как Элоиза. А может быть, и нет.
— Боже…
— Единственный способ узнать все наверняка — генетический тест. Если хочешь, я могу это сделать прямо здесь, в лаборатории. Ты действительно хочешь знать?
Правда подступила совсем близко, и она была абсолютно невыносимой. Вроде анализа на СПИД, только бесконечно хуже. Мартинес уставился на море. На воде появилось небольшое судно, ближе, чем большое промысловое. Может, это был какой-нибудь ялик, принадлежавший местному рыбаку.
Дэвид глубоко вздохнул.
— Я сам не знаю, Ангус. Это… черт побери, это так трудно. Если честно, я жутко боюсь. Мне не хочется узнать, что я… такой же, как Мигель. Я боюсь, что не смогу вынести это.
— Само собой.
Мужчины пошли по пляжу, поддавая ногами камешки, тихо разговаривая. Ангус пребывал в меланхоличном, рассеянном настроении; он говорил о Семени Змея, о библейских сказках, о другой, специфической человеческой расе. Потом ученый вдруг остановился и уставился на грозное синее море, на маленькие островки вдали; он заговорил о ранних видах гоминидов — Homo antecessor, Homo habilis, потом о Homo floresiensis, карликовых родственниках современного человека.
— Знаешь, они могли дожить и до того времени, когда возникла письменная история. — Нэрн окинул взглядом каменистые островки. — В дрожь бросает, правда? Они могли затеряться где-нибудь на островах Индонезии — эльфы, хоббиты, гоблины…
Дэвид почти не слушал. Он молчал, погрузившись в размышления.
Ангус показал на волны:
— Морская крапива. Медузы.
В нескольких метрах от них в прибрежной воде роилось множество полупрозрачных красных существ, желеобразных, мелких и крупных; иные достигали почти метра в диаметре, их тела и щупальца пульсировали. Они были прекрасны, но вызывали отвращение. Ангус пустился в подробные объяснения:
— Chrysaora Hysoscella. Намибийские медузы. Они всегда напоминают мне вагины. Цветом и ритмом движения. Перистальтика женского оргазма. — Он присмотрелся к медузам. — Но вот сейчас они кажутся мне похожими на… плавающие раны. Большие плывущие красные раны.
Ученый посмотрел на Дэвида, а потом сказал со сдавленной яростью:
— Я ведь просто позволил ему умереть. Разве не так?
— Прости?..
— Альфи. Мой малыш Альфи. Я позволил им убить его… позволил этому долбаному Мигелю…
— Нет, Ангус. Ты пытался его спасти.
— Но мне это не удалось. Мне не удалось…
Шотландец в этот момент выглядел таким беззащитным, ранимым… вся его дерзость исчезла, и вечная улыбочка, и болтливая самоуверенность — тоже. Лицо ученого искривилось, он едва сдерживал слезы.
— Я пытался найти какой-то способ! Я действительно искал! Искал! И я нашел. Молочай. Но было уже слишком поздно.
Шотландец наклонился и поднял прекрасную морскую раковину, нежный завиток кремового фарфора, переливавшегося розовым и желтым, пронизанного тончайшими красными нитями. Нежный и хрупкий.
Раковина лежала на его ладони. Ангус смотрел на нее, задыхаясь, почти рыдая.
— Вот почему я верю в Бога, Дэвид. Я вот о чем. Посмотри на эту раковину. Почему она так прекрасна? Зачем? Это же совершенно бесполезная красота, разве не так? Но если ее красота бесполезна, почему она возникла? Кому от этого польза? В чем тут смысл? Это излишество. Эволюция сама по себе чрезмерна, в ней бесконечно много излишеств. Именно за это цепляются креационисты, отрицая эволюцию. Они говорят, что Вселенная не развивается по некоему сухому плану, что она возникла в результате творческого акта, она вдохновенна.
Шотландец уронил раковину и пинком отправил ее прочь. И снова Мартинес не знал, что сказать.
А Нэрн все продолжал говорить:
— Я ведь солгал тогда, Дэвид.
— О чем ты?
— Тогда, за завтраком, я солгал.
— В каком смысле?
— Я совсем не уверен, что охрана их остановит. Общество. Надолго — нет.
— Значит… — Дэвида охватил ужас при неизбежно возникшей мысли: Мигель по-прежнему неподалеку, он движется к ним… — И что нам делать?
— Натан слишком надменен, чтобы прислушаться. Я уже пытался все ему объяснить, но он не обратил на мои слова никакого внимания. Думает, что здесь, на запретных территориях, он неуязвим. Ничто ему не грозит в его династической крепости. Великий Келлерман Шперргебитский… Но о безопасности и речи нет. Да, корпорация Келлерманов могущественна, но не настолько, черт побери. Если охоту начала вся церковь… Захотят — найдут способ добраться до нас. — Подсвеченные солнцем волосы Ангуса казались почти медными. — Нам нужно разработать какой-то план. Потому что они придут. Завтра, через несколько дней, на следующей неделе… Они уже идут сюда, пока мы тут разговариваем.
Дэвид смотрел на матово-серебристое пространство моря. Шотландец, безусловно, был прав: они должны найти способ сбежать.
Горячий соленый ветер донес с островов крик чаек. На мелких островках суетились в своих колониях пингвины. Дэвид подумал о том, что этот мир — мир никому не ведомой красоты, красоты небытия, которую и не увидит никто и никогда: мертвый кварц и мерцающий пепел, агаты и зарывшийся в песок янтарь… чарующая пустыня и пустота.
Но с моря, из бурных волн, за ними кто-то наблюдал. Дэвид пристально всмотрелся. Так, на палубе небольшого суденышка, стоял человек. Человек с биноклем или чем-то в этом роде. Он стоял там и смотрел в бинокль… наблюдал за зданием на берегу.
Человек смотрел прямо на них. А рядом появился еще один, и он показывал рукой на берег.
Дэвид ощутил неприятный укол тревоги.
Он только теперь осознал: у человека, смотревшего на них, было в руках… какое-то приспособление. Нечто длинное, черное, направленное в их сторону.
Ангус уже бросился к большим камням в поисках укрытия.
— Беги! Дэвид, беги!
Но Мартинес застыл на открытом месте, задохнувшись от ужаса.
Над ними в чистом голубом небе промчался первый снаряд.
42
Первый взрыв был мощным и разрушительным: чудовищные черные клубы смешались с сатанинским оранжевым огнем. Столбы вонючего дыма поднялись к небу.
— Эми! Эми!
Дэвид приподнялся над внезапно возникшим валом песка: весь комплекс зданий исчез. На его месте встала гигантская стена огня; воздух содрогался от жара взрыва; вторичные взрывы добавили шума.
Ангус распростерся на песке рядом с Дэвидом и положил руку на плечо юриста.
— Это генератор… топливо взрывается. — Шотландец перевернулся на спину и посмотрел на море. — Та лодка… та ублюдочная лодка… черт…
Дэвид не мог оторвать взгляда от ужаса разрушения; у любого, кто находился в этом здании, не было ни единого шанса спастись. Никакой надежды. Никаких шансов.
Ангус бормотал:
— Должно быть, они пришли из залива Уолфиш… или от Оранжмунда…
— Дэвид?
Тихий голос. Молодой человек резко повернулся.
Это была Эми. Целая и невредимая. Стоявшая на песке. Дрожавшая с головы до ног.
А позади нее находился Натан Келлерман, чуть державшийся на ногах, истекавший кровью.
Эми упала в объятия Дэвида.
— Я как раз вышла, чтобы найти тебя… а потом меня сбило с ног…
Мартинес прижал ее к себе изо всех сил.
— Элоиза?.. — спросил Натана Ангус.
Келлерман ответил медленно, не разжимая зубов:
— Она осталась там…
Его костюм был сплошь перепачкан чем-то похожим на деготь; Дэвид не сразу осознал, что это кровь. На груди Келлермана была рана.
Тут к общему грохоту добавился новый шум. Автомобили. Вдоль берега неслись машины, из них прямо на ходу выпрыгивали мужчины в синих комбинезонах и крепких ботинках. Дэвид узнал Соломона и Тилака, охранников корпорации Келлермана. Натан махнул рукой:
— Стреляйте!
Мужчины повиновались; они вскинули винтовки, опустились на песок на одно колено и прицелились. Лодка уже удалялась, уходя на юг — дело было сделано. Но охранники все равно открыли огонь, и сухие звуки винтовочных выстрелов слились с ревом пылающего дизельного топлива и грохотом рушащихся конструкций. Запах горящего топлива и бензина был одуряющим, жирный черный дым затянул небо над океаном. Эми продолжала крупно дрожать. Ангус в чем-то убеждал Натана.
Дэвид почти не слышал, о чем они говорили. Он улавливал только отдельные слова: Амстердам, вертолет, резиновая лодка… Он смотрел на мужчин: Натан что-то протягивал Ангусу. Что-то похожее на пистолет и что-то еще — какой-то маленький черный бархатный мешочек. Натан Келлерман был смертельно бледен; кровь продолжала сочиться из его ужасной раны, окрашивая мягкий льняной пиджак в яркий цвет бургундского. Ангус же, напротив, казался полным энергии; он повернулся к Дэвиду и Эми.
— Натан хочет, чтобы мы воспользовались лодкой компании, она вон там, — он показал, где именно. — Келлерман прав. У нас действительно есть шанс, так давайте его не упустим.
— То есть?..
Ангус широким жестом показал на большое черное облако дыма, теперь опускавшееся к пляжу.
— Час или два они ничего не смогут рассмотреть. А охранники не позволят им приблизиться.
— Но Элоиза… — возразил Дэвид.
— Она мертва, Дэвид. Натан не стал бы лгать. Идемте! Они будут следить за дорогами запретных территорий, но если мы доберемся на лодке до Людерица…
Эми очень тихо сказала:
— Мне кажется, он прав.
Нэрн уже перебросил через плечо вялую руку Натана, помогая ему идти. Дэвид и Эми переглянулись и пошли за ними, ошеломленные и испуганные. За их спинами раздались новые винтовочные выстрелы.
Совсем недалеко, в следующей крохотной бухте, был устроен небольшой причал, и возле него стояла резиновая быстроходная лодка с мощным на вид мотором.
Ангус забрался в лодку и помог своему благодетелю. Но голова Натана уже падала вниз, он не в силах был держать ее прямо. Эми поспешила за ними, и Дэвид не стал отставать. Маслянистый дым взрывов скрыл солнце, превратив день в сумерки. Шотландец дернул шнур, мотор взревел, и мгновение спустя они уже неслись вдоль побережья.
Пылающие развалины таяли вдали. Некоторое время все молчали, наблюдая за тем, как исчезает ужасающая картина, по мере того как лодка уносила их по голубым пенистым волнам. Они миновали заброшенный алмазный рудник: скелетоподобные стальные конструкции, торчавшие над утесами.
Натан уже едва говорил, он лежал на дне лодки, его лицо покрылось потом.
— Вот ведь… Элоиза погибла. Последняя из каготов.
— Да. — Ангус с сожалением улыбнулся. — Они победили, Натан. От Мигеля проку никакого.
Последовала тревожная пауза. Затем Келлерман протянул руку и коснулся запястья Ангуса. Жест был осторожным, грациозным, утонченным.
— Ангус… есть еще один путь.
— Какой?
— Найди результаты опытов Фишера.
— Что?!
Сверкающие зеленые глаза ученого шотландца уставились на полное боли, искаженное лицо Келлермана. Дэвид придвинулся поближе, чтобы слышать эту странную беседу.
— Ты что, знаешь, где они? — спросил Ангус.
— Нет. Но… это может знать Дреслер. Может знать. Он — последняя надежда. Моя последняя надежда… Я думаю, он знает, где прячут документы… но… будет довольно трудно заставить его говорить. — Келлерман закашлялся, прикрыв рот рукой, а когда убрал ее, ладонь была покрыта кровью. Миллионер откинулся на спину и уставился в небо; нечто вроде смирения светилось в его глазах. Келлерман смирялся с небом и морем. А потом его размытый взгляд снова обернулся к Ангусу. — Да, я думаю, Дреслер знает. И мне всегда казалось, что я смогу вырвать из него эти сведения, если приду в полное отчаяние, но для этого… тебе придется… подвести его к самому краю. Мне не хотелось рисковать раньше времени, он был слишком полезен… — Новый приступ тяжелого кашля. Поморщившись, Келлерман продолжил: — Но теперь… какое это может иметь значение? Попытайся. Терять уже нечего. — Лежа на солнцепеке, он обливался потом. — А мне конец, Ангус. Я свою дорогу прошел.
Нэрн схватил его за руку:
— Нет, держись, Натан!
— Мне конец, Ангус. Посмотри.
Келлерман распахнул пиджак таким жестом, каким проститутка сбрасывает с себя пеньюар; огромное блестящее пятно крови, похожее на красную морскую медузу, пульсировало на его груди. Дэвид и Ангус в ужасе уставились друг на друга. Ученый отвернулся, пытаясь замедлить ход лодки; но не успел мотор сбавить обороты, как Келлерман придвинулся к борту.
Дэвид машинально воскликнул:
— Нет!
Но было уже слишком поздно. Миллионер перевалился через резиновый борт и соскользнул в воду, в холодные прибрежные воды Намибии. Дэвид застыл от ужаса. Белое лицо Келлермана выступило печальным пятном в морской синеве.
Ангус наконец остановил лодку, но Натан уже уходил в глубину, скрываясь под волнами. Над ним поднимались легкие дымные клубы крови.
И тут же откуда ни возьмись появились акулы. Над водой заскользили их черные спинные плавники, злобные и стремительные. Дэвид заметил мелькнувшие на мгновение зубы, уже покрытые кровью. Алчные рыбины яростно рвали на части неподвижное, окровавленное тело, утаскивая его все глубже. Дэвид был не в силах отвести взгляд — зрелище завораживало… Акулы отрывали руки и ноги, как в какой-то непристойной детской игре. Тащили и дергали…
Келлерман, казалось, принял свою чудовищную смерть как должное, он просто позволил разорвать себя в клочья и утащить в глубину. Дэвид смотрел и смотрел в сапфировые волны; акулы продолжали вытанцовывать вокруг смутно видимого темного пятна. На поверхность всплыли пузыри, пятна крови… пена волн окрасилась розовым цветом.
И это был конец.
Ангус не произнес ни слова. Он просто снова запустил мотор, и они понеслись по волнам, под величественным африканским солнцем.
Они плыли мимо пустынных бухт. Морские птицы кружили над ними, их крики звучали как похоронный звон. Дэвид смотрел на черные скалы и желтые пески. Он думал о крови в воде; он думал о человеке, которого разорвали заживо акулы.
А потом шотландец заговорил:
— Все данные, все образцы крови были в том здании. И Элоиза. Все пропало. А он ведь думал, что там мы будем в безопасности… — Ангус покачал головой. — Келлерман так глупо, глупо ошибался… Бедняга. — Шотландец повернул лодку, направляя ее ближе к берегу. — Скоро мы будем в Людерице.
Дэвид задал вопрос, который просился на язык:
— А потом что?
— У нас будет несколько часов передышки. Но власти Намибии наверняка вмешаются во всю эту историю. И сразу станет известно, что мы сбежали.
Эми сказала:
— А мы застрянем в Людерице. И что с нами будет?
— Есть способ сбежать.
— Как именно?
Ангус почти спокойно объяснил:
— Перевозка алмазов. Натан мне напомнил. Корпорация Келлерманов отправляет алмазы в Амстердам самолетом, через день. Как «Де Бирс» отправляет свои в Лондон. Это их рабочее правило. И маршрут проходит через Виндхук.
Дэвид попытался возразить:
— Но…
— Я могу посадить тебя в вертолет. Они меня знают. А паспортный контроль в основном осуществляется самой корпорацией. Ты приземлишься прямо на крыше штаб-квартиры корпорации в Амстердаме. Вернешься в Европу. Домой, живым и здоровым.
— А ты?
— А я — нет. Мне тут еще кое-что надо сделать.
— Ты просто сдаешься?
Рыжеволосый ученый задумчиво смотрел на залитое солнечными лучами побережье.
— А чего ты от меня ожидаешь? Чтобы я вернулся и начал все сначала? Я все сделал. Со мной покончено. Только мое глупое самолюбие заставило меня влезть по колено в это дерьмо. Я думал, что смогу повторить открытия Фишера, найти его данные, а потом получить Нобелевскую премию… Бог знает, что я вообще думал. Это было возможно. С помощью Натана. Но разве есть награда, которая может возместить мне открытие чего-то столь апокалиптического? Того, что гарантирует начало войны? Я был просто идиотом. Деление на расы — это проклятие, проклятие, наложенное на человека Богом. А у Келлермана были свои мотивы. Читай Третью книгу Моисея[88]. Я был черт знает как глуп!
— О чем ты говоришь?
— Сам подумай. Из-за моего самолюбия убит Альфонс, Элоиза… Натан. Вас обоих тоже чуть не убили. Фазакерли мертв… Хватит, черт побери. Я лучше переверну эту страницу и начну с чистого листа. Могу начать играть в гольф.
— Но я не хочу сдаваться, — проговорила Эми.
Мужчины уставились на нее. Светлые волосы девушки растрепал горячий, соленый ветер.
— Помните, что говорил Хосе? — Она посмотрела сначала на Ангуса, потом на Дэвида. — Когда сказал, что знает, что случилось с евреями… что ключ именно в этом… так, Ангус? В чем бы ни состоял этот секрет, ты двигался именно к его разгадке. Это объяснение того, почему евреи погибали в холокосте, разве не так? Элоиза нам сказала, что ты ей что-то говорил.
Ангус, не говоря ни слова, продолжал вести лодку. Но Эми явно была настроена решительно и настойчиво продолжила:
— Это огромная тайна, ведь так? Зачем был холокост? Ведь именно к этому все ведет, да или нет?
Ангус продолжал хранить молчание, но Эми уже было не остановить.
— Скажи, что это так, Ангус! Расскажи мне! Гитлер ведь вполне мог использовать евреев в качестве рабов, и у него были планы поселить их всех отдельно, где-нибудь в России или в Африке, разве нет? Но потом он внезапно передумал. — Эми во все глаза смотрела на Ангуса. — Он вдруг решил, что должен их уничтожить. Всех до единого! Даже если бы это помешало германским военным планам, даже если бы это повредило им! Почему он это сделал?
Ангус еще какое-то время молчал, потом вздохнул:
— Да. Что-то в этом роде. Это объясняет причины холокоста. Возможно. Кто знает… Я лишь мельком упомянул об этом, говоря с Элоизой… — Лицо шотландца помрачнело. — Потому что я жалел ее. Последняя из всех каготов в мире. Она так страдала. Она заслуживала того, чтобы получить хоть какое-то объяснение происходящему.
— И что же это? Что именно обнаружил Фишер?
— Да не могу я тебе сказать, чтоб тебя!.. Потому что у меня нет доказательств! А я никогда ничего не утверждаю, не имея фактов. Я ученый! — Нэрн бросил на Дэвида и Эми злобный взгляд. — Почему бы тебе не отстать от меня? А? Мой друг мертв, и кровь Элоизы тоже на моих проклятых руках. Хватит. Хватит!
— Так ты не расскажешь?
— Нет! Потому что я не знаю наверняка! Я не повторял этих чертовых экспериментов Фишера. Но… но если Келлерман был прав, есть человек, который, возможно, сумеет мне помочь. Вот об этом и говорил Натан.
То, как менялось настроение у шотландца, просто приводило в замешательство. Теперь он смотрел прямо вперед. Дэвид проследил за его взглядом вдоль сурового побережья. Он увидел вдали здания, церковный шпиль, ярко раскрашенные маленькие домики. Еще один сюрреалистический германский городок пристроился на пустынном берегу, поглядывая на суровое море.
Дэвид вернулся к прерванному разговору.
— Что за человек?
Ангус убавил скорость лодки, потому что они уже приближались к порту. И наконец ответил:
— Нацист. Больной раком старый нацист по имени Дреслер. Он работал с Фишером в Гюрсе. Знал деда Келлермана. И, как вы слышали только что, находится здесь. Дреслер знает.
— Объясни, пожалуйста, — попросила Эми. — Знает что?
— Герр доктор Дреслер сбежал сюда из Франции в девяностых годах. Каким-то образом ему удалось остаться нераскрытым, незамеченным. Уж как — не знаю. И он приехал сюда. Людериц — отличное место для того, чтобы спрятаться, он в миллионе миль от ближайших поедателей картофельных салатов. И он ведь уже был знаком с Келлерманами.
— И?..
— Вспоминай. Перемотай назад. Вернись в прошлое.
— Прости?..
— В 1946 году Евгений Фишер связался со своими старыми друзьями, Келлерманами, и рассказал им о том, что обнаружил в Гюрсе. И, естественно, Келлерманы… были очень взволнованы известием о том, что открыли там немцы. — Лодка шла все медленнее. — Но у Келлерманов не было доказательств, не было реальных данных. Поэтому они ждали, пока генетика не начнет всерьез развиваться в Германии… ждали шестьдесят лет. — Ангус коротко улыбнулся. — Они весьма дальновидны, эти евреи. Ждали еще со времен вавилонского плена, можно и так сказать. Ну, как бы то ни было, Келлерманы надеялись на стэндфордский проект изучения генетических различий, но его свернули. — Нэрн моргнул, глядя на воду, плескавшуюся у борта лодки. — Потом был запущен проект «Карта генов», и в него перешли те же ученые. Келлерманы хотели, чтобы они повторили эксперименты Фишера. А потом Дреслер уехал сюда, в девяностых, и он мог помочь, потому что многое знал. Потом начались тесты крови и так далее. Исследования двигались в определенном направлении. И постепенно дело дошло до каготов. — Он посмотрел на Дэвида.
— Но… как Дреслер может помочь нам теперь? — спросила Эми.
— Может… если то, что сказал Натан, верно, то Дреслеру известно также и то, что врачи Гюрса делали после войны. Он многое знает.
— После войны? О чем это ты?
Нэрн пожал плечами.
— Ангус!
Шотландец еще больше замедлил ход лодки. Над ними кружили морские птицы. Ангус посмотрел на Эми, на Дэвида.
— Нацисты открыли ДНК — уже во время войны.
Мартинес был настолько поражен, что ему показалось, что лодка уходит у него из-под ног.
— ДНК?! — выдохнул он.
— Ну да. Они давно уже ее исследовали. Фишер и другие; Фишер получил первые намеки в Намибии, изучая койсанские племена и бастеров. Потом его догадки были подтверждены в Гюрсе. Но не это главное. То, что сделали нацисты, то, что они вообще обнаружили существование ДНК, хромосом, — это всего лишь вопрос технологии. Потому что важно другое: что они узнали потом, изучая разнообразие человеческих генов… вот что самое важное. Это было открытие настолько… — Нэрн снова пожал плечами. — Я хочу сказать, якобы узнали, потому что у меня нет доказательств и, возможно, никогда не будет… но это открытие якобы было настолько сокрушительное, что привело к холокосту. И настолько гениальное, что даже после войны тем нацистским докторам позволили продолжать работу.
— Я все равно не улавливаю картину целиком.
Ангус нетерпеливо фыркнул, но все-таки объяснил:
— В конце войны нацистские врачи из Гюрса заключили некую сделку ради своей жизни и свободы. И ценой этой сделки были результаты работы Фишера. По слухам, они где-то спрятали все данные тех исследований… в каком-то совершенно недоступном месте. Я полагаю, где-то в Европе. Возможно, в Центральной Европе, когда союзники начали громить Третий рейх. — Ученый посмотрел на мелеющую воду под лодкой и продолжил: — Союзники не могли посадить их в тюрьму, не могли их преследовать, не говоря уж о том, чтобы казнить. Потому что в таком случае кто-то обнародовал бы те результаты.
Эми перебила шотландца:
— Ладно, те доктора остались на свободе. Их даже не преследовали. Фишер стал… ну да, профессором во Фрайбурге, в 1945 году, несмотря на все то, что он сделал.
— Да.
— И этот доктор из Людерица — тоже? Он тут при чем?
— Ну, если бедняга Натан сказал правду, Дреслер знает, где спрятаны результаты исследований в Гюрсе.
Дэвида охватило волнение. Ангус вскинул руку.
— Понимаю, все это очень волнительно… Но помните, что нацисты должны были спрятать все документы в каком-то совершенно недоступном месте. Ведь уже многие пытались их найти. Впрочем, кто знает… — Он немного помолчал. — Может, нам повезет?
Дэвид удивленно посмотрел на него.
— Нам? Ты собираешься продолжать?
Шотландец запустил пальцы в рыжие волосы. Его глаза вспыхнули.
— Ладно, признаюсь, попался. Ты умный коп. Понимаешь, задето мое самолюбие. Я заинтригован. А вдруг Дреслер действительно знает? Тогда и я хочу знать. Я пять лет потратил на это и хочу знать, верны ли были мои догадки насчет евреев, Гитлера, холокоста, бастеров… — Нэрн наклонился и забросил веревку на столбик, когда лодка ударилась о причал. — Но сначала мы должны повидать этого Дреслера. И вышибить из него правду.
43
Саймон нервно шагал по булыжной улице с крутым уклоном. Осень в Баварских Альпах была тихой. Лавочки с товарами для горнолыжников были закрыты; туристов было мало, и в основном только любители пеших прогулок топтались возле больших карт, трепетавших на ветру. День стоял холодный, серый, и крикливо-яркие, раззолоченные улицы были в основном пусты.
Но Саймон все равно нервничал. Он бы предпочел оказаться в большом городе, в крупном отеле, где никто никого не замечает; вот только он не осмеливался воспользоваться своей кредитной картой или показать паспорт; поэтому предпочел в качестве компромисса забраться сюда, в Гармиш-Партенкирхен. Они с Сьюзи отдыхали здесь несколько лет назад.
Сьюзи.
Сьюзи и Коннор.
Сьюзи, и Коннор, и Тим.
Куинн поселился в холодном строгом коттедже, в уродливом районе новой застройки, в тишине Альп, как раз над маленьким городком. Но постоянно, в течение всего дня, каждую минуту он ощущал потребность в информации. Отчаянную потребность.
А потому Саймон половину времени проводил в городке, звоня из телефонов-автоматов Сандерсону или Сьюзи, или сидя в интернет-кафе, где над входной дверью звякал колокольчик, а на стене висели красные флажки какой-то футбольной команды.
Саймон здоровался с девушкой, сидевшей у кассы; она улыбалась, вежливо кивала, узнавая постоянного посетителя, и тут же возвращалась к своему журналу. Выбрав терминал среди других пыльных, неиспользуемых терминалов, Саймон открывал свою электронную почту. Он сам ощущал собственную нервозность, как дурной привкус во рту. Есть ли какие-нибудь новости о Тиме? От Тима? О Дэвиде и Эми? А что там происходит с его женой и сыном?
Интересное сообщение в почте было только одно. То есть непрочитанных писем было два, но только одно, которое Саймон действительно хотел прочитать. А другое ему открывать не хотелось. Потому что он знал — это сообщение о Тиме, от тех, кто похитил его. То самое, о чем предостерегал его Сандерсон.
«Не смотри это, Саймон. Правда. Не смотри».
Поэтому вместо того журналист щелкнул мышкой по значку второго неоткрытого письма. Оно оказалось от Дэвида Мартинеса. Саймон прочел его дважды, усваивая весьма важные сведения, записывая кое-что в свой блокнот. Потом встал и подошел к девушке у кассы. Та разменяла ему деньги, он немного доплатил.
Дверь на улицу распахнулась во всю ширь. Саймон вышел и уставился на магазинчики и домики, за которыми высились серые Альпы. У них были снежные лица, белые и торжественные; горы походили на старых присяжных, оценивавших степень его вины.
Тим. То сообщение насчет Тима…
Электронное письмо о Тиме…
Это уже становилось невыносимым. Саймон целых три дня удерживался от того, чтобы открыть сообщение, и каждый раз это становилось все труднее и труднее; он сопротивлялся желанию открыть письмо и посмотреть, сопротивлялся ужасному искушению — его терзало желание знать, вынести даже самое худшее.
И больше сопротивляться он не мог.
Развернувшись на пятках, журналист вернулся в кафе и, смущенно кивнув девушке, подошел к терминалу, уселся поудобнее и открыл свою почту. И щелкнул мышкой по значку того самого письма.
«Тема: Твой брат».
Саймон собрался с силами. Во рту у него пересохло.
В сообщении от Сандерсона не было ничего, кроме маленькой иконки. Картинка была связана с коротким видео. Сначала изображение было неустойчивым, потом прояснилось, и Саймон увидел Тима, сидевшего на стуле. На его полном лице блуждала осторожная улыбка. Нервная.
Это была видеосъемка Тима…
Рядом с братом Саймона стоял человек в маске.
И он заговорил:
— Все правильно, Тим, смотри в камеру. Поздоровайся со своим братом.
— Привет!
Тим помахал рукой. С волнением.
Человек в маске кивнул:
— Ты хочешь что-то ему сказать?
Улыбка Тима дрогнула. Наверное, он снова слышал голоса. Брат говорил сквозь них:
— Извини, Саймон, и привет. Как ты там? Мне очень жаль, что эти люди меня забрали, да, нас забрали. Совсем нехорошо. Что я могу сказать? Привет.
Человек в маске снова подсказал:
— Хорошо. А еще что, Тим? Что еще ты хочешь сказать Саймону?
— Собака. Гасги. Они хотят, чтобы я упомянул об Августусе. Ты помнишь, как мы ходили с Августусом к ручью, и мы ведь тогда были счастливы, да? Конечно же. Потому что я понимаю почему и делаю все вот так.
Тим тяжело сглотнул. Человек в маске ждал. Безумный взгляд старшего брата Саймона смотрел прямо в камеру.
— Саймон, ты можешь сказать маме: мне жаль, что я так сделал, колоть ее ножом было неправильно. Очень плохо, я понимаю. Мамуля?
К глазам Саймона подступили слезы. Он с трудом удержал их.
Лицо его брата было полным и беззащитным.
— Я просто хотел сказать, я помню и футбол тоже, и я уверен, нам было хорошо, когда мы были детьми, а я потом все испортил, ну да, потому что это моя вина моя вина моя вина… и если… жалко маму. Скажи маме, я виноват, Саймон, ладно? Спасибо.
Человек в маске наклонился поближе к Тиму и сказал довольно громко:
— Тим, ты знаешь, почему мы здесь? Почему ты говоришь с Саймоном?
Тим отрицательно покачал головой.
— Я поехал в Оксфорд, а потом все стало по-другому. Поверь мне, я, несомненно… что-то произошло. — Тим повернулся и посмотрел на человека в маске. — Я не хочу больше. Почему мы здесь?
— Мы здесь потому, что твой брат не хочет с нами разговаривать. А мы хотим, чтобы он нам все рассказал. Выдал нам Дэвида Мартинеса и Эми Майерсон. Сказал, где они находятся. Сообщил нам, что именно ему известно. Сдался бы нам… или ему придется страдать так же, как вот-вот начнешь страдать ты.
Тим изо всех сил постарался сделать храброе лицо и улыбнуться. Он пытался улыбаться ради Саймона.
Это было невыносимо.
Еще один человек появился за спиной Тима. У него в руках были веревка и какая-то палка. Веревка с петлей и палка?..
Первый мужчина спокойно заговорил из-под маски… в его речи слышался едва уловимый акцент.
— Итак, Тим, мне очень неприятно, что приходится все это делать, но это все из-за твоего брата, он совсем о тебе не заботится. Так что попрощайся с Саймоном, с твоим братом, которому нет до тебя дела.
Второй мужчина набросил гарроту на шею Тима.
Брат практически сразу же начал задыхаться. Его ноги забили по полу, беспорядочно дергаясь, пятки скребли по доскам. Гаррота все затягивалась, сильнее и сильнее. И лицо Тима стало сначала розовым, потом красным, потом багровым, почти синим…
Бесстрастный палач, стоявший за спиной Тима, продолжал затягивать гарроту, не говоря ни слова. А потом убийца вдруг ослабил веревку, и Тим судорожно вздохнул, еще раз вздохнул… Он был еще жив. Тим был пока еще жив…
Первый мужчина наклонился к объективу камеры.
— В следующий раз мы убьем его.
Экран погас.
Саймон долго смотрел в черноту. Потом отодвинул стул и отвернулся, готовый уйти — уйти куда угодно, лишь бы это было другое место. Он бросил несколько евро озадаченной девушке и вышел на булыжную мостовую. Ему нужен был свежий воздух, чтобы не закричать во все горло.
Тим…
По главной улице неторопливо ползла полицейская машина. Она взбиралась вверх. Вверх, в сторону шале Саймона.
Куинн посмотрел ей вслед. Потом вспомнил то, что сообщил ему Дэвид. И, развернувшись в другую сторону, бросился бежать.
44
Прямо перед ними красовалась странная картина Людерица: строгие лютеранские церкви стояли вдоль грязных дорог, бежавших мимо весело разукрашенных вилл района Блэк Форест и неряшливых рабочих таверн. Колючая проволока охраняла деревянные пирсы, торчавшие из холодных синих морских волн.
Дэвид шел за Ангусом, который быстро шагал вперед, потом повернул налево и взмахнул рукой:
— Вот — дом Дреслера…
Перед ними красовался один из наиболее ярко раскрашенных коттеджей; его стены просто ослепляли красным цветом. На пустой дороге стояли большие белые джипы. Солнце сжигало краску на металле.
Ангус постучал в дверь, подождал. Правую руку он держал во внутреннем кармане. Дэвид знал почему. Нэрн постучал снова, громче и резче, снова подождал.
Изнутри послышался шум. Дверь медленно приотворилась, наружу выглянул очень старый человек. Ангус мгновенно выхватил пистолет Натана, просунул его сквозь щель и грубо, злобно втолкнул старика в его собственную прихожую.
Ствол пистолета упирался в оранжевый вязаный жилет старика. Эми и Дэвид переглянулись. Тревожно и испуганно.
Но Ангус не выказывал никаких признаков страха или сомнений. Он заговорил, выплевывая слова:
— Дреслер, слушай меня внимательно. Все мертвы, все до единого, черт побери. И я хочу знать, где вы, ребята, спрятали результаты работ Фишера. Узнать прямо сейчас. Так что говори.
Старый нацист отшатнулся, но Ангус навис над немцем и прижал его к стене. Дреслер уставился на пистолет, потом на Ангуса, потом на Дэвида. И тут же несколько раз нервно моргнул, как будто Дэвид показался ему куда страшнее, чем оружие.
— Дреслер! Говори, черт тебя побери, говори сейчас же!
Тот что-то невнятно пробормотал. Ангус снова прорычал:
— Говори!
— Ich weiss es nicht nein nein… [89]
Изо рта старика вытекла струйка слюны. Он был так напуган и потрясен, что не владел собой.
Дэвиду захотелось вмешаться. Сцена была слишком отвратительной и бесчеловечной… Он огляделся по сторонам, пока Ангус кричал и ругался. Они стояли в вестибюле, как будто перенесенном сюда прямиком из альпийской Баварии. На стене тикали самые настоящие часы с кукушкой. У двери в специальной подставке стояло несколько старинных прогулочных тростей с желтыми костяными ручками.
И… портрет Папы Пия X?..
Возможно, Нэрн и был прав, выбивая из нациста признание.
Старый рот Дреслера то открывался, то закрывался. Ангус наклонился ближе к немцу. Дэвид подумал, что пистолет, наверное, причиняет старику боль, ведь его дуло слишком крепко прижималось к груди немца.
— Где результаты Фишера? Я сейчас выстрелю!
Старик неловко оттолкнул Ангуса. Шотландец от неожиданности нажал на спуск, и пуля пролетела в нескольких миллиметрах от цели… Чуть-чуть не попав в лицо доктора. Почти попав.
Эми задохнулась. Дэвид отвернулся, внимательно осмотрелся вокруг. И кое-что заметил: маленькую записную книжку на столике рядом с телефоном. Маленькая записная книжка с какой-то надписью от руки на обложке. Что это было такое? Что-то мелькнуло в памяти Дэвида. Что-то… что-то…
Он повернулся к немцу.
Дреслер от страха упал на колени.
— Послушай-ка, герр доктор! У тебя две гребаные минуты, не больше. Где результаты? — Ангус снова вскинул пистолет и прижал его дуло к плечу старика. — В следующий раз я прострелю тебе руку, вот здесь, над лопаткой. Останешься без руки, это точно.
Доктор сильно дрожал.
— Да! Ладно, ладно… — Он вскинул покрытую коричневыми пятнами руку. — Акулий остров.
— Где это?
— Я же говорю. Акулий остров. Поезжай туда и увидишь. — Дреслер все так же дрожал. На его штанах появилось влажное пятно. От страха его мочевой пузырь не выдержал.
— Акулий остров? Что это значит? И почему там? Никакого смысла не вижу. — Ангус крепче прижал пистолет к плечу немца. — Рассказывай дальше!
— Устье… устье… — старик все дрожал и дрожал. Он закрыл глаза, как человек, которого вот-вот должны убить, и что-то забормотал себе под нос. Что это было? Молитва? Похоже было на то.
А потом Дреслер снова открыл старые печальные глаза. Посмотрел на Дэвида, потом на Эми. И покачал головой:
— Я не верю в это… я не верю тебе.
— Что?!
— Ты… вы не убьете меня. У вас нет на это храбрости. Нет.
Ангус крепко выругался и еще раз выстрелил, на этот раз в пол. Пуля вонзилась в доски в нескольких сантиметрах от ноги старика, вышибив фонтанчик щепок.
Но нацист уже как будто слегка опомнился. Он покачал головой, и в его глазах вспыхнул угрюмый вызов. А может быть, это была просто другая форма страха, может быть, он куда сильнее боялся заговорить, признаться, потому что знал, что случится с ним потом…
— Ангус… — заговорила Эми, — но ты не можешь просто так взять и застрелить его!
Нэрн опять выругался и взмахнул пистолетом.
— Но Келлерман сказал, чтоб ему… Натан сказал…
Они зашли в тупик. Застряли на месте. Ангус продолжал направлять пистолет в голову Дреслера, но Дэвид видел, что немец был прав — шотландец не сможет этого сделать. Не сможет хладнокровно выстрелить. Не сможет убить этого печального старика с паучьим почерком.
Паучий почерк? Машина памяти вдруг заработала, как хорошо смазанный механизм, и кусочки головоломки начали вставать на свои места. Дэвид громко вздохнул. Ну конечно. Записная книжка.
— Стой!
Все разом посмотрели на него.
— Он меня знает, — объяснил Дэвид.
— Что?! — выдохнул Ангус.
— Я все понял. Этот тип, Дреслер… он знает меня. Он должен был меня узнать.
Эми попыталась что-то сказать, но Дэвид ее перебил:
— Ангус… где жил этот мужик — до того, как приехал в Людериц?
— Во Франции. В Провансе.
— Вот! То самое! — Дэвид яростно махнул рукой в сторону коленопреклоненного нациста. — Он узнал меня сразу, как только я переступил порог его дома. Я это понял по его глазам. — Мартинес шагнул к Дреслеру и наклонился к самому его вспотевшему лицу. — Ты меня знаешь, разве не так? Потому что ты встречался с моим отцом. Он тебя нашел. Кто-то в Стране Басков, кто-то из выживших в Гюрсе рассказал отцу о тебе, сообщил твое имя, и отец отследил тебя до Прованса. — Дэвид еще ниже наклонился к явно струсившему старому немцу. — И пригрозил рассказать всем о твоем прошлом… и потому ты признался, или как-то еще помог ему… я ведь прав, черт побери, разве нет?
Дреслер отрицательно тряс головой. Молча. Решительно и молча. Но его молчание выглядело неубедительным.
— Думаю, ты прав, — прошептала Эми. — Только посмотри на него…
Дэвид не нуждался в поощрении.
— Это единственное, что действительно имеет смысл. Кто-то должен был рассказать моему отцу о том монастыре, кто-то, кому была известна тайна. Кто стал членом Общества Папы Пия X… он должен был знать, где хранится архив. И это был ты. Ты рассказал моему отцу. Поэтому и сбежал в Намибию, сюда… в это место…
Дэвид резко шагнул к столику с телефоном, схватил записную книжку и помахал ею перед лицом Дреслера.
— Я узнал этот почерк! Крошечные буковки, точно такие же! Это ты написал что-то на обороте карты моего отца. Что, не так?
Дреслер снова затряс головой. И снова никого этим не убедил.
Ангус откровенно разволновался.
— Отлично! На том и порешим. Ты должен быть прав. Давай сложим вместе все части…
— Как?
— Акулий остров. Так сказал этот урод. Акулий остров.
— Где это?
— Да немного дальше по этой же дороге. У рыбацких причалов.
Нэрн замахнулся на Дреслера. На секунду могло показаться, что шотландец ударит согнувшегося, безмолвного нациста по голове рукояткой пистолета. Но Ангус, похоже, передумал. Он с отвращением плюнул и опустил оружие.
— Идемте! У нас не так много времени, Мигель может быть где угодно, а вертолет улетает через два часа…
Они бросились к двери, оставив Дреслера дрожащим и бормочущим что-то в прихожей. Нацист стоял на коленях в содержимом собственного мочевого пузыря.
Жестокое дневное солнце было подобно суровому наказанию, злобной каре. Ангус показал на юг. Они побежали по пыльной дороге, которая раздваивалась, одной линией уходя к причалам.
На повороте двое чернокожих апатично рылись в кучах белой пыли. Вонь рыбы и разложения была просто невыносимой. Тусклая белая пыль и раскаленное голубое небо… и обмочившийся старый нацист. В уме Дэвида вновь ожили страхи, тревоги — и надежда. Может быть, они и разгадают эту шараду. Он наконец понял — по крайней мере, начал понимать, — что ему необходимо узнать всю правду. Узнать все о самом себе. Ужас неведения был слишком страшен.
Дорога закончилась у каких-то ворот.
— Вот это и есть Акулий остров, — сказал Ангус, показывая на нечто вроде мыса, выдававшегося в море. — Нам в эту сторону…
Они зашагали по горячей, обжигающей тропе, что тянулась вдоль линии берега; с обеих сторон их окружала разбитая цементная стена. Потом остановились. Слева от них показался полуразрушенный, заброшенный склад, обещавший хоть какую-то тень. С моря донесся сильный запах холодной морской воды — это был роскошный аромат Бенгальского течения.
Ангус быстро, сжато объяснил:
— Акулий остров — это место, где немцы уничтожили множество людей в 1900-х годах. То есть раньше это был остров, а потом построили дамбу… Именно сюда немцы загоняли тех, кто восстал против них под руководством Витбооя[90]. Когда их всех уничтожали.
— Не гереро?
— Нет. Это был другой геноцид. Еще один. Я знаю. Я знаю.
— Боже…
— Я тебе объясню потом. Покажи-ка мне карту, надпись…
Драгоценная старая карта. Дэвид достал ее из кармана куртки. Грустные синие звездочка, грустные старые складки… и надпись на обороте.
Ангус прищурился, всматриваясь в крошечные буквы, и нервно вздохнул, приблизив карту почти вплотную к глазам.
— Ты был совершенно прав. Тот же самый почерк. Дреслер.
Над ними кружили чайки; вдали покачивалось на волнах, возвращаясь в порт, рыболовное судно.
— Думаю, это может быть какой-то адрес, — сказал Дэвид, показывая на надпись. — Вот здесь. Это вроде бы «штрассе»?
— Да. Но… — Ангус нахмурился. Он резко выпрямился, огляделся по сторонам; ветер тут же растрепал его ржавые волосы. — Да, это какой-то адрес, немецкое название, мне оно не знакомо… но здесь точно нет Цугшпитцштрассе… То есть в Людерице нет. И какое отношение это имеет к Акульему острову?
— Может быть, это просто… приманка, очередная ложь? — предположила Эми.
— Нет, — весьма решительно возразил Ангус. — Дреслер был как мертвый, когда сказал нам это. Ты же его видела. Описался, как младенец. Эта часть — правда. Что-то тут есть… на Акульем острове. Но я не понимаю, какая здесь связь с надписью на карте…
И снова он окинул взглядом желтые пейзажи, клубы пыли, плохую серую дорогу, заброшенные навесы и склады. С порывами ветра до них долетали элегические крики чаек, гнездившихся на утесах.
— Нам нужен какой-то немец. Здешний. Надо найти немцев… — Взгляд Ангуса на чем-то остановился. — Там! Музей геноцида гереро. Вот тот домик… там должны быть…
— Музей геноцида?
Ангус пожал плечами.
— Да, понимаю, впечатления не производит. Но это действительно музей, он просто крохотный, это же Африка… но он очень важен для намибийцев. Он вечно закрыт. Я хочу сказать, он слишком далеко расположен, у них нет посетителей. Сначала нужно позвонить, договориться…
Дэвид уже ринулся к домику.
— Идемте!
Музей представлял собой низкое деревянное строение, потрепанное суровыми ветрами Бенгальского течения, стоявшее на самом краю мыса. Дверь была заперта. Воздух вокруг странным образом был одновременно горячим и холодным. Дэвид ощущал, как горит его кожа, опаленная солнцем Африки.
Ангус повернул ручку, потянул на себя. Заперто. Дэвид чуть отступил назад и ударил по двери ногой. Она поддалась без сопротивления, замок просто вылетел.
Они вошли внутрь. Раскаленное деревянное пространство было заполнено книжными полками и шкафами с застекленными дверцами, выстроившимися вдоль стен; с высокой подставки смотрели, ухмыляясь, три черепа.
— Боже… — выдохнула Эми.
Ангус объяснил:
— Черепа гереро. Фишер заставил очищать их женщин гереро… они должны были снять кожу с черепов их собственных убитых мужей. Фишер хотел исследовать черепа, сравнить размеры, да будет благословен его кронциркуль… Но мы должны найти… не знаю… где-то тут могут быть данные Фишера, они здесь… они должны быть где-то здесь…
Они принялись за поиски. Яростно и решительно обыскивали все подряд, рылись в пыльных витринах, переворошили полки, набитые старыми книгами с титульными листами, исполненными готическим шрифтом, отчаянно листали страницы. Die Rehobother Bastards und das Bastardierungsproblem beim Menschen[91].
И — ничего. Они перебирали научные инструменты, их блестящая сталь казалась отвратительной. Ничего. Дэвид отодвинул в сторону ящик с сухими человеческими костями, при этом чувствуя себя виноватым, ужасаясь собственным действиям. Он так небрежно обращался со свидетельствами двух забытых геноцидов, чудовищными реликтами последней расовой империи…
Нигде ничего не было. Они были растеряны. Искать больше было негде. Все трое опустились на колени в центре маленького помещения и быстро, шепотом излили свое отчаяние в молитве. Ангус посмотрел на часы.
— Вертолет поднимется через сорок минут. Если мы на него не успеем…
Эми посмотрела вокруг, ее глаза ярко блестели. С высокого и строгого постамента в углу на них скалились черепа гереро. Эми откашлялась, пытаясь изгнать из горла пыль, и проговорила:
— Ужасное место. Ужасное. Но я не понимаю, Ангус. Здесь же нет ничего немецкого, вообще ничего, все только намибийское. Времен германской империи, но намибийское. Как тут могли бы оказаться бумаги Фишера?
Ангус кивнул:
— Ты права. Здесь все намибийское…
Дэвид слушал. Молчал. Черепа ухмылялись, хохоча над каготом. Был ли он каготом? Они насмехались над ним. Дэвид попытался избавиться от этих пока бесплодных мыслей и сосредоточиться на карте. На ключе.
— Цугшпитцштрассе. Что это означает?
— Ничего особенного, — вздохнул Ангус и покачал головой. — Обычное для Германии название улицы. Я уже слышал его… — Он вдруг застыл, и тут же его лицо изменилось, вспыхнуло. — Я уже слышал его! Боже! — Нэрн вскочил. — Я слышал прежде это название! Дэвид! Карта! Еще раз, еще, да-да, это точно…
Они все уже были на ногах; жизнь заново закипела в их венах.
Карту развернули, чтобы снова рассмотреть ее в тусклом свете. Ангус поднес лист почти к самому лицу, всматриваясь в крошечные буквы надписи.
— Это же адрес Института кайзера Вильгельма! В Берлине! Цугшпитцштрассе, 93. Хранилище.
— Но при чем…
— Этот институт известен в кругу евгеников. Но вряд ли о нем знает кто-то еще. Эту надпись сделал ведь Дреслер, да? Для твоего отца?
— Да.
— Значит, он дал ему адрес. Где можно найти данные Фишера, может быть, или какое-то новое указание на то, где могут храниться эти документы… они в том институте!
— Но он в Берлине. Какое это может иметь отношение к…
Ученый уже победоносно улыбался. Даже в момент таких пугающих, чудовищных событий он был не силах удержаться от восторга по поводу собственного ума.
— Я вычислил! Здесь, в этой комнате, есть что-то такое, что прибыло из Германии! — Он повернулся и показал на черепа гереро.
— Они?!
— Они были возвращены сюда из Берлина в 1999 году! После многолетних споров. Хранились в Институте кайзера Вильгельма. А теперь они здесь. Именно эти черепа побывали в Германии! Во время войны они были в руках Фишера, а потом были отправлены в Институт. Ответ должен быть каким-то образом спрятан в них.
Ангус быстро подошел к подставке и взял самый большой череп. И повертел в руках грустный улыбающийся предмет.
— Непристойная шутка. Нацисты любили непристойно шутить. Они, например, мостили улицы в еврейских гетто их надгробными плитами, так что евреям приходилось топтать ногами имена мертвых… и… — Шотландец очень внимательно рассматривал череп. — И где можно наилучшим образом спрятать нечто очень, очень важное, как не в таком вот черепе? Священная реликвия чудовищного геноцида. Фишер должен был понимать, что никто и никогда не решится разбить его, извлечь тайну, если только не будет знать наверняка, что именно им нужно, где именно это искать. — Он поднял череп, заглянул в него снизу, потом поднял еще выше и тихо заговорил: — Прости, брат, мне черт знает как жаль, но я должен это сделать. Должен. Прости меня.
И он уронил череп на пол. Сухая старая кость мгновенно разлетелась вдребезги, почти с благодарностью. Рассыпалась в пыль, соединившись с оранжевой пылью на полу.
На полу среди осколков черепа поблескивал крошечный стальной цилиндр. Ангус быстро поднял его.
— Спрятали в носовой полости.
Эми и Дэвид молча смотрели на него. Их вспотевшие лица были напряжены.
Ангус сорвал крышку и вытащил из цилиндра маленький, тщательно свернутый в трубочку листок бумаги, на ощупь похожей на кожу, как пергамент, только намного тоньше.
Шотландец сосредоточенно рассмотрел желтоватый листок. На нем была поблекшими чернилами начерчена какая-то крохотная карта.
— Збирог! — У него вырвался вздох облегчения. — Збирог…
Но больше он ничего сказать не успел. По полутемному помещению скользнула чья-то тень. Мимо окна прошел сторож-намибиец; он уже остановился у двери и собирался войти внутрь.
Ангус быстро сунул карту в цилиндр, сунул стальную трубочку в карман, бросился к выходу, пинком распахнул дверь и предстал перед сторожем, тыча пистолетом в грудь перепуганного намибийца.
Сторож отступил назад, под обжигающие солнечные лучи.
— Нет! Мне не нужны проблемы! Я не хочу неприятностей!
— Вот и умница, — сказал Ангус, шагнув к сторожу и похлопав ладонью по его карманам. Достав пистолет и телефон, шотландец протянул их Дэвиду и кивнул в сторону моря.
Мартинес с облегчением схватил оба предмета и зашвырнул пистолет и телефон в пенистые волны, не слишком далеко от берега, всего на несколько метров. Чайки тревожно заорали.
Ангус ткнул в сторожа пальцем:
— Отлично. Ты стой здесь. И не двигайся. Мы уходим. А ты стоишь. Все понял?!
Они со всех ног помчались по тропе с мыса на материк. Дэвид однажды оглянулся — сторож действительно стоял на месте, черный и застывший, как статуя, в солнечных лучах, озадаченный, ничего не понимающий.
Тропа повернула к дороге, и они очутились наконец там, где были люди, движение машин. Ангус замахал пачкой местных денег, рандов, при виде приближавшейся «Тойоты». Водитель ухмыльнулся и ударил по тормозам.
Они запрыгнули с машину, потные, помятые. Ангус рявкнул:
— В аэропорт! Быстрее!
Дорога заняла десять минут. Они мчались, как сумасшедшие, по солнечным пыльным улицам. Пронеслись мимо банка Виндхука, старого унылого здания, мимо гаражей фирмы «Шелл» — и уже очутились за городом, на окружавшей его равнине.
Дэвид вспоминал Мигеля. Большие черные автомобили, ревущие в каньоне. Эта мысль приводила в ужас. Мигель мог быть где-то рядом, прямо сейчас. Он мог появиться в любую минуту. И тогда распахнется дверца большой черной машины…
Я нашел вас!
На дороге клубился желтый песок, завивался змейками. Они снова были в пустыне и мчались сквозь совершенно дикую местность. Ангус достал карту и внимательно ее рассмотрел. А потом откинулся на спинку сиденья и вскрикнул:
— Смотрите!
Дэвида тут же охватила паника; он огляделся вокруг, но ничего не увидел. Мигель?..
Но Ангус продолжал показывать за окно:
— Вы только посмотрите! Редчайшее зрелище, настоящая драгоценность! Посмотрите на ту лошадь!
Так это был не Мигель… Дэвида охватило нелепое облегчение, когда они с Эми повернулись и уставились в поцарапанное окно машины. Но на что они должны были смотреть?
Сначала Дэвид этого не понял. А потом увидел: лошадка, стройная и одинокая, неровно скакала вдоль пыльной дороги. Затем Мартинес заметил еще одну, еще… их были десятки, потом сотни… Они резвились и играли в песках, в клубах пыли.
Ангус восторженно продолжал:
— Дикие намибийские лошади! Как я люблю этих животных! Это потомки Schutztruppe — коней германской колониальной армии. Тех, что когда-то сбежали и одичали, — ученый почти нежно смотрел на табун, словно видел перед собой нечто похожее на сон. — А теперь они — единственные дикие пустынные лошади в мире. — Он снова повернулся к Дэвиду. — Мне всегда казалось, что они похожи на души лошадей, вырвавшихся на свободу после смерти… Вот почему здесь так трудно жить. Здесь много такого. А, вон и аэропорт. За теми дюнами.
Машина обогнула последние мягкие бугры дюн. И остановилась на широком плоском пространстве. Водитель затормозил точно на краю странно бледной взлетной полосы.
Маленький самолет и два вертолета стояли на чем-то вроде асфальтовой площадки, прямо посреди обожженной солнцем пыли. На боку одного из вертолетов красовалась яркая надпись — «Келлерман Намкорп». Его пропеллеры уже вращались.
Дэвид обернулся к Ангусу и спросил:
— Но куда мы направляемся?
— В Амстердам.
— Да, а потом?
— В Збирог! Замок СС. В Чехии. Я потом объясню, приятель, а сейчас нам нужно поспешить. Мигель ведь все еще где-то здесь…
Они побежали прямо к асфальтовой площадке. Какой-то мужчина с автоматом наперевес стоял около вертолета; он изумленно уставился на них, когда они, пригнувшись, проскочили под вращающимися лопастями.
— Ангус?!
— Роджер!
Чернокожий широко улыбнулся:
— Ангус, друг мой!
Нэрн что-то кричал, перекрывая грохот пропеллеров. Потом что-то сунул в руку охраннику. Что-то такое, что достал из черного бархатного мешочка. Дэвид предположил, что это могли быть алмазы. Могли быть. Роджер весело отсалютовал.
— Садимся! — закричал Ангус.
Роджер тоже кричал, показывая Дэвиду и Эми, что надо забраться в вертолет.
— Быстрее!
Они не стали медлить и, очутившись внутри, уселись на первые же места, которые им подвернулись. Ангус устроился рядом, лицо у него было напряженное и измученное. Они пристегнули ремни безопасности — и вертолет поднялся в воздух.
Они летели.
Дэвид смотрел вниз. Роджер уже превратился в едва заметную фигурку. Он смотрел им вслед, прикрывая глаза ладонью от солнца и песка. Дэвид моргнул и посмотрел на юг. Дикие лошади все еще танцевали в пустыне.
А потом всё закрыли облака пыли, всё стало неразличимым.
45
2.58, 2.59, 3.00…
Его все не было. Дэвид настороженно посматривал на станционные часы.
3.02, 3.03, 3.04.
Ангус стоял рядом и молчал — впервые. На его лице отражалось неприкрытое напряжение. Эми выглядела задумчивой, почти подавленной.
Что она знала? Она стала заметно другой после того, как они приземлились в Амстердаме и проехали через всю Германию, к вокзалу в Нюрнберге, где договорились встретиться с Саймоном. Но почему? Может быть, она уже заподозрила, что Дэвид — кагот, а может быть, просто отреагировала на перемену в его настроении, на его внезапно вспыхнувшую сильную тревогу. На его отстраненность, резкие перепады настроения, когда он то уходил в себя, в поисках ответа, или утешения, или покоя…
Мартинес перестал заниматься с ней любовью. Он просто не мог больше этого делать. Некогда они испытывали друг к другу пылкую страсть… а теперь? Дэвид то и дело представлял себя кусающим Эми, ее белую женственную плоть, кусающим до крови…
Это была бездна, пучина, но он должен был заглянуть в нее, должен был добраться до глубин собственной души, найти свою истинную сущность. Потому что в ближайшие дни ему должно было понадобиться все его хладнокровие. В ближайшие решающие дни. Решающие часы, решающие минуты.
3.07, 3.08, 3.09.
Возможно, Саймон и не появится. Они ведь отправили ему только одно электронное письмо из Амстердама и получили быстрый короткий ответ: «Да».
В почтовом ящике Дэвида обнаружилось также и еще одно весьма удивительное сообщение — от Фрэнка Антонеску, старого адвоката его деда в Фениксе. Антонеску тоже провел кое-какое расследование, самостоятельно, благодаря своим связям в налоговом управлении, где кто-то явно благоволил к нему, и постепенно, «после разных махинаций», все же выяснил, откуда взялись те деньги.
От католической церкви.
Большие суммы, сообщал Антонеску, были «выплачены не только вашему деду, но и еще некоторому количеству людей, сразу после войны. Они обозначаются как „деньги Гюрса“. Почему — представления не имею. Мои парни из налоговой тоже в полном замешательстве».
Значит, в воздвигавшемся строении общего решения была уложена еще одна балка. Но план здания целиком можно было понять только после того, как они доберутся до Збирога. И найдут результаты опытов Фишера.
3.16, 3.17, 3.18.
Появится ли Саймон вообще? Может быть, с ним случилось что-то ужасное? Может быть, до него успел добраться Мигель?
— Вон он! — вскрикнула Эми.
Немного неряшливый, запыхавшийся, веснушчатый блондин лет сорока на вид бежал к ним через полный народа зал. Он смотрел на Дэвида и Эми.
— Дэвид Мартинес?
— Саймон Куинн?
Не слишком молодой ирландский журналист окинул взглядом всю троицу и застенчиво улыбнулся.
— А вы, должно быть, Эми. А вы…
— Ангус Нэрн.
Они обменялись рукопожатиями, завершая официальную часть знакомства. Но потом Дэвид и Саймон пристально посмотрели друг на друга, и обоим одновременно стала понятной полная абсурдность подобной сухости.
И они обнялись. Дэвид сжал в объятиях человека, которого никогда прежде не видел, сжал, как потерянного брата. Которого никогда не имел.
А потом снова нахлынуло напряжение, все развивающийся ужас ситуации охватил их. Эми напомнила, как постоянно напоминала в последние три дня:
— Мигель продолжает охотиться на нас…
Страх Эми перед Волком как будто стал еще сильнее после того, как они сбежали из Намибии. И это, как предполагал Дэвид, могло усилить ее подавленность. Неутомимость их преследователя лишала девушку силы воли. Может быть, она на самом деле уже сдалась на милость Мигеля, признала его победу. Он ведь всегда так или иначе находил их; возможно, Волк отыщет их и теперь и покончит наконец с этим делом.
Если только они не доберутся до документов первыми.
Все вместе быстро направились к взятому напрокат автомобилю.
Ангус проверял их путь по карте. Он подсказывал, куда повернуть, и вскоре они выбрались из пригорода Нюрнберга на холмистую равнину и покатили к чешской границе. По дороге Саймон рассказал им о том, что его брата похитили члены Общества. Похитили и измываются над больным человеком.
Дэвид, сидевший за рулем, даже в зеркало заднего вида без труда рассмотрел искреннее горе в глазах журналиста. Горе — и чувство вины. Когда Саймон закончил свою исповедь, несколько минут все молчали. Судьба того человека, Тима, тоже теперь была в их руках.
Это было уже слишком…
Граница приближалась. Старый добрый железный занавес. Прямо среди полей — пустых, пожелтевших — стоял заброшенный таможенный пост и лежали старые мотки колючей проволоки. Но теперь границу представляла только блестящая стеклянная будка — совершенно пустая. Им даже не пришлось показывать паспорта.
Наконец Саймон заговорил:
— Но почему Нюрнберг? Почему мы встретились именно там?
Ангус объяснил, что они решили собраться все вместе в большом городе, где легко затеряться, рядом с границей Чешской Республики. Чтобы запутать того, кто может их преследовать.
Саймон кивнул.
— А тот замок?
— На карте обозначено, что он находится в городе под названием Збирог. Но на самом деле вход в него в двух милях в стороне, в маленькой деревушке, которая называется Псков[92]. Оттуда тянется подземный ход. А начинается он в какой-то старой синагоге.
И снова Саймон кивнул. Он вел себя в высшей степени сдержанно.
Они продолжали путь. По другую сторону границы все было совсем не похожим на такое близкое германское процветание. Все выглядело как будто ссутулившимся, неопрятным и смиренным. А вдоль дороги на Пльзень стояло множество женщин лет под тридцать, в крохотных юбочках и в светлых париках.
— Проститутки, — объяснил Ангус.
— Не понял? — вскинулся Саймон.
— Они тут появились уже несколько лет назад. Зарабатывают. Клиенты съезжаются сюда со всей Германии. Водители грузовиков, бизнесмены. И еще эти женщины продают гномов.
— Гномов?.. — переспросила Эми.
Шотландец показал на маленький магазинчик у дороги. Перед ним были выставлены рядами ярко раскрашенные садовые скульптурки — гномы и разные другие столь же забавные зверюшки.
— Из-за разницы в налоговом законодательстве гномы здесь намного дешевле, так что немцев это тоже привлекает. Едут за блудом и за гномами!
Он сухо засмеялся. Его никто не поддержал. Однако Дэвида порадовало то, что Ангус все еще может смеяться. Шотландец единственный среди них сохранял еще некий заряд положительной энергии, реальный оптимизм. Его интеллектуальная потребность узнать результаты работы Фишера, его чистое любопытство, его самолюбивое желание узнать, был ли он прав, заставляло их — вот ведь ирония! — двигаться и двигаться дальше.
Но вскоре в машине опять замолчали, и автомобиль продолжал спешить к Пльзени. Ангус держал на коленях дорожную карту. Теперь их окружал густой лес. Морось перешла в настоящий дождь.
— Ладно, — сказал наконец Ангус, — хватит уже всем сидеть и дуться! Давайте хоть чем-нибудь займемся. Давайте поможем Саймону! Расскажем всю историю до настоящего момента. Бедняга ведь находится в свободном поиске, ему нужно узнать что-то интересное, что обеспечит его будущим. Давайте-ка выложим все, что нам известно.
Все были так напряжены, так подавлены, так напуганы, что Дэвид приветствовал внезапно возникшую идею. Говорить. Им нужно просто говорить. О чем угодно. И они этим и занялись. Дэвид вел машину, и все они принялись складывать вместе кусочки головоломки, каждый добавлял свою порцию в общую картину. А Саймон при этом постоянно что-то записывал в свой блокнот.
Потом журналист откинулся назад. Его голос даже хрипел от избытка чувств, но, по крайней мере, он был в состоянии говорить.
— Так, ладно. Это… ох, да… теперь я вижу. Значит, на настоящий момент нам известно вот что…
Дэвида окатило мучительной тоской; он вдруг нелепо испугался, что Куинн сейчас повернется, покажет на него пальцем и заявит: «Ты, конечно, кагот».
Саймон заговорил:
— Эта тайна зародилась три тысячи лет назад, когда в Вавилоне писали Библию. В разных местах Книги Бытия разбросаны намеки на то, что на земле изначально существовали люди кроме Адама и Евы…
Эми смотрела в окно, напряженно всматриваясь в машины, идущие перед ними и позади. Возможно, искала красный автомобиль.
Саймон продолжил:
— Загадка, рожденная этими хитроумными намеками, всегда мучила людей. Но всерьез она превратилась в проблему христианского мира в пятнадцатом и шестнадцатом веках, во время преследования басков и каготов. — Саймон посмотрел на Ангуса. Это был странный взгляд. — Баски действительно всегда как бы стояли в стороне — у них свой, уникальный язык, своя культура и общественное устройство, необычная кровь и так далее. Их народ, возможно, зародился еще в доевропейский период, за тридцать тысяч лет до Рождества Христова. И их очень долго преследовали именно за то, что они… другие. Пик этих преследований пришелся на 1610–1611 годы, когда массово сжигали баскских ведьм и колдунов на основании так называемой эпидемии снов басков…
Они обогнали крошечную «Шкоду», старую машину еще коммунистической эпохи. В автомобиле сидели старый фермер с толстой женой. Их автомобильчик еле полз со скоростью не больше тридцати километров в час.
Саймон заговорил снова:
— Загадка каготов похожа на баскскую, только тут дела обстояли еще хуже. Каготы — метисы… или были метисами. Они жили в тех же регионах, что и баски. Скорее всего, они и произошли от басков, скрестившихся в VIII и IX веках с темнокожими сарацинами. И таким образом они с самого начала оказались в стороне от мира христиан — а к этому добавилось еще и клеймо язычников. Поэтому они тоже подвергались преследованиям. И к XVII веку это уже достигло убийственного пика: каготов прибивали гвоздями к церковным воротам… Побочным результатом этих преследований и изоляции стало нарастание генетических проблем в сообществах каготов…
— Но они же не были в этом виноваты, — перебил журналиста Дэвид.
Саймон, недоуменно нахмурившись, ответил:
— Конечно, нет, их вины в этом не было. Однако у них была дурная репутация из-за склонности к психозам, кретинизму, даже каннибализму, и все это было трагично, тем более что не так уж и несправедливо. Многие каготы страдали от разнообразных синдромов, приводивших к странному, даже отвратительному поведению.
— Так именно поэтому король Наварры приказал их обследовать? Чтобы проверить, действительно ли каготы «другие»? — спросила Эми.
— Да. Более того, хотя наука тех лет была крайне примитивной, королевские врачи все же, судя по всему, обнаружили синдактилию — сросшиеся или перепончатые пальцы — и другие доказательства того, что генотип каготов претерпел изменения в результате близкородственного скрещивания. И пришли к выводу, что каготы действительно отличаются от остальных людей весьма заметным образом. — Журналист перевернул несколько страниц своего блокнота. — Это открытие встревожило Папу Римского и его кардиналов. Та идея, что Бог мог действительно допустить существование Семени Змея, альтернативного человечества, людей, которые на самом деле не люди, выглядела настоящим проклятием. Она угрожала самой базовой католической доктрине — что человек сотворен по образу Божию. Разве мог Творец иметь два образа? Два типа детей? Разоблачение подобной правды могло не только оправдать наихудшие преследования христиан, европейцев, но и поставило бы под сомнение саму католическую теологию.
— Всю христианскую теологию, — уточнил Ангус. — Если уж на то пошло. Всю целиком.
— Да. И поэтому церковь постаралась положить конец преследованию каготов. По той же самой причине и испанская инквизиция решила остановить, прекратить сжигание баскских ведьм. Католические верхи желали, чтобы «хор христианского мира» звучал слаженно. Баски и каготы должны были вернуться в общее стадо. Однако были и такие церковники, которые фанатически придерживались философии проклятия Каина. В особенности таких было много среди низших клириков, местного крестьянства и в некоторых из наиболее суровых монашеских орденах вроде доминиканцев. Отчаянно желая избежать раскола, Ватикан согласился на компромисс. Относящиеся к этому делу документы — о сожжении ведьм и об исследовании каготов — не были уничтожены: их тайно разместили в древних архивах Доминиканского университета в Риме, в Ангеликуме. Несколько веков спустя их осторожно перевезли в новый монастырь в центре Франции.
— Построенный специально для этого, — вмешался Ангус, — и созданный архитектором, разделяющим некоторые идеи… как самое надежное место для всех этих документов. Ведь так?
— Да, — согласился Саймон. — Это здание — образец функциональности. И настолько обескураживающее, что сводит людей с ума.
Эми все так же смотрела в окно. Вязаный кардиган соскользнул с ее плеча, обнажив загорелую кожу, золотую, мягкую, нежную. Дэвид сосредоточил взгляд на дороге. Саймон снова полистал свои заметки.
— В 1907 году блестящий немецкий антрополог, молодой Евгений Фишер, приехал в заброшенную алмазную немецкую колонию в Африке, ныне Намибию. Он шел по стопам своего кумира, великого британского ученого, основателя современной евгеники, Фрэнсиса Гальтона. То, что обнаружил там Фишер, ошеломило его. Исследуя одно из койсанских племен — бушменов пустыни Калахари — и их ближайших родственников, бастеров, потомков бушменов и голландских поселенцев, Фишер открыл, что в весьма недавнем прошлом человечество, возможно, образовало новый подвид или даже вид.
Эми промолчала. Дэвид тоже промолчал. Ангус отстраненно улыбался. Саймон продолжил:
— Процесс образования видов — деление одного вида на два или несколько новых, — конечно же, является решающим для эволюции. Вот только этот процесс сам по себе плохо поддается определению. Когда именно новая порода или некая генетическая модификация организма превращается в подвид и когда его можно определить как действительно новый, самостоятельный вид? Генетики, зоологи и систематики до сих пор спорят на эту тему; но никто не отрицает того, что образование новых видов продолжается. — Саймон снова перевернул страницу блокнота. — Но до этого момента никому и в голову не приходило, что видообразование в течение последних тысячелетий могло коснуться самого Homo sapiens. Как сказал Ангус, некоторые специалисты допускают, что некий малочисленный подвид человека мог сохраниться в Азии, — Homo floresiensis. Гоминиды такого рода как раз и могли бы объяснить библейские мифы о людях, происходящих не от Адама, и именно они могли упоминаться в первой версии Книги Бытия. Просто как воспоминания местных жителей о каких-то маленьких, похожих на карликов «почти людях». Но все равно это было десять тысяч лет назад. А Фишер, занимаясь койсанами и бастерами, убедился в том, что нечто сродни возникновению новых видов происходит в Африке прямо сейчас: бушмены то ли уже стали новым видом, то ли подошли к этому очень близко. Это открытие укрепило расистские идеи, уже жившие в уме Фишера. Как и многие ученые его времени, Фишер, не смущаясь, верил в иерархию человеческих рас, верил в то, что белая раса стоит на самой высокой ступени среди них, а аборигены и черные африканцы находятся в самом низу. И он тут же поставил бушменов на еще более низкое место, вообще вне границ человечества.
Дэвид переключил скорость, обгоняя большой красный грузовик с надписью «Intereuropa» на борту, и спросил:
— Но ведь этому парню, Евгению Фишеру, нравились евреи? Келлерманы?
— Да, — согласился Саймон. — В этом содержится толика иронии, Фишер не был антисемитом. Он готов был поддерживать дружбу с любыми умными людьми, в особенности если те были богатыми и вполне светскими. Он подружился с династией Келлерманов, немецко-еврейских добытчиков алмазов, которые добывали миллионы из песков намибийской пустыни, богатой минералами и прочим добром. И именно эта дружба определила многое в последующие десятилетия.
Перевернута еще одна страница блокнота.
— Потом, в 1933 году, к власти пришел Адольф Гитлер. Он буквально проглотил книги Фишера, когда в молодости сидел в тюрьме. И теперь, став фюрером, Гитлер решил должным образом использовать Фишера и его идеи. Первым делом он назначил его ректором Берлинского университета. Потом, в 1940 году, отправил Фишера поработать в новом немецком концентрационном лагере в Гюрсе, рядом с генетическим раем — басконским уголком Франции. Адольф Гитлер имел свои планы на великого ученого. Фюреру хотелось поднять авторитет немецкой науки. И Фишеру было предложено собрать в одном месте наиболее интересные в генетическом плане экземпляры рода человеческого: цыган и евреев, французов и басков, испанцев и каготов. Фюрер надеялся, что, имея сравнительный анализ данных, полученных при изучении этих субъектов, и данных намибийских исследований Фишера, его ученые окончательно и бесповоротно докажут факт расовой иерархии, то, что высшая белая раса неоднородна внутри себя, и он наконец получит полные доказательства того, что немцы стоят на самой вершине, а место евреев — на самом дне. И Фишер оправдал ожидания фюрера. В первый же год, с помощью блестящих немецких докторов, он открыл ДНК. Базу всей современной генетики.
Саймон захлопнул блокнот.
Эми спросила:
— Но что Фишер обнаружил потом? Во второй год работы в Гюрсе? Что это было за пугающее и ужасное открытие? Что это было?
Ангус больше не улыбался, он хмурился.
— Ну… как раз в этом и суть, это и есть самый главный вопрос. И именно это мы собираемся выяснить. — Он внимательно посмотрел на залитую дождем дорогу впереди. — Если прежде не сдохнем.
46
Через двадцать минут езды по чешской автостраде они нашли поворот к Збирогу. Дорога побежала, извиваясь, между холмами, перелесками, неуютными чешскими фермами. Дэвид опустил стекло окна со своей стороны, ощущая необходимость вдохнуть холодного сырого воздуха, почувствовать на лице ветер. Он был очень встревожен. Ему нужно было что угодно, чтобы хоть немного разогнать глубокое беспокойство. Дэвиду даже хотелось почувствовать какую-нибудь физическую боль — чтобы заглушить боль душевную.
— Поворачивай теперь налево.
Они покинули широкую дорогу, еще раз повернули через лес — и наконец увидели замок Збирог.
Он был огромен. Большое, уродливое строение из темного гранита, надменное и угловатое, находилось на вершине каменистого подъема. Городок Збирог расползся по сырой долине внизу, как какой-нибудь крестьянин, упавший ниц перед королем.
Дэвид сбросил скорость, и все они уставились на замок.
— Ну и… почему он так важен? — спросила Эми.
Ангус с готовностью ответил:
— Здание было построено здесь в Средние века. Оно поставлено на огромную кремниевую формацию с вкраплениями яшмы. Когда нацисты оккупировали Богемию, они обнаружили, что этот камень, яшма, отлично отражает радиоволны. Поэтому СС устроили здесь свою тайную штаб-квартиру, чтобы следить за радиопереговорами противника. А после войны тем же самым занималась здесь чехословацкая армия — использовала это место как секретную станцию слежения. Чтобы наблюдать за самолетами НАТО. Для широкой публики этот замок открыли только в конце девяностых годов.
— Но почему нацисты использовали это место для того, чтобы спрятать такие важные исследования? — поинтересовался Саймон.
— Это нетрудно объяснить. В течение многих веков яшму понемногу добывали, и в результате под замком образовалась целая сеть подземных коридоров. А в самом конце войны СС проделали нечто весьма странное. Они закупорили все ходы, закрыв толстыми слоями бетона, и никому теперь туда не проникнуть, даже с современными отбойными молотками. Коммунисты пытались прорваться в лабиринт, но потерпели неудачу.
Замок высокомерно поглядывал на крыши деревенских домиков.
— Конечно, многих интересовало, — продолжил Ангус, — зачем было эсэсовцам сооружать такие преграды. Зачем вообще этот чертов бетон? Может быть, так они припрятали похищенные сокровища? Что-нибудь вроде русской Янтарной комнаты. Но кто может знать?
Некоторое время все молчали.
— Псков, — напомнила Эми. — Не забывайте, что нам нужно в деревню Псков. В синагогу.
Псков оказался крошечной деревушкой, стоявшей среди невысоких холмов, совсем недалеко от замка. Это было вполне уединенное местечко, в нем имелась церковь, выкрашенная в оранжевый цвет, маленькая пивная с неопрятной неоновой рекламой пива «Будвайзер», несколько старинных и современных домов вперемешку и супермаркет, рекламирующий лондонский джин.
И это был весь населенный пункт. Им понадобилось пять минут, чтобы пройти всю главную улицу и вернуться обратно.
Они уселись на скамью на крытой автобусной остановке.
— И где же здесь синагога? — задала вполне очевидный вопрос Эми.
Дождь лил беспощадно. Это был сырой и отвратительный октябрьский день. Старый пес присел посреди улицы, чтобы опорожнить кишечник. Дэвид нервно посмотрел на церковь, возвышавшуюся над тихой деревней. Церковь выглядела пустой, но, возможно, в ней был кто-то и прямо сейчас смотрел на них… и звонил Мигелю.
Мигель. Страшные воспоминания снова нахлынули на Дэвида, заполнив его душу ужасом. Он вспомнил, как Эми однажды сказала, что Дэвид похож на Мигеля. Только Мигель старше и стройнее.
Могло ли такое быть? Могли ли они с Волком быть… родственниками?
Два кагота. Два кузена-каннибала.
Дэвид содрогнулся. Становилось все хуже и хуже. Как будто он тонул в тошнотворной правде, как будто его затягивало в воронку сточных вод реальности. Глубже и глубже, пока он наконец потеряет возможность дышать.
Проклятый.
Он смотрел на пустую серую дорогу, то в одну сторону, то в другую, и проклинал свое отчаяние.
— Ничего. Ничего здесь нет. Мы влипли. Нет здесь синагоги… ее разрушили! — пробормотала Эми.
Саймон согласился, и в его голосе звучала готовность отступить:
— Да, верно. Так оно и есть. Мы пропали.
На дороге, испуская черные клубы дыма, появился дряхлый седан. Эми побрела прочь от автобусной остановки, жалкая и несчастная под дождем; она тревожно оглядывалась по сторонам. Даже Ангус выглядел удрученным.
— Давайте-ка выпьем. Черт, если уж нам суждено умереть, так почему бы не выпить, черт побери?
Это была нелепая идея, это была насмешка над всем, что они пережили… но это была ИДЕЯ. Их положение не могло уже стать хуже. Конечно же, Мигель их найдет, если не сегодня, то очень скоро. Он их отыщет. Так лучше уж напиться.
Они перешли залитую водой дорогу и открыли дверь таверны, над которой висел колокольчик.
Внутри бар выглядел почти таким же унылым и заброшенным, как снаружи: в нем имелось несколько колченогих столиков и единственный старый крестьянин, жевавший в углу бекон. Несколько стальных бочонков пива — «Будвайзер» и «Старопрамен» — составляли весь выбор.
Ну, хотя бы пиво должно быть хорошим, подумал Дэвид. Чешское пиво. Старое доброе чешское пиво. Последнее в их жизни. Хорошая выпивка, которая должна помочь им забыться, помочь принять свою судьбу. Дэвид только теперь заметил, что устал как собака, устал до мозга костей, устал физически и духовно; он устал постоянно убегать. Пусть будет то, что будет, и пусть оно случится поскорее. Он устал, он был разбит, возможно, даже стоял на грани самоубийства. Ведь если он был каготом, возможно, обладающим худшими чертами проклятого народа, то ему и жить незачем.
А потому лучше напиться.
Хозяин таверны был небрит, толстоморд, а лет ему было шестьдесят с чем-нибудь, и он еле-еле говорил по-немецки. Он быстро наполнил кружки легким светлым пивом. Саймон еще на мгновение заколебался, но потом взял кружку.
Они уселись за столик. Только Ангус продолжал говорить. Только у него еще оставались силы и энергия. Он говорил о чешском пиве, прихлебывая это самое пиво.
— Самое лучшее пльзеньское должно иметь легкий привкус хрена. Вы это знали? То, что мы пьем, — великолепный пример. Вы просто влюбитесь в чешское пиво. Еда у них дерьмовая, они во все добавляют сливки, но, черт побери, пиво варить они умеют! Тут даже есть пиво для завтрака, особое пиво для завтрака! Ха!
Эми встала и направилась к двери.
— Мне нужен свежий воздух.
Дэвид не стал ее останавливать. Он прекрасно понимал, почему ей хочется оказаться подальше от него, от проклятого кагота. Да и кто бы захотел стать его подругой? Когда дверь за Эми закрылась, Дэвид осознал, что все кончено, дело сделано: он теперь был полностью и окончательно одинок. Все его покинули, все от него отказались. Он затерялся в пустыне собственной жизни. Как те одинокие деревья на Берегу Скелетов, живущие только призрачной сыростью тумана.
Так пусть уж Мигель придет и убьет его, пусть кагот уничтожит кагота, брат убьет брата. Все это уже не имело никакого значения.
Ангус говорил что-то о холокосте. Он уже приканчивал то ли вторую, то ли третью кружку пива, и его речь теперь была приправлена неким безумием, неким пьяным нигилизмом.
— Ты знаешь, что меня достает? Факт, что немцы в двадцатом веке устроили целых три холокоста! Не один, не два, а три! Гереро, повстанцы Витбооя, евреи… — Ангус злобно усмехнулся, окинув взглядом пивную. — И как же это понимать? Я хочу сказать, ладно, один холокост — этого уже больше чем достаточно, все могут ошибаться, всякое случается. Просим прощения, виноваты. Но потом… второе массовое уничтожение? Хм… Это уже немного странно. Уже наводит на размышления. Разве нет? Может быть, нам следовало бы в следующий раз попробовать что-нибудь не такое холокостное? — Он немного помолчал. — А потом… потом вы делаете это снова? В третий раз? Три массовых уничтожения подряд… В чем тут дело?
Он отпил еще пару глотков пива. Саймон таращился в стол, потом на свои ботинки и, наконец, перевел взгляд в темноту за окном.
Ангус продолжал пить и пустословить:
— И тут еще кое-что есть. Знаете, они построили лучший в Людерице отель — прямо напротив Акульего острова. Вообще-то неплохо, да? Имеете вид на лагерь уничтожения прямо со своего балкона. И можете любоваться на могилы, надевая брюки. Как вы думаете, это было сделано с умыслом или так придумали архитекторы? Мне бы хотелось быть на том совещании, когда обсуждалось…
— Ангус, — сказала Эми, уже вернувшаяся в бар; лицо у нее было решительным. — Заткнулся бы ты, а?
Шотландец рассмеялся. А потом извинился. А потом снова захохотал — весьма кисло — и умолк.
Разговор об Акульем острове напомнил Дэвиду о Намибии. Та последняя картина в скромном музее… черепа гереро…
Грязная шутка нацистов.
— А знаете… — очень медленно заговорил он. — Возможно… мы малость сглупили. Здесь просто не могло быть никакой синагоги. Нацисты ведь убили всех евреев.
— Но она помечена на карте, — возразила Эми. — Если ее уничтожили, зачем ее указывать? Не понимаю.
Дэвид наклонился к ней.
— Ну… может, ее и не разрушили. Ее могли переделать во что-то другое, даже перед войной. Замаскировать синагогу под что-то другое.
— Например?
— Под что-то оскорбительное для евреев. Еще одна шутка, как в Людерице.
Ангус решительно кивнул.
— Да. Это верно. Нацисты превращали некоторые синагоги в свинарники, иногда — в ночные клубы. Чтобы оскорбить религиозные чувства евреев. Конечно…
Эми покачала головой.
— В Пскове нет ночного клуба. Деревушка крошечная, здесь вообще ни черта нет — ни танцевального зала, ни свиноводческих ферм, вообще ничего.
Фермер за соседним столиком смачно рыгнул, покончив со свиной ножкой. А Саймон уже показывал куда-то вверх.
— А как насчет вот этого? Посмотрите!
Все они разом повернулись. В верхней части фронтальной стены виднелось маленькое, грязное старое окошко. Оно почти не пропускало света, потому что в нем стояло темное стекло цвета выдержанного вина. Но того смутного света, что падал на окно от светящейся вывески паба, было достаточно для того, чтобы проявить рисунок свинцового переплета, делившего стекло на части.
Это была Звезда Давида.
47
Владельца пивной ничуть не интересовали ни странная просьба посетителей, ни их причудливые вопросы — пока Дэвид не предложил ему три сотни евро. Тут он разом просиял и повел их в заднюю часть зала, где за стальными бочонками скрывалась стена.
Вся она была покрыта надписями на иврите.
— Отодвиньте бочонки, — сказала Эми. — Где-то здесь должно быть убежище.
Стальные бочонки бряцали и гудели, когда их передвигали с места на место. А под ними… не было ничего. Дэвида охватило горестное отчаяние, смешанное с чуть заметным облегчением. Какая-то его часть на самом деле категорически не желала знать, что именно скрыто в подвалах замка. Доказательства таились в его собственной крови. Но другая его часть хотела все выяснить, и чем быстрее это произойдет, тем лучше.
Хозяин пивной внимательно смотрел на них. Он скрестил руки на груди. Его белая куртка была покрыта пивными пятнами. Потом он сказал:
— Die Juden Тür?[93]
— Да!
Он повел их в дальний, темный угол задней комнаты. Там в стене обнаружилась маленькая деревянная дверь. Хозяин что-то объяснял на чудовищном немецком. Эми переводила, и ее голос звенел от возбуждения:
— Он говорит… эта дверь тут со времен войны. За ней погреб, а за погребом — какой-то ход. Он обычно хранил в погребе… что-то такое, о чем он не хочет говорить. Может, контрабанда? Он не знает, где заканчивается тот ход. Он никогда не пытался пройти слишком далеко. Черт знает как боялся тех коммунистов, что сидели в замке.
Еще одна сотня евро убедила хозяина в том, что дверь нужно открыть — а потом и закрыть за ними. И никому ничего не говорить. Еще пятьдесят евро пришлось отдать за фонарь.
Дверь со скрипом распахнулась. Дэвид, заглянув внутрь, ощутил приступ тошноты. Еще одна маленькая дверь, как дверь каготов. Дверь, через которую ему всегда полагалось проходить.
Через несколько шагов они очутились в помещении, полном сырой тьмы и паутины, заваленном бежевыми и серыми коробами из-под сигарет «Мальборо» и десятками садовых гномов. Гномы оскалились во внезапно упавшем на них свете; один из них как бы ловил рыбу. А губы у него были ярко-красными.
— Ну что, идем? — спросил Дэвид, пытаясь взять себя в руки. Он уже почти ощущал приближение Мигеля, охотившегося на них. Кровь в поисках крови.
— Идем, — разом ответили остальные.
Они вошли в низкое помещение; хозяин бара посмотрел им вслед еще секунду-другую, потом пожал плечами, как будто счел их абсолютно сумасшедшими, и аккуратно закрыл крошечную дверь.
Их окружила тьма. Единственным источником света теперь был их тусклый луч фонаря. Дэвид повел этим лучом по дальней части помещения. Там действительно был проход, уводящий в промозглую черноту.
— Ладно, идем…
Они знали, что должны пройти два километра — расстояние до Збирога. И в молчании начали путь. Звук их шагов, чавкающей грязи под ногами — вот и все, что они слышали. Никто не говорил ни слова.
Наконец коридор привел их к другой двери. Железной. И она была закрыта.
Дэвид прислонился к стене. Он ощутил влажную грязь на камнях, но ему было наплевать.
— Черт…
Ангус крепко выругался. Саймон покачал головой. Дэвид схватился руками за голову.
Еще одна дверь. Просто еще одна дверь. И что, они остановятся? Мартинес вспомнил все те двери, через которые проходил за последние недели: двери каготов, дверь в церкви в Наваррене, дверь музея геноцида гереро, дверь тайного дома каготов и еще многие… А теперь перед ними была еще одна дверь, к которой они шли так долго. Дверь, остановившая их.
Эми шагнула вперед и повернула ручку. И дверь открылась.
48
Они по одному прошли в темное помещение с кирпичными стенами и бетонным полом.
Дэвид повел фонарем слева направо. Помещение было большим; по обе его стороны были с невероятной аккуратностью составлены деревянные ящики.
Ангус шагнул вперед и жестом показал Дэвиду, куда посветить — вниз, на один из ящиков. На нем красовалось выжженное клеймо: большая черная нацистская свастика, которую сжимал в когтях имперский орел. А под клеймом — надпись готическими буквами.
Die Fiscer Experimente[94].
Крышка первого ящика легко поддалась карманному ножу Саймона. Эми нашла в глубине помещения керосиновую лампу с фитилем. Они зажгли зажигалку и повернули выпуклую ручку: фитиль вспыхнул, неплохо осветив помещение.
А потом они в течение часа или больше сидели кружком и разбирались в документах при свете фонаря и керосиновой лампы. Поскольку Эми знала немецкий, Ангус был специалистом в биохимии и генетике, а Саймон разбирался в политике и истории, они составили отличную команду.
Пока они складывали вместе последние элементы всей истории, Саймон все записывал, иной раз пристально всматриваясь в документы, поднося их к глазам. И часто, очень часто Ангус восклицал:
— Черт, так вот оно почему, так вот он что обнаружил…
Потом наконец шотландец уронил обратно последнюю бумагу и посмотрел на Саймона.
— Ты ведь писатель. Давай, заканчивай историю.
Куинн на мгновение как будто растерялся, пораженный ужасом обнаруженного, того, что они открыли здесь, и ошеломленный тем, в каком положении они все оказались. Но потом тихо сказал:
— Ладно. Пусть будет так. Последняя глава.
— Валяй!
— Первым из поразительных открытий Фишера было то, что образование новых человеческих видов действительно происходит. В Европе. Прямо у него на глазах. И эволюционировали именно каготы. В результате их языковой, культурной и социальной изоляции они стали новым типом человека. Новым биологическим видом. Каготы еще могли, хотя и с трудом, производить потомство в союзах со своими ближайшими родственниками, Homo sapiens, — но генетически они уже отдалялись от них. Фишер предположил, что через несколько поколений каготы полностью вымрут именно из-за проблем с репродукцией. Их отделение от нормальных людей было ошибочным.
Фишер доложил все это Гитлеру, который пришел в восторг. Он наконец получил последнее доказательство того, что нацизм всего лишь опирается на биологию, как он всегда и утверждал. Что одни люди действительно отличаются от других. Но на самом деле расовые различия внутри человечества оказались даже сильнее, чем воображал себе Гитлер. В Европе шел процесс образования новых видов. И в результате возникли каготы…
Дэвид огляделся по сторонам, пытаясь подавить все чувства. Ему не хотелось думать о собственной мрачной тайне, заглядывать в глубины собственной души. Похороните меня под бетонной плитой моего позора…
Саймон перевернул страницу блокнота.
— В течение 1941 года переписка между фюрером и его любимым ученым стала еще более энергичной. Деньги так и лились в лагерь для ускорения экспериментов. Гитлер хотел доказать, что немцы стоят выше всех в воздвигаемой им иерархии рас. Но потом Фишер совершил в Гюрсе открытие, которое было куда более принципиальное и усложняющее ситуацию. Он предсказал, что процесс, приведший к появлению каготов, может повториться; он сообщил Гитлеру, что вскоре от Homo sapiens может отделиться еще один вид, как отделились каготы…
— Евреи! — перебила его Эмми.
— Да, как мы поняли из этих документов. — Саймон показал на один из открытых ящиков. — Потому что, в рамках своей веры, они сами ушли в изоляцию, строго запретив браки вне своей общины, а это способствовало генетической изоляции от остального человечества, от общей семьи народов… И евреи-ашкенази уже постепенно становились новым подвидом, а возможно, и видом, со своим уникальным генотипом. И все это Фишер изложил в письме к Гитлеру. Вот в этом письме. — Саймон взмахнул бумагой, потом снова уткнулся в свои записи. — То есть на самом деле Фишер объяснил Гитлеру, что, как ни парадоксально, изоляция, на которую нацисты обрекли евреев, только увеличила шансы и скорость этого видообразования. Передавая фюреру эти сведения, Фишер прекрасно понимал, что тот придет в восторг от доказательства инаковости иудеев. Но проблема была в том, как неохотно признался Гитлеру Фишер, что евреи в определенном отношении постепенно превращались в превосходящий вид. В интеллектуальном отношении. Они превосходили даже немцев… — Он снова зашелестел страницами блокнота. — Да, но как это произошло? В течение веков Талмуд и обычаи превозносили важность и славу ученых. И для еврейской девушки в средневековой Европе не было жениха желаннее, чем блестящий рабби, его всегда предпочитали успешному купцу или богатому ювелиру. Таким образом, мозговитые имели больше детей, чем мускулистые. — Саймон посмотрел на Эми и кивнул в ответ на собственные мысли. — Генетическая эволюция евреев шла в сторону отбора все большего и большего интеллекта. А еврейские погромы только увеличили этот эффект. Во времена бедствий и преследований выживали самые умные и умеющие приспособиться; менее сообразительные погибали.
Саймон откашлялся, стараясь не показать своих чувств. Потом продолжил:
— И… результатом этого многовекового давления, толкавшего к развитию интеллект иудеев, равно как и генетическая изоляция в гетто и в рамках чертах оседлости, привели к тому, что евреи быстро эволюционировали, превращаясь в более умный подвид человечества. Но были и побочные следствия: евреи как никто другой стали склонны к ряду генетических расстройств, вроде… как ты это назвал? Болезнь Тея — Сакса?
Ангус кивнул. Саймон вернулся к своим записям.
— Но зато евреи стали умнее прочих. И все эти синдромы могли быть просто генетической ценой, которую они должны были заплатить за свой творческий и интеллектуальный дар. Это удивительное открытие, сообщенное Евгением Фишером в Берлин, пробудило в уме Гитлера самые темные страхи. Пока фюрер не знал о результатах работы своего генетика, он изобретал разнообразные планы относительно европейских иудеев — например, можно было отправить всех их на Мадагаскар или использовать как рабов в какой-нибудь из самых отдаленных областей России… Но теперь, имея в руках данные Фишера, Гитлер понял, что выбора у него нет. Он должен ударить прямо сейчас, пока имеет власть над Европой, до того, как эти слишком умные и слишком другие иудеи не станут по-настоящему превосходящим видом, уже полностью отличающимся от остального человечества, и сами не поработят Германию. Поэтому в 1942 году Гитлер пришел к окончательному и бесповоротному решению: он задумал полностью уничтожить всех европейских евреев, несмотря на огромную цену этого и возможные отрицательные последствия для немецких военных усилий. Гитлер должен был раз и навсегда покончить с этой угрозой превосходству арийской расы. Но он также решил извлечь из своего знания о рождении новых видов человечества и еще одну пользу: с помощью этих данных надавить на католическую церковь.
Дэвид вскинулся:
— Миланское соглашение?
— Да. В тайном договоре, подписанном в Милане в 1942 году, Гитлер согласился помалкивать о разделении человечества на новые виды, что, безусловно, угрожало базовым католическим доктринам, если Папа Римский согласится хранить молчание относительно холокоста. Конечно, это был чистый блеф. Гитлер и без того не собирался обнародовать открытие Фишера относительно того, что евреи могут быть народом, превосходящим немцев. Он просто хотел их всех уничтожить. Но обман сработал. Папа молчал, когда немцы сжигали евреев в газовых печах, тем самым помогая немцам проводить чудовищный геноцид; и позор этой сопричастности Папы к массовому уничтожению до сих пор лежит на церкви грязным пятном.
Саймон перевел дух, явно устав, но все-таки продолжил:
— В общем… Между 1944 и 1945 годом союзники постепенно освободили оккупированную Францию. Нацистские врачи, работавшие в Гюрсе, испугались за свою жизнь. Но они имели на руках козырь, благодаря которому могли поторговаться: шокирующие результаты экспериментов Фишера. Ученый прекрасно понимал, что западные демократы не меньше католической церкви захотят утаить подобное знание — поскольку оно способно дестабилизировать только что достигнутый мир и, конечно же, даст мощную поддержку нацистской расовой теории. Поэтому тот рычаг давления, что держали в руках Фишер и его коллеги, работал только до тех пор, пока они могли скрывать результаты своих исследований. И вот был разработан план — в лабиринтах подвалов недоступного замка СС в Чехии, тогдашней Богемии. И здесь поспешно соорудили соответствующее задаче помещение — несмотря на то, что Красная Армия уже шла по Словакии. План сработал. Доктора, несмотря на то что совершили самые чудовищные преступления, угрожали открыть результаты своих экспериментов, если их начнут преследовать; поэтому перепуганные союзники поспешно оправдали их и вернули на работу в германские университеты. Данные Фишера остались похороненными в подземелье и никому не известными. Заговор молчания продолжал действовать. До определенного момента. К концу войны оставались еще люди, способные раскрыть страшные тайны экспериментов Фишера. Это были те, кто выжил в Гюрсе. В основном каготы и баски. Немцы просто ничего не знали об этих опытах. Следовательно, немногих оставшихся в живых надо было заставить молчать: это сделали с помощью огромных денег. Выживших в Гюрсе подкупила католическая церковь — и, прежде всего, ее толкнуло на такой поступок чувство вины за тех священников, что работали в концлагере. И конечно, церковь стыдилась своего сотрудничества с нацистами. Так что цена крови была уплачена. Те, кто остался в живых, рассеялись по всему миру; кто-то уехал в Британию, другие — в Канаду и Америку. Но для многих из этих людей деньги Гюрса были грязными, они ассоциировались с ужасами концлагеря. И они не прикасались к ним, предпочитая скрывать свой позор.
— А потом что же произошло? — спросила Эми.
— Ничего. Сначала, по крайней мере, — пожал плечами Ангус. — План работал, нацистские врачи понемногу умирали один за другим, как и те, кто выжил в Гюрсе.
— Но получается, что все забыли… о Келлермане? — сказала Эми.
Саймон кивнул.
— Да. Династия Келлерманов в далекой Намибии. Они были довольно близки с Фишером; генетик продолжал поддерживать отношения с ними и после войны. Да и вообще кое-кто из нацистских коллег Фишера сбежал в Намибию и жил там под защитой корпорации Келлерманов.
Дэвид оглядел всех по очереди.
— Но как со всем этим связана семья Келлерманов?
Ангус чуть заметно улыбнулся.
— На этот вопрос ответить нетрудно. По правде говоря, результаты работ Фишера интересовали Келлерманов ради народа иудеев. Старый Самюэль Келлерман безоговорочно верил словам из Третьей книги Моисея о том, что евреям самим Господом было позволено иметь рабов из иноверцев.
— Но… но Натан? — возразила Эми.
— Ну да, конечно, молодые Келлерманы были уже другими… они отказались от религиозных суеверий и предрассудков, но все равно остались страстными сионистами. Они были полны решимости создать, а потом и сохранить Израиль как родной дом для всех евреев.
— И что?
Ангус внимательно посмотрел на Эми.
— Подумай об Израиле, Эми. Ты ведь сама еврейка, ты все это должна знать. В течение семидесятых, восьмидесятых и девяностых годов в Израиле возникли демографические проблемы; и в итоге даже в родной земле иудеев их стало меньше, чем неевреев. А значит, Израиль не мог чувствовать себя в безопасности, и вполне могла возникнуть угроза нового холокоста…
Саймон перебил его:
— То есть получается, что результаты экспериментов Фишера как бы обещали нечто вроде философского обоснования пути спасения? Если бы было доказано, что иудеи стали особым подвидом по отношению к язычникам, иноверцам… или хотя бы генетически двигались в эту сторону, — это могло дать оправдание к своего рода дискриминации людей другой национальности внутри Израиля? С какой бы стати всякие посторонние повышали голос на земле, предназначенной для иудеев?
Эми покачала головой.
— Homo Judaicus? Жуть какая! Стыд!
— Но в этом есть смысл, — спокойно возразил Ангус. — Универсальные человеческие права не могут быть применены, если люди не такие, как все. Если будет доказано, что иудеи — другие, что они выше по всем параметрам, то они могут претендовать и на другое, более высокое право. Если уж тебе хочется довести логику идеи до конца, черт побери.
— И таким образом, — добавил Саймон, — Келлерманы хотели получить результаты работ Фишера ради своих сионистских целей… или, если это не удастся, повторить его… э-э… эксперименты, чтобы получить те же самые факты. Верно?
— Ну-у… — Ангус неопределенно взмахнул рукой. — В общем, первый вариант оказался недоступным. Никто не хотел им сообщать, где спрятаны документы. Так что оставался второй путь. Наука. Повторение исследований. Вот только науке потребовалось семьдесят лет для того, чтобы заново открыть то, что нацисты обнаружили в Гюрсе, и уже потом начинать доказывать все с нуля. Но даже теперь, когда наука может это сделать, остается немало сил, выступающих против самой концепции различия рас и евгеники. Проект по исследованию человеческого генома в Стэнфорде был закрыт под давлением западных правительств — и церкви.
— А Келлерман в ответ запустил проект «Карта генов»…
— Именно так. Те эксперименты, которые мы проводили в рамках этого проекта, напрямую финансировались «Келлерман Намкор». Тот старый нацистский врач, Дреслер, сбежал в Намибию в девяностых годах, после того как его узнал отец Дэвида. Но именно он сильно продвинул вперед проект «Карта генов», подсказав, как именно лучше всего повторить результаты Фишера. Он даже предложил исследовать кровь тех же самых людей — выживших в Гюрсе, в особенности каготов. — Чуть помолчав, Ангус продолжил: — И знаете что? Этот план вполне мог иметь успех, если бы Фазакерли не болтал лишнего. На конференции во Франции он начал хвастать, что уже готов с успехом повторить опыты Евгения Фишера, проведенные в Гюрсе. Я там был. Те, кто слышал Фазакерли, почувствовали себя оскорбленными. И я предполагаю, что именно тогда насторожилась и католическая церковь и тут же предприняла кое-какие серьезные шаги. Они тут же привлекли к делу Общество Пия X, потому что, как всем известно, оно состоит почти исключительно из бешеных фанатиков. А поскольку тайна Гюрса была им уже известна, то они готовы были на все, лишь бы круг посвященных не стал шире. Все это уходит корнями еще в вишистскую Францию.
Саймон бросил быстрый взгляд на Дэвида и снова уткнулся в свои заметки.
— А сочувствующие Обществу уже пресекли предыдущие попытки вытащить из могилы тайны Гюрса. Я говорю о родителях Дэвида — они приехали во Францию и, ничего не подозревая, начали искать корни Мартинесов, баскских предков…
Эми перебила его, и ее голос прозвучал зло и отрывисто:
— И Общество уже нашло самых беспощадных исполнителей своих заданий: террористов ЭТА, вроде Мигеля? Отлично! Натренированный убийца, глубоко религиозный католик. И у него была причина ненавидеть каготов… скрытая ненависть к самому себе…
Ангус подошел к одному из ящиков и, подняв его крышку, достал какой-то документ, украшенный несколькими черными свастиками.
— Да, в этом есть смысл… — неуверенно произнес Дэвид. Он изо всех сил старался не думать о своих родителях. Старался не думать о деде; старался вообще выбросить все мысли из головы. Он с трудом выдавливал из себя слова. — Они его использовали. Я имею в виду Мигеля. Волка. Потому что он отлично знал ключевой для них район — Страну Басков, где оставались многие выжившие в Гюрсе, где жили каготы…
Историю закончил Саймон:
— Да, и снова начались убийства. Тех, кто сумел выжить в Гюрсе, целенаправленно уничтожали. Убиты были и немногие оставшиеся в живых каготы, причем кое-кто из них — просто за то, что был каготом. — Саймон окинул взглядом подземное помещение, тускло освещенное керосиновой лампой, и закрыл блокнот. — И как раз в этом состоит трагедия каготов, ведь так? Они должны были исчезнуть. Они ведь были живым доказательством того, что процесс видообразования продолжается, что человечество не остается неизменным. Однажды то же самое может произойти и с евреями. Но стоит уничтожить каготов, по крайней мере, таких, чье происхождение является доказанным, — и все свидетельства видообразования исчезнут. Устраните каготов — и эксперименты Фишера невозможно будет повторить. Католической доктрине ничто не будет угрожать. Многорасовая демократия в безопасности. И потому последние оставшиеся каготы должны были умереть.
Все они долго молчали.
— Вот и всё, — сказал наконец Саймон. — Боже…
Тут заговорил Дэвид:
— Ладно. Надо нам уходить. Мы получили ответ. У нас теперь есть средство воздействия. Мы вытащим все это на свет…
Ангус все еще держал в руке старый документ.
— Дэвид… ты должен взглянуть на это.
Мартинес похолодел от ужаса. Вот оно и пришло…
— Да. Нет… зачем?
— Я нашел… мне в глаза бросилось имя, — пояснил Ангус. — Мартинес…
Он поднес лист бумаги к свету.
Дэвид схватил бумагу и с жадностью впился в нее глазами; руки у него дрожали, внутри все сжалось. Он прочитал документ дважды. Потом посмотрел на Эми, потом на Ангуса, потом снова на список имен. Он достаточно знал немецкий, чтобы уловить смысл; в уме у него от потрясения все перемешалось. Он протянул бумагу обратно Ангусу и попросил:
— Прочитай вслух…
Нэрн аккуратно взял лист и стал читать. Это была история, которую Хосе не рассказал Дэвиду… не смог ему рассказать.
— Твой дед… думал, что он кагот. Но он им не был. Это была ложь. Все объясняется вот здесь. После того как твой дед провел в концлагере около года, он прославился как постоянный источник неприятностей, подбивая молодых басков к бунту. И немцы нашли способ унизить его и заставить замолчать… переведя в секцию каготов. В бараки ненавистных отщепенцев. Его убедили в том, что он — отпрыск каготов. Но он был баском. Следовательно, и ты баск, Дэвид. Ты — баск.
Дэвид посмотрел на Эми. Его охватило огромное облегчение и радость освобождения. Но лицо девушки оставалось таким же напряженным и холодным; Дэвид не увидел ни радости, ни нежности… на нем были написаны только отвращение и страх. А потом и его радость погасла, сменившись таким же всеобжигающим ужасом. Пробудившимся от одного-единственного слова:
— Epa.
49
Саймон смотрел перед собой, побелев от ужаса. Мигель сверкнул быстрой улыбкой — и направил пистолет на Ангуса и Дэвида. Рядом с террористом стояли его люди, вооруженные до зубов, и еще они держали канистры с бензином и плоские серебристые пакеты. Возможно, это была взрывчатка. Террористы принялись за работу, быстро двигаясь в тени в дальнем конце подземного помещения.
Дэвид понял, что они слишком уж увлеклись финалом истории — и даже не услышали, как к ним подкрались Волк и его стая. И вот они здесь. И Волк улыбается, глядя на Эми.
— Эми… Muchas gracias, señorita[95].
Она тоже смотрела на него; ее голос прозвучал невыразительно, плоско, зловеще…
— Да… Я сделала… что обещала.
— Ты сделала.
Мигель громко и печально рассмеялся. Дэвид почувствовал, как в нем вскипает гнев, подобный приближающейся грозе.
— Ты… Ты, Эми?.. Ты предала нас?
Женщина даже не посмотрела в его сторону. Она не смела взглянуть на него.
Мигель быстро шагнул к Дэвиду. От террориста пахло сладким, пряным вином. Этот запах смешивался с острым запахом бензина, которым бандиты Мигеля обливали деревянные ящики. Дэвид мгновенно вспомнил вонь погребального костра в Намибии. Когда Эми спасла его. А теперь она его предала…
Мигель кивнул, почти сочувственно.
— Да, конечно, парень, она тебя предала. Она любит меня. И всегда любила. Что ей твоя жизнь…
Но Дэвид не обращал внимания на террориста; он гневно, яростно заговорил, глядя на Эми. А она съежилась, отводя взгляд, почти плача.
— Так значит, это была ты? Все время — ты? Ты сообщала ему, куда мы направляемся? В Намибию?.. Ах ты, гребаная сука…
— Довольно! — рявкнул Мигель.
Дэвид швырнул в Эми еще одно ругательство; девушка попыталась спрятаться в тень ящиков.
Улыбка Мигеля погасла.
— Зря ты ее винишь. Она ведь просто женщина. Arrotz herri, otso herri[96]. И, кроме того, Давидо, она поступила правильно, это просто нравственный выбор, она права. Потому что я — хороший парень. Герой. Мы все хорошие парни. Ты что, не понимаешь? Мы стоим на стороне добра! — Один глаз Мигеля слегка дернулся. — Если сведения, что хранятся в этом погребе, станут кому-то известны, то тогда все нации, расы, племена… они могут оказаться ввергнутыми в войну. Люди, которые не люди? Одна раса, возможно, превосходит другие? Ты только вообрази это! Одни человеческие виды воют с другими человеческими же видами! Подтверждается идея расовой иерархии. Доказаны выводы нацистской науки. И мир многорасовой демократии рушится!
Тут заговорил шотландец:
— Но ты не можешь остановить движение науки. Однажды в какой-нибудь лаборатории снова обнаружат различие в геномах, это ведь неизбежно…
— Так ли, Нэрн? — Мигель резко повернулся к ученому. — Правда ли это? Мы прикрыли проект в Стэнфорде. Мы прихлопнули «Карту генов». Все каготы мертвы, так что экспериментов Фишера никому и никогда не повторить. Мы выиграли. Мы и должны побеждать, или тебе хочется, чтобы население планеты стало подобно животным, крысам, дерущимся друг с другом, вечно дерущимся! Ты этого хочешь? Umeak![97] Да вы просто дети!
Террорист окинул взглядом подземелье; его люди уже разложили вдоль стен заряды взрывчатки — плоские, зловещие серебристые пакеты. Ящики, облитые бензином, готовы были вспыхнуть в любое мгновение.
— Отлично. Все почти готово. Bai.
Был ли у них какой-то выход, какой-то путь к бегству? Дэвид попытался пересчитать террористов — их было то ли семь, то ли восемь. Вооруженных, в темной одежде, весьма умело обращавшихся с бомбами. Они уже заканчивали свою работу.
Нет, выхода не было. Да и какое это теперь могло иметь значение? Их наконец загнали в угол; они пропали. И он, Дэвид Мартинес, должен был умереть, преданный женщиной, которую любил. И ведь он только что узнал правду о себе… Да, невероятная, горькая ирония.
— Мы готовы?
Один из бандитов обернулся.
— Bai, Мигель.
— Отлично. — Волк снова повернулся к пленникам. — Но я должен и поблагодарить вас за то, что вы помогли нам отыскать результаты работ Фишера. Их уже многие десятилетия ищут разные люди, агентства, правительства…
Мигель внимательно посмотрел сначала на Саймона, потом на Ангуса, потом на Дэвида, как будто хотел, чтобы они полностью сосредоточились на его дальнейших словах, — и заговорил подчеркнуто, размеренно:
— Конечно, вы-то думали, что за всем этим стоит церковь, ведь так? Вы сообразили, что тут должно участвовать Общество Пия X, а значит, решили вы, и вся церковь в это замешана, только она остается в тени, за сценой. Святая церковь! — Мигель покачал головой и самодовольно улыбнулся. — Ну, может, она нам немножко и помогла, в определенном смысле… но неужели вы действительно думали, что у Рима есть такие деньги, и средства, и желание, чтобы проделать все это, чтобы забрать все те жизни, а? Кардиналы с пистолетами и реактивными снарядами? Правда? Bai? Вы действительно видите в этом смысл? Хотите знать, откуда действительно взялись денежки на все это?
Свет керосиновой лампы стал совсем тусклым, воздух сгустился, было трудно дышать. Мигель продолжил:
— Деньги приходят из гораздо более высоких сфер. Ну, скажем… из Вашингтона, и Лондона, и Парижа, и Иерусалима, и Пекина, — и, конечно же, из Берлина. Очень много денег и серьезная помощь из Берлина. Именно там находится правительство, которое видит в нашем деле свой долг, да, долг и предназначение, — чтобы знать наверняка: нацизм никогда не возродится ни в каком виде. Они на что угодно готовы, лишь бы избавить Германию от стыда и спасти мир от научного расизма. Они готовы призвать на службу любых фанатиков и террористов. Они постараются, чтобы эти фанатики действовали издали, оставаясь в тени. Чтобы у них было… как это по-английски… правдоподобное алиби! — Он отступил немного назад. — Что ж, прощай, Дэвид… и ты, Ангус Нэрн, и ты, журналист Куинн. Вы же понимаете, мы не можем оставить вас в живых. А следовательно, вы будете похоронены здесь, вместе с результатами экспериментов Фишера, навеки. Nola bizi, hala hil[98]. А подземный ход мы зальем цементом. И ту пивную снесем. — Он поднял вверх какую-то коробочку, видимо, пусковое устройство. — Вы будете лежать в самой впечатляющей из могил. Что, конечно, должно вам польстить. — Мигель криво улыбнулся. — Хотя вы и будете мертвы.
Он не успел еще договорить до конца, как Эми быстро вышла из тени. Теперь ее лицо было живым — живым и гневным.
— Мигель, ты же говорил, что отпустишь их!
— Поздравляю! Само собой, я солгал.
— Но, Мигель… ты говорил, что пощадишь их, ради меня… ты обещал…
Она расширенными глазами смотрела на террориста. Мигель нахмурился.
— Ты что, действительно думаешь, что я уж настолько тебя люблю? Моего маленького поросеночка? Шлюху, которая трахалась с этим американо? А?
Лицо Эми было освещено керосиновой лампой. И видно было, что она готова умолять Мигеля. Девушка, запинаясь, произнесла:
— Но я никогда не… не спала с Дэвидом.
Ложь была слишком нелепой. И Мигель отмахнулся от нее небрежным жестом. Эми повторила:
— Я никогда не спала с ним, Мигель. И это очень важно. Потому что… потому что…
Эми запнулась, прижав ладонь ко рту. Она хотела сказать что-то еще, но не смогла. Однако Дэвид заметил, как другая ее ладонь осторожно легла на живот. Жестом защиты.
Дэвид, охваченный гневом, все понял.
— Нет!..
Это единственное слово прозвучало так решительно, что все повернулись к нему.
Он снова заговорил:
— Ты беременна?!
Мигель шагнул вперед. Дэвид повторил, глядя на Эми:
— Ты беременна! И ты знаешь, что это его ребенок. Ты знаешь, что это его ребенок?
Эта последняя пытка была невыносима. Лицо Эми заливали слезы. Она кивнула и схватила террориста за руку, потом притянула его большую темную ладонь к своему животу, прижала…
— Он твой, Мигель. Он твой.
Дэвид не просто получил отставку, все это смешалось с еще большей трагедией. Эми предала его, предала их всех, а теперь еще и это? Он посмотрел направо, налево — на Саймона и Ангуса. Оба они ждали, глядя на Мигеля, на Эми, на пусковое устройство…
— Значит, у меня есть сын? — Мигель произнес это шепотом, хриплым, ликующим. — Значит, у меня есть сын! Ребенок. Или дочь… — Его глаза сияли. — Род Гаровильо жив… наше имя не исчезнет…
Он отошел от Эми, шагнул к ящикам и поднял пистолет.
— Эми, только ради тебя я их просто пристрелю. Это куда лучше, чем сгореть заживо. Я убью твоих дружков прямо сейчас. Чтобы избавить их от боли. Они ведь не хотят гореть заживо.
Мигель махнул пистолетом в сторону Дэвида. Остальные бандиты, уже закончив свое дело, стояли вокруг Мигеля, заложив руки за спины. Взрывчатка была готова. Она ждала.
— На колени!
Дэвид отрицательно качнул головой. Мигель снова ткнул в воздух пистолетом.
— На колени!
— Да пошел ты…
Мигель подошел к Дэвиду и, опустив тяжелую руку на плечо юриста, вынудил его опуститься на пол. У Мартинеса не было выбора. Дуло пистолета находилось в нескольких дюймах от его уха. Он медленно опустился на колени на бетонный пол, в полутьме…
Эми не отрываясь смотрела на Дэвида. Ее глаза блестели. Мартинес проклял ее обжигающим взглядом. Теперь он испытывал к ней одну лишь ненависть. Может, Эми наслаждалась происходящим? Радовалась, что вот-вот избавится от него? Возможно, она никогда его и не любила? И всегда принадлежала Мигелю?
Гаровильо присел на корточки перед Дэвидом, держа пистолет в трех дюймах от глаз проклятого соперника. При этом он улыбался, надув губы, словно посылал воздушный поцелуй.
И тут вдруг Эми закричала:
— Я убью ребенка! Прекрати! Прекрати сейчас же!
Дэвид растерянно оглянулся на нее.
Эми держала в руках нож Саймона, и лезвие было направлено на ее живот. Стальной острый кончик нацелился прямо на нерожденное дитя, готовый пронзить плод.
Дэвид посмотрел на Ангуса — шотландец от изумления разинул рот.
Эми повторила еще громче:
— Отпусти их, Мигель! Потому что я действительно убью ребенка! Твоего сына! Последнего кагота в мире, того, что сейчас в моей утробе! Я его убью! Отпусти их, а потом можешь тут все взрывать, но их отпусти!
Разъяренный Мигель с рычанием подскочил и по-волчьи бросился к Эми, пытаясь дотянуться до ножа и выхватить его, хотя она и могла в любой момент им воспользоваться; и пока он боролся с Эми, она закричала Саймону:
— Лампа!
Все случилось в одно мгновение. Керосиновая лампа пролетела над деревянными ящиками и разбилась о стену за ними. И ее огонек моментально перекинулся на бумагу и дерево, пропитанные бензином. Подземное помещение буквально взорвалось: бешеные потоки пламени хлынули во все стороны, исходя черным дымом, раскаляя воздух, выжигая из подвала жизнь. Кто-то из людей Мигеля закричал — у него загорелись волосы. Мигель тащил Эми; она что-то кричала Ангусу. Где он? Потом Дэвид увидел: шотландец замахнулся фонарем над головой Мигеля. Удар был настолько силен, что Дэвид услышал его сквозь гул огня.
Все произошло молниеносно. Всю картину так быстро затянуло дымом, что Дэвид уже не мог рассмотреть, что там случилось дальше. Упал ли Мигель? И где Саймон?.. Воздух был пыльным и горячим, все вокруг громко кричали, огонь наступал… Эми? И тут он осознал, что кто-то буквально визжит:
— Бегите! Взрывчатка!..
И они побежали. Они мчались в окружившем их хаосе… к туннелю, к выходу, к спасению. Но Дэвид задержался на мгновение и тогда увидел: Мигель лежал на полу, залитый кровью. Однако террорист тянулся к чему-то неподалеку от себя, между вонючими языками горящего керосина. Он нащупывал пусковое устройство… он хотел все взорвать. Дэвид был достаточно близко, он попытался наклониться и схватить механизм. Но опоздал. Кагот уже нажал на кнопку.
— Нет…
— Дэвид! — отчаянно вскрикнула Эми.
Ее голос заглушил странный хлопок, как будто что-то сломалось… и подземная комната на долю секунды словно затихла, вздрогнув… а потом ударила взрывная волна.
Это было похоже на удар под ложечку, полученный от самого Бога, и Дэвид, полетев в угол, растянулся на бетонном полу… А потом все исчезло в дыму и тьме.
50
Боль была глубокой и сильной, она забралась куда-то в самую глубину его тела. Боль, что жила в темноте, как лишенные век глаза какого-то зверя. Но потом Дэвид прислушался к себе и понял: он жив. Конечно, он был завален обломками камней, почти не мог двигаться, но мог дышать и видеть.
От подземного помещения ничего не осталось. Камни и земля заполнили почти все ее пространство, похоронив под собой ящики и погасив огонь. Вокруг воцарилась глухая тишина. Дэвид осознал, что ему, похоже, невероятно повезло. Если бы взорвались все установленные террористами заряды, он бы наверняка погиб. Но, возможно, огонь повредил соединявшую пакеты проволоку, а может, по какой-то другой причине сработал только один заряд.
А так… Огонь умирал, а Дэвид оказался в каменной ловушке. И он не слышал ни единого звука, который говорил бы о чьем-то присутствии, и конечно, никто не собирался его спасать.
И тут… Что за звук? Дэвид посмотрел направо, налево; откуда-то со стороны входа в туннель сочился свет. Там была щель, и она впускала в подвал воздух, одновременно втягивая в себя печальный серый дым.
Куча земли в нескольких метрах от Дэвида шевельнулась. И из нее показалось лицо.
Мигель, отряхивавший с себя песок и каменную крошку.
Мигель не погиб. Этот неистребимый убийца, этот jentilak из горных лесов…
Террорист лежал ничком, из раны на его голове, сбоку, обильно текла кровь, а вторая огромная рана красовалась на его ноге, мутно поблескивая в полумраке.
Дым и пыль взрыва задумчиво плыли под потолком, а последние языки огня постепенно угасали.
Мигель увидел Дэвида. Нахмурился. Расхохотался, покачал окровавленной головой. А потом сбросил со своей груди обломок ящика и перекатился в сторону, высвобождаясь, и тут же пополз по разломанному бетонному полу — к Дэвиду.
Мартинес похолодел, как будто вся его кровь превратилась в лед. Что-то невыразимо ужасное было в медленном, отвратительном движении кагота, волочившего за собой искалеченную ногу. Волочившего самого себя к Дэвиду…
Отчаянно стремясь сбежать от этого гигантского червя, от этого ползущего к нему окровавленного хищника, Мартинес попытался вырваться из завала, но камни и обломки бетона были слишком тяжелыми. Эта масса расплющивала его. Он как будто стал ведьмой, которую зажали между каменными плитами. А Мигель уже добрался до него.
Террорист истекал слюной... Сорвав с Дэвида рубашку, он обнажил его тело. С его крупных губ, покрытых шрамами, свисала струйка пенистой слюны; Дэвид рефлекторно дернулся, когда теплая капля упала на его кожу.
Кагот просиял ликующей улыбкой.
— Jaio zara, hilko zara…[99]
Мигель отер рот и оскалил зубы, а потом прижался зубами к коже Дэвида и начал кусать… он собирался сожрать Дэвида живьем… Мартинес чувствовал, как зубы террориста впиваются в мышцы над его желудком и двигаются, двигаются; Мигель пытается прокусить кожу насквозь, постанывая от наслаждения, вгрызаясь в живой живот живого человека, всасывая выступившую кровь…
Но Мигеля отшвырнул в сторону выстрел, и Дэвид судорожно вздохнул… Вторым выстрелом террористу разнесло голову, и она превратилась в огромный кровавый цветок, в омерзительную кровавую гвоздику… Кагот был мертв. А над ним стояла Эми, и рядом с ней — какие-то мужчины. Они пролезли в подвал через ту щель, что пропускала свет, и Дэвид в ужасе, в панике смотрел на Эми, и Ангуса, и остальных, когда они расшвыривали камни, освобождая его…
— Идем, — сказала Эми, поднимая его на ноги.
Дэвид посмотрел на свой живот. Рана кровоточила, на коже был отчетливо виден след укуса — но в остальном он был в порядке.
— Скорей! — крикнул Ангус.
Он дернул головой, показывая в сторону выхода. Похоже, наверху были солдаты. Или полицейские, и еще кто-то пробивался в подвал со стороны подземного хода…
— Но… — запротестовал Дэвид. — Но…
Эми сжала его руку. Ее взгляд был горячим и яростным.
— Я договорилась с полицией. Им был нужен Мигель, Дэвид. И я сдала им Мигеля и архивы тоже — ради нас, тебя и меня. А теперь постарайся двигаться побыстрее… там перестрелка, в пивной, люди Мигеля схватились с полицейскими…
— Надо бежать!! — заорал Ангус.
Начался новый камнепад. Куски камня, грязные валуны сыпались с потолка; подземелье рушилось. Они выбрались через дыру в подземный коридор и помчались со всех ног, спасая свои жизни; на них сыпались земля, камни… и они бежали, бежали, а их догоняла каменная приливная волна, как некий дикий зверь, как все пожирающий на своем пути пещерный монстр — серая и черная каменная пасть… она пыталась проглотить их, словно подземный волк.
Но они все же добрались до маленькой двери, и грохот камнепада начал утихать за их спинами. Они ворвались в пивной бар, моргая и задыхаясь, ослепленные ярким светом.
Их ожидали несколько немецких полицейских. И чешских тоже. И офицер Сарриа был здесь. И тот, другой полицейский из Биаррица. И еще какие-то люди в строгих костюмах и темных очках. Спецслужбы? И еще тут были врачи, помогавшие раненым.
Один из немецких офицеров подошел к Саймону, держа в руке сотовый телефон.
— Герр Куинн?
— Да… но…
— Тут детектив из Скотланд-Ярда. — Немец протянул ему телефон.
Журналист взял трубку и, пошатываясь, вышел на улицу, в серый влажный октябрьский воздух. Дэвид наблюдал за ним; потом он увидел сквозь открытую дверь, как Саймон заплакал и как-то весь ослабел и пошатнулся. И прикрыл ладонью глаза, стараясь скрыть постыдные слезы.
Наверняка Тим погиб. Они опоздали, не успели вовремя его освободить.
Дэвид, Эми и Ангус тоже вышли под дождь. Большие блестящие полицейские автомобили выстроились вдоль дороги; еще тут ждали несколько машин «Скорой помощи», над ними вспыхивали красные огни; несколько машин уже уезжали вверх по холму. Поодаль стоял взвод усталых солдат.
Вообще вокруг царила неразбериха; полицейские то вбегали в пивную, то выскакивали обратно… Что-то выносили — вроде бы невзорвавшиеся заряды или что-то похожее на них.
Дэвид посмотрел на Эми, на ее лицо, покрытое полосами грязи и крови. Но она была жива. И невредима. Неужели она действительно была беременна?
Эми покачала головой. И заговорила:
— Послушай… дай мне сказать. Я знала, что он все равно может нас найти. К тому времени, когда мы добрались до Амстердама, я уже понимала… понимала, что Мигель никогда не остановится. И однажды, где-то, он нас все равно настигнет. Мы должны были сами заманить его в ловушку. В такую ловушку, где мы могли бы убить его. Где его могли бы схватить копы. Я не могла сказать тебе об этом, потому что… я ведь понимала, что ты слишком сильно меня любишь… И… и потому… — Она моргнула, вытерла глаза тыльной стороной грязной ладони и продолжила: — Ты бы ни за что не позволил мне рискнуть, Дэвид… особенно если узнал бы, что я беременна. И эта беременность была моей козырной картой, если бы нам понадобилось выиграть время. И так оно и вышло, я оказалась права… нам понадобилось купить несколько минут. — Она смотрела на Дэвида спокойно и в то же время с глубоким чувством. — И потому — да, я позвонила Мигелю. Предала нас, рассказала ему, куда мы направляемся. Он мне поверил. Он все еще любит меня. Он все еще любил… Он хотел верить.
— Но…
— Но потом я набрала номер того полицейского, офицера Сарриа. Он сообщил обо всем немецким и французским властям. Сообщил им, где они могут получить то, что им так нужно — Мигеля, — и покончить со всем этим, и заодно найти архивы Фишера. Чтобы все данные можно было уничтожить. Всё равно все каготы мертвы…
— Ты заключила сделку с полицией?
— И с Мигелем тоже. Да, мне пришлось, Дэвид. Но это было так трудно… Мигель добрался сюда первым; если бы он заметил хоть какие-то признаки присутствия полиции, то и близко к нам не подошел бы. Но полицейские уже несколько дней следили за нами. Нам повезло. Очень повезло. Они согласились нас отпустить, но мы должны молчать. Всегда. Вот такая сделка, ради того, чтобы мы все остались в живых. Все мы.
Она покачала головой и снова тем же самым жестом, что и в подземелье, прижала ладонь к животу.
— Так это правда? Ты действительно…
— Да.
Дэвид не мог решиться задать ей главный вопрос, вертевшийся у него на языке. Вместо того он отвернулся и уставился на унылую улицу, где под дождем грустно подмигивали сигнальные огни полицейских машин, как синие звездочки, начерченные на старой серой карте.
51
Выйдя из-под душа, Саймон вытерся и натянул рубашку. До него снаружи доносился негромкий смех, радостные звуки летнего дня.
Он быстро вышел на лестницу. И не в первый раз за эту неделю посмотрел в окно, на голубые, солнечные Пиренеи, высившиеся по другую сторону долины, на их вершины, присыпанные снегом… Потом бегом спустился по освещенным солнцем ступеням в просторную кухню виллы. Ему хотелось присоединиться к друзьям поскорее, пока так ярко светило солнце, пока не закончились полуденные часы.
Но тут его внимание привлек некий предмет.
На кухонном столе лежал какой-то пакет. Он был адресован Саймону Куинну и (или) Дэвиду Мартинесу.
Марки были южноафриканские. И Дэвид сразу узнал почерк.
Волнуясь, он распечатал посылку. Из нее выпали два предмета. Клочок волос. И маленькая игрушечная собачка. И еще там была записка.
«Позвони мне по этому номеру».
Стараясь взять себя в руки, Саймон подошел к двери, что выходила на лужайку у реки. И набрал номер. Голос, ответивший ему, был таким знакомым…
— Привет, Ангус!
— Привет. Так ты отдыхаешь вместе с мистером и миссис Мартинес?
— Да, решили отдохнуть пару недель.
— Отличная новость. Купаетесь в деньгах?
— Ну… А ты-то как? — Саймону отчаянно хотелось задать тот самый вопрос; но так же отчаянно ему не хотелось знать ответ. Он прислонился к теплой от солнца стене. — А что вдруг за внезапная потребность поговорить? У тебя все еще небольшая паранойя?
— Нет, я уже совсем успокоился. Просто понял, что они действительно должны были согласиться на предложение Эми. Наши жизни — за жизнь Мигеля. И за уничтожение архива Фишера. И если бы они задумывали что-то еще, оно уже случилось бы за эти три поганых года. Так что — да. Я тут сижу себе потихоньку, кое-чем занимаюсь. Ну, ты понимаешь.
— Да, это хорошо, рад слышать. И… — Саймон посмотрел на цаплю, парившую в небе над длинной долиной Гаскони. — И где же ты?
— В маленьком городке рядом с Сидабергсом. И у меня достаточно алмазов, чтобы баловаться вяленым мясом.
— Отлично.
И снова Саймону захотелось задать тот самый вопрос, и опять он не смог его произнести. Поэтому спросил о другом:
— Знаешь…
— Что?
— Ты ведь так нам и не сказал. Ты нашел Альфонса?
Задумчивое молчание воцарилось на другом конце мира. Потом Ангус ответил:
— Мне понадобилось на это шесть месяцев. Я обшарил всю пустыню. Но — да, нашел… то, что от него осталось. Он похоронен там, в пустыне. Бедняга Альфи…
Саймон немного подумал.
— Это помогло?
— Ты имеешь в виду… Наверное, ты прав. Хотя я всегда буду чувствовать себя виноватым. Но так ведь и прежде было. Наверное, это генетическое. И кстати, о генетике… — Голос Ангуса стал ровнее. — Я хотел сказать тебе это лично, а не передавать в какой-нибудь дурацкой эсэмэске. Конечно, лучше было бы сказать самому Дэвиду, но, наверное, через тебя… легче. — Шотландец немного помолчал. — Я провел оба теста, Саймон. Успешно.
— Неплохо.
— Спасибо. По сути, мне очень нравится думать, что я — единственный генетик в мире, который вообще мог это сделать: добыть достаточно генетического материала из игрушечной собачки, например… но я с этим справился, да. Я добыл ДНК твоего брата. И сравнил с ДНК из волос твоего сына.
— И где ты этим занимался?
— Нашел тут одну лабораторию.
Настал тот самый момент. Саймон почувствовал, как от напряжения его горло словно стиснуло стальным обручем. А Ангус продолжал:
— Тимоти Куинн, твой покойный брат, обладал классическим набором генов человека, склонного к умственным расстройствам, искаженной последовательностью в NRGL и DISCL. — Немного помолчав, ученый торжественно продолжил: — Могу сказать с уверенностью на 99,995 процента, что у твоего сына Коннора нет подобного нарушения.
— И это значит?..
— Что он это не унаследовал. Конечно, твой малыш вполне может умереть от сердечного приступа лет эдак в пятьдесят, этого я не исследовал. Но никакой шизофрении. С ним все в порядке.
Чувство облегчения было таким ошеломляющим, что Саймону показалось, будто он в жаркий день нырнул в ледяную воду. Куинн глубоко вздохнул и сказал:
— Спасибо, Ангус. И?..
— И там тоже новости хорошие. Впрочем, и без того было чертовски непохоже на то, чтобы Мигель мог стать отцом, у него были с этим врожденные проблемы. Но теперь мы имеем научные доказательства. Маленькая мисс Мартинес действительно дочь Дэвида Мартинеса. Уверен на 99,99 процента. Так что и тут тоже порядок. И ни у Дэвида, ни у его дочки нет никаких… меток каготов. Он — баск, а значит, и его дочь — тоже.
Саймон с трудом пробормотал:
— Ох, ладно… спасибо, что проделал всю эту работу.
— О чем тут говорить… — немного задумчиво произнес шотландец. — Ладно, мне, пожалуй, пора идти. Передай мою нежную любовь Дэвиду и Эми, когда будешь сообщать им новости. И скажи, мне нравится имя, которое они выбрали. Может, мы вскоре снова увидимся. Пока!
Разговор был окончен.
Саймон опустил телефон в карман и вышел наружу. Эми и Дэвид сидели в пластиковых креслах на берегу реки; это была картина безмятежного довольства.
Журналиста охватила радость, взбодрившая его. Но к счастью все равно примешивалась легкая боль, вечные и неизменные угрызения совести. Как всегда. И так будет всегда. С Коннором все в порядке, но Тима не вернуть. И гармония жизни не изменится: в ней всегда будут звучать и низкие ноты горя, и чистые ноты любви и радости.
Саймон сел в пластиковое кресло рядом с Дэвидом. Тот обернулся.
— Сьюзи отправилась в супермаркет… вместе с Коннором. Думаю, решила прикупить еще вина.
— Отлично.
— Та посылка, — продолжил Дэвид. — Я ее видел. От Ангуса?
— Да.
Последовала пауза.
— Ну, и?..
— Она твоя. Как ты и говорил. Ты ведь говорил, что уверен в этом.
Дэвид кивнул.
— Я просто хотел удостовериться. Но все равно я не стал бы любить ее меньше. Она моя дочь. Но… в медицинском смысле нам нужно было знать. А что насчет Коннора? Он…
— В порядке. В полном порядке. Ничего нет.
— Прекрасно! Это действительно хорошая новость.
— Да…
Они надолго замолчали. Эми встала, чтобы поиграть со своей маленькой дочкой; светловолосая двухлетняя крошка хихикала, подпрыгивая на месте, и показывала на птиц, сидевших на деревьях вдоль реки.
— Забавно, — тихо сказал Саймон. — Твоя дочь… она выглядит стопроцентной англичанкой. Во всех отношениях. Похоже, унаследовала гены своей прабабушки.
— И при этом она наполовину еврейка и на четверть — баск. Думаю, ее ждет блестящее будущее! Но пока она умеет говорить только «папуля, идем, купи-купи». — Дэвид наклонился вперед и окликнул свою малышку: — Элоиза Мартинес, будь повежливее со своей мамочкой! Она рассказывает тебе о деревьях.
Малышка улыбнулась.
В листве деревьев шелестел легкий ветерок; воздух был теплым, напоенным ароматами леса. Дэвид поднял бокал с вином в сторону горизонта, как будто приветствуя сами Пиренеи.
— Конечно, это значит… они действительно вымерли. Каготы. Несчастные проклятые. Они исчезли навсегда. — Он поднял бокал еще выше. — И теперь только горы помнят о них.
Саймон кивнул, отпил сока и стал смотреть на бурлящую воду реки Адур. Пейзаж был прекрасен, задумчив и безмятежен. Река беспечно мчалась через леса к далекому морю. Она напомнила Саймону смеющуюся маленькую девочку, бегущую в объятия матери.
Примечания
1
Добрый день (фр.).
(обратно)2
Гелий и водород (нем.).
(обратно)3
В пять часов вечера… опустошен (исп.).
(обратно)4
Центр города, сеньор? Да? (исп.).
(обратно)5
Шоссе (исп.).
(обратно)6
Supermercado (исп.) — супермаркет.
(обратно)7
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа (лат.).
(обратно)8
Cerveza (исп.) — пиво.
(обратно)9
Доброе утро (исп.).
(обратно)10
Пожалуйста, одно пиво (фр., нем.).
(обратно)11
Свободу заключенным, свободу стране (баск.).
(обратно)12
Очень глупо (исп.).
(обратно)13
Как дела? Приятно познакомиться! (баск.).
(обратно)14
Прости (исп.).
(обратно)15
Насилие (исп.).
(обратно)16
Язычники и ведьмы (баск.).
(обратно)17
Пожалуйста (исп.).
(обратно)18
Извини (баск.).
(обратно)19
Энока? Сюда (баск.).
(обратно)20
Это просто невозможно (баск.).
(обратно)21
Хочешь потанцевать со мной? (баск.).
(обратно)22
Иди, прощай (исп.).
(обратно)23
Закрытые горячие бутерброды с сыром и ветчиной, зеленый салат (фр.).
(обратно)24
Добрый вечер. У меня есть две комнаты… но они очень маленькие…
(обратно)25
Произошло от испанского «monaca» — кукла. Традиционно ее изготавливают в Кампани, чтобы высмеять пару заключившую неравный брак.
(обратно)26
Центр города (фр.).
(обратно)27
Что это такое? (фр.).
(обратно)28
Дверь каготов (фр.). Каготы — пренебрежительный термин, относящийся к группе жителей Гаскони и предгорий Пиренеев. Им приписывали распространение проказы и других столь же страшных болезней. Они были обязаны носить на одежде особые метки. В церквях для каготов была сделана отдельная боковая, очень низкая дверь, чтобы заставить их наклониться при входе и помнить об их подчиненном положении.
(обратно)29
К двери! (фр.).
(обратно)30
Ваш отец, ваш отец… (фр.).
(обратно)31
Редкая наследственная болезнь, проявляющаяся у детей в первый год жизни.
(обратно)32
Кто это? (фр.).
(обратно)33
И… бабушка… чашку чаю? (фр.).
(обратно)34
Безработица! (фр.).
(обратно)35
Невероятно (фр.).
(обратно)36
Не так ли? (фр.).
(обратно)37
Согласна. (фр.).
(обратно)38
Да, да (фр.).
(обратно)39
Естественно (фр.).
(обратно)40
Полностью (фр.).
(обратно)41
Пути каготов (фр.).
(обратно)42
1 Ин. 3:12.
(обратно)43
Быт. 4:15.
(обратно)44
Собаки Господни (англ.).
(обратно)45
Зд.: Валите отсюда, каготы! (фр.)
(обратно)46
Угри из Бильбао (баск.).
(обратно)47
Семя Змея… (баск.)
(обратно)48
Человечество (исп.).
(обратно)49
Путь! (фр.)
(обратно)50
Пекарня (фр.).
(обратно)51
Смалец и пиво (польск.).
(обратно)52
Извините меня (польск.).
(обратно)53
Засахаренные вишни (фр.).
(обратно)54
Пожалуйста, откройте дверь (фр.).
(обратно)55
Черный кофе (фр.).
(обратно)56
Простите (фр.).
(обратно)57
Церкви… общество… (фр.)
(обратно)58
Но… (фр.)
(обратно)59
Сеть и заговор! (фр.)
(обратно)60
Случайно (фр.).
(обратно)61
Отлучено от церкви (фр.).
(обратно)62
В самом деле (фр.).
(обратно)63
Жилая единица — один из известных проектов Корбюзье, где он, как полагают историки архитектуры, воплотил идею создания «Лучезарного города».
(обратно)64
Один момент (фр.).
(обратно)65
Трапезная, библиотека, кухня (фр.).
(обратно)66
Приорат Святой Марии Де-Ла-Туретт (фр.).
(обратно)67
К свободной архитектуре (фр.).
(обратно)68
Пива?.. (нем.)
(обратно)69
Добрый день (нем.).
(обратно)70
Не так ли? (нем.)
(обратно)71
Здесь (нем.).
(обратно)72
Гереро (овагереро) — народ группы банту в Намибии, Анголе, Ботсване и ЮАР, на сегодняшний момент насчитывающий около 270 тысяч человек. В 1904–1907 гг колониальными войсками кайзеровской Германии около 65000 (до 80 %) из племени гереро и 10000 (50 %) племени нама были уничтожены в ходе жестокого подавления народного восстания. В 1985 г. ООН отнесла уничтожение данных племен к актам геноцида, сравнивая его с нацистским геноцидом евреев. В 2004 году Германия признала совершение геноцида в Намибии.
(обратно)73
Дерьмо. Грязная сука! (исп.)
(обратно)74
Спасибо (баск.).
(обратно)75
Нельзя сделать при… (баск.)
(обратно)76
Эй! (баск.)
(обратно)77
Отлично, Энока (баск.).
(обратно)78
Любовника (баск.).
(обратно)79
До свидания! (баск.)
(обратно)80
Да? Нет? (баск.)
(обратно)81
Огонь. Ну же… (баск.)
(обратно)82
Не ем свинину! (баск.)
(обратно)83
Я закончил! (баск.)
(обратно)84
Всем доброго утра! (баск.)
(обратно)85
Торис, кофе! (баск.)
(обратно)86
Можно мне им воспользоваться? (фр.)
(обратно)87
Спасибо, твою мать, большое! (фр., англ.)
(обратно)88
Т.е. Левит.
(обратно)89
Я ничего не знаю, нет, нет, нет… (нем.)
(обратно)90
Хендрик Витбоой (о. 1840–1905) — вождь племени нама, организовал восстание против германской колониальной администрации. Национальный герой Намибии.
(обратно)91
Рехоботские бастарды и проблема бастардизации в контексте народности (нем.).
(обратно)92
Вымысел автора.
(обратно)93
Дверь иудеев? (нем.)
(обратно)94
Эксперименты Фишера (нем.).
(обратно)95
Спасибо, сеньорита (исп.).
(обратно)96
Странный город, город волка (баск.).
(обратно)97
Дети! (баск.)
(обратно)98
Как жить с мертвыми (баск.).
(обратно)99
Ты родился, ты умрешь… (баск.)
(обратно)


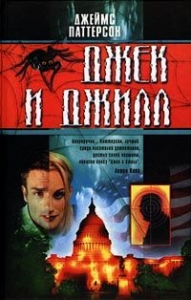



Комментарии к книге «Метка Каина», Том Нокс
Всего 0 комментариев