У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее как может.
Ж.-П. Сартр
Пролог
Черт ее раздери, эту московскую весну! — сам себе жаловался Иван Иваныч, перебираясь через лужи. Но сам же себе и не верил, знал, что лукавит. Нравились ему, определенно нравились и отсвечивающие небесной голубизной лужи, и отчаянно горланящие по весне птицы, и сами горожане — бледные, похожие на куриц, вынутых из морозильного шкафа и теперь размораживающихся в апрельских лучах. Как-то особенно, очень по-русски трогали его душу старушки, приторговывающие мимозой у метро: кто поосторожнее — еще в вязаных шапках, а некоторые — так уже легкомысленно, в съезжающих с поседевших челок платках. «Купи, милок, недорого отдам», надтреснутыми голосами уговаривали они, и Иван Иваныч поймал себя на том, что сглатывает кислую слюну, а рука уже лезет за пазуху, достает две сторублевые бумажки, протягивает старухам.
Эх, болван приезжий, как тебя развезло-то с непривычки! И куда ты теперь букет этот денешь? — недоумевал он только что содеянному, в то время как продолжал, пыхтя и отдуваясь, перепрыгивать через ручьи у тротуаров. А на сердце было уютно, мягко даже, прозрачно, как и в воздухе вокруг. И так и вертелись в голове какие-то знакомые строки, что-то про «облака вокруг, купола вокруг, надо всей Москвой, сколько хватит рук»… Единственное, о чем жалел, так это что погорячился, приехал в Россию в тонких кожаных ботинках. Нет бы, старый дурак, догадался захватить с собой резиновые сапоги! Хотя, город этот нынче статусный, по инстанциям в сапогах расхаживать — только на лишние очереди нарываться.
Поселился, однако, в «Пекине». То ли забытой советской романтики захотелось, то ли… да разве поймешь, какие бесы в очередной раз попутали? Дорогущие номера оказались довольно безвкусными, с излишней претензией обставленными в псевдо-ампирном стиле — с натуральным паркетом, величественными бархатными портьерами и даже какой-то невнятной картиной в золоченой раме, — словно всем своим интуристовским шиком выглядывающими из той, старой эпохи. Хотя кой-где, будто нувориши-недоучки, скалились в издевке некоторые неизбежные современности: в потолок неуютно вмонтированы рыбьи глазки подсветки, в ванной — бездушная (даром, что душевая) стеклянная кабина с уже разболтавшейся дверцей. Одно, несомненно, радовало: окна, как и просил, выходили на широченную равнинную реку Садового Кольца. Вечерами перемигивающаяся красно-желтыми фарами лавина еле движущихся автомобилей заползала в туннель под Тверской, и Иван Иваныч подолгу простаивал с кружкой дымчатого чая, любуясь на разлитые внизу огни и размышляя о причудливости и неисповедимости путей господних.
Вот они, прелести переменчивого московского климата! Разве дождешься такой капели на круглый год залитом солнцем Кипре? Вернуться, что ли, на родину, или все-таки поностальгировать чуток, запить киевскую котлету ста граммами «Столичной», да и ехать к себе обратно? Какая тут сейчас работа? Кому нужны доисторические аксакалы, олицетворение обстоятельной старой закалки, списанный молодой властью, поседевший материал с постоянно ноющей под ребрами язвой и, чего скрывать, далеко не идеальным кровяным давлением?
Вздохнув и придя к выводу, что не перезванивающийся капелью весенний город влечет его больные кости, а некий призрак, мираж давно позабытой здесь юности, пустые воспоминания, от которых пора бы уже и освободиться, Иван Иваныч пригладил широкими, еще сильными пальцами топорщащиеся моржовые усы и вернулся в кресло у выключенного телевизора. По какой-то административной ошибке номер выдали не обычный, а люкс. Лишней доплаты не попросили, и удивленно кивнувший немолодой и неулыбчивой ресепшионистке Иван Иваныч смел со стойки в кулак плоскую карточку электронного ключа и проживал теперь с комфортом: кроме кровати, окруженной с обеих сторон близнецами-тумбочками, в комнате имелся так называемый «мягкий угол», состоящий из вполне удобных кожаных кресел и журнального столика.
Табак в России пока еще разрешался везде. На столике поблескивала чистая пепельница; будто искушая и подмигивая, лежал в ней новенький, непочатый коробок гостиничных спичек. Привычно потянуло закурить, или хотя бы пожевать губами сигаретный фильтр, но Иван Иваныч отогнал дьявольский соблазн. Доктора (будь они неладны, нет бы хоть лечить умели) выкатывали глаза и вздымали руки небу, ужасаясь одной мысли, что заржавевшим сосудам Иван Иваныча придется столкнуться с таким испытанием, как никотин, капля которого (вот уж точно, бред сивой кобылы!) якобы убивает и не такую лошадь, как бывший посольский работник, а ныне исполнительный директор небольшой туристической компании, кормящейся, по старой памяти, все от того же русского посольства на Кипре. Там же, в одноэтажной оштукатуренной постройке, примостившейся на окраине Никосии, ждала Ивана Иваныча и жена. Ну ладно, пусть не жена, но, как говорится, доброе человеческое сердце, делившее с ним долгие вечерние думы, партейку-другую в ленивого «подкидного дурака», а также стол и постель.
Нет, — еще раз подумал Иван Иваныч и скосил глаза на покоящийся на столике обратный билет, — не нужен я златоглавой. Доделать дела, да и катить себе восвояси. Чао, гуд бай, ариведерчи. Эх, жизнь прошла как-то незаметно, бесцельно, почти бездушно, и даже родине-то я теперь ни к чему. Прибился, куда вышло, на какой-то богом забытый остров, да и на том спасибо. Там хоть кости не так ломит от сырости, да и Настя, поди, заждалась. А что до того, что блестит Москва, так это для молодых. Хотя, вспомнил он о грустной цели своего приезда, и им здесь живется, судя по всему, эх, как не сладко. Надо бы завтра не забыть дозвониться в нотариат и этот, как же он называется? — паспортный стол, а то так, глядишь, можно проволыниться и пропустить самолет.
В руках как-то сам собой снова оказался блокнот в переплете из черного коленкора. Бумага — желтоватая, разлинованная в полоску — рябила и морщилась, изгибаясь дугой от высохшей влаги. Пальцы задумчиво погладили корешок, сами перелистнули уже не раз прочитанные страницы. За окном сгустились ранние сумерки, но Иван Иваныч поленился вставать, сучить ногами в поисках тапочек, идти зажигать свет. Дальнозоркие глаза чуть прищурились, разбирая строчки. Хорошо хоть, что запись сделана простым карандашом, а то новомодные фломастеры совершенно неприспособленны к влаге, и от случившейся истории не осталось бы вообще ничего кроме кляксы, пустых страниц с размытыми буквами. А так, ну хоть что-то.
Запись находилась в середине почти пустого блокнота, вероятно писавший открыл его наугад и сразу бросился покрывать страницу быстрыми карандашными каракулями. Глаза Ивана Иваныча заскользили по строчкам, губы слегка зашевелились, сопровождая чтение, а сердце перешло на неровный, аритмичный стук. Удар, большой пробел, еще удар, опять пробел, потом еще удар, удар, удар, уже без паузы, с едва ощутимой тягучей болью… Щемит, — привычно отметил Иван Иваныч. — Плохо, плохо уже даются ему минуты грустных переживаний. Вот, поди, завтра опять тяжелый выдастся денек, в койку бы пора. Но кривые, наспех набросанные буквы уже поработили его и запрыгали в пляске:
«Удивительно, до чего же мучительно сложно писать о, казалось бы, такой простой вещи как счастье! Отказаться от привычного, почти уже механического цинизма и найти простые, но ясные слова для передачи этого искрометного, сверкающего, бесстыдного блаженства, чудовищного недоразумения, почти сумасшествия, со страшной силой завладевшего мной! Это тебе не заметки туриста; не постылый дневник, вяло перебирающий в памяти суету предпохмельных ночей; не какая-нибудь, с томной послеобеденной зевотой, словно прыщ, выдавленная из себя статейка в модный журнал — пустая, разумеется, критически настроенная против всего, что под руку попадет, безнадежно, намертво потерянная в круговерти обезличенных псевдо-интеллектуальных понятий, за которыми, как все давно знают, не скрывается ничего кроме слабости и трусости!
С чего бы мне начать? С чего вообще все начинается? Как понять, нащупать тот переломный момент, тот толчок, ту решающую минуту, после которой все, хоть и продолжало еще какое-то время по инерции выглядеть прежним, но изнутри, едва ощутимо, почти незаметно, уже стало меняться? У каждого хоть сколь бы то ни было значимого события, предельно краткого, даже секундного озарения есть своя предыстория, но чтобы увидеть ее, собрать все осколки и ретроспективно склеить в единую чашу истории нужна дистанция, временная перспектива, которой у меня пока нет. Я все еще слишком внутри поглотившего меня момента, сердце ухает вниз и замирает в невесомости, словно летящее навстречу стремительной неизвестности божественных чудо-качель. Чувства распирают меня, разрывают на части, хочется закрыть глаза ладонями, превратиться в античную маску и беззвучно кричать, но как, как — (когда душа парализована и нема от восторга), — как облечь все это в слова? В плоские, обычные, человеческие слова — такие непригодные, узкие, тесные… Как уложиться в двухмерное бумажное пространство, когда речь идет о чем-то хоть мало-мальски необычном, выходящем за привычную сферу постылого житейского водоворота? Мысли кружатся в голове полоумными пестрыми бабочками, но не дают поймать себя, нанизать на булавку, приколоть к блокнотной странице. Боже, дай мне силы не забыть того, что я только что поняла, пока я все-таки не найду в себе слов записать это! Или, вернее так: дай мне силы не забыть этого никогда! Соленые брызги покрывают мои плечи, щеки, пылающее лицо; руки дрожат (от сильной качки или опьяненные пронзительностью момента?); из глаз того гляди выскочат, выбрызнут слезы, и (о боже!) какая же это будет невыносимая сладость, мучительное неистовое наслаждение не сглатывать, не стесняться, не отворачиваться, а просто подставить лицо ветру и дать им свободу течь! Но как, с чего же именно мне все-таки следует начать? Наверное, так:
Я, Полина Власова, находясь в трезвом уме и памяти, какого-то, точно не уверена, числа марта две тысячи девятого года, (в голову лезет пионерское «торжественно клянусь», но клясться мне, собственно, не в чем), — обязательно должна записать нижеследующее. Боюсь, получается слишком высокопарно, но не важно. Момент и есть высокопарный, оглушающий, ослепляющий меня разлитым кругом золотом утреннего моря, покрывающий кожу робкими, испуганными мурашками предвкушения… Предвкушения чего? — Не знаю, и от этой неизвестности особенно захватывает дух. Мне кажется (зачеркнуто), нет, я абсолютно уверена, что с этой минуты вся моя жизнь сложится по-другому; улыбка, которая растягивает сейчас мое лицо до боли в непривычных к счастью мышцах , никогда больше меня не покинет, и тогда какая уже разница, что будет со мной дальше! Секунду назад я поняла что-то настолько для себя важное, что и жить дальше не за чем, и умирать теперь не страшно. Я впервые в жизни не боюсь своего будущего! Я совершенно нелепо, наивно, беззаконно и бессовестно счастлива!
Я целую этот блокнот, мне хочется обнять, изо всех сил стиснуть, оторвать от палубы и закружить удивленно глазеющих на меня тайцев, отдать им все свои деньги, оставшиеся в сумке бутерброды, мне кажется, я никогда больше не буду нуждаться в пище, буду сыта солнечными бликами и свежим соленым ветром, который окропляет, причащает меня конфетти морских брызг! Заберите мой паспорт, увольте меня из людей! Наши обычные человеческие жизни невыносимы. Они убоги, бесцельны, попусту суетны — да и бог бы с ним, если бы не главное: ко всему прочему они абсолютно наглухо, тупо и бездарно безрадостны! И никого это не беспокоит! Редко, редко когда наткнешься на человека, всерьез озабоченного не тем, как жить (читай: «прожить, выжить»), а искренне пытающегося найти ответ на короткий и неприятный вопрос: зачем ! Хотя, легко нападать на других. А ведь я ничем не отличаюсь, я тоже труслива, я хожу вокруг и около, не осмеливаясь записать главного. А главное (ух, зажмуриваюсь) — оно всегда рядом, протяни руку и станешь счастлив, но то, что лежит под носом, как раз труднее всего рассмотреть. Современное человечество безнадежно и отчаянно слепо. В молодости оно близоруко, в старости — дальнозорко, а воспетая «возрастная мудрость» — миф, прикрывающий горькую истину: мы привыкаем к серой жизни, перестаем ее замечать, а возраст в данном случае играет на нас, отнимая силы огорчаться тому, что мы, чем дальше, тем больше перестаем понимать, зачем все это было надо.
Хотя, о чем я пишу? К чему тут намеки на какой-то смысл? Ни в коей, ни в малейшей даже мере я не претендую на то, что он открылся мне, более того, что таковой вообще существует. Возможно, мы все не там ищем, и никакого понятного нам, трехмерного, обыденного, единого для всех смысла и вовсе нет, и быть не может. Но разве дело в нем, и разве будет он кому-то нужен, если человеку дано будет нечто иное: не равное, но как бы замещающее. Я уже почти подошла к нему, вот уже загустел воздух, стало трудно дышать… Решаюсь! Речь идет о счастье понимать, что ты живешь! В наших бессмысленных жизнях, как бы они ни складывались, всегда есть одна неоспоримая ценность, перекрывающая, да какое там! полностью заменяющая все остальные — просто сама жизнь , якобы бесцветный и бесплатный факт того, что пока чернота не навалилась на нас, пока легкие дышат, а тело способно двигаться — мы живы! И осознание этого есть абсолютное и самодостаточное условие для того, чтобы каждую минуту испытывать как искряще-эйфоричную и распирающую грудь от умопомрачительных приступов безумного, тотального блаженства! А все остальное есть лишь череда наносных, искусственных, не приносящих ничего, кроме неизбежных разочарований, событий, за которыми подмигивает, ухмыляясь, единственный гарантированный нам (но и единственный забытый нами) факт — наша смерть. Аминь!
Но как же трудно это понять! Не интеллектуально, а всем нутром, каждым нервом. Для того чтобы сия элементарная истина проникла в мое костное и замусоренное суетою сознание, мне пришлось лишиться многого, как мне казалось еще час назад — всего, из чего состояла раньше моя жизнь, а вернее, безнадежный тупик на задворках огромной человеческой фабрики, жалкий и склизкий проулок имени «Полины Власовой». Впрочем, кто я такая, чтобы жаловаться? У меня было все как у всех: типичный сценарий, где все происходящее воспринимается притупленно, покорно, как ряд хаотичных событий, над которыми у нас не больше контроля, чем над погодой: разве что успеваешь в последний момент взглянуть на небо и раскрыть зонтик, но не более того. В таких жизнях нет ни смысла, ни радости, ни видимой связующей нити, мы передвигаемся из сцены в сцену как жертвы, как куры, искренне принимающие потолок курятника за небо, и, так же как у них, в наших глазах не мелькает ничего, кроме расплывчатого сонного марева, лишь в последний момент сменяющегося отчаянием и ужасом.
Но мне неожиданно повезло: меня приперли к стене. Я долго пятилась, извинялась, привычно рыдала, пыталась найти спасение за чужими спинами, цепко хватаясь за соломинки тех, кто, как мне казалось, умеет управляться лучше меня. Но я ошибалась, ни за чьей спиной прожить нельзя. Это миф, самообман, мы и только мы сами творим собственное счастье и несчастье, наша судьба есть прямое следствие наших личных выборов, и не совершать их нельзя, какой бы устрашающей поначалу не казалась ответственность! Но для понимания этого необходим толчок, позволяющий прорваться сквозь привычно сковывающий нас страх, и именно за него, за эту искру, импульс я и должна сказать спасибо всем, кому суждено было невольно помочь мне в этом.
Людей, участвовавших в произошедшем со мной, было много, и сначала я думала, что никогда не смогу их простить. Но сейчас понимаю: здесь нет места прощению, передо мной никто не виноват, даже более того: я искренне благодарна им всем! Если бы не они, мне никогда не удалось бы найти выхода и почувствовать себя достаточно сильной, чтобы, наконец, построить свою жизнь такой, какой я ее хочу!
Ух, только что невесть откуда взявшаяся огромная волна перекатила через борт, промочив блокнот насквозь. Карандаш до дыр царапает мокрые листы, поэтому закругляюсь. Перечитала только что написанное. Запись вышла сумбурная, прыгающая. Как хорошо, что никаких читателей она не предполагает. Постороннему человеку, не пережившему то, через что пришлось пройти мне, все это показалось бы наивным, излишне драматизированным, или даже, как знать? — патетичным. Могу себе представить, как закатились бы глаза у Жанны, прочти она эти строки, но я больше никогда ее не увижу, так же, впрочем, как и всех остальных. Я осталась одна и, невероятно, но меня это радует! Мне еще много о чем надо подумать, но что-что, а времени теперь у меня сколько угодно.
Перед моими глазами раскинулся бескрайний океан, и пройдет как минимум неделя, пока я доберусь до пункта моего назначения — далекой Новой Каледонии. Вот ведь куда, однако, может закинуть нас путь! Часто слышишь выражение, что вся наша жизнь игра, спектакль, театр; но ведь что примечательно: в отличие от театра вам никто не раздаст заранее «программку», все судьбоносное здесь всегда случается внезапно, негаданно, когда меньше всего этого ждешь. Вот и моя история (какое громкое название, я даже нашла в себе иронию усмехнуться) еще каких-то несколько месяцев назад начиналась так обычно, глупо и почти безнадежно — в заснеженной и насквозь пронизанной ледяными декабрьскими ветрами Москве. И неизвестно, как бы все сложилось, не случись того четверга, с Петровским?»
Часть 1 Москва
То ж, что мы живем безумной, вполне безумной, сумасшедшей жизнью, это не слова, не сравнение, не преувеличение, а самое простое утверждение того, что есть.
Л. Толстой
1
— Это ваш? — доносилось издалека, глухо, как сквозь вату. — Ваш? Ва-а-а…
Голова кружилась. В желудке появился камень, дернулся, подскочил к горлу. Я наклонилась, оперлась рукой о фонарный столб и сплюнула что-то вязкое, обжигающее рот. Вытерла губы рукавом пальто. И опять, не в силах не смотреть, повернула голову.
Петровский лежал на асфальте в той позе, в которой любят спать дети: разметавшись на животе, подогнув под себя одну ногу и распрямив, энергично отбросив назад вторую. Было похоже, что он видит сон, в котором все бежит, бежит куда-то, а за ним словно гонятся, преследуют. Обеими руками он обнимал воображаемую подушку. Только вместо нее оказалась кучка темного, смешанного с грязью снега, быстро окрашивающегося в темно-бордовое, упрямо расползавшееся от головы Петровского пятно. Его очки лежали в полуметре, даже не разбившись. Дорогие очки, с фирменными золотыми нашлепками на дужках. В их стеклах поигрывали оранжевые отблески фонарей. Вот только с единственным видным мне глазом Петровского было не все в порядке. Он был открыт и смотрел в никуда пустым, слишком отрешенным взглядом.
— Это ваш? — продолжал повторять какой-то мужчина в кожаной куртке, вероятно, следователь, держа за плечи Аллу Семеновну.
Но та молчала и только крутила головой, в пушистой меховой шапке, похожая на вдруг ослепшую и ничего не понимающую птицу.
— Ваш? Да не молчите вы, очнитесь! Я ж все понимаю, но по опыту знаю, проще щас, чем потом… Вот бумага, распишитесь, и дело сделано. В ваших же интересах, выводку закончим на месте, в моржок отправим, время сэкономите.
— Отъебись, мудак! — сказал появившийся откуда-то Стас.
Плечи Аллы Семеновны перешли в его руки, а мудак в кожаной куртке обиженно отошел за ограждение и начал звонить по телефону, поглядывая в сторону открытого окна на седьмом этаже. Там уже суетились какие-то люди, милиция.
Место происшествия быстро обрастало толпой. Народ перетаптывался, шептался: «Убийство? Или сам?..»
— Иди сюда, — поманил меня Стас. — Отведи ее в машину. Пиздец какой-то, ну не стоять же ей тут!
Ноги плохо слушались, но я заставила их гнуться, кое-как подошла, не уверенная, что не потеряю сейчас сознания, подхватила под руки переданную мне женщину. Та не сопротивлялась. Обмякла и напоминала мешок, под завязку набитый безмолвным, онемевшим горем.
— Пойдемте, — говорила я.
Но женщина и так шла, и получалось, что я повторяла это самой себе. А так оно, наверное, и было.
— Сумка чья? Ее? — остановил нас кожаный.
Я перевела взгляд на то место, где минуту назад стояла Алла Семеновна.
— Наверное… Ее… Не знаю.
Но тут снова подскочил Стас, рванул следователя к себе, заматерился, чтоб оставил баб в покое:
— Мать это его! Врубаешься? Мать!
— Ну так я и говорю, раз мать, то пусть подпишет!
— Не врубаешься…
— Я не врубаюсь? Да я во все знаешь как врубаюсь! Я таких по три за смену вижу! Калдыри, из окон вываливаются…
— Кто калдырь? Кто калдырь, глаза разуй!
— Сам глаза! Руки убери! — вдруг разъярился следователь. — Сказал! Руки, быстро!..
Сумку подобрала Жанна. Странно. Когда она успела приехать? Она подхватила меня за локоть и поволокла в сторону машины. Замок, как назло, почему-то не открывался. А Алла Семеновна ждать уже не могла, стала тихонечко сползать из моих рук на снег.
И только посадив ее, наконец, в машину, закрыв дверцу и в изнеможении прислонившись к ней снаружи, я спросила:
— Это самоубийство?
Жанна неопределенно покачала головой:
— Не знаю. Я только что приехала. Но не убийство точно. Говорят, менты дверь взламывали. Закрыто было изнутри, на пять замков.
«Значит, самоубийство», подумала я. И вот с того-то момента все и началось. Хотя нет, на самом деле началось все не тогда.
Началось все еще раньше.
2
— Вы где? — кричит мне в трубку девушка-риэлтор.
Я морщусь и отвожу телефон подальше от уха.
— Да все там же, — устало отвечаю я. — Где ж мне быть-то? Переезжаю Вернадского, как я вам полчаса назад и говорила.
— Сколько мне тут еще стоять? Я замерзла! — девушка срывается на истерические нотки, как будто они могут что-то изменить в сложившейся ситуации.
— Ну хотите, пробирайтесь через перекресток и садитесь ко мне в машину. Здесь хоть тепло, — вяло предлагаю я. — Темно-синий «гольф»… сразу за троллейбусом… ровно напротив остановки.
Пешеходы, наверное, единственные участники движения в этом проклятом городе, которые хоть как-то могут перемещаться в пространстве. Прижав к себе сумочки и портфели, придерживая приподнятые от ветра воротники пальто и шуб и стараясь втянуть голову поглубже в плечи, они бесстрашно пробираются между намертво застрявшим автотранспортом, устремляясь в душные, но манящие банным теплом недра метрополитена. Метрополитен у нас в городе еще едет. Не сказать, что это придает желания им пользоваться, но надо отдать ему то немногое, чем он пока может гордиться — загруженные под завязку вагоны щелкают автоматическими дверями (какая издевка: «НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ»!) по торчащим спинам и, хоть и не обещают вспотевшим и задыхающимся пассажирам физического комфорта, довольно исправно переносят вас из точки А в точку Б, изрыгая спотыкающуюся человеческую массу на нужной станции.
Человек — существо загадочное, по всей вероятности созданное богами в приступе глубокого цинизма или, в лучшем случае, — безоблачной небесной скуки. Порой мне кажется, что мы уже давно им надоели, и, наигравшись нашей планетой, творцы увлеклись каким-то новым проектом, а мы остались тут сами по себе. Меня всегда удивлял оптимизм верующих людей: купив грошовую свечу, они искренне верят, что теперь все их бесконечные просьбы и жалобы будут непременно услышаны, грехи прощены, а мольбы поступят в божественную канцелярию, где будут занесены в папки «текущее» и в надлежащем порядке удовлетворены. Откуда у людей берется такая уверенность, что их проблемы и горести кому-то интересны, будут поняты, вызовут желание помочь? В конце концов, это противоречит условиям рыночной экономики: люди ничего не могут предложить Богу взамен полученного! Игра в одни ворота. По сути, — элементарная наглость. Но род человеческий неутомим в своем оптимизме, промокшие пешеходы пробираются среди машин, и если заглянуть сейчас им в души, то вполне вероятно, каждый из них думает о чем-нибудь светлом и приятном, — о любви, о близких, о надвигающемся на столицу Новом Годе, наконец.
О лобовое стекло бьются странные осадки неопределимой консистенции. Такое ощущение, что снег растерялся при виде этого города и никак не может определиться, то ли сыпаться острыми льдинками, то ли плюхаться мокрыми хлопьями. Я выключаю дворники, и мир передо мной немедленно заволакивает мутью. Все-таки это больше похоже на хлопья.
— Вы — Полина? — наклоняется к стеклу бледное девичье личико. Крепко сжатый кулачок стучит в окошко.
Я киваю и отключаю блокировку дверей. После того, как у Жанны прямо посреди дня стащили с заднего сиденья сумочку, я стала запираться изнутри. Говорят, что с кризисом ожидается рост преступности. Я пока его не заметила, но «на Бога надейся, а сам не плошай».
На переднее сиденье соскальзывает совсем юная девушка. Отряхивает дубленку, жарко дует на посиневшие пальчики, стягивает капюшон и по плечам рассыпаются влажные золотистые локоны.
— Извините меня… Там такой снегопад! У меня тушь… у вас есть зеркало?
Я показываю глазами на солнцезащитный козырек над ее сиденьем. Двумя пальцами, аккуратно, девушка снимает с ресниц комочки поплывшей туши и качает головой:
— Еще раз извините. Полчаса стою… нервы-то не железные… Я подумала, тут минуты три идти, может мы с вами быстренько так, пешком?
Нет, предложение отметается сходу. Пешком я никуда не пойду. Хотя бы потому, что не могу бросить машину посреди пробки. Но и не только поэтому. Я просто не хочу выходить из своего убежища, у меня давно уже нет сил смешиваться с той жизнью, месить новыми сапогами хлюпающую под ногами грязь. Вместо этого я предлагаю девушке сигарету. Она отрицательно крутит головой:
— Я не курю.
— Это правильно, — соглашаюсь я и закуриваю. Включаю погромче радио.
«В различных районах Москвы и области за прошедшие сутки выпал снег, который оказался неестественным, — сообщает нам почему-то радостный мужской голос. — Экспертиза показала, что техногенный снег появился в результате кристаллизовавшегося на морозе сырого пара, который выделяют предприятия и ТЭЦ столичного региона. Таким образом, Москва сейчас напоминает кастрюлю, закрытую крышкой. Все испарения утыкаются в эту заслонку. Если это пар, считают специалисты, то он кристаллизуется, а если это частички грязи, то конденсируют на себе атмосферную влагу и также выпадают в виде снега».
Я перевожу взгляд на девушку и развожу руками: мол, вот видите, техногенный снег… будем сидеть в машине.
— Вы же не хотите растерять ваши прекрасные локоны? — для пущей острастки спрашиваю я золотокудрую нимфу.
На вид ей не больше двадцати. Светлые глаза в ужасе хлопают ресницами. Она не хочет. Она уже пригрелась в машине и тоже не спешит теперь на улицу. Какое-то время мы молчим и слушаем диктора по радио. Оказывается, в наступившем неделю назад похолодании есть и свои плюсы: бурые медведи в Московском зоопарке наконец-то вчера улеглись в зимнюю спячку. Стоявшие в первую декаду декабря рекордные температуры в плюс девять градусов не давали бедолагам заснуть, и животные мучались вместе с людьми, недоумевая, куда мир катится. Теперь они заснули. Ну хоть кому-то хорошо…
Впереди на перекрестке начинается движение, застрявшая там десятиметровая фура, наконец-то, сдвигается с места, и вскоре мне удается обогнуть зажавший меня троллейбус. В нем, разумеется, нет ни единой души, кроме водителя, — ярко освещенный и при этом абсолютно пустой салон выглядит немного жутковато, будто из фильма-катастрофы — все его пассажиры давно сообразили выйти и пойти пешком. Черными ручейками они тянутся в разных направлениях вдоль университетской чугунной решетки. Молодежь смеется, мальчики заигрывают с девочками, кто-то бросается снежками. Люди постарше идут быстрым шагом, без особого восторга, по-деловому. У всех в руках пакеты и сумки. Наверняка с новогодними подарками. Стариков на улицах нет. Российская столица прямо на глазах становится самым молодым городом мира. Старики давно уже не высовывают без особой нужды своих бугроватых носов из дома. Зачем? Всем очевидно, они лишние на этом празднике жизни.
Еще сорок минут, и наша машина подъезжает к когда-то величественному сталинскому дому. Половина цокольного этажа занята бывшим магазином дизайнерских светильников, о чем все еще свидетельствует сделанная изящными золотыми буквами надпись: «Галерея Lux in tenebris».
— Вывеску придется снимать, — косится на меня девушка-риэлтор. — Вы же без нее брали помещение, надо в таком виде и возвращать.
Я достаю еженедельник и быстро чиркаю автоматическим карандашом: «вывеска». Мы выбираемся из машины. Я долго роюсь в сумочке, пока не выуживаю, наконец, как обычно куда-то запропастившийся ключ.
— Света нет, — поясняю я, щелкая зажигалкой и при тусклом свете голубоватого пламени пытаясь отключить сигнализацию. Металл быстро нагревается и обжигает мне пальцы. Черт! Волдырь останется… — Вообще-то у меня было освещение моими светильниками. Хозяйские мы сняли и, кажется, выбросили.
— Придется компенсировать, — девушка заглядывает на минуту в договор аренды. — Посветите мне, пожалуйста.
Я послушно подношу еще раскаленную зажигалку к договору.
— А у вас, кстати, не было изначально света, — говорит юная нимфа после паузы. — Вы так и снимали, просто с торчащими сверху проводами.
Одновременно мы поднимаем глаза на потолок. Слабо освещенный уличными фонарями, он напоминает кладбище, только вверх ногами: вместо крестов из него высовывается множество крюков. Еще недавно на них были развешаны продаваемые мной люстры. Сейчас же их мрачный вид вызывает мурашки.
— Здесь хочется повеситься, — нервно хихикает девушка.
Я слабо улыбаюсь:
— У вас еще все впереди.
Девушка серьезнеет и идет осмотреть помещение. Я же присаживаюсь на подоконник и закуриваю.
Когда-то… я задумываюсь… — да, почти ровно восемь лет назад, как раз тоже под Новый Год — я сидела на этом же подоконнике среди банок с краской и прочей атрибутики ремонтируемого помещения и ужасно радовалась вдруг пришедшему мне в голову названию «Lux in tenebris». В переводе с латыни оно значило «Свет во мгле» и, как мне тогда казалось, отлично передавало содержание моей галереи.
Снятое помещение тогда было совсем крошечным, едва ли в треть от сегодняшнего его размера, всего на два окна. В углу громоздились замирающие в предвкушении разгрузки картонные коробки с моими лампами: изящными, ручной работы абажурами из тончайшего, почти прозрачного на свет фарфора. Изделия хрупкие, нежные. Закончив дизайнерское отделение Суриковки, я сразу заинтересовалась фарфором. Сначала делала довольно обычные чашки и вазочки, затем переключилась на, как позже оказалось, никому не нужные арт-объекты типа мебели, которой невозможно было пользоваться из-за ее хрупкости, и только потом мне пришла в голову идея изготавливать светильники. Наконец-то, любимому мной материалу нашлось практичное применение: подсвеченный изнутри, фарфор создавал неожиданные эффекты, и эклектичные, висящие на грубых, почти средневековых цепях абажуры быстро стали пользоваться популярностью у покупателей. Вскоре, искренне радуясь моему успеху, отец разменял нашу трехкомнатную квартиру на две однокомнатные, одну из них сдал в аренду командировочному долговязому немцу и на вырученные деньги снял мне небольшое помещение для собственной галереи. Так, под шумок бурных фейерверков наступающего миллениума, и рождалась моя «Lux in tenebris».
На коленях выползшая из тревожных девяностых и лихо перемахнув тысячелетний рубеж страна отряхнулась, вздохнула полной грудью и буквально забурлила новой энергией, что передавалось и мне. Казалось, все постперестроечные ужасы остались позади, и ничто больше не угрожало крепко встающей на ноги молодой демократической державе, а — впервые доставшийся настрадавшейся России щеголевато одетый, бодрый и подтянутый президент — наконец-то позаботится об экономическом благосостоянии обычного населения. В светлое будущее верилось легко и с удовольствием. Засучив рукава и повязав комсомольского вида косынку, я с воодушевлением занялась малярными работами. Под звуки радио и запах свежесваренного кофе красилось легко и радостно, и мне казалось, что в каждом мазке присутствует частичка моей энергии, веры в успех и ожидающую меня славу дизайнера.
Позже успех действительно пришел, но не благодаря моему таланту, а лишь как следствие инвестированных Стасом капиталов, а фарфоровые светильники как-то незаметно отошли в прошлое, уступив место чужим, хромированным красавцам известных итальянских брендов. Появившийся в моей жизни Стас считал, что коммерческий успех — превыше всего, и галерея авторских светильников превратилась в магазин, правда сильно расширенный за счет соседних помещений, а я — из художника в «бизнесмена». В моей голове звучит голос Стаса: «Детка! Ты же не хочешь вечно пополнять собой ряды творческих неудачников? Надо идти в ногу с капиталистическим временем!»
Да и, если честно, работы после расширения стало столько, что я, в отличие от своего, буквально сраженного новостью отца, даже не успела толком расстроиться такой перемене.
— Ну, помещение принято, — радостно сообщает мне тоненький голосок девушки-риэлтора. Из полумрака, как привидение, медленно проступает ее золотоволосый силуэт. — Только вывеску придется снимать. Жалко ее… красивая такая. Вы ее на новом месте сможете повесить.
— Нового места не будет. Мы закрываемся.
— Совсем?.. — нимфа изображает на личике сочувствующее выражение. — А что? Кризис?..
Я гашу окурок прямо о подоконник и молча протягиваю руку к зажатым в ее лапке документам. Быстро ставлю закорючку в положенных местах и подталкиваю девушку к выходу.
— Полина? Ключ-то отдайте…
— Ах, да! — я отдаю изящную пластиковую карточку. — Извините. Привычка… Вас до метро подвезти?
— Нет уж… лучше я пешком дойду, — улыбается риэлтор.
Девушка еще настолько молода, что думает, что она умнее всех. Ничего, это проходит с возрастом.
Я сажусь в машину и покорно пристраиваюсь в хвост пробке. Какой смысл размышлять, надо ли «идти в ногу со временем», если оно все равно не оставляет нам никакого выбора?
3
Когда я подъезжаю к дому, у меня окончательно портится настроение. Я поднимаю глаза к освещенным глазницам двадцати двухэтажного монстра, пытаясь найти среди них свои. В них, разумеется, темно. Последнее время Стас не появляется раньше десяти вечера.
Я делаю круг по двору, соображая, куда бы приткнуться. Любимое мной место у газона занято неизвестным мне джипом. У меня устойчивое ощущение, что, каким-то мистическим образом, несмотря ни на какие кризисы, машин в нашем дворе с каждым днем становится все больше и больше. Что они давно уже научились размножаться как млекопитающие, просто естественным путем. Оставленные нами без присмотра на ночь, они подползают друг к дружке и, тихо перемигиваясь фарами, совокупляются, а на утро на газоне появляется еще один джип. Сначала маленький и трогательный, вроде бы даже неприметный, но уже через пару ночей готовый к дальнейшему размножению.
Наконец, я вижу пустующее место у помойных баков. Как символично! Контейнеры давно переполнены, и мусор, как обычно, валяется вокруг, но, слава богу, из-за холода хоть не воняет. Я переключаюсь на первую передачу и аккуратно заезжаю на уже разрушенный моими предшественниками бордюр. Под шинами трещит и крошится раздавленное месиво из пластиковых бутылок, мешков и прочей дряни, и я болезненно морщусь.
Может, надо было поехать к Стасу в офис? Там светло. Тепло. Хотдоги из закусочной напротив. Люди, наконец… Не то, чтобы какие-то особенные, но все же живые, в смысле — человеки. С минуту я колеблюсь, рассматривая как снег плющится о ветровое стекло. Представляю, как Стас встает из-за стола и, направляясь ко мне, на ходу корчит раздраженную гримасу, и выключаю зажигание. Пошло все к дьяволу! Хотдоги… Размечталась. Мне бы просто снять промокшие сапоги…
В подъезде невероятно натоплено и висит удушающий запах кислых щей. Я знаю, это татарка Рената из угловой квартиры, как обычно, наварила десятилитровую кастрюлю на своих пятерых детей. Остатками этого варева она кормит дворовых кошек. И точно, вот из приоткрытой двери высовывается черномазенькая рожица одного из ее отпрысков. За ним появляется взрослая рука и втаскивает его обратно. Дверь на секунду закрывается, за ней слышится возня, детские протесты, потом из квартиры появляется сама Рената. Закутанная в шаль, с эмалированной кастрюлей в обеих руках, с перекинутым через плечо кухонным полотенцем. Я устало ставлю сумки на пол, возвращаюсь к подъездной двери и придерживаю ее открытой, глядя, как Рената шаркает тапочками мимо меня, выходит на улицу, неуклюже нагибается, широко расставив толстые ноги, и начинает переливать подванивающую жидкость в кошачьи миски.
— Кис-кис-кис, милые мои, кис-кис-кис… — протяжно зазывает она.
Потом разгибается, тщательно протирает край кастрюли припасенным полотенцем и поясняет: — А то что ж? Пускай подыхают с голодухи, родимые?
Я киваю, соглашаясь. Закрываю за Ренатой дверь, подбираю оброненное полотенце и провожаю ее до квартиры.
— Лифт сегодня работает, не знаете? — интересуюсь я.
— Работает, чтоб его неладно. Грохочет, через стену слышно. Никакого покоя. Когда уже все это кончится? — отвечает она.
Судя по тому, что Рената грозит своим полотенцем, глядя куда-то наверх, на растрескавшийся потолок, последняя реплика обращена уже не ко мне, и даже не к жильцам нашей многоэтажки, а намного выше. Ну и ладно. Там , я думаю, не обижаются. Давно привыкли, что внизу все вечно недовольны.
— Ну сделайте что-нибудь для того, чтобы все это кончилось, — зачем-то говорю я.
— Что? — немедленно вскидывается Рената. — Поджечь дом?
— Например. Или можно менее радикально: если вас замучил лифт, продайте эту квартиру и купите такую же, но в дальнем от шахты конце коридора.
Татарка смеряет меня гневным взглядом и хлопает дверью.
Ну вот, как всегда, захочешь помочь людям, что-нибудь посоветуешь, и сразу же выходит, что ты всем враг. Люди общаются вовсе не за тем, чтобы давать друг другу советы, а лишь в погоне за слезливой жалостью. Они называют это сочувствием, сопереживанием .
Качнувшись напоследок, лифт изрыгает меня на выкрашенную в неприветливый зеленоватый цвет площадку. «Здесь жил Гога» приветствует меня криво нацарапанная надпись. В попытках как-то скрасить неуютность помещения кто-то из соседей развел у лифта целый тропический сад в кадках: есть здесь и гибискус, и зебристая афеляндра, а так же юкка, гардения и даже довольно удачный бонсай.
Мы со Стасом живем в этой квартире чуть дольше года. Не законченный сразу ремонт плавно растянулся на весь этот период, и если сначала мы говорили, что «там надо будет подкрасить и тут еще немного доделать», то теперь вообще избегаем затрагивать эти темы. То ли от общей апатии, то ли в связи с тем, что из-за экономического кризиса наши дела пошли совсем плохо, вялотекущий ремонт сам, стихийно прекратился, а все недоделки так и остались, как были, изредка вызывая приступы раздражения, но уже почти незаметные для нас.
И я еще лезу с советами к несчастной Ренате?
Я скидываю сапоги и мрачно любуюсь на следы от промокших носков, провожающие меня в ванную комнату. Это, пожалуй, единственное законченное пространство в доме и здесь мне по-настоящему хорошо: огромное, пришлось передвигать все стены, оно воплотило в себе все мои нереализованные дизайнерские потуги. Вместо половичков на полу деревянные решетки из мореного тика, над раковиной лиловая орхидея в серебряном горшке (последнее время меня не покидает чувство, что ей здесь слишком одиноко), а в углу расположилась моя особенная гордость — ручной работы, привезенная с Бали плетеная корзина для белья, из которой сейчас высовывается абсолютно не вписывающийся в интерьер кусок возмутительно-алой Стасовской рубашки. Я устало поднимаю глаза к висящему на стене Будде, также вывезенному с какого-то из островов, и напоминаю себе о главном: спокойствие и выдержка, рубашки тут нет, ничего вообще нет, это все иллюзия, Майя… Каждый вечер заходя сюда смыть с себя день, я механически засовываю торчащее белье обратно в корзину и плотно закрываю крышку. Моя потребность в упорядочивании окружающего нас хаоса основательно уже раздражает Стаса, меня же раздражает его хроническая неспособность считаться с моими просьбами.
Из зеркала на меня уставилось мое отражение. Худая, высокая блондинка, длинные и, как обычно, растрепанные волосы, темно-серый облегающий костюм. Моей фигуре многие завидуют, на мне все сидит. «Шьют-то теперь только на вешалок», сообщила мне недавно Ляля. Те, кто относятся ко мне получше, говорят, что если бы не волосы, я была б похожа на мальчишку. Косметикой я пользуюсь умеренно, ногти стригу коротко, к тому же зимой у меня вечные цыпки, и подаренный Стасом бриллиант выглядит на моих покрасневших неухоженных пальцах довольно не к месту. Но ухаживать за собой мне категорически лень. Мне вообще все последнее время лень, к тому же меня абсолютно устраивает моя подростковая угловатость. Она идет к моим действительно каким-то мальчишечьим широким скулам, упрямому подбородку и слишком прямому взгляду. Все это у меня от отца, жаль только, что я ограничилась лишь внешним сходством, не унаследовав его сильный и уверенный характер. С характером у меня беда. Он абсолютно несформирован, он прыгает без всякого предупреждения, и из неуверенной в себе близорукой рохли я за минуту могу стать грубой и бестактной, чем настраиваю всех против себя. Потом я жалею об этом, ночами прокручиваю в голове свои слова и мне хочется забрать их обратно, быть мягкой, спокойной, но у меня ничего не получается. Спокойствие должно идти изнутри, вырастать из чувства баланса, неведомой мне гармонии и удовлетворенности. Но чего-чего, а именно этого во мне нет.
У меня под ложечкой опять возникает мучительное, сосущее, почти вакуумное ощущение пустоты. Не помню, когда оно в первый раз появилось, но последние месяцы я ощущаю его все сильнее и сильнее — явственно, почти физически, — я даже дала ему название, «черная дыра»… Она приходит по несколько раз на дню: ниоткуда, внезапно, без всякой видимой связи с тем, чем я в данный момент занята. В ложбинке между последними ребрами, сантиметров на десять выше пупка (медики называют это место «эпигастральной зоной») появляется что-то, похожее на тошноту, на легкое ощущение голода, но не статического, не плоского, а космически глубокого, уходящего воронкой куда-то вглубь меня. Она похожа на туннель, открывающийся у меня из-под ребер. В нем возникает странный сквозняк, кругообразное и очень мешающее мне движение, засасывающее все мое внимание, уводящее его от окружающего мира в какую-то даль, темноту. Иногда мне кажется, что я слышу оттуда что-то, напоминающее Зов. Но смысл его мне неясен. Будто бы я должна что-то сделать, причем немедленно, и это очень важно, но что именно, кому должна и почему — я не понимаю, не чувствую. В целом эта черная дыра меня довольно сильно беспокоит. Однажды я даже заглянула к врачу. Заглотила жуткую кишку с лампочкой, дала вставить в себя зонд для желчного пузыря и просветить внутренности всеми видами аппаратов и лучей, но все напрасно. Никаких отклонений у меня не обнаружилось. «Психосоматическое, обычное дело», — утешил меня врач и прописал пилюли от гастрита. «Так гастрита же у меня нет?» — возразила я. Но потом одумалась и теперь принимаю эти капсулы как предписано, три раза в сутки. «Скоро у тебя появится от них и сам гастрит», — пообещал мне как-то Стас.
Запив очередную порцию таблеток, я отправляюсь на кухню. Выгружаю продукты. Угрюмый, еще в прошлой жизни запаянный в пластик батон. Немного бледного простуженного сыра. Нитяная авоська с приятно холодными, прямо с мороза, мандаринами «Maroc» (этикетка смутно напоминает детство, всплывает картинка незрелых, завернутых в теплую шаль и оставленных на дозревание в шкафу зеленых бананов). За ними — три плитки шоколада, пачка приличного кофе (дешевку Стас возмущенно выплюнет в раковину) и коробочка чая (разумеется, в пакетиках, волыниться с заварочным чайником у нас давно никому не охота). Все. На дне сумки остаются лишь две упаковки готовых замороженных ужинов — сегодня это курица-карри с рисом и овощами. Я кручу коробки с позвякивающими внутри льдинками так и эдак, соображая, надо ли ждать Стаса, прислушиваюсь к не подающему никаких признаков воодушевления желудку и, в конце концов, отправляю их в морозилку. По заключению Стаса, хозяйка из меня такая же, как и бизнесмен.
Пару минут я бесцельно слоняюсь вдоль стен, потом подхожу к окну, приоткрываю занавеску и смотрю на наш заснеженный балкон. Каждую зиму мне кажется, что эта мрачная чернота и завывающий вьюгой холод не кончатся уже никогда. Снаружи разыгралась настоящая буря, гонимый ветром по полу мечется черный полиэтиленовый пакет, ветер то надувает его, то резко теряет к нему интерес, и тот вяло сникает. На фоне уже слегка облезшей балконной стенки отчетливо отпечатался мой застывший в окне силуэт: лоб прислонен к холодному стеклу, руки сплелись вокруг тела. Время будто остановилось. Но нет, словно опровергая это утверждение, деревянные настенные часы — один из немногих уютных предметов, которые мне удалось протащить в нашу жизнь со Стасом, символ детства и одновременно память о родителях — мерно отбивают половину девятого.
Вздрогнув от неожиданности, я отлипаю от окна, возвращаюсь к холодильнику и опять в тоске смотрю на курицу-карри. Курица-карри смотрит на меня, и между нами устанавливается нечто наподобие контакта. Мне кажется, мы понимаем друг друга.
4
Через час я, тяжело дыша, поднимаюсь на последний этаж Жанниной хрущевки и заглядываю на кухню.
— Ну ничего себе! Это все ради меня?! — восклицаю я, балансируя на одной ноге и пытаясь одновременно совершить два действия: избавиться от не желающего слезать сапога и выудить со дна сумки плитку шоколада.
Поразительное великолепие громоздящихся на столе яств никак не гармонирует с убранством скромной арендованной однушки, зато вполне сочетается с хозяйкой дома. Одетая во что-то серебристо-перламутровое, Жанна смотрит исподлобья. Ее, когда-то яркие, и лишь в последние годы потускневшие глаза мечут молнии, а в шарообразных, утыканных веснушками округлостях, так откровенно не помещающихся в рамки декольте, угадываются затаенные раскаты грома. Ее руки уперты в бока, ноги расставлены в бойцовской стойке, рыжие волосы лезут в глаза, но она их не убирает, лишь оттопыривая нижнюю губу и выпуская струю горячего воздуха, сдувающую в сторону особо надоедливые пряди. Она знает, что хороша в своей огненной сочности и частенько подыгрывает образу, добавляя крикливой итальянской жестикуляции или по-простецки, по-рыночному растягивая слова, сознательно утрируя казанский свой акцент, но сегодня в ее сумасшедших зеленых глазах мне мерещатся всполохи искренней ненависти.
— Щас тебе! Устрицы, жульены из тигровых креветок, а в духовке еще и запеченная осетрина под этим… как его… соусом «Бешамель»! Скажешь тоже, ради тебя!
Не сказать, чтобы я когда-либо претендовала на прием тигровыми креветками, но в прозвучавшем «скажешь тоже» мне все-таки мерещатся обидные нотки. Хотя… суть происходящего становится мне предельно ясна.
— Рафик? — говорю я, борясь с желанием впиться глазами в блюдо с устрицами.
— А кто ж еще?! Вот ты объясни мне, наконец, как люди вообще так могут?! — (Жанна сует мне под нос четыре наманикюренных пальца). — Четыре часа! Понимаешь? Четыре часа назад он мне звонит. Сам, я не напрашивалась. Говорит, что уже едет. Более того, что уже подъезжает! Будет, мол, через сорок минут! Я, как полная идиотка, кидаюсь в магазин. Бросаюсь за готовку. А ведь я почти уже собралась сегодня в бассейн, специально разгребла все дела, послала нафиг клиентов, собрание в офисе… Ладно, хер с ним, с бассейном. Готовлю всю эту муру, салфеточки раскладываю, свечи… И?! Сорок минут проходят — нету. Ладно. Час проходит, полтора, два… — нет его! Я начинаю звонить сама… и?! И он, влегкую так, просто сбрасывает мои звонки, без всяких объяснений! Звоню еще, — вообще отключает телефон. Нет, ну нормально?!
Поток эмоций постепенно иссякает и, напоследок вскинув руки, Жанна останавливается и оседает на табурет. Я отмечаю про себя, что раньше фонтанирующая драма могла длиться часами, теперь же все укладывается в жалкие минуты, и рассеянно раздумываю, считать ли такое ускорение за знак прогресса или все-таки регресса в отношениях?
— Слушай… — прерывает мои мысли Жанна (мраморный лоб теперь покоится на сложенных локтях, облако волос норовит залезть в облюбованную мной тарелку). — Я так больше не могу… Я его брошу!
Я киваю и, не ожидая приглашений, протискиваюсь мимо стола к жесткой, так не пишущей к драматическому горю табуретке. Хотя почему не пишущей? Горе, так же как и болезнь, не украсить никаким интерьером, — они серы и вульгарны, и, если хватает духа, то выносить их следует в одиночку. Жанна тем временем начинает всхлипывать, медная копна рассыпается по плечам и мне приходится незаметно отодвинуть устрицы подальше. Постучать подругу по спине или еще рано? — соображаю я, неуверенно косясь на ее тяжело дышащую перламутром спину, на которой тоже оказывается декольте. Нет, пожалуй, еще рано. Преждевременные соболезнования только подливают масла в вечно горящее пламя Жанниной ненависти. Минут через пятнадцать будет самое то. Я в точности знаю сценарий, по которому протекут события ближайшего часа.
Последние лет пять или шесть Жанна состоит в утомительных и плавно мутирующих от плохих до отвратительных отношениях с красавцем восточных кровей, наделенным родителями волшебным именем Рафик. Хотя, надо заметить, что эпитет «красавец» прилип к утомленному татарину еще с поры их знакомства; в последние же годы сильно погрузневший и как-то резко уставший от жизни Рафик никакой особой красотой уже не отличается, и если бы не извечный его загар, полученный в солярии, то цвет его лица давно бы выдавал постоянные проблемы с кишечником и шумящее сердце. Но мужская красота — тема в России давно запретная, и, разумеется, не внезапное ожирение возлюбленного мешало Жанниному счастью, а тема банальная и отвратительная: наш Рафик через год признался, что женат и (еще через год) добавил, что религия у мусульман серьезная, не чета христианской проститутке, и разводов, к невероятному, просто космическому его сожалению, никак не одобряет. Все. Баста. Вырисовывался очередной гиблый случай, и рациональная моя подруга, возможно бы, крутанула рыжим хвостом и отчалила восвояси, не будь она к тому моменту уже так сильно влюблена.
Еще до этого заявления, где-то на самой заре отношений, Жанна, как в омут, провалилась в своего избранника, с каждой ошибкой утопая все глубже и безвозвратнее: обрывала его телефон, высылала на рабочий адрес корзины с цветами и даже умудрилась, (слава богу, на короткий период) выкрасить свою шикарную, отливающую медью и медом шевелюру в так нравящийся ему цвет «вороное крыло». Стас зверел, наблюдая, как я часами маюсь у телефона, выслушивая подробное описание блестящих глаз и прочих достоинств Жанниного кавалера. В достоинства записано было все: от действительно статной тогда фигуры до милейшего шрамика, оставшегося после удаления аппендицита. Узнав же о его несвободе, Жанна лишь тряхнула гривой и просто начала еще дольше задерживаться у зеркала: ее глаза зажглись огнем настоящего безумия, а гордо выставленный средний палец заряжал ее необходимой силой и надеждой. На карту теперь было поставлено абсолютно все: брошенная карьера дизайнера интерьеров (чтобы Рафик мог приезжать к ней в любое удобное время), отказ от любимой кошки (на которую у Рафика оказалась аллергия), постоянные массажные салоны, фитнесс-центры и даже — (ход конем!) — имплантированные силиконовые вкладки, придавшие ее и без того идеальной груди какую-то уже излишне потрясающую форму.
Возможно, бедолага Рафик бы развелся… не будь у него тогда двоих детей. Какое-то время он даже бормотал ереси, что вроде бы подумывает бросить семью, но его сообразительная супруга умудрилась молниеносно родить ему еще двух, и под тяжестью удвоившейся ответственности Рафик просел, резко набрал вес и ограничился тем, что объявил Жанну «любовью и болью всей своей несчастной жизни». С этого момента всем, включая даже Жанну, стало окончательно понятно, что больше, чем на роль любовницы, она рассчитывать уже не сможет. Появилась обычная в таких случаях обида, разочарование, обвинения в бездарно отданных годах, но в суете и рыданиях подходящий для расставания момент был пропущен, и уже мучительные для обоих отношения, как это часто и бывает, если вовремя не остановиться, перетекли в вялотекущее и изнуряющее постоянство. Рафик обреченно снял Жанне квартиру и, с частотой не более, но и не менее двух раз в неделю «заезжал на обед».
Года через два Жанна вернула себе натуральный цвет волос и устроилась на первую попавшуюся работу, где стала подыскивать другой вариант. Однако еще года через два, наполненных постоянными неудачами, умерила свои аппетиты и теперь билась лишь за ничего не меняющие нюансы, а именно — пыталась убедить Рафика в необходимости не снять, а на этот раз купить ей квартиру.
— Ну хочешь, позвони ему с моего мобильника, — предлагаю я без энтузиазма.
Жанна вскидывает голову и утыкает куда-то чуть левее меня осоловевший взгляд, означающий, что она, строго по заведенному сценарию, перешла ко второй фазе вечера.
— Зачем? — спрашивает она почти сонно, словно бы не понимая, о чем мы вообще говорим. — Я и так знаю, что там случилось. Позвонила благоверная, сорвала его по какому-то заданию. Видать, они вместе там, вот он и трубку не берет… Хотя, прикинь, дерьмо какое он все-таки? Ее нервы он бережет. А ведь мог бы зайти на минутку в мужской туалет, позвонить, сказать по-человечески, что не приедет… Ладно, что уж теперь?..
Ее взгляд, наконец, фокусируется на моем лице, потом (вслед за моим) переползает на остывшие жульены.
— Ну, что ты смотришь как собака? — вздыхает Жанна. — Бери.
Я наливаю ей виски. Поймав мой кивок, она выдавливает кислую, но все-таки улыбку.
Вообще-то Жанна, может быть, и стерва, но отнюдь не идиотка. По крайней мере, во всем, что не касается Рафика.
— Но он любит меня, понимаешь? — говорит она.
— Дорогая, люди вкладывают в это слово настолько разные смыслы…
— Прекрати. Он меня лю-бит! — отчеканивает Жанна по слогам, словно прибивая каждый гвоздями так, чтобы уже никуда не убежал. Спорить с такими интонациями бессмысленно и жестоко, и я поднимаю руки, сдаваясь.
— Может, этого… нюхнем чуток? — предлагает Жанна. — У меня есть.
Нет, я молча качаю головой. Не поможет. Вместо этого я предлагаю пройтись. Жанна морщится. Свежий воздух, уговариваю я.
— Где это свежий? В Москве что ли? — бурчит Жанна, но все-таки поднимается и плетется к прихожей. Натягивает лакированные сапоги.
Снег отказывается ложиться на отравленный химикатами тротуар и тает, образуя хлюпающую грязь. Где-то тоскливо ухает птица. Москва действительно, как объяснили сегодня по радио, напоминает накрытую крышкой кастрюлю, и от этого ощущение, что мы все, вместе с бурыми медведями в зоопарке и птицами, заперты здесь в хитроумной ловушке, только возрастает. Внезапно темноту, как вспышкой молнии, разрывает пронзительный вороний крик. Тревожно, надрывно прокашлявшись карканьем, птица так же неожиданно замолкает, и только ее черный силуэт еще какое-то время нервно поеживается на скелете из голых обледеневших веток.
— Галерею закрыла? — интересуется Жанна, рассеянно пиная ногой пустую жестянку.
Я киваю.
— Прям окончательно?
— Окончательнее некуда. Продажи встали. Стас все несколько месяцев высчитывал и сказал, что мне не пережить этот кризис. Хлеб-то народ и в войну покупает, но у меня же не булочная, а дизайн…
Жанна вздыхает:
— И что будешь делать?
— Уйду в монастырь.
— Ну я серьезно?
— И я серьезно.
Жанна смотрит с сомнением.
— Для того, чтобы выработать какое-то направление движения или план, надо как минимум понимать, где ты находишься, иметь какую-то систему определяющих тебя координат, ориентиров, — зачем-то разъясняю я. — А я ничего вокруг не вижу. Пустота одна, серость, бессмыслица.
— Опять ты за свое… — вздыхает Жанна. — Какие тебе ориентиры нужны? Вот те банк, вот те продовольственный, из первого деньги берешь, во второй несешь. Хотя, конечно, чтобы в первом деньги не кончались, надо еще третью точку вмонтировать, типа работа, офис. Тогда в первой точке берешь, в банк несешь, оттуда в продовольственный, потом домой. Дом — это четвертая точка. Там ешь, на сытый желудок идешь спать, а с утра замыкаешь круг, идя в офис. Чем тебе не ориентиры? Целых четыре тебе насчитала, а ты говоришь, ни одного. Кстати, есть вариация: офис можно заменить на толкового мужика. Тогда у мужика берешь, в банк несешь… Хочешь, я могу тебе еще расставить с десяток точечек поменьше, типа на бассейн, солярий, ресторан, шиномонтаж, кабинет психоаналитика?..
— Вот-вот. И тебя это устраивает?
— Что «это»?
— Ну тупость всей этой схемы? Ты вот чем занимаешься? Заменяешь точку Офис на точку Рафик? И пытаешься расширить точку Дом?
— А чем я еще должна заниматься? — обижается Жанна. — У тебя вот есть Стас.
Теперь не понимаю я:
— И что Стас?
— Ну Стас же вас двоих вытянет?
— Далеко не факт. У него тоже все плохо. Орет вечерами или пялится в телевизор. На днях прихожу, а он сидит напротив, глаза открыты, а по экрану рябь. Антенна выскочила, а он смотрит как ни в чем не бывало. Даже заинтересованное выражение с лица не убрал, забыл. К тому же я тебе не про деньги, а про…
Я замолкаю. Рассказать Жанне про Зов? Про сосущую пустоту под ребрами? Про то, что я почти не сплю ночами, вертясь на смятых простынях, слушая беспокойные стоны Стаса, всматриваясь в постепенно светлеющее на востоке небо и пытаясь нащупать ту точку, о которой умолчала Жанна, — ту точку, с которой все пошло не так, вкривь, в тупик?
Мне тридцать лет. Я довольно красива и по обыденным меркам удачлива, но у меня явно что-то не клеится, и я никак не могу понять что. Когда я лечу на самолете, меня посещают мысли, что, пожалуй, я не против, чтобы он упал. Я закрываю глаза, и цветные картинки стремительно проносятся передо мной: обезумевшие люди мечутся по проходу, кто-то пытается куда-то звонить, дети и женщины визжат, хватаясь друг за друга, ручная кладь падает вниз на головы пассажиров, мелькают искривленные ужасом лица, чья-то кровь, оторванный пиджачный рукав, кто-то гомерически хохочет, кто-то затыкает уши и пытается молиться… Я же — выпрямляю спину и представляю собой оплот невозмутимости. Я сижу у иллюминатора и смотрю на приближающуюся плоскую лепешку Земли. Я даже рада. Смерть избавляет меня от необходимости жить дальше, заполнять пустоту бессмысленными занятиями. Смерть избавляет меня от попыток каким-то неведомым мне образом отыскать здесь свое потерявшееся место, от пробирания по узким тамбурам и коридорам этого безумного и давно оставленного машинистом состава, от стыда при робких заглядываниях в щелочки чужих непристойных купе (толстая тетка, орущий ребенок, угрюмый подвыпивший тип с остановившимся взглядом, даже не оборачивающий головы и продолжающий пережевывать свой бутерброд — ах, извините, я не хотела, я ошиблась вагоном!). В какой уже раз я выхожу на незнакомом полустанке и, проводя ночь на голом стуле в ожидании следующего скорого, все кручу в руках билет, тщетно силясь разобрать по какому-то невероятному недоразумению затершийся номер состава, вагона и полки.
Сильно подозреваю, что именно поэтому я до сих пор живу со Стасом. Уж кто-кто, а он точно знает номер своего купе, более того, вне всяких сомнений он уже подружился с проводницей, и сейчас («ты пока присаживайся, детка»), сейчас уже принесут чай с лимоном, ватрушки и коньяк…
Самое обидное, что я совершенно не знаю, почему я такая. Когда, в какой момент я потеряла нить? Хотя… конечно же, я вру себе. Я знаю. По крайней мере, я знаю, откуда во мне пустота. Впервые она появилась еще там, в больнице, когда отец за минуту до смерти крепко сжал мои пальцы. «Живи так…», начал он, но захлебнулся. Он почти не мог говорить. Его легкие были пробиты осколками ребер, у него не было шансов, и я поняла это, поймав взгляды врачей. — «Как?», прошептала я. — «Так…», снова попытался сказать что-то отец, но потерял сознание. «Как? Живи как?», спрашивала я потом у Стаса, давая увести себя из коридора, садясь в машину, невидящими глазами уставившись на мелькавший за окнами город. «Как?!» Но никакого ответа не было. Ни от Стаса, ни от врачей, ни от друзей и знакомых. «Люди не понимают, что говорят перед смертью», утешила меня Жанна, но я не поверила. Конечно же, именно перед смертью люди как раз понимают, что говорят. Вот тогда-то, в больнице, или чуть позже и появилась эта пустота. Гулкая. Растущая. Словно странный вирус, размножающаяся во мне и сгрызающая меня изнутри.
— … и еще тебе надо найти новую работу, — продолжает тем временем Жанна.
Я вздрагиваю, очнувшись от своих мыслей.
— Зачем?
— Деньги будут.
— Чтобы что?
— Что значит «чтобы что»? А что тебе надо?
— Не знаю, — признаюсь я.
В темноте облысевшего зимнего сквера носятся две собаки: белая и черная. Их хозяйки — обе толстые, закутанные в одинаковые платки и вообще похожие как две капли воды — нахохлившись на лавочке, потягивают пиво.
— Помнишь, раньше мы «Наутилус» слушали, на концерты «Аквариума» прорывались, на фильмы Соловьева… — говорю я. — В зале темнотень, а мы рядами качаемся из стороны в сторону, каждый зажигалкой светит, как свечой.
Жанна недоуменно поднимает брови:
— И? Куда ты клонишь?
— Да не знаю я сама. Но какое-то тогда чувство чего-то высокого было. Может не особо и было, но казалось, по крайней мере, что было что-то еще в жизни. Счастье какое-то, или хотя бы намек на то, что оно где-то рядом.
— Не знаю. В Казани ничего такого и раньше не было. Но в целом мне понятно, — констатирует Жанна. — У тебя очередное обострение бунтарства. Не знаю, чем тебе помочь. То ты всем наперекор свои светильники ваяешь, вместо того, чтобы на нормальную работу устроиться. То потом бреешься налысо и уходишь на год в кришнаиты…
— Ну ты вспомнила. Мне тогда семнадцать было…
— То бросаешь того…
— Кого?
— Ну, не помню имя. Того, который обещал тебе, что ты за ним как у Христа за пазухой будешь.
— Не поняла?
— Ну того, у которого по дому тигр ходил? Богатого придурка?
— А… — Я, кажется, наконец вспоминаю. — Ну так я поэтому и в кришнаиты ушла, чтоб он от меня лысой отстал.
— Да не спорь ты! Ты вечно все норовишь не как все. Рожать отказываешься.
Мне начинает надоедать:
— Кого рожать, Жанна, кого?!
— Детей. Кого ж еще? Будущее поколение.
— И что я ему расскажу, поколению этому? Что я сама ни черта в жизни не понимаю? Что есть точечки Банк, Продовольственный и Психоаналитик? Что есть деньги и квартиры, что работать в международной корпорации социально выгоднее, чем ваять свои лампы, что кришнаиты оказались придурками, и что у моей подруги Жанны есть офигительный кокаиновый дилер?..
— Да ладно, не заводись. Про детей это я так, не знаю зачем сморозила. Все эти пеленки, вечные спотыкания об игрушки и десять лет жизни под аккомпанемент надрывающихся из телека мультфильмов… Тоска. Согласна. Дети — это вампиры, они родителей сосут. Чем крепче и румянее малыш, тем обычно тоскливее глаза у родителей. Особенно — у мамаш. Вот на Лялю посмотри, совсем зашоренная стала, все только про детей и говорит. Или взять Рафика! Бедный! Четверо — это даже не Лялины трое! Как он жив там вообще до сих пор? Ты заметила, как он дико в весе прибавил? Как будто все силы закончились. А на самом деле он…
— Только давай не про Рафика опять? — прошу я. — Бросала б ты его, сосредоточилась на чем-нибудь еще.
Жанна бросает на меня взгляд, наполненный упреком.
— На чем? На счастье твоем?
— Хотя бы.
— Спасибо, дорогая, сама его ищи. Только имей в виду, такие поиски до добра не доводят. У нас вот на работе случай был недавно. Тебе будет интересно. Наш исполнительный директор врезался в столб. На приличной скорости. Пьяный ехал, все как полагается. Но не в этом дело. Короче, врезался, попал в больницу, провалялся там неделю в коме, а потом из нее вышел, и не узнать его. Ходит, вот как ты, весь глючный, счастья в жизни ищет. На летучках начал цитаты из Бхагават-Гиты зачитывать, медитации в обеденный перерыв устраивать, а через месяц и вовсе потерял ко всем нам интерес. Стал грустный, опустился, начал в одном и том же ходить, щетина на щеках трехдневная. Жалко мужика, нормальный был раньше. Короче, пожалела его наша рекламщица Светка и дала ему телефон гадалки какой-то. Хорошей, говорит, не шарлатанки. Он пошел, бедняга. А та ему чего-то наговорила, что он и вовсе уволился. Продал машину, сдал квартиру и свалил куда-то к черту на куличики. «Отпустите меня в Гималаи, а не то я завою, не то я залаю», короче. Рерих ненормальный. И теперь шлет оттуда открытки! Он, в каких-то тряпках, а сзади горные козлы бородатые. Или он, а вокруг тибетские попрошайки. На холодильник их вешаем в кухне, картинками вперед, чтоб не читать, что на обороте.
— А что там на обороте?
— Да что там может быть? Я уж не помню дословно, но мура какая-то про счастье. Напрочь у человека крышу снесло.
Надышавшиеся морозом, продрогшие мы возвращаемся к моей машине, и в Жаннином взгляде зажигается надежда:
— Может, поднимешься? Еще виски осталось…
— Не… поеду. Что-то не пьется. Да и потом, я за рулем. Права отнимут.
Забравшись в машину, заваленную свежевыпавшим снегом, я дико жалею, что я не бурый медведь. Как бы мне здесь сладко заснулось, прямо на краю парка, сразу до весны. А там — по крайней мере, солнце, какая-то физиологическая, обусловленная не жизнью, а климатом, чисто весенняя надежда на… На что? Хороший вопрос.
Я опускаю заледеневшее стекло и кричу:
— Погоди! Говоришь, у тебя там был кокс?
У заманчиво посверкивающих кристалликов этого порошка есть два существенных преимущества перед алкоголем: они не мешают водить машину, и никакого теста на них у гибэдэдэшников пока не придумано. Так, странные, конечно, глаза у девушки, но, чего удивляться, и жизнь-то у нас тоже, мягко скажем, странная .
5
На следующее утро наступает первый день моей безработицы. Ни свет, ни заря меня будит Стас. Как обычно невыспавшийся и раздраженный, он расталкивает меня со словами: «Что за хрень, детка? Где все мои рубашки?»
Я пытаюсь отбрыкаться, что ничего не знаю, но Стас так настырен, что я признаюсь, что сдавала их в химчистку и, разумеется, забыла донести до дома: они так и валяются у меня в машине. Мне приходится подняться, прямо на голые ноги нацепить сапоги и спуститься во двор. Сон окончательно перебит. Вернувшись в квартиру, я бросаю стопку глаженых рубашек на кровать и тащусь сварить себе кофе. Стас никогда не делает сразу две чашки, всегда только одну — на себя. Он уверен, что у него ни на что нет времени. Мне кажется, что образ вечно спешащего бизнесмена подобран им в каком-то голливудовском шедевре, возможно, еще в годы жизни в Америке, хотя сам Стас считает себя очень европеизированным и глубоко презирает «тупоголовых америкашек». Стас вообще с удовольствием презирает людей, считая всех кругом идиотами. Раньше мне это в нем нравилось…
Стас тщательно выбирает себе рубашку и через пять минут останавливается на бледно-розовой. Теперь из тесного шкафа стремительно выбрасываются мятые костюмы: черные, серые, в тонкую полоску.
— Дьявол! — раздражается Стас. — Когда, наконец, у нас будет готов нормальный walk-in closet? Ты звонила на фабрику? Когда эти идиоты уже пришлют нам все эти полки и вешалки?
Комната-шкаф — тоже почерпнута им из какого-то фильма. В нашей трешке на нее даже нет места, и для осуществления Стасовой мечты нам пришлось поставить перегородку посреди спальни. Теперь в комнате едва помещается огромная king-size кровать, возвышающаяся посреди раскиданных вещей, стопок книг на полу и попадающихся то тут, то там рулонов с еще ненаклеенными обоями. Зачем нам такая кровать — я не знаю. Мы не занимаемся любовью как минимум уже три месяца.
Справившись с костюмом, Стас долго рассматривает свое отражение в зеркале, пару раз растягивает губы, репетируя лучезарную улыбку, приглаживает волосы слегка манерным жестом (одной ладонью, не касаясь волос широко растопыренными пальцами), и брезгливо дышит в ладони, проверяя свежесть своего дыхания. Через год Стасу грянет сорок, и, как большинство моложавых мужчин, он панически не готов к этому. Он высок и худощав, хотя если бы не хорошо подогнанные по фигуре дорогие костюмы, его следовало бы назвать долговязым. От его детства, прошедшего с вечно забинтованным горлом и унизительной температурой в 37,2 градуса, у него остались болезненно тонкие ноздри, и сейчас почти прозрачные и оттенком гармонирующие с его розовыми рубашками, влажные ладони и испарина, при малейшем же поводе выступающая на высоком, с уже намечающимися залысинами лбу. Если задаться несложной целью вывести его из себя, то достаточно сделать то, что его нечувствительные родители совершали постоянно, а именно назвать его Стасиком . Или же, еще проще, можно вскользь, как бы небрежно, проходя мимо телевизора, похвалить Бондарчука-младшего. Светло-серые глаза Стаса моментально потемнеют, начнут отливать свинцовой тяжестью, губы подберутся внутрь, и последует хлесткая, наполненная обидой тирада об Утонченности, которой некоторые плебеи (вот еще одно его любимое слово) с детства лишены. К слову сказать, детство хилого, но при этом крайне амбициозного Стаса покрыто поволокой низко стелющегося тумана, из которого лишь пару раз за те семь лет, что мы провели вместе, да и то благодаря сильному подпитию, проступили отдельные фрагменты. Если не считать совершенно одинаковых шестнадцатиэтажек и пустырей, из которых состоял его унылый окраинный район, то в большинстве своем они представляли из себя части человеческого тела: алые, натасканные дворовыми подростками уши, до стона заломленный за спину локоть, затекший синяком и ненавистью глаз, и (этот фрагмент оглушил меня своей пронзительностью) мокрые, трясущиеся, с липкой струйкой кровавой слюны губы, с тихим подвыванием клянущиеся зеркалу вырасти и Их Всех убить, убить, убить !
Цепкий (не сильный, а именно цепкий, юркий, изворотливый, и в некотором роде даже какой-то нечистоплотный ) ум Стаса уже к середине школы сообразил, что шансов добиться чего-нибудь физической силой у него нет. Его неудачные, по его горькому убеждению, несправедливо доставшиеся ему родители не могли помочь сыну ни деньгами на репетиторов, ни надлежащими полезными связями, и, под издевательский хохот одноклассников, Стас отчаянно штудировал учебники, находил в себе силы заискивать перед преподавателями (животная детская кара за этот грех следовала практически незамедлительно), но, в конце концов, все-таки вырвал из толстой разведенной и ненавидящей весь белый свет директрисы золотую медаль, свой пропуск в мир престижных вузов. Дальше пошло уже проще. С отличием окончив Плешку, он продолжал учиться, пару лет простажировался в Чикаго и, привезя на родину отличный английский язык, подержанный двухдверный «понтиак» и выстраданную в гимнастическом зале фигуру, открыл свою финансовую компанию.
Вскоре после его возвращения на родину мы и познакомились. Не добившись уважения сверстников в детстве, Стас с лихвой компенсировал свою страсть к руководству, сразу же взяв надо мной шефство, и из нежной и так нравящейся мне «девочка моя» я довольно быстро превратилась в его «детку». Мольбы и сожаления, нет-нет да мелькавшие на лицах моих родителей, больше не трогали меня, как не тронул и семейный вердикт, вынесенный родителями незадолго до их гибели и гласивший, что именно этой моей слишком быстрой капитуляции я и обязана тем, что Стас так никогда и не сделал мне официального предложения. Мы жили «просто так», не расписавшись, и с годами я убедила, — если не родителей, то, по крайней мере, себя — в том, что «все так живут».
— Детка, помоги мне с галстуком, — скорее командует, нежели просит Стас.
Я шмыгаю носом и завязываю идеальную петлю.
— Что за насморк? — Стас берет мой подбородок в руки и внимательно вглядывается в лицо. — Это кокс? Ты поэтому пришла под утро?
Я вырываюсь и иду на кухню.
— Не начинай, а?
Стас идет за мной.
— Что не начинай?
— Ничего не начинай.
— Мне что, позвонить этой идиотке и разъяснить ей, что б она катилась в hell в гордом одиночестве? — Стас вечно вставляет английские слова, и раньше мне это тоже в нем нравилось. — По-моему, тебе и без нее есть чем заняться.
— Чем же, например?
— Например, ремонтом!
— И как ты это себе представляешь?
— Найди нам турков.
— А у нас есть деньги на турков?
— Тогда найди каких-нибудь таджиков. Есть же, в конце концов, в этом городе свободные таджики?
— Нету таджиков. Поезда переполнены, новости не слушаешь? Домой они все валят, кризис в стране, не в курсе?
Стас морщится. Свежевыбритый, пахнущий одеколоном и подтянутый, в застегнутом доверху пиджаке он, стоя, пьет свой кофе и смотрит в окно. Там его ждет Город. Каждое утро Стас смотрит на проснувшегося многомиллионного монстра, как будто оценивая силы противника и одновременно бросая вызов: «Ну? Кто кого сегодня?» Под мышкой у него зажат свеженький выпуск «The Economist».
— Хочешь, подогрею тебе курицу? — предлагаю я.
— Из коробки? Сама ешь, нет времени, я встречаюсь с Артемом.
На ходу опрокинув в себя остатки кофе, Стас привлекает меня к себе, недовольно чмокает в лоб и, споткнувшись об обойные рулоны и хорошенько проматерившись, хлопает дверью.
Я только вздыхаю. Я знаю, Артем ждать не любит. В последнее время он еще более нервный чем Стас. Мне доподлинно это известно от Ляли — моей институтовской подруги, которой выпало счастье стать его женой и родить ему трех препротивных крошек, из-за которых все наше общение почти прекратилось, и теперь мы виделись только на корпоративных вечеринках. Стас и Артем работали в одном офисе, то ли конкурируя, то ли помогая друг другу в каких-то непонятных ни мне, ни Ляле финансовых операциях, и периодически пропадая по пятницам по ночным клубам. Вернее, то, что они находились в ночных клубах, знала только я. Наверное, это можно считать прерогативой нашей со Стасом нерасписанности, а, следовательно, некоей свободы, которую он чувствовал по отношению ко мне. По крайней мере, так считала Жанна, находящаяся в вечных поисках подтверждений того, что ее нелегальный статус при Рафике имеет свои преимущества. Замужней и многодетной Ляле сообщалось о приездах иностранных коллег, обязательных приемах и затянувшихся совещаниях, от которых бедный Артем очень страдал, ходил по утрам с землистым оттенком на припухшем лице и периодически выпячивал нижнюю губу и отказывался снимать трубку, когда ему звонили особенно надоевшие ему клиенты. Догадывалась ли Ляля о том, что все эти клиенты оказывались безупречно стройными блондинками, еще не реализовавшими ее мечту и не обладающими ни двухметровым бизнесменом-мужем, ни двумя нянями, уборщицей и личной массажисткой, или искренне верила в пятничные заседания директоров, — никого не интересовало. Ляля вообще никого не интересовала. Располнев и окружив себя колясками, она реализовалась, и была по этому поводу списана всеми со счетов. Реализовавшиеся люди находятся вне конкуренции. Выпадают из круга. Поглощаются миром орущих по телеку мультфильмов или отбывают в не менее виртуальные горы и шлют оттуда открытки с козлами и тибетскими попрошайками, которые вешаются на холодильник текстом назад.
Еще часа два после того, как Стас уходит, я слоняюсь из угла в угол, пью горький кофе, раз двадцать заглядываю на свою страницу в «одноклассники». Там ничего не меняется. Из ленты активности друзей я узнаю, что какая-то девица из моего класса добавила новые фотографии. От нечего делать кликаю на них и любуюсь любительской эротикой: одноклассница снята на фоне ванной комнаты, на заднем плане виднеются линялые полотенца и стиральная машина. На по-зимнему бледном теле нет ничего, кроме кружевного красного лифчика. Девушка полновата, и лифчик впивается в мякоть, образуя неприятные ямки и складки. Слава богу, фотография сделана всего по пояс. Я зачем-то кликаю на другие ее фотографии. Там она выглядит приличной женщиной, двое детей, муж… Часто встречаются омерзительные надписи: «я и мой сынулька», «я (слева) и моя младшенькая на празднике в детском саду». При чем тут тогда дешевое порно в красном лифчике? Кризис среднего возраста, панихида по уходящей молодости, последние попытки замужней женщины привлечь внимание?.. Чем мы все тут занимаемся?
Выключив компьютер, я подхожу к окну. На улице, разумеется, все растаяло. Я долго рассматриваю город с высоты семнадцатого этажа. Паутина прочерчивающих снег мокрых улиц напоминает черные варикозные вены. Мне приходит в голову, что если в марте выброситься из окна, то получатся «семнадцать мгновений весны». По мгновению на этаж…
Нос после вчерашнего онемел и не дышит. Прихватив книжку и собираясь впасть в анебиоз, я забираюсь обратно в постель, чтобы немедленно вздрогнуть от телефонного звонка. Я тянусь к трубке, с минуту слушаю Стасов крик, потом откидываюсь на подушке и, даже забыв нажать на кнопку отбоя, закрываю глаза. Сегодня будет не до книжки. Сегодня будет уже ни до чего, потому что… — я с трудом привыкаю к полученной информации, — потому что десять минут назад из окна седьмого этажа выпал и насмерть разбился Петровский.
6
Алла Семеновна сидит в машине как мышь, и мне приходит в голову наклониться и проверить, не потеряла ли она сознание. Но нет, она сидит прямо, неподвижно глядя перед собой. Юбка на коленях некрасиво задралась, но она ее не поправляет. Рука теребит сумочку, то открывая, то закрывая латунный замочек. Над верхней губой что-то блестит. Я наклоняюсь к самому стеклу. Нет, не слезы, — пот.
Засовывая какие-то бумаги в сумку, к нам подходит Стас. За ним подъезжает «вольво» Артема.
— Водку привез? — спрашивает Стас.
— Не успел. Ляля сейчас привезет.
— Офигел? Зачем нам тут Ляля? Она ж детей притащит?
Но Артем только устало отмахивается.
— Посидят в машине.
Действительно, вскоре во двор аккуратно заруливает Лялин внедорожник, из которого немедленно высыпают старшие дети. Младшего, в автомобильной люльке, Ляля несет сама.
— Уйди отсюда. Водку давай и езжай. Нефиг тут детям, — раздражается Артем, но Лялины старшие отпрыски уже несутся к ленте ограждения, за которой хлопочут медики.
Кожаный следователь со сцены исчез, наверное, поднялся в квартиру. Петровского тоже уже подобрали. Перенесли в карету «скорой помощи», а смывать его мозги со снега — работа не для милиции. Этим займется очередная оттепель. Или никто. У нас ничего никому не нужно.
— Дверь ломали, — рассказывает Жанне Стас приглушенным голосом, чтобы не слышала Алла Семеновна. — Он был один. Надька с детьми, как обычно, на море. Проводил их вчера, потом заперся в квартире. В офисе его ни вчера вечером, ни сегодня не видели. Сидел, то ли бухал, то ли просто, а потом открыл зачем-то окно и упал.
— Не упал, а шагнул, — вставляю я.
Стас бросает на меня недобрый взгляд и продолжает:
— Представить себе не могу, просто в голове не укладывается. На пике мужик ушел, просто на пике! Жена нормальная , — (я ловлю на себе еще один укоризненный взгляд), — дети здоровые, бизнес в полном порядке, да какое там в порядке, — полный успех, во всем! У всех кризис, а у Петровского акции только растут. Дом в Испании, дом в Швейцарии, яхта как у Абрамовича, и сердце пашет, и хрен стоит!.. И надо же такое, такая глупая смерть, выпасть из окна собственной квартиры! На кой черт он его вообще зимой открыл? Воздуха не хватало?
Поймав детей и кое-как позапихав их обратно в машину, к нам подплывает Ляля. Шуба нараспашку, красная ангоровая грудь вперед, в руках бутылка и стаканчики.
— Ей налей, — кивает Стас в сторону моей машины. — У нее шок. Пусть выпьет, и отвезем ее домой. Только одну оставлять ее нельзя, надо, чтоб кто-то остался.
— Я могу, — вызывается Артем, за что немедленно получает взгляд от Ляли.
— Да что ты смотришь? Детей зачем приперла? Конечно, я останусь, не ты ж! — заводится он.
Алле Семеновне дают полный пластиковый стаканчик водки. Безучастно, как-то даже не сразу его заметив, она берет его, делает глоток и немедленно закашливается.
— Мне тоже налей, — просит Стас.
— Это было самоубийство, — как заведенная зачем-то повторяю я. — Люди не открывают зимой окна нараспашку, и не стоят там, здоровые, трезвые, полные сил, до тех пор, пока случайно не вываливаются.
— Прекрати, — наконец, раздражается Стас. — Ему не с чего было себя убивать!
— Было. С того, что вы все отказываетесь признавать. С того, что наши жизни тупы и тоскливы! Просто для того, чтобы это понять, надо остановиться, а остановиться получается только у тех, кто уже все доделал. То есть у Петровского. А другие заняты по горло, и ни черта вокруг не успевают видеть.
— Другие, — это кто? — звереет Стас.
Но я тоже уже завелась.
— Другие — это другие. Те, кто еще не купил яхту, у кого акции в кризис не растут.
— Рафик сегодня, кстати, потерял треть состояния на акциях, — вставляет Жанна.
— Ну, и хорошо! Не будет денег на любовниц. Останется в семье! — заявляет тут же Ляля.
— Где? В гнезде?
— В семье!
Нервы сегодня у всех не в порядке. Ляля по всегдашнему своему сценарию начинает защищать семейные ценности, обвиняя Жанну в разорении гнезда. Жанна, как всегда, начинает горячиться, доказывая, что она не хуже всех, и тоже будет защищать брак, когда у нее лично появится хоть намек на что-то подобное. Стас постоянно прилизывает волосы и оглядывается на окна седьмого этажа. Артем просит подлить ему водки. Ляля, переключившись с Жанны, вырывает у Артема стаканчик. Жанна принимается плакать и зачем-то звонить Рафику. Рафик, как обычно, не берет трубку. Дети снова вырываются из машины и бегут к толпе у ограждения.
— Стоять, сволочи! — орет Ляля, прыгая за ними, поскальзываясь, хватаясь за какого-то прохожего, извиняясь на ходу и пытаясь догнать мальчишек.
Воспользовавшись суетой и криками, я снова отхожу к фонарному столбу и сплевываю кислую слюну. Я знаю, когда Ляле удастся снова запихнуть детей в машину, она вернется, поправит мне волосы и заботливым тоном посоветует завести своих детей. Все это мы уже не раз проходили.
Мозги так и валяются на асфальте. Оглянувшись, за ленту проскальзывает кто-то из зевак. Быстро приближается к месту происшествия, наклоняется и подбирает очки. Секунду рассматривает их, повернувшись к фонарю, потом сует в карман.
Наконец, из подъезда выбегает кожаный. В деле открылись новые факты, супруга Петровского, оказывается, получит невероятную страховку. Глаза у следователя горят, появляется надежда на убийство, а, значит, повышение, ну или хотя бы премиальные.
— Одурел? — ревет Стас. — Долго думал?!
Они с Артемом срываются в сторону подъезда. Их черные силуэты мелькают на фоне грязного снега: стенькоразинский Артем в короткой косухе и казаках, худощавый и слегка сутулый Стас в длинном пальто и французском берете. Америка и Европа, оба в российском варианте, — уже в тоске, уже под водочкой.
У меня начинает кружиться голова.
Петровский — старый друг Артема. Когда Стас открыл свою компанию, Артем привел в качестве клиента Петровского, и дела моментально пошли в гору. С тех пор Стас буквально его боготворит. Артем относился к Петровскому сначала завистнически, но, после того, как тот на порядок обогнал их всех и стал тем самым Петровским, что ворочает сейчас десятком сетевых бизнесов, и еще пятью-семью проектами поменьше, Артем успокоился, отдал ему лавры первенства и ограничивался тем, что держал свою яхту в том же клубе. Стас же и вовсе довольно быстро выпал из соревнования и проникся к Петровскому искренним уважением. «Смог мужик. Сделал. Почет!»
До меня, кажется, постепенно доходило, почему моя версия про самоубийство так всех раздражала. Это была пощечина всем Стасовым мечтам, всем устремлениям Ляли и Артема, и всем идеалам Жанны о настоящем мужчине. Петровский был хорош на всех фронтах: отличный семьянин, удачливый коммерсант, шикарный мужик. Они были готовы к несчастному случаю, даже к убийству, но только не к тому, что великого и могучего Петровского задолбала его жизнь. Причем, задолбала настолько, что, отправив жену и детей на Мальдивы, вернувшись из аэропорта, Петровский на сутки запирается в квартире, не выходит в офис, не снимает трубку, а напивается в хламину, в стельку, и сигает в окно. Когда я приехала, из открытого окна еще орала на весь двор музыка. Том Уэйтс.
Grapefruit moon, one star shining, shining down on me.
Heard that tune, and now I\'m pining, honey, can\'t you see?
\'Cause every time I hear that melody, well, something breaks inside,
And the grapefruit moon, one star shining, can\'t turn back the tide.
Позже ее выключили менты, но она еще долго звучала у меня в ушах, и мне хотелось выть.
Через час мы садимся в машину. Хлопают дорогие дверки. Алла Семеновна едет с Артемом, все остальные — по своим домам. Стас постоянно курит, придерживая руль одной рукой, но не дает машину мне. И всю дорогу молчит, от чего мне становится совсем не по себе.
— Знаешь, я тут статью на днях читала, в «The Guardian», — говорю я. — Пишут, что мы обратно к совку катимся. Ну, про танки в Грузии, про хамский тон президента, про все эти его выступления перед Европой, цензуру, отсутствие оппозиции, задушенных олигархов… Но главное, что меня поразило, так это мысль, что у нас не осталось никакой идеологии. Вообще, понимаешь? Ноль. Они забыли нам ее придумать. Раньше хоть какая-никакая, но у народа была цель — торжество социализма, потом вера в гласность, в перестройку, все такое. А сейчас? Национализм, шовинизм, антиамериканизм и все. Это ж не идеология, а так, негатив один. А положительных идей нет. Вообще никаких идей в обществе больше нет.
Стас с трудом разлепляет губы:
— И давно тебя беспокоит общество?
— Да причем тут общество? Я про нас. Типа вообще, как пример.
— Пример чего?
— То того… как бы это сказать? Что могут быть еще какие-то вещи в жизни, в смысле — вовсе не вещи .
В окне мелькают сумеречные изображения проспекта: массивные, некогда величественные дома, потоком движущиеся согбенные под непогодой пешеходы: под маской деловитости стыдливо игнорирующие пощечину в виде потрепанной, неловко раскорячившейся у мусорного бака старухи — с голой бесперчаточной рукой, с позвякивающими в авоське пустыми бутылками.
Зов под ребрами усиливается.
— Мне плохо, — говорю я.
— Удивила. Всем плохо!
— Да нет, в буквальном смысле. Меня тошнит.
Внезапно мой живот сводит судорогой. Согнувшись пополам, я прошу Стаса остановиться. Открываю дверку и даже не успеваю выйти из машины, как меня рвет прямо на обочину.
Стас присвистывает.
Вытерев рукавом губы, я закрываю лицо руками и откидываюсь на спинку сиденья.
— Это все твои таблетки, — говорит Стас. — Позвони врачу.
— Клиника уже закрыта.
— Тогда звони на сотовый.
— Неудобно. Поздно уже.
— Поздно — это когда у тебя язва откроется.
Неуверенно посмотрев на часы, я все-таки набираю номер. В трубке слышны отдаленные раскаты футбола и уютное позвякивание тарелок. Нормальные люди вечерами смотрят телевизор и жарят картошку, их друзья не выкидываются из окон, и сами они не блюют из машин.
— Да? — наконец, говорит врач.
Мой гастроэнтеролог — умный и приятный человек, как и все полноватые очкарики, добрый и настолько мягкий, что даже дал мне свой мобильный номер.
— Это Власова, — говорю я. — Та, которая…
— Да, да, я помню. С Зовом.
Мне становится стыдно. Моя болезнь настолько дика, что меня запоминают.
— У меня опять, — извиняюсь я. — Но в этот раз сильнее, до рвоты. Так сильно еще пока ни разу не было. Может, есть какие-то другие таблетки? Или… не знаю, что-то еще, чтобы это как-то… прекратить?
Но врач очень мне сочувствует, он понимает, он не сердится и только просит неизвестную мне Машеньку сделать потише звук. Он даже готов пропустить из-за меня парочку голов, или остывший ужин, но, к сожалению, ничем не может мне помочь с моей проблемой.
— Это не болезнь у вас, я ведь говорил, — в какой уже раз повторяет он. — Психосоматическое — это нарушения не физиологические. Это такие чисто человеческие состояния, невозможные у животных, развивающиеся на фоне эмоциональных нарушений, конфликтов и стресса.
Все это он уже не раз мне говорил. Я поняла, собаки Зовом не болеют. Это прерогатива человека, да и то не любого, а почему-то именно меня.
Я пожимаю плечами, глядя на Стаса. Он знаком просит переключить телефон на громкую связь. Теперь голос врача звучит в машине как глас Божий.
— История психосоматики изучается со времен Гиппократа. Но человеческая душа настолько сложна, что ни к чему толком прийти не удалось. В целом, если исключить функциональную асимметрию мозга и посттравматический фактор, которых, как я понимаю, у вас нет, то не остается совсем ничего. Психоанализ. Или таблетки, которые я вам уже давал.
— Но они же не помогают? — возражаю я.
— И не могут помочь. Они должны были работать как плацебо. Но если вы или кто-то из вашей семьи недостаточно в них верит…
Я киваю.
— То медицина дальше вам не помощь. Попробуйте успокоить нервы, отдохните, найдите что-то, что принесет в вашу жизнь гармонию или покой.
— Идиот, — говорит Стас и, резко ударив по тормозам, едва избегает столкновения с машиной перед нами.
Я выключаю громкую связь.
— Кто идиот? Врач или тот водитель?
— Да оба! Вся страна! Весь род человеческий!
Через три часа, так и не притронувшиеся к курице-карри, голодные, мы лежим в кровати и курим.
— Может, нам с тобой сделать ребенка? — говорю я и кладу голову Стасу на плечо. Мои пальцы вырисовывают восьмерки на его груди.
В темноте Стас тяжело вздыхает.
— Бедная детка… Извини меня. Я смертельно устал.
Я покорно отползаю на свою подушку. С минуту мы молчим, пережевывая каждый свое разочарование.
— Ну, я не имела в виду прямо немедленно. Я вообще.
— Зачем?
— Ну, может, Зов бы успокоился? У меня появился был смысл…
— Ну не будь ты идиоткой, ладно? Не приносят дети смысла никакого. Суету одну приносят, ответственность… А смысл-то в них какой? Долбаешься с ними, долбаешься, как больной, а они вырастают и показывают тебе средний палец. К тому же ты что, хочешь, что бы я тебя разлюбил?
— Почему разлюбил?
— Да потому. Не задавай идиотских вопросов! У тебя подруги одна другой тупее, что Жанна твоя, что эта корова Ляля. Учат тебя херне всякой. Спи лучше.
Но сон не идет ко мне. Остаток ночи я провожу на кухонном подоконнике. Я смотрю в окно, на дороги, на редко встречающиеся машины, неведомо куда направляющиеся в ночи, на какого-то пьяного или заблудившегося пешехода, бродящего кругами по двору. Наша жизнь вдруг представляется мне в виде длиннющего широченного шоссе: уходящее за горизонт насколько хватает глаза, оно усеяно малюсенькими черными точечками — передвигающимися, нелепыми в своей беспомощности человечками. Им кажется, что у них разные цели, и они хаотично забирают кто левее, кто правее, постоянно подрезая друг друга и меняя полосы. Изредка то тут то там возникают конфликты, люди собираются в кучки, кто-то кого-то мутузит, пытается столкнуть с дороги. Но с высоты птичьего полета становится очевидным — столкнуть здесь никого нельзя — по обе стороны шоссе обнесено колючей проволокой под высоковольтным напряжением, вдоль которой валяются смердящие, местами обугленные кучи разлагающейся человеческой массы. Это — не сумевшие или не захотевшие пробить себе дорогу вперед по шоссе: выскочки, одиночки, психи, отбросы общества — короче, те, кто не захотел «как все». Но это единицы, статистически они не идут в счет. Много ли в нашей жизни встречается таких, решившихся отойти в сторону? Подавляющая статистическая масса без малейших сомнений продолжает упорное движение вперед.
Куда ведет это шоссе, задумываться человечкам недосуг, они полностью сосредоточены на передвижении. Кто-то раздобыл себе кривую телегу, кто-то ковыляет пешком, кто-то умудрился растолкать соседей и организовать себе сверкающее бамперами эксклюзивное авто. Как и везде, многие вынуждены прибегать к услугам общественного транспорта — трамваев и автобусов. Есть здесь даже неглубокий метрополитен (самые шизы предполагают, что оттуда можно подрыть подземный ход на свободу и, собираясь в мелкие партии с целью снабдить всех примитивными лопатами, регулярно затрудняют движение поездов — слава богу, их вылавливают наряды добровольцев). Но, несмотря на сложнейшие схемы маршрутов, которые лишь немного виляют по шоссе, вся эта котовасия неизбежно движется вперед.
На автобусных подножках висят люди; из автомобилей подороже томно высовываются блондинки с отличными фигурами, торчат чехлы со сложенными шубами и довольно красивые кожаные чемоданы; на обычных телегах сидят кричащие младенцы, дети постарше вписывают в тетради домашние задания, ловкие студенты умудряются пристроить на коленях лэптопы и даже скайпить с попутчиками. Но есть и те, кто вовсе ни на что не годен, они идут пешком, у некоторых в руках палки — можно опираться, когда устал, да и какое-никакое, но оружие, отбиваться от соседей всегда пригодится. Конфликты и вооруженные стычки — как индивидуальные, так и носящие порой пугающе массовый характер — за последнее время резко участились. На шоссе становится настолько тесно, что нечем дышать. Ходят разговоры об экологии шоссе, о появившихся неизлечимых болезнях неясной этиологии, а к телегам, торгующим удлиняющими продолжительность жизни и потенцию биологическими добавками, становится сложно пробиться. Особенно это заметно в час-пик.
Ко всем прочим бедам движение осложняется одним неприятным обстоятельством: сверху (никто толком не знает откуда) на это шоссе постоянно падают камни (порой — маленькие, россыпью, эти почти безобидны и напоминают картечь или малокалиберные пули; порой — большие, некоторые достигают размеров булыжников), и в мерно движущейся толпе тут и там возникают завихрения и водовороты: это камень попал в одного из путников. Человек вскрикивает, падает… иногда встает, покалеченный, и умудряется продолжить движение, иногда уже не встает. Тогда люди подбирают его очки, кто-то всхлипывает, но вскоре движение возобновляется. Оставшихся лежать еще какое-то время пытаются обогнуть, но в тесноте это не так просто, и кто-то, наконец, первым на них наступает, кости слабо хрустят, вминаясь в асфальт, потом остатки переезжает телега, и уже через пять-десять минут нельзя и догадаться, что недавно в дорожной грязи лежал человек, коллега. Все затаптывается и дорога опять разравнивается. Над ней смердит, но люди давно принюхались и не обращают внимания на такие мелочи. Все спешат, все увлечены движением, перестраиванием из полосы в полосу, улучшением транспортных средств.
Но самое забавное во всей этой картине: несмотря на то, что всем здесь кажется, что у них абсолютно разные цели, никакой цели у передвигающихся нет и вообще быть не может. Совпадает у всех только направление движения. Местами покрытое асфальтом, а местами уже разбитое в грязь, это шоссе напоминает взлетную полосу, только с той разницей, что теснота на дороге никому не даст набрать нужной скорости и оторваться от земли, — мы все без исключения направляемся к ожидающей нас в конце пути бездонной пропасти. Радует только одно: мы об этом до поры до времени ничего не знаем. «Меньше знаешь — лучше прешь» — гласит начертанный на растяжках девиз, принадлежащий великому лидеру этой трассы. Говорят, он прославился тем, что, оказавшись на краю бездны, умудрился ее не заметить, и свидетели из первых рядов успели передать слух, что, падая, он еще долго вопрошал окружающих: «Кто-нибудь знает, почем сегодня баррель?»
Как и любой другой участник движения, я тренирую в себе необходимую тут ловкость: уворачиваться от падающих булыжников. Нелепо, но я тоже, как и все, хочу добраться до конца пути. До пропасти. Мне кажется, это все-таки лучше, чем быть просто раздавленной на дороге. К тому же у меня есть надежда: когда пропасть раскрывает перед тобой свою хищную пасть, ты уже настолько задолбан дорогой, что тебе это, в общем-то, безразлично.
7
Следующее утро начинается с того, что меня снова рвет.
Все! Так больше невозможно! Держась за живот, я со стоном добираюсь до телефона и звоню Жанне.
— Ты на работе?
— Угу.
— А Светка там же?
— Какая Светка?
— Ну та, что дала вашему генеральному телефон гадалки.
— Исполнительному?
— Ну, исполнительному, какая разница? Там она?
— Ну, там. А что?
Я молчу, подбирая слова. В трубке слышна суета офиса, нервные голоса, разрывающиеся от звонков телефоны.
— Подожди, — вздыхает Жанна.
Гадалка скромно проживает на первом этаже запущенной девятиэтажки. Припарковавшись, я подхожу к подъездной двери и, уже протянув руку к домофону, останавливаюсь в нехорошем предчувствии.
На кой черт я сюда притащилась? Я же не верю ни в каких гадалок, магию и экстрасенсов, и в глубине души уверена, что все эти медиумы и прочие посредники между мирами, даже если часть из них и полагает, что у них есть дар знать то, что человеку в принципе-то знать не положено, на самом деле или психи, или просто раскручивают дураков на бабки. Мне вспоминаются все слышанные мной истории про запугивание и гадалочий шантаж, отобранные бриллиантовые кольца, какие-то яйца и иголки, которые надо закопать в полнолуние… Я оглядываюсь на свою машину, на голые ветки деревьев, перевожу взгляд на садящееся солнце, но здравый смысл в последнюю минуту изменяет мне, и рука нажимает код. Раздается противный гудок, дверь поддается, и я захожу в сырую темноту подъезда, почему-то пропахшую чем-то приторно-сладким.
Прихожая, дверь в которую мне открывает тихая девочка с косичками, обклеена зеленоватыми обоями с жар-птицами. Их золоченые, выцветшие хвосты отсвечивают в косых лучах заходящего солнца. Удалившийся на кухню молчаливый ребенок не предлагает мне ни кофе, ни чая, плотно закрывает за собой дверь, хвосты жар-птиц тухнут, и я оказываюсь в полумраке. Вдоль стены расставлены три потрепанных канцелярских стула. Осторожно потрогав сиденья руками, я присаживаюсь на краешек одного из них и, чтобы отвлечься от желания немедленно закурить, начинаю перебирать в уме все знакомые мне запахи, пытаясь определить, чем же это так назойливо пахнет, и через минуту устанавливаю, что, разумеется, это не что иное, как индийские ароматические палочки — редкая гадость, к тому же абсолютно не вписывающаяся в формат потрепанной однокомнатной квартиры, забытой богом в двадцати минутах от станции «Пролетарская». Впервые меня посещают сомнения в целесообразности навигационной системы в моей машине. Мне кажется, что адреса, которые я не могу самостоятельно, не прибегая к помощи космических спутников найти после пятнадцатилетнего стажа вождения в родном городе, мне, по всей вероятности, посещать и не стоит.
Чем дольше я жду, тем больше мне хочется уйти. Но именно в ту минуту, что я почти уже на это решаюсь, дверь в комнату приотворяется, и низкий, грудной, вероятно, по задумке — очень магический голос призывает меня войти. Судя по тому, что из комнаты никто не выходил, гадалка все это время находилась там одна, и заставить меня прождать — лишь уловка, повышение собственного авторитета. Фарс дешевый, отмечаю я, но по тому, как резко я вскочила — ударившись локтем о стену и уронив перчатки на пол — понимаю, что сильно нервничаю.
Шторы на окнах плотно задернуты, и в комнате не видно ни зги. Еще один гадалочий прием?
— Здравствуйте, — говорю я, с досадой отмечая несвойственные мне заискивающие нотки в моем голосе.
— Садись, — велит мне все тот же голос, доносящийся откуда-то снизу.
Вздрогнув, я поворачиваю голову на звук и различаю впереди низкий опиумный столик и сидящий на подушках силуэт, закутанный в что-то наподобие шали или скатерти. Прямо у меня под ногами обнаруживается вторая, пустующая подушка. Как была — в сапогах и пальто — я присаживаюсь на колени, недоумевая, почему клиентам не предлагается хотя бы раздеться. Чиркает спичка, в воздухе повисает запах серы и на столе загорается толстая красная свеча, освещающая тонкую руку, на указательном пальце сверкает камень в серебряной оправе.
— Зачем ты пришла? — спрашивает голос.
Его владелица наклоняется над столом так, что я могу ее теперь рассмотреть. Это молодая еще женщина, не цыганка, с вполне нормальными вразумительными, даже умными глазами, в которых мне не видится никакой примеси безумия.
Я немного расслабляюсь. Поправляю под собой подушку.
— Я хотела… — начинаю я, но не могу подобрать слов.
Что я, собственно говоря, хотела? Я уже не могу толком сообразить. Как исполнительный директор, получить совет уехать в Гималаи, фотографироваться там с горными козлами и стать счастливой? Мысли путаются в голове, и от этого еще невыносимее хочется закурить или хотя бы глотнуть воды. В горле из-за навязчивого запаха ароматических палочек пересохло и саднит. Что мне сказать? Что я почему-то не могу быть счастлива? Что я запуталась и не знаю, как и ради чего жить?
— Я хотела бы узнать свое будущее, — наконец, выдавливаю я.
Женщина вздыхает:
— Имя?
— Чье?
— Ну свое-то я знаю.
— Ах, ну да… извините. Полина. Полина Власова.
Тонкие руки стремительно разбрасывают карты по столу. От меня, по-видимому, больше ничего не требуется, и я затихаю, теребя шарф. С минуту или дольше длится молчание. Наконец, руки сгребают карты в охапку и отбрасывают в сторону.
— Уходи, — говорит гадалка.
— Простите?
Я пытаюсь поймать ее взгляд, но женщина отводит глаза и опускает лицо так, что мне видны только удлиненные свечой тени от ресниц, пушисто ложащиеся на худые, почти впалые щеки.
— Уходи, — повторяет она.
— Но почему?!
— Просто уходи. Мне нечего тебе сказать.
В шоке, я поднимаюсь и делаю шаг к двери.
— Бред какой-то! Почему вы меня пугаете? Я готова заплатить… — Я роюсь в сумочке и вытаскиваю мятые сотенные купюры. — Вот, ваши пятьсот рублей, как договорились.
Гадалка поднимает на меня абсолютно черные глаза, в каждом из которых дрожит миниатюрное пламя свечи, и, забыв про свой низкий магический голос, неожиданно взвизгивает:
— Вон! Сеанс окончен!
Словно отброшенная ее криком, я отлетаю к двери, и только там, почуяв свободу столь близкого, доступного выхода, перевожу дыхание и оборачиваюсь.
— Зачем вы кричите? Я же ничего плохого вам не сделала. Я просто хотела знать свое будущее.
Но гадалка опять переходит на спокойные интонации.
— Нет у тебя никакого будущего, — заявляет она устало.
Я чувствую одновременно страх, разочарование и негодование. Последнее все-таки берет верх, и я не выдерживаю:
— Что за наглость?! Как вы смеете меня запугивать? Я приведу милицию! Мужа, наконец!
— Мужа у тебя тоже нет.
Холодок пробегает у меня по спине.
— Я живу с мужчиной!
— Это не твой мужчина. Уходи. Я устала.
— Но…
— Мне нечего добавить. У тебя нет абсолютно никакого будущего. Я разложила на Полину Власову, а там одна чернота.
Теперь страх выходит на первое место, сильно обгоняя негодование. Он парализует меня, и мне стоит жутких усилий задать следующий вопрос.
— В смысле, чернота?
Женщина молчит.
— Что значит ваша чернота? Как у человека вообще может не быть никакого будущего?!
— Очень просто. Если карты не говорят ничего, это значит, что ничего и не будет. Ты скоро умрешь.
Гадалка закрывает глаза и начинает раскачиваться из стороны в сторону.
Я выскакиваю в коридор и подбегаю к двери. Дергаю ручку, потом до меня доходит повернуть ключ. Подъезд обрушивается на меня отрезвляющей сыростью. Я замираю, прислонившись к стене, судорожно нащупываю в кармане пачку сигарет, даже вынимаю одну и пытаюсь прикурить, но что-то останавливает меня и, бросив не зажженную сигарету на пол, я ловлю носком сапога медленно закрывающуюся дверь и врываюсь обратно в квартиру.
— Хорошо, — заявляю я с порога. — Я поняла. Я скоро умру. Прекрасно! Просто отлично! Это развод такой на бабки, да? Ваша взяла, вы меня испугали! А теперь давайте обсудим сумму, за которую я все-таки не умру?
Но женщина почему-то не спешит начать торг.
— Нет такой суммы, — говорит она, и мне опять мерещится в ней некоторая, пугающая меня еще больше, вменяемость. — Не нужны мне твои пятьсот рублей. Я не шарлатанка. Я и рада бы, но от меня ничего не зависит. Все решает Бог, и он уже решил.
Все эти слова кажутся мне понятными по отдельности, но в цельный смысл все равно никак не складываются. Я не могу поверить в свое невезение. Я лезу в сумку и достаю кошелек.
— Вы не поняли. Я не про пятьсот рублей, я предлагаю заплатить больше. У меня есть кредитки, я могу сбегать в банкомат…
— Нет.
— Кольцо… — цепляясь за жизнь, я стаскиваю с пальца бриллиант. — Вот. Оно стоит пять тысяч! Просто заберите свои слова обратно!
Я кидаю кольцо на опиумный столик. Оно скатывается на пол и исчезает в темноте. Но женщина только натягивает шаль на голову и молчит, слегка покачиваясь, похожая на мумию, на каменное изваяние, на индийскую богиню, даже не повернув головы в его сторону.
— Теперь вы заберете свои слова обратно?!
Я обхожу чертов столик, спотыкаясь и цепляясь краем пальто за стол, хватаю женщину и пытаюсь остановить ее мерное покачивание, которое сводит меня с ума.
— Да? Заберете?! Дьявол! Что за бред?! Что вам еще надо?!
Внезапно гадалка вздрагивает и срывается на тот самый, жуткий, визгливый крик:
— Вон отсюда! Во-он! Во-о-он!..
Объятая ужасом, я затыкаю уши и, больно ударяясь об угол, выскакиваю из комнаты. Как бы со стороны я слышу, что тоже начинаю что-то кричать, кажется, даже угрожаю… Плохо соображая, что со мной происходит, (как? как эта сумасшедшая умудрилась вытянуть из меня кольцо, даже не сказав мне ничего хорошего?!), я все-таки оказываюсь в подъезде. На этот раз я пролетаю его, не задерживаясь. Улица обдает меня начавшимся снегопадом, но я ничего толком не замечаю. Стуча зубами, я забираюсь в машину. Солнце зашло за дома, и двор накрыт мрачной тенью, предвестником стремительно приближающейся темноты. Я щелкаю зажигалкой, продолжая сотрясаться от мелкой дрожи, и только с десятого раза мне все-таки удается прикурить.
Дьявол! Идиотка! Зачем я сюда пришла? Что я хотела услышать? Какие, нафиг, Гималаи? Но почему, почему эта сволочь, эта шарлатанка так хорошо поговорила с Жанниным директором, и так ужасно повела себя со мной? И что мне теперь делать? Ну за кольцом, допустим, я вернусь со Стасом, отдаст как миленькая! Но как мне теперь забыть то, что она сказала?!
В окошке мелькает чья-то тень, и я подпрыгиваю на сиденье от внезапного стука. Слева от меня стоит уже знакомая мне девочка с косичками: рука протянута как у нищенки. Еще денег?! — зверею я, но тут же замечаю, что ребенок пришел не просить. В маленькой ладошке что-то блестит и, присмотревшись, я понимаю, что это мое кольцо. Я опускаю стекло, и молчунья бросает мне его прямо в машину. Не дает в руку, а именно бросает и пятится от меня прочь, как от чумы. Ее щуплое худенькое тельце дрожит на холоде, на ней нет ничего кроме байкового халатика и тапочек. Не успеваю я что-либо сказать, как она озаряет меня неумелым крестным знамением, а затем стремительно разворачивается и скрывается в подъезде.
В полном шоке я смотрю на валяющееся у меня на коленях кольцо. Выходит, что гадалка не взяла с меня ни копейки, вернула бриллиант… Я наотрез отказываюсь понимать происходящее.
Уже второй час я пытаюсь вырваться с проклятой «Пролетарской», но движение в городе полностью парализовано. Чертовы приезжие! Чертов город! Чертова жизнь! Я матерю весь белый свет, беспрестанно сигналю, но моя машина не может продвинуться ни на метр. Классика жанра: грузовик въехал на перекресток на мосту, не рассчитав, что из-за затора впереди ему некуда с него деться. Светофор переключается, и машины слева и справа тоже заезжают на перекресток. Проехать, разумеется, не могут, из-за застрявшего поперек грузовика. Светофор переключается еще пару раз, завершая этот шедевр тупости, и вот перекресток под завязку запружен машинами. Теперь уже ни одна из них не может сдвинуться с места: выстроившись в шахматном порядке, они полностью перекрыли друг друга. Без регулировщика этот гудящий монумент человеческой жадности и идиотизма будет стоять здесь до конца света. А его — волшебного регулировщика, обладателя не менее волшебной чудо-палочки — (опять классика жанра) здесь нет и не будет! Никогда!
Я набираю Жаннин номер:
— Алле! — кричу я в трубку. — Ты где?
— Где, где… — говорит Жанна гробовым голосом. — Где надо!
— Ты мне срочно нужна! — Я даже не пытаюсь держать лицо, я ору изо всех сил, я умоляю. — Пожалуйста! Я сейчас приеду! Я брошу машину и приеду на метро, в любое место, куда ты скажешь! Мне срочно, срочно надо поговорить!
— Я не могу, — говорит Жанна, и мне внезапно кажется, что она плачет. — Я занята…
— Что случилось?
— Ничего. Все нормально. Все обалденно. Просто Рафик меня бросил…
В трубке слышен неразборчивый мужской голос. Жанна начинает плакать сильнее.
— Господи, Жанна! Ты с кем?
— С Ра… фи… ком, — рыдает она.
Все тот же мужской голос что-то требует, кричит, Жанна тоже начинает кричать… Мне не остается ничего, кроме как повесить трубку. На этом празднике жизни я им совершенно сейчас не нужна. Это предельно очевидно.
Через полчаса мое состояние уже напоминает буйное помешательство. Мы все еще стоим ровно на том же мосту. Регулировщика нет. От постоянных звонков всем подряд у меня садится батарея в телефоне, и я с ненавистью швыряю его в окно. В полной прострации, как в летаргическом сне, плохо соображая, что делаю, я выхожу из машины.
— Девушка! — орет мужской голос откуда-то сзади. — Вы куда?! Немедленно вернитесь! Мы сейчас поедем, и что? Вы перегораживаете весь ряд!
— Мы никуда не поедем, — бормочу я, не оборачиваясь. — Ни-ку-да… не поедем…
Мужчина меня не слышит, но мне совершенно безразличны его крики. Даже не прикрыв за собой дверки, я отмечаю взглядом мой валяющийся мобильник, но не поднимаю его, а просто перешагиваю и иду куда глядят глаза. Огибаю сигналящие вокруг машины и облокачиваюсь на каменный парапет моста над автострадой. Под мостом мертво стоит такой же поток машин. Фары разрезают ночной мрак, в освещенных ими фрагментах воздуха истерически роятся мелкие снежинки, под колесами черная слякоть, люди нервничают, — сколько хватает глаза развязка, включающая в себя четыре подъездные дороги и эстакаду, полностью парализована.
Все стоит. Ничего не происходит. Никто никуда не движется. На секунду на меня снисходит благодатное озарение. Это ничего, что я скоро умру! Это вполне в духе времени. Это абсолютно нормально. Гадалка — честная и неподкупная женщина. Мы все давно уже умерли, и, если определять жизнь через движение, то, глядя на одуревшую, на все лады гудящую в клаксоны предновогоднюю Москву, это становится очевидным.
На миг время останавливается, и я погружаюсь в тишину и покой. Как в замедленном режиме просмотра я вижу все происходящее, но звук отключен. Мне совсем не холодно, я перестала ощущать зимний воздух на своих щеках, я не чувствую, как ветер играет моими растрепанными волосами, я не отдаю себе отчета в том, что посиневшие пальцы впиваются в каменный парапет. Все это я замечу чуть позже, а пока мне тепло, тихо и очень хорошо. Я почти счастлива.
Но «почти» не считается. Резкий порыв ветра швыряет мне в лицо горстку снежинок, и я будто просыпаюсь. Во мне поднимается холодная, восхитительная ярость. Застонав, я кидаюсь обратно к машине. В моей голове пульсирует всего одна мысль, но зато какая! Что бы там ни говорила эта чертова гадалка, — но я пока жива! И должна двигаться!
Все дело в грузовике! Если убрать его с моста, все сразу смогут проехать. Я забегаю вперед и мгновенно оцениваю ситуацию. Если несколько машин сдадут слегка назад, то еще парочка машин смогут продвинуться вперед, тем самым освобождая место, чтобы и грузовик, в свою очередь, сместился к краю.
— Еб… … …! Ты! Назад сдавай! Назад, говорю!
Как со стороны, я наблюдаю себя, размахивающей руками и тычущей пальцами в водителей. Мне стыдно за то, что я знаю такие слова, мне обидно, что, живя в этой стране, их невозможно не узнать.
Вокруг меня в освещенном фарами пространстве кружатся снежинки. У меня от них кружится голова. Москва кружится вокруг нас со снежинками, и я уже не разбираю, то ли в результате моих действий на перекрестке и правда начинается какое-то движение, то ли я просто схожу тут с ума. Машины следуют моим указаниям и, окрыленный успехом, вскоре мне на помощь приходит рослый детина из шикарного «вольво», почему-то в валенках, надетых прямо на костюмные брюки, и вот мы уже вместе машем руками, разбирая машины на «ты — назад», «ты — вперед», «а ты — замри, дебил, куда прешь?»
Буквально через каких-то три несчастных часа я уже ловко паркуюсь на мусорной куче перед собственным подъездом. «Здесь жил Гога», как обычно приветствует меня кривая надпись на моем этаже. Я прищуриваюсь, останавливаюсь и, не задумываясь, царапаю ключом на стене: «Здесь жила Полина». Жила…
Ключ долго не может попасть в отверстие замка, я покрываюсь потом, сбрасываю мешающий мне шарф на пол, остервенело тычу в скважину… пока дверь не открывается сама. При этом я чуть не падаю от неожиданности. На пороге стоит Стас: рубашка расстегнута до середины блестящей лысой груди, обычно прилизанные волосы взъерошены, отчего сам Стас напоминает внезапно разбуженного воробья. Из-под полосатых костюмных брюк торчат синие и почему-то босые ноги.
— Ты спишь? — спрашиваю я, запихивая слегка заторможенного Стаса обратно в квартиру. — Дай же пройти, ты, о Господи! Я три часа до дома добиралась! Мне срочно, срочно надо выпить!
— Выпить? Oh yeah, крошка, это ты по адресу!
Я замечаю, что от Стаса сильно несет алкоголем.
— Ты что, пьян?
— Пьян? Ой, какое слово страшное! Пьян… Ну хорошо, я немного пьян…
Стас коротко хохочет, но резко останавливается и тревожно озирается. Таким он гораздо больше смахивает на психа, чем на пропойцу. Я отталкиваю его и захожу на кухню, ожидая увидеть Артема. Но Артема нет, вообще никого нет, только что есть мочи надрывается из колонок радио. Судя по всему, Стас пьет один, и не виски, а все-таки вино. Значит, все не так плохо. Хотя обычно Стас почти не пьет, бережет шаткое здоровье.
— Что у тебя случилось? — спрашиваю я, наполняя Стасов недопитый бокал и немедленно осушая его до дна.
Блуждающие серые глаза останавливают на мне безумный взгляд, с минуту меня изучают и отводятся в сторону батареи отопления, где окончательно застывают.
— Да что же, Господи, случилось?! — я быстро срываюсь на крик.
— Ничего, детка… совсем ничего… Небольшие неп… пприятности на работе. Бб… бывает.
Когда Стас волнуется, он слегка заикается. Это бывает с ним крайне редко, и я понимаю, что произошло что-то гораздо более серьезное, чем я подумала вначале.
— Насколько небольшие?
— Я сказал: небб… большие… Отвянь, дарлинг, детка… ум… ум…, вот дьявол! умоляю!
Я кидаю сумку на угловой кухонный диванчик и плюхаюсь за ней следом. Закрываю лицо руками и на какое-то время полностью погружаюсь в окутывающий меня кошмар.
— Мне гадалка сегодня сказала, что я скоро умру, — наконец, разлепляю я руки и поднимаю глаза на неподвижного, замершего в прострации Стаса.
— Да? — без особых эмоций интересуется он. — И сколько ты ей за это заплатила?
— Да в том-то и дело! Это самое страшное во всей этой истории! Нисколько! Она не взяла деньги!
— Странная гадалка, — тянет Стас и опять сосредотачивается на батарее.
— У нас что-то не так с отоплением? — завожусь я.
— А? Почему?
— Ну ты с батареи взгляда не сводишь.
— Разве?.. А, кстати, куда пропала наша орхидея из ванной?
— Вспомнил! Я ее еще три дня назад вынесла в соседский цветник у лифта. Ей у нас было слишком одиноко. В моей галерее хотелось повеситься, а в этой квартире можно подохнуть так, просто от одного ее вида, без мыла и веревки!
Я роняю голову на сложенные на столе руки. Стас с шумом отодвигает стул и садится рядом. Почти одновременно мы вздыхаем. Разговор слепого с глухим.
— Детка, что ты от меня хочешь?
Во мне поднимается волна раздражения.
— Что я от тебя хочу?! Да так, ничего особенного. Я тебе только что сообщила, что скоро умру. А ты даже ничего не спрашиваешь!
Стас смотрит на меня, как на редкое пресмыкающееся, почти утраченный подвид, чудом уцелевший на его кухне.
— А что спрашивать? Я все уже понял. Ты ходила к гадалке, и она сказала, что ты умрешь.
— А тебя не интересует, почему я вообще ходила к гадалке?
Стас отрицательно крутит головой:
— Да нет. После всего, что с тобой происходило последнее время, поход к гадалке не вызывает у меня ни мм… малейших дополнительных вопросов.
Достаточно! Хлопнув дверью, я закрываюсь в ванной. Из плетеной корзины торчит очередная рубашка. С ненавистью я засовываю ее поглубже и несколько раз хлопаю крышкой. На это уходят почти все мои силы, и я присаживаюсь на краешек ванны. В полном изнеможении я набираю Жанну.
— Ты где? — спрашиваю я.
— Где? Да там же… Дома.
— Что Рафик?
— Ушел.
— Совсем ушел?
— Не совсем. Но лучше бы совсем…
Деревянный, изъеденный жучком, и от этого какой-то домашний, лишенный излишней величественности, так мешающей мне воспринимать святые лики на православных иконах, Будда смотрит на меня со стены напротив. Его глаза спокойны и идеально пусты. На свете, на этом, вашем, обыденном свете, состоящем исключительно из нелепой суеты, нет ничего, из-за чего стоило бы по-настоящему расстраиваться, подсказывает он мне со всей возможной доброжелательностью.
— Что он сделал-то? — спрашиваю я Жанну.
— Сделал? Ничего. Ровным счетом абсолютно ничего… В этом-то и проблема.
В трубке что-то щелкает, слышатся звуки звонко падающих предметов.
— Ты там бьешь посуду что ли? — интересуюсь я будничным тоном, как будто бить посуду — норма жизни. Хотя что в наше время можно назвать «нормой» мне уже давно не понятно.
— Я скалываю плитку в ванной, — отвечает Жанна.
Ее голос почти тонет в очередном звонком ударе.
— Сама? Чем скалываешь?
— Чем? Шпателем! Чем еще можно скалывать плитку? Хотя… я не знаю чем еще можно. Может, чем-то и можно, но у меня есть только шпатель.
Какое-то время мы молчим, и я наслаждаюсь звуком падающей и разбивающейся плитки.
— А зачем скалываешь?
Жанна гомерически хохочет:
— Ремонт делаю!
— Понятно. Тебя уволили и ты осваиваешь новую дефицитную профессию? — иронизирую я.
— Ну можно и так сказать. Рафик меня уволил. Переезд в новую квартиру отменяется, и я навеки вечные остаюсь в своей однушке.
Мой взгляд устремляется на Будду.
— Ну если тебя это хоть как-то утешит, то бывает и хуже, — философски замечаю я. — Ты хоть в однушке, но будешь жить. А мне сегодня гадалка сказала, что я скоро умру.
Звуки падающих плиток прекращаются.
— Что за бред?! — восклицает Жанна.
Мне на миг становится легче. Хоть кто-то готов обсудить произошедшее, убедить меня в том, что верить гадалкам нельзя, что я излишне впечатлительна, наивна, в конце концов. Но запыхавшийся от непривычной физической нагрузки голос Жанны резко констатирует:
— У тебя съехала крыша! Какая гадалка?! Чем ты вообще там занимаешься?! Ты понимаешь, что мне скоро тридцать пять, а я все так и сижу в арендованной однокомнатной клетке?.. Что я видеть не могу ни эту грошовую белую плитку в ванной, ни икеешную кухню с отломанными дверками!.. Что у меня нет ни мужа, ни карьеры, ничего вообще! Рафик потерял треть! Треть всех своих денег! А ты… ты сидишь там… в нормальной квартире, с джакузи… — Жаннин голос срывается на визг. — … и все твои проблемы — это люксопроблемы!..
Отложив телефон на край ванны, я делаю большой глоток вина прямо из горлышка предусмотрительно захваченной с собой бутылки. Потом подбираю трубку, подношу ее чуть ближе к уху и прислушиваюсь. Жаннин возмущенный голос продолжает что-то взвизгивать. Я опять кладу трубку на ванну, и делаю еще один глоток. Потом еще один. Выбором и закупкой вин у нас занимается Стас. Его параноидальная игра в европеизированность положительно имеет и свои хорошие стороны: по крайней мере, участившиеся за месяцы кризиса истерики мы запиваем отличными коллекционными винами.
Прихватив бутылку, я с легким поклоном демонстрирую ее Будде и выхожу из ванной, так и оставив бубнящий телефон лежать на краю джакузи. Я недоумеваю: джакузи — это признак, что все мои проблемы — люксопроблемы? Предполагается, что это чертово корыто с отделанными хромом дырками, откуда при желании можно добиться идущей под небольшим напором воды, должно сделать меня счастливой? Так же, как и сидящий с остекленевшим взглядом Стас? Так же, как и наличие оформленной на Стаса трехкомнатной квартиры, в которой, в случае, если нам удастся когда-нибудь доделать ремонт, даже будет пресловутый walk-in closet?
Алертность, приглушенная алкоголем, притупляется, и я попадаю ногой на рулон валяющихся в прихожей обоев. Рулон катится, нога уезжает за ним вперед, вторая нога подгибается, и я, нелепо взмахнув руками, с грохотом падаю на пыльный, еще полгода назад подготовленный к укладке паркета, пол. У меня из глаз немедленно брызжут давно ждущие повода слезы. Я сижу на полу (что примечательно: высоко подняв руку с неразбившейся бутылкой, из которой, несмотря на бешеное сальто, которое я только что проделала, не пролилось ни капли), и реву в голос. Но самое трогательное, это то, что Стас, сгорбленная спина которого видна мне с места моего падения, даже не повернул головы.
— Мы все умерли, ты понимаешь? — реву я из прихожей, даже не пытаясь подняться. — Ты понимаешь? Ты умер. Я умерла. Все, все давно умерли! Мы ходячие, завтракающие, умывающиеся, нюхающие кокс и бухающие трупы! Полный город трудоспособных трупов! Это не город, это… это кладбище, паноптикум какой-то, музей Мадам Тюссо! А мы бьемся за качество склепов!
Так и не повернувший головы труп Стаса тянется к пульту и до максимума увеличивает звук и без того разрывающегося радио. Посуда на кухонных полках начинает дрожать в такт суровой чеканке Бутусова:
Ско-ван-ные од-ной це-пью,
Свя-зан-ные о-дной це-лью…
— О чем ты все время думаешь? — Я вою громче, пытаясь перекричать динамики. — О бизнесе?
Здесь можно играть про себя на трубе,
Но, как не играй, все играешь отбой,
И если есть те, кто приходит к тебе,
Найдутся и те кто, придет за тобой…
Посуда продолжает звенеть на полках, по батарее раскатывается жуткий гул от стука соседей, и я зажимаю уши, но все равно продолжаю кричать:
— Господи, убери ты эту музыку! Остановись на секунду! Оглянись по сторонам! Посмотри на себя, что ты чувствуешь? А Жанна? Всю жизнь… всю жизнь она носится за этим Рафиком, и ведь в этом даже нет никакого смысла! Он не женится на ней никогда, — я делаю глоток из бутылки, — он сам несчастный! Мне его тоже жалко! Он развестись не может, потому что не полный гад! У него дети… — Еще глоток вина. — У Ляли тоже дети! Она как цирковая белка, ничего не видит и не понимает, у нее ни на что времени нет. Она с ними настолько безвыходно уже застряла, их же не бросить, не сдать на хранение, это же двадцать… тридцать лет круглыми сутками напролет надо с ними… а она всего-то хотела себе хорошую семью! А что выходит? Где ее Артем? По блядям? Перетрахал весь город, до того не хочет ни Лялю, ни семью свою видеть? И что? И тоже не может развестись! Потому что де-е-ети…
Из пустой бутылки уже не выдавить ни капли. Я отбрасываю ее и за какофонией орущих колонок даже не слышу звука ее падения.
— Что мы тут все ищем? Чего добиваемся? Мы же мертвяки! Живем в вакууме! В центре циклона. Вокруг все вертится, а мы застыли каждый со своей ни-ка-кой целью! И что, скажи мне на милость, что мы будем делать, если у нас не дай бог получится то, к чему мы так стремимся?! Ну что?.. Ну, допустим, у всех все вышло… Ты стал миллионером, Артем покрыл всю Москву, Ляля родила четвертого и отупела настолько, что перестала понимать, что ее Артем вечерами задерживается не на работе! Жанна… Жанна переехала к Рафику на Рублевку, от него ушла жена и забрала всех детей… Сама ушла, добровольно! Не знаю, у татар такое бывает? Но окей, пусть бывает… Все бывает! И свободный Рафик поселился с Жанной, чтобы заделать ей четверых и завести себе другую Жанну!.. И что-о-о??? Что мы будем делать, когда наши цели осуществятся??? Шагнем в окошко?! Как это сделал Петровский?..
Стас поднимает голову со сложенных на столе рук, поворачивается ко мне и неожиданно громко орет:
— Заткнись, идиотка! Не тт… трогай Петровского! Это был нн… ннесчч… несчастный случай! Поняла ты? Несчастный случай!
В дверь уже отчаянно барабанят ногами и постоянно жмут на дверной звонок соседи. Мне безразлично все.
— Ах, это был несчастный случай?! — ору я. — Да?! Просто так, умный, классный человек закрылся один в квартире, выпил от счастья, от ощущения полноты и осмысленности своей удавшейся жизни и решил вот так вот постоять по приколу на подоконнике?! Милиция сказала, там были следы от ботинок! Он не присел-перегнулся-выпал, он ВСТАЛ на него! Ногами встал! И шагнул!!! Козел ты.
— ЗАТКНИСЬ!!!
— Сам заткнись! Я не хочу так!
Соседи продолжают ломиться в дверь. Мне кажется, звонок сейчас не выдержит и сломается. Прижимая к себе ушибленный локоть, я тяжело поднимаюсь. В голове заметно кружится. Держась за стену, я добираюсь до кухни, до пульта управления… и вырубаю музыку. Повисшая тишина кажется мне еще страшнее, чем оглушительные раскаты «Наутилуса». Если бы не истерично захлебывающийся трелью звонок, можно было бы подумать, что я внезапно оглохла.
Взлохмаченная, перепачканная, я предстаю перед возмущенными соседями. Их двое: жирная, пытающаяся прожечь меня ненавистью блондинка (короткий приторно-розовый халат, целлюлитные ляжки), и ее, по всей вероятности, оторванный от телевизора и поэтому страшно раздраженный муж, сжимающий в руке молоток. При взгляде на молоток, я в первую минуту пугаюсь, но успокаиваю себя догадкой, что, скорее всего инструмент остался в его руке по инерции, он им стучал в стену или по батарее.
Сложив руки в молитвенном жесте, я киваю как китайский болванчик, соглашаясь со всем:
— Да-да. Да, никогда больше не повторится. Нет, ни в жизни. Да, сошли с ума. Да, психи ненормальные. Нет, милицию не надо. Мы понимаем. И это понимаем. И очень сожалеем. И еще раз извиняемся…
Наконец, победившие и почти удовлетворенные, соседи уходят. Резко обессилев, я возвращаюсь на кухню и опускаюсь на стул.
— Какая тупость! Мы как зашоренные хромые кобылы! Почему никого, скажи мне, никого не волнует этот вопрос, кроме меня? На-фи-га мы живем??? Почему я одна с ним хожу, а все только издеваются?! Почему это считается «люксопроблемами»??? У нас у всех дофига всего есть: деньги, работы, карьеры, дети, наконец. У нас детей только у Лялечки и Рафика на всех нас хватит. Рожаем, значит не боимся с голоду подохнуть. Молодые, здоровые, красивые… Чего нам мало? Ну почему нам о чем-нибудь нормальном уже не задуматься? У нас же проблемы: одним замуж, другим развестись… И всем не хватает бабла постоянно. И все!!! В трех соснах запутались! Куча высших образований, а толка ноль! До трех считаем ежедневно, с утра, одуревшие, и все время только до трех!
Стас нервно прилизывает волосы. Даже сейчас он это делает своим манерным жестом с широко растопыренными пальцами.
— Детка, заткнись! Понимаешь, просто уйди отсюда! Без тебя тт… тошно! Уедь куда-нибудь! Все скоро решится.
— Что решится?
— Все решится. Я работаю над этим.
— Над чем??? Ты вообще меня понимаешь? О чем я говорю?!
Босой ногой Стас с чувством пинает пустую бутылку. Во внезапной гробовой тишине отчетливо слышно, как она стеклянно громыхает по каменным плиткам: медленно перемещается к окну, тычется в стену, слегка откатывается назад и затихает.
8
На следующее утро я с трудом отрываю пульсирующую, словно наполненную чугуном голову от подушки и со стоном немедленно водворяю ее обратно. Спальня уже залита холодным зимним светом. На часах полдень. Я поеживаюсь от холода, и только теперь замечаю развевающуюся от сквозняка занавеску. Перед тем, как уйти, Стас решил проветрить квартиру? Холод заставляет меня встать. Морщась от жутчайшей головной боли, придерживаясь за стены, я накидываю халат, добираюсь до окна и с остервенением захлопываю форточку.
Зов в солнечном сплетении совершенно распоясался. Это уже не дыра, и не туннель, это чертова взлетная полоса для реактивных самолетов! Это сводит меня с ума! Господи, что же это за болезнь такая? Почему от нее не существует нормальных таблеток? Что это за рецепт такой садистский: лечитесь, мол, гармонией и покоем?!
В полном отчаянье я добираюсь до кухни. Запиваю не помогающие пилюли.
На столе, придавленный чашкой с недопитым кофе, меня ждет наспех вырванный из еженедельника листок:
…
«Детка! Я тут на трезвяк покумекал — тебе надо уехать из Москвы. В Тай. И как можно быстрее. Как доделаю дела — присоединюсь к тебе. Нам ВСЕМ нужен покой».
Часть 2. Тайланд
Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что сделали из меня.
Ж.-П. Сартр
9
На полуденном солнце море переливается до боли слепящими глаза стальными бликами. Лежа на спине, я загребаю ладонью горячую пыль мельчайшего, почти неестественного в своей белоснежности песка и медленно пропускаю его сквозь слегка разжатые пальцы. Получаются песочные часы — полная ладонь занимает около минуты, я как раз успеваю досчитать до шестидесяти. Если сомкнуть пальцы чуть плотнее, то счет увеличивается до девяноста или даже до ста двадцати, таким образом даря мне лишнюю минуту. Целую минуту (да еще какую!) жизни. Опять зачерпнув песка, на этот раз я сжимаю кулак еще крепче, и вот искрящиеся золотом крупинки уже не могут найти дорогу. Песочные мои часы останавливаются. Время настолько условно на этом острове, что с ним можно играть во всевозможные игры, растягивая его или убыстряя по своему желанию.
Если верить календарю в моем мобильном телефоне, то еще нет и месяца с тех пор, как я стала островитянкой, но порой мне кажется, что прошла уже целая вечность. Я закрываю глаза и прислушиваюсь к своим ощущениям от тончайшего ручейка, выскальзывающего между пальцами и прочерчивающего дорожку на моем животе. Мягко, слегка щекотно песчинки ложатся на загорелую кожу, подбираясь к тому месту, где еще недавно располагалась моя «черная дыра». Она почти меня больше не беспокоит, вероятно, врач был прав, и все дело оказалось в покое, накатившем на меня как только я села в самолет.
Почти не выходя из истерического состояния, в которое меня поверг разговор с гадалкой, заручившись неожиданной поддержкой Стаса, я за какие-то четыре дня оформила срочную тайскую визу, купила первые попавшиеся билеты, и, ни с кем толком не попрощавшись, на скорую руку покидав в чемодан несусветный хаотичный набор из чего-то льняного и белого, и даже не позаботившись о креме от загара и прочих милых сердцу мелочах, покупка которых обычно доставляет массу удовольствия в предвкушении отдыха, вызвала такси и рванула в аэропорт.
Оголенные провода моих нервов искрили от напряжения. Город вокруг заполнился монстрами и демонами, объединившими усилия с одной единственной целью: ни за что меня отсюда не выпустить. Машины выстраивались в длинные, дышащие выхлопными газами колонны и, с издевкой рыча моторами прямо перед носом моего такси, ползли на минимальной скорости. На Ленинградке же, уже у самого подъезда к МКАДу, они и вовсе встали. Таксист понуро давил на гудок, почти не продвигаясь вперед, в то время как до вылета самолета оставались жалкие полтора часа. Самообладание покинуло меня. Мне показалось, что теперь я уже точно и непременно опоздаю, что столичные демоны не разожмут своих объятий, что мое постыдное дезертирство обречено на провал, а пригрезившийся мне Тайланд, вероятно, просто кармически мной незаслужен.
Открыв окошко для лучшей связи с Богом, я высунула нос на зимний холод и, всматриваясь в безлунный и беззвездный мрак, отчаянно взмолилась: «ГОСПОДИ! МИЛЕНЬКИЙ! НЕ БРОСАЙ МЕНЯ ТУТ! ПОЖАЛУЙСТА, ВЫПУСТИ МЕНЯ ОТСЮДА!!!» И то ли моя мольба достигла цели, то ли просто бывают в жизни и счастливые совпадения тоже, но после МКАДа все вдруг поехало. Я попеременно крестилась, шептала благодарности и на всякий случай не сводила пристального взгляда с черных небес.
Мои часы показывали 19:40, когда вдали загорелись красные буквы «Шереметьево — 2». От улетавшего самолета меня отделяли час времени и около двух десятков машин, намертво застрявших перед парковочным шлагбаумом на въезде. Я кинула последний, безнадежный взгляд наверх и поняла, что на Бога надейся, а сам все-таки не плошай. Расплатившись, рывком вытащила упирающийся чемодан с заднего сиденья и припустила трусцой. Все было против меня: дорога, разумеется, шла в горку, а чемодан тут же зарылся в дорожную грязь, но, судорожно вцепившись в него обеими руками, я отчаянно пробиралась к цели, краем глаза отметив, что еще из нескольких машин повыскакивали люди и последовали моему примеру.
Гонки на выживание продолжались, время стремительно убегало в Тайланд, не желая брать меня с собой. Из глаз полились слезы, но не было ни рук, ни времени их утирать. Бормоча уже не молитвы, а проклятия, растрепанная, раскрасневшаяся и взмокшая от пробежки, я ворвалась в зал вылета, когда до конца регистрации оставались считанные минуты. Главное — успеть сдать багаж, тогда (слава террористам!) без меня уже никто никуда не улетит! Аэропорт закрутился у меня перед глазами. «Подождите меня, я тоже на Бангкок!» — не выдержала и закричала я, беспомощно озираясь на равнодушные стойки регистрации.
И только избавившись, наконец, от чемодана, пройдя под стальным взглядом некрасивой и явно завидующей всем отъезжающим пограничницы, выдержав унизительную процедуру досмотра (босиком, в промокших от пота носках, в синих пластиковых мешочках на ногах, с каким-то банным корытом в руках, в котором перекатывались сапоги, ремень и мобильник), я добежала до своего рейса и смогла впервые за последние четыре с лишним часа спокойно выпустить вздох облегчения.
Забравшись на свое место у окна, я прижалась лбом к иллюминатору. Самолет вырулил по взлетной полосе и ловко взлетел в небо. Под крылом красиво мелькнули огни мегаполиса. Некстати подумалось, как же я все-таки люблю этот город! Но почему непременно жизнь в нем надо устроить таким образом, чтобы вспоминалось об этом только с борта уносящего тебя прочь авиалайнера?!
Вскоре значок «Пристегните ремни» погас, зажегся верхний свет, и салон забурлил своей жизнью. Люди попытались обжиться на новом месте, кто-то обложил себя пледами, кто-то зашуршал газетой, некоторые включили портативные двд-проигрыватели или лэптопы. Вскоре разнесли напитки, и я выпросила себе целых три стаканчика с водой.
После ужина, я, как обычно, попыталась представить, что самолет начинает падать, и с удивлением поймала себя на том, что впервые это не приносит мне ожидаемого облегчения. Известно, что клин лучше всего вышибается клином, и ничто так не помогает от суицидальных и депрессивных настроений, как прямая угроза жизни. Жить, после визита к гадалке, хотелось как никогда!
Я открываю глаза и щурюсь на безоблачное небо, просвечивающее сквозь пальмовые листья. Пальмы вдоль пляжа тут невысокие, кряжистые, непонятно как растущие под углом почти в сорок пять градусов. Кажется, я не заметила, как заснула. Солнце слегка сместилось на запад, и теперь я лежу в глубокой тени. День тихонечко приближается к полднику.
— Мадам хотеть кокосовый сок? — слышу я услужливый вопрос на ломанном, невероятно исковерканном английском.
Это Тхан, худенький мальчишка, работающий официантом в прибрежном ресторанчике, принадлежащем отелю, на пляже которого я загораю. Надо мной наклоняется узкое лицо, приветливо блестят два черных, чуть раскосых глаза, изящная, как у принца, тонкая рука поправляет длинную челку из отливающих синевой волос. Тхану на вид не более четырнадцати лет, хотя в точности определить возраст тайцев мне никогда не удается. На нем белый накрахмаленный передник, за девственной чистотой которого без устали следит сам Лучано — сицилиец, владеющий этим крошечным отельчиком. Лучано считает, что хороший бизнес состоит из мелочей. Рестораны здесь на пляже у всех одинаковые, учитывая неразнообразие островных продуктов, отличиться необычным меню не удается, и хозяйственный итальянец делает упор на столь нравящиеся европейцам и недоступные тайскому пониманию детали: сверкающие белизной фартуки, орхидеи на мраморном столике при входе, и колониальные, в резной тиковой раме зеркала. Цены в ресторане соответствующие, но по сравнению с московскими лишь вызывают улыбку.
— Да, пожалуй, принеси мне кокос, — киваю я подростку.
Он убегает выполнять задание. Из-под коротких полотняных шароваров мелькают голые худые пятки. Тхан знает, что я всегда оставляю ему чаевые, поэтому если, сморенная полуденной жарой, я засыпаю под пальмой и долго не делаю заказ, он прогуливается где-то неподалеку и, как только заметит первые признаки моего пробуждения, немедленно оказывается рядом и сам предлагает напиток. Это либо свежевыжатый арбузный сок, либо очищенный кокос из холодильника, с маняще торчащей из надпиленной верхушки трубочкой. К кокосу на отдельной белой тарелке всегда подается китайская ложка — холодная мякоть ореха утоляет жажду даже лучше самого сока. Алкоголь я пока ни разу не заказывала. Он ассоциируется у меня с Москвой, забыть о которой я пытаюсь уже месяц.
Говорят, остров кишит наркотиками. По словам встреченных мной туристов здесь можно купить абсолютно все, от любой кислоты до какого-то местного растительного дурмана с совершенно непроизносимым названием. Но наркотиков я не хочу тем более. Сам остров, с его постоянным солнцем, ветром, шелестом пальмовой листвы и стрекотом невидимых цикад действует на меня галлюциногенно. Я все время по-идиотски улыбаюсь. Людям, морю, лениво бродящим по пляжу собакам, самой жизни… Жанна бы сказала, что я тут заметно поглупела, но, на мой взгляд, все обстоит ровно наоборот.
Несмотря на постоянные улыбки, в глубине души я до сих пор чувствую себя больным, еле спасшимся бегством зверем. Я старательно избегаю общения с себе подобными. Как выяснилось, можно иметь легкие и очень поверхностные отношения, обсуждать погоду, знать людей по именам, но дальше этого не идти. Ужинаю я обычно дома, а даже если и у Лучано (больше никуда я пока не ходила), то всегда сижу одна за самым дальним столиком спиной ко всем, лицом к морю, лижущему песок в нескольких метрах от деревянных настилов ресторана. Понятливый итальянец всегда держит на моем столике табличку «reserved».
Кстати сказать, избегать общения на нашем пляже совсем несложно. С местным населением не сдружишься хотя бы из-за языкового барьера: тайский английский это игнорирующая всякую грамматику смесь сотни английских слов и невероятнейшего акцента. Туристы сюда почти не доезжают, а если и попадаются, то проводят несколько дней и, заскучав, спешат подальше. А постоянно живущих европейцев здесь не более десятка-двух, и в основном это люди типа меня, ищущие уединения и вовсе не стремящиеся к близкой дружбе.
В целом, остров наш довольно специфичен и не похож на другие. Слишком удаленный, слишком гористый, окруженный опасными рифами, этот маленький отшельник оказался вдали от затоптанных туристических троп. Так — крошечная точечка на карте, по форме напоминающая наклоненное влево сердечко, заброшенная посреди Сиамского залива, — без лупы и не найдешь. Единственный способ добраться до острова — это паромом с соседнего, курортного монстра, имеющего свой аэропорт. Но толстопузые любители организованных туров к нам оттуда, слава богу, не спешат. Да и что им тут делать? Приличных отелей у нас нет, рестораны отличаются скудостью выбора (все продукты поступают на тех же паромах, и расчетливые тайские бизнесмены не рискуют связываться со скоропортящимися деликатесами), а из развлечений и вовсе ничего, кроме омерзительных пляжных оргий для хипповатой молодежи, случающихся лишь раз в месяц, на полнолуние.
С дорогами обстоит и того безнадежнее. На две трети покрытый горами, остров имеет всего несколько бетонных трасс, расположенных вдоль относительно пологого западного побережья. Простенькие отельчики, деревянные рестораны и прочие незатейливые достижения островной цивилизации жмутся там к единственному городку, в котором я не нашла ничего примечательного, — двухэтажные бетонные постройки, причал, больница, торговый центр и ночной рынок (разнообразных морских гадов жарят прямо на вертеле, а тайцы радуются, поедая как семечки из бумажных пакетиков всевозможных тараканов и прочую гадость).
Восточная же (и самая красивая) часть острова из-за гор оказалась по суше недосягаема, а, следовательно, — практически необитаема. Исключение составляют лишь поселения, расположенные вдоль двух-трех пляжей. Небольшие, в несколько сотен метров длиной, они разделены между собой километрами круто обрывающихся в море гранитных скал. Добраться сюда можно лишь по морю, на лодках-такси, да и то лишь в тихие безветренные дни. Шторма же порой на несколько дней прекращают всякую связь восточных пляжей с цивилизацией. Здесь, вдали от суеты, нашли свое пристанище отельчик Лучано и с дюжину бунгало, сдающихся на длительный срок непритязательным постояльцам, не ищущим ничего кроме уединения. Думаю, именно благодаря этому остановила свой выбор на одном из них и я. Цивилизации мне уже хватило в Москве, а при нужде сделать покупки я вполне могу дождаться лодки, к тому же минимальный набор продуктов, сигарет и предметов первой необходимости можно купить и тут: в лавке, принадлежащей одноглазому старику-тайцу. Никак не запомню его имя.
10
— Бонджорно, Паола! Как твои дела? Сегодня как-то особенно жарко, не правда?
Глаза Лучано щурятся от палящего солнца. Разбегающиеся от внешних уголков глубокие морщинки разделены бледными складками кожи. Загореть равномерно у него не выходит: держать отель и ресторан, хоть и небольшие, дело не шуточное, в шезлонге не поваляешься. А в работе с клиентами улыбка (сочными губами, полными розоватыми щеками, блестящими глазами цвета маслин, отчего вокруг немедленно заламываются пресловутые складочки-морщинки) — залог успеха. В больших ладонях Лучано держит принесенный для меня кокос.
— По-моему, здесь всегда одинаково жарко, — улыбаюсь я, открывая глаза и на мгновение ослепнув от режущей яркости Бликующего моря, Белоснежного песка и Бездонного неба. Три не московских слова на «Б», и, глядя на Лучано, мне хочется добавить четвертое: Belissimo!
Я привстаю на локтях, нащупываю валяющиеся рядом солнцезащитные очки и, надев их, протягиваю руку за напитком. Паола — это я. С легкой руки итальянца труднопроизносимое имя Полина быстро заменилось на более короткое и понятное европейцам. Тайцы же зовут меня еще лаконичнее — просто Па.
— Что ты сегодня делала? — вежливость не позволяет Лучано быстро уйти.
— Как обычно. Ничего.
Итальянец прицокивает языком и смеется:
— Безобразие!
Лучано около сорока лет. Он по-сицилийски полноват и невысок ростом. Говорят, тайского повара он сам обучал готовить домашнего изготовления пасту и божественный томатный соус с базиликом, зато теперь его ресторан «Felicita» славится на весь остров. Каждый вечер к нему приплывают посетители с соседних пляжей. Правда, успех пришел к итальянцу не сразу. Два года назад, когда контракт на покупку отеля был уже подписан, деньги перечислены, а до вылета в Тайланд оставалась всего неделя, его невеста внезапно передумала ехать. Лучано был сражен наповал. Один, он бы ни за что не решился на такое предприятие, как переезд на тайский остров и покупка заброшенного отеля. Потрясенный, толстячок кричал, угрожал и даже плакал, но предательница не изменила своего решения. Отчаявшийся и почти сломленный, он попытался найти утешение в одном из многочисленных баров Бангкока, и нашел: двадцатидвухлетнюю тайскую статуэтку с матовой, цвета молочного шоколада кожей и слегка раскосыми, припорошенными длинными лепестками ресниц кроткими глазами. Статуэтка довольно сносно говорила по-английски, и к тому же, неожиданно обнаружила вполне развитое бизнес-чутье, и если бы не ее ежедневные советы, кто знает, как бы пошли дела у неопытного в гостиничном хозяйстве Лучано. Тайка же, несмотря на это, с присущим дочерям Востока тактом вела себя скромно, красивейшие глаза держала долу и всем своим видом показывала, кто здесь хозяин. Вот и сейчас, она стоит чуть поодаль, с неизменной своей тряпкой в руке, и, делая вид, что увлечена игрой с собакой, ревностно следит за подготавливающими террасу для ужина официантами.
— Азиатки… — разводит руками Ингрид, когда Лучано, наконец, отходит.
Я улыбаюсь и заговорщицки подмигиваю. Ингрид, пожалуй, моя единственная здесь «подружка». Ей восемьдесят два года и она покрыта пустыми складками дочерна загорелой кожи, как индийский слон. Шведка по рождению, она прожила большую часть жизни в Германии, куда попала после замужества. Ее неисчерпаемый запас оптимизма и радости, с которой она каждое утро бросается жить, порой ставит меня в полный тупик. Без всякой на то причины, она то хохочет, то начинает толкаться или трепать за уши бездомных собак, а ее голубые, светлее чем небо, глаза, постоянно наполнены живостью и блеском.
Неудивительно, что с таким характером она пережила занудливого немца-мужа на почти двадцать лет. Печально, что ей также пришлось пережить двух из своих трех детей: один разбился на машине, второй покончил жизнь самоубийством по так никому и не открывшейся причине. Последний оставшийся у нее ребенок — дочь Сирена — с матерью почти не общалась. «Она хотела посадить меня нянькой ее крошкам! Запереть на краю света, в деревне, в глуши!» — с возмущением взывала Ингрид к здравому смыслу. — «А мне тогда было всего шестьдесят восемь! Я только на пенсию вышла! Путешествовать собралась! Я, разумеется, люблю Сирену и ее детей, хотя ее муж Бернард, швейцарский банкир, просто невыносим из-за своей утомительной серьезности! И зачем он только живет на этом свете? Он все время работает, копит деньги и потом что-то покупает! То дом, то яхту… Господи родный, зачем в Швейцарии яхта? Там же даже нет моря! Да и откуда ему, бедному, знать про моря, когда он из банка не вылазит! И они хотели, чтобы я заживо похоронила себя в их зануднейшей глуши?! А я квартиру сдала, переехала в малю-ю-юсенький такой загородный домик, — Ингрид слегка раздвигает большой и указательный пальцы, показывая размеры дома, — пенсию экономлю, мясо не ем, дорогое оно слишком, зато путеше-е-ествую каждую зиму по три-четыре месяца!» Глаза шведки стреляют молодежными искорками, на искривленном артритом безымянном пальце посверкивает крупный бриллиант: «Все украшения продала, а этот оставила. Подарок мужа!»
Я натягиваю через голову льняной, режущий разомлевшую на солнце кожу, сарафан и поднимаюсь уходить.
— Лучано говорил, сегодня лодка привезла ему свежую рыбу: red snapper, — соблазняет меня Ингрид. — Душка-повар будет жарить ее в чесночном соусе…
Я отрицательно качаю головой.
— Загостилась я у вас. Поем дома.
— Дома… — мечтательно тянет шведка и смотрит в сторону возвышающегося на скалах белого крашеного домика.
Это — мой.
Года три назад, в желании развеять мою тоску после смерти родителей, мы со Стасом отправились путешествовать по Азии и нас совершенно случайно занесло на этот остров, а потом — и на этот пляж, где меня настолько впечатлили царящее здесь уединение, простенький быт, подчиненный приливам и отливам, так околдовала почему-то мысль, что добраться сюда можно лишь на лодке, что я совершенно потеряла голову и в порыве неудержимого романтизма на смерть влюбилась в заброшенную и уже много лет пустующую хибару, прижавшуюся к скале на северном краю бухты.
Какому чудаку изначально пришло в голову построить дом на отшибе: не в тени уютных пальм вдоль песчаного берега, а в сотне метров от пляжа, на лысых и неприглядных скалах, обрамляющих залив с обоих концов, — выяснить так и не удалось. Очарованная домом, я повисла на Стасе, умоляя его купить. Обнаружить хозяина было не просто, но, в конце концов, после долгих расспросов и поисков, нам это удалось. Им оказалась толстая тайская мама, давно уже перебравшаяся в столицу и подрабатывающая на рынке. Она рассказала, что владение досталось ей от отца, а тому, в свою очередь, перепало от погибшего в море брата. Последние годы никому не нужный дом стоял пустой, распахнув глазницы незаколоченных окон прямо навстречу задувающим с моря муссонам и тоскливо позевывая нещадно скрипевшей дверью, криво болтающейся на одной петле. Однако, быстро смекнув, насколько у меня блестят глаза, расчетливая тайка стала несговорчива в цене и не сдалась, пока не вытрясла из нас половину денег, полученных от продажи освободившейся родительской квартиры. Вторая их половина была мною незамедлительно выложена на ремонт. Глядя на мой энтузиазм, Стас покрутил пальцем у виска, но поскольку вся покупка была целиком осуществлена на мои средства, сильно возражать не стал.
Несмотря на видимую неказистость домишка, мы нарекли его гордым именем «Вилла Пратьяхара», о чем теперь свидетельствует прибитая над входной дверью деревянная табличка. Изумрудно-голубые, с изящно закругленными концами буквы, старательно выведенные мной масляной краской, от трех сезонов дождей уже немного полиняли, но это даже придает им дополнительный островитянский шарм.
В прошлом переболев йогой, я вытащила слово «пратьяхара» откуда-то из недр памяти, и название это словно прилипло к дому с первых же проведенных мной в нем минут. Кажется (хотя я так никогда и не удосужилась перепроверить это), «пратьяхара» означало что-то вроде «вдали от мирской суеты» или «покой».
«Ты отдаешь себе отчет, что нам никогда не удастся найти второй такой идиотки, которая купит это счастье, когда оно тебе надоест?» — прошептал Стас за секунду до того, как я улыбнулась нотариусу и уверенно поставила свою подпись рядом с закорючкой уже сияющей тайки. Я энергично замотала головой. Мне здесь не надоест. Никогда. И, по иронии судьбы, старательно разбивающей все наши мечты и планы, как только мы успеваем что-либо сформулировать вслух, ни разу с тех пор сюда не приезжала. А Стас — и подавно.
И вот теперь неожиданно дом пригодился.
Добредя до изножья скал, я оглядываюсь на оставшийся позади пляж. Очередная лодка-такси зарылась носом в прибрежный песок. Лодки здесь странные, похожие на индийские пироги, только немного покруче в бортах и, в отличие от пирог, не выдолблены из цельного ствола дерева, а склеены из досок. Несколько человек неуклюже пытаются перевалить через высокий край. Чужаки. Наверное, новые клиенты к Лучано. Значит, время близится к ужину. Слепящий диск солнца уже почти завалился за гору. Поперек пляжа раскинули свои щупальца длинные синие тени. Единственный недостаток жизни на восточном побережье — невозможность наблюдать закаты в море. Но я не жалуюсь. Говорят, у нас удивительные рассветы, хотя мне пока ни разу не удалось поднять себя в такую рань. Пару раз я ставила будильник на пять часов утра, но утром на меня накатывала невероятнейшая лень, я переворачивалась на другой бок и сладко засыпала.
С момента моего приезда на остров я пребываю как будто в постоянно длящемся полусне. В Москве такое состояние можно было бы назвать апатичным, вялым, сомнамбуличным, но к Тайланду такие слова неприменимы. Ощущение действительности, яви здесь нарушается самым причудливым способом, вместе с восприятием времени. Для времени нужны события, здесь же есть только состояния, и часы для них не важны.
В этом смысле довольно характерна история о том, как я пропустила Новый Год. Заранее раздобыв бутылку шампанского, приготовив блюдо с закусками и фруктами, в ожидании полночи я присела на террасе и уставилась в темноту над морем. Из ресторана Лучано долетали приглушенные музыка и голоса веселящихся гостей, но мне хотелось первый раз в жизни встретить Новый Год в полном одиночестве. Мне казалось, что если я выдержу себя в такую ночь, то смогу жить на острове долго. Если же не выдержу, побегу к людям, значит грош цена моим надеждам найти здесь покой. Прямо надо мной россыпью раскидались мириады крупных звезд, которые выглядят в тропиках жирными светлячками на фоне густой, нефтяной черноты южного неба. Ветер, как обычно к ночи, притих, и лишь изредка глухо постукивали друг об друга бамбуковые трубочки ветряного колокольчика. Высокие красные свечи, наивно поставленные мной в не защищенные стеклом подсвечники, то и дело заплывали воском и тухли, и, в конце концов, мне надоело вставать, зажигать их, и я осталась в полной темноте. Луны почему-то не было видно, вероятно она потерялась на той половине небосклона, что закрыта от меня горами. Не было вообще ничего. Только всасывающая тебя кромешная темнота, да несколько зеленоватых прожекторов на застывших у горизонта рыбацких судах.
Лишенная каких-либо картинок перед глазами, я какое-то время пыталась цепляться мыслями за прошлое, вспоминала, перепросматривала уходящий год, но вскоре сама не заметила, как провалилась в сладчайший вакуум. Время остановилось. А когда я в следующий раз посветила себе зажигалкой, серебристые стрелочки на циферблате показывали половину второго ночи. Зевнув, я вернула так и не открытое шампанское в холодильник и с удовольствием побрела в кровать, по дороге размышляя, можно ли проведенный таким образом Новый Год засчитать как удачный эксперимент по расширению границ моего одиночества?
Кстати, на нашем пляже нет интернета. Для того чтобы проверить почту, надо садиться на лодку-такси и плыть на западное побережье в интернет-кафе. За все проведенное на острове время я ездила туда за покупками уже несколько раз, и почему-то ни разу не зашла проверить имэйлы. Что бы это значило? Мобильный телефон у меня работает исключительно как будильник. Московскую симку я вынула и заменила тайской, на которую никто не звонит хотя бы потому, что я никому не давала ее номер (справедливости ради надо заметить, что у меня никто его и не спрашивал). И, самое страшное, что мне это нравится! Я полностью оборвала связь с моим московским миром. Если вспоминать его, то сразу всплывут зловещие слова гадалки! А так, без прошлого, без людей, без мобильной и прочей связи, я просто тихонечко сойду здесь с ума… Не за этим ли я сюда, в конце концов, приехала? Моя прошлая жизнь не имела никакого смысла. Эта, островная, тоже не имеет смысла, но по-крайней мере больше похожа на «жизнь». Здесь я дышу.
Пока я дошла по камням до своего домишки, освещение стало сначала розовым, потом, через считанные минуты уже фиолетовым, и теперь красноватые оттенки из него окончательно испарились и скалы вокруг погрузились в холодную синеву. Море у берега обрело диковинный пепельно-изумрудный оттенок, уходящий к горизонту и сменяющийся там сначала лиловыми, а дальше и вовсе неожиданными пурпурными пятнами.
Скалы, на которых примостилась моя скромная «Вилла», к моему прискорбию, абсолютно лысые и гладкие. Кое-где из расщелин растут цепкие кусты семейства кактусовых, но ни травы, ни цветов на граните не вырастишь. Немного скучая по зелени, я расставила на плоском участке перед домом глиняные горшки, в которых пытаюсь выращивать что-то тропическое и цветущее: несколько неприветливых, но прекрасно себя чувствующих на жаре суккулентов разместились на прямом солнце, а причудливую алую геликонию, сине-желтую стрелитцию и пятнистую алпинию пришлось передвинуть в тень от навеса перед дверью. На краю скалистой площадки, обрамленной у обрыва над морем бордюром из крупных камней, я устроила что-то вроде водоема. Выложила естественное углубление в камнях толстым пластиком, натаскала туда ведрами пресной воды из-под крана, засадила лотосами и запустила туда мелких красноватых рыб. Думаю, это карпы, хотя не уверена. Животновод из меня почти такой же, что и садовник. Мягко сказать, крайне неопытный. На городской толкучке возле рынка мне удалось приобрести потрепанный справочник по тропическим растениям, и все мои скромные сведения об островной флоре почерпнуты оттуда.
Сама «Вилла Пратьяхара» представляет из себя простенькую, в архитектурном смысле ничем не примечательную постройку. Пожалуй, единственное ее достоинство — это то, что выстроена она не из типичного для острова противного бетона, а все-таки из рыжих, местами проглядывающих из-под штукатурки кирпичей. Несмотря на это, в доме все равно постоянно сыро. Бороться с влажностью я никак не научусь. Вывешенные на просушку тряпки и пледы упорно не желают сохнуть, покрываясь темными пятнами плесени, постельное белье на кровати (и особенно подушка), сколько бы я не выкладывала их сушиться на солнце, упрямо пахнут гнилью.
Скрипнув так и не смазанными пока петлями входной двери, вы оказываетесь сразу в гостиной. Это большая светлая комната, всеми тремя окнами выходящая на море. Перед одним из них — самым большим — я установила обеденный стол. Четыре имеющихся у меня разномастных стула стоят тут же, в партерный ряд с одной стороны стола и тоже развернуты лицом к морю. Первые недели я пересаживалась с одного на другой, пока не присиделась на самом правом, дальнем от входной двери. С него открывается лучший вид. Кроме стола в гостиной почти нет мебели. Маленький секретер с лампой из рисовой бумаги. Над ним — зеркало (судя по всему, в какой-то степени старинное), в толстой резной раме. Кое-где амальгама уже испорчена влажностью. В углу примостилось покрытое пледом бамбуковое кресло, в котором я собиралась читать в послеобеденные часы, но мне оказалось в нем неуютно, а брать в руки книги на острове и вовсе почему-то не хочется.
Из гостиной через распахнутые створки белых крашеных дверей вы попадаете на кухню. Это неожиданно холодное и сырое помещение обращено своим единственным окном на север и прилеплено полупристройкой к задней стене дома, почти граничащей с вертикально уходящими ввысь скалами. Убранство кухни, как, впрочем, и всего дома, крайне просто: покрытые зеленой краской стены (все собираюсь их перекрасить в более светлый и радостный тон, да никак не доходят руки, похоже, полное фиаско с ремонтами — моя карма), гранитная разделочная плита вдоль длинной стены, холодильник, гранитная же раковина (вода в кране только холодная, что затрудняет мытье посуды), газовая плитка на две конфорки (баллоны с газом мне приносит из деревни Бой — приятель моей уборщицы), да прибитая у окна полка со скудной посудой. Посудомойка, микроволновка и прочие достижения современной бытовой техники сюда пока не проникли и представлены только тостером — хлеб, завозящийся на наш пляж не чаще, чем пару раз в неделю, свежестью порадовать не в состоянии, так что горячие румяные тосты здесь просто спасение.
Из кухни лишенный двери проем выводит в маленький темный коридорчик с тремя дверями: в туалет (кафельные стены, нормальный европейский унитаз, прекрасно работающий слив), в огромную кладовку (сделанные пару лет назад запасы спиртного, надувная лодка, Стасовы акваланги и прочая невостребованная всячина) и в шикарную, с окном на южную сторону ванную комнату (горячая вода! массивное ванное корыто на чугунных ножках, умывальник и над ним — зеркало во всю стену, отражающее пятнистые скалы и небольшой виднеющийся отсюда кусочек моря). Надо сказать, что в ванной я пока ни разу не лежала, для этого мне вполне хватает более просторной посудины — Сиамского залива.
На втором этаже дома, куда можно попасть по скрипучей деревянной лестнице, расположены две крошечные спальни и кабинет, в котором я когда-то собиралась рисовать, коротая длинные тоскливые сезоны дождя. Из всех этих комнат открываются отличнейшие виды на морские просторы.
На этом описание дома можно и закончить. Ни причитающихся настоящим виллам бассейнов, ни прочей роскоши на моей «Вилле Пратьяхаре» нет. Зато, я надеюсь, в ней есть (или будет мной найдена со временем) сама пратьяхара . И пусть Жанна смеется, но никакой другой надежды перестать пить таблетки от Зова, или избежать прыжка с семнадцатого этажа у меня уже нет.
11
— А это что за парень там?
— Какой?
— Ну вон, у камней. С котомкой через плечо.
— Тощий и сутулый?
— Почему тощий и сутулый? У него отличная фигура.
— Да не-е-е… Тощий, сутулый и волосы сальными паклями.
— Какими сальными паклями? Красивые длинные вьющиеся волосы до плеч!
Ингрид щиплет меня за локоть и смеется:
— Да я шучу! Разумеется, он редкостный красавчик! Хотя и не в моем вкусе. Немножко слишком сладковат. Я просто дразню тебя, милая!
— А причем тут я? Я просто так вообще спросила.
— Да?.. И просто так каждый божий день глаз с него не сводишь?
Старушка в полном восторге. Она щурится, и ее лицо еще больше становится похоже на запеченное яблоко или курагу. Точно, — оранжевую сморщенную курагу, до того, как ее хорошенько вымочить в кипятке. Думаю, она воображает себя в роли мисс Марпл.
— Я глаз не свожу?! Ингрид! Вы забыли? Я почти замужем. И Стас скоро сюда приедет.
Шведка закуривает с победным видом, медленно, кольцами выпускает дым, выдерживает эффектную паузу и понимающе кивает:
— Вот именно. Почти…
— Но мы семь лет живем вместе!
— Вот-вот…
— Что вот-вот?!
— За семь лет не женился, значит, уже не женится никогда.
— Ингрид! Вы наивны. Все так теперь живут. Сейчас другие времена.
— Наивно — это полагать, что я наивна. С возрастом лучше проникаешь в суть вещей, а ваши хваленые перемены происходят лишь внешние и незначительные. На самом деле на любовном фронте, по сути, ничего за последние триста лет не поменялось. Они либо женятся, дорогая моя, либо не женятся. И семь лет — это достаточный срок.
Я выдавливаю из себя некое подобие светской улыбки:
— Что-то жарко, вы не находите? Пойду искупаюсь.
Раскаленный песок больно кусает ступни. За месяц прогулок босиком они уже немного огрубели, но еще недостаточно, и мне приходится убыстрить шаги, чтобы не обжечься. В воду я забегаю почти бегом, невольно поднимая вокруг себя искрящиеся брызги. Какая пошлятина! Ингрид непременно подумает, что я сделала это специально, чтобы обратить на себя внимание. Мне хочется как можно быстрее убраться из заезженного рекламного кадра. Я с разбега ныряю с головой и долго плыву под водой, в следующий раз показываясь на поверхности уже довольно далеко от берега. Я опять стала заниматься йогой и, даже несмотря на жуткое курение (с которым все никак не соберусь начать бороться), мои легкие уже заработали куда как лучше, и одного вдоха мне хватает метров на десять-пятнадцать. Отплыв подальше, я оглядываюсь назад. Так и есть, старушка вся светится от восторга и прямо при всех показывает мне оттопыренный вверх большой палец. Дьявол! Кажется, я слишком близко с ней сошлась. Надо бы сделать перерыв в общении и не спускаться на пляж хотя бы несколько дней. Я же вроде собиралась проводить много времени в одиночестве?
Раздосадованная, я отворачиваюсь и собираюсь уплыть далеко в море. Для разгона перед очередным нырком я отталкиваюсь ногой от дна, но ступня проскальзывает по некстати попавшемуся кораллу, с которыми тут все так носятся (нет бы уж повыкорчевывать их как неприятные помехи для пловцов и лодок!), и меня пронзает вспышка боли. Подпрыгивая на одной ноге, я сгибаю вторую и всматриваюсь в царапину. Сквозь зеленоватую воду отчетливо видны черные рваные края пореза, и стремительно вытекающая струйка крови. Судя по ее количеству, рана вышла довольно глубокой. Настроение окончательно портится. Поплавав для вида около десяти минут, я выбираюсь на берег и хромаю к своему шезлонгу. Вообще-то, пользоваться ими разрешается только гостям, проживающим в отеле, но Лучано давно сделал мне исключение. И это тоже неправильно. Определенно, я слишком много здесь со всеми общаюсь! Мы уже стали как одна большая семья.
— Он уже был здесь, когда я поселилась у Лучано пару месяцев назад, — говорит Ингрид, заклеивая мою рану принесенным Тханом пластырем.
— Кто?
— Да этот молодой человек. Не оборачивайся, он на тебя смотрит.
— Ну, конечно, смотрит. Я проковыляла на одной ноге через весь пляж как калека.
— Да нет… Я бы сказала, он вообще часто на тебя смотрит. Кстати, я слышала, что он француз…
«Француз» в ее устах звучит как приговор. На нашем пляже явно не хватает новостей и сплетен, и, по всей видимости, скучающая Ингрид решила развлечься, используя подвернувшуюся под руку молодежь. Сама-то она уже при всем желании не может привлечь к себе мужского внимания. Но играть отведенную мне в этой комедии роль я категорически отказываюсь.
— Нет, не надо кокоса, — отмахиваюсь я от уже приближающегося Тхана. — Я пойду домой. И столик мне держать сегодня не надо. Поужинаю у себя. И завтра тоже. И послезавтра.
Слегка разочарованная, Ингрид качает головой и недовольно прицокивает языком, наблюдая, как я наспех запихиваю свои скомканные пляжные вещи в суконную авоську.
— И что у тебя сегодня на ужин? — спрашивает она с издевкой.
— Какая разница?
— А разница, между прочим, большая. Только с возрастом понимаешь, что глобальных событий в жизни — раз-два и обчелся, и вся ее прелесть состоит из незначительных приятных мелочей.
— И еда в них, разумеется, входит?
— О-о-о! Еда к определенному возрасту становится одной из главных радостей жизни! Это в своем роде — секс для стариков!
— Может быть, я просто не достигла еще этого возраста?
— А, может быть, просто не знаешь, что надо с молодости начинать ценить простые радости. Этому надо учиться, само это редко приходит, и старость, лишенная таких прелестей, — ужасная тоска. У Лучано сегодня, кстати, делают свежее тирамису…
— Ну до старости у меня еще уйма времени, — говорю я, досадливо сглатывая мысль о том, что если верить прогнозам гадалки, то таковая мне вообще не грозит. — А пока я поем что-нибудь тайское, что приготовит Май.
— Тайское… Какая гадость! Сразу видно, что ты еще здесь совсем недавно. Скоро ты видеть не сможешь ни эти их карри, ни омерзительный и вызывающий запоры рис. Можешь мне верить, я провожу здесь уже третью зиму подряд, и если бы не душка Лучано…
Я приторно улыбаюсь, чмокаю старушку в мятую щеку и покидаю пляж. Мне жутко хочется обернуться и проверить, правда ли француз на меня смотрит, но Ингрид непременно как-нибудь это прокомментирует, можно даже не сомневаться. Вместо этого я равнодушно подбираю камушек и пускаю его прыгать по застывшей водной глади. После обеда даже море будто бы отправляется на «тихий час», засыпает, убаюканное ровным шумом листвы и неспешным колыханием влажного белесого марева, молчаливо нависшего над почти безлюдным пляжем. Прыгнув пару раз, мой камушек идет на дно. Надо бы попросить тайцев поучить меня этому мастерству. У Тхана камень прыгает до шести-семи раз. И даже у Ингрид не меньше четырех.
Когда я подхожу к дому, у меня опять восстанавливается ровное и спокойное настроение. Великое дело физические нагрузки! Прорубить ступенек в скалах, ведущих к моей «Пратьяхаре», никто не потрудился, и мне приходится прыгать с камня на камень, постепенно забираясь вверх. Кое-где, в местах, где расщелины шире длины обычного прыжка, по моей просьбе Бой закрепил доски. Вылинявшие от морских брызг, теплые от солнца и слегка шершавые, они приятно щекочут ступни. Порез уже не доставляет мне никаких неудобств, чуть заметно пульсируя болью, скорее даже приятной. Надо разведать, нельзя ли купаться под моим домом прямо со скал (это бы избавило меня от необходимости спускаться к отелю Лучано, общаться с Ингрид, невольно участвовать в островных сплетнях) или обследовать путь в противоположную от пляжа сторону. Я там пока не была. Возможно, где-то в камнях есть небольшой намытый пляж, или хотя бы ровная плоская площадка, с которой можно было бы залезать в воду. Наличие частного пляжа сильно бы украсило мою скромную «Виллу». Хотя я ее люблю такой, какая она есть, а больше никто сюда не приезжает. Звать гостей из Москвы категорически не входит в мои планы, да и они сюда, если честно, совсем не рвутся.
Не успев дать мне согласие на приобретение дома, Стас сразу же попытался его сфотографировать, но «Пратьяхара» оказалась нефотогенична, всегда получалась на редкость неказисто и вызывала лишь жалкие улыбки у всех наших друзей. В глубине души я была этому невероятно рада, это избавляло нас от визитеров. Стас же был откровенно разочарован, и потерял к дому всякий интерес, ограничившись лишь тем, что настоял на том, чтобы первым словом в названии все-таки числилась «вилла». Иметь виллу, на его взгляд, было очень аристократично.
Последние годы Стас питал страшную зависимость от «престижных» вещей. Как минимум один, а то и два раза в год мы выезжали в нуднейшие туры по деревенской Европе: сезонные «Шампань-туры», «Божоле-туры», гастрономические «спаржа-туры» — проживание исключительно в сырых и промозглых французских замках; утомительная дегустация вин, начинающаяся до обеда и вызывающая непременную сонливость уже к пяти часам вечера; форма одежды — линялое, выцветшее, европейское, якобы расслабленное (дозволенные материалы — только натуральные, желательно кашемир и лен); выражение лица — искушенное и слегка скучающее, в идеале — как у Малковича в большинстве его фильмов. Стас прикладывал все силы, лишь бы не походить на «русского туриста»: часами мы томились откровенной тоской, укрывшись клетчатыми пледами в плетеных креслах и обсуждая нюансы погоды и вкушаемых вин с посещавшими эти туры европейскими пенсионерами (в основном, англичанами, которых гонят на континент почти те же мотивы престижности, что и Стаса). Поначалу поездки были почти напрочь отравлены американским акцентом в английском языке, который Стас привез с собой из стажировки в США, но ценой регулярных поездок, а также частных уроков, которые он брал у прыщавого и постоянно грызущего ногти, но коренного лондонца, какими-то неудачными судьбами занесенного в Москву, позорный американский акцент был преодолен. Единственным плюсом этих «европейских» поездок, хотя и весьма разорительным для нашего не особо крепкого бюджета, была приобретенная Стасом страсть к хорошему вину. Везде, где он бывал, немедленно образовывались весьма впечатляющие запасы дорогого алкоголя, даже в кладовке разочаровавшей Стаса «Пратьяхары», куда их пришлось тащить аж из Бангкока (ближе хорошего вина не нашлось).
По моей просьбе мы попытались разнообразить отдых экзотическими поездками в Азию и на острова, но контраст между нами и местным населением априори был настолько велик, что даже не радовал. Ну можно ли на полном серьезе чувствовать свое превосходство над какими-нибудь индонезийцами?
Тогда Стас задумался об экстремальном туризме, но пару раз расшибся в горах, чуть не утонул, неудачно приземлившись в воду с парашютом, и с этими поездками тоже было покончено.
«Духовный туризм» начался с жутчайшей простуды в Тибете и бесславно закончился кровавым поносом в Керале.
Из всех видов спортивного отдыха Стас тоже тщательно отобрал себе самые элитные : зимой — неделя на лыжах (не дай бог не в Словении, а непременно где-нибудь в Швейцарии, не ради же гор мы, в конце концов, туда едем, а ради приличного апре-ски), в межсезонье — дайвинг. Так мы и попали первый раз на этот остров, уж что-что, а дайвинг здесь, благодаря этим чертовым кораллам, хороший. Теперь в кладовке «Виллы Пратьяхары» пылились не только внушительные запасы вина, но и полный набор нового оборудования для подводного плавания. Надо ли говорить, что когда выяснилось, что наша «Вилла» не котируется в Москве как вилла, то Стас быстро потерял интерес и к валяющимся в ней аквалангам? Зато это спасло нас от неминуемо разорившей бы нас покупки яхты — этого непременного атрибута, полагавшегося каждой приличной вилле! Вместо нее была прикуплена дешевая надувная лодка, впрочем, также теперь пылившаяся где-то. Какое спасение тот факт, что Стас так быстро терял ко всему интерес! Особенно с прошлого года, когда с кризисом наши финансы сократились почти что вдвое, а последние месяцы мы и вовсе пребывали в полнейшем стрессе. Как они там с Артемом, интересно, выживают? Может, мне все-таки уже пора выбраться в интернет-кафе?
— Добрый день, мэм!
Похожие как две капли воды тайки вскакивают из гамака и наперебой кивают совершенно одинаковыми смоляными головками. Сколько раз можно говорить, чтобы они не лежали в моем гамаке! На прошлой неделе я застала их за абсолютно неприемлемым занятием: одна выискивала вшей в длиннющих волосищах второй, а вытащенные — профессионально давила ногтем о лежащий тут же журнал «Cosmopolitan».
Девицы — моя прислуга. Вернее одна из них — моя кухарка и уборщица, а вторая шляется сюда чисто за компанию. Тоже что-то убирает, но оплаты не получает. Я не звала ее помогать, более того, предпочла бы ее тут никогда не видеть. Я бы давным-давно попросила ее покинуть помещение, но проблема в том, что я никак не могу научиться их различать. Тайцы, а особенно тайки, все для меня на одно лицо. А эти две — как-то особенно похожи между собой. Однажды я спросила: «Вы сестры?» — «Не-е-ет, мэм, подруги». Одну из них зовут Май, вторую Ну. Вот такие имена. У той, что зовут Май, есть ухажер — несимпатичный парнишка по имени Бой. Он тоже регулярно попадается мне в доме или возле него, но ему я иногда приплачиваю. Пусть делает тяжелую физическую работу, на которую ни девочки, ни я не способны: укрепляет на скалах доски для ходьбы, приносит из деревенской лавки газовый баллон и канистры с питьевой водой, и изредка его можно сгонять за арбузом. Бой уверен, что он Боб Марли. Боб — его кумир и бог. Бой носит майку с изображением Боба, и повязывает заплетенные в длинные косички волосы красным платком. В свободное время все трое не уходят домой, а отираются в моем гамаке или на террасе, выискивая друг у друга вшей и полистывая глянцевые тайские журналы. Избавиться от этой компании можно только выгнав их всех разом, но я все время откладываю это решение, поскольку остаться совсем без прислуги мне все-таки страшно. Дело даже не в том, что я не умею мыть полы. Наверное, мне просто немного жутковато остаться один на один со старым заброшенным домом на краю одинокой скалы.
— Что у нас сегодня на ужин? — интересуюсь я, проходя мимо таек. Чтобы скрыть, что я их путаю, я всегда обращаюсь сразу к обеим.
— Том ям, сом там, пад тай, — хором перечисляют девицы.
— О господи… — вздыхаю я.
Если не ошибаюсь, том ям это какой-то дикий суп из лемонграсса, большинство ингредиентов которого совершенно несъедобны, сом там это острый салат из зеленой папайи, вызывающий у меня изжогу, а пад тай я вечно путаю с кау пад: одно из них — жареный рис, другое — жареная лапша, и ни того, ни другого мне в равной степени не хочется.
— Заберите себе домой. Давайте вы лучше поучите меня готовить что-нибудь новое. И не острое. Что бы это такое могло быть?
Девицы обескуражены. Мне кажется, я слышу, как заржавевшие шестеренки медленно и со скрипом проворачиваются в их миленьких головках.
— Новое. Не острое, — еще раз повторяю я чуть ли не по слогам.
— А-а-а! — Девицы улыбаются. — Баранина карри?
— А что, у нас есть баранина?
— Нет, мэм.
Время уже близится к ночи. Разумеется, я сдалась судьбе и поела том ям и пад тай, который все-таки оказался лапшой, а не рисом. Рис да лапша… Тропический остров, называется, а питаемся как в Сибири — зерновыми и мукой. Хорошо хоть, я убедила девчонок не класть слишком много порошка чили в мои блюда! Хотя что-то они все-таки туда суют не то, после ужина мне всегда немножко плохо и резко тянет в сон — явные признаки отравления.
Я сижу, поджав ноги, в кресле на террасе и кормлю своих ящериц. Это лучшая часть моего дня, в своем роде — уже обряд. Обряд — совсем не одно и то же, что привычное, повторяющееся изо дня в день необходимое действие. Укладывать детей спать, чистить зубы, мыть посуду… — мы делаем регулярно, но это не то. Это лишенная свободы выбора необходимая, а часто — вообще утомительная и раздражающая своей повторяемостью рутина. Настоящий обряд обязательно должен быть добровольным и лишенным какого бы то ни было практического смысла. И только тогда это мед на истрепленные нервы, оргазм для уставшей души, прозак для параноиков двадцать первого века.
Я совершаю свои ежевечерние кормежки с невероятной ответственностью и полной самоотдачей. Ящериц у меня две. Днем они спят где-то в щелях, к вечеру высовывают крошечные носы, испуганно крутят головами, тщательно изучают ситуацию под крышей (я в это время неподвижно сижу в кресле, чтобы их не спугнуть), и только потом показываются маленькие пятипалые лапки, и короткими перебежками, чередующимися с внезапными замираниями, выбираются на ужин.
Ужин у них происходит так: подобравшись к висящему под навесом абажуру, ящерка замирает и ждет, когда какой-нибудь жучок или мошка, привлеченные светом, приблизятся достаточно близко. Эти наивные организмы либо лишены зрения, либо устроены слишком уж примитивно, но о присутствии охотницы до последнего момента даже не подозревают. Неспешно перелетая или переползая с места на место, они стягиваются к источнику света, и тогда… раз! — в долю секунды ящерица оказывается у цели, стремительно раскрывает неожиданно огромную, от уха до уха, пасть, проглатывает жертву и снова замирает: либо прислушиваясь к пищеварению, либо заново оценивая ситуацию. Выпуклые бисерины глаз с подозрением косятся в мою сторону. Я послушно не шевелюсь. Через минуту охотница успокаивается и занимает позицию для нового броска.
Сначала я думала, что посещающие меня ящерки каждый вечер разные, но при более пристальном изучении заметила, что нет, они одни и те же, вполне узнаваемые, и моя крыша — их территория.
Первой на нее пришла светлая, почти однотонного бежевого окраса ящерка, которая сразу же мне очень понравилась. Я думаю, что она несомненно умнее или смелее своих подружек, по крайней мере, то, что дом стал обитаем и по вечерам на террасе горит свет, она заметила раньше других и, вероятно, по ящерицевым законам крыша с тех пор принадлежит ей. Но у животных все устроено не намного лучше, чем у людей, и через пару дней я заметила появление второй ящерицы: мельче, шустрее и более темного окраса. Высунувшись из-за балки, она покрутила головой и быстро обнаружила, что моя дивная, выкрашенная белой краской и прекрасно освещенная абажуром (другими словами: идеальная для охоты) крыша уже занята. И нет бы — смутиться, постучать хвостом и уползти себе восвояси, — нет, нахалка немедленно кинулась в атаку! Произошла короткая, но страстная схватка, и не успела я ничего толком рассмотреть, как моя бежевая любимица уже спасалась бегством. Вместо хвоста у нее торчал маленький огрызок. А темная, пятнистая победительница преспокойно заняла себе отвоеванную крышу.
Надо сказать, что произошедшее меня расстроило. Я успела уже привязаться к своей светлокожей питомице. Первым моим импульсом было прогнать темную нахалку, но, выкурив сигарету, я решила, что, в общем-то, крыша была отвоевана ею в честном бою, и вмешиваться мне, пожалуй, все-таки не стоит. Хотя симпатий эта новая у меня не вызывала, и я выразила свою неприязнь, дав ей имя Нахальная.
Какое-то время она владела моей крышей в полном одиночестве, но (и какова же была моя радость!) через неделю моя покалеченная любимица вернулась обратно. Ее хвост успел отрасти, но получился слишком толстый и кривой. Поозиравшись из-за угла, она дождалась момента, когда Нахальная оказалась неподалеку, и отчаянно бросилась в бой! Умничка, девочка моя! Как я за нее переживала! Схватка опять была слишком быстрой для того, чтобы я успела что-то рассмотреть, но результаты ее оказались вполне удовлетворительными. Победила если не дружба, то, по крайней мере, справедливость. Шипя, нервно дергая хвостами, ящерки расползлись по разным концам навеса, и между ними установилось что-то вроде нейтралитета. Таким образом, крыша была поделена, и каждая обосновалась на своей территории.
Единственной нерешенной проблемой оставалось освещенное пятно от абажура. Оно располагалось ровно посередине, в нейтральной зоне, не принадлежащей ни Нахальной, ни Короткохвостой (после всего произошедшего имя для моей любимицы напросилось само собой). Охота теперь происходила вяло. Мошки по-прежнему держались ближе к свету, а вот ящерки подползти к нему боялись: как только одна из них делала попытку подобраться поближе, вторая начинала издавать страшные шипящие звуки, зловеще бить хвостом и резким прыжком отрезала первой путь. Многочасовая охота кончалась ничем, голодные, неудовлетворенные, они расползались по своим щелям.
Просиживая каждый вечер в одиночестве, я невольно вовлеклась в их ящерицеву жизнь. Нахальная с Короткохвостой худели и выглядели несчастно. Я пробовала перевести их на дополнительное питание, ставила блюдечки с молоком, крошила на пол печенье, но никакого интереса с их стороны это не вызывало. По всей видимости, питались они исключительно насекомыми. Тогда я стала складывать убитых мною комаров на перила. Нахальной и Короткохвостой это понравилось, но дело все равно шло не очень бойко: два-три убитых мной комара — им рациона не сделают, к тому же опять начались поползновения к схваткам. И тогда меня озарило!
Раз мошки прилетают только на свет единственного абажура, и поделить его мои подопечные не в состоянии, — я организую им второй источник света, и вопрос можно считать решенным. И волки сыты, и овцы целы! В тот же день я обнаружила то, что требовалось, в лавке одноглазого тайца.
Теперь, в одно и то же время, поужинав сама, я каждый вечер забираюсь в свое любимое кресло и начинается кормежка. В каждой моей руке по фонарю, а на потолке, в противоположных концах крыши — два совершенно одинаковых кружка света, наполненных возбужденно ползающими мошками (абажур я, во избежание ненужных проблем, на это время вообще выключаю). И то ли мне это мерещится, то ли ящерки сообразили, что сытными ужинами обязаны мне, но, поев, они расходятся теперь не сразу: сидят по разным концам крыши, облизываются, блестят в мою сторону бисеринками круглых глазищ. А с недавних пор я обнаружила, что они неравнодушны к музыке, и в те вечера, когда я подключаю колонку к своему I-pod, Нахальная и Короткохвостая задерживаются на полчаса дольше обычного.
Расходимся спать мы обычно одновременно: в половине двенадцатого они забираются в щели, а я совершаю вечерний обход дома, гашу везде свет и скриплю старческими ступенями лестницы на второй этаж, в спальню. Открытые нараспашку окна дышат тонкими занавесками, легкий ветер перебирает простыни на кровати, а на низкой бамбуковой тумбочке зевают слегка шелестящими на ветру страницами совершенно забытые мной книги. Меня настолько устраивает, убаюкивает своей неторопливостью моя островная жизнь, что отрывать от нее время на чью-то другую, пусть даже удачно сочиненную, кажется мне полной глупостью. Реальность этого нереального острова, с его влажными и жаркими ночами, ящерицами и тихо шелестящей в темноте листвой, в отличие от книжной, сотворена самым талантливым из всех творцов.
После приезда сюда у меня начался какой-то странный тип бессонницы: иногда я просыпаюсь от того, что мне жалко спать. Мной овладевает неистовая жадность, мне хочется вобрать в себя каждую секунду, не упустить ни встревоженного крика охотящейся птицы, ни скрипучего клекота лягушек, ни единого мгновения кромешной тишины, повисающей между ударами волн о скалы, и я встаю, сажусь на подоконник и курю, подолгу глядя в темноту. Но всегда в такие минуты где-то под ложечкой рождается и немедленно начинает разъедать меня червоточина липкой, саднящей тревоги. Все происходящее со мной кажется ничем не защищенным, шатким и эфемерным, как перистая зыбкость утреннего тумана, растворяющегося с первыми солнечными лучами; эти длинные и густые ночи, в которые почему-то хочется плакать, противоречат всему, что я знаю о жизни. Хорошо не бывает долго. Знать бы только, что именно послужит причиной, которая вторгнется в этот тихий и спокойный мир.
Когда я была маленькой, лет пяти, не больше, к нам из-за границы приехал Иван Иваныч, папин двоюродный брат с Кипра: я помню вихрь чуждой, странной, раскованной энергии, ворвавшийся вместе с ним в нашу тесную квартирку. Вкусно запахло одеколоном, мама охала в прихожей, примеряя подарки, отец хлопал дверкой холодильника. Меня схватили сильные загорелые руки, подняли, закружили, поставили обратно на пол, всунули мне в руки коробку с чем-то, и смерч унесся в сторону кухни, где возбужденный отец уже радостно звенел гостевыми чешскими бокалами. Я же, замирая от новых запахов и ожидания чего-то особенного, забралась в кладовку и не сразу решилась развернуть блестящую упаковку. Из жестяной коробочки, в которой мама потом хранила долго еще пахнувшие шоколадом фотографии, на меня смотрели чудо-конфеты: каждая в отдельной обертке, ни одной одинаковой, — это были девочки и мальчики, собаки, кошки, и даже конфета в форме открытой машины, в которой сидели пассажиры. У меня перехватило дух от восторга. Съесть, просто развернуть, смять обертки и засунуть в рот всю эту красоту было чудовищно, немыслимо, абсолютно невозможно! По пришедшей маме идее мы приделали к каждой конфете нитку и повесили на новогоднюю елку. Через две недели, разбирая ее, мама убрала конфеты вместе с остальными игрушками, чтобы повесить их заново в следующем году, и в следующем, и в следующем. И только три года назад, разбирая вещи родителей перед самой продажей квартиры, я наткнулась на них. Шоколад за годы покрылся синеватым налетом, крошился и стал горьким на вкус. Невостребованные, отложенные на потом, они умерли, так же, как умерли мои родители, так же как умру когда-нибудь и я, и глядя на несъедобные конфеты, я поразилась, насколько же важно быстро, немедленно начинать уже жить!
12
Море сегодня утром особенно пятнистое. Возможно, это из-за поднявшегося за ночь странного ветра. Разволновавшиеся, потревоженные волны недовольно рокочут и щекочут песок шершавыми языками, оставляя вдоль его кромки кучки пены — буро-желтоватой, неопрятной, будто грязные мыльные следы на стенах ванны. В ветряные дни пляж выглядит неряшливо, выброшенные волной, тут и там щерятся колючие осколки кораллов. Недавно Лучано сказал, что кораллы — это окаменевшие за тысячелетия скелеты мелких морских животных: каких-то желеобразных полипов с большим количеством маленьких щупальцев, которые, прилипая к подводным камням, веками срастаются в единую массу и, в конце концов, образуют рифы.
Мои босые ноги переступают неуверенно, то и дело поджимая пальцы. Такое чувство, будто и правда шагаешь по кладбищенским костям. Прямо из-под ступней гроздьями улепётывают белесые, почти прозрачные и оттого очень трогательные крабы. Пляж по поводу раннего времени еще пуст, только бездомные тайские собаки уже проснулись и лениво обнюхивают выброшенные волной сувениры: нигде ли не попадется что-то съедобное, мертвый моллюск или невезучая, зазевавшаяся рыбешка? Все вокруг окрашено в пастельные розоватые тона. Через два часа немногочисленные наши обитатели вылезут загорать, солнце разгонит тени и зальет берег ровным, сверкающим золотом. Сразу же начнется жарища. Нагретый воздух задрожит, будто жидкий, начнет переливаться и струиться, и пешком уже будет не пройтись — песок к полудню раскалится, словно намекая, что всем пора по добру по здорову убраться в тень.
Дойдя до противоположного от моего дома края пляжа, я салю рукой выступающую скалу и поворачиваю обратно. Обычно по утрам я хожу туда-сюда четыре конца, что составляет около двух километров, и только потом, согревшаяся, окончательно проснувшаяся, разрешаю себе поздороваться с морем: медленно захожу сначала по колено, трогаю его рукой, потом чуть глубже, и, наконец, рывком ныряю, ухожу под воду с головой, плыву, сколько хватает дыхания, руками разрезая тугую толщу воды, не разжимая век, выныриваю, захватываю ртом вторую порцию вкусного воздуха, плыву опять, и так — пока в теле не проснется бешеное счастье от ощущения силы и гармонии движений, гребков, температура тела и воды не смешаются до полного отсутствия разницы, и мне начнет казаться, что я не имею четких физических границ, а полностью растворена в воде, океане, слилась с ним, стала его частью, его жизнью.
Плаваю я не меньше сорока минут, а, выбравшись на берег, с наслаждением растягиваюсь на спине и, закрыв глаза, устраиваю ежеутреннюю перекличку своей коллекции звуков. Мне нравится настраивать ухо по очереди на каждый из звуков, так, чтобы на время другие отступали, выкристаллизовывая лишь один из них. Я словно дирижер, проверяющий инструменты перед ответственным концертом. Тихий шелест листвы? — Здесь! Шуршание волн по песку? — Тут! Птицы, прячущиеся где-то вдали, в окружающих пляж зарослях? — На месте! Мое учащенное сердцебиение? — Да! Перезвон приборов (ресторан Лучано уже сервируют к завтраку)? — Тоже тут! Отдаленный, еле слышный звук рыбацкого баркаса? — В порядке!
Теперь можно перевернуться на живот, положить голову на скрещенные руки, приоткрыть веки и под углом (в этом тоже есть приятная игра — смотреть не прямо, а наклонив голову на бок, как бы заставляя себя не узнавать знакомые вещи) оглядеть пляж. Пока я плавала, он уже слегка ожил. Толстые босоногие тайки подметают кораллы. Дочерна загорелые рыбаки стягиваются к своим лодкам, деловито проверяют снасти, скоро им пора отчаливать на утреннюю проверку закинутых с вечера сетей. Выползают и первые отдыхающие.
Вообще-то «отдыхающих» у нас на пляже почти нет. В отеле у Лучано, состоящем всего из восьми бунгало, постоянно заняты только два: в одном зимует Ингрид, во втором дичится всех какой-то никому не известный, но воображающий себя не иначе как Хемингуэем, американский писатель польско-еврейских кровей. Даже Ингрид не удалось выпытать из него никаких деталей, кроме имени и профессии, о которой тот, впрочем, говорит с гордостью, хотя прозорливая шведка утверждает, что на самом деле он такой же писатель, как она Ума Турман, и ничего он не пишет, а тихо спивается в своем номере. Оставшиеся пять бунгало или пустуют, или занимаются изредка прибывающими на лодках гостями, не задерживающимися в нашей дыре больше чем на пару-тройку дней.
В так называемых «Бамбуковых хижинах» — примитивных и лишенных всяких удобств лачугах, примостившимися в кустах в сотне метров от отеля, более-менее длительно обитают еще несколько персонажей: странноватый лысый немецкий парнишка в оранжевой майке, полудикая уродливая американка и бельгийская семья дикарей с полугодовалым ребенком (эти целые дни проводят за камнями: ходят там в чем мать родила, исключение составляют только поблескивающая на носу главы семейства тонкая металлическая оправа и звенящие при ходьбе браслеты, украшающие щиколотки его коренастой супруги).
В дальнем от меня конце пляжа, в «Кокосовом раю» — хижинах поприличнее, с ванными комнатами и горячей водой — расположились: бородатый фотограф (этот, кажется, скоро уже уедет); пара-тройка пивных алкоголиков непонятной национальности (приехали ли они вместе, или сдружились уже тут — непонятно); влюбленная парочка тинейджеров-наркоманов (весь день спят, ночью ржут и слушают музыку); очень серьезная постная швейцарка преклонного возраста (судя по загару и полной отрешенности в глазах, тусующаяся по Азии уже не первый год, вероятно хиппушка из «бывших», таким потом трудно пристроиться у себя в Швейцарии, и они обречены ошиваться по дешевым пляжам типа Гоа или нашего, я в шутку прозвала ее «бывшая швейцарка»); да и непонятный китаец-японец крайне сурового вида (этот вполне может оказаться как продвинутым йогом-магом-чародеем, так и наркодиллером).
Ну и напоследок, откуда-то с гор к нам почти ежедневно спускается симпатичный одинокий парень, по словам Ингрид оказавшийся французом и получивший от нее кличку «горец». Он и правда напоминает персонажей из одноименного фильма: та же кошачья пластика человека, привыкшего к жизни вдали от асфальтированных дорог, легкие колени и четко прорисованная линия икры, горделивый, по-французски чуть горбоносый профиль, обрамленный спутанными вьющимися волосами, повадки дикаря и матовые переливы мускул (разумеется, натурального происхождения; те, что нажиты непосильным трудом в душных, пропахших потом фитнесс-клубах, никогда не получаются такими изящными). Наблюдательная шведка оказалась вчера права, я поймала себя на том, что действительно не могу оторвать от него взгляда, исподволь наблюдая, как, появившись на пляже, он легкими прыжками горной лани перескакивает с камня на камень. Загорает он где-то на скалах, ни разу не почтив наши шезлонги своим вниманием, а если и ужинает изредка у Лучано, то сидит, как и я, в гордом неприступном одиночестве, блуждая рассеянным взглядом по горизонту. Одежда его не напоминает артистические лохмотья людей, старательно подчеркивающих свое презрение к обществу, но слегка порванные голубые джинсы и выцветшие от солнца майки производят приятное впечатление, будто бы их хозяин органично и без всякой искусственной позы просто давным-давно перестал обращать внимание на свою внешность. Из «продуманных» вещей на нем есть только огромное количество болтающихся на шее и руках кожаных шнурков и каких-то линялых ниточек, с вплетенными в них камушками, но это мелочь, на мой взгляд, вполне простительная. Европейская молодежь украшает себя по-другому, не принятыми у нас тучными очками в стиле «гуччи» или броскими наручниками золотых часов, а свободолюбивыми ниточками и браслетами из ракушек — тоже дань моде, но моде более умеренной, не такой примитивно-раздражающей, по крайней мере, не указывающей на материальное благосостояние. Хотя, кажется, я слишком увлеклась молодым французом. Курортные влюбленности — стезя глупая, устаревшая, давно доказавшая всю свою безнадежность и никчемность, и отвлекаться ради какого-то горделивого красавца от моей пратьяхары у меня нет ни малейшего намерения. К тому же, как я верно заметила вчера Ингрид, сюда действительно со дня на день уже может появиться Стас.
Лежа, я продолжаю рассматривать пробуждающийся после сна пляж. Этим утром француза нигде не видно. Зато неподалеку от меня возник и треплет за ухо большую рыжую собаку уже описанный выше нелепый лысый немец. В своей простоте он слегка похож на дауна. Думаю, он из совсем деревенской местности, и наверняка без малейшего намека на образование, но глаза его мне очень нравятся, и, встречаясь взглядами, мы всегда тепло и очень открыто улыбаемся. Он тоже каждое утро совершает прогулки вдоль моря, только, в отличие от меня, никогда не плавает. Как и обычно, сегодня он одет в свою неизменную оранжевую майку (я подозреваю, что она у него единственная).
— Доброе утро, Сэм! — киваю я ему, хотя мы почти не знакомы. Наверное, всему виной избыток хорошего настроения. Мне хочется поделиться им, оно разрывает меня на части, переливается через край глупой, светящейся улыбкой.
Отливающая на солнце лысая голова несколько раз наклоняется в ответ, при каждом кивке слишком сильно уходя в плечи — парень будто бы кивает вместе с плечами и верхом спины, — потом следуют несколько неуверенных шагов в мою сторону. Мне кажется, Сэм меня слегка боится.
— Утро, — соглашается он.
— Я все время хотела спросить, откуда у тебя такое не немецкое имя?
— От родителей. — На его лице написано искреннее удивление. — Откуда ж еще?
— Ну да, — улыбаюсь я.
Сэм переминается с ноги на ногу и запускает палец в нос. Получается это у него настолько естественно, что даже не вызывает никакого протеста. Слегка повернувшись так и сяк, палец выныривает обратно, и немец чуть щурится, разглядывая ноготь. Я начинаю жалеть, что затеяла этот пустой разговор.
Оставшись удовлетворен изучением ногтя, Сэм поднимает на меня ясные глаза:
— Ты плаваешь хорошо. Я тебя каждое утро вижу. До-о-олго так плаваешь, — с уважением произносит он.
Я опять киваю.
— А я не умею…
— Плавать не умеешь? Совсем?
Он растерянно крутит головой.
— Совсем. Никак. Как топор. Там, откуда я, нет моря.
— А откуда ты?
— Из Веилхэйма. Там ничего нет. Несколько домов и поля. Пешком до Швейцарии.
— И озера нет?
— Есть. На автобусе надо. Но это далеко. Я работать должен.
— А где ты работаешь?
Лицо озаряется приятным воспоминанием.
— За коровами смотрю.
— А как за ними смотрят?
— Утром рано, в пять, иду открывать ворота. Они гулять должны. На траве. Вечером загоняю их и закрываю ворота. И мыть там много надо. Доить. Много работы. Коровы смешные такие. А весной! Трава молодая еще, и у них от нее понос. И так стоишь, а она как даст! Тебе прямо в лицо может! Прямо на четыре метра может струю пульнуть! Ну она ж не виновата. Это у нее от молодой травы. И… — раз! — и ты весь в говне!
Немец смеется как ребенок. К нему подскакивает собака, лижет его большую грубую ладонь, трется о добрую ногу, изо всех сил дружит, виляет ободранным дворняжецким хвостом.
— А ты где работаешь? — спрашивает Сэм отсмеявшись.
«У меня большой салон итальянских дизайнерских светильников», — почти срывается у меня с языка, но мне не хочется обескуражить немца разницей в наших социальных положениях, и я поспешно вру:
— Нигде.
И только когда парень с увивающейся вокруг его ног собакой через несколько минут отходит прочь, я понимаю, что сказала чистую правду. День немедленно меркнет. Отряхнувшись, я вскакиваю на ноги и отправляюсь домой. В голове крутятся разрозненные образы: мой салон на Ленинском проспекте, спящие в зоопарке медведи, немецкие поля и здоровые европейские коровы с поносом от чрезмерно экологической травы…
То ли под воздействием утреннего разговора, то ли из нежелания спускаться на пляж, где придется общаться с Ингрид, зациклившейся на моем интересе к французу, я решаю посвятить сегодняшний день простым незамысловатым занятиям.
Для начала я отправляю незваную делегацию, состоящую из Май, Ну и Боя, обратно по домам.
— Мы надо убивать животное! — протестуют они.
— Что?
— Убивать животное!
Мне под нос суется баночка с отравой для мышей.
— А-а-а. Дошло. Нет, не надо убивать животных. Варварство какое! По домам расходимся, живо, по домам!
Знаю я уже этих тайцев, за пять минут насыплют везде отравы, да так, что будет по дому не пройти, и весь в ней потом перепачкаешься, а сами разлягутся в гамаке изучать «Cosmopolitan». Их быстрый тайский треп полностью вышибает из меня остатки утреннего транквилити.
— Массаж?
— Не надо массаж. У меня от вашего ароматического масла все тело потом чешется.
— Готовить мадам еда?
— Еда? Нет, я яичницу себе на завтрак сделаю.
— Яйца нет. Рис есть.
— Не надо рис! Сколько раз в день человек может есть рис?!
Девицы обескуражены. На их азиатский взгляд, рис можно есть три раза в день.
— Может, Бой покупать арбуз? — предлагают они.
Арбуз — дело вообще-то хорошее. Я немного думаю и уступаю:
— Хорошо. Сейчас уходите, а попозже пусть Бой притащит арбуз. И воды из лавки захватит. И яиц тогда уж тоже. А пока, давайте, давайте, идите. Я хочу побыть одна.
Следующие несколько часов я брожу по дому с тряпкой, делая вид, будто сосредоточенно ищу пыль. На самом деле пыли нигде почти нет, видать девицы все-таки в перерывах между ловлей вшей ее протирают. Спускаться на пляж к Ингрид мне неохота, в лавку я не пойду по той же причине: дорога туда проходит мимо Лучано, и чрезмерно общительная шведка меня непременно заметит. В доме никакой работы для меня не находится. Полуденная жара сгоняет с меня струи пота, солнце светит неимоверно, даже курить не хочется, и тихо плещущееся под моими скалами море притягивает меня как магнитом. Утренний ветер стих так же внезапно, как до этого и появился, и по дому расплывается изматывающий зной. Воздух застыл в неподвижности, даже мои немногочисленные растения замерли в кадках, птицы и те попрятались куда-то, и до меня не доносится ни одного звука кроме призывно ласкающихся о берег волн, сулящих покой и прохладу в этом тропическом аду, да изредка недовольно бурчит в животе нарастающий голод. Выгнав таек, я осталась без завтрака, не называть же пару тостов — нормальной едой?
Напялив резиновые тапочки для дайвинга, я по-паучьи, на всех четырех, пытаюсь спуститься с камней у дома к манящей прохладе залива, но чертовы кораллы и тут испортили всю жизнь: пальцы то и дело колются о костяные наросты — достаточно жесткие, чтобы уколоть до крови, но недостаточно крепкие для того, чтобы служить хорошей опорой. Через пять минут я уже вся поцарапана, руки кровоточат, на колене довольно ощутимо щипит внушительный порез, а пот заливает глаза. Исчертыхавшись, я прихожу к выводу, что дикая природа не для горожан. И вообще не для людей. Купаться с таких скал могут только чертовы крабы, которыми, кстати, тут все просто кишит. Надо б попросить Боя их наловить. Голодный желудок немедленно урчит, предвкушая морепродукты.
В конце концов, я кое-как разворачиваюсь и неуклюже плюхаюсь в море. Ласковое, мягкое со стороны, оно встречает мое рухнувшее с трехметровой высоты тело стальным ударом. Я напоминаю себе Робинзона Крузо в начале романа, еще до того, как он овладел премудростями дикой жизни — голодная, оцарапанная, без всякого удовольствия гребущая подальше от камней, о которые можно ненароком и разбиться.
Как я вылезаю обратно, лучше вообще не рассказывать.
Когда троица моих прислужников появляется через пару часов с громадным арбузом под мышкой, я даже в глубине души рада. Предусмотрительно занятый мной перед их приходом гамак раскачивает меня в тени навеса. Я посылаю тайкам лучезарную улыбку: «Cosmopolitan» я спрятала. К трем часам дня мой желудок уже согласен на любой пад-тай-сой-мэй, но выясняется, что на обед его ждет курица-карри. Какая издевка судьбы! Не от нее ли я убежала из Москвы?
— Мадам хотеть курица-карри?
— Хотеть-хотеть, мадам уже всё хотеть, она голодная как зверь. И давайте побыстрее, я собираюсь еще до заката исследовать те скалы на предмет, нельзя ли там найти, откуда можно нормально купаться, — я показываю рукой в сторону, противоположную от пляжа.
Меня не так-то легко сломить. Одиночество — так одиночество, за чем же еще я сюда приехала? Хотя что-то подсказывает мне, что ужинаю я сегодня все-таки у Лучано.
— Те скалы плохой. Там никто нет.
— И очень хорошо. Именно этого мне от них и надо.
Справившись с изжогой, неизменно возникающей у меня после каждого тайского блюда, я выискиваю в кладовке панаму, напяливаю белый сарафан, кроссовки, густо намазываю лицо и плечи солнцезащитным кремом и выдвигаюсь в поход. В рюкзаке, немедленно прилипшем к вспотевшей спине, лежат запасы питьевой воды, лейкопластыри и самая подробная карта острова, которую мне удалось найти.
Если стоять лицом к морю, то моя «Вилла Пратьяхара» прилеплена к скалам слева от песчаной полосы берега, на которой сосредоточена вся наша пляжная жизнь. Если же пройти мимо дома и продолжить путь дальше, то скалы постепенно становятся круче и, говорят, в них даже попадаются небольшие пещеры. Никаких троп на камнях не видно, и я пробираюсь наугад, выискивая оптимальный маршрут. Мои ноги постепенно обретают гибкость и ловкость, и если поначалу я еле перебиралась с камня на камень, присаживаясь на корточки и помогая себе руками, то уже через двадцать минут в коленях появилась достаточная уверенность, и я даже решаюсь на прыжки.
Мой дом уже скрылся за поворотом, и теперь глазам открывается не испорченная цивилизацией картина из сероватых мерцающих камней и абсолютно пустой морской дали, на которой не видно ни лодки, ни другого намека на человеческое присутствие. Небо пугает своей необъятностью и монотонностью, его выцветше-голубой фон не украшен ни единым облачком. От нагретого гранита исходит жар, даже в тени здесь, вероятно, не меньше сорока градусов. Мне уже лень изучать карту, да и что я собираюсь на ней увидеть? Дорог здесь нет, троп (даже если они и прохожены каким-то чудаком) на камнях не рассмотреть, а пещеры на карте не помечены. Пригодных для купания мест мне пока не попалось: скалы почти везде входят в воду отвесно, и если кое-где мне показалось, что глубина позволяет просто нырнуть с камней, то вот выбраться обратно здесь будет ничуть не легче, чем у моего дома.
Время клонится к пяти, осталось не больше полутора-двух часов до заката, который, как обычно это и бывает в тропиках, наступает внезапно, и меня одолевают сомнения, не слишком ли далеко я зашла? Сколько я уже иду? Около получаса? Даже если где-то здесь и отыщется приличное место для купания, я вряд ли буду часто ходить в такую даль.
Но я решаю пройти еще немного. И правильно делаю. Еще минут через десять, преодолев огромный валун, я поднимаюсь на совершенно ровную площадку, и, о чудо, прямо подо мной, внизу открывается пусть не песчаный, а галечный, но вполне сносный пляж. Длиною он не больше десяти метров, и из воды то тут то там угрожающе выглядывают торчащие камни, но если распластаться по воде совсем горизонтально, то в прилив здесь можно будет купаться. Хоть голышом, хоть как, — представить, что сюда придет кто-нибудь кроме меня, невозможно.
Обрадованная и возбужденная находкой, я подбегаю к краю площадки, чтобы тут же впасть в уныние: похоже, своей безлюдностью пляж обязан тем, что к нему никак не подобраться, по крайней мере, с этой стороны. Спуск к пляжу отделен от меня жутким обрывом. В глубокую щель не проникают даже солнечные лучи, из-за чего из нее пахнет холодом, сыростью и чем-то тухлым, скорее всего застоявшейся где-то на дне водой. Похоже, райский пляж достался чертовым крабам, людям же через такую пропасть не пробраться.
Все еще не веря в свою неудачу, я поднимаюсь вдоль обрыва чуть повыше и внезапно замечаю что-то вроде подвесного моста: поперечные доски крепятся к перекинутым через пропасть канатам, а на уровне пояса с двух сторон натянута веревка, служащая вместо перил. Новость можно расценить как плохую и хорошую одновременно: с одной стороны наличие моста говорит о присутствии людей, а значит полное уединение мне здесь не светит, с другой же стороны, путь к моему заветному пляжу все-таки найден!
Взявшись за веревку, я уже заношу ногу над первой из перекладин моста, как вдруг позади меня разносится резкий окрик:
— Стой!
Вздрогнув от неожиданности, я отпускаю веревку и чуть не падаю в обрыв. В последний момент уцепившись за скалу, я в полном раздражении оборачиваюсь. Первый страх от внезапного оклика уже прошел, но сердце все еще колотится в груди, а коленки начинают дрожать.
— Ни шагу дальше! На мост нельзя!
Прямо ко мне приближается красавчик-француз. Длинные волосы растрепаны и слиплись в лохматые пряди, через голую, блестящую от пота грудь крест накрест перекинута черная полотняная котомка, а на лице застыло искренне озабоченное выражение.
— Что ты так смотришь? Я не шучу, — говорит он. — Мост полностью прогнил и только и ждет, чтобы рухнуть под кем-нибудь.
— О господи! Спасибо! Я только хотела… — бормочу я, оглядываясь на свою нереализованную галечную мечту.
Парень перехватывает мой взгляд:
— Если ты на тот пляж, то есть дорога в обход. Чуть выше, где начинаются кусты. Только с голыми ногами ты туда не пройдешь, вся оцарапаешься. Я хожу туда в брезентовых штанах. Это вообще-то мой пляж.
Мой спаситель вблизи оказывается не так уж молод, скорее моложав. Я понимаю, что напрасно, издали очарованная его легкой пластикой, так поспешно записала его в «европейскую молодежь». Ему никак не меньше сорока. Загорелое лицо грубее, чем мне казалось, и над бровью начинается довольно неприятный шрам, по диагонали уходящий под волосы на лбу. Карие глаза блестят без особой ко мне симпатии, и теперь мне мерещится в них типичная для французов надменность.
Ах, это, оказывается, его пляж? Похоже, я не оригинальна в своем желании купаться в одиночестве и вторглась ненароком в чужое прайваси.
— А кто и зачем тогда мост построил? Не ты?
Француз небрежно кидает котомку на камни и присаживается на корточки, выуживая из кармана бумажку и табак для самокрутки.
— Мост здесь уже был до меня. Не знаю, кому и когда он тут понадобился. Может, рыбакам? Я не приспосабливаю мир под себя. Я приспосабливаюсь под него сам. Так проще. Есть только одно «но»: приходится держаться подальше от людей. Если начать еще и под них приспосабливаться — можно сойти с ума.
Его грубоватые пальцы с черными от грязи ногтями ловко скручивают сигарету. Я подхожу и достаю свою, Marlboro light. Не глядя, парень кидает мне коробок спичек, ни капли не озабоченный, смогу ли я его поймать.
— Ты девушка из того белого дома на скале? — скорее утверждает, чем спрашивает он вдруг.
Я киваю. Похоже, не одна я в курсе «who is who» на нашем пляже.
— А ты француз, живущий где-то на горе? — спрашиваю я в тон ему.
— Yes, sweety.
Мне посылается быстрая приторная улыбка и парень опять отворачивается. Несмотря на грубые черты лица и широкую кость на щиколотках, выдающую крестьянскую породу, он отлично говорит по-английски, что для французов значит как минимум высшее образование и карьеру в какой-нибудь приличной международной конторе.
— И как зовут моего спасителя?
— Ну можешь просто называть меня Спаситель. А как зовут любительницу уединенных купаний?
— Полина.
— Как? По-льи-о?
— Полио — это болезнь такая. А я По-ли-на. Окей, Лучано называет меня Паола, так тоже нормально.
Француз поворачивается и впервые смотрит мне в глаза.
— Паола — мне нравится. И ты тоже итальянка?
Я вздыхаю. Сейчас я скажу, откуда я, и два варианта: или я получу излишне заинтересованный взгляд, или полное презрение. Хорошая реакция на мою национальность — большая редкость.
— Нет, русская.
Но парень смотрит спокойно, без тени сальности или чувства превосходства, только слегка приподнимает брови:
— У тебя хороший английский для русской.
— А у тебя — для француза.
Докурив, мой спаситель легко поднимается с камней и протягивает мне руку:
— Ну пошли тогда, провожу. Сейчас солнце зайдет, ты в темноте ноги еще чего доброго тут переломаешь. Не для того же, в конце концов, я тебя спасал.
— А для чего? — спрашиваю я довольно глупо.
О боже, я что, уже начинаю с ним заигрывать?! Какая пошлость!
Но француз, казалось бы, ничего не заметил и, потеряв опять ко мне всякий интерес, лениво пожимает плечами:
— Да ни для чего…
Сегодня у Лучано необычно широкий выбор рыбы. Мои голодные глаза разбегаются по меню.
— Бери креветки. Тигровые. Без томатного соуса, кстати, и прочей гадости. Просто, в масле, с чесночком, — советует мне Ингрид.
Я решила не устраивать цирк и, обнаружив ее в одиночестве, сама подсела к ней за столик.
— Никто не умеет теперь толком готовить креветки, — продолжает она, обрадованная возможностью потрепать языком. — Томатный соус категорически не идет к морепродуктам! Категорически! Он отбивает весь вкус. К тому же какая глупость их тушить! Креветки созданы лишь для того, чтобы жарить их в кипящем чесночном масле, и больше ни для чего. И именно так их Лучано и делает.
— И что-то подсказывает мне, что тут не обошлось без вашего совета? — спрашиваю я.
Шведка довольно подмигивает мне поверх своих очков для чтения. В ее руке маленький фонарик выхватывает из темноты список салатов в меню. Надо отдать Лучано должное: ни один из них здесь не из этой наевшей оскомину тайской папайи или стеклянной лапши, и в количестве чили итальянец тоже знает толк.
Я с размахом заказываю двойную порцию креветок. Сегодня я пирую. И в конце меня точно ждет тирамису. Жуткие, запавшие в самую глубину души слова гадалки сегодня чуть не сбылись. Нелепо как-то, совсем уж глупо — на прогнившем мосту.
С минуту я серьезно раздумываю, не попросить ли по такому поводу бокал вина, но все-таки отказываюсь от этой затеи. Где один, там и бутылка, а пить мне нельзя. Шаткий баланс, обретенный мной на этом острове, еще не закрепился, и то и дело мои настроения срываются с ровных и умиротворенных на неуправляемые приступы раздражения или даже беспричинной паники.
— Больше не могу питаться ничем тайским, — жалуюсь я Ингрид, рассеянно поглядывая на далекие прожектора рыбацких лодок. — У меня постоянно болит живот после еды. Причем, это абсолютно точно не Зов. Я уверена, я знаю разницу.
— Не что? — не понимает шведка.
— Да, нет. Не важно.
Ингрид с минуту молчит, потом глаза ее зажигаются радостью:
— А ты проверила у своих девчонок, не кладут ли они тебе в пищу глутамат натрия?
— Что не кладут?
— Ну, милочка моя! Не знать таких вещей! Это такая химическая мерзость, аминокислота, которую все азиаты добавляют в еду из бедности: она прекрасно маскирует низкое качество продуктов и вдобавок усиливает любой вкус. Они кладут тебе три кусочка позавчерашнего мяса, сыпят глутамат и у тебя полное ощущение, что ты у бабушки на ужине. Если часто есть пищу с добавлением этой гадости, то наступает привыкание, и вкус нормальной еды уже не улавливается рецепторами. Так дети, кстати, подсаживаются на фаст-фуд. Туда ее тоже кладут, и в совершенно вопиющих количествах. А потом мы недоумеваем, почему это они не желают видеть здоровой домашней стряпни. Так что не удивляюсь, что у тебя болит живот. От нее и язва может быть, и даже крыс ей травить можно. Дохнут, я проверяла.
Я давлюсь арбузным соком.
— Мать моя родная! А какие должны быть симптомы?
Каждый раз, что Ингрид удается вывести меня из себя, она радостно потирает кончик большого бугроватого носа, скрывая довольную улыбку.
— Головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, распирание в груди, жар… Гормональный баланс нарушается. А в редких случаях наступает слепота, моя милая.
Аппетит полностью пропадает. Я закуриваю и пытаюсь вспомнить, видела ли я на своей кухне что-либо подобное.
— Как он выглядит?
— Как белый порошок, вроде грубой морской соли.
— Видела!
— Что видела?
— Да на кухне моей стоит такой, в баночке! Господи, а я гадаю, откуда у меня изжога после еды!
Шведка сияет. Я давно подозреваю, что ей не дает спокойно спать то, что в отличие от нее я все-таки живу здесь в собственном доме, который хоть и не смахивает на классическую виллу, но в любом случае гораздо уютнее отеля, даже такого милого, как у Лучано. Скандинавская моя подружка, видать, уже исчерпала свой лимит радости за окружающих, и рада поддеть меня при каждом удобном случае. Теперь она радостно хохочет во все горло, очки сняты, пятнистая старческая рука утирает катящиеся из глаз слезы.
Польско-еврейский писатель за соседним столиком начинает прислушиваться к нашему разговору.
— Вот это и называют термином «синдром китайского ресторана», — продолжает старуха сквозь слезы. — Да и в любой другой азиатской кухне пища просто напичкана этой отравой.
Писатель, заказавший что-то тайское, в ужасе ковыряет вилкой в тарелке. Кажется, выискивает там следы порошка.
— Его уже не видно, — подсказывает ему Ингрид. — Растворился.
Писатель икает и встает из-за столика, чуть не столкнувшись с Тханом, несущим мне блюдо с благоухающими на весь ресторан креветками. Хотя, судя по его походке, икает он все же не от страха, а из-за количества выпитого. На его столике громоздятся пустые стаканы.
Ингрид в полном восторге.
Я решаю, что с завтрашнего дня начинаю сама себе готовить. Пляж я уже сегодня нашла, так что шведка меня здесь больше не увидит.
Вечером меня ждет еще одна неприятная новость. Усевшись в кресле в предвкушении кормежки своих ящериц, я обнаруживаю, что обе жмутся по углам, а в центре крыши, под самым абажуром гордо восседает новая, незваная полосатая пришелица. При малейшем приближении Короткохвостой и Нахальной, эта дрянь начинает истошно шипеть, цыкать, колотить хвостом по навесу и норовить укусить моих подопечных.
В полном раздражении я отыскиваю в кладовке швабру и злобно тычу ею в крышу. Короткохвостая и Нахальная испуганно убегают, а полосатая, как ни в чем не бывало, продолжает уворачиваться и успевать на ходу хватать ртом чужих мошек. Тогда я просто выключаю весь свет на террасе. Не достанься ты никому!
За ужином я так и не решилась расспросить вредную старуху, что еще она знает про француза. Откуда у него, например, шрам? И где он все-таки живет там в горах? Вездесущая шведка, наверняка, уже что-то про него разнюхала. Хотя, с другой стороны, зачем мне про него знать?
А живот после ужина креветками у меня, и впрямь, не болел. Наверное, дело действительно в этом глутамате или как он там правильно называется? Вернувшись из ресторана, я первым делом выбросила баночку с этой отравой в помойное ведро — брезгливо, морщась от омерзения, двумя пальцами — после чего немедленно вымыла руки с мылом.
Луны сегодня совсем нет.
13
Этой ночью впервые за все время на острове я плохо спала. Мне снился сначала Петровский, потом гадалка, с ее гомерическим, карикатурным хохотом и устремленным в мою сторону костистым пальцем. «Ты умрёшь! Умрё-ё-ёшь!» — она зловеще растягивала последний слог на букве «ё», голос ее утончался, не справляясь с высокой нотой, и начинал вибрировать. Приближаясь, палец удлинялся, становился похож на ветку, на змею, и, словно лассо, пытался накинуться мне на шею. Ужас сковывал меня и, как это часто бывает во снах, не было ни сил двигаться, ни крика. Зажавшись в угол, я парализовано уставилась перед собой, и… картинка внезапно сменилась скалами у моста над расщелиной. Но легче от этого не стало. Освещение было до жути ярким, болезненным, как при ядерном взрыве: черно-золотым и чрезмерно контрастным. Мост раскачивался и выглядел очень опасным, и тут, вылезший из-за скалы палец стал раскручиваться и хлесткими ударами, словно плетью, подгонять меня к пропасти.
Проснулась я в холодном поту. Солнце уже стояло довольно высоко над морем, а следовательно, времени было около восьми утра.
По поводу бьющей меня дрожи, я решила отменить прогулку и сразу же нырнуть прямо с площадки перед домом. Море сегодня, кстати сказать, дивное. Спокойное, по-утреннему чуть прохладное, прилив хорошо прикрыл водой камни, так что прыгаю я без страха разбиться о рифы. Я вхожу в воду не гладко, а непрофессионально, поднимая брызги. Вода вокруг пенится, выталкивая меня на поверхность. Тело немедленно просыпается, охлаждается возбужденная, переполошенная жутким сновидением голова. Сложив ладони лодочкой, я сильно отталкиваюсь ногами: гребок, тишина, тело скользит вперед, еще гребок, опять тишина. Лицо, разумеется, опущено в воду, я никогда не понимала тех, кто плавает, держа голову над поверхностью.
Миновав опасные щупальца рифов, я переворачиваюсь на спину и только теперь медленно приоткрываю глаза. Вода искрится на мокрых ресницах, смешиваясь с солнцем, и меня немедленно накрывает острым счастьем. Все-таки, как ни крути, а солнце — единственный источник жизни на этой планете, и особенно хорошо это ощущается, если смотреть на него. Разумеется, не в полную силу, а так, чуть прищурившись сквозь ресницы — в таком случае влага на них дает самый лучший эффект. Если же, вдоволь налюбовавшись, неожиданно распахнуть глаза полностью, то можно задохнуться от глубокой, сочной голубизны бездонного неба. Когда-нибудь я напишу пособие по правильному плаванию. Не стилями, а с душой. Никакого стиля у меня, кстати, нет. Я набираю полные легкие воздуха и делаю по шесть-восемь длинных гребков, не поднимая лица из воды, — это усиливает чувство слияния со стихией. Как при этом двигаются руки и ноги, я никогда не задумывалась и, на мой взгляд, это абсолютно не существенно.
Полежав на поверхности минут пять, я опять переворачиваюсь лицом вниз и изображаю водоросль. Это еще один прием получить острейшее наслаждение от купания. Полностью расслабленные, словно веревочные руки и ноги, надо как плети болтать в воде, лежа на животе и медленно извиваясь всем позвоночником из стороны в сторону, стараясь при этом не допускать ритмичности движений. Ритмичность — вещь от ума, и к чувствам не имеет никакого отношения; даже более того — она затрудняет их восприятие. В идеале надо болтаться в воде до тех пор, пока не возникнет опьяняющее чувство невесомости, и тогда опять — перевернуться на спину и распластаться на волнах, распахнув глаза навстречу небу.
Небо этим утром покрыто мелкими облаками. Вдали уютно, по-домашнему мурлычет дешевым мотором баркас. Надо бы не забыть сказать Стасу, чтобы надул нашу лодку, когда приедет. Хотя почему-то мне кажется, что с его приездом что-то испортится, уйдет это чувство легкости и радости, что-то неуловимое, тонкое рассыплется в прах, ускользнет сквозь пальцы, и иди потом гадай, что это было такое и как его вернуть.
Вдоволь накупавшись, я окидываю глазами берег, подыскивая, где выбраться на сушу. На широком камне на краю пляжа, там, где начинается подъем к моей «Вилле Пратьяхаре», удрученно сидит некрасивая американка. Девице, наверное, не больше двадцати пяти лет, но она просто категорически уродлива. Толстая бесформенная фигура, напоминающая картофелину, покатые плечи бывшей пловчихи, коротким ежиком стриженая голова. Все в ней какое-то несуразное, непропорциональное, слишком крупные руки и ноги, слишком мелкие черты лица. Одежда и вовсе портит впечатление: на каком таком рынке она высмотрела свои юбку и майку, открывающие все то, что ей следовало бы скрывать? Понятное дело, варварская девица (с подходящим ей именем Барбара) оказалась невостребованной даже на нашем пляже. Как всегда в полном одиночестве, она болтает ногой в воде, что-то рассматривая на мелководье. Вероятно, живущую там стайку золотистых крабов.
Чуть поодаль, заботливо пристраивает на шезлонг свои отвисшие телеса Ингрид. Несколько раз встряхивает и разравнивает полотенце, передвигает поближе пляжный столик с утренним кофе, опасливо изучает кокосовые орехи на ближайших пальмах (говорят, кокосы — одна из частых причин смертей на отдыхе). Интересно, что это ее подняло сегодня в такую рань? Я кидаю взгляд на небо и понимаю, что солнце стоит подозрительно высоко. Неужели я так долго купалась?
На другом краю пляжа маячит оранжевая майка Сэма, и я улыбаюсь, вспомнив про коров.
В конце концов я решаю выбраться у каменистой балки, выступающей из воды наподобие низкого арочного моста. Довольно странная форма для тропического пляжа, скорее более уместная где-нибудь на нормандском побережье. Крепясь к балке, на камнях устроены деревянные настилы «Пиратского бара» — заведение еще то! Слава богу, у нас нет публики, разделяющей вопиющие музыкальные вкусы его владельца, иначе раскаты «техно» сильно портили бы местное пляжное транквилити. Сейчас же, сокрушенно качая головой на наше единодушное непонимание, владелец вынужден ставить что-нибудь романтично-незамысловатое вроде Элтона Джона, и посидеть на подушках под реющими белоснежными флагами бара я, нет-нет, да и захожу. К тому же, именно сейчас я замечаю длинноволосую голову француза, мелькающую среди камней как раз за «Пиратским баром». Почему бы мне, в конце концов, не поблагодарить еще раз человека, который вчера ненароком спас мне жизнь? Засмущавшись от непроизвольно вырвавшейся у меня глупой игривости интонаций, я отказалась от предложенной мне руки и всю дорогу до дома шла вчера молча, даже не поинтересовавшись его настоящим именем и ограничившись напоследок лишь вульгарным «Чао, Спаситель!»
Перевернувшись на спину, я начинаю быстро грести, но расстояние до берега не меньше ста метров, и я все-таки опаздываю. Когда, слегка подтянувшись на окрепших за последний месяц руках, я выбираюсь на балку, француза уже нигде не видно.
После завтрака, который я сегодня приготовила сама (омлет из двух яиц, тост с маслом и консервированным тунцом, да банка консервированной же фасоли в томатном соусе), я курю в гамаке, любуюсь раскачивающимся над головой небом и прихожу к выводу, что если я собираюсь отныне отказаться от тайской стряпни, то мне следовало бы для начала не посылать за покупками Боя, а самостоятельно наведаться в продуктовую лавку.
Но в лавке сегодня, как обычно, — полный голяк.
— Свежей рыбы так и не привозили? — вздыхаю я.
Одноглазый старик-хозяин сокрушенно кивает.
— Не привозили.
— А вы ее вообще заказывали? Я же просила.
— Заказывал, но не привозили.
Я знаю, что он врет. Ничего он не заказывал. Он боится связываться со скоропортящимися продуктами. Кроме меня свежей рыбой тут никто не интересуется, а у ресторанов свои поставщики.
— Нормального хлеба тоже нет?
Как минимум неделю назад упакованные в целлофан ломтики чего-то влажного и резинового хлебом не назовешь, но приходится их прихватить. Ладно, соображаю я, реанимирую их с помощью тостера, с маслом и джемом как-нибудь прокатит. Из овощей в лавке сегодня находятся лишь морковка, лук, полузасохший кочан цветной капусты и зеленые помидоры. Сделаю что-то вроде рагу. Засыплю все кешью, залью томатным соусом, и готово. Рис у меня, кажется, еще остался. Смертельно хочется картошки (обыкновенной, просто вареной), но в Азии это дефицит. По крайней мере, на таких заброшенных пляжах, как наш.
— А из сладкого что есть?
Единственный глаз торговца равнодушно скашивается на полку с соевым шоколадом.
Я рассчитываюсь и, выходя, чувствую неприязненный взгляд в спину. Только наивные неопытные туристы полагают, что тайцы доброжелательный народ. Но стоит пожить здесь подольше, и миф рассеивается. Недавно Лучано рассказывал, что двух русских туристок нашли заколотыми на пляже. Слава богу, не нашем, а там, где проходят рейверские пати. Наверное, с присущей русским девицам надменностью, они невежливо себя повели. Невежливость или высокомерие тайцы не прощают. Они вообще ничего не прощают. Азиаты — ранимый и крайне мстительный народ.
Сумка с продуктами тянет руку, поэтому для обратного пути я выбираю самую короткую дорогу. Сворачиваю между аптекой и массажным салоном, пробираюсь мимо помоек и уже через несколько минут оказываюсь у дыры в заборе отеля Лучано. Отсюда до пляжа уже рукой подать: надо пройти по еле заметной тропке на задах отельных построек, протоптанной здесь не иначе как персоналом, обогнуть бунгало моей шведской приятельницы и свернуть за последний домик, принадлежащий польско-еврейскому писателю.
Благополучно миновав двор и оказавшись за писательским бунгало, я уже вижу перед собой просвет между пальмами, а за ним и узкую полоску моря, но тут прямо из-за угла на меня буквально бросается Ингрид.
Вид у нее совершенно жуткий: глаза в ужасе выкатились из орбит, кровь отлила от лица, рот жадно пытается глотать воздух. Старческие пальцы мертвой хваткой впиваются в мои плечи, и мне кажется, что сейчас ее хватит удар.
— Я… я… — пытается выдавить Ингрид, но захлебывается словами и продолжает задыхаться.
— Господи! Вам плохо?! Сердце?!
Я бросаю сумку с продуктами и обхватываю огромное тело, пытаясь усадить ее на землю, но шведка отталкивает меня и машет руками:
— Да нет! Не я!.. Он… Я… я просто зашла… А он!..
Парализованный ужасом взгляд замирает на заднем окне писательского бунгало. Плотные шторы чуть приоткрыты, и именно на открывшуюся между ними щель и указывает мне теперь дрожащий старческий палец.
— Кто он? Писатель?
Морщинистое лицо покрыто пятнами, рот беззвучно открывается и закрывается, и, отчаявшись что-либо мне объяснить, Ингрид пребольно тычет острым ногтем в мою голую спину, и изо всех сил толкая меня к бунгалу.
Вдруг ставшие ватными, мои ноги слегка подгибаются, но уже сами влекут меня к окну. Подойдя, я еще раз в нерешительности оглядываюсь на старушку.
— Да, да! Там!.. — энергично кивает она, раздраженная моей непонятливостью.
Прильнув лицом к стеклу, я сначала ничего не вижу, но вскоре глаза чуть привыкают к полумраку, и мне удается рассмотреть распластанную на полу фигуру. Тело (а то, что человек этот мертв, становится почему-то сразу очевидно) лежит на спине, нелепо разметав руки и сильно запрокинув назад голову. Словно нимб, вокруг его головы расплылось по кафельным плитам огромное черное пятно.
У меня в горле немедленно пересыхает. Медленно я отстраняюсь от окна и перевожу ошалелый взгляд на Ингрид. Она уже отошла пару шагов назад и теперь держится одной рукой за ствол пальмы, вторую же прижимает к сердцу. В ее лице по-прежнему ни кровинки.
— Я… — опять начинает она, и на этот раз у нее получается чуть более связно, будто бы из-за того, что груз от страшной находки теперь распределен между нами, ей стало вдвое легче. — Я шла мимо… К себе… Забыла… крем для загара… Думаю, надо вот посмотреть… Не потому, что… а просто… он не выходил утром… Он рано встает обычно… А тут не выходит и не выходит сегодня… Я заглядываю… А он… Отравился… Глу… глута… глутаматом натрия!
Ингрид опять начинает трястись и задыхаться.
— Отравился?! — У меня в голове начинает постепенно проясняться и я уже могу более-менее адекватно реагировать на смысл сказанного. — Почему отравился? Каким глутаматом?
Старушка нервно трясет рукой в раздражении от моей тупости:
— Вчера, за ужином… Ну я же говорила! Про глутамат натрия! А он… он еще встал и посмотрел так дико! Наверное, почувствовал… В еде… Он что-то тайское ел! И вот! Отравился! Насмерть!
— Погодите! Этой добавкой в пищу? И так-таки вот прямо насмерть? Что-то мне не верится… Я ее за последний месяц, наверное, килограмм съела, с этими моими девицами! Ну изжога — это да, это я согласна. Ну, может, что вы там еще говорили? Головная боль? Ну не знаю, у меня не было никаких болей. Но чтобы насмерть?! Быть не может! И… и потом, у него же кровь, он голову разбил! Вот и умер.
Взгляд старушки меняется на более осмысленный.
— Ну я и говорю: отравился глутаматом за ужином, ночью встал, пошел в туалет, плохо ему стало, пошатнулся, упал, головой об угол кровати или тумбочку… не знаю. И умер!
Я опять припадаю лицом к стеклу и рассматриваю мебель. Ни кровати, ни тумбочки рядом с телом не обнаруживается.
— Знаете что, Ингрид? Все это ужасно, и ваши фантазии тоже. Вы тут постойте, а я, пожалуй, схожу за Лучано. Пускай сам разбирается. Врача позвать надо. Может, он жив еще, просто без сознания?
Старушка отрицательно крутит головой. Я в общем-то с ней согласна, писатель живым отнюдь не выглядит.
Через двадцать минут дверь номера взломана, и возле домика взволнованно толкутся почти все обитатели нашего пляжа. Внутри, в полумраке комнаты, куда никого не пустили, о чем-то шепчутся Лучано, его тайка и прибежавший из деревни врач.
Вскоре на носилках выносят накрытое простыней тело. Тонкая ткань слегка колышется от ветра, прикрывая лицо. Мы со шведкой не ошиблись. Писатель мертв.
На лицах присутствующих вперемешку отражаются ужас, сочувствие, любопытство и полный стервятничий восторг: что может быть увлекательнее чужой смерти?
Просочившись из задних рядов, «бывшая швейцарка» жадно щелкает фотоаппаратом.
Так и не собравшись приготовить себе задуманное овощное рагу и (по вполне понятным причинам) не решившись отведать изобилующей опасным глутаматом тайской стряпни Май и Ну, я обедаю у Лучано. В ресторане сегодня аншлаг: вероятно, каждому хочется обсудить утреннюю новость. Случай небывалый, абсолютно все столики на террасе заняты шепчущимися и внезапно сдружившимися обитателями пляжа, и только француз сидит как обычно один, равнодушно скользя взглядом по серебрящейся ряби на поверхности моря. При моем появлении он сдержанно кивнул, но не встал, не подошел, ничего не сказал, и, разумеется, даже не подумал подсесть за наш с Ингрид столик. Я с досадой отметила, что меня это расстроило.
— … Лучано сказал мне по секрету, что писателя-то укокошили! — возбужденно шипит Ингрид мне в самое ухо. Делиться со всеми раньше времени такой сенсацией она не хочет. Приберегает шокирующую новость на вечер. Ей надо обдумать, как ее эффектнее подать. — Врач сказал, что рана в черепе нанесена тупым предметом округлой формы. Типа как битой… или чем-то навроде того… Ничего такого в номере нет. Ни углов от мебели похожей формы, ничего! Это убийство! Кто-то проник в номер, судя по всему ночью, грохнул парня и был таков! Нашли приоткрытое в ванной окошко. По всей вероятности, через него он залез и вылез обратно! — Ингрид убедительно вращает глазами и с аппетитом отправляет в рот огромный кусок кровавого стейка.
— Ну вот видите. Глутамат оказался совершенно ни при чем. А вы говорили отравился, пошел, упал… Вы, случайно, не мисс Марпл нашего скромного тропического уезда? Такая у вас фантазия…
Старушка смеряет меня многозначительным взглядом:
— Кстати, у Агаты Кристи очень часто действие происходит с ограниченным кругом действующих лиц, запертых в усадьбе, пансионате, деревне или вот, между прочим, на острове…
— Да, да, и от ее наблюдательности зависит все расследование, — вторю я ей в тон.
— Именно. Наблюдательность и знание психологии. С возрастом приходишь к мысли, что количество человеческих типов крайне ограничено, просто до унизительности мало, и достаточно присмотреться к людям, как становится ясно, что и от кого можно ждать.
— И вы относитесь к типу «мисс Марпл»?
— Вполне вероятно.
— А я?
— А ты, извини меня, милая, — к довольно распространенному типу романтических таких героинь, мучающихся от неясного томления. Тип, к слову сказать, прекрасно описанный в вашей русской литературе, их еще обычно зовут или Катеринами или Татьянами, и они плохо заканчивают. И часто — приблизительно в твоем возрасте.
Странное чувство, когда посреди тропической жары твоя разгоряченная снаружи кожа вдруг изнутри покрывается ледяными мурашками.
— Вот уж спасибо вам, Ингрид! Удружили, успокоили! — Зажигалка танцует в моих руках, вдруг задрожавший палец проскальзывает по уворачивающемуся колесику, но с пятой попытки я все-таки прикуриваю. — А позвольте поинтересоваться, раз уж у вас такое больное воображение, к какому типу относится… кого бы взять?.. Ну вот, например, наш отшельник-француз?
Рука шведки мягко накрывает мою:
— Дорогая, ты совершенно не умеешь притворяться. Почему бы тебе не спросить про него в лоб, раз ты так им интересуешься?
— Я им интересуюсь?! Я вам уже говорила, никем я не… Ну ладно, впрочем. Людей же все равно ни в чем не убедить, если им что-то запало в голову. Так к какому? На вид он такой весь из себя загадочный. Что он вот тут вообще делает?
Ингрид как бы случайно прикрывает бровь ладонью и профессионально, исподтишка косится в сторону моего вчерашнего спасителя. Губы ее презрительно сжимаются, образуя несимпатичные вертикальные морщинки под носом.
— Никакой он не загадочный. Типичный клерк, офисная крыса. Правда, из высшего состава. Не коренной парижанин, сам, скорее всего из сельской местности, уж больно широка кость. Вырос на полях, лугах, где-нибудь на Луаре, но давно перебрался в столицу и теперь его в Пэи-де-ля-Луар никаким калачом не заманишь, последний раз был там лет семь назад, на похоронах бабки. Работает в офисе неподалеку от Сената, все как полагается — с четырехметровыми потолками, лепниной, бронзовыми люстрами и тяжелыми зеркалами. Отдельный кабинет, секретаршу не трахает. Поселился один, тоже с лепниной, непременно в шестнадцатом округе, а то, быть может, и в шестом или восьмом, с него станется. Постоянной подружки нет со времен Сорбонны. Ездит на гоночной машине, вполне вероятно красного цвета. И ничего особенного он тут не делает. То же, что и все мы.
— А что мы все тут делаем? — я замечаю, что бурная фантазия шведки, и, особенно, потрясающая в себе уверенность начинают меня слегка раздражать.
— А как ты думаешь?
— А как тут можно думать? Просто приехали на два-три месяца отдохнуть.
— Милочка! Помилуй, не занимайся самообманом! Люди не отдыхают по два-три месяца. — Шведка неожиданно понижает голос и шепчет мне на ухо: — Мы все здесь прячемся.
Я незаметно вытираю кулаком слегка оплеванную ею щеку.
— И от чего же мы все тут прячемся?
— Кто от чего, но в целом все от одного и того же — от «той» жизни, от «реальной»… А по мелочи, у каждого свои ничего не значащие нюансы. Я вот — прячусь здесь от старости, например. А от чего ты — тебе виднее.
Внимательно изучив свои ногти, я тушу сигарету в пепельницу и прихожу к выводу, что либо шведка обладает редким даром стопроцентно портить мне аппетит, либо жизнь моя зашла в такую точку, где каждая вторая тема в считанные минуты выводит меня из себя. С сожалением отодвинув от себя тарелку с остывшими таглиателле, я поднимаюсь уходить, но Ингрид успевает ухватить меня за локоть.
— Погоди! Полиция пришла! Вон у дверей, видишь? Я же говорила, это убийство! Значит будет и расследование!
Я покорно опускаюсь обратно на стул. К нашему столу и впрямь немедленно подходят Лучано и мелкий таец в мешковатой форме цвета хаки, над воротником-стойкой маской застыло серьезное рябое лицо с хитроватыми азиатскими глазками. Не желая привлекать внимания обедающих, они почти шепчутся — глупая и запоздалая предосторожность, все взгляды все равно обращены на них.
— Это вы нашли тело? — обращается полицейский к нам с Ингрид.
Я киваю, соглашаясь за двоих. Шведка молчит и под столом кладет ладонь мне на колено.
— Полиция очень просит разрешения немного поговорить с вами, если вы, разумеется, не возражаете, — Лучано мнет салфетку в руках, глядя на нас с надеждой. Отказывать в чем-либо тайскому следствию ему не хочется, хотя шумиха вокруг убийства, вытаптывающие газон коротконогие полицейские и допросы гостей — плохая реклама для отеля.
Я опять киваю, но полицейский по-армейски разворачивается на каблуках к Ингрид и, почему-то игнорируя меня, грубо приказывает ей одной:
— Тогда — вы! Пройти со мной!
Мое колено под ладонью Ингрид мгновенно становится влажным. Отвернувшись от тайца, она неожиданно визгливо обращается к Лучано:
— Почему я?! Мы были с ней вместе! Почему я одна должна? Он груб, и вообще… я… я не понимаю его английский!
Лицо оскорбленного тайца немедленно наливается кровью.
— Именем короля!
Люди замирают за своими столиками, и даже француз слегка наклоняет голову, прислушиваясь к начинающемуся скандалу.
— Я вас умоляю. Не здесь… Отойдемте на кухню, пожалуйста! — морщится Лучано и молитвенно складывает ладони у груди, но очень подозрительно неожиданно впавшая в панику шведка отрицательно машет головой:
— Я никуда без нее не пойду! Мы вместе нашли тело! Она моя подруга. И… и адвокат!
— Я — адвокат?! — удивляюсь я.
Теперь уже все подозревают Ингрид. В конце концов, она оказалась на месте преступления первая, и нормального объяснения, что она делала на крошечном пятачке между забором и задней стеной писательского бунгало, нет. Старушка, кажется, понимает это, и еще крепче вцепляется в мою ногу.
— Да, ты! Ты же говорила, ты просто забыла! Ты адвокат!
— Но я…
— Пожалуйста, не здесь, — стонет Лучано.
— Именем короля, вы немедленно идти со мной!
— Я не пойду! Они дикие! Я не буду подписывать никаких показаний на тайском! Я фильм смотрела, и там тоже был допрос, принесли показания, на тайском, и…
— Ингрид, я тоже его смотрела. Там все было по-другому… Не надо так волноваться. Вам вредно. Вас никто ни в чем не подозревает…
— Следствие ничего не знать, следствие подозревать сейчас абсолютно всех!
— О, боже!.. Вы слышали этого идиота?! Он меня подозревает! Да я…
— Ингрид, он же сказал всех, а не вас лично!
— Нам следует все-таки отойти отсюда на кухню! Не здесь же… Я умоляю…
— Я быть вынужден вас арестовать, если вы не идти со мной немедленно! Вы мешать королевскому следствию!
— Арестовать?! О-о-о…
За поднявшейся суетой и нарастающими стонами и криками никто не замечает возникшего за спиной полицейского француза, пока его ясный и спокойный голос не вмешивается в разговор:
— Спокойно! Я — адвокат. Я пойду с ней.
Делегация медленно двигается в сторону хозяйственных помещений. Я устало прикрываю глаза рукой и мне видны только удаляющиеся ноги: семенящие шажки тайских дешевых черных ботинок на стоптанной резиновой подошве; шаркающие неуверенные шаги начищенных узконосых ботинок итальянца; испуганное переступание раздавленных жизнью и избыточным весом, в костяных артритных наростах старушачьих ног в белых полотняных сандалиях; и, наконец, ровная уверенная поступь античных босоногих ступней адвоката, на большом пальце которого болтается, отклеившись, грязноватая полоска лейкопластыря.
Ничего не скажешь, великолепное шествие! «Встать, суд идет!» возникает откуда-то у меня в голове и, воспользовавшись тем, что на меня никто не смотрит, я тихонечко выскальзываю из-за стола и быстро удаляюсь в сторону своей «Виллы». Если я понадоблюсь для допроса, они знают, где меня найти. По крайней мере, я успею за это время спокойно принять ледяной душ.
Солнце сегодня шпарит просто неимоверно! Интересно, дождей в Тайланде вообще что ли не бывает? Ну или хотя бы туч?
Удивительно, но прошло почти полдня, а за мной так никто и не пришел. Может быть, Ингрид сама приложила дубиной по голове писателя и теперь во всем созналась? Черт их разберет, этих вегетативных европейских старушек! Почему иначе она так неожиданно занервничала перед допросом? Хотя, разумеется, это мой послеполуденный тропический бред! Зачем старушке убивать соседа? Ну, разве что, она — рьяная воинствующая антисемитка, что, в принципе, крайне маловероятно.
Я еще немного прогулялась по каменистой площадке перед домом, выкурила парочку невкусных на жаре сигарет, проверила самочувствие карпов в моем прудике, оборвала засохшие листья с растений в кадках и бесцельно повисела в гамаке, наблюдая мирно проплывающие своей дорогой облака. Правильного места мне не находилось, а состояние и вообще было тревожное, какое всегда бывает в ожидании запаздывающих новостей. Можно, конечно, спуститься к людям, добрести до Лучано и за чашечкой ароматного кофе вызнать, что там у них происходит, но вместо этого я надеваю старые джинсы, панаму, собираю в рюкзак питьевую воду, крем для загара и полотенце, зачем-то кидаю туда же роман Агаты Кристи, и выдвигаюсь в противоположную сторону: на найденный мной вчера маленький каменистый пляж.
Чистого хода туда оказывается не больше двадцати минут. Ловко перепрыгивая с камня на камень и даже толком не устав, я вскоре выхожу на площадку перед подвесным мостом. Над ним, по словам француза, где-то чуть выше, расщелина постепенно сужается, срастаясь краями, и, если продраться мимо колючего кустарника, то можно попасть на ту сторону, где вниз по тропке, притаился заветный пляж.
Поднявшись вдоль расщелины, я подлезаю под нависшим куском гранита и с удивлением обнаруживаю, что весь кустарник, ради которого я притащилась сюда по жуткой жаре в толстенных и врезающихся в тело джинсах, начисто вырублен. У моих щиколоток беззлобно щерятся лишь свежеобрезанные стебли, вернее то, что от них осталось. Дотронувшись до среза пальцем, я прихожу к выводу, что произошедшую операцию можно датировать никак не ранее, чем сегодняшним полуднем. Насторожившись, с участившимся сердцебиением, я осторожно перешагиваю разлом в камне — все, что осталось здесь от пропасти — и спускаюсь в уютно пристроившуюся между скалами бухту, где, разумеется, (и у меня хватит наглости утверждать, что я не догадывалась об этом?) меня ждет ироничный взгляд француза.
— Я думал, ты уже не придешь.
В моей голове за секунду проносятся все обрывочные сценки, накопившиеся за последний месяц: черный силуэт француза на предзакатных камнях, загорелое тело, прыгающее вдали по скалам в полдень, необорачивающийся, строгий, почти неприступный горбоносый профиль за дальним столиком у Лучано… и я внезапно осознаю, что, кажется, как-то вкрадчиво, незаметно для себя, уже давно влюблена в эти длинные руки и ноги, вьющиеся каштановые волосы, искрящиеся, слегка подтрунивающие живые черные глаза и кривой, изящный, со скрытой горчинкой излом матовых коричневатых губ. От распластавшегося на камнях тела мне мерещится терпкий запах черного шоколада (82 % какао, без добавления сахара).
Как, когда я успела, приехав сюда исключительно за пратьяхарой, так крепко и глупо попасться?!
— Ты вырубил кустарник? — зачем-то спрашиваю я, хотя и так все понятно.
Парень (о боже, я до сих пор не знаю даже его имени!) улыбается и довольно откровенно оглядывает меня с головы до ног:
— Мне не хотелось, чтобы ты поцарапала свои красивые ноги.
Вероятно, я должна сейчас кинуться ему в объятья и слиться… в чем там положено сливаться? В долгожданном поцелуе? Вместо этого я холодно поджимаю губы и деловито отшвыриваю ногой крупные камни, расстеливая полотенце.
Я говорила, что море постоянно, ежедневно полностью меняет свой цвет? Сколько их вообще можно насчитать за этот месяц? Сейчас, когда время уже близится к четырем, оно застыло густой травянистой массой, сквозь которую проглядывают рыжие пятна песчаной мели да темные, бутылочного оттенка намеки на прячущиеся под водой рифы. Ветер незаметно стих, и на поверхности нет ни малейшего движения.
Скинув ненавистные джинсы, я присаживаюсь рядом с французом.
— Как прошел допрос? Старушка призналась?
— В убийстве соседа? Нет, разумеется. Этот следователь просто психопат, что так пристал к ней. А она вела себя максимально глупым образом, вызывая сплошное недоверие. Самое слабое место допроса пришлось на то, чтоб объяснить, что она делала за писательским бунгало.
— И что она там делала?
— Подсматривала в щелочку между занавесками. Но у нас ушел не один час, чтобы прийти к этому несложному выводу.
— Подсматривала?
— Ну да. Она только этим и занималась. Все за всеми вынюхивала и выслеживала. Вероятно, просто от старческой скуки. Но признаваться в этом она не собиралась. Она быстрее готова была сесть здесь в тюрьму.
— А я-то думала, почему за мной не пришли.
— Ну да. Все продлилось так долго, потом еще врач приехал из города… Тебя, наверное, вечером вызовут. Следователь намерен допрашивать абсолютно всех, даже у меня снял показания, хотя я и близко туда не подходил.
— И какая у него версия складывается?
— Да никакая. Ограбление. А писатель, видать, невовремя проснулся и попался под горячую руку. Лэптоп у него исчез из номера, часы, фотоаппарат, еще кое-что по мелочи. Думаю, это элементарное воровство, обычное дело в Тайланде, просто парню не повезло.
— Да уж. Ничего не скажешь. Не повезло… Как все шатко в этом мире, да? Вот так вот живешь себе, живешь… Пьешь виски на острове, казалось бы, в тиши, в захолустье. Никого не трогаешь, вообще из номера не выходишь, делаешь вид, что книжку пишешь. Какие все-таки судьбы странные, так все непредсказуемо… А смерть все время где-то рядом ходит. И думаешь вот, тебя сейчас или кого? А средство всегда найдется. Либо ты дорогу переходишь не там, либо там, но шофер был пьяный, либо трезвый, но гололед… Уехал вроде бы из цивилизации, дорог уж нету, машин, так другие напасти. Утонуть можно, головой если о рифы, или просто так, или грабитель за лэптопом… Как все нелогично, глупо как-то…
Француз улыбается:
— Ну в жизни всегда все нелогично и глупо. Хотя это смотря с чьей стороны посмотреть. Возможно, во всем есть своя железная логика, просто мы до поры до времени ее не понимаем…
Пару минут мы молчим.
— А ты и правда адвокат?
Кивок.
— А живешь в Париже?
Еще один кивок.
— А можно диковатый вопрос? Какого цвета у тебя машина?
Его брови слегка ползут вверх, но он отвечает:
— Красного.
— И, разумеется, спортивная модель?
— Откуда такая осведомленность?
Я откидываюсь на спину, и перед глазами пятнами света проплывает невероятная, слепящая голубизна неба, кое-где тронутая мелкой рябью облаков.
— А что ты здесь делаешь? — спрашиваю я.
— Тебя жду. Ну и купаюсь. — Рука обводит море неопределенным взмахом, словно говоря: «Какие тебе еще нужны объяснения?»
— Да нет. Вообще. Что ты на острове делаешь?
— Ну, вероятно, то же, что и все остальные.
— А что тут делают все остальные?
— Живут.
— Просто живут?
— Ну да. Раз уж пока есть такая возможность. Ты сама только что сказала, что в любой момент ее могут отнять. А что, ты что-то имеешь против такого выбора? Просто жить. Ну или можно выбрать не жить. Но обычно мы выбираем первое, второе само наступает, когда приходит время.
— Ну да, когда решает Бог… Мне уже недавно это говорили…
— А ты, никак, верующая?
— Нет вообще-то. Полная атеистка.
— А откуда такие странные вопросы?
На миг какое-то самое толстое облачко наплывает на огненный диск солнца и мир вокруг сереет. Камни становятся темнее, а море тут же меняет цвет с травяного на неясно-лиловый.
— Просто так… Я не… Просто я подумала, Ингрид сегодня сказала, почти в таком же контексте, что и ты. Ну про всех. Что мы все на острове по одной и той же причине, только причина у нее вышла другая.
— Надо же! Другая, чем «жить»? Ингрид страшная оригиналка!
— Да. По ее версии мы все тут прячемся.
Французу неожиданно становится скучно. Он зевает, лениво переворачивается на живот и тянется рукой к валяющейся пачке табака.
— Какого бреда люди себе только не напридумывают… И от чего же мы тут прячемся?
— Ну кто от чего. Бедолаге-писателю, вот, не пишется… вернее, не писалось. Ингрид — от старости, говорит, прячется. «Бывшая швейцарка» от одиночества своей Швейцарии, где она давно чужая. Другие — не знаю. Это же сходу не поймешь. На вид у всех все хорошо, а вот внутри? Ну как-то так, короче. Выходит, мы все тут прячемся от «реальной» жизни…
Француз тщательно заворачивает табак в бумажку, облизывает и склеивает ее края, делает глубокую затяжку и любуется на выпущенную в небо струю дыма.
— Дорогая Паола! — говорит он, наконец. — Не забивай себе голову глупыми мыслями и не поддавайся так легко внушению старческого маразма, у тебя морщины от всего этого пойдут! Да-да, не надо так смотреть, морщины будут, прямо поперек этого милого лба! Твоя Ингрид — сумасшедшая старушка. Ты хоть знаешь, что она на допросе вытворяла? Имитировала сердечный приступ, например… Реальность у всех одна — реальная, и от нее не спрячешься. Мы сами ее творим, и она там, где мы есть, и такая, какой мы ее сделали. А прятаться можно только от чего-то чужого, того, что не сделано тобой лично. На мой взгляд, ничего такого в нашей жизни и нет, мы сами всегда виноваты во всех своих бедах, и прятаться от себя… глупость какая-то. Не усложняй. Иди лучше и поцелуй меня вот сюда, — его палец дотрагивается до небритой щеки, указывая, куда именно ожидается поцелуй, глаза прищурены от солнца, губы чуть растянуты в улыбке, — в конце концов, заслужил я благодарность за полчаса потения на пекле, пока вырубал для тебя этот дебильный кустарник?
Туча уже отползла в сторону, и солнце опять сияет во всем своем южном великолепии. Я понимаю, что мне срочно надо бежать, куда угодно, и, не придумав ничего лучше, я отталкиваюсь рукой от камней и легко вскакиваю на ноги, отправляясь купаться. Француз улыбается и продолжает курить на берегу.
Я обрезала пластиковую бутылку и соорудила из нее нечто наподобие корпуса для свечи. Теперь я могу наслаждаться ее мягким ровным светом даже в ветреные вечера. Поджав ноги, я устроилась в своем излюбленном кресле на террасе и, как обычно, уставилась в смоляную темноту, накрывающую море. Свет везде выключен, кормежка ящериц уже закончена. Сегодня обошлось без особых приключений. Появившаяся в прошлый раз полосатая опять пыталась мешать Короткохвостой и Нахальной, но уже менее агрессивно, и ужин у всех прошел удачно. Думаю, раз мои подопечные смирились с ее пришествием, то и мне надо поступить так же: завтра я куплю третий фонарь и буду кормить их по отдельности, освещая каждой свой кружок света.
На небе этой ночью ни облачка, и над головой у меня рассыпаны мельчайшие бусины звезд, из которых одна выделяется необычной яркостью и размером. Я пришла к выводу, что это должно быть Венера. Порой меня ужасает моя серость, с равным успехом я не разбираюсь ни во флоре и фауне, ни в астрономии, ни в физике и химии вещей, ни в божественных кармических законах… Я не верю в Бога. У меня нет никаких знаний об этом мире, никаких ориентиров и нет даже точной и четкой морали. Каждое принятие какого бы то ни было решения для меня сплошная тревога и боль, полная неуверенность, будто я живу с завязанными глазами и вслепую двигаюсь по местности, населенной такими же слепцами, как и я. При этом мы все вооружены до зубов смертельно наточенным оружием и даже не считаем нужным зачехлять его, протискиваясь сквозь себе подобных. Ранения и смерти тут неизбежны. И главное, понять бы, зачем все это надо? Что мы тут все делаем? Почему так вооружены? Чего боимся и куда двигаемся? Какой вообще в этом смысл и почему нам его никто не приоткрывает в момент нашего рождения? Ну или позже? Ну хоть когда-нибудь, хотя бы перед принятием важнейших решений, которые нет-нет, но все-таки принимаются нами. Что это за глупая игра? — Цель неизвестна, выбор оружия за вами, жизнь каждому дается, в отличие от компьютерных игр, одна. Хотя буддисты считают, что не одна. Удобно вообще-то, но опять возникает проблема: если мы и так и так не помним ни своих предыдущих жизней, ни, соответственно, нашего там опыта, то никак не можем использовать приобретенные нами знания и выводы, проживая сейчас эту жизнь.
Индийские йоги полагают, что мы состоим из нескольких тел. Самые внешние из них, а именно, физическое (из костей и мышц) и энергетическое (из настроений и самочувствия) мы еще хоть как-то в состоянии ощущать. Но вот все остальные, более тонкие тела, отвечающие за мысли и чувства, и, что самое главное, за события, нам недоступны. И вся глупость заключается именно в том, что при перерождении именно первые два тела и не переходят в следующую жизнь, умирают, а те, что переходят, никак нами не используются, потому что не осознаются. И что тогда толку от этих перерождений, если весь нажитый опыт ты все равно использовать не сможешь?
Раньше вот был Бог. Потом, говорят, умер. А жаль, собственно, — с ним было бы удобнее. Хоть какие-то ориентиры были прописаны в анналах, хоть чему-то можно было верить. Сейчас, правда, существует уголовный кодекс. Но российские суды настолько продажны, что и статус кодекса померк. Да и что там вообще написано? Не убивай и не воруй? А про не предавай там ничего нет? Не думай плохо? Не прелюбодействуй, наконец? Еще пару веков назад все было по-другому, прелюбодеяние рассматривалось почти как преступление. В гражданском кодексе Франции и по сей день записано, что изменившая жена при разводе не получает никакой материальной компенсации от мужа. Интересно, кстати, почему тогда именно за французами прочно закрепилась репутация ловеласов? Кстати, забавно, но про изменившего мужа в законах ничего не сказано.
Мысли плавно соскальзывают на одну и ту же рельсу: скоро сюда приедет Стас, и общение с французом мне совершенно не нужно. Оно мешает, сбивает с толка и вообще явно нарушает мой покой, в поисках которого я сюда приехала. Весь сегодняшний вечер Арно (я, наконец-то, узнала его имя) не выходит у меня из головы. Какое-то наваждение, недоразумение, навязчивая идея, дурацкая и мучительная болезнь. Влюбленность, по сути, это такая же часть Майи, как и все остальное, созданная тобою параллельная реальность, материализовавшаяся в виде мысли, в свою очередь породившей чувство. Соответственно, раз мысль — продукт нашего мозга, то она обязана подчиняться нашему контролю! Или ты даешь ей волю, и тогда она расцветает, или — не даешь, не пускаешь ее к себе, приказываешь ей уйти, исчезнуть, умереть, и тогда она трется тихонько на пороге, пару раз вздыхает и оставляет тебя в покое. Потому что она не отдельна от тебя, она есть твое порождение, существует с твоего ведома и, главное, по твоему молчаливому, даже порой неосознанному, но все же — согласию. То есть является твоим добровольным выбором. А все остальное — юношеский гормональный бред, натужные оправдания слабых и безвольных.
Я решаю, что с этой минуты добровольно и сознательно выбрасываю Арно из головы. Окончательно и бесповоротно прерываю уже расцветающую от явной безнаказанности мысль. Отныне я холодна, рациональна и полностью владею своими чувствами, более того — они вообще меня не интересуют. Я считаю, что людям в принципе свойственно преувеличивать роль своих чувств и вызванных ими страстей. Это доходит до маразма, до душевной патологии. Даже обычные эмоции уже владеют нами почти бесконтрольно. Элементарные, бытовые — гнев, зависть, раздражение — порой охватывают нас подобно вирусным болезням, будто бы никак не зависящим от нашего решения и выбора, в то время как они порождены самими нами, и простейшее тому доказательство: разные люди испытывают различные реакции на один и тот же факт или событие, что говорит о полной необъективности наших оценок как таковых.
Задув свечу, я отправляюсь наверх. В окне спальни, как в раме, нарисовано небо. И в центре картины, будто в издевку принятому мной решению не думать об Арно, нахально усмехается яркий сосок Венеры. Надо бы все-таки у кого-нибудь выяснить, точно ли это она, а то вдруг это окажется какой-нибудь Марс в результате? Это бы сильно меняло дело.
14
Легко решить, да трудно сделать.
С утра, не успеваю я толком проснуться и ощутить еще прохладное присутствие неуверенных, полуспящих солнечных лучей, как меня пронзает жутким счастьем от предвкушения сегодняшнего дня, острым внезапным воспоминанием об Арно! Я чувствую себя, как в детстве, когда, едва открыв глаза, ты первым делом вспоминаешь что-то возбуждающее, например, «Сегодня мой день рождения!» и, лишенный терпения ждать хотя бы секунду, рывком выпрыгиваешь из кровати и бежишь босыми ногами, сам не зная куда, выскакиваешь в большую комнату, на кухню, по пояс высовываешься в окно, словно заявляя миру: «Вот он, я! Я тут! Это мой день!»
Сегодня я проснулась до будильника, стрелки на котором медленно, вяло, будто застывшие или вовсе сломавшиеся, приближаются к семи утра. Я полностью выспалась и готова к жизни. Будильник — вещь для несчастных людей, которых ничего хорошего не ждет. Меня же словно подменили! Я чувствую себя совершенно другим человеком — свежим, обновленным, полным сил — мне словно бы дали новую жизнь, и я, без малейшего сожаления и колебания отбрасываю жалкие обломки неудавшейся первой, и сразу, с головой бросаюсь во вторую, которая теперь (и это совершенно очевидно, просто не может быть по-другому!) точно у меня удастся.
Вчера, на галечном пляже, я, разумеется, его не поцеловала. Он опять, как и в день нашего знакомства у моста, проводил меня до дома, но на этот раз чуть задержался, осмотрелся по сторонам:
— Странный у тебя дом. И почему такое название, «Вилла Пратьяхара»?
— «Пратьяхара» значит покой и независимость от внешнего мира. А «Виллу»… придумал мой бойфрэнд.
Я замечаю, что будто бы поймана за чем-то постыдным и начинаю оправдываться. И еще мне чуть режет слух слово «бойфрэнд», — даже не само слово, а тот факт, что почему-то я не хочу называть Стаса мужем, хотя раньше всем именно так его и представляла.
Что-то неуловимое дрогнуло и изменилось в лице у Арно, но тон голоса остался ровный, как обычно, слегка дистанционный, равнодушный:
— Ах, бойфрэнд… Конечно.
— Что, конечно?
Его брови чуть насмешливо изогнулись вверх, лоб пересекли продольные морщинки, глаза наполнились неясной иронией:
— Нет. Ничего. Это я так… Он русский?
— Да. Но у него отличный английский, — прибавила я поспешно и опять поймала себя на том, что словно оправдываюсь. — Ты с ним познакомишься. Он скоро сюда приедет.
— Да, конечно, — опять кивнул француз. — Хотя не думаю… Кстати, ты знаешь, что неправильно понимаешь слово «пратьяхара»? Твое толкование очень вульгарно, поверхностно. Хотя… это все совершенно неважно… Прости.
Разговор после этого сник и, похвалив карпов в моем прудике, Арно отказался от кофе и засобирался уходить. Возникла слегка неловкая сценка: попрощавшись, он наклонился, подставляя щеку для поцелуя, но одновременно я сделала такое же движение, и наши щеки нелепо столкнулись, отчего меня в секунду кинуло в жар и, кажется, я покраснела. Каждый из нас тут же повернулся так, чтобы быстро чмокнуть в щеку другого, и в результате мы почти соприкоснулись губами. Это смутило обоих до того, что лоб Арно аж наморщился, а и без того изломанная линия губ скривилась как от лимона. Поспешно отодвинувшись, я отвернулась и зачем-то начала приглаживать волосы. Арно шагнул назад, споткнулся о стул, чертыхнулся, поймал его в последний момент за спинку и, водрузив на место, не оглядываясь, ушел. Сердце потом еще долго прыгало в моей груди, а сама я не могла найти себе места, то поднимаясь на второй этаж и зачем-то начиная разбирать валяющиеся в углу вещи, то бросая это занятие и спускаясь на террасу, собирая накопившиеся за день стаканы и чашки, чтобы их вымыть, открывая и снова закрывая кран на кухне, так в результате и оставив посуду грязной в мойке, и постоянно покусывая нижнюю губу до тех пор, пока, наконец, оттуда не выдавилась капля крови. Я люблю вкус крови, порезавшись, обычно я долго облизываю ранку, но вчера я почему-то испугалась. В густой капле, темнеющей на моей губе, мне почудилось какое-то дурное предзнаменование.
Какое ребячество! Не думать об Арно! Не думать вообще, убить мысль на корню, задавить в самом зародыше! — приказываю я себе все утро, но по моему лицу то и дело бесконтрольно размазывается улыбающаяся маска. Сегодня я не иду купаться, вместо этого я брожу кругами по террасе, застываю, положив руки на спинку чуть не опрокинутого им вчера стула, потом долго изучаю затушенный им окурок — потемневший за ночь, отсыревший в ракушке-пепельнице, согнутый его пальцами пополам. Неожиданно я понимаю, сколько здесь предметов, до которых он дотрагивался, останавливал на них свой взгляд; я жалею, что он не зашел в дом, возможно, там бы остался его запах… или воздух, вышедший из его легких, — им бы можно было сейчас дышать. Я отношу пепельницу на кухню, но не выкидываю его окурок в мусорное ведро, а ставлю полную ракушку на подоконник: скоро придут Май и Ну и выбросят его, а пока… пусть полежит, ну просто так, ведь никому не мешает.
Мне кажется, что я заболела. Со мной что-то не в порядке. У меня не мое тело. Мне одновременно и душно, и слишком много кислорода, что-то нарушено в биохимии моего организма, в животе у меня почти режущие спазмы и совершенно не хочется есть. Мне страшно подумать про еду. Наверное, отныне я буду питаться исключительно арбузным соком. А лучше — просто водой. Или воздухом. Воздух в тропиках по утрам влажный, густой, сочный; его хочется зачерпнуть стаканом и пить.
Мне не находится ни одного сносного занятия, при этом сидеть спокойно я не в состоянии, то и дело встаю, куда-то иду, переставляю вещи местами. В надежде отвлечься, прийти в себя, я беру книгу, но немедленно откладываю. Увлечься сейчас какой-либо чужой историей я не могу. Все истории — ненастоящие, выдуманные; даже те, что происходят вроде бы наяву, такие как вчерашнее нелепое убийство писателя. Единственная настоящая здесь история — это про то, как я не могу дышать, как расплывается в глупой улыбке мое лицо, а тело немеет и руки плохо слушаются. Вот я опрокинула стакан. Словно в замедленной съемке, он неспешно откатился к краю столика, замер там, покачнулся, будто бы раздумывая напоследок, и все-таки поддался суицидальному искушению, упал вниз, на плетеную циновку. Я не сделала ни малейшего движения, чтобы его остановить, не шевельнулась, а с любопытством научного исследователя наблюдала, упадет ли он. Он не разбился, но у меня нет ни радости, ни огорчения, я практически не опознаю его как знакомый предмет. Я словно вижу его впервые — стеклянный, граненный сосуд для питья — и меня поражает, насколько он идеален своей формой, размером, фактурой. Какое в нем совершенство и красота!
Мне сложно понять, сколько прошло времени, и лень подниматься в спальню за часами. Я не могу поверить, что все это произошло со мной! Я потрясена этим фактом! Какая странная и сильная болезнь! На минуту мне даже становится страшно, у меня перехватывает дыхание от осознания реальности происходящего! Мне кажется, что впервые в жизни у меня в голове нет ни одной мысли. От этого становится так легко, что я подозреваю, что если покрепче оттолкнусь ногами от земли, (ну ладно, возможно придется еще посильнее взмахнуть руками, движение ладоней вниз, одно, второе…) и я легко взлечу, пропарю над пляжем… Я почти чувствую это, я почти вижу внизу под собой песчаную полоску суши полукруглой формы, узкую линию склоненных пальм, мелких человечков, Лучано в накрахмаленном переднике, бронзовое тело Ингрид на шезлонге…
— Мэм! Вас зовут в полиция. В ресторане.
Я вздрагиваю и медленно, как при головокружении, поворачиваю голову на звук. На ступеньках, ведущих к моей террасе, застыла худенькая фигурка Тхана.
После короткого и совершенно не тронувшего меня допроса я остаюсь завтракать у Лучано. Хоть какое-то занятие. К тому же сегодня неожиданно мне хочется побыть с людьми. Они мне страшно симпатичны. И прогуливающийся вдали лысый немец в своей неизменной оранжевой майке, и, как обычно, грустящая в одиночестве своего уродства американка Барбара (хотя я уже не могу вспомнить, что именно находила в ней раньше уродливым, в данную минуту она кажется мне вполне симпатичной девушкой), и фантазерка и болтушка Ингрид.
— Мэм будет кокосовый сок?
— Нет, спасибо, Тхан, кофе покрепче. Двойной эспрессо, и принеси его на тот шезлонг, что рядом с Ингрид. Я пойду к ней позагораю. Ах да, и что-нибудь для нее тоже принеси. Я угощаю. Что она обычно пьет по утрам?
— Двойной эспрессо.
— С ее-то сердцем? Отчаянная женщина! Смельчага! Всем бы так!
Тхан смотрит на меня с удивлением, но я улыбаюсь ему лучезарнейшей из всех своих улыбок и бегом направляюсь к шведке. Подкравшись сзади, осторожно прикрываю ее глаза руками. Старушка приятно удивлена, даже растрогана вниманием.
— Кто там? — улыбается она.
Я наклоняюсь и неожиданно для самой себя целую ее в лоб. Кожа ее уже давно отстает от кости и висит сама по себе, подчиняясь силе земного притяжения. Когда-нибудь у меня на лбу будет такая же, и это нормально, это даже хорошо, значит мир еще не сошел окончательно с ума, есть какие-то законы, соблюдается заведенный природой порядок. Сегодня я согласна на все: на старость, на жару, на тучи, на тайскую стряпню Май и Ну, на глутамат или как там он правильно называется?..
— Милочка! Ты вся просто светишься! Что с тобой случилось? — Ингрид отстранилась и смотрит на меня в изумлении.
Я таинственно улыбаюсь. Я знаю тайну, которую не знает больше никто на этой планете! Меня распирает от счастья, от желания поделиться с кем-нибудь, мне даже кажется, что еще немного и у меня лопнут внутренности, но я нахожу в себе силы равнодушно пожать плечами.
— Ничего особенного. Просто хорошее утро.
Не снимая сарафана, я забираюсь в шезлонг и вытягиваю ноги — похудевшие на острове, будто бы высохшие от солнца, загорелые дочерна. Я рассматриваю их с удивлением, словно видя впервые, потом с удовольствием шевелю пальцами. Из-за того, что последние месяцы я не ношу закрытой обуви, они распрямились и теперь забавно торчат в стороны. Я давно не пытаюсь делать педикюра, так же как перестала пользоваться и косметикой — на острове все это не имеет никакого значения. Я знаю, что и так выгляжу лучше, чем когда бы то ни было.
Ингрид смотрит с подозрением. Не верит. И правильно делает.
— Ингрид, вы замечали ночами одну самую яркую звезду над нашим пляжем? Не знаете, как она называется?
— Самая яркая и крупная? Разумеется, знаю. Это Венера.
Улыбка опять размазывается у меня по лицу.
— Точно Венера?
— Абсолютно точно. А почему ты спрашиваешь?
— Да так. Ни почему…
Кофе нам приносит Лучано лично. Подкатывается вразвалку, обтянутое идеально белоснежной рубашкой брюхо очень по-итальянски — уютно, с аппетитом — нависает над ресторанным передником, на лбу посверкивают капельки пота.
— Привет, девчонки! Ну и парит сегодня! Опять будет жарища.
Мы послушно поднимаем глаза на небо. Сквозь еще не рассеявшуюся утреннюю дымку заспанным пятном проступает ослепляющий солнечный диск.
— Да уж. На пляже сегодня лучше не находиться, — кивает Ингрид. — Я, пожалуй, поеду на двенадцатичасовой лодке в город, посмотрю себе каких-нибудь сарафанов, сандалий. Паола, не хочешь составить мне компанию?
— Что? — Моя голова отключена полностью, мне кажется, что звуки доходят до меня глухо и с запозданием, как через вату. — Шопинг? Какая тоска! Мне совершенно ничего не надо. Ничего не хочется. У меня все есть, что нужно человеку для счастья!
Мои собеседники недоуменно переглядываются.
— Ингрид, вы не находите, что Паола сегодня необычно хорошо выглядит? — говорит Лучано.
— Да, да. Я тоже заметила. Ладно, пойду собираться.
— Приходите вовремя, двенадцатичасовая сегодня будет переполнена, все туристы съезжают из-за вчерашнего убийства. Отель останется почти пустой. Вы-то хоть вернетесь? — грустно спрашивает итальянец.
— Ну мне-то чего бояться? Вот если кого следующего и ограбят, так это Паолу. У нее полный дом всякой всячины. Ничего ей не нужно в магазинах, видите ли, все у нее уже есть, — подкалывает меня слегка обидевшаяся на мой отказ старушка.
Я возмущаюсь:
— Типун вам всем на язык!
— Тьфу-тьфу-тьфу… — морщится Лучано. — Хотя… одной там на скале, девушке, в этом скрипучем доме, ночью… мне было бы не по себе, если честно.
Весь день я не покидаю площадки у дома. Мной овладевает редкая самодостаточность. Утром я не преувеличивала, у меня действительно появилось чувство, что мне абсолютно ничего не надо. Ни купаться, ни есть… мне всего хватает с избытком, и это «все» сосредоточено где-то в середине живота и воспринимается как сгусток приятного тепла, будто бы там что-то поселилось. Интересно, не так ли женщины ощущают беременность? Все самое важное находится внутри тебя, и внешние вещи перестают играть роль в твоей жизни. Я не могу оторваться от наблюдения, прислушивания к своим ощущениям, я тотально поглощена этим занятием, все остальное лишь отвлекает.
Май и Ну сегодня затеяли генеральную уборку дома. В неожиданном порыве я раздарила им половину своего гардероба, и теперь они доказывали свои благодарность и рвение: поднимали шум и грохот, наливали воду в тазы, двигали мебель, энергично шуровали везде швабрами. Готовить я им запретила. К тому же у меня совершенно нет аппетита. Я пододвинула стол к самому краю каменистой площадки, и море плескалось прямо подо мной, нагнись — можно рассмотреть мелких рыбешек, беспокойными стайками снующих у прибрежных скал. Открыв наугад какую-то книгу, я уставилась поверх нее на горизонт и весь день предавалась сладкой эйфории.
Я даже не заметила, когда ушли Май и Ну. Интересно, они подходили прощаться? Могла я этого не запомнить? Сегодняшний день остался у меня в памяти эскизами несвязанных никакой хронологией картинок. Например, я отчетливо помню, как в разгаре уборки встала и аккуратно, на бумажку, подняла с плиток террасы огромного усатого жука: девицы как раз собирались его раздавить, над бедолагой уже занесена была злая, обутая в розовую босоножку нога одной из них. Помню, мне резанули глаза какие-то золотистые звездочки и разноцветные цветочки, нарисованные на ее ногтях (вероятно, на создание такого шедевра уходит не один час?). Помню подумалось, что вот до чего доводит полнейшая пустота в жизни. Но вот подходили ли девчонки прощаться после уборки, напрочь не отложилось в моей голове.
Еще мне сегодня запомнилось потрясшее меня явление: на сероватом, с кристалликами соли камне, что лежит в метре от моего стола, откуда-то вдруг появилась совершенно сказочная птица — васильково-голубая, только черные бусины глаз и клюв желтый. Наклонив голову, она с интересом рассматривала меня: то поклюет что-то невидимое, попрыгает мелкими шажками, то опять замрет и заглядывает, кажется, прямо мне в глаза. Никогда в жизни я не видела ничего подобного. Она явилась мне как ангел, как потустороннее видение, как мистическое воплощение птицы счастья; — встань, возьми ее в руку, загадай желание и оно твое. На миг мне даже померещилось, что сейчас она откроет клюв и скажет что-то важное, и не как-нибудь, а самым обычным человеческим голосом. Но от моего движения она испугалась, скакнула в сторону, нелепо взмахнула крыльями, оглянулась и улетела. Я вспомнила Метерлинка: голубая птица всегда улетает, ее не поймать, и счастье ведет себя так же. Его не ухватить за крылья, не насыпать соли ему на хвост, о нем даже не принято разговаривать, это считается наивным, постыдным и неприличным. Говорить надо о бизнесе, семье, делах, проявляя в беседах положенное нашему времени неверие в чудеса.
Мне стыдно за себя, но теперь я уже не уверена, что видела ее на самом деле. Ведь не бывает же птиц счастья? Если еще когда-нибудь в жизни мне захочется отвести свой взгляд от моря и я доберусь до интернета, надо бы это проверить. Хотя, впрочем, зачем? Даже если голубые птицы не встречаются в природе и все мне померещилось, то зачем лишать себя этой иллюзии?
На обед я выпила стакан арбузного сока.
На полдник — еще один.
К вечеру я сменила стул на гамак и долго наблюдала раскачивающиеся надо мной облака. В какой-то момент мне пришло в голову, что никогда раньше, за всю свою жизнь, я не лежала вот так — часами — и не рассматривала постоянно меняющуюся, нечеловечески глубокую и бездонную пропасть, окружающую нашу крошечную планету. Арно сегодня нигде не было видно, но меня это не расстроило. Чувство, которое жило внутри меня, совершенно ни в ком не нуждалось, казалось, оно питается само от себя.
Мягко, незаметно подкрались лиловые сумерки. Вокруг «Пиратского бара» затрепетали на ветру зажженные факелы. Мне казалось, что, несмотря на разделяющее нас пространство, я чувствовала их прогорклый смоляной запах, видела мягко вьющуюся, ускользающую в небо копоть от промасленных тряпок, намотанных на воткнутые в песок остовы. Прилив незаметно подобрался к берегу и мне мерещился тихий плеск теплой ночной воды, поднимавшейся все выше и выше, лизавшей, почти сексуально ласкавшей факельные древки и постепенно поглощавшей их своей зеркальной массой, магически сверкающей отблесками отражений живого первобытного пламени.
Где-то за домом протяжно надрывались лягушки. Огромные летучие мыши тенями проносились на фоне потемневших скал. Я продолжала лежать в гамаке до самой ночи, отвлекшись лишь на кормежку ящериц. (Разумеется, я так и забыла сегодня купить для Полосатой третий фонарь). Перед тем, как лечь спать, я пересчитала окурки в пепельнице. За весь день их накопилось всего четыре. Забавно, оказывается, я забывала сегодня даже курить.
Венера издевалась надо мной весь вечер, назойливо светя чуть розоватым светом. Около полуночи из-за горы вынырнул острый серп молодого месяца. Мне кажется, я живу на острове уже целую вечность и никогда отсюда никуда не уеду. Лучано когда-нибудь все-таки разорится, уедет Ингрид в конце сезона, лысый немец отправится обратно в Германию кормить коров, уродливая американка умрет от одиночества и тоски, и покосившийся крест на ее заброшенной могиле превратится в памятник человечеству, которое живет без любви, а я так и буду вечно лежать в гамаке и наблюдать, как солнце сменяет месяц, новолуние чередуется с полнолунием, а звезды каждый вечер покорно заступают на свою службу.
15
На рассвете я просыпаюсь от сильного чувства голода. Босыми ногами шлепаю вниз и рыщу по кухне. В доме хоть шаром покати, только в углу на полке завалялась засохшая булка, которая и во времена ее молодости была отнюдь не шедевром. Ведомая поиском пищи, я спускаюсь к людям. Ресторан Лучано по поводу отсутствия постояльцев оказывается еще закрытым. Ингрид не завтракает раньше десяти утра, а кроме нее в отеле никого больше не осталось. Недовольное бурчание в пустом желудке гонит меня в продовольственную лавку одноглазого тайца.
— Что мадам хотеть?
— Еды!
— Арбуз?
— Да нет же, господи! Еды какой-нибудь! Мяса, сыра, хлеба, картошки!
Мне кажется, что я будто вышла из долгой комы. Затарившись чипсами, булками, банками с джемом и ореховым маслом, консервированным тунцом, луком, морковкой, майонезом и соевым шоколадом (ничего более нормального на прилавках не находится), я уже в который раз оставляю заказ на свежую рыбу и рысцой прибегаю домой. В консервированный тунец можно натереть морковки и нашинковать лука, перемешать всю эту бурду с майонезом и выйдет довольно сносная намазка на безвкусные тайские булки. Джем я оставляю на обед, а ореховое масло жадно ем само по себе, ни с чем, прямо пальцем из банки.
Более или менее удовлетворенная, я выползаю покурить на террасу. Море застыло, ветра нет совсем и, судя по всему, нас опять ожидает жутчайшая жара. Я, как Наполеон перед битвой, стою на скале и, прикрыв глаза рукой от солнца, обозреваю свои владения. У «Пиратского бара» опять в одиночестве притулилась бедолага-Барбара, на шезлонгах у Лучано нет никого кроме позевывающей Ингрид, пляж абсолютно безлюден, даже куда-то подевались сегодня собаки. Арно нигде не видно. Я закрываю глаза и пытаюсь нащупать мысленным взором вчерашний теплый комок в животе, но что-то уже поменялось и к теплу прибавилось какое-то неприятное жжение. Или это так неспокойно ведут себя бутерброды с тунцом? Но нет, при более пристальном прислушивании выясняется, что вчерашняя эйфория куда-то подевалась тоже.
Искупавшись прямо со своих неудобных скал, я долго кормлю карпов, обрываю засохшие листья на своих растениях, попеременно беру в руки и рассеянно рассматриваю собранные мной и с любовью выложенные на каменной ограде красивые кораллы, разноцветные рифленые ракушки, куски розоватого, в мельчайших прожилках мрамора и отполированный морем плавник, но ни одно из этих милых занятий меня сегодня не радует. Проходит несколько часов, но Арно так нигде и не мелькает. Куда он мог, в конце концов, пропасть так внезапно? Уже второй день не появляется на пляже. Во мне нарастает чисто физическая потребность его присутствия. Жадность овладевает мной, мне уже мало созерцать в себе оставленный им теплый комок, мне хочется видеть его во плоти и крови, жутко хочется послушать, как бьется его сердце, дотронуться до него, узнать, какая у него кожа. Кожа — граница между внешним и внутренним, и если нельзя заглянуть ему в душу и узнать, что он сейчас думает, то ведь можно хотя бы случайно коснуться его руки? Ведь протягивал же он мне ее, когда мы перелезали через большой валун по дороге с пляжа! Почему я тогда не воспользовалась его предложением?!
Промаявшись до обеда, я не выдерживаю и собираюсь в поход на наш пляж. Вероятно, он ждет меня там. Замерев перед зеркалом, я ловлю себя на том, что с необычной для меня тщательность завязываю волосы в хвост, аккуратно вынимая и закручивая пальцами пару вьющихся прядей около ушей. Получается довольно мило. Накрасить губы я себе запрещаю, хотя очень хочется. Это выдаст меня с головой. Душиться я тоже не решаюсь. Единственное, что я себе разрешаю, это тончайшая нить золотого браслетика на запястье. Когда-то мне подарил его отец: милая безделушка, тонкая цепочка с висящим на ней кулоном в форме ключика. Помню, папа потрепал меня по щеке и пошутил, что это ключ к моему счастью, и с тех пор я почти всегда надеваю его, особенно если волнуюсь.
С колотящимся сердцем я пускаюсь в путь, который сегодня мне кажется необычно длинным. Перепрыгивая с камня на камень, я пытаюсь заставить себя не бежать. Вдруг Арно наблюдает за мной со стороны? Показывать, что я спешила к нему, не входит в мои планы. Что именно входит в мои планы, я сказать затрудняюсь. Пожалуй, что ничто. У меня нет никаких четких намерений, я просто должна его ненадолго увидеть.
Но Арно на пляже нет. Разочарованно, даже ошалело, я всматриваюсь в пустые камни. Может быть, он уехал? Я же так и не спросила у него, надолго ли он здесь! Я вообще ничего не спросила, я вела себя так глупо, говорила ни о чем, даже не чмокнула его в щеку. Мне становится почти физически плохо. Я пришла сюда зря. Все напрасно. Арно никогда больше не покажется. А все из-за того, что позавчера я сказала, что у меня есть бойфрэнд! — осеняет меня внезапно. Но при чем здесь мой бойфрэнд? Мы могли бы просто дружить? Я ведь ничего и не имела в виду другого! Просто встречаться на пляже, часами болтать ни о чем, он бы рассказал мне свою жизнь, а я ему свою. Мы бы могли сравнить их, примерить друг на друга, возможно, дополнить, как бы заполнить пробелы . Мне вдруг становится ясно, что Арно мне просто необходим, он знает что-то, что мне непременно надо узнать.
После обеда бутербродами я снова доплелась до лавки и купила блок сигарет и третий фонарь.
— К вам не заходил сегодня парень-француз, что живет где-то там на горе?
— Нет, мэм.
— А вы точно поняли, кого я имею в виду?
— Да, мэм. Но он не заходил.
— А вчера заходил?
— Нет. Кажется, нет.
После ужина у Лучано:
— Ингрид, вы не видели нашего француза?
— Это адвоката-то? Нет. А что?
— Ну так. Он исчез с самого дня вашего допроса. Я подумала, может, что-то случилось?
— Дорогая! С такими ничего не случается. Это с нами из-за них случается! А им хоть бы что. Кстати, я хотела извиниться за то, что так бестактно предположила, что тебя ограбят. Я не имела этого в виду. Не знаю, что на меня нашло тогда.
— Да? Не важно. Я не обиделась. К тому же вы были правы. Меня уже ограбили.
— Да ты что?! Ты шутишь?!
— И да, и нет.
— Ты с ума сошла! Я спать теперь не буду!
— Я тоже, по всей вероятности, сегодня не буду. Давайте вдвоем выть на луну?
Тем же вечером, лодочнику:
— Вы не увозили отсюда высокого парня с длинными волосами? Француза?
— Нет, мадам.
— А вы не могли этого забыть?
— Не мог, мадам. Со вчерашнего утра у меня не было ни одного пассажира. После убийства слухи поползли очень быстро, все, кто мог, немедленно уехали, а новые туристы не приезжают.
— Господи! Ну куда же он мог деться?
— Кто? Убийца?
— Да нет же! При чем тут убийца?
16
Полночи я просидела на подоконнике спальни. Природа будто грустит вместе со мной: поднялся сильный ветер, шум пальм напоминает ливень. Несколько раз я даже высовываю руку из окна и мне кажется, что сейчас на нее упадут крупные и благодатные капли. Но нет, ладонь остается сухой. Эти тропические «сухие сезоны» просто бич божий! Я очень хочу дождя. Несмазанные ставни и двери скрипят под порывами ветра и в доме становится жутковато. Некстати вспоминаются смерть писателя и зловещий прогноз Ингрид про ограбление. Внезапно мне начинает казаться, что я слышу какие-то шаги на первом этаже. Слуховая галлюцинация? Скорее всего — да, успокаиваю я себя, однако спуститься вниз и закрыть ставни на защелки мне все-таки страшно. Я продолжаю сидеть на подоконнике и испуганно прислушиваться. Минут через десять, когда я уже готова поверить в то, что единственный звук в моем доме, это грохот моего стремительно бьющегося сердца, где-то на кухне что-то звенит. Посудно, стеклянно. Меня пробирает дрожь. Если это вор, то лучше мне притвориться спящей. Думаю, писатель получил по голове исключительно из-за того, что проснулся. Ночами надо спать! Ночь — время не человеческое: просыпаются дикие животные, вылезают на охоту люди с черными душами, убийцы, воры, появляется всякая нечисть, вампиры, оборотни, вурдалаки.
На цыпочках подобравшись к кровати, я залезаю в нее и с головой накрываюсь простыней. Звуки сразу же прекращаются и ненадолго страх отпускает меня. Но вскоре передо мной встает новая проблема. Несмотря на ветер, в комнате висит жутчайшая духота, и под простыней становится нечем дышать. Я снова высовываюсь и прислушиваюсь. Время, казалось бы, остановилось, стрелки на часах не движутся, утро не наступит никогда! Меня охватывает паника. Даже Лучано сказал, что ему было бы не по себе ночевать в одиноко стоящем доме, вдали от людей. Что я тут одна делаю? Где, в конце концов, Стас? Завтра же надо будет добраться до цивилизации, проверить имэйл, узнать, когда он приедет! И какая глупость, что у меня весь дом стоит нараспашку! Надо непременно начать закрываться на ночь и задвигать шпингалеты на окнах!
Наутро я обнаруживаю на полу кухни разбитую чашку. Но тут же находится и вполне нормальное объяснение: створка окна открыта нараспашку, и вполне могла смахнуть чашку, стоявшую неподалеку. С полной уверенностью согласиться с этой теорией или отвергнуть ее я не могу, потому что точное местонахождение чашки, разумеется, я не помню, но в целом версия кажется мне достаточно удовлетворительной. Тем более что при осмотре дома ничего из хоть сколько-то ценных предметов оказывается не украдено: фотоаппарат, которым я так пока ни разу и не воспользовалась, валяется на обеденном столе, а мои кольца и браслетик с кулончиком-ключиком преспокойно лежат себе в ванной. Совершенно успокоенная этим, я прихожу к выводу, что всему виной ветер и мое расстроенное воображение, и выбрасываю мысли о ночном грабителе вон из головы.
К тому же мне и так есть о чем расстраиваться. Выйдя на террасу, я обвожу взглядом наш пляж и абсолютно нигде не вижу ни единого намека на Арно.
Все. Баста. Шторки схлопываются, ставни сегодняшнего утра закрываются, и я остаюсь в полумраке своего заброшенного дома. В буквальном смысле: забившись от слепящего света обратно в свою нору, я закрываю дверь и окна, и в прострации присаживаюсь на корточки в гостиной. Обхватываю колени руками и закрываю глаза. Жизнь остановилась. Я не пойду купаться, вообще не высунусь наружу, мне нечего делать в том мире. Мне кажется, меня предали. Причем, разумеется, не Арно. К нему у меня нет никаких претензий. Как вообще можно иметь претензии к кому-то, кто не захотел тебя? При всей своей примитивности, люди остаются сложными существами. Как этот парадокс вообще возможен — мне никогда не понять, но не считаться с этим фактом глупо. У француза есть какие-то неведомые мне причины и мотивы, по которым он приехал сюда и живет здесь так, как он живет. Мне ли судить его? Мне ли претендовать на то, что я знаю, что и как должно случаться в его жизни? Я ничего не могу требовать от окружающих людей. Никто не может. Думать обратное — жалко, нелепо, убого, эгоистично. Все, на что мы способны по отношению друг к другу — это совпадать или не совпадать . Вот так просто. Если нам повезет, то мы можем случайно, божественно, мистически, химически совпасть в каких-то своих волнах или ритмах, и тогда на нас сваливается нежданный подарок быть вместе. Откуда он приходит, каким законам подчиняется и куда потом исчезает — не нашего ума дело. Или можем не совпасть и не быть вместе. И все, жаловаться бессмысленно.
Но чувство несправедливости все равно разъедает меня. Зачем тогда Арно вообще попался на моем пути?! Зачем приехал именно на этот остров, спас меня на мосту, срезал кустарник?..
Вероятно от недосыпа у меня начались провалы в памяти. Сама не замечаю как, но я снова оказываюсь на маленьком галечном пляже. Не будем заниматься самообманом: конечно же я знала, что не найду здесь Арно. Я присаживаюсь на камни и долго наблюдаю за колонией мелких золотистых крабов. Насколько же животный мир кажется мне сейчас гуманнее человеческого! Как гармонично у них получается собирать что-то невидимое своими крошечными клешнями, не толкаясь, не воюя между собой, как натурально для них проживание в колониях. Человечество же, при всей своей сгруженности, так одиноко! Где-то на скалах притулилась сейчас Барбара; замерев от опустошенности, сижу на безлюдном пляжике я; старая, никому не нужная Ингрид зевает на шезлонгах Лучано; сам Лучано протирает брюки в тиши своей конторки; немец в оранжевой майке бродит вдоль моря и некому научить его плавать; а польско-еврейский писатель и вовсе сейчас один, в потусторонних мирах отчитывается за свое безнадежное спивание в разоряющемся островном отеле…
Этот мир так несовершенен, так одинок, что мне не хочется жить.
Вернувшись домой, я закрываюсь на все засовы. У двух ставней на первом этаже не оказывается щеколд, но я привязываю их нашедшейся на кухне бечевкой, после чего дом погружается в полумрак. Я отчетливо ощущаю безмолвное присутствие моей «Виллы Пратьяхары», холод и сырость ее стен, обступивших меня, спрятавших от внешнего мира. Прямо в одежде я забираюсь в кровать и накрываюсь с головой. Ветер все еще не стих и пальмы шелестят, как и ночью, напоминая мне дождь. Закрыть глаза и не шевелиться! Обняв себя за плечи, я повторяю молитву: пратьяхара, пратьяхара… — черт тебя подери, где же ты, пратьяхара?!
Кажется, за те дни, что я не выходила из дома, несколько раз приходили Май и Ну, но я им не открыла. Один раз мне померещился снаружи голос Ингрид, но и к ней я не стала спускаться. К чему обольщаться иллюзией компании себе подобных? Все вранье. Мы предоставлены каждый своей жизни, и никаких общих точек у нас нет.
Люди напоминают мне лайнеры, бесцельно бороздящие гладь холодных океанов. У каждого свои запасы пресной воды и вяленой рыбы, на каждом судне свои проблемы, своя цинга. Сближаясь, мы ничего не можем дать друг другу, кроме минутного тепла. Подойти, притереться бортами, возможно, обменяться новостями, прогнозами на предстоящие шторма или просто анекдотами, недолго погреться и продолжить свой путь. Мы все друг другу чужие, с годами это только прогрессирует. Но очень, очень изредка, почти случайно мы все-таки встречаем своих . Ведь придумано же зачем-то понятие родственных душ? Как мы узнаем друг друга? Как собаки узнают, на кого им лаять, а кому вилять хвостом? Интуитивно, необъясненным наукой «прямым знанием» мы иногда чувствуем, что нашли кого искали. Это видно по глазам, по не имеющему рационального объяснения влечению, по неожиданному желанию узнать об этом человеке больше, поговорить, дотронуться до него.
За эти дни, слившиеся для меня в единое пятно без света и времени, я многое поняла о себе. Образы возникали перед моим остекленевшим взглядом и пропадали, замещаясь на теории о человечестве в целом и безнадежных, по определению обреченных на провал людских отношениях. Я поняла, что всю жизнь собираю невероятно сложный puzzle: некоторые кусочки даны мне при рождении, другие пришлось выискивать, собирать тут и там по одному. Но в сложившейся картинке все еще зияют дыры, — «черные дыры», — и заполнить их нечем. Все имеющиеся в моем распоряжении фигурки уже лежат на местах. И тут ты встречаешь человека, который собирает в точности тот же паззл. И все, что вам надо, это соединить ваши картинки, потому что количество деталей ограничено, и вы уже собрали каждый свою часть. Осталось только обменяться ими, и фокус удастся. Вечно ускользающая картина мира вздохнет и, наконец, сложится.
Не знаю откуда, но я абсолютно уверена, что у Арно есть то, что я ищу, то, за чем я приехала на остров, то, чего требует от меня Зов. Нам смертельно необходимо поговорить. Не просто поговорить, не у Лучано за пастой, не валяясь на полуденной гальке, не сиюминутно, не поверхностно. Нет, нам надо поговорить по-настоящему , днями, сутками напролет. С печальной, обескураживающей меня очевидностью я прихожу к выводу, что в современном мире единственное место, где мужчина и женщина могут так поговорить, это постель. Не ради самой постели (хотя мне не хватит наглости утверждать, что я не хотела бы дотронуться до Арно), а ради того, что будет после . Я знаю, Арно нужен мне очень на коротко. Мы никогда не будем вместе. В простом человеческом смысле не будем парой, для этого что-то не так и в нем, и во мне, и в обстоятельствах нашей встречи. Все, что мы можем, это недолго погреться, потереться носами, поделиться фрагментами паззлов и разойтись. И именно так и будет правильно. И потом будет грустно, но это тоже правильно: в конце концов, должны же мы что-то платить?
Но я понимаю: то, что я хочу от Арно, предельно просто и невинно, и ровно настолько же несбыточно. Хотя бы из-за того, у меня есть Стас. Картинка не сложится, бесплатных даров судьбы не будет. Разговор в постели — тема несбыточная, при всей своей простоте — неосуществимая. Арно ушел, и у меня не будет ни сил, ни смелости догнать его, объяснить ему всю невинность того, что я хочу. Родственные души, любовь — это мысли, просто глупые мысли. Они подчиняются, обязаны подчиняться мозгу. Мне следует забыть француза, никакого другого выхода нет, иначе я сведу себя с ума, а ящерицы умрут с голода на неосвещенной крыше моего запертого изнутри дома. Меня найдут помешанной, безумной, хохочущей, я превращусь в местную достопримечательность. Вы не видели тот заброшенный дом на скале, где третий год живет сумасшедшая русская? Каких-то три доллара и мы вас отведем! Осторожно, смотрите под ноги, там везде острые камни. И захватите с собой бутерброды, сумасшедшая питается подачками, у нее нет никаких средств для существования. Она потеряла работу. У нее был муж, но он ее бросил. Оно и понятно, как с такой можно жить?
В следующий раз я выхожу из дома только когда у меня полностью заканчиваются сигареты. Интересно, что бы со мной было, не окажись я таким злостным курильщиком? Так и осталась бы лежать в кровати? Я представляю медленный, чуть заедающий лопастной вентилятор на потолке спальни, с которого я не сводила глаз, и отчетливо понимаю: дальше передо мной маячило лишь безумие.
Прикладывая руку к вновь распоясавшейся «черной дыре», я выползаю на площадку у дома и с удовольствием сплевываю что-то кислое, очередной побочный продукт Зова. Черная дыра — это отлично. Она меня даже радует. Значит, все нормально, и врач не наврал: чертова напасть действительно лечится только покоем и пратьяхарой. В моем сознании появляется хоть какая-то ясность. Все случившееся было просто уроком для дурочки, которая возомнила, что на свете бывают голубые птицы. Где они? Я придирчиво осматриваю камни. Никаких следов голубых птиц там, разумеется, нет. Надо же, примерещится ведь человеку! Счастье какое-то!
Надо идти к людям. Не важно, своим… не своим… К черту лирику!.. — к любым. Не родственным душам, не тереться носами, но хотя бы просто услышать человеческую речь, купить курева, консервированного тунца, хлеба, узнать, что у Лучано на ужин, не завезли ли в лавку свежей рыбы, не нашли ли убийцу писателя?
Ингрид, верная своему расписанию, лежит на шезлонге и лениво пролистывает какой-то журнал. Значит, еще нет двух часов, иначе бы я нашла ее в ресторане, поглощающей свой неизменный салат с креветками и крутонами. Во мне сразу же просыпается голод.
— Ингрид, пойдемте пообедаем прямо сейчас?
Вопросительный взгляд поверх очков:
— Обедать еще рано. И вообще, милочка, ты бы хоть сначала поздоровалась. И объяснила, где ты была? Все всполошились, ходили тебя искать, Лучано запаниковал… Думали уж, как бы не второе убийство. Эти кретины из тайской полиции убийцу-то так и не нашли. Я даже притащила свои старые кости к твоим скалам, но дом был заперт. А лодочник говорит, что не припомнит, чтобы ты уезжала.
— А я и не уезжала. Я была дома.
— Целую неделю?
— А что, прошла неделя?
— Почти. Тебя не было шесть дней.
— Я не заметила. Я болела.
— О господи! Чем? Что-то тропическое? Заразное?
— Нет, нет! Не тропическое. Болела… не знаю, не важно. Гриппом.
Я присаживаюсь на краешек шезлонга и распечатываю пачку сигарет. Умничка Тхан приносит мне крепкий кофе. Жить, как оказалось, можно и без Арно. Море золотится мелкими штрихами. Солнце отчаянно припекает. Ветра сегодня нет совсем.
— Ингрид, вы составите мне компанию завтра в город за покупками? Ну вы говорили, сарафаны там… сандалии?..
— Ты же утверждала, что у тебя все в жизни есть?
— Ну мало ли, что я утверждала. К тому же мне надо зайти в интернет.
— Интернет есть у Лучано в конторке. Попроси и он тебя пустит. Меня, по крайней мере, пускает.
— Да? Так просто? Я не знала. Надо сходить, а то я словно потерялась тут. Не знаете, кстати, какое сегодня число?
— Двадцать восьмое.
— А какого месяца?
— Дорогая!
Я искренне напрягаюсь, пытаясь вспомнить месяц.
— Января?
— Ну разумеется… Ты уверена, что уже выздоровела?
— Абсолютно.
После обеда, за которым, несмотря на жару, я уплела два салата, два куриных бургера и целую тарелку фруктов, я долго плаваю, потом расстеливаю тряпку прямо у моря и ложусь загорать. Прикрываю глаза и пытаюсь поймать жалкие остатки пратьяхары. Проверить коллекцию звуков? Тихий шелест листвы? — Здесь… Шуршание волн по песку? — Тут… Птицы в зарослях? — На месте… Перезвон приборов в ресторане? — Да… Отдаленный звук рыбацкого баркаса?
— Hi, there!
Я морщусь, отгоняю помешавший мне голос и прислушиваюсь опять: отдаленный звук рыбацкого баркаса?..
— Hello, beautiful!
Сердце начинает биться о ребра, кажется, ему катастрофически не хватает места. Прикрывшись от солнца ладонью, я чуть приоткрываю глаза. Так и есть: стоящий прямо надо мной француз чуть иронично щурится, а его светло-коричневые, шоколадные губы растянуты в приветственной улыбке.
— Привет, — говорю я нейтральным тоном и равнодушно закрываю глаза.
— Как дела? Тебя нигде не было видно…
— Нигде — это где?
— На нашем пляже. Я был там вчера.
— Только вчера?
— До этого я не мог…
— А чем ты был занят?
— Я… ну типа болел.
— Целую неделю?
— Да.
— Гриппом?
Я снова открываю глаза. Француз смотрит на меня внимательно. Слишком внимательно. И уже не улыбается.
— Да. Гриппом. А ты чем была вчера занята?
— Болела, — почти смеюсь я, хотя сердце все еще колотится в моей груди, а голос то и дело норовит задрожать. — Тоже гриппом. Наверное, от тебя заразилась в нашу последнюю встречу.
— Ах, вот как… А сегодня придешь?
— Сегодня не знаю… Мне надо в интернет. К Лучано. Лежу вот, настраиваюсь, ненавижу ничего ни у кого просить.
— У тебя нет своего интернета?
— Нет, разумеется. Откуда он возьмется на моей скале?
— Ну есть такая штука как Джи-Пи-Эр-Эс вообще-то… Мобилка же у тебя есть? Я таким образом выхожу онлайн из своей хижины.
— Джи-Пи… что?
Сойдя на безопасную техническую почву, я чуть успокаиваюсь и мой голос уже звучит вполне спокойно.
— Джи-Пи-Эр-Эс. Сложно объяснять. Если хочешь, можем пойти ко мне, и я тебе покажу.
— Сейчас?
— Ну почему бы и нет? Впрочем, как хочешь. Я просто предложил…
Арно лениво, по-кошачьи пожимает плечами. Меня опять накрывает желание немедленно до него дотронуться. Мне смертельно хочется, чтобы он присел на корточки, оказался ближе, хочется услышать, как он дышит. Я закрываю глаза и издаю мысленный стон. Господи, ну отведи, пожалуйста, от меня эту напасть! Я же уже выздоровела? Ну сколько можно?
Арно идет первый, показывая дорогу. Еле заметной тропкой мы удаляемся с пляжа. Дорога постепенно забирает в гору, и у меня сбивается дыхание. Из-за того, что много курила последние дни, или из-за того, что скоро мы останемся вдвоем, наедине, в его доме? На пружинящих загорелых ногах Арно при каждом шаге четко прорисовывается рельеф икр, отсвечивают золотистые выгоревшие волоски. Ноги Стаса, как и все остальное тело, почти лысые, икры узкие, слабые, несмотря на многочасовые усилия в фитнесс-клубах.
Минут через пять мы оказываемся довольно высоко. Сквозь деревья синевою отливает оставшееся внизу море, кажущееся отсюда глубоким и темным. Громче становится пение скрытых листвою птиц, прохладнее тенистый лесной воздух. Где-то рядом журчит вода, вероятно, маленький ручеек или даже водопадик.
— Еще долго? — спрашиваю я.
— Почти пришли.
Действительно, через минуту мы останавливаемся перед довольно своеобразной постройкой: сколоченной из грубых некрашеных досок хижиной. Фасад обращен к морю. Перекосившаяся фанерная дверь закрыта на железный засов с петлей, в которой болтается амбарный замок. Окна не застеклены, а просто затянуты москитной сеткой.
— Какое странное жилище! — вырывается у меня.
Шрам на виске Арно удивленно ползет вверх:
— Не нравится?
— Да нет. Просто… Кто это чудо здесь построил?
— Я.
— Сам?!
— Ну да. Я поселился надолго. К чему мне платить кому-то ренту? К тому же я принципиально не хотел жить вместе со всеми на пляже. Теснота. Взгляды. Сплетни. Я как раз от этого сюда и уехал.
— И давно ты тут живешь?
— Года два или около того.
— И долго еще собираешься?
Вместо ответа Арно равнодушно пожимает плечами.
— А что ты вообще тут делаешь?
— Ты уже спрашивала. Ничего. Живу. Мне надоел Париж. И вообще Европа. Проходи.
Отступив назад, Арно пропускает меня в темноватое помещение. Комната оказывается внутри больше, чем я предполагала. Около тридцати, может быть даже сорока квадратных метров, прямоугольная, во всех стенах, кроме задней, по два окна. Тоже без стекол. Кажется, всё, даже мебель, здесь сколочено руками хозяина. В центре — огромный деревянный стол, на котором раскиданы веревки и сети, вокруг — несколько косоногих табуретов. В углу у дальнего окна расположилась гигантская кровать, над ней на крюке висит москитная сетка, валяются сбитые в кучу простыни. Мятые, но чистые. Мне опять становится трудно дышать и я отвожу взгляд в сторону. Немногочисленная выцветшая одежда развешана на забитых прямо в стену гвоздях. На потолке такой же, как у меня, лопастной вентилятор. У задней стены небольшая кухонька: каменная разделочная поверхность, газовая плита на четыре конфорки, от нее шланг к баллону, нормальная эмалированная мойка, над ней кран, рядом притулился вполне хороший холодильник. Все чистое, протертое, в глаза бросаются аккуратно разложенные на столешнице ананасы и манго, рядом блестит блендер. Отшельник выжимает себе соки? Справа от кухоньки полуоткрытая дверь в ванную комнату. Я делаю несколько шагов в ее сторону и вижу, что стены душа выложены камнем, пол украшен галькой, на нем для удобства лежит сколоченная из реек подставка для ног, а вместо потолка — открытое небо. В целом простенький домишко выдержан в модном экологическом стиле, непонятно только, вышло ли это случайно, или француз старательно создавал всю эту «простоту».
Я растерянно останавливаюсь у стола и беру в руки сеть.
— Ты рыбачишь?
Ироничный кивок.
— С берега?
— С лодки.
— У тебя есть лодка?
Опять ироничный кивок.
— И тоже, скажешь, сам сколотил?
— Ну, не совсем. Мне помогли рыбаки.
Я возвращаю сеть на место, делаю круг по комнате, присаживаюсь на краешек кровати, тут же резко вскакиваю, будто обожженная его простынями, отхожу обратно к столу и, в конце концов, выбираю себе табурет.
— Хочешь выпить? — спрашивает Арно, отходя к кухне.
— А что у тебя есть?
— Что хочешь. Кофе, чай, свежевыжатый сок, вино.
— Вино?
— Ну да. У меня приличные запасы. Француз я, в конце концов, или не француз? — Мне мерещится в его тоне какая-то издевка, словно он слегка потешается над моим смятением. — А ты думала, чем я тут питаюсь? Росой?
Я соглашаюсь на сок. Нож быстро мелькает в его руках, потом на минуту комната погружается в электрический рев блендера, и вот передо мной уже стоит большой граненый стакан, доверху наполненный ледяной крошкой и пенящимся ананасовым соком. Арно втыкает в него коктейльную трубочку и присаживается на табурет напротив. Воздух в комнате наполнен застоявшейся жарой, сладко пахнут деревянные доски.
— А ты?
— Я не хочу. Я выпил воды.
— Из-под крана?
— У меня из-под крана родниковая вода, не волнуйся. Лично пробил себе скважину.
Я отхлебываю большой глоток сока.
— Как я посмотрю, ты тут неплохо устроился.
Арно улыбается:
— Я же сказал, я тут живу . А жить я люблю!
— Ты и готовишь сам?
Кивок:
— Пригласить тебя на ужин?
Я поспешно качаю головой. Все слишком нереально, вернее, реально , и от этого мне становится страшно.
— Нет… Лучше не надо… Я ужинаю у Лучано. Я… я обещала Ингрид. Я скоро уже пойду. Так как насчет интернета?
Встав на колени, Арно достает из-под кровати лэптоп, сдувает пыль, нажимает какие-то кнопочки на мобильном телефоне, и на моих глазах происходит абсолютно магическое действо: компьютер и телефон вступают в виртуальную связь, на экране мобильника загораются полоски, в боку компьютера мигает зеленая лампочка и… о чудо! Веб-браузер открывает страницу с почтой.
— Мне уйти? — спрашивает хозяин дома.
— А?.. Нет… Да… Да, если можно, я…
— Уже ушел.
На миг все мысли замещаются в моей голове волнением перед предстоящим контактом с уже забытым мной московским миром, с той жизнью, которая когда-то, еще недавно, была для меня такой важной, единственно возможной. Сколько прошло времени, что я не выходила на связь? Месяц? Чуть больше? А что, если что-то за это время случилось? Какое же сумасшествие с моей стороны было ни разу не проверить почты!
— В комнате можно курить, — доносится через окно. — Пепельница на полу у кровати.
Мой ящик оказывается битком забитым письмами. Куча спама, письмо от нимфы-риэлторши о возвращении залога за галерею, несколько писем от Жанны и одно от Ляли… Единственный, кто не написал ни разу, это Стас. Хотя, успокаиваю я себя, он же знает, насколько на нашем пляже сложно с интернетом. Наверное, его молчание можно расценить как знак того, что все хорошо. Ну или просто занят, очень в его стиле.
Стерев, не читая, спам и прочую ерунду, я открываю первое Жаннино письмо и, словно из глубокого подвала, меня обдает холодной и сырой волной прошлого.
From: "Жанна Стар" <jjstar@gmail.com>
To: "Полина Власова" <polvlas1973@bk.ru>
Sent: Wednesday, December 31, 2008 00:15
Subject: Эй, вы там, наверху?!!
Привет, дорогая! Ну и куда ты исчезла так резко? Здесь столько событий! Кризис бушует! Рафик почти разорился, жена орет благим матом… Рафик видеть ее не может, помирился со мной и опять говорит о разводе. Тока не знаю, нафиг он мне теперь? Кстати, я на нервах ТАК раздолбала тогда свою квартиру, что пришлось нанять ремонтников, чтоб плитку новую сделали и ну по мелочи там… Рафик заплатил. Адекватная бригада, с объекта нашего сняла, быстро сделали. Предложила их Стасу, чтоб вам доделали ремонт, а он вдруг разорался, чтоб я ему не звонила! И как ты с ним живешь??? Псих полный! Не сразу сказал мне, где ты. Какую-то тайну пытался устроить, типа «она уехала» и все… Мобильник твой выключен, я не знала, что думать вообще. Когда ты обратно? Давай приезжай, а то даже выпить не с кем.
Целую-обнимаю…
Жанна
Ой, забыла! С наступающим Новым Годом! Где справляешь? Я еле нашла куда приткнуться и наверняка там будет дикая тоска. А у тебя, наверное, тусовки до утра? Везет! Русских много? А погода как? Здесь — полный пипец…!!! Слава богу, события крутятся с такой скоростью, что не успеваешь расстраиваться! Хотя иногда все равно накрывает таким депрессняком…
Второе письмо датировано серединой января:
From: "Жанна Стар" <jjstar@gmail.com>
To: "Полина Власова" <polvlas1973@bk.ru>
Sent: Saturday, January 17, 2009 23:15
Subject: Куда ты делась-то???
Ну и чего ты не отвечаешь? Закрутилась там в пляжных тусовках? Когда тебя обратно ждать? У Стаса ничего узнать невозможно, весь нервный какой-то. То орет ни с того, ни с сего, то последнюю неделю уже и трубку не снимает. Автоответчик у него. Это он на меня за что-то обиделся или просто? Может, у него с бизнесом чего, вот и психует? У Рафика полная жопа! Почти его не вижу. И вообще, ты просто не представляешь, как меня все уже достало! Ну не будь сволочью, напиши мне что-нибудь, не молчи! Ж.
Послание от Ляли, также валяющееся в ящике уже полмесяца, как обычно, оказалось более сдержанным:
From: "Ляля" <gal-strukova@hotmail.com>
To: "Полина Власова" <polvlas1973@bk.ru>
Sent: Friday, January 16, 2009 14:17
Subject: Привет отдыхающим
Привет-привет!
Артем сказал, ты в Тайланде. Почему так внезапно уехала? Ничего не случилось? Как тебе там одной, бедненькой? Пиши мне, если тебе скучно, ты же знаешь, я всегда рада тебя выслушать.
У нас здесь — мрак. С этим кризисом, будь он неладен, Артем стал еще больше работать. Совсем поздно приходит, все переговоры какие-то у него, как обычно, в ресторанах. Пьет много, с клиентами же невозможно не пить. Раздраженный стал очень. С твоим Стасом поссорился из-за чего-то, что-то в их бизнесе не клеится. Деталей не знаю. У него чего не спросишь, сразу в крик.
Дети еще заболели под новый год. Эпидемия в школе. Меня заразили, еле ноги волочила целую неделю, колола антибиотики и имунностимуляторы. Приедешь, тоже проколи себе курс обязательно. Зима стоит противная, у всех грипп.
Какие еще новости? Сашеньку записала на балет. Андрюха занял второе место по детскому карате. Купила ту дубленку, про которую мечтала, приедешь — упадешь в обморок.
А как там ты? С тоски еще не вешаешься?
Надеюсь, ты уже скоро вернешься. Не могу представить, как там можно одной, без всех, в такой скуке и глуши сидеть!
ЛС
Дочитав все письма, я барабаню пальцами по столу и смотрю в сторону маленького окошка, за которым раздается легкое посвистывание Арно. Два мира (московский и тайский) не укладываются в моей голове, идут на конфликт. Два мира — это слишком много.
Склонившись над тазом, Арно увлечен стиркой. Почему-то мне приходит в голову, что в следующий раз я тоже, пожалуй, сама выстираю свои вещи вместо того, чтобы отдать их Май и Ну. Внезапно мне начинает очень хотеться заняться чем-нибудь простым, но осмысленным. Таким, где сразу виден результат. Развести в большом эмалированном тазу мыльную пену, замочить на час одежду, и потом с удовольствием тереть ее костяшками пальцев, (волосы сзади собраны в хвост, тыльная сторона ладони периодически убирает со лба выбившуюся прядь), и самое сладкое — это действительно с удовольствием напевать себе под нос какую-нибудь незамысловатую мелодию. Я ловлю себя на том, что улыбаюсь в предвкушении. Я хочу приступить немедленно. Я смотрю на часы в углу монитора: если я потороплюсь, то еще успею вернуться домой и осуществить свой план до того, как закат наложит на всех свое вето. Заодно (и очень кстати) это будет оправдывать мое нежелание отвечать Жанне и Ляле. Ну что я им могу написать? Не про ящериц же?
Единственное письмо, которое, я чувствую, я все-таки хочу, нет, — должна написать, это Стасу. Закурив, я медленно стучу пальцами по клавиатуре. На французских лэптопах все символы расположены в необычном порядке, и мне приходится охотиться почти за каждой буквой.
From: "Полина Власова" <polvlas1973@bk.ru>
To: "Стас" <info@trans-sfer.ru>
Sent: Wednesday, January 28, 2009 16:17
Subject: eto ya
Privet!
Strashno tronuta, chto ot tebya za tselyi mesyats ne bylo ni strochki. Ty tam kak? Kak business? Kogda priedesh? Tut u nas nedavno sluchilos ubiistvo na plyaje i mne nemnogo jutko ostavatsya odnoi v dome. Da i voobtse, ty je sobiralsya dodelat dela i priehat? Koroche, dai znat o svoih planah.
Tseluu
Tvoya P.
Два раза перечитав письмо, я стираю слово «Tvoya» и нажимаю на «send».
Арно тем временем уже достирал, и теперь мне видна его голая спина: распрямившись, он сильно и звонко встряхивает мокрые вещи и развешивает их на веревке между деревьями. До меня по-прежнему доносится его легкий свист.
Взяв сумку, я решительно выхожу из домика. Весь мой вид указывает на то, что дело сделано, большое спасибо, и теперь я ухожу.
— Как профло? Уфпефно? — интересуется Арно, развешивая мокрые джинсы, криво обрезанные по колено. В зубах зажата прищепка.
— Что? А-а-а… Да. Можно и так сказать.
Прищепка закрепляет джинсы на веревке, стирка завершена, мыльная вода из таза опрокидывается в кусты, и Арно удовлетворенно потягивается, широко разводя руки в стороны. На нем нет ничего кроме плавок. Судя по всему, он постирал все, что у него вообще было из одежды.
— Много было писем?
— Достаточно.
— Это потому, что ты тут недавно живешь. Мне вот давно уже никто не пишет, — говорит Арно, и я не слышу грусти в его голосе.
— Я думаю, мне тоже скоро писать не будут. Я никому не отвечаю.
— Ну бойфренду-то своему ты наверняка написала?
— Зато он мне не написал ни строчки. Слушай, я пойду. У меня хозяйственные планы еще на сегодня. Спасибо за интернет.
— Нет проблем. Рад был помочь. Тебя проводить?
Я отрицательно качаю головой и спускаюсь по едва видной тропке в сторону пляжа. Мелкие камушки и комки сухой глины опасно перекатываются у меня под ногами. Приторный запах тропических цветов, растущих прямо из лысых коричневых стволов, щекочет мне нос. Вслед мне раздается тихое (равнодушное?) насвистывание.
Закат был милостив. Неспешно, как бы давая мне дополнительное время, он заглядывал ко мне на террасу своим фиолетовым глазом, вежливо стучался, покашливал и переминался с ноги на ногу до тех пор, пока я (вспотевшая, раскрасневшаяся и невероятно довольная собой) не вывернула таз, обрушив мыльную пену прямо в море. Пена еще долго не желала уходить, облепив скалы, отказываясь смешиваться с морской водой и замерев на поверхности розовыми пузырями. Ветра сегодня не было совсем, густой воздух повис над еще теплыми скалами, и я разложила мокрые вещи прямо на них. Часа через два они уже были сухие.
Нормальное, размеренное течение моей островной жизни, почти рухнувшее под так неожиданно оглушившей меня влюбленностью, казалось почти восстановленным. В животе еще погуливал Зов, но в целом было спокойно и хорошо. Я не рискнула кормить свою «черную дыру» ни Лучановскими чесночными креветками под соусом из болтовни Ингрид, ни острым жареным рисом вернувшихся Май и Ну, удовлетворившись лишь тарелкой фруктов и чашкой ромашкового чая. Получилось как раз то, что надо.
Ящерки, перед которыми я чувствовала вину за вынужденную недельную голодовку, ни взглядом, ни чем иным не дали мне понять своей обиды, и я особенно тщательно и долго кормила их, выхватывая фонарями круги света на крыше. Кое-где я заметила сероватые полоски паутины. Надо бы завтра продолжить успокаивающие хозяйственные тенденции, раздобыть где-нибудь метлу или ветвь какого-нибудь растения попушистее и смести ее с углов.
Я была крайне удовлетворена тем, что с Арно можно просто изредка общаться. Периодически заглядывать к нему проверить почту, не скрываясь появляться на нашем пляжике, вести светские беседы ни о чем, или без всякой боли по несколько дней вообще не видеться. Похоже, такие отношения — самое разумное, что можно сделать, и француза они тоже полностью устраивают. В конце концов, затевать на таком малом пространстве, как наш пляж, сложные манипуляции с тем, чтобы избегать друг друга, было бы всем очень утомительно. Особенно учитывая, что ни один из нас не собирается отсюда никуда уезжать.
17
Следующие несколько дней проходят размеренно и спокойно. Пойти на наш с Арно маленький пляжик я пока так и не осмеливаюсь и купаюсь с камней у дома. Ко всему можно приноровиться, и теперь эти купания обходятся мне всего в несколько незначительных царапин. С назойливыми тайскими девчонками я договорилась, чтобы они приходили лишь два раза в неделю: Бой сопровождает их, приносит баллон воды и арбуз, Май и Ну запрещено готовить, и они вяло метут вениками по и без того чистой террасе. Стиркой я теперь занимаюсь сама, пыль в доме почему-то вообще не скапливается (или, возможно, просто выдувается ветрами?), а питаюсь я в основном фруктами. Пару раз я заходила к Лучано в ресторан, специально в неурочное время: Ингрид лишь морщилась, поглядывая на часы. Как и многие старушки, она принимает пищу только в строго отведенное время и при известной моей ловкости ни разу не смогла составить мне компании. Болтать с ней мне последние дни неохота. Тем более, что после того, как я опять передумала ехать за покупками в город, она слегка обижена, и мне пришлось бы извиняться и успокаивать ее.
Большую часть дня я провожу либо в гамаке, часами наблюдая облака, либо за хозяйственными делами. Ящерицы от моего затворничества в полном восторге: кормежка проходит дольше обычного и ровно по расписанию. Все эти дни я хорошо сплю. Ну или почти хорошо. Я завела привычку закрывать ставни в спальне, и злосчастная Венера теперь не может достать меня. Продолжаются ли ночами так напугавшие меня шорохи в доме, я не знаю. Я перестала к ним прислушиваться. Как мне удалось выяснить в ресторане, вора-убийцу так и не нашли, но по версии следствия, он скорее всего уже покинул наш пляж.
Пару раз мне вспоминались письма, полученные от Жанны и Ляли. Мне стыдно, но я ни капли не скучаю по ним, более того — испытываю колоссальное облегчение от того, что нахожусь вне зоны досягаемости. Протянутые ими нити я без малейшего колебания оборвала: я не получала их писем, на пляже все-таки нет официального интернета, да и вообще мало ли? Я могу быть занята, больна… тропической болезнью. «Как ты там одна тоскуешь, бедненькая?» — Тоскую. Одна. Бедненькая. Пусть лучше так. Шаткий мой баланс и покой мне хочется удержать во что бы то ни стало. Холодные московские щупальца, принадлежащие не им, но безмолвно стоящим за ними городом, до меня почти не достали. Почему «почти»? Потому что даже после такой мелочи, как прочтение пары имэйлов, я проснулась на днях в холодном поту. Мне снились таджики. Шумные, они толпой ввалились в мою московскую квартиру и ринулись затаптывать полы, мыть руки, закурили самокрутки, а один, самый плешивый и самый главный из них, преспокойно затушил окурок о стену. «Вся-равна таперь обою буде клеить», пояснил он, и, схватившись за голову, я выбежала в коридор. Вернувшись же, я обнаружила, что по всем стенам расцветают жуткие багровые цветы. «Это не мои обои!», закричала я. «А чья?», не соглашались таджики. «Не мои!» Но таджики щерились отсутствующими зубами и продолжали кивать: «Твоя, твоя, твоя…»
В ужасе распахнув глаза, я еще долго лежала, глядя в темноту перед собой, слушая, как тропическая ночь успокаивает меня цикадами и плеском прибоя и недоумевая: как я вообще когда-нибудь вернусь в ту жизнь?
Черная дыра отзывчива до умиления. Все эти дни она ведет себя спокойно, Зов опять прошел. Я стараюсь не думать о нем, так же, как не думаю ни о Москве, ни о гадалке, ни о том, что дальше буду делать со своей жизнью. Ладони сложены над головой, как в детстве, меня нельзя осалить, я в домике, в самом буквальном смысле слова, и называется он «Вилла Пратьяхара». Арно пару раз мелькал где-то вдали, но я не покидала своей террасы. Один раз я видела его на закате, он плыл в своей лодке, мотор мягко урчал, его звуки почти не доносились до меня, их относило в другую сторону.
На третий или четвертый день (хороший признак — я опять запуталась в календаре) я решаюсь, наконец, на вылазку на наш галечный пляж.
Кустарник так и не успел отрасти, так что расщелину выше моста я преодолеваю без малейшего труда. Спускаюсь, сердце на миг перестает биться, но никакого Арно на пляже не оказывается. Оно и к лучшему. Хотя, чего скрывать, я ловлю себя на том, что разочарована. В душе-то мне, конечно бы, хотелось, чтобы француз ждал меня здесь всегда, чтобы он был, словно вырезанный из картона, не имеющий никакой своей жизни, приклеенный к скалам и оживающий лишь при моем появлении.
Подперев спиной скалу, я устраиваюсь в ее тени, для чего приходится поджать ноги: в полдень тень безжалостно коротка. Я захватила с собой блокнот, и рука сама что-то рисует на его страницах, в то время как глаза мои почти не опускаются на бумагу, бродя по горизонту. Солнце палит самым нещадным образом. Чаек в Тайланде, по всей видимости, нет, но какая-то крупная птица парит высоко в слепящей голубизне неба. Я решаю искупаться.
Плаваю я долго. Подводное течение постепенно относит меня за скалу, и внезапно я замечаю на ней небольшие отверстия пещер. Перед одной из них на камнях валяются забытые кем-то тряпки. Надо же, значит туда можно как-то добраться с суши? Надо бы разведать путь, это будет похоже на маленькое путешествие, а возможно я найду там нашего вора? Или лэптоп писателя? Ингрид будет в восторге.
К своему пляжу я подплываю на спине, руки расслаблены и вытянуты вдоль тела, ноги делают лягушачьи движения, проталкивая тело вперед.
— Не ударься головой о камень, ты плывешь прямо на него, — раздается с берега слегка грассирующий голос.
Я прикрываю глаза, и пресловутый комок в животе немедленно оживает. Вот дьявол, словно неведомая тропическая инфекция в спящем состоянии, он, оказывается, все эти дни там так и жил! Я выбираюсь на берег. Ноги после длительного купания еле слушаются, оступаясь о гальку, руки балансируют в воздухе, по лицу стекают струи воды. Самоуверенный француз занял мою тень, сложил ноги в позе лотоса, облокотился спиной о камни и преспокойно листает мой блокнот.
— Ты рисуешь? Я не знал.
Чтобы скрыть охватившее меня смущение я делаю вид, что мне в ухо забилась вода и прыгаю на одной ноге. Арно кидает мне полотенце и чуть подвигается, освобождая мне место в тени. Я присаживаюсь и мы оказываемся настолько близко — разве что не касаемся плечами, — что у меня внезапно пропадает голос, и я вынуждена встать и перелечь подальше, на палящее солнце.
— Да нет. Не рисую. Это так, остаточные явления, эскизы прошлой жизни.
— Эскизы чего? — не понимает француз.
— Ну, прошлой жизни. Когда-то я была дизайнером. Давно. Сама не знаю, почему сегодня вдруг начала рисовать. Это наброски светильников. — Перевернувшись на живот, я подтягиваю к себе блокнот. — Видишь, это типа такие странные лампы. Белое — это фарфоровые абажуры, черные змеи — это цепи, навроде готических, замковых. Контраст белого и черного, чистого и порочного, невесомости и тяжести, дня и ночи, инь и янь…
— Женского и мужского?.. — продолжает перечень Арно.
Я поворачиваю голову, проверяя, не издевается ли он, но глаза его устремлены на блокнотную страницу и совершенно серьезны. Он внимательно разглядывает мою штриховку.
— Ну если хочешь, то да, женского и мужского. Хотя это очень французский подход.
Арно удивленно поднимает брови.
— А какой тут будет русский подход?
— А русский подход — это такой, что всё это вообще никому не нужно. Инь-янь, женское-мужское… Я уже лет семь как ничего не дизайню. Моя галерея превратилась в магазин, продаю итальянские шедевры, растиражированные массовой промышленностью. Вернее, продавала до недавних пор. Теперь и это никому не нужно.
— Действительно не французский подход… Обычно люди начинают с магазинов, и постепенно превращают их в галереи, а не наоборот. И потом, что значит, никому не нужно? А тебе? Ты разве никто?
— Я — никто. Денег на раскрутку не хватило. Только на аренду помещения. У меня нет дизайнерского имени.
— Зато есть дизайн.
— Дизайн без имени — не дизайн.
— Что за глупости! Люди покупают глазами.
— Ну, может, французы и глазами… А русские — ушами. Страх опозориться у нас невероятно велик, а, поскольку никто ни в чем сам не понимает, то покупают лишь то, что им говорят. Им надо имя сказать сначала. А без него я только пополняю собой ряды творческих неудачников. Ну, по крайней мере, Стас так считает. А без его денег вся затея вообще бы умерла еще давно.
— Стас — это что за осел вообще такой?
— Мой бойфрэнд.
— Упс, извини.
Со скал прямо к нашим ногам скатываются несколько мелких камушков, мы поднимаем головы, но нависающий над нами валун пуст.
— Мне показалось, что там кто-то за нами подсматривал, — говорю я. — Ты никого не заметил?
— Нет. Наверное, тебе показалось.
Повисает молчание. Арно задумчиво откусывает черный ноготь. Я закуриваю. Солнце замирает над горой, раздумывая, не пора ли покинуть наше восточное побережье, скатиться на другую сторону, туда, где его ожидает ежевечернее шоу заката.
— Ты его любишь? — спрашивает, наконец, Арно.
Я пытаюсь выпустить дым кольцами, но как обычно у меня ничего не получается. Я не умею ни щелкать пальцами, ни красиво выпускать дым, ни бросать прыгающие по воде камушки… И дизайнерского имени у меня тоже нет.
— Мы уже семь лет вместе.
Француз смотрит недоуменно.
— Это не ответ.
— Почему не ответ? Ответ. Учитывая, что, как известно, любовь живет три года…
— Это с какой-такой радости?
— Ты что, книжки не читаешь? Даже ваши, французские? Эх, ты!
— Почему эх ты? Ты знаешь, что читать вообще вредно?
— Это как?
— А так. Читать полезно только в юности, когда все источники информации хороши. Ты как бы собираешь ее отовсюду по кусочкам, они будут позже переработаны. Чем больше читаешь — тем больше кусочков скапливается, своего-то опыта пока взять неоткуда. Ну, конечно, если не война или еще что-то такое попадет на твое детство. Детство вообще должно быть у человека плохим, это самая творческая ситуация для развития. Если в тебе что-то было, то оно проявится, просто для этого нужен стимулятор, лакмусовая бумажка. Но в наше спокойное время такое редко теперь бывает. По крайней мере, в Европе ничего особенного уже давно не происходит, так, по-мелочи: школьные неудачи какие-нибудь, в лучшем случае развод родителей или отец-алкоголик. Современным детям неоткуда брать материал для раздумий, поэтому все книги подряд годятся, даже плохие. Из каждой можно что-то взять. Кстати, на плохих примерах учиться, может, даже и полезнее, чем на хороших. Но это не важно. А вот после тридцати читать уже вредно, отвлекает от процесса переработки информации, который происходит внутри тебя. Ну должен, по крайней мере, уже полным ходом происходить… И даже не просто происходить, а уже начинать приводить к первым серьезным выводам. Раньше люди вообще после тридцати умирать начинали, в сорок-пятьдесят, считалось, что старик. Бывает, конечно, что и в зрелом возрасте упрешься лбом в какую-то проблему и нет у тебя нужного кусочка в запасах, — тогда можно опять почитать что-то, но уже целенаправленно. Не все подряд, не придурка Бегбедера уж во всяком случае. И не слишком увлекаться, чтение — процесс пассивный, когда входит в тебя , а надо отдавать предпочтение активным процессам, когда уже из тебя что-то выходит. Не важно, лампы, мысли, книги или просто чувства какие-то. Так что я считаю, что ты не ответила. Ты все-таки его любишь?
— Ну тогда считай, что да.
— Странная ты.
— У нас вообще на тему любви в Москве все странные. Смотрел «Секс в большом городе»?
— А ты заметила, что ты от себя вообще ничего не говоришь? Только от лица книг, или теперь вот сериалов.
— Не придирайся. Я имела в виду, что любовь — это больное место крупных городов. Все слишком красивые-богатые-умные-переобразованные, томные, ленивые, пресыщенные, все уже вывернуто на изнанку, сложно вот просто взять и иметь нормальные отношения, любовь какую-то… А ты хочешь сказать, что я тебе Америку открываю и ты ничего такого не знал? Москва в этом смысле ничем не отличается от других больших и модных городов. Скажешь, в Париже такого нет?
— Не думаю. По-моему, у нас все нормально.
— Ну не знаю… Может, вы недостаточно большой город?
— Скорее, недостаточно модный. Не Москва во всяком случае.
Взгляд у Арно становится неожиданно холодным. Что он от меня вообще хочет? В чем меня упрекает? В том, что живу, недостаточно любя? В том, что перестала делать свои светильники? Да кто он такой, к черту, чтобы меня обвинять?
В глубине меня поднимается злость:
— Жизнь складывается так, как складывается. Есть такой фактор утряски, он все одно к другому притирает и получается то, что получается.
Француз по-хамски зевает, потом лениво поднимается, отряхивает ладони и вешает линялую котомку через плечо, не глядя на меня и явно собираясь домой. Я в бешенстве отворачиваюсь к морю и принимаюсь кидать в него плоские камушки. Они, разумеется, не прыгают, а сразу тонут, и это раздражает сейчас больше всего. По шуршанию гальки под ногами Арно я понимаю, что он уходит. Я не оборачиваюсь, хотя слышу, что, сделав несколько шагов, он останавливается.
— Вот-вот, — говорит он довольно холодно. — И потом в старости твоя шведская приятельница искренне считает, что от всего этого можно спрятаться. Жизнь никак не «складывается», дорогая Паола, мы ее сами складываем. И мне жаль всех, кто боится это понимать… А твои эскизы очень талантливы. Уверен, что в Париже твоя галерея процветала бы. Особенно… особенно если бы ты поменьше слушала всяких идиотов и побольше доверяла своему собственному чувству. Извини. Мне пора вынимать сети.
Весь остаток дня меня мучает вопрос, поссорились ли мы? Мир опять теряет для меня весь смысл, море кажется мне обычной лужей теплой воды, небо — просто небом, ничего особенного, его вечная голубизна может раздражать почище любой московской серости, безмозглые ящерицы — обузой, а вся моя «пратьяхара» на этом дурацком острове — глупой и утопической затеей, трусливой отсрочкой момента, когда мне придется, наконец, принимать какое-то решение про свою дальнейшую жизнь. Мысль, что мы умудрились поссориться, что общение между нами — пусть редкое, пусть лишь дружеское, пляжно-скучающее — прекратилось, сводит меня с ума.
Выждав ровно столько, сколько было необходимо, чтобы высокомерный француз, осмелившийся читать мне лекции про любовь, ушел достаточно далеко, я покинула пляж и вернулась домой. Сумерки накрыли остров, я зажгла свет, сделала себе чаю и принялась перелистывать блокнот с эскизами. И каково же было мое удивление, когда выяснилось, что незаметно для себя, я уже изрисовала его почти наполовину. Когда это началось? Судя по тому, что некоторые страницы забрызганы водой, что где-то остался коричневый ободок от чашки, а из прошитого корешка высыпаются заблудившиеся пляжные песчинки, — выходит, что бессознательно, не отдавая себе в этом отчета, я набрасываю эскизы уже довольно давно. Словно впервые увидев созданное собственными руками, я наклоняю блокнот в сторону лампы и изучаю привлекший мое внимание рисунок подсвечника. Странно, раньше я никогда не придумывала подсвечников. На меня смотрит полая голова птицы, похожая на ту, виденную мной недавно — птицу счастья. Прорези глаз оставлены пустыми, через них свет от свечи будет проникать наружу. Мысли уносятся прочь и крутятся вокруг технической стороны вопроса: гончарным кругом тут не обойтись, контрформу придется делать из папье-маше или гипса вручную… Форму надо бы сделать не из двух, а из четырех частей, чтобы лучше снималась обожженная глина. Конечно же, тончайшая, с добавлением костей животных, — такая есть только в Китае. Понадобится глазурь. Я вижу ее только в синем цвете. И немного едкого, цыплячье-желтого, для клюва. Наносить надо бы кисточкой… нет, лучше распылителем, а кисточкой прорисовать лишь контуры глазниц. Для пущей загадочности можно заложить в глину продолговатые рисинки, китайцы так и делали, это отличало их фарфор от подделок, — при обжиге рис сгорает, а на его месте образуются воздушные полости. Подсвеченные изнутри, они непременно дадут интересный эффект… А можно делать скульптурные портреты, создать серию странноватых птиц или мистических животных… Прорезать стеком только глаза или рты, на остальной поверхности лишь играть толщиной фарфора и текстурой…
Увлекшись, мне даже удается забыть на время об Арно. Его присутствие на острове оставляет во мне следы, похожие на выгоревшие в глине рисинки — пустая полость, вакуум, не заполненный ничем, но видный при этом на просвет, по сути — самое ценное, что есть в традиционных китайских вазах. Мне не верится, что мы могли так глупо поссориться. Наступивший вечер кажется мне слишком длинным, темным и пустым. Во всем мерещится зловещая символика, даже в том, что мой любимый китайский фарфор замешан на костях, надеюсь, что не на человеческих, хотя, впрочем, в этом не может быть никакой уверенности.
Убедив себя в полной необходимости проверить, не пришел ли ответ от Стаса, я иду в ванную, расчесываю волосы, потом надеваю свой золотой браслетик с ключиком, подношу к мочкам сережки, но все-таки откладываю их в сторону. Вместо этого я брызгаю в воздух из флакона немного духов и быстро пробегаю через возникшее облако. На мне остается лишь слабый намек на запах, почти неуловимый аромат миндаля и сирени, почувствовать который можно только если подойти вплотную, закопаться лицом в мои волосы, дотронуться кожей до кожи. Если вдруг это случится — то уже будет не до мыслей, зачем я надушилась, а если (как я искренне уверена) этого не произойдет, то ничто не выдаст моих тщательных сборов.
Фонарь выхватывает из темноты еле заметную тропинку. Вскоре сквозь стволы деревьев начинают просвечивать освещенные окна Арно. Еще не поздно повернуть обратно, я закусываю губу, делаю глубокий вдох и выдох и все-таки подхожу к хижине. Все, отступать поздно! К тому же, без глупостей, мне действительно уже пора получить новости от Стаса.
Арно склонился над столом и что-то мастерит с сетями. При виде меня лицо его нисколько не меняется, будто бы он ждал моего прихода.
— Привет! — выдавливаю я бодро. — Вот шла мимо, гуляла, и решила, что ничего, если я загляну к тебе проверить почту?
Кивок. Лучезарная улыбка. Словно речь моя звучит вполне убедительно: подумаешь? Гулял человек, ночью на темном склоне, в джунглях… Бывает…
— Конечно. Только стол занят сетью. Она порвалась. Подожди минуту и я устрою тебя на кровати.
Мои глаза шарят по комнате, по лицу Арно, потом по сбившимся на постели простыням, словно ища подвоха. Но нет, тщетно. Хозяин дома спокойно проходит мимо, не зарывается лицом в мои волосы, не ощущает кожей запах миндаля, вообще не смотрит на меня. Нырнув под кровать, он вытаскивает уже знакомый мне лэптоп и быстро налаживает связь. Я испытываю облегчение и разочарование одновременно.
— Ship is yours, darling.
Экран долго не желает загружаться, сначала появляются надписи, потом по одному открываются окна картинок и только минуты через две становится очевидно — в моем ящике нет ни строчки от Стаса. От Жанны и Ляли, которым я не соизволила ответить в последний раз, тоже ничего нет. Я в растерянности кликаю мышкой по разным папкам, соображая, что бы это могло значить. Почему Стас не пишет?
От простыней пахнет влажностью и мужским потом. За окном задыхаются трелями сверчки. Поскрипывая и чуть заедая, лопастной вентилятор на потолке пытается бороться с удушающей тропической жарой. Арно склонился над столом и перекусил зубами нитку. Стас никогда так не делает, после того, как он вставил во Франции металлокерамические коронки, он даже яблоки перерезает пополам ножом, не то, что провощенную рыбацкую нить.
— У тебя есть вино?
— Разумеется, — Арно даже казалось бы удивлен вопросом. — Налить?
— Нет. Пожалуй, не надо. Не знаю, почему я спросила. Я напишу один имэйл и уйду.
Весь вечер меня не покидает беспокойство. Несмотря на то, что Стас вечно занят работой, не может же он мне вообще ни строчки не ответить? В конце концов, прошло уже больше месяца, как я уехала из Москвы… Не случилось ли на самом деле чего-то плохого? Туман из хаотичных волнений крутится в моей голове постоянно, как только я ушла от Арно — улыбчивого, гостеприимного, вовсе, как оказалось, не обидевшегося на меня днем, хотя, впрочем, и не пытавшегося меня задержать. Он оборвал очередную нитку, отряхнул руки от кристалликов соли и молча проводил меня до двери. Я казалась расстроенной, думала в тот момент о Стасе, не улыбнулась, по-деловому включила свой фонарь и быстро зашагала в темноту.
Кормежка ящериц сегодня тоже не заладилась. Полосатая вела себя неожиданно агрессивно, такого уже давно с ней не бывало. Крыша превратилась в поле боя, и, как бы я не разводила дерущихся, толка не получилось. Решив прекратить безобразие, я быстрее обычного выключила фонарики.
Спать я иду рано, но сон не дается мне. Дом опять наполняется страшными звуками, и я жалею, что забыла проверить, заперты ли окна первого этажа, но спуститься вниз уже боюсь. В какой-то момент я отчетливо слышу, как скрипит дверь ванной, и в коридоре раздается чеканка тяжелых шагов.
На цыпочках подобравшись к окну, я высовываюсь по пояс и рассматриваю стену своей «Пратьяхары». Мне хочется убедиться, что в случае чего, я смогу отсюда быстро выбраться. Но снаружи мне кажется еще страшнее, чем в доме. Скалы тонут в кромешной темноте, не подсвеченные ни единым источником света, и я клянусь себе, что с завтрашней ночи буду оставлять свет в гостиной включенным. Через минуту я абсолютно уверена, что только что слышала мягкий и резиновый хлопок открывающегося холодильника. Ужас сковывает меня, едкий пот покрывает все тело, сердце бьется неровно, то останавливаясь, то пускаясь галопом. Завтра же я найду себе какое-то оружие, а лучше — попрошу кого-нибудь со мной переночевать. Даже сквозь душащий меня страх, я слабо улыбаюсь: я знаю только одного кандидата на эту роль, и если я еще не окончательно потеряла рассудок, то должна понимать, что он категорически не годится!
Вскоре, хотя не буду утверждать, что в таком состоянии у меня не могло нарушиться чувство времени, мне приходит в голову спасительная мысль поднять как можно больше шума, включить свет, но вниз не спускаться, тем самым дав ночному пришельцу, кто бы он ни был, выбраться из дома. Разумное человеческое существо, наверняка, так и поступит.
Я включаю свет и начинаю топать ногами. Открываю ящики комода и с треском задвигаю их обратно. Громко кашляю и начинаю что-то петь. Голос получается загробный и пугает меня саму, наверное, больше, чем вора. Меня разбирает нервный смех, но через минуту в нем начинают прослушиваться истерические нотки, и я смолкаю. Прислушиваюсь, но не слышу ничего, кроме дробных, аритмичных ударов собственного сердца и глухих, недобрых всплесков морских волн. Кажется, опять поднялся ветер. Это слегка успокаивает меня. Не он ли виновник всех звуков на первом этаже? Он вполне мог скрипеть дверью и имитировать шаги. Я решаюсь приоткрыть дверь на лестничную площадку и прислушаться еще раз. Волны продолжают биться о камни, но никаких человеческих звуков, хлопанья холодильником, бумажного шуршания и будто бы даже слабого, в кулак, покашливания с первого этажа больше не доносится.
Кое-как мне удается провалиться в забытье. Сон смешивается с реальностью, и я уже не различаю, то ли я действительно решаюсь спуститься вниз, то ли все это мое воображение. Я вижу, как крадусь к двери на кухню, открываю ее и в полном ужасе отступаю назад. Там, на холодных плитках, лежит труп писателя.
18
— Ингрид, вы меня сглазили! Мне стало страшно ночевать одной в доме! Ужасы начали сниться!
— А я тебя, милочка, предупреждала! Жуткое дело! Одной в этой гробине на краю скалы! Чуть что — кричи, не докричишься помощи. И когда уже приедет твой приятель?
Я вздыхаю.
— Понятия не имею. Я уже сама волнуюсь. С декабря от него не было ни строчки, написала ему дней пять назад — не ответил. Сегодня впервые вставила русскую симку в телефон, но его пропущенных звонков там не было. Ни одного! Он мне просто ни разу не попытался позвонить даже! Набрала его сама, один бог знает, сколько это вообще стоит, вот так вот звонить из Тайланда? Ладно, думаю, хер с ними, с деньгами, был бы результат. Так нет — не взял трубку. Написала сегодня утром целых два смс — и все напрасно. Он как испарился. Вчера ходила к французу, у него есть интернет, он любезно предложил… написала Ляле… ну — это моя подруга, у нее муж вместе со Стасом работает. Может, она что-то знает?
— Может, он просто не хочет тебя слышать?
— Почему он не хочет меня слышать? Он полностью одобрил мою поездку сюда, собственно, он являлся ее инициатором, и сказал, что приедет, как только «дд…доделает свои дд…дела»!
— Ну мало ли… Все бывает. А ты, как я посмотрю, не растерялась. Уже с французом дружишь? И правильно!
Я игнорирую последнюю реплику и молча закуриваю. Тхан приносит мне двойной эспрессо.
— Я не выспалась жутко… В доме какие-то звуки, будто кто-то ходит на первом этаже. И… возможно мне кажется, но у меня ощущение, что вещи то ли пропадают, то ли переставляются местами. Как полтергейст… Сегодня не смогла найти свою расческу, хотя определенно уверена, что оставляла ее вчера в ванной на полочке. А сегодня ее там нет. И вообще нигде нету в доме… Но не будет же кто-то воровать расческу? И на кухне какой-то был бардак странный, будто кто-то рылся в продуктах.
— А ты закрываешься на ночь?
— Да в том-то и дело. Две щеколды на окнах, в ванной и на кухне, у меня сломаны. Пыталась привязывать бечевкой, но она развязывается. Нашла одну сегодня утром валяющейся под окном. Наверное, все это глупости, просто ставни ветром туда-сюда ночью болтает. Но спать все равно стало страшно, хоть съезжай к Лучано! У вас, кстати, как с местами тут?
Ингрид задумчиво почесывает бровь.
— Пустой отель. Как писателя… так все разом и съехали. Самой немного жутковато.
Я хватаюсь за соломинку:
— А, может быть, вы захотите у меня поспать? Ну… чтоб не одной? Раз вам тоже страшно?
— Вот уж уволь меня, милая! — хохочет старуха. — Лучше все-таки ты к нам.
— У вас платить надо.
— Ну и заплати. Поди не разоришься. Ну или позови к себе в гости подружку. Есть же у тебя приятельницы? Не думаю, что в России не найдется желающих пожить в таком раю. Иначе досидишься ты там одна до чего-нибудь по-настоящему нехорошего! Помяни мое слово!
— Ингрид! Прекратите дальше глазить! Вечно вы гадость какую-нибудь скажете!
Шведка откидывается на спинку шезлонга и недовольно жует губами. Над верхней губой собираются противные вертикальные морщинки.
— Ценностей-то у тебя там много? — неожиданно интересуется Ингрид.
Я вздрагиваю:
— Где, в доме? Да, я бы не сказала. Одежда самая обычная, никаких дорогих украшений, даже компьютера нет. Фотоаппарат, кредитка, обратный билет, да и паспорт.
— Ну вот и спрячь все это в сейф к Лучано, — советует старушка. — Береженого Бог бережет! Будешь потом бегать по Бангкоку паспорт восстанавливать, если окажется, что этот полтергейст это все-таки наш вор.
— Наш вор?! Вы же говорили, он уехал?
— Это не я говорила, а дубина-следователь. А как обстоит на самом деле, никто не знает.
День смазан угрюмыми красками. Нехотя, с каким-то странным внутренним стыдом последовав старушачьему совету и отнеся паспорт на хранение к Лучано, уже с обеда я начинаю ждать, когда стемнеет. Время, как обычно оно и делает, когда чего-то ждешь, издевается, растягиваясь и играя в дурацкие неуместные игры. Подойдя, наконец, к горе, ехидное солнце замирает там на целую вечность, не желая скатываться за перевал. Мне даже начинает казаться, что сейчас оно нарушит все законы, развернется и пойдет обратно на восток.
До заката я сходила в лавку, раздобыла свечей и топор (единственный зрячий глаз тайца покосился на меня крайне подозрительно). Топор оказался более чем внушительных размеров, другого в продаже не нашлось. Увесистая рукоятка приятно ложится в ладонь, но в целом вовсе не успокаивает, даже скорее наоборот, вызывает беспокойство. Во всех виденных мной фильмах оружие в неопытных руках всегда оборачивается против его хозяина. Так вор, возможно, просто убежал бы, ну… или кинул в меня стулом или вазой, а так он может отнять у меня топор и с перепугу им же меня и ударить! Хотя в то, что это вор, мне давно уже не верится. Ничего из ценных предметов не покидает дома. Страшные догадки роятся в моей голове, вспоминаются истории про маньяков. Даже на слух слово «маньяк» гораздо страшнее «вора». Какое-то необъяснимо недоброжелательное сочетание мягкого знака и буквы «я» делает его совершенно жутким и меня пробирают мурашки. Воры — люди не лишенные своей логики, с ними можно договориться, найти компромисс, отдать им вещи и дать уйти, наконец. О том же, какие склизкие и омерзительные опарыши шевелятся в воспаленных извилинах маньяков, мне даже жутко задумываться!
К вечеру природа будто бы сходит с ума. Налетают полчища летучих мышей. Тенями они проносятся над скалами, некоторые осмеливаются залетать под навес моей террасы, а одна безумная тварь чуть не врезается мне в голову. Ящерицы чувствуют повисшую угрозу, робко выползают из своих укрытий и спешат побыстрее приблизиться к кругам света. Даже Полосатая сегодня испуганно озирается и шипит. Возможно, что-то не то с планетами, думаю я, направляя фонарики на крышу, что-нибудь астрологическое … Судя по всему, я не так далека от истины: фонарь Полосатой внезапно гаснет. Я трясу его, стучу им по столешнице, зачем-то даже дую на него и заглядываю в его алюминиевую пасть. Никаких внешних повреждений не видно.
Оставшаяся без пищи Полосатая мечется по крыше, пытаясь урвать мошку у Короткохвостой и Нахальной. Надо бы сменить Нахальной имя, она давно уже ведет себя прилично, а на фоне Полосатой просто выглядит испуганной. Крошечные перепончатые лапки перебирают по навесу, голова быстро крутится из стороны в сторону, бусинки глаз затравленно блестят. Я отвожу фонарь к Полосатой, отгоняя ее подальше, и на минуту упускаю Нахальную из вида. Стремительно мелькает тень летучей мыши, раздается жуткий звук, похожий на «тсы-тсы-тсы-тсы» (волнуясь, ящерицы громко цыкают), я вздрагиваю и понимаю, что Нахальной на крыше больше нет! Я не верю своим глазам. Мерзкая летучая тварь сожрала ее?! Ком внезапно подступает к горлу.
Как часто это и бывает, последней каплей может послужить любая мелочь. Схватив сумку, я бегу прочь от дома, даже забыв его закрыть. Нет уж, только не еще один вечер в окружении этих скал, в одиночестве и ожидании маньяка! Не сегодня! Где, к черту, уже этот Стас?! Здесь становится невыносимо!
Впопыхах я забыла фонарик, но у меня уже нет сил возвращаться. Море, подсвеченное на горизонте рыбацкими прожекторами, отливает металлическим блеском, внезапно вырастающие передо мной силуэты скал пугают меня. Проклятой луны сегодня, как по закону подлости, разумеется, нет!
Кое-как нащупывая в темноте дорогу, хватаясь руками за камни и то и дело спотыкаясь, я пытаюсь спуститься на пляж. Внезапно на меня обрушивается шквал дикой музыки. Не сразу я соображаю, что она исходит из повернутых прямо на меня колонок «Пиратского бара». Деревянные помосты абсолютно безлюдны, в баре нет ни души, и лишь тайский хозяин, невидимый для меня, притаился где-то за барной стойкой. Уж не принял ли он мою черную фигуру за посетителя? Но на минуту мне становится легче, все-таки я здесь не одна, есть рядом хоть тайская, но живая душа, в баре продается дешевый ром. Я замираю, сраженная внезапной мыслью: а не опрокинуть ли мне в себя стаканчик этого пойла? Но тут же мое замешательство оборачивается драмой: оглушенная музыкой, я замираю в неудобной позе, теряю и без того шаткое равновесие, карикатурно взмахиваю руками и меня подает назад. В ту же долю секунды щиколотку пронзает вспышкой боли. Дьявол, только этого теперь не хватало! Я начинаю тихонечко скулить, массируя ногу и молясь, чтобы все обошлось. Виновный во всем бармен так и не заметил произошедшего: ветер доносит до меня запах марихуаны, а безумные децибелы разрывают колонки нытьем Боба Марли. Мое тихое скуление перерастает в стон отчаянья, смешивающийся с подвыванием ямайского дебила: «No woman, no cry»… По лицу начинаются струиться слезы.
Подпрыгивая на одной ноге, я все-таки спускаюсь со скал и выбираюсь на зализанный отливом берег. Здесь немного светлее, фонари от Лучановского ресторана бросают длинные перебегающие тени. На секунду мной овладевает соблазн зайти туда, но я продолжаю свой путь. Ресторанная терраса абсолютно безлюдна, Ингрид, наверное, уже отужинала, а предаваться задумчивому одиночеству у меня больше нет сил.
Вскоре фонари остаются позади, и вокруг меня снова сгущается мрак. Вдоль моря выстроились темные силуэты нежилых бунгало. Пляж словно вымер, ни в одном окне не мелькает и намека на свет.
Куда все, в конце концов, подевались?! Съехали после убийства писателя?! Господи, не оставляй меня здесь одну!
Великодушный Господи тут же откликается на мою молитву, и через минуту мне начинает мерещиться преследующая меня, крадущаяся по моим следам тень. Я затравленно оглядываюсь, но в темноте ничего рассмотреть не удается. Однако меня продолжает пугать ощущение, что позади меня прячется кто-то живой. Я тихонечко поскуливаю от боли, но опираюсь на растянутую ногу и прибавляю шагу. Тень сзади приближается, я уже слышу какие-то звуки, напоминающие прерывистое дыхание. Не обращая внимание на боль, я срываюсь на бег, впереди меня мелькает движущееся пятно, ничего не соображая от ужаса, я кричу и одновременно втыкаюсь во что-то мягкое, теплое и оранжевое.
— Сэм?! Мать твою за ногу!..
Сэм удивленно моргает, на лице его застыло дурацкое счастливое выражение. Крепко вцепившись в его майку, я перевожу дыхание и оглядываюсь назад.
— Там кто-то есть! Кто там? Сэм!?
— Никто. Это собака.
— Где?!
— Да вот же.
Из темноты выступает черная псина. Приветливая, она машет хвостом и обнюхивает Сэму руку.
— Вот дьявол! А ты-то что здесь один шляешься? Ты напугал меня до смерти!
— Море… ночью красивое такое… Ласковое, не как днем… А в воде… видишь? Огоньки голубые… наверное, планктон? Мне нравится… Я им пою, и они в ответ ярче светятся. Так же, как и светлячки, те тоже ярче горят на музыку. Так что я тут просто гулял.
— Гулял он… — вздыхаю я, все еще не решаясь отцепиться. Ни море, ни дурацкий планктон, никто и ничто вообще не кажутся мне сейчас ни красивыми, ни ласковыми, а при одном упоминании о музыке меня вообще тошнит. Не включи этот тайский идиот своего Боба Марли, не хромала бы я тут сейчас.
— Проводи меня, а? — прошу я. — Хотя бы до конца пляжа? И… и можно я тебя немножко обниму?
Сэм смущенно подставляет мне плечо, и, повиснув на нем, я кое-как ковыляю вдоль гладкой, неподвижной кромки моря. В нем действительно что-то светится голубым, на мой взгляд — ничуть не романтично, а довольно зловеще. Из-за горы запоздало появляется злая луна. Сэм молчит и мечтательно улыбается. Что взять с идиота?
— Дальше я, наверное, сама. Мне наверх, на тропу. Там склон крутой, ты еще ноги переломаешь. Мне-то уже терять нечего… А ты лучше иди. Гуляй дальше.
Собака почему-то выбирает меня, а не немца, и сухая листва под ее лапами приятно шуршит, пока мы взбираемся в гору. Вокруг становится много деревьев, что упрощает мою задачу: хватаясь за стволы, я подтаскиваю тело, почти не прибегая к помощи растянутой ноги. Она, кстати говоря, пульсирует слабой, но постоянной болью и, кажется, сильно распухла. В джунглях ухает какая-то птица и слышны стоны огромных тропических жаб. Чтобы развеять опять подбирающийся страх, я начинаю вслух разговаривать с собакой. Ее присутствие, — пожалуй, единственное, что позволяет мне не заплакать снова.
Наконец, сквозь листву начинают проглядывать освещенные окна. Мой четырехлапый спутник обнюхивает меня, подбегает к хижине и проверяет, все ли нормально. Потом удовлетворенно возвращается ко мне и тычется в ногу мокрым носом, как бы говоря: «все в порядке, ну я пошел?» Я вздыхаю, киваю, и собака скрывается в ночи.
Набрав в легкие побольше воздуха, я делаю последний рывок и пересекаю лужайку. Уже перед дверью меня пронзает неуверенностью: правильно ли я сделала, что сюда пришла? Не проще ли все-таки было заглянуть к Лучано, выпить крепкого кофе, поужинать нормальной едой и дать Тхану проводить себя до дома? Не обманываю ли я себя, что хижина Арно — единственное убежище? Но я убеждаю себя, что мне нужен ответ от Стаса, от Ляли, хоть какой-то линк между заброшенным островом и цивилизованным миром, где не хлопают ночами плохо пригнанные ставни, не гуляет на свободе убийца, и не мечутся в темноте дикие полчища мышей.
Мой кулак замирает на миг, но все-таки стучит. Почти сразу внутри раздаются шаги, и меня ослепляет яркий электрический свет.
— Ты?
Арно делает шаг назад, пропуская меня. На нем белая рубашка навыпуск и короткие тайские штаны, подпоясанные обычной бечевкой, на небритом лице бродит слегка удивленная улыбка. В доме пахнет чем-то съедобным, и первое, что бросается мне в глаза, это открытая бутылка вина на столе.
Есть в некоторых людях такое качество: талант к жизни как таковой, дар обустраиваться с комфортом и чувствовать себя везде на своем месте. Все в жилище Арно говорит о том, что человеку здесь хорошо, дом служит как бы его продолжением, кажется, что стены вырастают прямо из их хозяина, сливаются с ним, образуя ощущение уюта, спокойствия и какого-то особого умиротворения. Несмотря на то, что чувство это мне совершенно незнакомо, я легко улавливаю его в воздухе, пропахшем влажным деревом, в запахе стряпни, даже, как мне кажется, в особом мягком оттенке света, приглушенного пожелтевшим абажуром из рисовой бумаги. Здесь хочется остаться надолго, навсегда, здесь можно часами лежать на кровати, рассматривать трещинки в потолке, прислушиваться к звукам природы, курить, ни о чем не думать, распутывать сети и пить в одиночестве вино…
— А налей мне тоже?
Хозяин проходит внутрь дома — немного вразвалку, ступни шаркают по доскам пола, — так ходят лишь счастливые люди. Хлопает дверка шкафа, на столе появляется второй граненый стакан, придвигается из угла стул, вещи с которого смахиваются прямо на пол, достается из-под кровати лэптоп. Внезапно я чувствую себя неимоверно, всепоглощающе счастливой, и, поняв, что никакие силы не заставят меня уйти, хромаю к столу.
— Что у тебя с ногой? — хмурится Арно.
— Вывихнула.
— Дай посмотреть.
В момент я оказываюсь сидящей на стуле, а моя нога перекочевывает на колено к французу. Мне хочется закрыть глаза и отдаться этой минуте, залпом осушить стакан с вином, второй, бутылку, но на краю моего сознания стражем здравого смысла навытяжку стоит вожатый-контроллер, который точно знает, что я могу и должна делать. Поэтому глаза мои остаются открытыми, а для пущей безопасности я начинаю тараторить какую-то оправдательную белиберду про летучую мышь, съевшую мою ящерицу, про незакрывающиеся ставни в ванной, про отвязавшуюся ночью веревку, пропавшую расческу, собаку, Сэма, светящийся в море планктон, пустой холодильник и сосущий в желудке голод.
Француз слушает с улыбкой, вовремя поддакивая и одновременно ловко перебирая пальцами по моей щиколотке, ощупывая опухоль и сгибая ногу то так, то эдак, пытаясь оценить, настолько силен вывих. Стас никогда не ведет себя так. Когда что-то случается, он либо орет, либо ищет виноватого, либо наводит панику. Сейчас он бы обязательно нагнал на меня страху, что мне срочно нужен рентген, рассказал пару смертельных исходов таких же незначительных травм, очень кстати вспомнил про неизлечимые тропические инфекции, заражение крови, Мересьева и ампутации конечностей, а затем немедленно начал попрекать меня тем, что больницы на пляже нет, что придется тащиться в столицу, что кругом ночь, лодки не найти, вечер безнадежно испорчен, и, главное, все мы понимаем, чья в том вина…
С непривычки вино начинает шуметь в голове, но у меня уже нет сил себе отказать, я чувствую себя сонной, слабой, уставшей, и, залпом осушив стакан, я тут же прошу добавки. Я знаю, мне не следует так распускать себя. Но голос Арно убаюкивает меня, все мои горести и страхи постепенно испаряются, и чем дольше он бормочет какие-то уютные слова, тем больше меня окутывает пелена покоя и безмятежности.
— Ну-ну, все поправимо. Где-то у меня был йод и бинт, у тебя тут небольшой вывих и ссадина, сейчас мы тебя вылечим. Мне попался сегодня приличный улов, сейчас мы закончим, и я накормлю тебя рыбой, там мало косточек, но если хочешь, я вырежу тебе филе, это всего лишь срезать позвоночник, других костей в рэд снэппере нет… но хрустящая жареная кожа — это деликатес… так что я, пожалуй, зажарю рыбину целиком, так вкуснее… я тоже еще не ел… еще у меня есть цуккини и лук… ты любишь сырой лук?.. я ем его просто с солью, холостяцкие привычки… еще есть вино… сколько хочешь вина, я закупаю у лодочника, втридорога, конечно, но не беда. Держи стакан крепче, сейчас будет немножко больно…
— А-а-ай!
От острой боли я расплескиваю вино Арно на руку, и он, все еще не отпуская моей щиколотки, слизывает его языком.
— Всё-всё, всё кончилось. Я вправил вывих. Больше не больно. Я перебинтую, и к утру будешь как новенькая. Будешь прыгать по камням, придешь на пляж… Я хочу еще раз посмотреть твои рисунки, они мне правда понравились. Извини, я кажется немного не то сказал в прошлый раз… Ты живешь, как умеешь. Мы все так живем. Не обращай внимания, я иногда бываю чрезмерно откровенен, — мне так надоела ложь, неискренние люди, нездоровые отношения, а лезть с советами — мой давний недостаток. Мы выпьем, и ты расскажешь, как ты живешь. Я буду молчать. Мне просто интересно. Ты не похожа на обычную русскую, неважно почему, может быть потому, что ты всегда одна. Русские обычно сбиваются в стаи, ведут себя громко, пошло, путают это со свободой, которой они, разумеется, и не нюхали… Прости, я кажется опять что-то не то говорю. Проверь, ты можешь наступить на ногу? Давай я отнесу тебя на кухню, я буду готовить, а ты сможешь смотреть. Я не буду пугать тебя сырым луком, я вспомнил, дамам недоступна его суровая прелесть, лучше я сделаю нам оладьи из цуккини…
Я уже не хочу проверять свою почту, не хочу знать про проблемы Стаса, его истерики и причины, по которым он не отвечает. Кажется, я пью уже третий стакан.
Тончайшие — темно-зеленые с пятнышками — винтовые стружки осыпаются с цуккини под ловко скользящим лезвием ножа. На очищенной поверхности проступают капли сока. Арно достает из шкафа терку и цуккини превращается в горку наструганных опилок, в которые он тут же разбивает несколько яиц: красивых, коричневых с прожилками, с ярко-оранжевым желтком. Добавляет немного муки, не ложкой, а зачерпнув ее из банки ладонью. Потом длинные пальцы складываются в щепотку и захватывают из солонки немного соли, размешивают получившуюся массу, берут немного на ладонь, язык быстро пробегает, пробуя на вкус. Во всем, что делает Арно, участвуют его пальцы, ладони, костяшки и непременно язык, — я наблюдаю за его движениями, как за магическим обрядом, они полностью захватывают мое внимание, зачаровывают меня. Выражение его лица серьезно и сосредоточенно, изредка он прихлебывает вина или косится на меня, проверить не скучно ли мне. Пару раз он подмигнул, мол, погоди, сейчас все выйдет очень вкусно.
Я поражена, околдована, пьяна, наконец. Какое, оказывается, можно получать удовольствие от готовки, от мягких звуков цуккини при соприкосновении с железной теркой, от скребущих звуков ножа, задевшего за край пластмассовой миски, от шкворчания масла на раскаленной сковороде. Рыбу Арно просто обвалял в муке, предварительно избавившись от плавников: поддел их большим пальцем и аккуратно отвел назад, обрезая ножом, посыпал сверху тончайшими, почти прозрачными срезами чеснока, и медленно, держа за хвосты и будто бы выбирая каждой ее собственное место, выложил в кипящее масло. Мне приходит в голову: хочешь узнать человека — посмотри, как он готовит. Не брезгует ли дотрагиваться до пищи руками, не боится ли уколоться, обрезая плавник, морщится ли, пробуя на соль, чихает ли, нарезая луковичные кружочки, рискует ли сделать огонь побольше, пользуется ли рецептами или готов экспериментировать, придумывать, уверен ли в себе, исходит ли любовь от его рук, ловки ли его движения, смел ли он, а главное — умеет ли получать удовольствие от того, что делает?
— Ты проверила свою почту?
— Что?
— Ты же сказала, что пришла проверить почту?
— Я так сказала? — удивляюсь я. — Ах, ну да… Можно мне еще вина?
И снова Арно относит меня, прямо вместе со стулом, к столу.
— Я могу сама, — протестую я.
— Если ты хочешь, чтобы быстрее зажило, лучше до завтра забыть про ногу, — отвечает Арно.
— До завтра?
— До завтра, — улыбается он, и мне кажется, что он уже нагнулся, чтобы поцеловать меня, но нет, наверное, я совсем пьяна, — резко отвернувшись, он возвращается к плите.
Через минуту (длинную, густую, замершую в тягучем, словно резиновом времени: вентилятор уютно поскрипывает на потолке, Арно опять насвистывает что-то, старый компьютер тихонечко жужжит процессором, вино шумит в голове) выясняется, что дорогой и волшебный Стас мне так и не написал. Ни сколько: ни строчки, ни слова, ни смайлика. Неожиданно мне приходит в голову забавная мысль, что, возможно, у нас просто не совпадает скорость времени, как при межпланетных полетах, — наша островная минута идет в России за сотню. В Москве, должно быть, прошли десятилетия, и все мои знакомые давно умерли. Я чокаюсь сама с собой и запиваю эту радостную мысль еще одним стаканом вина, но тут же морщусь: после удаления привычного спама в папке «входящие» все-таки остаются два агрессивно-жирных, упрямых, беспокоящих меня своей неприятной навязчивостью, непрочитанных письма. Как и в прошлый раз: одно от Жанны и одно от Ляли. И опять, как и в прошлый раз, мне не хочется их читать.
— В твоем чудо-доме есть принтер? — спрашиваю я у Арно.
— Зачем тебе? — удивляется он.
— Я распечатаю письма и прочту позже, дома. Не хочу портить аппетит перед ужином.
— Ты ждешь плохих новостей?
— Скажем так, я подозреваю, что в Москве, как обычно, что-то не слава богу.
Принтер у француза тоже находится. И тоже под кроватью, покрытый еще более толстым слоем пыли, чем вытащенный оттуда неделю назад лэптоп. Удивительно, но в нем даже есть несколько листов бумаги.
— Ты занимаешься на острове какими-то делами? — интересуюсь я. — Откуда такая оснащенность техникой?
Арно приносит на стол еще одну бутылку (какую по счету? вторую? третью?), тарелки с рыбой и божественно пахнущими оладьями.
— Да нет. Какие уж тут дела? Просто я был немного труслив, когда осел тут, и в откупку от своих волнений завел себе все то, что напоминало мне о старой жизни. На всякий случай…
— А потом?
— А потом я построил лодку, занялся рыбалкой, а старая жизнь постояла на пороге, помялась-потолкалась да и оставила меня в покое. А принтер… ну не выбрасывать же уже было? Какие тебе нужны письма?
— Последние два.
Подходя, Арно погасил электрический свет, и теперь его замершее над компьютером лицо выглядит в темноте голубым. Склонившись совсем близко от меня, так, что свесившиеся волосы почти касаются моей щеки, он водит мышкой, настраивая принтер. Я чувствую его запах. Еще немного, и я сойду с ума. Я облизываю сухие губы.
— Это что за мандала у тебя на стене? — спрашиваю я хрипло.
— Это не мандала, а янтра. Мне подарил ее мой учитель в Непале, — отвечает он, не поворачивая головы от экрана.
— А что такое янтра?
Принтер начинает поскрипывать, выплевывая на бумагу линялые строчки. Арно разгибается и потягивается.
— Не забивай себе голову. Лучше зажги нам свечи.
19
Утро следующего дня начинается просто ужасно. Я резко открываю глаза и вижу прямо перед собой деревянные доски незнакомого потолка, вентилятор и москитную сетку. Не веря своим глазам, не в состоянии уложить увиденное в четкую и ясную картину, я привстаю на локтях, и в ту же долю секунды дрожащая и мутная реальность выстраивается вокруг и до меня доходит, что я лежу в хижине Арно, более того — на его кровати, и, самое кошмарное, — на мне нет ничего, кроме нижнего белья. Издав что-то, похожее на полустон, я в изнеможении откидываюсь обратно на подушку и закрываю руками глаза. Мне хочется умереть со стыда, провалиться сквозь землю, убраться прямо с этой кровати куда угодно, желательно подальше, лучше всего на другой континент, полушарие, планету, ну или на крайний случай хотя бы в свою московскую квартиру.
С минуту я лежу неподвижно и, делая вид, что я еще не просыпалась, проклинаю себя и размышляю, что мне делать. Мозг лихорадочно перебирает возможные варианты, но информации явно недостаточно, да и та состоит лишь из отдельных фрагментов вчерашнего вечера. Тогда, осторожно приоткрыв веки, я вторично, на этот раз более внимательно, осматриваюсь по сторонам. Хороших новостей находится две: первая — в домике я сейчас одна; и вторая — на полу у кровати валяется смятый спальный мешок, на котором явно кто-то спал. Из всего этого у меня зарождается надежда, что между мной и хозяином кровати ничего все-таки не было. Дышать становится чуть легче, хотя все равно хочется немедленно куда-нибудь испариться.
Быстро надев платье, я подкрадываюсь к окну и осторожно выглядываю на улицу, но лужайка у дома пуста. Арно нигде не видно. Тогда, благословя Господа и вымаливая себе прощение за свои слабость, тупость и пьянство, я хватаю сумку и, то и дело озираясь, трусливой рысцой припускаю вниз по склону. Бежать прочь от чертова логова француза, от необходимости смотреть ему в глаза, от попыток прочесть в них ответ на мучающий меня вопрос, от (не дай Бог!) его смеха или хотя бы привычной иронии! Вывихнутая нога слегка побаливает, но за ночь опухоль почти спала, и мне удается доковылять до своих скал в рекордный срок: меньше, чем за десять минут. Видок у меня, судя по всему, слегка очумелый и затравленный. Даже варварская американка Барбара, как обычно дежурящая на камнях у «Пиратского бара», косится на меня с явным удивлением, и мне остается лишь еще раз возблагодарить всех возможных Богов за то, что хотя бы любопытной Ингрид на шезлонгах у отеля не оказалось! Уж кто-кто, а она ни за что не оставила бы такое утреннее шоу без комментариев!
Добравшись до дома, я падаю ничком на кровать и, подумав, что надо бы сосредоточиться и попытаться восстановить в памяти события вчерашнего вечера, немедленно проваливаюсь в густой и тяжелый сон.
В следующий раз я просыпаюсь уже за полдень, и мне кажется, что из глубокого и благословенного забытья я выбралась на свет божий исключительно для того, чтобы понять, насколько у меня раскалывается голова. Сколько мы в результате выпили? Не меньше трех бутылок, это точно. Я смутно припоминаю, что Арно при этом выглядел абсолютно трезвым (французская закалка?), был внимателен и почти нежен (тоже французское?) и, мне хочется надеяться, что это именно он настоял на том, чтобы, учитывая мой вывих, я осталась. Это выглядит вполне логично. Ну не нести же ему было меня на руках в кромешной темноте вниз по склону? Я же к концу ужина, судя по кошмарнейшим провалам в памяти, была уже совершенно пьяна. Туманными проблесками всплывают воспоминания: кажется, я порывалась схватить лежащий на подоконнике фонарь и научить Арно кормить ящериц. Кажется, мы даже вышли, вынесли стулья и посидели снаружи домика, но никакой выступающей крыши снаружи у хижины не оказалось и ящерицы не пришли. Смутно я припоминаю, что довольно неприлично висла на его руке, пока он вел меня обратно в дом, бормотала какие-то глупости, и вроде бы даже рассказывала ему что-то о Стасе, хотя в последнем я не уверена, возможно мне это приснилось.
Единственное, о чем я молю сегодня Бога, это что я ничем не выдала того, насколько у меня замирает дыхание и изо всех сил колотится сердце каждый раз, что Арно приближается ко мне, берет меня за руку, как бы невзначай (или действительно невзначай?) касается моего плеча или колена.
Я брожу по каменистой площадке своей «Виллы» и придумываю себе оправдания. Вскоре мне даже почти удается убедить себя в том, что по-другому на моем месте никто бы и не поступил. Действительно, вчерашний день сильно меня взволновал. И неожиданно обрушившимися на меня страхами, и болезненным вывихом, и ужином при свечах, который, все-таки (я очень на это надеюсь!) оказался абсолютно невинным. Мне удалось еще припомнить, как мы мило обсуждали цуккини, наше отношение к сметане (оба считали, что несмотря на модные веяния о здоровом питании, жирная и неполезная сметана совершенно необходима для некоторых блюд и заменить ее на обезжиренные сливки никак не представляется возможным), что-то еще… хотя я не уверена, что именно, но надеюсь, это было все в том же мирном сметанном русле. А ведь останься я в «Пиратском баре» выпить рома, все могло бы быть намного хуже. Да и повел бы бармен-таец себя столько же великодушным и приличным способом, что и француз, заночевавший в спальнике на полу?
Еще через полчаса раздумий, мне настолько удается убедить себя в том, что совершенно ничего предосудительного со стороны Арно не было, что это становится даже обидно. Неужели я не нравлюсь ему вообще, или у иностранцев такое устойчивое моральное табу на девушек с бойфрэндами? Какое-то время меня мучает вопрос, как вообще он ко мне относится? Но сил на лишние терзания после вчерашних нервов у меня уже нет, меня шатает от слабости и похмелья. Кое-как доплетясь до кухни, я хочу выпить аспирин, но почему-то в обувной коробке, служащей мне аптечкой, его не находится. Недоуменно оглядываясь по сторонам, я переворачиваю весь хлам в кладовке вверх дном, но таблетки испарились. Бесследно исчезли. Хотя я абсолютно уверена, что видела их там еще недавно. И что мне делать? Опять подумать на странного вора? Его послужной список, состоящий на сегодняшний момент из кухонного ножа, пилки для ногтей, расчески и большого банного полотенца (по крайней мере, это то, что мне удалось до сих пор установить пропавшим), пополняется теперь колбочкой с растворимым аспирином? Я не могу в такое поверить! Может быть, я просто тихонечко схожу тут с ума?
Постанывая, я пытаюсь найти свою сумку. В ней точно должны лежать несколько таблеток. Растерянно обойдя дом, я нахожу ее валяющейся на улице около гамака. Засовываю в нее руку и кроме пачки аспирина обнаруживаю листы бумаги, свернутые в трубочку. Ах да! Это же вчерашние письма, которые я так и не удосужилась прочесть!
Притащив с кухни воды и запив таблетки, я устраиваюсь в гамаке, подкладываю сумку под шею вместо подушки (в горизонтальном положении голова раскалывается чуть меньше) и только после этого решаюсь погрузиться в забытый мной мир прошлой жизни. В одном месте листы залиты вином, и строчки струйного принтера растеклись, но разобрать слова все-таки можно.
From: "Ляля" <gal-strukova@hotmail.com>
To: "Полина Власова" <polvlas1973@bk.ru>
Sent: Monday, February 02, 2009 11:10
Subject: Re: gde Stas???
Еле нашла время тебе ответить. Дети опять болеют гриппом, в доме свекровь, на улице снег, короче можно повеситься! Ну слушай, порадовать тебя мне нечем. Где твой Стас — никто не знает. Он испарился около десяти дней назад, вообще, напрочь. Артем сказал, что сам найти его не может, и никто не может, даже Тащерский. Надеюсь, ты помнишь, кто это??? И то, что его лучше не злить? А он уже зол. Причем — конкретно. Он обрывает Артему телефон, звонил даже мне на домашний. Как мне удалось выяснить, у него какие-то недоделанные дела со Стасом, вроде бы важные.
Как там ты? С тоски еще не повесилась? Когда тебя ждать обратно? Какая ты свинья: пропадаешь, не пишешь, не звонишь, и появляешься потом только когда тебе что-то от меня нужно!
Ляля
From: "Жанна Стар" <jjstar@gmail.com>
To: "Полина Власова" <polvlas1973@bk.ru>
Sent: Sunday, February 01, 2009 23:56
Subject: no subject
Ку-ку, дорогая! Ну и чего ты не отвечаешь? Пыталась найти твоего придурка, узнать про тебя новости, так он не берет трубку! Рафик тоже не берет трубку опять! Я тут удавлюсь! Мой проект на работе встал, сижу сутками дома, работы нет, денег тоже нет, на улице такая мразь, что лишний раз не выползешь даже за хлебом. Только бассейном и спасаюсь (ну и водочкой). Мне срочно пора куда-то уехать отдохнуть, иначе приедешь, будешь носить мне апельсины и кокс в дурку! Твоя Ж.
Щурясь от невыносимого солнца и массируя себе виски, я еще раз перечитываю письма и соображаю, что же мне теперь делать? Стас, похоже, во что-то влип, раз даже Артем не может его найти. Про сволочь Тащерского мне вообще не хочется думать. Я отлично его помню, это один из первых клиентов Стаса по обналичке и, Ляля права, его действительно лучше не злить. Полный псих, из бывших бандитов. Лет шесть назад, когда его очередная трансакция застряла где-то в оффшорных банках, разбушевавшийся Тащерский чуть нас обоих не убил — расплачивались собственной квартирой.
Может быть, мне пора вернуться в Москву? Эксперимент с пратьяхарой не удался?
Собравшись с силами, я выдвигаюсь на пляж. Похоже, мне все-таки придется ответить на письма Жанны и Ляли. Идти к Арно мне после вчерашнего неловко, но ведь Ингрид говорила, что у Лучано тоже есть интернет? В Москве явно что-то случилось. В то, что в ближайшее время Стас приедет на остров, я уже не верю.
В конторке у Лучано прохладно от работающего кондиционера и стоит голубоватый полумрак. Жалюзи почти закрыты и свет не проникает в аскетически обставленный кабинет: стол, компьютер, этажерка с папками, из украшений лишь фотографии обширной сицилийской родни в золоченых рамках.
— А где сам Лучано? — спрашиваю я у Тхана, озираясь на пороге и не решаясь зайти.
— На скалах за баром. Он уходить один. Потому что он стесняться. Он ходить играть на трубе.
— На чем?!
Парнишка обнимает воздух руками и смешно надувает щеки, показывая, как играют на трубе.
Сегодня, по всей вероятности, день сюрпризов. Ни за что бы не предположила, что основательный итальянский толстячок имеет столь романтичное хобби. Похоже, что все на острове, кроме меня, нашли свое место в жизни. Арно рыбачит. Короволюбивый Сэм наслаждается ночными прогулками. Барбара, как я заметила этим утром, что-то строчит в блокноте — не иначе, как пишет стихи?
Вздохнув, я усаживаюсь в вертящееся кресло и отбиваю несколько писем. Одно Ляле, где благодарю ее и прошу сообщать мне все новости о Стасе, и одно Жанне, приглашая ее приехать на остров. Ночевать одной в доме становится мне невмоготу, но уезжать я пока не хочу. Вспомнив про Петровского, Зов и гадалку, я решаю дать себе еще один, последний шанс.
20
Если бы знать заранее, что последующие несколько дней будут последними спокойными днями в моей жизни, провела бы я их по-другому? Смогла бы отбросить переживания, отпустить себя, просто пожить, запомнить это сладкое ощущение от того, что, несмотря на то, что ничего хорошего не происходит, не происходит и ничего плохого тоже, и этого достаточно. Должно быть достаточно. Но это требует понимания. И его-то как раз у меня и не было.
Я много купалась и много спала. Почти ничего не ела. Помню, один раз я заглянула к Лучано и поужинала свежей рыбой, но ни ее вкуса, ни о чем мы болтали с Ингрид, мне не запомнилось. Дни слились в целостное полотно, прореженное лишь появляющейся к ночи луной и кормежками ящериц. Теперь их осталось всего две: Полосатая и Короткохвостая, и я пыталась бороться с собой и любить их одинаково, но этого не получалось. Невольно я отдавала предпочтение своей короткохвостой любимице, от чего мне было стыдно перед Полосатой. Про Нахальную я старалась не вспоминать.
На наш маленький галечный пляж я больше не ходила, и Арно мне ни разу нигде не попался, чему я, впрочем, была рада. Я не знала бы, как себя с ним вести. Несмотря на то, что я пришла к выводу, что ничего той ночью не было, полной уверенности у меня быть не могло. Хотя, даже если мне и удавалось представить, что один Бог знает сколь давно лишенный женщин, к тому же захмелевший от вина, Арно мог на миг потерять голову и заняться любовью с заснувшей гостьей, то вообразить его раскладывающим и убедительно сминающим на полу его алиби в виде спального мешка, чтобы к утру она ни о чем не догадалась, — уже было решительно невозможно. Впрочем, чего кривить душой? — то, что сам он, по всей видимости, тоже не искал встречи, меня все-таки немного укололо.
Оставшись предоставлена самой себе, я уже не понимала, я ли выбрала свое одиночество на скале и избегаю общения с людьми, или же это они прекратили все попытки встреч? Недоуменно пожали плечами и отказались от меня? Не так-то уж каждый отдельный индивид и нужен человечеству. Даже загадочный маньяк, посещавший мой дом ночами, в эти дни не появлялся. Я закрывалась на все возможные щеколды, выпивала на ночь «донормил», клала топор на прикроватную тумбочку и прекрасно высыпалась. По крайней мере, так было до вчерашней ночи.
Еще с вечера опять откуда-то налетел ветер, двери и ставни захлопали, свет от свечи задрожал, и вместе с ним заплясали на стенах тревожные тени. Ящерицы разошлись рано, и я тоже поспешила замуроваться в доме и лечь еще до полуночи. Но вскоре проснулась как от толчка. По дому опять кто-то ходил, причем, кажется, даже не особенно заботясь не производить шума. Пару раз отчетливо хлопнула дверца холодильника, потом шаги направились в сторону ванной комнаты, и мне даже померещилось на миг, что там включили воду. Еще через какое-то время на пол что-то звонко упало. Сидя в кровати, я прижимала к себе топор и готовилась отразить атаку, приди незваному гостю в голову подняться ко мне на второй этаж. Но нет, где-то через час звуки прекратились.
Наутро я была невыспавшаяся и раздраженная. Сойдя вниз, я обнаружила разбившуюся бутылку виски, непонятно каким образом скатившуюся с полки в кладовке. Бечевка на одном из ставень опять развязалась и валялась под окном.
На небе показались намеки на тучи. Одна из них, не свинцовая, а угрюмо-бардовая, накатилась на солнце и над скалами повисло странноватое и весьма зловещее освещение. В то, что наконец-то пойдет дождь, мне уже не верилось, но оставаться в мрачном доме после всех переживаний этой ночи было неприятно, и я отправилась завтракать к Лучано.
Ингрид, как обычно, возлежала в своем шезлонге и курила.
— Все загораете? — хмуро интересуюсь я, усаживаясь на соседний шезлонг и рассматривая ее иссиня-черную, сморщенную от солнца кожу.
— Да уж какие тут загары? Вон погода какая. Того гляди пойдет дождь.
Мы синхронно поднимаем глаза на небо и изучаем тучу.
— Да нет, это так, дразнится природа просто. Дождя не будет, — говорю я. — Хотя по мне, так уж лучше б был.
— Опять не в настроении проснулась? — лениво интересуется старушка. — В твои-то годы… и не радоваться жизни. Потом пожалеешь, да будет поздно. Каждую минутку обратно попросишь, плакать будешь, выть, землю грызть, душу дьяволу предлагать, да не даст он тебе. В наше время продать душу почти невозможно, никакого спроса.
Я внимательно смотрю в ее голубые, слегка выцветшие глаза, пытаясь понять, в какой степени услышанное надо понимать как шутку, но шведка вполне серьезна.
— Да не до души как-то, — тоскливо замечаю я. — Я, кажется, перебарщиваю с одиночеством. Схожу потихоньку с ума. Вчера поймала себя на том, что, когда остаюсь одна, то начинаю вслух с собой разговаривать.
Ингрид усмехается:
— Ха! Что ты знаешь об одиночестве, милочка? Одиночество — это когда разговариваешь с собой вслух, находясь посреди толпы людей, а не одна дома! Понятно? Детский сад, ей богу… Молодая, красивая, а под старуху молотит. Со старухой и сдружилась в результате!
Ингрид прицокивает языком и отмахивается от меня, как от недоразумения. Облокотившись о спинку шезлонга, она подкладывает руки под голову и ее глаза застывают где-то на горизонте.
Я киваю Тхану, прося двойной эспрессо, и тоже уставляюсь на море:
— А я опять полночи не спала. Все звуки мне мерещатся.
— Вот-вот, я и говорю, — зевает шведка. — Сиди побольше одна, в своей «Пратьяхаре»-то… Еще и не то померещится.
— А вы полагаете, что все это может мне просто мерещиться?
— Да запросто. Человеческий ум еще и не то от тоски придумает. Я-то уж знаю, что говорю.
— Ну у меня вообще-то есть доказательства.
— Это ветром отвязанная от ставня веревочка и та пропавшая расческа, о которой ты говорила на прошлой неделе? — усмехается Ингрид. — Ну-ну… Расческу, скорее всего, сперли твои уборщицы. Ты что ж думаешь, что раз им платишь свои гроши, то они за них резко обрастут сознательностью? Они тут все — мелкие воришки и проститутки. Писателя вообще за кусок железа да фотоаппарат грохнули. Забыла? А нормальных доказательств у тебя нет. Или есть?
— Сегодня бутылка упала в кладовке и разбилась.
— Какая бутылка?
— С виски. Тяжелая. Тоже, скажете, от ветра?
— А у тебя виски было?
В глазах Ингрид появляется упрек. Я его игнорирую. Я ищу покой. Только пьяной старушки в моем доме и не хватало.
— Или все-таки пойдет дождь? Вон туча темнеет вроде, — тяну я, переводя тему.
Тхан приносит мне кофе и меню.
— Мадам хочет завтрак?
— Не знаю, Тхан. Не раздражай, и без тебя плохо. И меню убери, я его наизусть знаю, могу как стихи читать.
Шведка только усмехается.
— Я бы, знаешь, что? Я бы на твоем месте провела следственный эксперимент. Устроила что-то такое, типа ловушку, из чего следовало бы уже совершенно определенно, что в доме побывал человек. И если наутро эксперимент бы не удался, выкинула все из головы и радовалась жизни. Ты посмотри на себя, ты ж довела себя, на человека больше не похожа. Ни цвета лица, ни нарядов. Позорище, а не молодежь пошла! Вон и эта придурошная из Америки сидит одна вечно, ногой в воде болтает, стихи пописывает. Тоже, русалка мне. А рядом, между прочим, есть жизнь, мужчины…
— Это какие?
— Ну я не про тебя, а про американку. Ей и немец этот неотесанный вполне сойдет за пару.
— Сэм-то? Не надо про него так. Он хороший. Он вырос в горах, с коровами общается, с планктоном, природу любит…
— Ну тогда француз.
Ингрид смотрит лукаво, проверяя мою реакцию. Зная это, я не реагирую никак. Курю и изучаю тучу. Вскоре я прощаюсь и ухожу. Я стала задумчива. Я совершенно серьезно размышляю о предложении Ингрид про эксперимент. Меня не столько пугает факт, что по дому может ходить маньяк, сколько, наоборот, я побаиваюсь, что его там не обнаружится, и это будет значить, что я действительно схожу с ума.
После длительного раздумья, на которое уходит весь день, эксперимент представляется мне так: полы на кухне, в коридоре и ванной надо усыпать чем-то очень мелким, например, мукой или песком. Лучше все-таки песком, муку потом устанешь выметать. Никакой ветер не сможет оставить на нем отпечатков следов, а вот для человека он будет почти незаметен, и утром я точно узнаю, что происходит ночью.
Решено — сделано. В сумерках спустившись на пляж с полиэтиленовым мешком, я набираю песка и через сито (эта мысль приходит мне в голову спонтанно и очень забавит меня) рассеиваю его по полу. Деревянные доски на полу в моем доме старые, изъеденные ветрами, слегка пятнистые и идеально маскируют мою уловку.
С учащенным сердцебиением я потираю руки и забираюсь в постель. Топор у меня теперь всегда лежит наготове. Приготовившись к длительному бодрствованию, я обкладываюсь всем необходимым: пепельницей, сигаретами, фонариком и даже каменными бусами (использовать их как четки), но всё это оказывается лишним. Сморенная недосыпом последней ночи, я моментально проваливаюсь в очередной кошмар. Мне снится, как мертвый писатель, почему-то с отрубленной головой, которую он держит подмышкой, ходит по рассыпанному песку и не оставляет совершенно никаких следов.
21
— Черт, черт, черт!
От нетерпения пулей слетев со второго этажа, как только первые утренние лучи забились в мои ставни, я замираю на нижней ступеньке и в шоке наклоняюсь к полу. Даже без контактных линз понятно, что весь пол усыпан человеческими следами! Судя по отпечатку — это спортивная обувь на рифленой подошве. И очень мужского размера.
— Дьявол, мамочка… что мне теперь делать-то?! — ною я вслух.
Вчера я, разумеется, сама перед собой слукавила. Конечно, я бы предпочла не найти никаких следов и травить себя мыслью о тихом островном помешательстве, чем столкнуться со столь вопиюще материальным, и от того — невероятно жестким, пугающим меня фактом, что ночами по дому абсолютно точно бродит какой-то псих! Об одиноких ночевках теперь не может быть и речи! Одно дело подозревать, другое — знать наверняка! Но в и отель съезжать у меня нет никакого желания. Там меня изведет своей неумолчной компанией Ингрид, и вообще, там надо платить, а, несмотря на уверенность шведки в моем непоколебимом бюджете, денег у нас со Стасом после начала кризиса почти нет. И что же мне теперь, послушаться Лялю и бесславно возвратиться в Москву?! О-о-о… Только не это!
В солнечном сплетении немедленно просыпается Зов.
— Да заткнись ты, ей богу! Не до тебя! Ой-ой, мамочка, но как же все-таки быть-то теперь?!
Лихорадочно я бегаю по дому, даже не пытаясь смести затоптанный песок. Зачем-то подбегаю к кофеварке, от нее — к холодильнику, открываю его, закрываю… Я ничего не ищу, мне просто дико плохо. Меня сейчас стошнит. Я выношусь на террасу. Мягкие солнечные лучи только вылезают из-за большого камня, а значит еще нет и семи утра. Ингрид спит, куда бежать? В полной беспомощности я присаживаюсь на корточки под стеной дома и поднимаю глаза кверху. С деревянной таблички мне издевательски подмигивают полинявшие голубоватые буквы: «Вилла Пратьяхара».
— Черт, черт, черт!
— Ингрид! Все ужасно! Ужаснее некуда! У меня был не глюк! Я провела ваш эксперимент! В доме остались следы!
Заспанная старушка, пойманная мной по дороге на завтрак, недоверчиво хлопает ресницами.
— Да, да, да! Я тоже не думала, что все это правда! В глубине души я надеялась, что мне все мерещится! Но теперь!? Что мне делать теперь? Звонить в полицию?
Морщины на лице шведки оживают и шевелятся, складываясь в неприятные складки. Местную полицию она невзлюбила, я помню.
— И что ты ждешь от этих полицейских чурок? Они даже в Америке, если верить голливудовским фильмам, ничего не могут сделать, пока тебя не убили. А тут? Все эти копы работают так же, как и современные врачи: предотвратить они ничего не могут, только разбираться с последствиями.
Я ношусь вокруг нее кругами, не в силах остановится.
— Но что же делать?! Может пожаловаться Лучано?
— Придумала… И что он может? Он сам сидит как мышь в своем отеле, всех боится. В Тайладне вообще не понятно, кого тут европейцу надо страшиться больше: воров или местных властей… Вон Лучано весь портретами короля увешался, чтобы не дай бог его не заподозрили в неуважении к местным традициям. Куда он лишний раз к полиции полезет?
— Господи, Ингрид, ну должен же быть какой-то выход?!
Впервые старая фантазерка выглядит растерянной. Мисс Марпл подкачала, против реального маньяка у нее ничего нет.
— И говоришь, в доме ничего не пропало? Ну кроме расчески?
— Да нет же. Ну полотенце еще, таблетки от головной боли, еда какая-то часто исчезает, хотя не уверена… Господи, вы думаете, что это даже не вор?! А КТО?!
— Кто, кто… — Ингрид потирает переносицу. — Вот это бы и неплохо выяснить вообще-то… Только кто этим займется? Не мы же с тобой вдвоем? Хотя… — ее лицо на миг озаряется мыслью, — может, француза попросить? Он детина огромный, глядишь, против мелкого тайца и сдюжит? Особенно, если его вооружить?
Я отрицательно мотаю головой.
— Я не пойду его просить.
— Это еще почему? Он же вроде тебе нравился?
Я категорически против:
— Нравился, не нравился… Я не хочу его видеть. Я не за этим сюда приехала!
— Ну вот ты себя и выдала! Ты не сказала о своих чувствах, ты сказала о своих намерениях! А наши намерения — это чушь! Последнее, на что надо обращать внимание.
— Ингрид! Ну сколько можно? В такую минуту, и все опять о каких-то чувствах мне талдычите! Вы невыносимы!
— Жизнь вообще невыносима, однако мы не спешим от нее отделаться, — резонно замечает старушка, поднимая указательный палец. — Это только когда смерть маячит где-то далеко и представляется нам нереальной, мы готовы относиться к ней философски или наплевательски, а вот когда она становится рядом, то все начинаешь видеть в другом свете. Так что не знаю, за чем ты там сюда приехала, а за французом идти надо. Ты не пойдешь, значит я пойду. Или вместе. А ты хочешь, чтоб когда-нибудь тебя, такую гордячку, просто укокошили ночью, как писателя?
— О-о-о…
Ингрид решительно берет меня за руку и ведет в сторону ресторана.
— Тхан? Куда ты делся? — озирается она. — Кофе неси, чертов мальчишка, и сразу побольше! Кофейник тащи целиком! Мы думать будем! Хотя… о чем тут думать? Все и так ясно.
Сказать, что я не сомневалась в правильности плана, разработанного старушкой, значит нагло соврать. Сомневалась — не то слово. До самого вечера я отпиралась от самой мысли о том, чтобы реализовать задуманное. «Я буду молиться. Я умею», — напутствовала нас Ингрид и сжала крючковатыми пальцами мою трясущуюся руку. Арно выглядел, как обычно, индифферентно и только пожал плечами.
Как только хорошенько стемнело, мы прошли в дом и засели в гостиной. Для засады был выбран самый темный угол, где мы и устроились прямо на полу, скрытые тенью от массивного резного кресла. Двери были плотно закрыты, ставни накрепко примотаны бечевкой, лампы мы, разумеется, выключили, и только полоски лунного света, проникающего сквозь решетчатые ставни, прочерчивали на полу холодную штриховку. Где-то за домом гулко ухала ночная птица.
— Слишком рано. Он никогда не приходит раньше полуночи, — шепчу я одними губами. — Но ты все-таки будь начеку и держи топор под рукой.
Арно молча накрывает мою ладонь своей. Его теплые и сухие пальцы переплетаются с моими холодными и влажными.
— Все будет хорошо, — тоже шепчет он. — Не дрожи.
Собственно, одна из причин, заставляющих меня сейчас дрожать, и из-за которой я до самого вечера никак не могла решиться на этот план, заключается именно в том, что после той ночи я не решалась опять остаться с ним наедине, причем не просто наедине, а в темном ночном доме, без таких отвлекающих маневров, как ужин, болтовня и свет, а именно так, как мы сидим сейчас: плечо к плечу, держась за руки и шепча друг другу в самые уши. Говоря про топор, я наклонилась к его лицу так, что спутанные пряди его длинных волос коснулись моей щеки, а его запах — невероятная смесь моря, водорослей и пота, отдающего миндалем — покрыл мою кожу немедленными мурашками. Я надеялась лишь на то, что, заметь он мое волнение, припишет его вполне обоснованному страху перед опасным ночным визитером. Замерев на секунду, я все-таки вытаскиваю свою ладонь из его руки, и не зная, куда ее деть, зажимаю между колен. Колени мои тоже дрожат.
Какое-то время мы сидим молча. В темноте довольно безразлично, открыты ли у тебя глаза, и я закрываю свои. От этого ничего не меняется, я давно превратилась в ожидание и слух, и объектом моего наблюдения выступает не шуршащий ветками за домом ветер, не скрипящий в ванной ставень, не плещущиеся о камни встревоженные волны, а громогласные, оглушающие удары моего сердца, да ровное дыхание Арно в нескольких сантиметрах от моего правого плеча. Я жду не вора. Я жду, пошевелится ли замерший рядом со мной мужчина, дотронется ли до меня опять его рука, поменяет ли он позу так, что его колено коснется моего.
Опять меня накрывает чувством, что высшие силы словно подарили нас друг другу, в нас есть что-то общее, наши ядра сделаны из одного и того же материала, химически-физически-мистически, как угодно. Я ощущаю это интуитивно: мы совпадаем по составу, мы должны провести хоть недолгое время вместе, хотя бы чуть-чуть, мы просто не имеем права потеряться, разойтись сразу. Это будет кошмарнейшая глупость, нелепость, непростительная ошибка. Мы должны успеть чем-то обменяться, что-то дать друг другу. Ну не может быть просто другого объяснения, почему меня, с такой неподвластной мне силой, так неистово влечет к этому человеку. Он даже не в моем вкусе, выглядеть так в сорок лет, опутывать себя всеми этими веревочками, не стричь и, кажется, даже не мыть волосы — откровенно дурной тон. Мне не симпатична ни его надменная национальность, ни снобская профессия адвоката, ни гоночная машина, ни даже чрезмерное увлечение рыбалкой — все эти его сети и лодки. Наконец, у него грубые щиколотки, широкая кость, слишком большие кисти рук, прямоугольные черные ногти, которые он в довершение всего еще и грызет. Иногда в нем сквозит что-то животное, в том, как он чешется на жаре, как откровенно презирает дезодоранты, в его пластике, необычной ловкости, с которой он перескакивает с камня на камень. Я не понимаю этого человека, не вижу, как в нем могут сочетаться неоструганные доски его самодельной лачуги и прямо-таки дизайнерская ванная комната, любовно выложенная красивыми камнями, ароматные оладьи из цуккини и полное презрение к сервировке стола (перед нашим ужином он сгреб разложенные на столе сети в сторону, и прямо на оставшиеся под ними лужицы поставил бокалы и тарелки), его грубость и одновременно сквозящая в каждом движении нежность, направленная, казалось бы, на весь окружающий мир. Перед моими глазами всплывает картинка, как он отодвигает рукой мешающую пройти ветку. В этом движении столько любви и заботы, какой-то ответственности перед миром. Я не хочу его видеть, я его боюсь, я не управляю собой при нем, но в то же время мне постоянно его не хватает. Господи, зачем этот человек вообще свалился на мою голову, поселился на том пляже, где мне взбрело в голову купить дом, который теперь невозможно продать? Почему он не выбрал себе другой остров, континент?! С какой стати ему не сиделось в Париже?! Боги словно свели нас в одной точке, специально убив для этого несчастного писателя, создав тем угрозу, родив во мне страх, будто бы вор теперь выбрал мой дом… Такое ощущение, словно весь мир действует сообща, чтобы постоянно сталкивать нас вместе!
Я чувствую, нас что-то связывает, мы должны объединить если не наши тела, то хотя бы накопленную информацию, чем-то обменяться, не физическим, а больше, важнее, чем-то помочь друг другу. Хотя чем я могу помочь этому самодостаточному человеку, сознательно бросившему цивилизованный мир ради жизни отшельника и не раздираемому никакими противоречиями и экзистенциальными вопросами, которые измучили меня, выгнали из Москвы на эти скалы, от которых меня уже тошнит? И все бы ничего, Арно, кажется, не прочь со мной общаться, но куда мне деть это раздражающее, все портящее влечение, которое пронизывает меня каждый раз, что я его вижу? Ночами мне снится, что он подошел, дотронулся до меня, у меня слабеют ноги, спазм перекрывает горло, и я теряю сознание от того, что ничего не будет, ничего нельзя! Я даже не хочу с ним обычного секса, я хочу сразу во второй акт этой пьесы: сигаретный дым заволакивает постель, мы устали, и между нами тихо струится разговор. Обо всем, о жизни, о том, зачем все это и почему, и что здесь надо делать. Я бы рассказала ему о Петровском, он не выходит у меня из головы и мне абсолютно не с кем про это поговорить. Невысказанные вопросы душат меня, и мне кажется, Арно именно тот человек, который поймет все с полувзгляда, это какая-то мистика, но у него есть для меня нужный ответ . И, возможно, он даже сам об этом не подозревает.
Кажется, я окончательно запуталась. Страстно желая его прикосновений, я постоянно убеждаю себя в том, что это лишь жалкая интерлюдия между нашим знакомством и тем разговором, которого я так жду. Жалкая, но абсолютно необходимая, и то, что это невозможно, сводит меня с ума. Почему это невозможно, мне тоже не совсем понятно, но чувство это стойкое и сомнений не вызывающее. Хотя бы потому, что это создаст невидимый, но необратимый раскол между мной и Стасом. Даже если он ничего не обнаружит, я же буду это знать , а этого уже достаточно. Ну и второе соображение, которое кому-то, возможно, и покажется надуманным, но не мне: если я допущу, решусь на то, чтобы что-то такое случилось между мной и Арно, то прости-прощай мое островное транквилити и покой, за которым я сюда приехала. Влюбленность, да еще не платонического свойства, окончательно вышибет меня из того шаткого баланса, который только начал зарождаться в моей душе. И хоть он пока и слабый, уязвимый, даже местами напоминающий тихую, бессловесную истерику, но для меня и это огромное достижение, наполняющее меня надеждой на то, что просто прошло еще слишком мало времени, переходный этап когда-нибудь закончится, и мое новое состояние закрепит свои позиции и изменит всю мою жизнь, наполнит ее если не высоким смыслом, то хотя бы внутренним покоем.
— Не дрожи так, — шепчет Арно, даже не догадывающийся, о чем я сейчас думаю. — Расскажи лучше, о чем ты мечтала, когда была маленькой?
Я искренне задумываюсь.
— Не знаю, — шепчу я через несколько минут. — Понятия не имею. Все дети о чем-то мечтали, хотели кем-то стать, летчиками, космонавтами, учительницами… А я никогда ни о чем таком не думала. У меня была очень хорошая семья: мама, папа… мы очень любили друг друга. Знаешь, прямо на редкость хорошая семья, как из рекламного ролика… Когда я была ребенком, мы иногда втроем обнимались и глаза зажмуривали от счастья. А потом, когда я их открывала, мне казалось, что я в каком-то замке, за крепостной стеной, защищена от всех страхов и бед, которым к нам никогда не проникнуть… И мне как-то этого хватало. Я ни о чем не мечтала, просто жила.
— А где они сейчас?
— Родители? Умерли. Разбились на машине пару лет назад. Оба. Вместе ехали на дачу… Я должна была ехать с ними, но в последний момент мой бойфр… Стас решил, что у нас другие планы. Позвонил, когда я уже садилась к папе в машину, и я не поехала с ними. Папа тогда разозлился, он не любил, когда в последний момент меняются планы, и Стаса тоже не любил. А Стас, действительно вечно все решает в последний момент, у него не столько планы по жизни, сколько постоянные изменения в них, и всегда в последнюю минуту. Ну это потому, что он бизнес делает, у нас по-другому нельзя. Папа обиделся, он мясо купил, думал мы, как раньше, втроем на даче, шашлыки… Стас нашу дачу терпеть не мог, ему там скучно было и он не ездил почти. Папа отвернулся, стекло поднял и уехал. Даже не попрощался. А потом… Когда я узнала о… ну о том, что с ними произошло, меня больше всего мучило именно то, что мы поссорились. Долго мучило, наверное, до сих пор еще… А Стас… выходит, он мне жизнь тогда спас. И я теперь ему обязана. А ты о чем мечтал?
Арно молчит и начинает постукивать пальцами по полу.
— А я рос на реке. На бабушкиной ферме. Лежал в траве и смотрел на небо, на проплывающие облака. Никакой семьи кроме бабушки у меня не было. Мать умерла, отец женился повторно и уехал в Латинскую Америку. Бабушка постоянно болела и кричала, так что я старался поменьше бывать дома. Сколько себя помню, я всегда был один. И сейчас я рад этому. Это легко. Свободно. Не рождает никаких иллюзий, которые позже будут мешать. На соседней ферме было что-то типа центра духовного развития, ну так это называлось. Знаешь, наркотики, бывшие хиппи, тантрические воркшопы и куча голых баб. Стареющих, довольно омерзительное зрелище… Иногда я ходил туда, подростком уже, перед тем, как уехать учиться в Париж. Вечерами они пели у костра, там был какой-то главный у них, и он приводил всех в транс, и люди ходили босиком по углям. Я тоже прошел один раз. Без волдырей. Все это с одной стороны так наивно, хотя тогда я этого не понимал, а с другой… что-то в этом все-таки было. Позже все закрылось, народ поразъехался, ферму продали. Я стал жить в Париже. Тоже один. Много работал и учился. Бабушка тогда постоянно нуждалась в операциях и сиделках, это требовало денег. Но к тому времени, что я научился зарабатывать, она уже умерла. Не дождалась. Я опоздал с деньгами. Я продолжал работать сутками напролет, просто не знал, чем еще заняться в городе, а потом втянулся и даже не думал, что можно жить по-другому. Стал много пить, довел себя до полной безысходности, дальнейшая жизнь была бы лишь умножением предметов. Один холодильник — вещь полезная, но два других уже ничего не добавляют. У меня всего было по два, по три…
— И женщин?
Арно усмехается.
— Женщин было тоже… Но я никогда не искал женщину. Это было бы слишком просто. Все чаще и чаще я вспоминал реку, траву на ферме, и такая тоска разъедать начинала… Будто скучаешь по чему-то такому важному, главному, как по дому, но начинаешь возвращаться в дома детства и понимаешь, что нет, это не то, не по этому дому скучал, а по какому-то другому, тому, где еще ни разу не был. Это ощущается как смертельная тоска, как зов такой непонятный…
— Зов?! — перебиваю я.
— Ну да, как зов, как странная болезнь, когда иногда посреди огромной шумной вечеринки выходишь на балкон, будто бы покурить, а сам стоишь, глотаешь непойми откуда вдруг взявшиеся слезы, и не понимаешь, чего тебе, к черту, не хватает-то? Возможно, сказалось и то, что я слишком быстро всего добился. Большинство убивает на это всю жизнь, ничего не получая, и им все время кажется, что цель правильная, просто она еще не достигнута, все еще впереди. И народ старается изо всех сил, жужжит моторчиками, пашет. Пока вообще не притупляется в них способность мыслить, сравнивать, задумываться о жизни. Но я слишком быстро все сделал и пришел к вполне закономерной пустоте. Она всех нас ожидает, когда мы добиваемся того, к чему стремились. Наконец я, как и многие, сбежал в Тибет. Если всего достичь, то альтернатив остается не так много: или в Тибет, или в петлю.
Я вздрагиваю:
— Или в окошко?
— Ну да. Или в петлю, или в окошко — никакой разницы.
— А дальше? — сглатываю я.
— А что дальше? Ничего. Как я и сказал, уехал, поскитался какое-то время, потом прибился к монастырю… Вставал в четыре утра, по месяцу сидел в випасане… Чуть колени не испортил, кстати. Зато узнал, что значит твоя «пратьяхара». Много чего узнал.
— А почему ты там не остался?
— Где? В монастыре? А я, считай, остался, — тихо смеется Арно.
— В каком смысле? — не понимаю я.
— А ни в каком. Смысла нет. Ничего вообще нет, этот мир — визуализация Шивы. Все наши мысли, идеи, все материальные предметы — суть лишь его вымысел. Поэтому совершенно не важно, где ты находишься. В конце концов, не ты живешь в монастыре, а монастырь живет в тебе.
— Но раз это не важно, ты мог бы все-таки остаться там, а не жить на острове?
— Какая ты дотошная. Мог бы. Но не остался… Потому что обрядиться в тряпки и усесться в позу лотоса, это ровным счетом ничего еще не значит. Это внешнее, этого не достаточно, дело вообще не в этом. К тому же, я все-таки француз, а это нация бунтарская, к толпе и к неизбежной в ней массовой истерии испытывающая искреннее отвращение. Там в монастырях, и особенно вокруг них, в кафе за забором, таких уже знаешь сколько сидит? Каждый монастырь давно оброс инфраструктурой из ресторанов и отелей, где те, кому лень медитировать, могут с умным видом обсуждать духовные практики, покуривая марихуану или потягивая пятый за день капучино. Люди бросают карьеру и вливаются в новую игру в просветление. Это даже раньше было модно. Сейчас уже и русские туда доехали. С опозданием на двадцать лет, но доехали. Есть целые русские колхозы, ашрамы, скитаются там группами по двадцать человек, — ну это из-за незнания языка, да и общей коммунальности в менталитете… Кстати, есть у вас и еще одна препротивная особенность в менталитете: повышенное самомнение. Буквально каждый второй русский с чего-то считает, что уже просветлился. Это удобно: если денег на баб не хватило в своей стране, то сел где-нибудь в Тибете у стены, облачился в тряпье, якобы все мирское тебе уже чуждо, глаза попучил с полгодика и трахай наивных дурочек сколько влезет. Это как та же карьера, только более омерзительная. Деньги зарабатывать и то как-то честнее что ли, чем спекулировать на духовном. Это уж совсем низко, хуже, чем начальников в офисе подсиживать. Уверен, что карма от таких игр не улучшается, а только портится в конец. А обратного хода уже нет, люди заигрываются, все бросают, назад уже не вернуться, но и тут ничего не получается. Крыши у народа там съезжают массово, совсем порой до низости доходит, до абсурда. Кучи искалеченных судеб я там видел, страшнейшая зависть развивается, жадность до духовного… И без того раздутое самомнение от всего этого только растет, разбухает как раковая опухоль, выливается в соревнование кто духовнее, кто чище… Часто ума не хватает добраться до сути, и народ начинает зацикливаться на телесном очищении, увлекается аюрведой, кишки до одури промывает, на странных диетах сидит. Играют люди в то, в чем ничего не понимают. И еще ладно, когда туда приезжают те, у кого до этого хоть что-то в жизни было, им еще не так обидно. А то ведь в основном там сидят те, кто не отказался сознательно от чего-то, а прибежал туда от безвыходности, от того, что на мирском поприще оказался слаб, ничего не смог получить, холодильников мало заработал, бабы красивые не достались. И вот они-то там и есть самые озлобленные, самые искалеченные. Хоть там, но им нужно что-то людям доказать, и каждый третий играет в гуру, в Учителя. Тибетцы видеть этого уже не могут. Сначала терпели, а теперь просто поднимают ценники в монастырях, чтоб все эти белые придурки хоть не забесплатно под ногами путались. А серьезные мастера вообще закрыты для публики. Настоящее знание скрыто от туристов, да и правильно. Хотя извини… Чего-то я разошелся. Тебе, наверное, все это неинтересно.
— Не правда! Мне как раз это интересно. Так, а что случилось потом, когда ты ушел из монастыря? Почему ты не в Париже, а здесь?
— А что меня ждало в Париже? Опять офис? Это самое тупое, что вообще можно делать в жизни. У тебя была семья, папа-мама, а у меня никогда не было этого примера перед глазами, да и слава богу, как я сейчас понимаю. Так что, по крайней мере, хоть жениться и размножаться я не собирался, и на том спасибо. К тому же в Париже откровенно тесно, в воздухе словно висит пелена из примитивных человеческих желаний, алчности, эгоизма и глупости, аж неба за ней не видно и не продохнуть. Или ты думаешь, что Париж — это рай земной, воспетый Ремарком?
— Ну а здесь лучше?
Видимо устав от одной и той же позы, Арно чуть отодвигает кресло, выпрямляет ноги, а потом и вовсе растягивается во весь рост на спине, подложив локти под голову. Мне кажется, я вижу его лежащим в траве у той реки его детства.
— Здесь лучше, — зевает он. — Здесь ничто не отвлекает, не мешает, здесь можно просто жить. В смысле, теоретически это можно сделать где угодно, но практически — здесь проще и дешевле. Когда бросаешь работу, последний фактор начинает играть определенную роль, извини за прозу жизни.
Последнюю фразу я пропускаю мимо ушей. Про прозу жизни, экономический кризис и ужас надвигающегося безденежья мне все слишком хорошо известно.
— Просто жить?
— Ну да. Или, если хочешь, жить просто . Это такой срединный вариант, по сути — единственный нормальный. Просто жить, осознавать это и пить каждую минуту, как нектар. Расслабиться, отпустить все, ни к чему не стремиться, включая счастье или просветление. Ты разве не за этим сюда приехала?
— Я? Почему ты спросил?
— Ну, твой дом называется «пратьяхара». Что-то же ты в это вкладывала, или я ошибаюсь, и ты просто начиталась книжек? Ты же мне не поверила, что читать вредно.
— Ну что-то я, наверное, и вкладывала. Только не просветление.
— Просветление — заезженное слово. Никто толком не понимает, что оно значит. Я не говорю о нем, я говорю о простоте жизни, каком-то балансе, покое, когда внутри тебя не возникает никаких душераздирающих противоречий и конфликтов. Это единственное, что мы можем. А просветление не зависит от нас. Как мне сказал мой учитель, просветление — это подарок Бога, награда, дар, поощрение, и подписываются такие приказы не на земле. Другими словами, что бы ты ни делал, как бы из кожи вон ни лез, ты не можешь сам его достичь.
— То есть я правильно поняла, что ты здесь, потому что отчаялся найти что-то в Тибете?
— Не правильно. Все, что я там искал, я уже нашел. Я говорил тебе, что у меня все быстро получается? Шучу. Не пугайся. Я же сказал уже, я просто живу . Я больше ни за чем не гоняюсь, ни за земным, ни за духовным. Мы не знаем нашего будущего, нам неизвестны планы богов на нас, в такой обстановке ничего спланировать невозможно, — это утопия, абсурд. Мы все все равно умрем, и это единственное, что тут гарантировано. Вот тибетцы верят, что умирая, мы перевоплощаемся в другом теле. Это знают все, но не все знают, что между воплощениями проходит четыреста земных лет. Понимаешь? Четыреста! Тебе не кажется после этого, что наши жалкие шестьдесят-семьдесят лет, которые мы проводим тут, это не главный кусок нашей жизни? Хотя бы просто статистически. Четыреста лет там и семьдесят тут! То есть выходит, что земная жизнь — это самый короткий отрезок, по сути, ожидание тех четырехсот лет, просто мост между двумя берегами. А какие могут быть цели на мосту, кроме как перейти на тот берег, и, по-возможности, остановиться ненадолго и полюбоваться открывающимся видом? Плюнуть в пропасть, сфотографироваться, ну покачаться еще можно, если мост подвесной… Кстати еще о статистике. Знаешь, сколько в среднем уходит жизней на то, чтобы душа достаточно развилась и избавилась от перерождений? Что ты затихла? Это был вопрос.
— Ну… я не знаю. Думаю: у кого как. Мы все тут разные, такое ощущение, что не на одной и той же стадии находимся. Иногда такие уроды попадаются!
Арно усмехается и на миг дотрагивается до моего колена.
— Правильно, у кого как. Но все-таки порядок хотя бы назови? Сколько жизней?
— Ну… десять?
— И я так думал. Нет, тибетцы абсолютно уверены, что в среднем на это уходит от пяти до десяти тысяч жизней.
— Но это…
— Знаю. Уже считал. По срокам мы вписываемся, — шепотом смеется Арно. — Я тоже первым делом подумал, что столько жизней, помноженные на четыреста лет интервала между ними, просто не впишется в сроки существования человечества. Нет, посчитал и вышло, что все прекрасно вписывается. Можешь поверить. Так что твоя пратьяхара — это, собственно, правильное состояние, учитывая все обстоятельства. В пределе это и есть просветление. Но правильное. Пратьяхара — это отстранение, в том числе и от цели. А просветление, в том смысле, что его понимают западные люди, это цель, а цель возбуждает эго и становится от этого недостижима. Хотя тут такие тонкости начинаются, что я боюсь тебя утомить. Европейцы, американцы, австралийцы уже лет двадцать, как массово поехали на Восток. Русские немного, как обычно, подотстали, но это не страшно, догонят. Тут и бежать-то некуда, двадцати лет вполне хватает, чтобы уловить всю никчемность наших желаний. Статистика по просветлениям белолицей части планеты удручает, и в этом довольно быстро разбираешься. Индия, Непал, Тибет запружены медитирующими туристами, но никто там так ничего и не нашел по большому счету. Потому что у нас дико неправильный подход, мы привыкли ставить цели и пожинать плоды немедленно. Мы вообще ориентированы на цель, любыми средствами. А те же тибетцы так не живут. Они ориентированы на процесс, на состояние, поэтому они расслаблены. Они знают , что ничего быстро достичь нельзя, и все решает Бог, ну или высшие силы… это как тебе больше нравится это называть. Поэтому тибетцы иногда просветляются. А мы нет. Мы цепляемся за цель, за желание просветлиться, цепляние — это привязка, канат, цепь, которая нас никуда не пускает. Наши эго от этого только растут и никакая пратьяхара невозможна, хоть какой дом ее именем назови. Дом — это тоже привязка, причем ого-го какая! Извини, я не хотел тебя обидеть… У меня тоже есть дом. Даже два. Парижскую квартиру я сдаю, на эти деньги и живу. Да это не важно, это все внешнее, а мы говорим о внутреннем.
Арно опять садится, опираясь на стену и продолжает через минуту уже спокойнее.
— Да я не один такой. Не знаю, как у вас, а на Западе таких как я много. Даже слово новое придумали — downshifting, типа упрощение жизни, движение не в сторону улучшения материального, а наоборот. Не вверх, а вниз по социальной лестнице. Многие уезжают на острова, в Тайланд, на Бали, некоторые даже в Африку или Латинскую Америку, кто как может устраиваются, некоторые заводят маленькие бизнесы, кому-то хватает денег просто от сданной квартиры.
— По-твоему, Лучано — дауншифтер?
— Ну, в своем роде, да. А что он тут еще делает? Пытается разбогатеть на Ингрид, по-твоему? Сколько я за ним не наблюдал, он просто живет. Работает, но это не та работа, что была у нас у всех там . Играет на трубе, часто подолгу замирает и смотрит на море, не замечала? Он просто живет в моменте, не стремится ни к чему. И, кстати, его нельзя заподозрить, что ему просто природы в Италии не хватало. Эта жизнь, о которой я говорю, складывается не из природы. Его Сицилия — одно из красивейших мест в мире, так что не ради моря и внешних красот он сюда приехал.
— А за чем?
— Ну… это сложно сформулировать. Возможно, один из ключевых факторов — отсутствие здесь людей. Люди, они… знаешь ли… фонят . С ними тяжело оставаться собой, не заражаться постоянными желаниями. А если ты чего-то сильно жаждешь — то не получишь. Это такой есть закон. Знаешь, как Будда просветлился? Отказался от жизни, от всего, не ел, довел себя почти до голодной смерти, из кожи вон лез, все перепробовал и никак. И только когда ученики в нем разочаровались и ушли, сам он плюнул на все и тоже уже встал уходить, вот только тут его и накрыло.
— Забавно. А до этого ему мешало желание просветлиться?
— Выходит, что так. Желания — вообще самое страшное, что есть в жизни, и самое неискоренимое. Они заложены всей нашей европейской культурой, всем менталитетом. Они растут в частности из христианства, это очень изгаженная и искореженная религия, одна из самых удаленных от Бога. Возможно, здесь виной то, что она вынуждена была существовать в самом технологически продвинутом обществе, где люди уже изверились во всем. Она примитизирована и популяризирована настолько, что люди давно потеряли нить, суть того, что говорится. Хотя говорится в ней то же, что и в других религиях. На закрытом уровне она еще сохранилась, но на внешнем, народном — церковь уже больше напоминает социальный институт, нежели религию или философию. Ватикан — это отдельная страна, причем очень не бедная… Единственное, что запечатлелось в массовом сознании — это заповеди, да и то потому, что уж больно похожи на уголовный кодекс. Да и цель у них такая же, — они нужны просто, чтоб мы тут все друг друга не поубивали как звери. Христианство уже давно не ориентировано на то, чтоб мы что-то по-настоящему поняли или… Извини, как ни стараюсь, никак не могу избежать этого чертова слова — просветлились. Да и корить христианство за это, пожалуй, и не надо. На самом скрытом уровне оно, так же, как и все другие религии знает, что просветление недостижимо по нашей воле. Это дар, и наступает оно всегда внезапно, а не как следствие совершенных тобой поступков. В этом смысле все религии равны и говорят об одном и том же, просто на разных языках и адаптируя смысл под социо-культурные особенности той местности и того времени, в которой живет их паства… Ты еще не спишь?
— Нет. Я думаю. Что же тогда можно считать подходящей религией для нашего времени? Ну… неустаревшей, адаптированной под наши новые социо-культурные…
— Ну а чем тебе не нравится дауншифтинг как религия?
— А во что тут придется верить?
Арно опять тихонько смеется в темноте:
— В себя, дорогая Паола! Как это ни плачевно — только в себя. В этом и заключается ее «адаптированность» к нашему времени.
Неожиданно его рука хватает меня за плечо:
— Тссс… Слышишь?
Я расширяю глаза от ужаса.
— Что?!
Нащупав топор, Арно держится одной рукой за стену и медленно привстает на колени.
— Где-то за стеной… — почти неслышно шепчет он. — Не шевелись, я сам.
22
В темноте я чувствую дыхание Арно. Его рука крепко стискивает мое запястье. Мы оба замерли и прислушиваемся к тишине. Дом, как кладбище в полночь, дышит своей жизнью, поскрипывает старческими стенами, шуршит невидимой пылью и дрожит стеклами под порывами ветра, но ни один из этих звуков не напоминает человеческий шум. Снаружи бьются о камни короткие волны, шелестит потревоженная листва.
— Я ничего такого не слышу, — шепчу я в самое ухо Арно.
Он молчит и сжимает мою руку крепче, кивком показывая в сторону коридора и ванной комнаты. Я прислушиваюсь уже более направленно и улавливаю легкий поскрип ставня. В нем подозрительно отсутствует хаотичность, присущая произвольным звукам, производимым природой. Еле слышно, но очень ритмично, жутко, именно по-человечески ритмично, ставень раскачивается туда-сюда. Или вернее — его раскачивают !
— Это в ванной. Там нет щеколды, и я примотала веревкой. Кто-то дергает ставень, пытаясь расшевелить узел, — шепчу я одними губами.
Прислушавшись еще, я становлюсь абсолютно уверена в своей догадке. Это не ночная галлюцинация. Судя по всему, ночной визитер проникает в дом именно через это окно. Подняв глаза к потолку, я пытаюсь представить себя, беззащитно спящей там — наверху, в спальне, в пустом доме — с вором или маньяком, спокойно разгуливающим по первому этажу, и волосы у меня встают дыбом. Даже сейчас, крепко держась обеими руками за Арно и имея явное преимущество перед взломщиком (как ни крути, нас двое, мы вооружены и знаем, что он здесь, а он даже не догадывается о нашем присутствии), меня парализует от ужаса.
Внезапно звук прекращается. На миг дом околдовывает густая тишина, даже волны снаружи замирают перед скалами, но через несколько секунд я вздрагиваю от звука упавшей и разбившейся в ванной склянки. (Возможно, тарелочки с моими кольцами или флакона духов, стоящих на столике под окном?) Значит бечевка благополучно развязана, и жуткий визитер уже в доме!
Я впиваюсь ногтями в руку Арно и отдаю себе в этом отчет лишь после того, как он слегка трясет кистью, пытаясь ослабить мою хватку.
— Где тут выключатель? — шипит он мне в ухо.
— Прямо над тобой.
Арно перекладывает в руке топор и опирается одной рукой о пол.
— Я сейчас встану, а ты залезь за кресло и не шевелись. Когда он зайдет, я резко зажгу свет. Поняла?
В коридоре раздаются неуверенные шаги, скрипит, открываясь, дверь ванной комнаты и по растрескавшейся штукатурке коридорной стены начинает бегать тусклый луч от карманного фонарика. Я перестаю дышать. Фонарик на миг пропадает (пошел в сторону кухни?!), но тут же возвращается обратно и скользит по стене гостиной, выхватывая узорные детали деревянного секретера, изогнутые медные ручки на маленьких декоративных ящичках, неожиданно дергаясь, ослепив себя собственным отражением в зеркале и, наконец, замирая в метре от моего кресла. Я сжимаюсь в клубок и закрываю рот ладонями, пытаясь унять дрожь в челюсти. Забавно, проносится у меня в голове, насколько же некоторые заезженные образы, вроде «дрожать коленями» или «стучать зубами», оказывается, совершенно физиологически правдивы.
— Стоять! — неожиданно выкрикивает Арно, я вздрагиваю, и в тот же миг комната озаряется светом от люстры.
Какой-то миг, показавшийся мне вечностью, я ничего не вижу, оглушенная и ослепленная резкой вспышкой, но уже через несколько секунд глаза привыкают к свету и мне отрывается совершенно дикая картина: стоящий у стены лохматый раскрасневшийся Арно (одна рука так и осталась на кнопке выключателя, вторая сжимает топор и занесена высоко над головой) с удивлением таращится на пойманную жертву; жертва же (в насмерть перепуганном лице ни кровинки, торс согнут пополам, ладонь закрывает голову, защищаясь от удара, рот как-то криво, набок полуоткрыт) — в ужасе взирает на топор.
Все трое мы щуримся от яркого света и пытаемся успокоить дыхание. Придя в себя первым, Арно, наконец, отрывается от стены и делает шаг вперед, устрашающе потрясывая оружием.
— Без паники! Ты кто?
Отряхивая платье от приставших клубков пыли, я издаю что-то похожее на стон и выбираюсь из своего укрытия.
— Спокойно, Арно, убери топор. Это не вор. Это Стас.
Арно только присвистывает и опускает руку, зато сразу же оживший при моем появлении, словно заводная кукла, в которой повернули ключик, Стас разражается целой возмущенно-заикающейся тирадой по-русски:
— Бляяя… Дд…ддетка! Я чуть не ох…ххренел! Кто такой, нах…, этот Рембо и что он делает нн…нночью в нашем доме?! Да еще с этим топорищем! Какое варварство! Этот придурок испугал меня до пп…пполусмерти!
— Успокойся… — Я пытаюсь избавиться от застрявшей в волосах пыли. — Этот Рембо, как ты изволил выразиться, меня охраняет в твое отсутствие! А вот какого черта ты тайно проникаешь в дом через окно и крадешься словно вор? Это ты меня перепугал! И вообще, что все это значит?!
— Что «это»? — звереет Стас. — Что я приезжаю домой и застаю там какого-то вооруженного пп…психопата?!
— «Это» означает то, что ты приезжаешь домой и, вместо того, чтобы войти днем в дверь, лазишь ночью через форточки! — парирую я, немедленно раздражаясь в ответ. Мне становится обидно за свою напрасную тревогу, за несколько недель бессонных ночей, за идиотскую роль, которую мне пришлось вынести перед Арно, наконец. — Что это за концерт?! Ты что, за мной шпионишь что ли?!
— А ты хх…хочешь сказать, что не заслужила этого? Ведешь себя как праведница? Само оскорбленное достоинство? А сама притащила в дом этого пролетарского дд…детину?
Стас кивает в сторону француза.
— Он не пролетарский. И не кивай на него с таким видом. И вообще говори по-английски. Он ничего не понимает, он француз.
— Ах, фф…француз? Ну зз…зздорово! Ты тут времени зз…зря не теряла…
Почесывая затылок, Арно кладет топор и направляется к двери.
— Ну я так понял, мне пора, — говорит он и прикрывает за собой дверь.
— Вали, вали! Как говорится, спасибо и досвиданья. И скатертью дорога! Au revoir! — кричит ему в спину Стас и решительно направляется на кухню. — Господи, хоть виски нормально выпить, со льдом. Я, кстати, должен тебя отчитать. Ты так нерегулярно делаешь лед! Как ни откроешь холодильник, там ничего нет. Совсем без меня расслабилась. — Стас плещет виски в два стакана, неаккуратно, его руки еще немного дрожат и на стол проливается коричневатая лужица. Кидает лед. Сначала четыре кубика себе, потом оставшиеся два мне. Приглаживает волосы, характерно, в своей привычной манере, с оттопыренными пальцами. — А то крики посреди ночи, топор, Тарзан… Бред какой-то… Только французских Тарзанов нам тут и не хватало. Что ты так на меня смотришь? Пей, помогает успокоиться.
Опрокинув в себя содержимое стакана, он еще раз приглаживает волосы, наливает себе второй, неуютно озирается по сторонам, придвигает стул и оседлывает его по-ковбойски, задом наперед.
Выглядит Стас просто жутко. На лице рыжеватая щетина, глаза затравленно бегают, на бледных щеках от возбуждения проступили яркие розовые пятна, грязные волосы отказываются приглаживаться и стоят рыхлым ежиком. Одет он в изрядно перепачканные белые льняные штаны, завернутые по икру, и розовую футболку-поло. На бледных тощих ногах сквозь кожаные перекладины сандалий видны костистые пальцы. Невероятно, сверх всякой нормы длинные, под прямым углом согнутые в суставе, они словно вгрызаются в землю. Мне всегда мерещился в этом весь Стас, все его отношение к жизни. Жанна, недолюбливающая его, как-то выразилась, что он не крепко стоит на земле, а цепко . Поймав мой взгляд, Стас тоже смотрит на свои ноги и удовлетворенно шевелит пальцами. Возможно, ему видится в них что-нибудь наподобие аристократической тонкости. Кажется, однажды Стас даже что-то такое мне говорил. По крайней мере на его лице начинает играть самодовольная улыбка.
Я ставлю свой стакан на стол.
— Чего не пьешь-то? Одичала тут поди? Ну я тогда возьму твой лед. — Стас лезет в мой стакан, вылавливает ускользающие кубики, бросает себе и, облизав пальцы, вытирает их о футболку. — Бляя… Устал… Вот ей богу, откровенно просто устал! Присаживайся, не торчи надо мной. Ты как-то очень возвышаешься.
Стас похлопывает себя по ляжке, намекая, куда мне присесть, но я отхожу к окну.
— Может, все-таки объяснишься? Что ты тут выслеживаешь ночами? И когда ты вообще приехал на остров? И где ты здесь живешь?
— Оппа-оппа-оппа… детка, слишком много вопросов! А, может быть, ты первая объяснишься, что это был за детина? Одного роста не меньше двух метров… бррр… какая гадость! И пахнет от него оленем! О-о-о, я кажется чую до сих пор его запах в доме, волнительную смесь пота и сальных волос!
— Нормальный у него рост и ничем он не пахнет. Ты просто ревнуешь.
— А что, мне уже не полагается ревновать?
— Да Бога ради, кто ж тебя лишит этого удовольствия? Просто в данном конкретном случае ты ошибся адресом. Не к чему здесь ревновать.
— Так-таки и не к чему? А как насчет того, что в одну из ночей я сюда пришел, а тебя здесь вообще не было? — ухмыляется Стас и победно барабанит пальцами по столу.
— Откуда ты знаешь?
— Откуда? От верблюда. Видел, как ты уходила, просидел в доме почти до утра, две бутылки вина успел выпить, а тебя так и не дождался.
— Хорошо. Я действительно уходила, но в ту ночь ничего не было.
— Ах да? Какая незадача! А в какую было? — Стас приходит в восторг, опять залпом выпивает содержимое стакана и наполняет его заново. — Что-то мне подсказывает, что, не приди я этой ночью, сегодня бы у вас тут точно все было. Нет?
— Всё, прекрати переводить тему! Я сказала: ни-че-го не было! Никогда. Ты не ответил на вопрос, какого черта ты от меня прячешься? И когда ты приехал?! Я уже издергалась, звонила тебе, смс слала, писала! Телефон отключен, за весь месяц от тебя ни строчки, ни звонка! Ляля говорит, Артем тебя потерял, все вообще тебя потеряли. Потом ты появляешься сюда, прячешься, шпионишь ночами, пугаешь меня до смерти! Ты хоть знаешь, что на пляже недавно было убийство? Я чуть с ума не сошла. Я даже топор купила!
— А я думал, топор принадлежит Тарзану! Он ему идет! — прицокивает языком Стас и опять опрокидывает в себя виски.
Я отрываюсь от окна и начинаю мерить кухню диагоналями.
— Заканчивай называть его Тарзаном! Он, между прочим, успешный парижский адвокат.
Глаза у Стаса слегка порозовели и стали глуповатые. Несмотря на свою нервность, пьет он редко и совершенно не умеет этого делать.
— Адвока-ат, говоришь?! А похож на Маугли! — хрипло хохочет он.
Я выхожу из кухни и возвращаюсь с топором.
Стас заливисто ржет.
— Ой, не могу! Ты меня сейчас зз…ззарубишь? Ну заруби! Во дожили, а? Нет бы, подойти, поцеловать, пожалеть, наконец. Я как псих лесной, горный олень, тут по скалам прыгаю, без нормальной еды живу, душ по-человечески неделю не принимал, только эти морские вв…вванны, да и то чуть шею не свернул на камни выбираться, а ты зависла надо мной с топором, и еще верзилу французского натравила! Что ты таращишься-то? Сядь! И выпей нормально!
Я сажусь на стул и опрокидываю в себя теплый виски: как есть, без льда. Лицо немедленно искривляет гримасой. Стас выливает остатки себе в стакан и трясет бутылку.
— Упс. Кончился. Быстро как-то. Как жизнь не совершенна все-таки, а? Ты подумай, это ж твоя любимая тема! Про жизнь, а?! Смотри, как тебя уу…уувидел, сразу все твои темы вспомнил! А кстати, пожрать у тебя случаем ничего нету?
Я встаю и подхожу к холодильнику.
— Я сама вечно голодная. Таек выгнала, они в еду добавляют невесть что, писатели от этой гадости мрут как мухи. Яичницу вот могу сделать. С луком и морковкой.
— А можно без морковки? — морщится Стас.
— Можно и без яичницы.
Стас помогает мне выгрести из холодильника все, что там находится. Находится там не много. Поджарив лук, я по очереди выбиваю в него все четыре найденных мною яйца, последнее из которых (о, боги!) оказывается совершенно тухлым. Стас гомерически ржет, наблюдая, как я опрокидываю содержимое сковородки в помойное ведро и принимаюсь сооружать бутерброды.
— С чем? — Стас заглядывает мне через плечо.
— С морковкой, — невозмутимо отвечаю я. — Ты сам видел, больше ничего нет.
— Вот это класс! Бутерброды с каротином, супер биоорганика, надо это ноу-хау продать в фитнесс-клубы, пока никто идею не украл! — издевается Стас, заметно пошатываясь. — А курицы-карри в этом гг…ггостеприимном доме разве нет?!
Я молчу.
— Пп…прикольно. Разве мы не на ее благословенной родине? В Москве ты ее нам где-то выискивала, не знаю уж в каком «Ашане»? Наверное, бедная, с ног сбивалась? А в Тайланде не нашла? Или она тебе поднадоела? А? Детка? Ну ты присядешь ко мне, наконец? Как у нас с курочкой обстоит? Или тебе недосуг был готовить? Все, небось, по адвокатам тут бегала? По французским. А я вас видел, кстати, на пляжике вы таком маленьком обосновались, яко голубки. Загорелые такие… Это ведь не одно и то же, что в Москве сидеть зимой и из кризиса вылезать, да? Или нет? Обдирая пальцы в кровь, срывая ногти с мясом, карабкаться по обледеневшей стене московского маразма! Но ты ж ничего не знаешь. Ты ж тут с Мм…маугли загорала. Загорела, кстати, на славу. Выглядишь — просто обалдеть! Что есть, то есть… И не дотронься до тебя теперь, да? А мне и не надо. Я — че? Я — ниче. Так, сейчас допью и пойду нах… А как там мои запасы коллекционного вина поживают? Еще чего-нибудь осталось? Или наш француз тоже не дурак хорошего винца попить?
— Успокойся и иди спать! Ты омерзительно пьян. Завтра поговорим. Где спальня еще помнишь?
Стас устало роняет голову на руки и прикидывается храпящим. Шутка приводит его в полный восторг, и имитация храпа переходит через минуту в истерические раскаты хохота:
— Хррр-ггы… Спальня?! Oh, yeah, baby! Спальня… Тамбовский волк тебе товарищ, а не спальня… Хрр… Хрр… Мой адрес не дом и не улица! Моя спальня вовсе не располагается на втором этаже этой милой домушки с таким прекрасным видом на рассвет… До моей спальни мне еще ломать ноги, полчаса хода, не меньше… Я тут вот бутербродиков сейчас прихвачу и двину с вашего позволения.
Я не верю своим глазам, но шатающийся Стас действительно встает со стула и, на ходу засовывая бутерброды прямо в карман штанов, направляется к двери.
Я вскакиваю за ним.
— Куда ты пошел-то?
Но Стас уже открыл входную дверь и замер черным силуэтом на фоне уже чуть светающего неба. Не исключено, что место для финальной драматической сцены было выбрано им не случайно. Получилось, действительно, впечатляюще, хоть фотографируй.
— Чао, крошка! Прощай, бэйб! Не пп…ппоминай лихом, любовь моя!
Больше всего на свете мне хочется плюнуть на весь этот концерт, подняться на второй этаж и рухнуть в кровать. Но нельзя же отпускать пьяного, направляющегося куда-то на скалы!
— Да стой ты, Господи! Куда ты пошел-то?!
— Туда, радость моя, туда… Где далеко, далеко на острове Чад изысканный бродит жираф…
— На озере.
— Не понял?
— На озере Чад, а не на острове, говорю.
— А-а-а… — Стас опять начинает гомерически ржать. — Забыл! Прикинь? С этими вашими островами забыл про озера! Ну это простительно, не согласна? Особенно учитывая некоторые печальные обстоятельства… Слушай? — Он опять переходит на серьезный тон. — А дай бритву? Я свою забыл. Не могу я больше не бриться, эта сука растет, под ней все от пота чешется! Да и видок у меня… Слава Богу в пещере хоть зеркала нету, а то б сам себя до полусмерти испугал! Настоящий пещерный человек из меня получился! Кто б мог подумать? Столько лет работы цивилизации по очеловечиванию нашего обезьяньего облика, и все насмарку из-за какой-то бритвы?
— В какой пещере нет зеркала? — Я начинаю прислушиваться к его бреду. — Ты что? В пещере живешь?!
Стас послушно кивает.
— Yes, детка. Ты меня выкупила. Пещерный я человек. Уже неделю. А ты думала, я где поселился в вашем маленьком раю? У вас тут что, кроме этого итальяшки есть еще какие-то заброшенные горные варианты?
— О господи! — До меня начинает, кажется, доходить. — Так это твои шмотки я видела на скале у пещеры над нашим пляжем?!
— Мои, крошка. Чьи ж еще? И вот именно над вашим пляжем…
— Боже мой! ЗАЧЕМ?! Из ревности?!
— Гамак… Хороший такой. Я пп…покачаюсь? А то давно на мягоньком не лежал… ммм… — Стас отрывается от двери и, пересекая каменистую террасу у дома, залезает в гамак. Одну ногу он согнул по-лягушачьи и прижал к груди, вторую вывешивает наружу и носком ноги отталкивается от земли, раскачиваясь. Задравшаяся брючина оголяет худую ногу. — Ух, и хорошо же!
— Немедленно прекрати! — У меня не выдерживают нервы. — Расскажи мне, наконец, что происходит!
— И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав… Ты плачешь? Послушай… Далёко, на озере Чад изысканный бродит жираф.
— Это ты, что ли, изысканный жираф?
— Да не-е-е… Я кто? Я так, полежать в гамаке пришел. Жираф — это… Это француз! Гхее-гхее… А правда! Ему идет имя жираф! Оч-чень по-французски по-моему звучит, нет?
Я разворачиваюсь и ухожу в дом. Хлопаю дверью, поднимаюсь на второй этаж и падаю в постель. Если он не вернется и сам все не расскажет — то я хоть посплю остаток ночи.
Минут через пять входная дверь хлопает и по лестнице шлепают шаги.
— Детка?
Я молчу.
— Ну ладно, не обижайся. Будешь сигарету?
Стас садится на кровать. Ставни на окнах закрыты и розовые лучи почти не проникают в спальню. При каждой затяжке лицо Стаса коротко озаряется светом, и я обращаю внимание, что глаза его выглядят серьезными, почти трезвыми.
— Да нн…нечего тут рассказывать. Ни за кем я не слежу. Я просто не могу открыто появиться в доме по причине… Ну по причине, что меня могут здесь искать люди… которым… эээ… Вовсе не надо меня находить. Видишь ли, про этот дом слишком многим в Москве уже известно. Что знает Ляля, то знает весь город. Ну вот я и поселился в пещере. Это временная мера, ненадолго.
— А в дом ходил ночами…
— Ну да, а в дом ходил потому, что должен же я был что-то жрать и пить, наконец? Да и из меня такой походник, сама знаешь… Я все продумал вроде, а вышло, что ничего нужного толком не собрал. Расческу забыл, парацетамол забыл… А у меня, как назло, головные боли сплошняком всю неделю.
— А почему ты мне не дал знать, что ты тут?
Стас чешет затылок.
— Ну почему-почему… Потому. Чем меньше народа знает, тем лучше. Могли бы люди приехать, пришли бы, спросили тебя, где я. Так ты ничего не знаешь и у тебя бы это на лице было написано. А если б знала, то могла бы проколоться как-нибудь, лицо бы дрогнуло, не знаю, интонация не вышла бы убедительная… Так ты будешь сигарету?
— Буду. И долго еще ты от этих людей будешь прятаться?
Стас забирает у меня подушку, ложится рядом со мной и вытягивает ноги.
— Иди сюда. Умничка! Вот так. Не долго уже. Скоро мы уедем.
— Мы?! Куда?
— Детка, ну сегодня у тебя просто вечер вопросов и ответов! Какая разница куда? Куда захочешь. На Багамы, Сейшелы, Каймановы острова…
Резко сев, я убираю с себя руки Стаса.
— В смысле Багамы-Сейшелы? На сколько мы туда уедем?
— Навсегда.
— Что значит навсегда?
— Ну просто навсегда. А чем тебе Сейшелы меньше этого острова нравятся? Будешь там тоже плавать, там море есть, зимы не бывает… Работать там не придется…
— Вот можно чуть поподробнее с этого места? Работать не придется, это почему?
— Да надоела ты уже! Все почему да почему! — неожиданно злится Стас. — Потому! Потому, что денег у нас с тобой будет через неделю — хоть жопой жри! Вот почему!
Вскочив с кровати, Стас обошел спальню по кругу и остановился у окна. Пару раз в сердцах долбанул стену кулаком, от чего откуда-то сверху немедленно посыпалась штукатурка, потом еще пнул ее ногой и нараспашку отворил ставни.
— Духотища-то здесь какая, Господи!
В комнате сразу же порозовело.
— Я не поняла. Откуда у нас скоро будет столько денег? Ты их УКРАЛ? Поэтому ты исчез из Москвы? И поэтому ты скрываешься здесь в пещере, боясь появиться в доме? Люди, у которых ты это украл, МОГУТ СЮДА ПРИЕХАТЬ?! Заявиться в мою «Виллу Пратьяхару»?!
Стас продолжает смотреть в окно и молчит.
— Дьявол! Я все правильно поняла?! Отныне мы всю жизнь проведем в бегах, скитаясь по Сейшелам и боясь даже близко приближаться к цивилизованному миру? А как наша квартира в Москве? Мои вещи? Моя галерея? Лампы? Могила родителей, наконец?! Ты с ума сошел? Ты меня спросил, решаясь на такое?!
Стас опять резко бьет кулаком в стену. Тихо шуршит осыпающаяся штукатурка.
— Не порть дом! — ору я.
— Сама не порть! Ничего не порть! Все. Я ушел. Светает, скоро первая лодка приплывет, и меня в доме быть уже не должно. Ложись спать. Завтра проснешься, все будет уже по-другому.
Стас быстрой походкой сбегает вниз. Хлопает входная дверь. Я спрыгиваю с кровати и высовываюсь в окно, наблюдая, как к скалам удаляется долговязатая фигура.
— Погоди! Я еды тебе хоть завтра принесу! В какой пещере ты живешь?
— В той, что ровно над вашим пляжем! Только если припрешься туда меня пожалеть, то имей в виду: ни единая душа про меня знать не должна! Ни единая ни в Москве, ни на острове! Живи так, как жила, будто ничего не произошло, и где я — ты не знаешь. Понятно?
Солнце уже вот-вот взойдет, над горизонтом протянулась слепящая полоска золота. Не закрыв ставней, я разворачиваюсь и бреду обратно в кровать. Натягиваю на голову простыню и вспоминаю, как еще недавно дрожала ночами в страхе перед маньяком. Мне уже кажутся те времена далекими и наивными. Сейчас я бы с удовольствием поменяла сегодняшнюю мою бессонницу на ту. Но усталость берет свое, и я проваливаюсь в тяжелое тревожное забытье.
«Завтра проснешься, все будет уже по-другому», — вспоминаются мне слова Стаса. Боюсь, как бы они не оказались пророческими.
23
Наутро, действительно, все было уже по-другому .
Остаток ночи промелькнул будто его и не бывало вовсе. Мне кажется, что не успела я толком сомкнуть глаз, как в дверь уже яростно колотит какой-то утренний псих. Вернее, психи. Я слышу два бодрых выспавшихся голоса. С тихим стоном ненависти к окружающим, я зарываю голову под подушку и призываю на помощь пратьяхару. Меня мучает мое несовершенство, неумение отстраниться от внешнего мира, абстрагироваться, отключить слух, а главное — мысли, которые немедленно начинают роиться в моей голове. Какого черта кто-то смеет вот так вот ни свет ни заря припираться на мою территорию? Несмотря на то, что выстроить на скалах забор с технической точки зрения оказалось невозможным, должны же люди понимать, что мой дом стоит на частной территории, а следовательно они проникли сюда против воли (ну ладно, просто без разрешения) тихо спящего хозяина? Должна же быть, в конце концов, какая-то совесть у народа? И сколько сейчас вообще времени?
Для того чтобы узнать время, которое необходимо мне только для того, чтобы мысленно заклеймить беспардонных визитеров еще большим позором, мне приходится высунуться из-под подушки и разлепить один глаз, в который тут же болезненно ударяет противно-яркий свет нового дня. Оказавшиеся на свободе уши немедленно хватаются за добытую информацию, рьяно передают ее в мозг, а от этого дурака ничего другого и не жди: он тут же приступает к анализу услышанного. В дом ломятся двое, мужчина и женщина, оба говорят по-английски и очень громко. Я почти могу различить их слова, но не желаю этого делать и, убедившись, что сейчас всего лишь половина девятого, снова уползаю под подушку. Я имею полное право спать когда мне вздумается, тем более что половина девятого — явно не время, чтобы так орать под чужими окнами!
— Алле, гараж! Есть кто живой? — раздается снизу уже по-русски.
Мозг улавливает определенный конфликт информации и опять возбуждается. По его сведениям, кроме меня на нашем пляже по-русски говорить никто не может. Разумеется, не считая нежданно объявившегося вчера Стаса, но голос явно принадлежит не ему, а какой-то наглой бабе. Пратьяхара! Майя! Ничего этого нет, я сплю, и все происходящее лишь дурной утренний сон. Утренние сны только и бывают дурными, это нормально, особенно если учесть, что полночи ты прыгал по дому с топором, вылавливая маньяка.
Но попытка заснуть грубо прерывается уже совсем запредельным хамством: по лестнице внутри дома, моей лестнице, ведущей на второй этаж, начинают громко цокать чьи-то каблуки! Я почти не верю собственным ушам!
— Привет, моя дорогая! Сколько можно ломиться в двери? Ты такая не гостеприимная! Слава богу, у тебя было не закрыто, и я смогла зайти!
Это уже слишком! Я вылезаю из-под подушки и глазам моим открывается совершенно невероятная картина. Оторопело хлопая ресницами, я пытаюсь совместить реальное изображение и мои теоретические представления о возможном. Ошибки быть не может, в ужасе доходит до меня, и передо мной действительно стоит во всей красе нарядная и восторженная Жанна.
— О-о-о… — только и выдаю я и опять убираюсь обратно под подушку.
Жанна заливисто хохочет.
— О-о-о… — издаю я уже из-под подушки. — Только не это! Это дурной сон!
— Никакой я не сон, а если уж и сон, то явно не дурной. Вылезай, засоня! Я уже час как приехала. В этой вонючей дыре все закрыто, даже кофе попить приличному человеку негде! Бегаю тут кругами, еле выяснила, где тебя найти. Ничего не скажешь, поселилась ты на славу! Дальше от цивилизации убежать, по-моему, уже было просто невозможно!
Садясь на кровати и все еще сжимая в руках подушку, я ворчу:
— И, как выяснилось, недостаточно это оказалось далеко. Как ты меня нашла и зачем вообще приехала?
Жанна возмущенно вскидывает руки:
— Ну у тебя и вопросы! Неблагодарная свинья! Как я тебя нашла? С трудом! Инструкции, которые ты оставила, ни к черту не годятся. До острова еще как-то по ним добраться можно, хотя не вспоминай мне лучше об этих двух несчастных перелетах! А уже на острове разобраться, где тут что у вас, где найти лодочника и так далее, был уже конкретный сложняк. Хорошо, что я от природы не дура, нашла себе компанию туристов, уговорила их арендовать в городе яхту и на ней сюда добраться! А зачем приехала — так ты сама меня позвала! Кто мне писал, что тебе в доме одной страшно, что приезжай, дорогая подруга, в гости и все такое?
— Я тебе такое писала?!
— А кто?
— Я ничего такого не помню, — вру я. Разумеется, я уже вспомнила о приступе слабости, в котором черт дернул меня написать тот имэйл.
— Ну ты тут, наверное, спилась и укурилась просто, вот и не помнишь. Я, понимаешь ли, срываюсь в путь, прусь невесть куда на край света в твою дыру, где даже кофе не дают, а она вообще ничего не помнит! Я ж говорю, свинья и есть свинья. Неблагодарная! Ты что, мое письмо не получала, где я пишу, что купила билет?
— Не получала я ничего. Я в интернете уже несколько дней как не была…
— Во дает! Я лечу через полпланеты ей помогать, а она имэйл проверить не может!
— Ну ладно, ладно… Так уж ты и приехала мне помочь. Сама рада-радешенька, небось, вырваться из Москвы на тропический остров. Не преувеличивай свои заслуги. Без тебя тошно. Дай лучше мне халат со стула.
Жанна проходит к окну и королевским жестом кидает мне халат. Не долетев до кровати, он мягко падает на пол у моих ног, и моя гостья опять заливается радостным смехом, от которого у меня закладывает уши. Я подцепляю его большим пальцем ноги и подтаскиваю к себе, а Жанна тем временем высовывается по пояс из окна и начинает громко орать на улицу:
— Женьчик! Греби сюда, я тебя с подругой познакомлю! Сейчас будем кофе пить!.. А? Что? Не слышу! Кричи громче!
Прошлепав босиком к окну, я осторожно выглядываю из-за занавески. О ужас! Весь склон усеян толпой народа! Ну, может, не толпой, но человек пять совершенно неизвестных мне персонажей карабкаются по камням в сторону моего дома.
— Ты что, с ума сошла? — выдыхаю я в полном ужасе. — Это кто такие?
— Кто, кто… — наезжает возмущенная Жанна. — Это туристы, про которых я тебе уже говорила. Я по дороге с ними познакомилась. Они понятия не имели, куда едут. Ну я и уговорила их снять яхту и плыть сюда. Или ты думала, я ночью одна должна была из-под земли где-то себе лодку нарыть? Ты мне оставила инструкции: найти водное такси. А там темнотища, звезды, никаких такси нет и в помине, только чурки какие-то полуголые сидят на жутких деревянных корытах с моторами. Ты что, хотела, чтобы я на таком пустилась ночью в море?
— А где они тут жить собираются?
Жанна обводит меня непонимающим взглядом.
— В смысле, где? Они уже поселились в отеле.
— Каком?
— У вас тут что, много отелей?! — звереет Жанна. — В том единственном, что тут нашелся. Набились, как тараканы, по трое-четверо в номер. Там всего пять или шесть номеров и есть!
— По трое-четверо? Сколько же их всего приехало?!
— Откуда я знаю? Я что, их считала, по-твоему? Ну человек пятнадцать-двадцать, думаю.
— Двадцать?! На наш крошечный пляж?! О-о-о…
Я хватаюсь за голову.
Жанна подталкивает меня к выходу из комнаты:
— Давай, давай, пошевеливайся. Кофе-то мы сегодня будем уже наконец пить?
Мы спускаемся в приятный полумрак кухни. Ставни еще закрыты и свет сюда почти не проникает. Каменные плиты холодят босые ступни, и я поеживаюсь.
— Ого! — говорит Жанна, разглядывая два стакана и пустую бутылку от виски, оставшиеся здесь с вечера. — Так ты тут вовсе не страдаешь от одиночества, как я посмотрю?
Я отбираю у нее бутылку и бросаю в мусорное ведро.
— Ты надолго приехала?
— А что?
— Ну могу я спросить?
— Спросить можешь. Но ответа я не знаю. У меня открытый билет, когда захочу, тогда и могу уехать. А виза двухмесячная.
Я вздыхаю и отворяю ставни. Кухня заливается ровным, уже не розовым, а уверенным и слепящим дневным светом. В косых лучах начинает золотиться висящая в воздухе пыль и пламенной медью загорается подсвеченная сзади шевелюра Жанны. Несмотря на бессонную ночь и длительную поездку, Жанна выглядит, словно собралась в казино. На ней длинное, до пят, шелковое платье изумрудного оттенка, вышитое золотыми павлинами, и такие же изумрудные босоножки на высоченных шпильках. Большой хищный рот ярко накрашен алой помадой, глаза подведены тенями, а длинные тонкие пальцы увенчаны хищно наточенными и наманикюренными коготками. Я скашиваю глаза на открывающийся мне вид в прихожую и замечаю там два до наглости огромных, разумеется, тоже вопиюще-рыжих, новеньких чемодана из свиной кожи, подпоясанных изящными ремешками.
— О-о-о… — опять говорю я.
— Хватит ныть, кофе давай! — командует Жанна.
Кофе в доме не оказывается. Со дна жестяной банки не наскрести даже на одну чашку, и по очереди печально заглянув в нее, потряся, с горя постучав по звонкой алюминиевой стенке и не добившись ничего, кроме гулкого пустого эхо, мы решаем выдвинуться на завтрак к Лучано.
Выйдя на ослепительное солнце, Жанна достает из маленькой театральной сумочки глянцевый футляр, аккуратно двумя пальчиками выуживает оттуда огромные солнечные очки, нацепляет их на нос и с презрением оглядывается на дом.
— И это убожество и есть твоя «Вилла »? Предупреждать было надо!
Я только вздыхаю и молча направляюсь к каменному спуску на пляж.
— Да погоди ты, горная коза! Я сейчас все ноги тут себе переломаю! Руку бы, что ли, дала! — кричит мне в спину Жанна.
Закатив глаза к небу, я останавливаюсь и жду, пока она меня догонит. С грехом пополам доковыляв до меня, переливающаяся изумрудом Жанна вцепляется мне в локоть и виснет на мне всем своим весом. Ребрами я чувствую упругость ее силиконового великолепия, туго обтянутого в шелк.
— Ты б еще не такие шпильки нацепила… — комментирую я сквозь зубы.
Отель сегодня просто неузнаваем. «Пятнадцать-двадцать» Жанниных новых знакомых рассредоточились по маленькой территории так, словно их не меньше пятидесяти. Судя по всему, процесс поселения оказался для этой компании весьма непростым занятием и еще не окончательно завершился. Кое-как наспех рассовавшись по пяти бунгало, выпив кофе и выпустив первые пары, женская часть группы начинает взвешивать все плюсы и минусы и мучительно пытаться выбрать, где же все-таки им будет еще лучше .
— Толик! Ну что ты стоишь как баран! Помоги перетащить чемодан в то бунгало, не видишь, он колесиками в траве застрял? — раздраженно кричит девица в белой хламиде-монаде, напоминающей костюмы египетских жриц. На голове у нее намотан высокий тюрбан из полупрозрачной газовой ткани, длинные концы которого нещадно мешают ей двигаться и управляться с ее кладью.
— Я ушел на массаж, не видишь? Антона попроси!
— Да нету Антона! Он, скотина, курнул и спать лег!
— Ну Виталика попроси, — разводит руками Толик и удаляется в сторону массажного салона.
Тайка-массажистка стоит в дверях и производит отчаянные жесты изящными маленькими ручками, пытаясь объяснить прущему на нее клиенту, что сначала надо сделать резервацию на рецепции и оплатить массаж в кассу.
— Оль! А Оль? У вас нормальный вид на море с балкона? — орет другая девица. — У нас, как ни встань, кусты мешаются, все заслоняют. Может сказать персоналу, чтоб их выстригли? Ну в самом деле! Моря не видно!
— Не видно?.. — рассеянно отвечает из домика Оля. — Слушай, ну не знаю. Ну иди пожалуйся. Я тут пытаюсь мебель переставить. Петька умотал шезлонги занимать.
— Что? — не слышит девица.
— Петька ушел шезлонги занимать, говорю, — кричит невидимая мне Оля.
Я уверенно направляюсь к дощатой площадке ресторана. По ней пулей мечется Тхан, пытаясь услужить сразу всем гостям. Ему помогают перебегающие от столика к столику Лучано и его тайка.
— Паола, дорогая! — радостно бросается ко мне итальянец. — Можно попросить тебя о помощи? Помоги перевести, что за каждую свою бутылку, принесенную гостями в ресторан, они должны платить мне двести пятьдесят батт за сервис. Ну… стаканы, салфетки, ведерко со льдом… Они не желают пить мое вино, у них все привезено с собой, и они просто приносят бутылки в ресторан и пьют, не стесняясь, у меня на глазах!
Я оставляю Жанну и подхожу к столику, невзирая на раннее утреннее время, густо заставленному закусками и бутылками.
— Хозяин просит платить за каждую выпитую вами бутылку, — перевожу я. — Он считает, что это правильно. Потому что вообще-то у него есть свое вино, и приносить бесплатно ваше — некрасиво.
На меня пялятся несколько пар глаз.
— Ну и в чем проблема? Скажи ему, заплатим.
— Он хочет двести пятьдесят батт за бутылку, — подчеркиваю я. — Это около пяти евро. А его вино обошлось бы вам в шесть-семь евро за бутылку. Т. е. почти тоже самое, что сейчас вы заплатите за пустые стаканы.
— Ой, да какая разница? Будем мы экономить на отдыхе? — возмущенно реагирует полноватая девица в черном серебристом платье. — Его вино полный отстой. Вовчик ходил смотрел, это оказалось какое-то ужасное столовое пойло.
— Ну как знаете, — разворачиваюсь я и обращаюсь к Лучано: — Они согласны платить. Они считают, что ваше вино — пойло.
— Как? — всплескивает руками ошарашенный итальянец. — Я сам его пью!
Я только пожимаю плечами:
— Еще что-то перевести?
— Да пока нет… Но я был бы тебе очень признателен, если бы ты еще какое-то время побыла тут. Мне как-то с тобой спокойнее. А то, кажется, они не очень по-английски говорят, — извиняется Лучано. — Если тебе не сложно, конечно?
Я опять пожимаю плечами:
— Да нет, не сложно. Я как раз собиралась позавтракать. Только вот что-то свободных столиков не видно.
— Я сейчас принесу свой стол из конторки, — заверяет меня вспотевший Лучано и убегает в сторону кухни. — Тхан, проследи за рыбой! Повар один там не справляется! Сгорит!
В ожидании столика я выхожу на пляж и меня разбирает смех. Бедная шведская старушка сидит, зажавшись под самую удаленную пальму (на песке остался отчетливый, не меньше двадцати метров длиной след от ее шезлонга), и в ужасе взирает оттуда на происходящее. Губы ее поджаты, а взгляд полон возмущения.
— Паола, милочка моя! — Завидев меня, Ингрид делает мне отчаянные знаки. — Сюда, сюда!
Оглянувшись на увлеченно болтающую с гостями Жанну и убедившись, что я ей не нужна, я подхожу к шведке.
— Это кто такие? — шепчет она одними губами. — Это русская мафия?!
Я округляю глаза:
— Господи, Ингрид, с чего вы это взяли?
— Сядь, не смотри на них. — Конспирируется старушка, картинно облокачиваясь на спинку шезлонга и устремляя якобы задумчивый взгляд на морские просторы. — И не говори громко. Они поймут, что мы это про них!
— Да не волнуйтесь вы так. Похоже, они не в ладах с иностранными языками. Да и… Хоть бы и поняли? Вам-то что? — говорю я, все-таки выполняя просьбу Ингрид и озираясь в поисках свободного лежака. На всех незанятых шезлонгах высятся кучки сложенных полотенец, означая, что они уже имеют хозяев. — Какая все-таки гадость вот так вот заранее занимать шезлонги, когда они тебе не нужны, не находите?
— Да-да. Полная дикость! — энергично соглашается старушка, по-прежнему романтично глядя в даль. Контраст между ее задумчиво-созерцательной позой и шипящим взволнованным голосом заставляет меня улыбнуться. — Так ты думаешь, это не мафия?
— Абсолютно в этом уверена, — говорю я, отчаявшись завладеть шезлонгом и присаживаясь сбоку от старушки. — Обычные русские туристы. Возможно, не Москва и Питер, а города.
— Города?.. — не понимает Ингрид.
— Ну да. Провинция. Чего вы так переполошились?
Приспустив очки на кончик носа, Ингрид одаривает меня испепеляющим взглядом:
— Ничего себе провинция! Они все в брильянтах! В ушах, на руках, на шее, на… везде, короче! А их мужчины… Один вырвал у меня из-под носа стул, когда я уже почти пыталась на него присесть за завтраком! Хорошо, Лучано быстро принес мне свой.
— О, Ингрид! У вас тоже не маленькие брильянты.
Испуганно оглянувшись, Ингрид переворачивает кольца камнями вовнутрь.
— Да, но… У меня их всего два! И это память о муже! Если бы не это, то я давно бы их уже продала. Деньги нужнее, можно поехать отдохнуть, например. К тому же я ношу их на пляж исключительно потому, что боюсь, что их украдут из номера!
— Ну, может, и они напялили свои по той же причине, — говорю я примирительно.
— Они — нет! — Отрезает Ингрид. — По ним это очевидно! Они совершенно не боятся ограблений! Они даже номеров своих не закрывают! Вон все двери нараспашку, а сами шастают туда-сюда с таким видом, будто у себя дома! И орут! Нет, ну в самом деле!.. А ты видела, сколько они притащили с собой вина?! Двадцать, нет! Тридцать ящиков! Сорок! Не знаю… их таскали с этой их яхты полчаса, наверное! И они не на нормальной лодке приплыли, а на такой яхте! Ты бы видела! Если они не мафия, значит, торгуют нефтью! Хотя, кажется, это почти одно и то же в России? А как они ведут себя за завтраком! Один сел, напялил на нос очки и пристально изучал меню, пока не выбрал, наконец, все самое дорогое! Такое ощущение, будто они думают, что находятся где-то в Сен-Тропе, за соседним столиком сидит Кевин Костнер, а не бедная старуха, и их задача не ударить в грязь лицом и заказать блюдо ну никак не дешевле, чем у него!
Лучано опять размахивает мне руками, прося подойти. Встав, я подмигиваю Ингрид:
— Расслабьтесь! Никакая они не мафия. Обычные русские туристы на отдыхе. И даже, возможно, и не богатые вовсе. Просто у нас принято сорить деньгами и к месту и не к месту напяливать на себя брильянты. Если что-то есть, значит, надо показать. Даже если показать нечего, надо подорваться и все равно показать. Не переживайте, все утрясется. Только шезлонг занимайте теперь с утра пораньше, а то стоять будете. Старушек у нас не особенно уважают. За что их уважать? У них денег нет. Хотя вам это не составит проблемы, я почти уверена, что, начиная с завтрашнего утра, вставать они будут не раньше, чем к обеду.
— Невероятно, — бормочет старушка, поверх очков окидывая русских все еще испуганным взглядом. — А орать они все время теперь так будут? Хотелось бы прежней тишины…
Я опять возвращаюсь в ресторан. Лучано, как и обещал, притащил мне столик из своей конторки и уже сервирует на нем приборы.
— Да я сама, идите, идите, — успокаиваю я его.
— Да? — спрашивает он с надеждой. — А ты не узнаешь у них, надолго ли они приехали? И будут ли у меня ужинать? А то за завтраком они смолотили все продукты, у меня пустые холодильники, мне надо срочно лодочнику заказать еды.
Я киваю и машу Жанне, что столик уже готов. Неспешной томной походкой она направляется ко мне, а мужчины за соседними столиками провожают ее восторженными взглядами. Меня немедленно разбирает зло. И за этот ее невероятный прикид, и за русские мужские раздевающие взгляды, и за весь испорченный пляж, на котором до отъезда этой группы уже никто из проживающих тут старожилов не сможет чувствовать себя как прежде. Какое-то время я пытаюсь убедить себя, что мне обидно за перепуганную Ингрид, но самообман никогда не был моей сильной стороной, и я вынуждена признаться себе, что источник моей досады кроется в том, что своим приездом Жанна окончательно разрушила ту слабую надежду на пратьяхару, которая и так пошатнулась от вчерашнего появления Стаса. Кстати, наверное, я должна теперь французу какие-то объяснения?
— Я тебе уже сказала, что выглядишь ты просто на пятерку? — спрашивает Жанна, элегантно подобрав руками переливающееся павлинами платье и присаживаясь за наш столик.
— Нет.
— Ну вот сейчас говорю. Загорелая как черт, худая как палка, глаза блестят как… как не знаю у кого. Кажется, морской воздух и солнце пошли тебе на пользу. — В ее голосе звучат напряженные завистливые нотки. Похоже, она сама уловила их присутствие, потому что немедленно замахала руками перед собой, словно разгоняя сигаретный дым, улыбнулась и подняла бокал с шампанским. — Ну что? За предстоящий отдых?
Я киваю и чокаюсь с ней чашкой капуччино. Молочная пена переваливается через край и плюхается прямо в Жаннин бокал. Наклонив его, Жанна долго изучает несимпатично плавающий посреди искрящихся пузырьков взбитый молочный остров. Потом ставит нетронутый бокал на стол. Глаза ее неожиданно становятся серьезны и холодны.
— А признайся? Ты ведь совсем не рада меня видеть?
Мне становится неловко, и я делаю слабую попытку отрицать очевидное:
— Да нет. Дело не в этом. Просто…
Фантазия изменяет мне, придумать причину экспромтом не удается.
— Просто что? — поднимает брови моя подруга.
— О-о-о… — уже в какой раз за утро говорю я. — Не знаю. Я не выспалась. Не утомляй, будь человеком! Лучше вот попереводи здесь за меня для Лучано, это хозяин этого отеля. А я должна побыть одна. Мне надо кое о чем подумать.
В последнем я не соврала. Мне действительно необходимо переварить так внезапно свалившиеся на меня события. Возможно за время, проведенное мной на острове, моя способность реагировать на изменения немного притупилась. Еще одна тема для обсуждений с Арно: нет ли риска поглупеть от безмятежной жизни? Хотя пока в моем пребывании на острове есть все, кроме этой пресловутой безмятежности.
Забравшись на камни чуть повыше моего дома, я вспоминаю, что уже несколько дней не смотрела на море. Оно всегда тут, и, казалось бы, в нем ничего не меняется, так, что наблюдать его не имеет никакого смысла, но это не так. Все обстоит как раз наоборот. Чем дольше живешь на острове, тем больше потребность смотреть на него, прищурившись следить за его настроениями, тончайшими изменениями цвета и расположения черных коралловых пятен. Последнее время мне начинает казаться, что если глубоко проникнуть в мир природы, в суть и логику естественных вещей, то когда-нибудь я смогу понять и себя.
Море сегодня волнистое, в мелких барашках на гребнях волн. У горизонта оно почти голубое, местами сливающееся с небом, посередине — уже бутылочно-зеленое, с травяным оттенком, а какого оно цвета у самого берега, мне с моей позиции на камнях не видно. Зато мне отлично виден отсюда весь пляж. Русские вторглись в него совершенно беспардонно, полностью разрушив наш устоявшийся тихий мирок. Даже купальники их чересчур ярки, — новехонькие, только из магазина, наверняка специально прикупленные для этой поездки, — невыцветшие еще красители так и режут глаз, не вписываясь в окружающий пейзаж. Компания мужчин громко обсуждает что-то, ныряя в море с масками. Приспосабливать громкость своих голосов к окружающей атмосфере, похоже, не входит в их планы. Их девицы в основном рассредоточились по шезлонгам. Фигуры их, надо сказать, довольно хороши, но позы наигранны и картинны и портят весь произведенный эффект. К тому же они тоже слишком громко говорят и вообще производят очень много суеты: постоянно вскакивают с шезлонгов, меняются местами, фотографируются, ходят за напитками, мажут друг друга кремами и что-то выщипывают на лице, поглядывая в зеркальце. Что приятно, так это то, что моя Жанна, по всей видимости, с ними уже сдружилась и радостно щебечет, как обычно отчаянно жестикулируя. На мой взгляд, то, что Жанна родилась в России — большая ошибка. Ее темпераменту куда бы лучше подошла Сицилия или даже, пожалуй, Бразилия. А уж почему, раз ей все-таки выпало родиться в Москве, а не в Буенос-Айресе, она не пошла в актрисы, не понимает вообще никто из наших знакомых, не только я.
Массажистка единственного на нашем пляже массажного салона уже выбивается из сил, пытаясь обслужить всю прибывшую команду. Лучано сбился с ног, отдавая указания персоналу, принося на террасу дополнительные столики и постоянно разбираясь с жалобами новых постояльцев. Сэм, как обычно в своей оранжевой майке, не решается подойти к отельной части пляжа и жмется у противоположного края. Рядом с ним расселись и виляют хвостом три облезлые собаки. (Как бы их не перестали пускать в ресторан на время пребывания русской компании! Наманикюренные девицы наверняка брезгуют бездомными животными). Барбары сегодня вообще нигде не видно. В самом конце пляжа, где за камнями прибились более простые бунгало, тоже сегодня безлюднее обычного, только семья нудистов как специально выставилась напоказ и загорает на скале. Где-то я слышала, что нудисты постоянно нуждаются в публике, и им единственным, возможно, приезд русских пришелся более-менее кстати.
Я долго всматриваюсь во все движущиеся на пляже фигурки, но Арно нигде нет. Может быть, мне стоит сходить к нему самой, объясниться про вчерашнее? Хотя… если мне действительно и стоит сегодня куда-то сходить, так это отнести еды голодающему в пещере Стасу. Обдумать все сказанное им, мне так и не удалось. Мозг сопротивляется, и вчерашняя информация никак не укладывается у меня в голове.
Спрыгнув с камня, я отправляюсь на кухню поискать чего съестного. В холодильнике, разумеется, ничего не прибавилось, и лишь высохшая булка валяется на полке. Прихватив ее, пачку печенья, банку с джемом и бутыль с питьевой водой, я уже собираюсь выйти из домика, как сталкиваюсь в дверях с невовремя вернувшейся Жанной.
— Слушай, ну и жара! — говорит она, томно оседая в кресло и обмахиваясь первым, что попало под руку (это оказывается мой блокнот с эскизами). — В отеле висит термометр, так столбик показывает тридцать пять в тени!
Я вымучиваю из себя улыбку и отбираю у нее блокнот:
— Welcome to the paradise!
Но Жанна не замечает издевки. Словно непоседливый ребенок, она ерзает в кресле и моментально переключается на пристальное изучение собственного плеча.
— Это чертово солнце явно не для рыжих! Я уже, кажется, обгорела! Намажь мне спину.
Раздосадованная, я незаметно прилаживаю сумку с продуктами под стулом и плетусь в ванную за кремом.
— Короче… Русские оказались довольно тоскливым вариантом, — доносится до меня Жаннин голос из гостиной. — Не прошло и полдня, как я уже с ними заскучала. Так что давай подумаем, как ты будешь меня развлекать?
Я замираю с кремом в руке.
— Я?!
— Ну да. А кто? Ты же не оставишь меня тут одну? Русские себя исчерпали. Остров осматривать не хотят, ничего не хотят, лежат как дуры на сеновале, а мужики: кто спит, а кто на массаже. И ни одного свободного среди них! Какой-то парный паноптикум! Я со скуки повешусь! И потом, я же к тебе приехала, а не к ним!
24
Весь вчерашний день прошел так же бездарно, как и начался. Выбраться к Стасу мне, разумеется, не удалось. Кое-как спрятав с Жанниных глаз долой сумку с продуктами, я убила много часов, чтобы придумать хоть сколько-то убедительную причину отвязаться от подруги, но ничего стоящего в голову мне так и не пришло. Жанна, как заколдованная, упорно не желала оставаться одна, не хотела ни массаж, ни спать, ни общаться с новыми друзьями, вилась вокруг меня, куда бы я ни пошла, и даже дошло до того, что вечером она кормила моих ящериц: «Дурь какая, но прикольно! Давай второй фонарь!» Стыдно признаться, но меня уколол неожиданный приступ ревности к моим чешуйчатым подопечным. По всей видимости, я все-таки жуткая индивидуалистка и в глубине души считаю ящериц своей личной собственностью, а их кормление — обрядом, закрытым для непосвященных.
На ночь мне удалось проявить смекалку и, напугав подругу неминуемым после столь длительного перелета джет-лагом, всунуть в нее пару таблеток «донормила», но все оказалось тщетно. Стас этой ночью не приходил. Возможно, он почуял неладное или слышал разносившиеся по всему пляжу крики русских и понял, что появляться около нашего дома небезопасно даже ночью. Забавно, но я поймала себя на том, что ни капли не переживала о том, голоден ли он и что он там вообще делает.
Арно так за весь день и не вышел на пляж, и это расстраивало меня гораздо больше.
Сидя вечером на террасе, мы с Жанной долго ждали луны, но ее не было. Только озверевшая от полной безнаказанности Венера дразнилась и кривлялась с чернильного небосклона. Я показала ее Жанне, но та лишь пожала плечами и зевнула. Спать мы легли рано. Я устроила подругу во второй спальне. Кровать там жесткая и отчаянно скрипит, но это даже к лучшему. Чем меньше комфорта Жанна получит, тем быстрее уедет.
Оставшись, наконец, одна, я курила перед сном на подоконнике и удрученно размышляла о том, что за весь день это, пожалуй, единственная никем не украденная у меня сигарета. Я считаю, что получить удовольствие от курения — истинное, глубокое, осознанное — возможно только в одиночестве, а непонимающих этого жалких людей, панически боящихся остаться наедине с собой и нуждающихся в компании для перекура, можно считать пропащими… Пожалуй, непременное условие абсолютного одиночества относится ко всем чувственным удовольствиям вообще, кроме секса (хотя и это вопрос спорный), и наличие людей вокруг крадет львиную долю наслаждения, словно бы по какому-то неписанному закону оно делится на всех при нем присутствующих. Размышляя так, я выбросила в окно окурок, посмотрела, как он еще долго тлел на темных мрачных скалах моей каменистой террасы, потом забралась в кровать и попыталась придумать предлог, под которым могла бы исчезнуть завтра из дома часа на полтора-два. (По моим прикидкам, для того, чтобы спокойно добраться до Стасовой пещеры, поговорить и вернуться домой, мне требовалось именно столько), — но, видать, сказался общий стресс столь бурного дня: умные мысли не бороздили мою усталую голову, и вскоре я заснула.
Вопреки всем стараниям нещадно скрипевшей кровати, наутро Жанна проснулась в праздничном настроении. Обрядившись в вопиюще-прозрачную тунику, достававшую ей до пят, она царственно перемещалась по дому с чашкой кофе, шутливо пинала ногой мебель и подтрунивала над моей «Виллой» и погодой. Погода сегодня, и в правду, была странная. Кажется, впервые за время моего пребывания на острове боги вняли моим неустанным молитвам и собирались устроить нам дождь. По небу фривольно, словно дешевые проститутки, шастали туда-сюда несколько мрачноватых туч, а ночной ветер вместо того, чтобы как обычно стихнуть к утру, наоборот, лишь окреп. Я расположилась на террасе с кофейником и пыталась не реагировать на Жанну, а собраться с мыслями и придумать, как от нее получше избавиться. Кофе, слава богу, у нас сегодня в доме уже был: единственным достижением вчерашнего дня был совместный поход в магазин, где в числе прочего были приобретены кофе, сахар, свежий хлеб, пара новых джемов, салями, пачка полумягкого сыра, а также крекеры, чипсы, немного овощей и синюшная замороженная курица, глядя на которую я с издевкой задумываюсь, не приготовить ли для Стаса курицу-карри?
— А все-таки? Ты придумала, как ты будешь меня развлекать? — интересуется появившаяся на террасе Жанна, явно собираясь получить такое же удовольствие от моей раздраженной гримасы, что и вчера.
Вопрос можно смело отнести к риторической группе. Ни у самой Жанны, ни, разумеется, у меня ответа на него нет и даже, возможно, таковой и не предполагается. И именно это выводит меня из себя больше всего.
— Да, — отрубаю я совершенно неожиданно.
— Придумала?! И что?
Жанна выглядит удивленной. Поставленная задача казалась ей невыполнимой.
— Я отправлю тебя на экскурсию по острову!
— Одна я не пойду! — протестует она.
— А я и не говорю, что ты пойдешь одна. Отправлю тебя в сопровождении гида. — Я перехватываю ее испуганный взгляд. — Да не бойся ты! Нормальный гид, тебе понравится.
При этих словах что-то больно колет меня в груди. Как бы ей действительно он не понравился! Но разве у меня есть хоть какой-то выбор? Если я собираюсь наведаться к Стасу, то мне просто необходимо избавиться от Жанны хотя бы на пару часов.
— Как у тебя с Рафиком кстати? — на всякий случай интересуюсь я.
— Никак.
— Жаль…
— Ой, да ладно! Я забила уже. Теперь я отрыта для всех новых ветров!
Худшего ответа она дать не могла! В моей груди повторно что-то сжимается, но никаких альтернатив я не вижу.
— Ладно, жди тогда. Я пойду про тебя договорюсь.
— А сама ты не пойдешь с нами?
— Да я бы с удовольствием, — говорю я совершенно искренне. — Более того, я бы охотно с тобой поменялась ролями. Но не смогу. Мне надо э-э-э… мне надо рисовать.
— Рисовать?!
— Ну да. Я не говорила? Я опять решила делать свои лампы.
— А-а-а… — тянет Жанна, поглядывая на меня, как на психа.
Сплавить Жанну на Арно, как выяснилось, не составило большого труда. Он легко принял спутанные извинения про ту ночь у меня в доме (вдаваться в подробности про украденные деньги у меня не хватило духа, и я никак не объяснила Стасову выходку, ограничившись лишь тем, что просила не выдавать пока его присутствия на острове), немного удивился просьбе развлечь нежданно нагрянувшую подругу, но спорить ни с чем, слава Богу, не стал. Уже через полчаса он в полной готовности нарисовался на моей каменной террасе: обрезанные по колено линялые джинсы, майка с умилительной дырочкой на плече, потертые кеды и перекинутая крест-накрест котомка. Волосы впервые при мне собраны в живописный хвост и, видимо, даже вымыты шампунем (солнечные блики так и переливаются на длинных вьющихся прядях), обрамленные длинными французскими ресницами глаза, как обычно, иронично улыбаются и блестят.
— Вау, — только и выдыхает выглянувшая из окна спальни Жанна. — Вот это да! Это мой гид?!
— Хватит пялиться, собирайся лучше! — командую я, распахивая один из Жанниных чемоданов. — Никакой он не гид, и уж тем более — не твой ! И одевайся адекватно! Что ты опять за вечернее платье схватилась? Бери вот эти длинные штаны и майку. И резиновые вьетнамки.
— У меня нет резиновых вьетнамок.
— А это что?!
— Это? — Жанна в тоске смотрит на выставленные ей под нос шлепанцы. — Это я взяла, чтобы по дому ходить.
— Вот и надевай их. Все приличные люди в Тайланде только в таких и ходят.
— Хорошо, но зачем мне эта жуткая майка? Может, я просто надену лифчик от купальника?
Я смеряю ее звериным взглядом. Жанна начинает коситься на меня подозрительно.
— Это же какое-то уродство ты мне собрала! Самые мои плохие вещи! Ты уверена?
— Уверена.
Сердце сжимается в дурных предчувствиях, но никакого выбора у меня нет. Я подпихиваю неожиданно зарумянившуюся подругу в спину.
— Ой, мамочка, какой красавчик! Я даже распереживалась! А я по-французски не говорю, это не проблема?
— Зато сиськи у тебя силиконовые. Дуй давай! И раньше, чем через два часа не возвращайтесь! Мне порисовать надо.
О, как тоскливо и холодно у меня щемит внутри, когда я смотрю в удаляющиеся вниз по камням спины. Кажется, я прожигаю в них дыры. Обугленные по краям, они должны быть размером с мою тоску, с большой тропический арбуз, сквозь них должен быть виден весь пляж! Интересно, Жанна даже не споткнется под моим взглядом?
Жанна споткнулась. О, черт, лучше бы я так не смотрела! Еле устояв на ногах, она теперь обвивает Арно за талию и прижимается к нему всем полуголым торсом! Несмотря на довольно закрытую маечку, на которой я все-таки настояла, ее резиновые груди выпирают словно две пизанские башни. Даже замершая на досках «Пиратского бара» Барбара отвлеклась от своего блокнотика и проводила ее удивленным взглядом. Кстати, американка начинает мне нравиться все больше и больше, особенно после того, как выяснилось, что она кропает стихи.
Запретив себе терзать душу дальнейшими наблюдениями за неспешно удаляющейся парочкой и свирепо покидав продукты в сумку, я семимильными шагами прыгаю по камням в сторону когда-то такого милого, нашего с Арно пляжа. Как быстро все поменялось! Арно сейчас, наверное, под руку подсаживает Жанну в лодку, а я тем временем (сердце обливается кровью) замедляю шаг, с минуту с грустью смотрю вниз на нашу каменную бухту, и решительно направляюсь к перевалу через расщелину, туда, где по моим понятиям должна находиться злополучная пещера. Сегодня я опять не делала ни утренней прогулки, ни заплыва, а на море бросила лишь косой взгляд. Ветер на минуту затих и, улучив момент, оно прикидывается сейчас тихим и ласковым, с приторной кроткой нежностью льнет к прибрежным скалам, напоминая мне прижавшуюся к Арно Жанну. Меня перекашивает гримаса злости и отвращения.
Про географию скал в тех местах, где должно находиться убежище Стаса, мне до сегодняшнего дня было известно лишь то, что если от моего дома пойти в сторону нашего с Арно пляжа и прямо перед прогнившим мостом подняться чуть выше вдоль расщелины, туда, где француз вырубил для меня кустарник, то тропка, сбегающая вниз по противоположной стороне каменной трещины, приведет в нашу галечную бухту. Но, судя по тому, что виденная мной однажды пещера находилась довольно высоко в нагромождениях серых валунов, путь в нее лежал где-то поверху скал. Поэтому, налюбовавшись на нашу бухту, я в сердцах плюю вниз и продолжаю карабкаться дальше, балансируя руками и рискуя сорваться с двадцатиметровой высоты. Сбиться с дороги здесь, кажется, невозможно: с одной стороны от узкой горизонтальной площадки, по которой я двигаюсь, далеко внизу бьются пенистые волны, с другой — почти вертикально уходит к небу серый, расцвеченный черными прожилками и золотыми блестками, растрескавшийся горный массив.
Минут через пять разломы в скалах становятся еще причудливее и глубже, вселяя в меня надежду, что до пещеры осталось совсем недолго, а площадка, по которой я иду, заворачивает за особенно крупный нарост на утесе и немного расширяется. Я останавливаюсь перевести дух и почти сразу же вижу не одно, а целых три отверстия в горах. Из них, как из могил, веет прохладой, плесенью и затхлостью. О господи! Лучшего пристанища Стас себе подобрать не мог?
Первая из пещер оказывается не настоящей пещерой, а длинным узким лазом, быстро заканчивающимся тупиком. Вторая густо заросла мелкими кривыми деревцами и о присутствии человека здесь ничего не говорит. Зато последняя — бинго! — встречает меня горой разбросанных у входа пустых винных бутылок, пачек от сигарет и прочего мусора. Перешагнув через него, я заглядываю внутрь и, когда мои суженные от солнца зрачки привыкают к полумраку, моему взгляду открывается довольно экзотическое зрелище.
У дальней стены длинной просторной пещеры, закутавшись с головой в спальник и тупо глядя перед собой, сидит взлохмаченный человек похожий на музейный экспонат:
…
Автор: Экономический кризис
Материал: Бывшее человеческое существо
Год: 2009
Название произведения:…
Название сего трогательного произведения мне придумать не удается.
Руки его переплетены крест накрест и обнимают поджатые к груди колени, на которых покоится узкий подбородок, заросший паклей клочковатой рыжей щетины. Длинные пальцы на босых ногах, в лучших Стасовых традициях, впиваются в каменный пол. Стоящая рядом початая винная бутылка идейно завершает сей художественный образ.
При моем появлении изваяние слегка оживает, реагирует на раздражитель, слабо поворачивает голову, медленно вытягивает из-под одеяла руку и неожиданно энергично чешется подмышкой.
— Господи, дарлинг! Ты ли это, солнце мое?!
Дарлинг с минуту продолжает чесаться, потом рука его убирается обратно под спальник, а на лице появляется удовлетворенное выражение сытой обезьяны. Он по-прежнему молчит, голова его остается повернутой ко мне, а в глазах появляется любопытство и что-то еще, похожее на иронию.
— Я принесла тебе бритву, — говорю я и ежусь от холода. По стенам пещеры кое-где стекают мелкие струйки воды. Я протягиваю руку и дотрагиваюсь до одного из них — на ощупь вода абсолютно ледяная. — Боже, как тут противно! Почему ты здесь сидишь? Вышел бы наружу!
— А мне здесь хх…ххорошо, — наконец разлепляет синие губы изваяние. — Уютно. Спокойно. Ничто не отвлекает.
— Не отвлекает от чего?
— Ни от чего. От мыслей.
Я молча кусаю губу и оглядываю пещеру. Довольно большая, около пятнадцати метров длиной и не менее семи шириной, она напоминает декорацию из фильма ужасов. Мрачные, почти черные стены поблескивают от сочащейся везде воды, в своде потолка по центру проходит глубокий разлом, теряющийся в темноте, а в центре композиции на полу валяются обгоревшие до углей деревяшки. Вероятно, Стас делал себе костер. Рядом с кострищем стоит перевернутый вверх дном ящик из-под бутылок, на нем, приваренные воском, расположились живописной группой с десяток оплывших свечей. Моих. Так вот куда так стремительно исчезали мои запасы! На ящике, служащем здесь столом, и рядом с ним раскиданы всяческие пакеты, моя книжка Стивен Кинга, моя же пропавшая расческа, маникюрный набор, мобильник и несколько картонных коробочек с лекарствами. Но невероятнее всего здесь смотрится стоящая прямо на каменном полу шахматная доска с расставленными на ней фигурами.
— Боже… — выдыхаю я. — Ты что, играешь сам с собой в шахматы?
Стас сглатывает слюну и что-то мычит в знак согласия.
— Я вообще не знала, что ты знаешь такое слово: шахматы. Где ты их взял?
— Привез с собой. Я заранее продумывал свой дд…ддосуг, — отвечает Стас. — Я много чего привез, — кивает он в сторону притулившегося под стеной чемодана, и на его губах начинает играть кривая усмешка, — даже лэптоп и электрическую зубную щетку прихватил. Забыл только, что вот незадача — в пещерах не бывает розеток… Все на хер поразрядилось в первые же дни, так что я вот, шахматами теперь балуюсь. Читать здесь в темноте — глаза сломаешь, а шахматные фигуры отлично видны почти до самого заката. Да и после него, если при свечах… А играю я, кстати говоря, отлично, у меня еще со школы первый разряд. Как я погляжу, плохо ты меня знаешь, honey.
Я ставлю принесенную сумку с продуктами на пол, подхожу ближе к Стасу и присаживаюсь на корточки. На его верхней губе запеклась огромная черная лихорадка, а в глазах поблескивает нехорошая безуминка.
— Пошли на солнце, я тебя прошу. У меня здесь мурашки. И ты весь простуженный уже, кажется. Господи, какой бред ты учудил! Ну неужели нельзя нормально жить в нашем доме? Тебя прямо ищут ? И могут приехать сюда ? Не знаю… по-моему, это бред какой-то! Я не верю вообще…
Стас опирается на одну руку и медленно встает на ноги.
— Отсырели, — комментирует он хруст в коленях, — а про «не верю» — это ты напрасно…
Мы выходим на свет божий. Я ловлю себя на том, что постоянно порываюсь подставить Стасу плечо или поддержать под локоть. Он напоминает мне смертельно больного, последний раз выведенного посмотреть на голубое небо. Дневное освещение ослепляет нас, и мы долго щуримся, как герои повести Короленко. Я надеваю солнечные очки, и пасмурное небо становится от этого еще более угрюмым, а черные скалы выглядят драматическими декорациями. Вдобавок ко всему за те десять-пятнадцать минут, что я провела в пещере, откуда-то налетел совсем уж жуткий ветер, порывами буквально сбивающий с ног.
Я отхожу в сторону, чтобы присесть на удобный плоский камень.
— Не туда. Это мой WC, — предупреждает меня Стас.
— Что?
— Ничто! Сру я за тем камнем, говорю!
Я отскакиваю в сторону, и Стас разражается хриплым лающим смехом, от чего его глаза увлажняются и на розоватых тонких веках начинают поблескивать слезы.
— Козел, — говорю я.
— Сама коза!
— Высокие у нас отношения! Ничего не скажешь. Пойдем, может, лучше тебя искупаем? От тебя воняет. А потом бы я тебя побрила и постригла. Я принесла ножницы и шампунь. Здесь есть нормальный спуск на маленький пляжик…
— Это ваш-то с адвокатом? Голубиный насест?
— Почему голубиный?
— Не знаю, почему. Потому что воркуете вы там вдвоем. Видел я, и не один раз видел. Пп…пполучил прямо удовольствие. Можно сказать, налюбовался. Нахер ваш пляж! Еще не хватало, чтобы твой голубь туда сейчас приперся и меня увидел! Ты хоть сообразила заткнуть его, чтоб он не выболтал, что я приехал?
— Сообразила. Он никому не скажет. А на пляж он сегодня не придет, не бойся. Я его услала подальше, Жанну развлекать, чтоб я сюда прийти смогла.
— Жанну?!
Я вздыхаю.
— Твою Жанну?! Она что? На острове?!
— Ну… я ее как-то недавно позвала… не подумав… А она возьми и приедь вчера. Ну я же не знала тогда…
— Бля-я-я… — Стас хватается руками за голову и закатывает глаза, ища поддержки у богов. — Ты вообще что ли?! Нах… нам тут Жанна?!
— Все! Прекрати орать! Что сделано — то сделано. Я сказала, я ее нейтрализовала, ее теперь будет развлекать Арно.
— Арно? Это у этого придурка еще и имя есть? Ну у нас тут прямо как большая семья образовалась! Жанна, Арно… Красота!
Черт меня, правда, дернул позвать сюда эту Жанну! В этом Стас, разумеется, прав. Разозленная, я поворачиваю на тропку и направляюсь в сторону расщелины:
— Я ушла купаться.
Помедлив, Стас засеменил за мной, продолжая в полголоса жаловаться небу на мою непроходимую тупость, но через пару минут приотстал, свернув куда-то. Его шаги зашуршали по камням снизу от меня. Я в раздражении оборачиваюсь и, как выясняется, делаю это очень вовремя.
— Стой! Господи, это невыносимо! Куда ты пошел? На этот мост нельзя, он полностью прогнил! Его надо обходить вот тут, иди за мной. Где кустарник выстрижен, видишь?
— Спасибо, что сказала, — хмуро бурчит Стас, но видно, что сердце его подпрыгивает от неожиданности. — А то могла бы остаться богатой вдовой.
— Мы не женаты, — замечаю я, продолжая путь. Теперь я на всякий случай постоянно оглядываюсь на Стаса.
— И что?
— Наследство после твоей смерти отойдет не мне, а твоим родителям.
— А при чем тут наследство?
— Ну ты ж говорил, что вроде украл где-то деньги?
— А-а-а… Так вот почему ты про мост сказала! Это ты зз…ззря… Деньги-то официально твои, а не мои.
— Это еще как?
— А так. Они должны со дня на день поступить на твой счет в Бангкоке.
Я останавливаюсь, как вкопанная.
— В смысле, на мой счет?
Раскрасневшийся от ходьбы Стас тоже останавливается и смотрит мне в глаза.
— В самом прямом. Когда мы покупали этот драный дом, мы тебе счет открыли, забыла? Чтоб деньги-то сюда перевести. Ну вот на него я и жду поступления. У меня никакого другого счета здесь нет, между прочим. И я тебе доверяю. Или ты думала, что я чемоданчик с девятью миллионами украл и с ним сюда прямо в самолете и прилетел? Да? Прям прижимая его потными ручонками к груди… Так ты это себе представляла?
Неожиданно огромная волна с грохотом обрушивается на подножье скалы, на которой я стою, и я вздрагиваю. За ней, с ревом откатившейся обратно, немедленно следует вторая, старательно прицеливаясь и пытаясь оплевать меня брызгами. В воздухе начинает пахнуть электричеством. Почуяв грозу, с верхушек деревьев выше по склону срывается стая птиц и с тревожными криками прочерчивает несколько кругов у нас над головами. Внезапно небо прорезается ослепительной вспышкой молнии, с торжественным опозданием в несколько секунд воздух сотрясают оглушительные раскаты грома, и мне кажется, что вместе с ними сотрясается весь мой шаткий островной мир.
— Сколько ты сказал? — сглатываю я возникший в горле ком.
— Что, сс…ссколько?
— Денег… сколько ты украл?
— Ты слышала.
— Девять миллионов?
— Если быть точным, девять с половиной.
— Рублей?
— Сама ты рублей! Что я, осел, что ли, за такие копейки жизнью рисковать?! Евро!
Я поворачиваюсь к Стасу спиной и спускаюсь на пляж. На ходу скинув с себя одежду, захожу в море, набираю полные легкие воздуха, опускаю голову и начинаю изо всех сил грести к горизонту. Выныриваю, набираю полные легкие воздуха и опять, и опять ныряю, пока не оказываюсь далеко от берега. Вынырнув в очередной раз, я обнаруживаю, что окружена крупными пузырями ливня. Небеса словно прорвало. Мне на голову хлещет стена воды. Ударяясь о море, она отскакивает высокими брызгами, от чего линия горизонта размывается, превращаясь в мутную полосу, через которую не видать ни островов напротив, ни берега, и я теряю ориентацию, не понимая, в какую сторону грести, но все равно гребу. Мне уже не важно куда. Мне хочется утонуть. Кругом мелькают молнии, шум бушующего моря оглушает меня, в спину больно, словно иглы, впиваются ледяные капли, но проходит не меньше получаса, пока я, наконец, заставляю себя выбраться на берег.
Стас уже спустился на пляж и с элегантностью промокшего воробья скорчился под выступающей скалой. Разумеется, ему даже не пришло в голову побеспокоиться, не утонула ли я, не пора ли меня спасать. Его тонкие волосы прилипли ко лбу, с кончика носа течет ручеек, бледная незагорелая кожа покрыта остроголовыми мурашками. Одежда прилипла к телу и по ней струями стекают потоки воды.
— Ну вот и помылись, — бурчит он, завидев меня.
Дрожа, я выбираюсь на берег и встаю рядом с ним. Выступ в скале настолько мелкий, что никакого толка кроме чисто символического от него нет. Я обхватываю себя руками и ссутуливаюсь, втягивая голову в плечи.
— Чьи это деньги? — чеканю я, клацая зубами то ли от нервов, то ли от холода.
Ничего не отвечая, Стас несколько раз приглаживает мокрые волосы. При таком ливне это не имеет никакого смысла и похоже на нервный тик.
— Чьи это деньги?! — ору я. — Тащерского?!
— Ты заткнешься или нет?! — начинает в ответ орать Стас. — Нельзя потом поговорить? Ты видишь, нас сейчас нафиг отсюда вообще смоет! Пипец дождина, в жизни такого не видел!
Но, видит бог, вовсе не дождь сейчас меня волнует.
— Тащерского?! — кричу я. — Это поэтому он тебя ищет?!
— Кто тебе сказал, что он меня ищет?!
— Ляля!
— В пиз… твою Лялю!
— Так это его деньги или нет?!
— Какая тебе разница, чьи это деньги? Наши это деньги, понятно?!
— И ты думаешь, он тебе их вот так вот отдаст?! Просто забудет и искать не станет?!
Стас поворачивается ко мне, и его лицо будто бы наезжает крупным планом: распахнутые красные глаза, пульсирующая на лбу вена, большая дождевая капля на кончике острого носа.
— Заткнись!!! Сил моих нету!!! Никто в этой жизни никому ничего за так не отдаст! Это давно всем, кроме тебя, ясно! Не надо считать себя самой умной! Самый умный здесь — я!!! Понятно?! Я! Самое умное было хватать деньги и бежать! Я все продумал, не было другого выхода, понимаешь?! Просто не было! Бывает такое! ВЫХОДА НЕТ! Как в метро! Ты давно в метро была?! Отвечай, мать твою, не зли меня! Давно была в метро? Ты только на иномарке себя и представляешь! А ты зайди, бомжей понюхай, втолкнись в человеческую воронку у эскалатора!
— Я не понимаю! Это ты, что ли, любитель метро? Ты сам на чем ездишь? Ты чем меня попрекаешь? Моим пятилетним «гольфом»?
— Ничем, дура, я тебя не попрекаю! Я тебе объясняю, что не было другого выхода просто! Лопнула наша с Артемом контора! Дошло до тебя? Я успел последнюю трансакцию на твой счет перевести и все.
— В смысле лопнула? Совсем лопнула? А как же Артем, Ляля?!
— Да какой, нафиг, Артем-Ляля?! Какая тебе разница? Артем, может, и выкарабкается. У него израильский паспорт и у отца там бизнес. На что, по-твоему, Ляля себе двадцатую шубу покупает? Поэтому Артем хочет — ходит на работу, хочет — не ходит, хочет — вообще нафиг уезжает на месяц на лыжах! А у нас совершенно другая ситуация! Я всегда, понимаешь?.. всегда в этой конторе сидел! Один! Есть Артем, нет Артема!
— Я все понимаю, но это же не наши деньги, а Тащерского! Он будет нас искать!
— Он нас никогда не найдет!
— Почему?
— Потому, что мы уедем! Как я тебе, идиотке, уже говорил! Придут деньги, снимешь и уедем!
— Но я не хочу никуда уезжать!
— Хочешь!
— Нет!
— Да! — ревет Стас мне в лицо. — Да! Да! Да! Да!..
— Замолчи, я не могу больше! У меня барабанные перепонки сейчас лопнут! — ору я, пытаясь перекричать дождь, и закрываю уши ладонями. — Почему ты всегда на меня кричишь?!
Дрожащие от холода плечи начинают подпрыгивать еще сильнее, и я понимаю, что плачу. Стас прекращает орать и обнимает меня обеими руками, утыкаясь лицом мне в макушку.
— Извини. Боже, извини меня, пожалуйста! Я тебя очень люблю. Не плачь, я тебя умоляю. У меня нн…ннервы. Я устал. Эта пещера. Черт-те что… Француз еще твой. Если бы ты знала, как я боялся тебя потерять! И еще деньги задерживаются почему-то. Неделю назад должны были уже прийти на счет. Извини. Мы уедем. Ты просто пока не понимаешь. Ты ничего не понимаешь, но это не беда. Ты подумаешь и поймешь.
Мы стоим, обнявшись и дрожа, и по нашим спинам бьют струи постепенно затихающего ливня. Чем больше Стас меня целует, — в щеки, нос, лоб, — чем нежнее его губы на моих ресницах, тем сильней я плачу. Я наврала Арно, я понимаю, что все-таки люблю Стаса, и от этого мне становится только больней.
Уже десять часов вечера. Я успела вернуться домой, принять горячий душ, согреться, сходить поужинать с Ингрид (русские вели себя как обычно, и старушка непрестанно отвлекала меня от мыслей, жалуясь на каждое их движение), но Жанна с Арно так до сих пор и не появлялись. Я покормила ящериц. Короткохвостая сегодня была на редкость ручной. Я убила для нее комара и положила на подлокотник кресла, в десяти сантиметрах от своей руки, указав ей на него лучом фонаря. Она долго изучала ситуацию, боялась подойти и, казалось, заглядывала прямо мне в глаза, пытаясь удостовериться в невинности моих намерений. Но комар был удивительно жирный и аппетитный, вдоволь напившийся моей крови, с длинными сложенными ногами и толстым жалом, и Короткохвостая решилась: сбежала по стене, спряталась под креслом и через минуту выглянула уже из-за моего локтя. Я ободряюще улыбнулась и застыла. Через минуту она совершила прыжок, распахнула крошечную пасть, проглотила комара, замерла, изогнулась и протолкнула его чуть поглубже, живот при этом слегка раздулся, и… никуда не ушла. Уселась поудобнее и стала меня пристально изучать. Наверное, прониклась, наконец, доверием. Эту небольшую сценку можно считать единственным хорошим и хоть как-то меня согревшим моментом за весь сегодняшний день.
Я бросаю взгляд на стоящую рядом бутылку. Вина осталось уже меньше половины. Вздохнув, я наливаю себе еще один стакан.
Вернувшись от Стаса, я так и не смогла выйти из тревожного и гнетущего состояния, в которое я проваливаюсь в ту же секунду, что начинаю думать о девяти с половиной миллионах евро, мало того, что украденных, так еще не у кого-нибудь, а у Тащерского! Перспектива провести всю жизнь в бегах по удаленным островам и континентам, в постоянном страхе перед каждым крупным аэропортом, вздрагивая от случайно услышанной за спиной русской речи, немедленно парализует мой мозг, и я впадаю в состояние тупого и животного безмыслия. Взгляд стеклянно застывает, становясь похожим на тот, что я видела сегодня у Стаса в пещере. Не может быть, не укладывается в моей голове, чтобы Стас на такое решился! Просто немыслимо! Мне все еще кажется, что произошло какое-то дурацкое недоразумение, плохая шутка, все это не по-настоящему и еще повернется вспять. Деньги еще не пришли на счет, а значит ничего не случилось, у нас их нет, и, дай Бог, никогда и не будет. Каким-то образом они вернутся обратно Тащерскому, или рассосутся по дороге. Думать о совершенном Стасом, как об уже свершившемся факте, я отказываюсь, у меня просто нет на это сил. Наверное, поэтому я и переключаюсь на другую, более реальную и легкую проблему, а именно изгрызть себя ревностью — решение, бессознательно возникшее и в общем-то, даже спасительное, по крайней мере, отвлекающее меня от кражи девяти с половиной миллионов. Тем более что тот факт, что Жанна с Арно до сих не вернулись, меня действительно страшно бесит.
Уставясь в темноту, я проклинаю тот день и час, когда мне пришло в голову позвать на остров Жанну. Я проклинаю Рафика, так невовремя ее бросившего, ее неспособность устроить свою судьбу, выйти замуж, нарожать, растолстеть, вместо того, чтобы вставлять в грудь всякую гадость. Я проклинаю Арно за то, что он мужчина, а не бесполое существо, не ангел, с которым я могла бы беспрепятственно общаться и при Стасе, и при Жанне. Проклинаю за то, что он француз и к тому же неуместно хорош собой, и даже за то, что у него, скорее всего, давно не было женщины. Хотя откуда я могу это знать?
В темноте раздается какое-то шуршание. Крабы или человеческие шаги? Я прислушиваюсь, но звуки замирают, и лишь из отеля слабо доносится музыка: вероятно, русские доводят Ингрид вечеринкой. Бедная старуха. Взяв фонарик, я обхожу свои владения, шарю лучом по скалам, но обнимающихся и хихикающих Арно и Жанны не видно. Вместо них за камнями обнаруживается парочка бездомных собак. Та, что покрупнее, пританцовывает на лишайных задних лапах, опершись передними о спину суки. Не сопротивляющейся, по-животному покорной своей сучьей судьбе. Увидев меня, кобель рычит. Даже при слабом свете фонарика мне бросается в глаза откровенно непристойный блеск ярко-розового, влажного жала, венчающего его центральную конечность.
Настроение окончательно портится, собаки выводят меня из себя.
— Фу! — ору я, нагибаясь за камнем. — Пошли вон! Вон отсюда!
Кабель соскакивает и пятится в сторону.
— Во-о-он! — снова ору я и бросаю в их сторону камни до тех пор, пока обе псины не убегают в темноту.
— Сволочи какие… — бормочу я, возвращаясь к дому.
Чуть не плача от внезапно охватившей меня досады, я на миг теряю бдительность и тут же пребольно спотыкаюсь о что-то твердое. Включаю фонарик и обнаруживаю, что это горшки с моими же цветами. Вот блядство! В припадке злости я пинаю их ногами. Стоят на дороге! Мешают ходить! Надо их убрать к черту! Выбросить! Все это нелепо, я не найду здесь ничего, мой приезд на остров абсолютно напрасен, лучше бы я осталась в Москве! Глядишь, мне удалось бы вовремя удержать Стаса от этого дикого шага, на который он решился в мое отсутствие. Мой фонарь отражается в маленьком водоеме с карпами. Зачем мне карпы? Что за безумная мысль полагать, что, назвав дом «пратьяхара» и кормя каких-то дурацких рыб и ящериц, я почувствую, нащупаю, уловлю в жизни какой-то смысл? Идти к Стасу немедленно! Прямо в темноте. Если я упаду и сломаю шею — большой потери не будет, а если дойду, то мы немедленно сделаем двойню. Я научусь варить обезжиренные овощные супы и выучу заодно с детьми парочку иностранных языков. А можно их записать на конюшню и по выходным кататься на лошадях. Тихий, спокойный быт, регулярные насморки, проверка дневников, родительские собрания, ветрянка — чем не смысл жизни? Или, по крайней мере, как говорит Ляля, такое занятие, при котором уже не останется ни сил, ни времени задумываться о чем-то еще.
Но отправиться к Стасу я не успеваю. В камнях опять раздаются какие-то звуки. На этот раз это точно шаги. И они приближаются. Вскоре я уже отчетливо слышу голоса. Два. Ошибки быть не может, это возвращаются загулявшие туристы. Первым на площадке показывается голова Арно. Волосы рассыпались по плечам, наверное, промокли под дождем, и он их распустил. Жанна идет сама, отстав на несколько шагов. Не в обнимку, хоть и на этом спасибо. Я быстро отворачиваюсь и увлеченно рассматриваю ноготь. Действительно, чем еще можно заниматься, гуляя с фонариком по каменистой ночной террасе, как не рассматривать собственные ногти? Как там Пушкин говорил про «быть можно дельным человеком»? Кажется, я все-таки сегодня недостаточно выпила, сердце предательски заколотилось, и я уже не знаю, как и с каким именно выражением на лице мне следует повернуться, но Жанна облегчает мне задачу, поверив в то, что их возвращение осталось мной незамеченным и весело окликнув меня.
Я оборачиваюсь и удивленно поднимаю брови. В темноте этого, должно быть, не видно, но мне так проще. Я самодостаточна, спокойна, я не провела весь вечер в томительном ожидании, более того, я про них вообще забыла и теперь искренне удивлена.
— О! Уже вернулись? Быстро! Где были, что видели? — произношу я по-английски, пытаясь придать голосу необходимую долю рассеянного равнодушия.
Арно подходит первый.
— Принимай подругу. В целости и невредимости. Немножко, правда, подмокшую по дороге, но уже высохшую. В лодке ужасно штормило из-за ветра, и брызги залили нас с головой.
— Ой, это было невероятно ужасно, — подключается возбужденная Жанна. — Я думала, что умру со страха! Хорошо у нас было с собой пиво, и мы так и плыли: Арно держал меня, а я держала бутылку, постоянно прихлебывая из горлышка!
Я выдаю приторную улыбку:
— Ужасно за вас рада. Так вы, наверное, уже и поели где-то?
— Да-да! Ты не представляешь! Арно, оказывается, знает такие рестораны, где совершенно нет туристов! Никого вообще нет! — тараторит радостная Жанна. — Нам вынесли столик на улицу, типа в садик, там был какой-то ручеек, подсвеченный огнями, или озерко? — последнее обращено к Арно, рука Жанны при этом спокойно ложится на его плечо.
— Озерко, — говорит он, не скидывая ее руки.
— Да, значит, озерко. И в нем плавали огромущие такие рыбы, всех цветов, это просто нереально! И мы поели какую-то рыбу… Арно, как она называлась?
— Рэд снэппер.
— Да, вот, рэд снэппер. Арно все помнит. Слушай, короче это все невероятно!
Я киваю и ухожу в дом. Заворачиваю на кухню, включаю электрический чайник и присаживаюсь на табурет, сложив руки на коленях. Смотреть на их прощание сил уже нет. Обойдутся без меня.
Через минуту-две (быстро, значит, если и целовались, то коротко) Жанна заглядывает ко мне на кухню. Лицо ее светится от восторга, но губы бледные, значит, все-таки не целовались. Интересно, только я не в состоянии испытывать радость за подругу, или это общее место? Я поднимаюсь, поворачиваюсь лицом к раковине и начинаю перекладывать в ней посуду с места на место.
— Какая-то ты тухлая, — замечает Жанна. — Сделаешь нам чай?
Я киваю и бросаю в чашки два пакетика с мятным напитком.
— Дьявол!
Чайник почти вырвался из моих рук, и меня обдало выплеснувшимся из носика кипятком. Теперь у меня есть повод убежать в ванную за йодом, и заодно скрыть от подруги уже навернувшиеся на глаза слезы.
Овладев с собой, я через несколько минут возвращаюсь на террасу. Жанна уже вынесла туда дымящиеся и благоухающие мятой чашки и удобно устроилась, по-кошачьи свернувшись в клубок на моем кресле. Я придвигаю себе жесткий стул. Второго кресла у меня нет.
— Слушай, этот Арно довольно забавный персонаж, — замечает Жанна.
— Чем же он так забавен?
— Ну… — тянет Жанна. — А ты хорошо его знаешь?
— Ну так. Не очень.
— А я, как мне кажется, проникла в его душу. Это просто живая ходячая иллюстрация к Бегбедеру! Полный улет! Он мега-успешный адвокат, живет в Париже…
— Он больше не живет в Париже.
— Ну, что значит, не живет? Когда-нибудь ведь ему тут надоест и он вернется.
— Ему тут не надоест. Ты ничего не поняла.
— Не важно, что ты перебиваешь? Короче, он живет в Париже, у него квартира в самом центре, сейчас он ее сдает какому-то арт-директору. У него вид из окон на Сену, правда боковой, но какая разница?
— Жанн, тебе не кажется, что ты на жилье помешана? И с Рафиком у тебя тоже основным камнем преткновения были жилищные вопросы.
Жанна удивленно поворачивает ко мне лицо:
— Что-то ты раздраженная сегодня.
— Да? — Я изо всех сил пытаюсь взять себя в руки, но у меня ничего не получается. — Я, кажется, просто устала.
— А ты лампы свои рисовала?
— Рисовала.
— И как?
— Никак. А что, хочешь посмотреть?
— Если честно, то нет.
— Я так и думала. Расскажи, тогда, что ты еще узнала про Арно, а то тебя сейчас, кажется, разорвет на части.
Жанна настолько увлечена свежими впечатлениями, что даже готова не обращать внимание на мою грубость.
— Ну Бегбедер — и есть Бегбедер, я ж говорю. Весь из себя утомленный городами и людьми. Да и по фактам смотри. Во-первых, карьера и все такое, Париж… Во-вторых, это улетный красавчик…
— Ну, по-моему, он не такой уж и красавчик. У него толстые щиколотки и вообще кость не аристократическая, — замечаю я.
— О-о-ой! Не придирайся! Конечно, он красавчик!
— А шрам?
— А что шрам? Ты знаешь, откуда он у него?
Я отрицательно качаю головой.
— Ну вот и не говори. Он на мотоцикле разбился, гонял по серпантину в Монако.
— В Монако нет серпантина. Там обычные загруженные движением узкие дороги, и разогнаться на них совершенно невозможно.
— Ну, что ты хочешь сказать? Что он врет?
— Ну, может, не врет, но все сильно преувеличивает. Специально, чтоб очаровывать таких дурочек, как ты.
Я щелкаю зажигалкой и закуриваю. Дым упорно не желает выходить кольцами. Я бездарна, бездарна, абсолютно бездарна.
— Ты просто завидуешь. А мне он, кажется, действительно понравился. Я даже позволила себя немножко «очаровать», как ты соизволила выразиться. И потом, что мне терять? Из тебя компания скучная, а так — хоть он. Не зря же я сюда, в конце концов, приехала?
Я аккуратно стряхиваю пепел в ракушку, не отрывая от нее глаз.
— А что твоя влюбленность в Рафика? Уже кончилась? Стоило только ему разориться?
Жанна обиженно качает ногой.
— Вот только не надо делать из меня меркантильную стерву. Рафик — семейный человек, с четырьмя детьми. Что мне там ловить-то? К тому же он толстый как не знаю кто, и это все прогрессирует, чем больше стресса, тем меньше он ест, а от нерегулярного питания толстеют еще хуже, чем от переедания. Мы уже ничем таким заниматься не могли толком, пузо висит, ни в одной позе не подлезешь. Только женщина сверху, и мне это, если честно, уже надоело. Вечно я сама себя развлекай. Я все всегда сама. Сама его нашла, сама выходила, в божеский вид привела. Он одевался, как полный лох, ни в еде не разбирался, ни в чем вообще. Только знал свое, работал сутками и все. Это он умел. Но больше — никогда и ничего не умел. Я сама его обходила, сама соблазнила, сама все сделала, и после этого еще сама себя им трахать должна?! То ли дело француз. Он и ручку мне на лодке подал, и ресторан нашел, и про рыбу все знает, и комплименты говорит…
— И трахать тебя сам будет, в позиции мужчина сверху?
— Ну если дойдет до этого, то уж будь уверена, бревном снизу не ляжет!
— Что-то у меня голова заболела. Пойду, пожалуй, лягу, — цежу я сквозь сжатые зубы. — Надеюсь, вы завтра опять на экскурсию собрались?
— Да нет, — пожимает плечами Жанна. — Он меня так укатал сегодня на мотоцикле, мы брали в прокат, что завтра решили сделать перерывчик и провести время на пляже. Он сказал, что вы всегда ходите на один и тот же пляж какой-то уютный.
— А-а-а! — говорю я. — Ну здорово! Спокойной ночи, и убери свою чашку в мойку. А то ночами приползают какие-то жуки и тонут в остатках чая.
Единственное, что меня радует, это счастье Стаса, когда он рассмотрит из своего укрытия нашу веселую компанию, греющуюся на солнышке на том самом нашем голубином пляже.
25
Сегодня небо высокое, чистое, словно вымытое вчерашним дождем и лишь кое-где покрытое узорными облаками, отнюдь не мешающими солнцу палить как умалишенному. В раскинувшейся над нами беловатой дымке застыл не движимый ни единым порывом ветра полуденный зной. За вчерашний день уставшая сама от себя природа, видимо, решила сегодня передохнуть, и только высоко над морем одиноко кружит орел. Слишком мелкий для своей породы, тропический. Возможно, это и вовсе не орел, но размах его крыльев и неторопливая величественность надолго приковывают к нему мой взгляд. К тому же больше смотреть здесь мне ни на что не хочется.
Двое — это отношения. Порой сложные. Трое — классическая драма, часто с летальным исходом. Но четверо — а, судя по то и дело соскальзывающим со скалы мелким камушкам, Стас воспользовался случаем развлечься и нас здесь именно столько, хотя и не все участники этого фарса об этом догадываются — это уже кинокомедия. Причем дешевая, из серии: шел, поскользнулся на банановой кожуре, упал (громогласные раскаты смеха за кадром).
Мы трое — я, Жанна и Арно — уже битый час загораем на «нашем» пляжике. Он настолько крошечный, что мы вынуждены лежать в ряд, как трупы в морге. Мы и внешне на них смахиваем, по крайней мере я и Арно: застывшие в неподвижности, мы лежим на спине, закинув руки за голову, и изучаем редкие облака, по очереди выдвигая предположения кого они напоминают. Портит эффект только постоянно крутящаяся между нами Жанна: галька мешает ей, больно впиваясь в спину, наклон пляжа то слишком велик, то недостаточно симметричен, то она хочет воды, то курить, то ей срочно надо запечатлеть себя на фоне тропиков.
— Это лошадь, — говорит Арно, придумавший играть в облака.
— Не вижу, — отвечаю я, щурясь под темными очками.
— Слева от собаки, вон там, ближе к горизонту.
— А-а-а… Почему лошадь?
— Ну вон голова, она бежит, передние ноги высоко задраны, и хвост летит за ней, развеваясь.
— Хвост чересчур длинный.
— Ну какой уж есть.
Жанна участия в игре не принимает. Последние полчаса она строчит уже третью или двадцатую смс-ку. Накладные ногти тычутся в кнопочки мобильного, издавая каждый раз негромкий, но невероятно нелепый звук.
— Телефону вредно так долго находиться на прямых солнечных лучах, — замечаю я лениво.
— Переживет, — отвечает Жанна, не прекращая делиться с кем-то подробностями своего потрясающего отдыха.
— А вон, смотри, еще левее, это морда ящерицы, — говорит Арно.
— Согласна. Перед броском.
Наконец, Жанна убирает телефон в сумку и растягивается на спине между нами. Надо ли говорить, что, разумеется, она загорает без лифчика. (Для справки: я загораю в лифчике). Ее силиконовые шары не желают лежать, гордо стремясь ввысь, а кожа вокруг победно торчащих бардовых сосков растянута и покрыта омерзительными пупырышками. Меня определенно уже мутит от Жанны и всего ее облика. Ногти на ногах у нее вымазаны изумрудным перламутровым лаком, а на щиколотке болтается довольно объемный браслет с колокольчиками, — когда она идет, они доводят меня до бешенства своим нескончаемым звоном. На голове у Жанны намотан изумрудного же оттенка платок, сзади завязанный в узел, в ушах продеты огромные полукруги цыганских сережек. Рыжая грива все время выбивается из-под платка и рассыпается по плечам, невыносимо переливаясь на солнце, на слегка курносом носу сидят огромные дымчатые очки с вопиющими золотистыми блямбами известного итальянского бренда, а полные чувственные губы лоснятся от яркой помады.
— Смотри, ящерица будто разинула пасть и сейчас кого-то сожрет, — говорит Арно.
— Да, вот то маленькое облачко, напоминающее муравья, — отвечаю я.
— Ящерицы не едят муравьев, — возражает Арно.
— Ну, значит, ту бабочку.
— Это вовсе не бабочка.
— А кто?
— Ну если ты настаиваешь, пусть это будет бабочка. Я согласен.
Жанна перекатывается на бок и мурлычет в сторону Арно:
— Во что это вы тут играете? Научите меня.
— Ни во что, — зеваю я. — Мы уже закончили. Мне надоело.
Если смотреть на солнце сквозь сомкнутые веки, то перед глазами возникает яркое пятно. Меняющееся в цвете от золотистого до темно-вишневого, а порой, когда солнце закрывается на миг небольшим облаком, то и почти коричневого, оно усыпляет своим уютным теплом. Закрыв глаза, я принимаюсь любоваться на переливающееся золото сегодняшнего дня, но Жанна довольно бесцеремонно толкает меня в плечо.
— Сфоткай меня!
— Не могу, я занята.
— Чем?
— Любуюсь на свет.
— И все?
— Нет. Еще я изучаю, как солнце приятно стягивает кожу на скулах и покусывает мне губы своим жаром. Знаешь, бывает, что человеку не скучно с самим собой и ему не требуется каждую секунду развлекать себя каким-нибудь внешним занятием, не слышала про такое?
— Ну не выделывайся! Сфоткай меня! — на этот раз сильнее толкает меня подруга.
Я разлепляю глаза, сажусь и моментально получаю фотоаппарат и инструкции, на какую кнопку нажимать.
— Только снимай не отсюда! — протестует Жанна, отходя в сторону и картинно припадая бедром к скале.
Одна ее рука покоится на животе, другая, изогнувшись, прикрывает глаза от солнца.
— Господи! А откуда?!
— Отойди подальше, чтобы я влезла в полный рост.
— Подальше тут некуда.
— Зайди в воду!
Я вздыхаю, забираюсь по колено в море и щелкаю фотоаппаратом.
— Ну куда ты пошла? — возмущается Жанна, видя, что я собираюсь лечь обратно. — Теперь залезь туда, где я стояла, и сними в сторону моря, так, чтобы и Арно попал в кадр.
На этот раз Жанна полулежит перед французом, опершись о локоть и посылая в камеру лучезарную улыбку. Надо заметить, что Арно в это время так и не повернул головы, продолжая рассматривать облака.
— А теперь… — Жанна обводит пляж жадным взглядом, подыскивая себе еще какой-нибудь достойный фон.
— А теперь давай полежим спокойно? — прошу я, кладя фотоаппарат на камни и растягиваясь на спине.
— Вот зараза! — комментирует Жанна, с недовольным видом укладываясь рядом.
Полежав ровно столько времени, сколько ей потребовалось для того, чтобы, морщась, просмотреть полученные за последние дни кадры, Жанна опять садится и начинает тыкать пальцем в свою белоснежную кожу. Словно долматин, моя рыжая подруга покрыта густой россыпью больших и маленьких веснушек.
— Белые пятна уже остаются. Я кажется сейчас сгорю. Где мой крем?
Жанна тянется к валяющейся рядом сумке и долго там шарит. Я наблюдаю за орлом. Теперь он, словно прицеливаясь поточнее, совершает быстрые круги низко над морем, возможно, углядев себе какую-то добычу.
— Я кажется забыла свой крем, — разочарованно тянет Жанна. — Дай мне твой.
— Я не хочу двигаться, — говорю я.
— Ну не будь такой! Если я сгорю, то вся покроюсь жуткими пятнами и неделю потом буду шелушиться и облезать.
Не меняя позы, я подтаскиваю к себе свою холщовую котомку. Моя рука ныряет в нее и тут же нащупывает внутри баночку с кремом от загара. Арно начинает что-то насвистывать.
— Я тоже забыла свой крем, — говорю я через минуту, отбрасываю котомку подальше и закладываю обе руки под голову.
Жанна издает стон и опять начинает рыться в своей сумке.
Солнце печет, не жалея сил, по небу неспешно плывут облака. Арно ложится на живот и поворачивает голову в мою сторону. Я не меняю позы, но слегка наклоняю голову и смотрю на него. Я не уверена, что сквозь темные очки он может видеть мои глаза, но и не исключаю такой вероятности. Один его глаз приоткрыт и изучает меня странным, лукавым взглядом. Мы молчим около минуты, глядя друг на друга.
— Нашла! Слава богу! Я уж думала, придется отсюда уходить из-за какого-то дурацкого крема, — провозглашает, наконец, Жанна и, ни сколько не засомневавшись, протягивает тюбик не мне, а Арно.
— Намажешь мне спину?
Я отворачиваюсь.
Арно привстает на локте, наклоняется над Жанной и выдавливает в ладонь большую белую каплю. Рыжая бестия с блаженной улыбкой растягивается на камнях и закрывает глаза. Распущенные волосы Арно почти касаются ее молочной кожи. На левой лопатке у Жанны цветная крошечная тату: свернувшаяся клубком змея с широко разинутой пастью, из которой торчит раздвоенный на конце красный язык.
— Пойду искупаюсь, — говорю я.
Не оборачиваясь, я захожу в воду. Из-за гальки она абсолютно прозрачная, зеленоватая в тон Жанниному педикюру и искрится и переливается мягкими размытыми по дну бликами. Вокруг моих ног тут же собирается любопытная стайка крошечных рыб. Набрав побольше воздуха в легкие, я рывком ныряю и сразу же ухожу на глубину. Выныриваю я уже в двадцати метрах от берега. Арно продолжает натирать Жанну кремом, но рыжая дрянь уже лежит на спине, выставив грудь прямо под нос французу. Ну что ж, можно только порадоваться за Стаса. Надеюсь, что после сегодняшнего немого кино его отпустит желание ревновать меня к Арно. Роли в нашей мелодраме, кажется, успешно распределились.
Я опять ныряю и плыву вдоль берега. Вода сегодня настолько теплая, что ничуть не остужает разгоряченной кожи, будто находишься не в море, а в горячей ванне. Отфыркавшись и убрав с лица мокрые волосы, я исподтишка кошусь на оставленную мной парочку. Обряд намазывания, по всей видимости, уже закончен, и Арно одним прыжком вскакивает сначала на корточки, а потом выпрямляется во весь рост и по-кошачьи потягивается. Вот здесь Стасу придется немного поморщиться, фигура у француза сегодня особенно хороша, а кожа отливает гладкой бронзой, но на мой взгляд Стасу не повредит этот небольшой укол зависти.
Легкой походкой, не боясь пораниться о гальку, француз заходит в воду.
— Подожди меня, — кричит ему Жанна.
Арно что-то отвечает ей, не оборачиваясь, делает еще несколько шагов в воду и неожиданно бросается в нее с головой, брасом направляясь прямо в мою сторону.
Я ложусь на спину и тихо дрейфую, рассматривая солнечные блики на своих приоткрытых ресницах. Через минуту Арно выныривает прямо у моего плеча.
— Hello, beautiful!
Я открываю глаза и изображаю удивление.
— Твоя «beautiful» осталась на берегу. Что ты ей сказал, что она пустила тебя одного купаться?
Арно смеется:
— Что ей нельзя в воду, крем должен сначала немного впитаться. К тому же я не ее собственность, купаюсь когда и с кем захочу. Хочешь я сделаю тебе floating?
— Что ты мне сделаешь?
— Закрой глаза и расслабься.
Я бросаю косой взгляд на скалу, за которой прячется Стас, но Арно истолковывает его по-своему.
— Не бойся, я отличный пловец. Просто расслабься и закрой глаза.
Противостоять такой фразе, особенно сказанной повторно, у меня нет сил. Я смыкаю веки и ложусь на спину, выпрямив руки за головой. Арно берет меня за кисть и слегка тянет в сторону.
— Какой у тебя милый браслет. А этот ключик на нем — от твоего сердца?
— Нет, мое сердце открыто. А ключик — так, вообще. Папа сказал, он от счастья, — бормочу я, не открывая глаз.
Арно сжимает мое запястье чуть выше браслета.
— Расслабься и не делай ничего. Никаких движений. Я все сам, — почти шепчет он мне в ухо.
Мне кажется, я теряю сознание. Мной овладевает сонная, почти наркотическая невесомость, небо и вода смешиваются в странном кружении, и уже не понять, где верх и где низ. Утягиваемая Арно, я скольжу по поверхности, следуя выбранной им траектории. Время останавливается. Солнце, проходя сквозь мои закрытые веки, словно подсвечивает меня изнутри красноватым светом, теплая вода струится вокруг расслабленного тела, распущенные волосы иногда мягко задевают по лицу или плечам. Внезапно мне хочется умереть, чтобы эта минута была последней минутой в моей жизни, чтобы ничто больше не испортило этого наслаждения от немыслимого, невероятного, полного единения меня, Арно, отступившего времени, солнца и моря.
Рука Арно проскальзывает подо мной и аккуратно ложится на спину, поддерживая меня на поверхности. От неожиданного прикосновения меня покрывают мурашки, и я резко открываю глаза.
— Всё. Не надо, — говорю я.
Голос получается каким-то загробным, хриплым.
Арно тут же убирает руку с моей спины.
— Тебе не понравилось?
— Не в этом дело.
— А в чем?
— Стас.
Брови Арно ползут кверху, лоб удивленно морщится, шрам на виске напрягается и белеет. Сделав два сильных гребка ногами, он отплывает в сторону, не сводя с меня глаз.
— Стас наблюдает из-за скалы. Там, над нашим пляжем, — поясняю я, ненавидя себя в эту минуту.
— Ах, Стас… — губы Арно искривляет усмешка.
Резким броском он ныряет под воду и через минуту показывается на поверхности почти у самого берега. Не выдержав одиночества, Жанна плывет ему навстречу. Газовой косынки на ее голове уже нет. Рыжие волосы смотаны на затылке в идиотское подобие пирожного-корзиночки, голова аккуратно задрана над водой, а руки настороженно разгребают воду, чтобы не поднять лишних брызг и не намочить косметики. Добравшись, наконец, до Арно, она тут же виснет у него на шее.
Я закрываю глаза руками и мой подбородок начинает дрожать. Я себя ненавижу, ненавижу, ненавижу!
Я опять стираю руками в тазу, установленном мной на двух табуретах. Мыльная пена переливается на предзакатном солнце огромными лопающимися оранжевыми пузырями. Дело происходит тем же днем, после полдника, на который у нас было шоколадное печенье с холодным молоком. Жанна подходит сзади и небрежным жестом подкидывает мне в таз кружевную комбинацию. Не желая тонуть, тонкая ткань стоит над мыльной водой, словно отчужденная ею.
— Свои вещи могла бы стирать и сама, — кидаю я через плечо, вытирая лоб тыльной стороной руки.
— У тебя нет стиральной машины, — бросает Жанна. — А стирать руками я не умею. И вообще в наше время это просто дикость какая-то!
— Ты ничего не понимаешь в жизни.
— А ты очень много понимаешь. Где, скажи на милость, эти чертовы тайки? Почему они нам не стирают?
— Таек ты вчера разогнала.
— Я их не разогнала, а наорала, что они не могут нормально развесить мои вещи. Все комом валяется третий день.
— Наорать на тайцев — тоже самое, что их выгнать. Они никогда не прощают обиды, и, думаю, они сюда больше не вернутся. Радуйся, что их приятель до сих пор тебя не зарезал. Кстати, мы теперь останемся без арбузов и воды, это именно он их сюда таскал из лавки.
— Арно притащит.
— Арно? Он уже согласился?
— Я еще его не просила. Но куда он денется? Оставит нас помирать от жажды?
Я бросаю мокрые вещи в таз и распрямляюсь.
— Ты слишком рассчитываешь на окружающих, вместо того, чтобы полагаться на себя.
— О! От кого я это слышу?! А ты, можно подумать, бьешься с жизнью в одиночку? Да ты шагу сама не сделала, ни одного решения не приняла. Ты всю жизнь провела за спиной у Стаса! Куда он, туда и ты.
Эти слова больно ранят меня своей правдивостью. Я нагибаюсь к мыльной воде и начинаю отчаянно тереть Жаннину комбинацию.
— Я собираюсь начать жить сама, — говорю я.
Но Жанна уже ушла в дом, и скорее всего меня не слышит. Да и к ней ли я вообще обращаюсь?
После ужина у Лучано Жанна отчалила к Арно проверять свои имайлы. Она опять одета во что-то серебристо-золотистое, хотя местный ландшафт уже заставил ее отказаться от каблуков. Воспользовавшись образовавшейся свободой, я успела ненадолго сбегать в пещеру и отнести Стасу еды. Я уже настолько натренировалась прыгать по камням, что даже ночью проделываю этот маршрут со скоростью горной козы.
Стас сегодня был спокоен и почти не изводил меня ревностью, похоже, пляжная сценка привела его в отличное расположение духа. Он даже захотел ее обсудить, прихлебывал принесенное мной мерло прямо из горлышка (под предлогом, что Бой перестал приносить нам воду, мы все с облегчением перешли на вино), отпускал язвительные шутки по поводу «разошедшегося Тарзана» и по достоинству оценил Жаннин выдающийся бюст.
Вино развязало Стасу язык, и мне удалось наконец собрать воедино фрагменты его плана, который оказался до предела прост. Занимаясь обналичкой и конвертацией, Стас регулярно переводил по цепочке счетов чьи-то деньги. Так вот, последнюю сумму в девять с половиной миллионов евро, принадлежащую, как и я думала, именно Тащерскому, он перевел на мой счет в Бангкоке. Со дня на день деньги должны были поступить, и тогда я просто их снимаю дорожными чеками, и мы преспокойно начинаем новую жизнь на неведомых нам островах. Под новыми именами, разумеется. А в случае, если Тащерский еще до прихода денег успеет догадаться, что мы сидим на «Вилле Пратьяхаре» и решит сюда наведаться, то я ничего не знаю, Стас сюда никогда не приезжал, взять с меня нечего, а удачно приехавшая Жанна будет тому свидетель. Но по соображениям Стаса выходило, что деньги проделали столь путаный маршрут по различным оффшорным банкам, что Тащерский еще долго не узнает об их пропаже, и мы просто успеем к тому времени спокойно убежать.
Словосочетание «спокойно убежать» вызвало у меня что-то типа нервного тика: рот перекашивало от глупой усмешки, а Стасово заикание, словно заразная болезнь, перепрыгнуло с него на меня, и, под предлогом того, что Жанна уже скоро вернется, я поспешила пораньше удалиться, как от чумы сбежав из холодного мрака пещеры, в которой, словно хищный порочный змий, рос и креп дикий план побега. Напоследок Стас вручил мне бумажку с банковским номером в Бангкоке, куда я должна была теперь звонить ежечасно, контролируя поступление денег. Бумажка лежала рядом со мной на столике на террасе, придавленная очередной открытой мной бутылкой, и нервно трепетала от порывов вечернего ветра. Над морем висела размытая в дымке луна.
Но если кто-то подумал, что меня по-прежнему сейчас волнуют перспективы предстоящего побега, то этот счастливчик просто не знает, что такое ревность. Если любовь — это тихое сумасшествие, то ревность — буйное помешательство, безумие, доводящее тебя до предела, до ручки, до полной потери способности соображать. Жанны нет уже третий час. Светящиеся циферки на моем мобильном показывают половину первого ночи, выстиранное после полдника белье благополучно высохло и убрано в шкаф, ящерицы накормлены, даже карпы в моем самодельном прудике получили неполагающуюся им дополнительную вечернюю кормежку, вторая бутылка вина уже на исходе (первую я выпила в пещере со Стасом), а рыжая бестия так и не возвращалась. Проверяет имайлы. И уж кто-кто, если не я, знает, во что превращается столь невинное занятие в пропахшем ароматами свежей жареной рыбы, чеснока, рыбацких сетей и влажной древесины, уютном, подсвеченном свечами жилище француза.
Если задуматься, то никакого права на ревность у меня нет вообще, но это нисколько не облегчает страданий. Между нами никогда не было ничего кроме случайных прикосновений локтями или странных взглядов, ну и сегодняшний floating, но нельзя же ревновать всех, кто мельком дотронулся до тебя при купании? Или не мельком? Почему он настоял на том, что бы Жанна осталась на берегу? Почему так смотрел на меня, когда лежал на гальке, отделенный ерзающей туда-сюда рыжей дрянью? Так ли уж хотел натирать ее кремом или просто не нашел причины отказать? Вежливость это в нем или что-то большее? Мерзавка-Жанна, конечно, хороша, но с другой стороны, она же даже не догадывается, насколько мне нравится француз. И, разумеется, в мои планы вовсе не входит раскрывать ей душу. Тем более что и раскрывать особенно нечего. Я живу со Стасом, и наши судьбы, к счастью ли или нет, давно сплелись в единое и нерушимое целое. И в завершение всего, какие у меня могут быть страдания, если я даже не люблю этого Арно!
Хотя только глупцы полагают, что ревность — производное от любви. Всему виной, разумеется, стремление к собственности, даже хуже того — стремление к тому, чтобы тебя оценили, выбрали. Ревность, словно мерзкий глист, кишечный червь, поедает тебя изнутри, щедро выделяя побочные результаты своей жизнедеятельности, которые ощущаются как гниющая и смердящая масса, плесень на протухшем помидоре, голубоватая слизь на испорченной луковице, а в конце концов — как мелкие белые опарыши на забытом куске разложившегося мяса, в котором исследователи (если таковые когда-нибудь заинтересуются сим проклятым предметом) с трудом впоследствии смогут распознать твое сердце.
Ревность врастает корнями в самую суть человеческой природы, в самый глубинный и ранимый ее центр, а именно, разумеется, в наше эго — бездонную воронку, в которой исчезают звезды. В основе ревности всегда лежит обида: тебя не оценили, тебе предпочли , призы в соревновании (а речь здесь всегда идет именно о нем) были распределены несправедливо, мир и окружающие тебя люди слепы и глухи к очевидному, боги отвернулись от тебя. Ревность можно рассматривать как определенный венец, окончательное торжество владеющего человеком дуализма. На каждое чувство, испытываемое нами, есть полностью противоположное, и парадокс состоит в том, что испытывать их всегда приходится одновременно. Это сводит с ума. Человек, как маятник, качается туда-сюда, в целом всегда оставаясь в середине, около нуля, в гнетущей безысходности. Ты ищешь спасения от боли, но и привязан к ней, боль неожиданно превращается в ценность, сладость, и хочется тянуть ее, упиваться, смаковать. Мазохизм в той или иной степени свойственен всем нам, осознаем мы это или нет.
Уже который час я испытываю все нарастающее чувство потери, будто где-то под ребрами у меня что-то сгнило. Во мне растет гадливое, мерзкое отвращение к Жанне, Арно, и, главное, к себе. Я никого ни в чем не обвиняю. Жанна кажется мне изначально неспособной понять всю сложность происходящего, к тому же от нее скрыты все нюансы нашей непростой островной диспозиции, а Арно и вовсе ни в чем не виноват. Не я ли сама попросила его развлекать мою подругу? Не я ли постоянно напоминаю ему о своем бойфренде — скрытном, загадочном типе, по неизвестным для Арно причинам прячущемся где-то за скалами? Виной всему лишь я, вернее, мое неосуществленное желание приблизить к себе Арно, дотронуться до него — ничтожная малость, но недоступная мне, она легко получается у Жанны. Какое-то время я размышляю, могла ли бы я, будь я на ее месте, догадаться о том, что не стоит так откровенно и неприкрыто соблазнять француза, но мысли упираются в тупик, и ответа я не нахожу. Я уже не могу поставить себя ни на чье место, представить весь путаный хаос мыслей и чувств кого-либо, кроме себя. Бутылка вина подходит к концу, но я не слышу ни шума моря, ни шума в своей голове, я прокручиваю в воображении сцену за сценой: вот Жанна скользит острым ногтем по небритой щетине на его щеке, вот его рука накрывает на столе ее руку, вот его шоколадные губы, цвета ее сосков, уже приближаются к ее лицу и она медленно, очень медленно прикрывает веки.
Терпеть все это не представляется дальше возможным. План — болезненный, мазохистичный, но и освобождающий меня, — рождается в голове сам собой. Боль необходимо довести до максимума, до точки кипения. Я отчетливо понимаю, что любые действия, приближающие этот момент, будут сейчас в равной степени хороши. Мне нужно действовать, давить, крушить в себе зародившийся во мне источник яда, пока он не сжег меня насквозь, пока не слишком поздно.
Задув свечу, я шатающейся походкой направляюсь в дом. Мне хочется запереть его изнутри, убедить себя в том, что Жанна уже сегодня не вернется, ждать ее бессмысленно, надежды на то, что сладкую парочку не ждет сегодня ночь любви, — нет, а значит и боли от ожидания неминуемого — тоже больше нет. Любой, даже самый ужасный факт, гораздо проще переварить в уже завершенном виде, нежели питаться остатками слабой угасающей веры в то, что, может быть, еще ничего не случится. Я медлю у двери, но все-таки оставляю ее открытой и ненавижу себя за это.
26
Утром я первым делом надеваю купальник и спускаюсь на террасу. Жить не хочется, и я заставляю себя прыгнуть в море со скал, прямо туда, где под водой щерятся рифы. Проверка удалась. Страх сжал мне горло. Пролетев вперед головой около десяти метров и вонзившись в воду чуть правее рифов, я понимаю, что все-таки цепляюсь за жизнь, а значит, разум еще не окончательно покинул меня. Вынырнув, я набираю побольше воздуха и отчаянно гребу к горизонту. Я настолько хороший пловец, что меня посещает мысль уплыть далеко-далеко, подальше от этого острова. Устав, я могу отдыхать, переворачиваясь на спину, а потом плыть снова, пока… Что ожидает меня впереди? Учитывая, что земля круглая, я рано или поздно окажусь на этом же острове?
Через час я возвращаюсь на берег. Жанна сидит в моем кресле как ни в чем не бывало. На ногах у нее переливаются уже не изумрудные, а лиловые ногти. И когда она успевает их перекрашивать?
— Привет, — бросаю я ей как можно небрежнее, вылезая на скалы. — Давно вернулась?
Жанна смотрит непонимающе:
— В смысле «давно»? Вчера.
Сердце подпрыгивает в моей груди, но я уверенно давлю в себе опять зарождающуюся надежду. Робкая, тлеющая слабым угольком, она способна постепенно выжечь тебя дотла. Мне просто физически необходимо ее убить, как угодно, но избавиться от нее, хотя бы просто для того, чтобы выжить. Пока она есть, ни покоя, ни пратьяхары мне не будет.
— Решила у него не оставаться?
— У кого? — по-прежнему не понимает Жанна.
— Ну у кого? У француза, разумеется. У кого ж еще?
После того, как я вчера приняла решение осуществить свой мазохистский план, мой язык больше не поворачивается называть француза по имени. Как будто одно его упоминание приблизит меня к нему, оживит его образ, словно он воочию материализуется прямо сейчас на этой террасе.
— А-а-а, у француза… Да нет, с чего бы? — Жанна отбрасывает волосы с лица и мне становятся видны проблески подозрительности, мелькающие в ее зеленых глазах. — Да он в общем-то и не предлагал. Он заковырялся в своих сетях, что-то там у него было срочное, мне не понять. Кажется, они то ли запутались, то ли порвались… Я проверила имайлы и пошла в отель. Русские вчера зажигали, разве ты не слышала? Музыка гремела, думаю, на весь остров.
Я вытираюсь полотенцем и, расстелив его прямо на горячих камнях, растягиваюсь ничком. Сердце потихоньку успокаивается, прекращает свою бешеную пляску, но не оставляет меня в покое и немедленно начинает болеть по-новому: не сильно, но тягуче, изнуряюще, при каждом глубоком вдохе, как при пытке, ввинчивая тонкую струйку боли куда-то под ребра.
— А почему? — спрашиваю я.
— Что «почему»?
— Почему ты ничего не захотела вчера? Ну… с ним?
Жанна откладывает оставшийся от таек «Cosmopolitan» и удивленно на меня смотрит.
— А ты считаешь, что стоит мне захотеть и… ну в смысле… Он будет согласен?
— Разумеется. Он только того и ждет. Он пожирает тебя глазами, разве непонятно?
— Ну не знаю…
Я продолжаю настаивать:
— Да что тут знать? Все очевидно. Он ждет от тебя знака. Думаю, его воспитание не позволяет ему наброситься на тебя, но как только ты подашь какой-то намек… Ты же говорила, что он тебе нравится?
— Ну нравится…
В интонациях Жанны сквозит сомнение, но «Cosmopolitan» уже отложен в сторону, и тонкие накрашенные пальчики в задумчивости барабанят по столешнице. Взгляд ее затуманился и уставился куда-то вдаль. Я противна себе, но операцию необходимо провести быстро, иначе мне не выжить, долго я с собой не справлюсь. Мне надо исключить Арно из своих мыслей, превратить его в чужую собственность, поставить на нем крест. Разумеется, мне будет больно, но лучше так, коротко, бах, вспышкой, как пощечина или удар плетью, чем медленно и скорбно, ежечасно подставляя вторую щеку. Мне нужно похоронить внезапно возникшее между мной и французом родство, и Жанна подходит для этого как нельзя лучше.
— Я просила его опять покатать меня по острову, — словно сама себе говорит она. — Ну вот, теоретически, можно вернуться пораньше и вместо ужина… ну или после ужина… А ты знаешь, ты совершенно права! Почему бы и нет? А вдруг? Жить в Париже, поплевывать в Сену…
Одна мысль о том, что парочка поженится и будет счастлива вместе, перекрывает мне кислород. Но, не перестаралась ли я? Надо заметить, быстро же у Жанны растут аппетиты!
— Он отсюда никуда не уедет, — на всякий случай говорю я. — Он останется на острове.
— На острове, на острове… Это мы еще посмотрим!
Зеленые глаза загораются блеском и, легко вскочив с кресла, Жанна вбегает в дом.
— Я, пожалуй, пошлю тебя нафиг с твоими советами и одену сегодня лиловое платье. Помнишь — итальянское, полупрозрачное? Ну, которое ты называешь «блядским»? — слышу я уже со второго этажа.
Я хмурю брови и, неожиданно начиная жалеть о только что мною содеянном, до крови откусываю заусенец:
— А он зайдет за тобой сюда?
— Неа… Мы встречаемся у Лучано.
— Ну хоть на этом спасибо, — бормочу я себе под нос, соображая, что наблюдать, как при виде этого чертового платья в глазах Арно зажжется искорка восторга, будет выше моих сил.
На столике рядом с брошенными Жанной журналом, чашкой с кофе и еще дымящейся сигаретой трепещет на ветру какая-то бумажка. Я уверена, что с ней связано что-то важное, но что именно, вспомнить не могу. Смутное беспокойство заставляет меня подняться с полотенца, преодолеть расстояние до столика (руки и ноги слегка дрожат после необычно длительного утреннего заплыва) и развернуть ее. Настроение из просто плохого моментально становится абсолютно отвратительным. С бумажки мне подмигивают кривые, кое-как нацарапанные циферки телефона бангкокского банка. Ну вот, и Стас тоже решил куда-то уехать, пока не поздно. Все куда-то собираются.
Я комкаю бумажку с телефоном и бросаю в пепельницу, потом опять ложусь на полотенце и закрываю глаза. Солнце рассеянно покусывает кожу, и волны тихо плещутся о камни. Всех к черту, пусть едут куда хотят, а я останусь тут. Одна. Мне кажется, еще немного, и я что-то нащупаю, уловлю состояние, в котором всё это уже будет не важно.
Проводив Жанну и оставшись наедине со своей «Виллой», я с мрачным удовлетворением, как на трон, уселась в свое, наконец-то, освободившееся кресло. С момента Жанниного приезда я, словно дальняя родственница, довольствуюсь табуретом. Кресло — удобное, плетеное из ротанга, с мягкими подушками и подлокотниками — на террасе одно, и покупать второе в мои планы никак не входит. «Вилла Пратьяхара» явно не рассчитана на гостей, и ее статус непременно должен быть восстановлен, а восседающая в моем кресле наманикюренная Жанна может взамен получить (моего же!) Арно и мотать с ним к любой Сене по своему желанию. Так французу и надо! Все, что я хочу — это тишины и покоя.
После вчерашней вспышки эмоций, сегодняшний день кажется сонным. Размытое в полуденном мареве солнце печет что есть дури. Пляж, сколько мне видно с моих скал, выглядит совершенно безлюдным, даже русские в отеле, видимо, утомились от бурного отдыха и расползлись по гамакам.
Тайки (спасибо Жанне) ко мне больше не приходят, питьевая вода в доме закончилась, и весь день я остервенело грызу яблоки. Впрочем, то ли от жары, то ли от отвратительного настроения, у меня совершенно нет аппетита, и голод одолевает меня уже только после заката.
Когда среда твоего обитания ограничивается полукилометровым пляжем, можно научиться определять время не по часам, а по ряду косвенных признаков. Судя по тому, что в «Пиратском баре» уже зажгли свет, а повиливающие хвостами собаки в поисках еды удалились с пляжа в поселок — сейчас около восьми, а значит Ингрид садится за столик, надевает на нос очки и раскрывает меню.
Наспех напялив что попало, я спускаюсь со своих отшельнических скал и направляюсь в отель. Не иначе как по поводу приезда русских, он неожиданно ярко подсвечен всевозможными огоньками и лампочками, и музыка играет громче, чем хотелось бы. У входа в ресторан меня встречает кривляющаяся девица, несмотря на позднее время, все еще одетая в купальник. Лифчик не закрывает, а скорее открывает подозрительно круглую, уж не силиконовую ли тоже, грудь, а на заднице расположились какие-то невразумительные кружева в виде микроскопической юбки, напоминающей национальные африканские набедренные повязки. Скользнув по мне беглым взглядом, она чуть поводит бедром, пропуская меня мимо, и принимается пуще прежнего орать в телефон: «Ну вот я и сказала, мамуль! Подождет твоя дача, берешь Владика и на каникулы в Тай! Визу справим, билет возьмешь бизнес-классом, нечего ребенка десять часов в экономе мариновать, еще грипп подхватит, сидя с разными уродами…»
«Разные уроды», представленные сегодня скромно одетой в льняной сарафан Ингрид и ссутулившейся за дальним столиком американкой в чем-то ситцево-гороховом, выглядят чужими и неприкаянными на том празднике жизни, в который превратился отель.
— Где наш Лучано? — интересуюсь я у запыхавшегося Тхана, подсаживаясь к шведке. — Ушел играть на трубе?
— Какое там! — жалуется Ингрид. — Все хлопочет по хозяйству, когда тут поиграешь, с этими… — старческий палец коротко, но выразительно тычет в сторону шумного русского столика. — Но ты знаешь, их поубавилось за эти дни. Уехать они не уехали, но теперь треть компании находится в каком-то вечном летаргическом сне, не важно, день или ночь. Иногда они вылезают на балконы, потом опять пропадают в недрах бунгало. Сонные какие-то и глаза шальные, особенно у мужчин.
— Может, они просто курят траву постоянно? — зеваю я, открывая меню.
Ингрид пожимает плечами, неуютно ежится и ковыряет вилкой салат.
— А где твоя подруга? — интересуется она после тщательного изучения содержимого своей тарелки. Бедный Лучано перестал справляться с наплывом клиентов, и подгоревшие крутоны в «цезаре» расстраивают старую гурманку.
— Она занимается изучением острова.
— Ого! — Ингрид вскидывает брови. — Какая похвальная любознательность! Одна?
— Нет. С французом… Что вы так на меня смотрите?
— Да нет. Ничего.
Старуха опять опускает глаза к тарелке. Я заказываю пасту с анчоусами (разумеется, консервированными, откуда на нашем драном острове возьмутся свежие?) и салат из того, что они здесь называют моцареллой. Слава Богу, хоть базилик Лучано выращивает сам.
Несколько минут мы молчим, глядя на смоляную темноту над морем.
— А твоя подруга очень за собой следит, — замечает Ингрид.
— Это вы имеете в виду меняющийся каждый день педикюр?
— Не только. Маникюр, педикюр, одевается броско, сексуально… Как ни пройдет, за ней шлейф из парфюма, аж запах моря в воздухе перебивает. И косметикой она не брезгует… Впрочем, как и все те, кто с ней приехал.
Тхан приносит мой салат.
— И что вы этим хотите сказать? — спрашиваю я.
— Ничего. Не раздражайся, пожалуйста. Просто в результате они все, и твоя подруга в особенности, очень хорошо выглядят.
Я долго натыкаю на вилку пирамиду из помидора, моцареллы и базилика, очень тщательно обмакиваю ее в лужицу оливкового масла и уже подношу к раскрытому рту, как внезапно вся конструкция срывается с вилки и шлепается обратно в тарелку, щедро обдав меня масляными брызгами.
Ингрид протягивает мне салфетку.
— Я лично считаю, что пользоваться косметикой в тропических условиях, тем более, на таком пляже, как наш — это откровенно дурной тон, — говорю я, вытирая забрызганные лицо и шею и тщательно контролируя свой голос, чтобы не взреветь.
— Я тоже так считаю, — замечает Ингрид, — но выглядит твоя подружка при этом очень хорошо, а вот ты, милочка, явно выцвела на солнце и бледновата. Так и хочется накрасить тебе ресницы.
Я бросаю промокшую салфетку на стол и отодвигаю от себя чертов салат.
— Спасибо, Ингрид, мне, как обычно, приятно с вами разговаривать.
Накрыв мою руку своей, старушка вздыхает:
— Да не обижайся ты! Я полностью на твоей стороне, просто в сложившейся ситуации мне тебя немного жалко.
— Это какую еще такую «ситуацию» вы имеете в виду?!
И тут из темноты пляжа на дощатую площадку ресторана, как на сцену, по ступенькам медленно поднимается Арно. Сначала он виден только по пояс, но с каждой ступенью он оказывается все ближе к многочисленным новогодним лампочкам, украшающим террасу, и вот, наконец, мы видим его целиком, словно в свете софитов: длинные волосы, как обычно, спутаны в пряди и распущены, на обнаженном загорелом плече сверкает блестками Жаннина сумочка, в одной руке — ее же сандалии на высоченных шпильках (одна из них сломана и нелепо висит на ошметке кожи), другую руку он рыцарским жестом протягивает в темноту. Через пару секунд, в которые я, кажется, даже забываю дышать, на ступеньках показывается хохочущая до слез, сгибающаяся пополам от (излишне громкого, показушного) хохота Жанна. Она, разумеется, босая, и в сочетании с длинным, почти до пола, полупрозрачным платьем это выглядит как наряд экстравагантной монашки-блудницы. Ее рыжие пакли тоже распущены и, словно извивающиеся змеи, скользят по голой спине и плечам.
— … нет, ну надо же, уже думала, не дойду… — хохочет она во весь голос, привлекая к себе не только наши с Ингрид взгляды, но и восторги всего русского столика.
Старушка под столом наступает мне на ногу. Я закуриваю. Мужская часть русского столика разражается аплодисментами. Лучано откладывает счета и выглядывает из своей конторки. Несмотря на все усилия присутствующих здесь девиц, Жанна явно выглядит королевой бала.
Не дрогнув ни единой мышцей на лице, Арно спокойно проходит по террасе и замирает, отодвигая Жанне стул за дальним столиком. Все еще взвизгивая остатками утихающего смеха, она машет рукой сначала русским, потом нам с Ингрид, не спеша пересекает площадку и, картинно оттопырив зад и придерживая платье одной рукой, усаживается.
— А все то же самое, но еще раз, на бис? — интересуется шведка. Ее голос полон вызова, и выражается это в том, что впервые она не шепчет мне на ухо, а говорит достаточно громко для того, что бы это могли расслышать все присутствующие.
Но Жанна благоразумно предпочитает ничего не слышать и просит шампанское и меню. Через минуту атмосфера в ресторане возвращается в свое обычное русло. Русские громко шутят и размахивают руками, норовя опрокинуть бокалы, а мы с Ингрид зачем-то делаем вещь для нас совершенно нетипичную: не сговариваясь, заказываем Тхану десерт. Старушка выбирает «тирамису», а я что-то дикое под названием «Банана-мама в шоколаде».
— А про косметику я все-таки предлагаю тебе подумать, — как бы между делом бросает мне Ингрид. — И одевалась ты, когда приехала, помнится, куда элегантнее, чем в последнее время. Совсем ты здесь стала дикая.
Я тереблю пальцами переливающийся изящный ключик на браслетике, который я последнее время почти не снимаю. Вовсе не так уж я за собой не слежу, как думает Ингрид. Возможно, я не крашусь и не ношу синтетические полупрозрачные платья, переливающиеся навязчивыми блестками, но я загорела, похудела, а солнце высветило не только мои ресницы, но и волосы, которые отливают теперь совсем золотистыми прядями и очень меня украшают. Старушка ко мне несправедлива.
— По-моему, это я приехала сюда дикая , а сейчас как раз стала нормальная , — говорю я.
Весь следующий час мы обмениваемся впечатлениями исключительно о погоде. Разговор не интересен в равной степени ни мне, ни Ингрид, но я словно мощным магнитом притянута к стулу и никак не могу заставить себя расплатиться и покинуть террасу. С ужином давно покончено, «банана-мама», как можно было догадаться из названия, оказалась премерзким бананом, зажаренным в масле и облитым расплавленной шоколадной массой, пепельница полна окурков, но вместо того, чтобы попросить счет, я заказываю уже третью чашку эспрессо. Моя мазохистская душа требует зрелищ, в частности, я хочу своими глазами видеть, как подвыпившая Жанна обопрется на галантный французский локоть и покинет сие пристанище, уплывая в сторону экзотической хижины Арно.
Еще через три сигареты и два эспрессо, парочка, наконец, поднимается, просит счет и удаляется.
— Вы не заметили, кто у них заплатил? — спрашиваю я у Ингрид.
Я весь вечер сижу к ним спиной и ни разу не позволила себе обернуться.
— Он, — печально улыбается старушка.
Я улыбаюсь ей в ответ.
Русские покинули ресторан еще полчаса назад. Проводив Арно и Жанну, Тхан убрал их столик и задул свечу. Теперь в полутемном и притихшем ресторане нет никого, кроме нас с Ингрид.
— Ну пора и нам. Лучано, вероятно, смертельно устал и мечтает закрыться. Может быть, пойдем ко мне и я тебе погадаю? — неожиданно предлагает шведка. — Я умею, на картах.
— Спасибо, — говорю я, — мне уже погадали недавно. Я, пожалуй, пойду спать.
Расцеловавшись с Лучано, мы выходим на пляж. Ингрид надо назад, на освещенную фонариками лужайку, мне — налево, в темноту, за которой проступают подсвеченные огнями «Пиратского бара» камни, ведущие наверх на мою скалу.
— Точно не пойдешь ко мне? — последний раз спрашивает Ингрид. — У меня есть водка и томатный сок.
Я отрицательно качаю головой и поворачиваю в сторону дома, но, отойдя немного и убедившись, что старушка благополучно удалилась восвояси, сворачиваю и направляюсь прямо к морю.
Начался отлив и песок у кромки воды мокрый, словно языком вылизанный мягко отступающими волнами. Как и в прошлый раз, когда я хромала по пляжу, испуганная маньяком, в воде мерцают голубые точечки. Кажется, Сэм сказал, что это планктон. Я захожу по щиколотку в море и удивляюсь, насколько оно теплее, чем днем. Ласковое, оно тихо плещется у моих ног, планктон вокруг меня оживился, засверкал ярче, обрадованный или, наоборот, испуганный моим вторжением. Вот тоже, мельчайшие существа, а ведь чего-то соображают, чувствуют, меняют цвет…
Я запрокидываю голову и меня буквально оглушает величием раскинувшийся во все стороны ночной небосклон. Над моей головой зияет невероятная, бескрайняя бездна, густо усыпанная россыпью планет и галактик. В одном месте кто-то будто бы мазнул шершавой растрепанной кистью, и по глубокой черноте там теперь проходит жирная полоса из далеких микроскопических звезд. Но венчает все это ночное пиршество, несомненно, огромная и уверенная в себе сволочь-Венера.
Мне хочется плакать, но слез нет, и я лишь закусываю губу. Мне хочется водки с томатным соком, но нет сил вести светские беседы с милой старушкой. Я готова вырвать себе сердце и бросить его в воду как камушек, сосчитать, сколько раз оно подпрыгнет, прежде чем окончательно пойти на дно. Но вместо всего этого я поворачиваюсь, медленно выхожу на берег и походкой обреченного больного, только что узнавшего диагноз, бреду в сторону, противоположную от своего дома. Мне даже не нужно задавать себе вопросы, пытаться что-то осознать, осмыслить, оправдать себя, я и так понимаю, куда ведут меня ноги. Мне мало знать, что то, чего я так ждала и страшилась, сегодня все-таки произойдет. Теоретическое ознакомление с фактами — это ерунда, детский сад для моего израненного эго. Мне нужно большего. Я должна увидеть это своими глазами . Иначе я не поверю, до меня просто не дойдет, что все кончено, что самое страшное — уже свершилось, и дальше думать не о чем. И (или тут уместнее все-таки прибегнуть к помощи лицемерного «или», дающего тебе хоть какой-то выбор и надежду?) я должна в точности знать, как это будет. О, это может быть очень по-разному! Телами — даже всего лишь нашими убогими телами — мы способны выразить столь многое! Это может быть сильно, красиво, будто бы даже божественно, высоко, так занимаются любовью Шива и Шакти, разрушая и творя миры; а может быть без души, дежурно, приземленно, механично… Но главное, что я должна узнать, это отдаст ли он ей нечто большее, чем ночь, наполненную его горячими губами и руками, а именно — подарит ли чертов Арно ей свое сердце?
Более уверенные в себе люди или те, кто не скован по рукам и ногам густой вязкой трясиной обстоятельств, будут продолжать за себя биться. Менее уверенные или скованные — закроются, словно раненные моллюски, и отступят в безопасность своей раковины. Я ни сколько не обольщаюсь относительно своего выбора. Послать Жанну к Арно — это отступиться, освободить себя от страданий, как можно быстрее довести ситуацию до предела, когда все силы уже исчерпаны до конца и боль проходит вместе со всеми остальными чувствами, просто от полной внутренней опустошенности.
Шальные перемигивающиеся звезды свысока наблюдают за моей крошечной фигуркой, нетвердой походкой бредущей вдоль кромки воды. В голове крутятся слова, брошенные Арно в ту ночь, когда мы сидели в засаде, еще не ведая, каким монстром, каким испытанием для меня обернется поимка незваного визитера. Арно сказал: наша жизнь здесь, это — жизнь на мосту. Если очень повезет, то речь идет о каких-то жалких семидесяти годах в перерывах между четырехсотлетним ожиданием… Ожиданием чего? Следующих семидесяти лет очередного перерождения? Странное распределение времени: 400/70, — если считать «ожидание» пустым периодом, то подозрительно непропорциональное. Но с чего мы взяли, что те четыреста лет так уж пусты? Возможно, как раз там и происходит что-то самое главное? А вот «здесь» нет ничего, кроме пресловутой пустоты, о которую разбили себе головы лучшайшие умы человечества. Чертов мост, в котором нет никакого смысла. Переверните знаки и получите: семидесятилетнее ожидание следующей смерти. А пока… Что можно делать на мосту? Расслабиться, улыбнуться, почувствовать себя туристом, попытаться получить удовольствие, достать фотоаппарат, щелкнуть на память звезды…
Но осознание всей нелепости моих переживаний на фоне почти бесконечного времени, пронизывающего преходящесть и полную бесполезность мирской суеты, в данный момент не меняет ничего. Все специально устроено так зло, нам не дано ощутить тщетность происходящего, иначе какой от него толк? Чему мы научимся, в удобных кроссовках, с тростью и зонтиком в развалку путешествуя по жизням, уверенные, что лишь в смерти есть какой-то смысл и соответственно глухо прикрытые панцирем из иронии и цинизма? Мне хочется надеяться, что я права и в моих страданиях есть хоть какой-то высший смысл, в противном случае придется просто признать себя непроходимой тупицей, а мое мелочное эго и без того уже изранено до предела. К тому же, кто сказал, что в моих действиях присутствует какая-то логика? Я уже давно не контролирую себя и, увлекаемая тлеющим адом своих чувств, тупо иду на боль, как упорная бабочка на свечу, которая рано или поздно спалит ей крылья.
Вскоре пляж заканчивается, и я сворачиваю на уже хорошо знакомую мне тропинку, круто взбирающуюся вверх по руслу высохшего ручейка. Теперь меня со всех сторон окружают деревья, и становится совсем темно. Я замедляю шаг и стараюсь наощупь обходить то тут, то там попадающиеся мне камни и выступающие, коварно цепляющиеся за ноги корни. Чем дальше я продвигаюсь, тем сильнее желание повернуть назад. Что я надеюсь там увидеть? Как он оттолкнет ее? Ударит? Рассмеется ей в лицо и встанет в открытых дверях, давая понять, что вечер закончен? О, разумеется, (слава всем наивным душам!) не за этим ли он увел ее с собой из ресторана, чтобы немедленно выставить за порог?
У последнего дерева я останавливаюсь. Мое сердце отчаянно бьется. Прямо перед собой я вижу лужайку, а за ней и саму хижину. В окнах дрожит неровный тусклый свет, какой может исходить только от свеч. Я прислоняюсь спиной к стволу и дрожащей рукой нащупываю в сумке зажигалку и пачку сигарет, не сразу, а исчертыхавшись, предварительно уронив все, что было можно, в траву, закуриваю, но вкус у сигареты неожиданно горький, саднящий горло, и, сделав пару быстрых затяжек, я затаптываю ее в землю. А, к черту! Убедившись в том, что предательницы-луны нигде не видно и открытое пространство перед домом тонет в ночном мраке, я пригибаюсь и по-воровски крадусь к освещенным окнам. Сердце норовит разорвать мне грудь, ломится в ребра, пытается выскочить наружу через горло, но я стискиваю зубы и все-таки преодолеваю лужайку, присев на корточки под одним из передних окон. В ту же секунду внутри дома над самым моим ухом раздаются шаги, тяжелые, не женские, принадлежащие ему , и в двери громко клацает железом задвигаемая щеколда. Моей надежде только что подписан окончательный приговор. Я закрываю глаза. Шаги удаляются и дом погружается в полную тишину. Ни звуки голосов, ни какие-либо хозяйственные шумы не прерывают оглушительных ударов моего сердца, и только ветер шелестит гигантскими тропическими лопатообразными листьями растущих неподалеку кустов, да где-то хищно, протяжно, со всхлипами кричит ночная птица.
Минут десять я сижу в темноте и борюсь с вновь возникшим нервическим желанием закурить, но меня останавливает страх быть обнаруженной. Я представляю, что будет, выдай я чем-нибудь свое присутствие, и меня пробирает озноб. Жанна немедленно вытащит меня за руку из моего укрытия и примется истерически хохотать, Арно в своей всегдашней манере сдержанно, но выразительно поднимет брови и наморщит лоб, а мне не хватит никакой фантазии придумать себе хоть слабое оправдание, и всем станет очевиден жалкий факт: я просто тут подглядываю . Одна мысль о том, чтобы оказаться в этой ситуации и пережить подобный позор вызывает у меня судороги. Надо как можно скорее убираться восвояси. Но сначала следует все-таки…
С отчаянием обреченного я привстаю на колени и заглядываю в окно. Прыгавшее до сих пор сердце в тот же миг останавливается, и, кажется, заодно я перестаю и дышать.
Судя по тому, что я вижу, мое жалкое присутствие не скоро будет обнаружено: людям в комнате абсолютно не до меня.
Первое, что бросается в глаза и буквально режет меня пополам неожиданным спазмом в животе, это ослепительно белые, до неприличия контрастирующие с шоколадным телом незагорелые ягодицы Арно, в каком-то механическом ненатурально-размеренном темпе движущиеся взад и вперед; второе — это впившиеся ему в спину, накрашенные алым лаком ногти Жанны. Они стоят лицом друг к другу у дальней от меня стены. Арно мне видно целиком, он повернут ко мне спиной, съехавшие вниз джинсы кучкой лежат на полу, словно каторжными цепями сковывая его ноги; от почти полностью скрытой его телом Жанны мне видны только стиснутые, с побелевшими костяшками кисти рук и разметавшаяся по деревянной обшивке огненно-рыжая шевелюра, вздрагивающая в такт его монотонным, но при этом пропитанным угрюмой силой движениям. Арно похож на идеальную поршневую машину: при каждом движении вперед его ягодицы напрягаются и в их центре образуются глубокие ямочки, в которые немедленно забирается тень от свечей, одной рукой он упирается в стену, другая обвивает Жанну за талию, крепко прижимая к себе. Они словно слились в единый организм, четырехрукого и четырехногого монстра, похожего на Шиву и движущегося в каком-то странном замедленном танце. Неожиданно рука Арно — властная, мускулистая, с рельефно вздувшимися венами — отрывается от стены и хватает Жанну за волосы, на мгновение мне становится видно ее перекошенное страстной гримасой лицо, полуоткрытый рот с блестящей полоской влажных зубов, но рука тут же отпускает ее и с глухим ударом снова упирается в стену. Если не считать этого удара, то вся сцена происходит совершенно беззвучно, как в немом кино, и это в ней самое страшное.
Парализованная, я не сразу чувствую боль в пальцах, судорожно ухватившихся за подоконник, и лишь когда они проскальзывают, срываясь по грубым необструганным доскам, прихожу в себя. Молниеносным движением я сгибаюсь пополам и оседаю на землю. В тусклом свете, падающем из окна, мне видны черные капли крови, прямо на глазах проступающие из царапин на пальцах. По-прежнему ничего не соображая, оглушенная тишиной, ослепленная и одеревеневшая, я подношу пораненную руку к губам и пробую кровь на вкус. Она густая и соленая. Я слизываю ее языком и, смешавшись со слюной, она начинает течь с удвоенной силой, расползаясь по мельчайшим складкам кожи и напоминая хищного осьминога, охватывающего меня своими страшными щупальцами.
— А-а-а-а-у… — вдруг раздается из дома протяжный, постепенно нарастающий стон Жанны.
Я пытаюсь заткнуть уши руками, но при резком движении ключик на моем браслете внезапно цепляется за что-то, раздается негромкий хлопок и тонкая золотая цепочка соскальзывает с запястья и падает в траву. Я становлюсь на колени, кляня себя, ползаю под окном, судорожно шарю рукой в темноте, но чертова безделушка словно испарилась.
— А-а-а… О-о-у… Арно-о-о-о… — опять стонет Жанна, и теперь к ее голосу примешивается вторящий ей в унисон мужской хрип. Его хрип. Глухой. Звериный.
Я чувствую, что еще немного, и я потеряю сознание. Я больше не контролирую себя. Толком не отдавая себе отчета в том, что делаю, я поднимаюсь на ноги и, не прячась, бегу по лужайке в сторону темной дыры между деревьями, по пересохшему руслу ручейка, спотыкаясь о камни, вниз, и в следующий раз перевожу дыхание, только оказавшись уже на спасительной полоске пляжа.
О том, чтобы спокойно вернуться домой и в обществе циничной Венеры провести там бессонную ночь с бутылкой вина и двумя пачками сигарет, не может быть и речи! Все, что угодно, но только не это! Словно в тумане, я добираюсь до своей каменистой террасы, но не останавливаюсь, а пересекаю ее и иду дальше. Очень вовремя откуда-то выныривает пропащая луна, и, освещенные ею, скалы теперь кажутся покрытыми инеем. Пару раз я встаю, сгибаюсь пополам, держась рукой за валуны, и пытаюсь перевести дух, но вскоре опять продолжаю путь, пока не достигаю, наконец, расщелины. Передо мной открываются два варианта: спуститься вниз на наш галечный пляжик и взвыть там диким зверем, раздеться, пойти купаться, рассмешить крабов и утопиться, или подняться чуть выше по склону, туда, где начинается скалистая тропка к пещерам. Я выбираю второе и через минуту подхожу к напоминающей разверзнутую пасть каменной дыре, из которой слабо сочится свет от свечи.
Стас еще не спит. Ссутулившись над столом и замотавшись в спальный мешок, он сосредоточен на том, что пытается найти правильное место для зажатой в его руке шахматной фигуры.
Словно тень, я бесшумно захожу внутрь.
— Привет, — говорю я внезапно охрипшим голосом.
— О, господи! — Стас вздрагивает и роняет фигуру. — Ты? Что-то случилось?
— Да, — говорю я, продолжая медленно приближаться к перевернутому ящику, работающему тут столом. Обогнув его, я отодвигаю подальше шахматную доску, сажусь на колени перед Стасом и беру его острый подбородок в свои руки.
Стас хмурит брови, отчего по его бледному лицу ложатся причудливые длинные тени. Но я вижу не их, у меня перед глазами стоят те, другие тени — в ямочках посреди мерно двигающихся ягодиц. На долю секунды мне кажется, что я теряю сознание. Голова начинает кружиться, и я закрываю глаза и делаю медленный вдох. Пахнет воском и сыростью, и почему-то это отрезвляет и придает силы.
— Погоди… Дд…ддетка… Что сс…сслучилось? Что ты делаешь?.. — растерянно бормочет Стас, но я залепляю ему губы своими губами, обеими руками упираюсь ему в грудь, с силой толкаю назад и начинаю расстегивать пуговицы на рубашке.
— М-м-м… — мычит Стас, оказываясь поваленным на спину.
Но моя рука уже расправилась с рубашкой и рывками расстегивает ремень на его джинсах.
27
Утро застает меня на моем вечном посту на террасе. Свернувшись клубком и поджав под себя одну ногу, другой — босой, безвольно свешивающейся с кресла — я ритмично постукиваю по ножке столика. Пепельница уже (или еще?) переполнена окурками, в моей руке чашка с остывшим чаем, из которой болтается давно покоричневевший хвостик с бумажной биркой заварочного пакетика. То ли я так и не ложилась, то ли после короткого и неплодотворного сна уже вскочила, едва первые лучи скользнули на второй этаж моей одинокой, прислонившейся к скале неприступной каменной башни? Этот несущественный вопрос меня совершенно не занимает. Я превратилась в томительное, застывшее вместе со временем ожидание, которому, видимо, суждено вымотать из меня последние жилы, ибо предположить, что рыжая соблазнительница соизволит разлепить сонные глазки, выскользнуть из объятий ее нового французского принца и доковылять до дома в такую рань — решительно невозможно. Карпы лениво виляют глянцевыми боками в крошечном водоемчике, длинные утренние тени постепенно укорачиваются, окружающие террасу камни превращаются из розовых в золотые, а пара влюбленных бабочек суетится над алеющими цветками геликонии. Медленно, но верно распускает свои душные объятия пробуждающаяся от ночного забытья жара.
Разумеется, вчера мне даже не пришло в голову остаться спать в пещере. В ее мерзкой холодной атмосфере мне мерещились зловещие запахи — что-то чуждое, смутно-природное (не иначе, как сырость — дикая природа всегда пахнет ей по ночам) и одновременно что-то до боли знакомо-человеческое (уж не удушливая жадность ли, с ее подкатывающими к горлу примесями кислого пота?) Впрочем, Стас и не пытался меня задержать. Провожая меня до тропинки, он крепко сжал мое запястье и, заглядывая в глаза, потребовал, чтобы я немедленно первым же делом с утра позвонила в банк. Мои похудевшие, отполированные морем загорелые пальцы уже битый час раскручивают и комкают извлеченную из пахучих недр ракушки-пепельницы бумажку с номером банка: жалкая вереница криво нацарапанных цифр, за которыми прячутся совершенно ненужные мне, краденые, дикие, несуразные, ничего не меняющие в сегодняшнем утре миллионы. Мобильный телефон лежит рядом, на столике, служа пресс-папье для забытого Жанной журнала, раскрытого на странице с рекламой средства для отбеливания зубов — хищный накрашенный рот фотомодели посверкивает жемчужинами. Очень в Жаннином духе роковой совратительницы. Хотя с чего я взяла, что красавчику-французу следует отвести лишь придуманную мной скромную роль покоренной жертвы? В конце концов, его простая рыбацкая жизнь на острове и полный отказ от благ цивилизованной Европы еще вовсе не означают равнодушия к противоположному полу, особенно к такому пышному и великолепному его образчику, как моя подруга. И вчерашняя его страсть, при воспоминании о которой я до сих пор покрываюсь мурашками, тому верное подтверждение.
Я прислушиваюсь к себе, пытаясь нащупать хотя бы толику облегчения внутри. Мой план полностью удался, из меня получился прекрасный режиссер, рыжеволосая дрянь и неразборчивый француз стали любовниками. Все точки над «и» благополучно расставились, я могу считать себя свободной. Не этого ли я добивалась? Так где же, черт возьми, мое запланированное удовлетворение?
Пальцы опять разворачивают мятую бумажку с телефоном банка. Вчера я умышленно не дала Стасу воспользоваться презервативом. Мои игры с судьбой становятся опасны. Я словно бросаю жизни вызов: ну-ка, давай, придумай что-нибудь новенькое, расшевели это чертово болото, в котором я барахтаюсь, не в силах ни опустить руки и пойти на дно, но и не выбираясь на сушу.
Ткнув недокуренную сигарету в ракушку, я вздыхаю и тянусь к телефону. Освобожденный от его веса журнал немедленно оказывается в плену у легкого бриза, послушно шелестит переворачивающимися страницами и замирает на развороте, где страстный тайский женоподобный юнец в потертых и очень «западных» джинсах склоняется над кукольным личиком тайки, облаченной во что-то национальное по духу и сдержанно-эротичное по содержанию. Как нелепа все-таки эта наивность всех женских попыток избавиться от роли вечной шлюхи! Достаточно лишь бегло пролистать первый попавшийся глянцевый женский журнальчик, как это становится абсолютно понятно.
Я набираю номер банка. В телефоне что-то булькает, потом сладкий женский голос обещает соединить меня с требующимся мне отделом частных счетов.
Ветер опять переворачивает страницы и останавливается на полноразворотной рекламе блестящей гоночной машины. Ее смысл в женском журнале очевиден: для того, чтобы завладеть мужчиной, который купит тебе такую, надо пролистать несколько страниц назад и воспользоваться услугами рекламы по отбеливанию зубов. Промежуточная стадия, когда «Он» уже польстился и нависает над сметливой жемчужнозубой очаровательницей, располагается в журнале именно там, где и в жизни, а именно посередине. Мне же…
(ПОДАРОК В СТУДИЮ!)
Мне же вовсе нет нужды заниматься всем этим бредом. Цвет моих зубов не играет больше никакой роли. Если верить, что секунду назад я верно поняла ужасающий азиатский акцент банковского клерка, девять с половиной миллионов евро уже ожидают меня на моем счету.
Время близится к обеду, когда Жанна, наконец, вплывает на террасу. Босая, держа туфли со сломанным каблуком в руке, она просто светится от счастья. По ее лицу размазана маска животного, абсолютно кошачьего удовлетворения, пластика ее движений сегодня особенно томна и медлительна. Воспользовавшись тем, что я стою у прудика и кормлю карпов, она немедленно забирается в мое кресло и закидывает ногу на ногу. Видно, что ей хочется обсудить вчерашнее приключение.
— Судя по твоей физиономии, все прошло замечательно? — выдавливаю я с гримасой, призванной изобразить улыбку.
— Мурр, — кивает мерзавка.
Самый толстый и крупный карп бьет хвостом, отгоняя более робких сородичей от горстки плавающего на поверхности корма. Огромный, совершенно круглый рот разевается и корм исчезает в хрящеватой розовой полости. Какая гадость эти рыбы!
— Это было что-то! Бедный мальчик был настолько голодный! — Жанна смакует воспоминания.
— Да неужели? Даже не снял толком штаны?
— А ты откуда знаешь? Да, даже не снял. Кинулся зверем. Давно такого не видела. Раритет, в Москве таких уже и не встретишь. Все стали в конец затраханные, если не блядьми, так самой жизнью. Последний раз Рафик пришел около месяца назад, поел и вместо секса говорит, массаж, мол, лучше давай. А какой там массаж, если при его жире даже до шейных позвонков не добраться, молчу уже про остальное?.. Короче, ладно, думаю, будет тебе массаж, пристроилась сзади, локтями по нему хожу, чуть ли не коленями, трудилась-трудилась… пока он не захрапел! Меня такое, Поль, зло разобрало! Ты не представляешь! Я на него с ногами запрыгнула и давай скакать у него на спине, думала, позвоночник переломится… — Жанна закуривает, и ее зеленые глаза, словно сигаретным дымом, заволакивает густым туманом неприятных воспоминаний.
По мне пробегает волна мелких мурашек, отвращение борется с жалостью.
— И?
— А что «и»? Ну он проснулся. Не сразу. Но проснулся. Вытаращился на меня и спрашивает: это где ты так по-японски научилась делать? Представляешь? Я его чуть не угробила, хотела кости переломать, прямо нашло на меня не знаю что, задыхалась от ненависти, а он думает, это японский массаж!
— Понятно.
На миг жалость к подруге берет верх над омерзением, но Жанна уже опять довольно мурлычет:
— То ли дело француз. Все как раньше у мужиков было, еще в студенческие времена, прям как вот природой положено. Двадцать сантиметров полного восторга. И с такой приятной дугой, не слишком криво, но и не слишком прямо, а как раз то, что надо. И такой стояк! Ни сосать не надо, ничего. С Рафиком проблема, само у него давно не подымается, надо сначала в рот, а потом, как видишь, что все, готов он, быстро перепрыгиваешь и садишься. Если замешкалась и не успела, то все по-новой, опять в рот…
Нет, определенно, все-таки побеждает омерзение. Меня начинает подташнивать. Я отворачиваюсь к карпам. Те уже сожрали весь корм и теперь выглядывают мордами из воды, рты жадно раскрыты, тугие сытые бока переливаются бронзой на солнце.
— А Арно мне сам вчера массаж сделал, — продолжает Жанна. — Вино притащил, меня на руках в кровать перенес… Мы до этого стоя были… Потом уже лежа, после вина…
— Так он вчера даже несколько раз?.. — как издалека слышу я свой голос.
— Да я же говорю: голодный он, видать. Ну или настолько влюблен, — Жанна довольно щурится на солнце, разглядывая ногти. — Три раза! И все три хоть на выставку народных достижений! Руки сильные, ноги сильные, ни в какой позе не устает. Машина. Зверь. А губы при этом… прямо медовые. Он, к сожалению, кажется, не любит целоваться, но я подлезла сама, и никуда он не делся. Язык у него оказался слегка шершавый, такой уютный, как у собаки. А как от него пахнет! Ты не представляешь! Это не пот, а какой-то такой запах, будто в пот налили горячего шоколада, густой, обволакивающий… У меня до сих пор волосы им пахнут. Даже мыться сегодня не стала. — Жанна подносит медную прядь к лицу и с явным блаженством вдыхает. — Кажется, еще немного осталось. Иди сюда, понюхай, пока не выветрилось… О Господи, куда ты столько корма им сыплешь? С ума сошла? Они у тебя помрут от обжорства!
Я перевожу взгляд на свою руку, в которой зажат полупустой пакетик из-под корма. Карпы почти обезумели, уже не отгоняя друг друга, они высовывают рты и жадно заглатывают слипшиеся крупные куски размокшей пищи. Это похоже на вакханалию, на оргию, причем не гастрономическую, а суицидальную. Мне кажется, они растут прямо у меня на глазах, превращаются в монстров, их чешуйчатые тела удлиняются, перестают помещаться в крошечный водоем, выпирают наружу, глаза заледенели тупым невидящим взглядом, огромные рты тянутся ко мне, приближаются… Мне кажется, что как в дурном фильме ужасов, сейчас они сожрут меня целиком, начнут с руки, держащей злополучный пакетик, потом подпрыгнут, откусят ее по локоть, по плечо, вопьются острыми зубами в мякоть плеча, шеи…
— Я сейчас, — говорю я и забегаю в дом.
Из пыльного зеркала в ванной на меня таращится мое бледное отражение. Я включаю кран, набираю полные пригоршни ледяной воды и опускаю в нее лицо.
(Никто и не обещал, что лекарство будет не горьким, что излечение придет немедленно. Оно наступит, не сию секунду, но скоро, а пока «будет немножечко больно, мы так и договаривались, какое недоразумение, разве вас забыли предупредить?»)
И еще считается, что женщины гораздо целомудреннее мужчин?! Возможно, последние разговаривают о своих любовных похождениях чаще слабого пола (мне представляются два утренних клерка на офисной кухне: «Как вчера прошло с той сладкой цыпкой, с которой ты остался в баре?» — «О, прекрасно!» — «Хороша?» — «Не то слово, я даже взял ее телефон»), но, будучи в глубине души романтиками, уж точно не употребляют таких откровенных физиологических подробностей и речевых оборотов в стиле модного когда-то журнала «СПИД-инфо», от материалистичности и грубости которых волосы встают дыбом.
Нацепив на нос солнечные очки, я через пару минут возвращаюсь в пыточную. Резюмируя Жанну, можно быть абсолютно уверенной, что Арно оказался прекрасным любовником. Ну что ж, почему бы и нет? В конце концов, бедолага-Жанна его заслужила. Рассказы про Рафика впечатляют. Остался всего один вопрос, который мне необходимо выяснить.
— Ну, а о чем вы разговаривали? — интересуюсь я, присаживаясь на табурет и закуривая.
— О! Обо всем на свете!
(Укол в сердце. Ржавой иглой. Мое лекарство от любви, видимо, оказалось китайского происхождения. Акупунктура.)
— И о чем же именно?
Жанна, как обычно она делает, увлекшись впечатлениями, отчаянно жестикулирует:
— О его квартире в Париже…
— Это, я догадываюсь, ты начала разговор?
— Про квартиру? Не помню уже, не перебивай. Еще про то, как он раньше жрал наркоту.
Я вскидываю брови.
— Типа?
— Типа кокаина, не волнуйся. Не героин. Наследственность у него не подпорченная.
— В смысле «наследственность»? Вы что, уже договорились рожать рыжих котят?
Жанна хохочет.
— Ну если они будут такие же пушистые, как и я, то не возражаю. Хотя нет, пока ни о чем таком не договорились. Еще говорили о… о чем же еще? Совсем память стала. От бессонной ночи, вероятно.
— О Тибете? — подсказываю я.
— О Тибете? Не-е-ет, о Тибете не припомню. А чего у тебя голос хрипит? Ты не заболела?
— Возможно, чуть-чуть, что-то с горлом. Сейчас все пройдет. А о реке он рассказывал?
— Какой еще реке?
— На которой он вырос.
Жанна морщит лоб.
— Нет, кажется, о реке ничего не было.
(Боль слегка отпускает.)
— А о детстве?
— Зачем мне его детство?
— А о почему он сюда уехал, о дауншифтинге?
— О чем?!
— Не важно.
(Спасибо китайцам! Умеют. Нет, анестезии не надо, кажется, уже отпускает. Вот только тут слегка сосет, нет выше, под ложечкой. У вас нет каких-нибудь таблеток? Не используете таблетки в традиционной медицине? А кокаина тогда, случаем, нет?)
— А он тебе готовил?
— Еду? Нет. Мы же у Лучано ужинали, при тебе.
— А завтрак?
— А завтрака не было. Когда я проснулась, дом был уже пустой. Наверное, убежал на рыбалку или куда его там по утрам носит.
(Хорошо. Кокаина тоже не надо. Пожалуй, мне бы просто покой. Он ведь помогает после операции? Тогда я с вашего разрешения просто пойду прилягу.)
— А говорил что-нибудь такое?.. Ну… про любовь?..
— Во ты меня запарила. Когда?! Вечером было не до того, а утром, говорю ж, его уже не было.
— И ни записки не оставил, ничего?
— Да нафиг записка-то? Он сейчас сам сюда придет, мы еще вчера с ним договорились!
(А вот это вы напрасно. Я чувствую, что мне нужен сейчас покой, а визиты родственников меня, пожалуй, утомят. Можно не пустить их в клинику?)
— Зачем придет?
Жанна одаривает меня хитрым взглядом.
— Ну должен же от него быть какой-то толк? Воды принесет, арбуз, всякие тяжести из магазина. Я по дороге заказала гору фруктов, и сказала, что пришлю за ними Арно.
— Как собачку?
— Дура! Как того тайца, который раньше все это сюда носил.
(Доктор, вы уверены, что мне не рано переходить на нормальную диету? Хотя от глотка воды не откажусь…) И, к тому же, пожалуй, я знаю, чем мне заняться в то время, что услужливый француз заменяет нам Боя.
— Нагнись сюда, видишь какой он мне поставил засос? Даже не засос, а укус, — мурлычет Жанна.
— Спасибо, дорогая. Это уже чересчур. Я пойду оденусь, мне надо кое-куда прогуляться.
— Да? — говорит Жанна рассеянно. — Ну сходи куда-нибудь. А то сидишь тут сиднем. Вчера так одна весь вечер и прокуковала?
Меня просто подкидывает от негодования.
— Вчера? Если уж на то пошло, то я отлично провела вечер. Сначала ужинала со шведкой, а потом навещала…
— Ого! И кого же?
Я закусываю губу.
— Ни кого. Я пошутила. Сидела дома, кормила ящериц. Куда мне еще тут деться?
— Бедненькая.
— Сама ты бедненькая, — не выдерживаю я. — С сегодняшнего утра я, между прочим, невероятно богата.
— Ммм… Внутренним богатством? Ну-ну… — миролюбиво воркует рыжая бестия, опять принимаясь с наслаждением внюхиваться в свои пропахшие Арно волосы.
Выздоравливающему прописан сон, но я не ложусь. Засев в засаде на втором этаже, я выглядываю из-за занавески и жду появления Арно. У меня еще осталось одно небольшое, но очень важное дело.
Время снова остановилось. С первого этажа разносится легкое мурлыканье: Жанна все-таки соизволила принять ванну.
— А как же его запах? Смоется! — бросила я ей, проходя мимо.
— Ничего, вечером наработаем новый. Принеси мне сок.
— Сама принесешь.
Я закрываюсь в своей спальне и делаю вид, что читаю, то и дело поглядывая на часы. Арно появляется только к трем. Похожий на пленника с рабовладельческого судна, нагнувшись вперед и шаркая ногами, одной рукой он придерживает на плече двадцатилитровую канистру с питьевой водой. Во второй зажат пакет с апельсинами, манго и ананасами. Влажная от пота кожа лоснится и бликует на солнце.
Остановившись у дверей, наш гость закашливается.
— Дарлинг, ты? А где наш арбуз? — воркует Жанна.
Из моего укрытия за занавеской мне видно, как она выплывает на террасу. Рыжие волосы еще не высохли и распущены по плечам, на мокром, только из ванной, теле нет ничего, кроме соблазнительно прилипшей к нему полупрозрачной комбинации. Не успевает Арно поставить канистру на землю, как она прижимается к нему своими силиконовыми тыквами и ищет губами его губы.
Я не уверена, что француз задержится здесь надолго и тороплюсь спуститься.
— Привет, — бросаю я ему как можно небрежнее, старательно отводя глаза в сторону.
Все идет по плану, пациент идет на неминуемую поправку, есть только одно осложнение: не скоро теперь я решусь посмотреть французу в его смеющиеся карие глаза.
Арно отстраняет прилипшую Жанну, одаривает меня загадочной ироничной улыбкой и кивает.
— Привет. Как спалось? — спрашивает он.
— Мне? Мне — очень спокойно. Просто отлично. Свежий воздух идет мне на пользу. А что? — напрягаюсь я.
— Ничего, — гость качает головой и опять бросает на меня какой-то непонятный взгляд.
— Боже, ты весь мокрый! Откуда это? — Жанна с видом рабовладелицы оглядывает свое новое приобретение.
Она бы еще проверила, чистил ли он сегодня зубы.
Арно пожимает плечами.
— Наверное, канистра протекла, пока я ее нес.
Но Жанна уже ухватилась за его майку и резким рывком сорвала через голову.
— Я повешу, пусть высохнет.
Пытаясь сопротивляться, Арно протягивает руку за Жанниной добычей и на миг оказывается повернутым ко мне спиной. Меня бросает в жар от свежих пунцовых царапин, горящих на его загорелой коже. Они кажутся мне похожими на следы от розг и, глядя на них, я чувствую, что меня словно ударили в эту секунду такими же — вощеными, тугими, с садистски завязанными жесткими узелочками, и не по спине, а прямо в распахнутое, голое, наспех выдранное из груди пульсирующее сердце. Как будто почувствовав что-то, Арно немедленно оборачивается и перехватывает мой взгляд, как бы цепляет его магнитами своих глаз, насильно отрывая от кровавых полос. Застигнутая врасплох, я подчиняюсь, промедлив лишь долю секунды, отдаю ему свои глаза и разрешаю поднять их выше, к его лицу. Мы смотрим друг на друга. Он слегка наклоняет голову и вопросительно изгибает брови, но взгляд его серьезен и немного удивлен, более того, мне мерещится в нем чуть ли не упрек.
Я молча отворачиваюсь и смотрю, как пропустившая всю эту немую сцену Жанна царственным жестом кидает майку на раскаленные камни. Мне приходит в голову ужасная мысль, что, пожалуй, здесь она высохнет чуть быстрее, чем мне надо. Арно необходимо задержать у нас. Я беру себя в руки. Главное, чтобы голос не задрожал.
— Дорогая, сделай труженику кофе или… лучше выжми ему свежий ананасовый сок, — говорю я с надеждой, что пока московские ручки моей подруги справятся с таким сложным процессом, как очистка ананаса, пройдет как минимум минут двадцать. Как раз столько, сколько мне необходимо на мое предприятие. — А ты сядь, погости у нас, покури, — обращаюсь я уже к Арно.
Мне хочется хотя бы мельком дотронуться до его кожи, хотя бы для того, чтобы потянуть его вниз, в кресло, но рука замирает в нерешительности в сантиметре от его предплечья.
— Я скоро вернусь. Дождитесь меня.
Схватив сумку, я бросаюсь вниз по камням в сторону пляжа.
— Куда это она? — озадаченно спрашивает Жанна.
— Ну мало ли, какие у человека могут быть срочные дела… — отвечает ей Арно, и мне опять мерещится непонятная ирония в его голосе.
Вдоволь наползавшись под окном Арно и даже (от усиленного рвения) ободрав себе колено, я прихожу к выводу, что мой браслетик испарился. Вероятно я сама вчера затоптала его, когда пыталась нащупать тонкую цепочку в траве. Почва под окном рыхлая, жалкая тропическая растительность изрядно примята, и рыскать дальше уже не имеет смысла и даже опасно: чем дольше я тут вожусь, тем больше остается следов. Время опять играет в свои дурацкие игры, на этот раз стрелки моих наручных часов словно взбесились и несутся вскачь. Хозяин может появиться в любую секунду, и я подозреваю, что, увидев меня на карачках под его окном, с ободранным коленом, с руками, черными от земли, он обо всем догадается. Лучше пускай браслетик навсегда будет похоронен на этой лужайке, ключик от счастья не достанется никому, а, впрочем… верить в такие глупости и вовсе нелепо. Оглянувшись напоследок, я отряхиваю руки и спешу убраться отсюда подальше.
Пролетев через пляж и взбежав на свои скалы со скоростью опытной горной козы, я останавливаюсь перед домом перевести дыхание. Терраса уже пуста. В первую минуту мне приходит в голову, что любовники закрылись в Жанниной спальне, и я замираю от возмущения, пораженная перспективой опять услышать их стоны, но скоро разум возвращается ко мне, и я понимаю, что входная дверь закрыта снаружи на ключ. Скорее всего парочка ушла загорать или отправилась снова на экскурсию по острову. Немного странно, что я не встретилась с ними на пляже, но облегчение от того, что их разгоряченные возбужденные тела («двадцать сантиметров полного восторга», «медовые губы», «шершавый язык», «иди посмотри, какой укус») не сплелись в едином любовном танце на втором этаже (моего!) дома настолько сильно, что я разрешаю себе небольшую передышку и сажусь покурить и подумать. А подумать мне, действительно, есть о чем.
Все последние дни слились для меня в сплошную болезненную муку ревности, полностью вытеснив из мыслей то, что, по идее, должно бы сейчас волновать меня больше всего. Я откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. В голове наспех прокручивается кино: дешевое, никак не мировой шедевр, а непрофессиональное, почти наивное, снятое на прыгающую в руке домашнюю камеру. Смутно маячит название фильма:
Девять с половиной… (нет, конечно же, всем очевидны жалкие потуги на «8½» Феллини или хотя бы на «9½ недель» Адриана Лайна, но у нас все гораздо тривиальнее) — «9½ миллионов евро».
(Какие там рубли или доллары? О чем вы? Рублями мы кормим свиней, а доллар давно опозорен).
Внизу экрана, в скобках или лучше — маленькими красными буквами (давайте дадим по ним волну испуганной дрожи): — Краденых .
(Красота! Домашнее видео, украшение семейной коллекции!)
И краденых не у кого-нибудь, а у Тащерского! Полный восторг!
(Йо-хо-хо! Запахло триллером? Или не будем спешить совершать ошибку преждевременного определения жанра?)
…Краденых у Тащерского и премило лежащих на счету в каких-то считанных часах от нашего райского островка — мне даже мерещится изящный бантик на ленточке, игриво связывающей банковские купюры.
Пачки купюр.
Много пачек. Хрустящих. Новеньких. Brand new, еще попахивающих свежей краской. Какая пошлятина…
(Купив новую книжку, папа всегда раскрывал ее на развороте и с наслаждением втягивал носом типографский запах, глаза прикрыты, так приятнее).
Какие книжки? Что от них толку? — Полный чемоданчик наличных, вот что интересует эстета двадцать первого века.
Вот это мы понимаем. Наконец-то запахло сюжетом. А то от вашей лирики уже слегка мутило.
Теперь крупный план: покажите зрителю чемоданчик! — Черный, дешевый, местного тайского производства, возможно подделка (посмотрите, нигде ли не висит брелок известной фирмы?), из кожзаменителя, наспех купленный в первой попавшейся лавке в Бангкоке.
Бах, небольшая поломка в студии. Изображение дрожит, и по экрану пробегают холодные рябые мушки. Смена пленки. Не стоит так волноваться. Сейчас все смонтируем.
Теперь в кадре появляется и сам Тащерский: с направленным на зрителя пистолетом. Убедительно? Ну должен же быть у человека с таким прошлым настоящий пистолет?
Куда поместим действие? Может быть, беглецы уже успели добраться до Мальдив? Хорошие острова, а главное, это то, что их много. Удобно прятаться. Камера отъезжает и теперь нам видны беспечные голубые воды и тонкая полоска идеального песка.
Но чего-то не хватает… Пожалуй, надо добавить героев, а то скучновато.
Рыдающий заикающийся Стас сгодится?
Кровь, сочащаяся из его тонких розовых ноздрей, будет вполне уместна. Смотрите, она очень удачно закапала его светлые льняные штаны. Режиссер! Оставляем ее? Или режем?
Можно вывести в главные героини вот эту девушку. Да-да, Полину Власову, которая скоро умрет. Или вы не верите гадалкам? Это у вас от неопытности, скоро пройдет. Дайте девушке чемоданчик, пускай протягивает его Тащерскому.
Чемоданчик (снова дать его крупным планом) благополучно перекочевывает в руки законного владельца. Мы же не снимаем фантастику, у нас в моде реализм. Постмодернизм, вы говорите? А что это такое? Не важно, вечно вы отвлекаетесь. Мы уже почти подошли к финальной развязке.
Бах-бах! Это что у вас, пистолетные выстрелы? Немножко ненатурально. Пистолет-то вы вообще когда-нибудь в глаза видели?.. Ну ладно, для нашего бюджета вполне сойдет. Это в Голливуде они там изгаляются, деньги девать некуда, а у нашего продюсера еще дача недостроена.
Заканчиваем. На белоснежном песке расплываются два алых пятна. Упростим задачу зрителю. Нет, это не красное вино, это кровь, и догадаться об этом можно по полчищам внезапно налетевших мух. (Где наши консультанты? Залезть в интернет и проверить, есть ли на Мальдивах мухи? Хотя, куда они денутся? Мухи, так же, как и человеческая жадность и смерть, есть везде).
В кадре появляются трупы. Чьи? А на выбор:
А) Стаса и Тащерского (стреляла Полина)? — Постмодернистски, но маловероятно, у девушки кишка тонка, она весь фильм только и делала, что жаловалась и дрожала.
Б) Полины и Тащерского? В честной битве Стасу удалось выхватить оружие из рук опытного бандита? Ммм…
В) Стаса и Полины? Бинго! Реализм! Разумеется, два оболтуса не успели моргнуть глазом, как превратились в пищу для мальдивских мух.
Концовка! Хотя нет, погодите! А где же наши денежки? Зритель терпеть не может неопределенности.
А вот они! Камера наезжает, и мы видим крупную волосатую руку, держащую вилку с наколотым на нее огурчиком. Морщинистым, влажным, соленым. Под водочку. Камера скользит по плечу, пятнистой красной шее, и вот в кадре оказывается сытое и довольное лицо Тащерского. Играет радио «Шансон».
Всё. Давайте занавес.
Бурные овации? Восторги критиков? А, впрочем, у нас искусство ради самой радости искусства, зачем нам критики?
Теперь можно спокойно переместиться в буфет и пропустить стаканчик-другой. Какие напитки вы предпочитаете? Хотите ударить по экзотике? Не пропустите, для особо избранных съемочная группа привезла из Тайланда свежевыжатую змеиную кровь. Говорят, хорошо для улучшения потенции.
Вечереет. Солнце перемахнуло за гору, и пляж опять стал лиловым. Я зажигаю свет и привычно берусь за фонарики.
— Опять коротаешь вечера со своими млекопитающими? — довольно презрительно бросает мне поднявшаяся на террасу Жанна.
— Есть идеи получше? — парирую я.
Жанна молча проходит мимо и удаляется в дом.
— Почему ты так рано вернулась? — кричу я ей вслед.
Ответом мне тишина. Похоже, у любовников сегодня что-то не заладилось. Сердце (разбитое, медленнее, чем хотелось бы, восстанавливающееся после проведенной над ним операции) опять оживляется, учуяв аромат надежды. Так дело не пойдет. Невозможно постоянно жить чужой жизнью. Я сосредотачиваюсь на своей, а именно — на ящерицах.
После трагической гибели Нахальной я с особенным вниманием отношусь к оставшимся у меня питомицам. Моя первеница-Короткохвостая за последнее время немного похудела. Слишком много вечеров было скомкано, а то и вовсе пропущено из-за последних событий. Ее обкусанный и криво отросший хвост вызывает во мне жалость и грусть. Полосатая, которую я сначала так невзлюбила, стала теперь тише и воспитаннее и вроде бы сдружилась с Короткохвостой, по крайней мере, я уже давно не замечала между ними никаких конфликтов. Привычно направив фонарики на крышу, я наблюдаю за тем, как нежно, трогательно переступают маленькие лапки по потрескавшейся побелке, как блестят умные бусинки глаз, как надуваются на миг крошечные круглые животы, пропихивая вглубь особенно толстую мошку.
Но сегодня что-то идет не по плану. Ящерицы нервно дергаются и внезапно забираются обратно в свои щели. Я перевожу взгляд туда, куда, по моим представлениям, они смотрят, и замечаю причину их страха — еще одну гостью, привлеченную на мою террасу. Это рыжая и ободранная кошка. В темноте ее глаза страшно светятся фосфором.
Я нагибаюсь и делаю вид, что подбираю на полу камень. Кошка пружинисто приседает и смотрит на меня с угрозой, шерсть на спине топорщится дыбом. Я замахиваюсь. Она втягивает голову и ее уши отъезжают назад. Теперь она напоминает настороженного Конька-Горбунка.
— Брысь!
Я топаю ногой и незваная гостья нехотя отходит к углу дома. Перед тем, как скрыться из вида, она оглядывается и я читаю в ее взгляде неприкрытую ненависть.
Короткохвостая и Полосатая приходят в себя, изгибают подвижные чешуйчатые тельца и снова выбегают на ужин. В их блестящих бусинках глаз мне мерещится нечто теплое, напоминающее благодарность.
— Не понимаю, что ты тут делала несколько месяцев? — ворчит снова появившаяся в дверях Жанна. Подперев плечом косяк, она обиженно дует на свеженакрашенные пальчики. — На этом острове с тоски можно удавиться. Как стемнеет, так хоть волком вой.
Я одариваю ее взглядом, похожим на тот, что только что получила от кошки.
— А что? Арно не соизволил тебя сегодня развлекать?
— Он занят, — бурчит Жанна.
— Ах вот как? И чем?
— Господи, откуда я знаю? Как только ты ушла, он поднялся и исчез. Сказал, надо чинить лодку. И больше не появлялся. Я спустилась в отель, пообедала с русскими, прошлась по деревне… Одно слово — тоска. Эти в отеле уже тоже приуныли. Собираются уезжать. Никакого драйва в этой дыре. Решили завтра напоследок устроить большую вечеринку и мотать. Чуть меня виноватой не выставили, что я их сюда притащила. Проклятое место. Одни психи живут на этом пляже. Голых за камнями на том конце видела? Тоже мне, семейка… Или эта, оборванная тетка из тех, кому за пятьдесят? Что она тут вообще делает?
— Бывшая швейцарка? Живет.
— И это ты называешь жизнью? А дебил в оранжевой майке? Разве что слюни на себя не пускает. Все ходит, оглаживает собак. Зоофил хренов. Весь, небось, уже блохастый от них, подойти страшно, того гляди заразишься.
— Ну и не подходи. Нужна-то ты ему.
Я отворачиваюсь. Жанна вздыхает.
Арно сегодня так и не появился. Море и вечер потонули в тишине, не прерываемой ни малейшими звуками. Ветра совсем нет. Зато есть дурочка-луна. Беременная приближающимся полнолунием, она еще долго мешала мне заснуть, освещая спальню холодным голубым светом. Жанна сегодня впервые рано ушла к себе и провела вечер с книжкой. Я улыбнулась, гася свет и думая о том, что читать, и в правду, наверное, вредно. Главная трагедия (или комедия?) жизни происходит внутри каждого из нас, а книги от нее лишь отвлекают. Возможно я слегка с этим перебарщиваю, но и другим иногда не вредно последовать моему примеру и задуматься о жизни. В конце концов, не для этого ли созданы такие безветренные и тихие лунные вечера?
Я решаю завтра же пойти к Стасу и сказать ему о своем решении насчет этих злополучных миллионов. Сегодня у меня просто не нашлось на это сил. Я все еще выздоравливаю от Арно.
28
Кастрированное сердце, из которого ржавыми клещами вырвали, раскаленным железом выжгли, шипящей кислотой вытравили тот больной участок, в котором распоясался вирус под названием Арно, к утру уже слегка подрубцевалось. Сказался здесь и тот лекарственный бальзам, что Боги (все-таки напоследок сжалостившиеся надо мной) наложили на свежую рану: судя по недовольному виду Жанны, отшельник-француз не одарил ее ничем большим, кроме своего бренного тела. По крайней мере, уже второй день его нигде не видно. Возможно именно благодаря этому я чувствую себя сильнее, готовой к очередному дню и к запланированному мной разговору со Стасом. Скорее всего, непростому. В то, что он легко воспримет мое решение и даст себя быстро переубедить — мне не верится.
Полдня провозившись по хозяйству, я настроила себя не думать больше об Арно. Никогда. Как бы дальше не развивались их отношения с Жанной. Я вычеркнула его из мыслей, но освободившееся в них место моментально заняли другие заботы. Проснувшаяся в отвратительном настроении Жанна все утро слоняется по дому, мешая мне отправиться в пещеру. Рыжие волосы сегодня впервые нечесаны, глаза не умыты и в сонных слипшихся ресницах запеклись желтоватые комочки. Несмотря на то, что встала она чуть позже полудня, а, может быть, как раз именно поэтому, Жанна все время зевает, не трудясь даже прикрывать рот ладонью.
— Сходи искупайся, — бросаю я, выжимая лимон в нутовое пюре.
— Зачем?
Страдалица открывает дверку холодильника, с минуту рассматривает его содержимое и, ни на чем не остановившись, закрывает его обратно.
— Проснешься хоть.
— Зачем?
— Перестанешь зевать.
— И что?
Вытерев руки о передник, я зачерпываю полную ложку пюре.
— Попробуй на соль, лимон и чеснок. Всего достаточно?
Жанна брезгливо проводит кончиком алого, змеиного (удивительно, что не раздвоенного на конце) языка по бежеватой массе, потом морщится и, склонившись над раковиной, очень невежливо сплевывает.
— Не знаю. Что это вообще такое?
— Хумус.
— Я знаю, что это хумус. Я спрашиваю, откуда в тебе эти омерзительные приступы активной деятельности? Гадость какая, смотреть на тебя неприятно.
— А по-моему чеснока не хватает. Уйди с дороги, мешаешь.
Жанна окидывает меня презрительным взглядом и отходит к двери. Поколебавшись, она все-таки не покидает кухни, а прислоняется к косяку и молча наблюдает за моей готовкой.
— Не знаешь, чем себя занять, могла бы лука нарезать, — подсказываю я.
— Зачем?
— Я курицу-карри готовлю.
— И что от нее толку?
— А какой ты вообще хочешь толк от вещей?
— Ну… чтобы они по крайней мере приносили удовольствие.
— А курица не приносит удовольствия?
— Не думаю.
— Это потому, что ты не голодная. Уйди, не раздражай. Сходи к Арно.
— Зачем? Захочет, сам придет.
И только к закату мне удается, наконец, избавиться от подруги. Скоро в отеле начинается отвальная вечеринка русских. Кажется, завтра они собираются покинуть наш тоскливый пляж и переместиться в места более богатые на увеселительные мероприятия. Воспрявшая Жанна спускается со второго этажа в изумрудном платье, расшитом павлинами, в котором она впервые появилась на острове в то злополучное утро. В ее вымытых блестящих волосах воткнута белая орхидея, что, впрочем, вовсе не экзотично: на нашем проклятом острове они растут везде, как сорняки.
— Ты придешь? — спрашивает она на ходу, придирчиво изучая свои босоножки. — Каблуки здесь снашиваются, просто ужас. Всё эти камни виноваты.
— Приду, но попозже.
Жанна осматривает меня с головы до пят. На мне домашний сарафан на бретельках, тонкий белый хлопок которого давно уже не видел утюга, волосы собраны в лохматый пучок на затылке, под ногтями оранжевый ободок от порошка карри.
— Тогда оденься хоть, — бросает Жанна, уже в дверях сбрызгивая себя духами.
— Зачем? — спрашиваю я равнодушно, в такт ее сегодняшним миллионным «зачем».
Она пожимает плечами и выплывает в быстро сгущающуюся темноту. Я подхожу к зеркалу и надолго замираю, глядя на свое отражение. Каким-то шестым чувством я знаю, что я уже победила, Арно не вернется из-за нее в Париж, но почему-то это не приносит мне ни малейшего удовлетворения, скорее наоборот, я испытываю смутное чувство невыраженной, несформулированной, нечеткой вины. То, что Жанна может начать страдать, мне как-то не приходило раньше в голову. Свести ее с Арно было для меня решением моих личных проблем, избавлением от неуместной влюбленности, надеждой на то, что, брошенная французом, она проиграет мне в неком неопределенном соревновании моих ненакрашенных ресниц против ее вылизанного журнального великолепия, вибраций моей души против ее силиконовой сексапильности. Но, видит Бог, теперь мне стыдно наблюдать ее несчастное лицо.
Собрав в сумки всю приготовленную еду — мое сорри, ложка меда в ожидающей Стаса бочке дегтя, — я все-таки в последний момент захожу в ванную, провожу помадой по сухим губам и распускаю волосы. Я делаю это даже не ради Стаса, Жанны или Арно, а скорее — ради шведской старушки. Ее упрек в моей неухоженности ранил меня сильнее, чем я предполагала. К тому же теперь, в свете последних событий, я начинаю подозревать, что в моем столь явном пренебрежении своим внешним видом была какая-то поза, очень своеобразный, но по сути в своем роде все-таки выпендреж. Зачем иначе я так упорно скрываю волосы в постоянно лохматых пучках? Это такая игра, вызов, «ах, полюбите меня за мою душу»?
Подумав так, я еще брызгаю на себя немного миндаля из флакона духов. Смешавшись с оставшимся от Жанны ароматом густой сирени, он превращает мою «Виллу Пратьяхару» в приют одиноких молодящихся дам. Меня перекашивает от безвыходности, от моего лицемерия. На самом деле все не так. Я, в отличие от Жанны, вовсе не одинока. Я живу с человеком, я нужна ему, и сейчас у меня есть план как его защитить от почти совершенной им жуткой ошибки. Я решительно выхожу из дома.
За пятнадцать минут преодолев путь до пещеры, я замечаю, что чем ближе я к ней приближаюсь, тем все медленнее становятся мои шаги, а перед самым входом решительность и вовсе покидает меня, и я предстаю перед ним извиняющейся тенью своей утренней уверенности в себе.
Выложив на импровизированный столик свои жалкие козыри в виде хлеба и трех пластиковых мисочек с едой, я присаживаюсь и закуриваю. Стас жадно набрасывается на пищу. После семи лет совместной жизни люди, как правило, уже не заботятся выглядеть эстетично, и небритые щеки ходят туда-сюда, переваливаясь от крупных кусков, наспех засунутых в рот. Утолив первый голод, Стас по волчьи поводит глазами, выискивая что-то.
— Вино принесла?
Я выставляю на стол две бутылки. Отложив куриную ножку, Стас хватает одну из них и начинает орудовать штопором. От его рук на зеленом стекле остаются пятна жира и карри. Справившись, он делает несколько быстрых глотков из горлышка и вытирает мокрые губы тыльной стороной кисти.
— А у тебя, оказывается, есть чувство юмора.
Я удивленно поднимаю брови.
— Ну это ж, я так понимаю, та самая пресловутая курица-карри, которой ты вечно пыталась отравить меня в Москве? Да ладно, что ты так смотришь? Вкусно вышло, молодец. Это я так… Должен же я тебя хоть за что-то отругать? Профилактически?
— Должен, — киваю я.
— Ну вот видишь, — улыбается довольный Стас, берет мой подбородок и разворачивает поближе к свече. — А что грустная такая? И бледная? В банк звонила?
Я опять киваю.
— И?
Чертова нерешительность. Я изо всех сил ищу спасения. Словно услышав мои молитвы, боги приходят мне на помощь. В пещеру залетает бесноватая летучая мышь и начинает метаться вдоль каменных стен. Порождение чудовищного союза птицы и грызуна, она ухмыляется в жутком оскале.
Я морщусь:
— Убери ее.
— Не волнуйся, в тебя не врежется. Они на эхолокаторах. Так что сказал банк?
— Банк… Послушай, я не могу так. Она сейчас выклюет мне глаза или вцепится в волосы когтями. Я где-то читала, если летучая мышь запутается в волосах, то ее приходится выстригать ножницами.
Вздохнув, Стас поднимается и начинает размахивать полотенцем, пытаясь выгнать исчадие ада из пещеры. Движения его по-городски неловки, мокасины со смятыми задниками — дорогущие, из шикарной пупырчатой кожи, нацепленные лениво, розовые пятки выглядывают наружу — цепляются за каменный пол и пару раз он чуть не падает.
— Вот дьявол! — комментирует он, запыхавшись, и останавливается.
Присевшая на стену мышь пользуется передышкой и, словно издеваясь, замирает вниз головой. Тогда, с минуту почесав затылок, Стас вдруг ухмыляется и внезапно издает гортанью кошмарный, нечеловеческий, пробирающий до мурашек шипяще-свистящий звук. Потом еще один. Его тонкие губы выгибаются, складываются трубочкой, и изо рта брызжут капли вспенившейся слюны. Мышь обалдевает. Чуть не упав, она все-таки подхватывает свое бурое тельце, распрямляет крылья и, совершив полный круг по пещере (последняя дань ее гордости?), спешит убраться восвояси.
Крошечная сценка, но мне почему-то становится от нее нехорошо. Слишком убедительный звук издал Стас, слишком жуткий и какой-то… опасный.
— Животные пошли вообще без понятий, — ржет Стас. — Совсем забыли, кто тут хозяин. Видела, как я ее? Она думала, она тут самая умная? Если силы нет, то главное — брать неожиданностью маневра. Шахматист я, в конце концов, или нет? Так что тебе сказали в банке, детка моя?
Больше тянуть некуда. По столику в мою сторону ползет паук, но в то, что мне удастся выиграть время и на нем, уже не верится.
— Деньги пришли, — сдаюсь я.
Стас замирает, как был, все еще стоя посреди пещеры, со скомканным полотенцем в руке. Потом будто бы включается в какую-то розетку, в два прыжка достает до бутылки и припадает губами к горлышку. Красная жидкость мерно булькает, наполняя его душу теплом.
— Ийёёёёхууу! Это же просто супер! Мега-супер! И ты столько молчала? Надо было сходу сказать! Вау! Ты сама-то врубилась?! Или еще не осознала до конца?
Схватив меня в охапку, возбужденный, с сияющими глазами, Стас кружит меня по пещере, целуя в глаза, в уши, в шею, одновременно пытаясь отхлебнуть из зажатой в руке бутылки. Скользкое стекло, перепачканное в курином жире, разумеется, выскальзывает у него из пальцев и с победным звоном разбивается. Не сразу поняв, в чем дело, мы останавливаемся и тупо смотрим на растущую под ногами лужу. На лице Стаса все еще застывшей маской висит удивленно-восторженное выражение. Мы поднимаем взгляд чуть выше, на закапанные красным вином Стасовы брючины. В темноте пятна выглядят почти черными и подозрительно смахивают на кровь. Штаны на нем оказываются белые, льняные, в точности такие, какие привиделись мне вчера в моем доморощенном дилетантском кино, и я неуютно поеживаюсь.
Стас первый приходит в себя.
— На счастье! — восклицает он возбужденно. — Открывай вторую бутылку, детка! Я сейчас.
Выйдя из пещеры, он исчезает в темноте налево от входа. Вероятно, радость привела в восторг заодно и его кишечник. На меня наваливается приступ трусости. Начинает пульсировать свинцом в висках, обычно это бывает со мной в преддверии дикой головной боли, способной на сутки упечь меня в кровать. Я настолько отвыкла от нее, что даже не сразу обращаю на это внимание. Головная боль — это что-то из моей прежней жизни, с момента приезда на остров она ни разу меня не побеспокоила. Потирая виски пальцами, я закрываю глаза.
— Открыла? — слышу я через пару минут.
Я вздрагиваю:
— Что?
— Вино. Я же просил!
Я сглатываю густую слюну и тянусь к штопору.
— Стас…
— Господи, дарлинг, ты не представляешь, как я рад! Все, конечно, так и должно было быть, могло же мне хоть раз в жизни нормально повезти! Но… знаешь, до конца никогда нельзя было быть уверенным. Сумма была крупная, могла застрять в банках, не дай Бог вообще вернуться в банк-отправитель… Такое бывает. Особенно, когда не надо.
— Стас?
— И уже все сроки, если честно, прошли. Я дергался, как… как не знаю кто. Я думал, я тут поседею. Зеркала-то нет проверить. Ха-ха. Без шуток, серьезно. Даже боялся тебе признаться. Всё фигуры на доске двигал, сутками, сидишь тут, день, ночь… ничего уже не соображал, и все замирал от мысли: что, если не придут? Потеряются? Вернутся в Москву? Они шли таким маршрутом… Через четыре банка. Я заметал следы…
— Стас!
— Что, радость моя?
— Нам надо поговорить.
— Так мы и говорим. Дай бутылку, я сам открою. Шампанское у нас в доме есть, не видела? Завтра же принеси. Нет! Завтра первым делом езжай в банк. Туда-сюда, если на самолете, то за день обернешься. Надо все быстро забрать. Я уже это продумал. Наличными они не дадут. Удавятся. Это только в кино дают чемоданчики с наличными. Ты попросишь дорожные чеки. А вечером будет шампанское! Если у нас нет — купи в Бангкоке. Две. Лучше, три. Да, три бутылки купи и виски нормального. И в доме пошукай, надо все допить. Мы сюда никогда не вернемся. Никогда! Представляешь? Я уже ненавижу этот остров! Он мне в кошмарах будет сниться! Я столько здесь за последние десять дней пережил!
Мокрые губы тянутся ко мне, чмокают меня в лоб, опять прилегают к горлышку бутылки, передают ее мне, но я отвожу его руку в сторону. Вздохнув, я решаюсь:
— Я подумала… Я… я не поеду.
Стас смотрит прозрачным взглядом, пустым, непонимающим. Пока непонимающим. Скоро начнется кошмар, крик, истерика. В висках начинает пульсировать сильнее.
— В смысле? — наклоняет голову Стас.
Теперь он рассматривает меня, как через лупу, удивленно, словно досадную муху, пляжного клеща, вытащенного из-под резинки плавок: тонкая кожа на лбу сморщилась, рот слегка искривился.
— Я не поеду в банк за деньгами, — повторяю я.
— Не пп…ппонял?
Стас все еще обсасывает мои слова, не решаясь придать им окончательную интерпретацию. Он все еще надеется, что речь идет о чем-то другом.
— Я не могу, — еле слышно выдыхаю я. — Понимаешь?
Пещера опять наполняется громкими ударами от взмахов крыльев влетевшей мыши.
— Убери ее? — робко прошу я.
Стас не сводит с меня пристального взгляда.
— Мышь… Не уберешь? — повторяю я, втягивая голову в плечи.
Всё. Сейчас начнется. Я знала, я настраивалась, когда я шла сюда, я и не надеялась, что все пройдет гладко, но оказалась все равно не готова.
— Что?! — внезапно орет Стас, игнорируя мечущуюся мышь. В его голосе звонко, металлически дрожат тонкие листы жести, эхо от вопля ударяется о стены и возвращается, больно раня мои барабанные перепонки, отдаваясь в висках, пульсируя неотвратимо начинающейся мигренью. — Почему ты не поедешь в банк, дд…ддетка моя?! Это элементарно, и ты это «не можешь»?!
— Не могу, — соглашаюсь я одними губами.
— БЛЯ-я-я-я!.. Но ПОЧЕМУ?! — Стас хватается за голову и начинает раскачиваться из стороны в сторону. — Почему не можешь?! Ты шутишь, да? Или ты реально просто сошла тут с ума без меня? Мы тебя вылечим! Ты, главное, привези сюда деньги, а остальное я беру на себя. — Его руки трясутся, отрываются ото лба и хватают меня за плечи. — Ты понимаешь меня?! Ты поедешь?!
Я отрицательно качаю головой. Но это не голова. Это свинцовый, нет, чугунный бак: тяжелый и совершенно пустой. Попадая в него, внешние звуки преображаются, набирают вес и отчаянно бьются о стенки, пытаясь их разорвать.
Стас отпускает меня и начинает кружить по пещере. Хватает бутылку, делает несколько глотков, неаккуратно ставит ее обратно, на край стола, потом подхватывает, когда она уже почти падает.
— Дд…детка! Давай все по-новой. From the beginning, from the scratch… Деньги пришли. Ты завтра за ними поедешь. Так? Ты согласна?
Я набираю побольше воздуха в легкие. Кислород — это энергия. Силы. Воля. Я обязана настоять на своем. Мои руки дрожат, я никак не могу прикурить сигарету.
— Нет, Стас. Я никуда завтра не поеду. И вообще не поеду. Никогда. Точно. Я решила. Черт, дай мне огня, не видишь, у меня не получается?
Подойдя и щелкнув у меня под носом зажигалкой, Стас в сердцах швыряет ее в темноту. Я изо всех сил затягиваюсь, задерживаю в себе дым, потом стараюсь выпустить его медленно, но вместо этого закашливаюсь. На моих глазах немедленно выступают слезы.
— Я хочу, чтобы ты вернул эти деньги.
— Ты просто не в себе.
— Наоборот. Я как раз в себе. Я ощущаю себя как человека. Я думаю. Мыслю. Решаю что-то. Нам не нужны эти деньги. Я не хочу провести всю жизнь в страхе, в бегах. Это не жизнь. Это чертово недоразумение. Я боюсь, наконец, за нас, за себя.
— Ну я рад хотя бы тому, что ты не читаешь мне лицемерные морали про то, что воровать плохо, — замечает Стас. — Ну а то, что ты боишься — это нормально. Я тоже боюсь.
Я игнорирую его и продолжаю:
— Мне здесь было хорошо. Просто так, от жизни, ни от чего особенного. Я… Я стирала, купалась, просто жила, я научилась делать курицу-карри… Я не хочу по-другому, вздрагивать не хочу, прятаться не хочу… Ты был неправ, что украл эти деньги, наша жизнь из-за них рухнет! В ней не будет ни счастья, ни гармонии, ни желания любоваться на закат… Сама ее идея переворачивается с ног на голову, это становится уже вообще не жизнь ! Ты просто устал, испугался кризиса, психанул, это все вполне нормально, я тебя не сужу, но я должна нас спасти от этого кошмара. Посмотри, люди кругом сознательно ухудшают свои материальные условия, чтобы получить взамен какой-то более нормальный, психически и душевно здоровый образ жизни, а ты занимаешься тем, что только усиливаешь стресс, доводя его до максимума, до абсурда. Понимаешь?
— Ага, — говорит Стас внезапно холодно и спокойно. — Понимаю. Кажется, я все, наконец, понимаю… Это все он ? Адвокатишка? Это он ухудшает свои условия ради непонятно чего? Это бред, фикция, они французы, у них все есть, они начитались Уэльбека! Но как могла ты, нормальная, русская, повестись на все это дерьмо? Вы любовники? Ты бросаешь меня, ты решила остаться тут с ним, с этими бицепсами и сальными паклями?
— Не говори глупости! Он здесь совершенно ни при чем. Ты ничего не понял. Я хочу жить с тобой! Мы вернем деньги и поедем домой. Я буду работать, ты тоже, все будет как раньше. Ты и я. Я опять буду делать лампы. Я уже начала, я рисую, у меня есть идеи…
— Что?!
— Доделаем ремонт…
— Ты одурела? Какой ремонт?! Дд…ддетка, я тебя умоляю! — Он опять начинает трясти меня за плечи. — Не смей! Не пп…ппорть! Я все продумал! Ты просто не можешь так со мной поступить! Я тебе дд…ддоверял! Я ведь мог найти другой счет, как-нибудь выкрутиться! У меня счетов этих как грязи, я мог сделать по-другому, если бы я знал! Если бы я ожидал от тебя такого! Я бы мог убежать один, а я приехал сюда за тобой. Дурак, любил тебя, верил тебе! Я перевел деньги тебе! Тебе, идиотке! У меня же нет к ним никакого доступа, ты понимаешь?! Я в полной твоей власти! А ты мне в ответ на такое мерзко врешь! В глаза! Все дело в нем! В этом вв…ввонючем козле! Нн…ненавижу! Чем он так тебя пронял? Своей нн. нн. ннн… бля! Нн. ннеземной красотой, загаром? У меня будет такой же, дай мне время! Мы будем жить в раю, я тоже буду светиться бронзой! Я куплю яхту. Нормальную. Как у людей. Я буду тебя, дуру, катать по морю! А он, что он может тебе дать?!
— Не тряси меня! У меня голова оторвется!
Стас опять начинает кружить по пещере. Несколько раз приглаживает взъерошенные волосы. Мизинец и сейчас оттопырен, привычки берут с годами верх над нами настолько, что уже прирастают как кожа. Я ненавижу его мизинец, мне хочется его отломать.
— Где, блять, эта зажигалка?! — внезапно орет он.
— Ты сам ее бросил.
— Куда?!
— Не знаю. В угол. Не ори.
— Сама не ори! Идиотка! Я тебе не позволю! Ты портишь все! Все! Ты думаешь, мне было просто?! Но я все делал сам! Все и всегда! И хорошо делал! Если ты сейчас не найдешь зажигалку, я тебя убью!
Я встаю и, прихватив свечу, начинаю вглядываться в тени на полу пещеры. Вода — мерзкая, склизкая, — сочится по стенам. Голова уже, не стесняясь, раскалывается на куски.
— Нашла.
Я кидаю зажигалку и Стас, как обычно, неловкий, ее не ловит. С громким эхом она падает на камни. Арно бы поймал. О, Боги! О чем я вообще думаю?!
— Ты предала меня. — Стас, наконец, закуривает и отфыркивается дымом. Настроение его уже сменилось. Теперь глаза его сощурены, и в них сквозят шок и разочарование. — Это все из-за него. Раньше ты такой не была.
Я вздыхаю.
— Раньше мы были вместе. — Стас аккуратно раскладывает предметы на столе (шариковая ручка, зажигалка, пачка сигарет), ровняя их вдоль его краев. — А теперь ты предала меня. Мне не следовало тебе верить, покупаться на то, что адвокатишка хочет эту твою дуру-подружку. Вы все это специально разыграли, подстроили. — Пачка сигарет выскальзывает из его трясущихся рук и падает на пол, летучая мышь дергается и взлетает со своего места, опять начиная кружить вокруг нас. — Ты бросила меня. В тебе нет ни капли благодарности за все, что я тебе сделал.
От его спокойного тона мне становится окончательно не по себе. Лучше бы он продолжал орать.
— Послушай. Дело не в… — язык не поворачивается назвать Арно по имени, — не во французе. Ты ничего не понял. Ты вообще меня не видишь, не слышишь, ты не понял, почему я уехала из Москвы, что я вообще хочу от жизни.
— И что же ты хочешь?
— Покоя!!!
— Ах, покоя?! — Стас вскидывает голову и на миг освещает меня своей безуминкой. — О каком покое ты говоришь, крошка? Где? В Москве? Допустим, мы сделали по-твоему и вернули деньги. Допустим даже, что нас после этого оставили в живых. Маловероятно, но окей, допустим я что-то придумаю, как-то отоврусь, что деньги просто потерялись, но теперь нашлись. Как именно, если не секрет, ты представляешь эту спокойную жизнь? Ты что, на луне жила тут три месяца? Ты все забыла? Покой нам только снится, это все утопия, фантастика, полный нереал. То, о чем ты размечталась, не существует в природе.
— Почему не существует? Мне кажется, я уже все это нашла.
— Где?
— Тут. В эти три месяца. Люди просто живут, нормально, на трубе играют, стихи пишут, кто что… Денег здесь почти не надо, если сдать квартиру, то вполне можно вдвоем прожить.
— А меня ты спросила? Я категорически против похоронить себя в этой дыре! Одно дело отпуск, и совсем другое съехать крышей, превратившись в островного отшельника. Я без людей не могу. Я по ним себя меряю, как в зеркале, я даже не смогу понять, насколько я хорошо живу, если рядом никого не будет. Вся суть в сравнении, в соревновании, это в нашей крови, иначе мы тупеем и сходим с ума. Это заложено в самой человеческой природе, в культуре, во всем.
— И именно поэтому все и несчастны! Меня достали уже все эти сравнения и соревнования, я хочу расслабиться. Просто дышать. Видеть день, замечать цвет моря, неба, вкус еды. Я разведу нам сад.
— Где?
— Здесь.
— Но почему именно здесь? Ты можешь развести любой сад там, куда мы уедем с деньгами. Отличный сад, с садовником, пятью садовниками, с чем хочешь.
— Но я не хочу садовников. Ты опять не понимаешь, это сквозит в каждом твоем слове. Ты думаешь деньгами купить внутреннее состояние, а так не выйдет. Садовники — это не то. Мне не нужна прислуга, я хочу сама. Дело не в результате, не в великолепии получившегося сада, а в чувстве, в самом процессе. Пусть не будет денег на огромный сад, но в том, что будет, я смогу сама обрезать сухие листья, следить за ростом бутонов…
— Хорошо, следи сама, не хочешь большой, пусть будет маленький сад. Мне глубоко пофиг. Но почему здесь?! Почему это нельзя сделать там, куда мы можем уехать?
— Потому что там, куда мы уедем с этими миллионами, я буду просыпаться с мыслью не о саде и бутонах, а о том, что в любую минуту нас найдут, все рухнет, рассыплется как карточный домик. Покой и страх несовместимы. Или одно, или другое. Все дело не в размере сада и садовниках, а в состоянии души. Я хочу построить новую жизнь, нормальную, на базе тихого размеренного быта, который выстлет мне душу теплым и уютным мхом, а не цепляться за старую, которая почти свела меня с ума своей беспросветной тупостью и бессмысленностью.
— Каким мм…ммхом, детка, ты бредишь? О какой нормальной жизни ты говоришь? Наш корабль тонет! Все, поздняк метаться, кругом полная безысходность! Ты же ничего не понимаешь, ты же живешь в раю, на облаках, ты же ни разу не засунула своего носа в реальный бизнес. Все кончено, экономические чудеса закончились, совсем! Бай-бай наш нефтяной ренессанс! Привыкли к чудесам, а их отняли! Больше ничего такого не будет! Все, баста, пипец, кризис, всё ёбнулось! Ты можешь это понять? Мы все будем нищие, будем работать как кролики, хуже, — как китайцы! Все будет как везде, жестко! Наш рынок труда все больше будет походить на западный: сколько ни работай, а ничего, кроме хомута ипотеки и твоего проклятого «маленького садика», нет и не будет. И у нас еще, в отличие от них, долго еще не будет никаких пособий по бедности, никаких государственных поддержек, нормальных пенсий, ничего! Ты готова к такому? Я — нет! Я не хочу прожить как тихий работящий зайчик, у меня одной души сто килограмм, широкой, русской, великодержавной, она не влезет в заячью шкурку! Я устал, понимаешь? Работать устал, завидовать устал! Я уже на исходе сил! Мне через двадцать лет уже помирать! А ты? Что ты будешь делать одна, без денег?
— Лампы.
— Да ты посуду помыть не можешь! Какие лампы? Опять руками, из твоего вонючего гипса?
— Фарфора. И не вонючего. А руки мои не золотые, я уже в тазу научилась стирать. И мне это нравится, я получаю огромное удовлетворение от хорошо сделанной работы, от мелких дел, я стала другая. Ты тоже изменишься. Ты просто не знаешь. Я тебя научу.
— Да… — Стас смотрит, потрясенный. В его глазах опасно поблескивает безуминка. — Я все понял. Адвокатишка не просто тебя трахнул. Тело — это еще было бы полбеды, я бы даже смог, наверное, тебя простить. Но нет! Он трахнул тебя в самой извращенной, в самой непростительной форме, он проник в твои мм…ммозги!
— Я же говорю, что ничего не…
— В самую суть, в сердцевину!
— Прекрати.
— Ты пп…ппредала меня. Этот жалкий ободранный хиппи… Чем он настолько лучше меня? Он зз…ззаботился о тебе? Он открыл тебе галерею?
— Если ты помнишь, открывала я ее как раз сама, а ты ее закрыл и превратил в обычный магазин.
— Я всегда давал тебе дд…дденег, все пп…ппокупал. Ты мне была кк…ккак ребенок! А он? Что он тебе дал?
— Господи, сколько можно повторять? Дело вообще не в нем!
— В нем. Я зз…ззнаю. Я чувствую это. Ты вв…ввыбрала не меня. Ты нн…ннеблагодарная сука! Сука! Просто не чч…ччеловек! Даже если ты не вв…вврешь, и вы не сс…сспали, все равно, ты выбрала его, ты сс…сслушаешь не меня, а его! Это не просто измена, это хх…ххуже, это дд…ддвойная измена!
Стас приближается ко мне. Его губы дрожат, он заикается все сильнее, мне уже становится сложно разбирать, что он говорит. В любом случае все это теперь не имеет никакого смысла. Не сегодня. Он уже меня не слышит. Да и неизвестно, слышал ли вообще когда-нибудь?
— Сука! Какая же ты сука!
Я начинаю медленно пятиться к выходу.
— И ты. Ты! Сс…смеешь лишать меня того, к чч…ччему я шел пп…пполжизни?! Да кто ты тт…ттакая, чтобы за меня решать?
Споткнувшись, я хватаюсь за стену. Мои колени дрожат. Мне хочется присесть и обхватить себя руками, на несколько секунд мной овладевает подлая слабость, я мешкаю, лихорадочно соображаю, что надо как-то обойти трясущегося Стаса, забрать свою сумку, лежащую у него за спиной, у стола. Пока я размышляю и пытаюсь взять себя в руки, Стас пользуется моментом и делает несколько шагов вперед. Его рука хватает меня за предплечье. Это не пальцы, это когти, длинные, костистые, побелевшие от напряжения.
— Мне больно!
— Сс…сука!..
— Пусти!
Но уже поздно. Резким мазком в воздухе перед моим лицом мелькает его рука.
Я успеваю заметить, как свет отражается на золотом ремешке часов, пытаюсь отклониться в сторону, но удар ослепляет меня. Голова запрокидывается назад, в глазах на миг темнеет, мне кажется, что мир гаснет, но это всего лишь пощечина. Мужская, от души, наотмашь, тяжелая, весом со всё годами накопленное Стасом унижение, нищее детство, зависть к удачливому Артему, ненависть ко всем, кто недооценил его, кто не был с ним, изменял ему, не верил, расшатывал его надежду.
Щека горит огнем, но странным образом мне идет это на пользу. Я моментально прихожу в себя, вырываюсь из внезапно ослабевшей Стасовой хватки и выбегаю на свежий воздух. Эхо моих шагов отдается у меня в ушах. Следом за мной, чуть не сбив меня, вылетает летучая мышь.
На миг я останавливаюсь, не зная, что делать дальше. Ночь оглушает меня, душит пахучими ароматами влажности и высохшей на камнях соли, мириады звезд обрушиваются мне на голову, а прохладный ветер подхватывает платье, надувает его пузырем, поднимает вдоль ног и бросает в сторону моего дома. Ветер всегда пахнет свободой.
Вздрогнув, я бросаюсь прочь, не оглядываясь, стараясь заткнуть себе уши и не слышать, не обращать внимания на преследующий меня жуткий звук, исходящий из пещеры. И хотя я никогда не слышала его раньше, я знаю, я чую, что это за хриплый и лающий вой, что это за надрывные завывающие нечеловеческие стоны, буквально парализующие меня ужасом.
Это — не что иное, как дикое, животное, утробное Стасово рыдание.
Море глухо рокочет, ударяясь о скалы. Оказывается, оно все это время было тут — густое, темное, вспенивающееся белизной на гребнях разбивающихся о камни волн, — как я могла о нем забыть? Я оставила в пещере свою сумку и теперь вынуждена брести без фонарика, доверяясь лишь призрачному и холодному лунному свету. Моя ладонь прижата к горящей щеке, но это не помогает уменьшить боль. По правде говоря, я и не хочу ее уменьшить, даже наоборот, я сознательно продолжаю концентрироваться на боли. Парадоксально, но это словно бы избавляет от нее мое сердце, в котором все еще отдается эхом жуткий Стасов вой.
Я приношу людям страдания, всё время думаю лишь о себе, я по уши похоронена в собственном эгоизме. Из странного, извращенного мазохизма и ревности я подставила Жанну под Арно, в глубине души надеясь, что он ее не полюбит; теперь, прикрываясь желанием спасти Стаса от ошибки, я беру на себя судить, что ему хорошо, и отнимаю у него его мечту, его будущее, по-своему честно выстраданное и представляющееся ему столь радужным. К тому же, так ли уж он далек от истины, обвиняя меня в том, что подспудно, где-то в самой темноте того липкого мрака, в котором скрываются неосознанные мотивы, управляющие нашими решениями, в моем нежелании бежать со Стасом замешан француз? Разумеется, замешан, и я это знаю, а значит, Стас снова прав: я врала ему в лицо. Бардовая, все еще пульсирующая щека — это даже мало, надо бы ему сломать мне руку, устроить открытый перелом, отвлечь меня от главного, переключить на боль другую, физическую, более легкую . Меня раздирают противоречивые чувства: страх, стыд, жалость, вина соперничают за меня с сильной, почти животной жаждой свободы. Свободы от чего? Но сейчас я не могу понять свои чувства, проанализировать их, разобраться в том, что меня мучает. Возможно, завтра. Я проснусь. Наступит новый день. Я уплыву далеко в море, останусь там совсем одна, вода смоет с меня лихорадочное возбуждение, успокоит, и я смогу нормально дышать, размышлять, взвешивать, понять себя.
Подойдя к дому, я замечаю, что оставила включенным свет на кухне. Одиноко горящее в ночи окно моей «Виллы Пратьяхары» — что может быть символичнее? Принять душ, нет, лучше набрать полную ванну горячей воды, открыть бутылку вина. За целый час со Стасом я, кажется, не сделала ни одного глотка, и теперь меня мучает жажда. Забыться. Успокоиться. Побыть одной. Постараться заснуть. Ночь послана нам богами для передышки, иначе (если бы наша физиология позволяла обходиться без сна, и дни прилеплялись друг к другу без всяких пауз: день-день-день) мы бы просто не выжили, похороненные под все нарастающим грузом эмоций.
Я автоматически шарю рукой по бокам, недоуменно соображая, что же не так, и до меня доходит, что на мне нет сумки. И она, и лежащий в ней ключ от дома остались в пещере. Вот дьявол, этого еще сегодня не хватало! Придется идти в отель, разыскивать Жанну, брать у нее дубликат, возвращаться обратно, и все это — опять без фонарика. Со стоном, все еще не веря в столь нежданное осложнение, я обхожу дом и изучаю ставни ванной комнаты, привязанные изнутри бечевкой. Удавалось же Стасу как-то справиться с узлом, почему бы не попробовать и мне?
Но даже в этом я бесталанна: несколько раз дернув за раму, я добиваюсь лишь того, что веревка завязывается еще туже. К тому же я вспоминаю, что в доме нет ни единой сигареты, моя пачка благополучно осталась в той же забытой сумке. В полной беспомощности я приседаю на корточки под окном. От камней исходит тепло, накопленное за день, но меня начинает знобить. Какое счастье, если я заболела! Это хотя бы на несколько дней избавит меня от необходимости опять идти в пещеру, говорить со Стасом, убеждать его, воевать с Жанниным плохим настроением, принимать какие-то решения, жить. Я прикладываю ладонь ко лбу, но даже тут меня ждет разочарование: он абсолютно холодный. С минуту я тупо смотрю в темноту перед собой, потом тяжело встаю и бреду к отелю.
Не успеваю я до конца обогнуть большую скалу, защищающую «Виллу Пратьяхару» от звуков пляжа, как меня оглушает душераздирающее электро-техно, исходящее из выставленных прямо на песок четырех огромных колонок. Судя по громкости музыки и небывалой для Лучано иллюминации (из освещения включено все, что только можно, яркие гирлянды с лампочками висят даже на пальмах), вечеринка в самом разгаре. Отель напоминает круизный лайнер, волею случая выброшенный на берег необитаемого острова. Команда и пассажиры, разумеется, пьяны в стельку от отчаяния и, побратавшись, что есть мочи голосят дурные песни. Общее впечатление от их вечеринки — гротеск, трагикомедия, театр (да, театр вполне подходит, деревянные подмостки ресторана уже не раз напоминали мне сцену), но театр не простой, а абсурда.
Первый встреченный мной человек — полуголое существо в полосатых трусах и красной бандане на голове, пошатываясь, выходит из-под пальмы, громко икает и приседает передо мной в глумливом реверансе:
— Пардон, мадам, — произносит он на ломаном английском.
Я уклоняюсь от мокрого пьяного поцелуя и подхожу к ресторанной площадке.
Кого тут только, оказывается, нет. Соблазнившись на дармовую выпивку (Жанна днем говорила, что русские проставляются), народ пришел полным составом. В центре ресторана, столики которого сдвинуты вдоль балюстрады, как в замедленном танце, откровенно игнорируя музыку, нелепо движется одна из русских девиц. Я ее уже видела. Кажется, ее зовут Наташа. Или Оля? Все они перемешались в моей голове. Цветные фонарики отражаются на ее влажном от пота лице, руки широко раскинуты в стороны, голова закатилась назад, как у кающейся Тициановской Магдалины, и взгляд у нее такой же: ничего не выражающие глаза бессмысленно уставились в небо. Она еле переставляет ноги, все время норовя упасть, но в последний момент находит равновесие и опять продолжает кружиться в своем танце. Периодически она подносит руку ко рту и делает хорошую затяжку гашишем, обводя зрителей мутным расфокусированным взглядом. Впрочем, на нее никто не обращает внимания.
Присутствующие напоминают мне большую, крайне разноперую семью, впервые за долгие годы сошедшуюся полным составом на похоронах богатой бабки. За тремя сдвинутыми вместе столиками восседает костяк компании (и, судя по всему, спонсоры этого торжества): четыре крупных потных мужчины с румяными упитанными лицами и еще один худой, болезненного вида, с острым торчащим кадыком. Худой постоянно сглатывает слюну, отчего кадык ходит вверх и вниз по тощей шее. Отчаянно жестикулируя, перебивая и не слушая друг друга, они выясняют вопрос о преимуществах спортивных катеров перед яхтами. Стол заставлен бутылками всех типов (от пива до шампанского) и грязными тарелками, в остатках соуса плавают обглоданные розоватые клешни морских млекопитающих.
— Да ё, с таким килем она ни в жисть не потопнет.
— Потопнет.
— Да не, говорю.
— А я говорю, потопнет и не забздит.
На другом краю стола примостилась женская половина компании. Подсвеченные огоньками, они напоминают стайку экзотических птичек, разноцветное оперенье отливает блестками, глаза сверкают. Здесь тоже идет какой-то спор. Суть его мне неинтересна, я смотрю на Жанну. Закрыв глаза, она обнимает Арно обеими руками и что-то шепчет ему на ухо. Меня поражает, что он сегодня принарядился, на нем белая рубашка навыпуск и длинные синие штаны, волосы стянуты в довольно аккуратный хвостик. Парочка меня не замечает, и я понимаю, что не найду в себе сил подойти, прервать их объятья, мило улыбнуться, и всё это — ради ключа. Отвернувшись, я отступаю к стоящей поодаль Ингрид.
— Вечеринка в самом разгаре? — интересуюсь я.
Старушка раздраженно кивает:
— Ну да. Убогие люди, убогие серые жизни! Праздника им не хватает! Моря им, понимаешь ли, мало, звуков прибоя, птиц, тишины… Нет, надо врубить музыку так, чтоб уши заложило!
— И давно у вас тут такое веселье?
— Да сразу после ланча началось. Меня уже мутит от этих русских. Такое беспардонство, завладели отелем, как своей собственностью. Не пройти, ни отдохнуть! Мне все время мерещится, что их не полтора десятка, а как минимум сотня. И ни один их них не кивнет, не поздоровается, игнорируют меня, словно я вообще не человек!
— А как наш Лучано держится?
— Лучано? — Ингрид фыркает. — Пойди сама у него спроси. Вон он сидит в своей конторке.
Я перевожу взгляд на открытую дверь директорского кабинета. На столе горит настольная лампа, итальянец покачивается в своем кресле, покусывая кончик карандаша и что-то записывая в блокноте. Я оглядываюсь на Жанну. Она целует Арно в губы.
— Привет, — говорю я Лучано, заглядывая в конторку.
— А, это ты! Давненько тебя не видно. Как дела?
— Да так… — неопределенно тяну я. — Как ваши? Русские совсем достали?
Итальянец поднимает на меня удивленные глаза.
— Достали? Да я бы не сказал. Я хочу свой веб-сайт перевести на ваш язык, чтобы побольше гостей из России приезжало. Не поможешь?
Я непонимающе расширяю глаза.
— Вы же вроде еще недавно были от них в полном ужасе?
Лучано кивает и смеется в толстый маленький кулачок. Потом выдвигает ящик стола, достает оттуда что-то и кидает перед собой. Это толстая пачка наличных долларов, новенькими, только с фабрики, стодолларовыми купюрами. Густые брови владельца отеля выразительно выгибаются, по лицу размазывается довольная усмешка:
— Побольше бы таких гостей. Мороки, конечно, с ними много, зато деньги текут рекой, пересчитывать не успеваю.
Я киваю:
— Ну я пойду?
— Да, да, разумеется. Там еще полный стол выпивки. Скажи Тхану, он нальет тебе что-нибудь.
С террасы раздаются громкие голоса.
— Кончай ты эту муру. Поставь последний «Buddha bar» или подборку Тиесто.
— Да не, ребят, вы что? Ща я принесу из комнаты такую кислоту из Гоа!
Я выхожу из кабинета.
— Так ты с переводом не поможешь? — окликает меня в спину Лучано.
— Помогу, — не оборачиваясь, отвечаю я.
На меня наваливается тоска и равнодушие. Скоро Лучано заполонит наш пляж подобными компаниями, и что я буду делать в своей «Вилле Пратьяхаре»? Запрусь и превращусь в отшельника, стирающего в тазу хозяйственным мылом?
Сквозь шум голосов начинает играть Элтон Джон. Что-то невероятно гомосексуально-романтическое, заунывное и протяжное. Жанна подталкивает послушного Арно к центру площадки, кладет голову ему на плечо и они начинают топтаться в медленном танце.
Кто-то берет меня за локоть и я оборачиваюсь.
— Денисов. Адвокат, — представляется мне улыбающийся розовощекий молодой человек. — Где ваш бокал?
Я пожимаю плечами.
Молодой человек отходит и вскоре возвращается со стаканом и початой бутылкой шампанского. Я разрешаю себе налить, и мы чокаемся.
— А это моя жена. Фотомодель. Бывшая, — кивает он на высокую блондинку в вечернем платье. — Зай! Кис, поди сюда, с девушкой познакомлю.
Фотомодель резко оборачивается, опасливо изучая меня с головы до ног. Но, вероятно, придя к выводу, что я не представляю никакой угрозы, подходит и выдавливает учтивую улыбку.
— Ольга.
Я киваю:
— Я знаю. Фотомодель.
— А как зовут нашу гостью? — интересуется адвокат, опять беря меня под локоть.
— Полина, — говорю я нехотя.
Второго слова («адвокат», «фотомодель»…) у меня, слава богу, нет. Я просто человек. Уставший, с еще слегка горящей от пощечины щекой.
— Говорят, ты здесь купила дом? — Денисов переходит на «ты».
Я опять киваю.
— А мы вот тоже думаем прикупить себе что-то. В Тае или в Доминиканской республике, ну или в Гоа на крайняк. Тусняк. Лафа. Хотя Гоа уже засрано нашим братом, не проехать, не пройти без русской речи — морщится мой новый знакомый. — Прикинь, кафе уже свои пооткрывали, пельмени лепят, борщи наворачивают! У меня один знакомый туда на днях полетел, так его, не поверишь, попросили привезти три килограмма гречки и мешок семечек! И курсы йоги у них там на русском проводятся, и курсы просветления.
Ольга соглашается и объясняет, что «русские везде так понаехали, никакого спаса, не знаешь, куда от них сунуться».
— Так вы же вроде сами русские? — спрашиваю я, не зная, как от них побыстрее отделаться.
Жанна продолжает танцевать с Арно. Элтон Джон закончил первую песню и тут же затянул вторую, не менее заунывную. Рука Арно придерживает Жанну за талию.
— Ну и что? Мы — нормальные русские. А кругом одно быдло, — говорит Денисов. — Провинция разбогатела, рабочий класс поехал заграницу, дорвался. Ты сама-то хоть из Москвы?
Я киваю.
— И мы тоже. Ну тогда ты нас понимаешь. Хочется ведь чего? Хочется ведь покоя! Тишины. Единения духа с природой. Йогой там заняться, тем, сем, ну типа, как его?.. ну духовным, короче. А то кругом же материализм, прям за горло душит.
Денисов хватает себя за красную шею и выразительно закатывает глаза, показывая, как именно его душит материализм. Его жена зевает и смотрит на часики на своем запястье. Украшенные бриллиантиками, ее Maurice Lacroix тянут на никак не меньше десяти тысяч долларов.
— Извините меня, — говорю я вскоре и направляюсь к «бывшей швейцарке».
Как всегда облаченная в свои цветные лохмотья и костяные бусы, с растрепанными седыми волосами и почему-то босиком, она оперлась о ресторанную балюстраду и деловито забивает косяк.
— Будешь? — предлагает она.
Я отрицательно качаю головой, но потом неожиданно передумываю:
— А, давайте.
Джоинт оказывается слабенький, как раз то, что надо. В горле немного пощипывает, но в целом от сделанных мной нескольких затяжек ничего почти не меняется, только мир вокруг становится чуть нежнее, как бы теплее. Воздух кажется мягче, обволакивает, словно дружеской рукой обнимая за плечи, ветер заботливо дует на мою щеку, все еще немного пульсирующую уже не болью, но обидой.
Молча передавая друг другу самокрутку, какое-то время мы стоим, поглядывая по сторонам. Контраст между горящим всеми огнями отелем и сырой пещерой, которую я покинула всего какой-нибудь час назад, поражает.
Кто-то начинает запускать самодельные тайские фейерверки. Небо разрывается резкими грубыми вспышками, от хлопков закладывает уши. Возбужденные пьяные голоса вокруг меня сливаются в один хор.
Что это, пародия на счастье или все эти люди и впрямь так беспечны, как выглядят?
Одна из петард вырывается из укрепленной в песке подставки и, неожиданно изменив траекторию, заскакивает в ресторан. Брызжа искрами и шипя, она опасно крутится по полу, разгоняя людей в стороны.
— Йё-хууу! Класс! — раздается чей-то гомерический хохот прямо у меня над ухом и я вздрагиваю. Вскоре его поддерживают еще несколько голосов. Ночь прорезает тонкий женский визг, потом опять мужской гогот.
Морщась, я осторожно пробираюсь сквозь толпу и выхожу на пляж. Ноги ведут меня в сторону от освещенного отелем участка, прочь, в темноту, где волны набрасываются на берег, оставляя после себя широкие ленты пены на мокром, присмиревшем песке. Покорно тлеет, догорая, брошенный людьми костер: коптит, уходя ввысь, тонкая серая струйка дыма. Небо густо усыпано крупными звездами, какие бывают лишь в тропиках. Господство ненавистной мне Венеры сегодня полностью вытеснено жирной, распухшей, довольной собою луной, округляющей бока и постепенно готовящейся к полнолунию.
Увлеченная звездами, я чуть не спотыкаюсь о замерший прямо у меня под ногами комок. Побеспокоенный мной, он шевелится, оживает и оказывается сидящей на песке парочкой. Я различаю оранжевую майку Сэма. Поджав под себя ноги, он ссутулился и сжимает в руке ладошку Барбары. Я удивляюсь, почему я всегда считала ее уродливой? Ее волосы распущены и длинными прядями ложатся на чуть полные плечи, на ней красивое светлое платье, а запястье отливает тонким серебряным браслетиком, узорно отражающим лунный свет. Никогда до сегодняшнего вечера я не видела, что бы она наряжалась или надевала какие-то украшения. Задрав голову, она смотрит на меня затравленно, почти испуганно: боится насмешки, злых слов, быть высмеянной. Мое сердце сжимается от сильного, внезапного приступа острого тепла, человеческой (или как раз нечеловеческой?) симпатии. Скороговоркой пробормотав извинения, я спешу отойти прочь.
Ну вот. У всех все сложилось. Я лишняя на этом празднике. Я сама не знаю, что хочу. Покоя? Вот и адвокат Денисов тоже, оказывается, ищет покоя. Даже в этом я не оригинальна. Похоже, хотеть покоя в наше время — то же самое, что хотеть денег или любви. Тема избитая и пошлая, одна я была не в курсе.
Я сажусь на песок. На глаза наворачиваются слезы. Ни от чего. Просто так. Я чувствую себя абсолютно потерянной, запутавшейся. На меня давит груз ответственности за решение, которое я приняла за Стаса. Что, если я ошибаюсь, кто дал мне право судить, тем более — осуждать? От беспомощности, от осознания невозможности видеть будущее и последствия своих поступков мне хочется плакать, — громко, зарыдать в голос, завыть по-русски, по-деревенски, как позволяют себе бабы на поминках, но слезы катятся по внутренней стороне моих щек, по их изнанке, наполняя рот горечью, но оставляя лицо абсолютно сухим, и только тощая тайская собака, тихонько пристроившаяся рядом, повиливает хвостом и смотрит на меня неожиданно печальными и мудрыми собачьими глазами.
— Хочешь запустить волшебный фонарь? — раздается у меня за спиной.
Я оборачиваюсь и вижу Арно. В его руках большая конструкция из проволочных окружностей и соединяющего их пергамента. Я уже видела, как люди запускают такие. Бумажный цилиндр остается открытым снизу, имея лишь боковые стенки и крышу, снизу к нему крепится маленькая плоская свечка в алюминиевой чашечке, если ее поджечь, то теплый воздух поступает в цилиндр и, накапливаясь, через несколько минут поднимает всю конструкцию вверх, наподобие воздушного шара.
Я сглатываю соленую слюну, встаю и отряхиваю песок с платья.
— Зачем?
— Это красиво, — улыбается Арно. — К тому же ты сможешь загадать желание, и если фонарь не загорится и не упадет в море, а улетит высоко в небо, то оно непременно сбудется.
Я пожимаю плечами.
— А что придется делать?
— Ничего особенного. Загадать желание и поджечь свечу.
Арно расправляет в руках фонарь и предлагает мне взяться за его основание. Теперь мы стоим лицом к черному провалу над морем, мои руки держат тонкую проволочную основу, а руки Арно лежат совсем рядом, почти касаясь моих. Он стоит сзади, и его дыхание щекочет мою щеку.
— Поджигай, — он дает мне зажигалку.
Огонь от свечки дрожит на ветру и неожиданно я пугаюсь, что он потухнет. Но нет, робкий вначале, он быстро набирает силу и загорается ровнее и увереннее. Теплый воздух начинает поступать вглубь цилиндра, надувая его и натягивая бумагу.
— Желание загадала? — спрашивает Арно.
Я лихорадочно пытаюсь сообразить, что бы мне попросить у богов? Денег у меня сейчас хоть отбавляй, без малого десять миллионов. Здоровье вроде бы нормальное. Любви? У меня есть Стас. Приехав за мной, он доказал, что не собирался бежать без меня, а значит, его чувства сильнее, чем он показывает. Я опять вспоминаю его жуткий животный плач час назад и покрываюсь мурашками.
— Быстрее, — советует Арно. — Он уже скоро взлетит, надо успеть загадать желание до этого.
Чего мне не хватает? В поисках чего я сюда убежала? Покоя, смысла жизни? Но, приходит мне в голову, причем приходит не просто в виде обычной мысли, а почти вспышкой, озарением, с немыслимой ясностью, — разве боги или кто бы то ни было могут послать мне смысл моей жизни или какое-либо внутреннее состояние души? То, чего я ищу, это не что-то внешнее или имеющее материальную форму, не выигрышный билет в лотерею, который судьба может подкинуть тебе в виде сдачи в сигаретном ларьке, не чудодейственное исцеление от хронического недуга, не долгожданная беременность для бесплодной женщины, а нечто, берущее свою основу не в окружающем мире, а во мне самой, зависящее лишь и только от меня!
Пораженная, я закрываю глаза. У меня нет никаких желаний. Как выяснилось, у меня есть все необходимое для жизни, а жизни по-прежнему нет. Как такое может быть?! Счастье, которого мне так не хватает, мне никто не может дать, кроме меня самой!
— Взлетает. Ты готова? — шепчет мне на ухо Арно.
Попросить богов, чтобы он меня полюбил? Но, опять будто вспышкой мелькает у меня в голове, он и так меня любит. Он поэтому сюда и пришел. Танцуя с Жанной, он видел меня и заметил, что я ушла из ресторана. Боги ничего не смогут мне дать, они уже все дали. Теперь все зависит только от меня, от того, что я буду с этим делать, смогу ли я начать, наконец, жить.
Волшебный фонарь тянет руки все сильнее, и я послушно разжимаю пальцы. Следя за каждым моим движением, Арно немедленно разжимает свои, и, подсвеченный изнутри, фонарь медленно взлетает. Сначала всего на один метр. Тяжесть проволок мешает ему набрать скорость и ветер пытается его наклонить. Если это произойдет, загорится бумага. Я поворачиваюсь и в ужасе смотрю на Арно. Если фонарь загорится, то ничего не будет, моя жизнь не удастся, не сложится, я не решу этот пазл, никогда не соберу частички воедино!
— Все будет хорошо, — тихо говорит Арно.
Я опять перевожу взгляд на цилиндр. Справившись с ветром, он выравнивается и начинает постепенно набирать высоту. Вот он уже отлетел на десять метров. Потом еще на десять… В его ровном скольжении есть что-то величественное и захватывающее дух. Воздушные потоки подхватывают его и вот вскоре он уже едва заметен: теплая оранжевая точечка на фоне смоляного небосвода, светлячок, наполненный огнем моего желания жить, уносящийся прочь, едва заметно пульсирующий, словно подмигивающий напоследок перед тем, как окончательно нырнуть в облака, потеряться, смешавшись со звездами.
Мы молча провожаем его глазами. Проходит, наверное, не меньше пятнадцати минут, пока он становится настолько крошечным, что его почти не видно.
— Вот видишь, — говорит Арно, — все получилось.
Отойдя в сторону, он присаживается на песок и закуривает. Я сажусь рядом.
Какое-то время мы молчим и слушаем море. Волны мерно накатывают на песок, словно бы завороженные постоянными повторами собственных звуков: сначала нарастающий рокот подходящей волны, потом тихий шелест по песку, потом резкий удар, пена остается на берегу, а вода с еле слышным стоном откатывает обратно, чтобы вскоре всё повторилось снова и снова. В природе всё уже было, её ничем не удивить. Моя жизнь — не первая и не последняя на этой странной и несчастливой планете, и мои проблемы ничуть не оригинальны. Более того, раз все это до сих пор зачем-то существует, значит есть какое-то решение, просто я его не знаю. Я чувствую, что еще немного и я что-то пойму, но словно вода сквозь пальцы, это ускользает от меня каждый раз, что я пытаюсь приблизиться.
— Мне кажется, что-то вот-вот должно произойти, что-то должно случиться, — говорю я. — Так не может больше продолжаться.
— Наверняка, — говорит Арно, не сводя взгляда с моря.
По небу пробегает тонкая ниточка света.
— Смотри, звезда упала, — говорю я.
— Это не звезда, а метеор. Раньше во Франции люди верили, что это душа, покинувшая тело.
— Да? А в России это считают хорошим знаком и загадывают желание. Сейчас. Хотя раньше было не так. Раньше падающие метеоры тоже связывали со смертью, бабушка всегда крестилась и говорила: «царство небесное», думала, что это верный признак, что кто-то умер. Еще исстари на Руси повелось предание, что заметить падающую звезду — дурной знак. Худая примета заляжет на душу того, кто ее видит и будет предвещать неизбежную скорую смерть ему или кому-нибудь из его семейства.
Арно бросает на меня удивленный взгляд.
— Недавно я была у гадалки, — говорю я, — и она сказала, что Полина Власова умрет. Полина Власова — это мое имя.
— Может быть, это следует понимать метафорически? В смысле, ты изменишься, и старая Полина умрет. А новая будет жить.
— Думаешь? Мне не приходило это в голову. Гадалка жутко испугалась, выгнала меня как прокаженную, даже денег не взяла. С тех пор я все время жду смерти.
— Ну… По-моему, ты слишком серьезно ко всему относишься. — Арно пожимает плечами. — Жизнь — это игра, спектакль.
— А кто режиссер?
— Ты.
— Дай сигарету. — Я всматриваюсь в темное небо, но мой волшебный фонарь уже исчез. — А, по-моему, мы никакие не режиссеры, и даже не зрители, а просто тупые жертвы случая. С нами постоянно случаются какие-то беды. Люди мрут как мухи, ни от чего, — от рака, от автокатастроф. Мне кажется, что мы, как бараны, тащимся по унылому шоссе жизни: по краям забор, колючая проволока, никуда не свернуть. Упирается шоссе в бездну, и все мы в нее ухаем. А сверху на нас сыпятся всевозможные горести и проблемы, почти как эти метеориты, — вдруг, ниоткуда, сами по себе, и от нас ничего не зависит. Все вроде бы хорошо, а потом дойдешь до врача, так просто, профилактически, а он тебе — бах, диагноз. А ты ничего особенного и не делал, пил-курил не больше других, спортом занимался… Или сел в самолет, а он, вот именно твой, один на тысячу, взял и упал как раз на твоем рейсе. Никакой логики, вся жизнь — хаотически распределенные беды: некоторые ничего себе, в полсилы, можно оклематься, а иные с летальным исходом. И вот ползешь себе по шоссе и думаешь: если сейчас тебя не сразит, то, значит, завтра, или послезавтра, но в любом случае, даже если ты супер-удачлив, в конце пути тебя ждет пропасть, неминуемая смерть.
— Жуткая картина, — комментирует Арно, усмехаясь. — Но это же твой выбор, какую картину мира себе нарисовать. Зачем тебе это шоссе? Выбери себе что-нибудь поприятнее и твое отношение к происходящему сразу поменяется.
— К чему? К раку, например?
— Да, к раку тоже. Рак — это просто одна из форм смерти. Согласен, довольно неприятная, но смерть чаще всего приходит не через удовольствие. Это просто одно из ее качеств, внешняя форма. Возьми, например, дождь. Одно из его качеств — это то, что он мокрый. Но само по себе это не плохо, это никак. С чего ты взяла, что сухое лучше, чем мокрое? Это вопрос отношения и только. Я вот люблю дождь, это время для себя, он ограничивает твои действия, как бы напоминает: «сядь, расслабься, погрусти, подумай, как сладка, как чертовски хороша жизнь».
— Ну дождь — ладно. Но как может быть хороша смерть?
— Элементарно. Ты все время говоришь о форме. Но форма смерти никак не влияет на саму суть факта смерти. А суть ее, извини меня, крайне неоднозначна, и трактовать ее как абсолютное зло, наказание и горе — значит предаваться примитивной мещанской панике, тупому животному страху перед неизвестным. Для буддистов, кстати, смерть не просто естественна, она желанна. Это освобождение от страданий, можно даже сказать — определенная награда, приз за то, что ты прошел в жизни какой-то урок и тебя отпустили на большую перемену, у тебя появится время отдохнуть от учебы, а в столовой тебя ждет булочка и компот.
— Очень весело, — замечаю я. — Это ты сам придумал?
— Про компот сам, а про освобождение умные люди подсказали, — смеется Арно. — Хочешь подкину тебе теорию на замену твоего мрачного шоссе? Как тебе парки аттракционов? Ты там была?
— Это ты про Дисней-Лэнд?
— Да про любой большой парк.
— Ну, допустим была, хотя не припомню. И что?
— Знаешь, там всегда есть такой аттракцион, где ты садишься в открытый паровозик, состоящий из кабинок, и вас завозят в темную пещеру. По ходу паровозика со всех сторон из темноты на вас нападают всякие страшилки. Ну скелеты там, обмазанные фосфором, привидения, бандиты… Народ визжит что есть дури, искренне пугается. Иногда. А иногда ржет до упаду. Кто как. Это смотря с каким настроем ты вообще сел в этот паровозик. Если хотел до мурашек попугаться и покричать, то пугаешься и дерешь горло. Если хотел от души посмеяться, то все эти ужасы, выскакивающие как черти из табакерки, будут тебя лишь веселить. И даже тут видно, насколько все индивидуально, на один и тот же призрак все среагируют по-разному, кому-то он покажется страшным, а кому-то нелепым и ненатуральным, а на следующем повороте все поменяется. Ты не замечала, что в даже нашем, мягко скажем, крайне ограниченном списке пугающих нас ужасов, мы не одинаковы в реакциях? Нас пугают и веселят разные вещи, другими словами вокруг нас нет ничего объективного, все зависит от отношения.
— Я вспомнила. Я была на таком аттракционе где-то в Бельгии. И, разумеется, это было совсем не страшно.
— Ну вот видишь. Так же и в жизни. Ты представь, что сидишь в таком паровозике и он везет тебя сквозь все эти ужасы, а ты знаешь, что все это вокруг тебя — лишь пустые страшилки, к которым просто нелепо относиться серьезно, насколько бы они страшные не казались. А по-настоящему тут только две вещи: ты и неизбежный свет в конце тоннеля. Извини за каламбур, я не специально. Просто из любого затемненного помещения всегда есть выход в конце, и на фоне мрака этого аттракциона он будет выглядеть ярким светом. Кстати, раз уж я случайно скаламбурил, то добавлю, что ты наверняка знаешь из всех этих рассказов о клинических смертях и прочих впечатлений людей, вернувшихся из смерти, что в какой-то момент они всегда видят именно яркий свет в конце туннеля. Это и есть смерть, та самая, которую ты так боишься. Но фокус все-таки должен быть не на ней, а на тебе: настоящей, живой, в самом простом смысле, как в Ветхом и Новом заветах, у гностиков или греков, «я есмь», «ego eimi», а значит — дышу, существую, и этого уже достаточно.
— Для чего?
— Для того чтобы жить и быть счастливой, дурочка! — Арно неожиданно щелкает меня пальцем по носу и, не опираясь о землю, легко подпрыгивает и встает на ноги. — Пошли, надо быть милосердным к ближним.
Я непонимающе прослеживаю за его взглядом и замечаю приближающуюся к нам Жанну. Босую, шатающуюся, туфли на шпильках, как обычно, в руке. Арно машет ей, шутливо раскрывая объятия.
— Опять каблук сломался? — смеется он, когда она подходит. — Понести тебя домой на руках?
Но на этот раз дело не в каблуке. Оттолкнув любовника, Жанна обдает нас ароматным перегаром, бросает на меня наполненный ненавистью взгляд и проходит мимо, в одинокую ночь.
Арно пожимает плечами.
— Похоже, вечеринка закончилась как обычно. Все напились и после бурных безумств отдались в суровые лапы вселенской тоски. Типичный сценарий. И почему только человечество до такой степени не хочет радоваться жизни?
— Ты лицемеришь, — бросаю я ему, тоже встав. — Ты отлично знаешь, почему ей не весело.
— Знаю. Но понимание человеческой сути не означает немедленной к ней симпатии. Можно понимать что-то, не разделяя этого.
— О чем ты?
— О жадности, например. Людям всегда всего мало, сколько им не дай. Их жажда обладать просто омерзительна.
Не попрощавшись, я бросаюсь догонять подругу, но та идет на удивление быстро, и мне удается настигнуть ее только у камней «Пиратского бара». Не выдержав конкуренции с отелем, он сегодня закрылся раньше времени. Огни потушены, музыки нет, и только хозяин-таец сидит темным силуэтом на фоне лунной дорожки, жирно прочерченной на незаметно успокоившемся море, и задумчиво курит гашиш.
— Подожди, — я хватаю Жанну за локоть.
— Иди к черту, — вырывается она и начинает карабкаться на скалы.
— Тут нет тропы, она левее…
— Отстань.
Я вынуждена лезть за ней.
— Да погоди же ты! Мы сорвемся, здесь нельзя взобраться.
Жанна молчит и продолжает остервенело штурмовать огромные валуны. Зажатые в руке туфли мешают ей, и она швыряет их вниз, к подножью скал. Прогремев каблуками по камням, они падают в опасной близости к воде. Если прилив будет сильный, то к утру их смоет и унесет в море. Но Жанна даже не оборачивается, чтобы проверить, куда они упали, и, пыхтя, лезет все выше и выше. Мне не остается ничего другого, как карабкаться за ней. Только ее смерти и не хватало на моей совести.
Удивительно, но минут через десять громкого кряхтения и шмыганья носом мы все-таки выбираемся на мою террасу.
— Ты поставила рекорд. До этого момента никому и в голову бы не пришло, что здесь можно взобраться к дому, — говорю я, отряхивая руки.
— Где твой ключ? — отрывисто выдыхает Жанна.
— А где твой? — удивляюсь я.
— Я где-то оставила свою сумку. Завтра найду, при свете дня.
— Господи, ты это серьезно? А я тоже где-то оставила свою.
— Отлично, — констатирует Жанна холодно. — Значит будем спать на свежем воздухе. Спокойной ночи. — И, ни капли не сомневаясь, растягивается прямо на камнях у двери.
Я присаживаюсь на корточки, опасливо ощупываю землю, выбираю несколько камней покрупней и отбрасываю их в сторону, потом сажусь по-турецки и берусь за голову:
— Тебе хорошо, ты хоть пьяная.
— И ты выпей, — советует Жанна.
— Где я тебе возьму алкоголь, если дом закрыт? Опять попрусь вниз к Лучано?
— Ну это твои проблемы.
— Спасибо, — говорю я.
Несколько минут мы молчим, потом я первая не выдерживаю:
— Могу предложить тебе, как гостье, гамак.
Жанна молчит. Я пару минут жду ее реакции, но она не снисходит до меня ответом. Тогда я поднимаюсь и занимаю гамак сама.
Жанна стоически вертится на камнях, пытаясь найти более-менее сносную позу.
— Не дури, иди сюда, — зову я. — Здесь на двоих хватит места.
— Пошла к черту.
Я чувствую, что нам надо поговорить, но глаза слипаются и меня клонит в сон. Сегодняшний день оказался невероятно длинным, и я боюсь, что после разговоров со Стасом и Арно, мне уже не выдержать еще один.
Минут через двадцать гордячка молча распихивает меня и забирается в гамак. Его веревки подозрительно скрипят, но выдерживают. Не зная, как бы расположиться поудобнее, я приобнимаю ее за плечи.
— Я сейчас валетом лягу, — предупреждает она.
Я убираю руку и засовываю ее себе под голову.
Вдвоем в гамаке оказывается невероятно неудобно. Сон — нетвердый, робко проклевывавшийся сквозь усталость — покидает меня. Усталость остается, но заснуть я больше не могу. Судя по ее неровному дыханию, Жанна страдает от той же проблемы.
— Может, будем спать по очереди? — предлагаю я через вечность. — Я могу первая уступить тебе гамак.
— С чего это такая забота?
— Ну… ты все-таки у меня в гостях. Я пытаюсь о тебе заботиться.
— Да? — Жанна аж садится в гамаке, отчего веревки опять протяжно скрипят, подумывая разорваться. — Поэтому и к Арно меня отправила? Типа лучшее отдала? Как детям?
Я вздыхаю.
— Ну, а чем ты так, в конце концов-то, недовольна? Он провел с тобой отличную ночь, ты, помнится, была в восторге. Ухаживал, воду носил, остров показывал, в ресторане кормил и не раз, танцевал вот сегодня…
— Да? А ты знаешь, как он танцевал? Как будто его там не было танцевал! А как ты ушла, сразу побежал вслед, как собачка!
— Мне было плохо. Возможно, он как-то это почувствовал, пришел поговорить. Не о любви, а о жизни. Мы с ним не любовники. Мы говорили о раке, о смерти…
Жанна морщится:
— Ой, только не надо, ладно? Ты все сама знаешь. Ты использовала меня. Ты все сделала специально. Не знаю, что уж у вас тут за больные игры, только ты отвела мне в них слишком унизительную роль. А я, дура, нет бы сразу все просечь! Повелась как идиотка!
— Да что ты имеешь в виду? Не я же его убедила переспать с тобой! Он сам. А значит хотел тебя, я его не заставляла. Следовательно, ты ему нравишься. Ну, в какой-то мере. Да и как ты вообще кому-то можешь не нравиться? А про то, что он сразу же женится и увезет тебя в Париж, чтобы ты там поплевывала в Сену, ты сама себе придумала, я тут ни при чем.
— Я не про Париж и не про Сену.
— А про что?
— Да ни про что. Дрянь ты просто, — резюмирует Жанна устало. — Злая жестокая дрянь. Если бы я была мужиком, я бы тебя ударила. Вылезай из гамака, моя очередь первая.
29
Жаннина очередь длилась до утра. Разбудить ее у меня не хватило мужества. Свернувшись калачиком в гамаке, она сначала тихонько поплакала (или мне это показалось?), потом засопела, дыхание ее выровнялось и она провалилась в забытье. Я же долго еще бродила по скалам вокруг дома, пока не истощила себя настолько, что смогла заснуть сидя, в своем ротанговом кресле. Последнее, что я помню, это розоватое сияние над горизонтом и мысль, что сегодня мне, наконец, впервые удастся полюбоваться на рассвет. Но сон все-таки сморил меня незадолго до него, и я ничего не увидела.
Судя по защемленной и одеревеневшей к утру шее, голова моя ночью свесилась набок, как у измотанных людей в московском метро. Зато Жанна выглядела почти свежо. Сбегала за забытой у Лучано сумкой, растолкала меня, молча скосила глаза на распахнутую дверь, показывая, что цитадель открыта, и заперлась в ванной. Долго ли она там заседала, я не знаю, потому что, едва добравшись до мягкого матраса, я снова погрузилась в сон. Мне снились падающие звезды, целый звездопад. Тысячами они проносились по небосклону, прочерчивая его пересекающимися хвостами, напоминающими сперматозоиды из школьного учебника биологии, падая в море, ударяясь о землю, которая представляла из себя длинное угрюмое шоссе, окруженное рабицей с колючей проволокой. При каждом ударе где-то за кадром звучал загробный бабушкин голос: «царство небесное», «царство небесное», «царство небесное»… и тоскливо (тоже где-то за кадром) пели свои заунывные мантры оранжевые буддисты.
Проснувшись уже ближе к обеду, я спускаюсь на кухню и застаю там роющуюся в холодильнике Жанну. Завидев меня, она захлопывает дверку и молча уходит на террасу. Я наливаю себе сок и тоже выхожу из дома. Небо затянуто низкими грозовыми тучами, кое-где подсвеченными желто-золотым тревожным светом, вдали у горизонта сверкают молнии. Разгулявшийся ветер обещает перерасти в ураганный, играючи швыряя по террасе все, что плохо лежит. Я подхожу к прудику с карпами и аккуратно вытаскиваю из него загнанный туда журнал «Cosmopolitan». С мокрых страниц у моих ног натекает лужица воды.
— Дожди в сухой сезон здесь редкость, но если уж они случаются, то мало не покажется, — говорю я Жанне.
Она по-прежнему со мной не разговаривает. Облаченная лишь в полупрозрачную комбинацию и босая, она ежится на ветру и обнимает себя за плечи. В грозовом освещении ее рыжие волосы приобрели какой-то демонический оттенок и напоминают ведьмовские кудри, разметанные по мраморным плечам. Ей так и не удалось загореть, кожа ее отливает парным молоком, солнце лишь сделало ее веснушки крупнее и ярче. Подойдя к краю террасы, я нагибаюсь и вглядываюсь вниз, туда, где мы вчера поднимались. Узкая полоска песка исчезла под приливом, волны изо всех сил бьются о скалы, море у берега превратилось в белую кашу, рваная пена оседает на скалах грязной ватной паклей. Вырванные с корнем факелы «Пиратского бара» швыряет туда-сюда волной: периодически выныривая из воды, они напоминают обломки кораблекрушения.
— Ты забрала свои туфли или их смыло? — спрашиваю я, вытирая с лица морские брызги.
— Какая тебе разница?
Я пожимаю плечами. Подхваченная порывом ветра, пепельница-ракушка переворачивается и десятки окурков разлетаются по всей площадке перед домом. Нахмурившись, я иду отвязывать гамак.
— Надо занести все внутрь. Сейчас начнется шторм. Лучано говорит, что при особенно сильных ураганах волны долетают до нашей террасы и заливают все водой.
— Не нашей, а твоей. Здесь все твое, — бросает мне Жанна, но все-таки прихватывает с собой ротанговое кресло, уходя обратно в дом.
Тоскливо поеживаясь, он белеет на фоне свинцового неба, готовясь отражать шторм. Шероховатая побелка на стенах словно покрылась мурашками, распахнутые окна глухо постукивают, вырвавшиеся на свободу занавески бесновато пританцовывают по наружной стене. Дом скрипит и стонет сразу всеми ставнями и половицами, будто бы жалуясь на старость, обветшалость и нелегкую судьбу. О том, чтобы идти сейчас в пещеру за забытой сумкой, опять пытаться говорить со Стасом, выдерживать его взгляд, нет и речи. Ну хоть от этого природа избавила меня. На меня падают первые крупные капли.
Забрав все, что можно, в дом, я задвигаю засов, плотно зашториваю окна, и «Вилла Пратьяхара» погружается в полный мрак. Жаннины шаги меряют спальню на втором этаже. Уж не собирает ли она вещи, чтобы уехать? Если это так, то я буду испытывать стыд, но, к чему кривить душой, и облегчение тоже. Я включаю электрический свет, но он выглядит слишком угрюмо и я выбираю свечи. Завернувшись в плед, я пытаюсь читать, но мое внимание то и дело отвлекается на дождь.
Сначала редкие крупные капли барабанят по оставшемуся снаружи столику, пытаются стучаться в окна, потом им на помощь приходят другие, почаще и помельче, и, наконец, после очередной серии оглушающих раскатов грома, вода начинает литься стеной. Вспышки молний пугают меня своей силой и безмолвием, удары грома опаздывают на несколько секунд. Сначала вспышка, потом звук. Свечи дрожат и плавятся от сквозняка, пытающиеся следить за строчками глаза быстро начинают болеть от плохого освещения и я откладываю книгу.
Я вспоминаю вчерашние слова Арно о том, что дождь — это время для себя, чтобы подумать, оценить прелесть жизни. С подумать проблем не возникает, но вот прелесть жизни привычно ускользает от меня. Более того, с каждым ударом грома меня преследует все усиливающееся чувство неминуемо надвигающейся беды. Мне кажется, что все безумства природы, будь то бури, землетрясения, шторма или цунами — есть проявления воли Бога и что-то значат, другое дело, что мы просто не в состоянии правильно интерпретировать их смысл. Почему шторм решил начаться именно сегодня? Нет ли в этом какого-то дурного знака, метафорического предзнаменования бури, ожидающей меня в самом ближайшем будущем? Как там переживает непогоду бедный Стас? В пещере даже нет двери: свечи, наверняка, задуло, и он сидит там, один, в сыром промозглом холоде, в кромешной темноте, подавленный толстыми каменными стенами, сочащейся водой, полный обиды и недоумения за мое вчерашнее решение, в страхе перед непонятным будущим, больше не согретым никакой надеждой.
Внезапно меня озаряет. Почему, собственно, я должна принимать решение за двоих? Ладно, я хочу покоя, который невозможно будет получить в бегах, но у Стаса совершенно другие планы и желания, и кто дал мне право решать за него? Выход, простой и очевидный, внезапно приходит мне в голову. Разумеется, я могу поехать в Бангкок, снять деньги, отдать Стасу и позволить ему самому выбрать, что делать. Он может вернуть их владельцу и остаться со мной, или же бежать с ними один, а я спокойно вернусь в Москву. Денег у меня нет, где Стас, я искренне не знаю, и Тащерский оставит меня в покое. На что жить, — вопрос почему-то меня ничуть не беспокоит. Я опять открою галерею. Сначала буду брать заказы от старых клиентов, потом накоплю средства и сниму помещение. Может, не такое шикарное, но зато это будет не магазин, а действительно галерея. Или поступлю наоборот: поеду в Москву, быстро доделаю ремонт, сдам квартиру, а на вырученные деньги вернусь обратно на остров и проведу остаток своих дней в «Вилле Пратьяхаре».
Радость от, как мне кажется, правильного решения переполняет меня. Спрыгнув со стула, я кружусь по комнате, но мне тесно, и я распахиваю входную дверь, впускаю в дом свежий ветер и брызги, летящие от камней. Дождь все еще льет стеной, но почему-то больше не кажется ни угрюмым, ни зловещим, ни предвещающим что-то нехорошее. Выбежав на террасу, я широко раскидываю руки в стороны и зажмуриваюсь. Струи хлещут меня в лицо, немного больно, но в целом почти весело, будто смывая с души тяжелый камень, умывая, причащая ее.
Благословенен круговорот воды в природе. После дождя нагретые за день скалы начинают отдавать долги небесам, воздух напитан влажными испарениями, кажется, что его можно пить, настолько он сочный, вкусный.
Из-за туч темнеет сегодня раньше обычного. Поужинав сэндвичами с тунцом и луком и запив все это бутылкой вина, мы сидим с Жанной на террасе и смотрим на море. Кризис миновал и Жанна уже понемногу начинает со мной разговаривать. Еще не очень тепло, но хоть как-то.
— Комарье достало, — говорит она и хлопает себя по колену. — Удача! Девять-семь!
Последние полчаса моя подруга, заскучав от обычной охоты на комаров, открыла им счет. Ее очки складываются из убитых ею, их — из безнаказанных укусов. Кучка убиенных длинноногих жертв валяется на полу слева от ее стула. (Да-да, сегодня мне удалось первой занять свое кресло!).
— Кто ведет? — интересуюсь я.
Меня не кусают. Я не вкусная. Какой-то не тот тип крови, или, как выразилась любезная Жанна, я «полна говна». Собственно, с этой реплики, которую я молча проглотила дабы не осложнять и без того непростое наше сожительство, она и начала сегодня со мной разговаривать.
— Кто ведет? Я, разумеется, кто ж еще?
— А тех, которых ты убила уже после того, как они успели тебя укусить, ты как считаешь?
— Как свою победу. А что? — Жанна бросает на меня укоризненный взгляд. — Вон же они валяются мертвые на полу, а я живая. Значит, победа моя. Смотри, у тебя у колена вертится жирный какой! Вот, гады, повылазили после дождя!
Я нагибаюсь и изучаю свою ногу. Секунду назад меня будто что-то действительно кольнуло в икру, но комариного следа не видно, и вроде бы не чешется.
Раздается громкий хлопок в ладоши.
— Десять-семь! Этого взяла в лёт! Даже присесть не успел, гадина!
Мне почему-то вспоминается, как мы познакомились с Жанной. Лет двадцать назад. В Москве стояли жуткие морозы, воздух хрустел от холода, я возвращалась домой и пропустила последний автобус. Улицы были по-январски безлюдны, а мне еще на беду пришло в голову сократить расстояние, срезав по темным дворам, и я вышагивала одна, пугаясь каждого звука, когда заметила сзади шаги. Я пошла быстрее, шаги тоже. Я завернула, они завернули. Но окончательно я убедилась в том, что человек действительно преследует меня, только когда он повторил за мной крайне нелогичную восьмерку по дворам, приведшую нас практически в исходную точку. Меня пронзило ужасом. «Комсомольская правда» буквально пестрела ежедневными статьями про маньяков и убийц. Уже не скрываясь, я побежала. Шаги сзади тоже прибавили хода, слышно было, как снег скрипит под их тяжестью. Дьявол, ведь просил же папа меня звонить, если я возвращаюсь поздно одна! Уже ничего не соображая, я галопом забегаю за угол дома и почти врезаюсь в незнакомую девушку. «Там! Маньяк! Сзади!» тараторю я, вращая глазами и увлекая ее за собой, но девушка оказывается не из робких. «Глупости какие!» говорит она и внезапно становится на четвереньки. Рыжие волосы выбиваются из-под белой меховой шапки, искусственная шубка у нее тоже белая и на редкость мохнатая, и только варежки черные, похожие на лапы белого медведя. Подкравшись к краю пятиэтажки, она замирает и прислушивается. Шаги (теперь их слышно совсем отчетливо) приближаются к углу и, не успевают толком завернуть, как девушка бросается вперед, прямо под ноги маньяку, истошно при этом рыча. Эффект превзошел все мыслимые ожидания. Мужчина отшатнулся, издал короткий вскрик, на миг схватился одной рукой за стену дома, другой за сердце, а, оправившись от первого потрясения, развернулся, закрыл лицо перчаткой и убежал. Проулюлюкав ему вслед что-то победное, девушка элегантно поднялась, стряхнула снег с коленей и ладошек и мило улыбнулась: «Это и был твой маньяк? Тьфу! Пошли лучше купим пива. Я — Жанна».
— Одиннадцать-семь! Я делаю успехи! — говорит Жанна. — Я всегда говорила, что главное в любом деле — это приноровиться, и все пойдет как по маслу. Нет ничего такого, чему не может научиться человек.
В ногу меня опять что-то кольнуло. Не укусило, а именно словно бы ударилось. Я свешиваюсь с кресла и рассматриваю все еще покачивающийся на полу мелкий камушек. Не успеваю я разогнуться, как прилетает еще один, на этот раз упав в нескольких сантиметрах от моей ноги.
— Погоди, — я встаю с кресла и, подойдя к краю террасы, вглядываюсь в темноту.
Из-за скалы высовывается Стас. Указательный палец выразительно прижат к губам, волосы растрепаны.
— Пойду проверю, не засорился ли дождевой слив за домом, — говорю я подруге как можно небрежнее.
— Чего это ты вдруг? Хочешь, я пойду с тобой?
— Нет, нет! Я сама.
— Как хочешь… Ни фига себе какая наглость! Укусил! Одиннадцать-восемь! Это ты меня отвлекла!
— Вот, вот, и я о том же, не отвлекайся, а то проиграешь. Их много, а ты одна.
— Ничего удивительного, я уже привыкла. Их всегда много, а я одна… — замечает Жанна философски, но остается сидеть на террасе.
Затолкав Стаса за большой валун, я присаживаюсь на корточки.
— С ума сошел? Зачем ты сюда приперся? — шиплю я.
— Ну ты же не пришла сегодня, — обижается Стас.
— Дождь был. А еды у тебя много должно было остаться.
— Точно?
— Что точно?
— Что из-за дождя не пришла?
— А из-за чего ты думаешь?
— Ну… — Стас берет меня за руку и внимательно ее рассматривает, потом поднимает глаза на меня. — Ты не обиделась? За… Ну ты понимаешь.
Я вздыхаю.
— Не обиделась.
— Да? — Его голос опять становится уверенным. — Ну и прекрасненько! Детка! Я подумал. Ты во всем была права. Надо вернуть деньги. Ты снимешь их со счета, в дорожных чеках, привезешь сюда и мы вместе позвоним Тащерскому. Это единственный вариант. Если возвращать деньги банковским переводом, это займет еще кучу времени. Так что он приедет за ними сам. Заберет чемоданчик с чеками и на этом все будет кончено. Я думал об этом, поверь мне. Другого решения нет, а то, что деньги надо вернуть, это ты была права.
Я не верю собственным ушам. Я была права? И я слышу это из Стасовых уст? Все мои терзания были напрасны?
— Мир? — спрашивает он и больно сжимает мою кисть.
Я выдерживаю паузу, но все-таки киваю.
— Тогда предлагаю его закрепить! — провозглашает он настолько торжественно, насколько это возможно шепотом. — Завтра же едем кататься на лодке! Помнишь, ты давно хотела? Да и мне тоже не повредит небольшая разгрузка, а то я засиделся, аж кости ломит. Пещеру эту я буду вспоминать до конца своих дней, чтоб ее, страшно представить, опять сейчас туда возвращаться!
Я медленно пытаюсь адаптироваться к нежданным хорошим известиям.
— Так, а зачем тебе пещера теперь? Ты же больше не в бегах. Деньги ты вернешь и бояться дальше нечего. Пойдем в дом. Я сделаю чай.
Я тяну его за руку и пытаюсь встать.
— Не сейчас, — резко останавливает меня Стас. — Сядь. Я не готов. И потом… как мы объясним твоей дуре, откуда я появился? Не-е-е… Днем больше, днем меньше, мне уже не столь важно. Я вернусь в пещеру, а ты молчи обо мне. Завтра поедем на лодке, придумаем план, как лучше объяснить мое появление, и после лодки вернемся уже вместе. Идет?
Я удивленно пожимаю плечами.
— Как хочешь…
— Да, да, именно так я и хочу. А ты пока молчи обо мне, запомнила? И жди меня в шесть у этого же камня.
— Почему в шесть? Не поздно для лодки? Почему не с утра? В семь же уже темнеет, — недоумеваю я.
— И отлично. Я… я просто хочу как романтичнее. Ну закат там, сама понимаешь. А днем я не могу. Я обгорю. Я весь белый.
— У меня есть крем…
В голосе Стаса опять появляется сталь.
— Детка! В чем проблема?
— Ни в чем, — спешу оправдаться я. — Просто все немного неожиданно. И кататься на закате…
— … очень романтично и достойно тебя, — перебивает Стас. — Так что жду тебя в шесть. Надуй лодку насосом и притащи сюда, мы скинем ее с камней, а сами нырнем. И еще… раздобудь нам шампанского и еще вот тут кое-что, я написал список. Справишься?
Я, не глядя, прячу бумажку с загадочным списком в карман и киваю. Стас привлекает меня к себе и целует в щеку. Ту самую, вчерашнюю.
— Больше не болит?
— Не болит.
— Тогда иди. А то эта идиотка переполошится. А, и вот, — он протягивает мне мою сумку. — Ты вчера забыла. И последняя просьба: подержи Жанну на террасе еще минут десять, я залезу через окно, пошарю на кухне чего пожрать.
— Давай я сама тебе вынесу?
— Нет, нет! Жанна заметит и заподозрит неладное. Иди. Я сам. Главное, проследи, чтобы она десять минут в дом не входила.
Удивительно устроен мир! — размышляю я, вернувшись в свое кресло. Не успела я перестроиться на позитивный лад и сообразить, что могу отдать Стасу его деньги и оставить ему самому решить, как поступить с ними, как эхом моим мыслям Стас уже тоже перестроился позитивно! Даже не дождавшись, пока я скажу ему о своем решении. Вот и не верь после этого в телепатию между близкими людьми! Меня распирает от счастья, что все разрешилось еще лучше и быстрее, чем я смела надеяться! Я плохо относилась к Стасу, не доверяла ему! Почему я думала, что он ничего не поймет?
— Что это ты вся светишься? — Жанна косится на меня с подозрением.
Меня распирает все ей немедленно выложить, но я решаю отблагодарить Стаса и сдержать слово молчать до завтрашнего вечера.
Я игриво пожимаю плечами:
— Ничего. Бывает, что просто так, ни с чего особенного, но жутко вдруг становится хорошо. Ночь тихая, воздух сладкий. У тебя разве не бывает?
— Не знаю… — неуверенно тянет Жанна, но тут же хлопает в ладоши. — Четырнадцать-десять! Опять в лёт!
К валяющимся на полу трупикам комаров протянулась тоненькая струйка муравьев. По двое-трое они обхватывают передними лапами комара, и пятятся в сторону толстой щели под дверью, отчаянно мешая друг другу и напоминая лебедя, рака и щуку.
Жанна потягивается:
— Пойду сделаю нам чай.
Я вздрагиваю и смотрю на часы. Прошло ровно десять минут, возможно Стас замешкался и все еще находится в доме.
— Не надо!
— Почему? — удивляется Жанна. — Я хочу чай.
— Я сама принесу. Расслабься, побудь моей гостьей.
— Или твоей обузой?
— Гостьей.
— Обузой.
Встав, я захожу в дом, но Стаса уже там нет, только распахнутое кухонное окно покачивается от сквозняка. Что за странный план с лодкой пришел ему на ум, и зачем все-таки до последнего скрываться от Жанны? И каким таким образом я завтра надую четырехметровую лодку, вытащу ее из дома, сброшу со скал и прыгну вниз сама так, чтобы рыжеволосая любопытница не сунула в это своего носа? Или услать ее опять к Арно? Хотя уж лучше к русским в отель, на Арно она может среагировать неадекватно. Или, наоборот, адекватно, и неизвестно еще, что хуже. Хотя все это уже не имеет никакого смысла. Я возвращаюсь к жизни со Стасом, уже завтра он будет спать в моей спальне, а француз, надо полагать, с этого момента окончательно исчезнет с горизонта. Оно и к лучшему, от него было слишком много суеты. Надо же, я чуть было всего не поломала, чуть было не потеряла контроль над собой.
Заварив два мятных пакетика, я медленно, чтобы не пролить кипяток, выхожу с кухни. В глаза бросается чуть приоткрытая дверь в кладовку. Видать Стас заглядывал туда проверить лодку. Сморщенная резина выглядывает из-под коробок на полу кладовки. Подойдя, я останавливаюсь и смотрю на нее в полной тоске. Хорошо если удастся найти насос, иначе вся романтическая затея сорвется. Хотя не думаю, что меня это сильно расстроит, план с катаниями на закате кажется мне немножко бредовым.
Прикрыв дверь, я выхожу на террасу.
— Э-э-э… — говорит Жанна немного странным голосом. — Тут пока тебя не было… произошло небольшое… э-э-э…
Мне не нравится ее интонация. Аккуратно поставив чашки на столик, я разгибаюсь и смотрю на нее с тревогой.
— Короче… Вот там… — скашивает она глаза на пол слева от себя.
Я прослеживаю за ее взглядом. В первый момент я ничего не понимаю, но потом медленно, очень медленно до меня доходит, что это за тонкая ниточка, непонятный кусочек чего-то бежеватого так странно, будто маятник, дергается из стороны в сторону.
— Это… — начинаю я, похолодев, и тут замечаю замершую в темноте неподалеку кошку.
Поймав мой взгляд, она отводит назад уши, вздыбливает шерсть, предупреждающе шипит и пятится боком к краю террасы. Розовый язык несколько раз облизывает пасть. Мне мерещится, что сейчас она удовлетворенно рыгнет и осклабится.
Обежав вокруг столика, я присаживаюсь на корточки и наклоняюсь над все еще шевелящимся кусочком. Без всяких сомнений, это хвост, вернее то, что от него осталось. Светло-бежевый, кривой и нелепо короткий. Застонав, я задираю голову и вижу, что на крыше замерла всего одна ящерка, Полосатая. Моей любимой Короткохвостой нигде нет!
— Я увидела киску, — оправдывается Жанна, — подманила ее остатками сэндвича, она подошла, съела, потом вроде бы осталась посидеть, умывалась, облизывалась… Я не видела… Я же не обязана следить… Наверное, эта ящерица спустилась с крыши за убитыми комарами, они как раз тут валялись под моим стулом…
— Ты? Сама подманила эту хищную тварь?! — выдыхаю я, все еще не до конца осознавая случившееся.
Короткий огрызок хвоста, все, что осталось от моей любимицы — нежного ловкого создания, прикормленного мной, прирученного, с блестящими маленькими глазками и крохотными цепкими лапками — так и продолжает судорожно дергаться из стороны в сторону. В этих движениях есть что-то жуткое, я смотрю на них как завороженная, не в силах оторвать взгляда. Мне кажется, сейчас меня стошнит.
— Слушай, я не обязана следить за всеми этими твоими дебильными пресмыкающимися, — поднимает голос Жанна. — Ты могла бы сама этим заниматься, раз уж тебе так хочется.
— Я… Ты услала меня за…
— Никуда я тебя не услала! Я сама собиралась заняться чаем. Это ты настояла, что пойдешь сама!
— Я…
Я механически соображаю, что Жанна права, я сама вышла сделать чай, потому что так надо было Стасу. Надо же, именно в это время Жанне приспичило чай, и именно когда я вышла, пришла эта драная кошка, и вместо того, чтобы ее прогнать, Жанне взбрело в голову подманить ее тунцом! А глупая ящерка выбрала именно этот момент для того, чтоб спуститься за лакомыми комарами. Какое дикое, нелепое стечение обстоятельств! И вот результат. Моя нежная и трогательная любимица мертва, причем не просто, а съедена заживо, почти у меня на глазах! Кто в этом виноват? Стас, затеявший весь этот цирк с отвлеканием Жанны? Жанна, зачем-то подозвавшая кошку? Сама чертова кошка? Или я? Я опоздала на какие-то секунды, максимум на полминуты! Не замешкайся я у кладовки! Не уставься на дурацкую лодку!
Хвост постепенно затихает, перестает дергаться. Не осмеливаясь оттолкнуть его ногой, Жанна смотрит на меня чуть ли не с вызовом:
— Выбросишь или хоронить будем?
Я сажусь в кресло и закуриваю. Потом встаю, тычу недокуренной сигаретой в пепельницу и опять подхожу к останкам моей любимицы. Оставить их здесь тяжело. Выбросить в помойку не поднимается рука. Хоронить как-то нелепо и слишком трагикомично. Я замираю в нерешительности.
— Будем носить цветы на могилку, — продолжает Жанна.
Двумя пальцами я поднимаю хвостик, делаю круг по террасе и, наконец, бросаю его в море.
Чаще всего именно так и бывает, — не виноват никто. Просто «так сложилось». Упс… На сердце легла тяжесть и ощущение надвигающейся беды, настроение снова безнадежно испорчено.
30
Насос в кладовке таки нашелся. Вытащив надутое четырехметровое чудо на край террасы, кинув на дно два пластиковых весла и вытерев влажный лоб, я морщусь и оглядываюсь по сторонам. Солнце уже перевалило за гору и через час откровенно стемнеет. Затея кажется все все бредовее и бредовее.
Ровно в шесть из-за скалы раздается короткий свист.
— Можешь спокойно выходить. Жанна ушла провожать друзей, съезжающих из отеля, — говорю я.
— Ого! Первая удача!
Стас по-воровски озирается и вылезает из своего убежища. На нем нет ничего, кроме плавок. Сиреневых. Очень неудачно подчеркивающих голубизну его бледного тела. На груди алеют два воспаленных прыщика, один из них с беловатой гнойной головкой. Лицо покрывает нездоровый румянец, отросшие волосы всклокочены и торчат во все стороны, во взгляде мелькает недавно появившаяся там безуминка (след пещерной жизни?).
— Выглядишь ты просто супер, особенно для романтической прогулки по воде, — говорю я.
Стас осматривает себя с головы до ног, сковыривает отросшим ногтем гнойник на груди и брезгливо вытирает палец о плавки.
— А что ты хочешь? Сама б поработала пещерным человеком.
Я только вздыхаю.
— Может, ну ее, эту лодку?
— Не-не-не, дд…ддетка… — Стас подталкивает меня к краю террасы. — Все уже решено. Шампанское раздобыла?
Я показываю на торчащее из сумки горлышко.
— Пришлось покупать у Лучано. У него после русских весь отель в шампанском и коньяке. Уступил мне по дешевке.
— Русских? — настораживается Стас.
— Ну да. Жанна с собой притащила. Не беспокойся, они сегодня уезжают. Вчера хотели, да дождь помешал. Если выглянуть со второго этажа, то их прекрасно видно. Выезжают с такой же помпой, что и заезжали. На четырнадцатиметровой яхте.
— Ниче-ниче… И у нас тоже такая будет. Не вечно будем на веслах-то грести. Держи свой край. Раскачиваем и на счет три бросаем. Поняла? Поехали. Раз. Два. Три!
Лодка с брызгами шлепается в воду. Вслед ей летят весла, а затем и Стас.
— Ну, что встала? — орет он уже из воды. — Прыгай давай!
Я раздеваюсь до купальника и в нерешительности смотрю на свою одежду.
— Оставь ее там. Нафиг она тебе на лодке? Главное, шампанское кидай метко, если промажешь, сама за ним нырять будешь, — кричит Стас, уже забравшись в шлюпку и пытаясь приделать к бортам весла. — Давай-давай, поторапливайся! Прилив, воды дофига, рифы глубоко, не разобьешься. Эх, прокачу!
Последний раз оглянувшись на лиловые скалы и белеющую на их фоне «Виллу Пратьяхару», я прыгаю.
Втащив меня в лодку, Стас поворачивается спиной к горизонту и налегает на весла. Покачиваясь на небольших волнах, наше неустойчивое суденышко медленно набирает скорость. Сгущаются сумерки. Вода вокруг нас темнеет, становится из голубой темно-синей, почти черной. Рыбацкие баркасы на горизонте начинают зажигать прожектора.
— Далеко ты собрался-то? — спрашиваю я минут через десять. — Может, уже достаточно? Скоро совсем темно станет.
Стас оглядывается через плечо и всматривается в море. Впереди торчат острые макушки рифового барьера, за которым начинается настоящая глубина.
— Еще немного и приехали.
— Куда? Мы что, плывем в какое-то конкретное место?
— Сейчас увидишь… — гребец хитро подмигивает, не переставая работать веслами. — Сюрприз. Романтик у нас или не романтик? Можешь уже начинать доставать шампанское и то, что я еще просил.
Лодка поворачивает и направляется теперь прямо к опасно торчащим рифам. Я достаю стаканы и запотевшую, но все еще холодную бутылку.
— Не нравится мне все это, — говорю я, неуютно поеживаясь.
— Сейчас понравится, — опять подмигивает Стас.
Подплыв к рифам, он набрасывает на один из них веревочную петлю и лодка застывает на месте.
— Готово, — удовлетворенно потирает руки Стас. — Достала, что я просил?
Я недоуменно протягиваю ему кухонный нож и фонарик. Рассмотрев их и оставшись доволен, Стас откладывает их в сторону и берется за бутылку. Раздается праздничный хлопок и пробка падает в море. Пена наполняет припасенные мной стаканы, шипит, переливается через край. Стас встает, и мне кажется, что он даже немного волнуется.
— Дд…ддетка! Ты не представляешь, насколько этот миг важен для меня, — начинает он, торжественно подняв руку со стаканом. — Видит Бог, я всегда хотел бб…ббыть с тобой! Честное слово! Клянусь, чем хочешь! Ты знаешь, как я всегда зз…ззаботился о тебе. Всегда думал о нас двоих, поддерживал тебя, ничего для тебя не жалел. И всегда надеялся, что ты это оценишь и отплатишь мне тем же. Порой мы расходились с тобой во взглядах, и это нормально. Все так живут. Но это ничего. Главное, это то, что мы всегда находили какой-то компромисс, и то, что у нас было желание его находить. Не скрою, решиться на то, что я делаю сс…ссегодня, мне было очень непросто. И это мягко сказано. Дико, нечеловечески непросто! Но ты не оставила мне никакого выбора и… Короче, все, что не делается, к лучшему! За нас! И за то, что бы у нас все было хорошо!
Мы чокаемся, и Стас залпом осушает свой стакан. Я делаю несколько глотков и рассматриваю поднимающиеся со дна пузырьки газа.
— Почему ты говоришь о нас в прошедшем времени? — спрашиваю я.
— Разве? — удивляется Стас. — Не заметил. Не обращай внимания.
— Ты действительно согласен, что я правильно решила про деньги? То есть ты не просто подчиняешься мне, а именно согласен с моим решением?
— Да, дарлинг. Все решения на самом деле принимаем не мы, а там… — он смотрит на небо, — за нас. И наше дело не сс…сспорить и смириться с неизбежным. Мне было очень тт…ттяжело, я сбил кулаки о стену, — Стас показывает запекшиеся ранки на костяшках рук, — когда ты ушла позавчера, я не спал всю ночь, я рычал от боли, не фф…ффизической, а душевной, но я все понял и смирился.
— И ты никогда меня в этом не упрекнешь?
— Никогда. Можешь мне верить.
— Я верю тебе. Просто, ты же понимаешь… покой дороже денег. Есть вещи в жизни, дороже денег. Да? Ты правда понимаешь?
— Разумеется, я все понимаю. Ты не могла по-другому.
— Да. Я просто не могла. От этих денег было бы одно зло. Мы бы расплачивались до конца своих дней, страхом, ужасом…
— Я понимаю. Даже больше, чем ты предполагаешь. Я не наивен. Пей!
Я допиваю оставшееся шампанское и Стас опять наполняет стаканы до краев.
— Пей еще! — командует он, и в его глазах начинают блестеть слезы.
Мои руки немного дрожат, Стасово волнение начинает передаваться и мне, на мои глаза тоже наворачиваются слезы. Мы выпиваем и Стас неловко наклоняется, балансируя в резиновой посудине, и неожиданно целует меня в губы. Долго. Не меньше минуты. Последний раз он целовал меня так лет шесть назад. Я обнимаю его за затылок, глажу пальцами его уши, шею.
— Хх…хватит, — отстраняется он, наконец. — Прости меня.
— За что?
— За все. Просто. Я правда люблю тебя. Ты мне веришь?
— Да.
— Ты поедешь в банк и снимешь все чеками, чтобы мы могли вызвать сюда Тащерского и он все забрал?
— Да.
— Ну и отлично! Тогда сюрприз! — провозглашает он и берет в руки нож и фонарик. — Устрицы в студию!
— Что?!
— Устрицы! Настоящие, свежее не бывает. Прямо со дна моря! К шампанскому!
— О господи! — восклицаю я. — Ты собираешься за ними нырять?
— Разумеется. Где же мы еще их возьмем?
— Может не надо? Темнота — вырви глаз. Бог с ними, Стас, пожалуйста! Я прошу тебя, не надо.
Но не обращая ни малейшего внимания на мои уговоры, Стас перегибается через край лодки и прыгает в воду.
— Откуда ты знаешь, что там на дне вообще есть устрицы? — спрашиваю я, когда он выныривает.
— Должны быть, — уверенно отвечает он, приглаживая мокрые волосы. — Да не волнуйся, ты же знаешь, я отличный пловец.
Густая темная вода смыкается над его головой и он исчезает. Какое-то время мне виден мутный свет от фонарика, шарящий по рифам. Но вскоре пропадает и он.
Проходит минута. Я нервно закуриваю. Что за идиотская идея! Полное мальчишество!
Еще полминуты.
Я встаю и всматриваюсь в воду. Сколько можно задерживать дыхание?!
Но уже перед тем, как я впадаю в панику, ловец устриц неожиданно выныривает с другого края лодки.
— Боже! Ну ты что?! Я уже начала волноваться!
— Детка! — отфыркивается Стас, переводя дыхание. — Не нашел. Дай мне еще попытку. Все будет хорошо, ты лучше пока выпей.
Повисев на краю лодки и отдохнув, он ныряет опять.
Я уже не присаживаюсь. Нагнувшись через борт, я слежу за фонариком. Но, как и в первый раз, достигнув определенной глубины, он исчезает из видимости. Море после вчерашнего шторма еще недостаточно очистилось, вода мутновата, к тому же уже совершенно стемнело, и разглядеть что-либо невозможно.
Проходит опять чуть больше минуты, но мне кажется, что время несется вскачь и Стаса нет уже целую вечность. Сердце набирает темп и начинает биться в груди, отмеряя секунды пережитого мной ужаса.
— Бля… — опять выныривает Стас.
Дыхание его сбилось сильнее, чем в предыдущий раз. Не в силах говорить, он тяжело дышит, повиснув на борту, отчего лодка опасно наклоняется.
— Все! Прекрати! Я волнуюсь!
Но Стас машет рукой:
— Глупости. Что может сс…сслучиться? Я отлично умею нырять. Если воздух кончится, я просто всплыву наверх. Я ж не дурак топиться? Хотя ты-то, конечно, держала меня всегда за дурака, да?
— Не неси бред! Вылезай! К черту эти устрицы!
— Держала. Я знаю. Тебе никогда не хватало ума оценить меня по достоинству.
Я хватаю его за плечо и пытаюсь втащить наверх, но он вырывается и отплывает в сторону.
— Еще один разик. Последний. Я уже почти нашел, что надо. Просто воздуха немного не хватило. Чао, детка, любовь моя!
— Да иди ты к черту! — восклицаю я раздраженно.
Меня совершенно не веселят такие забавы.
Опять проходит минута или около того. Я не берусь утверждать, что в состоянии точно оценивать время. Ни Стаса, ни луча от его фонарика нигде не видно. Я делаю несколько глотков шампанского прямо из бутылки и пена попадает в нос, пузырьки с газом неприятно покусывают горло и язык. Я отставляю бутылку и хватаюсь за пачку сигарет, но курить не хочется, я швыряю ее в сторону и начинаю метаться вдоль бортика. Я уже по-настоящему нервничаю.
Проходит еще минута, но ничего не происходит.
Еще одна.
Не может быть, что Стас способен на такие задержки дыхания! Что-то случилось. Он ударился о камни, от шампанского у него произошел микроспазм сосудов, да мало ли, что вообще может случиться с сорокалетним человеком после выпивки, да еще под водой!
— Стас! — зачем-то кричу я, хотя не уверена, что мой голос проникает под воду.
Черная гладь моря, похожая на нефть, на лакированную зеркальную поверхность, густая, плотная, словно выточенная из гранита, мерно покачивается, не нарушаемая ничем. Сколько я ни оглядываюсь, ни кручусь на месте, Стаса нигде не видно.
— Стас! Еб твою м…! Да что ж это такое-то, Господи!? Ста-а-ас!!! — ору я уже изо всех сил.
Но время идет, а море остается совершенно спокойным, его поверхность прорезана лишь торчащими тут и там макушками рифов.
Я начинаю плакать. Несколько раз взмахиваю руками, нервно оборачиваюсь вокруг собственной оси, не находя себе места, в тоске смотрю на небо, пытаясь понять, в курсе ли там, какой вопиющий бред у нас тут внизу происходит, и, наконец, ничего толком не соображая, прыгаю в воду.
Не сразу до меня доходит, что я гребу с закрытыми глазами, но, раскрыв их, я понимаю, что ничего не поменялось. В темноте под водой не видно ни зги! Я сильно отталкиваюсь ногой и она натыкается на что-то острое, вероятно на риф. Но я не чувствую ни боли, ни страха. Я потеряла способность мыслить. Хаотично двигаясь в полной темноте, я пытаюсь руками нащупать утонувшее тело. В какой-то момент мне приходит в голову, что Стас уже выплыл и ждет меня на лодке. Я отчаянно гребу наверх, выныриваю, но лодка пуста. Холодное отражение луны одиноко качается на поблескивающих пустынных волнах.
— Ста-а-а-ас!!!
Я продолжаю нырять снова и снова, с каждой попыткой все меньше веря в то, что мне удастся найти тело. В один из разов я достаю руками до дна, царапаю пальцы о жесткие камни, шарю по сторонам, но море выталкивает меня наверх.
Наконец, я сдаюсь. Тяжело дыша, я выныриваю, повисаю на бортике и перевожу дыхание. Мир вокруг сошел с ума, покрылся густым туманом, через который ничего не видно. Хотя нет, это я потеряла под водой контактные линзы, доходит до меня. Вместе со способностью мыслить, ко мне постепенно возвращаются и другие чувства. Я понимаю, что дрожу от холода. Вскоре к дрожи добавляется ощущение боли. Мои ноги и руки сбиты о подводные камни и из них сочится кровь. Я начинаю выть. В голос. Сначала звуки, вырывающиеся из моего горла, похожи на постоянно, на манер молитвы повторяемое имя «Стас», но вскоре они сливаются в один нечленораздельный стон, тоскливо разливающийся над черным морем.
Нащупав бутылку, я стучу зубами по горлышку, высасывая из нее остатки шампанского, но это не приносит мне никакого облегчения. Время, бежавшее до этого вскачь, теперь застывает неподвижно. Я не имею ни малейшего понятия, сколько я сижу вот так, обхватив колени руками и дрожа от шока, немыслимого горя и холода, тупо уставившись в окружающий меня туман. Десять минут? Полчаса? Час?
В конце концов, холод берет свое. Я словно пробуждаюсь ото сна, медленно выхожу из парализовавшего меня ступора и шевелюсь. Небо надо мной густо усыпано звездами. Я нахожу среди них Венеру. Мне кажется, она во всем виновата, это она сбила меня с толка, она как-то связана с французом, а он, в свою очередь, со смертью Стаса. В этом не просматривается никакой логики, но мне она и не нужна, я и так знаю, что не влюбись я в него, Стас был бы сейчас жив. Как я могла быть так слепа? Были же сплошные знаки! Падающая звезда, вчерашняя гибель ящерицы! Я отвлеклась на француза, упустила из внимания Стаса, я предала его, пусть только в мыслях, но кто сказал, что они недостаточно сильны, чтобы убить человека?
Как я добралась до берега, я помню слабо. Меня по-прежнему окружает туман. Он и внутри меня, и снаружи: без контактных линз я ничего не вижу. Я оглядываюсь на лодку, мягко пружинящую резиной о скалы. Больше она мне не понадобится. Никакие силы не заставят меня снова сесть в нее! Господи, почему у меня не хватило ума сказать Стасу, что я не смогла найти насос?! Как я могла позволить ему нырять в темноте?!
Не оборачиваясь и ничуть не заботясь о расцарапанных в кровь конечностях, я карабкаюсь наверх, пока не выбираюсь, наконец, на свою террасу. В доме горит свет. По всей видимости, Жанна уже вернулась.
Усталой тенью себя бывшей, прошлой, той, которая жила до того, как произошло сегодняшнее горе, я захожу в дом, добредаю до кухонных дверей и без сил прислоняюсь к косяку.
— Мать моя! — восклицает Жанна. — Ты похожа на привидение! Где ты была?
Гренки выскакивают из тостера и громко падают на стол. Я вздрагиваю.
— Что ты молчишь? — Жанна подходит ближе и заглядывает мне в лицо. — Что-то случилось?
Я тихонечко сползаю спиной вниз по косяку и оказываюсь сидящей на корточках. Жанна тоже присаживается и убирает с моего лица висящие, словно илистая завеса, спутанные морем волосы.
— Боже, Поль! Ты меня пугаешь. Почему ты вся в крови? И почему ты мокрая, в купальнике, ты плавала в море? Ночью? Одна? Тебя кинуло на камни? Что ты так смотришь? Ты можешь что-то ответить?
Я отрицательно качаю головой и у меня начинает трястись подбородок.
— Ну вот… Слез нам только не хватало! — Жанна берет мою голову в ладони и прижимает к себе.
Я чувствую, как от нее пахнет духами и теплом, и слезы действительно начинают течь по моим щекам.
— Ну вот… Ну поплачь. Сейчас я тебе чаю налью. Успокоишься и все расскажешь, да?
Ее волосы, гладкие, сухие, в тугих шелковистых локонах приятно щекочут мне лицо, и я утыкаюсь ей в шею, обнимаю за плечи и меня сотрясает от беззвучных рыданий.
Какое-то время мы сидим, обе на корточках, обнявшись, потом Жанна отстраняет меня, поднимается и подходит к кухонному столику.
— Я делаю тебе чай, — говорит она, отвернувшись и наливая кипяток в чашку. — Горячий. Давай поднимайся, пойдем в ванную, умоешься, примешь душ, заклеим твои порезы… Что б там у тебя не случилось, до свадьбы заживет. Прикинь, Стас такой раз и сделает тебе предложение, наконец? А ты как рева-корова тут сидишь, царапинам расстраиваешься.
— С… ссс… ссста-а-асс… — пытаюсь сказать я, но звуки булькают в горле и не получаются у меня.
— Что?
Я сглатываю и делаю вторую попытку:
— Ссста-а-а-ассс!
Жанна непонимающе моргает:
— Стас? Что Стас? Не веришь, что женится?
Я отрицательно мотаю головой.
— Ну… — разводит руками Жанна. — И хер с ним, с козлом, если не женится. Ты же не из-за этого плачешь?
Я судорожно киваю.
— Я тебя не понимаю. Ты можешь сказать-то нормально, что у тебя случилось? Что-то со Стасом? Он позвонил? Сказал что-то?
— Не-е-ет…
— А что?
Меня опять сотрясают рыдания, я тычу указательным пальцем в сторону моря и реву:
— Та-а-аммм… В мммо-о-оре… Ста-а-ас… Утон…ну-у-у-ул…
— Что?! Что ты несешь? Где Стас утонул? Какой Стас? Твой?
Я киваю и закрываю глаза. Слезы катятся даже сквозь плотно сжатые ресницы.
Жанна сует мне чай, сигарету, потом засовывает меня в горячий душ, растирает полотенцем, опять дает сигарету, коньяк, еще немного коньяка. Через полчаса я сижу в своей кровати уже более-менее вменяемая, хотя и опухшая от слез и все еще дрожащая. Нахлобучив на себя все имеющиеся в доме одеяла, я все-таки собираюсь с силами и поначалу слегка путано, а потом все яснее и яснее, рассказываю подруге о событиях последних дней, заканчивая тем, как я ныряла, ныряла, ныряла, там было темно, я ничего не видела, не видела, не видела…
— Пиз…! — наконец говорит Жанна, хлопая рыжими ресницами. — Только я так и не поняла, почему Стас от меня прятался-то?
Я понимаю, что скрывать больше нечего, самое худшее из всего возможного уже случилось, и выкладываю подруге про украденные деньги, Тащерского и наш со Стасом спор касательно планов на будущее.
Жанна трясет головой, словно отгоняя от себя весь этот нереальный бред.
— И где сейчас эти деньги? — переспрашивает она, наконец.
— Все там же. В банке.
— На твоем счету? — Уточняет она, и мне неожиданно перестает нравиться ее взгляд.
— На моем, на моем, я же сто раз уже сказала!
Жанна встает с кровати и отходит к окну. Ветер слегка колышет ее волосы.
— Не понимаю… — говорит она словно сама себе, стоя спиной ко мне и глядя на море.
— Что не понимаешь?
— Почему все это везение сваливается вечно на кого попало, но только не на меня?
Теперь я не понимаю.
— Какое везение? — сглатываю я.
— Какое? Такое! Десять миллионов на твоем счету, это что по-твоему? Не везение?
— Девять, — зачем-то уточняю я.
— Да хоть восемь.
— И что?
— А то, что смерть Стаса, конечно, ужасна, но в общем-то она ничего не меняет.
— В каком смысле?
— В простом. Собственно, в единственно возможном. Деньги у тебя, а значит ты свободна! Все! Отмучалась. Отстрелялась.
— Так деньги ж не мои? — все еще не понимаю я. — Их же красть надо! Бежать с ними, прятаться где-то на всю жизнь…
Жанна оборачивается и меряет меня уничижительным взглядом:
— Ну вот о том и речь. Что несмотря, на то, что у меня есть и смелость, и сила, и… все остальное, везет почему-то всегда не мне. У тебя еще ума хватит деньги вернуть, да?
— Да, — говорю я. — Я так и собиралась.
— Ню-ню, — говорит Жанна и опять отворачивается.
В неожиданно повисшей паузе становится слышно, как море плещется о скалы у подножья террасы. Еле слышно, шуршит и колышется тонкая белая занавеска. Жаннины пальцы барабанят по подоконнику.
— Если тебя смущает то, что Стас умер и тебе не осилить все это одной, то я готова, — говорит, наконец, она.
— Готова на что?
— Не идиотничай. Ты все понимаешь.
— Бежать со мной?
— Ну да. За половину, разумеется. Не за просто так рисковать жизнью. Сначала поселимся вместе, чтоб не так страшно было, а потом, если не сложится или… не знаю… найдем мужиков, захочется жить порознь, то делимся пополам.
Я тоже встаю с кровати и подхожу к окну. Одеяло тащится за мной по полу длинным шлейфом.
— Ты серьезно? — спрашиваю я.
Жанна оборачивается и смотрит мне в глаза.
— Если половина тебе кажется много, то могу и за треть. Мне в Москве делать больше нечего. Меня ничего не держит. Все там кончилось. Никаких чудес и подарков больше нет и не будет.
— Я знаю. Мне уже Стас говорил…
— И?
— Ты сошла с ума.
— Ну я так и думала. Забудь. Я ничего не предлагала. Беги одна. Бери себе все, и Арно еще прихвати! Смотри только, не подавись от жадности!
Не обращая на меня больше никакого внимания, Жанна проходит мимо. На лестнице слышны ее шаги, удаляющиеся вниз. Хлопает дверка кладовки. Наверное, она достает себе очередную бутылку вина. Моего. За все пребывание на острове Жанна не потратила ни одной своей копейки на еду или выпивку. Если у кого-то что-то есть, то он обязан поделиться. Революционная логика. Раскулачивание. Последние восемьдесят лет у нас это в крови. И она еще укоряет меня в жадности?
Я перевешиваюсь через перила и кричу вниз:
— Ты что, мне не веришь? Думаешь, я собираюсь убежать одна?!
— Какая разница, верю я тебе или нет? Ну, верю.
— Тогда что? На что ты обиделась? У меня нет ничего, в точности как у тебя. Даже хуже, в отличие от тебя у меня нет работы. И родителей нет. И, похоже, друзей, способных меня понять, тоже…
— Завтра я уеду, — отвечает снизу Жанна. — Твой эгоизм невыносим! Не себе, так никому, да? Если ты такая бессеребрянница, что десять миллионов тебе не нужны, то могла бы подумать о подруге, наконец! Мне они нужны! Понимаешь?!
— Не понимаю! Украсть их, чтобы отдать тебе?!
— А что, тебе слабо вникнуть в мою жизнь и хотя бы раз в жизни помочь подруге?
— Но не ценой же собственной жизни?
— Вот я и говорю. Эгоизм! Чао!
— И это у меня после этого эгоизм?!
— Чао-о-о…
Входная дверь захлопывается с такой силой, что по моей шаткой «Вилле Пратьяхаре» пробегает дрожь. Я возвращаюсь в кровать и падаю ничком, утыкаясь лицом в простыни. Я ни о чем не думаю, не плачу, меня здесь просто больше нет.
Просыпаюсь я от громкого стука. Дом погружен в темноту и я не понимаю сколько сейчас времени. Спотыкаясь, я бреду вниз и открываю дверь. На пороге застыла изящная фигурка босоногого Тхана.
— Хозяин просил передать вам вот это.
Мне в руки суется тяжелый пакет.
— Что это?
— Фрукты, оставаться после русских клиентов. У нас портиться. Никого нет, чтобы кушать.
— А-а-а… — говорю я. — Спасибо.
И захлопываю дверь. На кухне капает вода из незакрытого Жанной крана. Механически я выключаю его и опять поднимаюсь в спальню. В окно мне светит почти полная луна. Закрыв ставни, я плюхаюсь в кровать и опять погружаюсь в сон. И опять ненадолго.
В дверь снова стучат.
Чертыхнувшись, я спускаюсь и открываю. На пороге стоит Сэм.
— Который сейчас час? — щурюсь я на его фонарь.
— Половина десятого.
— Всего?! Я думала уже хотя бы…
Сэм выглядит растерянным и испуганным.
— Я разбудил?
— Нет… Да… Не важно. Что случилось?
Немец скашивает глаза на каменистую террасу позади себя, где в темноте громадой возвышается что-то объемное.
— Лодка. Я вытащил. Я видел, как ты приплыла на ней. А теперь она болталась посреди моря. Я подумал, отвязалась, море утащило. Сплавал и притащил на берег.
— О-о-о… Я не хочу ее видеть. Забери себе.
Сэм моргает.
— Правда, забери ее. Она мне больше не нужна.
Пожав плечами и поклонившись на тайский манер, он уходит. Я закрываю дверь на ключ и возвращаюсь наверх.
К тому времени, как дом опять начинает содрогаться от стука, я почти успеваю снова впасть в спасительное забытье.
С приторной улыбкой я распахиваю дверь и чуть не сбиваю с ног крошечную тайку. Несмотря на то, что они все для меня на одно лицо, на этот раз я уверена: эту я точно вижу впервые.
— Мадам не заплатила за массаж, — говорит она, смотря снизу вверх.
— Это ошибка. Я не хожу на массаж.
Я пытаюсь закрыть дверь, но тайка пищит:
— Не вы. Другая мадам. С красными волосами. Она приходить два раз и всегда забывать кошелек. Сказать, что она живет здесь.
— Сколько?
— Четыреста батт.
Я возвращаюсь на кухню, достаю из сумки кошелек, отсчитываю деньги и, вернувшись, сую их девчонке.
— Здесь пятьсот, — говорит она.
— Это на чай. И, пожалуйста, передайте деревне и вообще всем, кого вы встретите, ЧТО МЕНЯ НЕТ! — ору я. — Я СПЛЮ, УШЛА, СДОХЛА, НАКОНЕЦ! ХВАТИТ СЮДА ТАСКАТЬСЯ! КАКОЙ-ТО ПРОХОДНОЙ ДВОР, А НЕ ПРАТЬЯХАРА!
Тайка испуганно ретируется. Я злобно выглядываю наружу, проверить, не несет ли ко мне еще какого-нибудь визитера. Но нет, подсвеченные луной камни пусты. Громко хлопнув дверью, я проворачиваю ключ на несколько оборотов и в полном изнеможении присаживаюсь на стул в гостиной.
Сон окончательно перебит, но бодрствовать я не желаю категорически. Мне вообще не хочется жить. Ни здесь, ни нигде еще. На миг я жалею, что утонула не я. Слезы опять наворачиваются на глаза, и я даже не пытаюсь их остановить. Какая разница? Последовав Жанниному примеру, я иду в кладовку и достаю себе вина. Бутылка пыльная, как из французских погребов. Последние крохи Стасовой коллекции, по сути, — все, что от него осталось. Я начинаю плакать сильнее. Вспоминать о Стасе и о том, что случилось сегодня, у меня нет сил. Он умер. Все кончено. Я ничего не могу изменить.
От слез мир двоится в глазах, но это не мешает мне миллион раз открыть и захлопнуть обратно каждый из кухонных ящичков, и все это для того, чтобы с мрачным удовлетворением убедиться в очередной досадной новости: уходя из дома, рыжая мерзавка прихватила с собой штопор. Господи, зачем он ей на улице?! Выпивает одна в горах? Глотая соленую слюну, я сажусь на пол прямо в коридоре и все еще зажатым в руках ключом проталкиваю пробку внутрь, но она, разумеется, (кто бы в этом сомневался?) — крошится и застревает. В сердцах я отшвыриваю бутылку. В темноте раздается звон разбившегося стекла.
Словно подбитый зверь, на карачках забравшись по лестнице наверх, я падаю в кровать, сворачиваюсь в клубок, утыкая колени в подбородок, не глядя, шарю вокруг рукой, наваливаю на себя гору одеял и опять проваливаюсь в тяжелый сон. Густой, он обволакивает меня, смыкается надо мною, словно темная вода над головой Стаса.
31
На небе нет ни облачка. Вероятно, палит солнце, как обычно играя золотистыми бликами на поверхности моря, переливаясь лучами на убийственно-салатовой тропической листве, отражаясь сверкающими зайчиками в гигантских круглых солнечных очках Жанны, всматривающейся в горизонт, откуда должна вот-вот приплыть лодка-такси, но я ничего этого не вижу. Перед моими глазами будто застыла мутная пленка, туманная пелена. Мир для меня поблек. Я смотрю на него словно сквозь черную вуаль траура. Рядом с моей подругой стоит, зарывшись носом в песок, новенький и такой же рыжий, как и его хозяйка, кожаный чемодан, перепоясанный ремешком. В нем в полном порядке лежат изумрудные платья, флаконы духов и разноцветные босоножки. Не хватает лишь той пары на шпильках, унесенных в море в ночь Жанниного несчастья после русской вечеринки. Жанна не смотрит на меня и почти не разговаривает. И, если честно, меня это совершеннейшим образом устраивает.
Лодка задерживается. Подходит Лучано.
— Я слышал, тело так и не вынесло до сих пор на берег?
Я отрицательно качаю головой, продолжая всматриваться в горизонт.
— Возможно, если бы поиски начались еще вчера?.. — говорит он с сомнением.
Я опять мотаю головой:
— Когда я вернулась, прошло уже не менее часа с того момента… Ничего уже нельзя было сделать. К тому же… Я настолько ничего не соображала… Мне даже не пришло в голову… Да я и не верила…
— Ну да. Разумеется. Полицейский сказал то же самое. Ты ни в чем не виновата. — Он берет меня за руку. — Мне ужасно жаль, все это дико и… и просто невероятно.
Я киваю.
Слухи о случившемся быстро распространились по всему пляжу. Утром приезжала полиция, спасательная команда, даже откуда-то притащились аквалангисты, но никаких останков Стаса обнаружено не было. «Наверное, унесло в море, оно — штука опасная», — сказал главный полицейский и сплюнул сквозь гнилые зубы. Это был тот самый коротышка, что приезжал и после смерти писателя. «Или выбросит вскоре волной на берег, или дня через три крабы сожрут» — добавил он, покачиваясь вперед-назад на стоптанных каблуках, и мне померещились в его интонации нотки, напоминающие извращенное удовольствие. Действительно, туристы в последнее время мрут как мухи на всех этих тропических островах.
— Что-то здесь много стало случаться смертей, — говорит Лучано, словно прочитав мои мысли.
— Проклятое место, — соглашается Жанна и, передернув веснушчатыми плечами, закуривает.
Наконец, лодка показывается из-за края горы, огибающей нашу бухту. Откуда-то, по-кошачьи незаметно, подходит Арно. Жанна косится на него, но решает все-таки не оборачиваться. Подождав пару секунд и пожав плечами, он встает рядом со мной.
— Я обо всем слышал, — говорит он и, так же, как и все этим утром, добавляет: — Мне очень жаль.
Я опять киваю. Мне совершенно ни с кем не хочется сегодня разговаривать. Да и что я могу сказать? Что мне тоже «жаль»? Когда случается что-то настолько ужасное, становится очевидна нелепость слов: пустых, плоских, никогда ничего по-настоящему не выражающих.
Мы стоим, выстроившись в ряд вдоль моря, руки засунуты в карманы, только Лучано, нарушая симметрию, все еще держит мою кисть в своей большой ладони. На всех нас без исключения надеты солнечные очки. На Жанне — шикарные, с большими золотыми нашлепками, на Лучано — сдержанные, консервативные, в тонкой металлической оправе, у Арно они выдержаны в модном пару лет назад авиаторском стиле, мои — самые здесь простые, коричневые, обычной овальной формы — куплены на местной толкучке за три доллара взамен московских, дорогих, давно потерянных. Таких же потерянных, как и вся остальная моя московская жизнь. Все кончено, все навсегда испорчено, полностью разрушено.
Задрав нос против волны, лодка приближается к берегу. Нам уже слышен рев мотора.
— Погодите! — кричит Ингрид, выбегая на пляж и таща за собой упирающийся чемодан.
За ней семенит, пытаясь помочь ей, Тхан, но она почему-то отталкивает его и отчаянно машет руками.
— Узнав, что Жанна уезжает, Ингрид тоже решилась поехать за компанию. Сказала, здесь стало тоскливо и грустно, и она лучше проведет пару оставшихся до ее рейса дней в Бангкоке… — поясняет Лучано и кричит взволнованной старушке: — Не бойтесь, без вас такси никуда не уплывет!
Через минуту чемодан и его запыхавшаяся хозяйка находятся рядом с нами. Ингрид так и не дала Тхану помочь себе, прогнала его со словами: «Иди, иди, ступай себе, надоели вы мне все, тайцы, Тайланд ваш… Домой хочу!»
Тяжело дыша, шведка переводит дух и обращается ко мне.
— Невероятное горе! Полный кошмар! У меня просто нет слов.
— Да, да, — привычно киваю я.
За сегодняшнее утро я уже привыкла постоянно кивать, выслушивая бесполезные соболезнования.
— И ты, бедолажка, за ним сама ныряла! Все произошло прямо у тебя на глазах!
— Да, да…
Ингрид вытирает пот рукой и снимает свои очки. У нее они старомодные, квадратные, мужские, как она пояснила мне когда-то, оставшиеся еще от мужа. На миг сквозь застилающую мир мрачную пелену я вижу яркую голубизну ее глаз, но, сощурившись от солнца, она опять водружает очки на нос.
— Может быть, и ты с нами поедешь? Зачем тебе оставаться? — предлагает она. — Такси подождет…
— Спасибо, — отказываюсь я. — У меня еще остались тут небольшие дела.
Ингрид понимающе кивает.
— Конечно. Но… хоронить-то, выходит, некого? Тру… Я хотела сказать, тело не нашли?
За меня отвечает Лучано:
— Еще есть надежда, что его вынесет со временем на берег. Если, конечно, крабы его не… Иначе ей даже не получить справку о смерти. А это всегда неудобно в практических вопросах, ну… когда кто-то считается не умершим, а пропавшим.
— О да, разумеется! — соглашается шведка.
Все испытывают неловкость от моего присутствия. Я, словно заразу, занесла горе в наш маленький райский уголок, и теперь на мне лежит вина за испорченный день. Или дни. Два? Три? Сколько люди хранят память о чужой смерти? Тема эта современным человечеством традиционно обходится стороной как неприятная, досадная, даже раздражающая из-за того, что невольно служит напоминанием о том, чего каждому из нас не избежать.
— Я тоже скоро уеду, — говорю я, чувствуя потребность оправдаться. — Пробуду здесь не дольше недели, возможно, меньше. Мне пора в Москву. Работу искать надо. Много дел.
— Ню-ню. Идиотам закон не писан, — еле слышно комментирует Жанна, не оборачиваясь.
Мы молча наблюдаем, как лодка утыкается днищем в песок и замирает, покачиваясь от ударов небольших волн.
Старушка прижимается ко мне и три раза целует меня щекой в щеку. Жанна бросает на меня короткий, но задуманный как «выразительный» взгляд и не целует. Вообще не подходит, просто бурчит сквозь зубы: «Счастливо оставаться». Выскочивший из лодки таксист уже выбросил на берег привезенные для Лучано продукты и начинает перекидывать через борт чемоданы уезжающих. Жанна и Ингрид снимают обувь и заходят по щиколотку в воду. Арно заворачивает штанины повыше и, тоже подойдя, подает старушке руку, помогая ей забраться внутрь шаткого суденышка.
— А то, может, все-таки поедешь с нами? — еще раз с надеждой спрашивает меня Ингрид, устроившись на доске, служащей сиденьем, и на всякий случай крепко вцепившись обеими руками в борта.
— Нет. Спасибо. Через несколько дней.
— Ну смотри. А то скоро полнолуние. — Шведка опасливо косится на голубое небо. — На полнолуние вечно все не слава Богу. В смысле, и так-то все уже нехорошо… А к полнолунию и того бывает хуже.
— Типун вам на язык, — говорит Лучано.
— Да, да, верно, это я что-то не то, как обычно, сморозила, — поспешно извиняется Ингрид и крестится.
Жанна молча отказывается от руки Арно и сама забирается в лодку. Таец отталкивает судно от берега, разворачивает носом к горизонту, ловко запрыгивает и дергает за веревку, заводя мотор.
— Ну, с Богом! — говорит Лучано и машет рукой.
Я тоже поднимаю свою руку и, забыв помахать, просто держу ее поднятой над головой.
— К черту! — кричит Ингрид и лодка трогается.
Несколько раз опасно прыгнув на волне, она выравнивается и бодро удаляется от берега.
— Хорошо еще с погодой повезло, — говорит Лучано, когда пассажиры уже не могут нас слышать. — В шторма отсюда не выбраться. Кидает на рифы и в щепки, сколько лодок уже поразбивалось. Если богатые русские туристы поедут, построю тут нормальную пристань.
— Ну еще парочка таких русских групп, как была, и можно хоть аэродром строить, — замечает ему Арно.
Итальянец покашливает в кулак и ничего не отвечает.
Проводив глазами такси, пока оно не превратилось в маленькую черную точечку у горизонта, мы начинаем расходиться.
— Хочешь, доведу тебя до дома? — дотрагивается до моего плеча Арно.
— Не надо. Я сама.
— Как хочешь. Кстати, тут у меня осталось кое-что твое.
Он лезет в карман штанов и достает оттуда что-то маленькое и блестящее. Я подхожу ближе. На его ладони переливается на солнце мой браслетик с ключиком.
— Где ты его взял? — спрашиваю я.
Арно смотрит поверх своих очков, его глаза полны иронии.
— Там, где ты его потеряла.
Я беру браслет и кидаю на дно своей холщовой сумки.
— Выходит, ты все это время знал?
— Что? Что ты была там в ту ночь? Да. И дело не в браслетике. Я тебя видел тогда, в окно.
Ничего не отвечая, я разворачиваюсь и ухожу в сторону «Виллы Пратьяхары». Арно догоняет меня и идет рядом.
— Ты обиделась?
— Я? Нет.
— Обиделась.
— Почему ты его раньше не отдал?
— Не хотел делать этого при твоей подруге. Это бы всех выставило в дурацком свете, и тебя, и ее. Хотя… Напрасные старания, она все равно меня возненавидела.
— И, возможно, ей было за что.
— Ты так считаешь? И за что же?
— Ты переспал с ней и не обращал на нее после этого внимания.
— Это она переспала со мной. Она хотела этого гораздо больше, чем я. Так что, не знаю, на что можно было обижаться. По-моему, я сделал все именно так, как вы обе и хотели.
— Обе?
— А разве нет?
— Идиот.
— Не спорю. Но ты же получила удовольствие?
Я молчу.
— Получила или нет?
— Уходи.
— Сейчас уйду. Я просто хотел рассказать тебе одну историю.
— Поучительную?
— Вряд ли. Скорее, что-то объясняющую.
Я останавливаюсь и смотрю ему прямо в глаза.
— Рассказывай и уходи.
— Помнишь, я говорил, что жил с бабушкой на ферме, а там рядом была еще одна, побольше, на которой жили типа бывшие хиппи?
Я киваю и ковыряю ногой песок.
— На той ферме жила одна женщина. Она была немного похожа на мою мать. Такая же красивая, и так же пела вечерами долгие песни низким грудным голосом. Наверное, я тоже ей кого-то напоминал. Возможно, ее нерожденного сына. Она была намного старше меня. И…
— О, позволь мне догадаться. Она по-матерински тебя трахала?
— Прекрати свой цинизм, это признак слабости и вообще общей душевной убогости, человеческая защита от чего-то высокого и красивого, в чем никто ничего не понимает и на всякий случай презирает. Это же не твой случай?
— Не знаю, может быть и мой. Но извини. Я, наверное, просто не готова сейчас слушать про чужую любовь.
— А я не про любовь рассказываю. Сейчас сама увидишь. Короче, мы очень любили друг друга. Около двух лет мы почти не расставались. Она многому научила меня, и одно из самого важного, это не привязывать к себе людей. Она умела так аккуратно касаться тебя, будто бы тихонько вытирала пыль с любимых и очень хрупких вещиц на старом комоде, умела то, что уже давно всеми забыто, — любить, не нарушая тебя, не пытаясь тобой завладеть, подчинить, привязать, опутать обязанностями, животной зависимостью… Она умела брать, не беря. Ценить то, что есть, не впадая в человеческую жадность. Обычно людям всегда надо больше того, что у них есть…
— Это ты о Жанне?
— Не только. К сожалению, она в этом далеко не уникальна.
— Хорошо. А потом?
— Что потом?
— Ну, чем закончилась ваша любовь с…?
— Она умерла. Она была больна туберкулезом. Она знала об этом, он долгие годы выедал ее изнутри, но она отказалась превращать жизнь в ад, годами лечиться, ходя по врачам, валяясь в диспансерах. Она не держалась ни за что, даже за жизнь. Когда я закончил школу, она помогла мне уехать в Париж. Заставила принять деньги на учебу. И вскоре умерла.
— Ты страдал?
— Да. Она не хотела этого, сделала все, чтобы этого не произошло, вовремя убрала меня от себя, выгнала в Париж, но я тогда очень страдал.
— Ты приезжал на похороны?
— Да. Меня известили.
— Ты ездишь на ее могилу?
— У нее нет могилы. Даже этим она не хотела к себе никого привязывать. Не хотела, чтобы у людей было место, куда можно приезжать, грустить, сажать цветы. По ее просьбе ее пепел выкинули в Луару.
— Это та река, на которой ты вырос? На которой вы познакомились?
— Да, но это неважно. Все реки рано или поздно впадают в море, а моря смешиваются. Вода это жизнь, и, как и жизнь, она все-время куда-то движется.
— И после этого ты поклялся ни к кому больше не привязываться?
— Нет. Все время думать о себе, это эгоизм. Это неинтересно. Так делают все. Я поклялся в другом, никого к себе не привязывать.
— Понятно. Вывод ясен. Это все, что ты хотел сказать?
— Да.
— Тогда я пошла. И… тем более после этой истории… Я бы попросила тебя больше меня никогда не беспокоить. Я действительно скоро уеду отсюда. А пока…
— Я понял. Я в очередной раз сделаю все, как ты хочешь. И, по всей видимости, в очередной раз выйду неправ.
Я отворачиваюсь и иду к дому. Арно остается стоять посреди пляжа. Вода (которая, по его словам, есть жизнь) тихо плещется у его ног.
Вечером я сижу на своей террасе и держу всего один фонарик. Второй лежит рядом на столике невостребованный. Из всех моих питомиц у меня осталась только Полосатая. Та, которую я так не любила раньше. Теперь все поменялось, и я с особой тщательностью направляю луч света, показывая ей на мошек, и подкладываю на ее пути самых жирных убитых мною комаров. Последние полчаса я борюсь с ощущением, что кроме нее у меня во всем белом свете никого не осталось. Ни родителей, ни друзей, ни мужчины. К Арно меня не тянет совершенно, даже наоборот, я действительно намерена приложить все усилия, чтобы нигде не пересечься с ним до своего отъезда. Несмотря на то, что теперь я полностью свободна от своих обязательств перед Стасом, а досадная помеха в виде путающейся под ногами Жанны устранена, мне больше ни капли не хочется «складывать пазл» вместе с французом, и тот пресловутый и так у меня и не получившийся «разговор, который возможен только после , в кровати», о котором я столько мечтала, меня тоже совершенно больше не интересует. Меня не оставляет ощущение, что мы оба, я и Арно, как-то замешаны и повинны в том, что произошло.
Вместе со Стасом умерла какая-то частичка моей души, из нее будто что-то вытерли грязной, кухонной, пропитанной плесенью тряпкой, и осталась лишь глухая гудящая боль от образовавшейся пустоты и полная потеря интереса к миру. Сегодня я не купалась, почти ничего не ела, не убиралась после бардака, оставленного в спешке собиравшейся подругой. Несмотря на то, что из всех чувств, связанных с ее отъездом, преобладало все-таки облегчение, меня нет-нет, да и мучили короткие уколы совести за то, что я дурно с ней обошлась. Весь день я провела, сидя в своем кресле и тупо глядя на мерно покачивающиеся волны. Возвращенный мне браслетик золотой змейкой свернулся на столике, там, куда я его швырнула. Брать его в руки мне почему-то неприятно. Даже смотреть на него неприятно. Когда что-то умирает, то остается лишь трупный запах. Из-за Стаса я не могла себе разрешить быть с Арно, но после его смерти, причем такой вопиюще ужасной, дикой, несуразной, я тем более не могу позволить себе даже приблизиться к французу. Я точно знаю, что никогда его больше не увижу, и это притупляет чувство вины перед Стасом. Для меня все умерли: Нахальная, Короткохвостая, Ингрид, Лучано, Стас, Жанна, Арно. Я не чувствую ничего, я словно одеревенела, оглохла, ослепла, внешний мир никак не проникает в густую черную вату, в которую я погружена последние сутки. Интересно, не это ли называется пратьяхарой, и что, в таком случае, в ней хорошего?
Спать я ложусь рано. Решив ничего не откладывать в долгий ящик, я решаю завтра же утром чуть свет выехать в бангкокский банк.
32
И почему в голове застревают только негативные мысли, а светлые и добрые улетучиваются, не успев доставить и крупицы хорошего настроения? Слова Ингрид про грядущее зловещее полнолуние плотно завладели моим сознанием и вселяют сплошное беспокойство. Я сижу на носу маленького железного паромчика и нервно барабаню пальцами по своей ручной клади. Это, разумеется, — я полна бездарных штампов и ни на что другое мне не хватило воображения, — купленный мной этим утром в Бангкоке классический чемоданчик, обитый черным пластиком. (На красивую пупырчатую кожаную обивку я просто откровенно поскупилась). А в нем (о да-да, как и велел мне Стас) — новенькие и еще пахнущие краской дорожные чеки на сумму в девять с половиной миллионов. Каждый номиналом по пятьсот евро, то есть всего девятнадцать тысяч хрустящих голубеньких бумажек.
Не придя в восторг от моей идеи получить на всю имеющуюся сумму чеки, банк заставил меня провести неспокойную ночь в задрипанном и очень шумном отеле на Као Сан Роуд, два раза встретиться с заведующим отдела выплат, подписать целую тонну документов, три раза отсканировать мой непрестижный паспорт, но, в конце концов, под угрозой, что я немедленно переведу всю сумму обратно в Россию, сдался и дрожащими пальчиками вспотевшего работника, по-воровски закрывшегося в темном кабинетике, отсчитал мне запрошенное мной количество чеков.
Выйдя из стеклянного небоскреба на тридцати пятиградусную жару, я немедленно задрожала от нервного озноба. Мне казалось, что каждый встречный поглядывает на меня с интересом, каким-то шестым чувством догадываясь, подозревая, что в чемоданчике в моих руках находится столь колоссальная сумма. Ладони мои тут же вспотели и липкие пальцы скользили по пластиковой ручке чемоданчика, отчего мне мерещилось, что при нападении я не смогу его удержать, и любой подросток-воришка легко выхватит его и убежит. В памяти замелькали газетные статьи о царящей кругом нищете и распоясавшемся уличном хулиганстве. Я попыталась взять себя в руки, но у меня ничего не вышло. После смерти Стаса мои нервы уже не годились ни к черту.
Отказавшись от мысли перекусить, постоянно спотыкаясь и затравленно оглядываясь, я схватила первое попавшееся такси и рванула в аэропорт. Там озноб только усилился. Мне стало мерещиться, что меня не пустят с чемоданом в самолет, специально заставят сдать ручную кладь в багаж, где она, разумеется, потеряется. В каждом полицейском я видела врага. Когда они подносили рацию к уху и начинали в нее что-то шептать, мне казалось, что их взгляды поворачиваются ко мне, им передали информацию срочно меня задержать, и я вжимала голову в плечи и спешила укрыться в женском туалете. В конце концов, я уже не могла найти в себе сил выходить из него, и провела последний час в ожидании рейса, дрожа в обнимку с чемоданчиком на кафельном полу под умывальником. Дрожала я и в самолете, как обычно, не в меру кондиционированном; и на душном и влажном воздухе пирса, где мне пришлось еще несколько томительных часов прождать парома; и теперь вот, сидя на его носу.
Время уже приближается к восьми вечера. Несмотря на тропическую широту нельзя забывать, что сейчас все-таки зима и темнеет рано. Паром на сегодня последний. В мрачно-лиловом небе, по которому изогнутой полосой прочерчивается силуэт приближающихся гор, круглой дурочкой висит почти полная луна. Только с одного бока ее чуть-чуть недостает до идеальной формы. Я пытаюсь прикинуть, скоро ли полнолуние? Судя по тому, что вся палуба под завязку загружена пьяной молодежью, съезжающейся на наш остров ради каких-то диких и изуверских ежемесячных рейверских пляжных безумств, до него остаются считанные дни. Два. Ну максимум, три.
Рядом со мной расположилась группа тинэйджеров: несколько длинноволосых тайских мальчишек и парочка белых грудастых девиц, судя по омерзительному выговору — австралиек. Заливисто хохоча, они передают друг другу бутылку бренди, в воздухе попахивает гашишем, а глаза у всех настолько шальные, что, приходит мне в голову, скорее всего не обошлось у них и без пары-тройки таблеток. Говорят, на нашем острове работают аж несколько подпольных лабораторий, выпускающих тысячи таблеток в месяц. Ожидать качества от них не приходится, и, наевшись самодельной низкосортной химии, подростки полностью заполняют все четыре реанимационные психушки, находящиеся здесь же, на нашем милом островке, о чем постоянно рассказывает мне Лучано, по-отечески качая головой и предупреждая, что бы я даже не думала высовывать носа с нашего пляжа на тот, где проходят «Full Moon Party».
Один из тайцев вдруг замечает меня. Глаза его неприятно зажигаются и рука протягивает мне бутылку. Я отворачиваюсь и еще крепче прижимаю к себе чемоданчик. Парню это не нравится и он встает, шаткой походкой направляясь ко мне. Оставшиеся сидеть тайцы громко хохочут. Я в панике оглядываюсь по сторонам. Ну хоть бы одного приличного мужчину! Но нет, вся палуба населена десятками совершенно идентичных молодых людей, всем до двадцати, и волны пьяной агрессии откровенно витают над нашим суденышком.
— Я не хочу, — отнекиваюсь я.
— На! — ржет таец.
— Да не надо, говорю ж! Спасибо большое, но, пожалуйста, уходите!
Черт, я слишком вежлива! Это выдает во мне чужака. Я и так в два раза старше всех здесь присутствующих, да к тому же неправильно одета, в дурацкий сарафан в цветочек, трезва и веду себя как безмозглая жертва.
Словно прочитав мои мысли, таец хватает меня за руку. Я вырываюсь и опять оглядываюсь. Но на борту нет никого, похожего на моего защитника.
— По-моему, эта сука нас не уважает! — ревет в восторге сам от себя второй таец, поддерживая и накручивая того, что стоит около меня.
Дьявол! Допрыгались, добились мы свободы и демократии по всему миру! А свобода — штука невероятно опасная, неподготовленным к ней массам она приносит лишь вред. Она, как хорошее вино, должна настояться, успокоиться, вызреть. С непривычки людей кидает от нее в сплошные крайности: от убогой рабской психологии до приступов полного хамства, которое принимается ими за долгожданную раскрепощенность и эфемерное равенство.
Окрыленный поддержкой друга, таец опять пытается схватить меня, но сильная волна накреняет судно, и, не удержавших на ногах, он отлетает к другому борту и больно ударяется о ржавый поручень.
— Сидеть! Ходить нельзя! — орут в хрипящий громкоговоритель из рубки управления.
Компания ржет. Таец поднимается, чешет затылок, зло оглядывается на меня, но возвращается к своим. Я перевожу дыхание. В темноте перед нами уже мелькают огни прибрежных построек. Еще минут двадцать, и мы прибудем на пирс. Там светло, десятки полицейских, таксисты, хоть какая-то защита.
Луна блестит в волнах, прочерчивая на них даже не дорожку, а целое шоссе света. Опять шоссе. Дался мне этот чертов образ! Я вспоминаю совет Арно и пытаюсь представить себя в кабинке аттракциона где-нибудь в Дисней-лэнде. Все кругом ненастоящее, уговариваю я себя, это игра, никому кроме меня не страшно, и мне не должно быть страшно. Никто не знает, что я прижимаю к груди. Но все впустую, успокоиться мне не удается. В голове пульсирует паническая мысль, что мой неуместный офисный чемоданчик слишком бросается в глаза. С минуту я борюсь с собой, но страх пересиливает. Нервно поозиравшись, я незаметно подсовываю чемоданчик под себя и прикрываю со всех сторон юбкой. Но уже через минуту меня бросает в пот от очередного страха: так его легче выдернуть! Промучившись минут пять, я не выдерживаю и опять кладу его себе на колени, изо всех сил вцепившись в ручку вспотевшими пальцами. Прибрежные огни приближаются слишком медленно, мне кажется, пока мы доплывем до них, я сойду здесь с ума!
Но нет. Растолкав всех, я первая сбегаю по перекинутой на берег доске.
— Такси для мадам?
— Такси-такси!
И только забравшись в его тесные душные недра и заплатив тройной тариф, чтобы не ждать людей на подсадку, я немного успокаиваюсь и наблюдаю, как густая человеческая масса колышется, расступаясь перед тронувшейся машиной.
— К лодочникам, — командую я.
Впереди меня ждет последнее испытание: пробраться сквозь возбужденный предпраздничный город к темному пляжу, найти полупьяного тайца и уговорить его завести мотор и отправиться в мою бухту. И ведь он тоже может заинтересоваться чемоданчиком! Зачем только Стас так настоял на том, чтобы возвращать деньги чеками? Не проще ли было отправить их хозяину тем же способом, которым они и были у него украдены — обычным банковским переводом?
Но как бы там ни было, до своей «Виллы» я добираюсь живая и при чеках, которые в целости и сохранности похрустывают в чемодане. Обойдя оба этажа несколько раз, я, наконец, придумываю, куда бы их спрятать. Еще при покупке дома мы заметили со Стасом старый и почему-то заколоченный досками подпол. Крошечный, высотой не более полуметра, даже не подпол, а как бы второе дно, он располагается не под всем домом, а только под его задней частью, граничащей со скалами, где находятся ванная и кухня. «Ого! Классная нычка! Будет куда прятать миллионы, когда разбогатеем!» — пошутил Стас, радостно постукивая ногой о пол в ванной и прислушиваясь к гулкому звуку.
Выглянув и убедившись, что пляж погружен в темноту и никому не пришло в голову шататься у моих дверей, я на всякий случай выключаю свет, беру в зубы фонарик и отправляюсь в ванную комнату. Там, между массивными чугунными ножками, на которых покоится ванна, я расшатываю доски, просунув в щель большой кухонный нож, и минут через пять любуюсь на образовавшуюся дыру. Я засовываю в нее руку и к своему большому удовлетворению обнаруживаю, что там вполне сухо и чисто. Безопаснее тайника мне, наверное, не придумать. Чемоданчик плавно опускается на дно, доску я возвращаю на место, а сверху еще ставлю огромный таз для стирки, в который, для пущей убедительности, кидаю всю снятую с себя одежду. Включаю свет и оглядываю получившуюся картину. Догадаться о том, что под ванной закопан клад решительно никому не придет в голову! Да и кто вообще теперь бывает в моем доме? Стаса больше нет, Жанна уехала, тайская прислуга после Жанниного хамства обходит меня стороной, а про Арно я категорически запретила себе даже думать.
Перед глазами картинками мелькают сценки из последних дней, и, складываясь в болезненный калейдоскоп, беспокоят меня, напоминая бред, сопровождающий высокую температуру. Я прикладываю руку ко лбу, но он мертвецки холоден. Я тру глаза, но перед ними словно прокручивают диафильм: темная поверхность воды, поглотившая Стаса; полный упрека взгляд Жанны; черный чемоданчик; и опять густая темная вода, с ярко прочерченной по ней лунной дорожкой.
Вдали в море раздается гудок баркаса. Я все сделала хорошо, правильно, успокаиваю я себя, но у меня осталось еще одно, последнее на сегодня, но очень немаловажное дело.
С трудом поднявшись, я иду в гостинную, открываю ящик комода, достаю и включаю мобильный телефон. Пара звонков пластмассовым голосом (разумеется, я никому не сказала, что случилось со Стасом, у меня просто не достало на это сил) и на бумажке передо мной чернеют цифры телефона Тащерского. Написанные жирным простым карандашом, тем самым, моим любимым, который я использую для эскизов в своем блокноте. На седьмой цифре карандаш неожиданно скользнул в сторону и сломался. Чересчур толстый черный след резко утончается к концу и обрывается у края листа. Оставшиеся три цифры криво нацарапаны обломком, из-за чего в целом запись выглядит слегка неровной, неоднозначной, взъерошенной.
Я выхожу на террасу. На краю крыши вверх головой замерла летучая мышь. Цепкие лапы, увенчанные омерзительными когтями, мертво впились в балку, один глаз как будто подмигивает. Показалось? Нет, веко снова качнулось вверх-вниз, а на морде появилось что-то вроде оскала. О, я отлично ее понимаю! Я чувствую, я знаю, почему она прилетела и чего от меня хочет! Я должна забрать себе деньги и осуществить задуманный Стасом побег. Чертово исчадие тропического ада давно этого жаждет, она намекала на это еще там, кружа над нами в ту ночь, у Стаса в пещере. Я нелепа, я сопротивляюсь очевидному, я идиотка. Об этом же говорила и Жанна. Это так просто. Деньги уже у меня. Осталось просто купить билет в один конец. Куда угодно. Завтра же первым делом с утра.
Я прислушиваюсь к себе, пытаясь понять, нащупать росток этой мысли в самых дальних и темных закоулках сознания. Порой там обнаруживаются такие сюрпризы, только загляни! Но нет, росток выглядит не моим, это кукушкин подкидыш, чертами он смахивает на Стаса, возможно, на Жанну, но это явно не мое чадо. Хотя, справедливости ради надо отметить, что никакой жалости к ограбленному Тащерскому во мне также не сыскалось. Того, что деньги достались ему честным путем, я, разумеется, даже не предполагаю. Я решаю поиграть с огнем и слегка дать волю фантазии. Теоретически… я могу забрать чемоданчик из-под ванной и… И что ждет меня впереди? Я никогда не смогу ни вернуться в Москву, ни даже остаться на «Вилле Пратьяхаре». Меня ждет только одиночество и бега. У меня, конечно, будет другая вилла, и, скорее всего она будет настоящая, белая с голубым бассейном, и тоже в каких-нибудь тропических широтах, от которых меня уже мутит, но вот не испугаются ли ящерки приходить в такое великолепие, еще неизвестно. Виллу эту можно будет уже смело называть дурацкими распространенными названиями навроде «Ласточкино гнездо» или еще правдивее и проще — «Жизнь тупо удалась», — потому что никакой пратьяхары мне больше не видать. О пратьяхаре вообще можно будет смело забыть. Раз и навсегда. Я усмехаюсь. Интересно, каким бы названием для виллы разродился Петровский, спроси его кто-нибудь об этом за минуту до того, как он шагнул в окошко? Хотя людям свойственно отрицать факты, разрушающие их стройную картину мира, в которой деньги неизбежно обязаны приносить счастье, и в то, что это не был несчастный случай, кроме меня никто так никто никогда и не поверил.
В тоске я оглядываю облупившуюся штукатурку на стенах дома, разбухшие и скрипящие ставни, линялые, а когда-то радостно-голубые буквы на дощечке с названием.
— Кыш, дрянь! Пошла отсюда! — цыкаю я на мышь.
Она взмахивает перепончатыми крыльями, делает два круга, и, разочарованно присвистнув, улетает в темноту.
Я смотрю на бумажку с криво усмехающимися цифрами и набираю номер. В Москве, приходит мне в голову, как раз время ужина, и радостная весть застанет Тащерского где-нибудь в ресторане, в самый раз под водочку. За окном, наверное, хлопьями сыпется снег, наметая сугроб на крыше его джипа или на чем там ему положено ездить, а неподалеку топчется, от холода стуча нога об ногу, ливрейный холуй с веником — соскребать снег с машин состоятельных клиентов.
Часть 3. Новая Каледония
Род проходит и приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит… Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь… Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем… Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
(Еккл. I, 4-11)
33
Насколько помню, я почти не покидала дома в дни своего ожидания. Тащерский сказал, что приедет через три дня. Три: один, два, три. Чего проще? Просто расслабиться и ждать. Купленный в Бангкоке блок сигарет избавлял меня от необходимости выходить в деревенскую лавку, а аппетита у меня не было с того самого дня, когда утонул Стас.
Считая до трех, я мерила террасу диагоналями и пыталась заставить себя думать о дальнейшей жизни, но мысли выходили какие-то обрывчатые, размытые в тумане еще не наступившего будущего. Раз, два, три, повторяла я, поглядывая, как солнце лениво переползает с горизонта к горе за домом. Странная цифра «три», что мы о ней знаем? Три поросенка, три богатыря, три мушкетера, три толстяка, три танкиста, три сестры, три друга, три мудрых обезьяны, троеперстное крещение, божественное триединство, Москва — Третий Рим, Земля — третья от Солнца планета, держащаяся на трех китах, наш мир — трехмерное пространство… Вроде бы. Но для меня магия «трех» состояла сейчас исключительно в трех рассветах и трех закатах, оставшихся до приезда Тащерского. Хотя закатов с нашего восточного пляжа в принципе не видно, а рассветы упорно ускользали от меня. Сколько бы я ни курила, поглядывая в черноту над морем в ожидании восхода, как только горизонт начинал загораться розовым светом, меня окутывала усталость, голова тяжелела, глаза слипались и, медленно, по-стариковски наваливаясь всем весом на перила, я забиралась к себе на второй этаж и погружалась в сон.
Казалось, что время, арестованное и запертое на домашнее заточение в моей «Вилле Пратьяхаре», не желает жить вне воли и в знак протеста полностью остановилось. Хотя нет, один раз я все-таки разрешила ему покинуть наше убежище и прошлась по скалам. Обрадованное, оно побежало быстрее, и я сама не заметила, как оказалась в пещере. Той самой, где Стас провел свои последние дни. Тело так и не выбросило на берег, и эти темные сырые каменные своды — все, что у меня было вместо могилы.
Странным образом, здесь все изменилось с тех пор, что я была тут последний раз. В вещах словно кто-то хорошенько порылся, исчез куда-то Стасов рюкзак. Хотя, если задуматься, то ничего удивительного в этом не было — если на нашем пляже нашелся воришка, готовый за старый компьютер и фотоаппарат убить живого писателя, то что говорить о жилище человека, уже покинувшего этот мир? Мне не захотелось ничего трогать, взять себе на память, и я оставила все немудреное имущество на дальнейшее разграбление. Оставляем же мы захороненные нами тела на попечение червям? Ну и чем воры хуже? Пускай попользуются дорогими футболками, модным парфюмом да так и не пригодившейся Стасу электрической бритвой. Все равно откуда все пришло, туда со временем и уйдет.
Выйдя из пещеры, я спустилась на когда-то наш с Арно пляж. Послушавшись меня, Арно ни разу за эти дни не попался мне на глаза, и сейчас здесь никого не было, только, как обычно, скреблись по камням мелкие рыжие крабы. Я прощалась со своим прошлым, а впереди меня ждала полная неизвестность. Я присела на горячую гальку и долго смотрела на плещущееся у ног море. Кристально-прозрачное, искряще-изумрудное, солоновато-умиротворенное, мягкое, почти ласковое, равнодушно проглотившее Стаса и даже не поперхнувшееся.
Странно, но слез не было. Ни в пещере, ни на пляже, ни вообще ни разу за все эти дни. Посидев на берегу, я вернулась домой и до самого приезда Тащерского больше его не покидала. Мной овладело странное оцепенение, словно пустота материализовалась, сковала, почти парализовала мое тело, оставив от него одни глаза, постоянно, бесконечно, с утра до вечера устремленные вдаль, на море. Впрочем, нет. Скорее я смотрела не на море, а на небо. Чужое, как и мое сердце, будто бы истоптанное грязными резиновыми протекторами строительных ботинок, оно было покрыто перистыми полосами свинцовых, нелюдимых облаков, к сумеркам никуда не улетавших, а лишь окрашивающихся снизу тревожным багрово-глиняным оттенком.
Думала ли я в эти дни об Арно? И да, и нет. Если называть «думаньем» зависящий от нашего сознания процесс, то — нет. Но француз постоянно присутствовал где-то за заднем плане, словно ленивой тенью слоняясь за мной, чем бы я ни занималась. Я жалела, что с таким цинизмом отнеслась к его последней истории про женщину, чей прах был развеян над Луарой. Сейчас мне казалось, что этим рассказом Арно пытался извиниться передо мной, оправдаться за что-то, что от него ожидалось и чего он не мог мне дать. Приходило ли мне в голову, что мы можем быть вместе? До смерти Стаса — категорически нет, после нее — тем более, хотя объяснить почему, я бы не смогла даже под пыткой. Я просто это знала, как знаешь иногда, что скоро зазвонит телефон или что сегодня непременно что-то случится.
В один момент мне показалось, что каким-то образом я уже взяла от Арно то, что хотела. Он поселил в моей душе изогнутый знак вопроса, так напоминающий завитки его мокрых волос, рассыпанных по плечам после купания. А ответ… ответ мне никто не сможет дать, кроме меня самой, и я отчетливо поняла это в ночь, когда падали звезды и мы запускали «волшебный фонарь». Вопрос — уже достаточно. Требовать готовых решений было бы чрезмерной наглостью. Арно касался меня так, как его научила та женщина, — аккуратно, стараясь не подавить собою, не привязать, не вызвать зависимости, и неожиданно мне стало понятно, почему он сблизился с Жанной. Мы мыслили с ним почти одинаково, интуитивно чувствуя, что нам обоим нужен громоотвод, который обозначит, зафиксирует в материальном пространстве тот факт, что мы никогда не будем вместе. Нипочему. Даже не из-за Стаса. Просто не будем. Так бывает сплошь и рядом.
Возможно, я все это себе придумала, но мне не хотелось начинать размышлять об этом, анализировать его и свои слова, поступки, искать в них логику и смысл; мне было достаточно того теплого чувства благодарности, даже не к Арно, а, скорее, к миру, за то, что француз просто был, какое-то время присутствовал в моей жизни. Но теперь я понимала, что мне пора идти дальше, в свою жизнь, в которой его нет. Тащить его туда, это будто бы пытаться собрать все любимые вещи в одной узкой комнате, законсервировать, прикрыть кружевными салфетками и устроить музей, где ничего нельзя трогать руками. Хотя… мне было немного грустно и все эти дни меня преследовал соблазн спуститься к людям и найти его среди них, возможно, встретить его в продуктовой лавке, дотронуться на миг до его руки, улыбнуться, извиниться. Да, мне хотелось именно извиниться, не важно за что. За то, что побеспокоила собою, взяла что-то, до этого принадлежавшее только ему.
Думала ли я о деньгах, хранившихся под досками в ванной? В это будет странно поверить, но нет. Решив, что верну чеки хозяину, я будто забыла об их существовании. Раз они не мои, то их для меня просто нет. От них исходила беда, они были виновниками смерти Стаса, были пропитаны страхом и жадностью и ассоциировались у меня только с неприятными образами: дрожащие руки банковского работника, бессонная ночь в Бангкоке, пьяные тайцы на ночном пароме…
Загадывала ли я, как пройдет разговор с Тащерским и сама передача денег? Да, разумеется. За эти дни я нарисовала себе разные сценарии встречи, но ни один из них даже близко не походил на тот ужас, которому суждено было случиться в реальности.
34
Ровно через три дня, около восьми часов вечера я курю на террасе, когда слышу приближающиеся со стороны пляжа голоса. Я вскакиваю из кресла, тушу недокуренную сигарету в ракушку, нервно облизываю губы и, не зная, куда бы деть руки, снова хватаю пачку сигарет, потом вспоминаю, что только что курила, бросаю ее на столик, опять сажусь и зачем-то принимаюсь листать «Cosmopolitan», делая вид, будто увлечена рекламой зубной пасты.
— Паола, дорогая, к тебе визитеры, — докладывает Лучано, отдышавшись от подъема и кивая мне на тех, кого я узнала бы и без него. Тех, кого я так ждала.
Их трое. Двоих (это, надо полагать, прихвостни из так называемой охраны) я никогда раньше не видела, а в третьем мне с трудом удается опознать Тащерского. Раздавшегося, погрузневшего и полысевшего за те шесть счастливых лет, что мы не встречались, но вполне узнаваемого по жестким вертикальным складкам вдоль сухих губ, по торчащим из всех отверстий — ушей, ноздрей — белым пушистым волоскам, по стальному холоду в бесцветных водянистых глазах. По моим подсчетам он всего на несколько лет старше меня, но выглядит лет на пятьдесят. Одутловатое лицо теперь прорезают глубокие продольные морщины, шея плавно, без малейшего изменения рельефа, как у червей, переходит в квадратную голову. К взмокшему после ходьбы тяжелому бугроватому лбу прилипли жидкие пряди волос. Одеты все трое как беспечные туристы: мокасины, рубашки с короткими рукавами, широкие летние штаны в складках от длительного перелета, а на Тащерском еще и ярко-желтая бейсболка с эмблемой футбольного клуба, словно кричащая: «да-да, вот такой я славный рубаха-парень, демократ, отчаянный болельщик, ничто человеческое мне не чуждо».
Через минуту из-за скалы показывается, как обычно, босоногий Тхан, надрывающийся под тремя увесистыми чемоданами.
Я встаю из кресла и, сделав несколько шагов, протягиваю Тащерскому руку, но он не замечает ее.
— Госпожа Власова? — кланяется он с легкой издевкой, игнорируя Лучано и обращаясь ко мне по-русски. — Очень рад, очень рад. А где же ваш, так сказать, эээ… кормилец семьи?
Я прячу руку — пустую, оставшуюся без ответа — в карман, и с досадой отмечаю, что она дрожит.
— Его нет, — отвечаю я тоже по-русски и киваю итальянцу, что им с Тханом лучше уйти.
Ничего, успокаиваю я себя, сейчас эта компания заберет чемоданчик и удалится восвояси, ужином кормить я их не собираюсь.
Лучано с минуту топчется на месте, с неприязнью оглядывая моих посетителей и словно проверяя, не нуждаюсь ли я в его защите, но я снова киваю, что все в порядке, и, взяв Тхана за руку, он нехотя удаляется. Пару раз оглядывается на меня, словно пытаясь прочесть мои мысли, но я специально не смотрю в его сторону. Нечего ему тут делать, уйдет — целее будет.
— Вот как? Значится, Самого так-таки и нет? А деньги? — спрашивает Тащерский.
Он не смотрит на меня, а пристально изучает свои ногти. Толстые, продольно-ребристые, ширина превышает длину. Я замечаю темно-лиловый, вероятно недавно прищемленный ноготь на его указательном пальце, и, словно подглядев тайный и постыдный порок, отвожу глаза.
— Деньги в доме, — киваю я на дверь.
Тащерский отрывается от ногтей и окидывает дом презрительным взглядом.
— Понимаю… Так себе построечка-то. Новую захотелось? Да вот беда, на новую придется попотеть еще. Самому. А на чужое зариться-то нехорошо-с, нехорошо-с.
Двое сопровождающих хмыкают и тоже смотрят на дом таким взглядом, будто изучают в зоопарке редкое и крайне противное млекопитающее.
Я молча захожу внутрь и, остановившись в дверях, уточняю:
— Вы за деньгами или как?
— Или как, — усмехается Тащерский и те двое вторят ему, посмеиваясь.
— Тогда идите за мной.
Компания трогается.
— Толь, а ты останься для верности снаружи, — говорит Тащерский, пригибая голову и заходя в дом, — за яхтой присмотри, а то тут голь одна, еще упрут чего доброго. Мы с Петьком вдвоем сходим. За деньгами-с, коль девушка наша не шутит.
По его нарочито грубому, издевающемуся тону я понимаю, что Тащерский тоже волнуется. Возможно, до сих пор не верит, что получит деньги.
Миновав гостиную, мы выходим в темный коридорчик. Непривычные к таким нагрузкам половицы скрипят и жалуются.
— Деньги в чеках? — спрашивает Тащерский.
Я киваю.
— Не слышу.
— В чеках. Девять с половиной миллионов, купюрами по пятьсот. Осторожно, пожалуйста, тут узко.
— Слышь, Петёк! Не зацепись плечами за домишко, а то он щас развалится. Девушке жить будет негде. Или у нее еще московская квартира не продана?
Я молча иду в ванную.
— Не продана. Я знаю, справочки уже наводил. А придется продать. У вас же не накоплено, небось, на неустоечку-то? Или накоплено?
— Какую неустоечку? — замираю я.
— Нормальную, какую еще? А вы как решили-то? Бабло забрать, месяц прокрутить где надо, всю прибыль себе, а мне отдать эти несчастные чеки, чтоб я на обналичке еще потерял? Это вы умно-с. Молодца, как говорится. Перед овца. А на фоне молодца — сам овца!
Довольный шутке, он заливается нервным смехом, скоро переходящим в кашель.
— По телефону вы не говорили про неустойку. Я ничего не знаю. У меня ровно девять с половиной миллионов и больше ничего нет.
Тащерский дружески похлопывает меня по плечу.
— А это ниче, что не говорил. Оно тебе и ни к чему мозг-то засорять. У дам от этого прыщи. А мужик твой знает, как положено. Квартирка-то ваша как раз полмиллиона стоит. Вот и отдадите ее, небось уже не впервой, знаете, как это делается. Если память еще не отсохла. Не отсохла, кстати, или освежить?
Я не верю своим ушам:
— Что?!
— Ниче-ниче. Ты, главное, не волнуйся. Это мы с мужиком твоим урегулируем. Где он сам-то все-таки? Хотелось бы поговорить по душам. Давно не виделись. А то он как бабло увел, гхе, так сказать, так след-то его и простыл. Да, Петёк? А мы ж люди, не звери. Волновались поди. Звонили ему, справочки наводили. Нехорошо-с. Надо бы теперь поздороваться хотя б чтоль? Да ты не замирай тут робкой ланью-то, иди. Время — тоже деньги, ждать поди не любит.
Петёк кивает и несколько раз дергает за веревочку, гася и снова включая верхний свет в коридоре.
— Нормальная у них тут электрика? Как еще не угорели? Ей сто лет в обед будет. Во люди живут, ваще себя не уважают!
Я захожу в ванную комнату и начинаю жалеть, что не попросила Лучано остаться. Хотя чем бы он мне помог? Главное, как можно быстрее вернуть деньги, а там, глядишь, на радостях они успокоятся и вопрос про неустойку отпадет сам собой.
— Здесь тесно, в коридоре подождите, пожалуйста.
Сев на пол, я отодвигаю таз, нащупываю щель и просовываю в нее нож. Доска легко отходит и я сдвигаю ее в сторону.
— Ниче так нычка, да? — говорит Тащерский, нагибаясь и заглядывая мне через плечо, но видно, что момент для него волнителен. Его пальцы щелкают суставами, нос постоянно шмыгает, глаза опасливо озираются, ища скрытого подвоха. Слишком все идет гладко, в его жизни таких чудес не бывает.
Его волнение передается и мне, лоб становится влажным и мне приходится на секунду закрыть глаза и сделать глубокий вдох. Спокойно, Власова! Через пять минут все кончится и они уйдут. Собравшись с духом, я засовываю руку в образовавшееся отверстие. Шарю в темноте. Сначала справа, потом левее… потом уже судорожными круговыми движениями, ни капли не заботясь не испачкаться в пыли. Меня словно ударяет током, молния пробегает вдоль позвоночника, под ложечкой начинает ныть и сосать, но невероятный факт все-таки усваивается моим сопротивляющимся мозгом. Похоже, что в яме ничего нет!
— Э-э-э… А у вас нет фонарика? — спрашиваю я в надежде на то, что я сошла с ума, что-то случилось с моей памятью, подпол был больше того, что я помню, и чемоданчик все еще преспокойно лежит там, просто притаился где-то сбоку, где я не могу его нащупать.
— Фонарика?
— Да-да, фонарика. У меня лежит на столике на террасе, пусть ваш товарищ сходит.
Тащерский тычет прихвостня в спину.
— Слышь ты? Давай, сгоняй.
Пока Петёк петляет по дому в поисках выхода, я сажусь на пол и, не в силах смотреть на Тащерского, отвожу взгляд к окну. Тонкие занавески развеваются от ветра, а сквозь них просвечивает сияющий диск. Так и есть, сегодня, наконец, наступило долгожданное полнолуние.
— Не знаете случайно, сегодня полнолуние? — на всякий случай уточняю я.
— Чё? — удивляется Тащерский. — А оно тебе зачем?
— Да так. Просто. Я верю в знаки и приметы.
В висках, как и обычно, когда я сильно нервничаю, начинает предательски ломить и я принимаюсь массировать их пальцами.
— Приметы… — тянет Тащерский и опять шмыгает носом. — Простыл, вишь? В Москве дубняк конкретный! Это не Тай вам. Дай чтоль бумажки, не на пол же сморкаться?
Я отрываю кусок от рулона туалетной бумаги. Рука с синим ногтем берет его, утыкает в бумагу огромный красный нос и с оглушительным бульканьем выдувает полную пригоршню соплей.
— Еще дай.
Я снова отматываю бумаги, на этот раз почти полрулона. Я силюсь вспомнить, кого напоминает мне Тащерский. Кажется, человека-гору из какого-то мультфильма. А, вспомнила! Шрек! Только тот был зеленый и добрый, а этот простуженный, красный и злой…
Через минуту в гостиной раздаются шаги. Петёк радостно спешит к нам, размахивая фонариком. В последний момент, уже у входа в ванную, он задевает ногой о половой коврик и чуть не растягивается во весь рост.
— Вот, ё! Наклали тут!
— Не наклали, а наложили, — назидательно поправляет его Тащерский. — Как там на улице? Толяныч в порядке?
— В порядке, что ему станется? Спрашивает, деньги-то на месте?
— А вот это мы ща и посмотрим, — говорит Тащерский, протягивая мне фонарик.
Луч шарит, выхватывая из темноты клубы пыли, но чемоданчика по-прежнему нигде не видно. Отказываясь верить в это, я ложусь на пол и припадаю лицом к дыре. Пот капает с моего лба на шершавые доски. Но все тщетно. В яме пусто.
— Ну? — поторапливает меня Тащерский.
Поползав еще с минуту, я прихожу к выводу, что дальнейшие всматривания в темноту ничего не дадут, чертов чемоданчик от этого не материализуется. Случилось невероятное. Его там просто больше нет. В полном бессилии я сажусь на пол и обнимаю руками дрожащие колени. Виски уже не просто ломит, их намертво схватывает стальным обручем.
— Не понял. Чё расселась-то? — спрашивает Тащерский ледяным голосом.
Я понимаю, что дела мои очень плохи. Ни к черту не годятся. Просто отвратительны! Оглянувшись на окно, я лихорадочно соображаю. Прыгать в темноту и нестись куда глаза глядят по скалам? Если удастся выпрыгнуть, то, наверное, не догонят. Привычки бегать по камням у них нет. Оружия, скорее всего, тоже. Кто бы их сюда с ним пропустил через границу? Но только что я буду делать, убежав? Затаюсь до утра в горах, а дальше?
— Ты чё на окошко так посматриваешь? — говорит Тащерский, нависая надо мной.
Рука с прищемленным пальцем ложится на мое плечо. Увесисто. Очень убедительно. Насторожившийся Петёк заходит в ванную и на всякий случай приседает на подоконник, отрезая мне путь к бегству.
Я сдаюсь.
— Нету, — говорю я тихо.
— Чего нету? — не понимает Тащерский. — Бабла в нычке нету?!
Я киваю.
— Маладэц! Умничка! А вообще оно там было или это развод такой хитроумный? И в чем смысл?
— Не развод. Я сама туда его клала три дня назад. Чемоданчик, черный. С чеками.
Тащерский сплевывает на пол, его пальцы крепче сжимают мое плечо.
— Мне больно, — предупреждаю я.
— Больно?! — вдруг орет он. — Да ты, тварь, еще не знаешь, что такое больно! Если деньги через минуту не нарисуются, то ты… тебе… да я…
Петёк присвистывает и зачем-то выглядывает из окна наружу.
— Где твой мужик? — спрашивает Тащерский.
— Его нет.
— Сам вижу, что нет! Где он, я спрашиваю!
— Его совсем нет. Он погиб.
— В смысле, погиб?! Пал смертью храбрых?! Чё ты мне головой машешь?! Язык отнялся?! Сейчас у тебя знаешь что отнимется?!
О том, что именно у меня сейчас с помощью этих амбалов отнимется, мне думать не хочется. Я пытаюсь собраться с духом и мыслить конструктивно. Куда, к черту, действительно, мог деться чемодан? Никто не мог его тут найти! Никто, кроме нас со Стасом, не знал про тайник. И в доме никого не было. Разве что… когда я выходила в пещеру? Но кто? Следили? Когда я прятала чемодан? Но я же смотрела из окна, снаружи никого не было. А издали никто не мог меня увидеть, я выключала свет, ставни были закрыты…
— Толян! — Тащерский зовет подмогу. — Хер с ней, с яхтой, за пять минут не украдут. Сюда греби!
Раздается топот, звук чего-то разбившегося, скорее всего стоящей на комоде вазы, и в ванную пытается просунуть жирную морду Толян. Места для него тут уже нет. Крошечное, не более двух квадратных метров, помещение забито нашими телами: моим, сгорбившимся на полу у ванны, Петька, сидящего на подоконнике, и, наконец, взбешенного Тащерского, продолжающего то и дело отматывать бумагу, оглушающе сморкаться и бросать мокрые комки в раковину.
— Девушка утверждает, что бабло исчезло и она тут ни при чем, — поясняет пришедшему Тащерский, явно не зная, верить ли моим словам. — Чё делать бум?
— С кем? — не врубается сходу Толян и тут же получает подзатрещину.
— С кем?! Да с ней! Кого ты тут еще видишь? Мужик ее смотался. Наверняка с бабками! А эта дура талдычит, что он умер. Где труп тогда, раз он умер-то?!
Последнее обращено уже ко мне. Я вжимаю голову поглубже в плечи.
— Трупа нет. Он утонул.
— Чего?!
— Утонул, — тупо повторяю я. — Нырял с лодки. Не вынырнул. Я искала. Ждала. Час… Не знаю, около того. Он точно не выныривал. А теперь его, наверное, уже съели крабы.
— Крабы? Пиздеж! Не верю! Упереть стока бабла и утонуть? Так люди не делают!
Отпихнув меня с такой силой, что я повалилась на бок, Тащерский вырывает у меня фонарик и сам заглядывает в яму. С минуту он пыхтит, ползая на коленях и пытаясь что-то рассмотреть в темноте, потом разгибается и плюет на пол.
— Или ты совсем завралась, или он не утонул, или был кто-то третий, — заключает он. — Был?! Чё глазки пучим, я спрашиваю? Был третий?!
— Не было, — шепчу я.
— Полный пиздец! — заключает Тащерский и поднимается на ноги.
С последним утверждением я полностью согласна. Меня поколачивает дрожь, в висках разрываются снаряды, а руки стискивают унизительно дрожащие колени.
— Не было третьего, — повторяю я. — Стас… мы решили вернуть деньги. Поехали на лодке, и Стас утонул. При мне. Точно, я своими глазами видела. Я съездила за деньгами и позвонила вам. А чемоданчик положила сюда. Никто об этом не знал, и из дома я почти не отлучалась. И найти его тут, не зная вообще о его существовании, никто не мог.
— Но его ж тут нет? Значит, мог! Или ты все-таки нам что-то тут гонишь! Но я в толк не возьму, на что весь расчет-то? Ты, мож, думаешь, я ща зарыдаю, повырываю последние клочья на голове и уеду себе восвояси? А вы с твоим придурком спокойно с бабками завтречка сбежите? Да?! Такой у вас план?! Хватит сопли размазывать, я сказал! Отвечай!
Я отрицательно качаю головой.
— Зачем бы я вообще вам звонить стала, если мы просто убежать хотели? Где логика-то?
Ладонь проскальзывает у меня по затылку. Почти не больно. Просто подзатыльник. Но очень страшно.
— А вот тебе и логика, — спокойно заключает Тащерский. — Или ты врешь, или ты полная дура и тебя просто подставили. Но в любом варианте тебе полный пиздец! Я никуда отсюда не уеду без денег. Ты сейчас у меня будешь так орать, что если деньги у тебя, то сама отдашь, а если не у тебя они, то твой козлина не выдержит и пулей принесется сюда! И все нам отдаст. И мне пофиг, Стас это будет или кто другой! Просто пофиг, понимаешь?!
Я киваю. Я понимаю. Более того, его несложные рассуждения наталкивают меня на мысль и я, кажется, начинаю понимать кое-что еще.
— Пустите, — говорю я, вставая. — Мне надо в коридор, проверить одну идею. Пусть отойдет.
Тащерский кивает и Толян отодвигается, пропуская меня.
Открыв дверь в кладовку, я всматриваюсь в темноту.
— Свет дайте?
Мне протягивают фонарик.
Мурашки пробегают у меня по спине, плечам и даже щекам. Медленно, словно из потустороннего мира, на меня выглядывает призрачная Стасова улыбка, его последнее «прощай». В кладовке царит бардак, но одно мне становится очевидно: ни газового баллона, ни маски с трубкой, ни ластов там нет. Полка есть, следы от пыли тоже, а на том месте, где все это лежало, сияет радостная пустота.
На миг мне становится дурно. Перед глазами пробегают серебристые точечки, воздух густеет и отказывается пропихиваться в легкие. Я прислоняюсь к двери.
— Ну?
Тащерский отталкивает Толяна и тоже заглядывает в кладовку.
Я вспоминаю, что неплохо бы иногда дышать. Делаю судорожный вдох, задерживаю воздух, выдыхаю. Постепенно в моей голове проясняется и все становится на места. Цветные короткометражки пролетают перед моими глазами. «Ты предала меня! Променяла на этого адвокатишку! Ты сама не оставила мне никакого выбора!» (в пещере), «Задержи Жанну десять минут на террасе, мне надо кое-что взять в доме» (за день до лодки), «Я уже нашел, что искал, просто воздуха не хватило» (уже в воде, перед последним нырком), «Прощай, любовь моя!»… Все выстраивается в стройный ряд. Поняв, что я наотрез отказалась снимать деньги, доведенный до отчаяния и лишенный выбора Стас убеждает меня, что вернет хозяину чемодан, как только я привезу его из банка, заодно в тот же вечер забирает из дома акваланг, загодя привязывает его на дне (мало ли, например, к наросту на рифе), запоминает место, отвозит меня к нему вечером, (ах, вот для чего ему понадобилась прогулка именно в сумерках, когда сквозь толщу темной воды уже ничего не видно!), под предлогом устриц просит меня принести в лодку фонарь и нож (найти и отрезать привязанное на дне снаряжение), несколько раз ныряет (якобы за устрицами), находит припрятанные газовый баллон и маску, и спокойно уплывает, пока я мечусь в темноте, пытаясь его спасти. Остальное — дело времени и техники. Догадавшись, что чемодан будет спрятан в нашем тайнике, выследить, когда я уйду от дома и забрать его. И бай-бай Полина Власова, с ее Покоем и Французом! Просто и изящно. Шахматист, аквалангист. «Пусть негры работают, я не для этого родился!».
Но как он мог так со мной поступить?! Хотя… ведь он по-своему прав, я отняла его мечту, по сути, сама не оставила ему никакого выбора. Я изменила ему, предала, променяла на Арно. Физической измены не было, но это ничего не меняло, я изменила ему хуже, на более серьезном, ментальном уровне. Он не просто подставил меня, он мне отомстил , доходит, наконец, до меня.
— Ну? — еще раз спрашивает Тащерский, беря меня за локоть, и мне становится очевидно, что время на раздумья вышло.
«Я ж не дурак топиться? Хотя ты-то, конечно, держала меня всегда за дурака, да?»
— Чемодана нет, — выдыхаю я. — И не будет. Гадалка была права.
— Что?! — ревет Тащерский. — Что значит не будет?! Какая, нах, гадалка?!
— Никакая. Уже не важно. Я понятия не имею, где чемодан. И скорее всего его уже нет на острове. Хотите, забирайте теперь московскую квартиру.
— Квартиру?! — Тащерский округляет глаза. — Ты что, спятила? Да она максимум на поллимона тянула, да и то — до кризиса!
— Тогда не знаю.
Тащерский хватает себя за волосы, делает несколько кругов по коридору и возвращается ко мне.
— Не-не-не… Так не пойдет! Это вы не на того, ребята, напали! Что б я поверил в этот бред?! Где прячется твой козел?!
— Не знаю.
— Знаешь, мать твою!
— Правда не знаю.
— Да вы тут заврались! Цирк мне устраиваете! Ты сама себе противоречишь! То ты говорила, что он умер, то ты уже врешь, что не знаешь, где он! На что ты там пялилась в кладовке?
Мысль сдать Стаса на миг мелькает у меня в голове, но отметается. Никакого толка мне от этого признания не будет. Все равно Тащерский уже не верит ни единому моему слову.
— Ни на что.
Тащерский хватает меня за локоть, опять втаскивает в ванную и швыряет на пол.
— Ищи деньги! И если через минуту их не будет, то тебе пиздец! Я тебя на куски разрежу, кухонным ножом! Думаешь, мне слабо? Матерью Божьей тебе клянусь, всем, чем хочешь, разрежу, лично! Уши отрежу, глаза выну, раз в минуту по пальчику отрезать буду, сначала на руках, потом на ногах! Пока от тебя одни ребра не останутся! Если в твоем уроде еще остались крупицы человеческого, то он поседеет от твоих криков и, как голубь, прибежит сюда, неся бабло в своем драном клювике!
Все это настолько реалистично, что я нисколько не сомневаюсь в обещанном мне. Все случившиеся за последние дни знаки смерти не случайны, звезды падали не зря. Нежданно мне вспоминается огрызок от хвоста Короткохвостой, судорожно дергающийся на камнях моей террасы, страшный крик летучей мыши, преследующей меня то тут, то там. Похоже, скоро меня не станет. Мне кажется, что меня уже нет. Я где-то далеко и наблюдаю за всей этой сценой оттуда, из безопасности, со стороны, не принимая в ней никакого участия. Я абсолютно холодна, глаза мои сухи, нет ни намека на слезы, и только сильная дрожь сотрясает меня. Она даже удивляет меня. Я не чувствую страха. Я не чувствую совершенно ничего. Единственное, что оглушает меня, это вопрос, как он мог так поступить со мной?! Как он мог такое?! «Ты знаешь вообще, как мне было трудно на это решиться?!» «Все решения на самом деле принимаем не мы, а там… — Стас, помнится, скосил глаза на небо, — за нас. И наше дело не спорить и смириться с неизбежным».
Смириться с неизбежным…
Гадалка-то и правда была права. Все решается за нас. Там. И «детка» Полина Власова сейчас умрет. По пальчику в минуту. Погибнет от собственного ножа. Полная нелепость!
Внезапно мне становится смешно.
— Моргалы выколю, — говорю я, хихихнув.
— Что? — не понимает Тащерский.
Смех подбирается ближе:
— Надо говорить не глаза выну, а моргалы выколю. Пасть порву. Как в кино с этим… как его? Ну известный такой… А! Леонов!
Тащерский нависает надо мной, засунув руки в карманы.
— Ты что? Вообще охерела? Думаешь, я шучу?!
— Неа… что вы? Да я очень даже верю. — Я прикладываю ладони к груди для пущей убедительности. — Очень! Поэтому и смешно…
Меня действительно уже трясет от смеха, и я ничего не могу с ним поделать. Так со мной было всегда. Даже в детстве, когда за какую-то мелкую школьную провинность меня вызывали к завучу. От ужаса перед высоким начальством и ожидающим меня наказанием я всегда не могла скрыть идиотской улыбки и нервного хихиканья, прогрессирующих по мере того, как грудастая завучиха поглядывала на меня поверх толстых очков и все громче поднимала голос. К моменту, что она вставала из-за стола, готовая вышвырнуть меня из кабинета, я уже откровенно хохотала. Правда потом этот смех переходил в не менее неконтролируемые слезы, но то было позже, уже за пределами страшного кабинета, в девчачьем туалете.
Выстроившись в ряд, мужчины посматривают на меня в изумлении. До Петька доходит первым:
— Да у нее же просто истерика! Обосралась, небось, от страха баба! Ну-к понюхай, кажется, уже воняет?
Я начинаю сгибаться пополам от неудержимого хохота, напоминающего теперь протяжные подвывания.
— Обосралась? — орет Тащерский, вращая глазами.
На моих глазах выступают слезы, подбородок трясется.
— Бля… — Тащерский хватает меня за плечо и почти выворачивает его, поднимая меня с пола. — Да ни фига она не обосралась. Сухая. Она просто истеричка!
Мне в щеку прилетает короткая и звонкая пощечина. Потом вторая, и сразу за ней третья. Я замолкаю.
— Работает, — удовлетворенно заключает Тащерский и отпускает мое плечо.
Я безвольно оседаю на пол. От пощечин смех, действительно, моментально прошел, но со смехом что-то во мне словно прорвало, я ожила, отошла от первого шока и чувства посыпались горою. И с ними пришел, наконец, и Страх. Настоящий, животный, парализующий ужасом, но в то же время и обостряющий инстинкт выживания. Мысли опять закрутились в моей голове. Могла ли гадалка все это накликать? Разворачивались бы события так же, не пойди я к ней и не узнай, что мне суждено умереть? Или… Что еще она сказала? Не подсказала ли она мне какой-то незамеченный мной тогда выход или решение? Соображай, Власова, быстро соображай!
— Все, на этот детсад времени нет. Тащите нож с кухни, — велит Тащерский.
Толян (Господи, где им всем выдают такие имена?) вразвалку выходит из ванной.
До отрезания пальчиков остаются минуты. Дельных мыслей никак не появляется в моей голове. Ну пожалуйста! Ну хоть одну? Тянуть время!
— Сколько сейчас времени? — обращаюсь я к Тащерскому.
— Сейчас узнаешь, — отвечает он, закрывая ставни.
Судя по всему, убивать меня будут в ванной. Я такое уже видела. В кино.
— Ну я серьезно.
— И я очень серьезно.
Гадалка сказала, что она ничего не решает. Пойди я к ней или не пойди, это ничего бы не изменило. Решает Бог.
— А вы в Бога верите? — спрашиваю я.
— А оно тебе важно?
— Ну почему вы мне ни на один вопрос не отвечаете?
— Почему?! А ты мне ответила, где денюжки?!
— Ответила, — искренне говорю я. — В чемодане под ванной должны были быть. Если бы я так не думала, то не звонила бы вам.
— Ну и где ж они теперь, раз там их нет?
— Не знаю.
— Ну вот и я не знаю, верю ли я в бога. Все? Поговорили? Довольна? Толян! Давай быстрей!
— А милиция не придет? — неожиданно спрашивает Петёк.
— На вопли-то? — Тащерский смотрит на меня с интересом, будто это зависит от меня. — Да нету тут никакой милиции. Глухомань. А шизик этот из гостиницы точно не сунется. Зассыт.
— А если позвонит, по телефону вызовет власти? Должны ж у них тут быть какие-то… не знаю, менты, тайский омон?
— И что? Сам знаешь, дороги сюда нету. Пока они там приплывут… мы уж на яхте уйдем в нейтральные воды. Что я, по-твоему, зря на яхту тратился?
В дверях появляется Толян. В его руках мой кухонный нож. То, что меня убьют моим же ножом, кажется мне особенно диким.
— Иди, на шухере постой на улицу, — говорит Толяну Тащерский. — Если что, уходим по-быстрому.
— Он тупой, — говорю я.
Все смотрят на меня, не веря в мою наглость.
— Да не Толян, — поясняю я. — Нож мой тупой.
— А-а-а! — Тащерский оскаливает идеальные зубы. Наверняка, металлокерамика, откуда у него такие свои? — Ну это только к лучшему. Больнее будет. Приступаем? Или ты передумала?
Последний раз посмотрев сначала на нож, а потом на Тащерского, я вздыхаю. Решает Бог? На том и остановимся. Все равно ничего более дельного мне в голову уже не успевает прийти. Тащерский похож на Бога? Нет, а значит, не ему и решать, жить мне или нет.
— Передумала.
— Да? — Мой палач оживляется. — И какие же у нас будут идеи? Вернешь денюжки?
Я киваю на Петька с Толяном:
— Пусть выйдут.
Сощурив глаза, Тащерский на миг задумывается, но все-таки, решив, что если что, то и один со мной справится, отсылает прихвостней из ванной.
— Ну? — говорит он, прикрыв дверь. — Знаешь, где деньги что ли?
— Да.
— И?
— В пещере.
— Ого! — улыбка озаряет его лицо и Тащерский даже как-то на секунду молодеет. — Вот это уже лучше! А где пещера?
— Рядом. Я отведу. Но у меня два условия. Во-первых, получив деньги, вы оставляете меня в покое и не трогаете квартиру. Во-вторых, пойдете со мной только вы один.
— Э-э-э, не-е-е! Опять хитришь? Какие-такие условия? Ты вообще не в тех обстоятельствах, чтоб ставить мне условия!
Тащерский помахивает перед моим носом ножом. Грязным, прямо из мойки, с прилипшим к лезвию кусочком петрушки.
Я пожимаю плечами:
— Тогда ищите пещеру сами. Обшарьте горы, джунгли… Ночью. Ноги только не сломайте. И поторапливайтесь. Вы настолько не понравились Лучано, что к утру тут будет батальон полиции.
— А тебе не кажется, что сейчас Петёк отрежет тебе один ма-а-ленький пальчик, — Тащерский разводит большой и указательный (с лиловым ногтем) пальцы, показывая мне, сколько он собирается отрезать, — и ты без всяких условий отведешь нас в эту гребаную пещеру?
— Не кажется. Я истеричка. И к тому же у меня астма. А лекарство уже месяц назад, как закончилось. Я с первого же ма-а-ленького пальчика грохнусь тут у вас в обморок, начну задыхаться и через пять минут умру. И вы никогда не найдете ваших денег.
— Пиздишь!
— А вы проверьте. Клянусь, я умру! Вон, флакон от лекарства валяется пустой.
Я киваю на закончившийся спрей от комаров. Тащерский берет его в руки, подносит к носу и внимательно рассматривает. Белая пластиковая бутылочка, очень вовремя закончившаяся у меня пару дней назад, оказывается нетипичной формы, маленького размера, и на ней нет ни одного изображения комара, а все надписи сделаны исключительно тайской вязью. Купив его в аптеке, я сама долго не верила продавцу, что он продал мне то, что нужно.
— Пустой, — констатирует Тащерский, кидая его обратно.
Я развожу руками.
— Вот видите. Очень вам сочувствую, но долго пытать меня у вас не выйдет.
Тащерский сомневается, не зная, верить ли мне.
— Ну допустим… — говорит он после паузы, — мы тебя оставим в покое и даже квартиру не тронем. Но почему второе условие, что с тобой пойду один я?
Я вздыхаю. Теперь все зависит от того, удастся ли мне выглядеть убедительной.
— Потому что иначе ничего не выйдет. Если Стас увидит, что мы все пошли туда, он все поймет, опередит нас верхней тропой и заберет чемодан. Он прожил тут две недели и прыгает по скалам не хуже горной лани, а вы… — я оглядываю Тащерского, — точно туда вовремя не успеете. Я знаю Стаса семь лет. Если он увидит, что я отдаю вам деньги, он заберет их первый и бросит меня вам. Он предатель, мерзкая сука и сволочь!
Последнее является полной правдой и мне не приходится имитировать интонации. Их натуральность, похоже, впечатляет Тащерского. Теперь он смотрит на меня с интересом, словно впервые начав прислушиваться к моим словам. Он лезет в карман брюк и вытаскивает пачку сигарет. Задумчиво закуривает, сощурившись от дыма, потом берет мой подбородок в свои пальцы.
— Так, значит, выясняется, что наш Стасик все-таки еще жив?
Я киваю:
— Да. И наблюдает сейчас за домом. Мы должны были бежать сразу же после того, как вы поверите мне, что денег нет и уедете. Весь этот спектакль с якобы украденным чемоданом — для того, чтобы вы нас не искали.
Тащерский недоверчиво щурится:
— Что-то на Стаса не похоже думать, что я такой дурак. Мы как-никак давно друг друга знаем… И хоть я американских институтов и не заканчивал, но в жизни разбираюсь получше многих, оч-чень многих… И он это знает.
Меня снова сковывает липкий страх, что если мне сейчас не поверят, то начнутся отрезания пальчиков, мое вранье про астму моментально вскроется, и ожидающая меня смерть будет ужасна. Лихорадочно соображая, я вспоминаю, что если хочешь, чтобы тебе поверили, надо добавлять во вранье частички правды.
— Это была моя идея. Стас был не согласен, но я его шантажировала, что на других условиях не сниму деньги из банка. Они пришли на мой счет, и сам он снять их не мог. Я не оставила ему другого выхода. Дайте мне, пожалуйста, закурить?
Мне протягивается пачка, зажатая в массивном волосистом кулаке, толстый ребристый ноготь стучит по ней, вытряхивая сигарету.
— Ну допустим. А что сейчас? Ты решила его кинуть?
— А вы оставили мне выбор?
— Ну выбор-то есть всегда, вон ты и выбрала… Молодец, не ссы, нормально выбрала. Деньги — зло. Одна морока от них! Прыгаешь тут, понимаешь ли, как дурак по континентам, а у меня, между прочим, у внучки вчера день рождения был. Два годка. А деда не пришел. Деда, бля, в Тайланде херней страдает, бабам пальцы режет как мальчик… Толян! — кричит Тащерский. — Сюда пойди!
Дверь открывается.
— Посиди тут с мадам. Я сейчас вернусь, надо кой-чё обсудить с Петьком.
Тащерский выходит и мы остаемся вдвоем. Время тянется, каждой секундой пульсируя у меня в висках. Что, если Тащерский пошел искать Стаса, и скоро вернется, не обнаружив того и решив мне не верить? Но минут через пять, когда дышать от страха становится уже настолько трудно, что я начинаю действительно подозревать у себя астму, он возвращается.
— В чем твой план? — по-деловому спрашивает он, и я понимаю, что мне поверили.
— Эти двое, — киваю я на Толяна, — должны остаться у дома. Быть на виду. Двери и окна надо закрыть, свет оставить включенным, чтобы Стас думал, что мы все еще внутри. А сами мы выбираемся из окна на кухне и тихо, прячась за камнями, уходим. Там типа тропы. По камням. Особой сноровки не требуется. Если боитесь, что я сбегу, можете прихватить нож. Но я не сбегу. Мне просто некуда. Быстро идем в пещеру, это минут пятнадцать хода, берем деньги, возвращаемся сюда и вы уезжаете. Все. Квартиру вы обещали не трогать. Годится?
— А Стас?
— А что Стас? Вы хотите его убить? Мы же вернем вам деньги!
— Да нафиг он мне сдался, убивать его? — сплевывает на пол Тащерский. — Пусть на глаза мне никогда не показывается и выживет Стас твой. Я про другое. Как я знаю, что это не подстава, что его не окажется в пещере и он не вооружен, например?
— Как? — Я лихорадочно соображаю. — Ну, может, и никак. Но вы же понимаете, что если вы вооружитесь, то точно справитесь со Стасом. Он же дохляк.
— Ну… он-то, конечно, дохляк. Но что-то все это мне не нравится. Уж больно быстро ты согласилась.
Я скашиваю глаза на нож:
— Разве так уж быстро?
Тащерский похлопывает себя лезвием по бедру, в его глазах играют отсветы битвы, происходящей между желанием немедленно забрать деньги из пещеры, и чутьем, подсказывающим, что что-то тут все-таки не так. Но жадность берет верх.
— А, хер с тобой! Бог не выдаст, свинья не съест! Давай, где там твое окно на кухне? Только имей в виду, у меня кастет, и нож твой я тоже прихватил. Попытаешься сбежать, урою! Внучкой клянусь!
Бежать не представляется никакой возможности. Тащерский крепко стискивает мое предплечье, тяжело дыша прямо в ухо, и пропускает меня вперед только в самых узких местах, где по-другому не пройти, да и то, по уговору, я не могу отходить дальше, чем на расстояние, необходимое ему, чтобы тыкать мне в спину кончиком ножа. Но меня это не беспокоит. Бежать я и не собираюсь. Если боги до такой степени хотят моей смерти, что старательно выстраивают ряд невероятных и диких событий, в которых я болтаюсь словно безвольная пешка в руках сумасброда-шахматиста, то все, что мне остается теперь желать, так это то, что бы на моем трупе хотя бы присутствовали все пальцы рук и ног. Не ради сострадания к нервным системам меня хоронящих (таковых мне, кстати, вообще не представляется: родители погибли, детей и сестер-братьев никогда и не было), а чисто из эстетических побуждений. С пальцами как-то все-таки красивее. Да и хотелось бы в последний миг поднять глаза на небо, вдохнуть свежий морской воздух, возможно, успеть подумать о чем-то достойном, высоком или на крайний случай философском, а не извиваться в потоках собственных слюней и крови, сидя на дне чугунной ванны и вымаливая пощады у «деды».
— А сколько же вам лет, раз уже есть внучка? — спрашиваю я, перепрыгивая с камня на камень.
— Сколько ни есть, все мои. Как в песне про мои года, мое богатство, — пыхтит Тащерский, еле поспевая за мной.
— Ну все-таки?
— Ну, допустим, сорок три.
— И уже есть внуки?
— Не внуки, а внучка. Одна. Но шустрая! Качели хочет, лазилки всякие во дворе…
— И?
— А что и? Пошел к депутату знакомому, решил вопрос. Как вот снег стает, так будут ей и качели, и полная детская площадка. Установят во дворе.
— В обычном московском дворе?
— А каком? Ясно дело, в обычном.
— А другие дети смогут на площадке играть? Или… ну или это все личная собственность внучки будет?
— А вот это мы еще поглядим. Как захочет, так и будет. Что мне, долго чтоль забором попросить все обнести? А чего спрашиваешь, тебе-то что до этого?
— Да так. Мысли жуткие в голову лезут. Кажется, не нажилась я еще. Ничего не успела ни сделать, ни хотя бы просто понять. Вот и страшно умирать. А вам уже было бы не страшно, в сорок три?
— Дура ты, как я погляжу, полная. Кому это умирать не страшно? Это от возраста не зависит.
— А от чего зависит?
— Ни от чего. Умирать всегда страшно. Что-то разболталась ты. Иди ровнее, не прыгай, и фонарем свети не только себе под ноги, а посередине. Хочешь заговорить мне зубы, чтоб я ногу сломал, а ты убежала? — Кулак еще крепче сжимает мою руку. — Не дождешься. Раньше думать надо было, а не воровать чужое. К тому же ты ж за деньгами вроде идешь? Ну вот отдашь их, жива останешься.
В небе блином повисла круглая пятнистая луна. Скалы вокруг нас посеребренены призрачным молочным светом и, на мой взгляд, фонарик этой ночью вовсе не нужен. Но я перевожу его луч под ноги Тащерскому. В мои планы никак не входит, чтобы он сломал себе ногу. У меня есть цель. Я должна довести его дальше, туда, где богам будет предложено прекратить игру в прятки и открыто заявить о своих намерениях.
Тихий вечер незаметно превратился в ветреную ночь. Во влажном воздухе пахнет приближающейся грозой, в напитанном звездами небе уже видны большие туманные куски, лишенные света космических светил, что говорит о том, что над островом собираются тучи. Ну что ж, надо мной они давно собрались. Гадалка говорит, что все решает Бог? Отлично, меня это устраивает, более того, я собираюсь ему помочь побыстрее принять решение.
— А какая в Москве сейчас погода? — спрашиваю я.
— Отдашь деньги и сама узнаешь.
— Вы всегда такой необщительный?
— А ты общительная?
— Я — нет. Обычно нет. Но сейчас что-то горло давит, словно ком застрял. Когда говоришь, он меньше становится. По крайней мере так кажется.
Тащерский ничего не отвечает и пихает меня вперед. Я послушно переставляю ноги. Побежать? Что он сделает? Догнать — не догонит. Не в темноте, и не по камням, которые я знаю как свои пять пальцев. О Господи, какой жуткий образ! Пока у меня их пять, но что будет, если боги меня не послушают, не воспользуются предложенной помощью и отвергнут ситуацию, которую я им готовлю? Сколько у меня будет пальцев? Господи, почему ты мне не послал хотя бы астмы, чтобы действительно побыстрее оборвать мои страдания приступом истерического удушья, если весь мой план все-таки сорвется? Но нет, это уже вопрос принципиальный. Я никуда не побегу. Я должна разобраться, и даже не со Стасом или Тащерским, а сразу уж с Богом.
— Еще обогнуть вон тот валун и пришли, — сообщаю я, переходя на шепот.
— Стаса точно нет в пещере?
— Точно. Он следит за домом, я же сказала.
— А что шепчешь тогда?
— Не знаю. Гг…гголос пропал.
— Волнуешься что ли?
— Волнуюсь, — честно говорю я.
«Волнуюсь» сказано слишком мягко. Чем ближе мы приближаемся к цели, тем слабее становятся мои ноги, тем громче разрываются в груди снаряды, бьющие прямо по сердцу.
— Здесь надо нагибаться. Скалу видите? Нам под нее.
Я направляю фонарик на препятствие, чтобы дать Тащерскому изучить его получше.
— Я первый, ты за мной, — решает он, вздохнув.
— Может, лучше я первая?
Но Тащерский сильнее сжимает мою руку, решительно сгибается пополам и, выставив мне под нос крепкий зад, пролезает под нависшим над тропой камнем.
— Больно! — жалуюсь я.
— Мне тоже было больно, когда деньги испарились со счета.
Перед нами предстает та самая расщелина, за которой открываются две дороги: вниз на наш с Арно пляжик и вверх к пещере. Сердце останавливается в груди. Ноги перестают слушаться. Дыхание замирает.
— Что встала? Нам на мост? Двигай тогда давай! — раздражается Тащерский. — Узкий мосток-то, сволочь! Туземцы под себя строили? Вдвоем не пройти.
Я делаю несколько шатающихся шагов.
— Может быть, перекурим? — спрашиваю я с надеждой на хотя бы минутную отсрочку безаппеляционного божественного суда, ради которого я сюда, собственно и пришла.
— Никаких перекуров!
Нож опять больно колет меня под лопатку, но я не могу заставить себя сдвинуться с места. Господи, дай мне силы! Вот он тот миг, когда все, наконец, будет по-твоему. Решай же! Я задираю голову к небу и на минуту мне кажется, что посреди холодного света (а, может быть, именно из него и слепленная, наподобие созвездий) на меня действительно выглядывает глумливая улыбка. Но нет, померещилось. Никакой улыбки там не оказывается, и лишь серебристые точечки Большой Медведицы перемигиваются, то появляясь, то снова исчезая за облаками.
— Я иду первый, — решает Тащерский.
— Нет, нет! Первая я! А вы стойте тут и ждите, пока я… вообщем пока я не перейду на ту сторону. Двоих мост не выдержит.
Если бы страх мог кричать, то окружающие нас скалы разломились на куски от его оглушительного рева. Я подхожу вплотную к мосту, заношу ногу над первой перекладиной, крепящейся к давно прогнившей веревочной основе, и мне кажется, что я теряю сознание. Все плывет у меня перед глазами, и, пошатнувшись, я хватаюсь рукой за канат, чтобы хоть как-то удержать равновесие. Вот она та самая пропасть в конце шоссе! Недаром я ее так ждала, не напрасно она мерещилась мне бессонными московскими ночами. Так все и есть. Это конец. Смерть.
Я словно впадаю в транс, я уже не соображаю, что за мной стоит Тащерский, не вижу скал, луны, не чувствую ветер. Мною завладевают ужас и жгучее, безысходное отчаяние. Как? Как он мог так поступить со мной?! Как они все могли?! Стас? Эти безжалостные, бесчувственные Боги? Кому и что я сделала в этой жизни столь плохое, чтобы кара была так велика?
Словно отрекшись от меня, луна заходит за тучу и все вокруг погружается в кромешную черноту. Тут же мелькает предательская мыслишка: надо все же пустить Тащерского первым! Пусть его заберут вместо меня! Я откуплюсь жертвоприношением, заложу его словно барана, авось злобные боги хотя бы на время напьются чужой крови и оставят меня в покое. Хотя оставят ли? Или у них другой план? Почему, Господи, нам не дано знать заранее о твоих намерениях? Я бы жила совершенно по-другому, я бы переделала все, мне кажется, теперь-то я знаю, как надо было! Дайте мне второй шанс! Я обещаю, я исправлюсь, я все пойму! К своему ужасу я понимаю, что даже не помню наизусть ни одной молитвы! Ничего, никакой соломинки, за которую можно бы ухватиться. В моей руке зажат полусгнивший канат. Это все, что у меня есть. Ни одной идеи, за которую было бы не жалко умирать, ничего светлого или высокого не согревает моей души в ее последние минуты.
— Че раскорячилась-то? Заснула? Иди давай! — командует сзади Тащерский, не понимая моего замешательства. — Или я сам пойду.
Я зажмуриваюсь и, словно на плаху, опускаю ногу на первую перекладину. Медленно переношу на нее вес. Не смотреть вниз, ни за что не смотреть! Моя вторая нога все еще стоит на надежном гранитном камне, еще не поздно отступить. Сердце останавливается, а кишки словно подпрыгивают от ужаса, леденеют и давят снизу на горло, мешая дышать. Я превращаюсь в слух. Доска тревожно скрипит, но выдерживает. Я отрываю вторую ногу от камня. Руки судорожно цепляются за канат.
А-а-а, к черту! Оторвав руки от канатов, я бегом кидаюсь вперед. В моих ушах гудит то ли ветер, то ли животный ужас, я ничего не вижу, но ноги уже сами, без моего участия переступают с доски на доску, а тело каким-то невероятным образом умудряется сохранять баланс на раскачивающемся из стороны в сторону мосту. Мной овладевает безумие.
Но не успеваю я что-либо сообразить, как под моими ногами опять находится твердая опора из гранитных валунов. Я медленно открываю, как оказалось, закрытые глаза. Мир выстраивается вокруг меня. Я жива? Все это по-настоящему? В глазах мутится и плывет, и не сразу до меня доходит, что это от выступивших только что слез. Вытирая их кулаком, я оглядываюсь назад, но слишком поздно. Меня пронзает жуткий крик, смешивающийся с грохотом рвущихся веревок и обрушивающихся в пропасть досок. Я успеваю заметить растопыренные пальцы на мужской руке: с невероятной скоростью она мелькает, ища за что бы ухватиться, и, не найдя, исчезает в расщелине. Тутже раздается глухой удар чего-то мягкого о камни, за ним звонкий перестук упавших деревяшек, а за этим наступает полная тишина. Полнейшая. Как при контузии.
Я стою, как была, вполоборота к пропасти, не в силах пошевелиться или даже моргнуть. Слезы моментально высыхают, а во рту, наоборот, становится кисло. Я делаю судорожное движение гортанью, пытаясь сглотнуть, но понимаю, что забыла как это делается. Сердце тоже забыло, как биться, и, ухнув вниз, молчаливым гробиком валяется где-то в кишках.
— А-а-а… — говорю я, пробуя свой голос. Но его то ли нет, то ли просто заложило уши.
— А-а-а… — повторяю я громче, и на этот раз звук буквально оглушает меня.
— А-а-а! А-а-а! — ору я уже во все горло.
Отсутствовавшие звуки, наконец, включаются. Теперь до меня доносятся целые какофонические шедевры: бешеный рев бушующей под скалами воды, завывающий выше по склону ветер, истерические крики каких-то птиц. Я тупо смотрю себе под ноги, изучая острые камни, потом пробую попрыгать на них, похлопываю себя руками по щекам, бокам, бедрам, тру кулаками глаза, словно пытаясь проснуться от дурного сна. Но ничего не меняется. Моста просто нет. На том месте, где он еще минуту назад был, зияет расщелина. Такая же, как слева и справа.
Я медленно приближаюсь к пропасти. Я понятия не имею, что хочу там увидеть. Свалку из досок, шевелящегося раненного человека, призрак, рогатого черта? Но вместо всего этого из расщелины меня ослепляет невыносимо яркий свет. В первую секунду у меня мелькает сумасшедшая мысль, что это, светясь, покидает мертвое тело душа. Но через миг я понимаю, что это всего-навсего направленный прямо на меня луч от фонарика.
Луч слепит меня, мешая разглядеть остальное, но каким-то шестым чувством я понимаю, что никого живого там внизу уже нет. Наталкивает на эту мысль и царящая в ущелье гробовая тишина, и отсутствие какого-либо намека на движение. Но я по-прежнему не думаю ни о чем, мозг парализован, серое вещество еще не отошло от шока. Я просто точно знаю , что Тащерский мертв. Не потому, что упав с такой высоты на острые камни, никому выжить, и не потому, что вижу какие-то доказательства смерти. Нет. На меня словно сходит озарение, и прямое знание пульсирует у меня в голове, словно сумасшедший пинг-понговый шарик: он мертв, он мертв, он мертв.
35
Как я добралась до хижины Арно, я бы не припомнила и под пыткой. Вероятно на меня опять опустилась благословенная пустота. Очнулась я от громкого стука. Не сразу до меня дошло, что его производит мой собственный кулак, изо всех сил долбящий в дверь. Внутри дома было темно. Может, Арно давно и сладко спит в своей почти непорочной французской келье? (О, не будем сейчас вспоминать мерно ходящие туда-сюда ягодицы). Сейчас мне уже не до приличий. И не до того, что я твердо решила никогда в жизни больше не видеть этого человека. Какие уж там решения в такую ночь? Да и к кому мне, собственно говоря, еще было бежать?
Заспанный, весь в завитках чуть влажных волос, Арно предстает в дверном проеме. Вокруг его бедер обмотана простыня, в глазах вместо привычной иронии застыло искреннее удивление.
— Ты? Что случилось?
— Я… — выдыхаю я и без сил оседаю на крыльцо. — Я… Я, кажется, убила… человека.
— Что?!
Все мое тело — от коленей до кончика подбородка — вдруг начинает ходить ходуном, и я не в силах что-либо с этим сделать. Я опираюсь спиной о дверной косяк и закрываю глаза.
Кажется, Арно присаживается на корточки, по крайней мере его голос звучит теперь где-то напротив моего лица:
— Ты уверена?
Я несколько раз киваю и заставляю себя разлепить глаза. Вероятно, в моем взгляде читается неподдельный ужас или что-то в том же роде, потому что Арно исчезает в двери и через мгновение появляется обратно, уже одетый.
— Где он? — спрашивает он.
— Там.
— Почему ты вся мокрая?
— Не важно.
— Как это случилось? Кто этот человек?
Но у меня нет сил на объяснения. Я снова закрываю глаза. Мне жутко хочется заплакать и все-все подробно рассказать, но боги не посылают мне ни того, ни другого облегчения. Это было бы слишком легко. Я этого не заслужила.
— Пойдем, — встает Арно и, словно тряпичную куклу, поднимает меня за руку.
Я в ужасе трясу головой и пытаюсь присесть обратно:
— Нет! Я не пойду туда больше! Я не могу!
— Можешь. Вставай. Где это?
Захлопнув дверь ногой, Арно тащит меня к тропе, ведущей вниз на пляж.
— Я не могу! Он там… Он мертв!
Арно выходит из себя:
— Да где это, хоть скажи! Может, он не мертв? Может, ему требуется помощь?
Где-то я читала, что ноги сами возвращают убийцу к месту преступления. Так ли это на самом деле или это художественная выдумка авторов, но, несмотря на сковывающий меня ужас и нежелание куда бы то ни было идти, ноги сами ведут меня в сторону моей «Виллы». Вот она уже белеет впереди на темных скалах. В окнах оранжево светится мягкий и когда-то такой уютный свет. Еще недавно мне было там хорошо. Теперь все изменилось.
— Это случилось у тебя дома? — спрашивает Арно.
Я отрицательно трясу головой.
— А где?
— Там, дальше…
— Где дальше?
— Ну дальше… Где мы… Где был… Отпусти меня! Я не смогу туда вернуться!
Но Арно уже направляется к каменным ступеням у подножия «Виллы Пратьяхары».
— Нет! — дергаю я его за руку. — Не так! Если уж идти дальше, то надо обойти снизу по камням, у воды!
— Почему, о Господи? В море шторм. Мы не пройдем, нас собьет с ног волнами!
— Да? Разве шторм?
Я осоловело обвожу глазами разбушевавшееся море, впервые осознав, что постепенно усиливающийся за последние часы ветер действительно перерос в штормовой.
— Но мимо дома идти нельзя! Там люди. Плохие. Заметят. Убьют. Тебя тоже убьют. Давай вообще не пойдем, а?
— Нет, — отрубает Арно и первым приближается к скалам. — Пойдем. В обход, так в обход. Так ты поэтому мокрая с головы до ног? Ты таким путем прошла ко мне?
Я киваю. Вероятно, так и было, хотя поручиться за то, что я хоть что-то помню, я не могу.
Подойдя к подножию скал, мы огибаем их справа, минуем «Пиратский бар» и заходим в воду. Волны бьются о камни, разлетаясь фейерверком крупных брызг. Начался отлив, и вода, будь она спокойной, доставала бы нам всего до пояса. Но в шторм море хлещет о скалы, порой заглатывая нас с головой.
Арно идет первым, крепко сжимая мою руку и пытаясь прикрыть меня от особо крупных волн. Луна снова куда-то запропастилась, и мы движемся в почти кромешной темноте. Пару раз мы оступаемся, пару раз налетаем на подводные камни, но каким-то чудом нам все-таки удается выбраться на скалы уже позади моей «Виллы».
— Теперь куда?
Я киваю вперед.
— Это на нашем пляже что ли? — не выдерживает Арно минут через десять молчаливого хмурого хода.
— Почти. У моста. Собственно… это под мостом.
— Под?
Я лишь судорожно сглатываю, и мы опять продолжаем путь, лишенные и фонарика, и света луны, почти наощупь обшаривая ногами камни. Наконец, впереди начинает угадываться валун, за которым притаилась расщелина.
— Ну? — останавливается Арно и смотрит на меня в упор.
Я киваю в сторону пропасти, не в силах разлепить пересохшие губы.
Подняв брови, как он обычно это делает, словно бы говоря «ну-ка, посмотрим», Арно останавливает меня знаком руки и, подойдя к тому месту, где еще недавно висел мост, наклоняется на ямой. С минуту, хотя время настолько условно, что мне кажется, что прошла вечность, за которую можно было родиться, вырасти, поседеть и состариться, он всматривается вниз, потом разгибается, чешет затылок и недоуменно спрашивает:
— Мост обрушился? Там доски, канаты и какой-то странный свет.
— Это от фонарика, — мой голос доносится до меня глухо, будто из-под толщи воды. — А… больше ты там ничего не видел? Ну… я имею в виду… человека не видел?
Арно нагибается опять. Я закусываю губу и молюсь, чтобы больше там ничего не было. Тащерский был ранен, это несомненно. Но пришел в себя, выбрался наружу и в данный момент разгуливает где-то у нас за спинами, зверея от бешенства и желания расквитаться. Пусть лучше так, чем труп с разможженым черепом, словно тряпка валяющийся на дне пропасти. На миг мне удается в это поверить, откуда-то сзади ветер приносит странные шумы, заставляя меня заледенеть от нового ужаса.
— Надо спуститься. Фонарь слепит, ничего не рассмотреть, — заключает Арно, заходя чуть ниже по склону. — Там расщелина шире и чуть более пологая, я сейчас схожу.
— Нет! Не оставляй меня тут одну! Я с ума сойду! — скороговоркой тараторю я, приседая на корточки и шаря по камням руками, пытаясь в темноте нащупать дорогу.
Не знаю, каким образом нам удается не переломать себе руки и ноги, но факт остается фактом: через какое-то время мы ступаем на дно расщелины. Арно оказался прав, она действительно расширяется ближе к морю, и особенно нахальные волны уже наплескали на камнях что-то типа озерка. Луч фонаря, направленный наверх, туда, где раньше был мост, больше не мешает нам рассмотреть громоздящиеся вокруг руины, и нашему взору открывается поистине леденящая картина: среди обломков досок и сгнившей прошлогодней листвы в неестественно вывернутой позе раскинуто нелепое, обезображенное абсолютной неподвижностью грузное человеческое тело. Одна нога завалилась вбок так, словно оторвана в тазобедренном суставе, вторая подвернута под себя, в руках зажат конец веревочных перил, а голова съехала в сторону, словно бы вообще не желая иметь ко всему этому никакого дальнейшего отношения.
Вскрикнув, я пошатываюсь и, взмахнув руками, оседаю на валун. Сомнений быть не может, Тащерский, как говорят на щадящем ухо и по-британски тактичном английском языке, did not make it, или же по-нашему, просто абсолютно мертв. Жертвоприношение было принято. Баран заколот. Жрецы раскачиваются в трансе у почти потухшего костра. Счастливые аборигены могут расходиться по хижинам.
— Я не хотела, — выдыхаю я.
Арно молчит. Сухая листва шуршит под его ногами. Судя по всему, он решил подойти поближе к… Даже в мыслях мне трудно называть все своими именами, и холодное и определенное «труп» хочется заменить на более мягкое — «тело».
— Нда… — заключает, наконец, вернувшийся ко мне Арно. — Ты права. Парень определенно покинул наш бренный мир. Смотри, что я вытащил из его шеи.
Это острый обломок деревяшки, поблескивающий в темноте чем-то густым и влажным. Горло мгновенно сжимает тошнота и, даже не успев отвернуться, я выворачиваю душу прямо себе под ноги.
— Упс. Извини. Я дурак. — Арно равнодушно отбрасывает доску, и она звонко ударяется о скалы, заставляя меня съежиться и опять схватиться за горло, удерживая очередной порыв рвоты.
— У тебя закурить не найдется? Мой табак промок. Ах да, твои же сигареты, наверное, тоже, — морщится Арно, садясь спиной к обломкам и почесывая голень.
Обхватив голову руками, я раскачиваюсь из стороны в сторону в тихом безумном трансе.
— А у него? — спрашивает Арно.
— Э-э-э?..
— Ну, покойный курил?
Я недоуменно киваю, все еще не понимая, куда клонит Арно, и в шоке наблюдая, как он встает, подходит к… покойному , бодро хлопает его по карманам, выуживает оттуда пачку и, чиркнув в темноте зажигалкой, шумно выпускает дым и возвращается ко мне.
— Тебе прикурить? — предлагает он.
Я в ужасе отшатываюсь.
— Ну как хочешь. Хотя почему не взять у него сигарет? Ему же они больше не нужны, — пожимает плечами Арно и присаживается рядом со мной, обнимая меня за плечи. — Мы ничем не можем ему помочь. Теперь тебе лучше успокоиться и рассказать мне, что тут все-таки случилось.
В конце концов я соглашаюсь на сигарету «покойного» и, сначала медленно, а потом все более и более нервной скороговоркой, излагаю события последних дней: про поездку в Бангкок, украденные миллионы, мое решение их вернуть, недоступную мне пратьяхару, приезд Тащерского и почти отрезанные пальцы, посиневшими комочками валяющиеся на дне окровавленной ванной («ну это плод твоего больного воображения», прокомментировал Арно), постепенно добираясь до истории с мостом.
Из Арно получился идеальный слушатель. Слегка наклонив голову и механически потирая оцарапанные голени, он впитывает мой рассказ молча и, за исключением нескольких отрезвляющих ремарок, не прерывает меня никакими вопросами.
— Я решила, что дам богам самим выбрать, кого убить. Меня или его. Если б они выбрали меня, то такая смерть все равно лучше той, ну… в ванной. А если б они выбрали его, то я как бы здесь ни при чем. Я же вела себя честно! Я могла его пустить первым, он сам предложил. Но я же все-таки пошла впереди него! Это значит, что… Я запуталась… Я не понимаю. Кто его убил?! Бог или я?! Я с ума сойду, если не отвечу на этот вопрос! Это я его убила? Да? Ты поэтому молчишь? Ты думаешь, это я?
Арно качает головой:
— Какая теперь разница?
— Но ты думаешь, это я?
— Да. Я думаю, это ты.
— Но я же дала Богу шанс, сама встала на мост! Если б он хотел, он ведь мог его обрушить подо мной, а не ждать, пока пойдет… — я киваю назад, туда, где среди обломков валяется тело, словно списанная в неликвид растерзанная боксерская груша. — Я поверила гадалке, что решает Бог. Я дала ему решить. И пошла на мост проверить, было ли у бога намерение убить меня. И выжила. По-крайней мере мне сначала так показалось, но сейчас я понимаю, что ошиблась. Я такой же труп, как и он. Я обречена, парадокс был в том, что как бы оно ни обернулось, а мне все равно не выжить!
— Успокойся, ты себя заводишь. Ты уже выжила.
— Да ты просто ничего до сих пор не понял. Там в доме сидят его люди. А еще у него есть сын. Они вместе делают бизнес. Он найдет меня везде. Понимаешь, просто везде. Я никогда не смогу вернуться в Москву или остаться жить тут. Мне просто нет места на этой планете. Меня найдут, и, если хотели убить просто за деньги, то уж за убийство Тащерского, будь уверен, меня просто четвертуют, раздерут на куски руками, а не ножом! Бог надо мной поиздевался! Он сначала показал мне мир, нормальный, как у тебя, как у Лучано или Сэма… а потом отнял его и подсунул ту самую, обещанную мне смерть! Дай мне еще сигарету, я уже имею на нее право, как труп у трупа, могу одолжить у Тащерского закурить.
Арно протягивает мне пачку.
— Ну на труп-то ты не похожа, — замечает он.
— Похожа или не похожа — уже не важно, я умерла. Мне конец. Когда я подошла к мосту, поставила на него ногу, но еще не перенесла на нее вес тела, я зажмурилась, и передо мной буквально встала картина, о которой я тебе однажды говорила: шоссе, обнесенное колючей проволокой, никуда не свернуть, а впереди — и теперь я к ней подошла вплотную — та самая жуткая пропасть, как разверстая пасть, зовущая меня, ждущая, зловонная, и я стою на ее краю. Все было в точности так, как я всегда и боялась. И хоть и упала туда не я, но это то же самое, будто я. Это просто отсрочка. Вместо сердца у меня пропасть, заполненная мраком, я не могу пошевелиться, я словно не я, а мой собственный труп, видящий сон про последние минуты своей уже завершившейся жизни.
— Нда… — говорит Арно и задумчиво бросает камушки в темноту. — А ты была в Варанаси?
— Где?
— Это место в Индии. На реке Ганг. Считается, что если прах уплывет в ее водах, то человеку обеспечено бессмертие. И вот туда везут трупы сотнями, сжигают на главной площади. Я как-то снял номер в отеле и сидел на балконе, месяц, или два, не помню, и смотрел на тысячи костров, на чад, стоящий над городком, неба не видно. И вдыхал запах жженой человеческой плоти.
— О Господи! Зачем?!
— Значит, ты там не была. А зря. Такие поездки надо включать в школьную программу. Очень полезное местечко.
— Кому? Трупам?
— Живым. В том-то и дело, что полезное живым . Таким, как ты вот, например. Живым и глупым.
— Нет, — я трясу головой. — Не начинай. Сейчас ты опять расскажешь мне какую-нибудь нравоучительную историю типа той, про женщину с туберкулезом.
— Ну если ты так хочешь оставаться трупом… — холодно пожимает плечами Арно и опять начинает пулять камушки в скалу, будто бы серьезно увлеченный их рикошетными трелями, но не выдерживает, разворачивается ко мне и неожиданно встряхивает меня точно куклу. — Хватит уже истерить! Надо смотреть на вещи трезво и серьезно. Ты жива! Пойдем!
Вскочив, француз тащит меня в сторону обломков.
— Куда? — упираюсь я.
— Куда надо.
— Я не пойду! Там он!
— Кто?
— Покойный!
— Так ты же сама покойница? Чего тебе бояться?
— Все равно, не пойду! Не могу!
Но Арно не отпускает меня, пока не подтаскивает к телу.
— Смотри! — командует Арно неожиданно властным голосом.
Стон срывается с моих губ:
— Не-е-ет…
— Видишь, его кости переломаны?! Видишь, что-то торчит из его груди?! Это кость, что б ее черт подрал! Его драная сломанная кость! А дырку в шее видишь? А жизнь в его глазах? В глаза ему смотри, а не тряси головой! Есть там жизнь, я спрашиваю?!
— Прекрати, пожалуйста!
— Дотронься до него!
Арно толкает меня вперед, и я падаю на труп, еле успев выставить вперед руки. Они тут же утыкаются во что-то мокрое и омерзительно липкое. Кровь? Вывалившиеся из брюшной раны кишки?
И в этот момент, здравствуйте, я ваша добрая мама, из-за туч снова появляется наше потерянное светило. Тут как тут, румяная луна освещает жуткую картину до мельчайших деталей, словно кто-то наверху специально зажег мне свет. Перед самым своим лицом я успеваю заметить закатившиеся зрачки, затем слегка удивленную, брезгливую гримасу, исказившую полные губы, и восковую, обесцвеченную смертью пористую кожу, — и меня выворачивает наизнанку прямо на грудь Тащерского.
Вытирая ладонью губы и постанывая, я стараюсь отвернуться, как угодно, на четвереньках отползти подальше.
— Куда это ты собралась? Смотри на него! Вот он, труп! Настоящий, мертвый, а не самозванец навроде тебя!
Арно хватает меня за плечи и начинает отчаянно трясти, словно вытрясая из меня не понравившуюся ему мысль о смерти:
— Паола! Перестань ползти, ты не животное! Повернись к нему! Раскрой глаза! Видишь, в нем роются крабы? Ниже смотри, на ногу! Он сдох, понимаешь ты, идиотка? А ты?! Ты на него похожа?! Найди десять отличий между ним и тобой! Что ты дергаешься? Подсказать? Он не дышит, а ты дышишь! Он не может пошевелиться, а ты можешь! Он никогда больше не увидит ни луны, ни моря, не проследит за облаками, не порадуется вкусу воды! Его сердце никогда не сожмется ни от любви, ни от ненависти! Ему даже больше не больно! А тебе?
Пальцы впиваются в мое запястье, и я дергаюсь от боли.
— Разницу поняла? Или мне продолжить дальше?
— Не надо, — молю я.
— Не надо? А, может, надо? Может, ты все еще хочешь быть трупом? Считаешь, что ты такая же, как и он? Умерла? И все это лишь на том основании, что обстоятельства мешают тебе вернуться в твой безумный город, который истощил тебя, выкрутил тебе руки, изнасиловал душу, к твоему безрадостному магазину, или, может быть, к любимой подруге Жанне или к этому твоему сожителю, который предал тебя? Да?! В этом вся истерика?! В невозможности вернуться в свою прежнюю жизнь? Что ты мне талдычишь, что ты умерла?! Кто умер? Умерла та старая Паола, которая приехала на этот остров, всего на свете боясь и ничего не решаясь поменять, цепляющаяся за старое, привычное, знакомое, даже если оно привело ее к полному кризису. Понимаешь? Но ты посмотри на себя: у тебя две руки, две ноги, глаза, уши, сердце! Где на тебе написано твое имя? На лбу? На груди? Покажи мне эту надпись и я ее сотру.
Я опять делаю тщетную попытку вырваться, но Арно лишь повышает голос:
— Что та Паола надеялась тут найти? Зачем она сюда приехала?
— Пратьяхару… — рыдаю я.
— Ах, пратьяхару! Ах, вон оно как все запущено! Я угадал, название дома было очень неспроста, да? И в чем был план? Посидеть в своей башне из слоновой кости и…? Найти саму пратьяхару? Да? Так ты хотела? Но это же полнейший самообман! Так думали дикари, если сожрать кого-то сильного или умного, то эти качества перейдут к тебе. Но ты же не будешь утверждать, что на полном серьезе полагала найти пратьяхару, отсидевшись в доме с таким названием? Нельзя найти ничего снаружи. Снаружи ничего нет. Если заяц залезет в лисью нору, он не станет лисицей!
Наконец-то, наконец-то меня все-таки прорвало на слезы. Они текут ручьями, нет, реками, водопадами, я даже не пытаюсь их вытирать, а Арно словно бы ничего не замечает. Он берет мою руку и насильно прижимает ко лбу Тащерского. Тот влажен, прохладен и пуст . Я замираю от ужаса и, одновременно, от осознания какого-то странного покоя, обволакивающего меня почти физически ощущаемым туманом, сквозь который окружающий меня мир — освещенные луной скалы, сломанные деревяшки, оборванные веревки, ползущий по икре Тащерского краб — проступает нереальной, остановившейся картинкой. В теле под моей рукой никого нет, оно мертвее камня, в который упираются мои ноги. Я поднимаю руку, кладу на свой лоб и чувствую тепло.
Разгоряченный, с красными пятнами на щеках, Арно снова тащит меня куда-то. Мы вылезаем из расщелины и оказываемся на треугольном валуне.
— Начни все по-другому, — говорит Арно, останавливаясь и переводя дух. — Смотри, как красиво! Живи! Люди начинают новую жизнь каждый день! Сотри все старое, нажми полный RESET! Настоящий покой не может родиться извне тебя, ни из дома, ни из острова. Для этого нужен толчок, который поменяет тебя изнутри. Пратьяхара — это не кабачковые оладьи и не рыбалка на закате. Это внутреннее состояние, не видимое со стороны, оно светится в глазах, да и все, пожалуй. И оно приходит только изнутри. А ты посмотри, что у тебя там было, в той твоей жизни? Ты же даже не могла толком ответить на вопрос, любила ли ты этого твоего… забыл как его зовут.
— Стас, — подсказываю я.
— Да не важно. Пусть Стас. Ты же талантливая, ты такая умничка! Ну сделай мне одолжение, начни, наконец, жить!
— Но как?! Все рухнуло.
— Что именно рухнуло? Ты просто слишком привязана к тому, что у тебя было. Забудь! Отвяжись! Ты же не любила ничего и никого из той жизни!
— Родителей…
— Вспомнила.
— Я никогда не смогу приехать к ним на могилу.
— Это все, что мешает тебе жить?
— Нет.
— А что еще?
— Не знаю.
— А я знаю! Страх тебе мешает и больше ничего!
— Неправда.
Размахнувшись и бросив в море камень, Арно отворачивается от меня и садится на край валуна.
— Я ничем больше не смогу тебе помочь, — говорит он. — Ты не слышишь меня. Зачем ты меня позвала? Что бы я закопал труп? Убил тех двоих, оставшихся в доме? Сотворил чудо? Ты действительно умерла. Паолы нет. А новым человеком ты быть не хочешь.
Я опускаюсь на скалы чуть поодаль. Как же я устала! Какое-то время мы сидим, глядя на бушующее море. Еще говорят, это сухой сезон. Того гляди, опять хлынет ливень. Ветер треплет волосы Арно, кидает в лицо, в глаза, но он не обращает на это внимания. Я закусываю губу. Мне становится стыдно. Зачем, действительно, я его сюда притащила? Ради чего?
— И что… — спрашиваю я тихо. — Что мне дальше делать?
Еще один камень плюхается в воду.
— Я уже сказал. Перестань думать, что твоя жизнь — это ты. Ты — это ты, а все вокруг зависит от тебя. Даже твое имя.
— Имя-то как?
— Элементарно. Паспорта продаются и покупаются. Не в этом дело, а в том, что ты не хочешь даже попробовать.
Я закрываю лицо ладонями. Дышу в них, пытаясь согреть пальцы. Мысли не желают слушаться меня, шарахаясь друг друга в темноте того мрака, в котором я очутилась.
— Как? — спрашиваю я.
— Как жить дальше?
Я киваю. Интересно, это слезы или начался дождь? Хотя, какая разница?
— Для начала понять, что ты живая. Осознать это. А дальше уже можно думать, как именно поступить в сложившейся ситуации.
— Мне кажется, — говорю я, — я немного уже это поняла. Ну, что я живая. Мне вот холодно, например.
Арно оборачивается.
— Тогда докажи. Лезь на камень и ори это всему миру.
— Что ори?
— Я живая, ори. Что еще?
— Это шутка?
— Ни в коей мере. Я серьезен, как давно уже не был. А все потому, что ты нравишься мне.
Его слова обжигаю мне сердце. Я опираюсь рукой о землю, поднимаюсь и направляюсь к высящемуся впереди валуну.
— Этот сойдет? — уточняю я.
Забравшись повыше, я оборачиваюсь:
— Что надо орать?
— Что чувствуешь, то и ори. Это не спектакль. Ты делаешь это не для меня.
Взглянув на море, я выбираю точкой опоры лунную дорожку. То самое шоссе, в конце которого висел подвесной мост, кратчайшая дорога в пропасть.
— Я жива, — еле слышно выдавливаю я.
— Не годится, — качает головой Арно.
Сглотнув и прокашлявшись, я начинаю снова:
— Я жива. Я жива.
Голос не слушается меня, и я кажусь себе нелепой. Я оглядываюсь, но это действительно не спектакль. Ярко освещенные луной скалы позади меня пусты, зрителей нет, а ссутулившаяся на корточках фигура француза мне почему-то совсем не мешает.
Я прочищаю горло, набираю полные легкие воздуха и неожиданно ору со всей мочи:
— Я ЖИВА! Слышите, вы там, боги? Я ЖИВА! Я ЖИ-ВА-а-а-а!..
Эхо разносит мой крик над морем. Испуганные, шуршат по скалам крабы, где-то в кустах несколько раз свищет птица, но я, точно заведенная, уже не могу остановиться и продолжаю надрывать горло до тех пор, пока голос не срывается на хрип.
Без сил, я опускаюсь на колени. Мой подбородок дрожит. Слезы опять начинают литься ручьями из глаз. Но теперь это другие слезы, слезы облегчения.
— Я все-таки жива, — шепчу я себе под нос, слизывая языком соленую жидкость с уголков рта.
Арно пошевелился и посмотрел на меня. Смешно, я, оказывается, совершенно забыла про то, что он все еще находится рядом.
36
— План помнишь? — спрашивает Арно, стоя по колено в воде и придерживая борт моей надувной лодки.
Я сосредоточенно киваю. Самое важное — преодолеть рифы и добраться до рыбацкой баржи. Там меня уже ждут, чтобы переправить в Малайзию, где я сажусь на большой многопалубный корабль, направляющийся к берегам Новой Каледонии. Дальше — просто: надо найти в порту Себастьяна, передать записку от Арно, и через два дня у меня на руках окажется пропуск в дальнейшую жизнь, простой и приятный французский паспорт с моей фотографией, но… (маленькое недоразумение, или же, наоборот, подарок судьбы, зачет по сданному Полиной Власовой экзамену) — с новым именем. «Ничего, — подмигнул Арно, — у французов красивые имена, не бойся, никакой Шизильдой или Газельдой ты не получишься».
Паспорт, заверил меня Арно, будет самый что ни на есть настоящий, с таким можно передвигаться по миру без всяких проблем, но напоследок все-таки настойчиво посоветовал внимательнее присмотреться к самой Новой Каледонии. Страна островная, уютная, большей частью заселена эмигрировавшими французами. Круассаны, горячий шоколад и развитый художественный вкус населения гарантированы, следовательно ничто не помешает мне прокормить себя, по-новой занявшись моими фарфоровыми светильниками, оживив свою умершую галерею. Название «Lux in tenebris» Арно полностью одобрил. «Немного помпезно, но ничего, привлекает внимание, и, главное, соответствует истине».
Очередная волна с шумом разбивается о прибрежные камни, чуть не переворачивая лодку, и два тайских парнишки, вызвавшихся переправить меня на отцовский баркас, нервно ежатся, с нетерпением поглядывая на нас. Я уже забралась на борт и прижимаю к себе пакет с наспех собранной Арно поклажей: немного денег, бутерброды и вода, а также самые необходимые предметы, вроде полотенца, зубной щетки и солнечных очков, «это чтобы тебя море не слепило».
— Ах да, — Арно, кажется, нервничает. — Чуть не забыл!
Мне в руку ложится блокнот.
— Вот, в дороге вдруг заскучается? Так можно начать рисовать. Лампы там… или не знаю. Что захочется. Это мой блокнот, но я им не пользовался, так, пара первых страниц заняты… всякой ерундой, а в остальном он совершенно пустой.
Я дотрагиваюсь до руки Арно, все еще придерживающей лодку.
— В этой новой жизни ты все сделаешь по-другому. Так, как ты на самом деле хочешь. Сама, самостоятельно. Ты поймешь, если еще не поняла, что никакой гармонии и покоя не может быть, если перекладывать это занятие на других. И, кстати, поскольку внешнее ничего по сути не значит, то тебе вовсе необязательно жить на острове. Это я выбрал, мне так нравится. А ты построишь свою жизнь где захочешь, и, кто знает, может, это окажется Лондон или Нью-Йорк? Хотя, отстойные города. Но я не настаиваю. Делай, как тебе лучше. Я… Хотя нет. Все! Езжай! Главное, миновать рифы, а там уже глубоко и волна пойдет потише. Я останусь смотреть на берегу.
Я киваю.
— И еще… Если у тебя возникнут какие-то проблемы, то ты можешь написать мне на имэйл, я оставил адрес, там, в блокноте. И паспортные данные свои тоже оставил. Скажи Себастьяну, он поможет тебе сделать доверенность на мое имя, я продам «Виллу Пратьяхару» и вышлю тебе деньги. Пригодятся на первых порах.
Я заставляю себя оторваться от Арно и растерянно окидываю взглядом замерший на скале белый дом.
— Не грусти, — говорит Арно, — он тебе больше не понадобится. Пратьяхара может быть только внутри нас.
Я закусываю губу, еще раз киваю и, чуть задержав пальцы на его руке, даю им соскользнуть. Боясь встретиться с Арно глазами, я перевожу взгляд себе под ноги. Там уже вовсю плещется вода.
— Мадам, надо быстро. Берег опасно, много острый камень, море совсем плохой, — не выдерживает таец, выглядящий постарше, и мы с Арно немедленно, словно испугавшись, что не сможем расстаться, что из нас вырвутся какие-то необратимые слова, хором соглашаемся, что пора отчаливать.
Арно отталкивает лодку, пошатывается под ударом волны, морщится, вероятно, от попавшегося под босую ногу острого камня и, так и не оторвав от меня взгляда, пятится к берегу. Я сажусь спиной к нему и лицом к еще черному горизонту, но через какое-то время все-таки не выдерживаю, оборачиваюсь, рискуя потерять равновесие, и вглядываюсь в темноту. Француз помечен в ней крошечным, подолгу загорающимся и гаснущим мотыльком сигареты. Я всматриваюсь в берег, пытаясь запомнить как можно больше деталей — белесые скалы, щемящий сердце, но согревающий душу огонек от сигареты, плеск острых колючих волн — не думая, что еще увижу Арно когда-либо в этой жизни и не боясь, что выдам взглядом разрывающие меня одиночество и грусть. Пожалуй, впервые я смотрю на Арно открыто, не скрываясь. По крайней мере теперь, когда жалкое наше суденышко отделяют от берега не менее пятнадцати метров, это безопасно. Оставшийся на острове загадочный француз ничего не сможет прочесть на моем лице, я для него — лишь сгорбленный черный силуэт на фоне лунного моря.
Штормовой ветер так и не пригнал ливень, но стихнуть при этом — не стих. Учитывая, что оставшиеся в доме прихвостни вскоре забеспокоятся и начнут поиски Тащерского, ждать до утра мы сочли слишком опасным. Проводив меня, бессильную и спотыкающуюся, к себе домой и наспех отпоив горячим чаем, Арно сбегал сначала к Лучано — забрать мой, так удачно хранящийся там паспорт, потом к своим знакомым рыбакам — договориться о переправке в Малайзию. Во сколько это ему обошлось, он категорически отказался признаваться. Кажется, я и не очень настаивала. Единственной проблемой оставалось попасть на рыбацкий баркас. Из-за отлива и сильного ветра ни одна тяжелая деревянная лодка не прошла бы рифы. И тут я вспомнила про свою надувную калошу, подаренную мной Сэму. Уже с вещами, одетая в доходящую мне почти до колена сухую рубашку Арно, перепоясанную его же платком так, что получилось жалкое подобие туземного платья, я постучалась в бунгало немца. Надо думать, к тому моменту на дворе стояла уже совершеннейшая глухая ночь, но приличия не трогали меня. Там долго шуршали, шушукались и совещались, прежде чем открыть, и, когда я все-таки заглянула в приоткрывшуюся щель, то поняла почему. В дальнем углу грубой самодельной кровати, словно Венера, закутанная в простыни, испуганным изваянием замерла Барбара. Я улыбнулась ей самой приветливой из всех улыбок, на которую была способна в данных обстоятельствах, и встревоженная маска на ее лице ожила, сменившись радугой солнечных красок. Выслушав мою просьбу, Сэм закивал, наспех сунул ноги в резиновые вьетнамки и, придерживая одной рукой намотанное на бедра мохнатое полотенце, поспешил проводить меня за дом. Там, прямо на подсвеченной луной, словно присыпанной инеем, серебристой траве лежала, слегка завалясь на один бок, моя роковая и еще недавно проклятая мною надувная лодка. Скрещенными китайскими палочками, на дне покоились заново выкрашенные Сэмом и будто, как и я, обретшие новую жизнь, весла.
Сейчас они зажаты в проворных руках тайских парнишек. Подростков, почти мальчишек. От небогатой жизни быстро взрослеешь. На голове одного из них повязана красная хулиганская бандана, у другого на плече не татуировка, а простая переводная картинка с Микки-Маусом или чем там сейчас увлекаются современные азиатские дети. Поблескивающие под луной мокрые и неимоверно тощие ноги обоих упираются в скользкое резиновое дно. Я еще раз («самый последний», обещаю я себе) оборачиваюсь на берег. Огонек больше не светится, растворенный во мгле, но я чувствую, Арно все еще там.
Конечно же, я не спросила его ни о чем. Наши дороги разошлись, и в накатившем на меня покорном состоянии это воспринимается единственно возможным. Ну не просить же у человека, считанные часы назад подарившего тебе жизнь, успокоительного и тупого бабьего счастья? Рай в двухместном шалаше, разбухшее от стирки корыто, мыльная пена на ее щеках, свежедобытый хворост на его загорелых плечах и, где-то на заднем плане, кабачковые оладьи? Арно дал мне гораздо больше. А человеческому сердцу всегда всего мало, вот оно и щемит, к этому давно уже стоило бы привыкнуть.
Я заставляю себя отвернуться и смотреть вперед. Там, робким гостем, боящимся оторвать людей от чего-то важного, застенчиво стучится в наше полушарие следующий день. Над горизонтом медленно намечается новая жизнь. Сначала бледно-фиолетовая, но на глазах набирающая силы полоска света вступает в права, разливая, будто парное молоко, нежно-желтоватые и божественно-розовые тона над постепенно успокаивающимся морем. Ветер, как только мы миновали опасные рифы, как по мановению волшебной палочки, стих. Море приходит в себя, восстанавливаясь после пережитого волнения. Волны еще островаты и тут и там покрыты вспенивающимися гребешками, но видно, что глубоко внутри пучина уже опять готова стать ласковым и воспетым в туристических брошюрах бирюзовым зеркалом Сиамского залива. Неожиданно мне вспоминается, как я ехала сюда впервые, так же сидя на корме и любуясь на подвижные мокрые голени тайских лодочников. Только тогда был закат, а сейчас, наоборот, занимается рассвет. Хотя, никакой разницы между ними нет. Все происходит так же, лишь в обратном порядке: из интенсивно-пурпурного свечение над морем становится с каждой минутой все светлее и увереннее. А так, — та же трещина между двумя мирами, двумя плотными состояниями, в которые знаешь, или, по крайней мере, думаешь, что знаешь, как тебе положено жить.
Рыбацкий баркас разворачивается к нам носом, готовясь принять груз. Нелепо торчат во все стороны снасти, крепящиеся к выступающим над водой балкам. На них установлены те самые пресловутые прожектора для приманки ночных кальмаров, на которые я, бывало, часами смотрела с берега. Тогда они представлялись мне гигантскими глазами бодрствующего монстра, вблизи же оказались добродушными галогеновыми увальнями. У меня на глаза наворачиваются слезы. Уже не разберешь, какие. Опять становится трудно дышать и рот заполняется горечью.
И тут, в этот самый момент, в расплывающийся мир проскальзывает чудо. Обычное чудо, на которое давно никто не обращает никакого внимания: позади разноперых снастей, веревок и нелепых самодельных удочек из-за моря выглядывает светящийся полукруг Жизни. Слепящий, чистый, он растет прямо у меня на глазах, постепенно превращаясь в золотой шар, играющий светом на моих мокрых щеках.
Тайцы по-своему истолковывают мои слезы и кивают на баржу:
— Один минут. Все хорошо. Больше не опасно.
Я слизываю слезы с губ и киваю, соглашаясь. Я знаю, «больше не опасно». Жизнь не может быть опасна, это человеческий миф, страх. Она либо есть, и тогда она есть до последнего вздоха, либо ее просто нет.
Меня слепит солнце. И вместе с ним в груди разрывается снаряд, начиненный счастьем. Диким, нечеловеческим счастьем. Нелогичным, беспричинным, ни на что не направленным, таким, каким я никогда его не переживала. И тут до меня, наконец, доходит. Я живая. Просто живая, и этого абсолютно достаточно. Просить большего — кошмарнейшая наглость, непростительнейшее несусветное нахальство. Как остро, как сильно можно проживать каждую минуту, потрясает меня. И как мало, оказывается, для этого нужно. Обычные мещанские вещи, такие как дом, карьера, деньги… вообще не входят в этот короткий список, по сути состоящий из единственного пункта — возможности дышать! А уж если боги одарили тебя еще одним бесценным даром — зрением — и ты можешь (совершенно бесплатно, безвозмездно) поднять глаза на бескрайнее небо, то кажется, что и вообще больше ничего в жизни уже не надо! Я просто жива, а значит у меня есть право видеть этот неземной слепящий свет, и какое мне дело до всего остального! Как там наобещала гадалка? Полина Власова умерла? Распрекрасно. Так ей, впрочем, и надо. Но я-то жива! Тогда да здравствую я! RESET! Счастье возможно. Оно будет. Боже мой, куда я смотрела? Оно, оказывается, уже есть! Как давно оно ждало, пока я, наконец, его замечу? Я отчетливо понимаю, что оно было тут всегда, просто я никогда не смотрела в его сторону!
Мне кажется, я еще различаю на берегу маленькое белое пятнышко от рубашки Арно. Милый, милый Арно, не волнуйся за меня! Не сиди на берегу, со мной уже все в порядке! Я больше ничего не боюсь. У меня есть то, что невозможно отнять. Как выяснилось, человека можно лишить многого, но никто не может вынуть это распирающее, бешеное ликование из моей груди!
Главный рыбак на баркасе смотрит на меня растерянно, протягивая руку, чтобы помочь перебраться на борт, и не понимая, почему меня заливают слезы. Я стряхиваю их тыльной стороной ладони и пытаюсь улыбнуться. Боже мой, как я люблю сейчас этого тайца! Встав, я понимаю, что меня укачало. Ноги не слушаются, и я хватаю протянутую мне шершавую ладонь. Перехожу на борт баркаса.
— Иди туда, — кивает мне хозяин на моток веревки на носу.
Я сажусь, поджав под себя ноги. Мне передают мой полиэтиленовый мешок с поклажей. Это все, что у меня есть в новой жизни. Солнце встает выше, теперь между ним и морем появилась голубая полоска утреннего неба. У меня пока нет ничего, кроме далеко не новой зубной щетки Арно и еще пары таких же предметов. Забавно, нет даже имени. Меня «не посчитали», меня словно вообще нет в человеческих рядах. Временно выбыла. На неделю, пока я доберусь до Себастьяна. Или на четыреста лет до следующего рождения. Жизнь на мосту. Мост рухнул, на нем должна была быть я, но странным образом, я оказалась на другом краю пропасти. Может быть, вспышкой мелькает у меня в голове, это все-таки была я? Я разбилась о скалы и все последующее происходит уже не в той жизни?
Таец сует мне тарелку с остывшим рисом. Судя по всему, своим собственным ужином. Я благодарно качаю головой, отклоняя его руку и похлопывая по мешку у себя на коленях, мол, спасибо, капункап, у меня есть бутерброды.
Замешкавшись на миг, не зная, как бы еще меня подбодрить, таец все-таки отходит к дощатой рубке. Мальчишки сдувают мою лодку и, смяв ее (все пригодится в хозяйстве), кидают рядом со мной. Протяжно ревет, просыпаясь, мотор. Я последний раз оглядываюсь на берег. Различить Арно с такого расстояния мне уже не удается. Зато отчетливо белеет на скале белоснежный прямоугольник моего дома. Дальше, за «Пиратским баром», выпрыгнув из-за мыса, к берегу направляется лодка-такси, груженая еще незагорелым народом. Наверное, новый заезд к Лучано. Нет, я все еще в этой жизни, хотя зачем она мне после того, что я минуты назад пережила, уже непонятно. Что еще я могу понять, красивее, сильнее и счастливее того, чему научило меня солнце?
Господи, пугаюсь я вдруг, что будет, если я все это забуду? Я должна это записать, это кажется мне настолько важным, что если разум сыграет надо мной шутку и сотрет все из памяти, то моя жизнь сложится как-то по-другому, возможно, опять превратится из кареты в тыкву. Где мой блокнот?
Раскрыв его посредине, я хватаюсь за карандаш и начинаю судорожно строчить кривые вереницы слов, будто пьяных от счастья, укачанных на волнах набирающего скорость и направляющегося к неизвестным мне берегам, баркаса.
Солнце встает все выше и выше, освещая узкую полоску пляжа и играя зайчиками в стеклах моей брошенной и ненужной мне больше «Виллы Пратьяхары». Арно был прав, какое нелепое название для дома!
Эпилог
На потолке чистенького, по-канцелярски безличного кабинета, напрочь игнорируя последние лучи заходящего апрельского солнца, уже битый час противно жужжали галогеновые лампы. За столом, спиной к окну сидел худой и прилизанный работник. Его руки нервно бегали по бумагам, бессмысленно открывая и тут же закрывая папки, никак не относящиеся к делу. Так же хаотично бегали по голым неуютным стенам и его светлые, почти бесцветные глаза.
— Ну я же вам повторяю, разыгрался шторм, даже не шторм, а целое цунами. Тридцать тысяч погибших и пропавших без вести, сотни затонувших кораблей. Поиски, разумеется, все еще ведутся, но вы же сами должны понимать. Ну что они там найдут? Кого на берег вынесло, того уже вынесло, а кого не нашли… — работник развел руками и незаметно зевнул.
— Но судно, этот лайнер, на котором она плыла, ведь же не затонуло? — продолжал докапываться до истины Иван Иваныч.
— Не затонуло. Но огромное количество пассажиров посмывало с палуб волной. Посреди открытого моря. Ну и где вы хотите, чтобы их искали? На дне? Как? Водолазами? Там глубина какая, знаете?
— Глубина, глубина… — пробурчал Иван Иваныч и поерзал на жестком стуле.
Выходило, что племянница, какими-то судьбами занесенная к берегам Новой Каледонии (еще вчера Иван Иваныч не имел ни малейшего представления, где это вообще находится), попала в шторм и вместе с другими пассажирами исчезла с борта с грехом пополам выжившего судна. Вещи ее, однако, преспокойно продолжали покоиться в кабине, и именно благодаря этому властям, с невероятным, почти месячным опозданием, через русское посольство удалось разыскать ее единственного здравствующего родственника, к тому же еще и проживающего на Кипре.
Собрав чемодан, Иван Иванович вылетел в Москву, где уже третий день подряд обивал пороги самых различных инстанций, оформляя документы и разбираясь с несложными имущественными правами. В первый же день ему передали сверток с найденными вещами, сходу удивившими своей немногочисленностью: в полиэтиленовом пакете не нашлось ничего, кроме зубной щетки, довольно грязного полотенца, которые Иван Иваныч сразу же и выбросил (ну в самом деле, не брать же такое на память?), и изрядно пострадавшего от воды блокнота с вложенным в него паспортом. На второй день (уже в другой конторе) его огорошили новостью, что у пропавшей имелась в собственности какая-то постройка на одном из тайских островов, и в случае, если племянница не объявится живой, то по прошествии надлежащего срока Иван Иваныч, как единственный родственник, а соответственно, и наследник, обогатится совершенно ему не нужной тропической дачкой. На этом список полученного имущества пропавшей заканчивался. Никаких объяснений, как она очутилась на борту лайнера, курсирующего от берегов Малайзии к Новой Каледонии, никто дать, разумеется, так и не смог.
— А большой ли шанс, что еще будут находиться живые люди? — спросил Иван Иваныч прилизанного.
Тот только покачал головой:
— Вы же знаете, прошел уже почти месяц.
— Да, да… Это разумеется. Но все-таки?
Работник опять покачал головой:
— Кто знает? Но надо быть готовым, что уже все. Не найдут. Видать, прибрали Боги, отмучалась ваша племянница.
— Отмучалась… Слово-то какое. И что ж это выходит, даже похорон не отыграть? — насупился посетитель.
— А что хоронить-то будете? Пустое место, воздух?
— Ну… Нехорошо ж как-то. Раз могилы нет, то совсем будто и не было человека. Прожил, а ничего от него не осталось.
— Ну почему не осталось? Память вот, в ваших сердцах.
Иван Иваныч поскреб в затылке. Пожевал губами воображаемый сигаретный фильтр, посмотрел в окно.
— Да и памяти-то не много останется. Сирота она была. Родители еще пару лет назад как погибли, а больше у нее, кроме меня, вообще никого. А я кто? Седьмая вода на киселе, мы последние лет десять и не виделись ни разу. А так, я б ее к родителям закопал, все ж это как-то более по-людски что ли, с могилкой-то… И да место там есть, в аккурат еще на четыре урночки, думали, дети пойдут, внуки, брали про запас, а оно вон как обернулось-то. Семья так и не разрослась…
Сочувствующий сотрудник понимающе кивнул, незаметно скосился на настенные часы, потом на ворох раскиданных по столу бумаг и вздохнул.
— Ну, похороните ее чисто символически. Предмет какой-нибудь, ей одной принадлежащий, что-нибудь характерное, личное…
Личное… — размышлял озадаченный Иван Иваныч, бредя по уже сгущающимся сумеркам. И где ж его взять, личное это? Квартира оказалась записана на сожителя ее, а его тоже след простыл. То ли жив, то ли мертв, поди разбери. Сумасшедшая жизнь пошла, людей по-человечески прямо больше не похоронишь. Ни прав на взлом квартиры, ни ключей, разумеется, нет. Разве ж вот, обрадовался Иван Иваныч неожиданно пришедшей в голову мысли, блокнот тот? Запись в нем, судя по всему, очень личная, прямо вот, как выразился этот прилизанный, «характерная». И сжечь его проблемы не составит. Пожалуй, вот прямо в раковине в гостиничной ванной комнате и можно. Хоть сегодня. А завтра, прямо с утречка на Хованское, дать этим балбесам по пятьсот рублей, быстро плиту снимут, положить э-э-э… в чем бы положить пепел? Да не важно, это за вечер само придумается, плиту вернуть обратно, распить чуток водочки, чисто так, за светлую память, и вечером на самолет. Со спокойным, так сказать, сердцем, с чувством хорошо выполненного долга. А Настеньке подарочки уже в Шереметьево прикупить. Платок там или… да какая разница? Парфюм какой вот.
Придя к выводу, что все складывается вполне удачно, Иван Иваныч запрыгал по лужам в убыстренном темпе и даже замурлыкал под нос какой-то бравурный марш, что позволило ему незаметно преодолеть оставшиеся три квартала. За стойкой рецепции опять сидела та самая немолодая и неулыбчивая, которая три дня назад по ошибке выдала Иван Иванычу номер люкс. Не желая лишний раз попадаться на глаза, (мало ли, еще отберут номер? а дело-то даже и не в люксе, а в том, что ради последней ночи заново привыкать к новому месту в возрасте-то поди уже не просто) Иван Иваныч сгорбился, отвернулся и постарался незаметно проскользнуть к лифту.
— Good evening! Isn’t it a beautiful weather today? — радостно засветился ему какой-то иностранец, заходя с ним в кабину.
— Э-э-э… Гуд, гуд, вери бьютифул… — рассеянно покивал Иван Иваныч, мысленно уже вставляя плоский ключ в полагающуюся для него щель и мечтая укрыться в спокойном уединении своего номера.
Там все было так, как он и оставил, в спешке убегая сегодня утром. Когда-то насквозь промокший и заново высохший, весь от этого покореженный и пятнистый, блокнот покоился на журнальном столике, все еще раскрытый на странице с карандашной записью. Иван Иваныч покосился на него, скинул пальто, крякнув, нагнулся, расшнуровал ботинки, переобулся в тапочки и, осторожно перешагивая через моментально натекшую на полу грязную лужицу, направился в ванную, где тщательно вымыл руки с мылом. Раковина вполне его устроила. Идеальное место для кремации. Большая, глубокая, одним словом пожар гостинице не грозит, отметил он.
За окном бесшумно проплывали сотни машин, вместе с Садовым Кольцом уползая в черную пасть туннеля. Иван Иваныч заварил в стакане чайный пакетик и немножко постоял, мелкими глотками прихлебывая кипяток и устремив невидящий взгляд на улицу. Потом словно бы очнулся, тряхнул головой, вздохнул, взял блокнот и, не забыв прихватить из пустой пепельницы коробок гостиничных спичек, направился в ванную комнату. Остановился в нерешительности, пооглядывался на потолок. Противопожарной сигнализации не было. Это хорошо, подумал Иван Иваныч, и на всякий случай прикрыл дверь в коридор.
Точно маленький черный плоский гробик, блокнот доверчиво лег на дно раковины. Коленкоровая обложка, пожалуй, будет сильно дымить. Оторвать и выбросить в ведро? — на миг задумался Иван Иваныч, но тут же отбросил эту мысль. Нет, сжигать, так сжигать все. Промазала, чиркнув по девственному корешку серы спичка. К потолку устремился легкий дымок. Но что-то мешало Иван Иванычу приступить к его последнему долгу, сосало под ложечкой, давило на грудь. Эх, вернусь домой, надо опять пойди к врачу что ли, опять сердце щемит не по-хорошему, — Иван Иваныч задул спичку. Попрощаться бы все-таки надо, не мусор же во дворе сжигаю!
Потерев переносицу по тому месту, где обычно находились очки, и обнаружив их отсутствие, он поленился возвращаться за ними в гостиную и открыл блокнот. Длинная, страницы на четыре, карандашная запись находилась в середине пустого блокнота. И лишь на первой странице имелась еще одна запись, сделанная другой рукой и на английском языке. Вверху листа был записан чей-то имэйл-адрес, ниже зачем-то шли данные паспорта, судя по месту выдачи (Париж), принадлежащего какому-то французу. А дальше, бедной родственницей ютясь внизу, была коротенькая приписка.
…
«Я подумал… Вернее, я запретил себе думать и пишу то, что чувствую. Ты знаешь, я всегда хотел сделать так, как лучше тебе. Поэтому я не настаиваю, но прошу. Если вдруг у тебя будет время в твоей новой жизни, и, кто знает, желание еще раз увидеться, то просто напиши мне, и я приеду к тебе куда захочешь, в любое место, которое ты скажешь.
Арно»
Больше в блокноте ничего не обнаружилось. Пролистав его до конца, Иван Иваныч вздохнул и чиркнул второй спичкой. Полосатые страницы быстро охватились огнем, сморщился на задравшихся углах коленкор и, как и опасался Иван Иваныч, сильно задымило. Сердце екнуло, снова стиснутое тисками. Закашлявшись, Иван Иваныч отошел подальше от раковины и наблюдал дальнейшее от двери, периодически выглядывая в коридор и глотая глоток-другой свежего воздуха.
На всю процедуру кремации ушло всего десять минут. Пепла вышло на удивление немного. Ссыпав его в непонятно откуда обнаружившийся в чемодане конверт, Иван Иваныч лизнул сухую полоску клея и хорошенько придавил сверху пальцами.
Гостиничные часы показывали половину восьмого. Самое время ужинать, решил Иван Иваныч и, поморщившись и брезгливо переобувшись обратно в промокшие за день ботинки, бесшумно выскользнул из номера. К черту экономию, спущусь в дорогущий гостиничный ресторан, закажу киевскую котлету с пюре, салат-цезарь или нет, лучше оливье, можно даже побаловаться жульеном, да и сто граммами «Столичной», — удовлетворенно мечтал он, шагая к лифту. Настроение после удачной кремации заметно улучшилось и, уже подъезжая к первому этажу, Иван Иваныч подумал, что по такому поводу, как сегодняшний, наверное, и двести грамм будут вполне извинительны.


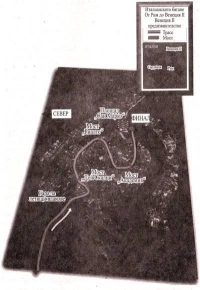

Комментарии к книге «Вилла Пратьяхара», Катерина Кириченко
Всего 0 комментариев