Рис Гордон Мыши
Посвящается Джоанне
1
Мы с мамой жили в коттедже, в получасе езды от города.
Было нелегко найти дом, который бы полностью удовлетворял нашим требованиям: в сельской местности, без соседей, с тремя спальнями, палисадником и задним двором; к тому же дом с историей, «со своим характером», при этом со всеми современными удобствами — обязательно с центральным отоплением, поскольку мы обе страшные мерзлячки. И место нужно было тихое. Укромное. В конце концов, мы ведь мыши. Мы не искали дом как таковой. Мы искали норку, где можно было спрятаться.
Вместе с риелтором мы осмотрели кучу вариантов, но, стоило нам различить проглядывавшую сквозь кроны деревьев соседскую крышу или услышать гул машин, пусть даже отдаленный, мы тут же обменивались многозначительными взглядами, мысленно вычеркивая объект из списка. Разумеется, мы отдавали дань вежливости и соглашались осмотреть дом, терпеливо выслушивая комментарии — это спальня хозяев, это еще одна спальня, а вот ванная. В самом деле, не могли же мы грубо оборвать нашего агента, который вывез нас так далеко за город; а для мамы напуститься на самоуверенного молодого человека с зализанными волосами и несмолкающим мобильником (мы посмотрели достаточно, спасибо, Даррен, это нам не подходит) было равносильно тому, чтобы слетать на Луну. Мыши не бывают грубыми. Мыши не ведут себя агрессивно. И в результате мы угробили не одну субботу, мотаясь по округе и осматривая дома, которые нам были совершенно не интересны.
И вот, наконец, нас привезли в коттедж Жимолость.
Нельзя сказать, чтобы он поразил наше воображение: с коричневым кирпичным фасадом, маленькими оконцами, серой шиферной крышей и закопченными дымоходами, он выглядел скорее как «город», а не как «деревня». Но вот его местоположение и вправду было глухим. Со всех сторон его окружали акры фермерской земли, а ближайшие соседи проживали в полумиле. К коттеджу вела единственная одноколейка, серпантином извивавшаяся по округе. С крутыми поворотами, высокой живой изгородью по обочинам, она больше напоминала лабиринт, а не шоссе. Пожалуй, впервые мы поверили Даррену, когда тот сказал, что здесь практически никто не ездит, опасаясь, что придется плестись в хвосте сельскохозяйственного тихохода. Длинная, обсаженная деревьями подъездная дорога к дому, с рытвинами и резким уклоном влево, лишь усиливала впечатление, что коттедж Жимолость надежно защищен от мира и его суровая реальность нас здесь не настигнет.
К тому же здесь было на редкость тихо. Когда ветреным январским днем мы вышли из внедорожника Даррена, первым, на что я обратила внимание, была звенящая тишина. Это был тот редкий момент, когда птицы смолкли, а Даррен еще не пустился в свой бесконечный монолог продавца (мне нравится этот дом — и не просто нравится: была бы возможность, я бы поселился здесь уже завтра); я блаженствовала в этом полном отсутствии звуков.
Владельцами была пожилая пара, мистер и миссис Дженкинс. Они встретили нас в дверях — седовласые, краснощекие, в толстых вязаных кардиганах, с кружками чая в руках, — бурным смехом они реагировали на каждую реплику, даже не смешную. Мистер Дженкинс объяснил, что они вынуждены переехать в город из-за проблем со здоровьем у миссис Дженкинс — «моторчик пошаливает», так он выразился, — и в такой глуши им оставаться рискованно. Он добавил, что они с грустью покидают этот коттедж, где они прожили тридцать пять счастливых лет. Да, тридцать пять счастливых лет, повторила вслед за ним миссис Дженкинс, как и положено жене, привыкшей к роли послушного эха своего мужа.
Вместе с супругами мы по традиции совершили неуклюжую экскурсию по дому: когда слишком много людей толпится в узкой прихожей и на лестничной площадке и у каждой двери возникает смущенная заминка: после вас — нет, только после вас! Пока мы бродили по комнатам, я чувствовала, что мистер Дженкинс вновь и вновь возвращается взглядом ко мне, пытаясь разобраться, откуда у скромной девушки среднего достатка такие безобразные шрамы на лице. Я испытала облегчение, когда нас провели через кухню в сад за домом, где можно было отступить в тень и скрыться от его пытливых голубых глаз.
Мистер Дженкинс был опытным садоводом и решил, что нам нужно непременно знать об этом. Мы послушно ходили за ним по саду, где он хвалился своими фруктовыми деревьями, овощными грядками и двумя сараями. Это были самые чистые и самые организованные сараи, которые я когда-либо видела, — каждый инструмент висел на своем крючке, даже садовые перчатки имели свои вешалки, обозначенные табличками Джерри и Сью. Он показал нам и зловонную компостную яму, о которой отозвался: «Вот она — моя радость и гордость!»; а потом увлек нас в кипарисовую аллею, которую посадил в самый первый год, чтобы обозначить границу участка. Ныне деревья достигали десяти метров в высоту, и, пока хозяин расхваливал их здоровую кору, я осторожно заглянула в гущу зарослей. Далеко, сколько хватало глаз, простирались серовато-коричневые борозды фермерских полей.
Мистер Дженкинс особенно гордился своим палисадником. Широкую лужайку с безупречным газоном обрамляли бесконечные цветники и кустарники, которые проступали яркими заплатами даже в разгар зимы. «Очень важно иметь в саду зимние цветоносы, — поделился он с мамой, — и как можно больше многолетников, иначе зимой вы потеряете цвет». Мама, пытаясь сменить тему, призналась в том, что не сильна в садоводстве, но мистер Дженкинс воспринял это как приглашение восполнить пробел в ее образовании. И затянул нудную лекцию о типах почвы. «Возьмем эту почву, — сказал он. — Здесь мы имеем чистый известняк. Она несколько суховата, можно сказать, бедная. Требует внесения большого количества навоза, перегноя, садового компоста, торфа… — Я отошла в сторону, не в силах больше слушать, а он все не унимался: —…перегной… химические удобрения… известняковый слой…» В какой-то момент, как мне показалось, он произнес «кровяная мука», но я решила, что все-таки ослышалась.
Я пошла вперед, прочь от его раздражающего голоса, пока не уперлась в большой овальный розарий, разбитый в центре лужайки. Розы были безжалостно обрезаны и, словно в знак протеста, тянулись в небо своими ампутированными обрубками. Розарий имел заброшенный вид. Перекопанный, он напоминал мне свежевырытую могилу.
Оглядев другие растения и кусты в саду, я поняла, что не знаю практически ни одного названия. Если я собиралась быть писателем, мне, конечно, надлежало подтянуться в этом вопросе. Писатели, как мне казалось, знают названия всех цветов и деревьев; это добавляет им солидности и авторитета, ставит их в один ряд с Богом. Я решила, что, как только мы сюда переедем (по мечтательному взгляду матери уже было понятно, что этот дом будет нашим), прежде всего выучу названия каждого цветка и дерева в саду — не только общепринятые, но и латинские.
Когда я вернулась и встала рядом с мамой, мистер Дженкинс уже не мог более сдерживать своего любопытства.
— И что же с тобой приключилось, моя дорогая? — спросил он, явно имея в виду мое изуродованное лицо.
Мама инстинктивно прижала меня к себе и ответила за меня:
— С Шелли произошел несчастный случай. В школе.
2
Мама купила коттедж Жимолость на свою долю денег, вырученных после развода. На свою мышиную долю. Мой отец — адвокат по семейным делам, ха-ха! — ушел из семьи полтора года назад, променяв нас на свою секретаршу, девушку, которая моложе его — подумать только! — на тридцать лет, с кукольным личиком и глубоким декольте, неизменно выставленным на всеобщее обозрение. (Она всего на десять лет старше меня! И я должна считать ее своей «новой мамой»?) Разрешение традиционных аспектов развода — финансового и «опеки над ребенком» — растянулось почти на год. Отец сражался с моей мамой так, будто она была его злейшим врагом, а вовсе не женой, с которой он прожил восемнадцать лет, и пытался отобрать у нее все — даже меня.
Мама сдавала позиции одну за другой — так, она отказалась от права на долю его пенсии, отказалась от алиментов, даже вернула некоторые подарки, которые он сделал ей за годы брака — он не постеснялся истребовать их тоже, — но отказалась отдать меня. Суд принял во внимание то, что я, как «исключительно здравомыслящая» четырнадцатилетняя девочка, способна самостоятельно принять решение, с кем я хочу жить. Поскольку я отчаянно хотела остаться с мамой, отцовское заявление об опекунстве суд даже не стал рассматривать. Когда отец понял, что не может наказать маму за ее долголетнюю преданность и отобрать меня, он быстренько эмигрировал в Испанию со своей Зоей. Огромная любовь ко мне, которая, видимо, и толкала его на то, чтобы отсудить меня у матери, не помешала ему уехать, даже не попрощавшись, и с тех пор я о нем не слышала.
Нотариальное оформление сделки прошло на удивление быстро, и в конце января мы переехали в коттедж Жимолость. Это был один из тех непредсказуемых зимних дней, когда небо пугает нависающими черными тучами, а в следующее мгновение ярко светит солнце, будто возвещая о приходе весны, — но его тут же затягивает мрачными облаками, которые несут с собой пронизывающий ветер вперемешку с холодным дождем.
Грузчики, жующие жвачку и распространяющие вокруг себя острый запах пота, шлепали по коттеджу в своих грязных ботинках, отпуская тяжеловесные намеки на то, что у них пересохло во рту и они «умирают — так хотят чашку чая». Мама послушно вынесла на подносе кружки чая с молоком, положила в них по три-четыре ложки сахара, как было указано, и грузчики уселись пить чай и курить прямо на ящиках, которые им надлежало таскать. Один из них заметил, что мама пристально смотрит на уродливую вмятину на боковине пианино, и весело крикнул: «Это не мы, дорогуша. Это так и было». Мама поспешила в дом (мыши боятся конфронтации), и парни заржали.
Они заставили ее расплатиться наличными — не забыв включить и те полчаса, что они распивали чаи и передразнивали ее «аристократический» акцент, — и наконец уехали, оставив после себя кучу сигаретных окурков, разбросанных среди цветов.
Я нисколько не жалела, что променяла роскошный дом в городе, где прожила почти всю свою жизнь, на скромные удобства коттеджа Жимолость. Тот дом перестал быть для меня родным, как только началась тяжба с разводом; потом он стал просто семейным домом — лакомым куском, который адвокаты с обеих сторон разыгрывали между собой как шахматную партию. А семейный дом не может быть счастливым.
О том доме у меня сохранилось слишком много воспоминаний — и хороших, и плохих. И я не могла сказать, что было больнее вспоминать: как отец, переодетый в Санта-Клауса, вручал мне, семилетней, маленького золотистого хомячка, который дрожал в его руках; или как спустя семь лет отец, в стельку пьяный, ломился в дверь, требуя «отдать» меня на уик-энд, потому что была его очередь; или пятнадцатилетнюю годовщину свадьбы родителей, когда они танцевали в гостиной, щека к щеке, перед своими друзьями под музыку Эрика Клэптона; или как отец, спустя еще три года, оттолкнул маму с такой силой и злостью, что она упала на пол и сломала себе палец. В той самой гостиной…
Была еще одна причина, почему я с облегчением покидала семейный дом, причина, в которой мне горько было признаваться даже самой себе. Дело в том, что я продолжала любить своего отца. Несмотря на то что он так подло обошелся с нами, несмотря на все мои усилия мысленно очернить его, разорвать кровные узы было непросто. Все в этом семейном доме напоминало о другом отце, добром и веселом, с кем мне когда-то было так хорошо. Это был и уютный шалаш в ветвях старого бука, который он построил для меня, когда мне было лет шесть или семь; и красивые книжные полки, которые он повесил в моей комнате, когда я перешла в старшую школу; и коллекция «детской классики» в кожаных переплетах, которую он привез мне из Лондона (это отец вдохновил меня стать писателем, он посеял то семя). В гараже, который он переоборудовал в спортзал и где до сих пор витал легкий запах его пота, сохранилась мишень для игры в дартс, за которой мы провели столько счастливых минут.
Но, наверное, самое болезненное воспоминание об отце накатывало каждый раз, когда я подходила к зеркалу — и видела его карие глаза, обращенные на меня. Я не могла сказать, что была так же близка с отцом, как с матерью, но бывали у нас моменты особой нежности — скажем, когда он подбрасывал меня, малышку, высоко вверх, — и тогда мне казалось, что с ним даже лучше.
Конечно, я держала это в тайне от мамы, боялась обидеть ее. Но, пока мы жили в семейном доме, любовь к отцу не угасала, и, если мы с мамой вдруг ссорились, она разгоралась с новой силой. Я надеялась, что с переездом это тщательно скрываемое чувство ослабеет и постепенно угаснет.
Коттедж Жимолость был идеальным местом для начала новой жизни. Я полюбила его кухню с покрытым терракотовой плиткой полом, выскобленным столом из сосны и старомодной кладовкой: здесь всегда было тепло и уютно, как бы уныло ни было за окном, так что в конце концов мы перенесли все трапезы сюда. Мне нравилось, что гостиная была соединена со столовой и, чем бы мы ни занимались, я всегда чувствовала, что мама рядом. Я обожала открытый камин с его дымоходом, облицованным шероховатым серым камнем, и каминной полкой из полированного дуба, узкие ромбовидные окна в псевдотюдоровском стиле. Я полюбила и щербатую деревянную лестницу, где четвертая ступенька снизу громко скрипела, куда ни поставь ногу. Мне нравилась моя спальня с открытыми балками под потолком и широким подоконником, где я могла часами сидеть и читать при дневном свете, самом чистом и прозрачном. С особым удовольствием я открывала по утрам шторы и видела мозаику из вспаханных полей, вместо одинаковых краснокирпичных пригородных особняков, пусть даже и с припаркованными возле них «БМВ» и «мерседесами». Но больше всего мне нравилось то, что можно вынести стул в сад за домом и сидеть, наблюдая за тем, как в небе зарождаются облака и причудливо меняют форму, словно расплавленный парафин в гелевом светильнике.
Глядя в небо, я воображала, будто живу в другом времени — простом и невинном, — в идеале это было время, когда еще не родился человек, когда земля была бесконечным зеленым раем, а жестокости не было и в помине.
3
Когда-то мама была блестящим молодым юристом, и еще в годы учебы в университете за ней охотилась серьезная юридическая компания из Лондона. По окончании университета она устроилась к ним на работу, но радости ей это не принесло. Она ненавидела Лондон, с его агрессивными толпами, переполненным в час пик метро, красномордыми алкашами (в Лондоне мышам неуютно), и спустя четыре года решила переехать в провинцию. Она нашла работу в «Эверсонз», крупнейшей в городе юридической фирме, и там познакомилась с моим отцом, который был на восемь лет ее старше и в ту пору уже работал в компании в статусе партнера. После шести месяцев ухаживаний он сделал ей предложение.
Я часто задавалась вопросом — зная, какими разными они были и чем закончился их брак, — почему отец выбрал ее и почему она ответила согласием. Несомненно, отец был очарован мамой — на свадебных фотографиях видно, как она была хороша, с яркой внешностью и ослепительной улыбкой. Но, помимо этого, я уверена, он видел для себя вызов в том, чтобы завоевать сердце этой неловкой, надменной девушки с блестящим университетским дипломом и репутацией восходящей звезды юриспруденции. А мама, после полосы неудач, преследовавших ее в самом начале лондонской жизни (ее квартиру обокрали, средь бела дня вырвали в толпе сумку), возможно подсознательно, искала сильного мужчину, который мог бы защитить ее. Может, она думала, что его сила каким-то волшебным образом передастся и ей. Впрочем, не исключаю, что все решили его привлекательная внешность и обаяние; отец всегда был неотразим — даже маленькой девочкой я ревновала к тому, какой эффект производит на женщин его мимолетная улыбка.
Когда спустя четыре года родилась я, отец настоял на том, чтобы мама ушла с работы и полностью посвятила себя дому и ребенку. Он не хотел, чтобы его дочь передавали с рук на руки приходящим нянькам, как посылку (так он сам выразился); не хотел, чтобы дочь возвращалась из школы в пустой дом, потому что оба родителя на работе (так он сказал); его жалованья было вполне достаточно, чтобы содержать семью, и нет никакой нужды работать обоим (это тоже его слова). Его настойчивость никак не была связана (конечно) с тем, что маму к тому времени уже прочили на место партнера. И (конечно же) не имела никакого отношения к тому, что маму признавали лучшим юристом компании, а на фоне ее выдающихся способностей сам он зачастую выглядел непрофессиональным и глуповатым.
Мама послушно исполнила его волю. В конце концов, ему было виднее: он был старше, он был партнером, он был мужчиной. Как она могла ему возразить, даже если бы захотела? Разве может мышь устоять перед котом? Так что она отказалась от любимой работы и следующие четырнадцать лет своей жизни посвятила моему воспитанию и дому — стряпала, ходила за продуктами, стирала, гладила, — пока мой отец взбирался по карьерной лестнице, постепенно дойдя до должности старшего партнера в компании «Эверсонз».
Когда он бросил мою маму, ей было сорок шесть лет. Ее познания в юриспруденции безнадежно устарели — заплесневели, как яблоко, оставленное гнить на дереве. Ее сертификат практикующего адвоката не обновлялся последние четырнадцать лет.
Ей удалось устроиться лишь на должность референта в юридическую контору «Дэвис, Гудридж энд Блейкли» в пользующемся дурной славой районе города, за железнодорожным вокзалом. Хозяева, под предлогом ее длительного перерыва в работе, предложили ей смешную зарплату — не хотите, как хотите, сказали они, — и, разумеется, она согласилась. Ей выделили стол в маленьком офисе, который она делила с двумя секретаршами, недвусмысленно давая понять, что ее видят в роли еще одной секретарши, а никак не квалифицированного самостоятельного юриста.
Однако очень скоро партнеры убедились в том, насколько она компетентна, и были поражены тем, с какой скоростью она наверстала упущенное. Блейкли, партнер по криминальным делам, бесстыдно свалил на нее своих клиентов, превратив в личного помощника и ишака; Дэвис, специалист по искам о возмещении морального вреда, потихоньку тоже стал подсовывать ей все больше проблемных материалов, в которых уже и сам не мог разобраться, что к чему. К концу первого года работы мама вела самые сложные дела фирмы, и при этом ей платили меньше, чем секретаршам.
Бренда и Салли, секретарши, с которыми мама делила обшарпанный офис, считали ее переезд из города в коттедж Жимолость ошибкой и не преминули сказать ей об этом.
— Элизабет, подумай, Шелли уже почти шестнадцать, — сказала Бренда. — Скоро она захочет встречаться по вечерам с друзьями в городе…
— Вот именно, — подхватила Салли. — Будет каждый уик-энд зависать в клубах, если она такая же, как моя. Ты так и будешь мотаться взад-вперед, возить ее в город и обратно.
Мама пыталась сохранить свою личную жизнь как личную — по крайней мере, насколько это было возможно, — не обижая Бренду и Салли, которые охотно и без всякого стеснения делились с ней самыми интимными подробностями своих замужеств.
Мама лишь краснела и бормотала что-то невразумительное — мол, она не против клубной жизни, но уверена, что ее Шелли не будет злоупотреблять этим. На что следовали протестующие возгласы и насмешки: Элизабет, ты такая наивная!
Бренда и Салли все время твердили ей: «Элизабет, ты слишком мягкая! Элизабет, почему ты это терпишь? Элизабет, почему ты не можешь постоять за себя?» Они видели, как смиренно приняла она повышение зарплаты, которое было оскорбительно ничтожным; видели, как Дэвис и другие юристы бросали ей на стол свои проблемные дела и даже не благодарили, когда она с блеском завершала их; видели, как Блейкли с завидной регулярностью являлся к ней за пять минут до окончания рабочего дня и просил задержаться или «посмотреть эту папку за выходные», поскольку знал, что она слишком кротка, чтобы сказать «нет». Редко выдавался день, когда у Бренды и Салли не было повода воскликнуть: «Элизабет, ты такая лохушка!»
Разумеется, она не рассказывала им всю правду обо мне. Она не говорила, что меня не нужно будет возить в город для встречи со школьными подружками, потому что у меня не было подруг в школе. Ни одной. Она не говорила им, что я стала жертвой издевательской кампании, настолько жестокой, что меня пришлось забрать из школы и перевести на домашнее обучение. Она не рассказывала и о том, что по совету полиции мой новый адрес был изъят из школьного архива, чтобы известные девочки не могли его узнать.
4
Известные девочки. Их было трое: Тереза Уотсон, Эмма Таунли и Джейн Айрисон.
Они были моими лучшими подругами с тех пор, как нас, девятилетних, определили в один класс. Мы вместе играли на каждой перемене (прыгалки, хула-хуп, классики, «бабушкины следы»), в школьной столовой уплетали принесенные из дома завтраки. По выходным и в каникулы мы регулярно встречались друг у друга дома. Мы были неразлучной маленькой кликой, клубом. Мы даже придумали ему название — ДЖЭТШ — по первым буквам наших имен.
Оглядываясь назад, я теперь вижу, что трещина в отношениях между мной и остальной троицей наметилась задолго до того, как началась эта жуткая травля.
Когда нам было одиннадцать, двенадцать, тринадцать, мы считались «хорошими» девочками. Серьезно относились к учебе: сверяли ответы после диктантов, раскрашивали контурные карты, как если бы это был потолок Сикстинской капеллы, звонили друг другу после школы, чтобы обсудить трудное домашнее задание. Я всегда была первой в классе по английскому и рисованию; у Эммы (к которой приклеилось прозвище Пеппи Поттер за ярко-рыжие волосы плюс круглые очки) определенно был талант к математике; Джейн, самая серьезная из нашей четверки, играла на виолончели, выступала в школьном оркестре, по субботам концертировала с оркестром музыкальной школы; Тереза, блондинка с лучистыми глазами, мечтала стать актрисой и бредила сценой. Конечно же мы болтали на уроках, как и все дети, но страшно боялись учителей; мы даже и подумать не могли о том, чтобы огрызнуться, и я не помню, чтобы у кого-то из нас были проблемы с поведением.
Однако годам к четырнадцати девчонки начали меняться. А я нет.
Эмма сменила очки на контактные линзы, рассталась со своей роскошной гривой, подстриглась под панка — выбритые виски, на макушке гребень огненно-рыжих стрел. Джейн забросила музыку и махнула рукой на учебу в школе. Она перекрасилась в жгучую брюнетку и ногти покрывала черным лаком в тон. К тому же она заметно округлилась и стала пышногрудой, так что, накрашенная, вполне сходила за восемнадцатилетнюю. Джейн постоянно конфликтовала с учителями, но, какие бы наказания ей ни придумывали — и оставление после уроков, и временное отстранение от учебы, — ей все было нипочем. Казалось, школа перестала для нее существовать, и она чувствовала себя в ее стенах, как заключенный в тюрьме, отсчитывающий дни до выхода на свободу.
Но сильнее всех изменилась Тереза Уотсон. Она как будто за одну ночь вымахала под метр восемьдесят, из прелестной маленькой толстушки превратившись в жердь с мрачным лицом. Ее тело стало костлявым и неаппетитным, лицо вытянулось, а острые скулы торчали, словно рифы из воды. Своей манерой одеваться она как будто бросала вызов школьному дресс-коду — зеленые бутсы «Док Мартенс», низкие джинсы на бедрах, откровенные топики, выставляющие напоказ ее длинную бледную талию. Она носила серебряную серьгу в левой брови, хотя директор запрещал ей являться в школу в таком виде. Она отрастила длинные волосы и прилизывала их на прямой пробор. По мере того как ее тело приобретало все более жесткие контуры, жестким становился и взгляд ее зеленых глаз, в нем появилась какая-то враждебность и непримиримость. Я бы даже сказала, скрытая угроза.
В свете последующих событий мне приходит в голову, что перемены в их внешности произошли в то же время, когда начало меняться и их отношение ко мне. Я не раз задавала себе вопрос: была ли связь между этими метаморфозами? Влияет ли внешность на личность? Или наша личность определяет то, как мы выглядим? Может быть, именно боевая раскраска превращает соплеменника в безжалостного воина? Или безжалостный воин наносит боевую раскраску, чтобы подчеркнуть свою жестокость? Всегда ли кошка выглядит кошкой? Всегда ли мышь выглядит мышью?
Как бы то ни было, факт остается фактом: я не изменилась. Я все так же упорно работала в классе, строчила диктанты и раскрашивала контурные карты. Я по-прежнему была первой в английском и рисовании, но теперь все чаще выбивалась в лидеры и по истории, французскому и географии. Я все так же вздрагивала, когда учительница повышала голос. И прическа у меня оставалась такой же, какой была в девять лет, — прямые волосы до плеч, челка. Я подросла, но не растеряла «детский» жирок — на животе были складки, и при ходьбе у меня терлись ляжки. Я не красилась, в отличие от своих подруг, потому что мама ненавидела все эти «приукрашивания», как она их называла. Она и сама редко пользовалась косметикой и всегда говорила, что макияж вреден для моей кожи. Когда пошли прыщи, я не выдавливала их (мама говорила, что от этого могут остаться рубцы), в то время как другие девчонки отчаянно ковыряли лица своими острыми наманикюренными коготками и замазывали ранки тональным кремом. Я не носила сережек, цепочек, браслетов и колец, как это делали они, поскольку у меня была аллергия на любой металл, кроме чистого золота, да мне и не нравилась бижутерия — мне она все время мешала, и к тому же я боялась потерять украшения. Я носила все те же простые блузки, джемпера и юбки, неуклюжие туфли с пряжками (Тереза называла их «ортопедической обувью»), в то время как другие были помешаны на тряпках и внешности.
Я стала замечать, что подруги уже не рады видеть меня, когда я поджидала их у школы или в столовой. Теперь, когда мы были вместе, атмосфера была другой, как будто они были объединены общей тайной, мне неведомой. Они оглядывали меня с явным отвращением, и впервые в жизни я стала стесняться своей внешности — нависающих над поясом юбки жировых складок, детской челки, прыщей на подбородке.
То, как они смотрели на меня, с выражением брезгливости на лицах, зародило в моей душе легкое подозрение — но я все еще не была готова поверить, что мои лучшие подруги испытывают ко мне отвращение.
Мы больше не играли на переменах, хотя мне этого и хотелось; наши прежние игры теперь считались «детскими». Вместо этого девочки предпочитали прятаться по углам, где их не видели учителя, апатично уткнувшись в свои мобильники, все сильнее презирая меня за его отсутствие (мама не могла себе позволить такие траты, да я и не смела просить ее об этом). Если они не играли в мобильники, то говорили исключительно на темы, мне совершенно не интересные: поп-музыка, тряпки, украшения, макияж. И все чаще говорили о мальчиках.
Я оказалась единственной, у кого не было бойфренда. Мне было четырнадцать, вот-вот должно было стукнуть пятнадцать, но во мне еще не проснулся интерес к противоположному полу. Большинство мальчишек в нашей школе были грубыми и неотесанными. Они как заведенные гоняли в футбол, устраивали дикие драки в коридорах, ругались матом, отчаянно пытаясь казаться крутыми, и смущали девочек скабрезными сексуальными предложениями. Прежде мы не любили мальчишек и всегда сторонились их. И вот теперь Тереза, Эмма и Джейн обзавелись бойфрендами и говорили только о них. Они обсуждали их татуировки, подработки, машины их клиентов в автомастерских, травмы, полученные в драках или на спортивных соревнованиях. Но больше всего им нравилось делиться своими планами на уик-энд — какие фильмы они собираются посмотреть с бойфрендами, в какие клубы попытаются проникнуть, как они причешутся, какую сумку купят в тон джинсам. Иногда, по окончании обеденного перерыва, я ловила себя на том, что не сказала и слова за тот час, что мы провели вместе.
Оглядываясь назад, я понимаю, что мне следовало как можно скорее оторваться от этой троицы и попытаться найти новых подруг. Мне нужно было просто смириться с тем, что наши пути разошлись. Но тогда это не представлялось столь очевидным; хотя я и догадывалась, что в наших отношениях не все ладно, чувствовала их возрастающую враждебность, я не смогла понять, насколько это серьезно — в конце концов, за годы нашей дружбы было немало ссор и размолвок, но все они быстро забывались. И к тому же я даже представить себе не могла школьную жизнь без моих подруг — других-то у меня не было. Да мне и не нужно было заводить других. Со мной всегда были Тереза, Эмма и Джейн. Мы с девяти лет были лучшими подругами. Мы любили друг друга, как сестры. Мы были ДЖЭТШ.
Я даже представить себе не могла, насколько неприязненными стали их чувства ко мне. И уж тем более не догадывалась, какая мне грозит опасность.
5
Травля началась где-то в марте, на третьем году моей учебы в средней школе. В то время мы еще жили в семейном доме — отец полгода как бросил нас, — а до переезда в коттедж Жимолость оставалось десять месяцев.
Я так и не поняла, что послужило толчком к началу издевательской кампании. Знаю только, что незадолго до этого я победила в школьном конкурсе на лучший короткий рассказ и на общем собрании мне вручили маленький серебряный кубок. Помню, на физкультуре нас взвешивали и измеряли рост, и оказалось, что я самая толстая в классе. В тот март я очень много плакала, потому что двадцать четвертого числа должно было состояться очередное слушание в суде по иску моего отца, и, хотя мамин адвокат заверял меня, что ничего страшного не случится, я очень боялась, что судья прикажет мне идти жить с ним и его Зоей. Наш классный руководитель, мисс Бриггс, которая была посвящена в подробности развода, была особенно внимательна ко мне в тот период — увидев, что я расстроена, она обнимала меня за плечи и уводила к себе в кабинет, где поднимала мне настроение за чашкой мятного чая. Возможно, девочки ревновали к такому вниманию к моей персоне; возможно, завидовали тому, что я выиграла столь важный школьный приз; а может, официально признанная самой толстой в классе, я автоматически лишалась права на то, чтобы ко мне относились по-человечески… не знаю. Понятия не имею. Наверное, у жестокости есть своя логика, очень специфическая.
Все началось с колкостей и унизительных насмешек, которые поначалу можно было принять за дружеский розыгрыш, но очень скоро они утратили всякий намек на юмор и обнажили свою суть: враждебную, злобную, мстительную. Я была потрясена. В голове не укладывалось, как могло случиться, что после стольких лет дружбы мои лучшие подруги возненавидели меня. Я попыталась уйти в сторону, держаться от них подальше, но теперь я стала для них объектом развлечения, новой забавой, которая помогала скрасить серые школьные будни. Они охотились за мной на переменах и в столовой, и, хотя я старалась спрятаться, они все равно находили меня. Они кривлялись, пародируя игры, в которые мы когда-то играли вместе, пританцовывали, взяв меня в кольцо, чтоб я не вырвалась, выкрикивали самые грязные оскорбления, доводя меня до слез. «Твой отец ушел, потому что ему противно было смотреть на тебя, жирную дебилку! Мама Шелли сама вставляет ей тампоны!»
Но оскорбления вскоре им наскучили. Чтобы подогреть интерес к действу, требовалось повысить градус жестокости.
Они начали варварски уродовать мои личные вещи. Каждый день я возвращалась в класс после перемены и обнаруживала новую пакость: все мои цветные карандаши разломаны пополам; домашняя работа по истории, над которой я корпела часами, изрезана ножницами; ржаной хлеб моих сэндвичей пропитан «штрихом»; в рюкзак напихано содержимое мусорной корзины; длинный, как шнурок, червяк расплющен в тетради по английскому; деревянная линейка исписана черным фломастером: ЛИЦО СКОВОРОДА, ЖИРНАЯ СВИНЬЯ; у моего тролля-талисмана выдраны все волосы, а лицо изрисовано шариковой ручкой; в пенале лежат две собачьи какашки.
Я не могла пожаловаться учителям, потому что была уверена, что от этого будет только хуже. Я не хотела давать своим мучительницам повода для новых вспышек агрессии; тогда я еще не понимала, что жестокость не ищет повода. И к тому же я не верила, что школа может защитить меня. Я замечала, что учителя — даже мисс Бриггс — закрывают глаза на поведение Терезы, Эммы и Джейн, будто и не слышат ни одного грубого слова, не видят занесенных для удара рук. Им не хотелось усложнять себе жизнь.
Мне следовало бы сказать маме — теперь-то я это понимаю, — но было стыдно. Стыдно сказать о том, что именно меня выбрали на роль жертвы, как будто на мне лежало какое-то клеймо. Хуже всего было то, что мама знала этих девочек — она подавала им чай, развозила их по домам, она считала их моими лучшими подругами. Мне было невыносимо думать о том, что она узнает, как они ненавидят меня. Я боялась вопросов, которые она непременно задаст — что ты сделала? чем ты их так огорчила? — потому что по какой-то необъяснимой причине я не могла избавиться от ощущения, что в происходящем была моя вина и именно я достойна осуждения.
К тому же признаться во всем маме или рассказать учителям было равносильно тому, чтобы бросить вызов обидчикам, а я была совершенно не готова к этому. Во мне просто не было твердости и решимости. Не тот у меня характер. Не забывайте, ведь я мышь. Для меня куда более естественно молчать, страдать в одиночку, замереть в надежде, что меня не увидят, а потом спешно юркнуть в норку.
Единственным человеком, которому я всерьез подумывала признаться, был мой отец. Пока в его жизни не появилась Зоя, он всегда опекал меня и защищал. Он даже пытался «ужесточить» мой характер, чтобы я умела постоять за себя, намеренно заводил меня, заставляя кидаться на него с кулаками, даже убеждал меня заняться дзюдо — и все это ради того, чтобы компенсировать или переломить то, что он называл «плохим влиянием» матери. В своих фантазиях я представляла себе, как отец бросается на мою защиту, словно супергерой из комиксов.
Но я-то знала, что мой отец вовсе не супергерой. Я помнила, каким грубым и высокомерным он стал в последнее время, каким вульгарным (однажды я случайно нашла спрятанный в его портфеле журнал «Горячие киски»). Я была уверена в том, что Зоя старательно настраивает его против меня (Шелли — она такая нюня, капризуля, типичная маменькина дочка). Да и с чего бы ей относиться ко мне иначе? Она ведь явно не хотела делить его деньги со мной. Я сомневалась в том, что отец посмеет огорчить свою Зою. И уж точно не отважится на поступок, рискуя потерять этот вызывающе-соблазнительный рот, эти груди порнозвезды.
У меня был его телефон в Испании, и я уже была готова набрать номер, но при мысли о том, что ответит Зоя, мне стало не по себе.
Отца больше не было в моей жизни.
6
Однако молчаливая покорность не спасла меня. Со временем «лучшие подруги» обратили свою агрессию уже не на мои личные вещи, а непосредственно на меня.
Впервые это случилось однажды сразу после школьного ланча. Джейн держала меня за волосы, а Тереза и Эмма запихивали мне под блузку рогалик хлеба. Потом они стали бороться со мной, пытаясь раскрошить хлеб. Когда я изловчилась и засунула руку под блузку, чтобы достать его, Тереза больно ударила меня по лицу. Удар, звонкая пощечина, удивил всех — даже Терезу, — и я готова была поклясться, что она собиралась извиниться, но в следующее мгновение ее лицо вновь посуровело, и она, жадно схватив мою руку, начала заламывать мне пальцы. Жгучая боль подавила крик, готовый вырваться из моей груди.
После этого им было намного легче. Физическая жестокость стала нормой.
Я записывала все, что они творили, в своем дневнике, сидя после школы в своей комнате, приперев дверь стулом на случай, если мама попытается войти. Сегодня мне даже странно читать эти откровения, и не только потому, что они кажутся мелкими в сравнении с тем, что произошло в день моего шестнадцатилетия, ставший для нас собственным Одиннадцатым сентября[1]. Меня поражает то, что эти записи начисто лишены эмоций, словно я описывала происходящее не со мной, а с кем-то другим. В том же дневнике целые страницы отведены моим переживаниям из-за развода родителей, но, как только начинается история травли, заметки становятся все более короткими и сдержанными, а по мере нарастания жестокости и вовсе превращаются в скупые выжимки, набор сухих фраз, как если бы историю распятия Христа записали на спичечном коробке.
Май. По дороге на урок рисования Джейн толкнула меня в колючую живую изгородь… Эмма обозвала меня лесбиянкой и сорвала у меня с головы заколки, выдрав заодно и клок волос… Эмма щелкнула у меня перед носом зажигалкой и угрожала опалить мне лицо.
Июнь. Тереза попыталась ударить меня по ноге коленкой. Она промахнулась и заставила меня стоять на месте, пока у нее не получится удар. Теперь у меня огромный синяк. Надо скрыть от мамы… Джейн и Тереза закинули мою туфлю за угол корпуса информатики. Тереза больно заехала мне по голени, когда увидела, что я нашла туфлю. Я чуть не вырубилась… На уроке географии Тереза ударила меня по попе компасом. Я пошла в туалет и увидела на трусах кровь…
Я узнаю эти сомнамбулические, бесцветные интонации, когда вижу по телевизору уцелевших после землетрясения или жертв бомбежек. Был громкий хлопок. Много дыма. Я думаю, что чем тяжелее травма, тем труднее подыскать подходящие слова, и, наверное, когда мы оказываемся перед лицом самого страшного испытания, уместным становится лишь молчание.
Но в тот июнь я почти сумела подать голос. В тот июнь я как будто стряхнула с себя паралич и едва не заговорила…
Занятия в школе закончились. Я должна была идти на урок игры на флейте, но они не выпускали меня из класса. Они загнали меня за парты и, когда я попыталась рвануть к двери, поймали и снова затолкали в угол.
Джейн взяла меня в зажим и, подбадриваемая остальными, пыталась прижать меня головой к острому металлическому краю подоконника. Я помню, что неожиданно высвободилась и снова бросилась к двери, когда что-то тяжелое — увесистый учебник по физике — ударило мне в спину с такой силой, что я прикусила язык.
И в этот момент в класс вошла мисс Бриггс. Девочки тут же отвернулись от меня и сделали вид, будто копаются на книжных полках. Мисс Бриггс собрала бумаги, за которыми пришла, и уже повернулась, чтобы уйти, когда вдруг заметила меня — застывшую на месте, с трудом сдерживающую слезы.
— Все в порядке, Шелли? — спросила она.
И вот тогда я чуть не рассказала ей все. Признание едва не хлынуло из меня потоком судорожных рыданий. Но тут я перехватила взгляд Терезы — холодный и безжалостный, как у акулы, — и струсила.
— Да, мисс, — сказала я, опустив глаза. — Все в порядке, мисс.
Мне приходилось проявлять чудеса изворотливости, чтобы мама не узнала, что происходит. Я постоянно носила одежду с длинными рукавами, скрывая синяки на руках, заматывала шею шарфом, чтобы не было видно царапин. Спать я ложилась в пижаме, вместо привычной сорочки, иначе мама увидела бы желтые и черные синяки на моих голенях и бедрах и ужаснулась бы симптомам неведомой страшной болезни.
Я приспособилась чистить свою одежду до прихода мамы с работы. Запираясь в ванной, я отстирывала пятна с джемперов и юбок, если меня прижимали к грязной стене; я научилась пришивать пуговицы, вырванные с мясом, когда меня волокли, держа за блузку. Время от времени я методично стирала свой портфель в мыльной воде, чтобы удалить зловонный запах, которым он пропитывался от мерзкого содержимого. К счастью, я всегда была рассеянной и забывчивой, так что мама охотно верила, когда я говорила ей, что потеряла лоток для завтрака, или заколку, или цветные карандаши.
Больше всего я боялась, что они начнут присылать мне оскорбления по электронной почте и мама прочитает. Хотя мы редко переписывались по электронке, я знала, что у них есть адрес моего почтового ящика, и с ужасом представляла себе, как мама откроет одно из их посланий и прочитает ту мерзость, которой они обливали меня каждый день. Поэтому по утрам я вставала пораньше и тихонько спускалась вниз, чтобы проверить почту, прежде чем проснется мама. Но известные девочки были слишком умны, чтобы ввязываться в кибербуллинг. Они знали, что почту может вскрыть мама и проследить отправителя, а рисковать им совсем не хотелось. У них было множество других способов развлечься.
Лишь однажды они нарушили интернет-молчание. Как-то в субботу утром я открыла письмо от неизвестного отправителя, заранее предчувствуя недоброе. Это была порнографическая фотография — мужчина делал что-то непристойное с женщиной, — и зрелище было настолько отвратительным, что даже сегодня мне не хочется о нем вспоминать. Снимок был на экране, когда в комнату вдруг вошла мама и спросила, нет ли писем. Каким-то чудом я успела дать команду «Стереть». (Нет, мама. Никаких новых сообщений.)
Я объяснила эту выходку тем, что девчонки просто перебрали с «баккарди» во время ночной попойки и плохо соображали. Во всяком случае, это больше не повторилось.
Но, как бы я ни старалась, мама, похоже, почувствовала неладное. У меня было стойкое ощущение, что ее антенна настроена на меня и пытается уловить сигналы перемен. Если бы в то лето она не была так занята делом Джексона — дорогостоящим иском о возмещении морального вреда, который Дэвис бессовестно спихнул на нее, — уверена, она бы вывела меня на чистую воду.
Я считала дни до окончания учебного года, и вот наконец — наконец! — наступили летние каникулы, мое спасение.
В конце июля мы с мамой покинули клаустрофобную серость семейного дома и отправились на каникулы — нас ожидали две недели в коттедже, на полном самообслуживании, в Озерном крае. Мы были вознаграждены чудесной погодой. Бродили по горам, взяли напрокат велосипеды и ездили по размеченным туристическим маршрутам, купались в озерах. Мы гуляли по милым деревушкам, осматривая древности и балуя себя сливочными рожками с джемом в тихих, как библиотеки, чайных.
По вечерам мы вместе готовили себе роскошные блюда, читали часами. Мама проштудировала всю имевшуюся в коттедже библиотеку, зачитывая мне вслух самые смешные пассажи. Я читала пьесу «Макбет», по которой мне предстояло сдавать экзамен в следующем году, методично выписывая все незнакомые слова в специально купленную для этого тетрадку. Я невольно представляла себе трех ведьм с лицами Терезы, Эммы и Джейн — «омерзительных старух», которые жестоко вторглись в мою жизнь так же, как в жизнь Макбета. Но какую судьбу, спрашивала я себя, уготовили для меня мои три ведьмы? Читая дальше, я с удивлением узнала, что это леди Макбет подстроила убийство короля Дункана, а вовсе не сам Макбет, как думала я, и мне в голову закралась мысль (в свете того, что со мной сделали «лучшие подруги»), что женщины не такой уж слабый пол. В самом деле, не женщины ли более кровожадные существа?
Бывали дни, когда я начисто забывала о Терезе, Эмме и Джейн, об их оскорблениях, издевательствах и побоях; забывала и об отце, который ушел из моей жизни так не вовремя, ведь именно сейчас он был нужен мне. Когда мы с мамой купались в озере, хихикая и взвизгивая от холода в ледяной воде, или когда я следом за ней взбиралась по горной извилистой тропке и нервные коровы при нашем приближении медленно поднимались с колен, я действительно забывала болезненные перипетии своей жизни и была счастлива.
Но очень скоро снова наступил сентябрь. Чем ближе был первый школьный день, тем беспокойнее становилась я, у меня часто болела голова и бил озноб. Стоило мне подумать о школе, и в животе разливалась горячая боль. У меня пропал аппетит, и за столом мне приходилось бороться с тошнотой, заставляя себя съесть все, что было на тарелке, чтобы мама ничего не заподозрила. Я не могла ни на чем сосредоточиться. Не могла прочесть и двух строчек.
Ночь накануне начала учебного года выдалась бессонной, я все пыталась подготовить себя к тому, что ждало меня впереди. Следующий год был годом экзаменационным. Если бы я успешно сдала экзамены, то могла бы остаться в школе и серьезно готовиться к поступлению в университет. Я была уверена, что известные девочки не собираются продолжать учебу и уйдут из школы сразу после экзаменов. Значит, мне нужно было продержаться всего один год (затаиться в надежде, что меня не увидят, а потом спешно юркнуть в норку), и моим мучениям придет конец. Я была уверена, что год я выдержу.
Мне даже приходила в голову мысль, что, возможно, травля и вовсе закончится, что долгие летние каникулы сыграют роль заградительного щита, способного сбить даже самый сильный лесной пожар. В конце концов, им ведь тоже предстояло сдавать экзамены, и, если даже у них в планах не было продолжать учебу, им все равно нужны были хорошие оценки, чтобы получить приличную работу. Может, так случится, что они будут куда больше озабочены своими проблемами и я стану им неинтересна. Кто знает, может, и травля поутихнет. А то и прекратится вовсе. Может быть…
Разумеется, я ошибалась. Издевательства возобновились в первый же день нового учебного года. Более того, впечатление было такое, будто за время каникул они изголодались по жестокости и теперь пытались наверстать упущенное.
Травля стала еще более изощренной.
Я прилежно заносила фронтовые сводки с полей сражений в свой дневник — дневник, который во время летних каникул оставался девственно-чистым.
Сентябрь. Тереза ударила меня по лицу кулаком в туалете. У меня хлынула кровь из носа, и я никак не могла ее остановить. Маме сказала, что упала в коридоре… потом они держали меня, а Тереза сорвала с меня блузку и лифчик и снимала меня на мобильник. Она сказала: «Твои уродливые сиськи будут красоваться в „Ютьюб“»… они прижали меня к стене и по очереди плевали мне в лицо.
Октябрь. Тереза ударила меня по голове сумкой, когда я пила воду из фонтана. Во рту остался сильный порез от крана… они поджидали меня после уроков и избили за углом школы. Тереза уселась верхом на меня и пукала прямо в лицо. Когда я пришла домой, меня два раза стошнило. Успела все убрать до прихода мамы…
Но после того, что случилось в том же октябре, у меня уже не осталось сомнений в том, что я не продержусь целый год — не продержусь даже первый семестр.
Как-то утром, после перемены, я стала замечать странный запах вокруг моей парты — какой-то кисловатый, но постепенно он становился все более навязчивым. Я чувствовала его и по дороге домой, и у меня возникло подозрение, что он исходит из моей спортивной сумки. Дома я сразу же вывалила содержимое сумки на пол — может, полотенце осталось влажным или я просмотрела грязный носок или что-то еще. Но моя физкультурная форма не пахла. Я обыскала сумку, залезла в каждый кармашек, но так ничего и не нашла. Я терялась в догадках. Тошнотворный запах по-прежнему витал вокруг меня.
Я потянулась к кроссовкам, проверить, не испачканы ли подошвы, и тут из одного ботинка что-то выпало и плюхнулось на мою голую ногу. Когда я увидела выпученные слепые глаза, раскрытый клюв, проступающие под розовой сморщенной кожей вены, я в ужасе закричала, судорожно засучила ногами, пытаясь стряхнуть на пол мерзкий комок. Я забилась в угол и сидела там, сотрясаясь от безудержных рыданий, раскачиваясь взад-вперед, как лунатик. Прошло много времени, прежде чем я смогла немного успокоиться и заставила себя взять дохлого воробушка и вынести его на улицу в мусорный бак.
И вот тогда я поняла, что они победили; поняла, что больше не вынесу страха, боли и унижений.
Как-то вечером я сидела в своей комнате и как бы со стороны оценивала происходящее. Даже если бы мне каким-то чудом удалось набраться смелости и заложить их, мое положение стало бы еще хуже, в этом я не сомневалась; да, директор вызвал бы их к себе, но они бы все отрицали. У меня ведь не было прямых доказательств (никто из одноклассников не пошел бы против них), и вышло бы мое слово против их слова. А без доказательств директор, человек слабый и апатичный, к тому же панически боявшийся испортить репутацию школы, не предпринял бы никаких действий. Если бы я выдала обидчиц, то дала бы им повод преследовать меня с еще большим остервенением. К тому же было слишком поздно переходить в другую школу, когда до выпускных экзаменов оставалось всего два семестра. Даже уйди я в другую школу, ничего бы не изменилось: они ведь знали, где я живу.
Они могли без труда подкарауливать меня после школы или, хуже того, перенести свою кампанию ненависти в мой дом — мой дом! — единственное место, где я чувствовала себя в безопасности. Было невыносимо думать о том, что мама может найти какую-нибудь гадость, засунутую в наш почтовый ящик. Нет, что угодно, только не это.
Я не видела выхода из того жалкого существования, в которое превратилась моя жизнь. Или, пожалуй, оставался только один выход.
Я все тщательно спланировала, сидя за своим столом, как если бы делала уроки. Я решила осуществить свой план через два дня, в субботу, когда мама отправится за покупками в загородный супермаркет. Обычно я ездила с ней, но на этот раз хотела сослаться на головную боль. После долгих раздумий я остановилась на таком варианте: потолочная балка в гараже, которую отец использовал для своей подвесной груши, и толстый пояс от моего банного халата. Я вырвала тетрадный лист, чтобы написать маме прощальную записку.
Но хотя я и просидела битых полчаса, ни одно слово так и не легло на бумагу. Я все никак не могла заставить себя рассказать ей про травлю, даже в записке, которую она прочтет только после моей смерти. Я действительно не понимала — и до сих пор не понимаю, — почему не могла признаться ей, хотя мы были так близки. Наверное, потому, что, при всей доверительности отношений, есть какие-то ограничения, барьеры, которые мы не в силах преодолеть, и не всем можно поделиться даже с близким человеком. Возможно, думала я, именно то, чем ты не можешь поделиться с другими, и определяет твою сущность.
Мысленно пережевывая эти мертвые фразы, я бессознательно чертила какие-то каракули и, когда посмотрела на изрисованный лист, не смогла сдержать горькой улыбки. Передо мной была мышь. А на шее у нее была затянута петля висельника.
Я знала, что по натуре я трусиха, робкая и неуверенная в себе; я могла расплакаться, задрожать или лишиться дара речи от любого упрека или намека на агрессию. И только после нескольких месяцев травли до меня наконец дошло, что я мышь, мышь в человеческом обличье. В тот момент я поняла и то, что этот рисунок был самым выразительным посланием, которое я могла оставить после себя на этом свете. Я сложила лист пополам, надписала Маме и убрала в верхний ящик стола, где его можно было легко найти.
Так бы и закончилась моя жизнь, жизнь слабой маленькой мышки, судорожно дергающей лапками в петле, если бы на следующий день мои мучительницы не учинили свое самое жестокое зверство.
По иронии судьбы, то чудовищное злодейство и спасло мне жизнь.
7
Почему-то я помню это нападение не так отчетливо, как все остальные.
На перемене я пошла в туалет, все утро меня мучили предменструальные боли. Мне показалось, что я слышу голоса Терезы и Эммы, но, когда я вышла из кабинки, увидела девочек из младших классов, которые возились у полки с бумажными полотенцами. Я подошла к раковине вымыть руки. Вода лилась холодная, и я подождала, пока она нагреется. Я как раз выдавила в ладонь немного жидкого мыла, когда меня вдруг схватили за шею и с силой отшвырнули назад.
Я успела увидеть раскрасневшееся лицо Джейн и в ужасе выбегающих из туалета школьниц и уже в следующее мгновение больно ударилась головой об дверь кабинки. Лоб как будто треснул, в голове зашумело, перед глазами вспыхнули яркие звезды, я поскользнулась на мокрой туалетной бумаге и рухнула на влажный пол.
Я видела, как склонились надо мной Эмма и Тереза, они держали меня за руки, словно пытаясь помочь мне встать. Я услышала, как что-то щелкнуло у меня перед носом, — и Эмма отчетливо произнесла: «Вот так поджаривают свинью». Тереза и Джейн загоготали, а потом все они ушли.
В полубессознательном состоянии я сидела на полу, как мне показалось, очень долго. Из носа шла кровь, и очень сильно болело правое ухо. Я неуклюже поднималась с пола, когда в туалет зашла какая-то девочка и увидела меня. Она завопила, как в фильме ужасов, потом развернулась и выбежала.
Мне наконец удалось выпрямиться, и я медленно, шатаясь, пошла к зеркалу, чтобы умыться перед следующим уроком. Но когда я увидела свое отражение, это была не я. Была девочка моего роста, моей комплекции, в блузке и юбке, которые я надела утром, — но у нее не было лица. Вместо лица был огненный шар.
Я все еще не могла осознать ужаса происходящего, когда в туалет ворвался мистер Моррисон. Он бросился ко мне (как в замедленной съемке), рыча, словно солдат, рвущийся в атаку (но я ничего не слышала), сорвал с себя куртку (тогда я поняла, что девочка в зеркале — это все-таки я), расстелил ее, как одеяло (я стала звать маму), и набросил на мою горящую голову (но ни звука не вырвалось из моего горла).
А потом все стало черным.
Пока я была в госпитале, мама нашла мой дневник. Она искала мою любимую нежно-голубую пижаму, когда наткнулась на него. Она вскрыла замочек и все прочитала. Потрясенная, она отнесла его прямиком к директору школы.
Позже мама рассказала мне, что директор вызвал девочек в свой кабинет, настояв на том, чтобы мама осталась (я могла себе представить, как неловко она себя чувствовала, ведь ей, так же как и мне, не хотелось конфронтации).
Было совершенно очевидно, что Терезу, Эмму и Джейн нисколько не смутил вызов к директору: для них он был пустым местом, толстым клоуном из дешевого сериала. Нельзя сказать, чтобы они забеспокоились, когда увидели маму. Она рассказывала, что они развалились на стульях и ухмылялись, презрительно оглядывая ее, начисто забыв об ее былом гостеприимстве и доброте.
Директор зачитал некоторые шокирующие откровения из моего дневника и сурово спросил:
— Ну? Что вы на это скажете?
Им нашлось что сказать. Перекрикивая друг друга, они яростно отрицали факт травли и заверяли, что и близко не подходили к туалету, когда произошел инцидент. Их голоса сплелись, как веревочка в детской игре «кошкина люлька»:
— Она просто пытается подставить нас! Она психопатка! Все это вранье!
Мама заговорила лишь раз. Мне больно даже представить себе, чего ей это стоило. Пунцовая, с дрожащими губами, она сумела выдавить из себя еле слышным голосом:
— Шелли не врет.
Эмма тут же огрызнулась:
— Если все это правда, тогда почему она вам ничего не сказала?
И мама снова замолчала.
Подавшись вперед, Тереза с ухмылкой обратилась к маме:
— Может быть, Шелли пошла в туалет покурить и неаккуратно сработала зажигалкой. А может, она вообще раскуривала косячок, миссис Риверс.
Эмма и Джейн давились от смеха над ее извращенной шуткой.
В тот же день их допрашивали в полиции. К этим интервью они отнеслись куда более серьезно. Каждую девочку провожали в звуконепроницаемую комнату в полицейском участке, где следователь задавал им вопросы.
Я отчетливо вижу эту картину, хотя меня там и не было: все трое, в слезах, испуганными голосами отрицают то, что произошло, а родители держат их за руки и утешают, убежденные в том, что их замечательные девочки просто не способны на такое варварство. Каждая из них повторяет ложь за ложью, подтверждая алиби, которое они продумали заранее, в то время как их адвокаты, затаившиеся, как цепные псы, только и ждут, когда можно будет кинуться с протестом против неправомерно заданных трепетным подростковым душам вопросов, требуя справедливости для этих девочек, которые даже не знают такого слова.
Тем временем я лежала в двенадцатиместной палате местного госпиталя. По словам врача, мне очень повезло. Он попытался объяснить мне, что произошло, но я плохо его понимала. Оказывается, меня спасло то, что пламя взметнулось вверх, поднимая за собой волосы. Отчасти этому поспособствовал сквозняк от окон. Благодаря этому самое сильное пламя разгорелось над моей головой, а не на лице. Как выяснилось, мои волосы были в огне довольно короткое время, хотя мне и казалось, что все длилось очень долго, потому что я была в шоке, а шок замедляет течение времени.
Каким-то чудом я отделалась ожогами второй степени, которые затронули шею, лоб, правое ухо и левую руку — видимо, я запустила ее в горящие волосы, не осознавая, что делаю, и не чувствуя боли. Зрение и слух нисколько не пострадали. Даже не все волосы сгорели. Достаточно было одного визита к хорошему парикмахеру, чтобы сделать стильную короткую стрижку, и, если бы не обгоревшая на затылке кожа, можно было бы считать, что ничего и не было. Конечно, оставались шрамы — уродливые красновато-белые рубцы на лбу и шее, — но врач заверил меня, что очень скоро они побледнеют.
Мне дали болеутоляющие, сделали инъекции, ожоги смазали холодной душистой мазью, наложили легкие повязки. Я могла бы пойти домой в тот же день, но врач сказал, что, поскольку я пережила травматический шок и временную потерю сознания, мне лучше остаться на несколько дней в госпитале, на всякий случай.
В ту первую ночь мне было трудно заснуть в окружении незнакомых звуков и больничной суеты. На самом деле госпиталь по ночам не спит, он лишь иногда отдыхает. Ночные медсестры заходили в палату к пациентам, которые вызывали их звонками или хриплым шепотом; больные шаркали в своих тапках в туалет; в три часа ночи привезли новенькую на каталке; в дальнем углу поставили ширму у кровати пожилой женщины, и ее зашел проведать мой врач, небритый, с красными от недосыпа глазами. Даже если в палате было тихо, свет из коридора мешал мне заснуть.
Но, как ни странно, несмотря на полученные травмы и неприятный холод на лице, шее и руке, я чувствовала себя куда более счастливой, чем в последние месяцы. Теперь не нужно было ничего скрывать. Мама знала. Школа знала. Полиция знала. Врачи в госпитале знали. И непосильную ношу, которую я взвалила на себя и несла в одиночку, вдруг разом сняли с моих плеч добрые дружеские руки. Теперь это была забота других людей — взрослых, профессионалов, экспертов в таких материях. Меня наконец освободили.
В госпитале мне было на удивление спокойно. Я полюбила его размеренный распорядок (чашка чая в три пополудни, визиты родственников с пяти, ужин в семь); полюбила медсестер в накрахмаленной белой форме, которые всегда останавливались у моей койки, чтобы поболтать со мной, самой юной пациенткой. Я даже полюбила острый хвойный запах дезинфицирующего средства, который витал повсюду, и фоновую музыку, которую включали ближе к вечеру, — эти нежные обволакивающие мелодии прошлых лет расслабляли и несли покой. Мне было приятно в компании моих соседок, которые суетились вокруг меня, смешили своими грубоватыми шутками и сленгом. Они отчаянно баловали меня, угощая конфетами и шоколадом, которые им приносили родственники, и не принимали никаких отказов на этот счет.
В палате было много других мышей — может, поэтому я чувствовала себя здесь как дома. На соседней койке лежала Лаура, мышь пятидесяти одного года, муж избил ее бейсб ольной битой за то, что у нее подгорел обед. Напротив лежала восемнадцатилетняя Беатрис, чей добродушный юмор никак не вязался с туго перебинтованными запястьями. Мы все были связаны одной общей тайной, которую я с горькой иронией называла братством мышей. В душе я посмеивалась, когда представляла себе всех нас, с эмблемами нашего братства на груди: мышь в мышеловке, со сломанной шеей, и внизу наш девиз: «Nati ad aram» — рожденный с геном жертвы. Неужели это и было наследством, которое мне оставила мама?
Сидя в кровати, листая журнал или лениво рисуя в блокноте, я была спокойна и с оптимизмом смотрела в будущее. В своем садистском желании причинить мне боль, Тереза, Эмма и Джейн в конечном итоге навредили себе. Их наверняка ожидало уголовное преследование — и не исключено, что тюрьма. По крайней мере, из школы их бы точно отчислили. В любом случае, из моей жизни они должны были исчезнуть навсегда. А я вернулась бы в школу, к повседневным делам и заботам.
Повседневность! Что может быть лучше этой рутины? Мне казалось, что в ней и есть счастье.
8
Мой оптимизм начал таять вскоре после того, как меня выписали и я вновь оказалась в семейном доме, в окружении мрачных воспоминаний о рухнувшем браке родителей и предательстве лучших подруг.
К нам приходил инспектор полиции, который сухо информировал о том, что они не собираются передавать в суд уголовное дело в отношении трех девочек, которых я «обвиняю» (слово «обвиняю» прозвучало так, будто я лгу!). Как он объяснил, не хватает доказательств. В самом деле, никто из учеников не был свидетелем того, что они подожгли мне волосы. Родители младших школьниц — которые хотя бы видели, как меня швырнули об дверь, — ясно дали понять, что не позволят втягивать их дочерей в уголовный процесс. Нет никакой перспективы выиграть дело в суде, если только одна из девочек не даст показания против двух других, но я-то знала, что быстрее наступит второе пришествие, чем случится нечто подобное.
Через неделю или чуть позже пришло письмо от директора школы. Мы с мамой прочитали его вместе за завтраком. Письмо начиналось с пожеланий скорейшего выздоровления от имени всех учителей и учеников (всех ли?), за которыми следовали куда более неприятные новости. Проведя «тщательное расследование», писал директор, он не нашел никаких объективных доказательств, которые могли бы подкрепить мои «голословные утверждения». Все три девочки «упорно отрицали» кОмпанию (еще и с ошибкой!) травли в отношении меня и заявляли о том, что «не в курсе» того «неприятного инцидента», имевшего место двадцать третьего октября. Он получил «заявления» от родителей трех девочек, «убедительно доказывающие их невиновность», что также подтверждается решением полиции не передавать дело в суд в связи с отсутствием состава преступления. В связи с этим «педсовет школы решил не предпринимать мер дисциплинарного воздействия в отношении Терезы Уотсон, Эммы Таунли и Джейн Айрисон».
В продолжении было сказано, что школа проводит эффективную политику по пресечению всякого рода травли среди учеников и гордится своей незапятнанной репутацией. Он выражал надежду на то, что мама не станет предъявлять иска к школе, но если это все-таки случится, все обвинения будут «законно опровергнуты». Последний абзац привожу дословно:
Мы очень ждем скорейшего возвращения Шелли в наше сообщество. Нам, разумеется, не стоит лишний раз напоминать вам о том, что для Шелли этот год исключительно важный, поскольку в июне ей предстоит сдавать экзамены, а посему следует принять все возможные меры к тому, чтобы ее отсутствие в классе не затягивалось.
Так, значит, мало того что не будет никакого уголовного преследования, их даже не отчислят из школы — им вообще не светит никакого наказания за то, что они сделали со мной!
Есть люди, которые устроили бы в школе скандал и порвали это письмо на глазах у директора; есть люди, которые обратились бы в прессу, и вскоре название школы и имя ее малодушного директора красовались бы на первых полосах газет; есть люди, которые привели бы к себе в дом местное телевидение, чтобы заснять шрамы на моем лице и шее. Есть люди, которые сделали бы все, чтобы девочки понесли заслуженное наказание и об их зверствах узнала вся страна…
Только вот мы были не из их числа. Мы — мыши. Кротко и смиренно мы поблагодарили инспектора полиции за участие и согласились с тем, что дело закрывается. Безропотно мы приняли решение директора не применять мер дисциплинарного воздействия к трем девочкам. Мы смирились, мы подчинились, мы промолчали, мы ничего не сделали, потому что мыши слабовольны и привыкли к покорности.
Ко второй неделе ноября я уже не испытывала ни физической боли, ни дискомфорта. И уже ничто не мешало мне вернуться в школу. Разве только то, что меня там ждали Тереза, Эмма и Джейн. И если эти трое снова подкараулят меня… что они сделают на этот раз?
Пока мама была на работе, я слонялась по дому. Сидела перед зеркалом, тщетно пытаясь что-то сделать со своим бобриком на голове. Стрижка мне совсем не шла — с ней я была похожа на мальчишку, голова казалась слишком большой в сравнении с плечами, топорщились уши, которые я всегда ненавидела. С особым отвращением я разглядывала лоб и шею, в следах от ожогов, которые затянули мою бледную кожу коричневой паутиной (почему они не бледнеют? Доктор сказал, что они побледнеют!).
И мысли вновь и вновь возвращались к балке под потолком гаража, поясу банного халата…
А потом пришла самая радостная новость. Директор, ошибочно посчитав наше молчание вызовом и опасаясь дурной огласки, снова прислал нам письмо. На этот раз в письме содержалось предложение: если мама согласится не подавать судебный иск против школы и не обсуждать «инцидент от двадцать третьего октября» с любыми средствами массовой информации (включая газеты, телевидение, радио и Интернет), мне можно было не возвращаться в школу. Вместо этого школа договорится с местными органами образования о предоставлении мне домашних учителей, которые будут готовить меня к летним экзаменам, которые мне тоже можно будет сдать дома. Кроме того, они будут настоятельно рекомендовать экзаменационной комиссии повысить полученные мной за курсовые работы баллы на десять процентов, с учетом «сложных обстоятельств, в которых эти работы были подготовлены (но за которые школа не несет никакой ответственности)…».
Мама подписалась под этим соглашением, пока я визжала и прыгала от счастья, и отослала его обратной почтой в школу. Радость переполняла меня. Мне не придется возвращаться в школу! Не придется встречаться со своими палачами! Я была уверена в том, что с учителями, которые будут приходить ко мне на пять часов в день пять раз в неделю, мне удастся хорошо подготовиться к экзаменам. А потом я вернусь в школу, освобожденная от известных девочек, и буду готовиться к университету. У меня появятся новые друзья. И жизнь начнется заново…
Чтобы отпраздновать это событие, мама в тот вечер приготовила мой любимый ужин: утку в апельсиновом соусе с жареной картошкой, горошком и брокколи, а на десерт — яблочный пирог и мороженое. К моему удивлению, она выставила на кухонный стол бутылку красного вина и два больших бокала.
— Ты знаешь, что нарушаешь закон, мам? — поддразнила я ее, когда она налила мне вина и оно красиво заискрилось в бокале. — Мне еще два года нельзя выпивать. А ведь ты юрист!
— Думаю, ты заслуживаешь, — улыбнулась она.
Я заметила, какой усталый у нее вид: морщины под глазами прорезались еще глубже, в темных вьющихся волосах добавилось седины, — и до меня дошло, насколько тяжелым было это испытание и для нее тоже. Такова материнская доля, подумала я, чувствовать боль детей так же остро, как свою собственную.
— Ты тоже, мама, — улыбнулась я, и мы тихонько чокнулись бокалами.
— Как бы то ни было, — добавила она, — тебе ведь скоро шестнадцать, всего через четыре месяца. Если в шестнадцать можно выходить замуж, то уж выпить бокал вина сам бог велел.
Нашу трапезу прервал телефонный звонок, и мама, с набитым ртом, поспешила к трубке. Она строила забавные рожицы, качала головой, закатывала глаза, жевала и жевала, но все никак не могла проглотить кусок. Я глупо хихикала над ее мимикой — не без помощи вина, конечно, которое ударило мне в голову. Наконец она смогла снять трубку. Это был Генри Лавелл, ее адвокат. Он сообщил, что супружеская пара, заинтересованная в покупке нашего семейного дома, сделала официальное предложение и «другая сторона» (имелся в виду ее муж, мой отец) приняла его.
— Как у вас продвигаются дела с поиском дома? — спросил он.
— Никак, — сказала мама. — Мы даже не начинали!
— Я бы посоветовал вам поторопиться, — предупредил он. — Я так понял, эти люди хотят въехать как можно быстрее.
Мы выпили целую бутылку красного вина в честь двойного праздника, и наутро я проснулась с первого в своей жизни похмелья. Но даже тупая боль в висках не могла испортить мне настроения. Больше не будет школы. Не будет Терезы, Эммы и Джейн. Конец унижениям. Конец молчаливым страданиям. Конец боли. И, для полного счастья, семейный дом продан. Мы съезжаем из этой обители призраков, музея неудачного брака, наконец-то!
Спустя шесть недель я стояла в палисаднике коттеджа Жимолость, перед овальным розарием, похожим на разрытую могилу.
9
Наша жизнь в коттедже Жимолость очень быстро вошла в колею приятной рутины.
Каждое утро мы завтракали за деревянным столом на кухне. Я готовила и накрывала на стол (немало гордясь тем, что делаю все как полагается), пока мама летала по дому в обычной утренней панике, наспех отглаживая блузку, отсылая срочные сообщения по электронной почте, лихорадочно роясь в шкафах в поисках той или иной вещи. Наше меню было расписано по дням: сегодня тосты, завтра каши, и мы строго придерживались его, даже по выходным.
Мама уезжала на работу в начале девятого, поскольку теперь ей приходилось добираться намного дольше. Мы прощались точно так, как это делают пожилые супруги: я чмокала ее в щеку, напоминала о том, чтобы машину вела аккуратно, а потом, с порога, махала ей вслед рукой, пока ее старенький «форд-эскорт» медленно отъезжал по гравийной аллее. Она всегда оглядывалась назад и махала в ответ, напутственно поднимая в воздух кулачки. Проводив маму, я мыла посуду, накопившуюся после завтрака и с вечера, слушала новости по радио, потом поднималась в свою комнату и одевалась.
Ровно в десять утра приезжал мой главный наставник, Роджер Кларк. Роджер преподавал мне английский язык и литературу, историю, французский и географию — пять предметов, по которым я уверенно рассчитывала получить высшие баллы. Мы с Роджером занимались за большим столом в столовой, подкрепляясь чаем, который, по словам Роджера, я заваривала так крепко, что «ложка стояла».
Поначалу мама без энтузиазма отнеслась к тому, что будет приходить учитель-мужчина, но, получив заверения в том, что у него безупречная репутация, и встретившись с ним лично, успокоилась. Должно быть, она увидела, что Роджер не представляет для меня угрозы, поскольку он и сам был мышью. Он тоже носил на груди эмблему мышиного братства, и я сразу почувствовала в нем родственную душу.
Ему было всего двадцать семь, но он уже растерял почти всю шевелюру, и все из-за стрессов. Осталось лишь две дорожки над ушами. Возможно, чтобы компенсировать этот недостаток, он отрастил густые пшеничные усы. Он был анорексично худым и носил круглые очки в роговой оправе, которые увеличивали его зеленые глаза. Когда он говорил, его кадык смешно двигался вверх-вниз, похожий на яйцо вкрутую. Несмотря на его странноватую внешность, мне было уютно с Роджером, и к тому же я очень скоро убедилась в том, что он талантливый педагог. Негромким голосом, доходчиво, он объяснял самые сложные вещи, и то, что мне прежде казалось головоломкой, вдруг становилось простым и понятным.
Мы с Роджером действительно хорошо ладили. Для меня он был скорее друг, а не учитель. Во время регулярных «переменок» он рассказывал о себе. Так я узнала, что он с отличием окончил университет, где изучал историю, а потом переквалифицировался в школьного учителя. Он всегда стремился преподавать — его родители были учителями, и он видел, сколько удовлетворения и радости приносила им работа.
Однако для Роджера реальность оказалась совсем не похожей на мечту. Он попал в школу, где мало кто из детей проявлял интерес к учебе. Его внешний вид был предметом насмешек среди учеников, которые даже придумали ему прозвище Недоносок. В его классах были серьезные проблемы с дисциплиной. За пять лет работы в школе он целых одиннадцать раз подвергался нападениям со стороны учеников. Его машину вскрывали, прокалывали шины так часто, что он в конце концов продал ее и ходил в школу и обратно пешком — на круг выходило больше четырех миль. Он даже не мог воспользоваться автобусом, поскольку опасался, что среди попутчиков окажутся его подопечные.
И вот, после того как ученик ударил его головой в рот и выбил передний зуб, у Роджера случился нервный срыв, и он был вынужден уйти с работы по болезни. Когда ему стало лучше, он вернулся в университет, чтобы писать исследовательскую работу о причинах Первой мировой войны (второй по масштабу мышиной резни в истории). Он отчаянно нуждался в деньгах, поскольку грант был очень маленьким, и друг посоветовал ему обратиться к местным властям, предложив себя в качестве домашнего педагога для детей, которые не могли посещать школу либо по причине слабого здоровья, либо из страха. Я была его второй ученицей.
С Роджером я постепенно избавилась от прежней замкнутости и охотно рассказала ему свою историю: про отца, для которого сексуальная жизнь оказалась важнее собственной дочери; про ДЖЭТШ, про то, как бывшие подруги едва не забили меня до беспамятства, а потом подожгли мне волосы.
— Как странно, — сказала я ему однажды, — я была ученицей, а вы учителем, и мы оба стали жертвами школьной травли.
Он нахмурился, словно хотел обозначить возрастную границу между нами, но потом вдруг улыбнулся, как будто говоря: какой смысл отрицать очевидное?
— У нас много общего, — сказала я.
Взгляд его искаженных стеклами очков зеленых глаз задержался на моем лице.
— Да, Шелли, — улыбнулся он, — у нас действительно много общего.
В час дня мы заканчивали занятия, и Роджер уезжал обратно в город, произнося на прощание свою дежурную шутку: «Хорошо, что я привез с собой клубок, иначе бы мне никогда не найти обратную дорогу к цивилизации!»
Я начинала готовить легкий ланч — обычно это был салат — и садилась смотреть дневные новости по телевизору. У мамы был такой тяжелый портфель заказов, что ей приходилось работать без перерыва, она лишь наспех перекусывала сэндвичами прямо на рабочем месте. В то время как Блейкли, Дэвис и другие партнеры пировали в местном бистро, словно жирные коты, которыми они себя воображали, мама сидела в пустом офисе, тихо и кропотливо исправляя их ошибки.
После ланча я устраивалась с книгой на подоконнике в своей спальне, под этот божественный прозрачный свет. Если на улице было тепло — а в тот февраль выдалось немало погожих дней, — я читала в саду, старательно прикрывая от солнца шрамы на лбу и шее.
В половине третьего приезжала миссис Харрис, невысокая коренастая женщина лет за пятьдесят с крашеными рыжими волосами. У меня с ней не было таких доверительных отношений, как с Роджером, и не только потому, что она преподавала мне математику и естественные науки, которые я не могла причислить к своим любимым предметам.
Миссис Харрис много лет учила таких мышей, как я, и за это время ее сочувствие к слабым успело испариться. Она давно пришла к выводу, что мы, дети на домашнем обучении, слабаки, избалованные и капризные отпрыски, не способные противостоять трудностям жизни. Однажды я что-то сказала о своих шрамах, и она обрушилась на меня с резкой критикой.
— Шрамы? Шрамы? И ты называешь это шрамами? Тебе следует сходить в госпиталь и посмотреть, как выглядят настоящие ожоги. Немного макияжа, и никто даже не заметит твоих шрамов. Вот в чем проблема сегодняшних молодых людей — слишком тщедушны, думают только о себе.
В душе меня возмущало ее отношение ко мне, но я была слишком слаба, чтобы подать голос в свою защиту. Я-то знала, что повидала на своем веку немало трудностей — если точнее, слишком много. И сомневалась в том, что миссис Харрис сталкивалась с чем-то похожим, иначе она бы проявляла больше понимания.
Миссис Харрис уезжала в половине пятого, и я садилась за домашние задания, пока в половине седьмого не возвращалась с работы мама. Если к тому времени я успевала сделать уроки, то играла на флейте. Музыкальная подставка стояла рядом с пианино, так что мне открывался чудесный вид на палисадник, залитый дневным светом. Если у меня не было настроения музицировать, я читала или садилась в столовой и рисовала. Поскольку я не была сильна в придумывании сюжетов, я доставала с книжной полки какой-нибудь альбом по искусству и копировала понравившуюся лошадь или интересный пейзаж. Иногда я принималась рисовать какой-нибудь предмет из тех, что стояли на серванте, — деревянную чашу для ароматических смесей, вазу с сухоцветами, какую-нибудь фарфоровую или стеклянную безделушку, что коллекционировала мама. В большинстве своем это были подарки маме от ее мамы (мама так и не осмелилась признаться в том, что это «не совсем в ее вкусе»). Все эти поделки были, по сути, китчем — ежик от «Беатрис Поттер»; викторианская розовощекая цветочница; маленький мальчик-рыбак с леской, привязанной к пальцу ноги; стеклянный дельфин, рассекающий водную гладь; миниатюрный коттедж с соломенной крышей. Но, как ни странно, чем сильнее они смахивали на китч, тем более забавными казались и тем больше мы были привязаны к ним.
Но больше всего я любила вечера с мамой в коттедже Жимолость. Когда она приезжала с работы, я заваривала для нее чай, и мы садились за кухонный стол и болтали. Мы переняли обычай, подсмотренный в фильме с Мишель Пфайффер «История про нас», в котором члены одной семьи за ужином обменивались впечатлениями о прожитом дне.
Самыми яркими событиями моей жизни были, как правило, хорошие отметки от Роджера, или чтение наиболее захватывающих глав романа, или удачные рисунки. Настроение неизменно падало, когда я видела шрамы, по-прежнему уродующие мои шею и лоб, или когда думала об отце и злилась на него за то, как он обошелся с нами. Маму радовали выигранные в суде дела и похвала от благодарных клиентов, а расстраивали грубые высказывания одиозного мистера Блейкли — он не гнушался даже сквернословия — и его неоднократные попытки притереться к ней в копировальной комнате.
Мама всегда подбадривала меня, настойчиво уверяя в том, что мои шрамы вскоре заживут, а я точно так же утешала ее после стычек с Блейкли, хотя, кроме банальных фраз, ничего не могла предложить. Мама не могла рисковать своей работой. Работа была ей нужна. Нужна нам. Но вот в отношении отца все было намного сложнее. Под покровом злости, которая кипела во мне, притаилась и тоска. Она, как те греческие воины, спрятавшиеся в троянском коне, готова была вырваться наружу, чтобы разрушить мои отношения с мамой, и я видела, как она напрягается всякий раз, когда я упоминаю о нем. Мне совсем не хотелось обижать маму, ведь у меня больше не было друзей и без нее мне было бы совсем худо.
После чая мама переодевалась, и мы вместе готовили ужин. Мы обе любили готовить и с удовольствием экспериментировали со сложными рецептами из наших бесчисленных кулинарных книг. Иногда мы по два часа проводили на кухне, нарезая овощи на тяжелой мраморной разделочной доске, которую когда-то мама привезла из Италии, под мирное шипение и бульканье сковородок и кастрюль на плите.
После ужина мы устраивались в гостиной, включая на полную мощь центральное отопление, а если за окном было прохладно, разжигали камин. Обычно мы читали свои романы (хотя маме чаще приходилось читать рабочие документы) и слушали классическую музыку. Я была воспитана на классике, а поп-музыка, хотя я и пыталась полюбить ее, так и не прижилась в моей душе. Мы обожали Моцарта и Шопена, Чайковского и Брамса, но нашими неизменными фаворитами оставались оперы Пуччини. Поскольку на многие мили вокруг не было ни одной живой души, мы могли включать стереосистему на полную мощность и наслаждаться трагической красотой «Богемы» или «Мадам Баттерфлай».
Телевизор мы почти не смотрели, разве что выпуски новостей. Собственно, ничего интересного и не показывали — так, сплошной набор удручающей документальной хроники о нью-йоркских наркоманах или СПИДе в Африке, дешевых и плохо поставленных мыльных опер, примитивных реалити-шоу. Правда, мы любили кино, особенно романтические комедии, и всегда просматривали телепрограмму в поисках достойных фильмов. Больше всего мы любили старые киноленты, такие как «Вам письмо» и «Неспящие в Сиэтле» с Томом Хэнксом и Мег Райан, классику с Хью Грантом — «Ноттинг-Хилл» и «Четыре свадьбы и одни похороны». Современный кинематограф мы не жаловали — эти картины казались вульгарными и грубо-сексуальными, и мне было неловко смотреть их вместе с мамой. Мы обе были неравнодушны к Джорджу Клуни и ради него охотно мирились с невразумительным сценарием сериала «Одиннадцать друзей Оушена». Я часто ловила себя на том, что Клуни чем-то напоминает мне отца — совсем чуть-чуть, но все-таки. Конечно, я никогда не говорила об этом маме, но задавалась вопросом, не приходят ли ей в голову те же мысли.
У нас вошло в привычку выпивать по чашке горячего шоколада часов в десять вечера, а к одиннадцати мы уже засыпали, уютно свернувшись на диване.
Под звуки скрипичного концерта Брамса или Шестой симфонии Чайковского я дремала у мамы на плече, чувствуя, как шоколадные усы высыхают над моей верхней губой, а книга выскальзывает на пол из пальцев, и мне было так тепло и спокойно в нашем коттедже. Иногда, глядя на оранжевые языки огня в камине, я думала о Терезе Уотсон и представляла себе, чем она сейчас занимается — танцует в ночном клубе, пьет пиво в тесном прокуренном пабе, тискается со своим бойфрендом на заднем сиденье его машины, — и мысленно говорила: «Я бы не поменялась с тобой местами, Тереза Уотсон, ни за что на свете». Я знаю, что я мышь, и знаю, что прячусь от мира в своей маленькой норке за плинтусом, но моя мышиная жизнь наполнена самым прекрасным, что есть на этом свете, — искусством, музыкой, литературой… любовью.
Пусть это всего лишь мышиная жизнь, но это хорошая жизнь, богатая и насыщенная, замечательная жизнь.
10
В тот год весна пришла рано. Мягкий февраль стал предвестником теплого марта. Вишневые деревья покрылись розовой пеной цветов, а уже через несколько дней мы, проснувшись, с изумлением увидели одетые в белое яблони. Мы тут же начали строить планы, как летом будем печь фруктовые пироги, лакомиться вкусными плодами с ванильным мороженым. Я, как и обещала, выучила названия всех растений и одним воскресным утром провела для мамы экскурсию, познакомив ее с обитателями нашего сада. Обход завершился у овального розария, где я царственным жестом обвела цветы и объявила: «И наконец, последний, но не менее важный представитель флоры: ремонтантная роза, rosa hybrida bifera…»
По мере того как дни становились длиннее, мы проводили все больше времени на улице. Теперь, когда мама возвращалась с работы, мы пили чай в патио, обставленном белой садовой мебелью, которую мама прикупила в городе по дешевке. По выходным мы часами копались в саду. Косили газон, что было задачей не такой уж легкой, поскольку сад занимал площадь не меньше трех акров, да к тому же при нашем попустительстве трава вырастала до таких высот, какие ей и не снились под жестким руководством мистера Дженкинса. Я только успевала оттаскивать мешки со скошенной травой в компостную яму, вырытую на задворках, с усмешкой вспоминая о том, с какой гордостью представлял нам мистер Дженкинс эту осклизлую кучу.
Мама с особым трепетом относилась к овощным грядкам, вдохновленная идеей готовить блюда из овощей, выращенных в собственном саду. Ей хотелось превзойти мистера Дженкинса, и она посадила еще больше овощей и ароматные травы, такие как розмарин и тимьян.
Поскольку грядок не хватало, она решила протянуть их до самых кипарисов. Так что в очередную субботу, после поездки в город за лопатами и вилами, мы приступили к работе, вскапывая целину площадью с две двуспальные кровати. Мы рьяно взялись за дело, радуясь тому, что для разнообразия можно размяться физически, но совершенно не представляли себе, к каким последствиям приведет этот изнурительный труд. Когда на следующее утро мы проснулись, то едва могли пошевелиться — даже чайник поднять было больно, а уж спуск по лестнице походил на агонию.
Когда нам хотелось подурачиться, мы играли в крокет на лужайке перед домом или натягивали сетку между фруктовыми деревьями и сражались в бадминтон. Мама, высокая и довольно нескладная, совсем не дружила со спортом, и, когда пропускала подачу или смешно подпрыгивала, пытаясь достать парящий волан, но лишь рассекая ракеткой воздух, мы дружно падали на траву, обессилевшие от смеха.
Это было так здорово — жить за городом, где на мили вокруг не было никаких соседей. Можно было болтать, смеяться, кричать, даже орать во все горло, никому не мешая. Это было так не похоже на жизнь в семейном доме, где, выходя в сад, я чувствовала себя неловко, зная, что он просматривается со всех сторон, и приходилось шептать, чтобы соседи — чьи силуэты маячили за кустами — тебя не слышали.
По вечерам мы музицировали дуэтом в гостиной — возобновили давнюю традицию, прерванную с уходом отца. У нас было много пьес для флейты и фортепиано, и однажды, праздно просматривая ноты, я наткнулась на сборник «Русские народные песни», который мы ни разу не открывали. С тех пор он стал нашим фаворитом, и в тот март мы разучили почти все пьесы. Партии для флейты легко запоминались и были несложными для исполнения, в то время как фортепианные были каверзными, и даже мама иногда путалась. Некоторые мелодии западали в душу, и назавтра мы целый день насвистывали или напевали их. Если я допускала совсем уж чудовищную ошибку, мы заливались смехом, и вернуться к разучиванию пьесы удавалось не скоро. Мне очень нравились наши музыкальные дуэты, и я, как никогда, с удовольствием играла на флейте. Сколько же раз я бросала этот инструмент, но неизменно к нему возвращалась.
Иногда, наблюдая за тем, как мама пытается достать волан, застрявший в ветках вишни, или корчит рожицы, когда крокетный шар упрыгивал в дальний угол сада, я ловила себя на том, что меня переполняет любовь к ней. Высокая и неуклюжая, с большими руками, которые она, казалось, не знает, куда деть, с темными непослушными кудряшками, неподвластными ни одной расческе, она выглядела такой… такой беззащитной, и я просто подбегала к ней, обнимала и крепко-крепко прижимала к себе.
Я ЗНАЛА, ЧТО с деньгами у нас туго, и, когда мама начала выяснять, чего мне хочется в качестве подарка на шестнадцатилетие, ограничилась коротким списком книг. На ее удивленный вопрос, неужели это все, чего мне действительно хочется, я ответила, что да, у меня есть все, о чем только можно мечтать.
Конечно, я лукавила. Было кое-что, чего мне хотелось, но произнести эту просьбу было бы верхом эгоизма. Мама ездила на машине, которой место было на свалке, а на работу ходила в костюмах пятнадцатилетней давности. Я даже не помнила, когда в последний раз она покупала себе обновку. Между тем мы всегда хорошо питались, непременно находились деньги на новую одежду и обувь для меня, на книги или журналы, которые я просила, на видеодиск или поход в кино. Я видела, что для нее мои нужды стоят на первом месте, и, разумеется, не собиралась злоупотреблять этим.
Но была у меня одна мечта. Была вещь, которую мне очень хотелось — почти так же отчаянно, как флейту в детстве. Я хотела лэптоп; однажды, когда мы с мамой были в магазине, я подсмотрела один такой — тонкий и изящный, он легко умещался в сумку через плечо, занимая места не больше, чем папка с бумагами.
У нас был настольный компьютер, он стоял в маленькой мансарде, которую мама приспособила под свой кабинет. Этому компьютеру было лет десять (отец, разумеется, прихватил с собой новый, когда уходил от нас), так что его вполне можно было назвать доисторическим. И он уже демонстрировал странности пожилого возраста — регулярно зависал без объяснения причин, частенько не хотел выключаться как положено, но самое ужасное, что он тормозил, тормозил, тормозил! Я пользовалась им, когда нужно было выйти в Интернет, но мне было неуютно работать на нем; я знала, что это мамин рабочий компьютер, и жутко боялась, что случайно уничтожу какое-нибудь клиентское заявление или мудреный расчет суммы иска, на который мама потратила не один час. Я предпочитала писать свои эссе по старинке, от руки, нежели сражаться с «чудовищем», как мы прозвали наше чудо техники, но в душе-то знала, насколько легче было бы выполнять домашние задания на компьютере. Я могла бы переставлять параграфы, удалять абзацы, которые мне не нравятся (а не зачеркивать их, как четырехлетний ребенок), проверять орфографию и точно знать, сколько слов написала, что сэкономило бы мне кучу времени, когда Роджер задавал строгий лимит по количеству слов.
Мои мысли плавно переместились к окончанию школы и поступлению в университет. Лэптоп, конечно, был бы огромным подспорьем в написании эссе, и я даже видела себя на лекциях, где с его помощью могла бы составлять конспекты, если бы научилась быстро печатать.
Но что особенно вдохновляло меня, так это мысль о том, что лэптоп помог бы мне в творчестве. С ним я могла бы приступить к чему-то серьезному — возможно, мне удалось бы написать свой первый роман…
Как бы то ни было, я промолчала. Я знала, что, если бы мама догадалась о моем тайном желании, она бы обязательно купила мне лэптоп — даже если бы это означало, что ей придется ходить на работу в прохудившихся туфлях и драных колготках.
11
Закончился март, и наступил апрель. Наша жизнь текла плавно и размеренно — по утрам приходил Роджер, после обеда — миссис Харрис. Я была упорной в учебе, и у меня снова были хорошие перспективы на предстоящие экзамены, до которых оставалось три месяца. Мама по-прежнему работала за троих и все так же покорно сносила грубость Блейкли с его «похотливыми» ручищами.
Приближался мой день рождения, и мысль о том, что скоро мне исполнится шестнадцать, начинала будоражить меня. Я получила немного денег от своей бабушки из Уэльса, и какие-то дальние родственники прислали поздравительные открытки, которые мама выставила на серванте. Поистине трогательную открытку прислали из госпиталя, на ней расписались все медсестры и нянечки, которые ухаживали тогда за мной. Я была удивлена, когда пришло письмо из полиции, сопровождающее поздравительную открытку из школы, подписанную директором «с наилучшими пожеланиями от всего сердца». Я тут же порвала ее и выбросила в мусорную корзину.
Несмотря на внутреннюю борьбу с самой собой, я все равно ждала поздравлений от отца. Но ничего не пришло.
Эта мелкая заноза засела глубоко под кожей, и чем сильнее я пыталась ее не замечать, тем больше она меня раздражала. Я все еще не могла поверить в то, что нашим отношениям пришел конец, что я больше никогда не увижу отца. Я знала, что у него есть наш новый адрес, и начала подозревать, что мама перехватила отцовский подарок и выкинула его — однажды я даже обшарила все мусорные корзины. Но, рассудив трезво, я поняла, что мама не смогла бы утаить от меня письмо или подарок — почтальон обычно приходил не раньше, чем она уезжала на работу. Да и в самом деле: отец не позвонил мне, когда я выписалась из госпиталя, так с чего бы вдруг он вспомнил про мой день рождения? Видимо, в отместку за то, что я приняла сторону матери и захотела жить с ней, а не с ним, он отправил меня в мусорную корзину и перекрыл кран, из которого когда-то хлестали его нежные чувства ко мне.
В тот год мой день рождения, 11 апреля, выпал на четверг. Накануне вечером, около шести, позвонила мама и сказала, что задержится — Блейкли опять попросил ее встретиться с клиентом, который может прийти только во внеурочное время (ты такая лохушка, Элизабет!).
Я рано закончила с уроками и занималась рисованием в столовой, но после звонка мамы решила не возвращаться к прерванному занятию, а вместо этого самостоятельно приготовить вкусный ужин. Я до сих пор с содроганием включала газовую плиту (после того, что случилось со мной в школе), но если слегка поворачивала ручку, то, поднося спичку к горелке, умела удержаться от крика. Я сварила спагетти «болоньезе», причем очень удачно, и уже собиралась накладывать себе тарелку, когда мама открыла дверь своим ключом.
— И что все это значит? — улыбнулась она, заходя на кухню. — Я думала, завтра твой день рождения, а не мой. —
Она поцеловала меня, и ее холодный нос отпечатался на моей теплой щеке.
— Ты замерзла, — сказала я, приложив руку к холодному пятнышку на лице.
— Да, погода портится. И начинается дождь.
Пока мама переодевалась, я поставила диск с «Богемой», сервировала стол, зажгла ароматические свечи. Потом открыла бутылку красного вина, наполнила два бокала, снова закупорила бутылку и убрала ее в шкафчик. Я уже усвоила урок — одного бокала вполне достаточно.
Мама спустилась в домашних брюках и уютном джемпере, как раз когда я закончила накрывать на стол. Мы подняли бокалы за «приближающийся день рождения» и чокнулись. Потом привычно обменялись впечатлениями о прожитом дне. Мама выиграла дело против местной автобусной компании, на что, откровенно говоря, даже не надеялась; Блейкли накричал на нее в присутствии Бренды и Салли за то, что утром она принесла ему в суд не ту папку (мама сказала, что принесла ему папку, которую он просил). Я рассказала о том, как сражалась с уравнениями, которые задала миссис Харрис, но справилась лишь с тремя из десяти; из альбома Гойи я скопировала картину «Сон разума рождает чудовищ», и хотя ноги спящего мужчины получились у меня слишком короткими, совы, летучие мыши и кошки — те самые чудовища, угрожающе подкрадывающиеся к нему, — вызывали у меня искреннее восхищение.
За ужином я заметила, что взгляд мамы периодически задерживается на моем лице.
— Что? — спросила я. Из-за шрамов я стеснялась своего лица и не выносила пристальных взглядов.
— Ничего, — мечтательно произнесла она в ответ. — Мне просто не верится, что завтра моей маленькой девочке исполнится шестнадцать лет. Шестнадцать! Кажется, только вчера я кормила тебя грудью.
— Пожалуйста, мама, ведь я ем!
— Время летит так быстро, — вздохнула она, медленно качая головой. — У тебя всегда был хороший аппетит, ты никогда не отказывалась от груди.
— Мам, ты ведь не собираешься устраивать вечер памяти, правда?
— Нет, нет, если тебя это так смущает… обещаю, что не ударюсь в воспоминания времен грудного вскармливания…
Я как раз сделала глоток вина и едва не поперхнулась от смеха. Когда я успокоилась, у мамы был все тот же мечтательный взгляд.
— Завтра мы устроим настоящий праздник, Шелли. Поедем в какое-нибудь красивое местечко.
— Это лишнее, мама.
— Перестань. — Она задумчиво выписывала пальцем круги в маленькой лужице вина на столе. Когда она снова заговорила, ее глаза были влажными.
— Я хочу попросить у тебя прощения, Шелли.
— За что?
— За то, что не уберегла тебя. Не защитила от тех ужасных, ужасных девочек.
Меня душили слезы, и мой ответ прозвучал еле слышно:
— Ты ведь не знала.
— Но должна была знать. И сделать так, чтобы ты могла прийти ко мне со своей бедой.
Я тупо рисовала вилкой узоры в соусе для спагетти.
— Как ты думаешь, Шелли, почему ты не решилась рассказать мне?
— Не знаю. — Я пожала плечами. — Я была как будто… парализована. И мне было очень стыдно.
— Знаешь, для меня это больнее всего… то, что ты не почувствовала потребности довериться мне. В этом моя вина. Я была слишком занята своими переживаниями после развода, да и работой тоже. Я отгородилась от тебя.
Я знала, что мама здесь ни при чем — это я решила скрыть от нее факт травли, — но в то же время в глубине души было приятно, что она винит себя в случившемся.
— Иногда мне хочется, чтобы ты не была похожа на меня, Шелли.
— Не говори так, мама.
— Я имею в виду, мне хочется, чтобы ты была более открытой… более… — Она никак не могла подыскать правильные слова. Видимо, то, что она хотела сказать, было слишком сложно, мучительно для нее. Она оставила попытки сформулировать свою мысль и с мольбой посмотрела на меня: — В этом мире так тяжело жить, Шелли!
Она смахнула со щеки невидимую слезу и попыталась улыбнуться, но тут выражение ее лица изменилось, и сама она как будто съежилась от некой тягостной мысли, вдруг пришедшей в голову.
— Может, зря мы сюда переехали. Может, не надо было забирать тебя из школы. Может, было бы лучше, если бы мы попытались противостоять…
— Нет! — Меня охватила паника. — Я не хочу обратно в школу!
Мама потянулась ко мне через стол и взяла меня за руку.
— Тебя никто и не заставляет, — успокоила она. Она так крепко стиснула мою руку, что я едва не вскрикнула от боли. — Я больше не подведу тебя, Шелли. Обещаю.
Мне стало не по себе от суровой решимости, сквозившей в ее взгляде, и я отвернулась. Когда я снова посмотрела на маму, то с облегчением увидела, что она нежно улыбается.
— Я хочу, чтобы ты знала, как я горжусь тобой, — сказала она. — Горжусь тем, с каким мужеством ты выдержала все испытания, выпавшие на твою долю.
— Мама!
— Нет, я серьезно. Ты была на высоте. Спокойна, рассудительна. Никаких истерик, никакой жалости к себе. Решено, мы обязательно отметим твой день рождения в каком-нибудь чудесном месте. В роскошном ресторане. Договорились?
Никакой жалости к себе. Я вспомнила пояс банного халата, балку под потолком гаража, где когда-то была подвешена отцовская «груша»… но решила, что не стоит разочаровывать маму.
— Хорошо, мам, — улыбнулась я. — Договорились.
После ужина мы сыграли очередной дуэт из «Русских народных песен». Пьеса называлась «Цыганская свадьба», и у нее был такой быстрый ритм, что я просто не успевала попадать в такт. Каждый раз, когда мама доходила до середины своей партии, я начинала безнадежно отставать, и это вызывало у меня приступ смеха. Я делала сотни ошибок, и чем чаще я ошибалась, тем громче мы обе хохотали.
В ту ночь нас обеих рано сморил сон; мама начала клевать носом еще до начала десятичасового выпуска новостей. Я не смогла высидеть репортаж о нудном политическом скандале, поэтому обняла маму, чмокнула ее в щеку и ушла к себе спать.
Я долго лежала не смыкая глаз, прислушиваясь к легкому стуку дождя, наслаждаясь последними мгновениями уходящего пятнадцатого года своей жизни. Утром мне исполнится шестнадцать. Шестнадцатилетняя красотка, ни разу не целованная, так, кажется, говорят. Что ж, это как раз про меня. Меня никто и никогда не целовал.
И впервые в жизни я почувствовала, что мне этого хочется. Хочется иметь бойфренда. Хочется, чтобы он меня целовал. Возможно, в этот шестнадцатый год, когда заживут мои шрамы, я кого-нибудь и встречу. Такого же красивого, как Джордж Клуни, но с юношеской невинностью молодого Тома Хэнкса; верного и искреннего, кто не оставит свою любимую после того, как ее красота угаснет и в уголках глаз соберутся морщинки…
Во мне что-то пробуждалось, возрождалось к жизни, совсем как наш сад под благодатным весенним дождем выпускал зеленые побеги, раскрывал липкие почки и девственные лепестки. Когда я проснусь, мне будет уже шестнадцать, думала я. Впору выходить замуж, как сказала мама. У меня было такое чувство, будто я стою на пороге волнующих новых впечатлений, новых эмоций, новых отношений, и я жаждала их так же, как бабочка, томящаяся в куколке, жаждет расправить свои хрупкие крылья и полететь.
С такими мыслями я погрузилась в упоительный сладкий сон.
12
Я резко открыла глаза и тут же проснулась. Несмотря на мой глубокий сон, безошибочно угадываемый скрип четвертой ступеньки, видимо, проник в ту часть мозга, которая никогда не спит. Я ничуть не сомневалась в том, что я слышала этот звук, как не сомневалась и в том, что он означал: в доме кто-то есть.
На дисплее моего будильника высвечивалось время: 3:33.
Я чувствовала, как сильно бьется сердце в груди, будто кролик корчится в силках, все больше запутываясь в них. Я напрягла слух, стараясь расслышать что-то в нарастающем в висках шуме. Мои уши, словно локаторы, навострили свои антенны в сторону двери — и дальше к лестничной площадке, ступенькам, — постоянно отсылая назад информацию: тишина, тишина, тишина, мы не обнаруживаем ничего, кроме тишины. Может, я все-таки ошиблась? Нет, я знала, что не ошиблась. Я слышала, как четвертая ступенька скрипнула под тяжестью человеческого веса.
И, словно подкрепляя мою уверенность, после длившегося вечность ожидания застонала другая, верхняя ступенька: в доме кто-то был.
Меня парализовал страх. С тех пор как я открыла глаза, во мне не дрогнул ни один мускул. Я как будто повиновалась первичному инстинкту — замереть и не двигаться, пока не минует опасность. Я даже дышала через раз, медленно и неглубоко, так что и одеяло не шевелилось. Я подумала о бите для лапты, которую держала под кроватью «на случай разбойного нападения», но не смела протянуть руку и поднять ее с пола. Неведомая сила, куда более мощная, сковала меня намертво. Замри, отдавала она команду, не подавай голоса.
Человек поднимался по лестнице — теперь шаги звучали громче, как будто незваный гость оставил попытки двигаться бесшумно. Я расслышала, как тело тяжело ударилось об шкаф на лестничной площадке (пьяный?) и чей-то голос выругался (мужчина).
Я услышала, как он открыл дверь маминой спальни. Я знала, что он включил там свет, потому что в моей комнате стало еще темнее. Донесся мамин голос. Сонный. Удивленный. Испуганный. А следом зазвучал мужской голос, разлившийся потоком агрессивных утробных звуков, скорее звериных, чем человеческих. «Постойте, — отчетливо заговорила мама. — Я накину халат». И тут я услышала, как они вдвоем двинулись к моей спальне.
Дверь распахнулась, зашуршав по толстому ковру, и включенный свет ослепил меня.
Хотя теперь они оба были в моей спальне, я по-прежнему не двигалась (замри, не подавай голоса, пока не минует опасность). Я лежала пластом, беспомощная, будто сломала шею.
Мама окликнула меня по имени, но я не могла ответить. Она вновь позвала меня, на этот раз громче, подходя к кровати. Наконец она показалась в поле моего зрения. Ее бледное лицо все еще было заспанным, волосы топорщились в диком беспорядке, что могло бы показаться забавным в иных обстоятельствах, спешно накинутый халат болтался на ее фигуре, не подвязанный поясом. Она увидела, что я уже давно не сплю и четко сознаю, что происходит.
— Шелли, дорогая, — сказала она. — Не бойся. Он просто хочет денег. Если мы сделаем все, о чем он просит, он уйдет и оставит нас в покое.
Я ей не поверила, да и по ее дрожащим рукам и срывающемуся голосу было понятно, что она и сама не верит в то, что говорит. Когда кот забирается в мышиную норку, он не уйдет оттуда просто так, не причинив вреда мышке. Я уже знала, чем обернется эта история. Он изнасилует меня. Изнасилует маму. А потом убьет нас обеих.
Невероятным усилием мне наконец удалось высвободить из-под одеяла левую ногу. И, словно стряхнув чары тысячелетнего проклятия, я села на кровати и потянулась за халатом.
Грабитель оказался моложе, чем можно было предположить по его голосу. Это был худосочный юнец лет двадцати, не старше, с лисьей мордочкой и длинными черными волосами, которые лезли ему в глаза и обвивали шею сальными крысиными хвостами. На нем были потрепанная куртка «пилот» оливкового цвета и грязные джинсы, так низко спущенные на бедра, что казалось, будто они вот-вот упадут.
Находясь в пяти шагах от него, я улавливала запах алкоголя, который окутывал его невидимой дымкой. Он явно был пьян, и в то же время он был более чем пьян. Он нетвердо держался на ногах, а его нездоровое бледное лицо было усеяно каплями пота. Со стороны казалось, что он борется со сном; его тяжелые веки то и дело опускались, а потом, как по команде, распахивались. В какое-то мгновение его взгляд затуманился, глаза закатились, и создалось впечатление, будто он на грани обморока, но тут он резко передернул плечами и огляделся по сторонам, словно пытаясь вспомнить, где находится.
В правой руке он держал огромный нож — такими охотники вспарывают тушки кроликов.
Он стоял на лестничной площадке, раскачиваясь из стороны в сторону, как на палубе корабля, попавшего в шторм (упадет ли он? Прошу тебя, господи, пусть он упадет с лестницы и сломает себе шею!), но он не падал. Ножом он сделал знак маме и мне, чтобы мы спустились вниз.
Дрожащие и перепуганные, мы послушно исполнили его волю.
Я шла первой, босыми ступнями ощущая ледяной холод половиц. Впереди маячили очертания входной двери. За ней была спасительная темнота, сотни мест, где можно было укрыться. Если бы я бросилась к выходу, успела бы я выбраться из дома? На двери висела цепочка. Пока я возилась бы с ней… он мог ударить маму своим дикарским ножом.
Я сошла с последней ступеньки, и момент — наш последний шанс? — был упущен.
Он загнал нас в гостиную и включил свет. После теплой постели было холодно, и меня начала бить неконтролируемая дрожь. Мама инстинктивно обняла меня и принялась растирать мое тело, пытаясь согреть, но дрожь не унималась. Я поняла, что дрожу не от холода. Я дрожала от страха.
— Стоять здесь! — рявкнул он. — Не дергаться, иначе получите это! — И он яростно замахнулся на маму ножом, так что зубчатое лезвие проскочило всего в нескольких дюймах от ее левого глаза.
Он с трудом прошагал в столовую, словно двигался по наклонной плоскости, и явно испытал облегчение, когда наконец добрался до стола и смог опереться на него. Мы с мамой стояли, обнявшись, посреди гостиной, и мама как заведенная шептала мне на ухо: «Все будет хорошо, Шелли, все будет хорошо». Я уткнулась ей в шею и крепко зажмурилась. Пожалуйста, пусть это будет всего лишь страшным сном, молила я, пожалуйста, скажи, что все это понарошку!
Я слышала, как он бессвязно бормочет что-то себе под нос, роясь в ящиках серванта и антикварного бюро. Его движения становились все более резкими, и вот уже на пол полетела чаша с ароматической смесью, и поздравительные открытки взмыли в воздух, словно стая бумажных птиц, а ваза с сухоцветами рассыпалась осколками на паркете. И все это время он продолжал бубнить что-то, перемежая это детскими смешками и взрывами грубой брани.
— Что он ищет, мама? — прошептала я.
— Не знаю, милая. Я не уверена, что он и сам знает. Не волнуйся. Он сейчас уйдет.
Прислушиваясь к тарабарщине, доносившейся из столовой, я вдруг осознала, что разбойник на самом деле вовсе не с нами, не в коттедже Жимолость, он пребывает в своих галлюцинациях, навеянных алкоголем или наркотиками — бог знает, чего он там принял. Все, что его окружало — мы с мамой, дрожащие от страха, ящики, которые он выдвигал из бюро и вытряхивал на пол, — было для него всего лишь сном. И не имело никакого отношения к реальности. Он мог искромсать нас своим охотничьим ножом, и для него это не имело бы ровно никакого значения, потому что мы для него не существовали, мы были просто призраками; его мысли, разум были усыплены наркотическим зельем. А уж я-то очень хорошо знала, кого порождает сон разума.
Подняв голову, я увидела, что он направляется к нам, волоча за собой два стула. Он поставил их спинками друг к другу и приказал нам сесть.
— Сейчас поиграем в «музыкальные стулья», — сказал он и разразился хохотом, как будто выдал нечто необычайно остроумное. — Да, точно, — продолжил он, — поиграем в «музыкальные стулья». Как в школе с учителем. Ла-ди-ла-ди-ла-ла. Стоп! Кто остался без стула? Я на стуле! Кто остался без стула? Я на стуле! Ла-ди-ла-ди-ла-ди-ла!
Очередным взмахом своего ножа он указал нам наши места. Мы неохотно разжали объятия и послушно уселись. Я тотчас пожалела об этом, потому что теперь совсем не видела маму — только камин и пианино, — и почувствовала, как усилился страх и в груди поднялась паника. Я закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь остановить надвигающуюся истерику.
Грабитель стоял всего в нескольких шагах от меня и молчал, словно актер, вдруг забывший свой текст. Его веки снова задрожали, и глаза закатились, так что я видела только молочные белки. И в следующее мгновение его голова опустилась на грудь, как будто он заснул стоя. Нож повис в его вялой руке, удерживаемый лишь кончиками пальцев.
Я уставилась на него, ожидая, что он вот-вот очнется ото сна, но этого не случилось. Он был неподвижен, как механическая игрушка, у которой кончился завод. Если я сейчас кинусь на него, подумала я, прямо сейчас, нож выпадет у него из рук — и мама подхватит его. Без ножа он вовсе не был котом в мышиной норе — всего лишь котенком, к тому же больным и заплутавшим. Если броситься на него сейчас, пока он погрузился в очередной транс, можно выбить у него нож. Я могла бы это сделать. Мне следовало это сделать. Я должна была…
Но его веки медленно разлепились, серые радужные оболочки с узкими зрачками вернулись на свое место, и он в упор уставился на меня. Он рассеянно улыбнулся и причмокнул губами, как если бы очнулся от глубокого сна и ощутил неприятный запах во рту. Его рука снова крепко сжала нож. Он поднес его к лицу и тыльной стороной ладони вытер слюну, бежавшую по подбородку.
Я безнадежно опоздала. Снова опоздала.
— Так вот, — медленно произнес он, начиная вспоминать, где находится. — Значит, играем в «музыкальные стулья».
Он полез в карман и достал спутанный моток веревки.
13
— Вам совсем необязательно связывать нас, — сказала мама, стараясь сохранять спокойствие и благоразумие. Но я улавливала страх в ее голосе. Если бы он связал нас, мы были бы полностью в его власти; мы даже не смогли бы убежать, вздумай он взяться за нож. Мы были бы беспомощны, как индейки, которых я видела на рынке перед Рождеством, связанные в грязном углу, смиренно ожидающие взмаха мясницкого топора. — В самом деле, это лишнее, — продолжала мама. — Мы не собираемся оказывать сопротивление. Берите все что хотите — в моей спальне в красной шкатулке лежат драгоценности, а под матрасом деньги. Возьмите их. Мы не будем звать полицию. Обещаю.
Юноша замер, вид у него был какой-то растерянный. Возможно, он обдумывал ее слова; а может, наркотический полет увлек его в смертельно опасный вираж на головокружительной скорости.
Потом он рассмеялся, снова отер рот рукой и начал обматывать веревкой запястья мамы.
— Я все-таки свяжу вас, — сказал он. — Для этого я и принес веревку.
Он опустился на колени и связал ей ноги, после чего на четвереньках подполз ко мне. Он долго связывал мне ноги, явно увлекшись процессом. Я наблюдала за тем, как дергается его сальная голова, и старалась не вдыхать его зловонный запах. Когда он покончил с моими ногами, то обнаружил, что использовал почти всю веревку. Тогда он схватил мои запястья, грубо рванул на себя и туго замотал их оставшимся обрывком веревки. Хватило лишь на то, чтобы завязать крохотный узел.
— Ну вот, — удовлетворенно произнес он, — теперь вы точно никуда не денетесь!
Он медленно поднялся с колен, тяжело дыша. Прижав руки к животу, он сморщился, словно его мучила тошнота. В следующее мгновение он громко отрыгнул.
— Прошу прощения, леди, — сказал он. — Прошу прощения, мадам. Madame. Не надо было есть яйца. Они явно протухли.
Последовало долгое молчание. Невыносимо долгое. Я не видела его, но чувствовала, что он стоит перед мамой. Я попыталась подглядеть через плечо, но он был в мертвой зоне, строго у меня за спиной, так что даже краем глаза мне не удалось его увидеть. Он собирается ударить ее ножом, подумала я. Прямо сейчас начнется убийство. Он убьет ее, а потом убьет меня. Он пришел сюда не воровать. Он пришел убивать. Он перережет нам горло в нашей собственной гостиной. Эта мерзкая свинья перережет нам горло.
Я подергала веревку, связывающую мои руки, но узел был слишком крепкий и не поддавался. Нет, я ничего не могла сделать. Обмякнув на стуле, я стала ждать, когда же все начнется.
— Мне нужна сумка, — сказал он. — Я не захватил с собой сумку.
— Там есть… там, под лестницей, есть сумки, — с готовностью предложила мама. Я испытала облегчение, снова услышав ее голос.
— Я принес веревку, но забыл про сумку, — произнес он, словно маленький мальчик, извиняющийся перед учительницей за то, что пришел в школу неподготовленный.
— Под лестницей, — мягко повторила мама. — Там спортивная сумка. Вы можете ее взять.
— Сейчас я поднимусь наверх. И соберу деньги и драгоценности. Если вы попытаетесь что-то предпринять в мое отсутствие, я вас убью. Я убью вас обеих. Поняли?
— Да, — сказала мама.
— Вы поняли? — крикнул он.
— Да, мы все поняли, — повторила мама голосом настолько послушным, насколько это было возможно.
Последовала еще одна долгая неловкая пауза.
— Вы хотели спортивную сумку, — подсказала мама. — Она красного цвета.
— Я сам знаю, чего я хочу, леди! Я сам знаю! — раздраженно крикнул он. — Не указывайте мне! Не вы будете говорить мне, чего я хочу!
Какое-то мгновение он, казалось, колебался, словно его так и подмывало перевести эту вспышку злости в настоящую ярость, но, когда он снова заговорил, его голос прозвучал скорее сдержанно, чем злобно:
— Я знаю, чего я хочу, леди. Я знаю, что я делаю. Насчет этого не беспокойтесь…
С этим он ушел. Я слышала, как он роется под лестницей, выискивая красную сумку, а потом его тяжелые сомнамбулические шаги затопали по лестнице.
— Мам? — прошептала я. — Что нам делать?
— Просто сохранять спокойствие, Шелли. Если мы поддадимся панике, он тоже запаникует. Мы должны проявить выдержку.
— Он собирается убить нас?
— Нет, он не будет этого делать. Ему просто нужны деньги. Когда он решит, что забрал все, что есть, он уйдет — кроме денег, его больше ничего не интересует.
Она ошибалась. Я была уверена в этом, но не видела смысла в том, чтобы спорить. Мы обе были связаны. И нам ничего не оставалось, кроме как ждать. Что-то тяжелое грохнулось об пол в комнате наверху. Чуть позже мы услышали, как он спускает воду в унитазе.
Я уставилась на пианино, его крышка была поднята, а на пюпитре был разложен сборник «Русские народные песни», раскрытый на пьесе «Цыганская свадьба», которую мы играли вчера вечером. Моя флейта так и осталась на бархатном стульчике возле пианино, где я ее бросила. Даже не верилось, что всего несколькими часами ранее мы с мамой играли дуэтом в этой самой комнате, смеялись и хихикали над моими неловкими попытками удержать быстрый темп музыки. Сейчас мы сидели связанные и испуганные, мучаясь догадками, убьет ли нас накачанный наркотиками разбойник или оставит в живых.
Горькая улыбка тронула мои губы, когда я вспомнила, что сегодня мой день рождения. С днем рождения тебя! Интересно, сколько людей приняли смерть в день своего рождения? Теперь и я познавала иронию судьбы. Я хотела что-то сказать маме, но передумала. Мои мрачные размышления вряд ли могли помочь в этой ситуации.
Я принялась разглядывать книжные полки по другую сторону шершавой каминной полки. Вот они все, мои сокровища: полное собрание сочинений Шекспира, «Война и мир», «Мадам Бовари», «Преступление и наказание», «Гордость и предубеждение», «Дон Кихот», «Оливер Твист», «Отверженные» — достойная библиотека классики европейской литературы. На верхних полках стояли книги по искусству — огромные иллюстрированные альбомы по Ренессансу, импрессионистам, модернизму, Дега и Вермееру, Микеланджело, Тернеру и Боттичелли. «Музыкальную секцию» книжного шкафа представляло тридцатитомное издание «Жизнь великих композиторов», которое мы заказывали в книжном клубе любителей музыки, аккуратно расставленное в алфавитном порядке — Бах, Вагнер…
Да, здесь они были все, боги и богини искусства, литературы и музыки. Божества «культуры» среднего класса. Но, разглядывая сейчас их ряды, я впервые в жизни вместо восторга и восхищения испытывала лишь ненависть. Даже не ненависть, а отвращение. Они вызывали у меня тошноту.
Все они были ложью. Одним большим обманом. Они лишь притворялись, будто рассказывают о жизни — реальной жизни, — но на самом деле не имели к ней никакого отношения. В реальной жизни не было места романам и поэмам, пейзажам или абстракциям из красно-желтых квадратов, соединению звуков в гармонию музыки.
Реальная жизнь была полной противоположностью порядку и красоте; она была хаосом и страданиями, жестокостью и ужасом. В реальной жизни твои волосы поджигали, хотя ты не причинил никому вреда; террористы взрывали бомбы, когда ты вел своего ребенка в школу или сидел в любимом ресторане; тебя забивали до смерти на задворках, чтобы украсть у тебя жалкую пенсию, которую ты только что получил; тебя насиловала банда пьяных незнакомцев; тебе перерезал горло наркоман, забравшийся в твой дом в поисках денег. Реальная жизнь была ежедневным массовым убийством невиновных людей. Она была бойней, мясной лавкой, увешанной трупами бесчисленных жертв-мышек…
И вся эта «культура», все это «искусство» были лишь уловкой. Они позволяли нам притворяться, что человек — благородное и интеллектуальное создание, давным-давно распрощавшееся со своим животным прошлым и перевоплотившееся в нечто более совершенное, чистое; а одно то, что человек научился рисовать и писать, как ангел, априори делало его ангелом. Но это «искусство» было всего лишь ширмой, скрывавшей уродливую правду — правду о том, что мы вовсе не изменились, что мы все те же варвары, вспарывающие теплые туши животных, которых забили острыми камнями, обрушивающие свою злость на слабых ожесточенными ударами бейсбольных бит. Красивые картины и умные поэмы ни на йоту не изменили нашу природную сущность.
Нет, живопись, музыка и поэзия нисколько не отражали реальную жизнь. Они были прибежищем трусов, иллюзией для тех, кто был слишком слаб, чтобы посмотреть правде в глаза. Пытаясь впитать эту «культуру», я добилась лишь того, что стала слабой, слабой и беспомощной, не способной защитить себя от зверей в человеческом обличье, населявших джунгли двадцать первого века.
— Он убьет нас, мама. Я это точно знаю.
— Шелли, ты должна сохранять спокойствие. Просто делай то, что он говорит.
— Ты не понимаешь, в какой мы опасности! Он же накачан наркотиками! Он убьет нас!
Ну, и что это была за справедливость? Какой бог позволил этому случиться? Разве мы с мамой не достаточно настрадались? Отец бросил нас, оставив одних бороться за выживание, в то время как сам нежился под испанским солнцем со своей двадцатичетырехлетней шлюхой. Меня подвергли такой чудовищной травле, что пришлось оставить школу и перейти на домашнее обучение. Мое лицо до сих пор хранит следы чужой ненависти. И наконец, из всех домов в округе эта ходячая бомба замедленного действия выбрала именно наш, и именно в то время, когда мы только начали строить новую жизнь и появилась надежда на лучшее.
И какие еще страдания мы должны были вытерпеть на этот раз? Изнасилование? Пытки? Какое преступление мы совершили в своей жизни, кроме преступления быть слабыми, быть мышами? Какой вред мы причинили, что заслужили такое строгое наказание? Почему это не происходит с Терезой Уотсон или Эммой Таунли? Почему это не коснулось девочек, которые устроили мне такую жестокую травлю, что я даже хотела свести счеты с жизнью? Почему это не происходит с моим отцом и Зоей? Почему это происходит именно с нами? Опять? Разве мы не настрадались в своей жизни?
— Мама?
— Да, дорогая?
— Мама, кажется, веревка поддалась. Думаю, мне удастся высвободить руки.
И тут я уловила едкий запах алкоголя и поняла, что он возвращается в гостиную.
14
Он прошел мимо нас, с красной спортивной сумкой, туго набитой добычей. Казалось, он прихватил все, что попалось под руку, — я даже разглядела семейную упаковку шампуня из ванной, торчавшую из бокового кармана.
Он прошел в столовую и принялся собирать безделушки с полки серванта, запихивая их в трещавшую по швам сумку. При этом его стеклянный взгляд был прикован к стене, и сам он казался слепым и как будто не соображал, что делает. Он даже не заметил, как смахнул на пол одну из миниатюрных фарфоровых зверушек, и, словно робот, продолжал собирать добро.
Но тем, что притягивало мой взгляд, на что я смотрела, не веря глазам своим, был его нож. Он оставил свой охотничий нож на обеденном столе. Он был без оружия.
Мои руки были теперь свободны. Я положила их на колени и приступила к освобождению нижних конечностей. Веревка, похоже, была столетней, и, по мере того как я пыталась разъединить щиколотки, ее сухие колючие ворсинки впивались мне в кожу.
— Мам! — прошептала я, повернув голову и поднеся губы вплотную к ее щеке. — Эта веревка такая старая, что…
— Эй!
Я подпрыгнула, словно под моим стулом вспыхнул огонь. Разбойник смотрел прямо на меня, и казалось, что он сейчас зарычит, как собака.
— Никаких разговоров! — крикнул он так, что вены вздулись на его лбу, а изо рта брызнула слюна. Крик был таким громким, что его эхо долго носилось по комнате.
Убедившись в том, что больше брать нечего, он направился к нам. Забытый нож остался на столе. Он встал перед нами и принялся раскачиваться взад-вперед. В ярком свете ламп его кожа казалась мертвенно-бледной и блестела от пота; выражение лица было болезненным, как у ребенка, который переел на празднике и теперь мучается от боли в животе и подступающей тошноты. Я видела волоски над его верхней губой и на подбородке — не мужскую щетину, а уродливую, редкую, подростковую поросль.
— Я ухожу, — сказал он.
Но не двинулся с места. Он все раскачивался, стоя перед нами, а его веки уже знакомо дрогнули, и глаза закатились, как у эпилептика перед приступом. Он уронил голову на грудь и сам, медленно-медленно, начал заваливаться. Звук упавшей на пол сумки оказался запоздалым и не успел остановить силу, толкавшую его вперед. Он тяжело рухнул прямо на нас. Прижался ко мне своим сальным лицом, и мне в нос ударил тошнотворный запах зловонного дыхания. Он тихо засмеялся, явно наслаждаясь страхом и отвращением, которое вызвал во мне. Я крепко сцепила руки, моля о том, чтобы он не заметил, что мне удалось развязать их.
— Хочешь, поцелуемся? — сказал он.
Я зажмурилась и стиснула зубы, готовясь к омерзительному прикосновению. Но его не последовало. Он резко отстранился и встал.
— Я не хочу тебя целовать, — сказал он. — Ты уродина.
Я чуть приоткрыла глаза и различила его силуэт, теперь маячивший слева.
— Что все это значит, — скорчил он гримасу, — что за гадость на твоем лице?
Я онемела. Все это время я пребывала в глубоком страхе и чувствовала, что больше не выдержу. У меня было такое ощущение, что мое отчаянно бьющееся сердце вот-вот откажет и я умру от страха. Я слышала, так погибают затравленные животные, не дожидаясь, пока охотничья собака вопьется в них своими челюстями.
— Что это, а?
Молчание. Долгое и неуютное молчание.
— Что это, я спрашиваю?
— Несчастный случай в школе, — поспешно ответила мама.
Со скоростью, которой я никак от него не ожидала, он развернулся и со всего размаха ударил ее по лицу. Я почувствовала, как ее тело содрогнулось на стуле у меня за спиной.
— Я не спрашивал тебя! — закричал он.
— Извините, — сказала мама, даже в состоянии шока не утратившая способности рассуждать здраво. Она пыталась вызвать в нем жалость, остановить его от дальнейших вспышек гнева и непредсказуемых демаршей.
— У меня был несчастный случай в школе! — крикнула я, чтобы вновь обратить его внимание на себя и отвлечь от мамы, поскольку он вновь занес руку для удара. — Я пострадала в огне! Вот откуда эти шрамы! Теперь я на всю жизнь изуродована!
Он разжал кулак и опустил руку:
— Да уж… действительно без слез не взглянешь.
— Я знаю, — сказала я, пытаясь вовлечь его в разговор, завладеть его вниманием.
— Твоя старушка куда симпатичнее, чем ты. — Он снова отрыгнул кислятиной.
Он поднял красную сумку и нетвердой походкой направился к двери. Проходя мимо ножа на столе, он даже не обратил на него внимания и скрылся на кухне.
Долгое время не было слышно ни звука.
— Я думаю, он ушел, — прошептала мама.
И, словно восприняв это как намек, он вернулся в гостиную, держа в руках большую коробку, упакованную в подарочную бумагу. Коробку украшал ярко-красный бант, а под ним скрывался розовый конверт, на котором маминым каллиграфическим почерком было выведено мое имя.
— Что это? — спросил он.
— Это подарок на день рождения моей дочери, — холодно произнесла мама.
— Что там?
— Компьютер, портативный компьютер.
— Отлично! — восторженно воскликнул он, как будто подарок предназначался ему. — Теперь я ухожу. Не советую вам звонить в полицию, иначе я вернусь.
Он закрыл глаза, и неясная улыбка пробежала по его лицу, словно он ухмылялся одному ему известной шутке. Глаза снова открылись, но лишь едва, будто силились приподнять веки, ставшие невыносимо тяжелыми. Он огляделся вокруг, словно пытаясь вспомнить, где находится и о чем говорил.
— Да, именно так, — растягивая слова, произнес он. — Я вернусь и прикончу вас. Поняли?
— Да, мы поняли, — ответила мама. — Мы не будем звать полицию. Мы обещаем.
Он долго стоял, будто прирос к полу, затерявшись в лабиринтах своего маршрута. Потом он что-то пробормотал себе под нос и попытался отрыгнуть, но отрыжка не получилась. Его глаза закрылись, и я уже решила, что он снова погрузился в очередной транс, когда вдруг они распахнулись, как у куклы. Он в упор уставился на меня таким холодным, пронзительным и убийственным взглядом, что мне пришлось отвернуться. Сейчас начнется кровопролитие, сейчас начнется кровопролитие, а мы-то подумали, что он ушел и оставил нас в покое! Оказывается, самое страшное впереди…
Он качнулся вперед, и розовый конверт слетел с коробки на пол. От этого звука он резко выпрямился, громко причмокнул губами и облизнулся.
— Я вернусь и прикончу вас, — повторил он, но уже еле слышно.
Он неуклюже переложил коробку с лэптопом под левую подмышку. От этих манипуляций красивый красный бант отклеился и, кружась, неслышно опустился на пол, как осенний лист на землю. Он медленно вернулся в гостиную. Задержался у стола, и я была уверена, что на этот раз он схватит нож. Но он, казалось, посмотрел сквозь него, словно нож был невидимкой или галлюцинацией в его воспаленном сознании, после чего бросился обратно на кухню и исчез из виду.
Я слышала, как он на кухне пытается выбраться с компьютером, зажатым под мышкой, и красной сумкой в другой руке. В наркотическом угаре он явно не мог сообразить, что нужно поставить поклажу на пол и открыть дверь свободной рукой.
— Все кончено, — сказала мама. — Он действительно уходит. Я же говорила тебе, что он нас не тронет.
Да, на этот раз все действительно было кончено. Он уходил, прихватив мой подарок на шестнадцатилетие, прижимая его к своей вонючей куртке. Подарок, который мама так заботливо упаковала и украсила красным бантом, а вчера вечером, перед отходом ко сну, выставила его на кухонный стол, чтобы я, спустившись наутро к завтраку, обнаружила этот восхитительный сюрприз. Материнское чутье подсказало ей, что именно лэптоп я хочу получить в подарок, и, хотя для нее такая трата была непозволительной, она решила, что я непременно должна получить его, пусть даже для этого ей придется вывернуться наизнанку.
Он уходил — оставляя на щеке мамы зубчатую отметину от своего увесистого кольца с печаткой и расплывающийся вокруг правого глаза сизый синяк. Он уходил — оставляя позади себя двух беззащитных женщин, которых нещадно унижал, мучил и оскорблял, как будто это было в порядке вещей, как будто имел на это право.
Даже сегодня я не могу точно сказать, что заставило меня сделать то, что я сделала в следующий момент. Возможно, меня подтолкнуло зрелище этого гнусного ничтожества, уносящего мой подарок, символ моих надежд на будущее; возможно, мною двигало возмущение тем, что он сделал с мамой, или то, что он назвал меня уродиной; возможно, все дело в том, что у каждого из нас есть свой порог терпения — даже у мышей, — и, когда этот предел превышен, что-то внутри щелкает и открывает затвор. А может, на меня подействовало то, как медленно и трогательно опускался на землю красивый красный бант, повязанный мамой…
Я разорвала оставшиеся на ногах веревки, схватила с обеденного стола нож и выбежала в сад следом за ним.
15
Он успел сделать всего несколько шагов вдоль патио, и его силуэт хорошо просматривался в полоске света, пробивавшегося с кухни. Он почувствовал мое приближение и обернулся через плечо, прежде чем невозмутимо продолжил свой путь, как будто увидел кошку, которая отправилась из дома по своим кошачьим делам, а вовсе не орущую девчонку, бежавшую за ним с ножом.
Со всей силой, на какую была способна, я вонзила нож ему в спину, прямо между лопаток.
Я и представить не могла, какой твердой окажется его спина. Ударить по ней оказалось все равно что ударить в ствол дерева. Нож вонзился почти по самую рукоятку, и лишь ценой неимоверных усилий мне удалось вытащить его из раны. Он испустил громкий вздох и выронил из рук лэптоп и сумку. Потом согнулся, словно его ранили в живот, и вполоборота взглянул на меня с выражением оскорбленной невинности на лице.
— Зачем ты это сделала? — застонал он, как будто я сыграла с ним неуместную злую шутку.
Я снова ударила его ножом, а потом била еще и еще, прикрыв глаза, чтобы не видеть ран, которые наносила, не видеть крови.
Согнувшись пополам, словно солдат под снайперским обстрелом, он повернул обратно к кухне, поднятой левой рукой пытаясь оградить себя от моих ударов. Я подумала: Отлично! Я загоню тебя в дом! Ты не уйдешь от меня!
Он зашел на кухню и попытался закрыть за собой дверь, но ему не хватило скорости, и я успела протиснуться в щель. Он проковылял к кладовке, пытаясь отгородиться от меня кухонным столом, но опять проиграл в скорости. Я подбежала к нему и продолжила колоть его ножом, как пикадор раззадоривает быка, тыча копьем в его окровавленные бока. Он ходил вокруг стола, а я преследовала его и била, била, била.
— А теперь играем в «музыкальные стулья»! — кричала я. — Играем в «музыкальные стулья»!
К тому времени я уже нанесла столько ударов, что сбилась со счета. Он становился все слабее и наконец рухнул на раковину, опрокинув пластиковую сушилку с тарелками и блюдами, вымытыми накануне вечером, и они грохнулись на пол. Пока он пытался обрести равновесие, мой очередной удар пришелся ему прямо в шею, и оттуда фонтаном хлынула кровь. Он зажал рану рукой и забился в угол, повернувшись ко мне спиной.
Я хотела, чтобы он завалился на пол, перестал двигаться, чтобы больше не представлял никакой угрозы для нас. Я сосредоточилась на спине его рваной и окровавленной куртки, пытаясь определить, где находится сердце, и ударила так сильно, как только смогла. Но как раз в этот момент он увернулся. Нож уперся в лопатку, как в броню, выскочил у меня из рук и запрыгал по полу.
Я увидела, как изменилось выражение его лица — тупая покорность уступила место ехидной усмешке торжествующего убийцы. Он понял, что опрокинутый стол играет ему на руку, и, прежде чем я успела оглядеться в поисках ножа, ринулся на меня.
У меня подкосились колени под тяжестью его туши, и я рухнула на пол. Я приземлилась на что-то острое и твердое и взвыла от дикой боли в копчике. Я тотчас поняла, что это было. Я лежала на ноже!
Он уже корчился у меня на груди, пытаясь запрокинуть мне голову и обнажить горло. Кровь хлестала из раны на его шее, как вино из перевернутой бутылки. Фонтан бил мне в лицо, это был бесконечный поток, который заливался в рот, так что приходилось сплевывать и судорожно глотать воздух, как если бы я тонула, разъедал глаза, словно мыло, ослеплял меня.
Его лицо нависло надо мной, и наши губы почти сливались в зловещей пародии любовного поцелуя. Он тянул руки к моей шее, но я бешено отбивалась, впиваясь в его лицо ногтями. Каждый раз, когда он пытался пригвоздить мои руки к полу, я выворачивалась и снова царапала ему глаза. Я извивалась и кричала в отчаянных попытках сбросить с себя его удушающий вес, чтобы изловчиться и достать из-за поясницы нож. Если бы мне удалось сбросить его хотя бы на секунду и дотянуться до ножа, преимущество вновь было бы на моей стороне. Если бы только удалось нащупать нож…
Но он был слишком силен. Несмотря на полученные ранения, несмотря на обильное кровотечение из шеи, он все равно был сильнее меня, и ему наконец удалось сцепить руки на моем горле. У меня в глазах потемнело, а потом искрами вспыхнул яркий белый свет, и я вдруг отчетливо осознала, что умру, если не глотну воздуха. Мне удалось разлепить веки, и я увидела его искаженное злобой лицо в отвратительной близости. Его зрачки были расширены адреналиновой лихорадкой, желтые зубы скрипели от усердия, с которым он выжимал из меня последние капли жизни; с нижней губы стекала тонкая струйка розоватой слюны. И я подумала: «Это последнее, что я вижу в своей жизни».
Что-то хрустнуло в моей шее, что-то надломилось. Мне удалось дотянуться до ножа кончиками пальцев, но к этому времени силы уже покинули меня. Руки повисли бесполезными плетями. Казалось, уже целую вечность я не делала ни единого вдоха. Точки белого света становились все крупнее, пока не слились в одно пятно. Так вот как наступает смерть, подумала я, вот как умирают — и тот самый белый свет, о котором все говорят, — и тогда я перестала сопротивляться, даже мысленно, и закрыла глаза, сдалась, ожидая наступления смерти, на этот раз настоящей. Но тут раздался оглушительный треск, и, словно по мановению волшебной палочки, тяжелая ноша свалилась с меня, и удушье прошло.
Когда я снова открыла глаза, то увидела маму. Она держала в руках разделочную доску, и ее белая мраморная поверхность была забрызгана темной кровью. Она ударила его с такой силой, что буквально смела в сторону, и теперь только его ноги слегка касались меня, согнутые под каким-то странным углом.
Поразительно, но он все еще был в сознании, глаза безумно таращились под «маской» алой крови. Он приподнялся на локтях, пытаясь отползти под стол, прежде чем на него обрушится новый удар. Но мама была настроена решительно. Я наблюдала за тем, как она тщательно примеривается, выбирая позицию для удара, крепче сжимая короткую рукоятку доски, чтобы не промахнуться. И вот она занесла доску высоко над головой.
Я закрыла глаза, чтобы не видеть того, что должно было последовать. Мне было страшно представить себе то месиво, которое осталось бы после такого удара. Но я услышала противный мягкий шлепок и почувствовала, как твердый осколок черепа рикошетом отскочил от моей щеки.
16
Часы на плите показывали время: 4:57.
Я сидела, привалившись спиной к стиральной машине, жадно заглатывая воздух, чтобы хоть как-то успокоить обжигающую боль в горле. Мама сидела за столом, обхватив голову руками, и тихо всхлипывала.
Грабитель был мертв. В этом не было никаких сомнений. Его тело было распластано на полу, голова и грудь — под кухонным столом. Куртка была задрана, а правая рука вытянута вперед, словно он, умирая, пытался что-то достать.
С того места, где я сидела, мне было не видно его лица — слава богу, — только затылок, изуродованный смертельным ударом. Вокруг него была лужа крови, да, целое море крови, поблескивающей в ярком электрическом свете. Она медленно растекалась по кафелю пола, подкрадываясь к основаниям шкафов, плиты, колючему коврику у задней двери, пыльным трубам батарей под скамейкой. Мне вдруг вспомнилась строчка из «Макбета», которую когда-то я находила очень странной: леди Макбет, вспоминая об убийстве короля Дункана, говорит: «Кто бы мог подумать, что в старике окажется столько крови?» Теперь я в полной мере понимала смысл этих слов. В голову пришла идиотская мысль: а не доводилось ли и Шекспиру убивать — иначе как бы он смог с такой точностью описать последствия? Кто бы мог подумать, что в худосочном грабителе окажется столько крови?
Кроваво-красная приливная волна угрожала добраться до моих ступней, и я невольно поджала пальцы, чтобы избежать опасного контакта. Но сама не двинулась с места — у меня просто не было сил. К тому же я уже была вся в крови. Мои руки были скользкими от крови, волосы слиплись от спекшейся крови, ночная сорочка была сплошь в пятнах, махровый халат и вовсе насквозь пропитался кровью и набух, словно губка, во рту ощущался металлический привкус.
Когда я вновь бросила взгляд на часы, было 5:13.
Я попыталась заговорить, но горло саднило, и вырвался только хрип. Чуть позже я предприняла новую попытку, и на этот раз она оказалась более успешной.
— Мама?
Она сидела за столом, задумчивая, все так же подпирая голову руками, словно удерживая невыносимо тяжелую ношу. Услышав мой голос, она встрепенулась, но ее взгляд не сразу вернулся в реальность.
— Мам. Наверное, следует вызвать полицию?
Она грустно улыбнулась и покачала головой:
— Именно над этим я и ломаю голову, дорогая.
Я не поняла, что она имела в виду, и решила, что она еще не оправилась от шока.
— Мы должны вызвать полицию, мама, — слабым голосом произнесла я. — Мы должны рассказать им, что произошло. Они вызовут «скорую». Мне нужно в больницу… моя шея… я умру от боли.
Но она не пошла к телефону. Она так и сидела за столом, поджав босые ступни, чтобы не испачкать их в луже свернувшейся крови. С опухшей правой щекой и подбитым глазом, вокруг которого растекался темно-фиолетовый синяк, она была сама на себя не похожа — передо мной был как будто другой человек.
— Мам? — не унималась я. — Ты позвонишь в полицию? Мне нужно в больницу.
Но она даже не потянулась к телефонной трубке.
— Шелли…
— Мм?..
— Что произошло, когда ты выбежала в сад? Я не видела, потому что возилась с веревками на ногах. Но успела заметить, что ты схватила нож. Что было потом?
— Я ударила его ножом, — ответила я.
— Куда?
— В спину.
— У него было оружие?
— Нет.
— Сколько раз ты его ударила, прежде чем я нашла тебя на кухне?
— Я не знаю… много… много раз. Мамочка, — застонала я, — когда же ты позвонишь в полицию?
Ее ответ ошеломил меня.
— Я не хочу в тюрьму, Шелли.
— О чем ты говоришь? — прохрипела я. — Что значит, в тюрьму?
— Я не хочу в тюрьму, — повторила она, холодно и бесстрастно. — И не хочу, чтобы ты села в тюрьму.
— О чем ты, мама? Никто не посадит тебя в тюрьму. Это он ворвался в наш дом. У него был нож. Мы защищались, видит бог. Он ведь душил меня — если бы ты вовремя не подоспела, он бы меня убил!
Мне казалось, что она просто не в себе. Я хотела, чтобы к нам пришли на помощь. Я хотела поехать в госпиталь, чтобы меня избавили от этой жуткой боли в шее. Хотела, чтобы меня отмыли от этой липкой крови и я бы снова стала чистой, вдыхала запах мыла и талька, лежала на прохладных накрахмаленных простынях в больничной палате, а вокруг меня суетились медсестры. Но больше всего мне хотелось спать, спать часами, и забыть тот ужас, который только что пришлось пережить…
К моему изумлению, когда я снова посмотрела на маму, она смеялась — но не счастливым смехом, а горьким, нездоровым.
— Если бы все было так просто, Шелли… но это не так. — Она долго собиралась с мыслями, прежде чем снова заговорила: — Он уже уходил из дома, когда ты бросилась за ним в погоню. Он был без оружия…
— Без оружия! — воскликнула я, огорошенная ее словами. — Он мужчина. А я всего лишь девчонка.
— Это не имеет значения! Он покидал наш дом. У тебя был нож, а у него ножа не было.
— Мама, ты несешь вздор. Это была самооборона. Он ведь связал нас. Ударил тебя по лицу. Я не знала, действительно он ушел или собирался вернуться, чтобы убить нас. Он уже возвращался однажды, я не могла рисковать. Полиция никогда не примет его сторону и не обвинит нас…
— Шелли, я юрист. И знаю, о чем говорю. Если мы вызовем полицию, криминалисты обыщут каждый дюйм этого дома. Они быстро установят, что он не был в доме, когда ты напала на него. Мы будем вынуждены признаться, что у тебя в руках был нож, а он был безоружен. У полиции не будет иного выбора, кроме как привлечь нас к ответственности…
— Привлечь нас? Но за что?
— За убийство.
— Убийство? — Я не верила своим ушам. Да, определенно она была в шоке и несла всякую ересь…
— Будет судебный процесс. Сначала три-четыре явки в суд, а потом еще год ожидания начала самого процесса. Поднимется шумиха в прессе, для газетчиков это будет настоящей сенсацией — они обожают такие вещи. Я потеряю работу. Блейкли не захочет держать в своей фирме сотрудника, замешанного в столь грязном деле. Нам повезет, если суд присяжных отнесется к нам с симпатией и встанет на нашу сторону — если они поймут, что мы опасались за свою жизнь, что невозможно мыслить рационально, когда ты так напуган.
— А если не повезет?
— Если не повезет и попадутся плохие присяжные или особо грамотный обвинитель…
— Тогда что?
— Нас обвинят в убийстве.
— Но как? Это же безумие!
— Закон гласит, что ты имеешь право на самооборону, но только на разумную самооборону. Стоит только суд признать, что одно из тех ножевых ранений, что ты нанесла ему — всего лишь одно, — было неправомерным, и если будет доказано, что оно было потенциально смертельным…
— Что это значит?
— Если бы он умер от него позже, независимо от того, ударила я его или нет. Если судмедэкспертиза придет к такому выводу, тебя могут обвинить в убийстве.
Я молчала, потрясенная тем, что услышала. При таком раскладе все выглядело совсем по-другому.
Да, я защищала себя. Да, я защищала маму. Да, я думала, что он может вернуться… но верно было и то, что я не хотела, чтобы он скрылся, я обрадовалась, когда он забежал обратно на кухню. Я вспомнила, как грозила ему ножом, пока мы бегали друг за другом вокруг стола; как нацеливалась на удар в спину, в область сердца, когда он забился в угол; как мне хотелось, чтобы он затих навсегда. Если быть до конца честной, разве я не хотела убить его? А если хотела убить — разве это не убийство?
Не надо было догонять его. Это была глупая, непростительная ошибка. И если меня следовало наказать за это — что ж, значит, так тому и быть, но я не понимала, почему мама должна страдать из-за того, что совершила я.
— Но в чем твоя вина, мам? Ты ударила его, когда он меня душил. Ты спасла мне жизнь. Разве это можно считать убийством?
— Верно, Шелли, все верно, он действительно тебя душил. Но я ударила его дважды. Тот, второй удар… я знала, что ты уже вне опасности. Я знала, что он уже не опасен. Я бы могла позвонить тогда в полицию, и, кто знает, может, сейчас он был бы уже в госпитале и, возможно, даже оправился бы от ран. Но я этого не сделала. Я ударила его снова. Намеренно. Я… я не знаю, что на меня нашло. По правде говоря, я хотела его убить. Я знаю, что сделала это в состоянии аффекта, но если присяжные сочтут, что второй удар был превышением необходимой самообороны, тогда и меня обвинят в убийстве.
— Не могу поверить, — заскулила я. Мы отбили нападение вооруженного грабителя, но он по-прежнему представлял для нас угрозу. И даже убитый мог погубить нас обеих. — Что же нам делать, мама?
— Я, наверное, не переживу всего этого, — сказала она. — Суда, репортеров, шумихи. А тюрьма… тюрьма убьет меня.
— Что же нам делать, мам? — застонала я. — Что делать?
На часах было 5:56, когда мама снова заговорила. Мутный серый рассвет прокрадывался в кухонное окно, в саду весело щебетали птицы, приветствуя утро наступающего дня, который для них был таким же, как и все остальные.
— Я думаю, нам нужно закопать его в саду, — сказала мама.
17
Так мы и сделали. Закопали его в саду.
«Сюрреализм» — только таким словом можно описать то, что происходило в течение следующего часа. Мы с мамой как будто ступили в странный мир Зазеркалья, где знакомая реальность была представлена в форме абсурда и гротеска. Я знала, что все это происходит наяву, но в то же время не могла поверить, что все это происходит наяву.
Вот мы с мамой надеваем резиновые сапоги, чтобы не ступать босиком по липким лужам крови, и, хватая грабителя за ноги, тащим его из-под стола.
Потом обсуждаем, где похоронить его — в огороде или в розарии, — деловито и спокойно, словно речь идет о выборе обоев для моей спальни (в конце концов мы выбрали розарий, поскольку до огорода было слишком далеко, чтобы тащить труп, и к тому же он располагался близко к дороге).
Безжизненное тело грабителя сопротивляется нашим усилиям.
Вот мы с мамой тащим труп (труп! мертвого человека!) по росистой траве, и птицы истерично щебечут в деревьях на рассвете чудесного весеннего дня.
Голова грабителя бьется о бетонные ступеньки, пока мы спускаем его к лужайке и розарию (я морщилась от каждого стука, а потом уговаривала себя: он все равно ничего не чувствует — он мертв, и поняла, что смерть — слишком сильное потрясение для меня, и я не могу избавиться от мысли, что он все-таки чувствует боль).
Вот мама отпрыгнула назад, когда у него с ноги слетела кроссовка и осталась у нее в руке, а потом неуклюже плюхнулась на попу, прямо как в забавном домашнем видео.
Вот мы идем по саду, спотыкаясь и корчась от хохота, пока труп лежит лицом вниз на траве, с вытянутой вперед рукой, как у спортсмена-пловца.
Заходим в сарай за лопатами — на этот раз не для того, чтобы копать грядки, а чтобы закопать труп, зарыть тощего, чахлого двадцатилетнего юношу в известковую почву нашего палисадника.
Возвращаясь с лопатами, мы обнаруживаем большого рыжего кота — прежде мы его ни разу не видели, да не видели и с тех пор, — который слизывает кровь с кончиков пальцев трупа (при нашем приближении он нехотя отошел и исчез, проскочив в невероятно маленькую дырку в изгороди).
Увлеченно копая могилу, мы вдруг видим фермера за рулем нелепого трактора «Хит Робинсон», который, рыча, спускается по узкому серпантину, всего в ста пятидесяти метрах от того места, где мы стояли; мы видим, как он бросает мимолетный взгляд в нашу сторону и салютует нам вытянутой рукой, пока не скрывается из виду.
Мы приветливо помахали ему в ответ, две женщины в заляпанном кровью ночном белье, закапывающие в своем палисаднике труп в половине седьмого утра.
В розарии нашлось достаточно места, чтобы поместить труп, не выкапывая ни одного розового куста. После ночного дождя верхний слой почвы был влажным, и наши острые лопаты легко прорезали его. Почва была жирной и налипала на лезвия, так что время от времени нам приходилось счищать ее подошвами сапог. Однако чем глубже мы пробирались, тем труднее становилась задача. На глубине в два фута земля была не тронута дождем и казалась твердой, как камень.
Я порядком вспотела. Меня подташнивало, кружилась голова, и пришлось снять тяжелый халат, прежде чем продолжить работу. Мы обе были слишком слабы и измотаны бессонницей, чтобы справиться с упрямой землей, и, пока мы безуспешно махали лопатами, день все активнее вступал в свои права. Я начинала чувствовать себя уязвимой, незащищенной от людских глаз, хотя на мили вокруг никого и не было — фермер давно проехал, дорога была пустынной, а окрестные поля тихи и неподвижны, как на фотоснимке. Мне вдруг вспомнилась любимая присказка моей учительницы по религиозному воспитанию: Бог все видит.
Когда мы углубились на три фута, мама остановилась. Ее лицо было красным, дыхание тяжелым после такого изнурительного труда.
— Это недостаточно глубоко, мам, — сказала я. — Звери могут учуять его и откопать.
— Хватит, Шелли. Сейчас нам просто нужно спрятать его. Ведь еще дом не убран.
Мы подтащили тело к самому краю узкой траншеи, а потом столкнули вниз ногами и лопатами; притрагиваться к столь омерзительному предмету руками совсем не хотелось. К моему ужасу, он упал на спину, и я поймала себя на том, что вновь вижу перед собой его худое вытянутое лицо. То же самое лицо и в то же время другое, тронутое смертью.
Глаза были полуоткрыты, но взгляд был стеклянный, несфокусированный. Челюсть, видимо, сместилась от маминого удара, потому что нижняя половина лица была как-то странно перекошена. От полученного перелома рот открылся, и нижние зубы слегка выступали над верхней губой, придавая лицу звериное выражение, как у собаки породы боксер. Левая рука была вытянута вдоль бока, а кисть легла на бедро, как если бы он настраивал гитару, в то время как правая рука так и застыла поднятой над головой — в таком положении он принял смерть, — и он был похож на нетерпеливого школьника, который тянет руку, чтобы ответить на трудный вопрос.
А может, он и в самом деле знает ответ на трудный вопрос, подумала я, самый трудный из всех существующих: что происходит с нами после смерти?
Тесная яма, которую мы выкопали, была недостаточно длинной для трупа с поднятой рукой. Предплечье и кисть торчали из земли — этакий гротескный пятипалый цветок на клумбе. Вместо того чтобы копать дальше, мама осторожно спустилась в яму и попыталась согнуть руку, прижав ее к макушке головы. Посмертное окоченение уже началось, и рука упорно не желала гнуться. Грабитель будто нарочно сопротивлялся ей — даже мертвый.
Мама была ужасно бледной, когда выбралась из ямы.
Мы стали засыпать его землей. Я кидала комья на ступни (одна была в кроссовке, другая в рваном зеленом носке), ноги, левую руку, грудь, только не на голову. Увидев, как мама зачерпнула полную лопату земли и вывалила ему в лицо, я поморщилась (прямо в глаза, в рот!), но тут же одернула себя за такое слюнтяйство.
Он же ничего не чувствует, он мертвый!
Когда мы закончили, юноша навсегда исчез с лица земли. Остался коттедж Жимолость, с его аккуратным палисадником, овальным розарием, где уже набирали бутоны розовые кусты. А вот от трупа не осталось и следа.
Опершись на лопаты, еле живые от усталости, мы устроили себе короткую передышку перед тем, как приступить к следующей малоприятной задаче — нам предстояло отмыть кухню от крови.
И вот тогда я услышала этот звук. Тихий, неясный, похожий на мелодию или трель птицы, а может, и насекомого. Он затих, но вскоре опять зазвучал все тот же набор музыкальных нот. Мы с мамой переглянулись, сбитые с толку. Тишина. И снова эти звуки. Я оглядела ближайшие кусты и цветники, пытаясь понять, что это могло быть, и тут меня осенило. Я знала эту мелодию. Я слышала ее много раз прежде — на улице, в кафе, в ресторанах, в поездах…
Это был звонок мобильного телефона. И он доносился из овального розария.
18
Мобильник грабителя звонил еще раз двадцать, прежде чем окончательно замолк. Я поймала себя на том, что все это время стояла, сжав кулаки и стиснув зубы, словно испытывала физическую боль.
Мама редко ругалась, но сейчас не сдержалась. И выплеснула поток грубой брани.
— О, боже! — заскулила я. — Боже мой!
Мы в ужасе уставились на розарий, словно перед нами оживала сама земля, обретая способность говорить.
— Что будем делать, мама? Что будем делать?
Мама долго молчала, прежде чем ответила:
— Придется выкопать его. Мы должны достать этот телефон. Нельзя рисковать: вдруг он опять зазвонит и кто-нибудь услышит? — да и полиция может отследить звонки и выяснить его точное местонахождение. Надо извлечь его оттуда.
Она потрепала себя по голове и нахмурилась:
— Черт возьми! Мне следовало обыскать его карманы. О чем я только думала!
Выкапывать труп и шарить по его карманам — для меня это было чересчур. Я повалилась на траву.
Мама бросила на меня взгляд через плечо. Я с трудом сдерживала слезы. Меня знобило. Я задыхалась, но даже большие порции воздуха, которые я судорожно заглатывала, не помогали. Я не хотела снова видеть его лицо. Не хотела видеть лицо с залепленными грязью глазами и ртом. Вряд ли я смогла бы выдержать это…
— Я сама это сделаю, Шелли, — сказала мама, словно читая мои мысли. — Но у нас не так много времени. Иди в дом, возьми из кухонного шкафа тряпку и начинай отмывать пол. Больше никуда не ходи, оставайся на кухне — нельзя разносить кровь по всему дому.
— Хорошо, мама, — произнесла я еле слышно, почти шепотом. Но не двинулась с места.
Я лежала, будто придавленная к земле тщетностью, глупостью, ошибочностью того, что мы делали.
— Кто-то уже разыскивает его, мама. Кто-то уже пытается его найти. Нам это никогда не сойдет с рук. Нас обязательно поймают!
Она повернулась ко мне, и ее лицо, с синевато-багровой отметиной под глазом, показалось мне странным и зловещим.
— Теперь уже поздно думать об этом, — произнесла она тусклым голосом, словно мысленно была далеко — возможно, уже готовила себя к отвратительной миссии.
И в этот момент снова зазвонил телефон грабителя, так что я подскочила, как от электрошока. Я быстро встала на ноги и поспешила к дому. Я не могла слышать этот звук! Я должна была убраться подальше от этого звука!
Бодрая мелодия из восьми нот, повторяющаяся снова и снова, отдавалась в моих ушах смехом грабителя, который дразнил нас, насмехался над нами из темноты своей тесной могилы.
Когда через полчаса мама зашла на кухню, ее лицо было осунувшимся и болезненным, каким я его никогда не видела.
Она вывалила на скамейку содержимое одного из карманов своего халата. Там были плоская пачка сигарет, зажигалка «Зиппо», потертый кожаный бумажник, фантики, связка ключей от автомобиля на брелоке с футбольным мячом и мобильный телефон.
— Я его отключила, — сказала она.
Она полезла в другой карман и достала пачку смятых банкнот.
— Ты только посмотри. В заднем кармане у него были все деньги из-под матраса — почти двести фунтов. Даже не верится, что я не заглянула в его карманы, прежде чем… — Она не договорила.
— Мы почти совсем не спали, мама. Мы сейчас плохо соображаем.
— Что ж, отныне нам придется соображать хорошо — иначе нас поймают. — Она положила руки на пояс и закусила нижнюю губу, как всегда делала, когда волновалась. — Мы должны думать. Думать.
Она пыталась подавить в себе панику, ужас и отвращение; пыталась разобраться с этой кровавой бойней, как с очередным проблемным делом, которое ей швырнули на стол. Для нее это было очередной интеллектуальной головоломкой, вызовом. Все, что от нее требовалось, это обратить всю мощь своего блестящего ума на решение поставленной задачи, подключить здравый смысл и методические знания, сосредоточившись на деталях, — и тогда можно было бы говорить об успехе.
Наконец мама оглядела кухню и оценила работу, которую я проделала. Я собрала все осколки разбитой посуды и сложила их в картонную коробку у двери. Я смыла лужи крови на полу, наполняя и опорожняя ведро за ведром, наблюдая, как вода постепенно меняет свой цвет с темно-красного на бледно-розовый. Я насухо вытерла пол посудными полотенцами, что оказались под рукой, и как раз приступала к очистке стен и шкафов от пятен крови, когда вернулась мама.
— Молодчина, Шелли, — улыбнулась она. — Отличная работа. — Она взглянула на часы на кухонной плите: — Семь двадцать три. Это хорошо. Мы успеваем.
Ее лицо вновь стало сосредоточенным. Проблема. Она должна решать проблему.
— Слушай меня внимательно, Шелли, — сказала она. — Мы должны избавиться от всех предметов с пятнами крови, от всех следов присутствия грабителя в нашем доме. Все это мы сложим в мусорные мешки и спрячем наверху, в гостевой комнате, пока не представится возможность тайно выбросить их.
Она смахнула в мусорный мешок личные вещи грабителя, подняла коробку с битой посудой и попыталась засунуть ее туда же. Я придерживала мешок, чтобы ей было удобнее, потом принесла полотенца, которыми протирала пол, и тоже бросила их в мусорную кучу.
— Где нож? — спросила она.
Я взяла его с полки раковины, где оставила, и передала ей, стараясь не смотреть на запекшуюся кровь на его лезвии, похожую на густую темную патоку. Она засунула его глубоко внутрь картонной коробки.
Она огляделась в поисках других забрызганных кровью предметов и заметила коврик у двери. Она нагнулась, свернула его и тоже запихнула в мешок. Я протерла розовый прямоугольник, оставшийся после него на полу.
Мама оторвала еще один мусорный мешок. Сняла с себя халат и сунула его туда.
— Где твой халат, Шелли?
Мне пришлось подумать, прежде чем я вспомнила. Боже, я оставила его возле розария.
— Сбегай, принеси, пожалуйста, и я упакую его вместе со своим. Все это нужно уничтожить. Боюсь, стирать в машине рискованно.
Мне совсем не хотелось приближаться к могиле грабителя, но я не могла сказать «нет» — тем более после того, что пришлось пережить маме. Я бросилась бегом через лужайку, стараясь не смотреть на розарий, не думать о том, что из-под земли донесется голос (Не хочешь поцеловаться?) или холодная рука схватит меня за щиколотку. Я схватила махровую кучу и на всех парах понеслась обратно к дому.
Мама сложила мой халат вместе со своим в мусорный мешок.
— А теперь давай свои ботики, — сказала она, и это слово, окутанное аурой детской невинности, резануло слух, как совершенно неуместное на этой кухне в этот момент.
Я села на стул и сняла резиновые сапоги. Мама тоже разулась, и обе пары полетели в мешок.
— Хорошо, — сказала она, отирая лоб тыльной стороной ладони. — Теперь мне нужно все здесь как следует отдраить: шкафы, стены, все.
Она скрылась в кладовке, где мы хранили хозяйственные принадлежности, и вскоре вернулась с пластиковым ведром, щетками, стопкой чистых кухонных полотенец и огромной бутылкой дезинфицирующего средства. Увидев ее — в ночной сорочке, ярко-желтых резиновых перчатках, с разворошенным птичьим гнездом на голове, — мне снова захотелось расхохотаться, как совсем недавно, когда с ноги грабителя слетела кроссовка и она, с ней в руках, завалилась на землю.
— Иногда зрители громко смеются во время самых мрачных сцен в «Макбете», — сказал мне однажды Роджер.
— Почему? — спросила я.
— Потому что, когда страшно, всегда смешно.
Мне удалось подавить приступ смеха — что, наверное, было разумно на фоне отчаянной решимости, сквозившей в лице мамы.
— Какое для меня будет задание, мам?
Она не ответила. Она наполняла ведро горячей водой, поглощенная решением проблемы — как повернуть время вспять, как привести дом в тот порядок, в котором он находился до вторжения грабителя, как отмыть кухню так, чтобы полиция не нашла ни единого пятнышка крови. Мне пришлось повторить свой вопрос.
— Думаю, тебе лучше всего подняться к себе, встать под душ и смыть с себя всю эту кровь, — сказала она, отрывая очередной мусорный мешок. — Положишь сюда свою сорочку, когда разденешься, и полотенца, которыми будешь вытираться. Даже если на них не будет видно пятен крови, они все равно… мы не можем себе позволить рисковать.
19
Второй раз в жизни я смотрела на собственное отражение и не узнавала себя. Из зеркала в ванной на меня смотрело лицо дикаря — не шестнадцатилетней английской девочки из добропорядочной семьи, а примитивного дикаря. Его лицо было перемазано кровью жертвы, в глазах полыхал бешеный огонь схватки, в растрепанных волосах запеклась кровь. Это было шокирующее зрелище, и прошло какое-то время, прежде чем я смогла примириться с тем, что дикарь в зеркале — это я и есть.
Я потерла щеку пальцем, и высохшая кровь отслоилась хлопьями, оставляя на белом керамическом умывальнике следы ржавого порошка. Я осмотрела серые пятна на шее, два темных полумесяца по обеим сторонам дыхательного горла, оставленные пальцами грабителя, когда он пытался задушить меня. Горло до сих пор саднило, и, совершая глотательные движения, я ощущала неприятный ком, застрявший внутри. Мои глаза были налиты кровью, лишь редкие микроскопические крапинки белков просвечивали в этой красной пелене. Я вспомнила, что где-то читала, будто полиция может определить, что человека душили, по разрыву кровеносных сосудов в его глазах. Это как-то связано с недостатком кислорода в крови. Насколько близко я подошла к смерти? В голове стучало, и я чувствовала себя такой усталой, что готова была лечь здесь же, на полу ванной, и мигом заснуть.
Депрессия гигантской волной захлестнула меня и едва не сбила с ног. Какой кошмар! Какая катастрофа! И все по моей вине. Я сама, своими руками, превратила досадный, но весьма распространенный инцидент с домашней кражей в бедствие вселенского масштаба, шокирующее, сенсационное, достойное украсить броскими заголовками первые полосы газет.
По всей видимости, я безвозвратно и навеки разрушила свою жизнь и жизнь своей матери. Я понимала, что нам не удастся избежать наказания за то, что мы совершили. Никому не удается замести следы убийства, всегда найдется какая-то улика, слабое звено в цепочке. Рано или поздно полиция непременно находит убийцу. Так что нас обеих ждала тюрьма, печальный конец безрадостной жизни. И все потому, что меня подвела выдержка. Все потому, что я отказалась слушать маму. Ведь она говорила, что нужно сохранять спокойствие, просила меня не паниковать. Мама уверяла, что он не причинит нам вреда. Что на меня нашло? Почему я не послушалась? Я все испортила. От стыда и горечи мне хотелось провалиться сквозь землю.
И все же где-то глубоко, под покровом вины и самобичевания, крылось некое упрямое и непокорное чувство, призывающее не сдаваться. Точно так же в классической музыкальной пьесе сквозь печальное завывание скрипок и виолончелей прорывается бой барабана, ведущего свою партию — вызывающую и отважную, похожую на военный марш. Что это было? Ощущение незнакомое, грубое, независимое, непредсказуемо-тревожное, как поведение пьяницы на свадьбе?
Я оглядела свои налитые кровью глаза, синяки на шее. Он и в самом деле пытался убить меня — по каплям выдавить из меня жизнь, пока я лежала, беспомощная, на кухонном полу. Я помнила решимость и ненависть на его лице, помнила, как вдруг стало нечем дышать, словно во мне перекрыли какой-то клапан. И он бы сделал это, убил меня, а потом прошел бы в гостиную и сотворил такое же с мамой… но мы остановили его. Кот пробрался в мышиную норку, но на этот раз мыши убили кота.
Когда я снова посмотрела на себя в зеркало, то с удивлением увидела сверкнувшие в улыбке белые зубы. Я улыбалась во весь рот. И тогда я поняла, что это было за чувство, которому я никак не могла дать название: это было возбуждение.
Ночная сорочка, в пятнах засохшей крови, намертво прилипла к телу, и мне пришлось сдирать ее, как пластырь. Было так приятно стоять под горячим душем, ощущая, как мощные струи воды успокаивающе барабанят по голове. Со странным удовлетворением я любовалась бурлящим розоватым водоворотом, затягивающим кровь в сливное отверстие.
Существует ли какая-то мистическая связь между женщинами и кровью? — праздно думала я. Уже с двенадцати лет я привыкла к виду крови, смывая ее с себя, когда мыла руки, отстирывала одежду. Мальчикам было неведомо это ощущение. Может, кровь — это какая-то особая привилегия женщин? Не потому ли их так много среди больничного персонала? Я вспомнила тех, что ухаживали за мной в госпитале: им никогда не было плохо от вида крови, они никогда не отворачивались, не морщились, потому что кровь была им не страшна, она была старым другом.
Я взбила мыло в густую пену и с удовольствием натирала себя, наслаждаясь шумным хлюпаньем и вкусным ароматом. Мне хотелось отскрести свое тело до идеальной чистоты, выйти из душа с абсолютно новой кожей. Когда я смыла с себя мыло, то в зеркале сзади увидела отвратительный след от падения на нож. Прямо над ягодицами растекался черный синяк размером с кулак, обрамленный ярко-красным очагом воспаления.
Я потянулась за шампунем, чтобы помыть голову, но на привычном месте его не оказалось, и я с содроганием вспомнила, что грабитель прихватил его с собой. Пришлось вымыть голову мылом, смягчив волосы бальзамом из маленькой зеленой бутылочки, которая так давно стояла на полке, что ее крышка успела покрыться слоем пыли. Смыв с себя остатки пены, я еще долго стояла под душем.
Я насухо вытерлась полотенцем и бросила его в мусорный мешок, где уже лежала моя ночная сорочка, потом закуталась в другое полотенце. Я нанесла на лицо любимый увлажняющий крем, вбивая его круговыми движениями кончиков пальцев, щедро смазала руки маминым кремом с сильным ванильным ароматом. Я почистила зубы, чтобы избавиться от мерзкого привкуса крови, который еще ощущался во рту: долго-долго скребла их мятной пастой, пока она не начала разъедать слизистую.
Наконец я протерла запотевшее зеркало и снова взглянула на свое отражение. Дикарь исчез, смытый потоком обжигающе-горячей воды, и в зеркале снова была я, с мягкими и послушными волосами, с лицом, так тщательно отдраенным, что лоснились щеки. В памяти всплыли слова леди Макбет после убийства Дункана: «Вода отмоет нас от этого деяния».
Но она безнадежно ошибалась: вода лишь смыла кровь с ее тела, но не могла изгнать из памяти воспоминания о чудовищном преступлении. Чувство вины за убийство короля в конце концов лишило ее рассудка…
А что станет со мной и с мамой? Удастся ли нам отмыться от того, что мы сделали? Или наш рассудок тоже помутится? Сможем ли мы вернуться к нормальной жизни, зная, что всего в трех шагах от двери гниет в земле тело грабителя? Сможем ли мы солгать полицейским, когда они постучатся в нашу дверь? Способны ли мыши на такую ложь? Могут ли они зажать совесть в кулак и спать спокойно в окружении столь темных тайн?
И тут мне в голову пришла другая мысль. После всего, что мы сделали — убили грабителя, закопали его труп в саду, — может, мы уже вовсе не мыши.
Но в таком случае — кто же мы?
20
Когда я вышла из ванной, то увидела, как мама юркнула в гостевую комнату с двумя мусорными мешками в руках. Дождавшись ее у двери, я протянула ей свой мешок, в который сложила ночную сорочку и полотенце.
— Возьмешь этот?
— Да, — произнесла она едва ли не шепотом. — Я и свое белье сюда сложу. — Ее лицо было мертвенно-бледным, изможденным, и она вдруг поморщилась от боли, но, прежде чем я успела поинтересоваться ее самочувствием, она проскользнула мимо меня в ванную и закрыла за собой дверь.
Пока я в своей спальне сушила волосы, мне показалось, что я слышу звуки рвоты, но все стихло, когда я отключила фен и навострила уши.
Я переоделась в линялые голубые джинсы и белую блузку, обмотала шею красным шарфом, чтобы скрыть синяки. Хотя день обещал быть теплым, я надела толстые носки и прогулочные ботинки на грубой подошве. Когда я снова зашла на кухню, мне захотелось подстелить под ноги слой пористой резины, лишь бы не ступать на плитки, пропитанные кровью.
Мама все еще была в ванной, когда я проходила мимо, но шума воды я не расслышала. Я уже собиралась спуститься вниз, когда мне на глаза попалась гора из мусорных мешков в дальнем углу гостевой комнаты. Мама нагромоздила их вокруг швабры с ведром, словно мешки с песком, которыми обкладывают зенитки.
Я остановилась. Зрелище странным образом взбудоражило меня. Мне не пришлось долго думать, чтобы угадать причину. В одном из этих мешков находился бумажник грабителя. А в нем, я не сомневалась, можно было найти хоть что-то, проливающее свет на его личность. Его имя. Его адрес. Дату рождения…
Меня охватило внезапное, непреодолимое желание узнать имя грабителя. Узнать имя человека, которого я убила.
Я приложила ухо к двери ванной, пытаясь расслышать, что там делает мама. Я знала, что она сойдет с ума, если обнаружит, что я роюсь в мешках с испачканными кровью предметами после того, как приняла душ и надела чистую одежду. Я услышала, как поползла вверх молния юбки. Похоже, она еще только одевается. Я решила, что она пробудет в ванной еще какое-то время, и на цыпочках прокралась в гостевую комнату.
Я искала мешок с половиком и разбитой посудой, тот самый, в который она сбросила и мобильник грабителя вместе с бумажником. Я опустилась на колени и принялась ощупывать мешки один за другим. Это была какая-то зловещая пародия на Рождество в моем детстве, когда я забиралась под елку и начинала трясти коробки с подарками, пытаясь угадать, что там внутри. Опознать мешок с нашими халатами оказалось несложно, так же как и мешок с резиновыми сапогами. Я подумала, что наконец отыскала то, что мне нужно, но когда развязала мешок, то обнаружила там красную спортивную сумку (уже освобожденную от ее контрабандного содержимого), мраморную разделочную доску, обертку от коробки с лэптопом и всеми забытый красный бант.
Но тут мама закашляла и дернула дверную ручку ванной, так что я подскочила и бросилась вон из гостевой комнаты. Выбежав на лестничную площадку, я окликнула ее на случай, если она слышала мою возню:
— Мам! Хочешь перекусить перед уходом?
Даже одна мысль о еде вызвала во мне тошноту. У меня было такое ощущение, что аппетит исчез навсегда; даже представить себе было невозможно, что когда-нибудь возникнет желание поесть. Уверена, что и мама чувствовала то же самое.
— Нет, милая, — донесся ее слабый голос. — Пожалуй, только кофе. Очень крепкий.
Мама потрудилась на славу, пока я принимала душ. Все следы и пятна крови — на шкафах, кухонном столе, хлебнице, стиральной машине, кафеле над раковиной — исчезли. Она сняла забрызганные кровью занавески (я не сомневалась в том, что они навсегда сгинули в одном из мусорных мешков), и теперь кухня была залита золотистыми лучами весеннего солнца. Прилавки, раковина, сушилка блестели в этом ярком свете, а кухонный пол — который она отскребла и снова вымыла — прямо-таки сиял чистотой.
Мама оставила заднюю дверь открытой, чтобы пол быстрее высох. Я смогла разглядеть, что она вымыла из шланга и патио, на котором отпечатались кровавые следы подошв и следы волочения тела по булыжнику. Распахнутая задняя дверь вызвала во мне ощущение дискомфорта. Что, если на самом деле мы не убили грабителя, а лишь ранили его? Что, если вот в эту минуту он ползет по лужайке к дому? Я подбежала к двери, захлопнула ее и заперла на щеколду, устыдившись своих детских фантазий, но в то же время чувствуя себя бессильной побороть их.
Такое же чудо мама сотворила в столовой и гостиной. Обрывки веревки исчезли с пола. Оба стула заняли свои привычные места. Моя флейта вернулась в футляр, «Русские народные песни» были убраны в ящик табурета, крышка пианино опущена. Содержимое серванта и антикварного бюро было аккуратно расставлено на полках. Ароматическая смесь из сухих лепестков была сметена с пола и возвращена в деревянную чашу на серванте. Осколки разбитой вазы испарились, а некогда стоявший в ней букет из сиреневых сухоцветов теперь перекочевал в точно такую же вазу на лестничной площадке. Все безделушки снова стояли так, как это было накануне вечером, перед тем как я отправилась спать. Каким-то чудом эти фигурки выдержали небрежное обращение со стороны грабителя и не понесли потерь — за исключением миниатюрного коттеджа с соломенной крышей, у которого, как обнаружилось при ближайшем рассмотрении, отвалилась труба дымохода.
Мама снова расставила все мои поздравительные открытки, и я заметила, что она добавила к ним и свою. На открытке была надпись «В этот особенный день», а на лепестках розы мерцали капельки росы. Я раскрыла ее и прочитала мамины поздравления: «Моей красавице, дорогой дочери Шелли. Сладких тебе шестнадцати лет! Пусть этот год запомнится тебе на всю жизнь».
Я иронично усмехнулась. Моему дню рождения было всего несколько часов, а я уже знала, что никогда («Зачем ты это сделала?»), никогда не забуду его.
Я приготовила большую порцию кофе, заварив шесть ложек вместо привычных четырех, — решила, что нам не помешает как следует взбодриться перед наступающим рабочим днем. Кофейник и чашки я отнесла в столовую. Мне не хотелось оставаться на кухне. И не только потому, что свет, бивший в незанавешенное окно, был слишком ярким для моих воспаленных глаз. Мне почему-то казалось, что ночная схватка все еще продолжается, все так же сыплются удары ножа, слышатся крики, совсем как в фильме, который безостановочно крутят в пустом зале кинотеатра…
Было начало девятого, когда мама спустилась вниз, одетая в темно-синий костюм, с портфелем в руке, готовая к работе. Я поразилась тому, как умело она замаскировала синяк на лице. Она сделала примочку на глаз, и воспаление заметно спало, потом нанесла серые и фиолетовые тени, которые идеально затушевали следы избиения. Вмятину на щеке она густо замазала тональным кремом, зачесала волосы вперед (обычно она заправляла их за уши) для усиления эффекта. Только при ближайшем рассмотрении можно было догадаться, что ее сильно ударили по лицу.
— Твой глаз выглядит просто потрясающе, мам, как тебе это удалось?
— Я не всегда была противницей макияжа. Когда-то и мне было шестнадцать. — Она попыталась подмигнуть мне, но от боли в ее глазах выступили слезы.
Она села к столу и шумно отхлебнула кофе.
— Как твоя шея, не лучше? — спросила она.
— Еще болит. Особенно когда глотаю. Я думаю, там что-то сместилось.
Мама с тревогой посмотрела на меня:
— Я тебе куплю кое-что в городе.
— Не думаю, что пилюли от кашля помогут, — сказала я, пытаясь сдержать внезапное раздражение. — Мне нужно показаться врачу.
— Если не станет легче, мы сходим к врачу, но это рискованно, Шелли.
— Не знаю, как я сегодня выдержу, мам, — заныла я. — Я так устала! Может, позвонить Роджеру и миссис Харрис и сказать, что я заболела?
— Ни в коем случае! — рявкнула она так строго, что у меня запылали щеки. — Сегодня нам нельзя ни на шаг отступать от привычного распорядка — мы должны жить как обычно. Если полиция начнет задавать вопросы, тот факт, что сегодня ты отменила занятия или я не пошла на работу, как раз и вызовет у них подозрения.
Она тепло улыбнулась мне, сжала мою руку, и я поняла, что она просит прощения за неожиданную резкость.
— Я знаю, что тебе будет нелегко, Шелли, но ты справишься, я в тебе не сомневаюсь.
Я возмущенно молчала. Мне не хотелось, чтобы она шла на работу. Мне не хотелось оставаться дома одной. Когда в саду закопано это.
— Мама? — решилась я произнести то, что беспокоило меня все утро. — Как ты думаешь, тот фермер видел нас?
— Видел, определенно видел, — ответила она. — Но не думаю, что он видел, чем мы занимаемся, если ты понимаешь, о чем я. Он был слишком далеко и ехал довольно быстро. Он просто видел, как две женщины копаются в саду, пусть даже и в халатах, — вот и все, обычное дело. Во всяком случае, в деревне.
Я улыбнулась, испытывая облегчение от ее невозмутимости. Моя улыбка непроизвольно трансформировалась в смачный зевок.
— Господи, у меня глаза слипаются!
Мама взяла меня за подбородок и вгляделась в мое лицо:
— У тебя глаза очень красные. Если Роджер или миссис Харрис что-нибудь спросят, просто скажи, что вчера вечером мы выпили слишком много вина, празднуя твой день рождения, и сегодня ты страдаешь от похмелья.
— Неплохая идея, — сказала я. — Тем более что именно так я себя и чувствую.
Мама допила свой кофе, все это время нервно поглядывая на часы, потом заерзала на стуле, собираясь с мыслями, и это был верный признак того, что она готовится сказать мне что-то важное («Шелли, дорогая, твой папа хочет развода…»). Она сжала мою руку и заглянула мне в глаза:
— Послушай, Шелли, я не знаю, что случится сегодня. Коттедж я привела в порядок, насколько сумела, так что с этим проблем не будет, но постарайся, чтобы на кухню никто не заходил и не поднимался наверх ни при каких обстоятельствах. Если… — и она еще крепче сжала мне руку, — если полиция все-таки придет, сразу же позвони мне. Скажи им, что мама уже едет и будет в течение часа. Не впускай их в дом — даже если у них будет ордер. Они подождут, я уверена, что они подождут. Но если худшее все-таки произойдет и тебя арестуют, не говори ничего и никому — ты слышишь меня? Отказывайся отвечать на любые вопросы. Если хочешь, можешь сказать им, что ты выполняешь мой приказ. — С этими словами она встала из-за стола. — Я должна идти. Нельзя опаздывать.
Я осталась сидеть, все еще в шоке от ее слов: если худшее все-таки произойдет и тебя арестуют… тебя арестуют… тебя арестуют…
— Будь храброй, — сказала мама. — Все образуется, вот увидишь. Поговорим вечером.
Я вяло помахала ей вслед, но она не оглянулась и не послала мне приветственный салют. Она сгорбилась за рулем, ее мысли были полностью сосредоточены на проблеме, которую поставила перед ней прошлая ночь. Наша милая рутина была нарушена — мы не позавтракали вместе на кухне, не поцеловались на пороге. Я не сказала ей, чтобы она была внимательна в дороге, как делала обычно. Все изменилось. Все менялось в нашей жизни: если худшее все-таки произойдет и тебя арестуют…
Я уже собиралась закрыть дверь, когда почувствовала это. Странное ощущение, холодком коснувшееся моей левой щеки, чувство неловкости, заставившее сосредоточиться на том, как я стою, как лежат мои руки, какое у меня выражение лица. Ощущение того, что за мной наблюдают.
Я окинула взглядом деревья и кусты, обрамлявшие гравийную подъездную аллею, зияющую пустоту открытого гаража со стремянкой и канистрой машинного масла, живую изгородь справа, на границе с фермерскими полями, но никого не увидела. Слева от меня тянулся бордюр из цветов и кустарников, за которым просматривался аккуратно подстриженный газон.
И зловещий холмик овального розария.
Ради всего святого, он же мертв! Он мертв!
Я резко захлопнула дверь и дрожащими руками накинула цепочку.
21
Я до сих пор не понимаю, как мне удалось прожить тот день.
После отъезда мамы я сидела за обеденным столом, обмякшая, как марионетка с оборванными нитями. Я просидела, должно быть, часа два, вновь и вновь переживая перипетии прошлой ночи, с той самой минуты, как я проснулась, и до рокового удара по черепу грабителя разделочной доской.
Видимо, мой разум, будучи не в силах объять страшную картину происшедшего, был вынужден возвращаться к тем событиям в отчаянной попытке осмыслить их. У меня не было сил сопротивляться этому, и я, как зомби, сидела, уставившись прямо перед собой в пустоту, в то время как перед моим мысленным взором разворачивалась агония смертельной схватки, причем в замедленном темпе. И когда со смертью грабителя наступал конец, все начиналось заново.
Громкий стук в дверь заставил меня подпрыгнуть на стуле и вернул в реальность.
Полиция! Это полиция! Но как им удалось так быстро найти нас?
Словно во сне, я медленно двинулась к двери под бешеный аккомпанемент сердцебиения.
Я не должна впускать их, даже если они предъявят ордер. Я не должна впускать их!
Трясущейся рукой я отдернула штору и украдкой выглянула в окно. Во дворе не было ни полицейских машин, ни мигалок, ни офицеров в черной форме с трескучими рациями. На пороге стоял всего лишь Роджер. Роджер, с потрепанным портфелем в руке. Роджер, насвистывающий себе под нос. Роджер, который жмурился, глядя в безоблачное голубое небо.
В то утро Роджер пребывал в исключительно хорошем настроении. Я никогда еще не видела его таким жизнерадостным и разговорчивым, как будто это у него был день рождения, а не у меня. Он подарил мне красивое издание «Ребекки» Дафны дю Морье в твердом переплете и открытку с карикатурной собакой в берете и блузе художника с пожеланием: «Я хочу нарисовать что-то особенное к твоему дню рождения», а на развороте было продолжение: «ТАК ЧТО ДАВАЙ КУТИТЬ».[2]
Ценой невероятных усилий мне удалось разыграть нечто похожее на девичий восторг, чего и ожидал Роджер, в то время как мой мозг готов был взорваться. От одного лишь упоминания о дне рождения, который отныне ассоциировался с отнюдь не праздничными событиями (Что это?. — Это подарок на день рождения моей дочери. — Что там?), меня бросило в жар, и слезы закипели в глазах, так что пришлось усиленно моргать, чтобы от них избавиться.
Я через силу отвечала на льющиеся потоком вопросы Роджера (Что тебе подарила мама? Вы собираетесь куда-нибудь сегодня вечером?), с трудом подбирала слова, словно разучилась говорить или еще не оправилась от заморозки, натягивала такую вымученную улыбку, что начинало сводить лицевые мышцы. Чтобы он не заподозрил фальши в моем энтузиазме, я все-таки улучила момент и сказала, что мы с мамой накануне выпили лишнего и сегодня с утра страдаем от последствий.
— Да уж, я заметил, что глазки у вас сегодня красные, юная леди, — поддразнил он.
Мы прошли в столовую, привычно расположились за обеденным столом, и Роджер принялся распаковывать свой портфель. Я нервно наблюдала за ним, опасаясь, что его острые, проницательные глаза могут заметить и еще что-нибудь. Они так и бегали за толстыми линзами очков, похожие на умных зеленых рыбок. Увидят ли они то, что мы упустили из виду? Может, торчащий из-под дивана кончик истрепанной веревки, которой он связывал нас? Белый обрубок вместо трубы дымохода на миниатюрном коттедже? Треугольный осколок разбитой вазы, валяющийся возле ножки его стула? Что окажется той крохотной ниточкой, потянув за которую можно будет распутать клубок? Я старательно выписывала каракули на полях своей тетради, не смея поднять на него взгляд, на случай если что-то в моем лице выдаст тревогу.
По мне, так все в этой столовой было запачкано, скомпрометировано, осеменено событиями прошлой ночи. Всего несколько часов тому назад в серванте и антикварном бюро шарил грабитель; деревянная чаша с ароматической смесью валялась на полу; безделушки с серванта были сметены в красную спортивную сумку, которая была в его руках, когда я ударила его ножом, а сам нож лежал на обеденном столе (на том самом месте, куда сейчас Роджер положил свой пенал), прежде чем я схватила его и бросилась в сад; на стуле, где сейчас расположился Роджер (на спинке были царапины), еще недавно сидела мама, со связанными руками и ногами, покорно ожидая своей участи.
Я нисколько не сомневалась в том, что для Роджера эти улики так же очевидны, как след, оставляемый в небе реактивным самолетом. Мне казалось, что он вот-вот воскликнет: «Что здесь произошло, Шелли? Что-то ужасное случилось в этом доме!»
Казалось невозможным поверить в то, что для него эта столовая была такой же, как всегда. Все то же бюро, все те же безделушки на серванте, тот же стул, а те зловещие изменения, которые виделись мне, были всего лишь фантазиями, навеянными чувством вины. Я была убеждена, что он заметил какие-то уличающие нас детали, которые мы, по причине усталости, упустили из виду. И если это так…что тогда? Мама не говорила мне, что делать, если Роджер раскроет нашу тайну.
Закончив наконец приводить в порядок свои записи, на что, как мне казалось, ушла целая вечность, Роджер приступил к объяснению причин начала Первой мировой войны — предмету, в котором он был непревзойденным экспертом. Я кивала головой и угукала в знак согласия, изредка делая пометки в тетради. Мои мысли вертелись вокруг известных событий, и в то же время я пыталась придумать, как избежать разоблачения со стороны Роджера.
— Следует помнить, что Германия действовала в соответствии с планом Шлиффена, который призывал к разгрому Франции с тем, чтобы впоследствии сосредоточить силы германской армии на войне с Россией — для них это было своеобразным кодексом чести.
Не дергайтесь или получите!
— Если бы русские сумели завершить мобилизацию, они смогли бы поставить под ружье шесть миллионов человек, и, несмотря на поражение от Японии, они по-прежнему представляли собой великую силу, так что Германия всерьез опасалась попасть под «русский паровой каток».
Я должен вас связать… потому и прихватил веревку.
— Австрийско-венгерский ультиматум Сербии был настолько жестким, что исполнить его было практически невозможно, хотя сербы очень старались и смогли удовлетворить кайзера Вильгельма, поэтому вопрос войны был снят…
Не надо было есть яйца. Они явно протухли.
— Существуют доказательства того, что Берхтольд представил сфабрикованный доклад о сербской агрессии на Дунае, чтобы подтолкнуть императора к подписанию декларации о начале войны…
Я знаю, чего я хочу, леди! Я знаю, чего хочу!
— Причиной вступления в войну Британии послужило нарушение Германией бельгийского нейтралитета, но и у самой Британии были планы послать войска в Бельгию в случае необходимости. Нейтральная Бельгия угрожала планам Британии ослабить Германию морской блокадой…
Он убьет нас, мама, я точно знаю, что убьет!
— Если бы Франция объявила о своем нейтралитете, Германия заняла бы крепости Верден и Тулон…
Хочешь, поцелуемся?
— Франция в любом случае оказалась бы втянутой в войну…
Мама, веревка начинает поддаваться. Думаю, мне удастся освободить руки…
Когда мы закончили с предпосылками Первой мировой войны и Роджер обозначил тему эссе, которое мне предстояло написать (Система альянсов, сложившихся в Европе, сделала великую войну неизбежной), мы перешли к заданию по английской литературе. Отрывок из романа «Моби Дик», озаглавленный «Стабб убивает Белого Кита», входил в программу экзаменов будущего года.
Как всегда, мне отводилось полчаса, чтобы самостоятельно ответить на десять вопросов, после чего мы вместе должны были проработать ответы.
Я никогда не читала роман «Моби Дик» и нашла предложенный отрывок совершенно непонятным; в нем много было морской терминологии, мне незнакомой, и какие-то странные имена и названия — Квикег, Пекод, Даггу, Таштего. Вопросы по тексту (Какую литературную роль играет трубка Стабба в этом отрывке?) казались более сложными, чем обычно. Многие предложения представлялись мне полной бессмыслицей. Усталость накрывала меня тяжелой волной, веки угрожающе смыкались. Мне было невыносимо жарко, шарф на шее душил меня, во рту пересохло. Я никак не могла сосредоточиться на тексте, его буквы, словно черные муравьи, расползались перед глазами.
Я смутно поняла, что команда моряков на гребной шлюпке, возглавляемая человеком по имени Стабб, охотилась на белого кита и тот самый Стабб убил кита своим гарпуном, но вот подробности ускользали от меня, перебиваемые воспоминаниями, навеянными текстом. Когда Стабб снова и снова вонзал в кита свое «изогнутое копье», я видела себя, бегающую за грабителем вокруг стола, наносящую ему все новые удары ножом (Играем в «музыкальные стулья»! «Музыкальные стулья»!) Когда шлюпку захлестнула обагренная кровью волна, я увидела перед собой кровавую лужу, подползающую к моим ногам, пока я сидела, привалившись к стиральной машине. Когда из дыхательного отверстия кита взметнулся фонтан крови, я увидела такой же фонтан, брызнувший из шеи грабителя после моего удара ножом. Когда Стабб «задумчиво обозревал огромную мертвую тушу», мне вспомнились тишина и оцепенение, воцарившиеся на кухне после сокрушительного удара, нанесенного мамой, и постепенное осознание того, что мы кого-то убили.
Я вдруг услышала голос Роджера, доносившийся откуда-то издалека, еле слышный. Он повторял что-то уже второй или третий раз.
— Извините… вы что-то сказали? — спросила я.
— Ты безнадежно отстала, — рассмеялся он. — Я говорил, что время вышло. Все, конец.
Конец. Не это ли будет означать приход полицейских? Ваше время истекло… Я дописала слово и отложила ручку. Я успела ответить на половину вопросов.
— Прежде чем мы продолжим, — сказал Роджер, — может, прервемся на чашку чая? Обычно к этому времени мы успевали выпить по две-три…
Я не предложила ему чаю, потому что он имел привычку следовать за мной на кухню и болтать, пока закипал чайник, но я помнила мамино предупреждение: не пускай никого на кухню.
— Я так полагаю, что, поскольку у тебя день рождения, ты хочешь, чтобы я сам все приготовил, я угадал? — пошутил Роджер. — Что ж, раз уж сегодня такой особенный день… позволю себе… — И он начал подниматься из-за стола.
— Нет! — закричала я, вскакивая на ноги. — Я все сделаю, Роджер. Я просто забыла, вот и все. Как я уже сказала, мы вчера выпили лишнего. Боюсь, что я все еще сплю.
Роджер вернулся на место, но, когда я поравнялась с ним, следуя на кухню, откинулся на стуле и преградил мне путь:
— Я могу рассчитывать на кусочек маминого лимонного торта, Шелли? Я ужасно голоден.
— Да, конечно, — улыбнулась я, и он, радостно улыбнувшись, позволил мне пройти.
Я была уверена, что он последует за мной, и отчаянно пыталась придумать что-нибудь, чтобы удержать его в столовой.
— Может, вы пока посмотрите мои ответы? — предложила я. — Боюсь, я не справилась.
— Конечно, — сказал Роджер и потянулся за моей тетрадкой. — Конечно.
Улыбка слетела с моего лица, как только я переступила порог кухни. Мне нужно было торопиться. Я знала, что он обязательно придет, если я буду долго копаться. Я достала лимонный торт и выложила его на стол. Быстро наполнила чайник, бросила в кружки по пакетику с чаем, схватила из шкафа блюдо. Потом достала из ящика вилку и огляделась в поисках ножа, чтобы нарезать этот треклятый лимонный торт. Я нашла длинный острый нож с черной пластиковой ручкой. Как только он оказался в моей руке, на меня снова обрушился поток «обратных кадров». Нож, вонзенный в ложбинку между лопатками. Удары, которыми я осыпала его, пока он бежал, согнувшись, к дому. Уколы в шею, когда я преследовала его, бегая за ним вокруг стола. «Играем в „музыкальные стулья“! Играем в „музыкальные стулья“!»
— Тебе это очень тяжело, да, Шелли? — произнес голос за моей спиной.
Я резко обернулась, с ножом в руке.
Роджер был на кухне, невозмутимо направляясь к двери, ведущей в сад.
Что он имел в виду? Что было тяжело? Делать вид, будто в доме ничего не произошло? Это он имел в виду? Скрывать убийство грабителя?
— Да, это нелегко, — продолжал он, — особенно когда столько крови.
Он знал! Он знал! Роджер как-то догадался!
Я крепко сжала нож, не зная, что делать дальше. Ударить его? Не этого ли мама хотела от меня?
— Это было жестокое предприятие, ты не находишь?
— О чем вы? — прохрипела я.
Роджер удивленно обернулся:
— Отрывок… отрывок из романа «Моби Дик». Он сложный не только в стилистическом, но и в эмоциональном плане. Охота на китов в те времена была жестоким, кровавым бизнесом. Я удивлен, что они включили его в экзаменационную программу прошлого года. Это расстроило многих ребят, потом была куча жалоб. А ты о чем подумала?
Я развернула пергаментную упаковку и дрожащей рукой попыталась нарезать торт. Нервы были натянуты, как струны. С головой творилось что-то странное: она кружилась, и появилось какое-то безумное ощущение, что я больше не контролирую свои действия. Я просто не знала, что буду делать дальше, на что я способна. Я должна прогнать его из кухни! Здесь был эпицентр. Здесь произошло убийство. Здесь все было залито кровью. Нож так дрожал, что мне пришлось держать его обеими руками.
— Здесь все выглядит как-то по-другому, — сказал Роджер.
Я притворилась, будто не слышу, но от его слов сердце забилось еще сильнее.
— Куда делись занавески?
— Мм… мама сняла их постирать, — ответила я, стараясь придать своему голосу оттенок невозмутимой легкости.
— И половика тоже нет.
— Да… мм… мама его ненавидела. И решила наконец выбросить.
Роджер стоял, привалившись к косяку двери, сложив руки на груди. Его огромные зеленые глаза сканировали кухню, словно камеры видеонаблюдения.
— И еще кое-что… — произнес он, словно размышляя вслух. — Что-то еще изменилось…
Я могла бы сказать ему: тяжелая разделочная доска из итальянского мрамора, что висела возле плиты, теперь находится в одном из мусорных мешков наверху, заляпанная кровью и мозгом грабителя.
— Что это? — задумчиво произнес он. — Что это?
Я как-то умудрилась отрезать кусок торта и положить его на тарелку. Улыбаясь, я протянула ему тарелку, но Роджер все так же придирчиво оглядывал кухню, пощипывая кончики своих пшеничных усов.
И тогда я увидела это. Мама недоглядела. Я тоже. Это находилось прямо на уровне правого локтя Роджера. Чуть повыше ручки, на косяке двери цвета морской волны. В форме почки, с четырьмя вертикальными полосками сверху. Теперь скорее коричневого цвета, а не красного, но все равно ошибиться было невозможно.
Это был отпечаток руки.
(Он пытался закрыться от меня, но я все-таки протиснулась в дверь.)
Это был кровавый отпечаток руки.
Роджеру достаточно было чуть повернуть голову, и он не смог бы не заметить его.
К своему великому изумлению, я не дрогнула. Я впилась в него взглядом, стараясь усыпить вездесущих зеленых рыбок, и принялась болтать без умолку, пороть всякую чепуху, вываливать все, что приходило в голову.
— Я нашла этот отрывок совершенно невозможным, это был самый трудный для понимания текст, а пятый вопрос я вообще не поняла, Роджер: «В чем литературная роль трубки Стабба?» Что значит «литературная роль», скажите на милость? Я хочу сказать, это всего лишь трубка, не так ли? Может, это его торговая марка, может, это то, что выделяет его из толпы, но я не понимаю, в чем заключается ее литературная роль…
И все это время, пока лился нескончаемый поток слов, я уводила его из кухни в столовую, держа перед собой тарелку с тортом. Взгляд Роджера следовал за мной, и вот уже его голова медленно отвернулась от кровавого пятна на двери…
— Я согласен, Шелли, вопрос плохо сформулирован, но я думаю, смысл в том, что трубка — это не просто трубка, это символ…
— Идите сюда, — перебила я его, уже одной ногой в столовой, — давайте сядем за стол, и вы попробуете торт.
Послушно, словно пес, которого хозяин взял на поводок, чтобы вести на прогулку, Роджер улыбнулся, оттолкнулся от двери и следом за мной вышел из кухни.
22
Когда Роджер наконец ушел, я прижалась к входной двери и медленно осела на пол. Эти три часа выжали из меня все соки. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой измотанной.
Мои глаза воспалились, зрение было нечетким, и казалось, будто правый глаз видит лучше, чем левый. Спагетти «болоньезе» просились наружу, и каждый раз, когда я ощущала их привкус во рту, подкатывала тошнота. Было такое ощущение, будто весь ужас прошлой ночи растворился в этом вкусе мясного фарша с томатным соусом. В животе тревожно урчало. Голова кружилась. Я долго сидела в холле, обхватив голову руками, уставившись на ковер, надеясь на то, что, если я не буду двигаться, тошнота пройдет и меня не вырвет.
И тут я вспомнила про кровавый отпечаток. Необходимо было избавиться от него до прихода миссис Харрис.
Я заставила себя подняться и поплелась на кухню, потерла пятно каким-то влажным кухонным полотенцем. Задача оказалась не из легких: кровь въелась в трещины краски, и скрести пришлось долго. В руках совсем не осталось сил, и от малейших усилий начинало тошнить. На лбу выступил холодный пот, и рот наполнился горькой слюной, что было верным признаком скорой рвоты. Когда я увидела следы крови на кухонном полотенце, это было последней каплей.
Я успела добежать до ванной.
Я лежала на диване в гостиной, но от перевозбуждения не могла заснуть. Я ворочалась в каком-то полузабытьи, мои путаные мысли, навеянные паранойей и чувством вины, носились по замкнутому кругу с головокружительной скоростью.
Мы не захоронили грабителя как следует; его правая рука так и торчала из земли. Если не рука, так нога, ступня без ботинка, в рваном зеленом носке. Я должна была выйти и укрыть его, я должна была выйти и закопать его поглубже, иначе миссис Харрис увидит его, подъезжая к дому… А может, мы и вовсе не убили грабителя, каким-то образом ему удалось прийти в себя, и он выбрался из своей временной могилы. Как монстр из фильма ужасов — грязный, изрубленный, — он звонил мне со своего мобильника, ковыляя к коттеджу, звонил, чтобы мучить меня, дразнить, пугать…
Я с криком подскочила на диване, когда зазвонил телефон. Я в ужасе смотрела на него, а он все надрывался, и мне было страшно снять трубку. Но, по мере того как в голове прояснялось, нелепое предположение, что звонить мог грабитель, сменилось догадкой о том, что это полиция. Одному богу известно, сколько звонков я пропустила, прежде чем схватила трубку.
Это была мама.
Она вела разговор очень осторожно. Видимо, перестраховывалась на случай, если нас прослушивают, так что я последовала ее примеру.
— Надеюсь, ты весело проводишь свой день рождения? — радостно спросила она.
— Да, замечательно, мам, — ответила я без оттенка иронии в голосе. — Роджер подарил мне красивое издание «Ребекки».
— Здорово! Как прошли занятия?
— Отлично, мы разбирались в причинах Первой мировой войны. Это ведь конек Роджера, тебе бы стоило его послушать, он просто дока в этом вопросе. Ему и впрямь следовало бы написать книгу.
Еще минут пять мы болтали ни о чем, но к концу разговора мама убедилась в том, что со мной все в порядке и полиция не приходила… пока.
Она сказала, что постарается приехать домой пораньше.
Вскоре меня опять затошнило, но в желудке уже ничего не осталось. Я поднялась наверх, умылась холодной водой, почистила зубы и прополоскала рот мятным раствором, чтобы избавиться от кислого послевкусия. Желание уснуть становилось непреодолимым; сон звал меня, как сирена, как дудочка Пида Пайпера[3], и я бы точно отправилась в постель (наплевав на все последствия), если бы не услышала, как к дому подъезжает миссис Харрис.
С миссис Харрис было намного проще, чем с Роджером. Ее совершенно не заинтересовал мой день рождения; увидев открытку и подарок Роджера, она ограничилась холодным комментарием, что если бы она дарила подарки каждому своему ученику, то давно бы разорилась. В отличие от Роджера, миссис Харрис не проявляла любопытства к тому, что творилось вокруг нее, и даже убери я из столовой весь сервант, она бы, наверное, не заметила. К тому же она никогда не просила чаю, предпочитая пить черный кофе из маленького термоса, который всегда приносила с собой.
Унылый ход наших занятий был прерван лишь однажды и ненадолго, но эта пауза обернулась шоком для нас обеих.
— Я только что взяла себе новую ученицу, она живет по соседству с вами, — заметила она, — девочка примерно твоего возраста. Ее отец фермер — его поля, должно быть, граничат с вашим участком. Ее зовут Джейд. Джейд, ты только представь!
Я промолчала, украдкой взглянув на часы, чтобы посмотреть, сколько осталось до конца урока.
— Она тоже так называемая жертва травли, — продолжала миссис Харрис, стряхивая с кончиков пальцев крошки печенья. — Другими словами, она предпочитает сидеть дома, вместо того чтобы подвергать себя неудобству обучения в школе.
Мне уже доводилось слышать подобные реплики, и я всегда пропускала их мимо ушей; мне было хорошо известно, как относится миссис Харрис к мышам. Но на этот раз, неожиданно для самой себя, я ей ответила.
— Как вы смеете? — прошипела я, бессознательно комкая лист бумаги, на котором только что писала.
Миссис Харрис уставилась на меня, совершенно сбитая с толку, как если бы ее послушная комнатная собачонка вдруг прокусила ей палец до самой кости. Я чувствовала, как передергивается мое лицо, искаженное злостью.
— Как вы смеете? — крикнула я, в упор глядя на нее. — Я восемь месяцев страдала от рук этих негодяек! Меня избивали каждый день. Меня подожгли! Я могла погибнуть! Что значит так называемая жертва?
Ярость нарастала во мне с каждой секундой, так что даже слова не поспевали за ней. Я так долго сдерживалась, и вот наконец шлюзы открылись, и меня прорвало. Только вот трудно было обуздать словесный поток, и он вылился в бессвязную речь.
Реакция миссис Харрис поразила меня. Я ожидала, что она вспыхнет от возмущения, выдаст в ответ нечто унизительное и оскорбительное, что тут же заставит меня расплакаться. Но вместо этого она прижала палец к губам, словно и сама не поверила, что могла ляпнуть такое.
— Извини, Шелли. Я… я так виновата перед тобой! — Ее веснушчатая рука робко и неуклюже потянулась ко мне через стол, прежде чем она вернула ее на колени. — Я не хотела преуменьшить то горе, которое ты пережила. Это было глупо и бестактно с моей стороны. Я просто забыла, с кем я говорю, честное слово.
Я постепенно успокоилась, и мы продолжили урок, но обе были расстроены тем, что произошло, поэтому испытали огромное облегчение, когда стрелка часов подошла к половине пятого. На пороге миссис Харрис снова извинилась и пожелала мне счастливого дня рождения.
Я смотрела ей вслед, пока она отъезжала от дома, и, даже несмотря на причиненную душевную травму, была довольна собой. Наконец-то я сумела подать голос в свою защиту, поставить на место зарвавшуюся старуху. Я знала, что, скорее всего, она признала свою ошибку лишь потому, что беспокоилась, как бы ее циничные высказывания в адрес «симулянтов» и «хлюпиков», которых она обучала, не дошли до местных властей, и тогда прощай жирное жалованье. Но, как бы то ни было, я вышла победительницей. Она с позором покинула поле боя, потерпев сокрушительное поражение; грозная миссис Харрис на самом деле оказалась бумажным тигром, подумала я и торжествующе улыбнулась — но, как только мой взгляд скользнул в сторону палисадника, улыбка померкла на губах.
23
Только оставшись одна, я вспомнила про бумажник грабителя.
Желание узнать его имя было непреодолимым. Теперь мною двигало нечто большее, чем любопытство. Я чувствовала, что, если узнаю его имя, мне уже будет не так страшно думать о том, что он лежит там, в нашем саду.
В конце концов, имя вернет грабителя в привычную реальность. Он окажется каким-нибудь Джо Блоггсом или Дэвидом Смитом, обычным человеком, жалким и ничтожным. Безымянный, он казался мне всемогущим; он мог просачиваться в мою жизнь, как ядовитый туман, заражая все вокруг. Он стал бы букой, злым духом, источником страхов, которые преследовали бы меня до конца жизни. Узнать его имя было равносильно тому, чтобы включить свет в середине фильма ужасов.
Я знала, что мама будет не скоро, так что можно было не торопиться.
Я поднялась наверх и прошла в гостевую комнату. Я уже знала, где мешок с халатами, где лежат резиновые сапоги, красная спортивная сумка. Я искала первый, с разбитой посудой и половиком. Вскоре я нашла его за ведром со шваброй. Мама, как всегда, завязала свой мудреный узел, так что мне пришлось повозиться. Все это время мой пустой желудок громко заявлял о себе. Аппетит, который, как мне еще недавно казалось, пропал навсегда, устраивал голодный марш.
Мне пришлось сдвинуть половик, чтобы заглянуть внутрь мешка. Бумажник был там, на самом дне. На половике застыло какое-то студенистое серое вещество, должно быть вытекшее из размозженного затылка грабителя, пока мы волокли его из кухни. Я не могла смотреть на него и отвернулась к стене, потянувшись за бумажником вслепую. Пальцы нащупали мягкую кожу, и я вытащила бумажник из мешка.
Было странно держать в своих руках вещь, принадлежавшую грабителю, — то, что лежало у него в кармане, когда я била его ножом. В каком-то смысле это было подобно его воскрешению. Я почти чувствовала его присутствие рядом, и меня вдруг охватило беспокойство, захотелось как можно скорее покинуть комнату.
Дрожащими пальцами, задыхаясь от волнения, я открыла бумажник. В одном кармашке оказалась мелочь, другое отделение было туго набито карточками. Я узнала розоватый кончик водительского удостоверения. Я извлекла его ногтями — на меня смотрели холодные серые глаза грабителя. Вновь накатила тошнота, и я ощутила привкус спагетти «болоньезе». Возможно, у мужчины с фотографии волосы были чуть короче, щеки не такими впалыми, но ошибки быть не могло: это был тот самый человек, которого мы с мамой убили на собственной кухне вчера ночью.
Я прочитала его имя.
Пол Дэвид Ханниган.
Я сунула документ в задний карман своих джинсов, закрыла бумажник и швырнула его обратно в мешок. Снова завязала его, пытаясь воспроизвести мамин тугой узел. Я не увидела никаких пятен ни на руках, ни на рукаве, но все равно на всякий случай вымыла руки и надела другую кофту.
В животе урчало все громче, и я пошла на кухню, где разогрела себе тарелку овощного супа, нарезала немного хлеба. На подносе я отнесла все это в гостиную и съела перед телевизором, за мультиками. Было странно наблюдать за тем, как Том гоняется по кухне за Джерри («Играем в „музыкальные стулья“! „Играем в музыкальные стулья“!»), бьет его по голове сковородкой, размазывая Джерри, как блин, и все это под веселую музыку, в сопровождении комических звуковых эффектов — бац! Жестокость в ярких красках. Насилие без крови. В реальной жизни все иначе. Я вспомнила, как мама примеривалась для удара, впиваясь в рукоятку разделочной доски, как сделала глубокий вдох и занесла ее над головой, словно пловец перед погружением в темные глубины. Я вспомнила звук, с которым доска опустилась на голову грабителя… и он был далеко не комическим.
Я лежала на диване, изучая водительское удостоверение грабителя. Удостоверение Пола Ханнигана. Я посмотрела на дату рождения и высчитала, что ему было двадцать четыре года, а мне он показался гораздо моложе. Он был на восемь лет старше меня. На удостоверении была и его подпись, выполненная детской рукой, с нелепыми завитушками, словно он был важной персоной. Его адресом значился город на севере, известный высоким уровнем безработицы и процветающим наркобизнесом. Всего месяц назад там средь бела дня был застрелен четырнадцатилетний мальчишка, работавший наркокурьером. Выходит, сонно рассуждала я, Пол Ханниган — крыса из той самой крысиной норы. Или, по крайней мере, был. Удостоверение было выдано четыре года назад; вполне возможно, он проживал где-то неподалеку, когда пришел грабить коттедж Жимолость.
Я попыталась продумать, как может полиция связать его исчезновение с мамой и мною, пыталась угадать, какая невидимая нить связывает нас, но веки стали тяжелыми, и я, проваливаясь в сон, успела убрать в карман джинсов водительское удостоверение. Кто-то уже хватился его. Кто-то… уже… его… искал.
24
Я проснулась от того, что кто-то нежно похлопывал меня по плечу.
Я открыла глаза и увидела, что надо мной склонилась мама. За окном было темно. Единственным источником света в гостиной было оранжевое свечение настольной лампы возле телевизора.
— Что, полиция? — спросила я, резко подскакивая.
— Нет, нет, — успокоила мама. — Полиции здесь нет, Шелли. Я приготовила тебе вкусный чай. Уже половина одиннадцатого.
— Пол-одиннадцатого? — Я проспала больше пяти часов!
— Ты крепко спала, когда я пришла. Я решила не будить тебя. Я еще раз прошлась с тряпкой по кухне, потом приняла ванну, спустилась сюда и устроилась в кресле, впрочем, тут же и уснула. Я сама только что проснулась.
Я взяла из ее рук кружку. Во рту у меня пересохло и дурно пахло, так что я жадно набросилась на чай, который был теплый и пить его было легко.
— Как твоя шея? — спросила мама.
Я сглотнула. В горле все равно что-то царапало.
— Пока не очень.
— Я купила тебе пастилки для горла и микстуру от кашля. Примешь ее перед сном, и посмотрим, как будет завтра утром. Бог даст, полегчает. Надеюсь, нам не придется идти к врачу. Доктор Лайл старый, конечно, но он не дурак и наверняка начнет задавать тебе неприятные вопросы.
— Как на работе, мам?
— Ужасно. У меня был жуткий скандал с Блейкли в присутствии Бренды и Салли.
— Скандал?
— Он хотел, чтобы я задержалась на работе, я отказалась, и ему это не понравилось.
Я решила, что она, скорее всего, преувеличивает. До сих пор, насколько мне было известно, мама ни с кем не ругалась.
— Кто-нибудь обратил внимание на твой глаз?
— Салли спросила, с чего вдруг я накрасилась.
— А ты что сказала?
— Сказала, что пришло время найти нового мужчину.
— А она что?
— А она сказала, что слышала, будто есть роскошный адвокат по уголовным делам по имени Блейкли, который совершенно свободен.
Мы обе расхохотались. Но смех быстро угас, когда мы вспомнили, с какой ношей теперь живем.
Мы долго молчали, потягивая чай и глядя в пустоту, как бывает, когда только что проснулся. Тишину нарушало лишь редкое уханье совы, гнездившейся на одном из деревьев у подъездной аллеи.
— Мам?
— Да, Шелли?
— Что же будет, мам?
Она закрыла лицо ладонями и принялась тереть его, как будто умывалась. Когда она снова повернулась ко мне, вид у нее было невыносимо усталый.
— Не знаю, Шелли. Не знаю. Я весь день только об этом и думаю. Просто не знаю.
За окном снова ухнула сова — протяжно и скорбно, — и я подумала о трупе, зарытом в розарии.
Я взяла мамину руку и крепко сжала ее:
— Мам?
— Да, дорогая?
— Ты не против, если я сегодня лягу спать с тобой?
— Конечно нет, милая. Конечно нет.
В ту ночь мне снилось, что мы с Роджером занимались в столовой, когда в дом нагрянула полиция. Было темно, и, когда я открыла дверь, меня ослепили вспышки голубых мигалок. «Уберите этот свет! — закричала я. — Разве вы не видите, что у меня воспалены глаза?» Нас с мамой выводили из коттеджа вооруженные полисмены в противогазах. Роджер стоял на пороге и робко кричал: «Вы не можете ее забрать, разве вы не понимаете, что у нее очень важные экзамены через два с половиной месяца?» Мы с мамой были одеты в оранжевые спортивные костюмы, какие носят американские заключенные, я видела по телевизору; ноги у нас были скованы цепями, руки в металлических браслетах заведены назад. «Почему вы в противогазах?» — спросила мама у одного из полисменов. Он рявкнул в ответ: «Запах! Запах смерти! То, что вы его не чувствуете, доказывает вашу вину!»
Я услышала чей-то хохот и, обернувшись, увидела стоявшего посреди розария грабителя. На нем не было ни царапины, он был в точности таким, каким я увидела его на лестнице, только вот его куртка «пилот» цвета хаки была украшена ярко-красными бантами с длинными красными лентами, которые ниспадали прямо к его ногам. Когда он перехватил мой взгляд, его лицо стало суровым и безжалостным. «Это все-таки яйца, — произнес он, — ты, уродливая сука. Накормила меня тухлыми яйцами». Зазвонил его мобильник, и он потянулся к заднему карману. «Прошу прощения, мне звонят», — сказал он и, прикрыв одно ухо для лучшей слышимости, отошел к дому.
Полицейские затолкали нас в бронированный фургон, и мы двинулись по аллее. Из окна я успела разглядеть машину, припаркованную за углом, и силуэт водителя за рулем. При нашем приближении ее фары зажглись, злобно взревел мотор, и она последовала за нами.
— Кто это? — спросила мама.
— Тот, кто следит за нами, — ответила я.
25
Проснувшись утром в маминой комнате, я не сразу сообразила, в чем дело. Мама уже встала, оставив после себя лишь свой запах на другой половине постели и несколько волосков на подушке. Я слышала, как льется вода из крана на кухне, хлопают дверцы шкафчиков, бормочет что-то смешное радиоведущий.
Когда я попыталась встать, то поразилась тому, насколько непослушным стало мое тело. Все мышцы «кричали» от боли, как после ночного марафона, и только тут я поняла, сколько сил я вложила в схватку с грабителем. Как немощная старуха, я поплелась в ванную, морщась от каждого шага. Когда я села на унитаз, копчик предательски заныл, напоминая о падении на нож. Глотать было по-прежнему больно, но то странное царапающее ощущение ушло, и, когда я посмотрела на себя в зеркало, с облегчением увидела, что белки глаз заметно посветлели. Я приблизила лицо к зеркалу, едва не касаясь его носом.
И спросила свое отражение:
— Придет сегодня полиция?
Я зашла в свою спальню за тапочками и старым халатом, когда что-то за окном — неожиданная смена красок в ландшафте — привлекло мое внимание. Я подошла к окну и протерла запотевшее стекло, чтобы лучше разглядеть это. И тотчас пожалела об этом.
Там, на тропинке, огибавшей коттедж Жимолость, стояла машина, видавший виды драндулет бирюзового цвета. Передними колесами она едва ли не въехала в живую изгородь, а задняя часть кузова выпирала так, что перегораживала проезжую часть. По другую сторону изгороди находились наш фруктовый сад — кипарисы ограничивали его с тыла, — огород, компостная яма мистера Дженкинса.
Я почувствовала, как кровь застывает в жилах. Это была машина Пола Ханнигана. В этом не было никаких сомнений. Припаркованная прямо возле нашего дома, она, словно стрела, указывала на коттедж Жимолость, взывая к полиции: «Хотите разгадать тайну пропавшего водителя? Поинтересуйтесь у хозяев дома».
Это и была улика, недостающее звено в цепочке, и именно этой находки я панически боялась! Если бы мы с мамой хорошенько подумали, то догадались бы, что грабитель мог добраться до коттеджа Жимолость только на машине. В столь поздний час автобусы уже не ходили, и маловероятно, что он пришел пешком — как же он планировал исчезнуть с добычей? Если же он приехал на машине, тогда она должна была стоять где-то поблизости — поскольку, как нам было известно, грабитель, проникнув в коттедж, уже не покидал его. Но в хаосе и сумятице той ночи нам даже в голову не пришло нечто до смешного очевидное.
Мама бросилась вверх по лестнице, заслышав мои истошные крики.
— Что такое? — испуганно воскликнула она, вбегая в спальню, мертвенно-бледная и запыхавшаяся.
Я ничего не сказала. Лишь молча указала на улицу.
Она судорожно вздохнула, когда увидела машину, и выругалась себе под нос. Она стояла позади, обнимая меня за плечи, опираясь подбородком на мою макушку, и я чувствовала, что ее всю трясет.
Пришибленные, мы молча спустились по лестнице и сели завтракать в столовой — никто из нас пока не решался есть на кухне. Я пыталась запихнуть в себя кусочек тоста, мама же вообще не притронулась к еде. Она лишь пила кофе, чашку за чашкой. Черный и очень крепкий. У нее был ужасающий землистый цвет лица, а подбитый глаз приобрел грязно-желтый оттенок.
— Мы не должны поддаваться панике, Шелли. Нам нужно сохранять спокойствие и думать, думать, рассуждать логически, — сказала она.
Но я-то видела, что ей самой нелегко дается это спокойствие: она рассеянно покусывала нижнюю губу и постоянно теребила волосы.
— Нужно все тщательно обдумать, — сказала она, обращаясь скорее к себе, а не ко мне. — Нужно все обдумать.
— Что тут думать? — в отчаянии воскликнула я. — Машина грабителя припаркована прямо возле нашего дома, она привлечет к нам полицию, как горшок меда — пчел! — Меня охватила настоящая паника. — Она приведет их прямо к нам! Я знала, что случится нечто подобное! Я знала! Я знала!
— Успокойся, Шелли. Дай мне подумать. Возможно, это не его машина. Может, кто-то ночью ехал по этой дороге и заглох. Или ее угнали любители покататься на чужих машинах. Мы не знаем, действительно ли она принадлежит ему.
— О, прекрати, мам. Какое странное совпадение, ты не находишь? Она припаркована чуть ли не впритык к нашему дому! Именно в тот угол сада он бежал, когда я… когда я догнала его.
— Но вчера мы ее не видели. Может, вчера ее и не было.
— Мам, вчера мы были не в том состоянии, чтобы обозревать окрестности. К тому же она просматривается только из окна моей спальни, а я вчера и не заходила туда.
Мама угрюмо молчала, как будто все пыталась убедить себя в том, что машина не принадлежит грабителю.
— Мама, мы должны убрать ее! Мы должны избавиться от нее!
Она посмотрела на меня как на сумасшедшую:
— Убрать? Но как?
— Ты разве не помнишь? У него в кармане была связка ключей, сейчас она в одном из мешков наверху. Мы должны отогнать машину подальше от нашего дома и оставить где-нибудь. Мы должны сделать это сейчас же!
— Сейчас мы ничего не можем сделать, Шелли. Нет времени. Мне нужно собираться на работу, и к тому же слишком опасно делать это средь бела дня — вдруг кто-нибудь увидит?
Мне хотелось накричать на нее, схватить за плечи и вытрясти из нее эту нерешительность.
— Мы не можем оставлять ее еще на один день, мама: она перегораживает дорогу. Кто-нибудь обязательно сообщит в полицию. Они приедут сюда. Начнут задавать вопросы!
— Мы не можем сделать это сейчас, Шелли. Слишком рискованно. Подождем, пока стемнеет.
Я начала протестовать, но мама перебила меня:
— Я знаю, это риск — оставлять ее еще на день, но мы вынуждены пойти на это. А теперь мне пора собираться на работу.
Она поднялась так, будто несла на своих плечах тяжесть целого мира. В дверях она остановилась и покорно произнесла:
— Достань ключи из мешка, и, если это его машина, мы отгоним ее, как только я вернусь с работы. К тому времени уже должно стемнеть.
— Хорошо, мам.
— И, Шелли, — добавила она, уже выходя из столовой, — не приближайся к машине до моего приезда.
Весь день я мучилась в агонии, дожидаясь возвращения мамы с работы. Я ни на чем не могла сосредоточиться. Я автоматически выполняла задания Роджера, то и дело поглядывая на часы и недоумевая, почему время тянется так медленно, словно застыло и течет тончайшей струйкой. Пока мы повторяли тему ледниковых отложений и французские неправильные глаголы, мои мысли были заняты исключительно машиной грабителя.
Вот сейчас, в эту минуту, какой-нибудь вездесущий сосед звонит в полицию, чтобы сообщить о неправильно припаркованном автомобиле. Полиция приедет и осмотрит машину. Они проедут по тропинке, которая приведет их к воротам коттеджа Жимолость. Это неизбежно. Ведь машина припаркована прямо у нашего сада. А других домов в округе нет! Они властно постучат в дверь и спросят меня: принадлежит ли эта машина кому-то из членов нашей семьи или же мне что-нибудь известно о ней? Что я тогда скажу? И смогу ли я вообще говорить с ними, не вызывая у них подозрений?
Потом они отбуксируют автомобиль, и мы лишимся своего последнего шанса. Когда Пола Ханнигана объявят в розыск, в полицейских сводках обнаружат, что его машина была найдена возле нашего дома. Разумеется, полиции не составит труда сложить два плюс два. И вполне возможно, что в салоне машины найдутся улики, которые облегчат им задачу, — скажем, наш адрес, записанный на клочке бумаги, карта, на которой отмечен наш коттедж. Если Пол Ханниган уже привлекался за кражи, не нужно быть гением, чтобы догадаться, что он приехал к коттеджу Жимолость с целью ограбления, но с тех пор его больше никто не видел.
Чем больше я думала об этом, тем сильнее нервничала и тем труднее было сосредоточиться. Я чувствовала, что Роджера начинают раздражать моя невнимательность и неправильные ответы, но он молчал. Когда он наконец ушел, я помчалась в свою спальню, чтобы проверить, на месте ли машина, и вздохнула с облегчением, когда разглядела бирюзовую крышу, проступающую сквозь зеленые заросли. Весь обеденный перерыв я так и простояла на коленях на подоконнике, не сводя глаз с этого уродца и думая, думая…
Я думала о маме, которая все утро пыталась убедить себя в том, что это не машина грабителя. Меня так и подмывало выйти на улицу и попробовать открыть ее ключами, чтобы, когда она вернется, с уверенностью сказать ей, что это все-таки его машина, чтобы она перестала хвататься за соломинку. Но я этого не сделала. Я не хотела идти против ее воли и нарушать отданный ею приказ. Это было бы равносильно объявлению войны.
За тот час или около того, что я просидела на подоконнике, ни одна машина или трактор не заехали на эту дорожку, лишь одинокий велосипедист в шутовском облегающем трико. Проезжая, он бросил взгляд на машину, но его больше занимало то, что он пытался достать из заднего кармана, одной рукой управляя велосипедом.
Миссис Харрис приехала с подарком для меня — дорогой коробкой бельгийского шоколада, — но я даже не обрадовалась. Пока она занудно бубнила про призмы и отражение света, я думала только об одном: мы должны отогнать машину, мы должны отогнать машину! Я была уверена, что стоит полиции найти ее, и мы окажемся под арестом уже к исходу этого дня. Но если нам повезет и машину не объявят в розыск в ближайшие часы, а за это время мы с мамой успеем незаметно отогнать ее подальше от дома, тогда у нас останется шанс.
Бирюзовая машина все еще была на месте, когда миссис Харрис уехала. Я опять смотрела на нее в окно, отбивая нетерпеливую дробь по подоконнику. Хотя на часах было всего без четверти пять, я с радостью заметила, что небо начинает темнеть. На западе солнце еще пробивалось сквозь облака лучами театрального прожектора, но с востока быстро надвигались черные дождевые тучи, погружая поля в преждевременную ночь. К семи должно было стемнеть окончательно.
Капли дождя вдруг застучали в стекло, и от неожиданности я даже вздрогнула. Темные тучи спешно завоевывали небесное пространство, поглощая островки света один за другим; и вся эта сцена — огромное небо, разделенное почти пополам на белое и черное, — напомнила мне одну из аллегорических картин девятнадцатого века, которую можно было бы назвать «Борьбой Добра со Злом».
Вот еще один робкий солнечный луч пал жертвой наступающей темноты. И выходило так, что Зло торжествует.
26
Когда в половине восьмого мама вернулась с работы, тьма уже была кромешной. Черные дождевые тучи окончательно сломили сопротивление света, но ливень, которым они угрожали, откладывался. Вместо него хозяйничал ураганный ветер, скорбно завывая в каминной трубе и сотрясая стекла окон.
Прямо с порога мама крикнула:
— Она все еще там?
— Да, — радостно закивала я головой, — на месте!
Мы сели на кухне и спешно принялись составлять план действий.
— Я все-таки не уверена, что это машина грабителя, — начала она, и было видно, как вздымается ее грудь под плотной тканью пиджака. Я закатила глаза и раздраженно всплеснула руками, что не ускользнуло от мамы, и она спешно продолжила: — Но если это все-таки его машина, не стоит оставлять ее поблизости. Думаю, нам следует отогнать ее как можно дальше, бросить где-нибудь в городе.
— Где?
Она плотно сжала губы, прежде чем ответить.
— Я подумала про «Фармерз Харвест». Там огромный паркинг и все время полно народу, так что мы сможем оставить ее там и уйти незамеченными.
Это была блестящая идея. Спрятать машину у всех на виду, а не в каком-нибудь тихом переулке, где любопытный сосед обязательно проследит из окна, спрятавшись за шторой.
— Хорошо, — сказала я. — Мне нравится план.
Мама бросила взгляд на часы и встала. Я тоже поднялась из-за стола, и у меня на мгновение закружилась голова, как будто я оказалась в лифте, который неожиданно и с огромной скоростью рванул вниз.
Она выходила из кухни, когда вдруг резко обернулась ко мне:
— И надо не забыть убрать из машины все, что может навести полицию на наш дом, прежде чем мы тронемся в путь.
Я кивнула.
— А теперь иди и переоденься в самое темное, что у тебя есть. И надень перчатки. Я тоже пойду это сделаю.
Роясь в шкафу в поисках черного свитера, черных брюк и старого черного пальто, которое носила лет с двенадцати, я ловила себя на том, что беспрерывно и нервно хихикаю в предвкушении опасности — как в детстве, когда мы играли в прятки и я слышала дыхание следопыта всего в шаге от своего укрытия. Как часто я проигрывала из-за этих смешков! Трудно было поверить, что я, как заправский грабитель, одеваюсь в черное, чтобы слиться с темнотой, натягиваю перчатки, чтобы полиция не смогла обнаружить мои отпечатки пальцев. Все это слишком напоминало кино, а вовсе не мою жизнь.
Когда мы из кухни вышли в сад, темень была такая, что хоть глаз коли. Двигаться можно было только на ощупь, и мы замерли в нерешительности, боясь ступить в пустоту и неизвестность. Луна была с осколок ногтя, да и то ее все время затягивало набегающими черными тучами, которые порывистый ветер гонял по небу, как флот из кораблей-призраков. Ночь была настолько черной, что я не могла разглядеть ни одной звезды.
Я осторожно двинулась в сторону машины, но сделала всего несколько шагов, когда услышала встревоженный голос мамы:
— Шелли! Шелли! Я ничего не вижу! Подожди меня!
Я остановилась и дождалась, пока мама схватится за меня. Я прокладывала путь, но и сама мало что видела, так что ступала с опаской. Слепой ведет слепого[4], подумала я. Не различая ориентиров, я слишком близко подошла к фруктовым деревьям и наткнулась на ветку. Она больно царапнула висок, едва не зацепив глаз, и я отпрыгнула, вскрикнув от боли, да еще и отдавила маме ногу.
— Так не пойдет! Это слишком опасно! — сказала она. Ей пришлось говорить громче, чтобы перекричать бушующий ветер. — Возвращайся в дом и принеси фонарь! Он во втором ящике под мойкой!
Я вернулась через несколько минут. Мама стояла на том же месте, где я ее оставила. Она прикрыла рукой глаза, ослепленная светом фонаря.
— Выключишь, если услышишь шум приближающейся машины, — сказала она и снова схватилась за меня. Я пошла вперед.
Фонарь был хороший, купленный на случай перебоев с электричеством, но и его мощности не хватало в этой всепоглощающей темноте. Его луч освещал площадь размером с тарелку, и наше передвижение было по-прежнему очень медленным. В свете фонаря трава казалась какой-то странной — не зеленой, а серебристой, призрачной, — а упавшие ветки напоминали руки скелета, которые тянулись вверх из-под земли. Я сразу вспомнила о грабителе, зарытом в овальном розарии. И поймала себя на мысли: что, если мертвецы оживают? Что, если мертвые на самом деле не умирают?
Я представила себе, как он бредет к нам в этой густой темноте. Я увидела его мертвое лицо, неандертальские надбровья, стеклянные глаза, сломанную челюсть, зияющую рану на шее. Я так и ждала, что в любой момент его полуистлевшая рука дотянется до меня и схватит. Я пыталась ускорить шаг, но безуспешно, потому что мама буквально висела на мне. Я старательно гнала прочь мрачные мысли, уговаривала себя, что призраков не существует, что грабителя звали Пол Дэвид Ханниган, это был худосочный двадцатичетырехлетний жулик и теперь он мертв, мертв, мертв! Но его имя, вопреки моим надеждам, не стало оберегом от страха.
Наконец мы подошли к живой изгороди, и я заглянула поверх нее. Тропинка казалась совершенно безлюдной, но, когда стих ветер, я различила какой-то странный звук — как будто что-то потрескивало и шипело, — причем совсем рядом, так что я отпрыгнула назад. Мне не сразу удалось распознать природу этого звука: то шумел водяной спринклер, орошая соседское поле. Вряд ли от него будет польза, когда разразится настоящая гроза, подумала я.
Я пробралась сквозь жесткий кустарник изгороди и ступила на травянистую обочину, мама последовала за мной. Она обошла автомобиль, встала у водительской дверцы и опробовала ключ. Я расслышала знакомый щелчок, и замок тотчас открылся. Меня так и подмывало воскликнуть: «Я же говорила! Я же говорила!», но я подавила в себе этот детский порыв. Когда мама распахнула дверцу, в салоне зажегся свет, что удивило нас обеих. Мы проскользнули в машину и, словно застигнутые врасплох слепящими лучами прожекторов, быстро захлопнули свои двери.
Какое-то время мы молча сидели в темной машине. Я слышала, как мама пытается восстановить дыхание. От запаха табака, которым насквозь пропитался салон, у меня защипало в носу.
— Ладно, — прошептала она, — посмотрим, что здесь есть. — Она принялась лихорадочно шарить по потолку в поисках выключателя подсветки. — Где же этот чертов…
— Все в порядке, мам, — сказала я. — У меня же есть фонарь. Мы им воспользуемся.
Я зажгла фонарик, и мы спешно приступили к обыску салона. В своей безумной паранойе, я все ждала, что в любой момент на тропинку свернет чья-нибудь машина. Я достала из бардачка блокнот, исписанный какими-то цифрами — видимо, расчетами, — но не тронула конфеты, сигареты, парковочные талоны и целлофановый пакетик, в котором, как мне показалось, была травка: табачного цвета кубик с острым ароматом. В водительской дверце мама обнаружила дорожный атлас и забрала его, на случай, если в нем остались какие-то инкриминирующие отметки. На заднем сиденье валялся огромный тренч цвета хаки, я свернула его и перетащила к себе на переднее сиденье. Я посветила фонариком по полу, но ничего не обнаружила, кроме оберток от шоколадок и пустой бутылки водки.
— Отнести все это домой?
— Нет, — сказала мама. Фонарь так подсвечивал ее лицо, что оно было в уродливых желтых пятнах вперемешку с черными тенями. — Это займет много времени. Просто сложи в саду, за изгородью. Мы все заберем домой, когда вернемся.
Я вышла из машины и пролезла обратно сквозь изгородь, бросив блокнот с атласом на траву и накрыв их сверху тренчем. Нельзя было допустить, чтобы их сдуло ветром.
Как только я вернулась в машину, мама попыталась завести двигатель, но у нее так тряслись руки, что она никак не могла вставить ключ в замок зажигания. Пока она возилась с ним, другие ключи из связки громко звенели. Тут я кое-что вспомнила и нежно тронула ее за плечо. Она вздрогнула и сердито посмотрела на меня.
— Мама, мама, постой. Мы не заглянули в багажник!
Она ничего не сказала. Просто вылезла из машины и обошла ее сзади. Опять началась возня с ключами, но вот я услышала, как открылась крышка багажника и в следующее мгновение снова захлопнулась. Я попыталась разглядеть маму в зеркале заднего вида, но не увидела ее. Она как будто исчезла, растворилась в ночи. Где же она? — подумала я с нарастающей тревогой. Куда она делась? Я расслышала, как что-то тяжелое прорывается сквозь кусты в наш сад, и нервно обернулась, чувствуя, как от страха у меня округляются глаза. Что это было, черт возьми?
Вдруг резко распахнулась водительская дверца, и мама снова села за руль.
— Что это был за шум? — испуганно спросила я.
— Сумка с инструментами, — ответила она, слегка запыхавшись.
— Инструменты?
— В багажнике лежали. Я перетащила их в сад. Если они будут у нас, полиции они уже не помогут. Зачем рисковать?
— Мне показалось, звук такой, будто кто-то… — Но мой голос утонул в реве ожившего двигателя. Машина тронулась с места и соскочила с обочины. Скрипнула и застонала коробка передач, пока мама пыталась переключиться на вторую скорость, и мотор оглушительно зарычал на повышенных оборотах.
— Переключи передачу, мам! Переключи передачу, ради всего святого!
— Я пытаюсь, Шелли!
— Фары! Ты забыла включить фары!
Мы двигались в темноте, глубокой и беспросветной, как открытый космос; ориентироваться было совершенно невозможно. Мама шарила рукой по приборной панели в поисках выключателя фар, но вместо него пришли в действие дворники и с бешеной скоростью заскребли по лобовому стеклу. Мама, выругавшись, остановила их и снова попыталась найти нужный рычажок. Вот включился левый поворотник, нетерпеливо мигая на приборной панели, как нервный тик. Я мысленно взмолилась: «Пожалуйста, пусть только сейчас не появится другая машина, пусть только не появится другая машина! Она же врежется прямо в нас!»
Наконец мама отыскала выключатель фар, и поток желтого света озарил страшную опасность, угрожавшую нам.
Как оказалось, мы уже съехали с тропинки и приблизились к самому краю канавы, прорытой вдоль дороги. Я закричала, и мама резко вывернула руль. Я уже думала, что сейчас передние колеса провалятся в пропасть, но каким-то чудом все четыре колеса удержались. Мы с ускорением влетели на другой берег канавы, когда мама выровняла машину после головокружительного пируэта, и вот мы уже были на асфальте. Она все-таки нашла вторую передачу, и разъяренный двигатель успокоился, как голодный зверь, которому наконец-то кинули кусок мяса.
Коварные повороты «серпантина» мы преодолевали крадучись, мама все еще сражалась с незнакомой коробкой передач. Минут через пятнадцать мы выбрались на дорогу «Б», а потом и на шоссе, идущее к городу. Когда мы покинули спасительную темноту проселочных дорог и влились в поток транспорта на ярко освещенном шоссе, я почувствовала себя уязвимой и беззащитной. Я вжалась в сиденье и прикрыла рукой лицо. Что, если следом за нами едет приятель Пола Ханнигана и он узнает машину? Что он сделает, если увидит двух незнакомых женщин, которые управляют автомобилем его друга? Я заставила себя не думать об этом…
— Ты не можешь ехать быстрее, мам? — заныла я.
— Здесь скорость тридцать, Шелли. Еще не хватало, чтобы нас остановила дорожная полиция.
Я сползла ниже.
После пятнадцати минут агонии впереди засияли огни «Фармерз Харвест».
«Фармерз Харвест» — так называлась сеть ресторанов, стилизованных под старину, где официантки были переодеты в героинь романов Томаса Харди; на стенах были развешаны конская упряжь и старинный сельскохозяйственный инвентарь; цыплят подавали тушками, а томатный соус — в маленьких пакетиках, за которые приходилось доплачивать. Но, несмотря на такую сомнительную экзотику, отбою от посетителей не было. Когда мы проезжали мимо, мама часто говорила, что этот ресторан был «живым свидетельством» правоты одного острослова, который однажды заметил: «Какой вкус у массового потребителя? Да просто отвратительный!»
Мама притормозила, подала знак поворота налево и свернула на парковку ресторана с точностью и аккуратностью водителя-ученика на экзамене, стараясь не делать ничего такого, что могло бы привлечь к нам внимание. Она проехала между рядами припаркованных машин, направляясь в дальний сектор, где было много кустов и деревьев и не так много света. Мы заехали в самую даль, но свободных мест не было.
— Только не это, — еле слышно произнесла мама. — Только не это!
Мы сделали полный круг, и ничего. Вскоре мы снова оказались перед ярко освещенным входом в ресторан.
— Делай еще круг, мам! Может, мы пропустили свободное место!
Нам пришлось уступить дорогу шумной компании. Они, похоже, шли на свадьбу — женщины в облегающих платьях «рыбий хвост» и на высоких каблуках, мужчины в костюмах, некоторые с гвоздиками в петлицах. Несмотря на их пышные наряды, было в них что-то грубое, вульгарное. Я обратила внимание на татуировки на костяшках пальцев мужчин, конские хвосты у женщин, крупные броские серьги как непременный атрибут роскоши. Они казались уже изрядно подвыпившими, глупо ухмылялись, заглядывая в окна нашей машины.
Я подумала, что они как раз из тех людей, с кем мог быть знаком Пол Ханниган. Его сальные длинные волосы и лисье лицо идеально вписывались в общий фон этой компании. Я прикрыла глаза рукой и молила только о том, чтобы никто из них не узнал машину. Какой-то молодчик с бритым черепом и ушами топориком, попыхивая зажатой в зубах сигаретой, с силой ударил кулаком по капоту нашей машины и прокричал что-то, но я не поняла. Я заерзала на сиденье, мечтая о том, чтобы оказаться где угодно… где угодно, только не там, где я находилась. Наконец я почувствовала, как машина снова медленно покатилась вперед, и, когда я осмелилась выглянуть в окно, свадебные гости уже толпились у дверей ресторана, кричали и жестикулировали, а лопоухий прямо-таки закатывался от дикого хохота — хохота, в котором было много брутальной злобы и ни капли человеческого тепла.
Мы снова двинулись на задворки паркинга, встречая таких же несчастных водителей, которые кружили в поисках свободного места. И тут я увидела одно — в середине второго от края ряда — и крикнула маме, чтобы она сдала назад.
— Я не знаю, Шелли, — сказала она. — Не уверена, что я здесь умещусь.
У мамы были большие проблемы с парковкой, и она никогда не парковала машину задним ходом, если можно было этого избежать.
— Тебе и не нужно идеально вписываться, мам. Просто вставай как сможешь, и быстро сматываемся!
Мама включила заднюю передачу и медленно двинулась на парковочное место. Однако выровнять машину ей не удалось, и пришлось выехать вперед, чтобы повторить попытку. Ей предстояло втиснуться между двумя машинами; с моей стороны это был совсем новый внедорожник. Мама снова не рассчитала траекторию и сдала вперед для второй попытки. Ее лицо было предельно сосредоточенным, напряженным. Сбоку подоспела еще одна машина, которая собиралась проехать мимо, и наши маневры перегораживали ей путь. Мама переключила передачу и снова попыталась заехать. На этот раз угол был выбран верно, и мы могли, по крайней мере, продвинуться чуть дальше назад и освободить проезжую часть. Она еще раз выехала вперед, и только после этого мы легко вписались в разметку.
Она заглушила мотор и выдохнула с огромным облегчением.
— Отлично, мам, — сказала я, а она посмотрела на меня и покачала головой, словно говоря: как в страшном сне!
С моей стороны было совсем мало свободного места, чтобы выйти из машины; с маминой стороны и того меньше, и я увидела, как мучительно она протискивается сквозь щель приоткрытой двери. Мне удалось высунуть верхнюю часть туловища, и я как раз пыталась развернуться, чтобы вытащить правую ногу, когда мир вокруг меня взорвался.
Раздался вой сирены, и вспыхнули оранжевые огни. Я огляделась по сторонам, ожидая увидеть полицейские машины, блокирующие нас со всех сторон, но ничего похожего не было. Я оцепенела, оглушенная этим звуком, и лишь тупо моргала. Медленно-медленно до меня наконец дошло, что это сработала сигнализация внедорожника.
Мама вдруг оказалась рядом со мной, решительно увлекая меня за руку. Я едва слышала, что она говорила, в этом оглушительном вое сирены.
— Не паникуй, Шелли. Иди спокойно.
Я так и сделала, хотя не сомневалась в том, что сигнализация выманит из ресторана всех посетителей, которые кинутся посмотреть, в чем дело. Но тут неожиданно все смолкло.
С невозмутимым видом мы быстрым шагом устремились вперед. И тут нас окликнул мужской голос:
— Эй! И куда это вы направились?
Мы остановились и обернулись.
Перед нами стоял владелец внедорожника, он поигрывал ключом от машины, которым только что отключил сигнализацию. Это был мужчина крепкого телосложения с бритой головой и черной козлиной бородкой.
— Вам не удастся так просто уйти, после того как вы повредили чужую машину, — грозно прорычал он.
Я приготовилась бежать. Мы ведь собирались припарковать машину незаметно, не привлекая к себе внимания. Если мы сейчас останемся, этот человек сможет описать нас полиции. Но мама, которая все так же крепко держала меня за руку, не шелохнулась.
— Что вы имеете в виду? — сказала она. — Мы не трогали вашу машину.
— Еще как трогали, — хмыкнул он. — Я наблюдал за вами. Она ударила в бок своей дверью. — Он указал на меня брутальным кивком своей лысой головы и нагнулся, чтобы осмотреть внедорожник, поглаживая его, словно ветеринар, ощупывающий бока пострадавшего породистого скакуна.
— Нет, я этого не делала, — подала я голос. — Дверца даже не коснулась вашей машины. Должно быть, я просто уперлась в нее задницей.
— Да, повреждений не видно, — произнес он с явным разочарованием, — но здесь недостаточно светло. Позвольте мне записать ваши координаты.
Этого мы не могли допустить. Это было безумием. Мы рассчитывали уйти незамеченными. Я вдруг вспомнила про фонарик в кармане.
— Вот, возьмите, — сказала я. — И убедитесь, что я не прикасалась к вашей двери.
Забирая у меня фонарь, он внимательно посмотрел на меня, и я заметила, как по его лицу пробежала тень отвращения. Моей первой мыслью было то, что он увидел мои шрамы, поэтому я растерялась, когда он показал на мой левый глаз и проворчал:
— У тебя кровь.
Я приложила руку к виску — и, конечно, на шерстяном пальце перчатки отпечаталось темное пятнышко. Ветка! Ветка, на которую я наткнулась, когда в темноте шла по саду!
Он вернулся к своей машине и принялся светить фонариком по водительской двери, придирчиво разглядывая краску. Он явно не торопился, в то время как мы с мамой стояли на ветру, совершенно растерянные, не зная, что делать дальше.
Не поднимая головы, он спросил:
— Ты всегда носишь с собой фонарь?
Я почувствовала, как запылали щеки, когда до меня дошло, какую глупость я совершила. Я отдала ему фонарик, какое безрассудство! Кто из девчонок носит в кармане такой фонарь? И тем более когда собирается ужинать в ресторане! Я в ужасе посмотрела на маму, но она лишь крепче сжала мою руку, словно говоря: все в порядке, Шелли, все нормально.
Когда он двинулся к заднему бамперу своей машины, мама — к моему изумлению — вдруг отстранилась от меня и бесстрашно шагнула к нему.
— Это абсурд! — воскликнула она. — Дверь находится здесь, но никак не там! Отдайте мне фонарь! У нас нет времени на эту ерунду!
Он вернул ей фонарь, презрительно оглядывая ее, высокомерно ухмыляясь.
— Вашей драгоценной машине не причинили никакого ущерба! Возможно, у вас слишком чувствительная сигнализация. — Она снова взяла меня за руку, и мы направились к ресторану.
— Эй! — закричал он. — Куда вы пошли? Я все-таки хочу обменяться координатами!
Мама резко развернулась:
— Мы не портили вашу идиотскую машину! И кончено!
Мы решительно двинулись вперед и почти дошли до входа в ресторан. Я увидела очередь, выстроившуюся в ожидании свободных мест; девушку, которая показалась мне школьной знакомой, она предлагала корзинку с хлебом группке японских бизнесменов в бумажных шляпах. Мы не хотели заходить в ресторан — это увеличило бы вероятность того, что нас заметят и запомнят. Я оглянулась назад. Крепыш стоял к нам спиной и, казалось, снова осматривал свою дверь, уперев руки в боки.
— Он наблюдает за нами? — спросила мама.
— Нет.
Мама тоже обернулась, чтобы убедиться, и тут же потащила меня в темную аллею позади ресторана. Нам нужно было всего лишь пройти эту аллею до конца, и она вывела бы нас на другую главную дорогу. В полумиле находилась железнодорожная станция, где мы могли бы взять такси до дома.
27
Мы вернулись в коттедж Жимолость взвинченные, в эйфории от того, что наконец-то избавились от машины грабителя и она больше не маячит перед глазами вестником несчастья.
Устроившись в гостиной, мы вновь и вновь переживали самые волнующие моменты нашей авантюры: как не могли включить фары, едва не угодили в канаву, как разоралась сигнализация соседней машины и пришлось разбираться с Человеком-внедорожником, как мы его окрестили.
— Ты была просто супер, мам, — сказала я. — Как ты на него наехала! Я никогда тебя такой не видела — такой бесстрашной. Ты была совсем другим человеком!
Мама промолчала, но я-то видела, что она гордится собой, а может, тоже слегка удивлена тем, как ей удалось выпутаться из столь сложной ситуации.
— Я хочу сказать, — продолжала я, — ведь он был жуть какой страшный! Настоящий гангстер. Лично я собиралась дать деру!
— Что ж, надо это дело отметить, — сказала мама и пошла на кухню, откуда вернулась с бутылкой вина. Она выпила три бокала, пока я смаковала первый, и не успела я возразить, как она уже откупорила следующую бутылку.
Мы были словно игроки команды-победителя или актеры после спектакля — все никак не могли успокоиться, после того как пережили такой накал страстей. Я принялась изображать маму в момент ее стычки с Человеком-внедорожником, для усиления эффекта копируя ее аристократический акцент: «У меня нет времени на эту ерунду! Мы не трогали твою идиотскую машину, ты, болван!»
— Но твоя реплика была лучшей, — сказала мама.
— Что ты имеешь в виду?
— Как ты ему сказала «Должно быть, я уперлась в нее задницей»!
Я и забыла, что действительно ляпнула это. Теперь же со мной случилась форменная истерика, я едва не лопалась от смеха, и мама, глядя на меня, тоже смеялась до упаду. Мы хохотали и хохотали, пока слезы не брызнули из глаз. В тот момент фраза «Должно быть, я уперлась в нее задницей» казалась мне самой смешной из того, что я когда-либо слышала.
Мы проболтали так долго, что лишь часам к одиннадцати приступили к осмотру того, что притащили из сада. В брезентовом мешке оказались с виду обычные рабочие инструменты, но мы предположили, что грабитель использовал их для других целей. В карманах анорака, который мама тоже прихватила из багажника, мы нашли нож Стэнли, грязный носовой платок, смятую сигарету и билет в кино. Мы пролистали дорожный атлас, но на картах не было ни одной пометки или записи, лишь на внутренней обложке какие-то телефонные номера. Как я и думала, блокнот был сплошь в математических расчетах. Мама изучила все страницы.
— Наркоманские выкладки, — сказала она. — Четверти, осьмушки, шестнадцатые. Он был не просто потребителем, но и дилером. Думаю, для человечества его смерть не великая потеря.
Ее лицо стало задумчивым. Она попыталась выпрямиться в кресле, и я поняла, что она уже изрядно навеселе.
— Знаешь, Шелли, все это может сложиться удачно для нас.
— Что ты имеешь в виду?
— Ну, сама подумай. Администрация «Фармерз Харвест» заявит в полицию о брошенном автомобиле. Полиция попытается выйти на владельца — безуспешно, — и все кончится тем, что машину конфискуют. Потом они проведут в ней обыск и обнаружат наркотики.
Я что-то не догоняла, как это сможет нам помочь, и, должно быть, растерянность на моем лице была заметна.
— Как ты думаешь, полиция будет из кожи вон лезть, чтобы найти пропавшего наркодилера? Они ведь не будут носом землю рыть, как в случае пропажи ребенка, например? Я так полагаю, наркодилеры пропадают постоянно. Просто сматывают удочки и исчезают, как только чувствуют, что полиция у них на хвосте.
— А если они подумают, что его… — слово на миг застряло в горле, — … убили?
— Ну, скорее всего, они заподозрят его дружков-дилеров, не так ли? С чего бы им подозревать нас? В машине нет ничего такого, что могло бы вывести их на нас, а машина — это единственная ниточка.
— А Человек-внедорожник? Он видел, как мы выходили из машины. Он не забудет нас после истории с сигнализацией. Мое лицо он уж точно запомнил. И сможет описать предельно точно. (Еще бы не запомнить эти шрамы.)
— Ты меня не поняла, Шелли. Я не думаю, что полиция будет так уж стараться с поиском наркодилера. Они найдут наркотики. Логично предположить, что он заранее позаботился о том, чтобы полиция никогда не нашла его самого.
— Но кто-нибудь все-таки ищет его, мам. И подаст в розыск.
(У меня в голове снова зазвучала радостная мелодия из восьми нот, эта леденящая душу музыка, привет с того света.)
— Хорошо, — сказала мама, явно тяготея к своей версии, — предположим, полиция решит, что он не покинул город после того, как запахло жареным, а действительно пропал. Тогда рассмотрим худший сценарий: Человек-внедорожник читает в газете о брошенном у «Фармерз Харвест» автомобиле и вспоминает, что это и есть та самая машина, из которой выходили мы. Ты думаешь, он из тех, кто охотно предложит полиции свою помощь?
Я пожала плечами.
— Я хочу сказать, ты же видела его, — продолжила она. — И сама говорила, что он похож на гангстера. Возможно, ты не далека от истины. Я знаю этих типов, Шелли. Знаешь, сколько таких клиентов было у меня за последние два года? Они вообще с полицией не разговаривают. Точка.
Мне этот довод показался слишком слабым, чтобы на нем строить такую уверенность, и я подумала, не вино ли говорит в маме.
Мама швырнула блокнот в кучу на полу, наклонилась вперед и нежно взяла меня за руку.
— Я думаю, что все обойдется, Шелли, — улыбнулась она. — Я думаю, мы прорвемся.
Я все-таки была настроена несколько скептически. Возможно, это были мои предрассудки или же привычка видеть во всем подвох, но от подобных разговоров мне было не по себе — казалось, что своим безрассудством мы бросаем вызов богам.
— Не знаю, — сказала я. — Наверное, не следует делать поспешных выводов, мам, нам ведь не все известно…
Мама рассмеялась:
— Твоя проблема в том, что ты насмотрелась детективов, Шелли. Ты так и ждешь, что тебя схватят, ждешь каких-то неприятных сюрпризов. В кино никто не даст преступнику уйти, потому что зрителя нужно убедить в неотвратимости наказания. Но жизнь — это не кино. И в жизни людям сплошь и рядом удается выкрутиться.
Я надеялась на ее правоту, но не хотела искушать судьбу пустыми разговорами. Рассуждать о безопасности можно было бы по прошествии месяцев, а может, и лет. А сейчас рано было о чем-то говорить. В этом деле было слишком много подводных камней. Я никак не могла избавиться от мысли, что все это кончится полицейскими мигалками во дворе нашего дома и этим противным стуком в дверь. Я предпочла сменить тему.
— Тренч… — сказала я. — Мы еще не осмотрели тренч, что валялся на заднем сиденье.
Тренч цвета хаки лежал на полу возле телевизора. Я встала и подняла его.
— Он весит тонну! — воскликнула я, протягивая его маме.
И тут жесткая материя выскользнула из моих нетвердых пальцев, плащ, который я подняла за подол, а не за воротник, развернулся, и что-то тяжелое прорвалось сквозь подкладку кармана, обрушилось мне прямо на ногу, пронзив жгучей болью, и отскочило, застучав о дощатые половицы.
В другой ситуации я бы заорала на весь дом, но сейчас просто онемела от такого сюрприза. Я плюхнулась на диван, поджав ноющие от боли пальцы, закусила губу и тупо уставилась на пистолет, валявшийся посреди гостиной.
Гроза разразилась ночью, и я долго не могла заснуть, прислушиваясь к стихии. Я еще никогда не слышала такого ливня; когда мне казалось, что гроза уже достигла пика, она становилась еще сильнее, еще громче. У меня было ощущение, что весь мир за окном моей спальни превратился в жидкость — все текло, сочилось, капало, брызгало, кровоточило.
Порывы ветра были настолько яростными, что буквально колотили в окна, и временами я боялась, что стекла не выдержат и впустят весь этот воющий хаос в дом. Как будто что-то опасное и зловещее вырвалось из заточения на волю и пустилось в бега. И усмирить этого монстра можно было только в жестокой и отчаянной схватке.
Прислушиваясь к оглушительному стуку дождя по крыше, я видела наш сад и окрестные поля, залитые водой, и представляла себе, как эти бурные потоки освобождают тело Пола Ханнигана из его грязной обители и уносят с собой, являя всему миру. Я видела, как полицейские переправляются на лодке по разлившемуся озеру и пытаются достать всплывший труп, запутавшийся в ветвях дерева…
Сорока дней и сорока ночей такого дождя было бы достаточно, чтобы утопить мир, думала я. И в страхе перед будущим мне такой вариант казался вовсе не самым плохим.
28
Каждый день я просыпалась с одной и той же мыслью: вот сегодня придет полиция.
Я видела все это будто наяву: криминалисты в белых халатах, осматривающие кухню и патио; полицейские курсанты ползают на четвереньках, методично обыскивая сад; навес, сооруженный над розарием после того, как нашли труп; мы с мамой протискиваемся сквозь толпу журналистов, осаждающих наш дом; прячемся от них под сомнительно-спасительной сенью ожидающего полицейского фургона…
В те дни я мысленно наделяла полицию сверхъестественными возможностями и интуицией. Я не прекращала анализировать ситуацию, пыталась угадать, какими уликами они на самом деле располагают (пропавший человек, брошенная машина), и действительно чувствовала, что они знают о совершенном нами преступлении. Они, как всевидящее око Господа, для которого нет никаких препятствий, посвящены в тайну того, что произошло в ту ночь в коттедже Жимолость.
И все же, к моему нескрываемому изумлению, ничего не происходило. Не было ни мигалок, ни противного стука в дверь. В последующие несколько дней наша жизнь протекала по привычному сценарию. Роджер приходил заниматься со мной по утрам, миссис Харрис — после обеда, я делала уроки до прихода мамы, играла на флейте, готовила вместе с мамой ужин, читала романы и слушала Пуччини; мама ходила на работу и ювелирно вела свои дела, старательно избегала «похотливых» ручонок Блейкли и мирилась с его дурным характером…
Началась новая неделя… и опять ничего не произошло.
Схватка с Полом Ханниганом настолько измотала меня физически, что в течение нескольких дней я просто падала от усталости. Поначалу я много спала, словно кошка, при любой возможности проваливаясь в глубокий сон, просыпаясь с ощущением сухости во рту и мутными глазами. Но как только я поборола усталость сном, у меня начались серьезные проблемы, связанные с бессонницей. Я и раньше страдала этим недугом, особенно в разгар школьной травли, но те эпизоды были безобидной малостью в сравнении с бессонными ночами, что теперь сопровождали мою жизнь.
Когда я ложилась в постель и закрывала глаза, мне с отчетливой ясностью виделось лицо Пола Ханннигана, как будто он снова стоял передо мной. Мертвенно-бледная кожа, сальные черные волосы, ниспадающие на плечи, пушок над верхней губой, тяжелые веки, готовые вот-вот сомкнуться, бешено вращающиеся глаза, как у медиума, который только что вошел в контакт с потусторонним миром. Я слышала его голос, уродливый акцент с преобладанием гласных, высокомерные интонации (Я знаю, чего я хочу, леди! Я знаю, чего хочу!). Иногда его голос звучал в моей голове так живо, что я начинала верить, будто он где-то рядом, в моей спальне, — мне даже казалось, что я улавливаю его запах, эту зловонную смесь алкоголя, сигарет и пота. Я садилась в постели и в ужасе вглядывалась в темные углы комнаты, ожидая увидеть его силуэт, который вот сейчас выйдет из тени и направится ко мне.
Я ворочалась с боку на бок, но мерзкое лисье лицо не давало мне уснуть. После трех таких ночей я рассказала обо всем маме и спросила, можно ли мне спать с ней, пока это не пройдет. Она охотно согласилась, вновь успокоив меня своей улыбкой, которая говорила: все образуется. В ту ночь, в уютных объятиях мамы, укутанная ее теплом, я не увидела лица грабителя; за этим материнским щитом я чувствовала себя в полной безопасности.
Но мама не сказала мне, что сама страдает от бессонницы, и, хотя я довольно быстро уснула в ее постели, ее беспокойное ерзанье в попытках сомкнуть глаза вскоре разбудило меня. Через несколько дней я вернулась к себе, надеясь на то, что мне удалось разорвать этот круг, но бессонница вновь поджидала меня. И я опять оказалась ее пленницей.
В конце концов мы решили прибегнуть к снотворному. Раньше мама категорически возражала против таблеток, опасаясь, что они вызовут привыкание. Но маленькие сиреневые пилюли, которые она принесла от доктора Лайла, прекрасно подействовали на меня. Я принимала одну таблетку за полчаса до сна и тут же засыпала. Постепенно я сократила дозу до половины таблетки, потом до четверти, и через неделю я уже могла засыпать минут через десять после того, как голова касалась подушки, и безо всяких лекарств.
И вот тогда пришел черед ночных кошмаров.
Поначалу это были какие-то бессвязные обрывки. Я словно порхала из одной камеры ужасов в другую, подолгу нигде не задерживаясь. Просыпаясь, я почти ничего не помнила, лишь сохранялось общее впечатление, будто всю ночь меня преследовал какой-то невидимый кошмар (мне и не нужно было его видеть, я знала, что — или, скорее, кто — это был).
Отчетливо я могу воспроизвести лишь два сюжета. В одном из них я была в гостиной, играла на флейте, когда вдруг увидела в окне лицо Пола Ханнигана, с обезображенной нижней челюстью, отвисшей, как у самого страшного призрака. В другом сне мы с мамой вытаскивали из-под кухонного стола тело грабителя, но обнаруживали, что это вовсе не Пол Ханниган, которого мы убили, а мой отец.
Этот кошмарный сон мучил меня несколько дней, и не только потому, что образ отца, лежавшего лицом вниз в луже крови, был таким отчетливым. Дело было куда хуже. Я видела в этом своего рода обвинение. Не в том ли, в конце концов, заключался смысл убийства Пола Ханнигана? Я отказывалась в это верить — ведь я не могла убить даже свои чувства к отцу, так разве посмела бы я желать его смерти?
Постепенно из разрозненных обрывков сложился цельный связный сон, который стал мне сниться каждую ночь, как будто мозг наконец отфильтровал все пережитые мною ужасы и слепил из них добротный сценарий, уже не терпящий ни малейших отступлений.
Все начиналось с идиллии — мы с мамой играли в крокет в палисаднике в погожий летний день. Мне было лет восемь, на мне любимое платьице в бело-голубую полоску (мама рассказывала, что в то время я отказывалась надевать что-либо другое). Мама тоже была совсем другой. Она выглядела так, словно только что сошла со свадебной фотографии, которая когда-то стояла на каминной полке в семейном доме; в белом летящем свадебном платье, она была чудо как молода и свежа — в волосах ни намека на седину, вокруг глаз никаких «гусиных лапок».
Мама крокировала меня, и мой шар покатился по газону. Я побежала за ним, крича ей через плечо, что она слишком хорошо играет — лучше, чем когда-либо. Крокетный шар все скакал по траве и наконец приземлился в овальном розарии. Я остановилась. Улыбка слетела с моих губ. Я не хотела подходить ближе. Я знала, что там похоронено тело грабителя. Я обернулась к маме, в надежде на то, что она разрешит мне оставить шар там, где он есть, но она вдруг оказалась далеко-далеко, в дальнем конце сада, который теперь разросся до невиданных размеров. Я позвала ее, хотя и знала, что она меня не услышит. Я решила быстро схватить шар и тотчас броситься назад, к маме. Но когда я снова повернулась к розарию, то увидела, что рядом с крокетным шаром, касаясь его, из земли высовывается зеленая разложившаяся рука грабителя.
Я знала, что нужно чем-то прикрыть руку, иначе кто-нибудь ее увидит, сообщит в полицию, и тогда нам конец. В этой сцене я, уже реального возраста, была в халате и ночной сорочке. Я сняла с себя халат и набросила его на руку. Я понимала, что это временный выход из положения, пока я не посоветуюсь с мамой. Я опустилась на колени и потянулась за шаром, но, как только я дотронулась до него, другая рука грабителя, вдруг выползшая, как змея, из могилы, схватила меня за запястье.
Эта рука была невероятно сильной. Она тянула меня вниз, прямо в грязь, и вот уже мое лицо соприкоснулось с лицом Пола Ханнигана, и я уловила его тошнотворное трупное дыхание.
— Я пытался дозвониться тебе, — сказал он, — но ты не берешь трубку.
Резкая смена кадров, и вот мы оба уже на дне могилы. Пол Ханниган лежит на мне сверху, и его руки смыкаются на моем горле — руки, которые в моих снах иногда превращались в змей или корни деревьев, но по странной логике сновидений почему-то всегда оставались руками. Надо мной было небо, в точности такое, как в ночь, когда мы отгоняли машину: грязные грозовые тучи, закрывающие звезды, луна величиной с наперсток. Я отчаянно боролась, но он легко подавлял мое сопротивление.
— На этот раз я все сделаю правильно, — злобно прохрипел он, сильнее сжимая мое горло.
Я задыхалась. Начинала терять сознание. Последним маниакальным усилием я пыталась освободиться, но опять безуспешно. Лицо — страшная маска с Хеллоуина — торжествующе ухмылялось. И тут я видела маму, которая нависала над его левым плечом, держа наготове разделочную доску. Она уже не была той молодой женщиной с фотографии; ее лицо было измученным и постаревшим, а вместо белого свадебного платья на ней был залитый кровью халат. Я знала, что она сейчас сделает. Я мысленно приказывала ей сделать это: «Ударь его! Ударь!» Но, вместо того чтобы занести над головой разделочную доску, она удалялась, повторяя снова и снова: «Я не хочу в тюрьму», пока не пропадала из виду…
Я просыпалась в холодном поту, и сердце так бешено билось в груди, что я едва успевала заглатывать воздух. Одеяло было сбито в изножье кровати, а простыня намотана вокруг моего мокрого тела.
29
Мы сложили пистолет и все другие находки из машины Пола Ханнигана в мусорные мешки и отнесли наверх. Если бы в тот момент нагрянула полиция, она бы обнаружила в гостевой комнате целый склад улик, тщательно отсортированных и готовых для передачи в суд. Прошло целых шесть дней, прежде чем мы наконец смогли избавиться от них.
И вовсе не потому, что мама презирала опасность — как раз наоборот. Она слишком серьезно относилась к этой проблеме, стремясь к тому, чтобы улики исчезли навсегда. Более того, она считала этот шаг самым важным в нашей смертельной игре с полицией, поэтому ужасно боялась допустить промашку. Она знала, что, если только полиция найдет эти мешки — а в них заляпанные кровью ночное белье, полотенца, окровавленный нож, — это подстегнет их к лихорадочным поискам убийц. Как охотничьи собаки, почуявшие след, они пустятся в погоню и обязательно отыщут свою добычу. В мусорных мешках было полно улик, каждая из которых привела бы их в коттедж Жимолость и к трупу, зарытому в розарии. Так что, пока мама мучительно принимала решение, мешки пылились в гостевой комнате, а запах крови с каждым днем становился все сильнее.
Поначалу мама склонялась к идее разбросать их по муниципальным мусоросборникам, что находились в нескольких милях от коттеджа Жимолость и на таком же расстоянии друг от друга. Тогда, как она сказала, полиция вряд ли сможет связать все восемь мешков воедино и установить их принадлежность.
Но по размышлении она решила, что этот план чересчур рискованный. «Слишком публичный», как она сказала. Кто-нибудь мог заметить, как она выбрасывает мешок, и потом описать ее внешность полиции. И даже если поблизости не оказалось бы свидетелей, ее могли бы зафиксировать камеры видеонаблюдения, которые, по словам мамы, сейчас были повсюду. Да, фотография ее лица могла получиться нечеткой, но уж номерной знак «эскорта» наверняка можно было бы прочесть, а уж по нему вычислить хозяйку не составит труда.
К тому же никто из нас не знал, что на самом деле происходит с мусором после его вывоза, — нам никогда и в голову не приходило задаваться подобными вопросами. Вполне возможно, что его перерабатывали или закапывали в землю, а может, топили где-то далеко в море, но маме не давала покоя мысль, что мешки окажутся на какой-нибудь свалке, где будут месяцами валяться под открытым небом. Достаточно было одному мешку лопнуть, и рабочий свалки непременно обратил бы внимание на окровавленные тряпки — напичканные невидимыми следами ДНК, — и тогда у полиции появилась бы та самая ниточка, которая неизбежно привела бы их к нам.
Я предложила разжечь большой костер в саду и все сжечь. Ночные сорочки, халаты, кухонные занавески, тренч — все могло бы обратиться в золу. Но мама почему-то не прониклась этой идеей. Начать с того, заметила она, что многие вещи попросту не сгорят дотла — резиновые сапоги, мобильный телефон, инструменты и конечно же пистолет, зловещий пистолет. Так что в лучшем случае костер решил бы половину проблемы. К тому же, как сказала мама, у нее не было никакого опыта разведения костров — поскольку это мужская привилегия, — и она опасалась, что огонь выйдет из-под контроля. Если бы пришлось вызывать пожарных, они бы быстро разобрались, что к чему. Но даже и без пожарных какой-нибудь сосед-фермер, завидев дым поблизости от своих угодий, мог заявиться к нам, чтобы выяснить обстановку. Он бы стал задавать вопросы, вмешиваться, учить, как правильно разжигать костер…
Мое следующее предложение сводилось к тому, чтобы сложить все в металлический кофр, что валялся у нас на чердаке, привязать к нему грузило и утопить в водохранилище в национальном парке Морсли, в восьмидесяти милях к северу. Удивительно, но и эта идея не заинтересовала маму. Я сказала, что, если ее не устраивает водохранилище, можно поехать на побережье и утопить кофр в море. «Дело не в этом, — ответила она. — Я просто не доверяю воде. Вода всегда рано или поздно выдает свои секреты».
Она произнесла это с такой убежденностью, что я подумала, будто у нее уже есть кое-какой опыт, но тут я вспомнила, что однажды ночью, когда мама не могла заснуть, она взяла почитать мою «Ребекку». Многое в моей маме было навеяно тем, что она читала в книгах. Может, это издержки культуры среднего класса? То, что людей формируют книги, а не собственно жизнь? Но возможно, мама изменилась в ту самую минуту, когда Пол Ханниган вломился в ее спальню. Кто знает, может, мы обе начали жить настоящей жизнью только после того, как на голову грабителя обрушилась разделочная доска?
Мама всерьез задумалась над идеей использования кислоты, но, так же как и костер, это было лишь частичное решение проблемы, поскольку даже самая едкая кислота не может растворить металлические инструменты или мраморную разделочную доску. Более того, кислота была крайне опасным продуктом, и одного лишь факта ее покупки в комплекте с защитными перчатками и фартуками было достаточно, для того, чтобы вызвать подозрения.
В конце концов мама решила зарыть все улики в огороде, на той самой грядке, которую мы собственноручно прокопали в лучшие времена. Нельзя сказать, чтобы она с энтузиазмом отнеслась к этой затее, но, по крайней мере, можно было убрать мешки из дома, да и в сравнении с другими вариантами риск разоблачения был наименьшим. Конечно, работа предстояла адская — мы должны были выкопать огромную яму, чтобы уместить в ней содержимое восьми мешков, — но сделать это нужно было обязательно.
Мама решила, что самые громоздкие предметы придется распилить, чтобы легче было закапывать. И вот как-то вечером, когда она вернулась с работы, мы отнесли швабру, ведро и пластиковый таз в один из сараев, который мистер Дженкинс оборудовал флуоресцентными лампами и где мама держала свой нехитрый инструмент. Мы распилили палку швабры на бруски, и после фарсовой клоунады в стиле Лорела и Харди — чудо, что наши пальцы остались целы, — нам удалось распилить литое пластиковое ведро. После таких мук перспектива проделать то же самое с тазом казалась утопией.
Когда мама достала из кармана мобильник Пола Ханнигана, у меня учащенно забилось сердце: я знала, что он лежал в том же мешке, что и бумажник. Но я быстро взяла себя в руки: она не заглядывала в бумажник, так откуда же ей знать, что из него пропало водительское удостоверение.
Конечно, она ничего не заподозрила и даже не взглянула в мою сторону, когда оставила мобильник на скамейке и принялась рыться в ящике с инструментами в поисках молотка. Ее беспокоило то, что полиция все-таки может отследить мобильник, даже если он выключен, и она настояла на том, чтобы разбить его вдребезги, «на всякий случай». Она положила мобильник на бетонный пол, встала на колени и, со странной гримасой на вспотевшем лице, в которой смешались ликование разрушителя и болезненное отвращение, раскрошила телефонный аппарат. Вспоминая другие удары в ее исполнении, я смущенно отвернулась, уставившись в затянутые паутиной углы сарая.
Но мы так и не закопали мешки в огороде. В тот вечер, когда мы настроились сделать это, мама вернулась с работы, вдохновленная совершенно новым планом действий.
30
В тот день мама встречалась с клиентом, чей двенадцатилетний сын пострадал во время школьной фотосъемки. Скамейка, на которой он стоял в одном из рядов, обрушилась, и, хотя он всего лишь упал на четвереньки, приземление оказалось неудачным, с серьезным переломом левой щиколотки.
Пока мама в обеденный перерыв просматривала медицинское заключение, ей вспомнилось другое дело, которое она вела вскоре после прихода в «Эверсонз». Тогда, тоже при падении, сломал левую щиколотку двенадцатилетний мальчик, но она никак не могла вспомнить ни имя того мальчика, ни обстоятельства инцидента. Ей захотелось порыться в старом деле, чтобы сравнить прогнозы врачей и уточнить сумму иска, но она знала, что в архиве «Эверсонз» уже не найти следов.
И лишь позже, получая инструкции от нового клиента, она все вспомнила. Пью. Томас Пью. Улыбчивый пухлый мальчик со светлой челкой. Он отдыхал с родителями в кемпинге в национальном парке Морсли и ранним утром, пока родители еще спали, решил исследовать окрестности вместе с младшим братом. В лесу они наткнулись на какие-то деревянные конструкции, которые приняли за полосу препятствий, и стали носиться между ними, гоняясь друг за другом, когда Томас вдруг как сквозь землю провалился. Первой мыслью маленького братика было то, что Томаса сразило каким-то смертоносным лучом. На самом же деле мальчик упал в одну из заброшенных медных шахт, которыми пронизаны горы заповедника. Деревянные конструкции как раз и были остатками наземных строений шахты.
И в тот момент маму осенило: заброшенные шахты и есть идеальное место, куда можно выбросить наш криминальный мусор.
Она ненадолго покинула офис и направилась в городской архив, находившийся в глубоком подвале грандиозного административного здания на центральной площади. Там она запросила копию схемы расположения старых медных шахт в национальном парке Морсли. Через полчаса у нее на руках было пять листов формата А3.
— Это просто идеально! — взволнованно воскликнула мама, когда мы после ужина расположились в гостиной. — Шахты находятся в глубине заповедника и теперь отгорожены от публики забором. Администрация парка была вынуждена пойти на эти меры после несчастного случая с Пью. Некоторые шахты действительно очень глубокие — одна из них, насколько я помню, глубиной более тысячи футов. Томас Пью упал в восьмифутовый вспомогательный ствол — если бы он провалился в главную шахту, его бы вообще никогда не нашли.
— Но как ты найдешь такую шахту, мам? — спросила я. — Ведь территория заповедника огромная.
— Мне уже приходилось бывать там, — сказала она и всем корпусом подалась ко мне, бессознательно вертя в своих больших руках пустую кофейную чашку. — Работая по делу Пью, я приезжала в парк, чтобы обследовать место происшествия. Я пробыла там целый день. Лесничие возили меня по горам на своем джипе. Да, конечно, найти шахту будет нелегко, но я уверена, что, как только окажусь на месте, я вспомню, где она. К тому же, не забывай, у меня есть карты. А там отмечено все — каждый главный ствол, вентиляционный ствол, каждый лаз, каждый штрек.
Мне все-таки хотелось допросить ее с пристрастием; я хотела найти в новом плане какой-нибудь изъян, который мама упустила из виду. Возможно, это была моя маленькая месть за то, что она так резко отклонила все мои предложения.
— А что, если власти в будущем решат вновь открыть шахты, чтобы привлечь туристов? Тогда все и всплывет.
Мама явно обрадовалась моему вопросу:
— Они не станут открывать эти шахты для туристов, я тебе обещаю.
— Почему нет?
— Потому что они отравлены, Шелли. Именно по этой причине их и закрыли в тысяча восемьсот сороковых годах — они оказались природным источником сероводорода. За те двадцать лет, что работали рудники, более пятидесяти шахтеров умерли от отравления газом. Их родственники пытались привлечь к ответственности руководство компании — ну, конечно, проиграли дело, что там говорить. Медные копи — гиблое место!
Я была вынуждена признать, что этот план показался мне наиболее привлекательным в сравнении с остальными, и уж точно он был куда предпочтительнее идеи закапывать мешки в саду. Достаточно было одного трупа Пола Ханнигана, иначе наш сад был бы перегружен семейными тайнами.
Мама не хотела, чтобы я ехала с ней в заповедник; было уже девять вечера, когда она собралась в дорогу, и она понятия не имела, когда вернется. До заповедника было полтора часа езды, а уж сколько времени ей предстояло потратить на поиски той самой шахты, имея на руках лишь пять карт местности и фонарик, одному богу было известно.
Я помогла ей перетащить мешки в машину. Мы не смогли запихнуть все в багажник, и три мешка пришлось оставить на заднем сиденье «эскорта».
— Будь осторожна, — взмолилась я, взяв ее за руки.
Мне было жутко даже представить себе маму в этом глухом лесу, глубокой ночью, лишь со слабым лучом фонаря в качестве проводника. Я уже смогла убедиться в том, как плохо она ориентируется в темноте. Перед глазами мелькали картины, одна страшнее другой: вот земля уходит у нее из-под ног, и она летит в пропасть, навстречу своей смерти в отравленной медной шахте.
Что я тогда буду делать? Что со мной станет?
— Пожалуйста, прошу тебя, будь осторожна, мама.
Она крепко обняла меня и сказала, чтобы я не волновалась, с ней все будет в порядке.
Я смотрела ей вслед, пока она медленно выезжала со двора, с выражением мрачной решимости на лице, с фонариком и рулоном карт на пассажирском сиденье. Проводив маму, я поспешила в дом, стараясь смотреть себе под ноги, чтобы на глаза случайно не попался овальный розарий.
Я села за уроки, пытаясь наверстать все, что упустила в учебе за последние несколько дней. Я только закончила писать доклад по Первой мировой войне, который задал Роджер, и меня уже поджидала еще одна письменная работа по истории, а вдобавок два эссе по английской литературе, вопрос по географии, не говоря уже о тестах по математике от миссис Харрис.
С той ночи, когда мы убили Пола Ханнигана, я не могла сконцентрироваться на учебе — каждые десять минут память возвращала меня в перевернутый вверх дном дом, заставляя снова и снова исполнять танец смерти вместе с грабителем. Из этого состояния я выходила, как из гипнотического транса, не понимая, где нахожусь. С такими перерывами эссе, на которое прежде у меня уходило два часа, теперь занимало часа четыре, а то и пять.
Я взялась за сочинение по английской литературе («Процесс превращения Макбета из человека, „молочной незлобивостью вспоенного“, в „мясника“ и „тирана“»), но, хотя и осушила целый кофейник, за целый час смогла выдавить из себя лишь страницу, да и то знала, что написанное никуда не годится. Мысли мои постоянно уносились с зачитанных страниц «Макбета», возвращаясь к маме. Где она сейчас? Что она делает в эту минуту? Я молилась, чтобы с ней ничего не случилось. Я молилась за ее безопасное возвращение.
Все кончилось тем, что я отложила сочинение в сторону (в самом деле, просто бред какой-то: «В начале пьесы Макбет предстает хорошим человеком…») и принялась машинально чертить на клочке бумаги. Совершенно не задумываясь о том, что делаю, я нарисовала «эскорт», взбирающийся вверх по горному серпантину, сосновые леса по обочинам, две длинные капли света от фар, пробивающиеся в кромешной темноте. Откуда-то сверху донесся странный стон, и я устремила взгляд в потолок. Мне вспомнился кошмарный сон, в котором обезображенное лицо Пола Ханнигана маячило в окне. Я быстро прошла в гостиную и задернула шторы, стараясь не оставить ни единой щелки, чтобы никто не мог заглянуть с улицы.
Я налила себе бокал вина (теперь в доме всегда было вино) и устроилась на диване с книгой, но дом был полон неясных звуков: наверху, как больные суставы, скрипели половицы, как будто в гостевой комнате кто-то бродил; за окном что-то шуршало, и казалось, что это шаги, а может, просто ветер гонял по гравию упавшие ветки деревьев.
Время подходило к одиннадцати, но мне было так страшно, что я боялась ложиться спать. Я обманывала себя, убеждая в том, что решила дождаться маму, и включила телевизор, чтобы заглушить назойливые звуки. Холодок пробежал по спине, когда я вдруг осознала, что впервые с тех пор, как мы убили Пола Ханнигана, я осталась дома одна в столь поздний час. Неудивительно, что я была так напугана. Почему мама не взяла меня с собой?
Я свернулась калачиком на диване и потягивала вино, стараясь гнать от себя вселяющие страх мысли (может, это он сейчас за окном — поднялся из тесной могилы и вот-вот забарабанит в дверь своими червивыми кулаками… или, хуже того, он уже прокрался в дом…).
Я щелкала пультом, переключаясь с канала на канал, но не находила ничего достойного внимания — знаменитости на необитаемом острове, конкурс на самого сильного мужчину, сериал с местом действия в госпитале, где каждая реплика, каждый жест или гримаса актеров вызывали взрыв закадрового хохота.
Шла передача о каком-то племени из Африки (или с Амазонки, я не поняла), и, за неимением лучшего, я стала вполглаза смотреть. Деревня, где жило племя, стояла на берегах реки, мутного потока желто-охристой грязи, в который дети ныряли и резвились, счастливые и радостные, как будто это была хлорированная вода английского плавательного бассейна. Документалисты показывали, как мужчины племени охотятся на диких кабанов, вооруженные самодельными луками и стрелами, как наносят на свои тела татуировку инструментом, который врезается глубоко в кожу и одновременно наполняет рану красящим пигментом. Раньше я бы уж точно не стала смотреть, как приносят в жертву богам козла, поскольку была ярой противницей жестокого обращения с животными (еще в детстве стоило мне увидеть по телевизору бой быков или охоту на лис, как я закатывалась в истерике), но в тот вечер меня это зрелище как будто и не смутило.
В конце концов, это всего лишь животное, поймала я себя на мысли, когда один из соплеменников придавил грудь козла коленями и невозмутимо перерезал ему глотку. Это всего лишь глупый козел. Его интеллект настолько низкий, что он даже не соображает, что происходит, не понимает, что такое жестокость, что такое смерть, — да что там говорить, он понятия не имеет, что такое жизнь. Испытывать сострадание к жертве можно лишь при наличии у нее ума…
Я задремала, а когда снова открыла глаза, на экране один из старейшин рассказывал о религиозных убеждениях своих соплеменников. Его слова передавали в субтитрах, но на таком бледном фоне, что трудно было прочесть. Старейшина говорил, что племя живет по соседству с дикими зверями и хорошо знает их повадки.
Каких-то животных они уважали за добрый нрав, других ненавидели за злобу и коварство. Одно из фундаментальных религиозных убеждений заключалось в том, что человек перенимает характер животного, которого убивает. Так что охотник, убивший много обезьян, становится изобретательным и умным и всегда способен рассмешить окружающих своими клоунскими выходками. Человек, истребивший много диких кабанов, непременно будет хорошим семьянином, преданным отцом и будет биться насмерть, защищая своих любимых. Он упомянул о каком-то животном, о котором я никогда не слышала, и объяснил, что его не убивают, потому что считают трусом и предателем, так что все боятся стать на него похожими. Племя верило, что в загробном мире души животных и людей переплетаются и иногда даже сливаются в единое целое. На самом деле многие из почитаемых племенем богов как раз сочетали в себе души животных и людей, как, скажем, Человек-Обезьяна или неутомимо плодовитая Женщина-Курица.
Я допила вино и вытянулась во весь рост на диване. Когда-то я уже слышала об этой теории, возможно даже, что и в школе, как дикари, убивающие льва, надеются стать такими же храбрыми. Что-то в этой идее заинтриговало меня. Я задалась вопросом: а могло ли такое случиться, что тысячи лет тому назад (когда еще и в помине не было ни полиции, ни тюрем, ни документального кино) племена верили в то, что перенимают характеры не только убитых животных, но и убитых людей? Может, в лесах остались древние могилы убитых за красивую внешность, или за интеллект, или за остроумие? А что, если это правда, сонно подумала я, что, если и в самом деле тебе передаются качества человека, которого ты убил? Станем ли мы с мамой похожими на Пола Ханнигана? Могут ли нам передаться его пороки и жестокость, как передается заразная болезнь?
Должно быть, я снова провалилась в сон, потому что в следующий раз меня разбудил звук колес маминой машины, шуршащих по гравию. Программа телепередач закончилась, на экране маячила заставка из белых облаков на голубом небе, звучала фоновая музыка. Часы на видеоприставке показывали 1:53.
Я стояла на кухне и сладко зевала, когда мама повернула ключ в замке.
— Ты почему не спишь? — шепотом спросила она, как будто было слишком поздно, чтобы говорить громче.
— Я заснула перед телевизором, — ответила я, протирая сонные глаза. — Ну как, нашла?
Мама выглядела бодрячком. Ее щеки зарозовелись от свежего воздуха. Глаза сияли.
— Да, нашла. Но должна тебе сказать, это было то еще приключение. Я думала, машина заглохнет, плутая по этим лесным тропам. Там грязи по колено — завтра с утра надо первым делом ехать на мойку. Слава богу, в лесу стоит радиомачта, она горит всю ночь. Это мне здорово помогло.
Дома, в тепле, у нее потекло из носа, и она громко шмыгнула, потянувшись в карман за платком.
— Мне вдвойне повезло, — продолжала она, сморкаясь. — Часть забора около шахты оказалась сломанной, и мне удалось подъехать на машине почти к самому входу.
Сглатывая слезы, я обняла ее и прижала к себе так крепко, как только смогла:
— Я так рада, что ты дома! Я ужасно волновалась!
Мы стояли обнявшись, и я вдыхала запах улицы, исходивший от ее пальто.
— Все позади, Шелли, — прошептала она, почти касаясь губами моего уха, от чего ощетинились волоски у меня на затылке. — Все позади! Навсегда! Они никогда не найдут!
Она обхватила мое лицо руками и внимательно вгляделась в меня. У меня слипались глаза, я не удержалась и снова широко зевнула.
— Иди, ложись, соня, — улыбнулась она. — А мне нужно перекусить и немного расслабиться перед сном.
Я поцеловала ее, пожелав спокойной ночи, и сонно поплелась к себе. Я слышала, как она достает бутылку вина из холодильника, а потом донеслось бульканье из щедро наполняемого бокала. Проходя мимо гостевой комнаты, я поразилась тому, как пусто там стало без мусорных мешков.
Я лежала в постели, ожидая прихода сна, зная, что это будет не скоро, и надеясь на то, что сегодня меня не посетит ставший уже привычным ночной кошмар. Какое же это было облегчение — сознавать, что наконец-то наш дом освободился от этой горы улик. Пусть полиция приходит завтра же, они не найдут ничего инкриминирующего. Все, что нас связывало с Полом Ханниганом, покоилось на глубине в тысячу футов, в темных лабиринтах штолен.
Или, пожалуй, почти все.
Я ведь сохранила водительское удостоверение Пола Ханнигана. Я спрятала его в своей «потайной шкатулке» в нижнем ящике комода, вместе с фотографиями отца, о которых мама не догадывалась, моим больничным идентификационным браслетом и рисунком мыши с петлей на шее.
Я и сама не знаю, почему вдруг решила сохранить водительское удостоверение, несмотря на риск, невзирая на то, что мама пришла бы в бешенство, узнай она о моей безумной выходке. Я знала только одно: мне хотелось оставить зримое свидетельство того, что события той ночи были реальностью. Я хотела иметь доказательство. Доказательство того, что человек действительно вломился в наш дом в день моего шестнадцатилетия и что мы с мамой действительно убили его.
Я думаю, мне хотелось иметь трофей.
31
Наступил май, с его день ото дня усиливающимся зноем и безоблачным голубым небом. После необычайно мягкой зимы это была самая жаркая весна на моей памяти, когда столбик термометра упорно зависал на тридцатиградусной отметке. В новостях бесконечно говорили о глобальном потеплении, о том, как неузнаваемо меняется климат, свидетельством чего были сильные снегопады в Турции, пыльные бури в Австралии, катастрофические наводнения в Центральной Европе. Один из знаменитых погодных обозревателей, расхаживая взад-вперед перед своими компьютерными картами, воскликнул: «Можете выбросить в окно свои учебники по географии! С сегодняшнего дня мир кардинально изменился! Погода сошла с ума! Повсюду сплошные аномалии! Все меняется…»
Словно получив условный сигнал, палисадник вдруг взорвался пышным цветением, и я, хоть и не испытывала симпатий к мистеру Дженкинсу, не могла не восхититься его чувством цвета, этим поистине божьим даром. Усыпанные белыми цветами роскошные кусты чубушника выгодно подчеркивали яркую голубизну цеанотуса, золотистые маки вплетались в красную валериану деликатной вышивкой, кремовые лианы альпийской дриады словно подпевали сочной желтизне древовидного пиона — вроде бы и зеркальное отражение, но не точная копия. Но самым ярким пятном был цветник с люпинами, настоящее буйство красок, напомнившее мне разноцветные стеклышки в калейдоскопе, которым мы заигрывались в детском саду.
Я восхищалась мастерством мистера Дженкинса, но восхищалась со стороны. По мере возможности я старалась держаться от палисадника как можно дальше. Даже при том, что овальный розарий утопал в розовых цветах и кусты казались одним огромным букетом, который стелился по траве подолом роскошного платья, зрелище по-прежнему вселяло в меня ужас. Для кого-то эти розы были символом любви, мне же они навевали лишь мысли о смерти. Как выглядит лицо Пола Ханнигана теперь, после того, как две-три недели пролежало в земле? И не продукты ли разложения трупа вызвали такое пышное цветение?
В доме становилось невыносимо жарко, но стоило нам открыть окна, чтобы впустить хотя бы немного свежего воздуха, как нас одолевали мухи. Даже при закрытых окнах некоторые особи все-таки находили лазейки и проникали внутрь. Я приспособилась бить их скрученным кухонным полотенцем и по вечерам удовлетворенно оценивала результаты своего труда — кучки крохотных черных трупиков под окном гостиной.
Жара набирала обороты, била все рекорды. Я ходила по дому в шортах и самых откровенных топиках, какие только могла найти. Я терпеть не могла так оголяться, выставляя на обозрение бедра и жирный живот, который, если его не втягивать, нависал над ремнем. Но в такую удушающую, липкую жару трудно было даже помыслить о том, чтобы надеть джинсы или рубашку.
Я купила маленький ручной вентилятор, который подносила к лицу в те дни, когда, казалось, из дома был выкачан весь кислород и даже самое глубокое дыхание не приносило облегчения. Осиное жужжание вентилятора ужасно раздражало миссис Харрис, но теперь она боялась говорить мне что-либо и старалась делать вид, будто ее это вовсе не беспокоит. На ее уроках я намеренно включала вентилятор, даже если в нем не было особой необходимости, просто чтобы ее позлить.
От жары у меня случился сильнейший приступ сенной лихорадки. Я не могла дышать через нос, глаза постоянно слезились. Каждый день, после полудня, начиналась пульсирующая головная боль. И вот как раз в такой подходящий момент, когда жара и сенная лихорадка достигли своего апогея, Роджер и миссис Харрис решили устроить мне пробные экзамены.
Я всячески пыталась увильнуть от этого испытания, умоляла учителей сжалиться надо мной, ссылаясь на болезненные симптомы, но они оба были непреклонны: настоящие экзамены начинаются двадцать шестого июня, и меня необходимо подготовить к ним в условиях, максимально приближенным к боевым. Я все-таки не сдавалась и пыталась стоять на своем, уверенная, что, если мне удастся отложить пробные экзамены недели на две, моя психика успеет прийти в норму. Однако Роджер отмел мои возражения:
— Ты отличница, Шелли. Ты можешь по всем предметам получить высшие баллы, даже стоя на голове. Насморк тебе не помеха.
Как я и опасалась, мои результаты оказались сплошным разочарованием. Призраки недавнего прошлого терзали меня в течение всей экзаменационной недели, обрушивали мои мысли, как детскую башню из кубиков, и заставляли выстраивать ее по новой. Хотя мне удалось получить «отлично» по английскому и истории, по математике и физике я дотянула лишь до отметки «удовлетворительно», а по всем остальным предметам получила «хорошо».
Роджера удивили мои низкие баллы по предметам миссис Харрис, но, поскольку по его дисциплинам я выступила куда лучше, расстроился он не так уж сильно. Тем более что его привели в восторг мои рассуждения о характере Макбета в экзаменационной работе по литературе.
Вышагивая вокруг стола, он взволнованно зачитывал вслух отрывки из моего эссе:
«…возможно, самое примечательное в Макбете как раз то, что у него нет характера. Он верный и в то же время вероломный; он любит свою жену, но его совсем не трогает ее смерть; он бесстрашен в бою, и он же трус в ночь убийства; он убивает беззащитную женщину и ребенка, он умирает как герой… Шекспир словно убеждает нас в том, что на самом деле люди — это не характеры, люди — это поступки. Храбрецы оборачиваются трусами, трусы становятся храбрецами, жестокие могут быть добрыми, добрые — жестокими…» Это университетский уровень знаний, Шелли, университетский уровень! — воскликнул он, стукнув по столу ладонью.
Я почувствовала на себе пристальный взгляд его зеленых глаз. И когда он снова заговорил, его тон уже был другим, доверительным.
— Откуда у тебя, столь юной девушки, такая глубокая психологическая проницательность?
В этот момент я как раз вспоминала, как мама высыпала полную лопату земли на лицо Пола Ханнигана, и нервно заерзала на стуле.
— Думаю, я знаю, — сказал он.
Я почувствовала, что краснею, и в груди все сжалось. Чтоон пытается сказать? Я лишь успела выдохнуть, когда он тихо добавил:
— ДЖЭТШ.
Стараясь не выдать своего облегчения, я кивнула головой и отвернулась, нервно теребя уголок тетрадки.
Пожалуй, кроме этого яркого пятна, поводов для праздника и не было. Миссис Харрис была совершенно деморализована моими слабыми результатами. Казалось, она решила, что я сделала это намеренно, чтобы опорочить ее репутацию компетентного преподавателя. Суетливо протирая крышку своего термоса, она с упреком посмотрела на меня и сказала:
— Я думала, мы достигли прогресса, Шелли, и в работе, и в личном плане.
Ее реплика так и повисла в воздухе, не дождавшись ответа.
Мама тоже была разочарована, очень разочарована, но изо всех сил старалась не показывать этого, даже пыталась подбадривать меня, мрачно подшучивая:
— Экзаменационная комиссия всегда накидывает лишние полбалла, если ученик страдает дислексией. Интересно, сколько накинут тебе, если узнают, что ты страдаешь посттравматическим расстройством психики после убийства человека?
Я и сама переживала из-за своей неудачи и даже втихаря всплакнула у себя в спальне. Меня бесило, что Пол Ханниган — это ничтожество! — испортил то, что должно было стать моим моментом славы, заслуженным успехом на экзаменах, который проложил бы мне дорогу в университет. В конце концов, если я слаба в учебе, на что я тогда гожусь?
В то же время во мне что-то зудело: да какое это имеет значение, черт возьми? Со дня на день явится полиция, и все будет кончено. Больше не будет никаких уроков, никаких экзаменов — вместо этого будут криминалисты на кухне; курсанты, рыскающие на четвереньках по саду; толпы орущих журналистов; рука на моей голове, заталкивающая меня на заднее сиденье полицейской машины…
Но шли неделя за неделей, а полиции все не было.
Каждый уик-энд я просматривала газеты в поисках какой-нибудь информации о Поле Ханнигане. Я точно знала, что хотела отыскать; мысленно я уже почти написала эту статью, примерно под таким заголовком: «Полиция разыскивает пропавшего мужчину»; она бы начиналась так:
Полиция обеспокоена загадочным исчезновением двадцатичетырехлетнего Пола Ханнигана. В последний раз мистера Ханнигана видели в понедельник, десятого апреля. Позднее его автомобиль был обнаружен брошенным на автостоянке у ресторана «Фармерз Харвест»…
Ниже было бы несколько слов от родственников (матери? жены?), которые обращались бы к нему с просьбой немедленно дать о себе знать, потому что они «места себе не находят», ведь «у Пола никогда не было привычки уходить из дома, не предупредив родных». И наконец, заключительный абзац, от которого у меня бы кровь застыла в жилах, который стал бы началом конца для мамы и меня:
Двенадцатого апреля автомобиль мистера Ханнигана видели неправильно припаркованным на проселочной дороге, о чем сообщил в полицию местный фермер…
Или того хуже:
Полиция разыскивает двух женщин — возможно, мать и дочь, — которых видели выходящими из машины мистера Ханнигана на автостоянке у «Фармерз Харвест» через два дня после его исчезновения; свидетель, который разговаривал с ними, предоставил полиции подробное описание женщин… расследование продолжается.
Им оставалось бы расспросить таксиста, который привез нас домой в тот вечер, и тогда они бы уж точно знали, где нас искать.
Но в газетах не было ни строчки о Поле Ханнигане, абсолютно ничего.
Конечно, это было облегчением для меня. Я вовсе не горела желанием видеть эту лисью морду, улыбающуюся мне с какой-нибудь смазанной семейной фотографии, и, разумеется, не хотела, чтобы меня арестовали. В то же время это всеобщее молчание странным образом беспокоило меня.
Мне казалось, будто страшное землетрясение обрушилось на коттедж Жимолость в первые часы моего шестнадцатого дня рождения, обвалив нам на головы потолок и стены. Но когда мы, оглушенные, шокированные, выбрались из разрушенного дома, то обнаружили, что стихийное бедствие коснулось только нас, а весь остальной мир привычно занимался своими делами. Было невозможно смириться с тем, что ударная волна той ночи больше никого не задела, это было только наше землетрясение — землетрясение тайное.
И было что-то еще в этом молчании, еще более тревожное. То, что Пол Ханниган исчез с лица земли и ни у кого это не вызвало ни малейшего сострадания или обеспокоенности, противоречило тому, во что меня учили верить, — тому, что человеческая жизнь священна.
Но ведь так не должно быть? Потеря одного человека, одного индивида, каким бы никчемным ни было его существование, должна что-то значить. Наш преподаватель по религиозному воспитанию однажды задал нам вопрос: «Представьте, что у вас появилась возможность лишить жизни совершенно постороннего человека простым нажатием кнопки на ручке вашего кресла. Вас никогда не поймают, не накажут. Сделаете вы это? Нажмете кнопку?» Я ответила выразительным «нет», потому что была убеждена в том, что гибель даже одного человека что-то да значит и со смертью этого гипотетического незнакомца наша вселенная неуловимо, но навсегда изменится к худшему.
И вот Пол Ханниган стерт с лица земли, и, насколько я могла судить, ничего не изменилось. Жизнь продолжалась как ни в чем не бывало. Об его исчезновении не раструбили национальные газеты. Да что там говорить, даже в местной прессе не было ни слова — Пол Ханниган не заслужил даже пары строчек на фоне новостей о планах муниципалитета расширить местную библиотеку, или об успехе лотереи клуба «Ротари», или об открытии двух первоклассных точек по продаже готовой еды на вынос в местном торговом центре.
Впервые в жизни я начала задумываться о том, что, возможно, потеря одного человека ничего и не значит. Возможно, смысла в ней было не больше, чем в гибели мухи, прихлопнутой на оконной раме. И быть может, сущность вселенной от этого не меняется ни на йоту.
Теперь, размышляя над вопросом учителя, я ловила себя на мысли: «А почему бы не нажать кнопку? Что от этого изменится?»
32
Время подтверждало свою репутацию лучшего целителя, и наша жизнь в коттедже Жимолость медленно возвращалась в привычное русло.
Поначалу это выражалось в каких-то мелочах: ну, скажем, мы снова перенесли свои трапезы за сосновый стол на кухне, возобновили прежний утренний ритуал — два поцелуя у порога, напоминание об осторожной езде, мамин взгляд через плечо из машины и взмах руки на выезде из ворот. Мы вынесли садовую мебель из сарая и вернули ее в патио. По вечерам за ужином мы — сначала осторожно — начали обмениваться друг с другом впечатлениями о прожитом дне, как делали это раньше. Мы снова ели спагетти «болоньезе». Как-то утром в субботу мы набрали вишни в саду и испекли роскошный пирог, который ели с ванильным мороженым — точно так, как мечтали до появления в нашей жизни непрошеного гостя. Мы снова стали брать напрокат диски, и однажды, субботним вечером, посмотрели подряд два фильма с Джорджем Клуни («О, где же ты, брат?» и «Любовь вне правил»), заедая удовольствие маслянистым попкорном.
Совершая еженедельные вылазки по магазинам, мы постепенно заменили все, что оказалось испорченным в ту ночь и закончило свой путь на дне шахты: мы купили новые занавески для кухни, посудные полотенца, швабру и ведро. Повинуясь инстинкту, который был слишком силен, чтобы ему противостоять, мы старались покупать вещи, совершенно не похожие на те, что выбросили: половик выбрали тонкий резиновый, вместо прежнего, из кокосового волокна; яркие — почти кричащие — резиновые сапоги пришли на смену старым черным. И мама даже думать не хотела о новой разделочной доске из мрамора, настояв на пластиковой дешевке из магазина уцененных товаров.
Когда были заполнены все бреши в нашем хозяйстве: появились новые банные полотенца, новые ночные сорочки, новые халаты, — я почувствовала, что наш дом пережил реконструкцию, он был восстановлен, и вместе с ним как будто и во мне все склеивалось, что крайне удивило меня. Прежде я никогда не задумывалась о том, насколько важную роль играют в нашей жизни все эти мелочи. «Пазл» сложился полностью, когда мама нашла отколотую трубу миниатюрного коттеджа в чаше с ароматной смесью и в тот же вечер села за стол и с ювелирной точностью приклеила ее на место.
Синяки на моей шее постепенно побледнели и исчезли совсем, так что я наконец могла избавиться от шарфиков, которыми приходилось заматываться к приходу Роджера и миссис Харрис. След от ушиба на копчике тоже потерял свой зловещий красный нимб и уменьшился до размеров монетки серовато-черного цвета, но потом и ее не стало. Странно, но с уходом синяков мои шрамы стали выглядеть заметно лучше. Ожоги на левой руке и правом ухе не бросались в глаза, их можно было разглядеть только при ярком свете, да и тогда они проступали лишь светлыми пятнами на коже. А рубцы на лбу и шее сменили свой цвет с темно-кофейного на медовый, и смотреть на них стало куда приятнее.
По мере того как затягивались телесные раны, восстанавливалось и душевное равновесие. Воспоминания уже не терзали меня с такой силой. Они, конечно, не оставляли меня (это был мой крест на всю жизнь), но являлись гораздо реже. Мой разум начал медленно впитывать, принимать то, что пришлось пережить. Передышки, когда я вовсе не думала о той ночи, становились все более продолжительными — десять минут, двадцать минут, полчаса, целый час. Ко мне возвращалась способность концентрировать внимание. Я уже могла написать эссе за один присест, а не урывками за несколько дней; я могла отвлечься за просмотром кинофильма и надолго забыть, кто я, где нахожусь и — о, чудо из чудес! — что натворила.
К моему великому облегчению, ночные кошмары оставили меня в покое. Очередное леденящее душу представление оказалось финальным аккордом. Конечно, мне по-прежнему снились мрачные сны (как я сижу верхом на Эмме Таунли, распластанной на полу школьного туалета, и превращаю ее голову в кровавое месиво мраморной разделочной доской), но куда важнее было то, что меня стали посещать и «нормальные» сновидения. В этих снах я, как и положено, переживала из-за приближающихся экзаменов (то я не могла прочесть задание в билете, потому что шрифт был слишком мелким; то мне задали вопрос по истории Средних веков, в то время как я готовилась к экзамену по новейшей истории). Были и комические, сюрреалистические сны (вот я иду по пустыне на ходулях, а по моей груди ползает помет хомячков; или же мама превращается в гигантскую несушку, высиживающую яйца размером с автомобиль). Появились в моей жизни и романтические сны: как я флиртую с Джорджем Клуни на заднем сиденье нью-йоркского такси (это после того, как мы с мамой в пятый раз посмотрели «Один прекрасный день»). Во сне мы с Клуни разговаривали по мобильному телефону — очевидно, с разными людьми, но на самом деле друг с другом. Он говорил: «Хочешь, чтобы я тебя поцеловал?», а я отвечала, в свою трубку: «Очень хочу». Однажды мне даже приснился сон о любви — правда, назвать его эротическим было бы честнее, — о любви — кто бы мог подумать! — с Роджером, и его откровенность настолько шокировала меня, что несколько дней мне было стыдно находиться рядом с ним.
Еще одним признаком выздоровления стал вновь проснувшийся во мне интерес к лэптопу.
С той самой ночи я не приближалась к нему. Мне не хотелось дотрагиваться до него, даже смотреть не хотелось. Он был настолько связан со всей этой историей (в каком-то смысле я даже винила его в случившемся), что достать его из серванта было для меня равносильно тому, чтобы выкопать из могилы труп Пола Ханнигана.
Однако со временем я начала потихоньку преодолевать это отвращение. Я снова вдохновлялась идеей писать на нем эссе, пользоваться Интернетом без мучительных зависаний и необъяснимых глюков, которые приходилось терпеть с нашим «динозавром». Я почему-то не сомневалась, что лэптоп поможет мне подтянуться в учебе и наверстать упущенное. И наконец, писательские амбиции, которые, собственно, и породили мечту о компьютере, вновь вернулись в мою жизнь. Я даже ловила себя на эгоистических мыслях, от которых самой становилось страшно: после всего, что мне пришлось пережить, я ведь смогу написать что-то великое? В конце концов, кто из писателей может похвастаться тем, что знает, каково это — убить человека?
Все кончилось тем, что я все-таки решилась достать его из ящика, где он лежал, так и не распакованный со дня моего рождения. Поначалу я беспокоилась, что он может быть сломан, вспоминая, как он грохнулся об землю, когда я всадила нож в спину грабителя, но лэптоп ожил, стоило мне кликнуть кнопкой включателя на боковой панели.
Как я и надеялась, лэптоп придал моему учебному процессу столь необходимое ускорение. Я перестала писать эссе по старинке и теперь готовила заметки, доклады… все на компьютере. Печатать у меня получалось намного быстрее, чем выписывать буквы девчачьим почерком с завитушками, который выработался за годы учебы в школе. Когда мамин принтер зависал, Роджер охотно уносил мою флэш-карту к себе домой и распечатывал все на своем компьютере. Он отказывался брать деньги за бумагу и чернила, и я испытывала огромную благодарность к нему — на самом деле даже больше чем благодарность, скорее, теплоту, — и это вновь убеждало меня в том, что моя способность дружить не была отравлена тем, что случилось с ДЖЭТШ.
33
Со стороны казалось, что и мама постепенно приходит в себя. Синяк под глазом уже рассосался, и она была счастлива, что больше не придется краситься на работу, маскируя следы избиения.
На работе все шло так, как будто ничего и не случилось; она урегулировала несколько мелких претензий и даже выиграла дело, которое неожиданно для всех дошло до суда. Эта победа доставила ей огромную радость, отчасти потому, что обстоятельства несчастного случая — падение на ступеньках ресторана — было трудно доказать, но главное было то, что интересы проигравшего ответчика, ресторана «Лав Шак Риб Хаус», представляла адвокатская контора «Эверсонз», где она работала прежде. Наконец-то ей удалось утереть нос своему бывшему мужу, и она пребывала в эйфории от такой удачи.
Но по некоторым признакам можно было догадаться, что под маской благополучия маме было ой как нелегко.
Снотворное, которое помогло мне справиться с бессонницей, на маму почти не действовало. Хотя она по-прежнему ложилась около одиннадцати, ей редко удавалось заснуть. Часами она ворочалась в постели, в отчаянной погоне за сном, но все без толку. В конце концов, не в силах больше терпеть бесполезность собственных усилий, она вставала и спускалась вниз. Когда я среди ночи выходила в туалет, то часто слышала звук работающего телевизора, у которого мама коротала долгие бессонные часы. Для таких, как мама, бессонница была худшей из проблем, поскольку ее невозможно было разрешить силой интеллекта, и чем больше сил ты вкладывал, тем меньше была вероятность успеха. Она пыталась перехитрить бессонницу, вместо того чтобы махнуть на нее рукой. И вышло так, что бессонница вконец добила ее.
Она возвращалась к себе в спальню часа в три ночи и к рассвету проваливалась в сон. Когда через час настойчиво звонил будильник, она просыпалась еще более измотанная, чем если бы вообще не засыпала. К завтраку она выходила с опухшими и слезящимися глазами, бледным лицом, нахмуренная — и эта морщина меж бровей не исчезала, даже когда она улыбалась. Я спрашивала: «Что, опять плохо спала?», а она отмахивалась. «Пройдет, — говорила она, — пройдет». Или же цитировала Дороти Паркер: «Как это люди умудряются спать? Я, кажется, потеряла все навыки». Но говорить об этом ей совсем не хотелось, и, если я уж очень приставала, она тут же вспыхивала и огрызалась.
Теперь мама выпивала каждый вечер, чего раньше никогда за ней не наблюдалось. Зачастую, возвращаясь с работы, она первым делом наливала себе бокал вина, а уж потом снимала пиджак и скидывала туфли. Не думаю, что она пила для удовольствия. Вино стало для нее своеобразной анестезией. Оно разгоняло страхи, которые преследовали ее, или, по крайней мере, помогало уживаться с ними. В конце концов, это она убила Пола Ханнигана вторым, смертельным ударом разделочной доски; она закапывала его труп и шарила по его пропитанным кровью карманам. Потом я стала думать, что она пьет в надежде на то, что алкоголь принесет ей долгожданный ночной покой. Чего, разумеется, этот коварный друг так и не сделал.
Если я вернулась к своей флейте практически сразу после событий той ночи, мама с тех пор ни разу не подошла к пианино. Когда я просила ее сыграть со мной дуэтом, у нее всегда находились отговорки — то она очень устала, то слишком много работы. Но я-то хорошо знала, в чем дело. Она избегала пианино, точно так же, как я избегала розария. Не «Цыганская ли свадьба» все еще звучит у нее в голове, как аккомпанемент, под который Пол Ханниган гнал нас вниз по лестнице?
Я смотрела, как она бродит туда-сюда с отверткой, лазает по стремянке, и с трудом сдерживалась, чтобы не сказать ей: еще не изобрели того замка, на который можно было бы запереть наши страхи.
Но самая тревожная перемена, которую я заметила в маме, проявилась в ее отношениях с Грэхемом Блейкли. Теперь, когда она рассказывала о своих стычках с ним, я уже не видела в ней жертву; в этих офисных войнах она была равным по силе соперником, к тому же склонным к агрессии. Она не отступала, когда он срывал на ней злость, и — к изумлению Бренды и Салли — все чаще давала ему отпор. Если бы только в этом было дело, я бы так не беспокоилась. Я уже была сыта по горло рассказами об унижениях, которым ее подвергает этот офисный Гитлер. Но в том, что она теперь могла за себя постоять, крылось нечто большее. С тех пор как между ними разгорелся тот первый крупный скандал в день моего рождения, мама как будто начала получать удовольствие от конфликтов с Блейкли. Иногда мне казалось, что она намеренно провоцирует их. И если ей удавалось вывести его из себя, она взахлеб рассказывала мне об этом за ужином, отчаянно жестикулируя, едва не смахивая со стола бокал с вином.
Однажды за ужином мы привычно делились впечатлениями, когда мама, раньше времени захихикав, объявила, что ей этот день запомнился тем, что она влепила Блейкли пощечину.
— Что ты сделала? — не поверила я своим ушам.
— Я влепила ему пощечину! — повторила она с самодовольной ухмылкой, как ребенок, гордый от своей озорной выходки.
— Что… что случилось?
— Ну, — как бы между прочим начала она, словно собиралась выдать очередную офисную сплетню, — он зашел в мой кабинет, когда я была одна, и завел разговор о летних отпусках. Как-то незаметно он оказался у меня за спиной, и мне показалось, что он хочет схватить меня за грудь. Не раздумывая, я развернулась и врезала ему по щеке!
— Мама! Кто-нибудь видел?
— Нет. Думаю, что нет.
— А он что сделал?
— Ничего! Совсем ничего. Он просто вышел, держась за щеку. Ты бы видела выражение его лица!
Я растерялась и не знала, что сказать. Воспоминание об инциденте явно возбудило ее. Она все не могла остановиться, снова и снова пересказывая подробности, заливаясь смехом каждый раз, когда начинала описывать выражение лица Блейкли.
— Он не сказал ни слова! — кричала она. — Он даже не мог поверить! Он был в шоке! Такого он уж точно не ожидал от меня!
Я смеялась вместе с ней, делая над собой усилие, но было в этой истории что-то такое, что вызывало во мне глубокую тревогу; и это чувство не покидало меня еще несколько дней. Мама всегда была спокойной и уравновешенной, и мне не хотелось, чтобы она становилась другой. Это не свойственное ей безрассудство пугало меня. Я не была уверена в том, что мне хочется нырять следом за ней в эти неизведанные глубины, которые она явно намеревалась исследовать. Меня беспокоило то, что в таком настроении она вполне могла допустить неосторожное высказывание в присутствии Бренды и Салли, и это стало бы нашим разоблачением. И еще меня раздражало то, что после всего случившегося мне удалось обрести равновесие — так почему, черт возьми, у нее это не получается?
34
В понедельник, двадцать второго мая, я начала усиленно готовиться к экзаменам, до которых оставалось пять недель, о чем напоминал мой настенный календарь, где красной ручкой были отмечены дни испытаний.
Отныне мой распорядок был строгим: подъем в семь утра и два часа самостоятельных занятий до прихода Роджера в десять. По вечерам, вместо привычных перерывов на то, чтобы встретить маму с работы, я сидела за учебниками и вставала из-за стола лишь в девять часов, к совместному позднему ужину. Я планировала заниматься и в выходные, но мама настояла на том, чтобы по крайней мере один день в неделю был полностью свободен. Так что я работала всю субботу, оставляя воскресенье для отдыха.
Поскольку основную нагрузку составляла зубрежка — утомительное занятие, требующее предельной концентрации, — я решила перенести свои учебники и тетради с обеденного стола наверх, к себе в спальню. Я решила, что там мне будет спокойнее — не надо будет отвлекаться на телефонные звонки, и мама не будет мельтешить перед глазами в поисках какой-нибудь ерунды вроде ножниц, не будет слышно, как она щелкает шариковой ручкой, просматривая в гостиной документы, не будет искушения проскользнуть на кухню за кофе или сэндвичем.
Так что отныне я потела в своей комнате, в самую жару, которая не снижалась ни на градус, и заставляла себя учить наизусть длинные отрывки из «Макбета» и неправильные французские глаголы, которым, казалось, не было конца. Снова и снова повторяя вслух, с закрытыми глазами, я наконец дословно выучила закон Бойля и закон Шарля, закон Ома и принцип Архимеда. Не расставаясь с салфетками, глотая антигистаминные препараты, которые прописал мне доктор Лайл, я заучила наизусть день, месяц и год поджога Рейхстага, вторжения в Рурскую область, пакта Келлога — Брайанда, Мюнхенского путча и похода на Рим. Пока ласточки кружили над своими гнездами в ивах за моим окном, я штудировала статистику производства кофе в Бразилии и ежегодные показатели истощения дождевых лесов, зато вскоре могла воспроизвести все цифры, не заглядывая в свои записи.
Прошло всего шесть недель — шесть коротких недель — со дня убийства Пола Ханнигана, а я уже могла думать исключительно об экзаменах. Лишь изредка я отвлекалась от своих учебников и позволяла себе вспомнить о трупе, гниющем под розовыми кустами.
Похоже, я постепенно воспринимала мамину логику, несмотря на все свои сомнения и страхи, навеянные кинофильмами, в которых непременно находится какая-то улика, помогающая разоблачить виновного. Думаю, я наконец убедилась в том, что мама изначально была права, когда говорила: мы выпутаемся.
Если полиция до сих пор не пришла к нам, значит, этого уже никогда не случится. В конце концов, машину Пола Ханнигана уже наверняка нашли — не могла же она неделями стоять у ресторана «Фармерз Харвест» незамеченной? Да и Пола Ханнигана, должно быть, объявили в розыск, ведь прошло почти два месяца. Кто-нибудь уж точно обеспокоился его исчезновением. Разве не пытались связаться с ним по телефону в то утро? Не может быть, чтобы до сих пор никто не обратился в полицию…
Выходит, мама правильно все рассчитала: полиция не связала исчезновение Пола Ханнигана с нами, и с высокой долей уверенности можно было считать, что они никогда не проведут такой параллели. А это значит, что мы действительно вышли сухими из воды.
К тому же, даже если полиция и пришла бы к нам сейчас, они бы все равно ничего не нашли. За это время кухню столько раз скребли и дезинфицировали, что там не осталось ни микрочастиц крови Пола Ханнигана, ни даже намека на его отпечатки пальцев; восемь мусорных мешков давно были убраны из гостевой комнаты, и мама так надежно и гениально спрятала их, что никому и никогда не удалось бы их найти.
Нам повезло. Нам очень повезло. Мы убили человека. Мы искромсали его ножом и забили до смерти на кафельном полу нашей кухни. И нам все сошло с рук.
35
Была суббота, двадцать седьмое мая. Я встала в семь утра, как диктовал мой строгий распорядок, накинула халат и вышла из комнаты, намереваясь выпить чашку кофе, прежде чем засесть за занятия. Я остановилась у двери маминой спальни и прислушалась. Различив ее тяжелое ровное дыхание, я улыбнулась. Уж я-то знала, как дорога была ей каждая секунда сна.
Я спускалась по лестнице, стараясь не шуметь, и только что с величайшей осторожностью обошла скрипучую четвертую ступеньку, как увидела это.
Белый прямоугольник на коврике у входной двери.
Я сразу почувствовала опасность. Почтальон никогда не приходил так рано. Значит, его доставили нарочным.
Я подняла конверт и увидела уродливое жирное пятно (сливочное масло?) на том месте, где чей-то толстый палец прижимал клейкую полоску.
Я перевернула конверт. Лицевая сторона была чистой. Я судорожно вскрыла письмо.
Внутри оказался маленький листок линованной бумаги, вырванный из секретарского блокнота. Посередине листка был текст, написанный печатными буквами умирающей шариковой ручкой. Всего несколько строчек:
Я знаю, что вы сделали.
Я знаю, что вы убили его.
Я хочу 20 000 фунтов, или я иду в полицию.
Не выходите из дома.
Я зайду сегодня.
Я бросилась вверх по лестнице и разбудила маму.
Не прошло и пяти минут, как мама уже сидела за кухонным столом, во вчерашней рабочей блузке, джинсах и коричневых ботинках, которые она надевала для пеших прогулок за городом. Она покусывала нижнюю губу, внимательно разглядывая клочок полупрозрачной дешевой бумаги. В то утро были особенно заметны мешки у нее под глазами — верный признак нездоровья. Она была задумчивой, мрачной, какой-то помятой, всклокоченной. Она не отрывала глаз от письма, даже когда потянулась за кружкой с кофе и потом поднесла ее к губам.
Я все еще была в пижаме и халате. От ужаса я словно оцепенела и даже не подумала о том, чтобы пойти переодеться. Я давно жила в страхе, что однажды наш хрупкий мир рухнет, но всегда представляла себе властный стук в дверь (вежливый, но настойчивый), офицеров в форме, с трескучими рациями, улыбки, больше похожие на еле уловимые подергивания тонких, недружелюбных губ. Но я никак не ожидала, что все кончится именно так — письмом шантажиста, подсунутым под дверь.
Пока мама в который раз перечитывала письмо, я ломала голову, пытаясь вычислить, кто мог нас шантажировать.
Я вспомнила фермера, который в то утро проезжал мимо, когда мы копали могилу в розарии, а тело Пола Ханнигана лежало рядом, лицом вниз, на траве. Мама всегда говорила, что он не мог видеть, что мы делаем, с такого расстояния, — но что, если она ошибалась? Что, если фермер видел, чем мы занимались в то утро, и вот теперь, за шесть недель взвесив все варианты, решил выжать из нас денег?
Шантажистом мог оказаться и Человек-внедорожник. Лысый, с козлиной бородкой, он выглядел типичным злодеем из «мыльной оперы», и мы определенно вызвали у него подозрения, когда сцепились с ним в тот вечер на автостоянке. Может, он учуял запах легких денег и поехал следом за нашим такси до коттеджа Жимолость. Если предположить, что он выяснил, кому принадлежит оставленная нами машина, и узнал об исчезновении Пола Ханнигана, ему, возможно, не составило труда воссоздать картину преступления.
Или шантажист тот, кто близок к нашему дому? Не могла ли я проколоться при Роджере утром после убийства, хотя и старалась вести себя как обычно? Заметил ли он пятно крови на косяке двери? Он был очень проницательным, к тому же, насколько я знала, нуждался в деньгах; в конце концов, именно по этой причине он и занимался домашним репетиторством. Но дешевая бумага, жирный отпечаток пальца, письмо, подсунутое под дверь в столь ранний час? Все это как-то не вязалось с образом утонченного интеллектуала, каким я представляла себе Роджера. В то же время если на самом деле не существует такого понятия, как «характер» (а Роджер пришел в восторг от этой идеи), значит, и от него можно было ожидать чего угодно.
— Как ты думаешь, кто это, мам?
— Не знаю, Шелли, — рассеянно произнесла она, не сводя глаз с записки шантажиста. — Не знаю.
— По-твоему, это может быть Роджер?
— Нет! — фыркнула она и покачала головой, словно отмахиваясь от этой бредовой мысли. — Это не Роджер. Определенно, не Роджер. Мы имеем дело с уголовником, обыкновенным уголовником.
— Ну, а как насчет Человека-внедорожника? Ты подумала, что он похож на уголовника, мы обе так подумали.
К этому предположению мама отнеслась более серьезно.
— Может быть, — произнесла она, но не слишком уверенно, — но я все равно не понимаю, как он мог пронюхать. О том, что случилось той ночью, знали только ты и я.
Она снова потянулась к письму, словно оно обладало неким магнетизмом, противостоять которому она была бессильна.
— Как бы то ни было, — задумчиво произнесла она, — скоро мы все узнаем.
Должно быть, по мне было видно, что я ничего не поняла, потому что она добавила:
— В письме сказано: я зайду сегодня. Кто бы это ни был, сегодня он придет сюда — к нам.
Я представила, как Человек-внедорожник важно расхаживает по кухне в черной кожаной куртке, разваливается на стуле, жует жвачку и угрожающе скалится на нас, подкрепляя каждое свое требование грубым ударом кулака по столу. Я содрогнулась от отвращения, как если бы подняла в саду камень и растревожила гнездо уховерток.
— И что же нам делать?
Мама крепко прижала к груди руки, словно ей вдруг стало холодно:
— Выбор у нас невелик, Шелли. Если шантажист пойдет в полицию, они будут вынуждены начать расследование. Придут сюда искать труп… с ордером на обыск, собаками-ищейками… Думаю, для нас это будет конец…
Я живо представила себе, как собаки яростно роют рыхлую землю розария, выкапывая большой палец руки, белый, как молодая луковица.
Мама перевела взгляд на записку и неожиданно скомкала ее в приступе злобы:
— Я не понимаю! Как он мог узнать? Мы ведь все предусмотрели! Что нас выдало? И почему сейчас — спустя почти два месяца?
Она поморщилась, допивая кофейную гущу, и нервно пробежала рукой по волосам.
— Тебе налить еще?
Она кивнула и протянула мне свою пустую кружку. Наливая кофе, я видела, как дрожит ее рука.
— Значит, действительно конец? — Я все еще не могла поверить.
Мама расправила на столе скомканную записку и снова уставилась в нее.
— Думаю, мы в ловушке, Шелли.
В ловушке. Меня поразило то, что она произнесла это слово. А собственно, чему было удивляться? Ведь мы были мыши, и вот теперь попались в мышеловку, и наши тоненькие, как спички, шейки перебиты металлической пружиной четко пополам.
— Неужели ничего нельзя сделать?
Она закрыла лицо руками и медленно опустила их вниз, пока они не оказались сложенными у подбородка, как в молитве.
— Я не вижу выхода, Шелли. Не вижу. Боюсь, выбор у нас невелик.
Я вспомнила, через что нам пришлось пройти, чтобы избежать разоблачения. Вспомнила, как мы закапывали тело Пола Ханнигана в овальном розарии, потом тащились в город на его развалюхе бирюзового цвета, выдержали стычку с Человеком-внедорожником; вспомнила ночную поездку мамы в заповедник, где она выбросила мусорные мешки в заброшенную шахту. Неужели все это было зря? И теперь нас ждет поражение, но разоблачит нас не гениальный сыщик, а какой-то подлый ничтожный шантажист?
— Какие у нас есть варианты? — спросила я и удивилась тому, как неожиданно звонко прозвучал мой голос.
Мама повернула ко мне свое красивое, но измученное лицо. Она была настолько усталой, что ей с трудом удавалось держать глаза открытыми, и это было особенно заметно в лучах весеннего солнца, которые уже пробивались в окно, заливая кухню утренним светом.
— Мы можем пойти в полицию и признаться во всем, не дожидаясь, пока сюда явится шантажист, — сказала она. — В любом случае будет лучше, если полиция узнает обо всем от нас. Признание — даже запоздалое — поможет нам в суде, когда дело дойдет до приговора.
Я опять увидела белый тент, натянутый над розарием, толпу журналистов на гравийной дорожке, заднее сиденье полицейской машины, с нагретой на солнце черной кожаной обивкой. И что будет потом? Долгие допросы в полицейском участке, унизительные фотоснимки анфас и в профиль, снятие отпечатков пальцев. И наконец, после месяцев мучительного ожидания, судебный процесс, и мы на скамье подсудимых. Ноги предательски дрожат, когда обвинитель задает вопрос, на который невозможно ответить: «Если вы действительно думали, что не совершили ничего плохого, мисс Риверс, если вы действительно думали, что действовали в пределах необходимой самообороны, почему же вы все-таки зарыли труп мистера Ханнигана в саду коттеджа Жимолость?»
Если в ночь убийства Пола Ханнигана тюрьма представлялась реальной возможностью, теперь она уж точно была неизбежностью. Средневековый ужас в двадцать первом веке. Вместо блестящей карьеры мне была уготована участь гнить в темнице бог знает сколько лет. Делить свое жизненное пространство с девицами такими жестокими и дикими, что в сравнении с ними Тереза Уотсон и Эмма Таунли показались бы ангелами. Я знала, что не смогу выжить в таких условиях. Я не смогла бы вынести зверства, мерзость и разврат. Я знала, что для меня все кончится самоубийством…
— Есть другие идеи? — спросила я, задыхаясь от внезапного приступа удушья. — Можем ли мы еще что-нибудь сделать?
Мама беспомощно пожала плечами.
— Можем заплатить двадцать тысяч фунтов, — сказала она, но это прозвучало скорее как вопрос, а не утверждение.
— Но у нас нет двадцати тысяч, — застонала я. — Это больше, чем твое жалованье за целый год. Нам сто лет искать такую сумму.
— Я могу достать деньги, Шелли, — тихо произнесла она.
— Как?
— Я могла бы взять ссуду под залог дома. Оформить закладную.
Когда я подумала, что мама отдаст все эти деньги шантажисту, мне стало не по себе. Она так много работала, во всем себе отказывала. Мысль о том, что она еще взвалит на себя такую ношу, была невыносима. К тому же наивно было бы думать, что шантажист на этом остановится. Он будет приходить за деньгами снова и снова, с каждым разом требуя большего. Нам придется прожить остаток жизни с этим отвратительным паразитом, который будет тянуть из нас жилы. Это вряд ли можно будет назвать жизнью. Скорее, самой унизительной рабской зависимостью. И страшным событиям одиннадцатого апреля уже никогда не будет конца. Они станут раной, которую шантажист будет ковырять, как только она начнет затягиваться.
— Это никогда не кончится, мама, — сказала я. — Если мы один раз заплатим ему, он будет приходить и требовать еще.
— Я знаю, Шелли, я знаю.
Глупая мысль пришла мне в голову, и я произнесла ее, даже не задумываясь:
— А как насчет отца? Может, он даст нам денег?
Мама бросила на меня взгляд, полный горечи и обиды.
— Я никогда не обращусь к нему! — прошипела она. Было совершенно понятно, что продолжать этот разговор бессмысленно.
Я ощетинилась от злости. Она вычеркивала отца из нашей жизни окончательно и бесповоротно, как если бы он умер. Но для меня он не умер. Я с трудом сдерживалась, чтобы не накричать на нее. Сейчас было не время и не место для этого спора.
Между нами повисло долгое молчание. Мама напряженно вглядывалась в записку шантажиста, как будто по-прежнему была убеждена в том, что ответ кроется где-то между строк, написанных печатными буквами шариковой ручкой.
— И это все? — наконец спросила я, все еще отказываясь верить в то, что выбранный нами путь оказался дорогой в никуда.
Мама молчала. Она опять жевала нижнюю губу и играла с клочком бумаги, сворачивая его в тонкую полоску и протягивая между пальцев правой руки. Она старательно избегала моего взгляда.
Мне захотелось заорать на нее во весь голос: «И это все? Все, что смог придумать твой блестящий ум? Это все, на что способна женщина с мозгами, для которой не существует неразрешимых проблем?»
Я с презрением смотрела на нее, беспомощную, вялую, потому что она опять плохо спала, потому что вечером опять выпила слишком много вина. Если бы она не была такой слабой, если бы не начала катиться по наклонной после того, как мы убили Пола Ханнигана, она бы не сидела сейчас такой развалиной, она бы наверняка нашла выход из нашего бедственного положения! Если бы она не была такой слабой, может быть, отец был бы сейчас с нами и защитил нас! Если бы она не была такой слабой, может, и я не была бы такой мышью — и смогла бы дать отпор тем самым девочкам, и мы бы вообще не оказались в такой ситуации!
Злость, которая охватила меня, принесла с собой и горькое признание, что, несмотря на свои шестнадцать лет, я по-прежнему видела в ней свою единственную опору и рассчитывала на то, что она защитит меня; я все еще надеялась, что она совершит материнское чудо и прогонит опасность, как дикого зверя, что караулит меня у двери. И я почувствовала, что меня предали, когда осознала, что сегодня материнского чуда не будет, не будет никакого чуда на этой кухне — лишь слишком яркое солнце и тишина, изредка нарушаемая шорохом оперившихся птенцов в гнезде под крышей.
Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем мама снова заговорила:
— Есть еще один вариант, Шелли.
— Какой? — мрачно усмехнулась я, ожидая, что это будет что-то вроде соломинки, за которую она посоветует ухватиться. — Какой, черт возьми? Что?
Мама уронила на стол записку шантажиста и заглянула мне в глаза, глубоко-глубоко. Ее лицо было мертвенно-бледным, словно посмертная маска из алебастра.
— Мы убьем его, Шелли, — произнесла она едва ли не шепотом. — Когда он придет сюда сегодня, мы убьем его.
36
Оглядываясь назад, я со странным ощущением вспоминаю, что слова мамы не шокировали меня. Я не пришла в ужас, как, наверное, следовало бы. Еще два месяца назад я бы, услышав такое, воскликнула, заикаясь от волнения: «Ты в своем уме? Что ты несешь?», — но тогда я просто сочла возможным рассмотреть эту идею, хладнокровно, бесстрастно, по существу…
И первое возражение, которое пришло мне в голову, было вовсе не из области морали, а чисто практическое. Я вспомнила Человека-внедорожника, его крепкое бульдожье телосложение, бритую голову, козлиную бородку, злобные, цепкие маленькие глазки.
— Как, мама? Как мы его убьем? Человек-внедорожник — просто буйвол, он сложен как тяжелоатлет. Разве мы справимся с ним? Грабитель был пьян и вообще плохо соображал, что делал. Человек-внедорожник — совсем другая история.
— Мы не знаем, он ли это, Шелли. Ты опять торопишься с выводами.
— Но что, если это будет он? — настаивала я, не желая сдаваться. — Что, если придет он? Этот бугай прикончит тебя одним ударом в лицо. Тебе уж точно не удастся замаскировать синяк макияжем и пойти на работу как ни в чем не бывало. Как мы сможем убить такого здоровяка?
Мама молчала. Она просто смотрела на свои большие неуклюжие руки, которые лежали на столе, как два краба, выброшенные на берег приливом. Казалось, она что-то обдумывала, взвешивала, прикидывала, постепенно приходя к решению, которое явно давалось ей нелегко.
— Есть способ, — наконец сказала она, взглянув на меня со странным выражением лица — смущенным, слегка виноватым. — Я знаю как.
— Как?
— Подожди здесь.
Она тяжело поднялась со стула и вышла из кухни. Я расслышала топот ее ботинок по лестнице, скрип половиц в ее спальне, прямо у меня над головой, а потом наступила долгая тишина.
Оставшись одна на кухне, я снова почувствовала себя незащищенной и уязвимой. Что, если Человек-внедорожник явится сейчас, пока я здесь, внизу, одна? Что, если его лицо вдруг покажется в окне кухни? От этой мысли мне стало совсем жутко, и я крепко зажмурилась, чтобы не видеть кухонного окна. В нетерпении ожидая возвращения мамы, я мысленно твердила: скорее, мама, скорее, скорее, скорее!
Жалобный писк четвертой ступеньки подсказал мне, что она спускается, и я открыла глаза.
Я удивилась, когда увидела на ней бежевую флисовую кофту, надетую поверх рубашки, ведь день обещал стать на редкость жарким. Обе ее руки были спрятаны в большой нагрудный карман-кенгуру, который как-то странно топорщился.
Мама подошла к столу и, встав лицом ко мне, медленно вынула что-то из нагрудного кармана. В это мгновение солнце заглянуло в кухонное окно, моментально ослепив меня, и, только прикрыв глаза козырьком ладони, я смогла увидеть, что она держит в протянутой руке.
— Ты не избавилась от пистолета? — задыхаясь, выпалила я, не веря глазам своим. — Ты не отвезла его в шахту?
Мама еле заметно покачала головой.
— Но почему?
— Сама не знаю, — сказала она, пожимая плечами. — После вторжения грабителя я больше не чувствовала себя в безопасности и просто не смогла расстаться с ним…
После долгой паузы она продолжила:
— А может, в глубине души знала, что он нам понадобится…
Она осторожно положила пистолет на стол и села. Я попыталась встать, но ноги стали ватными, и я снова плюхнулась на стул.
Пистолет был похож на металлического скорпиона, его смертельное жало таилось на кончике серовато-сизого хвоста. Я смотрела на него со смешанным чувством брезгливости и восхищения. Он выглядел инородным телом в нашей кухне, на фоне зеленых пластиковых мисок, кулинарных книг, настенного календаря с собачками, пробковой доски с нашими фотографиями, моих детских стикеров, — он явно был здесь не к месту, этот по-настоящему мужской предмет.
— Он заряжен?
— Да. Шесть пуль.
— Ты знаешь, как им пользоваться?
— Это не трудно, Шелли. Снимаешь предохранитель и нажимаешь на курок.
Я покачала головой, оглушенная, потрясенная. Физическое присутствие пистолета как будто открывало мне глаза на тяжесть задуманного нами преступления.
— Почему ты мне не сказала, что сохранила его?
Мама неловко заерзала на стуле и отвернулась:
— Я… я не хотела расстраивать тебя.
— Расстраивать меня?
Но меня было не провести столь деликатной уловкой: я знала, почему она скрыла это от меня, — просто она больше не доверяла мне. После событий той ночи, когда я схватила нож и бросилась в сад за Полом Ханниганом, она уже не знала, на что я способна, что могу выкинуть, если вновь окажусь в условиях экстремального стресса. А может, она боялась, что я могу застрелиться или же выстрелю в нее?
Меня задело ее недоверие, но не настолько, чтобы я не смогла оценить иронию ситуации: в то время как я считала, что мама изменилась с ночи убийства Пола Ханнигана, что в каком-то смысле стала для меня незнакомкой, чье поведение было непредсказуемым, она испытывала те же самые чувства по отношению ко мне.
— Ты должна была мне сказать, — произнесла я. — У тебя не может быть от меня секретов. Я уже не ребенок. И не психопатка.
Мама бросила на меня страдальческий взгляд, и я увидела, что она уже пожалела о своих подозрениях. Она накрыла ладонью мою руку и виновато улыбнулась:
— Ты права, Шелли. Мне следовало сказать тебе.
Я не отняла руку, но не стала прощать ее ответной улыбкой — пока не вспомнила о своем секрете, который утаила от нее. Водительское удостоверение Пола Ханнигана до сих пор лежало в моей «потайной шкатулке». Во мне заговорила совесть, и я все-таки снизошла до улыбки, которую она так ждала (все нормально, никаких обид).
Мое внимание вновь привлек пистолет, черное дуло которого было направлено прямо мне в сердце.
— Ты уверена, что знаешь, как им пользоваться? — спросила я.
— Да.
Я опять увидела Человека-внедорожника, но на этот раз не он командовал у нас на кухне. На этот раз он стоял на коленях в углу, причитая и шмыгая носом, умоляя о пощаде, а я целилась ему в голову. Что бы случилось, нажми я на курок? Было бы все как в кино? И по его лбу растеклась бы лужица клубничного джема? И глаза стекленели бы, пока отлетала его душа? А потом он свалился бы на пол бесформенной кучей?
Когда он придет сюда сегодня, мы убьем его…
Неужели мы были готовы к тому, чтобы заново пережить этот кошмар (кровь, труп, страх)? Неужели всерьез собирались совершить убийство? Потому что иначе это нельзя было назвать. В прошлый раз, с Полом Ханниганом, мы боролись за свою жизнь, мы защищались… теперь же мы готовились к преднамеренному, хладнокровному убийству.
Когда он придет сюда сегодня, мы убьем его…
Но почему мы? Почему мама не берет ответственность на себя, как в тот раз, когда она закапывала труп Пола Ханнигана или отвозила мешки в шахту? Почему она не говорит мне, чтобы я шла наверх и спряталась у себя в комнате, пока все не закончится? Я ведь не должна была находиться рядом с ней в момент убийства. Я не должна была это видеть. Разве не насмотрелась я за свою короткую жизнь? Разве не должна она уберечь меня?
Но чем дольше длилось ее задумчивое молчание, тем очевиднее было то, что она не скажет ничего подобного. Она не собиралась жертвовать собой ради меня. Казалось, она уже приняла решение: какие бы испытания ни выпали на нашу долю, нам предстояло пройти через них вместе.
— Ты действительно серьезно настроена, мама? — прохрипела я вдруг осевшим голосом.
Мама не смотрела на меня. Она потянулась к пистолету и осторожно — словно он мог ее укусить — повернула дуло кончиком пальца, обдумывая мой вопрос. Когда она убрала руку и снова взглянула на меня, пистолет был нацелен в сторону двери. Туда, откуда должен был появиться шантажист.
— Если он пойдет в полицию, для нас это будет конец, — тусклым голосом произнесла она.
Мы снова погрузились в неуютное, тревожное молчание. Как же все это некстати! Я планировала посвятить этот день глобальному потеплению, текстам по французскому, Версальскому договору. Я не могла вот так сразу переключиться на решение проблемы, которую подкинула реальная жизнь. У меня просто не было сил, чтобы покорить эту вершину. Только не сегодня, не сейчас, для меня это слишком. Я хотела вернуться к четким и решаемым задачам, которые ставились в моих учебниках.
— Но убить его? По-настоящему убить его, мама?
— Это цугцванг, — горько улыбнулась она.
— Что такое цуг…? — Я даже не запомнила слово целиком.
— Цугцванг. Это из шахмат. Положение, в котором каждый твой следующий ход оказывается невыгодным для тебя.
Я задумалась. Она была абсолютно права. Что бы мы ни решили — сдаться полиции, отдать деньги шантажисту или убить его, — мы были обречены на страдания. Все варианты были одинаково плохи. Но мы должны были что-то делать. Ход был наш.
— Мы уже по уши увязли, Шелли, — сказала мама. — Мы слишком далеко зашли, и обратного пути нет. Сдаться — это так же страшно, как (она явно не хотела произносить слово «убить»)… идти вперед.
Мы уже по уши увязли. Ее слова напомнили мне кое-что другое. Цитату из «Макбета», которую я выучила на днях. Я попыталась вспомнить, как она звучит:
…Я в кровь Так далеко зашел, что повернуть Уже не легче, чем продолжить путь…[5]Стоило мне вспомнить, в каком контексте звучат эти слова, как я расстроилась еще больше. Их произнес Макбет перед тем, как отдать приказ об убийстве жены и ребенка Макдуфа. Перед тем, как совершить свое худшее злодеяние.
— Ты бы пошла к себе, оделась, — сказала мама, нежно тронув меня за локоть. — Он может явиться в любую минуту.
— Хорошо, — вздохнула я, — но, когда я спущусь, мы снова все тщательно обсудим. На горячую голову такие дела не делаются, мы должны еще раз все обдумать, обговорить. Может, это вовсе не цугцванг. Может, есть еще какие-то варианты, до которых мы пока не додумались.
Я отодвинула стул и привстала, когда вдруг услышала шум за окном.
Я оцепенела. Мама уже порывалась спросить меня, что случилось, но я резким движением зажала ей рот рукой. Она все поняла и повернула голову, прислушиваясь; тонкие жилы на ее шее натянулись как струны. «Он не может прийти сейчас, — думала я, — это совершенно невозможно! Мы еще не готовы к встрече с ним! Я не одета! Мы не решили, что будем делать! Прошу тебя, Господи, пусть все это окажется сном!»
Но хруст гравия, скрип неисправных тормозов, затрудненное дыхание изношенного двигателя — все это не было игрой моего воображения. К дому действительно подъехала машина.
Мама тоже это услышала, и ее глаза расширились от страха — нездоровая желтая склера, исписанная красным граффити лопнувших капилляров.
— Это он! — прошептала она, и ее шепот прозвучал громче крика. — Он уже здесь!
37
— Что будем ДЕЛАТЬ, мама? — вскрикнула я, но она уже была на ногах.
Схватив со стола пистолет, она поспешно спрятала его в карман-кенгуру.
Она резко повернулась ко мне, приблизив свое лицо почти вплотную, и крепко взяла меня за запястье:
— Предоставь все мне, Шелли! Ничего не делай, ничего не говори! Я сама буду вести разговор!
Прибытие шантажиста преобразило ее. Она разом собралась, превратившись в сгусток энергии. От ее прежней усталости и апатии не осталось и следа. Она раздраженно откинула со лба прядь волос и решительным шагом прошла в гостиную. Я неуклюже поднялась со стула и покорно последовала за ней.
В столовой и гостиной было не так светло, как на кухне, солнце сюда заглядывало лишь после полудня. Камин, пианино, кресла и диван казались темными, монотонными, траурными; моим глазам не сразу удалось привыкнуть к полумраку. Мама стояла лицом к окну, и я различала лишь ее силуэт. Я вдруг почувствовала острую необходимость быть рядом с ней в момент надвигающейся опасности и направилась к ней робкой и неуверенной походкой малыша, который делает первые шаги.
Хруст гравия, скрип тормозов были слышны все отчетливее, и вот уже в поле зрения показалась машина.
Я словно приросла к полу, не в силах осмыслить то, что вижу, отказываясь верить своим глазам. Физическая невозможность этого явления почти убедила меня в том, что все это происходит не наяву, а я снова корчусь в тисках очередного кошмарного сна.
Побитый автомобиль бирюзового цвета, тот самый, от которого мы избавились несколько недель тому назад, бросив его на автостоянке у «Фармерз Харвест» — автомобиль Пола Ханнигана, — медленно тормозил позади нашего «форда-эскорт».
Пол как будто качнулся подо мной, и мне пришлось выставить одну ногу вперед, чтобы не упасть, как делают гимнасты при неудачном приземлении. Это был абсурд! Такого просто не могло быть! Мы же избавились от машины! Пол Ханниган был мертв! Как, черт возьми, его автомобиль нашел дорогу обратно, в коттедж Жимолость? Как смог найти дорогу к нам?
Значит, все это правда. Мертвые не умирают. Пол Ханниган вернулся с того света, чтобы отомстить нам за то, что мы сделали с ним.
Мама отвернулась от окна, ее лицо было мрачным, страшным, белым, как кость. Она ринулась к двери, но я преградила ей путь и схватила за руки:
— Что это, мама? Что происходит?
Она не ответила. Во дворе хлопнула дверца автомобиля.
— Я не понимаю, — заныла я. — Мы же избавились от его машины! Мы избавились от нее! Что она опять здесь делает?
Я слышала, как тяжелые шаги медленно ступают по гравию, приближаясь к двери.
— Предоставь это дело мне, Шелли.
Она освободилась от моей хватки и попыталась пройти в коридор, но я повисла на ней, хватаясь за кофту, цепляясь за ремень ее джинсов.
— Не открывай дверь, мама! — умоляла я. — Не впускай его сюда!
Мама грубо отпихнула мои руки.
— Не будь такой глупой, Шелли! — крикнула она. — Прекрати истерику! Мы должны его впустить! Этому нужно положить конец… так или иначе.
Последовал мощный удар в дверь, от которого сотряслась вся коробка и задребезжала цепочка замка.
Я вышла следом за мамой в коридор и прижалась к стене для равновесия. Я наблюдала за тем, как она открывает замки один за другим, отпирает щеколды — нижнюю, верхнюю, — и когда она распахнула входную дверь, я приготовилась к встрече с мстительным, кровавым призраком Пола Ханнигана.
38
Но это был не призрак.
Маленький, комичного вида мужчина лет пятидесяти, с необъятным животом, стоял на пороге. Он пытался замаскировать свою лысину, зачесывая на макушку длинные пряди волос, которые росли над правым ухом, и фиксируя их какой-то смазкой. Мешок двойного подбородка свисал чуть ли не до груди. Массивные очки в пластиковой оправе гнездились на носу-пуговке, с дряблой нижней губы свисала самокрутка. На нем были желтая футболка в жирных пятнах, растянутая до невозможности, мешковатые серые «треники» и стоптанные кроссовки.
Но что особенно поразило мое воображение, помимо огромного брюха, так это его руки. Они были какие-то укороченные, как у карлика, и в то же время накачанные, мускулистые, а бицепсы со вздутыми венами были украшены бирюзовыми иероглифами древних татуировок. На волосатом запястье я разглядела толстый именной браслет и еще один, медный, который, говорят, излечивает артрит. На другой руке посверкивали золотые часы «ролекс», являя собой любопытный контраст с его убогой внешностью.
Он стоял, звеня ключами от машины и мелочью в кармане, ожидая приглашения войти. Не знаю, кого рассчитывала увидеть мама, но она, казалось, опешила так же, как и я. Мы так и застыли, открыв рты, и смотрели на незнакомца.
Он вынул изо рта обслюнявленную сигарету и щелчком сбросил ее на гравий.
— Думаю, вы знаете, зачем я здесь, — сказал он, агрессивно выпячивая нижнюю челюсть.
Да, только я не знала. Мой мозг никак не мог связать эту карикатуру с бирюзовой машиной, и прошло какое-то время, прежде чем он пришел к единственно возможному выводу: что, несмотря на мои истерические ожидания, это и был шантажист.
— Вам лучше войти, — сказала мама и распахнула дверь шире, пропуская его в дом.
Толстяк прошел в коридор, и какое-то мгновение мы втроем так и стояли, переминаясь в ограниченном пространстве, смущенно и неловко, как незнакомцы в лифте. Было слышно лишь тяжелое дыхание мужчины, да вздымался его огромный живот, обтянутый желтой майкой.
Мама колебалась, явно не зная, что делать дальше. Ее рука застыла в нагрудном кармане. Она что, собиралась застрелить его прямо здесь, в коридоре? Приставить дуло к его необъятному животу и нажать на курок, прежде чем он сделает еще один шаг? Но вот она опустила руку и, развернувшись, медленно пошла по коридору в сторону кухни.
Толстяк двинулся за ней, и я нехотя поплелась следом. Хотя я была всего в нескольких шагах от него, я не могла не заметить, что он хромает и его тело клонится в сторону всякий раз, когда он переносит вес на левую ногу. Одна из его кроссовок при каждом шаге издавала какой-то «пукающий» звук, похожий на гудок клоунского автомобиля.
Когда мы все оказались на кухне, мама повернулась лицом к шантажисту.
— Так я полагаю, это ваших рук дело? — сказала она, показывая записку, как директриса, распекающая нерадивого ученика.
— Конечно! — радостно подхватил он. Подойдя к стулу, на котором только что сидела мама, он спросил: — Не возражаете?
— Еще как возражаю! — рявкнула она, но он и ухом не повел.
Устроившись на стуле, он огляделся по сторонам с самодовольной улыбкой и вульгарным движением пальца поправил очки на носу.
У него было моложавое лицо, что свойственно многим тучным людям: их круглые щеки и двойные подбородки словно неподвластны времени. Сидя на стуле, который на фоне его габаритов, казалось, уменьшился до детсадовских пропорций, он напоминал монстра-переростка, лысого уголовника Билли Бантера, которому уже тесно за школьной партой. Его лицо, с пухлыми женскими губами и вздернутым носом, вполне могло сойти за лицо жертвы, мыши, если бы только к этим мягким чертам не прилагались укороченные татуированные руки. Они были совсем из другой оперы и могли бы рассказать о долгих изнурительных тренировках в спортзале, где их накачивали в смертельное оружие, о сломанных челюстях и перебитых носах. Сейчас он сложил их на животе и спокойно оглядывал маму с головы до ног.
— Ну, и что дальше, любовь моя? — сказал он. — Ты собираешься платить мне двадцать кусков или мне идти к копам?
— Я заплачу, — не колеблясь, ответила мама.
— Вот и хорошо, — просиял он. — Очень разумно. Сколько тебе нужно времени, чтобы достать деньги?
— Не знаю, — сказала она, покусывая нижнюю губу. — Я должна оформить закладную, но это не займет много времени, от силы недели две-три.
— Я могу подождать, — великодушно согласился он. — А сколько ты мне можешь дать сегодня? Прямо сейчас?
— У меня в банке тысячи полторы фунтов, — немного подумав, ответила она.
— Сможешь отдать мне их сегодня?
— Да, смогу. Если мы поедем в мой банк, в городе, я сниму в банкома… — Она запнулась и охнула: — Нет, я совсем забыла, у меня же суточный лимит по обоим счетам. Я могу снять только по три сотни с каждого.
— Для начала годится… вполне. — Он хлопнул себя по ляжкам и тепло улыбнулся мне, словно все происходящее было в порядке вещей и никому бы в голову не пришло думать иначе. — Тогда чего мы ждем?
Я поразилась его благодушию и беззаботному настроению. Он как будто и не догадывался о том, что совершает преступление. Его вовсе не мучило сознание собственной вины или совесть; со стороны могло показаться, будто он пришел забрать долг, получить от мамы деньги, которые принадлежали ему по праву.
Мама нервно прошлась по кухне и снова вернулась к столу, обеими руками вцепившись в спинку свободного стула, как птица, севшая на ветку (но что за птица — то ли певчая, попавшаяся в сети охотника, то ли стервятник, высматривающий жертву-добычу?).
— Я не собираюсь вот так запросто отдавать вам деньги! — взорвалась она.
— Не думаю, что у тебя есть выбор, любовь моя, — ответил шантажист. Младенческое лицо посуровело, а руки-убийцы угрожающе легли на кухонный стол. — Я знаю, что ты убила его. Я знаю, что ты убила Пола Ханнигана.
Это имя ни о чем не говорило маме. Зато о многом говорило мне. Прозвучавшее вслух, оно заставило меня вздрогнуть как от удара, и, хотя я стояла в другом конце кухни, подальше от них, я инстинктивно забилась еще глубже в угол.
— Прежде чем я дам вам хотя бы какие-то деньги, — храбро продолжала мама, — мне необходимо кое-что выяснить.
Толстяк издал какие-то мерзкие гортанные звуки, словно отхаркивая слизь. С удивительным проворством он достал носовой платок, выплюнул в него что-то зеленое и, скомкав платок, сунул его обратно в карман. Он раздраженно поправил очки и вопросительно взглянул на маму.
— Что именно? — произнес он. — Что выяснять? Думаю, не в вашем положении ставить условия.
— Мне необходимо знать, как вы догадались.
Он приторно захихикал.
— Это было нетрудно, — сказал он. — Я знаю, что произошло, любовь моя, потому что я был с Полом Ханниганом в ту ночь, когда он пришел вас грабить. Я был вместе с ним! Я был здесь!
39
Хотя мама изо всех сил старалась держать себя в руках, шок отразился на ее лице: глубокая борозда, подобная трещине в стене, пересекла лоб, челюсть слегка отвисла. До сих пор мы были уверены в том, что грабитель был один. Нам даже в голову не пришло, что у него мог быть сообщник. Но именно это утверждал толстый клоун, который сидел у нас на кухне.
— Я хочу знать все, — сказала мама, на удивление быстро придя в себя. — Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что произошло в ту ночь.
— Ты хочешь знать все, — эхом отозвался толстяк.
— Да.
— А зачем тебе это?
— Чтобы жить дальше, чтобы забыть это, как страшный сон. Я должна знать все, что происходило в ту ночь.
— Хм… все, говоришь? До мельчайших подробностей?
— Все.
— И тогда мы пойдем за деньгами?
— Да, после этого пойдем за деньгами.
— Хорошо, — сказал он, но, пожалуй, впервые его лицо омрачила тень подозрительности.
Он бросил взгляд на маму, потом на меня, словно почувствовал, что пахнет ловушкой. То, что он увидел, должно быть, успокоило его, потому что черты его лица вновь разгладились. В конце концов, какую угрозу могут представлять эта неврастеничка, серая мышь, и ее такая же неврастеничка-дочь? Он вытер руки об штаны и снова отхаркнул слизь, но на этот раз сглотнул.
— Хорошо. Значит, так. Той ночью я столкнулся с Полом Ханниганом в пабе. Был понедельник. Понедельник, десятого апреля. Я не то чтобы хорошо его знал… как-то покупал у него наркоту, да и он несколько раз приходил ко мне домой, но я бы не сказал, что мы были близкими друзьями. Скорее, знакомыми. Он в этих краях недавно, несколько месяцев. До этого сидел в тюрьме где-то на севере, а сюда приехал, как он сам сказал, в надежде на перемены в судьбе…
Перемены в судьбе случились, подумала я. Но перемены к худшему. Хуже не бывает.
— После закрытия паба мы пошли ко мне и еще выпили. В ту ночь мы действительно здорово надрались. Уговорили бутылку виски, бутылку водки, а сколько до этого в пабе выпили — одному богу известно. Ну вот, а пока пили, он все жаловался, что ему позарез нужны деньги. Сказал, что у него есть идея насчет одной работенки, но ему нужна машина, и, зная о том, что у меня машина есть, он все уговаривал меня пойти на дело вместе с ним. Идея у него была ограбить какой-нибудь уединенный домик за городом. Он говорил, что в деревне грабить легче, чем в городе, — в домах старые окна, их легко открыть, зачастую нет сигнализации, да и любопытных соседей, которые могут вызвать полицию. Как я уже сказал, я не слишком хорошо его знал и, по правде говоря, не очень-то симпатизировал ему. Было в нем что-то странное. Иногда казалось, что у него не все дома, да и болтал он чаще какую-то ерунду. В общем, непредсказуемый парень, к тому же постоянно размахивал своим охотничьим ножом, который таскал с собой повсюду. Он все пытался убедить меня в том, что сидел за убийство, что порезал кого-то, кто его надул, но от других людей я знал, что срок ему дали за торговлю наркотой. Как бы то ни было, он все приставал ко мне, чтобы я поехал с ним на дело. Рассказывал про антиквариат, который держат в этих загородных домах, говорил, что, если повезет, можно найти вещицу, которая потянет на целое состояние, и тогда можно будет надолго забыть о нужде. В общем, я был такой пьяный, что в итоге согласился. Мы договорились, что, если в доме кто-нибудь проснется, он просто их свяжет и никакого насилия не будет. Я нашел старую веревку у себя в шкафу под раковиной, мы перекусили, потому что к этому времени жутко проголодались.
Перекусили. Последний ужин Пола Ханнигана. Я вспомнила его громкую отрыжку.
Прошу прощения, леди. Не надо было есть эти яйца. Они явно протухли.
— Пол хотел сесть за руль. Он сказал, что знает, куда ехать. Я не возражал, потому что, сказать вам честно, был в куда худшем состоянии, чем он. Я был настолько пьян, что почти ничего не видел прямо перед собой, а уж вести машину в темноте точно не смог бы.
В машине меня сразу сморило, и я отрубился. Ехали мы, казалось, целую вечность, все колесили по этим сельским тропам… и тут Пол углядел ваш коттедж. Мы припарковали машину вон там. — Он ткнул пальцем в сторону проселочной дороги, где я впервые увидела машину из окна своей спальни. — Было уже поздно, где-то полчетвертого ночи. План был такой: я остаюсь в машине на стреме, а Пол идет грабить. Я должен был просигналить три раза, если увижу кого-нибудь поблизости. Пол вышел из машины, и я видел, как он пролез сквозь изгородь и оказался в саду…
Он знал дату, он знал время, он знал, где была припаркована машина. Он не лгал. Он действительно был там в ту ночь.
— Я прождал в машине целую вечность, но был так пьян, что глаза не открывались. Проснулся я оттого, что визжала какая-то девчонка и кричал Пол — звуки были слышны совсем рядом, как будто в саду. Я вышел из машины посмотреть, что там творится, и пролез через изгородь, там же, где и Пол. Я смог заглянуть на кухню — простоял у окна всего несколько секунд, но мне этого хватило. Я видел, как Пол гонялся за ней, — он кивнул в мою сторону, — вокруг стола. — Он три раза постучал по столу пальцем, словно в подтверждение своих слов.
(Удары ножом сыплются в спину грабителя. «Играем в „музыкальные стулья“! Играем в „музыкальные стулья“!» Мой нож вонзается ему в шею, и извергается гейзер яркой артериальной крови.)
— Она визжала как резаная, и я видел, что она вся в крови, — продолжал толстяк. — Я решил, что она спугнула Пола, когда он грабил дом, и парень психанул и начал резать ее своим охотничьим ножом. Я думал, что родители девчонки вот-вот прибегут ей на помощь, и Пол убьет и их тоже. Помню, я еще подумал про себя: «В нем проснулась жажда крови. Он сейчас всех в доме перебьет. Порежет на куски. Здесь будет самая настоящая резня».
Толстяк снова отхаркнул, сопровождая это свинячим хрюканьем, и поправил очки на носу.
— В общем, я запаниковал. Одно дело — грабить, но на убийство я не подписывался. И я решил сделать ноги. Но, когда вернулся к машине, вспомнил, что Пол забрал с собой мои ключи. Я никогда не умел заводить машину без ключа; кража машин — это не мое амплуа. Но из дома доносились такие жуткие крики, что я решил дать деру. В ту ночь темень была страшная, должен вам сказать, и я здорово поплутал по этим вашим просекам, но продолжал идти. Я знал одно: мне нужно убраться как можно дальше от этого дома. Как бы то ни было, я все-таки выбрался на шоссе и так и дошел до города на своих двоих. Часа три, наверное, шел. Как только я добрался до дома, сразу позвонил на мобильный Пола. Он звонил и звонил, но никто не брал трубку…
(Тихие. Сдавленные. Музыкальные ноты, похожие на трель птицы или даже насекомого. Они смолкали, но уже через несколько секунд звучали снова.)
— Я все ждал, что Пол вот-вот явится ко мне на квартиру, весь в крови, скажет, что совершил что-то ужасное, попросит спрятать его или помочь бежать из страны. Но он так и не появился. Я снова позвонил ему на мобильный, но теперь телефон был отключен. Я оставил бог знает сколько сообщений, но он так и не перезвонил. Я весь день слушал радио, ожидая новостей о кровавой бане в загородном доме, но ни о каких убийствах не говорили. Я решил, что просто еще не нашли трупы. Потом, уже прошло какое-то время, я начал думать, что он сбежал на моей машине. Побоялся возвращаться ко мне на случай, если его уже ищет полиция. В общем, я решил, что он подался на север, залег там на дно…
Странное ощущение возникло у меня, пока я слушала, как описывают совершенное мною убийство; мои руки покрылись гусиной кожей. И я не могла удержаться от мысли, что ведь все могло обернуться именно так. Одно наше неверное движение или слово — пока Пол Ханниган держал нас под прицелом своего ножа, — и все, о чем подумал в ту ночь толстяк, могло стать реальностью, и тогда во вторник утром Роджер обнаружил бы меня и маму зарезанными, как скот на бойне.
— Я был идиотом, что связался с таким отморозком. Я знал, что у него не все в порядке с головой. Теперь я боялся, что если его схватит полиция, то я окажусь втянутым в это дело и в итоге сяду за убийство. К тому же в машине остался весь мой рабочий инструмент — я ведь сантехник, — так что без него я был как без рук. Но не мог же я, в самом деле, заявить в полицию о его хищении?
Он расхохотался и посмотрел на маму, словно ожидая, что и она посмеется вместе с ним, но она стояла с каменным лицом.
— Между тем и на следующий день не было никаких сообщений об убийствах, и еще через день тоже ничего. Я рассудил, что, если Пол кого-нибудь убил, полиция уже должна быть в курсе. Так почему молчат газеты и телевидение? И вот тогда я начал думать, что, возможно, ошибаюсь и не было никакого убийства. Я снова и снова звонил Полу, но его мобильник все время был отключен. Я не знал, что делать, поэтому решил, что лучше вообще ничего не делать — просто затаиться и ждать, что будет. И вот в пятницу утром мне позвонили из полиции. Моей первой мыслью было, что они взяли Пола и тот поплыл и сдал меня. Теперь меня возьмут как соучастника убийства. Но ничего подобного. Из полиции сообщили, что к ним поступила жалоба от ресторана «Фармерз Харвест» по поводу машины, оставленной на их автостоянке. Полиция пробила номерной знак по компьютеру и вычислила меня как владельца, так что меня просили срочно забрать машину. Представьте только! Ни слова о Поле. Ни слова об убийствах. Когда я приехал за машиной, то обнаружил, что она не заперта, ключи торчат в зажигании. И из машины все исчезло! Все, за исключением пакетика с дурью, который Пол имел при себе той ночью. Мой рабочий инструмент, анорак, мой дорожный атлас, тренч Пола, который валялся на заднем сиденье…
Я увидела, как напряглась мама. Ее левая нога, бессознательно отбивавшая дробь, пока шантажист рассказывал свою сказку, вдруг замерла. Я знала, о чем она сейчас думает, потому что сама думала то же самое: знал ли он про пистолет? Но судя по тому, что он невозмутимо продолжил свой рассказ, о пистолете ему не было известно.
— …все пропало! Я не мог взять в толк, как такое могло случиться. С чего вдруг Пол решил бросить мою машину у ресторана? Почему не запер ее, оставил ключи в зажигании? Да еще наркоты на сотни фунтов в бардачке! При этом он забрал мои инструменты, хотя ему они без надобности! И почему он не позвонил мне и не рассказал, что случилось? Что за игру он затеял?
Я поспрошал у знакомых, но никто его не видел и не слышал. Он как будто испарился. Скажу вам честно, у меня от всего этого голова пошла кругом. Поэтому на следующий день, в субботу, я поехал сюда, в коттедж Жимолость. — Он произнес это изящное название с явной издевкой. — Решил посмотреть, что тут творится. Мне почему-то казалось, что тут надо искать концы.
Я припарковал машину неподалеку, под деревьями, чтобы меня никто не заметил. Не прошло и пяти минут, как я увидел вас двоих, выходящих из дома. Я узнал девчонку и убедился в том, что она цела и невредима. Я видел, как вы сели в свою машину и уехали, — еще боялся, что вы свернете в мою сторону и увидите меня, но, к счастью, вы поехали другой дорогой. Я последовал за вами в город и, когда вы остановились у супермаркета, припарковался за вами и тоже вошел в магазин — незаметно, чтобы не попасться вам на глаза. Я наблюдал, как вы делаете покупки, пытаясь подслушать, о чем вы говорите, подглядеть, может, увижу какую-нибудь подсказку…
При мысли о том, что этот зловещий клоун ехал следом за нами по лабиринту проселочных дорог, ходил за нами тенью, пока мы нагружали свою тележку, смотрел, как мы выбираем свои самые интимные принадлежности — мыло и шампуни, «тампаксы» и туалетную бумагу, — я испытала отвращение. Я вспомнила сон, который снился мне в ночь после убийства Пола Ханнигана: машина выезжает из-за угла и медленно сопровождает фургон, на котором нас везут в тюрьму, а за рулем чья-то тень. «Кто это?» — спросила во сне мама. «Тот, кто следит за нами», — ответила я. Возможно ли такое, что я с самого начала знала, что Пол Ханниган был не один, но на таком глубоком уровне подсознания, что это открылось только во сне?
— Так вот, — продолжил он, — я все не мог разобраться, что к чему. Я ведь видел девчонку, залитую кровью, я был уверен, что Пол порезал ее. И вот на тебе, она жива-здорова, ходит по магазинам, все тип-топ. А Пол исчез с лица земли. Никто его с тех пор не видел, никто о нем не слышал. Все это казалось бессмыслицей. И когда я снова попытался позвонить ему, линия была просто отрублена…
(Странная гримаса на мамином лице, когда она раскрошила мобильник ударом молотка.)
— И вот тогда я задумался о том, что, может, вы двое что-то сделали с ним.
40
Утренние облака окончательно рассеялись, и теперь кухня была залита ярким солнечным светом. Он отражался от стекол очков толстяка, так что, когда он поворачивался к окну, его глаз совсем не было видно за этими ослепительными бликами.
Кипучая энергия весеннего солнца никак не вязалась с напряженной обстановкой, царившей на кухне. Я не могла удержаться от мысли, что, если бы действие происходило в романе или кино, шантажист явился бы в разгар зловещей бури, под грохот грома и желтые вспышки молнии, под шум проливного дождя, разбивающего в пыль гравий дорожки. Но это был не вымысел, это была реальная жизнь. Вот он сидел на залитой солнцем кухне, медленно снимая швы с савана, укрывающего гнилой труп Пола Ханнигана, в то время как день за окном звал на пикники и барбекю, к мороженому на морском берегу.
Теперь он буравил маму взглядом, поддерживая руками свой живот, словно ярко-желтый пляжный мяч, который только что поймал и готовится перекинуть ей.
— Да, — сказал он, — вот тогда я начал подумывать, что вы могли сделать что-то с Полом. Я попытался вспомнить события той ночи, то, что успел увидеть в те несколько секунд, что стоял в саду, под окном кухни. Я помнил все достаточно четко, с поправкой на то, что был пьян: в кухне было светло, и Пол гонялся за девчонкой вокруг стола. Я все прокручивал в голове эту сцену. Должно быть, я все-таки что-то пропустил, потому что Пол, как выяснилось, никого не убил. Это сводило меня с ума — и тут наконец в голове что-то щелкнуло! Я раскусил, в чем дело!
Видите ли, я все время крутился вокруг Пола, пытался проанализировать, что он делал. Но когда я сосредоточился на девчонке — все, картина полностью изменилась. Уже не Пол гонялся за ней вокруг стола — это она гонялась за Полом! А если она охотилась за Полом, — добавил он с улыбкой, — вполне возможно, что на ней была его кровь.
Мамина правая рука незаметно скользнула в нагрудный карман. Я знала, что сейчас она лежит на пистолете. Снимает ли она его с предохранителя? Готовится ли к выстрелу?
Шантажист ничего не заметил. Он как ни в чем не бывало продолжал свой рассказ:
— Если в этом доме с Полом что-то случилось, я не сомневался в том, что должна остаться какая-то улика. Поэтому я решил вернуться и посмотреть, что можно найти.
Я видела, как мама выпрямила спину и подтянулась. Она знала, что он не мог найти в доме никаких улик: она сама позаботилась об этом, расставила все точки над «i». Но у меня вдруг возникло страшное предчувствие, я уже знала, что сейчас скажет шантажист, и почувствовала, как задрожали колени.
— Я видел, как в то субботнее утро вы отправились в город по магазинам, так что в следующую субботу приехал сюда, полагая, что это у вас еженедельный ритуал. И точно, около десяти утра я увидел, как ваша машина проехала мимо и вы вдвоем щебетали, как канарейки. Так что я подъехал к дому и вошел.
— Как вы попали в дом? — ужаснулась мама.
— Пол, может, и нес ерунду, но он не ошибался насчет окон в этих старых домах — их действительно легко взломать. Я заметил, что вы уже поставили новые замки на окна. Очень разумно. Как бы то ни было, я обшарил весь дом, но не смог ничего найти. Дом был чист как стеклышко, и я уже почти сдался, сказать по правде, когда вдруг нашел это…
Он подался вперед и полез в задний карман, при этом его лицо приобрело нездоровый оттенок, а дыхание стало тяжелым. Наконец он швырнул на стол розовую пластиковую карточку. Мама взяла ее в руки, явно ничего не понимая, и поднесла к глазам, вглядываясь в детскую подпись с глупыми завитушками и фотографию размером с почтовую марку, прежде чем — невольно поморщившись — догадалась, что это.
Она не смогла удержаться и бросила в мою сторону враждебный, укоряющий взгляд.
— Это водительское удостоверение Пола Ханнигана, — сказал толстяк. — Я нашел его наверху, оно было спрятано в шкатулке вашей дочери. Я сразу понял, что если оно здесь… значит, Пол Ханниган не вышел из этого дома живым.
Мама наблюдала за тем, как он пытается запихнуть водительское удостоверение обратно в карман. Казалось, она стала меньше ростом и из нее как будто выкачали весь воздух. Она тяжело опустилась на стул, словно боялась, что упадет, если не найдет опору.
Она терпела поражение от шантажиста, этой омерзительной лягушки-быка, что сидела напротив и гнусно ухмылялась. И, по иронии судьбы, удар в спину она получила от той, кого так отчаянно пыталась защитить: от меня. Это я вручила врагу ключ, позволивший ему проникнуть в нашу крепость, сломать столь тщательно выстроенную мамой оборону и вынудить нас сдаться. Она не могла скрыть своего горького разочарования, ощущения предательства.
— Было нетрудно догадаться, что произошло на самом деле, — сказал толстяк и самодовольно улыбнулся собственной прозорливости. — Вы спугнули Пола, когда он грабил дом, и завязалась драка. Каким-то образом девчонке удалось завладеть его ножом, и схватка закончилась для него смертельным исходом. Вы решили, что сможете скрыть следы преступления. Подумали, что всех перехитрите и будете спокойно жить дальше, как будто ничего не случилось. Но вы не рассчитывали на то, что придется иметь дело со мной, не так ли?
Он сцепил на затылке свои накачанные обрубки и откинулся на спинку стула.
— Бьюсь об заклад, он зарыт где-то в саду. Я прав или нет? — Он снова затрясся в противном смешке. — Да, я так и думал, — ухмыльнулся он, восприняв мамино угрюмое молчание как подтверждение своей правоты.
Он в упор уставился на маму, явно упиваясь ее страданиями. Мама уже давно вытащила руку из кармана, и она болталась безвольной плетью.
— Ну вот, — бодро произнес он, — теперь вы знаете все. Так ты собираешься платить мне двадцать кусков или мне все-таки черкнуть записочку ребятам в синей форме?
— Кому еще вы об этом рассказывали? — Мамин голос был хриплым и слабым.
— Никому, — спокойно ответил он.
— Как я могу быть в этом уверенной? — настаивала она. — Откуда мне знать, что вы не разнесли это по всем пабам? И что, если вы первый из полчища шантажистов, которые только и ждут своего часа?
— Тебе придется поверить мне на слово, — пожал он плечами, но, поразмыслив, казалось, понял, что этого недостаточно в данных обстоятельствах, и попытался предоставить дополнительные гарантии. — Послушай, любовь моя, — сказал он. — Я отмотал три долгих срока и каждый раз попадал за решетку по вине чьих-то длинных языков. С тех пор я научился держать рот на замке. И никому ничего не рассказываю.
— Почему вы так долго ждали, прежде чем прийти сюда? — спросила мама. — Ведь вы нашли водительское удостоверение… — она быстро прикинула в уме, — двадцать седьмого апреля… это почти месяц назад.
Он заговорщически подмигнул мне, как добродушный дяденька.
— А ее не проведешь, твою маму, не так ли? — Он снова повернулся к ней, и улыбка слетела с его губ. — Я лежал в больнице. У меня сердечко пошаливает. Месяц провалялся на больничной койке. Меня только позавчера выписали. Что ж, думаю, хватит разговоров. Так когда мы пойдем и снимем эти шесть сотен фунтов?
Мама словно не слышала вопроса.
— А как насчет родственников Пола Ханнигана? Его друзей? Они не будут его искать?
— У него нет родных, — отрезал он, явно начиная раздражаться. — Он был сиротой, во всяком случае, так он сам говорил. Сказал, что вырос в приюте.
— А друзья?
— Он в этом городе всего несколько месяцев. Так, обзавелся кое-какими знакомыми. Он был не из тех, кто легко заводит друзей. Пожалуй, я знал его лучше, чем кто-либо. Никто не хватится Пола Ханнигана, любовь моя, поверь мне. И никто не догадается о том, что произошло. Я — единственный, кто знает. Так что только со мной и будешь иметь дело.
Толстяк этого не понял, но все, что он сказал, лишь усиливало заманчивость убийства. Если он говорил правду, тогда он действительно был последней оставшейся уликой. Только он один. И вот теперь нам выпадал второй шанс обрубить все концы.
— Откуда мне знать, что вы не придете снова и не потребуете еще денег? — спросила мама.
Если и возможны были сомнения в том, что шантажист не остановится, его реакция на мамин вопрос начисто развеяла их. Он в гневе вскочил на ноги, опрокинув стул с таким грохотом, что я невольно заткнула уши.
— Хватит вопросов! — взревел он. Благодушный весельчак, которым он выступал только что, испарился, и теперь перед нами была уродливая сердитая маска, зловещее оплывшее лицо капризного малыша, который орал во всю глотку, добиваясь своего. Его укороченные мускулистые руки угрожающе взметнулись вверх, готовые сокрушить любого. — Я уже сыт по горло! Ты не в том положении, чтобы вообще задавать мне вопросы! И выдвигать требования!
Повисло напряженное, неловкое молчание. Я слышала, как гулко стучит мое сердце. Мама дернулась в сторону, словно уклоняясь от удара. Толстяк нависал над ней, его губы скривились, и брутальные руки будто налились смертоносной энергией. Несколько тонких прядей волос выбились из-под слоя смазки и торчали, словно антенны, над его лысым скальпом.
— Мы сейчас же едем и берем эти шесть сотен! Больше никаких вопросов! Хватит терять время!
— Не надо агрессии, — сказала мама, подняв руки в успокаивающем жесте. — Я же не отказываюсь платить. Мы сейчас поедем за деньгами…
Она встала и рассеянно огляделась по сторонам, бормоча:
— Сумка. Где моя сумка? — Она нашла ее под скамейкой, подняла с пола и перекинула через плечо. — А теперь мне нужны ключи от машины, — сказала она, похлопывая себя по карманам и снова оглядывая кухню, но на самом деле не в поисках чего-то, ее мысли были далеко.
Она пыталась что-то придумать, я была уверена в этом. Она пыталась решить, что делать: заплатить шантажисту или убить его? Продолжать жить с этим жадным чудовищем, которое будет терзать ее плоть годами, или же, как отчаянному игроку, рискнуть и разом избавиться от проблемы, достав пистолет и пристрелив гадину?
— Не беспокойся насчет ключей, — сказал толстяк. — Мы поедем на моей машине. Так будет лучше.
Он презрительно оглядел маму, и на какое-то мгновение я увидела ее его глазами: рассеянную, неорганизованную домохозяйку, глупую наседку, лакомую добычу для хищника, источник его безбедного существования на всю оставшуюся жизнь.
— Ты точно взяла все, что тебе нужно? — прорычал он. — Мне некогда мотаться с тобой взад-вперед, если вдруг обнаружится, что ты взяла не те карточки или забыла свой ПИН-код или что-то еще.
— Нет, я все взяла.
— Тогда пошли.
Он вышел из кухни, и его злоба вновь сменилась благодушием, а рука потянулась в карман играть мелочью и ключами от машины.
— Мы ненадолго, — подмигнул он мне, как старый и горячо любимый друг семьи.
Мама все еще колебалась, ее лицо было каким-то отрешенным. Она все пыталась собраться с мыслями, принять решение. Ее рука потянулась к карману-кенгуру, но она тут же отдернула ее, когда толстяк рявкнул:
— Идем! Чего ты ждешь?
Мама прошла мимо меня, глядя в пол, и проследовала за ним в коридор. Я не знала, что она собирается делать, но если она до сих пор не убила его, то уж теперь точно не убьет: стрелять в доме было куда предпочтительнее, чем на улице. Не было риска, что кто-нибудь увидит, да и выстрелы вряд ли были бы слышны. Мне ничего не оставалось, кроме как думать, что она все-таки решила ему заплатить.
Я двинулась следом за мамой, едва не наступая ей на пятки. Шантажист уже открыл дверь и вышел за порог, навстречу идиллии майского утра. Он зашагал по гравийной дорожке к своей машине, насвистывая на ходу. Он действительно насвистывал, словно ему все было нипочем! Открыв пассажирскую дверцу, он огляделся по сторонам в поисках мамы. Увидев, что она все еще мнется в дверях, он раздраженно крикнул:
— Иди же, черт возьми! Поторопись! — Он держал дверцу распахнутой, в нетерпении ожидая ее.
Мама повернулась ко мне и крепко взяла меня за плечи. Она прижалась ко мне щекой и под покровом прощального поцелуя настойчиво прошептала мне в ухо:
— Что мне делать, Шелли? Что мне делать?
Я видела перед собой шантажиста, его бульдожью шею, накачанные бицепсы, необъятное брюхо, руку, лениво почесывающую в паху, и, касаясь маминой щеки губами, изображая ответный поцелуй, ответила не колеблясь:
— Убей его, мама.
41
Мама резко отстранилась от меня и решительно вышла из дома, навстречу толстяку, на ходу перевешивая сумку с правого плеча на левое. В паре метров от него она вдруг остановилась и запустила руку в карман-кенгуру свой флисовой кофты.
Толстяк уже обходил автомобиль спереди, направляясь к водительской дверце, когда вдруг замер, увидев, что мама целится ему в голову, крепко обхватив пистолет обеими руками, прикрыв левый глаз для лучшего прицела.
Он тотчас поднял руки, сдаваясь, и прижался к переднему крылу автомобиля, отклоняясь назад, инстинктивно пытаясь увеличить расстояние между ним и пистолетом, как будто эти несколько лишних дюймов могли повлиять на смертоносную силу пули. Он сморщился, боясь даже смотреть на дуло, и отчаянно забегал глазами, стараясь встретиться взглядом с мамой, будто это могло помешать ей нажать на курок.
— Хорошо, любовь моя, — повторял он снова и снова, — хорошо, все хорошо, любовь моя, все хорошо, все хорошо.
Я застыла в дверях, мысленно приказывая маме стрелять. Она смахнула с лица завиток и сделала несколько неуверенных шагов вперед.
Толстяк пытался что-то сказать, но от испуга едва мог шевелить языком, так что его бормотание вскоре сменилось смущенным молчанием. Темное пятно расплылось у него в паху и медленно поползло вниз по штанине.
Я затаила дыхание в ожидании выстрела. Он должен прозвучать вот сейчас, в эту секунду! Но мама все не спускала курок. Я заметила, что пистолет в ее вытянутых руках начал дрожать, словно сухой сук на ветру, но смысл происходящего дошел до меня, только когда я увидела, как изменилось выражение лица шантажиста. Он по-прежнему нервно вращал глазами, но уже не потому, что боялся смотреть на пистолет, — он готовился к прыжку.
И вот тогда я поняла, что у мамы сдали нервы. Она была не в состоянии нажать на курок.
Я выбежала во двор с криками:
— Стреляй же, мама! Стреляй! Немедленно! Ну же!
Я уже была рядом с ней, кричала ей прямо в лицо, тянула за кофту. Внезапный оглушительный треск заставил меня взвизгнуть и подпрыгнуть на месте. Отдача от выстрела отбросила маму на три шага назад и развернула ее почти на сто восемьдесят градусов, так что дуло пистолета теперь было направлено в сторону окна гостиной.
Я уставилась на шантажиста, ожидая увидеть, как растекается по его лбу пятнышко клубничного джема, как медленно стекленеют его глаза, провожая отлетающую душу, как падает на землю его бесформенная туша. К моему изумлению, в его облике ничего не изменилось. Он по-прежнему стоял возле машины, выгибая спину, с поднятыми руками, и его дрожащие розовые кисти напоминали мне морских звезд.
Но он понял, что произошло — мама промахнулась, — причем понял гораздо быстрее, чем мы, и с удивительной для его габаритов скоростью оттолкнулся от машины и бросился бежать по гравийной аллее.
Мама медленно выходила из ступора, рассеянно пытаясь выровнять тяжелый пистолет и снова прицелиться.
— Стреляй, мама! Стреляй! Он уходит!
Я знала, что, как только он выбежит за ворота на общую дорогу, мы уже не сможем ничего сделать: слишком велик был риск, что нас заметят. Если бы ему удалось выбраться на дорогу, вырваться из зарослей нашего сада, он был бы в безопасности, и нам бы оставалось только ждать его кровавой мести, мести скорой, в чем я не сомневалась.
Мама прицелилась в бегущую фигуру, и последовал новый оглушительный выстрел. Белая рана открылась на стволе ясеня, и я поняла, что она снова промахнулась.
Шантажист скрылся из виду за поворотом подъездной аллеи, откуда открывался прямой путь на главную дорогу. Я лишь видела, как мелькает среди деревьев его желтая футболка. Мы с мамой бросились в погоню.
Мне было тяжело бежать по гравию в домашних шлепанцах, и я сбросила их. Острые камешки впивались в подошвы ступней, но я не замечала боли — мы должны были помешать ему выбраться на дорогу! Мама отстала от меня и, сделав несколько шагов, согнулась от колик в боку, уже не соображая, куда идти. Я крикнула ей, чтобы она поторопилась, иначе он уйдет, и, морщась от боли, она заставила себя бежать быстрее и вскоре поравнялась со мной.
Когда мы вышли на финишную прямую, то заметили, что толстяк резко сбавил темп и его бег сменился прихрамывающей трусцой. Но все равно до ворот ему оставалось лишь метров двадцать, а там дальше была спасительная дорога.
Мы с мамой быстро догнали его. Он обернулся, когда услышал за спиной наши шаги, его лицо было ярко-красным, как кровь в лабораторной пробирке. Он попытался что-то крикнуть, его губы дернулись, но он так задыхался, что не мог выдавить ни слова, и я смогла расслышать лишь что-то вроде «Ха! — Фа! — Па!». Его лицо было мокрым от пота, и он все подносил палец к носу, пытаясь удержать очки на носу. Он снова развернулся к воротам, за которыми его ждало спасение, но уже не мог двигаться вперед, а скорее бежал на месте, и я уже знала, что мы с мамой победим.
Приближаясь к нему, я ловила себя на том, что все время хихикаю, в нервном предвкушении момента, когда мы догоним толстяка и мама выстрелит в него. В эти последние мгновения, пока я бежала босиком по гравию, путаясь в полах халата, я испытывала странное чувство, мне до сих пор не знакомое. Это были абсолютно новые ощущения, освобождающая и возбуждающая радость, которая бежала по моим венам, как наркотик. Все напускное, что было в моей жизни, вдруг разом исчезло, и мне открылась примитивная правда, реальность, которая была древнее самой жизни. Я чувствовала себя гигантом, я чувствовала себя богом!
И вот мы уже были так близко от него, что я смогла ухватить его за края грязной футболки. Мама, все еще зажимая рукой ноющий бок, подняла пистолет, так что он оказался всего в нескольких дюймах от жировых складок на его шее, и нажала на курок.
Выстрел прозвучал так громко, что я скорее физически ощутила его, а не услышала; вибрирующим раскатом грома он разнесся в моей груди, и толстяк рухнул лицом вниз на гравий, словно поваленный дуб.
42
Мама попыталась вернуть предохранитель в прежнее положение, но у нее слишком сильно тряслись руки. Казалось, прошла вечность, прежде чем ей удалось совладать с оружием и она осторожно положила его обратно в карман.
Я совершенно обессилела после погони, легкие пылали огнем, я задыхалась. Присев на большой валун, я обхватила голову руками и сосредоточилась на том, чтобы восстановить дыхание. Птицы, которых распугали выстрелы, медленно возвращались на верхушки деревьев, возбужденно щебеча и словно обсуждая свежий поворот в драме, которую они с удовольствием наблюдали с высоты. Я уставилась на свои ноги. Черные от грязи, они были покрыты сеткой мельчайших ссадин и порезов.
Я первой нарушила молчание.
— Как ты думаешь, кто-нибудь слышал выстрелы, мам? Они были такими громкими!
Мама лишь буркнула что-то неопределенное. Она кружила возле огромной туши, что лежала посреди гравийной аллеи, напоминая выброшенного на берег кита. Должно быть, шантажист умер еще до столкновения с землей, потому что даже не выставил вперед руки, пытаясь предотвратить падение, и они оказались погребенными в многочисленных складках его живота.
Мама опустилась на колени и приложила два пальца к его шее.
— Пульса нет, — произнесла она тихо, словно не хотела будить его. — Он мертв.
Я не шелохнулась. Я знала, что нужно как можно скорее убрать труп, чтобы его не увидели с дороги, но мне хотелось еще немного отдохнуть. Мне было необходимо восстановить дыхание, да к тому же осознать случившееся. Иначе я не была уверена в том, что смогу избежать нервного срыва. А ведь еще предстояло избавиться от трупа, избавиться от машины.
— Как странно, — услышала я мамин голос.
— Что такое? — спросила я, подняв голову.
— Иди сюда. Помоги мне перевернуть его.
Я нехотя встала и подошла к ней. Она склонилась над трупом и взяла его за правое плечо, я схватилась за серые «треники», и мы вместе потянули. В какой-то момент нам пришлось поднапрячься, но как только мы повернули тело под определенным углом, оно легко перевалилось на спину. Я судорожно стала вытирать руки о халат, убежденная в том, что дотронулась до чего-то влажного.
Очки толстяка слетели и валялись на гравии, а без них его лицо выглядело совсем другим, голым, бесцветным. Его глаза были закрыты, и смерть стерла с лица налет злобы, которая искажала его, когда он кричал на нас. Сейчас оно было спокойным, умиротворенным. Это было лицо любимого дядюшки, вечного шутника и балагура, разлегшегося на диване после сытного воскресного обеда. Накачанные руки были вытянуты по бокам, и я подумала о бесцельно потраченных часах, когда их тренировали в спортзале, готовили к тому, чтобы они пробивали двери, а вот в критический момент они оказались беспомощными, и их поднимали в воздух лишь для того, чтобы сдаться.
Я не чувствовала ничего, абсолютно ничего, пока смотрела на труп шантажиста. Ни вины. Ни жалости. Ни сожаления. Он не был человеком, о котором можно было бы скорбеть, он был всего лишь проблемой, которую надо было устранить. Теперь мы должны были придумать, как избавиться от его огромного тела и машины — невероятно, нам предстояло избавиться от развалюхи бирюзового цвета во второй раз.
— Крови нет, — пробормотала мама, скорее обращаясь к себе, а не ко мне.
— Хм?.. Что значит «нет крови»? Кровь должна быть.
— Посмотри сама. Крови нет. И нет раны от пули.
Она была права. Его голова, которую пуля должна была разорвать, была целехонька. Желтая майка заляпана жирными пищевыми пятнами, присыпана грязью, но на ней не было ни капли крови. Если не считать маленькой царапины на подбородке и ссадины на лбу, полученных при падении, на теле не было ни одной раны.
Я хотела что-то сказать, но мама уже поднялась и медленно побрела по гравийной дорожке.
— Ты права, — крикнула я ей вслед, ничего не понимая. — На нем ничего нет!
— А теперь посмотри сюда! — Мама стояла у правого столба ворот и показывала наверх. Прямая линия кромки ворот была нарушена, как будто выщерблена.
— Должно быть, я опять промахнулась, — изумленно произнесла она. — Поразительно. Это с двух-то дюймов!
Она вернулась к трупу и, нагнувшись, подняла очки шантажиста, которые оказались лишь поцарапанными.
— Тогда что же его убило? — спросила я, когда она вновь встала рядом со мной.
— Что его убило? — Мама рассмеялась сухим, невеселым смехом. — Мы убили его, Шелли. Мы запугали его до смерти. Похоже, у него случился обширный инфаркт, но это то же самое, что смерть от моей пули, — в глазах закона это все равно убийство.
Мы запугали его до смерти. Мы запугали до смерти монстра с короткими руками-убийцами. Это наполнило меня странным удовлетворением и гордостью, которые я готова была смаковать, но мысль о том, что ожидало нас впереди — избавление от трупа, от бирюзовой машины, — затмила поселившуюся было во мне радость.
— Надо бы убрать его отсюда, — сказала я. — Мало ли кто проедет мимо…
— Да, пожалуй.
Я обошла тело и нагнулась, чтобы взять его за ногу, но мама нежно тронула меня за плечо, призывая остановиться:
— Он слишком тяжелый, чтобы его тащить, Шелли. Давай подгоним машину и отвезем его к дому.
Погрузить мертвое тело толстяка в машину оказалось нелегко. Весил он, должно быть, килограммов девяносто, а то и все сто, и, хотя нам удалось поднять его с земли, проблема заключалась в том, чтобы уложить его на заднее сиденье, прежде чем он станет таким тяжелым, что нам снова придется класть его на землю. После нескольких неудачных попыток мы решили, что маме придется самой сесть на заднее сиденье, держа его голову у себя на коленях, а потом вместе с ним продвигаться вглубь, в то время как я буду держать его за ноги. Мне пришлось отвернуться, чтобы не вдыхать запах мочи, исходящий от его штанов. Когда его тело наполовину оказалось в машине, мама выбралась из-под его инертной желатиновой массы, извиваясь, как насекомое, попавшее в банку с джемом, и вышла через другую дверь. Я толкала тело вперед с одной стороны, мама тянула его на себя с другой, и наконец мы смогли уложить тело толстяка на заднее сиденье.
Мама очень беспокоилась, как бы мы не поранили его голову или ноги, закрывая боковые двери, и долго возилась, пытаясь примостить его конечности. В конце концов мне пришлось перегнуться с пассажирского сиденья и придерживать его ноги, пока она не захлопнет дверь.
До дома было рукой подать, но мы обе автоматически пристегнулись ремнями безопасности. Комичность ситуации заставила меня расхохотаться вслух — я представила себе, как мы смотримся, две законопослушные гражданки, отправляющиеся в пятнадцатисекундное путешествие, в то время как на заднем сиденье перекатывается труп только что убитого нами мужчины.
Мама припарковала «эскорт» на том же месте, где он и стоял, прямо перед машиной шантажиста.
Она заглушила двигатель, и в воцарившейся тишине я спросила:
— Что мы будем с ним делать, мама?
Она, казалось, была совсем далеко, погруженная в свои мысли, и я ошибочно истолковала ее молчание как растерянность.
— У меня есть идея! — взволнованно произнесла я. — Как насчет шахты? Мы могли бы погрузить толстяка в его же машину, а потом столкнуть ее в шахту. Она ведь поместится там, правда?
— У меня есть идея получше, — бесстрастно произнесла мама и повернулась ко мне. — Но мы должны действовать быстро. — Она посмотрела на часы и закусила нижнюю губу. — Если мы промедлим, дело не выгорит. — Она пристально посмотрела мне в глаза, положа руку мне на колено: — Я хочу, чтобы ты сделала в точности то, что я скажу, Шелли. Ты понимаешь? В точности то, что я скажу.
Водительское удостоверение еще было свежо в ее памяти, и я с энтузиазмом закивала головой, стараясь показать ей, что отныне она может доверять мне на все сто процентов.
— Хорошо. А теперь помоги мне передвинуть его, — сказала она и стала выбираться из машины.
— Передвинуть куда? — застонала я, вдруг придя в ужас от мысли, что придется рыть еще одну могилу.
— Сейчас некогда объяснять, Шелли! Просто делай то, что я говорю! — прикрикнула она.
Мама приподняла тело толстяка, поддерживая под мышками, и стала тянуть его из машины, пока его ноги не оказались на самом краю заднего сиденья, так что я смогла ухватиться за них.
Мы понесли его к дому, останавливаясь через каждые несколько метров, чтобы передохнуть. Когда мы были на полпути между его машиной и дверью, мама крикнула мне, чтобы я опустила ноги, и мы аккуратно уложили его на гравий. Я заметила большую полукруглую трещину на циферблате его часов, напомнившую мне одну из тех улыбающихся рожиц, которые я рисовала на полях своей тетрадки в первом классе.
— Надо его перевернуть, — сказала она, и мы положили его лицом на гравий, головой к дому.
Мама встала на колени и проворно смахнула с его спины листочки и следы грязи.
Удовлетворенная результатом, она поднялась и, вытащив пистолет из кармана, передала его мне:
— Отнеси в мою комнату и спрячь под подушкой. Потом оденься и спускайся вниз как можно быстрее. Иди!
Я сделала все, как она сказала, причем с удвоенной скоростью. Я понятия не имела, что она задумала; все, что я понимала, — так это то, что мы вовлечены в гонку со временем. Когда я спустилась вниз, мама стояла на коленях возле трупа толстяка и шарила в заднем кармане его штанов. Я видела, как она вытащила водительское удостоверение Пола Ханнигана, и нырнула обратно в коридор, чтобы не провоцировать скандал своим появлением в столь щекотливый момент. Я дождалась, пока она уберет его в задний карман своих джинсов, и вышла из дома.
Увидев меня, она сказала:
— Твои шлепанцы, ты потеряла шлепанцы где-то по дороге. Быстро иди и найди их, потом отнеси в свою спальню, где ты обычно их держишь.
Я бросилась вниз по аллее, и мои ноги, в туфлях и носках, заныли еще сильнее, чем когда я бежала босиком. Один шлепанец я нашла сразу, но второго нигде не было. Прошло несколько минут, прежде чем я наконец отыскала его под кустом рододендрона.
Когда я вернулась к дому, мама аккуратно выкладывала очки шантажиста на землю, чуть впереди от тела. Убедившись в том, что все смотрится правдоподобно (очки на гравии, одна рука откинута в сторону, другая прижата телом), она направилась к бирюзовой машине. Захлопнула пассажирскую дверцу, которую открыл для нее шантажист, потом обошла машину и распахнула водительскую дверцу. Она критически оглядела машину со всех сторон, потом остановилась на островке посреди гравийной аллеи и бросила взгляд через плечо, как будто хотела убедиться, что машина стоит на месте.
Мама достала из кустов свою сумку, которую скинула, когда бросилась в погоню за шантажистом. Она не стала перебрасывать ее через плечо, а держала в руке, и длинный ремень волочился за ней, похожий на шланг.
Она снова обернулась к машине, но теперь, казалось, смотрела поверх нее, на фермерские поля, в направлении своего первого выстрела. Потом она оглядела деревья, куда пришелся ее второй выстрел. Я проследила за ее взглядом и поймала себя на том, что смотрю на ясень с белым пятном на стволе. Мама застыла в задумчивости, лишь ее длинные пальцы нервно теребили кожу сумки, потом решительно развернулась и зашагала по аллее.
Я дождалась, пока она скроется из виду, и тайком последовала за ней, прекрасно сознавая, что она не хочет видеть меня сейчас рядом с собой и что любые мои вопросы, скорее всего, спровоцируют очередную ссору.
На повороте я спряталась за кустом и стала шпионить за мамой из зарослей. Она стояла у столба ворот и, казалось, скребла его пальцами, яростно терла рукавом. Потом она опустилась на четвереньки и медленно поползла по гравию, как зверек. Что она делает, черт возьми? Может, она тронулась умом?
Когда она наконец поднялась, отряхиваясь, я прошмыгнула к дому и стала ждать ее у порога.
Она вскоре появилась в поле зрения и, остановившись на мгновение, словно мысленно еще раз сверяя план действий, двинулась ко мне похоронным шагом, неотрывно глядя себе под ноги. Она переступила через труп толстяка с величайшей осторожностью, как будто боялась вляпаться в грязь, потом вдруг остановилась и что-то подняла с земли. Я сделала шаг вперед и как раз успела увидеть, прежде чем она сунула это в сумку: то была недокуренная самокрутка толстяка, которую он выбросил, прежде чем войти в дом. Мама защелкнула сумку и выпрямилась, при этом ее колени громко хрустнули.
Она еще постояла какое-то время, обозревая декорации, словно режиссер, который хочет быть абсолютно уверенным в том, что каждая деталь экстерьера продумана, каждый предмет на своем месте, чтобы лишь тогда крикнуть: «Мотор!» Я тоже оглядела съемочную площадку — омерзительная машина с распахнутой водительской дверцей, труп шантажиста лицом вниз, очки на гравии, полусогнутая рука, — но все равно толком ничего не поняла.
— Я нашла свои шлепанцы, — сказала я, подойдя к маме сзади.
От моего голоса она вздрогнула и резко обернулась, на ее лице не было и тени улыбки.
— Хорошо. А теперь отнеси их наверх, как я просила.
— Хорошо. А потом что? Что дальше?
— Дальше? — Она положила руки на пояс и странно посмотрела на меня. — А дальше мы позовем на помощь.
43
Я последовала за ней в дом, окончательно сбитая с толку.
— Позовем на помощь? Я не понимаю. Что происходит? Что ты собираешься делать?
Мама скороговоркой изложила мне свой план, стремительным шагом направляясь на кухню.
— Я собираюсь позвонить в службу спасения и сообщить, что мы сидели в гостиной, когда незнакомая машина въехала к нам во двор, оттуда вышел мужчина, держась за сердце, и тут же рухнул на землю. Я скажу, что он без сознания и, кажется, не дышит, и мы не знаем, что делать, и не могут ли они срочно выслать к нам карету «скорой помощи»!
Она бросила на меня взгляд через плечо, но все происходило так быстро, что я не успевала соображать.
— Он умер от сердечного приступа, Шелли. На нем нет никаких улик, которые бы могли вызвать у них подозрения в том, что мы причастны к его смерти. Они придут к выводу, что ему стало плохо за рулем и он свернул к первому попавшемуся дому, но умер, прежде чем смог дойти до двери.
Она изучала циферблат своих часов, ее губы беззвучно двигались в такт мыслям, и в следующее мгновение она резко схватила телефонную трубку:
— Но я должна позвонить им немедленно. Уже десять часов — он полчаса как умер.
Я стояла как оглушенная, пока до меня медленно доходил смысл ее плана. Как все гениальные идеи, он казался очевидным и простым, но я была уверена, что лично мне такое никогда бы не пришло в голову. План был невероятно смелым. И требовал железных нервов для своего воплощения. «Скорая помощь» избавит нас от трупа. Полиция избавит нас от машины шантажиста. Власти сами избавят нас от всех инкриминирующих улик. Нам не придется ничего делать. Мы будем вне подозрений — добрые самаритяне, которые тщетно пытались помочь незнакомцу.
Мама зажала трубку между щекой и плечом.
— Отнеси эти шлепанцы наверх, я же тебя просила, — сказала она, дрожащим пальцем набирая номер.
Карета «скорой помощи» прибыла на удивление быстро, учитывая, в какой глуши находился коттедж Жимолость. Ее колеса зашуршали по гравию уже в четверть одиннадцатого, сирена протяжно выла, полыхали голубые огни, бригада честных медиков торопилась совершить доброе дело. Я с ужасом ждала встречи с этими ангелами, которые прибыли спасать жизнь, которую мы только что отняли (смогут ли они по моим глазам догадаться о том, что произошло на самом деле?). В то же время меня угнетала мысль о той долгой и мучительной процедуре, которую предстояло пережить, пока они будут пытаться спасти жизнь толстяка. Никакими усилиями уже было не вернуть коротышку.
Два врача «скорой» — одна лет пятидесяти, крашеная блондинка в очках без оправы, вторая гораздо моложе, с щечками, как у бурундука, и мальчишеской стрижкой, — бросились на помощь толстяку. Они не суетились, спокойно осмотрели тело; улыбающиеся, опытные профессионалы, которые знают, насколько важно сохранять спокойствие, не создавать панику. Тем временем водитель, долговязый парень с чудовищной угревой сыпью, принялся разгружать оборудование: кислородный аппарат, пластиковую трубку с каким-то мешком, прикрепленным к ней, черную коробку, похожую на усилитель для гитары, которая, судя по его прихрамывающей походке, была куда тяжелее, чем казалась со стороны.
Мама суетилась вокруг медиков, изображая шокированную домохозяйку, чье тихое субботнее утро было разрушено нежданной трагедией, нагрянувшей в ее дом. Она отвечала на их вопросы с отлично разыгранным беспокойством и желанием помочь. Когда он упал? — Десять… нет, минут пятнадцать назад. — Вы не делали ему массаж сердца? — Простите, я не умею, мне очень жаль… — Вы двигали его? — Нет, что вы, я бы не осмелилась… Никто бы и не подумал, что она выдает ложь за ложью.
Врачи безо всяких усилий, одним синхронным движением, перевернули толстяка на спину.
— Пульса нет, дыхания нет, — бесстрастно объявила Крашеная Блондинка, словно комментировала погоду.
У меня не было ни малейшего желания оставаться и смотреть на этот фарс, но я думала, что мне не следует вот так запросто исчезать — я не хотела вызывать подозрений. Так что я прошла в дом, но осталась в коридоре у двери, откуда меня было видно и я сама могла наблюдать за происходящим. Я играла роль чувствительной шестнадцатилетней девушки, которой невыносимо видеть такие сцены, в которых идет борьба между жизнью и смертью. На самом деле мне хотелось одного: чтобы они уехали, забрали с собой труп и исчезли. Когда это произойдет, все будет кончено. Долгому ночному кошмару придет конец. Невероятная удача, которую подарил нам толстяк своей смертью от сердечного приступа, и мамин острый ум совершенно неожиданно вывели нас из запутанного лабиринта, в котором мы затерялись, и мне просто хотелось остаться с мамой вдвоем, чтобы отпраздновать это чудесное спасение.
Я привалилась к стене, время от времени поглядывая на часы, нервно царапая ногтем обои. Почему они так долго возятся? Разве они не видят, что он мертв, мертв, мертв? Я выглянула наружу и увидела, как Щекастый Бурундук разрезает ножницами футболку толстяка, обнажая волосатый торс, белый пупок, толстые груди с огромными розовыми сосками.
Когда я снова выглянула, Крашеная Блондинка подсоединяла провода к черной коробке, на которой — мама загораживала мне обзор — мигали зеленые лампочки.
Мама обернулась и посмотрела на меня, все еще в роли потрясенной домохозяйки, и на ее лице явственно читалось: «Ну не ужасно ли это, Шелли? Бедный, бедный мужчина!» Потом она снова повернулась к медикам, сочувственно прижимая руку ко рту.
Крашеная Блондинка теперь держала над головой две черные пластины, похожие на плоские утюги, в то время как Щекастый Бурундук методично снимала с рук толстяка часы, именной браслет и медный браслет против артрита. В тот момент, когда зеленые лампочки сменили цвет на оранжевый, она с силой опустила пластины-утюги на грудную клетку толстяка. Его руки и ноги конвульсивно дергались несколько секунд, как в эпилептическом припадке. Крашеная Блондинка подалась назад и приготовилась повторить реанимацию.
Смотреть на этот дергающийся труп было невыносимо, но в то же время мне хотелось смеяться. Я отвернулась, прикрывая скривившийся в усмешке рот, и прошла на кухню, где меня никто не видел. Я постояла там, пережидая, пока уляжется приступ смеха, мысленно подгоняя время, тупо разглядывая разнообразную кухонную утварь.
Оставшись одна на кухне, я начала беспокоиться насчет расхождения во времени между реальной смертью толстяка и тем, что мы назвали медикам. По моим подсчетам, эта разница составляла сорок пять минут. Заметили медики что-нибудь необычное в состоянии трупа? Могли они определить, что смерть наступила гораздо раньше? Когда начинается трупное окоченение? С Полом Ханниганом это произошло в течение первых двух часов — а возможно ли быстрее? Не может ли это стать той самой уликой, которая разоблачит нас? Может, они уже обмениваются понимающими взглядами, планируя сообщить полиции о своих подозрениях? Может, прыщавый водитель сейчас как раз водит рукой по машине шантажиста и отмечает, что двигатель холодный, в то время как он должен быть теплым, если мы говорим правду?
Хотя я привычно опасалась худшего в любой ситуации, даже мне не удалось выстроить версию на этих подозрениях. Я не смогла убедить себя в том, что медики могли заметить что-нибудь странное в трупе. Толстяк стал жертвой обширного инфаркта; он был мертв, когда они приехали. Разумеется, они бы не стали углубляться в подробности. И я просто не могла поверить, что за какие-то сорок пять минут могут произойти серьезные посмертные изменения. Нам ничего не угрожало, я была в этом уверена, мы были в безопасности…
Когда я снова вышла на улицу, медики уже раскладывали носилки. Прыщавый юнец подошел к маме:
— Вы поедете в госпиталь с нами или предпочитаете следовать за нами на своей машине?
Мама была совершенно обескуражена этим вопросом. Меньше всего ей хотелось продолжения спектакля в госпитале, который, возможно, затянулся бы на долгие часы.
— Но я его совсем не знаю, — вежливо ответила она. — Как я уже объяснила вашим коллегам, он просто заехал сюда на своей машине и тут же рухнул на землю.
Молодой человек, казалось, тоже опешил от такого ответа. Он как будто лишился дара речи — видимо, прежде еще никто не отказывался ехать с ними в госпиталь.
— Хорошо, — наконец произнес он, теребя мочку уха и пытаясь улыбнуться, чтобы скрыть свою некомпетентность.
Мама явно почувствовала необходимость объяснить ситуацию подробнее, словно ее обвиняли в бессердечии.
— Я никогда в жизни его не видела, — сказала она. — Это совершенно посторонний человек.
Юнец все кивал головой, пока мама говорила, но все равно выглядел так, будто ее слова его не убедили и даже слегка шокировали.
Медики занесли толстяка в карету и неутомимо продолжили реанимационные мероприятия. Крашеная Блондинка опустила ему на лицо кислородную маску и пальцами правой руки щупала пульс у него на шее, в то время как Щекастый Бурундук затягивала ему на руке жгут, готовясь установить капельницу.
Прыщавый юнец вернулся к машине и закрыл одну заднюю дверцу. Он уже собирался закрыть вторую, когда Крашеная Блондинка вдруг закричала, как от боли. Юнец застыл с гримасой на лице, решив, что прищемил ей дверью палец, и с беспокойством заглянул внутрь. И тут я увидела, как напряглось его тело.
Я попыталась разглядеть, что происходит, но его спина в белом халате заслоняла картину. Я незаметно продвинулась ближе к дому, когда Крашеная Блондинка снова закричала — профессиональное спокойствие сменилось возбуждением, несдерживаемой радостью:
— Есть пульс! Есть пульс! Я чувствую пульс!
Мы с мамой стояли бок о бок и наблюдали за тем, как набирает скорость карета «скорой помощи», оглушая окрестности воем сирены и раскрашивая воздух спиралями синих огней. Машина уже скрылась из виду, а мы все стояли, неподвижные, онемевшие.
Когда мама наконец очнулась и повернулась, чтобы идти в дом, она заметила, что очки шантажиста так и остались лежать на гравии, куда она их положила. Медики либо не увидели их, либо забыли второпях и на радостях. Она нагнулась, подняла их и долго разглядывала. Символ ее тщательно выстроенного плана, который катастрофически провалился.
Черная тень пробежала по ее лицу, и на какое-то мгновение мне показалось, что она собирается разбить очки об стену, но ярость улеглась, и она осторожно опустила занесенную над головой руку, словно это было сломанное крыло птицы.
44
Мы с мамой сидели в гостиной, оцепеневшие, потрясенные, как будто только что вышли из-под бомбежки и не могли говорить или слышать друг друга из-за непрекращающегося звона в ушах.
Мы никак не могли осмыслить то, что произошло на наших глазах (Есть пульс! Есть пульс! Я чувствую пульс!), не могли поверить, что медикам все-таки удалось вернуть толстяка к жизни, буквально вытащив его с того света. Мы были так близки, так близки к хеппи-энду, к блестящему исполнению плана, который решил бы все наши проблемы, так чисто, безупречно, — и вот в последнюю минуту все рухнуло.
Парализованная, оглушенная, я лишь таращилась на цветастый коврик под пианино, изумленно качая головой. Мы думаем, что управляем событиями, считаем себя капитанами судна под названием «Жизнь», но на самом деле все решает Удача (или Судьба, или Рок, или Бог, да как хочешь это назови). Мы можем с таким же успехом отпустить штурвал, вернуться в каюту и лечь спать, потому что другая сила решает, доберемся ли мы до берега или затонем в открытом море. Мы думаем, что полностью контролируем ситуацию, но в реальности мы не контролируем ничего.
Как им удалось реанимировать шантажиста после того, как прошло столько времени? Это было невозможно, это было против логики, против здравого смысла. Но другая сила постановила, что это должно случиться, — и вот это случилось, несмотря ни на что.
Мама была безутешна. Она была так озабочена тем, чтобы максимально сократить интервал между реальным временем «смерти» и приездом парамедиков, что теперь корила себя за то, что дала им шанс спасти его жизнь.
Она лихорадочно листала те немногие медицинские справочники, что хранились в доме: медицинский словарь, пособие для адвокатов по делам о причинении физического ущерба, учебник по криминалистике «Судебно-медицинские доказательства», — и наконец нашла нужный абзац. В нем говорилось, что реанимация после остановки сердца в течение одного часа возможна, но очень велик риск серьезного повреждения головного мозга, и жертва чаще всего остается инвалидом, «овощем», не способным ни думать, ни говорить. Прочитав это, мама немного успокоилась, но вскоре опять погрузилась в пучину самобичевания и черной депрессии.
Больше не в силах выносить эту пытку, она позвонила в местный госпиталь узнать, нет ли новостей. Она опять вошла в роль обеспокоенной домохозяйки и долго пересказывала справочной службе свою историю: «Утром мы были дома, когда незнакомая машина заехала к нам во двор и оттуда вышел мужчина, держась рукой за сердце…» Ее звонок переключали из отделения в отделение, и она терпеливо повторяла свой рассказ слово в слово. Нет, она не знала имени пациента. Нет, она не знала, в какой он палате. Нет, она не была родственницей. После почти четверти часа беспрерывных переключений и ожиданий на линии ей наконец сообщили, что сегодня утром в госпиталь не поступали пациенты, подходящие под ее описание.
Мама была вконец измотана, когда положила трубку, и у нее просто не было сил обзванивать другие местные больницы.
Лишь ближе к вечеру мы были наконец избавлены от мук неизвестности.
Полицейская машина, появления которой я так давно ждала в своих фантазиях вместе с неизбежным арестом, что поставит точку в наших попытках избежать последствий убийства Пола Ханнигана, въехала во двор около шести вечера.
Однако, вопреки моим ожиданиям, не было никаких вспышек синих огней, а стук в дверь оказался робким, почти виноватым. Не было и копов в черной форме с трескучими рациями, как я себе их представляла. Вместо них, когда мама открыла дверь, на пороге стоял молодой офицер в белой рубашке с коротким рукавом, в руке он держал фуражку, потому что было слишком жарко, чтобы носить ее на голове. Он выглядел херувимом эпохи Ренессанса: голубоглазый, розовощекий, с кудрявыми светлыми волосами длиной до воротника рубашки, что явно противоречило полицейскому регламенту. Когда я увидела его, моей первой мыслью было: он не может быть здесь, чтобы арестовать нас. Они не прислали бы ангела со столь печальной миссией…
— Миссис Риверс? — серьезно произнес он.
Мама кивнула, от волнения лишившись дара речи, и жестом пригласила его в гостиную. Атмосфера в доме была тяжелой, гнетущей, казалось, передвигаться в ней было равносильно тому, чтобы плыть против течения. Мы все расположились в гостиной, и полицейский достал из нагрудного кармана маленький блокнот и миниатюрный ярко-зеленый карандаш. Он пролистал страницы в поисках нужной. (Может, на ней написаны ключевые слова, которые они произносят при аресте? Может, ему приходится зачитывать их, потому что он не помнит их наизусть, — «все вами сказанное может быть использовано против вас…»?)
Мы молча ждали, и у меня возникло странное ощущение, будто время придержало свой ход и вот-вот остановится. Все происходило как в замедленной съемке: полицейский еле-еле переворачивал страницы блокнота, от усердия высунув кончик языка; мама сидела на самом краю стула, нахмуренная, ее руки были прижаты к лицу, как у фигуры на мосту в картине Мунка «Крик».
Вот сейчас, в эти секунды, молодой полицейский огласит вердикт. Толстяк оказался жив, он уже все рассказал полиции, и мы арестованы; толстяк умер, и мы в безопасности…
И в это мгновение на меня вдруг сошел покой, покой, который приходит со смирением перед лицом необратимого финала. Я столько пережила, что во мне иссякли все чувства, их место заняла тихая покорность; она укрыла меня снежным одеялом, под которым все немело, и уже не ощущалось боли. Я подумала о том, что, возможно, такой же покой чувствуют осужденные на смертную казнь и к ним приходит такое же сладкое смирение, позволяющее пережить заключительную агонию, когда петля затянута на шее и руки связаны сзади, и оно же помогает им умереть с миром…
Полицейский наконец нашел нужную страницу и строго посмотрел на маму.
— Боюсь, я вынужден сообщить вам, — сказал он, — что человек, которому стало плохо с сердцем здесь, сегодня… мистер… — он заглянул в блокнот, — мистер Мартин Крэддок… умер по дороге в госпиталь.
— О, какой ужас!.. — Мама идеально точно вступила со своей репликой, произнесла ее с безупречными интонациями талантливой актрисы, в которых угадывались и искренняя грусть, и непременная сдержанность. — Очень жаль. Мне действительно очень жаль.
Меня окатило волной радости и облегчения, и я с трудом сдержала эмоции. Мне хотелось прыгать до потолка, танцевать, хотелось броситься на шею полицейскому и осыпать поцелуями его ангельское личико.
Он умер! Толстяк умер!
Лицо полисмена приобрело скорбное выражение, которым он хотел обозначить сожаление в связи с внезапной кончиной мистера Крэддока, но получилось не очень убедительно. Я заметила, как он украдкой посмотрел на часы. Ему хотелось поскорее покончить с этой миссией: он явно стремился в другое место.
Он снова выслушал мамину версию событий, но, казалось, больше из вежливости, а не потому, что она представляла какой-то интерес для полиции. Он кивал и поддакивал, но не делал никаких пометок в блокноте, тем более что и миниатюрный карандаш уже убрал в нагрудный карман. Он оглядел гостиную, как будто надеялся, что сейчас вдруг выскочит маленькая собачка и даст повод сменить тему.
Когда мама закончила, повисло долгое неловкое молчание. Полицейский, которому явно уже было невмоготу, с трудом пытался подобрать уместные слова:
— Я так понимаю, у него давно были проблемы с сердцем. Он только что вышел из госпиталя.
— Неужели? — воскликнула мама. — О, как печально!
После очередной неловкой паузы он попытался изречь некую прописную истину из житейской философии:
— Что ж, это жизнь. Каждую минуту кто-то рождается, каждую минуту кто-то умирает. Так устроен мир, не правда ли?
Возник еще один мучительный момент, пока его слова витали в воздухе, но мама благоразумно прервала его, прежде чем кто-нибудь из нас прыснул бы со смеху. Она резко поднялась со стула и сказала:
— Что ж, вы, должно быть, очень занятой человек. Мы очень признательны вам за то, что нашли время приехать сюда и сообщить нам новость. Это очень любезно с вашей стороны.
Я тоже встала, и, увидев меня, полицейский подскочил со своего кресла с куда большей прытью, чем к тому обязывало его положение. Мы, все трое, еще какое-то время постояли в гостиной, неловко переминаясь с ноги на ногу, явно скрывая облегчение от того, что беседа закончена.
— О, пока я не забыла… — Мама взяла очки толстяка с крышки пианино. — Врачи «скорой» забыли это.
Полицейский взял в руки большие очки и, казалось, готов был отпустить шутку в их адрес, но вспомнил обстоятельства, при которых они были потеряны. Очки идеально уместились в его нагрудный карман.
Мы проводили его до двери и вместе с ним спустились во двор.
— Это его машина? — спросил он, указывая на нее своей фуражкой.
— Д-да, — ответила мама, не в силах скрыть нервную дрожь в голосе.
Он подошел к водительской дверце бирюзовой машины и заглянул в салон. Он оставался там несколько минут. Я бросила на маму вопросительный взгляд, и она в ответ лишь пожала плечами, но я заметила, что хмурые борозды вернулись на ее лоб.
Полицейский наконец закрыл водительскую дверь, потом обошел машину и встал, положа одну руку на пояс, а другой почесывая у виска.
— Странно, — озадаченно произнес он с еле заметной улыбкой.
— Что такое, офицер? — Мамин голос прозвучал уже не так убедительно, как прежде. На ее лице появилась какая-то растерянность.
— Ну, она припаркована так аккуратно. — Он наконец отыскал то, что могло заинтересовать его в этом скучном поручении. — Я хочу сказать, ведь у него был сердечный приступ, но ему удалось припарковать машину идеально, четко позади вашей. И не только это, он поставил ее на нейтралку, не забыл про ручник, заглушил двигатель и положил ключи в карман — и это при том, что испытывал страшную боль. Просто поразительно!
Он просиял и взглянул на маму, но она, казалось, совсем не знала, как реагировать; ей с трудом удавалось выдерживать этот ясный взгляд голубых глаз.
— Сила привычки, я так думаю, — сухо произнесла она.
— Должно быть, — рассмеялся он, засовывая большой палец в карман брюк, — должно быть. Но это невероятно, вы согласны?
— Да, — с явной неохотой мама заставила себя согласиться с ним, — трудно поверить.
Полицейский еще какое-то время таращился на машину с откровенным изумлением, потом тряхнул головой и со словами «С чем только не приходится сталкиваться на этой работе» развернулся и направился к патрульному автомобилю.
— Мы пришлем кого-нибудь сегодня вечером, чтобы ее отогнали, — бросил он через плечо. — Вряд ли вам захочется, чтобы она неделями перегораживала вам выезд!
Он включил зажигание и, шутливо отсалютовав нам, уехал.
45
На следующий день, в воскресенье, мы с мамой проспали. Мы нарушили заведенный распорядок и побаловали себя роскошным завтраком — яйца с беконом, грибами и помидорами. Мы завтракали за кухонным столом, просматривая многочисленные приложения к воскресным газетам.
Мама помолодела лет на десять; усталость, жуткое напряжение вчерашнего утра бесследно исчезли с ее лица.
— Хорошо спала? — спросила я.
Она широко улыбнулась:
— Очень хорошо, спасибо, Шелли, действительно очень хорошо. Как младенец.
Я тоже улыбнулась. Мама снова могла спать. Это было добрым знаком.
Тот день обладал какой-то особой, волшебной магией, как Рождество. После всего, что случилось накануне, после всего, что нам пришлось пережить, начиная с рассвета одиннадцатого апреля, после тошнотворных «американских гонок», в которые превратилась наша жизнь, пришло великое облегчение.
Я была на вершине блаженства. Я ощущала себя выжившей жертвой кораблекрушения, которой, после долгих недель дрейфа в открытом море в хлипкой шлюпке, среди волн размером с дом, удалось спастись, и я вдруг оказалась у пылающего костра, завернутая в одеяла, со стаканом горячего питья. Я воспринимала как чудо каждую мелочь повседневного мира — все, что раньше казалось обыденным и не достойным внимания: с восхищением смотрела, как грибная шляпка молока медленно прорастает в темных глубинах кофе в моей чашке и пылинки кружат в луче света, напоминая вращение небесных тел во Вселенной; я с интересом разглядывала крохотные пурпурные сосудики на опущенных веках мамы, пока она читала газету; вслушивалась в отдаленный колокольный перезвон, сливающийся в кристально-чистую мелодию из идиллического прошлого. Я смаковала все это, я любила все в этом мире только за то, что оно было.
Мы переоделись только ближе к одиннадцати, но даже и потом снова уселись за кухонный стол и продолжили чтение газет за очередным кофейником свежего кофе.
Мы почти не говорили о вчерашних событиях, но то и дело кому-то из нас приходили в голову мысли, и тогда мы вновь возвращались к этой теме.
— Как ты думаешь, шантажист говорил правду? — спросила я. — Ну, насчет того, что ни с кем не делился своими догадками о нашей причастности к убийству Пола Ханнигана?
Мама задумалась.
— Да, думаю, что да. В конце концов, он ведь сказал нам правду о своей болезни.
— А то, что у Пола Ханнигана нет близких родственников, которые могли бы разыскивать его?
— Трудно сказать. Во всяком случае, он говорил это со слов самого Ханнигана. Но интуиция мне подсказывает, что теперь все кончено. Я действительно в это верю.
Чуть позже мама воскликнула:
— Представь, если бы я убила его, Шелли! Нам бы опять пришлось избавляться от трупа, да еще от этой чертовой машины. Ты только представь!
Я покачала головой, в шоке от мысли, насколько близки мы были к тому, чтобы снова войти в эту пещеру ужасов. Что бы мы стали делать с трупом толстяка? Закопали в саду? Вырыли бы яму в огороде? А что с машиной? Опять бросать ее где-нибудь со всеми вытекающими последствиями или столкнуть в одну из тех шахт в национальном парке, как я предлагала? Было невыносимо думать об этом…
— Слава богу, что ты такая неловкая, — пошутила я, но мама, вопреки моим ожиданиям, не рассмеялась.
— Это какое-то чудо, — сказала она. — Я имею в виду, как я могла промахнуться с такого близкого расстояния? Ведь дуло пистолета почти упиралось ему в шею. Это невозможно, Шелли. Просто невозможно.
Вновь вспомнив наш вчерашний разговор (Цугцванг. Это из шахмат), я заметила:
— Все это было похоже на шахматную партию, правда?
— В каком-то смысле, пожалуй. Нам определенно приходилось крепко думать перед каждым ходом.
Я вспомнила все решения, принятые мамой с той самой минуты, как она обрушила разделочную доску на череп Пола Ханнигана: закопать его в саду вместо того, чтобы вызывать полицию, продолжать жить так, будто ничего не случилось, сбросить мусорные мешки в заброшенные шахты, где их никто никогда не найдет, оставить себе пистолет, разыграть перед врачами «скорой» спектакль о смерти от инфаркта. Сколько трудных решений, сколько правильных ходов.
— Ты блестяще сыграла свою шахматную партию, мама.
— Мы обе, Шелли. Мы обе.
Когда от долгого сидения на деревянном стуле у меня заныла спина и уже было невмоготу читать про новые модные тенденции, диеты, фильмы и старлеток, я сказала:
— Я не чувствую себя виноватой в том, что мы сделали, мама. Я рада, что они оба мертвы. Я ни о чем не жалею — даже о том, что случилось вчера. Он получил то, что заслужил. Собаке собачья смерть, я бы так сказала. Все, что мы сделали, абсолютно все, было самообороной. Даже вчерашнее.
После ланча мы поехали по округе и долго гуляли вдоль берега реки. Выдался еще один чудесный день, и пейзаж радовал глаз своими живыми сочными красками. Желтый цвет канолы был таким ослепительным, что я едва могла смотреть на него — это было все равно что смотреть на яркое солнце. Небо поражало глубокой лазурью, дальние холмы — изысканной лавандой, молодые деревца вдоль берега были принаряжены в листву цвета зеленого лайма, который вскоре должен был смениться желтым, высокий луговик налился изумрудной зеленью, а дикие цветы в его зарослях проглядывали чистейшей первозданной белизной.
— Как на картинах Ван Гога, — сказала мама. — Такое впечатление, что краски вовсе не смешивали на палитре, а просто выдавливали из тюбиков.
Когда мы подошли к заброшенному участку берега, где буйствовала жгучая крапива, мама огляделась по сторонам — нет ли поблизости пешеходов или рыбаков? — достала из сумочки пистолет и быстро швырнула его в реку. Он пошел на дно с ласкающим слух звуком — плюх!
— А как же насчет того, что вода всегда выдает свои секреты?
— Пусть. Они никогда не смогут связать этот пистолет с нами. Я просто больше не хочу держать его в доме.
— Ты уверена, что он нам больше не понадобится?
Мама обняла меня за плечи:
— Да, Шелли, уверена. После всего, что нам пришлось пережить, меня уже ничем не испугаешь.
В тени плакучей ивы, на маленьком клочке сухой земли, мы сожгли водительское удостоверение Пола Ханнигана. Мама поднесла к нему зажигалку, и оно медленно покрылось черной копотью, а уголки в огне сами собой начали загибаться. Пластик выделял зловонный черный дым, который, как я подумала, только и годился для кремации ядовитой души Пола Ханнигана. Я испытала невероятное облегчение, когда его лицо обуглилось и съежилось до неузнаваемости.
Откровения толстяка о найденном водительском удостоверении не спровоцировали грандиозный скандал с мамой, который казался мне неизбежным — даже накануне, когда мы провели вместе не один тревожный час в ожидании новостей, которые могли решить нашу судьбу. И вот теперь, когда пластиковая карточка горела у наших ног, я поняла, что никакой ссоры уже не будет. Мама не собиралась задавать мне вопросов, не собиралась упрекать меня, не собиралась вновь поднимать эту тему. Я знала, что она простила меня.
Мама посмотрела на меня и нежно улыбнулась:
— Больше никаких секретов?
— Никаких, — согласилась я без тени колебаний.
Когда пламя погасло и костерок остыл, я ткнула пальцем в скрюченное черное насекомое, некогда бывшее водительским удостоверением Пола Ханиигана, и оно рассыпалось золой.
Ближе к вечеру нам обеим захотелось посидеть в саду. Хотя мои шрамы быстро заживали, я все равно старалась быть осторожной, и мы огляделись в поисках уютного уголка в тени.
— Может быть, там? — спросила мама, показывая в дальний конец сада.
Я побледнела. Она как раз смотрела в сторону овального розария, который сейчас превратился в необъятный цветочный фонтан.
Она заметила выражение моего лица и поняла свою ошибку:
— Может быть, вон там будет лучше…
Но я перебила ее:
— Нет, у розария.
Мы взяли пластиковые стулья и расположились в прохладной тени роз, всего в нескольких метрах от могилы Пола Ханнигана. Я справилась с отвращением, взяла себя в руки, постаралась отнестись ко всему философски. Неважно, рядом я с его трупом или нет, Пол Ханниган все равно навсегда останется со мной. Я пришла к мысли, что теперь он стал частью меня — так дикари, которых я видела по телевизору, верили, что убитые ими кабаны или обезьяны становятся частью их самих. От него было не скрыться, не убежать. Отныне Пол Ханниган был навсегда со мной. В горе и в радости.
Эта сюрреалистическая сцена даже подсказала мне сюжет картины, которую я бы хотела нарисовать однажды: две благородные викторианские леди пьют чай на лужайке, в то время как в цветнике на заднем плане проступают очертания трупа в истлевших лохмотьях. Я бы назвала ее «И средь жизни мы пребываем в смерти», строчкой из христианской погребальной молитвы. Она будет лишний раз напоминать о том, что, независимо от того, где мы и что делаем, Смерть и Ужас всегда рядом с нами. И главное испытание — продолжать жить и быть счастливыми, краем глаза наблюдая за этими зловещими спутниками, далекими, размытыми, но все равно узнаваемыми.
Мы блаженствовали, лениво болтали, и, когда на палисадник легли фиолетово-голубые тени, я тронула маму за плечо.
— Мм?.. — сонно пробормотала она, не открывая глаз.
— Я хочу вернуться в школу, мам, — сказала я.
Она сразу открыла глаза, в них было удивление, беспокойство; извилистая морщина вновь бороздила ее лоб.
— Но до экзаменов всего несколько недель, Шелли. Сейчас весь твой выпуск в учебном отпуске, разве не так?
— Да, верно, — сказала я, — но работают подготовительные классы, которые я хотела бы посещать. Миссис Харрис знает все детали, к тому же я бы хотела встретиться с некоторыми своими учителями, особенно с мисс Бриггс.
Мама не назвала истинную причину своего беспокойства, но по-прежнему хмурилась.
— А как же те девочки — Тереза Уотсон и двое других? Что, если они там будут?
— Не думаю, мам; сомневаюсь, что им интересны подготовительные классы, но если я все-таки встречусь с ними…
Я вспомнила, как схватила нож с обеденного стола и всадила его в спину Пола Ханнигана; вспомнила, как гналась за шантажистом и в моем сердце бушевала жажда крови. Если бы Тереза Уотсон посмела прикоснуться ко мне, я бы прижала ее к стенке с такой силой, что перебила бы ей позвоночник, прежде чем она успела бы опомниться. Если бы она заглянула мне в глаза и увидела в них, на что я способна, она бы драпала от меня во весь опор. Я уже убила двоих мужчин, и какой-то школьнице было не запугать меня.
— Не волнуйся. Они ничего мне не сделают. Я больше не боюсь их. Если что, пусть они боятся меня.
Я знала, что эти слова слетели с моих губ, но их звучание было таким незнакомым для моих ушей, что казалось, будто их произнес кто-то другой. Это уже говорила не мышь; она больше не собиралась бегать вдоль плинтуса в поисках норки, чтобы спрятаться, она не собиралась замирать в надежде на то, что ее не увидят. Сейчас я, как никогда в жизни, чувствовала себя сильной, уверенной в себе, способной на многое. Жизнь жестока. Жизнь — это джунгли. Жизнь — это война. Теперь я это понимала. И принимала. Я была готова принять вызов. Я больше не собиралась быть жертвой. Никогда.
— И еще кое-что, мам. Я хочу позвонить папе.
Она дернула рукой, словно ее ужалили, и стиснула зубы.
— Что ж, это твое решение, — сказала она. Ее голос был сух и слегка дрожал. — Я не вправе останавливать тебя.
Нет, она уже не могла остановить меня, так же как и Зоя. Если Зоя подойдет к телефону, я уже не отступлюсь («Скажите, что звонит его дочь»). Он не сможет вот так просто вычеркнуть меня из своей жизни. Во всяком случае, без объяснений. Без последствий. Прежде он выслушает все, что я должна сказать ему.
Мама поправила мне волосы и оставила руку на моем плече.
— Твои рубцы отлично заживают, — сказала она.
— Я знаю. Еще несколько месяцев, и станут совсем незаметными.
Она нежно погладила меня по щеке и улыбнулась:
— Будешь как новенькая..
— Нет, — промурлыкала я. — Еще лучше.
Примечания
1
День катастрофы башен Всемирного торгового центра в США.
(обратно)2
Игра слов: «Let’s paint the town red» — «Давай кутить» — дословно означает «Давай раскрасим город в красный цвет». — Примеч. пер.
(обратно)3
Герой поэмы Роберта Браунинга. Согласно древнему германскому преданию, избавил город Хемлин от крыс, увлекая их за собой мелодией, которую наигрывал на дудке. — Примеч. пер.
(обратно)4
Евангелие от Матфея, 15:14. Кроме того, существует картина Питера Брейгеля на этот сюжет.
(обратно)5
Шекспир, «Макбет», пер. М. Лозинского.
(обратно)
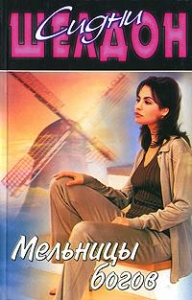




Комментарии к книге «Мыши», Гордон Рис
Всего 0 комментариев