Дэниел Силва Убийство в Вене
Посвящается тем, кто не оставляет в покое убийц и соучастников их преступлений, а также моему другу и редактору Нейлу Найрину.
Когда лес рубят, щепки летят, и тут уж ничего не поделаешь.
Группенфюрер СС Генрих Мюллер, шеф гестапоМы не бойскауты. Если б мы хотели быть бойскаутами, мы бы вступили в организацию бойскаутов.
Ричард Хелмс, бывший директор ЦРУЧасть первая Человек из кафе «Централь»
1
Вена
Эту организацию трудно найти, и такое место выбрано намеренно. Она находится в конце узкого извилистого переулка, в квартале, более известном своей ночной жизнью, чем своим трагическим прошлым, – у входа лишь маленькая медная табличка с надписью «Рекламации за период войны и справки». Охранная система, установленная некой малоизвестной фирмой из Тель-Авива, заметна и выглядит внушительно. Над дверью угрожающе поблескивает камера. Никого не принимают без предварительной договоренности и рекомендательного письма. Посетители проходят через хорошо отлаженный магнитометр. Сумки и портфели осматриваются аккуратно и эффективно одной из двух неулыбчивых, но потрясающе хорошеньких девушек. Одну зовут Ревекка, другую – Сара.
Вошедшего посетителя проводят по вызывающему клаустрофобию коридору, уставленному серыми металлическими картотеками, затем – в большую, типично венскую комнату со светлым полом, высоким потолком и книжными полками, провисающими под тяжестью бесчисленных томов и папок. Академический беспорядок приятен глазу, а вот зеленые, пуленепробиваемые стекла на окнах, выходящих на унылый задний двор, кое-кому действуют на нервы.
Работающий здесь мужчина неаккуратен, и его не сразу заметишь. Таков его особый талант. Когда вы входите в комнату, он бывает занят поисками какой-то книги, стоя на верху библиотечной лестницы. Но чаще вы обнаруживаете его за столом, где он сидит в клубах сигаретного дыма и просматривает никогда, казалось, не уменьшающуюся груду бумаг и папок. Он с минуту медлит, дописывая фразу или набрасывая на полях документа пропущенную подробность, затем встает и протягивает маленькую руку, быстро обегая вас взглядом карих глаз.
– Эли Лавон, – скромно говорит он, обмениваясь с вами рукопожатием, хотя все в Вене знают, кто возглавляет «Рекламации за период войны и справки».
Не будь у Лавона прочно установившейся репутации, его внешний вид – рубашка, вечно обсыпанная пеплом, заношенная темно-красная кофта с залатанными локтями и ободранной кромкой – мог вызвать беспокойство. Одни подозревают, что у него мало денег, другие считают его аскетом или не вполне нормальным. Одна женщина, хотевшая, чтобы ей помогли получить компенсацию от швейцарского банка, пришла к выводу, что у него напрочь разбито сердце. Чем иначе объяснить, что он никогда не был женат? Порой, когда он думает, что никто на него не смотрит, на лице его появляется горестное выражение. Какие бы подозрения ни рождались у посетителя, дело обычно кончается одним и тем же. Большинство цепляется за него, боясь, как бы он не исчез.
Он указывает вам на удобный диван. Просит девушек не звать его к телефону, если кто позвонит. Затем соединяет большой палец с указательным и подносит ко рту. «Пожалуйста, кофе». Слышно, как девушки ссорятся, чей черед его нести. Ревекка – израильтянка из Хайфы, смуглая и черноглазая, упрямая и вспыльчивая. Сара – хорошо обеспеченная американская еврейка, приехавшая из Бостонского университета по программе «Изучение холокоста», более интеллигентная, чем Ревекка, и, следовательно, более упорная. Она способна прибегнуть к обману или даже к откровенной лжи, чтобы избежать выполнения того, что считает ниже своего достоинства. Ревекку же, честную и темпераментную, легко провести, а потому обычно именно Ревекка с невеселым видом ставит на кофейный столик серебряный поднос и, надувшись, выходит.
У Лавона нет определенной формы проведения встреч. Он разрешает посетителю определить ход разговора. Он не прочь ответить на вопросы о себе и, если поднажать, объяснит, почему один из самых талантливых молодых археологов Израиля решил заняться незаконченными делами, возникшими в результате холокоста, вместо того чтобы копаться в неспокойной земле своей родины. Однако его готовность обсуждать свое прошлое этим и ограничивается. Он не сообщает своим посетителям, что в начале 1970-х недолгое время работал на знаменитую израильскую Секретную службу. Или что его до сих пор считают лучшим уличным наблюдателем, какой когда-либо был у службы. Или что дважды в год он ездит в Израиль повидаться со своей престарелой матерью, а также посещает глубоко засекреченный объект к северу от Тель-Авива, где делится некоторыми своими секретами с юным поколением. В службе его по-прежнему именуют Призраком. Его учитель, Ари Шамрон, всегда говорит, что Эли может исчезнуть, пока вы пожимаете ему руку. И это недалеко от истины.
Он тихо ведет себя с посетителями, – как и с людьми, которых выслеживает для Шамрона. Он безостановочно курит, но если это раздражает гостя, воздержится от курения. Будучи полиглотом, выслушает вас на любом языке, каким вы предпочитаете пользоваться. Он смотрит на вас без отрыва, с сочувствием, хотя в глубине его глаз можно порой заметить, как складываются воедино кусочки головоломки. Он предпочитает не задавать вопросов, пока посетитель не изложит свое дело. Ему дорого время, и он быстро принимает решения. Знает, когда сможет помочь. И знает, что лучше не ворошить прошлое.
Если Лавон берется за ваше дело, то просит дать небольшую сумму, чтобы начать расследование. Излагает он свою просьбу с заметной застенчивостью, и если вы не можете заплатить, снимает вопрос о деньгах. Большая часть средств на оперативную работу поступает от добровольцев, но «Рекламации за период войны» едва ли можно назвать прибыльной организацией, и Лавону хронически не хватает денег. Источник его финансирования всегда подвергался сомнению в определенных кругах Вены, где его всячески поносят и считают назойливым инородцем, финансируемым международным еврейством, которое вечно сует нос в то, что его не касается. Многие в Австрии хотели бы, чтобы «Рекламации за период войны» навсегда закрыли свои двери. Это из-за них Эли Лавон проводит свои дни за зелеными пуленепробиваемыми стеклами.
В заснеженный вечер в начале января Лавон сидел один в своем кабинете, сгорбившись над кипой папок. В этот день у него не было посетителей. Собственно, вот уже несколько дней Лавон никого не принимал, посвятив все свое время одному-единственному делу. В семь часов вечера Ревекка просунула голову в дверь.
– Мы проголодались, – заявила она с типичной израильской прямотой. – Купите нам чего-нибудь поесть.
Память Лавона, хоть и была удивительной, не распространялась на заказы еды. Не отрываясь от работы, он проделал в воздухе пером загогулины, точно написал: «Составь список, Ревекка».
Минуту спустя он закрыл папку и встал из-за стола. Он посмотрел в окно и увидел, как снег осторожно накрывает пеленой черную брусчатку на заднем дворе. Затем надел пальто, дважды обернул шарф вокруг шеи и накрыл редеющие волосы шляпой. Пройдя через холл, он подошел к комнате, где работали девушки. Стол Ревекки представлял собой нагромождение немецких военных папок; Сара, вечная студентка, скрывалась за горой книг. Они, как всегда, препирались. Ревекка хотела индийскую еду навынос из ресторана, что на другой стороне Дунайского канала; Сара же мечтала о макаронах из итальянского кафе на Кэрнтнерштрассе. Лавон, не обращая внимания на перепалку, рассматривал новый компьютер на столе Сары.
– Когда это поступило? – спросил он, прерывая их спор.
– Сегодня утром.
– Почему у нас новый компьютер?
– Потому что старый вы купили, когда в Австрии еще правили Габсбурги.
– А я разрешил покупать новый?
Вопрос не звучал как обвинение. В конторе правили девушки. Ему совали под нос бумаги, и он обычно не глядя подписывал их.
– Нет, Эли, вы не одобряли покупки. За этот компьютер заплатил мой отец.
Лавон улыбнулся.
– Твой отец – человек щедрый. Пожалуйста, поблагодари его от меня.
И препирательство между девушками возобновилось. По обыкновению, решение было принято в пользу Сары. Ревекка составила список и вознамерилась приколоть его к рукаву Лавона, но потом просто сунула список ему в карман и слегка подтолкнула к выходу.
– И не останавливайтесь попить кофейку, – сказала она. – А то мы умрем с голоду.
Выйти из «Рекламаций за период войны и справок» было не менее трудно, чем войти. Лавон набрал код на панели, висевшей на стене у входа. Услышав зуммер, он открыл внутреннюю дверь и вышел в охранку. Наружная дверь откроется лишь тогда, когда внутренняя дверь пробудет десять секунд закрытой. Лавон приложил лицо к пуленепробиваемому стеклу и посмотрел наружу.
На противоположной стороне улицы, в затененном входе в узкий проулок, стоял широкоплечий мужчина в мягкой шляпе и макинтоше. Эли Лавон не мог идти по улицам Вены или любого другого города, не проверив, нет ли за ним «хвоста», и не запомнив лица людей, которые слишком часто попадались ему на глаза. Это была профессиональная болезнь. Даже на расстоянии и даже при плохом освещении он понял, что за последние несколько дней не раз видел эту фигуру.
Он стал перебирать в памяти лица, как библиотекарь перебирает карточки в картотеке, пока не обнаружил данные о предыдущих встречах. «Да, вот где это было. На Юденплац два дня назад. Это ты шел за мной после того, как я выпил кофе с репортером из Штатов». Он снова покопался в «картотеке» и нашел, где он видел этого человека во второй раз. В окне бара на Штернгассе. Тот же мужчина – только без шляпы – поглядывал на улицу, попивая пиво, в то время как Лавон пробивался под поистине библейским ливнем после очень скверного дня в конторе. Третий случай он не мог припомнить дольше. Трамвай номер семь, вечерний час пик. Лавон, прижатый к дверям венкой с красным лицом, пахнущей сосисками и абрикосовым шнапсом. Шляпа каким-то образом сумел сесть и спокойно чистил билетом ногти. Лавон тогда подумал, что этот человек любит наводить чистоту. Возможно, он зарабатывает тем, что занимается чисткой.
Лавон повернулся и нажал на интерком. Молчок. «Да ну же, девушки». Нажал снова и бросил взгляд через плечо. Мужчина в шляпе и макинтоше исчез.
Из динамика послышался голос. Ревекка.
– Вы что, уже потеряли список, Эли?
Лавон снова нажал на кнопку.
– Выходите! Сейчас же!
Несколько секунд спустя Лавон услышал шаги в коридоре. Девушки появились за разделявшей их стеклянной стеной. Ревекка спокойно набрала код. Сара молча стояла рядом, глядя в глаза Лавону и положив руку на стекло.
Он не помнил, как услышал взрыв. Огненный шар поглотил Ревекку и Сару, и взрывная волна отбросила их. Дверь вышибло. Лавона, словно детскую игрушку с широко раскинутыми руками и выгнутой, как это делают гимнасты, спиной, подбросило в воздух. Он летел будто во сне. Лишь чувствовал, что переворачивается снова и снова. И не помнил, как упал. Сознавал лишь, что лежит на спине в снегу и на него сыплется дождь битого стекла. Медленно погружаясь во тьму, он почувствовал, как загорелось лицо. «Мои девочки, – мелькнула мысль. – Мои красавицы девочки».
2
Венеция
Это была маленькая терракотовая церквушка в sestieri[1] Каннареджо. Реставратор остановился у бокового портала под красивым круглым окошком в крыше и достал из кармана своей непромокаемой куртки связку ключей. Он открыл тяжелую дубовую дверь и вошел внутрь. Почувствовал щекой ласковое дуновение холодного воздуха, пропитанного сыростью и запахом застарелого свечного воска. Он с минуту постоял в сумрачном свете, затем направился через неф в форме греческого креста к маленькой часовне святого Иеронима в правой стороне церкви.
Реставратор двигался легко и, казалось, без усилий, шаги его были скорыми и твердыми. Удлиненное лицо, узкий подбородок, тонкий нос были словно вырезаны из дерева. Скулы широкие, и в неспокойных зеленых глазах было что-то от русских степей. Черные волосы были коротко острижены, и на висках пробивалась седина. Такое лицо могло быть у людей многих национальностей, к тому же реставратор обладал лингвистическим даром, которым и пользовался по необходимости. В Венеции его знали как Марио Дельвеккио. Но это не было его настоящим именем.
Запрестольный образ скрывали затянутые брезентом леса. Реставратор ухватился за алюминиевую арматуру и бесшумно полез наверх. Его рабочие мостки были в том же состоянии, в каком он их оставил накануне – с кистями и лопаткой, красками и растворителями. Он включил лампы дневного света. Образ, последняя из великих заалтарных работ Джованни Беллини, засиял в ярком свете. Слева стоял святой Христофор с младенцем Христом на плечах. Напротив него стоял святой Людовик Тулузский с епископским посохом в руке, епископской митрой на голове и красной с золотом парчовой накидкой на плечах. Надо всем этим, на втором параллельном плане, святой Иероним сидел с раскрытой книгой псалмов на фоне ярко-голубого неба, испещренного серо-бурыми облаками. Все святые были отделены друг от друга и стояли перед Богом в такой изоляции, что было чуть ли не больно смотреть на них. Это была удивительная для восьмидесятилетнего человека работа.
Реставратор стоял, застыв перед этой частью алтаря, словно четвертая фигура, созданная умелой рукой Беллини, и, глядя на пейзаж, дал волю воображению. Помедлив немного, он пролил лужицу «Монолита-20» на свою палитру, добавил краски, затем развел кашицу аркосолвом, пока она не достигла нужной консистенции и густоты.
И снова посмотрел на образ. Тепло и богатство красок побудили историка искусства Ван Марля прийти к выводу, что тут явно чувствуется рука Тициана. Реставратор же считал – при всем уважении к Ван Марлю, – что он ошибся. Реставратор ретушировал работы как Беллини, так и Тициана и знал манеру письма обоих художников не хуже морщинок от солнца вокруг своих глаз. Запрестольный образ в церкви Сан-Джованни-Кризостомо написал Беллини, и только Беллини. К тому же в то время, когда создавался этот образ, Тициан отчаянно пытался сбросить с Беллини мантию самого великого художника Венеции. Реставратор искренне сомневался, что Джованни пригласил бы молодого упрямца Тициана выполнить столь важное поручение. Ван Марль, подготовься он как следует, избавил бы себя от стыда за свое столь абсурдное мнение.
Реставратор надел очки-лупы и сосредоточился на розовой тунике святого Христофора. Фреска пострадала от десятилетий недосмотра, резких скачков температуры и постоянного дыма от ладана и свечей. Одежда Христофора утратила свой первоначальный блеск и была испещрена островками pentimenti,[2] пробившимися на поверхность. Реставратору поручили воссоздать образ в его первоначальной красоте. Ему предстояло проделать работу так, чтобы образ не производил впечатления чего-то наспех намалеванного имитатором. Короче, он хотел приехать и уехать, не оставив следов своего присутствия: сработать так, чтобы казалось, будто сам Беллини восстановил свою картину.
Два часа реставратор работал в одиночестве – тишина нарушалась лишь звуком шагов на улице да грохотом открываемых на лавках алюминиевых ставней. Мешать ему стали начиная с десяти часов, когда пришла известная в Венеции уборщица алтарей Адрианна Зинетти. Она просунула голову под накрывавшую реставратора парусину и пожелала доброго утра. Досадуя, он снял увеличительные очки и заглянул через край мостков. Адрианна встала так, что было невозможно не проникнуть взглядом в ее декольте и не увидеть ее удивительных грудей. Реставратор церемонно кивнул и проследил, как она с поистине кошачьей уверенностью взобралась по своим лесам. Адрианна знала, что у него есть женщина – еврейка из старого гетто, тем не менее при малейшей возможности флиртовала с ним, словно еще один многозначительный взгляд или еще одно «случайное» касание способны разрушить его систему обороны. А он завидовал простоте, с какой она смотрела на жизнь. Адрианна любила произведения искусства, венецианскую еду и поклонение мужчин. Остальное не имело для нее значения.
Затем появился молодой реставратор по имени Антонио Полити, он был в солнечных очках и выглядел как с похмелья – этакая рок-звезда, прибывшая для еще одного интервью, которое он хотел бы отменить. Антонио не потрудился пожелать реставратору доброго утра. Они взаимно не любили друг друга. В осуществлении проекта восстановления Кризостомо Антонио поручили реставрировать центральный запрестольный образ работы Себастьяно дель Пьембо. Реставратор считал, что молодой человек не готов для такой работы, и каждый вечер, прежде чем уйти из церкви, втайне взбирался на мостки Антонио, чтобы проверить его работу.
Франческо Тьеполо, возглавлявший проект восстановления Сан-Джованни-Кризостомо, приходил последним, – шаркающий бородач в свободной белой рубашке навыпуск и с шелковым шарфом вокруг толстой шеи. На улицах Венеции туристы принимали его за Лучано Паваротти. Венецианцы же редко так ошибались, так как Франческо Тьеполо возглавлял самую успешную кампанию по реставрации во всем районе Венето. В кругах венецианского искусства он был авторитетом.
– Buongiorno,[3] – пропел Тьеполо. Его глухой голос пробудил эхо высоко под куполом.
Он схватил своей большой рукой мостки реставратора и как следует встряхнул. Реставратор, словно горгулья, склонил голову набок.
– Вы чуть не испортили мне работу целого утра, Франческо.
– Вот почему мы пользуемся изоляционным лаком. – И Тьеполо поднял руку с белым бумажным пакетом. – Cornetto?[4]
– Поднимайтесь сюда.
Тьеполо поставил ногу на лесенку и стал подниматься. Реставратор слышал, как гудели алюминиевые леса под огромным весом Тьеполо. Он раскрыл пакет, протянул реставратору миндалевидный cornetto и один взял себе. Половина тотчас исчезла у него во рту. А реставратор сел на край мостков и свесил ноги. Тьеполо встал перед запрестольным образом и внимательно оглядел проделанную работу.
– Если бы я не знал, что это невозможно, то подумал бы, что старик Джованни проник сюда ночью и сам произвел зачистку.
– А что, это идея, Франческо.
– Да, но лишь у немногих хватило бы таланта осуществить такое. – Остаток cornetto исчез у него во рту. Он смахнул крошки сахара с бороды. – Когда думаете закончить?
– Месяца через три, может быть, четыре.
– Для руководства было бы лучше через три месяца, а не через четыре. Но небеса не позволят мне торопить великого Марио Дельвеккио. Есть планы куда-нибудь поехать?
Реставратор пристально посмотрел на Тьеполо поверх cornetto и медленно покачал головой. Год назад он вынужден был назвать Тьеполо свое настоящее имя и сказать, чем он занимается. Итальянец не нарушил доверия и никому об этом не сообщил, но время от времени, когда они были одни, просил реставратора сказать несколько слов на иврите, просто чтобы не забывать, что легендарный Марио Дельвеккио на самом деле израильтянин из долины Джезрил по имени Габриель Аллон.
Внезапно по крыше церкви забарабанил дождь. На мостках, высоко в абсиде часовни, он звучал как барабанная дробь. Тьеполо с мольбою воздел к небу руки.
– Снова буря. Да поможет нам Бог. Говорят, acqua alta[5] может подняться до пяти футов. А я еще не обсох после последнего дождя. Люблю я это место, но даже я не знаю, сколько смогу вытерпеть.
Это был на редкость тяжелый сезон в смысле дождей. Венецию заливало больше пятидесяти раз, а оставалось еще три зимних месяца. В дом, где жил Габриель, вода приходила столько раз, что он перенес все вещи с первого этажа и возле дверей и окон установил водонепроницаемые барьеры.
– Вы, как и Беллини, умрете в Венеции, – сказал Габриель. – И я похороню вас под кипарисом на Сан-Микеле в огромном склепе, соответствующем вашим деяниям.
Тьеполо, казалось, был доволен такой перспективой, хотя и знал, что его, как и большинство современных венецианцев, ждет оскорбительное захоронение на материке.
– А вы, Марио? Где вы умрете?
– Если немного повезет, это произойдет в то время и в том месте, какие я выберу. Оно будет наилучшим, на какое может рассчитывать такой, как я, человек.
– Окажите мне услугу.
– Какую?
Тьеполо повернул свою крупную голову и посмотрел на испещренную шрамами фреску.
– Только закончите до смерти работу над запрестольным образом. Вы обязаны сделать это ради Джованни.
Сирены на базилике Сан-Марко, оповещающие о наводнении, зазвучали через несколько минут после четырех. Габриель быстро обтер кисти и вычистил палитру, но к тому времени, когда он спустился с мостков и прошел по нефу к центральному входу, по улице уже бежал поток воды в несколько дюймов глубиной.
Он вернулся в церковь. Как и у большинства венецианцев, у него было несколько пар резиновых сапог «веллингтонов», которые он держал в стратегически важных местах, с тем чтобы ими можно было воспользоваться в любую минуту. «Веллингтоны», лежавшие в церкви, были его первой парой. Ему одолжил их Умберто Конти, венецианский мастер-реставратор, у которого Габриель был учеником. Габриель несчетное число раз пытался вернуть сапоги, но Умберто не хотел их брать. «Держи их при себе, Марио, вместе с тем, чему я тебя научил. Обещаю: они тебе хорошо послужат».
Габриель натянул пожелтевшие старые сапоги Умберто и завернулся в зеленое непромокаемое пончо. Через минуту он уже пробирался по доходившей до щиколоток воде, покрывавшей салицада[6] Сан-Джованни-Кризостомо, как оливковый призрак. На страда Нова муниципальные рабочие еще не положили деревянные мостки, именуемые passerelle, – Габриель знал: это плохой признак, означавший, что предсказано сильное затопление, которое может унести passerelle.
К тому времени, когда он дошел до рио Тера-Сан-Леонардо, вода дошла уже до верха его сапог. Он свернул в переулок, где слышался лишь плеск воды, и прошел по нему к временному деревянному мосту через рио ди Гетто-Нуово. Перед ним возникло кольцо из неосвещенных многоквартирных домов, особенно заметных, так как они были выше всех домов в Венеции. Он пробрался по залитому водой проулку и вышел на большую площадь. Дорогу ему пересекла пара бородатых студентов, направлявшихся через затопленную площадь к синагоге, – бахрома tallit Katan[7] била их по ногам. Габриель повернул налево и направился к маленькой двери в доме № 2899. На маленькой медной дощечке значилось: «Comunitа Ebraica di Venezia» – Еврейская община Венеции. Он нажал на звонок, и по переговорному устройству раздался старческий женский голос:
– Pronto?[8]
– Это Марио.
– Ее тут нет.
– А где она?
– Помогает в книжной лавке. Одна из девушек заболела.
Он открыл стеклянную дверь в нескольких шагах оттуда, вошел и сбросил капюшон пончо. Налево был вход в скромный музей гетто; направо – приятная маленькая книжная лавка, теплая и ярко освещенная. Девушка с коротко остриженными светлыми волосами сидела за прилавком на высоком табурете и быстро подсчитывала деньги в кассе, чтобы успеть до захода солнца, когда уже нельзя будет иметь дело с деньгами. Ее звали Валентина. Она улыбнулась Габриелю и указала карандашом на большое – от пола до потолка – окно, выходившее на канал. У окна стояла на четвереньках поразительно красивая женщина и собирала воду, просочившуюся сквозь якобы водонепроницаемую изоляцию.
– Я говорил им, что эта изоляция не выдержит, – сказал Габриель. – Пустая трата денег.
Кьяра быстро подняла на него глаза. У нее были черные кудрявые волосы, отливавшие красновато-коричневыми блестками. Слегка схваченные заколкой сзади на шее, они непокорно рассыпались по ее плечам. Глаза у нее были цвета жженого сахара с золотистыми крапинками, менявшие цвет в зависимости от настроения Кьяры.
– Не стой там как идиот. Спустись сюда и помоги мне.
– Неужели ты считаешь, что человек моего дарования…
Мокрое белое полотенце, брошенное с удивительной силой и меткостью, попало ему прямо в грудь. Габриель выжал из него воду в чан и опустился рядом с Кьярой на колени.
– В Вене был взрыв, – шепотом сообщила Кьяра, держа губы у самой щеки Габриеля. – Он здесь. Он хочет видеть тебя.
Воды канала плескались у входа с улицы в дом. Когда Габриель открыл дверь, пол в мраморном холле был покрыт рябью. Он оглядел нанесенный ущерб и устало пошел по лестнице следом за Кьярой. В гостиной царила темнота. Пожилой мужчина стоял у забрызганного дождем окна, выходящего на канал, неподвижно, словно фигура работы Беллини. На нем был темный деловой костюм с серебристым галстуком. У него была круглая лысая голова, а сильно загорелое, испещренное шрамами и морщинами лицо, казалось, было высечено из камня пустыни. Габриель подошел к нему сбоку. Пожилой мужчина никак на него не реагировал. Он смотрел на возрастающие воды канала, и насупленное лицо его дышало фатализмом, словно он присутствовал при начале Всемирного потопа, наступившего, чтобы уничтожить злодеяния человека. Габриель уже знал, что Ари Шамрон сообщит ему о чьей-то смерти. Смерть соединила их в самом начале, и смерть оставалась основой связывавших их уз.
3
Венеция
В коридорах и конференц-залах Израильской разведслужбы Ари Шамрон был легендой. Он действительно был ядром службы. Он проникал во дворцы королей, крал тайны тиранов и убивал врагов Израиля собственными руками. Свой величайший подвиг он совершил в дождливую ночь в мае 1960 года, когда, выскочив из машины в убогом пригороде на севере Буэнос-Айреса, захватил Карла Адольфа Эйхманна.
В сентябре 1972 года премьер-министр Голда Меир приказала ему выследить и убить палестинских террористов, которые захватили и убили одиннадцать израильтян на Мюнхенских Олимпийских играх. Габриель, бывший тогда многообещающим студентом в Школе искусств в Иерусалиме, нехотя присоединился к операции Шамрона с подходящим названием «Гнев Господень». По лексикону операции на иврите Габриеля звали Алэ. Имея в руках всего лишь «беретту», он спокойно убил шесть человек.
Карьера Шамрона не была непрерывным взлетом. Были в ней и глубокие долины, и ошибочные прогулки по оперативному пустырю. За ним закрепилась репутация человека, который сначала стреляет, а уж потом волнуется по поводу последствий. Одним из величайших его достоинств был сумасбродный характер. Он вызывал страх как у друзей, так и у врагов. Некоторые политические деятели не могли мириться с его вспыльчивостью. Рабин часто избегал принимать его звонки, опасаясь услышать то, что он скажет. Перес считал его дикарем и отправил в иудейскую пустыню в отставку. Барак, когда служба стала заваливаться, реабилитировал Шамрона и вернул его на службу, чтобы выправить ситуацию.
Официально он был в отставке, и его любимая служба находилась в руках в высшей степени современного технократа «чего изволите» по имени Лев. Но во многих кругах Шамрон всегда оставался Memuneh, самым главным. Нынешний премьер-министр был его давним другом и попутчиком. Он дал Шамрону непонятный титул и достаточно власти, чтобы тот у всех стоял поперек горла. На бульваре Царя Саула были люди, которые клялись, что Лев втайне молится, чтобы Шамрон поскорее умер, и что Шамрон, упрямец Шамрон, благодаря своей стальной воле умудряется оставаться живым, чтобы изводить его.
Сейчас, стоя у окна, Шамрон спокойно изложил Габриелю все, что ему было известно о случившемся в Вене. Накануне вечером в «Рекламациях за период войны и справках» взорвалась бомба. Эли Лавон лежит в глубокой коме в отделении интенсивной терапии венской Общей больницы; шансы на выживание – в лучшем случае один из двух. Его две помощницы – Ревекка Газит и Сара Гринберг – погибли при взрыве. Ответственность взяло на себя ответвление организации бен Ладена «Аль-Кайеда» – какая-то темная группа под названием «Ячейки исламских борцов». Шамрон разговаривал с Габриелем на своем английском с убийственным акцентом. В доме на венецианском канале не разрешалось говорить на иврите.
Кьяра принесла в гостиную кофе и ругелах и села между Габриелем и Шамроном. Из них троих только на Кьяру распространялись дисциплинарные правила службы. Она числилась как bat leveyha,[9] и работа ее состояла в том, чтобы быть любовницей или женой офицера на оперативной работе. Как все сотрудники службы, она была обучена искусству единоборства и умению пользоваться оружием. То, что на выпускном экзамене по стрельбе она получила более высокую оценку, чем Габриель Аллон, служило источником напряжения в службе. Секретные задания, которые ей давали, часто требовали известного интима с партнером, например, ей приходилось проявлять нежность в ресторанах и ночных клубах и делить с ним постель в гостиничных номерах или на конспиративных квартирах. Романтические отношения между офицерами разведки и сопровождающими их агентами официально были запрещены, но Габриель знал, что совместная жизнь и естественный стресс оперативной работы часто побуждают людей сближаться. Однажды у него самого был роман с его bat leveyha в Тунисе. Это была хорошенькая марсельская еврейка по имени Жаклин Делакруа, и роман чуть не разрушил его брак. Когда Кьяра уезжала, Габриель часто представлял себе ее с другим мужчиной. Хоть он и был не из ревнивых, втайне он с нетерпением ждал того дня, когда на бульваре Царя Саула решат, что ей грозит слишком большая опасность на оперативной работе.
– А из кого в точности состоят эти «Ячейки исламских борцов»? – спросил он.
Шамрон состроил гримасу.
– Это краткосрочно действующие оперативники, выступающие главным образом во Франции и паре других европейских стран. Им нравится поджигать синагоги, осквернять еврейские кладбища и избивать на парижских улицах еврейских детей.
– Можно было что-то извлечь из их объявления о том, что они берут на себя ответственность?
Шамрон отрицательно покачал головой:
– Это всего лишь обычная болтовня о плачевном положении палестинцев и уничтожении сионистов как класса. Да еще они грозили продолжить нападения на еврейские объекты в Европе, пока Палестина не станет свободной.
– Контора Лавона была настоящей крепостью. Как сумела группа, обычно бросающая «коктейли Молотова» и разбрызгивающая краску, проникнуть в «Рекламации за период войны и справки» и подложить там бомбу?
Шамрон принял чашку из рук Кьяры.
– Австрийская штатсполицай еще не уверена, но они полагают, что бомба могла быть скрыта в компьютере, который в тот день был доставлен в контору.
– А мы полагаем, что «Ячейки исламских борцов» способны запрятать бомбу в компьютер и протащить ее в охраняемое здание в Вене?
Шамрон усиленно стал размешивать сахар в своей чашке с кофе и медленно покачал головой.
– Тогда кто же это сделал?
– Я, безусловно, хотел бы знать ответ на этот вопрос.
Шамрон снял пиджак и закатал рукава рубашки. Было ясно, что он давал этим понять. Габриель отвел взгляд от скрытых тяжелыми веками глаз Шамрона и подумал о том последнем разе, когда Старик посылал его в Вену. Это было в январе 1991 года. Службе стало известно, что иракский разведчик, действовавший в городе, планирует осуществить целую цепь террористических нападений на израильские объекты в годовщину первой войны в Персидском заливе. Шамрон приказал Габриелю следить за иракцем и при необходимости принять упреждающие меры. Не желая расставаться с семьей, Габриель взял с собой свою жену Лею и маленького сынишку Дани. Сам того не сознавая, он попал в западню, приготовленную для него палестинским террористом по имени Тарик аль-Хурани.
Габриель был долго погружен в раздумья, наконец он посмотрел на Шамрона.
– Вы что, забыли, что Вена – запретный для меня город?
Шамрон закурил одну из своих смердящих турецких сигарет и положил потушенную спичку на блюдце рядом со своей ложкой. Он сдвинул очки на лоб и скрестил на груди руки. Они были у него все еще мощные – стальное плетение под тонким слоем провисшей загорелой кожи. Такими же были и пальцы. Этот жест Габриель уже много раз видел. Непреклонный Шамрон. Неукротимый Шамрон. Вот так же он выглядел, когда впервые послал Габриеля в Рим убивать. Уже тогда он был немолод. Да, собственно, он никогда и не был по-настоящему юн. Вместо того, чтобы бегать за девушками по пляжу в Нетанье, он уже командовал отрядом в Палмахе, сражаясь в первом бою в нескончаемой войне, которую ведет Израиль. Молодость была у него украдена. Теперь он крал ее у Габриеля.
– Я сам вызывался поехать в Вену, но Лев и слышать об этом не хочет. Он знает, что из-за нашей печальной славы в Вене я стал кем-то вроде парии. Он считает, что штатсполицай и австрийские службы безопасности будут более любезны, если нас будет представлять менее полярная фигура.
– И вы решили послать меня?
– Не в официальном качестве, конечно. – В эту пору Шамрон не делал почти ничего в официальном качестве. – Но я буду себя куда уютнее чувствовать, если кто-то, кому я доверяю, будет в Вене наблюдать за состоянием дел.
– У нас же есть в Вене сотрудники службы.
– Да, но они докладывают Льву.
– Ведь он же шеф.
Шамрон закрыл глаза, словно ему напомнили о чем-то, что вызывало боль.
– У Льва сейчас так много разных проблем, что он не сможет уделить этому нужное внимание. Мальчишка-император в Дамаске издает вызывающие беспокойство звуки. Иранские муллы пытаются создать бомбу Аллаха, а Хамас превращает детей в бомбы и взрывает их на улицах Тель-Авива и Иерусалима. Маленький взрыв в Вене не вызовет заслуженного внимания, несмотря на то, что объектом был Эли Лавон.
Шамрон сочувственно смотрел на Габриеля поверх края кофейной чашечки.
– Я знаю, что у тебя нет желания ехать в Вену, особенно после того взрыва, но твой друг лежит в венской больнице, борясь за жизнь! Мне представляется, ты хотел бы знать, кто уложил его туда.
А Габриель подумал о наполовину законченном запрестольном образе Беллини в церкви Сан-Джованни-Кризостомо и почувствовал, как это уходит от него. Кьяра, отвернувшись от Шамрона, сейчас напряженно смотрела на него. Габриель постарался не встречаться с ней взглядом.
– Если ехать в Вену, – спокойно произнес он, – мне нужно стать другой личностью.
Шамрон передернул плечами, как бы говоря: существуют способы – очевидные способы, дорогой мальчик, – обойти столь несложную проблему, как крыша. Габриель ожидал именно такого ответа от Шамрона. И протянул ему руку.
Шамрон открыл свой портфель и вручил Габриелю серый конверт. Габриель вскрыл его и вытряхнул содержимое на кофейный столик: билеты на самолет, кожаный бумажник, израильский паспорт с многочисленными визами. Он открыл паспорт, и на него глянуло собственное лицо. У него было новое имя – Гидеон Аргов. Ему всегда нравилось имя Гидеон.
– А на что Гидеон живет?
Шамрон кивнул в сторону бумажника. Среди обычного содержимого бумажника – кредитных карточек, водительских прав, членских билетов оздоровительного клуба и видеоклуба – Габриель обнаружил визитную карточку:
Гидеон Аргов
Рекламации за период войны и справки
17, Менделе-стрит
Иерусалим 92147
Габриель поднял глаза на Шамрона.
– Я не знал, что у Эли есть контора в Иерусалиме.
– Теперь есть. Проверь номер.
Габриель отрицательно покачал головой.
– Я вам верю. А Лев об этом знает?
– Нет еще, но я намерен сказать ему, как только ты благополучно приземлишься в Вене.
– Значит, мы вводим в заблуждение австрияков и службу. Это впечатляет, даже когда исходит от вас, Ари.
Шамрон застенчиво улыбнулся. Габриель открыл обложку билета на самолет и поинтересовался своим маршрутом.
– Не думаю, чтобы тебе следовало лететь отсюда прямиком в Вену. Утром я вместе с тобой полечу в Тель-Авив – места у нас, конечно, будут не рядом. А ты развернешься и полетишь днем в Вену. Виза у тебя уже есть, так что никаких проблем не должно быть.
Габриель поднял глаза и с сомнением посмотрел на Шамрона.
– Если только австрияки не узнают меня в аэропорту и не потащат в отдельную комнату для оказания особого внимания.
– Такая возможность никогда не может быть исключена, но ведь прошло тринадцать лет. А кроме того, ты же недавно был в Вене. Я помню нашу встречу в конторе Эли в прошлом году по поводу угрозы, нависшей над жизнью его святейшества папы Павла Седьмого.
– Я возвращался в Вену, – признал Габриель, держа в руке фальшивый паспорт. – Но никогда таким образом и никогда через аэропорт.
Шамрон с тревогой следил поверх своей чашки кофе за тем, как Габриель складывал все снова в конверт.
– Так ты поедешь?
– Поеду, – мрачно произнес Габриель. – Надеюсь только, что Эли будет все еще жив, когда я туда доберусь.
Есть в жизни Габриеля моменты, фрагменты времени, которые он переносит на холст и вешает в погребе своего подсознания. К этой галерее памяти он добавил Кьяру такой, какой видел ее сейчас: она сидела в рембрандтском свете от уличных фонарей за окном их спальни, с голой грудью и волнами шелкового атласного одеяла на бедрах. Возникли и другие видения. Шамрон открыл им дверь, и Габриель, как всегда, бессилен был отбросить их. Возник Вадель Адель Цвайтер, тощий интеллигент в клетчатом пиджаке, которого Габриель убил в вестибюле многоквартирного дома в Риме. Возник Али Абдель Хамиди, погибший от руки Габриеля в проулке в Цюрихе, Махмуд аль-Хурани, старший брат Тарика аль-Хурани, которого Габриель убил выстрелом в глаз в Кельне, когда тот лежал в объятиях любовника.
Густая грива упала на груди Кьяры. Габриель протянул руку и осторожно убрал ее. Кьяра посмотрела на него. Было слишком темно, чтобы видеть цвет ее глаз, но Габриелю передавались ее мысли. Шамрон научил его угадывать чувства других людей, так же как Умберто Конти научил подражать старым мастерам. Габриель даже в объятиях любимой не мог прервать вечный поиск сигналов, упреждающих предательство.
Кьяра положила руки на грудь Габриеля. Он чувствовал, как бьется его сердце под ее прохладной ладонью.
– Не хочу я, чтоб ты ехал в Вену, – сказала она. – Там для тебя небезопасно. И именно Шамрон должен бы это знать.
– Шамрон прав. То было много лет назад.
– Да, но если ты поедешь туда и начнешь расспрашивать про взрыв, ты снова столкнешься с австрийской полицией и службами безопасности. Шамрон использует тебя, чтобы не выходить из игры. Он вовсе не заботится о твоих интересах.
– Ты говоришь как сподвижник Льва.
– Да я больше всего забочусь о тебе. – Она нагнулась и поцеловала его в губы. Ее губы были как цветок. – Не хочу я, чтобы ты ехал в Вену и погружался в прошлое. – После минутной паузы она добавила: – Я боюсь, что ты от меня уйдешь.
– К кому?
Она натянула одеяло на плечи и прикрыла грудь. Между ними встала тень Леи. Это Кьяра впустила ее в комнату. Кьяра говорила о Лее только в постели, надеясь, что Габриель там не станет ей лгать. Вся жизнь Габриеля была ложью, с любовницами же он всегда был мучительно честен. Он мог заниматься любовью с женщиной лишь в том случае, если она знала, что он убивал людей ради своей страны. Он никогда не лгал насчет Леи. Считал своим долгом честно говорить о ней даже женщинам, занявшим ее место в его постели.
– Ты хоть представляешь себе, как мне это тяжело? – спросила Кьяра. – Все знают про Лею. Она легенда службы, как и ты, и Шамрон. Как долго предстоит мне жить со страхом, что однажды ты решишь – больше так существовать ты не можешь?
– Чего же ты от меня хочешь?
– Женись на мне, Габриель. Оставайся в Венеции и восстанавливай картины. Скажи Шамрону, чтоб оставил тебя в покое. У тебя же все тело в шрамах. Разве ты недостаточно сделал для своей страны?
Он закрыл глаза. Перед ним открылась дверь галереи. Он нехотя вышел из нее и обнаружил, что стоит на улице в старом Еврейском квартале Вены с Леей и Дани. Они только что кончили обедать, идет снег. Лея нервничает. В баре ресторана был телевизор, и все время, пока они обедали, они смотрели, как иракские ракеты сыпались на Тель-Авив. Лее не терпится поскорее вернуться домой и позвонить матери. Она торопит Габриеля, чтобы тот не осматривал, как всегда, дно автомобиля. «Да ну же, Габриель, поторапливайся. Я хочу поговорить с мамой. Я хочу услышать ее голос». Он распрямляется, пристегивает Дани к его креслицу и целует Лею. Даже сейчас он все еще чувствует вкус оливок на ее губах. Он поворачивается и идет назад к собору, где в качестве крыши восстанавливает запрестольный образ, на котором запечатлены мученичества святого Штефана. Лея поворачивает ключ в замке. Мотор медлит включаться. Габриель стремительно поворачивается и кричит, чтобы она не включала мотор, но Лея не видит его, так как смотровое стекло запорошено снегом. Она снова поворачивает ключ, и Габриель взлетает в воздух…
Он подождал, пока картины, полные огня и крови, не поглотит тьма, тогда сказал Кьяре то, что она хотела услышать. Когда он вернется из Вены, он поедет навестить Лею в больнице и скажет ей, что полюбил другую женщину.
Лицо Кьяры потемнело.
– Я бы хотела, чтобы ты нашел другой путь.
– Я должен сказать ей правду, – сказал Габриель. – Меньшего она не заслуживает.
– А она поймет?
Габриель передернул плечами. У Леи была психопатическая депрессия. Врачи Леи считали, что в ее памяти, словно видеокассета, все время проигрывается взрыв. И не остается места для впечатлений или звуков реального мира. Габриеля часто интересовало, каким он запечатлелся Лее в тот вечер. Видела ли она, как он удалялся в направлении шпиля собора, почувствовала ли, когда он вытаскивал ее обгоревшее тело из огня? Он был уверен только в одном. Лея не желала с ним разговаривать. Она не сказала ему ни единого слова в течение тринадцати лет.
– Это нужно мне, – сказал он. – Я должен произнести эти слова. Я должен сказать ей правду про тебя. Мне нечего стыдиться, и я, безусловно, не стыжусь тебя.
Кьяра выпустила из рук одеяло и горячо поцеловала его. Габриель почувствовал, как напряглось ее тело, а в дыхании появился привкус желания. Потом он лежал рядом с ней и гладил ее волосы. Он не мог заснуть – не мог в эту ночь накануне возвращения в Вену. Но было тут и еще кое-что. У него было такое чувство, будто он только что совершил предательство. Будто он только что был в женщине, принадлежащей другому мужчине. Тут он понял, что мысленно уже стал Гидеоном Арговым. И Кьяра на секунду показалась ему чужой.
4
Вена
– Прошу паспорт.
Габриель положил его на стойку эмблемой вниз. Офицер устало посмотрел на потертую обложку и перелистал странички, пока не дошел до визы. И поставив еще один штамп – с более чем нужной силой, подумал Габриель, – вручил паспорт Габриелю. Тот сунул паспорт в карман и пошел по сверкающему залу прилетов, таща за собой чемодан на колесиках.
На улице он встал в очередь на такси. Было черным-черно и страшно холодно. Ветер гнал снег, и окрестные поля были накрыты сверкающим одеялом снега. До слуха Габриеля долетали обрывки немецкого с венским акцентом. В противоположность многим своим соотечественникам Габриель не чувствовал раздражения, слыша немецкую речь. Немецкий был его первым языком и оставался языком его снов. Он в совершенстве владел им и говорил, как его мать, с берлинским акцентом.
Он дошел до начала очереди. Подъехал темно-синий «мерседес», и, прежде чем сесть на заднее сиденье, Габриель запомнил регистрационный номер машины. Он поставил сумку на сиденье и назвал шоферу адрес на расстоянии нескольких улиц от отеля, где забронировал себе номер.
Через две-три минуты появился характерный силуэт Вены – огромное «чертово колесо» над парком Пратер, ярко освещенный шпиль собора Святого Штефана, царящий над Внутренним городом. В противоположность большинству европейских городов Вена осталась неиспорченной и не зараженной урбанистической болезнью. В самом деле, в ее внешнем виде и стиле жизни мало что изменилось по сравнению с прошлым веком, когда она была административным центром империи, охватывавшей всю Центральную Европу и Балканы. До сих пор можно было посидеть днем за пирожным со сливками «У Демеля» или за кофе, не спеша просматривая газету, «У Латманна» или в кафе «Централь». Во Внутреннем городе лучше было забыть об автомобиле и передвигаться на трамвае или пешком по сверкающим чистотой тротуарам вдоль домов в готическом стиле или стиле барокко и шикарных магазинов. Мужчины до сих пор носят здесь костюмы из лодена и тирольские шляпы с пером; женщины до сих пор считают модным ходить в платьях с облегающим лифом и широкой юбкой. Брамс сказал, что обосновался в Вене, так как предпочитал работать в деревне. «Вена так и осталась деревней», – подумал Габриель. С чисто деревенским презрением к переменам и деревенской неприязнью к пришлым людям. Для Габриеля Вена всегда будет городом, где обитают призраки.
Они подъехали к Рингштрассе, широкому бульвару, опоясывающему центр города. С мелькавших мимо фонарей Габриелю улыбался красивый Петер Метцлер, кандидат в канцлеры от крайне правой австрийской национальной партии. Это было время выборов, и бульвар был увешан сотнями избирательных плакатов. Хорошо обеспеченная кампания Метцлера явно не скупилась на расходы. Его лицо было всюду, его взгляда нельзя было избежать. И лозунгом его кампании было: «Eine Neue Ordnung für ein Neues Österreich!» – «Новый порядок для новой Австрии!» «Австрийцы, – подумал Габриель, – не способны лукавить».
Габриель расплатился с такси возле многоквартирного дома близ Оперы и прошел пешком небольшое расстояние до узкой улочки под названием Вайбурггассе. Похоже, никто не следовал за ним, хотя он знал, что опытных следопытов почти невозможно заметить. Он вошел в маленькую гостиницу. Консьерж при виде его израильского паспорта принял безутешный вид и прошептал несколько сочувственных слов насчет «этого жуткого взрыва в Еврейском квартале». Габриель, войдя в роль Гидеона Аргова, несколько минут поговорил с консьержем по-немецки, прежде чем подняться по лестнице в свой номер на втором этаже. В номере был деревянный медового цвета пол и французские двери, выходящие в затененный внутренний двор. Габриель задвинул занавеси и поставил сумку на кровать – на самое видное место. Прежде чем уйти, он пристроил к дверному косяку сигнальное устройство, которое подскажет ему, входил ли кто-то в комнату в его отсутствие.
Он вернулся в вестибюль. Консьерж встретил Габриеля такой улыбкой, точно не видел его пять лет, а не пять минут. Снаружи пошел снег. Габриель шагал по темным улицам Внутреннего города, проверяя, не идет ли кто-нибудь за ним. Он останавливался у витрин, чтобы посмотреть через плечо, заскакивал в телефонные будки и, делая вид, что звонит, обозревал окрестности. В газетном киоске он купил «Ди Прессе», затем через сто метров бросил газету в мусорный бак. Наконец, убедившись, что за ним не следят, он вошел в метро на Штефанплац.
Ему не надо было смотреть на ярко освещенные карты венской транспортной системы, так как он ее помнил. Он купил в автомате билет, прошел через турникет и спустился на платформу. Сел в вагон и запомнил лица окружающих. Через пять остановок, на Вестбанхоф, он пересел на линию № 6, в поезд, идущий на север. У венской Общей больницы была своя остановка метро. Эскалатор медленно вывез Габриеля на заснеженный четырехугольник, по которому надо было пройти к главному входу на Вэрингер-Гюртель, 18–20.
Больница находилась на этом участке в Западной Вене более трехсот лет. В 1693 году император Леопольд I, заботясь о бедственном положении нуждающихся, приказал построить Дом для бедняков и инвалидов. Век спустя император Иосиф II переименовал его в Общую больницу для немощных. Старое здание продолжает стоять на расстоянии двух-трех улиц на Альзерштрассе, но вокруг него несколько кварталов занял комплекс университетской больницы. Габриель хорошо ее знал.
Под портиком, на котором значилось: «Saluti et solatio aegrorum» («Лечить и утешать больных»), – стоял человек из посольства. Это был маленький, нервического вида дипломат по имени Цви. Он пожал Габриелю руку и, быстро посмотрев его паспорт и визитную карточку, выразил сочувствие по поводу смерти его двух коллег.
Они вошли в главный вестибюль. В нем не было никого, кроме старика с жидкой седой бороденкой, который сидел на краешке дивана, сдвинув колени и держа на них шляпу, точно путешественник в ожидании запаздывающего поезда. Он что-то бормотал себе под нос. Когда Габриель проходил мимо, старик поднял глаза, и их взгляды на мгновение встретились. Габриель вошел в стоявший в ожидании пассажиров лифт, и старик исчез за закрывшимися дверцами.
Когда дверцы лифта открылись на восьмом этаже, Габриель несколько успокоился, увидев высокого блондина-израильтянина в двойке и с торчащим из уха проводом. У входа в отделение интенсивной терапии стоял другой охранник. Третий – маленький, смуглый, в плохо сидящем костюме – находился у двери в палату Эли. Он отступил, давая возможность Габриелю и дипломату войти. Габриель приостановился и спросил, почему его не обыскали.
– Вы же с Цви. Мне не надо вас обыскивать.
Габриель вытянул руки:
– Обыщи меня.
Охранник склонил набок голову и стал обыскивать. Габриель сразу узнал методику обыска. Все делалось по правилам. Промежность была обследована более навязчиво, чем это необходимо, но Габриель ведь сам напросился. Когда с обыском было покончено, он сказал:
– Обыскивай всех, кто проходит в эту палату.
Цви, представитель посольства, наблюдал за происходившим. Теперь он уже явно не верил, что приезжий из Иерусалима действительно Гидеон Аргов из «Рекламаций за период войны и справок». Габриеля это не слишком волновало. По ту сторону двери лежал его друг в беспомощном состоянии. Лучше вызвать у кого-то раздражение, чем позволить, чтобы он умер из-за того, что ты решил смириться.
Он прошел следом за Цви в палату. Кровать стояла за стеклянной перегородкой. Пациент не был похож на Эли, но Габриель не удивился. Подобно большинству израильтян он видел, какую дань взимает бомба с человеческого тела. Лицо Эли было скрыто дыхательной маской, на глазах лежала марля, вся голова была забинтована. На открытых участках щек были видны глубокие порезы.
Синеглазая сестра с коротко остриженными черными волосами проверяла, как идет внутривенное вливание. Она посмотрела на стоявших в помещении визитеров, на миг встретилась взглядом с Габриелем и снова принялась за работу. Глаза ее не выдали ничего.
Цви, оставив на минуту Габриеля, подошел к стеклянной перегородке и сообщил, в каком состоянии находится его коллега. От взрывной волны пострадали все внутренние органы. В течение секунды ему под кожу будто двинули армию, сказал Цви, и она все порушила на своем пути. Эли подбросило в воздух на пятьдесят футов. У него треснул череп. Пострадал мозг – насколько серьезно, можно будет судить, лишь когда он придет в сознание. Его уже дважды оперировали, чтобы устранить большую опухоль на мозге.
– Мозг его функционирует, – в завершение сказал Цви, – но на данный момент жизнь поддерживают приборы.
– А почему у него глаза закрыты марлей?
– В них осколки стекла. Врачи сумели извлечь бо́льшую часть, но с полдюжины все еще там.
– Он может ослепнуть?
– Врачи не могут этого знать, пока к нему не вернется сознание, – сказал Цви. И пессимистически добавил: – Если оно вернется.
– Мне говорили, что шанс выжить у него один к двум.
Маленький дипломат покачал головой:
– Если ему повезет.
В комнату вошел доктор. Он взглянул на Габриеля, и Цви быстро кивнул, затем открыл стеклянную дверь и вошел в палату. Сестра отошла от кровати, и доктор занял ее место. А она обогнула кровать и встала возле стекла. Взгляд ее вторично встретился со взглядом Габриеля, затем она резким движением руки задернула занавеску. Габриель шел в коридор, Цви следовал за ним.
– Вы в порядке?
– Вполне. Мне просто нужно минутку побыть одному.
Дипломат вернулся в помещение для визитеров. А Габриель, сцепив руки за спиной, как солдат по команде «вольно», медленно пошел по знакомому коридору под гудение медицинских приборов. Он прошел мимо поста медсестер. Рядом с окном висел такой же банальный вид венской улицы. И запах был тот же – запах дезинфекции и смерти.
Он подошел к двери № 2602-С. Осторожно толкнул ее кончиками пальцев, и дверь тихо открылась. В комнате было темно и пусто. Габриель оглянулся через плечо. Медсестер видно не было. Он проскользнул внутрь и закрыл за собой дверь.
Он не стал включать свет и ждал, пока глаза привыкнут к темноте. Скоро комната прояснилась: пустая кровать, молчащие мониторы, обитое винилом кресло. Самое неудобное кресло во всей Вене. Он провел в этом кресле десять ночей, в основном без сна. И только раз к Лее вернулось сознание. Она спросила про Дани, и Габриель неразумно сказал ей правду. Слезы хлынули по ее израненным щекам. Больше она с ним ни разу не разговаривала.
– Вам не положено здесь быть.
Вздрогнув, Габриель быстро обернулся. Голос принадлежал сестре, которая минуту назад была у кровати Эли. Она произнесла это по-немецки. Он ответил на том же языке:
– Извините, я просто…
– Я знаю, чем вы занимаетесь. – Она помолчала. – Я помню вас.
Она прислонилась к двери, наклонила голову набок и сложила руки на груди. Не будь она в мешковатом костюме медсестры и со стетоскопом, висящим на шее, Габриель подумал бы, что она с ним флиртует.
– Ваша жена пострадала от взрыва бомбы года два-три назад. Я была тогда молодой медсестрой, только начинала. Я ночью дежурила у нее. Вы не помните?
Габриель с минуту смотрел на нее. И наконец произнес:
– Я убежден, что вы ошибаетесь. Я впервые в Вене. И я никогда не был женат. Извините, – поспешно добавил он и направился к двери. – Мне не следовало заходить сюда. Просто надо было немного собраться с мыслями.
Он стал проходить мимо нее. Она положила руку ему на локоть.
– Только скажите мне, – попросила медсестра. – Она жива?
– Кто?
– Ваша жена, конечно.
– Извините, – решительно произнес он, – но вы меня с кем-то путаете.
Она кивнула: «Как вам угодно». Ее синие глаза были влажны и блестели в полутьме.
– Он ваш друг – Эли Лавон?
– Да. Очень близкий друг. Мы работали вместе. Я живу в Иерусалиме.
– В Иерусалиме, – повторила она так, словно самый звук этого слова был ей приятен. – Мне б хотелось когда-нибудь побывать в Иерусалиме. Друзья считают, что я рехнулась. Ну, вы понимаете: самоубийцы с бомбами и все такое… – Голос ее замер. – А я все равно хочу туда.
– И надо поехать, – сказал Габриель. – Это удивительное место.
Она снова дотронулась до его локтя.
– Ваш приятель серьезно ранен. – Голос ее звучал сочувственно, с налетом печали. – У него впереди очень тяжелое время.
– А он выживет?
– Мне не разрешено отвечать на такие вопросы. Только врачи могут делать прогнозы. Но если хотите знать мое мнение: побудьте какое-то время с ним. Поговорите с ним. Неизвестно ведь, может, он и услышит вас.
Габриель пробыл еще час, глядя через стекло на неподвижное тело Эли. Вернулась медсестра. Она несколько минут проверяла признаки жизни у Эли, затем знаком дала Габриелю понять, чтобы он зашел в палату.
– Это против правил, – заговорщическим шепотом произнесла она. – Но я посторожу у двери.
Габриель не разговаривал с Эли – только держал его израненную опухшую руку. Никакие слова не могли описать ту боль, какую он чувствовал, глядя на второго близкого человека, лежавшего в венской больнице. Минут через пять медсестра вернулась, положила руку Габриелю на плечо и сказала, что пора уходить. В коридоре она сказала, что ее зовут Маргерите.
– Я работаю завтра вечером, – сказала она. – Надеюсь увидеть вас тогда.
Цви уехал; на дежурство явились новые охранники. Габриель спустился на лифте в вестибюль и вышел на улицу. Ночь стала ужасающе холодной. Он сунул руки в карманы пальто и ускорил шаг. Он только собрался спуститься по эскалатору на станцию метро, как почувствовал, что кто-то дотронулся до его локтя. Обернулся, ожидая увидеть Маргерите, но вместо нее оказался лицом к лицу со стариком, которого видел в вестибюле.
– Я слышал, как вы говорили на иврите с тем человеком из посольства. – Старик с трудом говорил на венском диалекте немецкого, глаза его были широко раскрыты и влажны. – Вы израильтянин, да? Друг Эли Лавона? – И не дожидаясь ответа, произнес: – Меня зовут Макс Клайн, и это я во всем виноват. Пожалуйста, поверьте. Это все моя вина.
5
Вена
Макс Клайн жил в приятном старом районе за Рингштрассе, куда можно было добраться трамваем. Это был красивый старый бидермейеровский дом с проходом в большой темный внутренний двор. Второй проход приводил в маленький аккуратный вестибюль. Габриель провел взглядом по списку жильцов. В середине списка он увидел: «М. Клайн – ЗВ». Лифта не было. Клайн, цепляясь за деревянные перила и с трудом передвигая ноги по затертой ковровой дорожке, упорно шагал наверх. На третьем этаже было три деревянных двери с «глазками». Направляясь к той, что была справа, Клайн достал из кармана пальто связку ключей. Рука его так дрожала, что ключи звенели, словно он играл на ударном инструменте.
Он открыл дверь и вошел в квартиру. Габриель остановился у порога. Ему пришло в голову, когда он сидел рядом с Клайном в трамвае, что в нынешних обстоятельствах не стоит ему ни с кем связываться. Опыт и тяжелые уроки научили его тому, что даже восьмидесятилетний еврей может явиться потенциальной угрозой. Однако если Габриель и почувствовал тревогу, она быстро исчезла, когда он увидел, как Клайн стал зажигать все источники света в квартире. «Человек, расставляющий западню, так не поступает», – подумал он. Макс Клайн был явно напуган.
Габриель вошел следом за ним в квартиру и закрыл дверь. При ярком свете он наконец мог как следует разглядеть Клайна. Красные слезящиеся глаза увеличивали очки с толстыми стеклами в черной оправе. Редкая седая бороденка не могла скрыть темных печеночных пятен на щеках. Габриель понял – даже прежде чем Клайн сказал ему об этом, – что он из выживших. Голод – как пули и огонь – оставляет свои следы. Габриель видел такие лица в своем городке в долине Джезрил. Видел он эти признаки и на лицах родителей.
– Я приготовлю чай, – объявил Клайн, прежде чем исчезнуть за двойными дверями, ведущими на кухню.
«Чай в полночь», – подумал Габриель.
Вечер предстоял долгий. Габриель подошел к окну и раздвинул ставни. Снег перестал идти, и на улице было пусто. Он сел. Комната напомнила ему кабинет Эли: высокий бидермейеровский потолок, книги, сваленные на полках. Изящный интеллектуальный беспорядок.
Клайн вернулся и поставил на низкий столик серебряный чайный сервиз. Он сел напротив Габриеля и с минуту молча смотрел на него.
– Вы отлично говорите по-немецки, – наконец произнес он. – Собственно, вы говорите, как берлинец.
– Моя мама родом из Берлина, – признался Габриель, – но родился я в Израиле.
Клайн внимательно изучал его, словно искал отголоски тех лет. Затем вопросительно поднял руки ладонями вверх, как бы приглашая продолжать. Где она? Как выжила? Была ли в лагере?
– Мои родители оставались в Берлине и были со временем отправлены в лагеря, – сказал Габриель. – Мой дед был довольно известным художником. Он никогда не верил, что немцы, которых он причислял к самым цивилизованным народам на земле, дойдут до того, до чего они дошли.
– Какая фамилия была у вашего деда?
– Франкель, – сказал Габриель, опять-таки склоняясь к правде. – Виктор Франкель.
Клайн медленно кивнул, давая понять, что знает эту фамилию.
– О да. Я видел его работы. Он был учеником Бекмана, верно? Очень был талантливый.
– Да, верно. Нацисты объявили его работы упадочными, и многое было уничтожено. Он также лишился работы в Институте искусств, где преподавал в Берлине.
– Но остался в искусстве. – Клайн покачал головой. – Никто не верил, что такое может быть. – Он помолчал, думая о чем-то другом. – Так что же случилось с вашими родителями?
– Их депортировали в Аушвиц. Маму отправили в женский лагерь в Биркенау, и она умудрилась прожить там более двух лет, а потом их освободили.
– А ваши дед и бабушка?
– Их сразу же отправили в газовую камеру.
– Дату помните?
– По-моему, это было в январе сорок третьего года, – сказал Габриель.
Клайн прикрыл глаза.
– Что-то связано с этой датой, герр Клайн?
– Да, – с отсутствующим видом произнес Клайн. – Я был там в ту ночь, когда их привезли из Берлина. Я очень хорошо это помню. Видите ли, мистер Аргов, я был скрипачом в оркестре лагеря Аушвиц. Я играл музыку дьявола в оркестре проклятых. Я исполнял серенады обреченным, медленно шагавшим к газовым камерам.
На лице Габриеля ничего не отразилось. А Макс Клайн явно страдал от огромного чувства вины. Он считал, что в какой-то мере повинен в смерти тех, кто проходил мимо него по пути в газовые камеры. Это было, конечно, безумием. Он был виновен не более, чем те евреи, которые, как рабы, работали на заводах или на полях Аушвица, чтобы прожить лишний день.
– Но вы ведь не поэтому остановили меня сегодня вечером в больнице. Вы хотели рассказать мне что-то о бомбе в «Рекламациях за период войны и справках».
Клайн утвердительно кивнул.
– Как я уже сказал, в этом виноват я. Это я повинен в смерти тех двух прелестных девушек. Из-за меня ваш друг Эли Лавон лежит сейчас в больнице на грани смерти.
– Вы хотите сказать, что это вы подложили бомбу? – Габриель намеренно задал вопрос таким тоном, что было ясно: он не верит этому. Вопрос должен был звучать – да и прозвучал – нелепо.
– Конечно, нет! – возмутился Клайн. – Но боюсь, я породил ряд событий, которые и побудили других подложить ее.
– Почему бы вам не рассказать мне все, что вам известно, мистер Клайн. И уж я буду судить, кто тут виноват.
– Судить может лишь Бог! – сказал Клайн.
– Пожалуй, но иногда даже Господу Богу надо помочь.
Клайн улыбнулся и стал разливать чай. Затем рассказал все с самого начала. Габриель терпеливо слушал и не торопил рассказчика. Эли Лавон повел бы себя так же. «Память у стариков – все равно что гора фарфоровой посуды, – любил говорить Лавон. – Если попытаешься вытащить тарелку из середины, вся гора обрушится».
Квартира принадлежала отцу Клайна. До войны он жил там вместе с родителями и двумя младшими сестрами. Его отец – Соломон – был преуспевающим торговцем текстилем, и Клайны жили неплохо, как высшие слои среднего класса: днем – штрудели в лучших кафе Вены, вечером – театр или опера, летом – скромная семейная вилла на юге страны. Молодой Макс Клайн был многообещающим скрипачом. «Заметьте: еще не готовым играть в симфоническом оркестре или в опере, мистер Аргов, но уже достаточно хорошим скрипачом, чтобы играть в маленьких венских камерных оркестрах».
– Мой отец, даже устав после работы, редко пропускал мои выступления. – Клайн улыбнулся, вспоминая, как отец слушал его. – Он чрезвычайно гордился тем, что его сын – венский музыкант.
Их идиллическому миру пришел конец внезапно, 12 марта 1938 года. Это была суббота – Клайн точно помнил, и для большинства австрийцев появление солдат вермахта на улицах Вены было праздником.
– Но не для евреев, мистер Аргов… для нас это было лишь источником страха.
И самые большие опасения быстро реализовались. В Германии наступление на евреев происходило постепенно. А в Австрии это произошло мгновенно и жестоко. За несколько дней все принадлежавшие евреям предприятия и магазины были помечены красной краской. К любому нееврею, подходившему к такому магазину, приставали чернорубашечники и эсэсовцы. Многих заставляли носить плакаты с надписью: «Я, арийская свинья, покупал в еврейской лавке». Евреям запретили иметь собственность, работать в любой области или нанимать кого-либо, заходить в рестораны или кафе, гулять в венских парках. Евреям запрещено было держать в домах печатные машинки или радио, поскольку таким образом они могли установить связь с внешним миром. Евреев вытаскивали из домов и из синагог и избивали на улицах.
– Четырнадцатого марта гестаповцы ворвались сюда, в нашу квартиру, и забрали бо́льшую часть наших ценностей: ковры, серебро, картины, даже подсвечник для шабата.[10] Меня с отцом арестовали и заставили мыть тротуары горячей водой и зубной щеткой. Раввина вытащили из синагоги на улицу и на глазах у ликующей толпы австрийцев вырвали ему бороду. Я попытался было вмешаться и остановить их, так меня избили чуть не до смерти. В больницу меня, конечно, отвезти не могли. По новым законам это было запрещено.
Меньше чем за неделю еврейская община в Австрии, одна из самых влиятельных во всей Европе, была разгромлена – центры общины и еврейские общества были закрыты, руководители посажены в тюрьму, синагоги закрыты, молитвенные книги сожжены на кострах. Первого апреля сто известных общественных деятелей и деловых людей были отправлены в Дахау. Пятьсот евреев предпочли умереть, лишь бы больше ни одного дня не терпеть унижений от нацистов и их австрийских союзников – в том числе семья из четырех человек, жившая рядом с Клайнами.
– Они убивали себя друг за другом, – сказал Клайн. – Я лежал в постели и все слышал. Выстрел – вслед за ним рыдания. Снова выстрел – снова рыдания. После четвертого выстрела уже некому было плакать, кроме меня.
Больше половины членов общины решили уехать из Австрии в другие страны. Среди них был и Макс Клайн. Он получил голландскую визу и переехал туда в 1939 году. Меньше чем через год он снова окажется под нацистским сапогом.
– Мой отец решил остаться в Вене, – сказал Клайн. – Понимаете, он верил в силу закона. Он считал, что если не будет нарушать закон, то все будет в порядке и буря постепенно уляжется. А стало, конечно, хуже, и когда он наконец решил уехать, было уже поздно.
Клайн попытался налить себе еще чаю, но рука у него сильно тряслась. Габриель налил ему чай и осторожно осведомился, что стало с его родителями и двумя сестрами.
– Осенью сорок первого года их отправили в Польшу и поместили в еврейское гетто в Лодзи. В январе сорок второго года их перевезли в последний раз в лагерь Челмно для уничтожения.
– Ну, а вы?
Клайн горько усмехнулся:
– А я? Та же доля, только другой конец. В июне сорок второго года был арестован в Амстердаме, потом отправлен на восток – в Аушвиц. На железнодорожной платформе, полумертвый от голода и жажды, я услышал голос. Мужчина в тюремной робе спрашивал, нет ли среди приехавших на поезде музыкантов.
Клайн ухватился за этот голос, как утопающий за соломинку. «Я скрипач», – сказал он человеку в полосатой одежде. «А у вас есть инструмент?» Клайн приподнял потрепанный футляр: единственное, что он взял с собой из Вестерборка. «Пошли со мной. Сегодня у вас счастливый день».
– Счастливый день, – с отсутствующим видом повторил Клайн. – Следующие два с половиной года я и мои коллеги играли, когда больше миллиона человек растаяли дымом в небесах. Мы играли на отборочной платформе, помогая нацистам создать у вновь прибывших впечатление, что они приехали в приятное место. Мы играли, когда ходячие мертвецы шли в раздевалки. Мы играли на дворе во время бесконечных перекличек. Утром мы играли, когда узники отправлялись на работу, и к вечеру, когда они, спотыкаясь, смертельно усталые, плелись в свои бараки, мы тоже играли. Мы играли даже перед казнями. По воскресеньям мы играли для коменданта и его команды. Самоубийства постоянно разрежали наши ряды. Вскоре один только я работал на платформе, выискивая музыкантов, чтобы пополнить оркестр.
Однажды воскресным днем – «Это было где-то летом сорок второго года, но извините, мистер Аргов, я не помню точно числа» – Клайн шел к себе в барак после воскресного концерта. Сзади к нему подошел офицер СС и швырнул его на землю. Клайн поднимается на ноги и стоит по стойке «смирно», избегая встречаться взглядом с эсэсовцем. Он все же видит его лицо и понимает, что встречался с этим человеком раньше. Это было в Вене, в Центральном бюро по эмиграции евреев, но в тот день этот человек был в отличном сером костюме и стоял рядом не с кем другим, как с Адольфом Гитлером.
– Штурмбаннфюрер сказал мне, что хотел бы провести один эксперимент, – продолжал Клайн. – И приказал сыграть сонату Брамса номер один для скрипки и рояля. Я вынимаю скрипку из футляра и начинаю играть. Мимо проходит один заключенный. Штурмбаннфюрер просит его назвать пьесу, которую я играю. Заключенный говорит, что не знает. Штурмбаннфюрер вытаскивает револьвер из кобуры и стреляет заключенному в голову. Он подзывает другого заключенного и задает ему тот же вопрос: «Какую пьесу играет этот великолепный скрипач?» И так продолжается целый час. Тех, кто не знает, он приканчивает выстрелом в голову. Когда он кончил развлекаться, у моих ног лежало пятнадцать трупов. Утолив свою жажду еврейской крови, мужчина в черной форме улыбается и уходит. А я лег среди мертвецов и прочитал молитву по умершим – каддиш.
Клайн позволил себе помолчать – долго и глухо. На улице с ревом промчалась машина. Клайн поднял голову и снова заговорил. Он еще не был готов увязать зверство в Аушвице со взрывом в «Рекламациях за период войны и справках», хотя Габриель уже отчетливо понимал, как развернется рассказ. Клайн продолжил, следуя хронологии, вытаскивая по одному фарфоровому блюду, как сказал бы Лавон. Выживание в Аушвице. Освобождение. Возвращение в Вену.
Община евреев до войны состояла из 185 тысяч человек. Шестьдесят пять тысяч погибли в холокосте. В 1945 году тысяча семьсот выживших вернулись в Вену, где их встретила неприкрытая враждебность и новая волна антисемитизма. Те, кто эмигрировал под дулом немецкого пистолета, боялись возвращаться. Просьбы о финансовом возмещении встречались молчанием, или просителей ехидно отсылали в Берлин. Клайн, вернувшись в свой дом во Втором округе, обнаружил, что в их квартире живет австрийская семья. Когда он попросил их выехать, они отказались. Понадобилось десять лет, чтобы они наконец освободили квартиру. Что же до текстильного предприятия его отца, Клайн его лишился, не получив никакого возмещения. Друзья уговаривали его переехать в Израиль или в Америку. Клайн отказывался. Он поклялся остаться в Вене – как живой, дышащий, передвигающийся памятник тем, кого отсюда изгнали или кто погиб в лагерях смерти. Он оставил свою скрипку в Аушвице и никогда больше не играл. На жизнь он зарабатывал, работая продавцом в галантерейном магазине, а потом – страховым агентом. В 1995 году, в связи с пятидесятилетием окончания войны, правительство согласилось выплатить оставшимся в живых австрийским евреям шесть тысяч долларов каждому. Клайн показал Габриелю чек. Он так и не обналичил его.
– Не хочу я их денег, – сказал он. – Шесть тысяч долларов? За что? За моих мать и отца? За моих двух сестер? За мой дом? За то, что у меня было? Шесть тысяч долларов?
Он бросил чек на стол. Габриель украдкой посмотрел на часы и увидел, что половина третьего ночи. Клайн уже закруглялся. Габриель еле удержался, чтобы не поторопить его: из боязни, что старик при его состоянии может сбиться и придется начинать все сначала.
– Два месяца назад я зашел в кафе «Централь» выпить кофе. Меня посадили за прелестный столик у колонны. Я заказал «Фаризер». – Он помолчал и поднял брови. – Вы знаете, что такое «Фаризер», мистер Аргов? Это кофе со взбитыми сливками, который подают с рюмочкой рома. – И поспешил извиниться за то, что пил ликер: – Понимаете, это происходило в конце дня и было холодно.
В кафе входит мужчина, высокий, хорошо одетый, на несколько лет старше Клайна. «Австриец старой закалки, если вы знаете, что я хочу сказать, мистер Аргов». В его походке чувствуется высокомерие, что побуждает Клайна опустить газету. Официант спешит через весь зал, чтобы встретить его. Официант стискивает руки, переминается с ноги на ногу, точно школьник, которому не терпится пописать. «Добрый вечер, герр Фогель. Так приятно вас видеть сегодня. Я уж думал, вы сегодня не появитесь. Ваш обычный столик? Попробую угадать: „Айншпеннер“? А как насчет чего-нибудь сладенького? Мне говорили, что сегодня замечательный „Захерторте“, герр Фогель…»
Тут пожилой мужчина произносит несколько слов, и Макс Клайн чувствует, как у него леденеет спина. Это же тот самый голос, что приказывал ему играть Брамса в Аушвице, тот же голос, что спокойно спрашивал у его товарищей по заключению, какую пьесу играют, а не то… И сейчас перед ним стоял этот убийца, здоровый и благополучный, и заказывал в кафе «Централь» «Айншпеннер» и «Захерторте».
– Я почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота, – сказал Клайн. – Я бросил деньги на столик и выскочил на улицу. Взглянул в окно и увидел, что чудовище по имени герр Фогель читает газету. Такое было впечатление, будто мы вовсе и не встречались.
Габриель удержался и не спросил, почему Клайн мог быть так уверен, что мужчина из кафе «Централь» был тем человеком, которого он видел в Аушвице шестьдесят лет назад. Но прав или не прав Клайн, было не столь уж важно по сравнению с тем, что произошло потом. Габриель не собирался сидеть и ждать дальнейшего разворота событий – во всяком случае, не в три часа ночи, поэтому он взял бразды правления в свои руки.
– И поняв это, что же вы предприняли, герр Клайн?
– Как вы могли предположить, я стал регулярным посетителем кафе «Централь». Вскоре и ко мне стали обращаться по имени. Вскоре и у меня появился мой обычный столик, как раз рядом с досточтимым герром Фогелем. Мы начали желать друг другу доброго дня. Иногда, прочитав газеты, мы обменивались соображениями о политике или международных событиях. Несмотря на возраст, ум у него был острый. Он сообщил мне, что занимается бизнесом, какими-то там инвестициями.
– И когда вы все это узнали, попив рядом с ним кофе, вы пошли к Эли Лавону в «Рекламации за период войны и справки»?
Клайн медленно кивнул.
– Он выслушал меня и пообещал вникнуть. А пока попросил меня не ходить больше пить кофе в кафе «Централь». Я был против. Я боялся, что Фогель опять ускользнет. Но поступил так, как просил ваш приятель.
– А что дальше?
– Прошло две-три недели. Наконец мне позвонили. Это была одна из девушек, работавших в конторе, – американка по имени Сара. Она сообщила, что у Эли Лавона есть для меня новости. И попросила прийти в контору на другое утро в десять часов. Я сказал, что приду, и повесил трубку.
– Когда это было?
– В день взрыва.
– Вы что-либо рассказали об этом полиции?
Клайн отрицательно покачал головой.
– Мистер Аргов, я не слишком люблю австрийцев в форме. А кроме того, я хорошо знаю, насколько плохо моя страна занимается преследованием военных преступников. Поэтому я молчал. Я пошел в венскую Общую больницу и стал наблюдать за израильскими официальными лицами, приходившими туда. Когда приехал посол, я попытался подойти к нему, но охрана оттолкнула меня. Итак, я ждал, пока появится человек, к которому можно обратиться. Вы показались мне таким человеком. Вы такой человек, мистер Аргов?
Многоквартирный дом через улицу бы почти точно таким, как и тот, в котором жил Макс Клайн. На втором этаже у темного окна стоял мужчина с камерой. Он нацелил телефотолинзы на мужчину, вышедшего из прохода у дома Клайна и свернувшего на улицу. Человек с фотоаппаратом сделал несколько снимков, затем опустил камеру и сел к магнитофону. В темноте он не сразу отыскал кнопку включения.
«Итак, я ждал, пока появится человек, к которому можно обратиться. Вы показались мне таким человеком. Вы такой человек, мистер Аргов?»
«Да, герр Клайн. Я нужный вам человек. Не волнуйтесь, я вам помогу».
«Ничего этого не случилось бы, если бы не я. Те девушки погибли из-за меня. Эли Лавон лежит сейчас в больнице из-за меня».
«Это не так. Ничего дурного вы не сделали. Но принимая во внимание то, что произошло, я беспокоюсь за вашу безопасность».
«Я тоже».
«Кто-нибудь следовал за вами?»
«Насколько я могу судить, – нет, но я не уверен, что знал бы, если бы это было так».
«Вы получали какие-нибудь угрозы по телефону?» «Нет».
«Кто-нибудь вступал с вами в контакт после взрыва?»
«Только один человек – женщина по имени Ренате Хофманн».
Стоп. Перекрутить. Включить.
«Только один человек – женщина по имени Ренате Хофманн».
«Вы ее знаете?»
«Нет, я никогда о ней не слышал».
«Вы разговаривали с ней?»
«Нет, она оставила сообщение на моем автоответчике».
«Чего она хотела?»
«Поговорить».
«Она оставила свой номер?»
«Да, я записал его. Подождите минутку. Да, вот он. Ренате Хофманн – пять-три-три-один-девять-ноль-семь».
Стоп. Перекрутить. Включить.
«Ренате Хофманн – пять-три-три-один-девять-ноль-семь».
Стоп.
6
Вена
Объединение за лучшую Австрию по всем признакам выглядело благородной, но в конечном счете бесполезной организацией. Помещалось оно во Втором округе на втором этаже старой развалюхи-склада с закопченными окнами, выходящими на железнодорожное депо. Сотрудники сидели в открытом общем помещении, которое невозможно было толком обогреть. Приехав туда на следующее утро, Габриель увидел, что большинство сотрудников сидят в толстых свитерах и шерстяных шапочках.
Ренате Хофманн была юридическим директором Объединения. Габриель позвонил ей рано утром, представившись как Гидеон Аргов из Иерусалима, и рассказал о своей встрече накануне вечером с Максом Клайном. Ренате Хофманн поспешно согласилась с ним встретиться и тут же прервала связь, словно опасалась обсуждать этот вопрос по телефону.
У нее был крохотный кабинетик. Когда Габриеля провели к ней, Ренате говорила по телефону. Кончиком изгрызенной ручки она указала ему на пустой стул. Через минуту она закончила разговор и встала, чтобы поздороваться. Ренате была высокая и одета лучше остальных: черный свитер и черная юбка, черные чулки и черные туфли без каблуков. У нее были соломенные волосы, не доходившие до квадратных атлетических плеч. Расчесанные набок, они естественно падали на лицо, и она левой рукой придерживала свисавшую прядь, а правой обменялась крепким рукопожатием с Габриелем. Пальцы у нее были без колец, на приятном лице не было макияжа, и пахло от нее лишь табаком. Габриель прикинул, что ей, должно быть, нет еще и тридцати пяти.
Они снова сели, и она задала ряд по-адвокатски коротких вопросов. Как давно вы знаете Эли Лавона? Как вы нашли Макса Клайна? Насколько подробно он вам все рассказал? Когда вы приехали в Вену? С кем вы встречались? Обсуждали ли вы этот вопрос с австрийскими властями? А с чиновниками израильского посольства? Габриель чувствовал себя кем-то вроде подсудимого на суде, однако отвечал он как можно вежливее и точнее.
Ренате Хофманн, закончив свой допрос, с минуту скептически смотрела на него. Затем она вдруг поднялась и стала надевать длинное серое пальто с чересчур квадратными плечами.
– Куда мы направляемся?
– Пошли пройдемся.
Габриель бросил взгляд в закопченные окна и увидел, что идет мелкий снег. Ренате Хофманн сунула несколько папок в кожаную сумку и перебросила ее через плечо.
– Поверьте, – сказала она, чувствуя его сомнения, – лучше будет, если мы прогуляемся.
Ренате Хофманн на обледенелых дорожках «Аугартена» рассказала Габриелю, как она стала самым ценным помощником Эли Лавона в Вене. Окончив Венский университет с лучшими отметками своего курса, она стала работать в конторе государственного прокурора Австрии, где с отличием прослужила семь лет. Затем пять лет назад она ушла оттуда, сказав друзьям и коллегам, что хочет быть свободной и заниматься частной практикой. На самом же деле Ренате Хофманн решила, что не может больше работать на правительство, которое меньше заботится о правосудии, чем о защите интересов государства и его наиболее влиятельных граждан.
Побудило ее к этому дело Веллера. Веллер был детективом государственной полиции, любившим с помощью пыток выбивать признания из заключенных и вершить суд самолично, когда настоящий суд не устраивал его. Ренате Хофманн пыталась выставить против него обвинение, когда умер находившийся на его попечении беженец-нигериец. Нигериец был обнаружен связанным, с кляпом во рту, и на нем были следы неоднократных ударов, – умер он от удушья. Начальство встало на сторону Веллера, и дело было прекращено.
Устав бороться с истеблишментом изнутри, Ренате Хофманн пришла к выводу, что борьбу лучше вести снаружи. Она открыла небольшую юридическую контору, чтобы иметь возможность оплачивать счета, но большую часть времени и своей энергии посвящала Объединению за лучшую Австрию, группе реформаторов, решивших пробудить страну и вытащить ее из коллективной амнезии касательно ее нацистского прошлого. Одновременно она втихую установила союз с Эли Лавоном и его «Рекламациями за период войны и справками». У Ренате Хофманн до сих пор сохранились друзья среди чиновничества, готовые оказывать ей услуги. Эти друзья давали ей доступ к важной государственной статистике и архивам, закрытым для Лавона.
– Почему такая секретность? – спросил Габриель. – Нежелание говорить по телефону? Долгие прогулки по парку в ужасную погоду?
– Потому что это Австрия, мистер Аргов. Нечего и говорить: то, чем мы занимаемся, непопулярно во многих слоях австрийского общества, как была непопулярна и деятельность Эли. – Она поймала себя на том, что употребила прошедшее время и поспешила извиниться. – Крайне правые в этой стране не любят нас, а они широко представлены и в полиции, и в органах безопасности.
Она смахнула снежную крупу с парковой скамейки и села.
– Он рассказал мне о Максе Клайне и о том мужчине, которого Клайн видел в кафе «Централь», – герре Фогеле. Мягко говоря, я скептически к этому отнеслась, но, желая оказать услугу Эли, решила все же проверить.
– И что же вы обнаружили?
– Его зовут Людвиг Фогель. Он президент некой компании под названием «Торговая и Инвестиционная корпорация Дунайской долины». Компания была основана в начале шестидесятых, через несколько лет после того, как Австрия освободилась от военной оккупации. Фогель импортировал в Австрию продукцию из-за границы и служил австрийским представителем компаний, желающих вести здесь дела, особенно немецких и американских. Когда в семидесятых австрийская экономика пошла в гору, Фогель был в состоянии полностью воспользоваться ситуацией. Его фирма предоставила капитал для сотен проектов. Сейчас он владеет существенными пакетами акций многих наиболее прибыльных корпораций Австрии, а также мажоритарным пакетом акций трех крупнейших банков Вены.
– Какого он возраста?
– Он родился в маленькой деревушке в Верхней Австрии в тысяча девятьсот двадцать пятом году и был крещен в местной католической церкви. Его отец был простым рабочим. Судя по всему, семья была достаточно бедная. Когда Людвигу было двенадцать лет, его младший брат умер от воспаления легких. А через два года умерла и мать, от скарлатины.
– В двадцать пятом? Значит, в сорок втором году ему было всего семнадцать лет – слишком молод, чтобы стать штурмбаннфюрером СС.
– Верно. И судя по информации, которую я откопала о его прошлом, он не был в СС.
– Что за информация?
Она понизила голос и придвинулась к Габриелю. Он почувствовал кофейный аромат.
– Ранее я иногда считала необходимым заглянуть в папки, хранящиеся в Австрийском государственном архиве. У меня по-прежнему есть там контакты – люди, готовые помочь при определенных обстоятельствах. Я позвонила одному из моих контактов, и этот человек любезно согласился сделать для меня фотокопию послужного списка Людвига Фогеля в вермахте.
– В вермахте?
Она кивнула и смахнула снежную крупу с плеч.
– Согласно документам Государственного архива, Фогель был призван в армию в конце сорок четвертого года, когда ему исполнилось девятнадцать лет, и направлен в Германию служить в обороне рейха. Он сражался с русскими в битве за Берлин и умудрился выжить. В последние часы войны он бежал на Запад и сдался американцам. Его отправили в американский лагерь для интернированных, находившийся к югу от Берлина, но он сумел вернуться в Австрию. Похоже, то, что он бежал от американцев, не было ему засчитано, потому что с сорок шестого года и до подписания договора об Австрийском государстве в пятьдесят пятом году он работал гражданским служащим в американской оккупационной администрации.
Габриель проницательно посмотрел на нее.
– У американцев? Чем же он занимался?
– Для начала работал клерком в штабе, а потом стал офицером связи между американцами и еще не оперившимся австрийским правительством.
– Он женат? Есть дети?
– Вечный холостяк.
– Попадал ли он в неприятности? Были ли у него финансовые неполадки? Гражданские иски? Хоть что-либо?
– На удивление, чист. У меня есть еще один знакомый в государственной полиции. Я попросила его проверить Фогеля. Он ничего не откопал, что поразительно. Видите ли, почти на каждого известного в Австрии гражданина у государственной полиции есть досье. Но не на Людвига Фогеля.
– А что известно о его политических взглядах?
Ренате Хофманн долго озирала окрестности, прежде чем ответить.
– Я задавала тот же вопрос некоторым моим контактерам в наиболее смелых венских газетах и журналах, тех, что не желают следовать линии правительства. Оказывается, Людвиг Фогель – основной финансовый кормилец австрийской национальной партии. Собственно, кампания самого Петера Метцлера велась на его деньги. – Она на минуту умолкла, чтобы закурить сигарету. Рука ее дрожала от холода. – Не знаю, следили ли вы за нашей кампанией, да только если в ближайшие три недели не произойдет резких изменений, Петер Метцлер будет очередным канцлером Австрии.
Габриель сидел молча, переваривая полученную информацию. Ренате Хофманн затянулась один раз сигаретой и швырнула ее в грязный снег.
– Вы спросили меня, почему мы отправились на улицу в такую погоду, мистер Аргов. Теперь вы знаете почему.
Она без предупреждения встала и пошла. Габриель поднялся на ноги и последовал за ней. «Успокойся, – подумал он. – Интересное предположение, привлекательное стечение обстоятельств, но нет доказательств и есть один существенный, исключающий все это факт. Судя по досье, имеющемуся в государственной полиции, Людвиг Фогель никак не мог быть тем, кого винил в случившемся Макс Клайн».
– Мог ли Фогель знать, что Эли расследует его прошлое?
– Я думала над такой возможностью, – сказала Ренате Хофманн. – Я полагаю, кто-то в государственном архиве или в государственной полиции мог сообщить ему, что я копаю.
– Даже если Людвиг Фогель действительно тот, кого Макс Клайн видел в Аушвице, что может ждать его сейчас, через шестьдесят лет после совершенного преступления?
– В Австрии? Почти ничего. По преследованию военных преступников счет у Австрии позорный. С моей точки зрения, это практически безопасный приют для нацистских военных преступников. Вы когда-нибудь слышали о докторе Хайнрихе Гроссе?
Габриель отрицательно покачал головой. Хайнрих Гросс, сказала она, был врачом в клинике «Ам Шпигельгрунд» для умственно отсталых детей. Во время войны клиника была центром эвтаназии, где вовсю применялась нацистская доктрина уничтожения «патологического генотипа». Там было умерщвлено почти восемьсот детей. После войны Гросс стал известным педиатром-неврологом. Большую часть своих исследований он проводил на мозгах, взятых у жертв «Ам Шпигельгрунда», которые он хранил в разработанной им «библиотеке мозгов». В 2000 году федеральный прокурор Австрии наконец решил, что пора привлечь Гросса к суду. Он был обвинен в соучастии в убийстве девяти детей в «Ам Шпигельгрунде», и начался суд.
– Через час после начала процесса судья признал, что Гросс страдает от слабоумия в начальной стадии и не в состоянии защищать себя в суде, – сказала Ренате Хофманн. – Он приостановил судопроизводство на неопределенное время. Доктор Гросс поднялся, улыбнулся своему адвокату и вышел из зала суда. На ступенях здания суда он побеседовал с репортерами о своем деле. Было совершенно ясно, что доктор Гросс был полностью в здравом уме.
– Ваша точка зрения?
– Австрийская политическая элита и юридическая система страны не одно десятилетие защищали доктора Гросса. Он был влиятельным членом социал-демократической партии и даже судебным психиатром. В венском медицинском сообществе все знали источник так называемой «библиотеки мозгов» доброго доктора и все знали, чем он занимался во время войны. Человек вроде Людвига Фогеля, даже если бы его обвинили во лжи, мог ожидать, что с ним поступят так же. Шансы, что его когда-либо предадут суду в Австрии за совершенные преступления, равны нулю.
– Предположим, он знал, что Эли ведет расследование? Чего было ему бояться?
– Ничего, кроме того, что про него узнают, а это малоприятно.
– Вы знаете, где он живет?
– Фогель?
Габриель кивнул. Ренате Хофманн заправила под берет выбившиеся пряди волос и внимательно посмотрела на него.
– Вы не собираетесь встречаться с ним, мистер Аргов? При данных обстоятельствах это была бы невероятно глупая затея.
– Я просто хочу знать, где он живет.
– У него дом в Пятом округе на Штёббергассе и другой дом в Венских лесах. Судя по архивным данным о недвижимости, он владеет также несколькими сотнями акров и коттеджем в Верхней Австрии.
Бросив взгляд через плечо, Габриель спросил Ренате Хофманн, не может ли он получить копии всех документов, какие она собрала. Она опустила глаза, словно ожидала этой просьбы.
– Скажите мне вот что, мистер Аргов. За все годы, что я работала с Эли, он ни разу не упоминал, что у «Рекламаций за период войны и справок» есть отделение в Иерусалиме.
– Оно недавно открылось.
– Как своевременно. – В ее голосе звучал неподдельный сарказм. – Эти документы находятся у меня на незаконном основании. Если я дам их представителю иностранного правительства, то окажусь в еще более сложном положении. Если я дам их вам, я ведь дам их представителю иностранного правительства?
Ренате Хофманн, решил Габриель, очень умная и знающая мнение улицы женщина.
– Вы дадите их другу, мисс Хофманн, – другу, который абсолютно ничего не сделает, чтобы скомпрометировать вас.
– А вы знаете, что будет, если государственная полиция арестует вас, когда при вас будут секретные документы государственного архива? Вы проведете долгое время за решеткой. – Она посмотрела ему прямо в глаза. – И я тоже, если они обнаружат, откуда у вас эти документы.
– Я не предполагаю быть арестованным государственной полицией.
– Никто не предполагает, но это Австрия, мистер Аргов. Наша полиция не играет по тем правилам, что существуют в других европейских странах. Если им не понравилось то, как вы выглядели в аэропорту, они наверняка вас обыщут. И уж обыщут по-настоящему.
Она сунула руку в сумку, достала оттуда конверт из бурой бумаги и протянула Габриелю. Документы тут же исчезли под его курткой.
– Я не верю, что вы – Гидеон Аргов из Иерусалима. Поэтому я дала вам документы. Ничего больше в данных условиях я с ними сделать не могу. Но обещайте мне, что будете действовать осторожно. Я не хочу, чтобы мое Объединение и его сотрудников постигла та же участь, что и «Рекламации за период войны и справки». – Она остановилась и повернулась к нему лицом. – И еще одно, мистер Аргов. Пожалуйста, больше мне не звоните.
Она свернула на другую дорожку и пошла прочь. Габриель проводил ее взглядом. «Очень умная, – подумал он, – и чертовски мужественная».
* * *
Фургон наблюдения стоял на краю Аугартена, на Васнергассе. Фотограф сидел в задней его части, за поляроидным стеклом. Он сделал последний снимок, когда объекты наблюдения расставались, затем перевел снимки на компьютер и просмотрел их. Тот снимок, где конверт перешел из рук в руки, получился отчетливо, хорошо освещенный – красота, а не снимок.
7
Вена
Часом позже этот снимок был доставлен в безликое здание в стиле необарокко на Рингштрассе, в кабинет человека по имени Манфред Круц. В буром конверте без надписи он был вручен Круцу его хорошенькой секретаршей. Когда она вошла в комнату, он оторвался от просмотра папки и следил за каждым движением девушки своими бархатными карими глазами. Круц был по обыкновению в темном костюме и белой рубашке. Его бесстрастное лицо с острыми скулами в сочетании с обычно темным костюмом было похоже на лицо мертвеца, что нервировало подчиненных. Очень темные волосы, оливкового цвета кожа и кофейного цвета глаза – все это дало основание слухам, что в его роду был цыган, а то, может быть, даже и еврей. Подобную клевету распространял легион его врагов, и Круц не находил это забавным. Он не пользовался популярностью у рядовых сослуживцев, но ему это было безразлично. У Круца были хорошие связи: он завтракал с министром раз в неделю, а кроме того, у него были друзья среди состоятельной и политической элиты. Станьте врагом Круца – и вы отправитесь в глухомань Каринтии выписывать квитанции за неправильную парковку.
В здании на Рингштрассе помещался штаб Федерального бюро по защите конституции и борьбе с терроризмом, как официально громоздко называлась недавно реорганизованная Австрийская государственная служба безопасности. Манфред Круц был в ней вторым человеком и главой всех операций. В минуты самолюбования, в чем Круц охотно готов был повиниться, он считал себя защитником всего истинно австрийского. В его обязанности входило не допускать, чтобы в тихую Österreich просачивались проблемы остального мира. Он имел право ставить «жучки» в домах и телефонах, вскрывать почту и вести наблюдение за людьми. Иностранцы, приезжающие в Австрию, чтобы набедокурить, могли ожидать визита от одного из людей Круца. Как и коренные австрийцы, занимающиеся политической деятельностью, выходящей за рамки предписанного правилами. В стране мало что происходило, чего бы он не знал, включая недавнее появление в Вене израильтянина, утверждавшего, что он является коллегой Эли Лавона из «Рекламаций за период войны и справок».
Врожденное чувство недоверия распространялось у Круца даже на собственную секретаршу. Он выждал, пока она выйдет из его кабинета, и лишь тогда вскрыл конверт и вытряхнул из него снимок. Он упал изображением вниз. Круц перевернул его, поставил под яркий белый свет своей галогеновой лампы и внимательно рассмотрел. Ренате Хофманн не интересовала Круца. Она находилась под постоянным наблюдением Федерального бюро, и Круц потратил немало времени, изучая фотографии проводивших наблюдение и прослушивая записи происходившего в Объединении за лучшую Австрию. Нет, Круца больше интересовал шагавший рядом с ней человек, который называл себя Гидеоном Арговым.
Минуту спустя он встал и покрутил тумблер на сейфе в стене позади своего кресла. Там, среди папок и стопки надушенных любовных писем от работавшей у него девицы, лежала видеозапись допроса. Круц посмотрел на дату, значившуюся на наклейке – «январь 1991 года», вставил пленку в плейер и нажал на кнопку «Пуск».
Изображение несколько раз дернулось, прежде чем все встало на место. Камера была установлена высоко в углу комнаты, где шел допрос, поэтому оно было скошенным. Запись была зернистая, выполненная техникой предыдущего поколения. По комнате с угрожающей медлительностью расхаживал более молодой Круц. За столом, где шел допрос, сидел израильтянин с черными, обожженными руками и глазами, в которых застыла смерть. Круц был уверен, что это тот же человек, который теперь именует себя Гидеоном Арговым. Вопреки правилам первый вопрос задал не Круц, а израильтянин. Сейчас, как и тогда, Круца поразил его безупречный немецкий с несомненным берлинским акцентом.
«Где мой сын?»
«Боюсь, он мертв».
«А моя жена?»
«Ваша жена серьезно ранена. Ей требуется немедленная медицинская помощь».
«Тогда почему же ее не оказывают?»
«Нам необходимо получить некоторую информацию, прежде чем отправить вашу жену на лечение».
«Почему ее сейчас не лечат? Где она?»
«Не волнуйтесь: она в хороших руках. Нам нужно сначала получить ответ на некоторые вопросы».
«Какие, например?»
«Для начала вы скажете нам, кто вы на самом деле. И пожалуйста, не лгите нам больше. У вашей жены не так много времени».
«Меня уже сто раз спрашивали, как мое имя. Вы знаете мое имя! Господи, да окажите же ей необходимую помощь!»
«Окажем, но сначала назовите ваше имя. На этот раз – настоящее имя. Никаких больше прозвищ, псевдонимов или кличек. У нас нет на это времени, если вы хотите, чтобы ваша жена осталась жива».
«Меня зовут Габриель, сволочь!»
«Это ваше имя или фамилия?»
«Имя».
«А ваша фамилия?»
«Аллон».
«Аллон? Это еврейская фамилия, верно? Значит, вы – еврей. И я подозреваю, что вы также израильтянин».
«Да, я израильтянин».
«Если вы израильтянин, то что вы делаете в Вене с итальянским паспортом? Вы явно агент израильской разведки. На кого вы работаете, мистер Аллон? И что вы тут делаете?»
«Позвоните послу. Он знает, с кем надо связаться».
«Мы позвоним вашему послу. И вашему министру иностранных дел. И вашему премьер-министру. Но сейчас, если вы хотите, чтобы вашей жене была оказана столь необходимая ей медицинская помощь, вы нам скажете, на кого вы работаете и зачем вы находитесь в Вене».
«Да позвоните же послу! Помогите моей жене, черт бы вас побрал!»
«На кого вы работаете?»
«Вы знаете, на кого я работаю! Помогите моей жене. Не дайте ей умереть!»
«Ее жизнь в ваших руках, мистер Аллон».
«Вы – покойник, мать вашу… Если моя жена сегодня умрет, вы – покойник. Вы меня слышите? Вы, черт побери, – покойник!»
Дальше на ленте пошли серебристо-черные разводы. Круц долго сидел, не в силах оторвать взгляд от экрана. Наконец он включил в телефоне прямую линию и по памяти набрал номер.
– Боюсь, у нас проблема.
– Говорите.
Круц сказал.
– Почему вы его не арестуете? Он нелегально приехал в страну по подложному паспорту и в нарушение соглашения, достигнутого между вашей службой и его службой.
– А потом что? Передать его государственному прокурору, чтобы он отправил его в суд? Мне кажется, прокурор использует этот случай в свою пользу.
– Так что же вы предлагаете?
– Что-нибудь более незаметное.
– Считайте израильтянина вашей проблемой, Манфред. Решайте ее.
– А как насчет Макса Клайна?
Разговор был прерван. Круц повесил трубку.
В тихой заводи квартала Штефансдом, в тени, отбрасываемой северной башней собора, есть улочка, такая узкая, что по ней можно только ходить пешком. В начале этой улочки на первом этаже солидного старого дома в стиле барокко есть магазинчик, который торгует лишь старинными часами для коллекционеров. Вывеска над дверью составлена осмотрительно, часы торговли не указаны. В иные дни магазинчик вообще закрыт. Продавцов, кроме хозяина, нет. Для категории особых клиентов он известен как герр Грубер. Для других – Часовщик.
Это был низенький, мускулистый человек. Он предпочитал ходить в пуловерах и свободных твидовых пиджаках, поскольку официальные рубашки с галстуком ему не шли. Голова у него была лысая, с венчиком остриженных седых волос, глаза – черные, мутные. Он носил очки с круглыми стеклами в черепаховой оправе. Руки у него были более крупные, чем у большинства людей его профессии, но ловкие и умелые.
В его мастерской царил порядок, как в операционной. На рабочем столе в лужице яркого света лежали старинные, двухсотлетней давности, невшательские настенные часы. Футляр, расписанный медальонами с цветами, был в отличном состоянии, как и эмалированный циферблат с римскими цифрами. Часовщик приступил к последней стадии обширного ремонта невшательского двухтяглового механизма. Отремонтированные часы будут стоить около десяти тысяч долларов. Их ждал покупатель – коллекционер из Лиона.
Звон колокольчика у входной двери прервал работу Часовщика. Он заглянул за дверную притолоку и увидел стоявшего на улице человека, – рассыльного мотоциклиста в мокрой от дождя, блестевшей, как шкура моржа, кожаной куртке. Под мышкой он держал пакет. Часовщик подошел к двери и отпер ее. Рассыльный молча вручил пакет, сел на мотоцикл и умчался.
А Часовщик снова запер дверь и отнес пакет на свой рабочий стол. Медленно его развернул – он почти все делал медленно – и снял крышку с картонного ящика. Там лежали французские настенные часы эпохи Людовика XV. Прелестные. Часовщик снял футляр и достал механизм. Внутри лежало досье и фотография. Он в течение нескольких минут просматривал документ, затем спрятал досье в большом томе под названием «Часы для экипажей в эпоху королевы Виктории».
Часы эпохи Людовика XV поступили к Часовщику от самого важного его клиента. Часовщик не знал его фамилии, – знал только, что это богатый человек с солидными связями в политических кругах. Большинство его клиентов обладали такими же достоинствами. Правда, это был клиент другого рода. Год назад он дал Часовщику список имен мужчин, разбросанных по Европе, Ближнему Востоку и Южной Америке. Часовщик постепенно шел по этому списку. Он убил человека в Дамаске, другого – в Каире. Он убил француза в Бордо и испанца в Мадриде. Он пересек Атлантику, чтобы убить двух состоятельных аргентинцев. Одно имя еще оставалось в списке – швейцарский банкир в Цюрихе. Часовщик еще не получил сигнала, чтобы разделаться с ним. В полученном им сегодня досье было новое имя, несколько ближе к дому, чем он предпочитал, но это едва ли могло служить препятствием. Часовщик решил принять заказ.
Он взял телефонную трубку и набрал номер.
– Я получил часы. Как быстро нужно их сделать?
– Считайте эту работу срочной.
– За срочную работу – дополнительная плата. Я полагаю, вы готовы ее заплатить?
– А сколько дополнительно?
– Моя обычная ставка плюс половина.
– За эту работу?
– Вы хотите, чтобы я ее выполнил, или нет?
– Я пришлю первую половину утром.
– Сегодня вечером.
– Если вы настаиваете…
Часовщик повесил трубку, как раз когда сотня механизмов одновременно отзвонила четыре часа.
8
Вена
Габриелю никогда не нравились венские кафе. Было что-то в царившем там запахе – застоявшегося табачного дыма, кофе и спиртного, – вызывавшее у него отвращение. И хотя по природе он был человек тихий и спокойный, ему не нравилось подолгу сидеть без дела, теряя драгоценное время. Он не читал на людях, опасаясь старых врагов. Кофе пил только утром, чтобы проснуться, а от жирных десертов его мутило. Остроумные беседы докучали, а разговоры других людей, особенно немецких псевдоинтеллектуалов, доводили чуть не до безумия. Адом для Габриеля было бы сидеть в комнате и слушать дискуссию об искусстве, которую вели бы люди, ничего в нем не понимающие.
Он больше тридцати лет не был в кафе «Централь». Здесь, в этом кафе, проходил последний этап его обучения у Шамрона, оно было порталом между жизнью до работы в службе и нереальным миром, в который он вступил потом. В конце периода тренировки Шамрон придумал еще один тест, чтобы проверить, готов ли Габриель. Его выбросили в полночь из машины на окраине Брюсселя без документов и без единого сантима в кармане и велели на другое утро встретиться с агентом в Амстердаме в «Лейдсеплейне». Габриель выкрал деньги и паспорт у американского туриста и утренним поездом сумел туда приехать. Ждавшим его агентом оказался Шамрон. Он забрал у Габриеля паспорт и оставшиеся деньги и велел быть на другой день в Вене в другой одежде. Они встретились на скамейке в Штадтпарке и пошли в кафе «Централь». За столиком рядом с высоким арочным окном Шамрон дал Габриелю билет на самолет в Рим и ключ от шкафчика в аэропорту, где он найдет «беретту». Двумя ночами позже в вестибюле многоквартирного дома на пьяцца Аннабальяно Габриель совершил свое первое убийство.
Тогда, как и теперь, когда Габриель вошел в кафе «Централь», лил дождь. Он сел на обитую кожей банкетку и положил на круглый столик кипу немецких газет. Он заказал «Шлагоберс» – черный кофе со взбитыми сливками. Его принесли на серебряном подносе вместе со стаканом ледяной воды. Габриель развернул первую газету – «Ди Прессе» и начал читать. Главное место занимал взрыв в «Рекламациях за период войны и справках». Правые требовали более строгих мер против иммигрантов, чтобы арабские террористы и прочие смутьяны не могли пересекать австрийские границы.
Габриель прочитал первую газету. Заказал еще один «Шлагоберс» и раскрыл журнал под названием «Профиль». Он окинул взглядом кафе. Оно быстро наполнялось венскими служащими, заходившими после работы по дороге домой выпить кофе или спиртного. К сожалению, ни один из них даже отдаленно не напоминал Людвига Фогеля, каким его описал Макс Клайн.
К пяти часам Габриель выпил три чашки кофе и начал отчаиваться когда-либо увидеть Людвига Фогеля. Тут он заметил, что официант, стоя у бара, взволнованно потирает руки и переминается с ноги на ногу. Габриель проследил за его взглядом и увидел пожилого джентльмена, входившего в кафе, – «Австриец старой школы, если вы понимаете, что я имею в виду, мистер Аргов». «Да, понимаю, – подумал Габриель. – Добрый день, герр Фогель».
Официант помог Фогелю снять пальто и проводил его к столику, стоявшему всего в двух-трех футах от Габриеля. Волосы у Фогеля были почти совсем седые, довольно редкие и прилизанные, а глаза такие голубые, каких Габриель никогда не видел. Рот маленький и крепко сжатый; одежда – дорогая, и он элегантно носил ее: серые фланелевые брюки, двубортный блейзер, темно-бордовый галстук с широкими концами.
– Что сегодня будете пить, герр Фогель?
– «Айншпеннер», Карл. Больше ничего.
Уверенно звучащий баритон, голос, привыкший отдавать приказания.
– Не соблазню ли я вас «Захерторте»? Или яблочным штруделем? Они сегодня совсем свежие.
Фогель устало покачал головой – раз налево, раз направо.
– Не сегодня, Карл. Только кофе.
– Как вам угодно, герр Фогель.
Фогель сел за столик. И на расстоянии двух столиков от него тотчас сел его охранник. Клайн не упоминал про охранника. Возможно, не заметил его. А возможно, это было нечто новое. Габриель заставил себя опустить взгляд в журнал.
Сидели они далеко не идеально. Так уж получилось, что Фогель расположился прямо напротив Габриеля. Сиди Фогель немного под углом, Габриель мог бы наблюдать за ним, оставаясь незамеченным. Более того, охранник сидел как раз позади Фогеля, и глаза его ни минуты не оставались в покое. Судя по бугру с левой стороны пиджака, под мышкой у него было оружие в кобуре. Габриель подумал было пересесть за другой столик, но побоялся, что Фогель может что-то заподозрить, поэтому остался на месте и лишь изредка бросал поверх журнала взгляд на Фогеля.
Так продолжалось минут сорок пять. Габриель прочел все, что у него было, и снова принялся за «Ди Прессе». Он заказал четвертый «Шлагоберс». В какой-то момент он почувствовал, что за ним тоже наблюдают – и не охранник, а сам Фогель. Затем он услышал, как Фогель сказал:
– Чертовски холодно сегодня, Карл. А что, если выпить рюмочку коньяку, перед тем как уйти?
– Конечно, герр Фогель.
– И одну джентльмену за тем столиком, Карл.
Габриель поднял голову и увидел две пары глаз, изучавших его: маленькие тусклые глазки раболепного официанта и глаза Фогеля, голубые и бездонные. Его маленький рот был изогнут в сухой улыбке. Габриель не знал, как на это реагировать, и Людвиг Фогель явно наслаждался его замешательством.
– Я как раз собрался уходить, – сказал Габриель по-немецки, – но в любом случае очень вам благодарен.
– Как вам угодно. – Фогель посмотрел на официанта. – Я передумал, Карл, я, пожалуй, тоже пойду.
Фогель резко поднялся, и официант подал ему пальто. Фогель протянул официанту несколько банкнот, и тот поклонился чуть не до земли. А Фогель подошел к столику Габриеля.
– Я предложил угостить вас коньяком, потому что заметил, как вы смотрели на меня, – сказал Фогель. – Мы раньше встречались?
– Нет, не думаю, – пожал плечами Габриель. – И если я смотрел на вас, то это случайность. Я просто люблю смотреть на лица в венских кафе. – Он помолчал и добавил: – Никогда ведь не знаешь, с кем столкнешься.
– Не могу не согласиться. – Снова невеселая улыбка. – Вы уверены, что мы никогда прежде не встречались? Ваше лицо кажется мне очень знакомым.
– Я искренне в этом сомневаюсь.
– Вы в «Централь» человек новый, – уверенно произнес Фогель. – Я бываю здесь каждый день. Можно сказать, я лучший клиент Карла. Я знаю, что никогда прежде не видел вас здесь.
– Я обычно пью кофе в «Шперле».
– Ах, в «Шперле». Штрудель у них хороший, но, боюсь, стук биллиардных шаров мешает моим размышлениям. Должен сказать, люблю «Централь». Возможно, мы еще увидимся тут.
– Возможно, – уклончиво произнес Габриель.
– Тут часто бывал один пожилой мужчина. Примерно моего возраста. Мы иногда вели с ним чудесные беседы. Но вот уже некоторое время его нет. Надеюсь, с ним все в порядке. В пожилом возрасте все очень быстро может плохо кончиться.
Габриель снова пожал плечами.
– Возможно, он стал ходить в другое кафе.
– Возможно, – сказал Фогель. Затем пожелал Габриелю приятного вечера и направился к выходу. Охранник ненавязчиво последовал за ним.
Габриель увидел в окно, как к выходу подкатил «мерседес». Фогель, прежде чем опуститься на заднее сиденье, еще раз бросил взгляд в направлении Габриеля. Затем дверца за ним закрылась, и машина умчалась.
А Габриель еще с минуту посидел, прокручивая в мозгу подробности неожиданной встречи, потом заплатил по чеку и вышел в холодный вечер. Он понимал, что только что получил предупреждение. Понимал и то, что не может долго находиться в Австрии.
Американец последним вышел из кафе «Централь». Он постоял в дверях, поднимая воротник своего пальто от «Берберри», изо всех сил стараясь не быть похожим на шпиона, и проследил за тем, как израильтянин исчез на темной улице. Тогда он повернулся и зашагал в противоположном направлении. Интересный получился день. Фогель по-приятельски повел себя, – впрочем, это в его стиле.
Посольство находилось в Девятом округе – немало надо пройти, но Американец решил, что вечер достаточно хороший для прогулки. Он любил ходить по Вене. Это соответствовало его умонастроению. Ничего он так не хотел, как быть шпионом в городе шпионов, и всю свою молодость готовился к этому. Он научился немецкому от бабушки, а с советской политикой его познакомили самые блестящие умы Гарварда. После выпуска двери ЦРУ были открыты для него. Затем советская империя рухнула, и новая угроза возникла в песках Ближнего Востока. В новом Управлении свободное владение немецким и диплом Гарварда не имели большого значения. Сегодняшние звезды были людьми действия, которые могли существовать, питаясь червями и кореньями, и проделывать с каким-нибудь туземцем по сотне миль пешком, не жалуясь на такой пустяк, как стертые ноги. Американцу досталась Вена, но ожидавшая его Вена утратила свое былое значение. Она вдруг оказалась еще одним европейским болотом, глухим закоулком, местом, где можно спокойно закончить карьеру, но не начать.
Слава Богу, подвернулось дело Фогеля. Оно несколько оживило существование, хотя лишь на время.
Американец свернул на Больцмангассе и остановился у внушительного вида ворот. Морской пехотинец проверил его удостоверение и разрешил войти. У Американца была официальная крыша. Он работал в отделе культурных связей. Это лишь усиливало его ощущение непригодности. Шпион, работающий под прикрытием культурных связей с Австрией. До чего смешно!
Он поднялся в лифте на четвертый этаж и подошел к двери с комбинированным замком. За ней был нервный центр венской резидентуры ЦРУ. Американец сел за компьютер, включил его и отстучал краткую телеграмму в штаб. Она была адресована человеку по имени Картер, заместителю директора по операциям. Картер принадлежал к старой школе. Его отец был первопроходцем, он работал на Управление еще прежде, чем оно получило свое название. Он сражался с Россией, был бойцом «холодной войны». Американцу понравилось бы работать с отцом Картера в старом ЦРУ.
А Картер терпеть не мог телеграмм, содержащих болтовню. Он приказал Американцу просто добыть информацию. И Американец выполнил задание. Меньше всего Картеру нужен был рассказ шаг за шагом о мучительных испытаниях, какие Американец претерпел в кафе «Централь». Когда-то это могло звучать захватывающе. Но не теперь.
Поэтому Американец напечатал всего четыре слова: «Авраам вступил в игру» – и стал ждать отклика. Не желая терять время, он занялся анализом предстоящих выборов. Американец сомневался, чтобы это прочли на седьмом этаже в Лэнгли.
Звуковой сигнал оповестил, что пришло сообщение. Американец щелкнул «мышкой», и на экране появился текст:
«Следите за Авраамом».
Американец быстро отстучал:
«Что, если Авраам уедет из города?»
Две минуты спустя:
«Следите за Авраамом».
Американец выключил компьютер. Отложил в сторону доклад о выборах. Он снова был в игре, по крайней мере на какое-то время.
Оставшуюся часть вечера Габриель провел в больнице. Маргерите, ночная сестра, заступила на дежурство через час после того, как он приехал. Когда врач закончил осмотр, она разрешила Габриелю посидеть у постели Эли. Она вторично посоветовала Габриелю говорить с ним и вышла из палаты, чтобы дать им несколько минут побыть наедине. Габриель не знал, что говорить, поэтому он пригнулся к уху Эли и зашептал ему на иврите про Макса Клайна, Ренате Хофманн, Людвига Фогеля… Эли лежал неподвижно, голова у него была забинтована, глаза завязаны. Потом в коридоре Маргерите призналась Габриелю, что никакого улучшения в состоянии Эли нет. Габриель еще час посидел в комнате для посетителей, глядя на Эли сквозь стекло, затем взял такси и поехал к себе в отель.
У себя в номере он сел к столу и включил лампу. В верхнем ящике нашел несколько листков гостиничной бумаги и ручку. Он на мгновение закрыл глаза и представил себе Фогеля, каким видел его днем в кафе «Централь».
«Вы уверены, что мы никогда прежде не встречались? Ваше лицо кажется мне очень знакомым».
«Я искренне в этом сомневаюсь».
Габриель открыл глаза и стал рисовать. Через пять минут на него смотрело лицо Фогеля. «Интересно, как он выглядел, когда был молодым?» Габриель снова взял ручку. Он сделал волосы гуще, глаза выразительнее, набросал чистое лицо без морщин и носогубных складок.
Довольный проделанным, он положил новый рисунок рядом с первым. И стал рисовать третий вариант – на сей раз в мундире со стоячим воротничком и в фуражке СС. Когда портрет был готов, Габриель почувствовал, как у него затекла шея.
Он открыл папку, которую дала ему Ренате Хофманн, и прочел название деревни, где у Фогеля был загородный дом. Нашел деревню на туристической карте, обнаруженной в ящике стола, затем позвонил в контору по аренде машин и зарезервировал машину на утро. Посидел, глядя на сделанные наброски, потом сжег их в умывальнике в ванной и смыл пепел.
9
Вена
На другое утро Габриель отправился по магазинам на Кэртнерштрассе. Небо казалось бледно-голубым куполом, исполосованным алебастром. Ветер чуть не сбил его с ног, когда он пересекал Штефанплац. Это был ветер Арктики, замороженный фьордами и ледниками Норвегии, приобретший силу, пролетая над заснеженными полями Польши и барабанивший сейчас в ворота Вены, словно дикая орда.
Габриель зашел в универсальный магазин, посмотрел на указатель и поднялся по эскалатору на этаж, где торговали верхней одеждой. Там он выбрал темно-синюю лыжную куртку, толстый свитер из овечьей шерсти, теплые перчатки и непромокаемые сапоги. Он заплатил за покупки и, выйдя из магазина, не спеша пошел с полиэтиленовым мешком в каждой руке по Кэртнерштрассе, проверяя, нет ли за ним «хвоста».
Контора по прокату машин находилась на расстоянии нескольких улиц от его отеля. Там его ждал серебряный «опель». Он положил мешки на заднее сиденье, подписал необходимые бумаги и помчался прочь. С полчаса он кружил по городу, проверяя, не ведется ли за ним наблюдение, затем направился к выезду на шоссе А-1 и поехал на запад.
Тучи постепенно сгустились, утреннее солнце исчезло. Когда он добрался до Линца, снег уже валил вовсю. Габриель остановился у бензоколонки и переоделся в то, что купил в Вене, затем вернулся на шоссе А-1 и проехал последний отрезок пути до Зальцбурга.
Приехал он туда в середине дня. Он оставил «опель» на стоянке и остаток дня провел, бродя как турист по улицам и площадям Альтштадта. Он забрался по лестнице на Мёнхберг и полюбовался видом Зальцбурга с высоты церковных шпилей. Затем отправился на Университетсплац посмотреть шедевры барокко Фишера фон Эрлаха. Когда стемнело, он вновь спустился в Альтштадт и поужинал тирольскими равиоли в причудливом ресторане, где на стенах, обшитых темными деревянными панелями, висели охотничьи трофеи.
К восьми часам он уже снова сидел за рулем «опеля» и ехал из Зальцбурга на восток, в центральную часть Зальцкаммергута. По мере того как шоссе поднималось в горы, снег валил все гуще. Габриель проехал деревню Хоф на южном берегу Фушльзее и через несколько миль добрался до Вольфгангзее. Город, по которому было названо это озеро – Сент-Вольфганг, стоял на его противоположном берегу. Габриель мог разглядеть лишь затененный шпиль церкви Пилигримов. Габриель помнил, что в этой церкви находится один из лучших запрестольных образов в Австрии.
В сонной деревушке Цихенбах он свернул в узкую улочку, которая резко шла вверх по склону горы. Город остался внизу. Вдоль дороги выстроились коттеджи с покрытыми снегом крышами и дымком, вившимся из труб. Из одного дома выскочила собака и облаяла проезжавшего Габриеля.
Он проехал по узкому мостику и остановился. Дорога, казалось, устала идти дальше. По березовому лесу шла тропа, по которой машина едва могла проехать. Метрах в пятидесяти впереди была калитка. Габриель выключил мотор. Глубокая тишина леса действовала угнетающе.
Он вынул из отделения для перчаток фонарик и вышел из машины. Калитка из старого дерева была ему до плеча. На ней висело предупреждение, что за ней – частная собственность; охота и прогулки там строго запрещены и караются штрафами и тюрьмой. Габриель поставил ногу на срединную перекладину калитки, перелез через нее и спрыгнул на мягкое одеяло из снега, лежавшее по другую сторону.
Он включил фонарик, освещая путь. Дорожка шла круто вверх и заворачивала вправо, исчезая за стеной берез. На снегу не было следов ни от ног, ни от шин. Габриель прикрутил свет и постоял, чтобы глаза привыкли к темноте. Затем пошел дальше.
Минут через пять он вышел на большую поляну. В конце поляны, метрах в ста от Габриеля, стоял дом, традиционный альпийский коттедж, очень большой, с островерхой крышей и низкими карнизами над стенами. Габриель постоял с минуту, прислушиваясь, не заметили ли его появления. Успокоившись, пошел вокруг поляны, держась деревьев. Дом был в полнейшей темноте – никаких огней ни внутри, ни снаружи. И никаких машин.
Он постоял, раздумывая, следует ли совершить преступление на австрийской земле, проникнув в дом. Пустой коттедж давал возможность заглянуть в жизнь Фогеля, – такая возможность, уж конечно, не скоро ему подвернется. На память пришел неоднократно виденный им сон. Тициан хочет проконсультироваться с Габриелем по поводу реставрации, но Габриель все откладывает встречу с Тицианом, так как безнадежно запаздывает с работой и не может выкроить время для встречи. Тициан страшно оскорблен и в ярости аннулирует приглашение. Габриель, оставшись один на один перед огромным полотном, трудится без помощи мастера.
И он пошел по поляне. Взгляд, брошенный через плечо, подтвердил то, что он и так уже знал: на снегу оставались четкие следы, ведущие от края деревьев к задней части дома. Если снова не пойдет снег, эти следы выдадут его. «Иди же. Тициан ждет…»
Он подошел к коттеджу сзади. Во всю длину внешней стены была уложена поленница. В конце ее была дверь. Габриель попытался ее открыть. Конечно, заперта. Он снял перчатки и достал тонкую металлическую полоску, которую обычно носил в бумажнике. Он осторожно вставил ее в прорезь для ключа и стал поворачивать, пока не почувствовал, что механизм поддается. Тогда он повернул ручку и вошел в коттедж.
Он включил фонарик и обнаружил, что находится в прихожей. У стены чинно стояли три пары «веллингтонов». На крючке висело лоденовое пальто. Габриель проверил карманы: немного мелочи; скомканный платок с остатками засохшей старческой мокроты.
Он открыл дверь и увидел перед собой лестницу. Габриель быстро пошел наверх с фонариком в руке, пока не дошел до другой двери. Она была не заперта. Габриель приоткрыл ее, и стон сухих петель эхом отозвался в тишине дома.
Он оказался в кладовке – такое было впечатление, словно ее ограбила отступавшая армия. Полки были почти пустые, и на них лежал тонкий слой пыли. Примыкавшая к кладовке кухня была сочетанием современного и традиционного. Немецкие бытовые приборы со стальной облицовкой – и чугунные котлы, висящие над большим открытым очагом. Габриель открыл холодильник: полупустая бутылка австрийского белого вина, ломоть сыра, позеленевшего от плесени, несколько старых баночек специй.
Габриель прошел через столовую в большую гостиную. Он провел лучом света по комнате и застыл, увидев старинный письменный стол. В нем был всего один ящик. Деформировавшийся от холода, он был плотно пригнан. Габриель сильно дернул и чуть не выдрал ящик. Он посветил внутрь фонариком: карандаши и ручки, ржавые скрепки, пачка канцелярской бумаги с эмблемой Торговой и Инвестиционной корпорации Дунайской долины и личным адресом: «Со стола Людвига Фогеля…»
Габриель закрыл ящик и провел лучом по крышке стола. На деревянном подносе лежала корреспонденция. Он пролистал странички: два-три личных письма, документы, похоже, связанные с деловой деятельностью Фогеля. К некоторым документам были прикреплены бумажки с записями, сделанными все теми же каракулями. Габриель схватил бумаги, сложил пополам и сунул за пазуху.
Телефон был снабжен встроенным автоответчиком и цифровым дисплеем. Часы показывали неверное время. Габриель приподнял крышку и увидел там пару мини-кассет. Он по опыту знал, что пленки на телефонах никогда полностью не стираются и что много ценной информации часто остается, так что технику с соответствующим оборудованием легко ее добыть. Габриель взял кассеты и опустил в карман. Затем он закрыл крышку и нажал на кнопку воспроизведения. Раздались гудок и диссонансное чириканье автоматического набора. На дисплее мелькнул номер: 5124124. Венский номер. Габриель запомнил его.
Следующим звуком был однотонный звонок австрийского телефона, затем раздался второй. Не дожидаясь третьего звонка, какой-то мужчина снял трубку:
– Алло… Алло… Кто это? Людвиг, это вы? Кто там?
Габриель протянул руку и отключил связь.
Он поднялся по главной лестнице. Сколько в его распоряжении времени, пока человек на том конце провода поймет свою ошибку? Как быстро может он мобилизовать свои силы и осуществить контрнаступление? Габриель чуть ли не слышал тиканье часов.
На верху лестницы была своеобразная ниша, оборудованная в качестве места для отдыха. Рядом с креслом лежала стопка книг и на них – пустая коньячная рюмка. По обе стороны ниши были двери, ведущие в спальни. Габриель вошел в правую дверь.
Потолок тут был скошенный, повторявший форму крыши. Стены – голые, если не считать большого креста, висевшего над незастланной кроватью. На стоявшем на ночном столике будильнике вспыхивали цифры: 12.00… 12.00… Перед будильником, свернувшись змеей, лежали черные четки. В изножье кровати на столике на колесиках стоял телевизор. Габриель провел по экрану пальцем в перчатке и оставил в пыли черный след.
Вместо стенного шкафа был большой гардероб в эдвардианском стиле. Габриель открыл дверцу и посветил фонариком: горки аккуратно сложенных свитеров, пиджаки, рубашки для выхода и брюки, свисающие с перекладины.
Габриель открыл ящик. Внутри находился выложенный фетром футляр для драгоценностей: потускневшие запонки, кольца с печаткой, старинные часы на треснувшем черном кожаном ремне. Он перевернул часы и обследовал их заднюю часть, вытертую до полировки за множество лет носки. Там была выгравирована надпись: «Эриху с обожанием от Моники». Габриель взял одно из колец – тяжелое золотое кольцо с орлом. На внутренней его стороне тоже была выгравирована тоненькая надпись: «1005 – отлично сработано. Генрих». Габриель сунул часы и кольцо в карман.
Выйдя из спальни, он задержался в нише. Бросив взгляд в окно, он увидел движение на подъездной дороге. Он зашел во вторую спальню. В воздухе сильно пахло розовым маслом и лавандой. Светлый мягкий ковер покрывал пол; на кровати лежало цветастое стеганое покрывало. Здесь стоял такой же гардероб эдвардианского стиля, что и в первой спальне, только с зеркальными дверцами. Внутри Габриель обнаружил женскую одежду. Ренате Хофманн говорила ему, что Фогель был всю жизнь холостяком. Кому же принадлежали эти вещи?
Габриель подошел к ночному столику. На кружевной салфетке лежала большая Библия в кожаном переплете. Он взял ее за корешок и пролистал страницы. На пол выпала фотография. Габриель вгляделся в нее при свете фонарика. На альпийском летнем лугу сидели на одеяле женщина, юноша и мужчина среднего возраста. Все трое улыбались, глядя в аппарат. Рука женщины лежала на плечах мужчины. И хотя фотография была снята тридцать или сорок лет назад, ясно было, что мужчина – это Людвиг Фогель. А женщина? «Эриху с обожанием от Моники». Юноша, красивый и аккуратно одетый, казался странно знакомым.
Габриель услышал на улице звук – глухое урчание – и поспешил к окну. Раздвинув занавески, он увидел свет фар, медленно поднимавшихся среди деревьев.
Габриель сунул фотографию в карман и побежал вниз по лестнице. Большая комната была уже освещена фарами машины. Он прошел своим путем – через кухню, через кладовку, вниз по задней лесенке – и очутился в прихожей. Он услышал шаги по полу над собой – кто-то был в доме, – осторожно открыл дверь и вышел, тихо прикрыв ее за собой.
Габриель пошел вокруг дома к фронтону, держась в тени деревьев. Машина, четырехколесная спортивная модель, стояла в нескольких метрах от входной двери. Передние фары горели, и боковая дверца водителя была распахнута. Габриель услышал, как звенит предупреждающий сигнал: ключи были в зажигании. Габриель подобрался к машине, вынул ключи и бросил их в темноту.
Он пересек поляну и пошел вниз с горы. Шагать в тяжелых сапогах по глубокому снегу было тяжело, как в кошмарном сне. Холодный воздух щипал горло. Габриель собирался перелезть через калитку, но, повернув последний раз, увидел, что калитка открыта. У его машины стоял мужчина и светил фонариком в окно.
Габриель не испугался встречи: вот если бы их было двое – это уже другое дело. И он решил пойти в наступление до того, как тот, что в доме, спустится с горы. Кинулся бежать и закричал по-немецки:
– Эй, вы! Что вы там делаете с моей машиной?
Мужчина обернулся и направил фонарик на Габриеля. Он не сделал никакого движения, которое можно было бы истолковать как намерение выхватить револьвер. Габриель продолжал бежать, изображая из себя возмущенного автомобилиста, к чьей машине кто-то подошел. Он вытащил из кармана пальто свой фонарик и направил луч на лицо мужчины.
В последнюю секунду незнакомец размахнулся, и удар пришелся в толстое пальто. Габриель чуть не выпустил фонарик и ногой сильно ударил мужчину под колено. Тот взвыл от боли, а Габриель шагнул назад, легко избежав ответного удара и стараясь не оступиться в снегу. Его противник был крупный мужчина, футов на шесть выше Габриеля и по крайней мере фунтов на пятьдесят тяжелее. Если бы столкновение перешло в борьбу, исход матча мог быть под вопросом.
Мужчина снова замахнулся – удар наотмашь пришелся по подбородку Габриеля. При этом мужчина потерял равновесие, а Габриель схватил его за руку и шагнул ближе. Он дважды ударил мужчину локтем в челюсть, и мужчина рухнул в снег. Габриель для верности ударил его фонариком по голове, и мужчина потерял сознание.
Габриель оглянулся и увидел, что на дороге никого нет. Он расстегнул молнию на куртке мужчины и стал искать бумажник. Наконец нашел его во внутреннем нагрудном кармане. В нем была бляха с фамилией. Фамилия не интересовала Габриеля, а вот организация – да. Мужчина, лежавший без сознания в снегу, был офицером полиции.
Габриель продолжил обыск и нашел в нагрудном кармашке пиджака полицейский блокнотик в кожаном переплете. На первой странице по-детски печатными буквами был записан регистрационный номер машины, арендованной Габриелем.
10
Вена
На другое утро, вернувшись в Вену, Габриель сделал два телефонных звонка. Первый был сделан по номеру в израильском посольстве. Он назвался Клуге – это было одним из его многочисленных телефонных имен – и сказал, что звонит, подтверждая, что придет на встречу с мистером Рубиным из Консульского отдела.
Через мгновение голос на другом конце провода произнес:
– На ступенях Прункзаале. Вы знаете, где это?
Габриель не без раздражения сказал, что, конечно, знает, и голос добавил:
– В десять часов.
Габриель отключился. Второй звонок был сделан на квартиру Макса Клайна во Втором округе. К телефону никто не подошел. Габриель повесил трубку и задумался, где может быть Клайн.
До встречи с курьером у него было полтора часа. Он решил продуктивно использовать время и избавиться от арендованной машины. Действовать надо было осторожно. Габриель забрал у офицера служебный блокнот. Если полицейский, придя в себя, случайно вспомнит регистрационный номер, ему понадобится всего несколько минут, чтобы узнать, в каком агентстве в Вене была взята машина и что брал ее израильтянин по имени Гидеон Аргов.
Габриель переехал через Дунай и покрутил вокруг современного комплекса Организации Объединенных Наций, выискивая, где бы припарковать машину. Он нашел место в пяти минутах ходьбы от станции метро и встал там. Поднял капот и ослабил идущие от батарей провода, затем сел за руль и повернул ключ зажигания. Молчок. Тогда он опустил капот и ушел.
Из телефонной будки на станции метро он позвонил в контору по аренде машин и сообщил, что машина их сломалась и им надо ее забрать. Он позволил себе произнести это с оттенком возмущения, и служащий на другом конце провода принялся извиняться. Ничто в его голосе не указывало на то, что полиция обращалась в компанию по поводу ограбления, произошедшего накануне вечером в Зальцкаммергуте.
Габриель повесил трубку, как раз когда к платформе подошел поезд, и сел в последний вагон. Полчаса спустя он уже шагал по площади Йозефплац. Австрийская национальная библиотека, более известная как Прункзааль, находилась на южной стороне площади – это было большое здание в стиле барокко, блестевшее под ярким зимним солнцем. Человек из посольства дожидался на ступенях. На нем был макинтош с шарфом, обмотанным вокруг горла, в правой руке он держал кожаный «дипломат». Он заметил Габриеля и быстро отвел взгляд в сторону. Они знали друг друга. Его звали Бен-Авраам.
Габриель прошел мимо него и вошел во внушительный главный зал библиотеки. Посмотрел через плечо. Бен-Авраам незаметно следовал за ним. Поднявшись на второй этаж в читальный зал, они сели за один стол. Габриель передал Бен-Аврааму весь материал, какой собрал со времени своего приезда в Австрию: досье, полученное от Ренате Хофманн, часы и кольцо, взятые из шкафа Людвига Фогеля, фотографию, хранившуюся в Библии. Бен-Авраам сунул все это в свой «дипломат», затем посмотрел на Габриеля: мол, что ему с этим делать?
– Есть дневной рейс компании «Эль-Аль». Убедитесь, что эти вещи улетят на самолете.
Бен-Авраам кивнул.
– А получатель на бульваре Царя Саула?
– Это отправляется не на бульвар Царя Саула.
Бен-Авраам многозначительно приподнял бровь.
– Компания «Эль-Аль» не обслуживает частных лиц. Вы знаете правила. Все проходит через штаб.
– Не это, – сказал Габриель, кивнув на «дипломат», стоявший у ног Бен-Авраама. – Это идет Старику.
Бен-Авраам сложил руки и уставился на пустой стол – этакий гроссмейстер, раздумывающий над следующим ходом. Габриель поставил его в сложное положение. Следует ли ему нарушить мелочную установку Конторы и рискнуть навлечь на себя гнев Льва, который обожал требовать выполнения этих мелочных установок, или следует оказать небольшую услугу Габриелю Аллону и Ари Шамрону? Размышления Бен-Авраама длились недолго. Габриель и не ожидал другого. Лев был не из тех, кто внушал преданность рядовым сотрудникам. Лев был временщиком, а Шамрон был Memuneh, Memuneh же был вечен.
– А Старик знает, что это должно прийти? – спросил Бен-Авраам.
Габриель отрицательно покачал головой. Он назвал номер телефона в Иерусалиме и велел Бен-Аврааму позвонить по нему и сказать человеку на другом конце провода, чтобы они ждали пакет от компании «Эль-Аль».
– Не удивляйтесь, – предупредил он Бен-Авраама, – если в ответ вам назовут «Рекламации за период войны и справки».
Глаза Бен-Авраама вспыхнули, словно он разгадал, чем занимается Габриель, и готов был контратаковать.
– Лавон, – прошептал Бен-Авраам, – вы расследуете взрыв. Какого черта, почему никто не потрудился проинформировать резидентуру?
Габриель взглянул на свои часы.
– Вам пора, – сказал он, как бы отпуская Бен-Авраама. – А то в это время дня транспортные потоки очень перегружены.
Все было ясно. Габриель дал понять: «Меня тут никогда не было, и для вашего блага, мой друг, вы никому об этом не скажете в венской резидентуре или на бульваре Царя Саула». Бен-Авраам был совершенно сражен, словно он, согласившись играть роль секунданта на дуэли, вдруг обнаружил, что стоит с револьвером в руке.
А Габриель, метнув в сторону взгляд зеленых глаз, отослал Бен-Авраама. Побродив по библиотеке минут десять, он вышел на улицу. И вторично попытался позвонить Максу Клайну из телефона-автомата. Никто по-прежнему не ответил.
Он сел на проходивший мимо трамвай и поехал вокруг центра города во Второй округ. У него ушло несколько минут на то, чтобы найти адрес. В вестибюле он нажал на кнопку квартиры Клайна, но никто не откликнулся. Дежурная, женщина среднего возраста в цветастом платье, выглянула из своего помещения и подозрительно оглядела Габриеля.
– Кого вы ищете?
Габриель сказал правду.
– Он обычно по утрам ходит в синагогу. Вы там не были?
Еврейский квартал находился как раз по другую сторону Дунайского канала, самое большее минутах в десяти ходьбы. Венская синагога, как всегда, была под охраной. Несмотря на свой паспорт, Габриелю пришлось пройти через магнитометр, чтобы войти. Он взял из корзины кипу и перед входом в храм надел на голову. Несколько пожилых мужчин молились недалеко от bimah.[11] Макса Клайна среди них не было. В вестибюле он спросил охранника, видел ли он сегодня утром Клайна. Охранник отрицательно покачал головой и предложил Габриелю сходить в Центр общины.
Пара железных ламп украшала вход в здание на Зайтенштеттенгассе, 4. Над дверями золотыми буквами на бледно-голубом фоне было написано на иврите: «Центр еврейской общины в Вене». Габриеля впустила иранская еврейка по имени Наталья. Да, сказала она ему, Макс Клайн часто бывает по утрам в Центре, но сегодня она его не видела.
– Иногда старики пьют кофе в кафе «Шоттенринг», – сказала она. – Это в доме номер девятнадцать. Возможно, вы найдете его там.
В «Шоттенринге» действительно сидела группа пожилых венских евреев и пила кофе, но Клайна среди них не было. Габриель спросил, был ли он там утром, и шестеро седых мужчин дружно покачали головами.
Раздосадованный Габриель снова перешел через Дунайский канал во Второй округ и направился к дому Клайна. Он нажал на звонок, и снова никакого ответа. Тогда он постучал в дверь дежурной. При виде вернувшегося Габриеля лицо дежурной внезапно стало мрачным.
– Постойте-ка здесь, – сказала она. – Я сейчас возьму ключ.
Дежурная открыла дверь и, прежде чем переступить через порог, окликнула Клайна по имени. Не услышав отклика, они вошли в квартиру. Занавески были задернуты, в гостиной царил мрак.
– Герр Клайн, – снова позвала дежурная. – Вы тут? Герр Клайн?
Габриель раскрыл двойные двери, ведущие на кухню, и заглянул туда. На маленьком столике стоял ужин Макса Клайна – он был не тронут. Габриель пошел дальше по коридору, лишь однажды остановившись, чтобы заглянуть в пустую ванную. Дверь в спальню была заперта. Габриель побарабанил по ней кулаком, выкрикивая имя Клайна. Отклика не последовало.
Дежурная подошла к нему. Они посмотрели друг на друга. Она кивнула. Габриель ухватился обеими руками за ручку и нажал на дверь плечом. Дерево рассыпалось, и он влетел в спальню.
Здесь, как и в гостиной, занавески были задернуты. Габриель провел рукой по стене, в темноте ощупывая ее, пока не наткнулся на выключатель. Маленький ночничок отбросил конус света на лежавшую на кровати фигуру.
Дежурная ахнула.
Габриель шагнул вперед. Голова Макса Клайна покоилась в прозрачном полиэтиленовом мешке, вокруг шеи был повязан золотой шнур. Глаза Клайна смотрели на Габриеля сквозь запотевший полиэтилен.
– Я вызову полицию, – сказала дежурная.
А Габриель сел на край кровати и уткнулся лицом в руки.
Первые полицейские прибыли через двадцать минут. Их апатичное поведение наводило на мысль, что они считают это самоубийством. В известном смысле это было удачей для Габриеля, так как заподозри они убийство, это значительно изменило бы характер встречи с ним. Его допросили дважды – один раз офицеры в форме, первыми явившиеся на звонок, и затем детектив государственной полиции по имени Грайнер. Габриель сказал, что его зовут Гидеон Аргов и что он работает в иерусалимском отделении «Рекламаций за период войны и справок». Что он приехал в Вену после взрыва, чтобы побыть с Эли Лавоном. Что Макс Клайн был давним другом его отца и отец попросил его разыскать Клайна и проведать старика. Габриель не сказал, что встречался с Клайном два дня назад, как не сообщил полиции и о подозрениях Клайна в отношении человека по имени Людвиг Фогель. Полицейские осмотрели его паспорт, как и деловую визитку. Номера телефонов были записаны в маленькие черные блокноты. Были принесены соболезнования. Дежурная приготовила чай. Все было очень вежливо.
Вскоре после полудня двое работников «Скорой помощи» явились за телом. Грайнер, детектив государственной полиции, вручил Габриелю свою визитку и сказал, что он может идти. Габриель вышел на улицу и завернул за угол. В затененном проулке он прислонился к закопченным кирпичам и закрыл глаза. Самоубийство? Нет, человек, выживший, несмотря на все ужасы Аушвица, не мог совершить самоубийство. Его убили, и Габриель не мог не почувствовать, что частично в этом виноват. Надо было быть идиотом, чтобы оставить Клайна без защиты.
Он направился к своему отелю – картины происшедшего мелькали в его мозгу словно фрагменты незаконченного полотна. Эли Лавон на больничной койке, Людвиг Фогель в «Централе»; полицейский в Зальцкаммергуте, мертвый Макс Клайн с полиэтиленовым мешком на голове. Каждое из случившегося добавлялось тяжестью на чашу весов. Чаша эта вот-вот оборвется, и Габриель подозревал, что очередной жертвой станет он. Пора было покидать Австрию, пока еще возможно.
Он вошел в свой отель, попросил портье подготовить ему счет и направился наверх в свой номер. Дверь в его номер, несмотря на то, что на ручке висела бирка «Не беспокоить», была приоткрыта, и Габриель услышал доносившиеся изнутри голоса. Он тихонько открыл ее пошире. Двое мужчин в гражданском платье приподнимали с кровати матрац. Третий, явно их начальник, сидел у письменного стола и наблюдал за происходящим со скучающим видом болельщика на спортивном матче. При виде Габриеля, стоящего в дверях, он медленно поднялся. Чаша весов не выдержала.
– Добрый день, Аллон, – сказал Манфред Круц.
11
Вена
– Если вы думаете удрать, то все выходы под нашим контролем, а весьма внушительный мужчина, который стоит внизу лестницы, с удовольствием смирит вас. – Круц стоял боком к Габриелю. Он смотрел на него как фехтовальщик – через плечо, подняв руку ладонью вперед. – Нет нужды устраивать скандал. Входите в комнату и закройте дверь.
Голос его звучал все так же – тихо и неестественно спокойно, словно это был гробовщик, советующий расстроенному родственнику, какой выбрать гроб. За эти тринадцать лет он постарел – больше появилось шрамоподобных морщин вокруг его лукавого рта и прибавилось несколько фунтов к его тощей фигуре, – и судя по покрою костюма и уверенному поведению, получил повышение.
Габриель смотрел прямо в черные глаза Круца. Он чувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Он шагнул через порог и захлопнул за собой дверь. Он услышал, как что-то тяжело стукнуло и кто-то ругнулся по-немецки. Круц снова поднял вверх ладонь. На этот раз он давал знать Габриелю, чтобы тот остановился.
– Вы вооружены?
Габриель устало покачал головой.
– Вы не возражаете, если мы проведем досмотр – для собственного успокоения? – спросил Круц. – А то ведь у вас есть определенная репутация.
Габриель поднял руки вверх. Офицер, стоявший за его спиной в коридоре, вошел в комнату и провел досмотр – профессионально и очень тщательно. Круц, казалось, был разочарован результатом.
– Снимите куртку и опустошите карманы.
Габриель повиновался не сразу и получил болезненный удар по почкам. Он расстегнул молнию на куртке и протянул ее Круцу – тот проверил карманы и прощупал подкладку, нет ли в ней скрытого кармана.
– Выверните карманы брюк.
Габриель повиновался. Поиск принес несколько монет и трамвайный билет. Круц посмотрел на двух офицеров, державших матрац, и велел им привести кровать в порядок.
– Мистер Аллон – профессионал, – сказал он. – Мы ничего не найдем в его номере.
Офицеры уложили матрац в раму кровати. Круц мановением руки приказал им выйти из комнаты. Он снова сел за письменный стол и указал на кровать.
– Устраивайтесь поудобнее.
Габриель продолжал стоять.
– Сколько времени вы находитесь в Вене?
– Это вы мне скажете.
Круц поблагодарил за комплимент профессионалу сухой улыбкой.
– Вы прибыли в аэропорт «Лодь» позапрошлым вечером. Зарегистрировавшись в этом отеле, вы отправились в венскую Общую больницу, где провели несколько часов со своим другом Эли Лавоном.
И Круц умолк. Интересно, подумал Габриель, как много знает Круц о том, что он еще делал в Вене. Знает ли он о встречах с Максом Клайном и Ренате Хофманн? О его разговоре с Людвигом Фогелем в кафе «Централь» и его поездке в Зальцкаммергут? Если Круц и знал больше сказанного, то едва ли станет об этом говорить. Он не из тех, кто без причины будет выдавать себя. Габриелю он представлялся холодным и бесстрастным игроком.
– Почему вы не арестовали меня в больнице?
– Я и сейчас вас не арестовываю. – Круц закурил сигарету. – Мы готовы были не обратить внимания на то, что вы нарушили наше соглашение, так как считали, что вы приехали в Вену, чтобы быть рядом с вашим пострадавшим другом. Но довольно быстро стало ясно, что вы намерены вести частное расследование взрыва в «Рекламациях за период войны и справках». По очевидным соображениям я не могу это допустить.
– Да, – признал Габриель, – по очевидным соображениям.
Круц с минуту смотрел на дымок, вившийся от горящего кончика его сигареты.
– Мы с вами заключили соглашение, мистер Аллон. Вы ни при каких условиях не должны были возвращаться в нашу страну. Вы здесь нежелательны. Вы не должны быть здесь. Мне наплевать, горюете ли вы по вашему другу Эли Лавону. Это наше расследование, и нам не нужна помощь ни от вас, ни от вашей службы. – Круц взглянул на часы. – В три часа из «Швехата» вылетает самолет компании «Эль-Аль». Вы полетите на нем. Я побуду с вами, пока вы будете собирать свои вещи.
Габриель обвел глазами комнату, где по полу была разбросана его одежда. Он поднял крышку чемодана и увидел, что подкладка отодрана. Круц передернул плечами: мол, чего же вы ожидали? Габриель нагнулся и стал собирать свои вещи. Круц встал у французского окна, смотрел на улицу и курил.
Через какое-то время Круц спросил:
– Она еще жива?
Габриель медленно повернулся и пристально посмотрел в маленькие черные глазки Круца.
– Вы имеете в виду мою жену?
– Да.
Габриель медленно покачал головой.
– Не смейте говорить о моей жене, Круц.
Круц невесело улыбнулся:
– Вы же не собираетесь снова угрожать мне, Аллон? Я ведь могу посадить вас и провести более подробный допрос относительно вашей деятельности здесь.
Габриель промолчал.
А Круц раздавил свою сигарету.
– Пакуйте свои вещи, Аллон. Вы же не хотите опоздать на самолет.
Часть вторая Зал жертв
12
Иерусалим
Огни аэропорта «Лодь» прорезали тьму, царившую на Прибрежной равнине. Габриель прислонил голову к окошку самолета и смотрел, как посадочная полоса медленно поднимается навстречу им. Под вечерним дождем гудрон блестел, как стеклянный. Когда самолет остановился, Габриель заметил человека с бульвара Царя Саула, стоявшего под зонтом у лесенки. Габриель постарался выйти последним.
Они вошли в здание аэропорта через особую дверь, какой пользуются ответственные правительственные чиновники и приезжие официальные лица. Мужчина из Управления был учеником Льва, уважал корпоративный дух и высокие технологии, держался как член правления и был убежден, что оперативные сотрудники – это просто фишки, передвигаемые более высокоорганизованными существами. Габриель шел на шаг впереди него.
– Босс хочет вас видеть.
– Не сомневаюсь, но я два дня не спал и очень устал.
– Босса не интересует то, что вы устали. Кого, черт побери, вы из себя строите, Аллон?
Габриель был недоволен, когда пользовались его настоящим именем, даже в святилище аэропорта «Лодь». Он круто повернулся. Мужчина из Управления, сдаваясь, поднял вверх руки. Габриель снова повернулся и пошел дальше. У мужчины из Управления хватило ума не следовать за ним.
На улице дождь барабанил по тротуару. На стоянке не было ни одного такси. Наверняка все это Лев подстроил. Габриель укрылся на автобусной стоянке и стал думать, куда ехать. Дома в Израиле у него не было, – единственным его домом была Контора. Обычно он останавливался на конспиративной квартире или на вилле Шамрона в Тибериасе.
Черный «пежо» повернул на круг. Тяжесть брони пригибала его к земле. Автомобиль остановился перед Габриелем. Пуленепробиваемое стекло в заднем окне опустилось. Габриель почувствовал знакомый горький запах турецкого табака. Затем он увидел руку с голубыми жилами, испещренную печеночными пятнами, устало взмахнувшую, показывая, чтобы он садился, а не стоял под дождем.
Машина рванулась вперед прежде, чем Габриель успел закрыть дверцу. Шамрон никогда не принадлежал к тем, кто долго простаивает. Он ради Габриеля затушил сигарету и на несколько секунд опустил стекла, чтобы проветрить. Когда окна были снова закрыты, Габриель рассказал ему о недружелюбном приеме, устроенном Львом. Сначала он говорил по-английски, потом, вспомнив, где находится, перешел на иврит.
– Судя по всему, он хочет вызвать меня на ковер.
– Да, я знаю, – сказал Шамрон. – Он и меня хотел бы видеть.
– Как он узнал про Вену?
– Похоже, Манфред Круц после твоей депортации отправился с визитом вежливости в посольство и закатил что-то вроде истерики. Мне сообщили, что это было некрасиво. Министерство иностранных дел в ярости, и весь верхний этаж на бульваре Царя Саула жаждет моей крови… и твоей.
– Что они могут мне сделать?
– Да ничего, потому-то ты и мой идеальный сообщник… поэтому и благодаря твоим талантам, конечно.
Машина выскочила с территории аэропорта и свернула на шоссе. Габриеля удивило то, что они направлялись в Иерусалим, но он был слишком измотан, чтобы это его сильно взволновало. Через некоторое время машина стала подниматься в Иудейские горы. Вскоре в машине запахло эвкалиптами и мокрой сосной. Габриель посмотрел в забрызганное дождем окно и попытался вспомнить, когда в последний раз был на своей родине. После дела Тарика аль-Хурани он провел месяц на конспиративной квартире у стен Старого города, поправляясь после пулевого ранения в грудь. Это было более трех лет назад. Он почувствовал, что нити, связывающие его с этим местом, обрываются. Не получится ли с ним, как с Франческо Тьеполо, что он умрет в Венеции и будет бесславно похоронен на материке.
– Что-то говорит мне, что Лев и министерство иностранных дел будут немного меньше возмущены, когда ознакомятся с тем, что здесь содержится. – И Шамрон показал большой конверт. Пакет, отправленный Габриелем, благополучно прибыл. – Похоже, ты был весьма занят в течение своего короткого пребывания в Вене. Кто такой Людвиг Фогель?
Габриель, прислонил голову к исполосованному дождем окну, рассказал Шамрону все, начиная со встречи с Максом Клайном и кончая стычкой с Манфредом Круцем в своем номере. Шамрон вскоре снова закурил, и хотя в темном лимузине Габриель не мог ясно видеть его лицо, ему казалось, что Старик улыбался. Если Умберто Конти дал Габриелю навыки, позволившие ему стать великим реставратором, то Шамрону он был обязан своей безупречной памятью. Шамрон молчал, пока Габриель не дошел до того, как он проник в коттедж Фогеля. Тут он потребовал, чтобы ему была рассказана удар за ударом драка с офицером полиции, которого Габриель обнаружил у своей машины, и Габриель нехотя выполнил его просьбу. Шамрон слушал, скрестив на груди руки, и одобрительно кивал: «Да, мой мальчик, я бы вел себя точно также».
– Ничего удивительного, что Круц так старался выставить тебя из Австрии, – сказал Шамрон. – Ячейки исламских борцов? – Он прыснул ироническим смехом. – Да, все очень аккуратно проделано. Правительство принимает на себя ответственность и кладет дело под сукно, квалифицируя его как террористический акт, совершенный на австрийской почве. В таком случае след не ведет к австрийцам – к Фогелю и Метцлеру, особенно когда выборы на носу.
Габриель покачал головой.
– А как же быть с документами из Государственного архива? Судя по ним, Людвиг Фогель абсолютно чист.
– Тогда почему же он подложил бомбу в контору Эли и убил Макса Клайна?
– Мы же не знаем, он ли это совершил.
– Верно, но факты, безусловно, указывают на такую возможность. Мы вряд ли смогли бы доказать это в суде, но это купили бы многие газеты.
– Вы предлагаете устроить утечку?
– У меня есть друзья в лондонской прессе.
– Это плохая мысль, – сказал Габриель. – Вы помните Вальдхайма и разоблачения его нацистского прошлого? Это было отметено как иностранная пропаганда и вмешательство во внутренние дела Австрии. Обычные австрийцы сомкнули ряды вокруг него, как и австрийские власти. Кроме того, эта история подняла уровень антисемитизма в стране. Утечка, Ари, это очень плохая мысль.
– Как же ты предлагаешь нам поступать?
– Макс Клайн был убежден, что Людвиг Фогель был эсэсовцем, совершавшим преступления в Аушвице. Судя по документам Государственного архива, Людвиг Фогель был слишком молод, чтобы быть тем человеком, к тому же он служил в вермахте, а не был в СС. Но предположим – дискуссии ради, – что Макс Клайн был прав.
– Тогда, значит, под именем Людвига Фогеля кто-то другой.
– Совершенно верно, – сказал Габриель. – Следовательно, давайте выясним, кто же он на самом деле.
– И как ты намерен за это взяться?
– Не уверен, – сказал Габриель, – но этот конверт с добром из Вены, попади он в нужные руки, может оказаться весьма ценной находкой.
Шамрон помолчал.
– В «Яд Вашеме» есть человек, с которым тебе следует встретиться. Он сможет тебе помочь. Утром я первым делом назначу тебе с ним встречу.
– И еще одно, Ари. Нам нужно вывезти Эли из Вены, как только он будет транспортабелен.
– Именно об этом я тоже думал. – Шамрон снял телефон с консоли и нажал на кнопку срочного соединения. – Это Шамрон. Мне необходимо переговорить с премьер-министром.
В западной части Иерусалима на верху холма находится «Яд Вашем» – официальный израильский мемориал, сооруженный в память о шести миллионах, погибших в холокосте. «Яд Вашем» является также самым крупным в мире центром исследований и документации, связанных с холокостом. В его библиотеке хранится свыше 100 тысяч томов – самое крупное в мире и полное собрание литературы по холокосту. В его архивах находится свыше 58 миллионов страниц оригинальных документов, в том числе тысячи личных свидетельств, написанных, продиктованных или зафиксированных на видеопленке оставшимися в живых после холокоста людьми, находящимися в Израиле и разбросанными по всему миру.
Мордехай Ривлин ожидал Габриеля. Толстенький бородатый ученый, говоривший на иврите с ярко выраженным бруклинским акцентом, Ривлин занимался не жертвами холокоста, а теми, кто сделал их жертвами, – немцами, обслуживавшими нацистскую машину смерти, и тысячами их пособников негерманского происхождения, которые добровольно и охотно принимали участие в величайшем в истории массовом истреблении людей. Ривлин работал платным консультантом Бюро специальных расследований министерства юстиции США, подбирая документальные доказательства вины обвиняемых нацистских военных преступников и ведя в Израиле поиски живых свидетелей. Когда Ривлин не сидел в архивах «Яд Вашема», его обычно можно было найти среди оставшихся в живых, где он выискивал тех, кто помнил.
Они с Габриелем побеседовали за кофе в столовой Центра. Версия событий, изложенных Габриелем, была тщательно сокращена, но так, чтобы ничего важного не было упущено при переводе. Габриель показал Ривлину все, что он сумел собрать в Австрии: папку из Государственного архива, фотографию, часы и кольцо. Когда Габриель обратил внимание Ривлина на надпись на внутренней стороне кольца, тот прочел ее и быстро поднял глаза на Габриеля.
– Поразительно, – шепотом произнес он.
– То есть?
– Мне надо подобрать кое-какие документы из архива. – Ривлин поднялся со стула. – Это займет некоторое время.
– Как долго?
Архивариус пожал плечами.
– Час, может быть, немного меньше. Вы когда-нибудь бывали в мемориале?
– Только когда учился в школе.
– Пойдите прогуляйтесь. – Ривлин похлопал Габриеля по плечу. – И возвращайтесь через час.
Произнеся это, он повернулся и исчез в хранилище.
Габриель прошел по узкому пешеходному мостику и двинулся дальше в прохладной тени сосен. Постоял немного возле Канделябры, затем медленно пошел по проспекту Праведных народов, названному так в благодарность тем, кто помогал евреям. В Зале Памяти он постоял перед вечным огнем, который горел среди черных базальтовых стен, на которых были выгравированы самые кошмарные названия в истории: Треблинка, Собибор, Майданек, Берген-Бельзен, Челмно, Аушвиц…
Рядом, в Зале Жертв, он побродил среди бесконечного множества ящиков, набитых свидетельствами о судьбе того или иного мученика: фамилия, место и дата рождения, имя родителей, местожительство, профессия, место смерти. С помощью гида Габриель нашел ящик со свидетельствами о его деде и бабушке – Викторе и Саре Франкель. Два листа бумаги были единственными им памятниками. Внизу каждой страницы стояло имя того, кто сообщил сведения о них: Айрин Аллон, мать Габриеля.
Он дал несколько шекелей гиду и получил распечатку каждого документа. Положил их в карман пальто и направился в соседнее здание – музей искусства «Яд Вашема», где хранилось самое крупное в мире собрание искусства холокоста. Он бродил по галереям, не в силах представить себе силу человеческого духа, какая требовалась, чтобы создавать произведения искусства в условиях голода, рабства и невероятной жестокости. И его собственная работа внезапно показалась пустячной и полностью лишенной смысла. Какое значение имеют умершие святые в музеях, какими являются церкви? Марио Дельвеккио, самоуверенный, самовлюбленный Марио Дельвеккио, казался совершенно ненужным.
В последней комнате были выставлены работы детей. Одна картина буквально вызвала у него удушье – сделанный углем набросок ребенка-гермафродита, съежившегося перед гигантской фигурой офицера СС.
Габриель взглянул на свои часы. Прошел час. Он покинул музей искусства и поспешил в архив, чтобы узнать результаты поисков Мордехая Ривлина.
Он нашел Ривлина на переднем дворе архива – тот взволнованно шагал по двору. Ривлин схватил Габриеля за локоть и повел в здание – в конференц-зал без окон на втором этаже. Две толстые папки ждали их. Ривлин открыл первую и протянул Габриелю фотографию. Это был молодой Людвиг Фогель в форме штурмбаннфюрера СС.
– Перед вами Радек, – прошептал Ривлин, не в силах сдержать волнение. – По-моему, вы нашли Эриха Радека.
13
Вена
Герр Конрад Беккер из «Беккер-унд-Пуль», Тальштрассе, 26, Цюрих, прибыл в Вену в то же утро. Он без задержки прошел таможню и направился в зал прилета, где обнаружил шофера в форме, державшего картонку с надписью «Герр Бауэр». Клиент настаивал на дополнительной предосторожности. Беккер не любил этого клиента, как не было у него и иллюзий относительно происхождения его счета, но таким уж было частное банковское дело в Швейцарии, и герр Конрад Беккер верил в него. Если бы капитализм был религией, Беккер был бы главой экстремистской секты. По ученому мнению Беккера, человек имеет от Бога право зарабатывать деньги, не подчиняясь регламентациям правительства, и хранить их где и как ему угодно. Нельзя по желанию избегать налогообложения, – это моральный долг. В засекреченном мире цюрихских банкиров он славился своей крайней предусмотрительностью. Поэтому-то Конраду Беккеру и доверен был этот счет.
Двадцать минут спустя машина остановилась перед серым каменным домом в Пятом округе, на улице под названием Штёббергассе. Беккер велел шоферу дважды нажать на клаксон, и после небольшой задержки ворота медленно открылись. Как только машина двинулась по подъездной аллее, из главного входа вышел мужчина и спустился по маленькой лестнице. Ему было около пятидесяти, фигурой и раскачивающейся походкой он походил на спортсмена, занимающегося бегом в горах. Его звали Клаус Хальдер. Он работал охранником у человека, которому принадлежал дом.
Хальдер открыл дверцу машины и провел Беккера в вестибюль. Как всегда, он попросил банкира открыть чемоданчик для обследования. Затем Беккеру надо было встать в унизительную леонардовскую позу, расставив руки и ноги, чтобы все его тело было обследовано магнитометром.
Наконец его провели в гостиную, официальную венскую приемную с ярко-желтыми стенами, увенчанными лепниной цвета топленых сливок. Мебель была в стиле барокко, обтянутая дорогой парчой. На камине тихонько тикали часы из золоченой бронзы. Каждый предмет мебели, каждая лампа, каждая безделушка гармонировали и превращали комнату в единое целое. Это была комната человека, явно имевшего деньги и равно обладавшего вкусом.
Герр Фогель, клиент, сидел под портретом, который, по мнению герра Беккера, был написан Лукасом Кранахом-старшим. Фогель медленно поднялся с кресла и протянул руку. Пара получилась очень разная: Фогель – высокий, представитель германской расы с ярко-голубыми глазами и седыми волосами; Беккер – маленький и лысый космополит, держащийся с уверенностью, порожденной разнообразием его клиентов. Фогель выпустил руку банкира и жестом указал на пустое кресло. Беккер сел и вынул из своего «дипломата» переплетенную кожей папку. Клиент медленно наклонил голову, – не тяните.
– На данное утро, – начал Беккер, – на счете находится два с половиной миллиарда долларов. Приблизительно один миллиард наличными, половина в долларах и половина в евро. Остальное инвестировано обычным образом: ценные бумаги и ипотеки, а также существенное количество недвижимости. Готовя ликвидацию счета и рассредоточение капитала, мы находимся в процессе продажи недвижимости. Учитывая состояние экономики во всем мире, это занимает у нас больше времени, чем мы рассчитывали.
– Когда же этот процесс будет завершен?
– Мы поставили себе целью конец этого месяца. Даже если мы не успеем к этому сроку, рассредоточение капитала начнется немедленно по получении письма из кабинета канцлера. На этот счет существуют очень точные инструкции. Письмо должно быть доставлено с посыльным в мою контору в Цюрихе не позже чем через неделю после принятия канцлером присяги. Оно должно быть написано на официальном бланке его канцелярии и внизу должна стоять подпись канцлера.
– Могу заверить вас, что письмо от канцлера будет доставлено.
– В преддверии победы герра Метцлера я приступил к выполнению трудной обязанности по выявлению всех, кому следует произвести выплаты. Как вам известно, эти люди разбросаны по разным странам от Европы до Ближнего Востока, Южной Америки и Соединенных Штатов. Я имел также контакт с главой банка Ватикана. Как вы можете предположить, учитывая финансовое состояние папского престола, глава банка был очень рад моему звонку.
– А почему бы и нет? Четверть миллиарда долларов – большие деньги.
Бдительный банкир улыбнулся.
– Да, но даже его святейшеству не будет известен подлинный источник этих денег. Ватикан будет лишь знать, что они поступили от богатого жертвователя, который желает остаться неизвестным.
– Ну и потом есть ведь еще и ваша доля, – сказал Фогель.
– Доля банка составляет сто миллионов долларов, которые будут выплачены после рассредоточения всех фондов.
– Сто миллионов долларов плюс вознаграждения, полученные вами за ведение деловых операций на протяжении лет, и проценты, которые вы берете ежегодно. Благодаря нашему счету вы стали чрезвычайно состоятельным человеком.
– Ваши товарищи щедро вознаграждали тех, кто помогал им в этом деле. – Банкир захлопнул папку с легким щелчком. Затем он сложил руки и с минуту задумчиво смотрел на них, прежде чем продолжить разговор. – Но, боюсь, возникли некоторые неожиданные… осложнения.
– Какого рода осложнения?
– Несколько человек из тех, кто должен получить деньги, похоже, недавно умерли при таинственных обстоятельствах. Последним был сириец. Он был убит в мужском клубе в Стамбуле в объятиях проститутки. Девчонку тоже убили. Жуткое зрелище.
Фогель печально покачал головой.
– Сирийцу следовало порекомендовать избегать подобных мест.
– Конечно, поскольку номер счета и пароль у вас, вы сохраняете контроль над теми фондами, которые не могут быть розданы. Таковы условия.
– Как удачно для меня.
– Будем надеяться, что его святейшество не пострадает аналогичным образом. – Банкир снял очки и осмотрел стекла в поисках грязи. – Я считаю нужным напомнить вам, герр Фогель, что я являюсь единственным лицом, которое имеет право распределять фонды. В случае моей естественной смерти это право перейдет к моему партнеру герру Пулю. Если же я умру насильственно или при таинственных обстоятельствах, счет будет заморожен, пока не выяснятся обстоятельства моей смерти. Если же эти обстоятельства не могут быть выяснены, счет останется мертвым капиталом. А вы знаете, что происходит с мертвыми капиталами в Швейцарии.
– Со временем они становятся собственностью самого банка.
– Совершенно верно. О-о, я полагаю, вы могли бы оспорить это в суде, но это вызовет ряд неприятных вопросов о происхождении денег, – вопросов, которые швейцарские банкиры и правительство не захотят озвучить для публики. Как вы можете представить себе, подобное расследование было бы тревожно для всех.
– В таком случае ради меня поберегите себя, пожалуйста, герр Беккер. Ваше доброе здравие и безопасность чрезвычайно важны для меня.
– Мне очень приятно это слышать. Я жду письмо от канцлера.
Банкир положил свою бухгалтерию в «дипломат» и закрыл крышку.
– Извините, но я забыл еще одну формальность. Говоря о счете, вы должны назвать мне его номер. Для протокола, герр Фогель, не произнесете ли вы его сейчас?
– Да, конечно. – И Фогель с чисто немецкой тщательностью сказал: – Шесть-два-девять-семь-четыре-три-пять.
– А пароль?
– Один-ноль-ноль-пять.
– Благодарю вас, герр Фогель.
Десятью минутами позже машина Беккера остановилась у отеля «Амбассадор».
– Подождите здесь, – сказал банкир шоферу. – Я буду отсутствовать не более двух-трех минут.
Он пересек вестибюль и поднялся на лифте на четвертый этаж. Высокий американец в мятом блейзере и полосатом галстуке впустил его в номер 417. Он предложил Беккеру выпить, от чего банкир отказался, затем предложил сигареты, что банкир тоже отклонил. Беккер никогда не притрагивался к табаку. Может, он и начнет курить.
Американец протянул руку к «дипломату». Беккер отдал его. Американец приподнял крышку и, отодрав фальшивую кожаную подкладку, обнаружил микрокассетный магнитофончик. Он вынул пленку и поставил ее на маленькую машину воспроизводства. Нажал на кнопку «Перемотка», затем – на «Пуск». Качество звучания было замечательное.
«Для протокола, герр Фогель, не произнесете ли вы его сейчас?»
«Да, конечно. Шесть-два-девять-семь-четыре-три-пять».
«А пароль?»
«Один-ноль-ноль-пять».
«Благодарю вас, герр Фогель».
Стоп.
Американец поднял вверх глаза и улыбнулся. А у банкира был такой вид, точно он был пойман, изменяя жене с ее лучшей подругой.
– Отлично сработано, герр Беккер. Мы вам благодарны.
– Я нарушил швейцарские законы банкирской тайны столько раз, что и не сосчитать.
– Верно, но это дерьмовые законы. К тому же вы-то все равно получите миллион долларов. Вы и ваш банк.
– Но это уже не мой банк, так ведь? Это теперь ваш банк.
Американец откинулся на спинку стула и сложил на груди руки. Он не стал оскорблять Беккера, отрицая это обстоятельство.
14
Иерусалим
Габриель понятия не имел, кто такой Эрих Радек. Ривлин рассказал ему.
Эрих Вильгельм Радек родился в 1917 году в деревне Альберндорф, в тридцати милях к северу от Вены. Сын офицера полиции, он окончил местную гимназию, проявив явную склонность к математике и физике. Получив стипендию, он поступил в Венский университет, где изучал инженерное дело и архитектуру. Судя по университетским документам, Радек был одаренным студентом, получавшим высокие оценки. Он был также активным студентом, интересовавшимся политикой правых католиков.
В 1937 году он подал заявление о приеме в нацистскую партию. Он был принят и получил партийный билет № 57984567. Он был связан также с Австрийским легионом, незаконной военизированной нацистской организацией. В марте 1938 года, во время Аншлюса, он подал заявление о вступлении в СС. Голубоглазый блондин со стройной фигурой атлета, Радек был объявлен Расовой комиссией СС представителем «чисто нордической расы»; после тщательной проверки его предков было сочтено, что у него нет ни капли еврейской или какой-либо другой неарийской крови, и его приняли в это элитарное братство.
– Это копия партийной карточки Радека и анкеты, которую он заполнил при поступлении. Они взяты из Берлинского документального центра, самого крупного в мире хранилища нацистских и эсэсовских документов. – Ривлин показал две фотографии – одну в фас, другую в профиль. – Это его официальные эсэсовские фотографии. Похож на нашего человека, верно?
Габриель кивнул. Ривлин вернул фотографии в папку и продолжил свою историческую лекцию:
– К ноябрю 1938 года Радек забросил учебу и уже работал в Центральном бюро по еврейской эмиграции – нацистской организации, проводившей кампанию террора, а также лишения собственности австрийских евреев, чтобы заставить их «добровольно» покинуть страну. Радек произвел благоприятное впечатление на главу Центрального бюро, которым был не кто иной, как Адольф Эйхманн. Когда Радек выразил желание перебраться в Берлин, Эйхманн согласился помочь. Кроме того, у Эйхманна был в Вене способный помощник в лице молодого австрийского нациста по имени Алоис Брюннер, которого впоследствии обвинили в депортации и убийстве 128 тысяч евреев из Греции, Франции, Румынии и Венгрии. В мае 1939 года по рекомендации Эйхманна Радека перевели в Берлин в Главное бюро по безопасности рейха, где его направили в нацистскую службу безопасности, известную под названием СД. Вскоре он стал работать непосредственно под руководством печально прославившегося шефа СД Рейнхарда Гейдриха.
В июне 1941 года Гитлер начал операцию «Барбаросса» – оккупацию Советского Союза. Эриху Радеку поручили возглавлять операции СД в так называемом рейхскомиссариате «Украина» – в отрезанном от Украины большом куске, куда входили районы: Волынь, Житомир, Киев, Николаев, Таврия и Днепропетровск. В обязанности Радека входило обеспечение безопасности агентов и операции против партизан. Он также создал из коллаборационистов Вспомогательную украинскую полицию и контролировал ее действия.
В ходе подготовки операции «Барбаросса» Гитлер дал Генриху Гиммлеру тайный приказ уничтожать евреев в Советском Союзе. Следом за продвигавшимся по советской территории вермахтом ехало четыре отряда истребителей айнзатцгруппен. Евреев собирали и перевозили в уединенные места – обычно возле противотанковых рвов, заброшенных каменоломен или глубоких ущелий, где их расстреливали из автоматов и наспех хоронили в общих могилах.
– Эрих Радек отлично знал о деятельности отрядов айнзатцгруппен в рейхскомиссариате, – сказал Ривлин. – Это ведь была его территория. И он не был бюрократом, убивающим на бумаге. Судя по слухам, Радек получал удовольствие, наблюдая, как евреев расстреливают тысячами. Но его главный вклад в холокост был еще впереди.
– Что же это было?
– Ответ на этот вопрос лежит у вас в кармане. Он выгравирован на внутренней стороне кольца, которое вы взяли в том доме в Верхней Австрии.
Габриель достал кольцо из кармана и прочел надпись: «1005 – хорошо сработано. Генрих».
– Я подозреваю, что Генрих – не кто иной, как Генрих Мюллер, начальник гестапо. Но для наших целей наиболее важная информация содержится в первых четырех цифрах: один-ноль-ноль-пять.
– Что же они означают?
Ривлин открыл вторую папку. На ней стояла надпись: «Акция 1005».
В папке на первом месте, как ни странно, лежала жалоба соседей.
В начале 1942 года весеннее таяние снегов вскрыло несколько общих могил в районе Вартегау в Западной Польше, у реки Нер. Тысячи трупов всплыли на поверхность, и ужасающий запах распространился на мили вокруг. Живший неподалеку немец послал анонимное письмо с жалобой в Берлин, в министерство иностранных дел. Зазвенели колокола тревоги. В могилах лежали останки тысяч евреев, умерщвленных в мобильных газовых камерах, которыми пользовались в лагере смерти в Челмно. Таяние снега могло вскрыть самый строго хранимый секрет нацистской Германии – «окончательное решение еврейского вопроса».
Первые сообщения о массовых истреблениях евреев уже начали распространяться по миру благодаря телеграмме, посланной по советскому дипломатическому каналу и предупреждавшей союзников о злодеяниях, чинимых немецкими войсками на польской и советской земле. Мартин Лютер, занимавшийся «еврейскими делами» от германского министерства иностранных дел, понимал, что вскрывшиеся возле Челмно могилы представляют собой серьезную угрозу для сохранения в тайне «окончательного решения». Он направил копию анонимного письма Генриху Мюллеру в гестапо и потребовал принятия немедленных мер.
У Мордехая Ривлина была копия ответа Мюллера Мартину Лютеру. Он положил ее на стол, повернул так, чтобы Габриель мог прочесть, и указал на соответствующий абзац:
«Анонимное письмо, отправленное в министерство иностранных дел по поводу решения еврейского вопроса в районе Вартегау и пересланное Вами мне 6 февраля 1942 года, я тотчас направил для соответствующего исполнения. Результата можно ожидать в ближайшее время. Там, где рубят лес, не могут не лететь щепки, и этого не избежать».
Ривлин указал на цифры в левом верхнем углу памятной записки IV В4 43/42 gRs (1005).
– Эйхманн почти наверняка получил копию ответа Мюллера Мартину Лютеру. Как вы видите, департамент Эйхманна стоит в списке адресов Главного управления безопасности рейха. Цифры «43/42» представляют собой дату: сорок третий день тысяча девятьсот сорок второго года, или двадцать восьмое февраля. Буквы «gRs» означают, что это дело «geheime Reichssache», то есть совершенно секретное дело государственной важности. А четыре цифры в скобках в конце будут использованы в качестве кода совершенно секретной «Акции 1005».
Ривлин вложил листок в папку.
– Вскоре после того, как Мюллер отправил это письмо Мартину Лютеру, Эрих Радек был освобожден от командования на Украине и переведен обратно в Главное управление безопасности рейха, в Берлин. Его прикомандировали к департаменту Эйхманна, и для него начался период усиленного изучения и планирования. Видите ли, скрыть величайшие в истории массовые убийства не так-то просто. В июне он вернулся на Восток и, действуя под прямым руководством Мюллера, приступил к работе.
Радек разместил штаб своей зондеркоманды 1005 в польском городе Лодзи, приблизительно в 50 милях юго-восточнее лагеря смерти Челмно. Точный адрес был сугубо засекречен и известен лишь двум-трем старшим чинам СС. Вся корреспонденция шла через департамент Эйхманна в Берлине.
Радек выбрал кремацию как самый эффективный способ уничтожения трупов. Трупы пытались сжигать и раньше – обычно с помощью огнеметов, и результаты были малоутешительными. Радек, используя свои познания в области инженерного дела, разработал способ сжигания двух тысяч трупов одновременно на высоких аэродинамических кострах. Толстые деревянные брусья длиной от 23 до 27 футов пропитывали керосином и укладывали на цементные блоки. Трупы складывали между брусьями – трупы, брусья, трупы, брусья, трупы… У основания пирамиды помещали пропитанное керосином топливо и поджигали. Когда огонь догорал, обугленные кости давили тяжелыми машинами и разбрасывали пепел.
Грязную работу выполняли евреи-рабы. Радек создал из евреев три команды: одна вскрывала массовые захоронения, вторая переносила трупы из мест захоронения на костер и третья просеивала пепел, выискивая кости и драгоценности. По окончании операции место заравнивали и, чтобы скрыть то, что здесь произошло, засаживали растениями. Затем убивали рабов и уничтожали их тела. Такая процедура способствовала сохранению секретности «Акции 1005».
По завершении работы в Челмно Радек и его зондеркоманда 1005 направилась в Аушвиц расчищать быстро заполнявшиеся захоронения. К концу лета 1942 года сильное заражение воды и проблемы со здоровьем возникли в Бельзене, Собиборе и Треблинке. Колодцы, находившиеся возле этих лагерей и снабжавшие питьевой водой охрану, а также выкопанные поблизости расположения подразделения вермахта, оказались зараженными от расположенных поблизости массовых захоронений. В некоторых местах тонкий слой накрывавшей их почвы растрескался, и воздух наполнился ужасающими запахами. В Треблинке эсэсовцы и украинские убийцы даже не потрудились захоронить все трупы. В тот день, когда комендант лагеря Франц Штангль прибыл занять свой пост, запах Треблинки можно было почувствовать за двадцать миль. На дороге к лагерю валялись трупы, и гора разлагающихся тел встретила коменданта на железнодорожной платформе. Штангль пожаловался, что не сможет приступить к работе в Треблинке, пока кто-нибудь не уберет это безобразие. Радек приказал соорудить погребальные костры, и тела были сожжены.
Весной 1943 года продвижение Красной Армии вынудило Радека переключить свое внимание с лагерей смерти в Польше на места истребления людей, расположенные восточнее, на оккупированной советской территории. Вскоре он вернулся в свои родные края, на Украину. Радек в точности знал, где захоронены тела, так как двумя годами раньше координировал работу карателей. В конце лета зондеркоманда 1005 перебралась из Украины в Белоруссию, а в сентябре активно действовала в Литве и Латвии, где еврейское население было полностью истреблено.
Ривлин закрыл папку и с отвращением отодвинул ее от себя.
– Мы никогда не узнаем, сколько тел уничтожили Радек и его люди. Масштабы преступления были слишком огромны, чтобы полностью их скрыть, но «Акция 1005» уничтожила многие доказательства и сделала фактически невозможным подсчитать по окончании войны точное количество погибших. Работа была проделана Радеком столь тщательно, что польская и советская комиссии, занимавшиеся расследованием холокоста, не смогли найти и следа массовых захоронений. В Бабьем Яре люди Радека так все подчистили, что после войны Советский Союз разбил на этом месте парк. А теперь, к сожалению, отсутствие физических останков дало основание крайним экстремистам утверждать, что никакого холокоста вообще не было. Деятельность Радека преследует нас по сей день.
Габриель подумал о страницах свидетельств в Зале Жертв, единственных памятниках миллионам погибших.
– Макс Клайн клялся, что видел Людвига Фогеля в Аушвице летом или ранней осенью тысяча девятьсот сорок второго года, – сказал Габриель. – Судя по тому, что вы сейчас рассказали мне, это вполне возможно.
– Конечно, если считать, что Людвиг Фогель и Радек действительно один и тот же человек. Зондеркоманда 1005 Радека определенно действовала в Аушвице в сорок втором году. Находился ли там Радек в определенный день или нет, наверное, невозможно проверить.
– А что известно о Радеке после войны?
– Боюсь, немного. Он пытался бежать из Берлина, переодевшись в форму капрала вермахта. Через две-три недели после окончания войны он был арестован по подозрению в принадлежности к СС и отправлен в лагерь для военнопленных в Мангейме. Где-то в начале сорок шестого года он бежал оттуда. Дальнейшее покрыто тайной. Похоже, что он сумел выбраться из Европы. Его якобы видели в известных местах – в Сирии, Египте, Аргентине, Парагвае, но ничего определенного. Те, кто охотился за нацистами, преследовали крупную рыбу, вроде Эйхманна, Бормана, Менгеле и Мюллера. Радек умудрился пролететь ниже радара. А кроме того, «Акция 1005» была так хорошо засекречена, что о ней и разговора почти не было на Нюрнбергском процессе. Никто толком ничего о ней не знал.
– Кто управлял делами в Мангейме?
– Это был американский лагерь.
– А нам известно, как Радек сумел бежать из Европы?
Ривлин отрицательно покачал головой:
– Нет, но следует полагать, что ему помогли.
– ОДЕССА?
– Это могла быть ОДЕССА или одна из других секретных нацистских сетей вспомоществования. – Ривлин помолчал и добавил: – Или это могла быть некая древняя и широко известная организация в Риме, которая успешно осуществляла переброски людей в послевоенный период.
– Ватикан?
Ривлин кивнул.
– ОДЕССА в подметки не годилась Ватикану, когда речь шла о финансировании или прокладке пути бегства из Европы. Поскольку Радек – австриец, ему почти наверняка помог епископ Гудал.
– Это кто такой?
– Алоиз Гудал родился в Австрии, был антисемитом и рьяным нацистом. Пользуясь своим положением ректора «Санта-Мария-дель-Анима», немецкой семинарии в Риме, он помог сотням офицеров СС избежать правосудия, в том числе Францу Штанглю, коменданту Треблинки.
– Какого же рода помощь он им оказывал?
– Для начала они получали паспорт Красного Креста на новое имя и въездную визу в далекую страну. Он давал им также немного карманных денег и оплачивал их переезд.
– Он вел записи?
– По-видимому, да, но его бумаги находятся под замком в «Анима».
– Мне нужно все, что у вас есть на епископа Алоиза Гудала.
– Я подберу вам полное досье.
Габриель взял фотографию Радека и внимательно вгляделся в нее. В этом лице было что-то знакомое. Это не давало покоя Габриелю все время, пока Ривлин говорил. Потом он вспомнил про наброски углем, которые видел утром в музее искусства холокоста: ребенок, съежившийся перед монстром-эсэсовцем, и сразу понял, где он видел раньше лицо Радека.
Он стремительно поднялся, опрокинув свой стул.
– Что случилось? – спросил Ривлин.
– Я знаю этого человека, – сказал Габриель, не спуская глаз с фотографии.
– Откуда?
Габриель не ответил на вопрос.
– Мне придется одолжить у вас это, – сказал он. И, не дожидаясь ответа Ривлина, выскользнул за дверь и был таков.
15
Иерусалим
Прежде чем уйти из «Яд Вашема», Габриель позвонил Шамрону и договорился о машине. К тому времени, когда он вернулся в свою квартиру, машина уже ждала его у дома. Охранник в темных очках, прислонясь к капоту, смотрел на хорошеньких девушек, прогуливающихся по Хативат Иерушалаим. Габриель сел за руль и помчался прямо на яркое послеполуденное солнце.
В былые дни он выбрал бы скоростную дорогу на север через Рамаллу, Набулус и Дженин. Теперь же даже человек, обладающий искусством выживания, как Габриель, не отважился бы на такую поездку в небронированной машине и без боевого сопровождения. Поэтому он выбрал долгий круговой путь вниз по западному склону Иудейских гор, обращенному к Тель-Авиву, вверх по Прибрежной долине к Хадере, затем на северо-восток, через вершину горы Кармель в Эль-Мегиддо – настоящий Армагеддон.
Долина простиралась перед ним от Самарианских холмов на юге до откосов Галилеи на севере – чередование зеленых и бурых пятен пропашных культур, садов и лесов, посаженных ранними еврейскими поселенцами на территории Мандатной Палестины. Габриель свернул на север, в направлении Назарета, потом на восток – к маленькому сельскому городку на краю Бальфурского леса под названием Рамат-Давид.
У него ушло всего несколько минут на то, чтобы отыскать адрес. Бунгало, которое было построено для Аллонов, снесли, и на его месте стоял теперь дом из песчаника калифорнийского типа, увитый ползучими растениями, с тарелкой на крыше и изготовленным в Америке мини-фургоном на подъездной дороге. Пока Габриель смотрел на дом, из входной двери вышел солдат и быстро пошел через переднюю лужайку. Память Габриеля ожила. Он увидел своего отца, шагавшего вот так же теплым июньским вечером, и хотя Габриель в тот момент этого не сознавал, он видел отца живым в последний раз.
Он посмотрел на соседний дом. В этом доме в свое время жила Циона. Теперь она уже явно тут не живет. Она была из поселенцев – художница, диссидентка и упорная социалистка. Циона продала дом и переехала, лишь бы не жить в районе такой застройки. Однако Израиль был по-прежнему большой вздорной семьей, и Габриель не сомневался, что новые жильцы смогут по крайней мере указать ему нужное направление.
Он пересек зеленую лужайку перед домом и позвонил. Молодая толстушка, говорившая на иврите с русским акцентом, не разочаровала его. Циона поселилась теперь в Сафеде. У русской женщины был адрес, по которому пересылать почту.
Евреи жили в центре Сафеда со времен глубокой древности. После того, как их изгнали из Испании в 1492 году, Оттоманская империя разрешила гораздо большему числу евреев поселиться в Сафеде, и город стал процветать, превратившись в центр еврейской мистики, науки и искусства. Во время войны за независимость Сафед чуть не попал в руки превосходивших силой арабов, когда на подмогу осажденным пришел взвод палмахских бойцов, пробравшихся в город, осуществив ночью смелый бросок из своего гарнизона на горе Ханаан. Начальник палмахского отряда договорился с могущественными раввинами Сафеда о разрешении работать в еврейскую Пасху для укрепления городских фортификаций. Звали этого человека Ари Шамрон.
Квартира Ционы находилась в квартале художников, на верху лестницы, мощенной булыжником. Циона была огромная женщина с непокорными седыми волосами, в белом восточном халате и со множеством браслетов на руках, которые загремели и зазвенели, когда она обхватила шею Габриеля. Она втащила его в помещение, служившее одновременно гостиной и студией гончара, и усадила на каменной террасе полюбоваться закатом солнца над Галилеей. В воздухе пахло горящим лавандовым маслом.
На столе появилась тарелка с хлебом, а также оливки и бутылка голанского вина. Габриель тотчас расслабился. Циона Левина была ему чем-то вроде родственницы. Она заботилась о нем, когда мать работала или страдала от депрессии и не могла встать с кровати. Иной раз ночью он вылезал в окно и пробирался в соседний дом, к Ционе. Она ласкала и обнимала его, чего никогда не делала мать. Когда его отца убили в июньской войне, Циона вытирала ему слезы.
Ритмические гипнотизирующие звуки молитв долетали из ближайшей синагоги. Циона подлила лавандового масла в лампу. И заговорила о ситуации. О боях на Территориях и терроре в Тель-Авиве и Иерусалиме. О друзьях, погибших от рук шахидов,[12] и друзьях, потерявших надежду найти работу в Израиле и перебравшихся в Америку.
Габриель потягивал вино и смотрел, как огненное солнце садится за Галилеей. Он слушал Циону, а думал о матери. Прошло почти двадцать лет со дня ее смерти, и он обнаружил, что думает о ней все меньше и меньше. Он забыл ее лицо в молодости – оно утратило краски и стерлось, как выцветает полотно от времени и влияния коррозии. Он мог вызвать в памяти лишь ее мертвое лицо. После мук, вызванных раком, ее похудевшие черты приобрели выражение безмятежности, словно она позировала для портрета. Казалось, она хотела смерти. Смерть наконец принесла ей избавление от мучительных воспоминаний, бушевавших в ее памяти.
Габриель никогда не сомневался, что она любила его, но они никогда не были близки. Она окружала себя стенами и укреплениями, которые он осаждал, но не мог преодолеть. Она была склонна к меланхолии, и у нее случались припадки ярости. Плохо спала ночью. Не в состоянии была порадоваться на празднике или обильно поесть и выпить. Левое предплечье у нее было всегда забинтовано, скрывая выцветшие номера татуировки. Она считала это признаком еврейской слабости, своим знаком еврейского позора.
Пытаясь сблизиться с ней, Габриель стал рисовать. Ей показалось это оскорбительным, как произвольное вторжение в ее личный мир, а когда его талант созрел и Габриель стал соперничать с нею, она начала завидовать его несомненному дару. Габриель подталкивал ее к новым высотам. Боль, столь заметная в жизни, нашла выражение в творчестве. Габриеля не оставляли в покое картины того кошмара, которые она по памяти воспроизводила на полотнах. Он начал искать источник этого.
В школе он узнал о месте, именуемом Биркенау. Он спросил Циону, почему она бинтует левое предплечье, почему всегда носит блузы с длинным рукавом, даже когда в долине Джезри жарко как в печке. Он спросил, что было с ней во время войны, что случилось с его дедушкой и бабушкой. Сначала она отказывалась отвечать, но наконец уступила под его натиском. Рассказывала поспешно и нехотя – Габриель, несмотря на молодость, сумел уловить, что она о чем-то умалчивает и в ее рассказе больше чем намек на вину. Да, она была в Биркенау. Ее родители погибли там в день приезда. А она работала. И выжила. Вот и все. Габриель, желая получить больше подробностей о судьбе своей матери, стал составлять различные сценарии, которые объяснили бы, как она выжила. Он тоже начал чувствовать стыд и вину. Таким образом ее недуг, как наследственная болезнь, передался следующему поколению.
Эта проблема никогда больше не обсуждалась. Словно захлопнулась стальная дверь, словно холокоста никогда не было. Мать впала в продолжительную депрессию и много дней пролежала в постели. Когда наконец она поднялась, то заперлась у себя в студии и начала писать. Она работала без перерыва день и ночь. Однажды Габриель заглянул в приоткрытую дверь и обнаружил, что она лежит на полу перед картиной с выпачканными в краске руками и дрожит. Из-за этой картины он и приехал сейчас к Ционе.
Солнце село. На террасе стало холодно. Циона накинула на плечи шаль и спросила Габриеля, собирается ли он возвращаться на родину. Габриель пробормотал что-то насчет отсутствия работы – вот и друзья Ционы перебрались из-за этого в Америку.
– И на кого же ты нынче работаешь?
Он не попался на удочку.
– Восстанавливаю картины старых мастеров. Мне приходится жить там, где их картины. В Венеции.
– В Венеции, – с иронией произнесла она. – Венеция – это музей. – И поднесла бокал вина к видневшейся Галилее. – А вот это – жизнь. Вот оно – искусство. Хватит реставрировать. Тебе следовало бы посвятить все свое время и энергию, создавая собственные работы.
– Собственных работ не существует. Это давно ушло от меня. Я один из лучших в мире реставраторов живописи. И меня это вполне устраивает.
Циона выбросила вверх руки. Браслеты звякнули, как ветровые тимпаны.
– Это вранье. Ты лгун. Ты же художник, Габриель. Приезжай в Сафед и обрети свое искусство. Обрети себя.
Ему было не по себе от ее колкостей. Он мог бы сказать ей, что у него появилась женщина, но это дало бы новое направление нападкам, а Габриель стремился этого избежать. Поэтому он дал установиться между ними молчанию, которое заполнили успокаивающие звуки «Маарив».
– Что ты делаешь в Сафеде? – наконец спросила она. – Я же понимаю, что ты приехал в такую даль не для того, чтобы выслушать лекцию твоей подруги Ционы.
Он спросил тихим, чуть ли не детским голоском, сохранились ли у Ционы картины и наброски матери?
– Конечно, Габриель. Я хранила их все эти годы, дожидаясь, когда ты придешь и потребуешь их. – Она поднесла к его лицу свечу. – Ты что-то от меня скрываешь, Габриель. Только я на всем белом свете могу сказать, когда ты что-то утаиваешь. Так всегда было, особенно когда ты был мальчиком.
Габриель налил себе еще один бокал вина и рассказал Ционе про Вену.
Она открыла дверь в кладовую и дернула за шнурок, зажигая верхний свет. Кладовка была от пола до потолка забита полотнами и набросками на бумаге. Габриель начал их листать. Он уже забыл, сколь одаренной была его мать. Он увидел влияние Бекмана и Пикассо и, конечно, ее отца – Виктора Франкеля. Тут были даже варианты сюжетов, которые в свое время разрабатывал Габриель в собственном творчестве. Его мать развила их или – в некоторых случаях – начисто уничтожила.
Она была поразительно талантлива.
Циона оттолкнула его и с трудом пробралась сквозь множество работ. Она пришла со стопкой полотен и двумя большими конвертами, набитыми набросками. Габриель присел на каменный пол и начал просматривать работы матери, а Циона смотрела через его плечо.
Это были наброски лагерной жизни. Двухъярусные койки, набитые детьми. Женщины-рабыни, трудящиеся на заводах. Трупы, сложенные в поленницы в ожидании, когда их бросят в огонь. Вцепившаяся друг в друга семья в газовой камере.
На последнем полотне – эсэсовец, весь с головы до пят в черном. Эту картину Габриель видел в тот день в студии матери. Если другие работы были темными и абстрактными, здесь мать постаралась изобразить фигуру реалистично и разоблачительно. Габриель был поражен тем, насколько безупречно она вычертила и обработала кистью фигуру, а затем перевел взгляд на лицо субъекта. Это был Эрих Радек.
Циона приготовила постель Габриелю в гостиной и рассказала ему историю о разорвавшемся сосуде.
– До того, как Бог создал Вселенную, существовал лишь Бог. Когда Бог решил создать мир, он отошел в сторону, чтобы создать пространство для мира. В этом пространстве и была создана Вселенная. Но в этом пространстве уже не было Бога. Для освещения Господнего творения Бог создал Небесные искры. Создав свет и разместив его в своем творении, Бог подготовил для света специальные сосуды. Но произошел несчастный случай. Случай в космосе. Сосуды лопнули. И Вселенная наполнилась искрами созданного Богом Небесного света и осколками разорвавшихся сосудов.
– Прелестная история, – сказал Габриель, помогая Ционе подоткнуть простыню под подушки дивана. – Но какое она может иметь отношение к моей матери?
– Эта история о том, что пока искры Господнего света не будут собраны вместе, творение Господне не будет закончено. И это наша – евреев – святая обязанность. Мы именуем ее Tikkun Olam – Исправление мира.
– Я могу восстановить многое, Циона, но боюсь, мир – это слишком большое полотно и в нем слишком многое повреждено.
– Так начни с малого.
– Каким образом?
– Собери искры, рассыпанные твоей матерью, Габриель. И накажи того, кто взорвал сосуд.
На другое утро Габриель выскользнул из квартиры Ционы, не будя ее, и тихо спустился по мощенным булыжником ступеням при сером, не рождающем теней свете зари, с картиной матери под мышкой. Правоверный еврей, направлявшийся на утреннюю молитву, счел его сумасшедшим и злобно погрозил кулаком. А Габриель положил картину в багажник машины и направился из Сафеда. Кроваво-красное солнце появилось над горным хребтом. Внизу, в долине, Галилейское море разливалось жидким огнем.
Габриель остановился в Афуле позавтракать и оставил сообщение на автоответчике Мордехая Ривлина, предупреждая, что возвращается в «Яд Вашем». Приехал он туда к концу утра. Ривлин ждал его. Габриель показал ему полотно.
– Кто это написал?
– Моя мать.
– Ее имя?
– Ирене Аллон, однако в Германии ее фамилия была Франкель.
– А где же она находилась?
– В женском лагере в Биркенау с января сорок третьего года до конца.
– До «Марша смерти»?
Габриель кивнул. Ривлин схватил Габриеля за локоть и сказал:
– Пойдем со мной.
Ривлин привел его в комнатушку без окон, где стояли стол и два стула, и исчез. Через двадцать минут он вернулся с двумя экземплярами одного и того же документа – один был для Габриеля, а другой для него самого. Прочтя название документа, Габриель похолодел: «Свидетельство Ирене Аллон, полученное 19 марта 1957 года». Он поколебался и начал читать.
16
Я не стану рассказывать все, что я видела. Не могу. Но то, что могу рассказать, обязана сделать ради умерших. Я не стану рассказывать вам о непостижимой жестокости, какой мы подвергались от так называемой «расы господ», как не расскажу и о том, что некоторые из нас делали, чтобы прожить лишний день. Лишь те, кто такое пережил, способны понять, каково это было на самом деле, и я не стану унижать покойных. Я расскажу лишь то, что сама делала и что делали со мной. Я пробыла два года в Аушвиц-Биркенау, два года день в день, ровно два года, даже если измерять часами. Меня зовут Ирене Аллон. Раньше меня звали Ирене Франкель. Вот чему я была свидетелем в январе 1945 года, на «Марше смерти» из Биркенау.
Дабы понять страдания людей, участвовавших в этом марше, надо сначала узнать, что было до того. Вы слышали об этом от других. Мой рассказ не будет иным. Подобно всем остальным, мы прибыли туда на поезде. Наш поезд выехал из Берлина среди ночи. Нам сказали, что нас везут на Восток, на работы. Мы этому поверили. Нам сказали, что нас повезут в настоящих вагонах с сиденьями. Нас заверили в том, что будет выдано питание и вода. Мы этому поверили. Мой отец – художник Виктор Френкель взял с собой этюдник и карандаши. Его уволили из учителей, и нацисты объявили его работы «дегенеративными». Большинство его картин были забраны и сожжены. Он надеялся, что нацисты разрешат ему продолжать работать на Востоке.
Вагон оказался вовсе не обычным вагоном с сиденьями, и никакого питания и воды нам не дали. Не помню в точности, сколько времени мы ехали. Я потеряла счет, сколько раз солнце вставало и садилось, сколько раз мы ехали в темноте и на свету. Туалета не было, лишь ведро – одно ведро на шестьдесят человек. Можете представить себе, в каких мы ехали условиях. Можете представить себе, какая стояла вонь. Можете представить себе, к чему некоторые из нас прибегали, когда жажда заставляла терять рассудок. На второй день стоявшая рядом со мной женщина умерла. Я закрыла ей глаза и помолилась за нее. Я смотрела на мою мать – Сару Франкель и ожидала, что она тоже вот-вот умрет. Почти половина людей в нашем вагоне умерли к тому времени, когда поезд с визгом наконец остановился. Одни молились. Другие благодарили Господа за то, что наше путешествие наконец закончилось.
Десять лет мы жили под пятой Гитлера. Мы страдали от нюрнбергских законов. Мы жили в кошмаре Хрустальной ночи. Мы видели, как горели наши синагоги. Но даже пережив все это, я не была готова к тому, что увидела, когда отодвинули засовы и двери открылись. Я увидела высокую коническую трубу из красного кирпича, из которой шел густой дым. Под трубой находилось здание, освещенное бушующим прыгающим пламенем. В воздухе стоял жуткий запах. Мы не могли понять, чем пахнет. Я по сей день ощущаю его. Над железнодорожной платформой была надпись: «Аушвиц». Я поняла тогда, что прибыла в ад.
* * *
«Juden, raus, raus![13] – Эсэсовец ударил кнутом меня по бедру. – Вылезай из вагона, Juden».
Я спрыгнула на покрытую снегом платформу. Ноги, ослабевшие от многодневного стояния, подкосились. Эсэсовец снова щелкнул хлыстом, ударив на этот раз меня по плечу. Такой боли я еще никогда не испытывала. Я поднялась на ноги. Каким-то образом сумела удержаться от вскрика. Попыталась помочь маме спуститься из вагона. Эсэсовец оттолкнул меня. Отец выпрыгнул на платформу и упал. Мама тоже. Как и меня, их подняли на ноги ударом хлыста.
Мужчины в полосатых пижамах полезли в поезд и начали выбрасывать наш багаж. Я подумала: «Кто эти психи, пытающиеся украсть жалкие пожитки, которые нам разрешили взять с собой?» Они походили на обитателей сумасшедшего дома – бритоголовые, со впалыми щеками и запавшими глазами, с гнилыми зубами. Отец обратился к офицеру СС: «Послушайте, эти люди забирают наши вещи. Остановите их!» Эсэсовец спокойно ответил, что наши вещи не воруют, а вынимают для сортировки. Они будут отправлены к нам, как только нас расселят. Отец поблагодарил эсэсовца.
Дубинками и хлыстами они разделяют нас – мужчин и женщин – и велят построиться рядами по пять человек. Тогда я еще не знала, что предстоявшие два года проведу стоя или шагая в рядах по пять человек. Я сумела встать рядом с мамой. Пытаюсь взять ее за руку. Эсэсовец, ударив меня дубинкой по плечу, заставляет выпустить ее руку. Я слышу музыку. Где-то камерный оркестр играет Шуберта.
У головы колонны стоит стол. Несколько офицеров СС. Среди них особенно выделяется один: у него черные волосы и кожа цвета алебастра: на красивом лице – приятная улыбка. Он в черной форме и высоких сапогах, блестящих при ярком свете на платформе. На руках замшевые перчатки, белые и безупречно чистые. Он насвистывает вальс «Голубой Дунай». Я и по сей день не могу его слышать. Позже я узнаю, как зовут этого человека. Его страшный одиннадцатый барак находился рядом с моим бараком в Биркенау. Его зовут Менгеле, и он главный врач в Аушвице. Менгеле решал, кто способен работать, а кого надо немедленно отправить в газовую камеру. Направо – налево, жизнь – смерть. Менгеле – добрый, красивый черный бог.
Отец делает шаг вперед. Менгеле, продолжая насвистывать «Голубой Дунай», смотрит на него и мило так произносит: «Направо, пожалуйста».
«Меня заверили, что я буду в семейном лагере, – говорит отец. – Жена идет со мной?»
«Вы этого хотите?»
«Да, конечно».
«Которая ваша жена?»
Отец указывает на мою мать.
Менгеле произносит: «Вы, там, выйдите из своего ряда и идите с вашим мужем направо. Поспешите, пожалуйста, мы не можем сидеть тут всю ночь».
Я вижу, как мои родители, вслед за другими, идут направо. Пожилые люди и дети – вот кто идет направо. Молодых и здоровых направляют налево. Я делаю шаг вперед и встаю перед красавцем в черном. Он оглядывает меня с ног до головы, судя по всему, остается доволен и без звука указывает налево.
«Но мои родители пошли направо!»
Дьявол улыбается. Между его передними зубами есть щель.
«Вы достаточно скоро присоединитесь к ним, но, поверьте, пока лучше вам пойти налево».
Он казался таким добрым, таким приятным человеком. Я верю ему. И иду налево. Оглянулась через плечо в поисках родителей, но их уже поглотила масса грязных, измученных людей, спокойно шедших пятерками к газовым камерам.
Я не в состоянии рассказать вам всего, что было на протяжении следующих двух лет. Чего-то я не помню. Что-то решила забыть. В Биркенау царил беспощадный ритм, однообразие жестокости, проявляемой точно и эффективно по расписанию.
Нас остригли – не только головы, но все тело – руки, ноги, промежность. Похоже, их не заботит то, что ножницами они режут нам и кожу. Такое впечатление, что они не слышат наших вскриков. Каждому дан номер, и он нанесен татуировкой на левую руку чуть ниже локтя. Я перестала быть Ирене Франкель. Я стала рабочим инструментом рейха под номером 29395. Нас опрыскивали дезинфектантами и выдавали тюремную одежду из толстой грубой шерсти. От моей пахло потом и кровью. Я старалась не дышать глубоко. «Обувью» нам служили деревянные платформы с кожаными ремнями. Ходить в них невозможно. Интересно, кто бы смог? Нам выдали по металлической миске и по ложке и приказали всегда иметь их при себе. Нам было сказано, что если мы потеряем нашу миску или ложку, то будем тут же расстреляны. И мы верили, что так оно и будет.
Нас разместили в бараках, непригодных даже для животных. Находящиеся там женщины уже не были человеческими существами. Изнуренные голодом, с отсутствующим взглядом, с замедленными вялыми движениями. «Интересно, как скоро я стану подобна им», – подумала я. В тот момент я не надеялась выжить. Одна из этих получеловеков указала мне свободное место. На деревянной полке, накрытой тонким слоем полуистлевшей соломы, лежало пять девушек. Мы представляемся. Двое – сестры: Ирма и Элла. Остальных звали Сара и Рахиль. Мы все были немками. Все потеряли родителей при отборе. В ту ночь у нас сложилась новая семья. Мы обнимались и молились. Никто не спал.
Разбудили нас в четыре часа утра. Так, в четыре часа утра, я буду просыпаться все последующие два года, за исключением тех ночей, когда они устраивают ночные построения и заставляют нас стоять часами по стойке «смирно» на ледяном дворе. Мы разделены на команды, и нас отправляют на работу. В большинстве случаев мы выходим за пределы лагеря и сгребаем и просеиваем песок для строительства или занимаемся сельскохозяйственными работами. Иногда мы работаем в лагере – на кожевенной фабрике или на резиновом заводе. Наша капо – политзаключенная немка, достаточно жестокая, чтобы ею были довольны эсэсовцы, но, к счастью для нас, не садистка. Тем не менее, не проходит дня, чтобы меня не били – ударят то дубинкой, то хлыстом по спине, ткнут в ребра. Проступком считалось, если уронишь камень или слишком долго передохнешь, опершись на ручку лопаты. Эти две зимы были страшно холодными. А дополнительной одежды нам не давали, даже когда мы работали на дворе. Летом же было изнуряюще жарко. Болотные комары наградили всех нас малярией. Комары не делали разницы между властелинами-немцами и рабами-евреями. Даже Менгеле слег с малярией.
Еды нам дают недостаточно, чтобы выжить, – лишь столько, чтобы мы медленно угасали от голода, но все же могли служить рейху. Сначала я лишилась менструаций, потом лишилась грудей. Довольно скоро я выглядела так же, как те недочеловеки, которых видела в первый день в Биркенау. На завтрак – какая-то серая водица, которую они именуют «чаем». На ленч – суп из репы, который мы едим там, где работаем. Иногда попадается маленький кусочек мяса. Некоторые девушки отказываются его есть, потому что оно не кошерное. Я же не следую законам питания в Аушвице-Биркенау. В лагерях смерти нет Бога, и я возненавидела Бога за то, что он предоставил нас нашей судьбе. Когда в моей миске попадается мясо, я ем его, даже если это свинина. На ужин нам дают хлеб. Мы научились съедать половину хлеба вечером и оставлять другую на утро, чтобы подкрепиться до того, как выходим работать в поле или на завод. Если во время работы упадешь, тебя бьют. Если не можешь встать, тебя швыряют, как дрова, на грузовую платформу и везут в газовую камеру.
Вот какова наша жизнь в женском лагере Биркенау. Мы просыпаемся. Убираем мертвых с нар – счастливиц, спокойно отошедших во сне в мир иной. Пьем наш серый чай. Идем на построение. Отправляемся на работу рядами по пять человек. Едим ленч. Нас избивают. Возвращаемся в лагерь. Идем на построение. Съедаем хлеб, отправляемся спать и ожидаем, когда все начнется сначала. Нас заставляют работать и в субботу. В воскресенье – их выходной день – мы не работаем. Каждое третье воскресенье нас бреют. Все расписано по графику.
Все, кроме отбора.
Мы научились предвидеть отбор. Подобно животным, у нас появилось обостренное чувство выживания. Количество людей в лагере – самый верный предупреждающий признак. Как только их становится слишком много, начинается отбор. Нас заставляют построиться рядами по пять человек и стоять так часами на Лагерштрассе. Строй растягивается во всю длину Биркенау – тысячи женщин и девушек ждут того момента, когда они предстанут перед Менгеле и его командой по отбору, ждут своего шанса доказать, что они все еще способны работать, все еще достойны жить.
Отбор занимает целый день. Нам не дают ни пить, ни есть. Иные так и не доходят до стола, за которым Менгеле изображает Бога. Садисты-эсэсовцы «отбирают» их задолго до того. Животное по имени Таубе любит заставлять нас делать «упражнения», чтобы мы набрались силы перед отбором. Он заставляет нас делать отжимания, затем приказывает лечь лицом вниз в грязь и лежать так. Таубе придумал особое наказание для всякой пошевели́вшейся. Он встает ей на голову и своим весом раздавливает ей череп.
Наконец мы предстаем перед нашим судией. Он осматривает нас с головы до пят, записывает наш номер. «Открой рот, еврейка. Подними руки». Мы пытаемся заботиться о здоровье в этой клоаке, но это невозможно. Если заболело горло, тебя могут отправить в газовую камеру. Мази и растирания – слишком дорогое удовольствие для евреев, так что порез на руке может означать, что тебя пошлют в газовую камеру в следующий раз, когда Менгеле будет сокращать население лагеря.
Если ты прошел осмотр, наш судия проводит тебя через последний тест. Указывая на ров, он говорит: «Прыгай, Juden!» Я стою у рва и мобилизую последние силы. Перепрыгну на другую сторону – и буду жить, по крайней мере до следующего отбора. Упаду в ров, – и меня бросят на грузовую платформу и отвезут в газовую камеру. Первый раз, когда я участвовала в этом безумии, я подумала: «Я – немецкая еврейка из Берлина, из хорошей семьи. Мой отец – известный художник. Почему я должна перепрыгивать ров по приказу этого человека в черном?» А потом думала уже только о том, как оказаться на другой стороне рва и встать на ноги.
Ирму отобрали первой из нашей новой семьи. Ей не повезло: у нее был сильный приступ малярии во время большого отбора, а этого не скроешь от опытных глаз Менгеле. Элла умоляет дьявола забрать и ее, чтобы сестре не пришлось умирать в газовой камере в одиночестве. Менгеле улыбается, показывая щель между зубами.
«Ты туда скоро попадешь, но пока ты еще можешь поработать. Иди направо».
Впервые в жизни я рада, что у меня нет сестры.
Элла перестала есть. Она словно не обращает внимания на то, что ее бьют на работе. Она перешла Рубикон. Она уже мертва. Во время следующего большого отбора она терпеливо ждет в бесконечно длинной череде. Она выполняет «упражнения» Таубе и утыкается лицом в грязь, чтобы он не раздавил ей череп. Дойдя наконец до стола отбора, она набрасывается на Менгеле и пытается проткнуть ему глаз рукояткой ложки. Эсэсовец стреляет ей в живот.
Менгеле явно испугался: «Не тратьте на нее газ! Бросьте в огонь живьем! Пусть она вылетит в трубу!»
Эллу бросили в тачку. Мы смотрели, как ее увозили. И молились, чтобы она умерла до крематория.
Осенью 1944 года мы впервые услышали русские пушки. Тринадцатого сентября в лагере впервые зазвучали сирены тревоги. Седьмого октября они зазвучали снова, и орудия противовоздушной обороны лагеря впервые заговорили в ответ. В тот день зондеркоманда, работавшая в крематории IV, восстала. Они налетели на своих охранников-эсэсовцев с кирками, мотыгами и молотками и сумели поджечь свои бараки и крематорий до того, как их перестреляли. Через неделю на лагерь полетели бомбы. У наших властителей появились признаки озабоченности. Они уже не выглядят непобедимыми. Иногда вид у них становится даже немного напуганный. Это доставляет нам огромное удовольствие и внушает чуточку надежды. Газовые камеры работали в Биркенау в последний раз в октябре 1944 года. Нас продолжают убивать, но теперь им приходится делать это самим. Отобранных узников расстреливают в газовых камерах или возле крематория V. Вскоре после того, как газовые камеры перестали работать, начался демонтаж крематориев. И у нас возросла надежда выжить.
Той осенью и зимой положение ухудшилось. Продуктов стало мало. Каждый день многие женщины падали и умирали от голода и изнеможения. Убийства продолжались. Страшным орудием истребления становится тиф. Восемнадцатого декабря 1944 года бомбы союзников падают на завод синтетического топлива и резины «И.Г. Фарбен». Двадцать шестого декабря союзники наносят новый удар, но на этот раз несколько бомб падает на бараки для больных эсэсовцев в Биркенау. Пятеро эсэсовцев убиты. Охранники становятся более раздражительными, более непредсказуемыми в своих действиях. Я избегаю с ними сталкиваться. Стараюсь стать невидимкой.
Наступает новый год, 1945-й. Мы чувствуем, что Аушвиц умирает. Надеемся, что это скоро произойдет. Думаем, что делать. Ждать, чтобы русские освободили нас? Или попытаться бежать? И что будет, если мы сумеем перебраться через проволоку? Куда идти? Польские крестьяне ненавидят нас не меньше, чем немцы. И мы ждем. А что еще могли мы делать?
В середине января я почувствовала запах дыма. Выглянула за дверь барака. По всему лагерю горят костры. И запах другой. Впервые жгут не людей. Жгут бумаги. Сжигают доказательства своих преступлений. Пепел летит над Биркенау словно снег. Впервые за два года я улыбаюсь.
Семнадцатого января уезжает Менгеле. Конец близок.
Вскоре после полуночи сбор на перекличку. Нам объявляют, что весь лагерь Аушвиц эвакуируется. Больные остаются, предоставленные своей судьбе. Мы строимся и шагаем пятерками. В час ночи я в последний раз выхожу из ворот ада, день в день через два года после моего прибытия туда, а если по часам, то почти через два года. Я еще не свободна. Мне предстоит пройти еще одно испытание.
Безостановочно валит густой снег. Мы идем – бесконечно длинная цепочка недочеловеков в полосатых лохмотьях и башмаках на деревянной платформе. И нескончаемо звучат выстрелы, столь же безжалостные, как снег. Мы пытаемся считать их. Сто… двести… триста… четыреста… пятьсот… После этого мы перестаем считать. Каждый выстрел – еще одна уничтоженная жизнь, еще одно убийство. Нас было несколько тысяч, когда мы двинулись в путь. Я начинаю опасаться, что мы все станем покойниками, не дойдя до места назначения.
Сара идет слева от меня. Рахиль – справа. Мы не смеем оступиться. Тех, кто оступается, тотчас расстреливают и бросают в канаву. Мы не смеем выйти из своего ряда или задержаться. Таких тоже расстреливают. Дорога усеяна мертвецами. Мы перешагиваем через них, сохраняя построение, и молимся, чтобы его не нарушить. Жажду утоляем снегом. А вот от жуткого холода нет спасения. Немка из жалости бросает нам вареную картошку. Тех, кто по глупости подбирает картофель, тут же расстреливают.
Ночуем мы в сараях. Тех, кто не может достаточно быстро подняться со сна, расстреливают. Голод, кажется, выедает мой желудок. Он куда страшнее, этот голод, чем тот, что мы испытывали в Биркенау. Каким-то образом у меня хватает сил переставлять ноги. Да, я хочу выжить, но в этом также и вызов. Они хотят, чтобы я упала, и тогда они смогут меня расстрелять. А я хочу быть свидетелем уничтожения их «тысячелетнего рейха». Я хочу ликовать по поводу его смерти, как немцы ликовали, глядя на нашу смерть. Я думаю об Элле, набросившейся на Менгеле во время отбора и попытавшейся убить его своей ложкой. Мужество Эллы придает мне силы. И каждый шаг становится вызовом.
Он является за мной на третий день, с наступлением темноты. Приезжает на лошади. Мы сидим в снегу у края дороги и отдыхаем. Сара привалилась ко мне. Глаза ее закрыты. Боюсь, ей пришел конец. Рахиль прикладывает снег к ее губам. Рахиль – самая из нас сильная. Весь этот день она почти несла на себе Сару.
Он смотрит на меня. Он – штурмбаннфюрер СС. Прожив двенадцать лет при нацистах, я научилась распознавать знаки отличия. Я стараюсь стать незаметной. Я отворачиваюсь и забочусь о Саре. Он дергает за поводья и разворачивает лошадь так, чтобы получше рассмотреть меня. По сей день я удивляюсь, что он во мне нашел. Да, когда-то я была хорошенькой, но я отвратительно выгляжу сейчас – грязная, больная, ходячий скелет. И омерзительно пахну. Я знаю, что, если хотя бы мимолетно взгляну на него, это плохо кончится. Я опускаю голову на колени и делаю вид, что сплю. Но он слишком умен, чтобы это проглотить.
– Эй, ты! – произносит он.
Я поднимаю глаза на наездника.
– Да, ты. Вставай. Пойдешь со мной.
Я встаю. Я – покойник. Я знаю это. Рахиль тоже это знает. Я вижу это по ее глазам. У нее нет уже слез, чтобы заплакать.
– Не забудь меня, – шепчу я ей, следуя среди деревьев за всадником.
По счастью, он не заводит меня далеко – всего лишь до того места, где в нескольких метрах от дороги упало большое дерево. Он слезает с лошади и привязывает ее. Садится на упавшее дерево и велит мне сесть рядом. Я медлю. Ни один эсэсовец никогда мне такого не предлагал. Он похлопывает ладонью по дереву. Я сажусь, но на несколько дюймов дальше того места, которое он наметил. Я боюсь и одновременно стыжусь своего запаха. Он придвигается ближе. От него пахнет вином. Он очень пьян. Я погибла. Это лишь вопрос времени.
Я смотрю прямо перед собой. Он снимает перчатки, проводит рукой по моему лицу. За два года пребывания в Биркенау ни один эсэсовец никогда не гладил меня. Почему этот человек, штурмбаннфюрер, гладит меня сейчас? Я вытерпела много мучений, но это – самое худшее. Я смотрю прямо перед собой. Кожа моя пылает.
– Какой позор, – говорит он. – Когда-то ты была ведь очень хороша?
Я ничего не могу придумать в ответ. Два года, проведенные в Биркенау, научили меня: в подобных ситуациях не бывает правильного ответа. Если я в ответ скажу «да», он обвинит меня в еврейском нахальстве и убьет. Если же я скажу «нет», он убьет меня за то, что я вру.
– Я поделюсь с тобой одним секретом. Меня всегда влекло к еврейкам. Если бы меня спросили, я сказал бы, что надо перебить мужчин и использовать женщин для развлечения. У тебя был ребенок?
Я подумала обо всех этих детях, которые у меня на глазах шагали в газовые камеры Биркенау. А он требует ответа, держа меня за подбородок. Я закрываю глаза и сдерживаю крик. Он повторяет вопрос. Я отрицательно мотаю головой, и он отпускает мое лицо.
– Если ты сумеешь выжить еще несколько часов, у тебя, возможно, появится ребенок. Расскажешь ли ты ему о том, что было с тобой во время войны? Или же тебе будет слишком стыдно?
Ребенок? Как может девушка в моем положении думать о том, чтобы когда-нибудь родить? Ведь последние два года я думала лишь о том, чтобы выжить. А ребенок – это выше моего разумения.
– Отвечай мне, еврейка!
Голос его зазвучал неожиданно резко. Я почувствовала, что ситуация выходит из-под контроля. Он снова поворачивает мое лицо к себе. Я пытаюсь смотреть в сторону, но он встряхивает меня, заставляя смотреть ему в глаза. И у меня нет сил сопротивляться. Его лицо мгновенно врезается мне в память. Как и звук его голоса и его немецкий с австрийским акцентом. Я до сих пор слышу его.
– Так что же ты расскажешь своему ребенку про войну?
Что он хочет от меня услышать? Что хочет, чтобы я сказала?
Он сжимает мое лицо.
– Да говори же, еврейка! Что ты будешь рассказывать своему ребенку про войну?
– Правду, герр штурмбаннфюрер. Я скажу моему ребенку правду.
Откуда взялись эти слова, – сама не знаю. Знаю только, что если мне предстоит умереть, я умру с капелькой достоинства. И снова мне вспомнилась Элла, набросившаяся с ложкой на Менгеле.
Он разжимает пальцы. Первая кризисная ситуация вроде рассосалась. Он тяжело переводит дыхание, словно после долгого дня тяжелой работы, затем достает из кармана шинели фляжку и делает большой глоток. По счастью, он не предлагает мне выпить. Кладет фляжку обратно в карман и закуривает сигарету. Мне сигареты не предлагает. «У меня есть табак и спиртное, – как бы говорит он мне. – А у тебя ничего нет».
– Правду? А что есть правда, еврейка, в твоем понимании?
– Правда – это Биркенау, герр штурмбаннфюрер.
– Нет, моя дорогая. Биркенау – это не правда. Биркенау – это слухи. Биркенау – это вымысел противников рейха и христианства. Это сталинская, атеистическая пропаганда.
– А как же насчет газовых камер? Крематория?
– Таких вещей не было в Биркенау.
– Но я же их видела, герр штурмбаннфюрер. Мы все их видели.
– Никто этому не поверит. Никто не поверит, что можно умертвить столько людей. Тысячи? Тысячи людей могли умереть. В конце концов, была ведь война. Сотни тысяч? Возможно. Но миллионы? – Он глубоко затягивается. – По правде говоря, я видел это собственными глазами, и даже я не могу этому поверить.
В лесу раздался выстрел, потом еще один. Еще двое девушек ушли в мир иной. Штурмбаннфюрер снова делает большой глоток из своей фляжки. Почему он пьет? Пытается согреться? Или накачивается, чтобы убить меня?
– Я сейчас скажу тебе, что ты расскажешь про войну. Ты скажешь, что тебя отправили на Восток. Что ты работала. Что у тебя полно было еды и тебе оказывали должную медицинскую помощь. Что мы хорошо и гуманно к тебе относились.
– Если это правда, герр штурмбаннфюрер, почему же я превратилась в скелет?
Вместо ответа он вытащил свой револьвер и приставил к моему виску.
– Расскажи мне, еврейка, что было с тобой во время войны. Тебя перебросили на Восток. У тебя было полно еды и тебе оказывали необходимую медицинскую помощь. Газовые камеры и крематории – это выдумки большевиков и евреев. Произнеси все это, еврейка.
Я понимала, что выйти из этой ситуации живой мне не удастся. Даже если я все это произнесу, – я покойница. Так что я не стану говорить эти слова. Не доставлю ему этого удовольствия. Я закрываю глаза и жду, когда его пуля проложит канал сквозь мой мозг и избавит меня от моих мучений.
А он опускает револьвер и что-то кричит. К нему подбегает эсэсовец. Штурмбаннфюрер велит ему стеречь меня. А сам уходит через лес в направлении дороги. Возвращается он с двумя женщинами. Одна из них Рахиль. Вторая – Сара. Он приказывает эсэсовцу уйти и приставляет револьвер ко лбу Сары. Сара смотрит прямо мне в глаза. Ее жизнь в моих руках.
– Произнеси эти слова, еврейка. Тебя отправили на Восток. У тебя было полно еды и тебе оказывали нужную медицинскую помощь. Газовые камеры и крематорий – это ложь, придуманная большевиками и евреями.
Не могу я допустить, чтобы Сару убили из-за моего молчания. Я открыла было рот, но прежде чем я успела произнести хоть слово, Рахиль воскликнула:
– Не говори этого, Ирене. Он все равно убьет нас. Не доставляй ему этого удовольствия.
Штурмбаннфюрер переводит револьвер с головы Сары на голову Рахили.
– Скажи это ты, еврейская сука.
Рахиль смотрит ему прямо в глаза и молчит.
Штурмбаннфюрер нажимает на спусковой крючок, и Рахиль падает мертвая в снег. Он снова приставляет револьвер к голове Сары и снова велит мне говорить. Сара чуть качает головой. Мы прощаемся взглядом. Выстрел, – и Сара падает рядом с Рахилью.
Наступает моя очередь умирать.
Штурмбаннфюрер наставляет на меня револьвер. С дороги доносятся крики. «Raus! Raus!» Эсэсовцы заставляют девушек подняться на ноги. Я знаю, что мне с ними уже не идти. Я знаю, что живая я это место не покину. Здесь я упаду, возле польской дороги, и здесь меня закопают без памятника на могиле.
– Так что же ты расскажешь своему ребенку про войну, еврейка?
– Правду, герр штурмбаннфюрер. Я скажу моему ребенку правду.
– Никто тебе не поверит. – Он кладет револьвер в кобуру. – Твоя колонна уходит. Тебе надо их нагнать. Ты ведь знаешь, что бывает с теми, кто отстает.
Он садится на лошадь и натягивает поводья. А я валюсь в снег рядом с телами двух моих подруг. Я молюсь о них и прошу их простить меня. Передо мной проходит хвост колонны, я, шатаясь, выхожу из-за деревьев и встаю в ряд. Так, рядами по пять человек, мы идем всю ночь. Я плачу ледяными слезами.
Через пять дней после выхода из Биркенау мы приходим на железнодорожную станцию в силезском селении Воджислав. Нас погружают на открытые платформы для перевозки угля, и мы едем ночью в ужасающий январский холод. Немцы могли больше не тратить на нас свои ценные боеприпасы. На одной только моей платформе от холода умерли половина девушек.
Нас привозят в новый лагерь – Равенсбрюк, но оказывается, что для новых узниц не хватает еды. Через два-три дня некоторых из нас отправляют дальше – на этот раз в открытом грузовике. Я заканчиваю свою одиссею в лагере Нейштадт-Глеве. Второго мая 1945 года, проснувшись, мы обнаруживаем, что наши мучители-эсэсовцы бежали из лагеря. Во второй половине дня мы были освобождены американскими и русскими солдатами.
Это было двенадцать лет назад. Не проходит и дня, чтобы передо мной не возникали лица Рахили и Сары… и лицо человека, убившего их. Их смерть тяжким грузом лежит на мне. Произнеси я слова штурмбаннфюрера, они, возможно, остались бы живы, а я лежала бы в безвестной могиле у польской дороги, как еще одна безымянная жертва. В годовщину их смерти я читаю каддиш по ним. И делаю это по привычке, а не потому, что я верующая. В Биркенау я утратила веру в Бога.
Меня зовут Ирене Аллон. В свое время меня звали Ирене Франкель. В лагере я значилась как узница под номером 29395, и я описала то, чему была свидетелем в январе 1945 года во время «Марша смерти» из Биркенау.
17
Тибериас, Израиль
Была суббота. Шамрон приказал Габриелю явиться в Тибериас на ужин. Габриель медленно ехал по круто спускавшейся дороге и, подняв глаза вверх, на террасу Шамрона, увидел, как танцуют на ветру язычки газовых горелок на озере, а потом увидел и Шамрона, вечного часового, медленно шагавшего среди огоньков. Гила, прежде чем подать им еду, зажгла пару свечей в столовой и прочитала молитву. Габриель вырос в нерелигиозном доме, но в эту минуту, глядя на жену Шамрона, которая, закрыв глаза, движением рук притягивала к лицу свет свечей, он подумал, что ничего прекраснее никогда не видел.
В течение ужина Шамрон был замкнут и озабочен и не в настроении вести беседу. Даже сейчас он не говорил при Гиле о рабочих делах не потому, что не доверял ей, а потому, что боялся, как бы она не разлюбила его, узнав все, что он совершил. Гила заполняла долгие промежутки молчания рассказами о дочери, которая уехала от отца в Новую Зеландию и живет с мужем на птицеферме. Гила знала, что Габриель как-то связан с Конторой, но и не подозревала о подлинном характере его работы. Она считала его своего рода клерком, проводившим много времени за границей, и любителем искусства.
Она подала им кофе и поднос с печеньем и сухими фруктами, убрала со стола и занялась мытьем посуды, оставив мужчин беседовать. Габриель под звуки бегущей воды и позвякивание фарфора, доносившиеся из кухни, ввел Шамрона в курс дела. Они разговаривали приглушенными голосами при свете поблескивавших между ними субботних свечей. Габриель показал Шамрону досье на Эриха Радека и «Акцию 1005». Шамрон поднес фотографию к свече и прищурился, затем перевел очки для чтения на лысину и снова обратил тяжелый взгляд на Габриеля.
– Что вам известно о том, что было с моей матерью во время войны?
Взгляд, каким Шамрон посмотрел поверх края своей чашки, дал ясно понять, что нет ничего такого в жизни Габриеля, чего бы он не знал, включая и то, что происходило с его матерью во время войны.
– Она из Берлина, – сказал Шамрон. – Была депортирована в Аушвиц в январе сорок третьего года и провела два года в женском лагере Биркенау. Она вышла из Биркенау в рядах «Марша смерти». Подобно тысячам других людей она сумела выжить и была освобождена русскими и американскими войсками в Нейштадт-Глеве. Я что-нибудь забыл?
– С ней кое-что произошло во время «Марша смерти», о чем она никогда мне не рассказывала. – Габриель вынул фотографию Эриха Радека. – Когда Ривлин показал мне ее в «Яд Вашеме», я тотчас понял, что где-то видел это лицо. Вспомнил не сразу, но наконец все-таки вспомнил. Я видел это лицо мальчиком, на полотнах в студии моей матери.
– Потому-то ты и отправился в Сафед, чтобы встретиться с Ционой Левиной.
– Откуда вам это известно?
Шамрон вздохнул и глотнул кофе. Поняв, что Шамрону все известно, Габриель рассказал ему о своем вторичном посещении «Яд Вашема» в то утро. И выложил на стол страницы свидетельства матери, но Шамрон продолжал смотреть на его лицо. Тут Габриель понял, что Шамрон уже читал их. Memuneh знал все о его матери. Memuneh вообще все знал.
– Тебе собирались дать одно из самых важных заданий в истории нашей Конторы, – сказал Шамрон. – Я должен был узнать все, что мог, о тебе. В твоей характеристике из армии в плане психологическом ты назван одиноким волком, эгоистичным, обладающим хладнокровием прирожденного убийцы. Моя первая встреча с тобой подтвердила это, к тому же ты был невыносимо груб и патологически застенчив. Я захотел понять, почему ты такой. И подумал, что начать надо с твоей матери.
– И вы посмотрели ее свидетельство в «Яд Вашеме»?
Он закрыл глаза и кивнул.
– Почему же вы ни разу ничего не сказали мне?
– Это не моя обязанность, – с чувством произнес Шамрон. – Только твоя мать могла рассказать тебе такое. На ней явно до самой смерти тяжким бременем лежало чувство вины. И она не хотела, чтобы ты об этом знал. Она была не одна такая. Многие из выживших, подобно твоей матери, не могли заставить себя по-настоящему восстановить все в памяти. В послевоенные годы, предшествовавшие твоему рождению, в стране словно возникла стена молчания. Холокост? Об этом без конца шли разговоры. Но те, кто действительно это пережил, отчаянно старались похоронить свои воспоминания и продолжать жить. Это была уже другая форма выживания. К несчастью, их боль передалась следующему поколению – сыновьям и дочерям выживших. Людям вроде Габриеля Аллона.
Шамрона прервала Гила, которая, просунув голову в дверь, спросила, не нужно ли им еще кофе. Шамрон поднял руку. Гила поняла, что они говорят о работе, и ускользнула назад, на кухню. А Шамрон сложил на столе руки и пригнулся к ним.
– Буду с тобой откровенен, Габриель: когда я прочел свидетельство твоей матери, я понял, что ты безупречен. Ты работаешь на меня ради нее. Она была не в состоянии беззаветно любить тебя. Разве она могла? Она боялась потерять тебя. У нее отняли всех, кого она когда-либо любила. Она лишилась родителей при отборе, и девушки, с которыми подружилась в Биркенау, были отобраны у нее, потому что она не произнесла тех слов, которые хотел от нее услышать штурмбаннфюрер СС.
– Я бы понял, если бы она попыталась рассказать мне.
Шамрон медленно покачал головой.
– Нет, Габриель, никто не в состоянии по-настоящему такое понять. Чувство вины, стыда. Твоя мать сумела найти свой путь в этом мире после войны, но во многих отношениях ее жизнь кончилась той ночью у польской дороги. – Он ударил ладонью по столу так, что зазвенела посуда. – Значит, что будем делать? Будем жалеть себя или будем продолжать работать и выясним, является ли этот человек действительно Эрихом Радеком?
– Я думаю, ответ на этот вопрос вам известен.
– А Мордехай Ривлин считает возможным, что Радек участвовал в эвакуации Аушвица?
Габриель кивнул.
– К январю сорок пятого года работа по «Акции 1005» была в значительной степени закончена, поскольку вся территория, завоеванная на востоке, была вновь захвачена советскими войсками. Возможно, Радек отправился в Аушвиц, чтобы демонтировать газовые камеры и крематорий и подготовить эвакуацию оставшихся узников. Они же были свидетелями преступлений.
– А нам известно, как это дерьмо сумело после войны выбраться из Европы?
Габриель рассказал ему о предположении Ривлина, что Радек, будучи австрийским католиком, воспользовался услугами епископа Алоиза Гудала в Риме.
– Так почему бы нам не проследить эту линию, – сказал Шамрон, – и не посмотреть, не ведет ли она назад, в Австрию?
– Как раз об этом я и думал. Я считал, надо начать в Риме. Я хочу посмотреть бумаги Гудала.
– Немало народу тоже хотело бы их посмотреть.
– Но у них нет номера личного телефона человека, который живет на верхнем этаже Апостольского дворца.
Шамрон передернул плечами.
– Это правда.
– Мне нужен чистый паспорт.
– Не проблема. У меня есть очень хороший канадский паспорт, которым ты можешь воспользоваться. В каком состоянии твой французский?
– Trus bon, mais je doit pratiquer I'accent d'un Quebecois.[14]
– Иногда ты пугаешь даже меня.
– Это кое о чем говорит.
– Ты проведешь здесь ночь и отправишься завтра в Рим. Я довезу тебя до «Лодя». По дороге мы завернем в американское посольство и поболтаем с главой местной резидентуры.
– О чем?
– Судя по досье из Государственного архива, Фогель работал на американцев в Австрии в период оккупации. Я просил наших друзей в Лэнгли посмотреть свои досье, не увидят ли они там имени Фогеля. Это смелое предположение, но, может, нам повезет.
Габриель взглянул на свидетельство матери: «Я не стану рассказывать все, что я видела. Не могу. Я обязана так поступить ради погибших».
– Твоя мать была очень мужественная женщина, Габриель. Потому я и выбрал тебя. Я знал, что ты сделан из отличного теста.
– Она была гораздо мужественнее меня.
– Да, – сказал Шамрон. – Она была мужественнее всех нас.
То, чем по-настоящему занимался Брюс Кроуфорд, было тайной из тех, что хуже всего хранят в Израиле. Высокий, благородного вида американец был главой резидентуры ЦРУ в Тель-Авиве. Об этом знали как правительство Израиля, так и палестинские власти, и он часто служил каналом связи между двумя враждующими сторонами. Редко случалось, чтобы телефон Кроуфорда не зазвонил ночью в самый непотребный час.
Он встретил Шамрона у ворот посольства на Харайкон-стрит и провел в здание. Кабинет у Кроуфорда был большой и на вкус Шамрона слишком шикарный. Он был похож скорее на кабинет вице-президента корпорации, чем на нору шпиона, но так уж принято у американцев. Шамрон опустился в кожаное кресло и принял из рук секретарши стакан охлажденной воды с лимоном. Он собирался закурить турецкую сигарету, потом заметил на столе Кроуфорда надпись «Не курить».
Кроуфорд, казалось, не спешил приступить к делу. Шамрон этого ожидал. У шпионов существовало неписаное правило: когда просишь друга об услуге, будь готов отработать ему ужин. Шамрон, поскольку он практически был вне игры, не мог предложить ничего существенного, – лишь дать совет и высказать соображения человека, совершившего немало ошибок.
Наконец через час Кроуфорд произнес:
– Насчет этого Фогеля.
Голос американца замер. Шамрон, уловив нотку провала в голосе Кроуфорда, выжидающе пригнулся в кресле. А Кроуфорд тянул время – отодрал бумажку от своего магнита и стал ее выравнивать.
– Мы просмотрели наши досье, – сказал он, не отрывая взгляда оттого, что делали руки. – Мы даже послали команду в Мэриленд покопаться в нашем флигеле. Боюсь, мы промахнулись.
– Промахнулись? – Шамрон считал, что в таком жизненно важном деле, как шпионаж, негоже использовать американские термины, какими пользуются в спорте. Агенты в мире Шамрона не промахивались, не пропускали мяч и не падали со стуком. В этом мире существовал лишь успех или провал, и провал в таком месте, как Ближний Восток, обычно оплачивался кровью. – Что в точности вы хотите этим сказать?
– Это означает, – педантично заявил Кроуфорд, – что наши поиски ничего не дали. Мне очень жаль, Ари, но иногда такое случается.
Он держал в пальцах разглаженную бумажку и внимательно рассматривал, словно гордясь тем, что сумел привести ее в такой вид.
А Габриель сидел и ждал Шамрона на заднем сиденье «пежо».
– Как все прошло?
Шамрон закурил и ответил.
– Вы ему верите?
– Знаешь, если бы он сказал мне, что они нашли обычное личное дело или разрешение на засекречивание, я, возможно, поверил бы ему. Но – ничего? С кем, по его мнению, он разговаривал? Я оскорблен, Габриель. Правда оскорблен.
– Вы считаете, что американцам что-то известно про Фогеля?
– Брюс Кроуфорд только что подтвердил нам это. – Шамрон бросил злобный взгляд на свои стальные часы. – Черт возьми! Ему потребовался целый час, чтобы набраться смелости соврать мне, а теперь ты еще опоздаешь на свой самолет.
Габриель посмотрел на телефон на консоли.
– Совершите поступок, – шепотом произнес он. – Бросаю вам вызов.
Шамрон схватил трубку и набрал номер.
– Говорит Шамрон, – отрезал он. – Из «Лодя» через тридцать минут вылетает рейс компании «Эль-Аль». У самолета только что возникла проблема с механикой, которая потребует час для исправления. Вылет откладывается. Понятно?
Два часа спустя у Брюса Кроуфорда зазвонил телефон. Он поднес трубку к уху. И узнал голос. Это был человек, которого он отправил следить за Шамроном. Опасная игра – следить за бывшим начальником Конторы на его территории, но так было приказано Кроуфорду.
– Выйдя из посольства, он отправился в «Лодь».
– Что он делал в аэропорту?
– Высадил пассажира.
– Ты его узнал?
Сыщик дал понять, что да. Не упоминая фамилии пассажира, он сумел сообщить то, что этот мужчина – известный агент Конторы, недавно активно действовавший в одном городе Центральной Европы.
– Ты уверен, что это он?
– Никаких сомнений.
– Куда он полетел?
Услышав ответ, Кроуфорд повесил трубку. А через минуту уже сидел перед своим компьютером и набирал текст по безопасному каналу связи со штаб-квартирой. Текст был краткий, без обиняков, как любил адресат.
«Авраам направляется в Рим. Прилетает сегодня вечером рейсом „Эль-Аль“ из Тель-Авива».
18
Рим
Габриель хотел встретиться с человеком из Ватикана в таком месте, где его не узнали бы. Они остановили свой выбор на «Пиперно», старом ресторане на тихой площади возле Тибра, на расстоянии двух-трех улиц от старинного гетто. День был не по сезону теплый, и Габриель, прибывший первым, занял столик на улице под ярким солнцем.
Через несколько минут на площади появился священник и решительным шагом направился к ресторану. Он был высокий, стройный и красивый, как итальянская кинозвезда. Покрой его черного, традиционного для священника, костюма и узкий белый воротничок указывали на то, что хоть это человек и скромный, но не без личного или профессионального тщеславия. Монсеньор Луиджи Донати, личный секретарь его святейшества папы Павла VII, считался вторым самым могущественным человеком в Римской католической церкви.
В Луиджи Донати чувствовалась холодная жесткость, поэтому Габриелю трудно было представить себе его крестящим ребенка или соборующим больного в пыльном горном селении Умбрии. Его черные глаза говорили об остром и бескомпромиссном уме, а упрямый абрис подбородка указывал на человека, которому опасно перебегать дорогу. Габриель по собственному опыту знал, что это так. Годом ранее одно дело привело его в Ватикан и в умелые руки Донати, и они вместе ликвидировали серьезную угрозу папе Павлу VII. Луиджи был обязан Габриелю. И Габриель рассчитывал, что Донати – человек, который платит долги.
Донати был также из тех, кто больше всего любит провести два-три часа в залитом солнцем римском кафе. Его требовательность завоевала ему двух-трех друзей в курии, и он, подобно своему хозяину, выскальзывал, когда мог, из тенет Ватикана. Он ухватился за приглашение Габриеля позавтракать, как утопающий хватается за соломинку. Габриель отчетливо понимал, что Луиджи Донати отчаянно одинок. Иногда Габриель даже думал, не жалеет ли Донати, что выбрал такую жизнь.
Священник поднес к сигарете золотую зажигалку.
– Как идут дела?
– Работаю еще над одним Беллини. Алтарная икона в Кризостомо.
– А-а, знаю.
Прежде чем стать папой Павлом VII, кардинал Пьетро Люккези был патриархом Венеции. Луиджи Донати находился рядом с ним. И у него сохранились крепкие связи с Венецией. Мало что случалось в его старой епархии, чего бы он не знал.
– Надеюсь, Франческо Тьеполо хорошо к вам относится.
– Конечно.
– А Кьяра?
– Благодарю вас, она здорова.
– Вы оба не думали о том, чтобы… оформить ваши отношения?
– Это сложно, Луиджи.
– Да, но что не сложно?
– Знаете, сейчас вы говорили совсем как священник.
Донати откинул голову и рассмеялся. Он начал расслабляться.
– Святой отец шлет привет. Сказал, что, к сожалению, не может к нам присоединиться. «Пиперно» – один из его любимых ресторанов. Он рекомендует нам начать с filetti di baccala.[15] Он уверяет, что оно здесь лучшее в Риме.
– Непогрешимость распространяется и на рекомендации по еде?
– Папа непогрешим лишь тогда, когда он выступает в роли высшего учителя по вопросам веры и морали. Боюсь, эта доктрина неприменима к жареному филе трески. На вашем месте я бы последовал его совету по поводу филе.
– Будет сделано.
Появился официант в белой куртке. Донати сделал заказ. Фраскати полилось рекой, и Донати размягчился, как бывает с погодой во второй половине дня. Несколько минут он угощал Габриеля сплетнями из курии и рассказами о закулисных ссорах и дворцовых интригах. Все это было так знакомо. Ватикан мало чем отличался от Конторы. Наконец Габриель подвел разговор к тому, что свело его с Донати, к роли Римской католической церкви в холокосте.
– Как идет работа в Исторической комиссии?
– Как и следует ожидать. Мы снабжаем их документами из секретных архивов, они производят анализ при наименьшем нашем вмешательстве. Предварительный доклад об их находках должен поступить через полгода. После этого они начнут работать над многотомной историей.
– Есть указания на то, в каком направлении будет сделан предварительный доклад?
– Как я сказал, мы пытаемся поставить дело так, чтобы Апостольский дворец как можно меньше вмешивался в работу историков.
Габриель с сомнением взглянул на Донати поверх своего бокала с вином. Не будь на монсеньоре священнической одежды и узкого белого воротничка, Габриель счел бы его профессиональным шпионом. Самая мысль, что у Донати нет в комиссии по крайней мере двух источников, была оскорбительна. И Габриель, потягивая фраскати, высказал это монсеньору Донати. Священник признался:
– Хорошо, скажем, мне не все известно о том, что творится в комиссии.
– И?
– В докладе будет учтено огромное давление, какое оказывалось на Пия, однако, боюсь, даже в таком случае его действия не будут выглядеть очень пристойно, как и действия национальных церквей в Центральной и Восточной Европе.
– Похоже, вы нервничаете, Луиджи.
Священник нагнулся над столом и заговорил, казалось, тщательно подбирая слова:
– Мы открыли ящик Пандоры, мой друг. Начав подобный процесс, теперь уже невозможно предсказать, где он кончится и какие другие стороны церкви он затронет. Либералы ухватились за действия святого отца и требуют большего – Третий Совет Ватикана. Реакционеры вопят о ереси.
– Что-то серьезное?
Снова монсеньор необычно долго молчал, прежде чем ответить.
– До нас доходят очень недобрые слухи о недовольстве реакционеров во Франции, в районе Лангедока, – тех, что считают Ватикан-два творением дьявола, а всех пап после Иоанна Двадцать Третьего – еретиками.
– Я думал, в церкви полно таких людей. У меня самого было столкновение с «дружелюбной» группой прелатов и мирян, именовавших себя Crux Vera.[16]
Донати улыбнулся.
– Боюсь, группа, о которой я говорю, скроена из такого же материала с той разницей, что в противоположность Crux Vera она не имеет мощной опоры в курии. Они – чужаки, варвары, стучащиеся в ворота. Святой отец в очень малой степени контролирует их, и атмосфера там начала накаляться.
– Дайте мне знать, если я чем-то могу помочь.
– Будьте осторожны, мой друг, я могу ведь поймать вас на слове.
Прибыло филе трески. Донати выжал лимон на рыбу и заглотнул одно филе целиком. Запил рыбу фраскати и откинулся на стуле – на красивом лице его читалось полнейшее удовлетворение. Священнику, работающему в Ватикане, бренный мир предлагал мало удовольствий, более манящих, чем ленч на залитой солнцем римской площади. Донати взялся за второе филе и спросил Габриеля, что он делает в Риме.
– Пожалуй, можно сказать, что я занимаюсь одной проблемой, связанной с работой Исторической комиссии.
– А именно?
– У меня есть основание подозревать, что вскоре после окончания войны Ватикан, очевидно, помог разыскиваемому эсэсовцу по имени Эрих Радек бежать из Европы.
Донати перестал жевать, лицо его неожиданно стало очень серьезным.
– Будьте осторожны в словах и ваших предположениях, мой друг. Вполне возможно, что этот Радек получил от кого-то в Риме помощь, но не от Ватикана.
– Мы полагаем, что это епископ Гудал из «Анима».
Напряжение исчезло с лица Донати.
– К сожалению, добрый епископ действительно помог целому ряду беглецов-нацистов. Этого нельзя отрицать. Что дает вам основание думать, будто он помог этому Радеку?
– Разумная догадка. Радек был австрийским католиком. Гудал был ректором австрийской семинарии в Риме и отцом-исповедником немецкой и австрийской общины. Если Радек приезжал в Рим за помощью, то он наверняка обратился к епископу Гудалу.
Донати кивнул в знак согласия.
– Да, против этого не возразишь. Епископ Гудал был заинтересован в том, чтобы защитить своих сограждан от того, что он считал мщением со стороны союзников-победителей. Но это еще не значит, будто он знал, что Радек является военным преступником. Откуда он мог это знать? Италию после войны наводнили миллионы перемещенных лиц, и все они искали помощи. Если Радек пришел к Гудалу и рассказал ему печальную историю, Гудал скорее всего предоставил ему кров и помощь.
– А разве не следовало Гудалу спросить такого, как Радек, почему он в бегах?
– Наверное, следовало, но вы наивный человек, если думаете, что Радек правдиво ответил бы на этот вопрос. Он солгал бы, а у епископа Гудала не было бы повода для сомнений.
– Человек не становится беженцем без причины, Луиджи, и холокост не был тайной. Епископ Гудал должен был понимать, что он помогает военным преступникам уклониться от правосудия.
Донати подождал с ответом, пока официант подавал спагетти.
– Вы должны понимать, что в то время было много организаций и людей как в самой церкви, так и вне ее, помогавших беженцам. Гудал был не единственным.
– Откуда он брал деньги, чтобы финансировать свою операцию?
– Он утверждал, что все деньги шли со счетов семинарии.
– И вы этому верите? Каждому эсэсовцу, которому помогал Гудал, требовались карманные деньги, плата за проезд на корабле и за визу, а также средства для новой жизни в чужой стране, не говоря уж об оплате проживания в Риме до отъезда. Считают, что Гудал помог таким образом сотням эсэсовцев. Это стоило больших денег, Луиджи, – сотен тысяч долларов. Мне трудно поверить в то, что у «Анима» было такое количество свободных денег.
– Значит, вы полагаете, что кто-то давал ему деньги, – произнес Донати, ловко накручивая спагетти на вилку. – Кто-то вроде святого отца, например.
– Деньги должны же были откуда-то поступать.
Донати опустил вилку и в задумчивости сложил руки.
– Есть свидетельство того, что епископ Гудал действительно получил от Ватикана фонды для оплаты работы с беженцами.
– Они не были беженцами, Луиджи. По крайней мере, не все. Многие из них были повинны в неописуемых преступлениях. Вы хотите сказать мне, будто Пий понятия не имел, что Гудал помогает разыскиваемым военным преступникам избежать правосудия?
– Давайте скажем прямо, что на основе имеющихся документов и показаний выживших свидетелей будет очень трудно доказать такое обвинение.
– Я не знал, что вы изучали церковное право, Луиджи. – И Габриель повторил свой вопрос, медленно, по-прокурорски подчеркивая определенные слова. – Знал ли папа, что Гудал помогал военным преступникам избежать правосудия?
– Его святейшество выступал против Нюрнбергского процесса, так как считал, что это только еще больше ослабит Германию и поощрит коммунистов. Он считал также, что союзники жаждут мести, а не справедливости. Вполне возможно, его святейшество знал, что епископ Гудал помогает нацистам, и одобрял это. Однако доказать, что он придерживался такой точки зрения, – другое дело. – Донати нацелил вилку на нетронутое спагетти Габриеля. – Вы бы лучше поели, пока они совсем не остыли.
– Боюсь, я потерял аппетит.
Донати воткнул вилку в спагетти Габриеля.
– Что все-таки, судя по слухам, наделал этот Радек?
Габриель кратко изложил выдающуюся карьеру в СС штурмбаннфюрера Эриха Радека, начиная с работы на Эйхманна в Центральном бюро еврейской эмиграции в Вене и кончая тем, когда он возглавил «Акцию 1005». К концу рассказа Габриеля Донати тоже потерял аппетит.
– Неужели они действительно верили, что смогут скрыть свидетельство столь огромного преступления?
– Я не уверен, что они считали это возможным, но в значительной мере это им удалось. Благодаря таким людям, как Эрих Радек, мы никогда не узнаем, сколько народу действительно погибло в холокосте.
Донати задумчиво посмотрел на свое вино.
– Что вас интересует в той помощи, какую епископ Гудал оказал Радеку?
– Предположим, что Радеку нужен был паспорт. Для этого Гудал обратился бы в Международный Красный Крест. Я хочу знать, какое имя было на этом паспорте. Радек должен был также где-то остановиться. И ему требовалась бы виза. – Габриель помолчал. – Я знаю, что это было давно, но епископ Гудал ведь вел записи, верно?
Донати медленно кивнул.
– Личные бумаги епископа Гудала хранятся в архивах «Санта-Мария-дель-Анима». Как вы можете предположить, они опечатаны.
– Если кто-то в Риме и может снять с них печать, это вы, Луиджи.
– Мы не можем просто вломиться в «Анима» и потребовать, чтобы нам показали бумаги епископа. Сейчас там ректором епископ Теодор Дрекслер, и он не дурак. Нам нужно оправдание – прикрытие, как принято говорить в вашей профессии.
– У нас есть такое.
– Что именно?
– Историческая комиссия.
– Вы предлагаете нам сказать ректору, что комиссия запросила бумаги Гудала?
– Именно.
– А если он заартачится?
– Тогда мы придумаем что-нибудь другое.
– А кем вы представитесь?
Габриель сунул руку в карман и достал ламинированное удостоверение личности с фотографией.
– Шмуель Рубинштейн, профессор сопоставления религий в Ивритском университете в Иерусалиме.
Донати отдал карточку Габриелю и покачал головой.
– Теодор Дрекслер – блестящий теолог. Он захочет завязать с вами дискуссию, – возможно, насчет общих корней двух самых старых религий в западном мире. Я абсолютно уверен, что вы облажаетесь и епископ поймет, что вы пытались его провести.
– А это уже ваша забота не допустить такого.
– Вы переоцениваете мои способности, Габриель.
– Позвоните ему, Луиджи. Мне необходимо увидеть бумаги епископа Гудала.
– Хорошо, но прежде я хочу задать один вопрос. Зачем?
Выслушав ответ Габриеля, Донати набрал номер на своем мобильном телефоне и попросил соединить его с «Анима».
19
Рим
Церковь Санта-Мария-дель-Анима находится в Centro Storico,[17] к западу от пьяцца Навона. В течение четырех столетий это была немецкая церковь в Риме. Папа Адриан VI, сын немецкого кораблестроителя из Утрехта и последний неитальянец из пап до Иоанна-Павла II, похоронен в роскошной могиле справа от главного алтаря. В находящуюся при церкви семинарию попадают с виа делла Паче, и там, в прохладной тени переднего двора, они и встретились на другое утро с епископом Теодором Дрекслером.
Монсеньор Донати поздоровался с ним на отличном немецком с итальянским акцентом и представил Габриеля как «профессора-эрудита Шмуеля Рубинштейна из Ивритского университета». Дрекслер протянул руку под таким углом, что Габриель на секунду растерялся, не зная, следует ли ее пожать или поцеловать кольцо. После короткой заминки он твердо ее пожал. Кожа была холодная, как мрамор в церкви.
Ректор провел их наверх, в скромный кабинет, уставленный книгами. Шурша сутаной, он уселся в самое большое из стоявших в комнате кресел. Его большой золотой крест сиял под солнцем, проникавшим в высокие окна. Епископ был низенький и упитанный мужчина лет под семьдесят, с легким ореолом седых волос и очень румяными щеками. Уголки его маленького рта были постоянно приподняты в улыбке – даже сейчас, хотя он был явно недоволен, – а светло-голубые глаза блестели ироническим, толерантным, либеральным умом. Такое лицо способно было утешить больного и наполнить страхом Господним душу грешника. Монсеньор Донати был прав. Габриелю следует быть очень осторожным.
Несколько минут Донати и епископ обменивались любезностями в адрес святого отца. Епископ сказал Донати, что он молится за здоровье понтифика, а Донати сообщил, что его святейшество чрезвычайно доволен работой епископа Дрекслера в «Анима». Всякий раз, обращаясь к епископу, он говорил: «Ваше преосвященство». Под конец этой беседы Дрекслер был до того умаслен лестью, что Габриель боялся, как бы он не съехал с обитого парчой кресла.
Наконец монсеньор Донати подошел к цели своего визита в «Анима», и Дрекслер быстро помрачнел, словно туча нашла на солнце, хотя улыбка твердо оставалась на своем месте.
– Я что-то не представляю себе, чтобы спорное расследование того, что епископ Гудал делал для немецких беженцев после войны, способствовало процессу примирения между римскими католиками и евреями. – Голос его звучал сухо и мягко, он говорил по-немецки с венским акцентом. – Справедливое и сбалансированное расследование деятельности епископа Гудала обнаружит, что он помог также и немалому числу евреев.
Габриель пригнулся. Пора было «профессору-эрудиту из Ивритского университета» вступать в разговор.
– Хотите ли вы сказать, ваше преосвященство, что епископ Гудал прятал евреев, когда на них производилась облава в Риме?
– И до облавы, и после. Немало евреев жили в стенах «Анима». Крещеных евреев, конечно.
– А те, что не были крещены?
– Их нельзя было спрятать здесь. Это не было бы правильно. Их отправляли в другое место.
– Извините, ваше преосвященство, но как можно с уверенностью сказать, что этот – крещеный еврей, а этот – некрещеный?
Монсеньор Донати положил ногу на ногу и старательно разгладил складку на брючине, что означало: надо прекратить эту линию расспросов и вообще отказаться от нее. Епископ набрал в легкие воздуха.
– Им могли задать несколько простых вопросов, связанных с верой и католической доктриной. Их могли попросить прочитать «Отче наш» или «Аве Мария». Обычно довольно скоро становилось ясно, кто говорил правду, а кто лгал, чтобы получить приют в семинарии.
Донати решил прекратить разговор, и в этом ему помог раздавшийся стук в дверь. Молодой монах вошел в комнату с серебряным подносом. Он налил чаю Донати и Габриелю. Епископ пил горячую воду с тонким ломтиком лимона.
Когда юноша ушел, Дрекслер сказал:
– Но я уверен, что вас не интересуют усилия епископа Гудала спасти евреев от нацистов, верно, профессор Рубинштейн? Вас ведь интересует, какую помощь он оказывал германским офицерам после войны?
– Не германским офицерам. А объявленным в розыск военным преступникам СС.
– Он не знал, что это были военные преступники.
– Боюсь, ваше преосвященство, подобная защита звучит весьма неубедительно. Епископ Гудал был убежденным антисемитом и сторонником гитлеровского режима. В таком случае разве не естественно, что он охотно помогал австрийцам после войны, независимо от того, какие преступления они совершили?
– Он был настроен против евреев теологически, а не социально. Что же до его поддержки нацистского режима, – тут я его не защищаю. Епископ Гудал осужден собственными высказываниями и писаниями.
– И своей машиной, – добавил Габриель, используя во благо досье Мордехая Ривлина. – Епископ Гудал на своем официальном лимузине вывесил флаг рейха. Он не делал тайны из своих симпатий.
Дрекслер отхлебнул своей воды с лимоном и вперил ледяной взгляд в Донати.
– Подобно многим в нашей церкви меня тревожила деятельность Исторической комиссии святого отца, но я держал свои сомнения при себе из уважения к его святейшеству. Теперь, похоже, «Анима» попала под микроскоп. Я вынужден подвести черту. Я не позволю, чтобы репутация этой великой организации была запятнана грязью истории.
Монсеньор Донати с минуту смотрел на складку своих брюк, затем поднял глаза. Под спокойной внешностью секретарь папы скрывал бушевавшее в нем возмущение дерзостью ректора. Епископ нанес удар, Донати готов был нанести ответный. Каким-то чудом ему удалось понизить голос до принятого в церкви шепота.
– Независимо от того, насколько это вас тревожит, ваше преосвященство, святой отец пожелал, чтобы профессору Рубинштейну был дан доступ к бумагам епископа Гудала.
В комнате воцарилась глубокая тишина. Дрекслер взял в руку свой нагрудный крест, пытаясь найти лазейку. Ее не было – единственным достойным образом действия было подчинение.
– Я не собираюсь не повиноваться его святейшеству в этом вопросе. Вы не оставляете мне выбора, кроме как сотрудничать с вами, монсеньор Донати.
– Святой отец не забудет этого, епископ Дрекслер.
– Как и я, монсеньор.
Донати сверкнул иронической улыбкой.
– Насколько я знаю, личные бумаги епископа находятся здесь, в «Анима».
– Совершенно верно. Они хранятся в наших архивах. Потребуется несколько дней на то, чтобы найти их все и так подобрать, чтобы их мог прочесть и понять такой ученый, как профессор Рубинштейн.
– Вы очень заботливы, ваше преосвященство, – сказал монсеньор Донати, – но мы хотели бы видеть их сейчас.
Он повел их вниз по каменной винтовой лестнице с такими вытертыми временем ступенями, что они были скользкими как лед. Лестница оканчивалась тяжелой дубовой дверью, окованной чугуном. Такая дверь могла выдержать таран, но не смогла воспрепятствовать умному священнику с виа Венето и «профессору» из Иерусалима.
Епископ Дрекслер отпер дверь и плечом открыл ее. Он с минуту пошарил во мраке, затем резким, эхом прозвучавшим щелчком повернул выключатель. Целый ряд ламп с жужжанием внезапно хлынувшего электрического тока вспыхнул наверху, осветив длинный подземный коридор со сводчатым каменным потолком. Епископ молча жестом предложил им следовать за ним.
Свод был рассчитан на более маленьких людей. Низкорослый епископ мог спокойно идти по коридору. Габриелю же приходилось нагибать голову, чтобы не задеть лампочки, а монсеньор Донати, ростом выше шести футов, вынужден был согнуться пополам, словно человек, страдающий искривлением позвоночника. Тут хранилась память об институте «Анима» и ее семинарии, четыре столетия записей о крещении, брачных сертификатах и сообщений о смерти. Документация на служивших здесь священников и учившихся в семинарии студентов. Одни бумаги хранились в сосновых картотеках, другие – в ящиках или обычных картонных коробках. Более поздние дополнения хранились в современных пластиковых картотеках. В воздухе пахло сыростью и гниением, и в нескольких местах по стенам, журча, стекала вода. Габриель, кое-что понимавший в том, какое разрушительное воздействие оказывают на бумагу холод и сырость, стал быстро терять надежду на то, что бумаги епископа Гудала будут в сохранности.
Ближе к концу коридора находилась маленькая комната, похожая на катакомбы. В ней стояло несколько больших сундуков, запертых ржавыми замками. У епископа Дрекслера была связка ключей. Он вставил один из ключей в первый замок. Ключ не поворачивался. Епископ помучился немного и отдал ключи «профессору Рубинштейну», который без труда открывал старые замки.
Епископ Дрекслер потоптался возле них и предложил помочь в поисках документов. Но монсеньор Донати похлопал его по плечу и сказал, что они сами справятся. Дородный маленький епископ перекрестился и медленно пошел назад по сводчатому коридору.
Нашел это двумя часами позже Габриель. Эрих Радек прибыл в «Анима» 3 марта 1948 года. Двадцать четвертого мая папская комиссия помощи, ватиканская организация помощи беженцам, выдала Радеку ватиканское удостоверение личности за номером 9645/99 на имя Отто Кребса. В тот же день – с помощью епископа Гудала – «Отто Кребс», воспользовавшись своим ватиканским удостоверением личности, получил паспорт от Красного Креста. На следующую неделю он получил въездную визу от Арабской Республики Сирия. На деньги, полученные от епископа Гудала, он купил билет второго класса и в конце июня отправился в плавание из итальянского порта Генуя. В кармане у Кребса было пятьсот долларов. Епископ Гудал сохранил расписку на эту сумму за подписью Радека. Последним в досье Радека было письмо с сирийским штемпелем и маркой Дамаска, в котором Радек благодарил епископа Гудала и святого отца за помощь и обещал со временем оплатить свой долг. Подписано оно было Отто Кребсом.
20
Рим
Епископ Дрекслер в последний раз прослушал аудиопленку и набрал номер в Вене.
– Боюсь, у нас возникла проблема.
– Какого рода проблема?
Дрекслер сообщил человеку в Вене об утренних посетителях «Анима»: монсеньоре Донати и профессоре Ивритского университета в Иерусалиме.
– Как он назвался?
– Рубинштейн. Сказал, что он исследователь и работает для Исторической комиссии.
– Никакой он не профессор.
– Я тоже так подумал, но едва ли мог подвергнуть сомнению его добропорядочность. Монсеньор Донати – всесильный человек в Ватикане. Более всесильным является лишь еретик, на которого он работает.
– Чего они хотели?
– Посмотреть документацию о помощи, которую епископ Гудал оказал одному австрийскому беженцу после войны.
Наступило долгое молчание, прежде чем тот человек задал следующий вопрос.
– Они уже уехали из «Анима»?
– Да, около часа назад.
– Почему вы столько времени ждали, чтобы позвонить?
– Я надеялся, что у меня появится полезная информация.
– И она появилась?
– Да, мне так кажется.
– Сообщите же.
– Профессор остановился в отеле «Кардиналь» на виа Джулия. Он зарегистрирован там под именем Ренэ Дюран с канадским паспортом.
– Мне нужно, чтобы вы забрали часы в Риме.
– Когда?
– Немедленно.
– Где это?
– В отеле «Кардиналь» на виа Джулия остановился человек. Он зарегистрирован под именем Ренэ Дюран, но иногда выступает под именем Рубинштейн.
– Сколько времени он пробудет в Риме?
– Неясно, поэтому вам необходимо выехать немедля. Самолет компании «Аль-Италия» вылетает в Рим через два часа. На ваше имя забронировано место в бизнес-классе.
– Если я полечу самолетом, то не смогу взять с собой те инструменты, какие мне нужны для ремонта. Надо, чтобы кто-то снабдил меня этими инструментами в Риме.
– У меня как раз есть такой человек. – Он назвал номер телефона, который Часовщик запомнил. – Это профессионал и главное – чрезвычайно дискретный. Иначе я не направил бы вас к нему.
– У вас есть фотография этого джентльмена Дюрана?
– Я немедленно перешлю ее вам по факсу.
Часовщик повесил трубку и выключил свет в лавке. Затем прошел в свою мастерскую и открыл шкафчик. В нем лежала небольшая дорожная сумка со сменой белья и бритвенными принадлежностями.
Звякнул факс. Часовщик в ожидании поступления материала надел пальто и шляпу. Изображение было не оптимальным, но достаточно ясным, так что шанса на трагическую ошибку быть не могло. Часовщик положил фотографию в сумку и выключил свет, затем вышел через задний ход и пошел по затененному проулку. В конце проулка стоял черный седан «БМВ». Часовщик сел за руль и поехал в аэропорт.
21
Рим
На другое утро Габриель сел за столик «У Донея», чтобы выпить кофе. Через полчаса в зал вошел мужчина и прошел к бару. Волосы у него были как металлическая мочалка для мытья кастрюль, а на широких щеках рубцы от прыщей. На нем был дорогой, но сильно поношенный костюм. Он быстро выпил два эспрессо, продолжая все это время курить сигарету. Габриель опустил глаза на свою «Република» и улыбнулся. Шимон Познер пять лет работал представителем конторы в Риме, но так и не расстался с внешностью колючего поселенца Негева.
Познер расплатился по счету и прошел в туалет. Вышел он оттуда в солнечных очках – это означало, что встреча состоится. Он вышел через крутящуюся дверь, постоял на виа Венето, затем повернул направо и пошел прочь. Габриель оставил деньги на столике и пошел за ним.
Познер пересек Корсо д'Италия и вошел на территорию виллы Боргезе. Габриель прошел по Корсо немного дальше и в другом месте вошел в парк виллы. Он встретил Познера на обсаженной деревьями дорожке и представился как Ренэ Дюран из Монреаля. Они вместе направились к Галерее. Познер закурил сигарету.
– Прошел слух, что ночью в Альпах вы еле проскочили.
– Слухи быстро ходят.
– Контора – это как еврейский отстойник, вы это знаете. Но перед вами стоит более сложная проблема. Лев издал закон. Аллон под запретом. Если Аллон постучит к вам в дверь, выставьте его на улицу. – Познер плюнул на землю. – Я тут из преданности Старику, а не ради вас, мсье Дюран. Поэтому лучше так держаться.
Они сели на мраморную скамью и посмотрели каждый в свою сторону, нет ли за ними слежки. Габриель рассказал Познеру об эсэсовце Эрихе Радеке, отправившемся в Сирию под именем Отто Кребса.
– Он поехал в Дамаск не изучать древнюю цивилизацию, – сказал Габриель. – Сирийцы приняли его не задаром. Если он был близок к руководству, то может появиться в досье.
– Значит, вы хотите, чтобы я занялся розыском и проверил, нет ли его в Дамаске.
– Совершенно верно.
– И как, по-вашему, я должен запросить о поиске, чтобы ни Лев, ни служба безопасности не узнали об этом?
Габриель так посмотрел на Познера, словно был оскорблен этим вопросом. Познер отступил.
– Хорошо, скажем, в отделе расследований есть девушка, которая может втихую посмотреть для меня досье.
– Всего одна девушка?
Познер пожал плечами и швырнул сигарету на гравий.
– Все равно это кажется мне проблематичным. Где вы остановились?
Габриель сказал ему.
– В южном конце кампо деи Фьори есть местечко под названием «Ла Карбонара».
– Я его знаю.
– Будьте там в восемь часов. Там будет заказан столик на имя Бруначчи на восемь тридцать. Если заказ сделан на двоих, значит, поиск провалился. Если на четверых, приходите на пьяцца Фарнезе.
На противоположном берегу Тибра, на маленькой площади в нескольких шагах от ворот Святой Анны, в кафе на улице в прохладной предвечерней тени сидел Часовщик и пил капуччино. За соседним столиком оживленно беседовала пара священников в сутанах. Часовщик, хоть и не говорил по-итальянски, решил, что они служат в Ватикане. Горбатая кошка из проулка пролезла между ногами Часовщика в поисках пищи. Он поймал ее между щиколотками и, сжав ноги, начал постепенно увеличивать давление, пока кошка, издав сдавленный вопль, не выскочила и не убежала. Священники осуждающе посмотрели на него. Часовщик положил на столик деньги и пошел прочь. «Вы только подумайте: кошки в кафе!» Он стремился завершить свои дела в Риме и вернуться в Вену.
Он шел по краю колоннады Бернини и остановился на миг, чтобы посмотреть вдоль виа делла Консильяционе в направлении Тибра. Какой-то турист сунул ему в руку дешевую камеру и знаками попросил сфотографировать его на фоне Ватикана. Австриец молча ткнул пальцем в свои наручные часы, давая понять, что он опаздывает, и повернулся к туристу спиной.
Он пересек большую грохочущую площадь у самого начала колоннады. Она носила имя последнего папы. Хотя Часовщик мало чем интересовался, кроме старинных часов, он знал, что этот папа был весьма противоречивой фигурой. Папу забавляли окружавшие его интриги. И он не помогал евреям во время войны. С каких это пор папа обязан помогать евреям? Они же враги Церкви.
Часовщик свернул в узкую улочку, которая шла от Ватикана к основанию парка Джаникулум. Улочка была сильно затенена стоявшими вдоль нее домами цвета охры, покрытыми толстым слоем пыли. Часовщик шагал по растрескавшемуся тротуару в поисках адреса, который сообщили ему утром по телефону. Он нашел нужный дом, но медлил войти. На закопченном стекле было выведено: «Религиозные предметы». Ниже, более мелкими буквами, значилось имя: «Джузеппе Мондьяни». Часовщик взглянул на бумажку, где он записал адрес. Дом № 22, виа Борго Санто-Спирито. Он пришел куда надо.
Он приложился лицом к стеклу. Помещение по ту сторону стекла было забито распятиями, статуями Девы Марии, резными изображениями давно умерших святых, четками и медалями и на всех значилось, что они благословлены самим папой. Казалось, все было покрыто тонкой, похожей на муку уличной пылью. Часовщик, хоть и вырос в австрийском доме, где строго блюли католическую веру, недоумевал, что может заставить человека молиться статуе. Он уже давно не верил ни в Бога, ни в Церковь, как и не верил в судьбу, в божественное вмешательство, в загробную жизнь или удачу.
Дернув, он открыл дверь и вошел в помещение под звяканье маленького колокольчика. Из задней комнаты появился мужчина в золотистом джемпере без рубашки под ним и рыжих габардиновых брюках, уже не державших складки. Его жирные редкие волосы были уложены с помощью лосьона на макушке. Даже стоя в нескольких шагах от него, Часовщик чувствовал неприятный запах его одеколона. Интересно, подумал он, знают ли в Ватикане, что их религиозными святынями распоряжается такое достойное порицания существо.
– Чем могу быть полезен?
– Я ищу синьора Мондьяни.
Он кивнул, как бы говоря, что Часовщик нашел того, кого искал. Слюнявая улыбка обнаружила отсутствие нескольких зубов.
– Вы, должно быть, джентльмен из Вены, – сказал Мондьяни. – Я узнаю ваш голос.
И протянул руку. Она была влажная и похожая на губку, как и опасался Часовщик. Мондьяни запер входную дверь и повесил в окне надпись, гласившую на английском и итальянском языках, что магазин закрыт. Затем он открыл перед Часовщиком дверь и повел его вверх по шаткой деревянной лестнице. Наверху находился маленький кабинетик. Занавеси были задернуты, в воздухе сильно пахло женскими духами. И чем-то еще – кислым и похожим на аммиак. Мондьяни жестом указал на диван. Часовщик опустил глаза, и ему привиделся некий сюжет. Он остался стоять. Мондьяни передернул узкими плечами – мол, как угодно.
Итальянец сел за свой письменный стол, переложил несколько бумаг и пригладил волосы. Они были выкрашены в неестественный темно-оранжевый цвет. Часовщик с лысиной, окруженной бахромой волос с проседью, казалось, заставлял его стесняться своей внешности больше обычного.
– Ваш коллега из Вены сказал, что вам нужно оружие. – Мондьяни открыл ящик стола, вынул оттуда какой-то темный предмет с металлическим блеском и благоговейно, словно священную реликвию, положил его на пресс-папье в кофейных пятнах. – Уверен, что вас это удовлетворит.
Часовщик протянул руку. Мондьяни положил оружие ему на ладонь.
– Как видите, это девятимиллиметровый «глок». Я уверен, вы знакомы с «глоком». Это ведь оружие австрийского производства.
Часовщик поднял глаза от оружия.
– Оно тоже благословлено святым отцом, как и весь ваш инвентарь?
Мондьяни, судя по мрачному выражению лица, не счел это юмором. Он снова сунул руку в открытый ящик и достал коробку с патронами.
– Вам нужна вторая коробка?
Часовщик не собирался устраивать перестрелку, но в любом случае всегда лучше себя чувствуешь, когда в кармане брюк у тебя лежат запасные патроны. Часовщик кивнул; вторая коробка появилась на письменном столе.
Часовщик открыл коробку и начал заряжать оружие. Мондьяни спросил, нужен ли тут глушитель. Часовщик, не поднимая глаз, утвердительно кивнул.
– Эта штука произведена не в Австрии. Такие производятся здесь, – с чрезвычайной гордостью произнес Мондьяни. – В Италии. Отлично работают. При выстреле оружие как бы издаст шлепок.
Часовщик приставил глушитель к правому глазу, одобрительно кивнул и положил его на письменный стол рядом с остальными вещами.
– Вам еще что-нибудь нужно?
Часовщик напомнил синьору Мондьяни, что он просил приготовить мотоцикл.
– Ах да, motorino, – сказал Мондьяни, подняв в воздух связку ключей. – Он стоит у магазина. Там два шлема разных цветов, как вы просили. Я выбрал черный и красный. Надеюсь, вы будете довольны.
Часовщик взглянул на свои часы. Мондьяни понял намек и ускорил процедуру. На блокноте для стенографирования он написал изгрызенным карандашом счет.
– Оружие чистое, и принадлежность его не может быть прослежена, – произнес он, царапая карандашом по бумаге. – Советую, когда дело будет сделано, бросить оружие в Тибр. Полиция никогда его там не найдет.
– А мотоцикл?
– Украден, – сказал Мондьяни. – Оставьте его в каком-нибудь публичном месте с ключом в зажигании – например, на многолюдной площади. Я уверен, что через две-три минуты он найдет новый дом.
Мондьяни обвел карандашом последнюю цифру и повернул блокнот так, чтобы было видно Часовщику. Слава Богу, цифра была в евро. Часовщик, будучи сам бизнесменом, терпеть не мог рассчитываться в лирах.
– А вы накрутили, верно, синьор Мондьяни?
Мондьяни передернул плечами и одарил Часовщика еще одной препротивной улыбкой. Часовщик взял глушитель и старательно привинтил его к концу ствола.
– А вот это, – сказал Часовщик, постучав указательным пальцем свободной руки по блокноту, – это за что?
– Это мой гонорар брокера, – с самым невинным видом произнес Мондьяни.
Часовщик так и видел его рядом с каким-нибудь беззащитным пилигримом. «Да, святой отец останавливается тут раз в неделю, чтобы благословить то, что здесь находится».
– Вы берете с меня за «глок» в три раза больше того, что я заплатил бы в Австрии. Это и есть, синьор Мондьяни, ваш гонорар брокера.
Мондьяни с вызывающим видом скрестил на груди руки.
– Так поступают в Италии. Вы хотите получить ваше оружие или нет?
– Да, – сказал Часовщик, – но по разумной цене.
– Боюсь, такова сегодня стоимость этой вещи в Риме.
– Для итальянцев или только для иностранцев?
– Пожалуй, лучше будет, если вы обратитесь с вашей просьбой в другое место. – Мондьяни протянул руку. Она дрожала. – Верните мне оружие, пожалуйста, и отправляйтесь отсюда.
Часовщик вздохнул. Быть может, так оно лучше. Синьор Мондьяни, несмотря на заверения человека из Вены, не внушает большого доверия. Синьор Мондьяни, обороняясь, поднял руки. Выстрелы пробили сначала его ладони, потом лицо. Часовщик, выходя из кабинета, понял, что Мондьяни по крайней мере в одном не соврал. Оружие было практически бесшумным.
Он вышел из лавки и запер за собой дверь. За это время стемнело – купол базилики утонул в почерневшем небе. Часовщик вставил ключ в зажигание мотоцикла и включил мотор. И через минуту он уже мчался по виа делла Консильяционе к грязным стенам замка Святого Ангела. Он пролетел через Тибр, пробрался сквозь узкие улочки Centro Storico и выехал на виа Джулия. Через минуту он запарковал свой мотоцикл перед отелем «Кардиналь».
Сняв шлем, он вошел в вестибюль, повернул там направо и прошел в маленький, похожий на катакомбы бар со стенами из старинного римского гранита. Часовщик заказал кока-колу – он был уверен, что сумеет это сделать, не выдав своего австрийско-германского акцента, – и, получив у бармена напиток, сел с ним за столик возле прохода из вестибюля в бар. В ожидании он ел фисташки и листал итальянские газеты.
В семь тридцать из лифта вышел мужчина – коротко остриженные темные волосы с сединой на висках, яркие зеленые глаза. Он оставил ключ от номера у портье и вышел на улицу.
Часовщик допил свою кока-колу, затем вышел из отеля. Он перебросил ногу через сиденье motorino и включил мотор. На руле висел на ремешке черный шлем. Часовщик достал красный шлем из багажника и надел его, а черный положил в багажник и захлопнул крышку.
Он посмотрел вперед и увидел, как фигура зеленоглазого мужчины постепенно исчезает в темноте виа Джулия. Тогда он отвел назад дроссель и медленно поехал за ним.
22
Рим
Столик в «Ла Карбонара» был заказан на четверых. Габриель отправился на пьяцца Фарнезе и увидел Познера, ожидавшего возле Французского посольства. Они пошли в «Альпомпьере» и заняли уединенный столик в глубине. Познер заказал красное вино и поленту и вручил Габриелю ненадписанный конверт.
– Потребовалось некоторое время, – сказал Познер, – но они все-таки нашли ссылку на Кребса в отчете о нацисте по имени Алоис Брюннер. Знаете что-либо о таком?
– Он был главным помощником Эйхманна, – ответил Габриель, – специалист по депортации, хорошо обучен искусству загонять евреев в гетто, а потом в газовые камеры. Он работал с Эйхманном по депортации австрийских евреев. Позже, во время войны, занимался депортацией в Салониках и в вишистской Франции.
Познер, на которого это явно произвело впечатление, насадил на вилку кусок поленты.
– А после войны он бежал в Сирию, где жил под именем Жоржа Фишера и был консультантом правительства. Так или иначе, современная сирийская разведка и службы безопасности были созданы Алоисом Брюннером.
– А Кребс работал на него?
– Похоже, что да. Вскройте конверт. И кстати, будьте любезны, отнеситесь к этому докладу со всем уважением, какого он заслуживает. Мужчина, составивший его, заплатил за эти данные очень высокую цену. Взгляните на кодовое имя агента.
Менаше было кодовым именем легендарного израильского разведчика Эли Коэна. Коэн родился в Египте в 1924 году, а в 1957 году эмигрировал в Израиль и сразу добровольно пошел работать в израильскую разведку. Его психологический тест дал смешанные результаты. Определение личностных характеристик и профессиональных способностей показало, что он в высшей степени умен и наделен необыкновенной памятью на детали. Но при этом была также обнаружена опасная склонность к «преувеличению собственной персоны» и было предсказано, что Коэн на оперативной работе способен идти на ненужный риск.
Досье Коэна собирало пыль до 1960 года, когда возраставшее напряжение на границе с Сирией побудило израильскую разведку решить, что им отчаянно нужен разведчик в Дамаске. Долгий поиск кандидата ничего подходящего не выявил. Тогда поиск расширили, включив тех, кто был отклонен по разным причинам. Снова открыли досье Коэна, и довольно скоро его стали готовить к заданию, которое приведет его к смерти.
После шести месяцев интенсивного обучения Коэна под именем Камаля Амин Табита отправили в Аргентину создавать себе легенду преуспевающего сирийского дельца, всю жизнь жившего за границей и жаждавшего лишь одного – вернуться на родину. Он вошел в большое содружество эмигрантов в Буэнос-Айресе и завязал немало важных знакомств, в том числе дружбу с майором Амином аль-Хафезом, который в один прекрасный день стал президентом Сирии.
В январе 1962 года Коэн переехал в Дамаск и открыл фирму по экспорту-импорту. Вооруженный рекомендациями от сирийской общины в Буэнос-Айресе, он быстро стал популярной фигурой на дамасской общественной и политической сцене, завязал дружбу с высокопоставленными членами военизированной и правящей партии «Баас». Сирийские офицеры возили Коэна по военным объектам и даже показывали ему военные укрепления на стратегических Голанских высотах. Когда майор аль-Хафез стал президентом, стали поговаривать о том, что Камаля Амина Табита ждет пост министра, возможно даже – министра обороны.
Сирийская разведка понятия не имела, что любезный Табит на самом деле – израильский шпион, регулярно пересылавший отчеты своим хозяевам через границу. Срочные сообщения посылались по радио азбукой Морзе. Более длинные и подробные были написаны невидимыми чернилами, засунуты в ящики с дамасской мебелью и отправлены в Израиль из Европы. Данные, поступавшие от Коэна, давали плановикам в израильской разведке замечательную возможность видеть политическую и военную ситуацию в Дамаске.
В конце концов предупреждения о склонности Коэна к риску оправдались. Он стал неосторожен в пользовании радио – делал передачи каждое утро в одно и то же время или несколько передач в один день. Он посылал приветы своей семье и оплакивал поражение Израиля в международном футбольном матче. Сирийские силы безопасности, вооруженные последними детекторами советского производства, стали искать в Дамаске израильского шпиона. Они обнаружили его 18 января 1965 года, ворвавшись в его квартиру, когда он передавал сообщение своим кураторам. Коэна повесили в мае 1965 года, и это передавали по сирийскому телевидению.
Габриель прочел первое сообщение, где фигурировало имя Кребса, при мерцающем свете свечи на столике. Оно было передано по европейскому каналу в мае 1963 года. В подробном отчете о внутренней политике партии «Баас» и интригах был абзац, посвященный Алоису Брюннеру.
«Я встретился с „герром Фишером“ на коктейле, устроенном ведущей фигурой в партии „Баас“. Герр Фишер выглядел не слишком хорошо, так как недавно потерял несколько пальцев на руке, вскрыв конверт с бомбой в Каире. Он винит в покушении на свою жизнь мстительное еврейское отребье в Тель-Авиве. Он утверждал, что своей работой в Египте более чем рассчитается с израильскими агентами, которые пытались убить его. Герра Фишера в тот вечер сопровождал мужчина по имени Отто Кребс. Я никогда прежде не видел Кребса. Он высокий, голубоглазый и в противоположность Брюннеру с очень немецкой внешностью. Он много пил виски и производил впечатление человека уязвимого – такого можно шантажировать или завербовать каким-то иным путем».
– И все ясно? – сказал Габриель. – После одной встречи на коктейле?
– Видимо, да, но не теряйте надежды. Коэн даст вам еще один ключ. Посмотрите следующее сообщение.
Габриель прочел и это при свете свечи.
«Я видел „герра Фишера“ на прошлой неделе на приеме в министерстве обороны. Спросил насчет его приятеля герра Кребса. Я сказал, что мы с Кребсом обсуждали одно деловое начинание и я огорчен, так как от него ничего не слышно. Фишер сказал, что в этом нет ничего удивительного, так как Кребс недавно переехал в Аргентину».
Познер налил Габриелю бокал вина.
– Я слышал, в Буэнос-Айресе славно в это время года.
Габриель и Познер расстались на пьяцца Фарнезе, затем Габриель уже один пошел по виа Джулия к отелю. Ночью похолодало, и на улице было очень темно. Габриель шагал в глубокой тишине по неровным камням тротуара, и ему представилось, что он идет по Риму полтора столетия назад, когда Ватикан правил тут. Он подумал, как Эрих Радек шел по этой самой улице, дожидаясь, когда получит паспорт и билет на свободу.
Но действительно ли Радек приезжал в Рим?
Судя по досье епископа Гудала в «Анима», Радек приходил в «Анима» в 1948 году и вскоре уехал под именем Отто Кребса. Эли Коэн обнаружил Кребса в Дамаске только в 1963 году. После этого Кребс, судя по записям, перебрался в Аргентину. Факты были вопиюще противоречивыми и, пожалуй, никак не сочетались с историей Людвига Фогеля. Согласно документам Государственного архива, Фогель жил в Австрии в 1946 году и работал в американских оккупационных войсках. Если это правда, то Фогель и Радек никак не могли быть одним и тем же человеком. Тогда как же объяснить уверенность Макса Клайна, что он видел Фогеля в Биркенау? А кольцо, которое Габриель забрал в коттедже Фогеля в Верхней Австрии? «1005 – отлично сработано. Генрих»… А часы? «Эриху с обожанием от Моники»… Может быть, кто-то другой приезжал в Рим в 1948 году под видом Эриха Радека? И если это так, то почему?
Столько вопросов, думал Габриель, и лишь один возможный след: Фишер сказал, что это неудивительно, так как Кребс перебрался недавно в Аргентину. Познер прав. У Габриеля нет иного выбора, кроме как продолжить поиск в Аргентине.
Глубокую тишину взорвал похожий на жужжание шмеля стрекот motorino. Габриель оглянулся через плечо и увидел мотоцикл, заворачивавший из-за угла на виа Джулия. Он вдруг ускорил ход и помчался прямо на Габриеля. Габриель остановился и вынул руки из карманов. Надо было решать. Стоять на месте, как поступил бы обычный римлянин, или броситься бежать? Решение было принято за него, когда двумя-тремя секундами позже ездок в шлеме сунул руку за отворот куртки и вытащил револьвер с глушителем.
Габриель нырнул в узкую улочку, когда три язычка пламени вылетели из револьвера. Три пули попали в стену дома. Габриель пригнул голову и побежал.
Motorino на такой скорости не сумел свернуть в улочку. Он промчался мимо и завихлял, делая нелепый разворот, что дало Габриелю несколько решающих секунд на то, чтобы создать расстояние между собой и преследователем. Он свернул направо, на улицу, параллельную виа Джулия, затем неожиданно налево. Он хотел добраться до корсо Витторио-Эммануэле, одного из самых широких проспектов Рима. Там будет поток транспорта, а на тротуарах – пешеходы. На корсо он найдет место, где скрыться.
Треск motorino зазвучал громче. Габриель оглянулся. Мотоцикл продолжал следовать за ним, с угрожающей скоростью сокращая расстояние. Габриель кинулся бежать, руки его хватали воздух, дыхание с прерывистым хрипом вырывалось из груди. Свет фар осветил его. Он увидел на тротуаре, впереди себя, свою тень – сумасшедшего, размахивающего руками.
Второй мотоцикл свернул на улицу прямо перед ним и, заскользив, остановился. Ездок в шлеме вытащил оружие. Значит, вот оно что – западня, двое убийц, никакой надежды на спасение. Он почувствовал себя целью в тире, которую вот-вот снесут.
Он продолжал бежать – на свет. Поднял руки и увидел свои пальцы, напряженные, сведенные судорогой, – руки страдальца на полотне экспрессиониста. И вдруг осознал, что кричит. Звук эхом отдался от оштукатуренных и кирпичных стен окружающих зданий и забился у него в ушах, так что он уже не слышал рева мотоцикла за спиной. Перед глазами возникла картина: его мать у польской дороги, и Эрих Радек, приставивший револьвер к ее виску. Только тут он понял, что кричит по-немецки. На языке своих снов. На языке своих кошмаров.
Второй убийца нацелился и приподнял козырек своего шлема.
Габриель услышал свое имя:
– Ложись! Ложись! Габриель!
Он понял, что это голос Кьяры.
И упал на панель.
Пули Кьяры пролетели над его головой и попали в приближавшееся motorino. Мотоцикл, потеряв управление, развернулся и врезался в дом. Убийца перелетел через руль и растянулся на камнях мостовой.
– Нет, Габриель! Оставь! Да скорей же!
Он поднял глаза и увидел протянутую к нему руку Кьяры. Он залез на motorino, прильнул к спине Кьяры, а мотоцикл с треском понесся по корсо к реке.
У Шамрона существовало правило насчет пользования конспиративными квартирами: никаких физических контактов между агентами мужского и женского пола. В тот вечер на квартире Конторы на севере Рима, близ ленивого изгиба Тибра, Габриель и Кьяра нарушили это правило со страстью, какая бывает порождена страхом смерти. Только после этого Габриель потрудился спросить Кьяру, как она нашла его.
– Шамрон сказал мне, что ты едешь в Рим. Он попросил меня последить, не угрожает ли тебе опасность, чтобы обезопасить тебя. Я, конечно, согласилась. У меня ведь личная заинтересованность в том, чтобы ты продолжал жить.
Габриель удивился, как это он не заметил, что за ним ездит итальянская богиня пяти футов десяти дюймов ростом. Правда, Кьяра Цолли была отличным работником.
– Я хотела присоединиться к тебе за ленчем в «Помпьере», – проказливо сказала она. – Но подумала, что это не очень хорошая идея.
– Что ты знаешь о деле?
– Лишь то, что худшие мои опасения насчет Вены оправдались. Почему бы тебе не рассказать мне остальное?
Он так и поступил, начав с вылета из Вены и закончив информацией, которую он получил ранее в тот вечер от Шимона Познера.
– Так кто же послал этого человека в Рим, чтобы убить тебя?
– Я думаю, вполне разумно предположить, что это тот же, кто устроил убийство Макса Клайна.
– А как они нашли тебя здесь?
Габриель задавал себе тот же вопрос. Его подозрения, естественно, пали на розовощекого австрийского ректора «Анима» – епископа Теодора Дрекслера.
– Так куда же мы дальше отправляемся?
– Мы?
– Шамрон велел мне прикрывать тебя. Ты хочешь, чтобы я не выполнила прямого указания Memuneh?
– Он велел тебе следить за мной в Риме.
– Это было задание с открытой датой, – возразила она вызывающим тоном.
Габриель с минуту лежал, гладя ее по волосам. По правде говоря, ему не помешал бы товарищ по странствиям и вторая пара глаз на оперативной работе. Учитывая явное наличие риска, он предпочел бы, чтобы это был кто-то другой, а не женщина, которую он любил. В то же время она доказала, что является ценным партнером.
На ночном столике стоял надежный телефон. Габриель набрал номер в Иерусалиме и пробудил Мордехая Ривлина от глубокого сна. Ривлин назвал ему фамилию в Буэнос-Айресе, дал номер телефона этого человека и адрес в barrio[18] Сан-Тельмо. Затем Габриель позвонил в «Аэролинеас Архентинас» и заказал два билета бизнес-класса на вечерний самолет. И повесил трубку. Кьяра лежала, прижавшись щекой к его груди.
– Ты кричал там, в проулке, когда бежал ко мне, – сказала она. – Ты помнишь, что именно?
Он не мог вспомнить. Так бывает, когда, проснувшись, не в состоянии вспомнить сон, который тревожил тебя.
– Ты звал ее, – сказала Кьяра.
– Кого?
– Свою мать.
Он вспомнил картину, возникшую перед его глазами, когда, теряя рассудок, бежал от человека на motorino. Он подумал, что, возможно, действительно звал мать. Ни о чем другом он не думал.
– Ты уверен, что Эрих Радек убил тех бедняжек в Польше?
– Уверен, насколько можно быть уверенным через шестьдесят лет после случившегося.
– А если Людвиг Фогель является Эрихом Радеком?
Габриель потянулся и выключил лампу.
23
Рим
На виа делла Паче не было никого. Часовщик остановился у ворот «Анима» и выключил мотор motorino. Он протянул дрожащую руку и нажал на кнопку переговорного устройства. Отклика не было. Он позвонил в звонок. На этот раз юношеский голос ответил ему по-итальянски. Часовщик по-немецки попросил о встрече с ректором.
– Боюсь, это невозможно. Пожалуйста, позвоните утром по телефону, договоритесь о встрече, и епископ Дрекслер будет рад видеть вас. Buonanotte, signore.[19]
Часовщик сильнее нажал на кнопку переговорного устройства.
– Мне было велено прийти сюда другом епископа из Вены. По срочному делу.
– Как звать этого человека?
Часовщик правдиво ответил на вопрос.
Тишина, затем:
– Я сейчас спущусь, синьор.
Часовщик расстегнул куртку и осмотрел рану под правой ключицей. Раскаленная пуля прижгла близкие к коже сосуды. Крови было немного, но рана сильно пульсировала и его бил озноб от шока и поднявшейся температуры. Он полагал, что это было малокалиберное оружие, скорее всего 22-го калибра. Не того рода, что причиняет серьезные внутренние повреждения. В любом случае нужен доктор, чтобы вынуть пулю и хорошенько прочистить рану, пока не началось заражение.
Он поднял глаза. На дворе появилась фигура в сутане и осторожно направилась к калитке – послушник, мальчик лет пятнадцати с лицом ангела.
– Ректор говорит, что неприлично приходить в семинарию в такое время, – сказал послушник. – Ректор предлагает вам пойти сегодня в какое-нибудь другое место.
Часовщик вытащил свой «глок» и направил его на ангельское личико.
– Открывай калитку, – шепотом произнес он. – Сейчас же.
– Да, но почему вам надо было посылать его сюда? – Голос епископа неожиданно загремел, словно он предупреждал паству об опасностях, какие несет с собой грех. – Для всех, имеющих к этому отношение, было бы лучше, если бы он немедленно уехал из Рима.
– Он не может лететь, Теодор. Ему нужен врач и место, где он мог бы прийти в себя.
– Я это понимаю. – Глаза его остановились на миг на сидевшей напротив него, по другую сторону стола, фигуре – мужчине с волосами с проседью и широкими могучими плечами циркового силача. – Но вы должны понимать, что крайне компрометируете «Анима».
– Положение «Анима» станет куда хуже, если наш друг профессор Рубинштейн преуспеет.
Епископ тяжело вздохнул.
– Он может пробыть здесь двадцать четыре часа и ни минутой дольше.
– И вы найдете ему врача? Кого-нибудь, умеющего молчать?
– Я знаю как раз такого. Он помог мне пару лет назад, когда один из моих мальчиков попал в потасовку с римским головорезом. Я уверен, что могу положиться на него, хотя пулевое ранение едва ли повседневное явление в семинарии.
– Я уверен, вы придумаете, как это объяснить. У вас очень гибкий ум, Теодор. Могу я с минуту поговорить с ним?
Епископ протянул Часовщику трубку. Тот схватил ее рукой в крови. Затем посмотрел на прелата и движением головы выставил его из собственного кабинета. Тогда убийца приложил трубку к уху. Человек в Вене спросил, что же произошло.
– Вы не сказали мне, что объект находится под защитой. Вот это и произошло.
И Часовщик рассказал о внезапном появлении второго мотоциклиста. На линии наступило молчание, затем человек в Вене заговорил исповедальным тоном:
– Я так спешил отправить вас в Рим, что не сообщил важной информации об объекте. Сейчас я вижу, что это было просчетом с моей стороны.
– Не сообщили важной информации? Чего же именно?
Человек в Вене сообщил, что объект в свое время был связан с израильской разведкой.
– Судя по тому, что произошло сегодня вечером в Риме, – сказал он, – объект по-прежнему крепко с ней связан.
«Великий Боже, – подумал Часовщик. – Израильский агент? Это немаловажная деталь». Разум подсказывал вернуться в Вену и предоставить Старику самому справляться со сложившейся ситуацией. Вместо этого Часовщик решил использовать ситуацию к своей выгоде. Но было в этом решении и другое. Никогда еще не было такого случая, чтобы он не выполнил контракта. И дело было не в профессиональной гордости или репутации. Он просто считал неразумным оставлять в живых потенциального врага, особенно если этот враг связан со службой, столь жестокой, как израильская разведка. Запульсировало плечо. Ему не терпелось всадить пулю в этого вонючего еврея. И в его приятеля.
– Моя цена за это задание только что возросла, – сказал Часовщик. – И существенно.
– Я это ожидал, – ответил человек в Вене. – И удваиваю гонорар.
– Утройте, – возразил Часовщик, и, минуту помедлив, человек в Вене согласился. – А можете вы снова установить его местонахождение?
– У нас есть одно существенное преимущество.
– Какое же?
– Нам известен след, по которому он идет, и мы знаем, где он появится. Епископ Дрекслер позаботится о том, чтобы ваша рана получила нужный уход. Пока отдохните. Я убежден, что очень скоро вы услышите от меня очередное сообщение.
24
Буэнос-Айрес
Альфонсо Рамирес должен был бы уже давно умереть. Он был, несомненно, одним из самых мужественных людей в Аргентине и во всей Латинской Америке. Журналист и писатель, он работал всю жизнь, откалывая кусочки от стен, окружавших Аргентину и ее убийственное прошлое. Большая часть написанного им считалась слишком полемичной и опасной для публикации в Аргентине, и его печатали в Соединенных Штатах и в Европе. Лишь немногие аргентинцы за пределами политической и финансовой элиты читали хоть слово, написанное Рамиресом.
Он на себе испытал всю жестокость Аргентины. Во время Грязной войны его выступления против военных побудили хунту посадить автора в тюрьму, где он провел девять месяцев и где его пытками чуть не довели до смерти. Его жену, активно выступавшую с левых политических позиций, забрал военный эскадрон смерти, и ее сбросили с самолета в ледяные воды Южной Атлантики. Если бы не вмешательство «Амнисти интернейшнл», Рамиреса наверняка постигла бы та же участь. Вместо этого его выпустили из тюрьмы – почти неузнаваемого, с расшатанным здоровьем, – и он возобновил свой крестовый поход против генералов. В 1983 году они сошли со сцены и демократически избранное правительство из гражданских лиц заняло их место. Рамирес помог новому правительству отправить под суд десятки армейских офицеров за преступления, совершенные во время Грязной войны. Среди них был капитан, сбросивший жену Альфонсо Рамиреса в океан.
В последние годы Рамирес мобилизовал все свое умение на освещение другой малоприятной главы аргентинской истории, которую правительство, пресса и большинство граждан предпочитали игнорировать. Вслед за разгромом гитлеровского рейха тысячи военных преступников – немцев, французов, бельгийцев и хорват – устремились в Аргентину с горячего одобрения правительства Перона и при неустанной помощи Ватикана. Рамиреса презирали в тех кварталах Аргентины, где все еще сильно было влияние нацистов, и его деятельность оказалась столь же опасной, как и расследование действий генералов. Его бюро дважды взрывали, а в его почте содержалось столько бомб, что почтовики отказывались отправлять ему письма. Если бы Мордехай Ривлин не представил Рамиресу Габриеля, Рамирес, по мнению Габриеля, едва ли согласился бы встретиться с ним.
А так Рамирес охотно принял приглашение на ленч и предложил встретиться в местном кафе в Сан-Тельмо, в двух кварталах от дома, где у него была контора. Пол в кафе был выложен черными и белыми плитками, по которым были бессистемно расставлены квадратные деревянные столики. На оштукатуренных стенах висели полки, уставленные пустыми винными бутылками. Широкие двери были распахнуты на шумную улицу, и на тротуаре, под брезентовым навесом, тоже стояли столики. Три вентилятора на потолке разгоняли удушливый воздух. У стойки бара лежала, тяжело дыша, немецкая овчарка. Габриель приехал вовремя – в два тридцать. Аргентинец опаздывал.
В январе – самый разгар лета в Аргентине и было невыносимо жарко. Габриель, выросший в долине Джезреель и проводивший лето в Венеции, привык к жаре, но он всего два-три дня назад находился в Австрийских Альпах, и его тело ощущало резкую смену климата. Транспорт поднимал волны жары, проникавшие в распахнутые двери кафе. С каждым проходившим мимо грузовиком температура, казалось, поднималась на один-два градуса. Габриель не снимал солнечных очков. Рубашка его прилипла к спине.
Он потягивал холодную воду, жуя лимонную корку, и смотрел на улицу. Взгляд его ненадолго остановился на Кьяре. Она потягивала кампари с содовой водой и с безразличным видом ковыряла эмпанадас.[20] Она была в шортах. Длинные ноги ее были вытянуты на солнце и начинали поджариваться. Волосы были небрежно закручены в узел. По шее в блузку без рукавов стекала струйка пота. Часы красовались на левой руке. Это был условный сигнал. Часы на левой руке означали, что она не заметила за ними наблюдения, хотя Габриель знал, что даже столь опытному агенту, как Кьяра, трудно обнаружить профессионала днем среди толпы на улицах Сан-Тельмо.
Рамирес появился только в три часа. Он не извинился за опоздание. Это был крупный мужчина с могучими плечами и черной бородой. Габриель ожидал увидеть на нем следы пыток, но ничего не обнаружил. Голос его, когда он заказывал два бифштекса и бутылку вина, звучал любезно, но был таким громким, что, казалось, закачались бутылки на полках. Габриель усомнился, что бифштекс с красным вином едва ли правильный выбор в такую жару. У Рамиреса был такой вид, словно он счел вопрос Габриеля скандальным.
– Мясо – это единственная настоящая вещь в данной стране, – сказал он. – К тому же при том, куда идет наша экономика… – Остальное поглотил грохот проезжавшего мимо грузовика с цементом.
Официант поставил на столик вино. Это была зеленая бутылка без этикетки. Рамирес налил вино в два бокала и спросил Габриеля, как имя человека, которого он ищет. Услышав ответ, аргентинец сосредоточенно насупился.
– Отто Кребс, да? Это его настоящее имя или вымышленное?
– Вымышленное.
– Как вы можете быть в этом уверены?
Габриель протянул ему документы, которые он взял в «Санта-Мария-дель-Анима» в Риме. Рамирес вытащил из кармашка рубашки засаленные очки и надел их. А Габриель занервничал оттого, что документы находятся на виду. Он бросил взгляд в направлении Кьяры. Часы по-прежнему были у нее на левой руке. Когда Рамирес поднял глаза от бумаг, стало ясно, что они произвели на него впечатление.
– Как вам удалось получить доступ к бумагам епископа Гудала?
– У меня есть друг в Ватикане.
– Нет, у вас есть очень могущественный друг в Ватикане. Единственный, кто мог заставить епископа Дрекслера открыть бумаги Гудала, это сам папа! – Рамирес поднял бокал в сторону Габриеля. – Итак, значит, в сорок восьмом году офицер СС по имени Эрих Радек приезжает в Рим и падает в объятия епископа Гудала. А через два-три месяца он уезжает из Рима под именем Отто Кребса и направляется в Сирию. Что еще вам известно?
Следующий документ, который Габриель положил на деревянный столик, вызвал аналогичное удивление у аргентинского журналиста.
– Как вы видите, израильская разведка обнаружила человека, известного теперь под именем Отто Кребс, в Дамаске в шестьдесят третьем году. Источник очень надежный – не кто иной, как Алоис Брюннер. Согласно Брюннеру, Кребс уехал из Сирии в шестьдесят третьем году и прибыл сюда.
– И у вас есть основание считать, что он, возможно, все еще здесь?
– Это-то мне и необходимо выяснить.
Рамирес скрестил на груди могучие руки и посмотрел на Габриеля через стол. Между ними воцарилась тишина, наполненная жарким грохотом транспорта с улицы. Аргентинец почувствовал, что тут пахнет сюжетом. Габриель это как раз и предвидел.
– Как же это человек по имени Ренэ Дюран из Монреаля сумел получить секретные документы из Ватикана и от израильской разведслужбы?
– У меня, ясное дело, есть хорошие источники.
– Я человек очень занятой, мсье Дюран.
– Если вы хотите денег…
Аргентинец предостерегающе поднял руку ладонью вверх.
– Мне не нужны ваши деньги, мсье Дюран. Я сам могу их заработать. Я хочу иметь сюжет.
– Появление в прессе рассказа о моем расследовании, безусловно, повредит ему.
Рамирес принял оскорбленный вид.
– Мсье Дюран, я убежден, что у меня больше, чем у вас, опыта в преследовании людей вроде Эриха Радека. Я знаю, когда надо вести расследование втихую, а когда писать о нем.
Габриель помедлил. Ему не хотелось устанавливать с аргентинским журналистом отношения «услуга за услугу», но в то же время он понимал, что Альфонсо Рамирес может оказаться ценным другом.
– С чего начнем? – спросил Габриель.
– Ну, я полагаю, мы должны выяснить, говорил ли Алоис Брюннер правду про своего друга Отто Кребса.
– То есть приезжал ли он когда-либо в Аргентину?
– Вот именно.
– И как это мы сделаем?
В этот момент появился официант. Бифштекс, который он поставил перед Габриелем, был такой величины, что им можно было бы насытить семейство из четырех человек. Рамирес улыбнулся и начал резать свое мясо.
– Bon appetit,[21] мсье Дюран. Кушайте! Что-то мне говорит, что вам понадобятся все ваши силы.
У Альфонсо Рамиреса был последний в западном полушарии еще работавший «фольксваген-сирокко». В свое время, возможно, он был темно-синим, теперь же был цвета пемзы. По центру ветрового стекла шла трещина, похожая на зигзаг молнии. Дверца со стороны Габриеля была вдавлена вовнутрь, и ему пришлось мобилизовать все свои угасшие силы, чтобы ее открыть. Кондиционер давно не работал, а мотор ревел как ракетный двигатель. Они помчались по широкой авениде Девятого июля с опущенными стеклами. Вокруг машины летели обрывки газет. Рамирес, казалось, то ли не заметил, то ли не обратил внимания на то, что несколько газетных страниц ветром вытянуло на улицу.
По мере того как убывал день, становилось все жарче. Крепкое вино вызвало у Габриеля головную боль. Он подставил лицо ветру. Бульвар выглядел уродливо. Фасады изящных старых домов были испорчены бесконечными рекламными щитами, предлагавшими дорогие немецкие автомобили и прохладительные американские напитки народу, чьи деньги вдруг стали ничего не стоить. Ветви деревьев пьяно висели под тяжестью пыли и зноя.
Габриель с Рамиресом свернули к реке. Рамирес посмотрел в зеркальце заднего вида. Всю жизнь его преследовали военные и сторонники нацизма, и это выработало в нем обостренное чувство улицы.
– За нами следует девица на скутере.
– Да, я знаю.
– Если вы знали, почему мне ничего не сказали?
– Потому что она работает на меня.
Рамирес долго смотрел в зеркальце.
– Узнаю эти ляжки. Это та девица, что была в кафе, да?
Габриель медленно кивнул. Голова у него разламывалась.
– Очень интересный вы человек, мсье Дюран. И к тому же счастливчик. Она красотка.
– Сосредоточьтесь на езде, Альфонсо. Она прикрывает вашу спину.
Через пять минут Рамирес запарковал машину на улице, огибающей гавань. Кьяра промчалась мимо, затем развернулась и запарковала свой мотоцикл в тени дерева. Рамирес заглушил мотор. Солнце безжалостно лупило по крыше. Габриель хотел было выйти из машины, но аргентинец решил сначала ввести его в курс дела.
– Большая часть досье, относящихся к нацистам в Аргентине, хранится в Бюро информации под замком. Официально эти досье до сих пор вне доступа для репортеров и ученых, хотя традиционный тридцатилетний период засекречивания давно истек. Если бы мы смогли пробраться в хранилища Бюро информации, то, наверное, не много нашли бы там. Судя по всему, Перон велел уничтожить наиболее дискредитирующие досье в пятьдесят пятом году, когда в результате выборов неожиданно лишился своего поста.
На другой стороне улицы приостановилась машина, и мужчина, сидевший за рулем, долго смотрел на девицу с мотоциклом. Рамирес это тоже заметил. Он с минуту понаблюдал за машиной в свое зеркальце заднего вида и возобновил рассказ:
– В тысяча девятьсот девяносто седьмом году правительство создало Комиссию по выяснению деятельности нацистов в Аргентине. Она с самого начала столкнулась с серьезной проблемой. Дело в том, что в девяносто шестом году правительство сожгло все дискредитирующие досье, какие у него оставались.
– Тогда зачем же они создавали комиссию?
– Они, конечно, хотели, чтобы их похвалили за старания. Но в Аргентине поиски истины этим и ограничатся. Настоящее расследование выявило бы подлинную меру участия Перона в бегстве нацистов из Европы после войны. Оно также раскрыло бы то, что многие нацисты продолжают жить здесь. Кто знает? Может, и тот, кого вы ищете, тоже.
Габриель указал на здание.
– А это что такое?
– Отель иммигрантов – первая остановка для миллионов иммигрантов, перебравшихся в Аргентину в девятнадцатом и двадцатом столетиях. Правительство селило их, и они тут жили, пока не найдут работы и места, где поселиться. Теперь Бюро по иммиграции превратило это здание в склад.
– В склад чего?
– Досье, конечно. – Рамирес открыл отделение для перчаток и достал резиновые операционные перчатки и бумажные стерильные маски. – Это не самое чистое место на свете. Надеюсь, вы не боитесь крыс.
Габриель взялся за ручку и нажал плечом на дверцу. На другой стороне улицы Кьяра выключила мотор и приготовилась ждать.
У входа стоял скучающий полицейский. За столом регистратуры перед крутящимся вентилятором сидела девушка в форме и читала модный журнал. Она передвинула по пыльному столу книгу записей. Рамирес расписался в ней, поставил время и взял две ламинированные бирки. У Габриеля был номер 165. Он пристегнул бирку к кармашку на рубашке и следом за Рамиресом пошел к лифту.
– Два часа до закрытия, – крикнула им вслед девушка и перевернула страницу журнала.
Они вошли в грузовой лифт. Рамирес стянул дверцы и нажал кнопку верхнего этажа. Кабина лифта, качаясь, медленно поползла вверх. Через минуту их встряхнуло, и они остановились – воздух был такой жаркий и пропыленный, что трудно было дышать. Рамирес натянул перчатки и маску. Габриель последовал его примеру.
Помещение, в котором они очутились, было, грубо говоря, длиной в два городских квартала и целиком заполнено бесконечными рядами стальных стеллажей, прогибавшихся под тяжестью деревянных ящиков. В разбитые окна влетали и вылетали ласточки. Габриель слышал поскребывание крошечных лапок и мяуканье дерущихся кошек. Сквозь защитную маску проникал запах пыли и гниющей бумаги. Архив «Анима» в Риме с сочащимися стенами казался раем по сравнению с этим отвратительным местом.
– Что это за досье?
– Те, что Перон и его духовные последователи в правительстве Менема не сочли нужным уничтожить. В этой комнате хранятся иммиграционные карточки, какие заполнял каждый пассажир, прибывший в порт Буэнос-Айреса с тысяча девятьсот двадцатого года по семидесятый. Этажом ниже находятся списки пассажиров каждого судна. Менгеле, Эйхманн – все они оставили здесь отпечатки своих пальцев. Может быть, и Отто Кребс тоже.
– Почему тут такой беспорядок?
– Поверите ли, было хуже. Года два-три назад храбрая душа по имени Чела расставила карточки в алфавитном порядке и по годам. Теперь они называют это Зал Челы. Иммиграционные карточки за шестьдесят третий год вон там. Следуйте за мной. – Рамирес приостановился, указывая на пол. – Осторожней – не наступите на кошачий помет.
Они прошли с полквартала. Иммиграционные карточки за шестьдесят третий год занимали несколько десятков стальных полок. Рамирес нашел деревянные ящики, в которых находились карточки пассажиров, чья фамилия начиналась с буквы «К», снял их с полки и осторожно поставил на пол. Согнувшись в три погибели, он принялся перебирать плотно стоявшие карточки. И нашел четырех иммигрантов с фамилией Кребс. Ни у кого из них не было имени Отто.
– А могли поставить карточку в другое место?
– Конечно.
– И мог кто-нибудь ее вынуть?
– Это Аргентина, мой друг. Тут все возможно.
Расстроенный Габриель прислонился к полкам. Рамирес положил иммиграционные карточки в ящик и поставил ящик на место на стальную полку. Затем посмотрел на свои часы.
– В нашем распоряжении час сорок пять минут до закрытия на ночь. Вы смотрите, начиная с шестьдесят третьего года, а я пойду в обратном направлении. Наименее удачливый ставит спиртное.
С реки пришла гроза. Габриель сквозь разбитое окно видел вспышки молний, сверкавшие среди портовых кранов. Черная туча заслонила предвечернее солнце. В Зале Челы стало почти ничего не видно. Дождь начался как взрыв. Он хлестал в разбитые окна и заливал драгоценные документы. Реставратору Габриелю виделись расплывающиеся чернила, навсегда утраченные фотографии.
Он нашел иммиграционные карточки еще трех мужчин по фамилии Кребс – одна карточка 1965 года, две другие – 1969 года. Ни одного из них не звали Отто. Темнота замедляла его поиски, так что он теперь не перебирал их быстро, а буквально полз. Прочесть иммиграционные карточки он мог, лишь подтащив ящик к окну, где еще было немного света. Тут он становился на колени, повернувшись спиной к дождю, и перебирал пальцами карточки.
Девушка из регистратуры поднялась к ним и предупредила, что через десять минут они закрываются. Габриель просмотрел карточки только по 1972 год. Ему не хотелось приходить сюда еще и завтра. И он ускорил поиск.
Гроза прекратилась так же внезапно, как и началась. Воздух очистился, и стало прохладнее. Было тихо – лишь, журча, дождевая вода текла по сточным канавам. Габриель продолжал искать: 1973, 1974, 1975, 1976… Ни одного пассажира по фамилии Кребс. Ничего.
Девушка вернулась – на этот раз, чтобы выставить их. Габриель, неся свой последний ящик к полкам, увидел Рамиреса, разговаривавшего с девушкой по-испански.
– Нашли что-нибудь? – спросил Габриель.
Рамирес покачал головой.
– Насколько вы продвинулись?
– До конца. А вы?
Габриель сказал ему.
– Думаете, нам стоит вернуться сюда завтра?
– Скорей всего нет. – Он положил руку на плечо Габриелю. – Пошли, я куплю вам пива.
Девушка забрала у них ламинированные бирки и проводила до грузового лифта. Окна «Сирокко» оставались открытыми. Габриель, крайне огорченный провалом, опустился на мокрое сиденье машины. Тишину улицы разорвал громовой рев мотора. Это Кьяра поехала за ними. В насквозь промокшей одежде.
Через два квартала от архива Рамирес сунул руку в кармашек рубашки и достал сложенную вдвое иммиграционную карточку.
– Взбодритесь, мсье Дюран, – сказал он, передавая карточку Габриелю. – Иногда в Аргентине стоит воспользоваться тактикой исподтишка, какою пользуются ответственные господа. В этом здании всего одна копировальная машина, и она находится в распоряжении девушки. Она сделала бы одну копию для меня, а другую для своего начальства.
– И Отто Кребсу, если он все еще жив, вполне могли бы сообщить, что мы ищем его.
– Совершенно верно.
Габриель взял карточку.
– Где она была?
– В девятьсот сорок девятом году. Я полагаю, Чела положила ее не в тот ящик.
Габриель опустил глаза и стал читать. Отто Кребс приехал в Буэнос-Айрес на пароходе из Афин в декабре 1963 года. Рамирес указал на номер, написанный от руки в конце карты: 245276/62.
– Это номер его разрешения на высадку на берег. Оно, по-видимому, было выдано аргентинским консульством в Дамаске. Последняя цифра – 62, означает год, когда было предоставлено разрешение.
– А что теперь?
– Мы знаем, что он приехал в Аргентину. – Рамирес пожал широкими плечами. – Посмотрим, сумеем ли мы найти его.
Они поехали по мокрым улицам назад, в Сан-Тельмо, и запарковали машину у многоквартирного дома в итальянском стиле. Подобно многим зданиям в Буэнос-Айресе, это был когда-то красивый дом. Теперь же его фасад был цвета машины Рамиреса, весь в грязных разводах от загрязнения воздуха.
Они поднялись по плохо освещенной лестнице. Воздух в квартире был спертый и теплый. Рамирес запер за ними дверь и распахнул окна, чтобы впустить прохладный вечерний воздух. Габриель выглянул на улицу и увидел Кьяру, запарковавшую свой мотоцикл на противоположной стороне.
Рамирес нырнул на кухню. И вышел оттуда с двумя бутылками аргентинского пива. Одну он протянул Габриелю. Стекло уже запотело. Алкоголь немного ослабил его головную боль.
Рамирес провел Габриеля в свой кабинет. Он оказался таким, как и ожидал Габриель, – это была большая неопрятная, как сам Рамирес, комната, на всех стульях лежали книги, а на большом письменном столе высились стопки бумаг, которые, казалось, только и ждали, чтобы сразиться друг с другом. Толстые занавеси приглушали шум и свет с улицы. Рамирес взялся за телефон, а Габриель сел и допил свое пиво.
У Рамиреса ушел час на то, чтобы добыть первый важный ключ. В 1964 году Отто Кребс зарегистрировался в национальной полиции Барилоче, в северной Патагонии. Сорок пять минут спустя была разгадана еще одна загадка: в 1972 году, подав заявление о выдаче ему аргентинского паспорта, Кребс указал свой адрес в Пуэрто-Блесте, городе недалеко от Барилоче. На то, чтобы найти следующую информацию, ушло всего пятнадцать минут. В 1982 году паспорт был аннулирован.
– Почему? – спросил Габриель.
– Потому что владелец паспорта умер.
Аргентинец разложил на столе карту с загнутыми углами и, прищурившись, стал рассматривать сквозь грязные стекла очков западные окраины страны.
– Вот оно, – произнес он, ткнув пальцем в карту. – Сан-Карлос-де-Барилоче, или коротко – просто Барилоче. Это курорт в северном озерном округе Патагонии, основанный швейцарскими и немецкими поселенцами в девятнадцатом веке. Он до сих пор известен как Аргентинская Швейцария. Теперь в этом городке собираются лыжники, но для нацистов и их последователей это было чем-то вроде Валгаллы. Менгеле обожал Барилоче.
– Как мне туда добраться?
– Быстрее всего – лететь. В Буэнос-Айресе есть аэропорт и рейсы каждый час. – Он помолчал и добавил: – Это не близкий путь для посещения могилы.
– Я хочу увидеть ее своими глазами.
Рамирес кивнул.
– Остановитесь в отеле «Эдельвейс».
– «Эдельвейс»?
– Это место сборища немцев, – сказал Рамирес. – Вам трудно будет поверить, что вы – в Аргентине.
– А почему бы вам не поехать со мной?
– Боюсь, я буду своего рода помехой. Я – persona non grata[22] среди определенных слоев барилочского сообщества. Я чуть дольше положенного копал там – вы понимаете, что я имею в виду. Мое лицо слишком хорошо там известно. – Аргентинец внезапно посерьезнел. – Но и вы будьте осторожны, мсье Дюран. Барилоче – не место для небрежных расспросов. Они там не любят, когда пришлые задают вопросы относительно некоторых обитателей. Вы должны также понимать, что приехали в Аргентину в напряженное время.
Рамирес покопался в куче бумаг на своем столе, пока не нашел то, что искал, а именно: международный выпуск журнала «Ньюсуик» двухмесячной давности. Он протянул его Габриелю, а сам пошел на кухню еще за двумя бутылками пива. Они сели в прохладе затененной гостиной. Блеснула молния. Приближалась еще одна гроза.
– Оба были богатыми бизнесменами. Первым умер человек по имени Энрике Кальдерон. Кальдерона нашли в спальне его городского дома в районе Буэнос-Айреса под названием Палермо-Чико. Четыре выстрела в голову – очень профессионально.
Габриель, услышав об убийстве, всегда представлял себе, как это произошло, поэтому отвел взгляд от Рамиреса и стал смотреть, как первые тяжелые капли дождя забарабанили по балкону.
– А второй?
– Густаво Эстрада. Был убит через две недели во время деловой поездки в Мехико-Сити. Труп Эстрады нашли в его номере, когда он не появился на встрече за завтраком. То же самое: четыре выстрела в голову. – Рамирес помолчал. – Хорошенькая история, верно? Два известных бизнесмена были убиты поразительно одинаково на протяжении двух недель один за другим. Дерьмо, каким любит заниматься Аргентина. Через какое-то время все забывают, что сбережения исчезли, а денежные вклады обесценились.
– Эти убийства связаны между собой?
– Мы, возможно, никогда не будем в этом уверены, но я считаю, что да. Энрике Кальдерон и Густаво Эстрада не были хорошо знакомы, но их отцы были. Алехандро Кальдерон был близким помощником Хуана Перона, а Мартин Эстрада возглавлял аргентинскую национальную полицию в послевоенные годы.
– Так почему же убили их сыновей?
– Честно говоря, понятия не имею. Собственно, у меня нет ни единого здравого предположения. Знаю же я вот что: обвинения ходят по нацистскому сообществу. Нервы сдают. – Рамирес сделал большой глоток пива. – Повторяю: будьте бдительны в Барилоче, мсье Дюран.
Они еще поговорили, а за окном медленно сгущалась тьма и с улицы доносилось шуршание машин по мокрой мостовой. Габриель не любил многих, с кем ему приходилось сталкиваться по работе, но Альфонсо Рамирес был исключением. Он жалел лишь о том, что ему приходится обманывать Рамиреса.
Они поговорили о Барилоче, об Аргентине и о прошлом. Рамирес спросил, какие преступления совершил Эрих Радек, и Габриель рассказал ему все, что знал. После этого аргентинец долго молчал в задумчивости, словно ему было больно, что такие люди, как Радек, могли найти убежище в его любимой стране.
Они условились поговорить после возвращения Габриеля из Барилоче и расстались в темном коридоре. А за стенами дома в вечерней прохладе начинал оживать квартал. Габриель какое-то время шел по запруженным прохожими тротуарам, пока девушка на красном мотоцикле не остановилась возле него и не похлопала по сиденью за своей спиной.
25
Буэнос-Айрес – Рим – Вена
Консоль сложного электронного оборудования была германского производства. Микрофоны и передатчики, упрятанные в квартире объекта, были высочайшего качества – разработанные и сконструированные западногерманской разведкой в разгар «холодной войны», чтобы следить за действиями противников на Востоке. Оператор, сидевший на этом оборудовании, был урожденным аргентинцем, хотя предки его и происходили из австрийской деревни Браунауам-Инн. То, что это была та же деревня, где родился Адольф Гитлер, придавало ему вес среди товарищей. Когда еврей приостановился в холле многоквартирного дома, человек, следивший за ним, сфотографировал его с помощью телефотолинз. А через минуту, когда девица на мотоцикле отъехала от тротуара, он сфотографировал и ее, хотя снимок представлял мало ценности, поскольку лицо ее скрывал черный шлем. Он потратил несколько минут, прокручивая разговор, состоявшийся в квартире объекта, затем, удовлетворенный результатом, взялся за телефонную трубку. Номер, который он набрал, находился в Вене. Раздавшаяся немецкая речь с венским акцентом была музыкой для его ушей.
В семинарии «Санта-Мария-дель-Анима» в Риме послушник быстро прошел по коридору второго этажа общежития и остановился возле двери в комнату, где поселился гость из Вены. Он помедлил, затем постучал и стал ждать разрешения войти. Сноп света упал на могучую фигуру, лежавшую на узкой койке. Глаза его блестели в темноте, как черные лужицы нефти.
– Вам звонят. – Юноша произнес это, не глядя на гостя. Все в семинарии слышали про инцидент, произошедший у ворот накануне вечером. – Вы можете подойти к телефону в кабинете ректора.
Мужчина сел и одним движением сбросил ноги на пол. Налитые мускулы заиграли под белой кожей на его плечах и на спине. Он на секунду притронулся к забинтованному плечу, затем натянул свитер.
Семинарист повел гостя вниз по каменной лестнице, затем через маленький дворик. Кабинет ректора был пуст. Лишь на письменном столе горел свет. Телефонная трубка лежала на пресс-папье. Гость взял ее. А юноша тихонько выскользнул из комнаты.
– Мы нашли его, как обещали.
– Где?
Тот, кто звонил из Вены, сказал ему.
– Он выезжает утром в Барилоче, и вы будете ждать его, когда он туда приедет.
Часовщик взглянул на свои часы и подсчитал разницу во времени.
– Как же это возможно? Самолет из Рима вылетает туда только после полудня.
– Вообще-то говоря, самолет летит туда через несколько минут.
– Что вы имеете в виду?
– Как быстро вы можете добраться до «Фиумичино»?
Демонстранты ждали у отеля «Империаль», когда колонна из трех машин привезла людей на собрание сторонников партии. Петер Метцлер, сидевший на заднем сиденье лимузина «мерседес», выглянул в окошко. Его предупреждали, но он ожидал увидеть обычную жалкую кучку людей, а не банду мародеров численностью с бригаду, вооруженных плакатами и портативными мегафонами. Собственно, это было неизбежно – близились выборы; ореол недосягаемости создавался вокруг кандидата. Австрийские левые были в полной панике, как и их сторонники в Нью-Йорке и Иерусалиме.
У Дитера Граффа, сидевшего напротив Метцлера на откидном сиденье, вид был взволнованный. А почему он не должен быть таким? Двадцать лет Графф трудился, чтобы превратить Австрийский национальный фронт из умирающего союза бывших офицеров СС и неофашистских мечтателей в сплоченную и современную консервативную политическую силу. Почти единолично он перестроил идеологию партии и перекрасил ее образ. Его тщательно составленные обращения постепенно привлекли к нему тех австрийских избирателей, которые разочаровались в удобном разделе власти между народной партией и социал-демократами. Теперь, имея своим кандидатом Метцлера, партия стояла на пороге получения величайшего приза австрийской политики – поста канцлера. И сейчас, за три недели до выборов, Графф меньше всего хотел свалочной стычки с кучей идиотов-леваков и евреев.
– Я знаю, о чем ты думаешь, Дитер, – сказал Метцлер. – Ты думаешь, что следует поосторожничать: избежать встречи с этой толпой, воспользовавшись черным ходом.
– Такая мысль приходила мне в голову. Мы опережаем наших соперников на три пункта и твердо держим такое соотношение. Я бы предпочел не терять двух пунктов из-за мерзкой сцены у «Империаля», если этого можно избежать.
– Воспользовавшись задней дверью?
Графф кивнул. Метцлер указал на телеоператоров и фотографов.
– А знаешь, какие завтра будут заголовки в «Ди Прессе»? «Метцлер отступает перед протестующими гражданами Вены!» Они скажут, что я трус, Дитер, а я совсем не трус.
– Никто никогда не винил тебя в трусости, Петер. Вопрос в том, насколько это своевременно.
– Мы слишком долго пользовались задней дверью. – Метцлер подтянул галстук и расправил воротник рубашки. – А кроме того, канцлеры не пользуются задней дверью. Мы войдем через главную дверь с высоко поднятой головой и вздернутым для схватки подбородком или не войдем в это здание вообще.
– Ты стал настоящим оратором, Петер.
– У меня был хороший учитель. – Метцлер улыбнулся и положил руку на плечо Граффа. – Но, боюсь, слишком долгая кампания начала сказываться на его инстинктах.
– Почему ты так говоришь?
– Ты посмотри на этих хулиганов. Большинство из них не австрийцы. Половина плакатов написана по-английски, а не по-немецки. Ясно, что эти маленькие демонстрации организованы провокаторами из-за рубежа. Если мне посчастливится вступить в конфронтацию с этими людьми, к утру мы будем на пять пунктов впереди наших соперников.
– Я тоже так подумал.
– Просто скажи охране, чтобы не усердствовали. Важно, чтобы коричневорубашечниками выглядели протестующие, а не мы.
Петер Метцлер открыл дверцу и ступил на тротуар. Рев гнева возник в толпе, и плакаты заколыхались.
«Нацистская свинья!»
«Рейхсфюрер Метцлер!»
Кандидат шагнул вперед, словно не замечая столпотворения. Молоденькая девушка прорвала кордон и кинулась к нему с тряпкой, пропитанной красной краской. Она швырнула тряпку в Метцлера, а тот так ловко увернулся, что почти не сбился с ноги. Тряпка – к восторгу демонстрантов – попала в полицейского офицера. Девушку, бросившую ее, схватили двое полицейских и увели.
Метцлер спокойно вошел в вестибюль отеля и направился в бальный зал, где тысяча его сторонников уже три часа ждали его прибытия. Он приостановился на минуту у дверей, чтобы собраться с силами, затем прошествовал в зал под гром приветствий. Графф, оторвавшись от своего кандидата, смотрел, как он пробирается сквозь толпу обожателей. Мужчины теснились, стараясь поймать его руку или похлопать по спине. Женщины целовали в щеку. Метцлер, безусловно, решил быть сексуальным консерватором.
Проход в переднюю часть зала занял пять минут. Когда Метцлер стал подниматься в президиум, хорошенькая девушка в платье с облегающим лифом и широкой юбкой протянула ему большую глиняную кружку с пивом. Он поднял ее над головой – раздался исступленный рев одобрения. Он отхлебнул пива – не глотнул, как для фотографии, а отхлебнул как следует, по-австрийски, – затем подошел к микрофону.
– Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы пришли сегодня. И хочу также поблагодарить наших дорогих друзей и сторонников за такой теплый прием перед отелем. – По залу прошла волна смеха. – Эти люди, по-видимому, не понимают того, что Австрия – для австрийцев и что мы сами выберем свое будущее, основанное на австрийской морали и австрийском представлении о благопристойности. Чужакам и критикам из-за границы нечего совать нос во внутренние дела нашей благословенной страны. Мы сами выкуем наше будущее, будущее австрийское, и это будущее начнется через три недели, считая от сегодняшнего дня!
Столпотворение.
26
Барилоче, Аргентина
Секретарша «Барилочер тагеблатт» оглядела Габриеля с более чем мимолетным интересом, когда он вошел в дверь и направился к пьедесталу, на котором она сидела в глубине приемной. У нее были коротко остриженные черные волосы и ярко-синие глаза, выделявшиеся на загорелом хорошеньком личике.
– Чем могу быть полезна? – спросила она по-немецки, что было едва ли удивительно, поскольку само название газеты «Тагеблатт» указывало на то, что это немецкоязычное издание.
Габриель ответил на том же языке, сумев, однако, искусно скрыть то, что он, как и девушка, свободно владел им. Он сказал, что приехал в Барилоче провести генеалогическое изыскание. Он ищет, заявил он, человека по имени Отто Кребс, который, как ему представляется, является братом его матери. У него есть основание считать, что герр Кребс умер в Барилоче в октябре 1982 года. Не мог бы он поискать в архивах газеты объявление о смерти или некролог?
Секретарша улыбнулась, показав два ряда белых ровных зубов, затем взяла телефонную трубку и набрала три цифры. Просьба Габриеля была быстро сообщена начальству по-немецки. Женщина две-три секунды помолчала, затем повесила трубку и встала.
– Следуйте за мной.
Она провела его через небольшой газетный зал – каблуки ее громко постукивали по выцветшему линолеуму, покрывавшему пол. С полдюжины сотрудников в рубашках отдыхали в разных позах, курили и пили кофе. Никто, казалось, не обратил внимания на посетителя. Дверь в архив была распахнута. Секретарша включила свет.
– Мы теперь компьютеризованы, так что все статьи хранятся в базе данных. Боюсь, это лишь начиная с девятьсот девяносто восьмого года. Когда, вы сказали, тот человек умер?
– По-моему, в восемьдесят втором.
– Вам повезло. Некрологи все индексированы – от руки, конечно, по старинке.
Она подошла к столу и открыла толстый, переплетенный в кожу гроссбух. Линованные страницы были испещрены написанными мелким почерком заметками.
– Как, вы сказали, его имя?
– Отто Кребс.
– Кребс, Отто, – сказала она, перелистывая страницы, пока не дошла до «Кс». – Кребс, Отто… А-а, вот. Судя по всему, это произошло в ноябре восемьдесят третьего года. Вы хотите посмотреть некролог?
Габриель кивнул. Женщина записала номер и перешла к стеллажу с картонными ящиками. Она провела указательным пальцем по ярлыкам и остановилась, дойдя до того, который искала, затем попросила Габриеля снять ящики, стоявшие на нем. Она подняла крышку, и от содержимого ящика поднялся запах пыли и гниющей бумаги. Вырезки хранились в ломких пожелтевших папках. Некролог по Отто Кребсу был разорван. Секретарша поправила беду с помощью прозрачного скотча и показала страницу Габриелю.
– Это тот, кого вы ищете?
– Не знаю, – откровенно ответил он.
Она взяла у Габриеля вырезку и быстро ее прочла.
– Здесь сказано, что он был единственным ребенком. – Она взглянула на Габриеля. – Это ничего не значит. Многие вынуждены были скрывать свое прошлое, чтобы оградить родных, еще находившихся в Европе. Моему деду повезло. По крайней мере, он сумел сохранить свое имя. – Она внимательно посмотрела в глаза Габриелю. – Он был из Хорватии, – сказала она. И заговорила как соучастница: – После войны коммунисты хотели предать его суду и повесить. По счастью, Перон согласился разрешить ему приехать сюда.
Она положила вырезку на фотокопировальную машину и сделала три копии. Затем вернула оригинал в папку, а папку – в соответствующий ящик. Копии она вручила Габриелю и повела его назад.
Габриель читал, пока они шли.
– Согласно некрологу, он похоронен на католическом кладбище в городе Пуэрто-Блест. Я полагаю, это недалеко от Барилоче?
Секретарша кивнула.
– Это на другой стороне озера, в двух-трех милях от границы с Чили. Кребс управлял там большим поместьем. Это тоже сказано в некрологе.
– А как мне туда добраться?
– Поезжайте по шоссе на запад от Барилоче. Шоссе скоро кончится. Надеюсь, у вас хорошая машина. Следуйте по дороге вдоль озера, потом сверните на север. И попадете прямо в Пуэрто-Блест. Если вы отправитесь немедля, то приедете туда до темноты.
В вестибюле они обменялись рукопожатием. Она пожелала ему удачи.
– Надеюсь, это тот, кого вы ищете, – сказала она. – А может, и нет. В таких ситуациях наверняка никогда ничего до конца не известно.
Когда посетитель ушел, секретарша сняла телефонную трубку и набрала номер.
– Он только что ушел.
– Как ты это провела?
– Я все сделала, как вы велели. Держалась очень дружелюбно. Показала ему то, что он просил.
– А именно?
Она сказала, что именно.
– И как он реагировал?
– Попросил сказать, как доехать до Пуэрто-Блеста.
Связь прервалась. Секретарша медленно опустила трубку на рычаг. И внезапно почувствовала, как под ложечкой возник холод. Она не сомневалась в том, что ждет этого человека в Пуэрто-Блесте. Та же судьба постигла тех, кто приезжал в этот уголок Северной Патагонии в поисках людей, которые не хотели, чтобы их нашли. Девушке не было жаль этого человека – собственно, она считала его дурачиной. Неужели он в самом деле считал, что сумеет провести кого-то своей неуклюжей историей про генеалогическое изыскание? Да кто он такой? Вот сам и виноват. Впрочем, это вечная история с евреями. Вечно навлекают на себя беду.
В этот момент входная дверь отворилась и в вестибюль вошла женщина в летнем платье.
– Чем могу быть полезна?
Они шли в отель под солнцем, обжигающим как бритва. Габриель переводил некролог Кьяре.
– Тут сказано, что он родился в тысяча девятьсот тринадцатом году в Верхней Австрии, что он был офицером полиции, что записался в вермахт в тридцать восьмом и участвовал в кампаниях против Польши и Советского Союза. Кроме того, сказано, что он был дважды награжден за храбрость – один раз самим фюрером. Я полагаю, этим можно было хвастать в Барилоче.
– А после войны?
– Ничего – до его приезда в Аргентину в шестьдесят третьем году. Два года он работал в отеле в Барилоче, затем получил работу в поместье возле города Пуэрто-Блест. В семьдесят втором он перекупил поместье у владельцев и управлял им до своей смерти.
– А в округе остались родственники?
– Судя по некрологу, он никогда не был женат и у него не осталось родственников.
Они вернулись в отель «Эдельвейс». Это было шале с покатой крышей в швейцарском стиле, находившееся на расстоянии двух улиц от озера на авенида Сан-Мартин. Габриель утром нанял в аэропорту машину – «тойоту» с четырехколесным приводом. Он попросил дежурного на стоянке вывести ее из гаража, а сам нырнул в вестибюль гостиницы, чтобы найти дорожную карту окружающей местности. Пуэрто-Блест находился именно там, где сказала женщина, – на противоположной стороне озера, у границы с Чили.
Они поехали вдоль озера. Чем дальше от Барилоче, тем хуже становилась дорога. Большую часть времени озеро скрывал густой лес. Но вот Габриель делал поворот или лес вдруг разрежался, и внизу ненадолго появлялось озеро, – вспыхивала синева и снова исчезала за стеной деревьев.
Габриель объехал южное окончание озера и ненадолго сбавил скорость, чтобы полюбоваться эскадроном гигантских кондоров, круживших над появившимся пиком Серро-Лопес. Затем он поехал по одноколейной грунтовой дороге, пересекавшей равнину, поросшую колючим кустарником и группами деревьев arrayan.[23] На горных лугах стада выносливых патагонских овец щипали летнюю траву. Вдали, в направлении чилийской границы, над пиками Анд поблескивали молнии.
К тому времени, когда они приехали в Пуэрто-Блест, солнце село и в городке царили полумрак и тишина. Габриель зашел в кафе спросить, куда ехать. Бармен, низенький мужчина с красным лицом, вышел на улицу и взмахами рук и пальцев указал дорогу.
* * *
А в кафе, за столиком у двери, сидел Часовщик, пил из бутылки пиво и наблюдал за говорившими на улице. Стройного мужчину с коротко остриженными черными волосами и седыми висками он узнал. Это был израильтянин. А в «тойоте» на пассажирском сиденье сидела женщина с длинными черными волосами. Возможно ли, чтобы это была она, – та, что всадила в Риме пулю ему в плечо? Не важно. Даже если это не та женщина, все равно она скоро умрет.
Израильтянин сел за руль «тойоты» и помчался дальше. А бармен вернулся за стойку.
Часовщик по-немецки спросил:
– Куда эти двое поехали?
Бармен ответил ему на том же языке.
Часовщик допил пиво и положил деньги на столик. Даже малейшее движение – такое, как достать несколько банкнот из кармана пиджака, – вызывало в плече пульсацию, обжигавшую огнем. Он вышел на улицу и постоял немного на прохладном вечернем воздухе, затем повернулся и медленно пошел к церкви.
Церковь Богородицы в Горах находилась в западном конце городка, – маленькая белая, в колониальном стиле оштукатуренная церковь с колокольней слева от портика. Перед церковью был каменный двор в тени пары больших платанов, окруженный железной решеткой. Габриель обогнул церковь. Позади нее по склону холма простиралось до густой сосновой рощи кладбище. Тысячи надгробий и памятников мелькали, словно нестройно отступающая армия, среди разросшейся травы. Габриель постоял, уперев в бедра руки, раздосадованный перспективой бродить по кладбищу в сгущающейся темноте в поисках надгробия с именем Отто Кребса.
Он вернулся ко входу в церковь. Кьяра ждала его в тени на дворе. Габриель потянул на себя тяжелую дубовую дверь церкви и обнаружил, что она не заперта. Кьяра вошла в церковь следом за ним. Прохладный воздух пахнул ему в лицо, как и запах, какого он не вдыхал с тех пор, как уехал из Венеции, – смесь свечного воска, фимиама, полировки для дерева и плесени, – неотъемлемый запах католической церкви. Насколько все здесь отличалось от церкви Сан-Джованни-Кризостомо в Каннареджо. Ни позолоченного алтаря, ни мраморных колонн или апексов или великолепных алтарных икон. Строгое деревянное распятие висело над ничем не украшенным алтарем да перед статуей Девы мягко мерцали поминальные свечи. В сгущающихся сумерках цветные стекла окон вдоль нефа утратили свои краски.
Габриель нерешительно пошел по главному проходу. В этот момент из ризницы появилась темная фигура и прошла через алтарь. Человек приостановился перед распятием, преклонил колена, затем повернулся лицом к Габриелю. Он был маленький и худенький, в черных брюках, черной рубашке с короткими рукавами и римским воротничком. Волосы его, седые на висках, были аккуратно подстрижены, лицо красивое, темное, с красноватыми пятнами на щеках. Его, казалось, не удивило присутствие двух незнакомцев в его церкви. Габриель медленно подошел к нему. Священник протянул ему руку и назвался отцом Рубеном Моралесом.
– Меня зовут Ренэ Дюран, – сказал Габриель. – Я из Монреаля.
Священник кивнул, словно привык встречаться с посетителями из-за границы.
– Чем могу быть вам полезен, мсье Дюран?
Габриель сказал то же, что говорил женщине в «Барилочер тагеблатт» раньше утром: что он приехал в Патагонию в поисках человека, который, по его предположению, является братом его матери, – человека по имени Отто Кребс. Габриель говорил, а священник, сложив руки, наблюдал за ним теплыми добрыми глазами. Насколько отличался этот пастор от монсеньора Донати, профессионального церковного бюрократа, или от епископа Дрекслера, неприветливого ректора «Анима». Габриелю неприятно было обманывать этого человека.
– Я хорошо знал Отто Кребса, – сказал отец Моралес. – И к сожалению, должен сказать, что он никак не мог быть тем, кого вы ищете. Видите ли, у герра Кребса не было ни братьев, ни сестер. У него вообще не было родных. К тому времени, когда у него появилась возможность содержать жену и детей, он был… – Голос священника замер. – Как бы это поделикатнее выразиться? Он уже не был выгодной парой. Годы взяли свое.
– А он когда-либо рассказывал вам о своей родне? – Габриель помолчал и добавил: – Или про войну?
Священник приподнял брови и мягко улыбнулся.
– Я был его исповедником и другом, мсье Дюран. За все эти годы, вплоть до его смерти, мы о многих вещах говорили. Герр Кребс, как и многие люди его времени, видел много смертей и разрушений. Он совершал также действия, которых стыдился, и нуждался в отпущении грехов.
– И вы дали ему отпущение?
– Я дал покой его душе, мсье Дюран. Я выслушал его исповеди, я наложил на него покаяние. В пределах католической веры я подготовил его душу к встрече с Христом. Но разве я, простой священник в сельском приходе, действительно обладаю властью отпустить такие грехи? Даже я в этом не уверен.
– Могу я спросить вас о некоторых вещах, встречавшихся в ваших беседах? – в порядке пробы спросил Габриель. Он понимал, что находится на зыбкой теологической почве, и получил ответ, какого и ожидал.
– Многие из моих бесед с герром Кребсом были скреплены печатью исповеди. Остальные скреплены печатью дружбы. Не пристало мне пересказывать эти беседы вам сейчас.
– Но он умер уже двадцать лет назад.
– Даже покойники имеют право на тайны.
Габриель услышал голос матери, произносивший начало своего свидетельства: «Я не стану рассказывать все, что видела. Не могу. Я обязана так поступить перед умершими…»
– Это могло бы помочь мне определить, был ли тот человек моим дядей.
Отец Моралес обезоруживающе улыбнулся.
– Я простой деревенский священник, мсье Дюран, но я не полный идиот. И я хорошо знаю свою паству. Вы думаете, вы – первый, кто пришел сюда, якобы разыскивая пропавшего родственника? Я абсолютно убежден, что Отто Кребс никак не мог быть вашим дядей. Я менее убежден, что вы в самом деле Ренэ Дюран из Монреаля. А теперь извините меня.
И он повернулся, чтобы уйти. Габриель дотронулся до его локтя.
– Вы могли бы по крайней мере показать мне его могилу?
Священник вздохнул и поднял глаза на окна в цветных стеклах. Они стали совсем черными.
– Темно, – сказал он. – Подождите минуту.
Он прошел в алтарь и исчез в ризнице. Через минуту он вышел оттуда в рыжей куртке, держа в руке большой электрический фонарь. Моралес вывел Габриеля из церкви через боковой портал и повел по гравиевой дорожке между церковью и домом приходского священника. Дорожка оканчивалась калиткой со щеколдой. Отец Моралес поднял щеколду, затем включил фонарь и повел Габриеля по кладбищу. Габриель шагал рядом со священником по узкой дорожке, заросшей травой. Кьяра шла на шаг сзади.
– Вы служили по нему похоронную мессу, отец Моралес?
– Да, конечно. Собственно, я вынужден был заниматься всем. Никто больше не мог.
Из-за могильной плиты выскочила кошка и остановилась на дорожке перед ними – в свете фонаря Моралеса глаза ее казались двумя желтыми прожекторами. Отец Моралес шикнул на нее, и кошка исчезла в высокой траве.
Они подходили к деревьям, росшим в конце кладбища. Священник свернул налево и повел их по высокой – до колен – траве. Здесь дорожка стала настолько узкой, что идти рядом было уже невозможно, поэтому они шли цепочкой, и Кьяра держалась за руку Габриеля, чтобы не упасть.
Отец Моралес, подойдя к ряду надгробий, остановился и посветил фонарем, направив его вниз под сорока пятью градусами. Луч света упал на простую могильную плиту, на которой значилось имя Отто Кребса. Там стояли год его рождения – 1913 и год смерти – 1983. Над именем в маленьком овале поцарапанного и испорченного непогодой стекла была фотография.
Габриель нагнулся и, смахнув пыль, стал всматриваться в лицо. Фотография была явно снята за некоторое время до смерти, потому что мужчина на ней был среднего возраста, пожалуй, около пятидесяти. Габриель был уверен только в одном. Это не было лицо Эриха Радека.
– Я полагаю, это не ваш дядя, мсье Дюран?
– Вы уверены, что это его фотография?
– Да, конечно. Я сам нашел ее в сейфе, где лежали некоторые его личные вещи.
– Вы, наверно, не разрешите мне посмотреть его вещи?
– У меня их уже нет. Да если бы и были… – Отец Моралес, так и не закончив фразы, протянул Габриелю фонарик. – А теперь я оставлю вас. Я могу найти дорогу и без света. Будьте добры, оставьте фонарик у двери в церковный дом по пути назад. Приятно было познакомиться, мсье Дюран.
С этими словами он повернулся и исчез среди надгробий.
Габриель посмотрел на Кьяру.
– На этом надгробии должна была быть фотография Радека. Ведь это Радек поехал в Рим и получил от Красного Креста паспорт на имя Отто Кребса. В сорок восьмом году Кребс поехал в Дамаск, а в шестьдесят третьем эмигрировал в Аргентину. Кребс зарегистрирован в аргентинской полиции этого района. Здесь должен был быть Радек.
– Что же это значит?
– Кто-то другой ездил в Рим, выступая в качестве Радека. – Габриель указал на фотографию на камне. – Вот этот человек. Этот австриец ездил в «Анима» просить помощи у епископа Гудала. Радек находился где-то в другом месте, по всей вероятности, все еще скрывался в Европе. Зачем ему надо было ехать в такую даль? Он хотел, чтобы люди думали, будто он давно уехал. И если кто-то станет его искать, они поедут из Рима в Дамаск, потом в Аргентину и обнаружат не того человека – Отто Кребса, низкоразрядного работника отеля, сумевшего наскрести достаточно денег, чтобы купить несколько акров земли у чилийской границы.
– У тебя все еще остается одна серьезная проблема, – сказала Кьяра. – Ты не можешь доказать, что Людвиг Фогель на самом деле – Эрих Радек.
– Не всё сразу, – сказал Габриель. – Не так легко человеку исчезнуть. Радеку потребовалась бы для этого помощь. Значит, кто-то должен об этом знать.
– Да, но жив ли он еще?
Габриель встал и посмотрел в направлении церкви. Отчетливо вырисовывалась колокольня. Затем он заметил среди надгробий направлявшуюся к ним фигуру. На секунду он подумал, что это отец Моралес. Затем, когда фигура немного приблизилась, понял, что это другой человек. Священник был тощий и маленький. А этот был приземистый и крепко сложенный, он шел быстро, враскачку, легко продвигаясь вниз по склону среди надгробий.
Габриель поднял фонарик и направил луч на этого человека. На секунду мелькнуло лицо, прежде чем мужчина прикрыл его широкой рукой: лысый, в очках, густые, черные с проседью брови.
Габриель услышал позади какие-то звуки. Он повернулся и посветил фонариком в направлении деревьев, росших по периметру кладбища. Из-за деревьев выбежали двое в темной одежде с малогабаритными автоматами в руках.
Габриель направил луч снова на мужчину, спускавшегося по склону среди надгробий, и увидел, что он достает из-за пазухи револьвер. Внезапно человек с револьвером остановился. Взгляд его был устремлен не на Габриеля и Кьяру, а на двух мужчин, выходивших из-за деревьев. Он постоял так не более секунды, затем быстро сунул обратно револьвер, повернулся и побежал назад.
Когда Габриель снова повернулся, двое мужчин с автоматами были уже в двух-трех футах от него и приближались бегом. Первый налетел на Габриеля и сбил его с ног на твердую кладбищенскую землю. Кьяра успела закрыть лицо руками, прежде чем второй сбил с ног и ее. Габриель почувствовал, как рука в перчатке зажала ему рот, а затем жаркое дыхание напавшего на него человека.
– Расслабьтесь, Аллон, вы среди друзей. – Он произнес это по-английски с американским акцентом. – Не затрудняйте нашей задачи.
Габриель сбросил руку со своего рта и посмотрел напавшему в глаза.
– Кто вы?
– Считайте нас своими ангелами-хранителями. Тот человек, что направлялся к вам, профессиональный убийца, и он намеревался убить вас обоих.
– А что вы собираетесь с нами сделать?
Вооруженные люди помогли Габриелю и Кьяре подняться с земли и повели их через кладбище к деревьям.
Часть третья Река пепла
27
Пуэрто-Блест, Аргентина
Лес внезапно оборвался у края черного оврага. Они полезли вниз по склону, пробираясь меж деревьев. Вечер был безлунный, царила кромешная тьма. Они шли цепочкой – один американец впереди, за ним Габриель и Кьяра и еще один американец позади. У американцев были очки ночного видения. Шагали они, по мнению Габриеля, как элитные солдаты.
Они вышли к маленькому, хорошо укрытому лагерю – черная палатка, черные спальные мешки, ни следа костра или печки для готовки. Интересно, подумал Габриель, сколько времени они были тут и наблюдали за кладбищем. Не так долго, судя по щетине на их щеках. Двое суток, может быть, меньше.
Американцы стали упаковывать вещи. Габриель вторично попытался выяснить, кто они и на кого работают. Его вопрос был встречен усталыми улыбками и каменным молчанием.
Им понадобилось всего несколько минут, чтобы разобрать лагерь и ликвидировать малейший след своего присутствия. Габриель предложил понести один из тюков. Американцы отказались от помощи.
Они снова пошли так же – цепочкой, только теперь американцы несли рюкзаки. Через десять минут они уже стояли на дне оврага, у каменистого ложа ручья. Там их ждала машина, упрятанная под маскировочным брезентом и сосновыми ветками. Это был старый «лендровер» с запасной шиной на капоте и канистрами топлива сзади.
Американцы рассадили их – Кьяру посадили впереди, а Габриеля сзади, держа под прицелом на случай, если он вдруг потеряет доверие к своим спасителям. Несколько миль они, накренясь, ехали вдоль ложа ручья, всплескивая мелководье, а потом свернули на грунтовую дорогу. Через несколько миль они выехали на шоссе, ведущее в Пуэрто-Блест. Американец свернул направо, к Андам.
– Вы направляетесь в Чили, – заметил Габриель.
Американцы рассмеялись.
Десять минут спустя – граница; на ней – дрожащий от холода пограничник в кирпичном блокпосте. «Лендровер», не замедляя скорости, промчался через границу и направился по склонам Анд вниз, к Тихому океану.
В северном конце залива Анкуд находится Пуэрто-Монт, курортный город и порт, где останавливаются круизы. Рядом с городом – аэропорт со взлетно-посадочной полосой, достаточно длинной, чтобы ею мог воспользоваться правительственный самолет «Гольфштрем-Дж 500». Он ждал на бетонированной полосе с работающими моторами, когда подъехал «ровер». В двери стоял седой американец. Он приветствовал Габриеля и Кьяру и представился как «мистер Александр», что прозвучало весьма неубедительно. Габриель, прежде чем опуститься на удобное кожаное сиденье, осведомился, куда они летят.
– Мы летим домой, мистер Аллон. Советую вам и вашей приятельнице постараться отдохнуть. Это будет долгий полет.
Часовщик набрал номер в Вене из своей комнаты в барилочском отеле.
– Они мертвы?
– Боюсь, что нет.
– А что случилось?
– Честно говоря, – сказал Часовщик, – ни черта не понимаю.
28
Плейнз, Виргиния
Конспиративный дом находился в глубине той части Виргинии, где разводили лошадей и где богатство и привилегированная жизнь соседствовали с сельской жизнью южан. Добираются туда по дороге, вьющейся меж холмов, а по бокам – разваливающиеся сараи и дощатые домишки с разбитыми машинами во дворах. Там есть ворота – на них предупреждение, что это частная собственность, хотя, технически говоря, это правительственный объект. Подъездная дорога – гравиевая и почти в милю длиной. Справа – густой лес; слева – выгон, окруженный разводной изгородью из жердей. Изгородь эта вызвала возмущение местных мастеров, когда «владелец» для ее сооружения нанял фирму со стороны. На выгоне пасутся две гнедые лошади. Остряки ЦРУ утверждают, что эти лошадки, как и все сотрудники, ежегодно проходят проверку на детекторе лжи, не перешли ли они на другую сторону, а какая это сторона – кто знает.
Дом в колониальном стиле стоит на вершине холма, окруженный высокими тенистыми деревьями. У него медная крыша и две террасы. Обставлен он просто и удобно, как бы приглашая к сотрудничеству и братству. Делегации дружеских служб останавливались тут. Как и те, кто предал свою страну. Последним был иракец, помогавший Саддаму пытаться создать атомную бомбу. Его жена рассчитывала жить в апартаментах в знаменитом «Уотергейте» и все время, пока они тут жили, жаловалась. Его сыновья подожгли сарай. Администрация была рада, когда они уехали.
В тот день новый снег накрыл выгон. Местность, лишенная красок из-за сильно затемненных окон громадины «сабэрбена», казалась Габриелю эскизом, нарисованным углем. Александр, сидевший на переднем сиденье развалясь и закрыв глаза, неожиданно ожил. Он широко зевнул и, прищурясь, посмотрел на свои часы, потом нахмурился, сообразив, что они поставлены не на то время.
Это Кьяра, сидевшая рядом с Габриелем, заметила лысого, похожего на часового, человека, стоявшего у балюстрады на верхней террасе. Габриель растянулся на заднем сиденье и посмотрел вверх на него. Шамрон поднял руку и подержал ее, затем повернулся и исчез в доме.
Шамрон встретил их в холле. Рядом с ним стоял маленький мужчина в вельветовых брюках и кардигане, седой, кудрявый и с седыми усами. Карие глаза спокойно смотрели на приехавших, рукопожатие было прохладным и кратким. Он казался университетским профессором или, возможно, психологом в клинике. А не был ни тем и ни другим. Он был заместителем директора по операциям Центрального Разведывательного Управления и звали его Эдриан Картер. Вид у него был недовольный, но при нынешнем состоянии дел в мире он редко бывал доволен.
Все настороженно поздоровались друг с другом, как это обычно бывает с людьми из засекреченного мира. Они употребляли свои настоящие имена, поскольку все знали друг друга, и, пользуйся они рабочими именами, это выглядело бы фарсом. Невозмутимый взгляд Картера ненадолго остановился на Кьяре, словно она была незваным гостем, для которого требовался дополнительный прибор за столом. Картер даже не попытался разгладить лоб.
– Я надеялся удержать все это в рамках высшего уровня, – сказал он. У него был слабый голос: его можно было расслышать, только застыв на месте и внимательно вслушиваясь. – Я надеялся также ограничить распространение материала, который собираюсь вам показать.
– Она – мой партнер, – сказал Габриель. – Она все знает. И она не уйдет из комнаты.
Взгляд Картера передвинулся с Кьяры на Габриеля.
– Мы следили за вами некоторое время – точнее, с момента вашего приезда в Вену. Нам особенно понравилось ваше посещение кафе «Централь». Когда вы возникли перед Фогелем, это был отличный театр.
– Собственно, это Фогель возник передо мной.
– Фогель всегда так ведет себя.
– А кто он?
– Ведь это вы его раскопали. Почему бы вам не рассказать об этом мне?
– Я считаю, что он эсэсовский убийца и военный преступник по имени Эрих Радек и что по какой-то причине вы оберегаете его. Если бы мне предложили подумать почему, я бы сказал, что он один из ваших агентов.
Картер положил руку на плечо Габриелю.
– Пошли, – сказал он. – Явно настало время нам поговорить.
Гостиная была затемнена и освещена лампами. В камине ярко горел огонь, на серванте стоял служебный металлический кофейник. Картер налил себе кофе и церемонно опустился в кресло. Габриель с Кьярой уселись на диван, а Шамрон стал мерить шагами комнату, этакий часовой, которому предстоит долгую ночь нести вахту.
– Я хочу вам рассказать одну историю, Габриель, – начал Картер. – Рассказать про страну, которая была втянута в войну, хотя не хотела воевать, – страну, покоренную величайшей армией, какую знал мир, и обнаружившую через несколько месяцев, что она находится в вооруженном противостоянии своему бывшему союзнику – Советскому Союзу. Честно говоря, мы были до смерти напуганы. Видите ли, до войны у нас не было разведслужбы – во всяком случае, настоящей. Черт побери, ведь ваша служба не старше нашей. До войны наши разведывательные операции в Советском Союзе проводили пара молодых людей из Гарварда и телетайп. Когда мы вдруг очутились нос к носу с русским страшилищем, мы ни черта о нем не знали. О его сильных сторонах, о его слабостях, о его намерениях. И главное – не знали, как это выяснить. То, что новая война неизбежна, было предрешено. А что у нас имелось? Ни черта. Ни агентурной связи, ни агентов. Ничего. Мы брели по пустыне, как потерянные. Нам нужна была помощь. Тут на горизонте появился Моисей, человек, который мог перевести нас через Синай в Землю Обетованную.
Шамрон на минуту приостановился, чтобы назвать имя этого Моисея: генерал Рейнхардт Гелен, глава отдела Восточных иностранных армий в Генеральном штабе Германии, главный шпион Гитлера на русском фронте.
– Купите этому человеку сигару, – сказал Картер. – Гелен был одним из немногих, у кого хватило мужества сказать Гитлеру правду о русской кампании. Гитлер до того разозлился, что пригрозил засадить его в сумасшедший дом. И когда развязка стала приближаться, Гелен решил спасти свою шкуру. Он приказал своему аппарату снять на микрофильм архивы Генерального штаба по Советскому Союзу и запечатать материалы в водонепроницаемые цилиндры. Эти цилиндры были захоронены в Баварских горах в Австрии, и Гелен и его старшие офицеры сдались команде контрразведки.
– И вы встретили их с распростертыми объятиями, – сказал Шамрон.
– Вы поступили бы точно так же, Ари. – Картер сложил на груди руки и с минуту смотрел в огонь. Габриель, казалось, слышал, как он считал про себя до десяти, чтобы унять злость. – Гелен был ответом на наши молитвы. Этот человек сделал себе карьеру, шпионя за Советским Союзом, и теперь покажет нам путь. Мы привезли его в эту страну и поселили в двух-трех милях отсюда, в Форт-Ханте. Из рук этого маленького пруссака с жутким характером кормилась вся американская безопасность. Сталинизм был злом, не имеющим себе равных в истории человечества. Сталин намеревался разложить страны Западной Европы изнутри, а затем двинуть против них военную силу. У Сталина были глобальные амбиции. «Не бойтесь, – сказал нам Гелен. – У меня там есть моя сеть, у меня там есть „кроты“ и сохранившиеся ячейки. Я знаю все, что надо знать о Сталине и его прихвостнях. Вместе мы его раздавим».
Картер поднялся и подошел к серванту налить себе горячего кофе.
– Гелен десять месяцев правил финансовый бал в Форт-Ноксе. Он много запрашивал, и мои предшественники были настолько им загипнотизированы, что соглашались на все его требования. Родилась Организация Гелена. Он перебрался на огороженную территорию близ Пуллаха в Германии. Мы финансировали его, мы давали ему директивы. Мы руководили Организацией и нанимали агентов. В конечном счете, Организация по сути стала частью Управления.
Картер вернулся с кофе к своему креслу.
– Поскольку Организация Гелена была нацелена главным образом на Советский Союз, генерал, естественно, нанимал людей, которые имели какой-то опыт работы там. В частности, он хотел заполучить умного, энергичного молодого человека по имени Эрих Радек, австрийца, который возглавлял СД в рейхскомиссариате Украины. В то время Радек находился у нас, в лагере для интернированных в Мангейме. По просьбе Гелена мы выпустили его оттуда, и вскоре он очутился за стенами штаба Организации в Пуллахе и стал восстанавливать свою сеть на Украине.
– Значит, Радек был СД, – сказал Габриель. – СС, СД и гестапо были объявлены после войны преступными организациями, и все их сотрудники подлежали немедленному аресту, однако вы разрешили Гелену нанять его.
Картер медленно кивнул – так, словно ученик правильно ответил на вопрос, но упустил нечто более значительное и важное.
– В Форт-Ханте Гелен дал обязательство не нанимать бывших эсэсовцев, эсдевцев и офицеров гестапо, но это было обязательство на бумаге, и мы никогда не рассчитывали, что он сдержит слово.
– А вы знали, что Радек был связан с деятельностью айнзатцгруппен на Украине? – спросил Габриель. – Знали ли вы, что этот умный, энергичный молодой человек пытался скрыть величайшее в истории преступление?
Картер отрицательно покачал головой.
– Масштаб преступлений немцев не был тогда известен. Что касается «Акции 1005», никто такого термина тогда еще не слышал, и в деле Радека, хранившемся в СС, не был отражен его перевод из Украины. «Акция 1005» была в рейхе сверхсекретной операцией, а ничто сверхсекретное не ложилось в рейхе на бумагу.
– Но, мистер Картер, – сказала Кьяра, – генерал Гелен наверняка должен был знать о деятельности Радека?
Картер поднял брови, словно удивленный тем, что Кьяра умеет говорить.
– Возможно, он и знал, но я сомневаюсь, чтобы это имело большое значение для Гелена. Радек не был единственным бывшим эсэсовцем, поступившим на работу в Организацию. По крайней мере еще пятьдесят человек работали там, включая и тех, кто, как Радек, был связан с «окончательным решением».
– Боюсь, это не имело значения и при отборе геленовских кураторов, – сказал Шамрон. – Любой мерзавец годился, лишь бы он был антикоммунистом. Разве Управление не руководствовалось этим принципом при наборе агентов во время «холодной войны»?
– Это выражено в постыдных словах Ричарда Хелмса: «Мы не бойскауты. Если б мы хотели быть бойскаутами, мы бы вступили в организацию бойскаутов».
Габриель сказал:
– Не чувствуется, чтоб вы были слишком огорчены, Эдриан.
– Актерство не мое занятие, Габриель. Я – профессионал, как и вы и ваш легендарный начальник, который тут присутствует. Я имею дело с реальным миром, а не с таким, в каком хотел бы жить. Я не приношу извинений за действия моих предшественников, как вы и Шамрон не приносите извинений за ваших. Порой разведслужбы вынуждены пользоваться услугами преступников, чтобы добиться положительных результатов: более стабильного мира, безопасности своей страны, защитить ценных друзей. Люди, решившие нанять Рейнхардта Гелена и Эриха Радека, играли в игру, старую как мир, – в игру реальной политики, и играли в нее хорошо. Я не стану отворачиваться от их действий и уж, во всяком случае, не позволю вам судить их.
Габриель скрестил руки на груди и согнулся, уперев локти в колени. Он чувствовал на лице жар огня в камине. Это лишь распаляло его гнев.
– Есть разница между использованием преступников в качестве источников информации и производством их в разведофицеры. И Эрих Радек не был рядовым киллером. Он был массовым убийцей.
– Радек непосредственно не участвовал в истреблении евреев. Он участвовал уже в последующих акциях.
Кьяра закачала головой, хотя Картер еще не кончил фразы. Он насупился. И явно начал жалеть, что включил ее в разговор.
– Вы, мисс Цолли, не согласны с чем-то, что я сказал?
– Да, – подтвердила она. – Вы явно не все знаете про «Акцию 1005». Кого, вы думаете, использовал Радек для раскопки тех массовых захоронений и уничтожения трупов? И как, вы думаете, он поступил с этими людьми после того, как работа была закончена? – В воцарившемся молчании она вынесла приговор: – Эрих Радек был массовым убийцей, а вы наняли его в качестве шпиона.
Картер медленно кивнул, как бы соглашаясь, что проиграл матч. Шамрон перегнулся через спинку дивана и, обуздывая Кьяру, положил руку ей на плечо. Затем он посмотрел на Картера и попросил объяснить, как Радек сумел сбежать из Европы. Картер, казалось, с облегчением ступил на нехоженую территорию.
– Ах да, – сказал он, – бегство из Европы. Вот это становится интересным.
Эрих Радек скоро стал главным заместителем генерала Гелена. Желая защитить своего звездного протеже от ареста и преследования, Гелен и его американские кукловоды создали Радеку новую личность – Фогеля, который был призван в вермахт и пропал в последние дни войны. Два года Радек прожил в Пуллахе под именем Фогеля, и к его новой личности, казалось, было не подкопаться. Ситуация изменилась осенью 1947 года, когда в последовавших за Нюрнбергским процессом стало слушаться дело № 9 – процесс над айнзатцгруппен. В ходе слушания имя Радека возникало неоднократно, как и кодовое наименование секретной операции по уничтожению доказательства убийств, произведенных айнзатцгруппен, – «Акция 1005».
– Гелен заволновался, – сказал Картер. – Радек официально считался пропавшим и необнаруженным, и Гелен жаждал, чтобы так оно и оставалось.
– Тогда вы отправили в Рим человека, якобы Радека, – сказал Габриель, – и он оставил там достаточно следов, чтобы любой, кто станет его искать, пошел по ложной тропе.
– Точно.
Шамрон, не переставая ходить, спросил:
– А почему вы использовали Ватикан вместо своих людей?
– Вы имеете в виду тех, кто работает на контрразведку?
Шамрон прикрыл глаза и кивнул.
– Те, кто работает на контрразведку, используются главным образом для вывоза перебежчиков из России. И если бы мы направили Радека по этому пути, сразу стало бы ясно, что он работает на нас. Поэтому мы использовали дорогу через Ватикан, чтобы подкрепить то, что он нацистский военный преступник, спасающийся от суда союзников.
– Как это умно с вашей стороны, Эдриан. Извините, что прервал вас. Продолжайте, пожалуйста.
– Радек исчез, – сказал Картер. – Время от времени Организация подкрепляла версию о его бегстве, подбрасывая ложные наводки различным охотникам за нацистами и утверждая, что Радек скрывается в тех или иных южноамериканских столицах. А он жил, конечно, в Пуллахе и работал на Гелена под именем Людвига Фогеля.
– Как трогательно, – пробормотала Кьяра.
– Это был сорок восьмой год, – сказал Картер. – Все тогда обстояло иначе. Нюрнбергский процесс закончился, и все стороны потеряли интерес к последующим преследованиям. Врачи-нацисты вернулись к медицинской практике. Теоретики нацизма снова читали лекции в университетах. Нацисты-судьи снова сидели на своих скамьях.
– А нацистский массовый убийца по имени Эрих Радек стал важным американским агентом, которому требовалась защита, – сказал Габриель. – Когда же он вернулся в Вену?
– В пятьдесят шестом году Конрад Аденауэр превратил Организацию в разведслужбу Западной Германии – Бундеснахрихтендинст, более известную как БНД. Эрих Радек, известный теперь как Людвиг Фогель, снова работал на германское правительство. В шестьдесят пятом году он вернулся в Вену, чтобы создать там агентурную сеть и добиться того, чтобы официально объявленный новым австрийским правительством нейтралитет был прочно сдвинут в сторону НАТО и Запада. Фогель являлся плодом совместных усилий БНД и ЦРУ. Мы вместе работали над его крышей. Мы зачистили дела в Государственном архиве. Мы создали для него компанию, которую он возглавил, – Торговую и инвестиционную корпорацию Дунайской долины, и направили туда достаточно дел, чтобы фирма преуспевала. Фогель оказался умелым бизнесменом, и довольно скоро доходы этой фирмы финансировали всю нашу австрийскую сеть. Короче говоря, Фогель был нашим наиболее важным достоянием в Австрии и одним из самых ценных в Европе. Он был мастером шпионажа. А когда Стена перестала существовать, его работа была закончена. К тому же и годы стали давать себя знать. Мы прекратили наши отношения, поблагодарили его за хорошо проделанную работу и расстались. – Картер поднял в воздух обе руки. – И на этом, боюсь, история заканчивается.
– Это неправда, Эдриан, – сказал Габриель. – Иначе мы не были бы здесь.
– Вы имеете в виду обвинения, выдвинутые против Фогеля Максом Клайном?
– Вам об этом известно?
– Фогель предупредил нас, что в Вене может возникнуть некая ситуация. Он попросил нас вмешаться и рассеять обвинения. Мы сообщили ему, что не можем этого сделать.
– И тогда он взял дело в свои руки.
– Вы предполагаете, что Фогель дал указание взорвать «Рекламации за период войны и справки»?
– Я предполагаю также, что он прикончил Макса Клайна, чтобы тот замолчал.
Картер помолчал с минуту, прежде чем высказаться.
– Если это дело рук Фогеля, он принял такие предосторожности и использовал столько подставных лиц, что вы никогда не сможете обвинить его. Кроме того, взрыв в офисе и смерть Макса Клайна – это произошло в Австрии, не в Израиле, а ни один австрийский прокурор не даст санкции на расследование убийства, якобы совершенного Людвигом Фогелем. Так что это тупик.
– Его настоящее имя Радек, Эдриан, а не Фогель, и встает вопрос почему. Почему Радека так озаботило расследование, предпринятое Эли Лавоном, что он прибег к убийству? Даже если бы Эли и Макс Клайн смогли убедительно доказать, что Фогель является на самом деле Эрихом Радеком, австрийский государственный прокурор никогда не предал бы его суду. Он слишком стар. Слишком много времени прошло. Никаких свидетелей не осталось, кроме Клайна, и Радек никогда не был бы осужден в Австрии на основании слов одного старого еврея. Так почему надо было прибегать к насилию?
– У меня такое впечатление, что у вас есть на этот счет своя теория.
Габриель оглянулся через плечо и прошептал несколько слов на иврите Шамрону. Шамрон протянул Габриелю папку со всеми материалами, которые тот собрал в ходе расследования. Габриель раскрыл ее и вынул один-единственный предмет: сделанную им фотографию дома Радека в Зальцкаммергуте, на которой Радек изображен с женщиной и юношей. Габриель положил ее на стол и повернул так, чтобы Картеру было видно. Глаза Картера прошлись по фотографии, затем перекинулись на Габриеля.
– Кто она?
– Его жена – Моника.
– Когда же он на ней женился?
– Во время войны, – сказал Картер, – в Берлине.
– В его деле нигде нет упоминания об одобренной СС женитьбе.
– Многие вещи не дошли до дела эсэсовца Радека.
– А после войны?
– Она поселилась в Пуллахе под своим настоящим именем и жила с Фогелем. Мальчик родился в сорок девятом году. Когда Фогель вернулся в Вену, генерал Гелен считал, что для Моники и их сына будет небезопасно открыто поехать с ним, так же считало и Управление. Ее сочетали браком с человеком из сети Фогеля. Она жила в Вене, в доме, отделенном от дома Фогеля садовой оградой. Он посещал их вечером. Со временем мы построили между домами туннель, чтобы Моника и мальчик могли свободно передвигаться из одной резиденции в другую, не боясь быть замеченными. Мы никогда не знали, кто за ними следит. Русским очень хотелось бы скомпрометировать Фогеля и развернуть на себя.
– А как звали мальчика?
– Его имя Петер.
– А агента, за которого вышла Моника? Пожалуйста, скажите его фамилию, Эдриан.
– Я думаю, вы уже знаете ее, Габриель. – Картер помедлил и произнес: – Его фамилия Метцлер.
– Петер Метцлер, человек, который вот-вот станет канцлером Австрии, является сыном нацистского военного преступника Эриха Радека, и Эли Лавон собирался обнародовать этот факт.
– Похоже, что так.
– Это выглядит для меня основанием для убийства, Эдриан.
– Браво, Габриель, – произнес Картер. – Но что тут можно сделать? Убедить австрийцев выдвинуть обвинения против Радека? Желаю удачи. Разоблачить Петера Метцлера как сына Радека? Если вы это сделаете, вы раскроете также то, что Радек был нашим человеком в Вене. А это поставит Управление в сложное положение перед общественностью в такое время, когда оно участвует во всемирной кампании против сил, которые хотят уничтожить мою страну и вашу. Это также надолго заморозит отношения между вашей службой и моей в такое время, когда вам отчаянно необходима наша поддержка.
– Это звучит как угроза в мой адрес, Эдриан.
– Нет, это просто разумный совет, – сказал Картер. – Это реальная политика. Бросьте вы это. Обратите взгляд в другую сторону. Дождитесь, чтобы он умер, и забудьте, что это вообще было.
– Нет, – сказал Шамрон.
Картер перевел взгляд с Габриеля на Шамрона.
– Почему я знал, что вы ответите именно так?
– Потому что я Шамрон, и я никогда ничего не забываю.
– В таком случае, я полагаю, мы должны прийти к согласию относительно того, как выбраться из этой ситуации, чтобы не протащить мою службу сквозь отстойник истории. – Картер взглянул на свои часы. – Становится поздно. А я голоден. Давайте поедим, а?
И встал. Суд уходит на перерыв.
В течение следующего часа, поедая жареную утку с диким рисом в освещенной свечами столовой, они ни разу не произнесли имени Эриха Радека. Насчет ведения подобных дел существует ритуал, говорил всегда Шамрон, – определенный ритм, который нельзя ни ломать, ни нарушать. Сначала ведутся упорные переговоры, потом можно посидеть, откинувшись на спинку стула, и насладиться обществом компаньона, который обычно – когда все уже сказано и сделано – печется о твоих интересах.
И вот, получив лишь легкий толчок от Картера, Шамрон взял на себя роль развлекателя компании. Какое-то время он исполнял то, чего от него ждали. Рассказывал истории о ночных переходах на территорию противника; об украденных секретах и исчезнувших врагах; о провалах и бедах, случающихся на протяжении любой карьеры, особенно столь долгой и изменчивой, как карьера Шамрона. Габриель молча наблюдал за происходящим со своего аванпоста в конце стола. Он понимал, что присутствует при вербовке, а идеальная вербовка, всегда говорил Шамрон, по сути является идеальным соблазнением. Начинается она с легкого флирта, с признания в чувствах, которые лучше держать про себя. И только когда почва тщательно вспахана, в нее бросают зерно предательства.
Шамрон за горячим яблочным «хворостом» и кофе начал рассказывать не про свои подвиги, а про себя: о детстве в Польше; о ранящем антисемитизме поляков; о грозовых тучах, которые начали собираться на Западе, в нацистской Германии.
– В тридцать шестом году мои мать и отец решили, что мне надо уехать из Польши в Палестину, – сказал Шамрон. – А они останутся вместе с моими двумя старшими сестрами и подождут – посмотрят, не станет ли лучше. И как многие другие, прождали слишком долго. Теплым утром в сентябре тридцать девятого года мы услышали по радио, что немцы оккупировали страну. Я понял, что никогда уже не увижу своих родных.
С минуту Шамрон сидел молча. Руки его, когда он стал закуривать, слегка дрожали, несмотря на старания сдержаться. Он произвел посев. Его требование, хотя и невысказанное, было ясно. Он не уйдет из этого дома, пока Эрих Радек не будет у него в руках, и Эдриан Картер поможет ему в этом.
Когда они вернулись в гостиную для вечернего заседания, на кофейном столике перед диваном стоял магнитофон. Картер, снова сев в свое кресло у огня, набил чубук трубки английским табаком. Чиркнув спичкой и держа в зубах мундштук, он кивком головы указал на магнитофон и попросил Габриеля заняться им. Нажав на кнопку, Габриель включил звук. Двое мужчин разговаривали по-немецки – один, швейцарец, с цюрихским акцентом, другой – с венским. Габриель узнал голос человека, говорившего с венским. Он слышал его неделю назад в кафе «Централь». Голос этот принадлежал Эриху Радеку.
«На сегодняшнее утро итоговая сумма вклада составляет два с половиной миллиарда долларов. Приблизительно один миллиард в наличности поровну поделен между долларами и евро. Остальная сумма вложена в обычные ценные бумаги и облигации, а также в значительное количество недвижимости…»
Через десять минут Габриель протянул руку и нажал на кнопку «Стоп». Картер вытряхнул содержимое чубука в камин и медленно набил новую трубку.
– Этот разговор происходил в Вене на прошлой неделе, – сказал Картер. – Банкира зовут Конрад Беккер. Он из Цюриха.
– А что это за вклад? – спросил Габриель.
– После войны тысячи нацистов бежали в Австрию. Они привезли с собой краденного нацистами на несколько сотен миллионов долларов – тут было золото, наличные, краденые произведения искусства, драгоценности, столовое серебро, ковры и гобелены. Добро было упрятано в тайники по всем Альпам. Многие из тех нацистов мечтали возродить рейх и хотели использовать награбленное для достижения этой цели. Небольшая группа людей понимала: преступления Гитлера столь огромны, что лишь через поколение, а то и больше, национал-социализм может стать снова политически жизнеспособным. Они решили положить крупную сумму денег в один цюрихский банк и приложить к счету уникальный набор инструкций. Этот счет может быть активизирован только письмом от австрийского канцлера. Видите ли, они верили, что революция была начата Гитлером в Австрии и потому Австрия зафонтанирует и станет местом ее возрождения. Первоначально пяти людям был доверен номер счета и пароль. Когда пятый заболел, он стал искать, кого бы назначить попечителем счета.
– Эриха Радека.
Картер кивнул и помолчал, раскуривая трубку.
– Радек готовится посадить своего канцлера, но ему никогда не видеть ни капли тех денег. Мы узнали об этом счете два-три года назад. Забыть о том, что он творил в сорок пятом году, – одно дело, но мы не собираемся позволить ему раскурочить счет, на котором лежит два с половиной миллиарда, награбленных при холокосте. Мы потихоньку сделали несколько ходов против герра Беккера и его банка. Радек об этом еще не знает, но ему никогда не видать ни пенни из этих денег.
Габриель протянул руку, нажал на «Перемотку», потом на «Стоп», потом на «Пуск»:
«Ваши товарищи щедро обеспечили тех, кто им помогал. Но боюсь, возникли некоторые неожиданные… осложнения».
«Какого рода осложнения?»
«Несколько человек из тех, кто должен был получить деньги, якобы недавно умерли при таинственных обстоятельствах…»
Стоп.
Габриель посмотрел на Картера в ожидании объяснения.
– Те, кто создал этот счет, хотели вознаградить людей и организации, что помогли нацистам сбежать после войны. Радек считал это сентиментальной чушью. Он вовсе не собирался открывать благотворительную организацию помощи. Он не мог изменить соглашения, поэтому внес изменения в ситуацию.
– А Энрике Кальдерон и Густаво Эстрада должны были получить деньги с этого счета?
– Я вижу, вы немало узнали, пока общались с Альфонсо Рамиресом. – Картер виновато улыбнулся. – Мы следили за вами в Буэнос-Айресе.
– Несомненно, – сказал Габриель. – Радек – человек очень старый. Что же он намерен делать с деньгами?
– Судя по всему, он предполагает значительную их часть отдать своему сыну. Остальное он предполагает доверить одному из своих наиболее важных агентов. Я думаю, вы с ним знакомы. Его зовут Манфред Круц.
Трубка у Картера погасла. Он уставился в чубук, нахмурился и снова разжег трубку.
– Возвращаемся к нашей первоначальной проблеме. – Картер выдохнул в сторону Габриеля облачко дыма. – Что будем делать с Эрихом Радеком? Если вы попросите австрийцев предать его суду, они протянут время и дождутся, пока он умрет. Если вы схватите пожилого австрийца на улицах Вены и отправите его для суда в Израиль, вас обольют дерьмом с самых верхов. Если вы считаете, что теперь у вас осложнения в европейском сообществе, то если вы захватите Радека, ваши проблемы возрастут в десять раз. И если вы предадите его суду, его защита наверняка вытащит на свет то, что он был связан с нами. Так что будем делать, джентльмены?
– Возможно, есть третий путь, – сказал Габриель.
– А именно?
– Убедить Радека добровольно приехать в Израиль.
Картер критически посмотрел на Габриеля поверх чубука своей трубки.
– И как же, вы полагаете, мы могли бы убедить такого первоклассного мерзавца, как Эрих Радек, приехать туда?
Они проговорили всю ночь. Это был план Габриеля, и потому он изложил его и защитил. Шамрон добавил несколько ценных предложений. Картер, сначала противившийся, вскоре перешел в лагерь Габриеля. Ему понравилась сама смелость плана. Его служба, наверное, пристрелила бы офицера, который предложил бы столь неоригинальную идею.
У каждого человека есть слабость – Радек своими действиями показал, что у него есть две слабости: жадность к деньгам, хранящимся на счете в Цюрихе, и желание увидеть своего сына канцлером Австрии. Габриель считал, что именно второе побудило Радека принять меры против Эли Лавона и Макса Клайна. Радек не хотел, чтобы на сына легло пятно его прошлой жизни, и доказал, что готов совершить что угодно для защиты его. Для выполнения намеченного плана приходилось глотать горькую пилюлю – идти на сговор с человеком, не имевшим права на снисхождение, но это было морально оправдано и приводило к желаемому результату: Эрих Радек оказался бы за решеткой за преступления, совершенные против еврейского народа. Критическим фактором было время. До выборов оставалось всего две недели. Радек должен оказаться в руках израильтян до того, как в Австрии будет подан первый избирательный бюллетень. Иначе им не удастся заполучить его.
Приближалась заря, и Картер задал вопрос, не дававший ему покоя с того момента, как на его столе появился первый доклад о расследовании, предпринятом Габриелем: почему? Почему Габриель, работающий на службу убийцей, так старается предать Радека суду после стольких лет?
– Я хочу рассказать вам одну историю, Эдриан, – сказал Габриель, и голос его вдруг зазвучал словно издалека, таким же стал и взгляд. – Это история еврейской девушки, которая жила в Берлине. – Он умолк, затем добавил: – Собственно, пожалуй, будет лучше, если она сама расскажет вам свою историю.
И он протянул Картеру экземпляр свидетельства своей матери. Картер, сидя у угасающего в камине огня, прочел его с начала и до конца, не произнеся ни слова. Когда наконец он поднял взгляд от последней страницы, глаза его были влажны.
– Насколько я понимаю, Ирене Аллон – ваша мать?
– Была моей матерью. Она давно умерла.
– А как вы можете быть уверены, что тот эсэсовец в лесу был Радеком?
Габриель рассказал ему о рисунках матери.
– Значит, как я понимаю, вы будете вести переговоры с Радеком. А если он откажется сотрудничать? Что тогда, Габриель?
– У него будет весьма ограниченный выбор, Эдриан. Так или иначе, ноги Эриха Радека больше никогда не будет в Вене.
Картер вернул свидетельства Габриелю и какое-то время смотрел на горящие в камине угли.
– Ваша мать была замечательной женщиной… а Эрих Радек – чудовище. Он заслуживает ожидающей его участи. Пожалуй, и люди, защитившие его от наказания, достойны такой же. – Картер повернулся от Габриеля к Шамрону. – Это замечательный план. Но ваш премьер-министр пойдет на такое?
– Я уверен, что в рядах оппозиции возникнут голоса несогласия, – сказал Шамрон.
– Лев?
Шамрон кивнул.
– То, что я в этом участвую, даст ему все основания наложить вето на план. Но я думаю, Габриель сумеет повлиять на премьер-министра и побудить его думать по-нашему.
– Я? Кто сказал, что я буду докладывать премьер-министру?
– Я, – сказал Шамрон. – К тому же, если ты сумел убедить Картера подать тебе Радека на блюде, то уж наверняка сумеешь убедить премьер-министра принять участие в пиршестве. Он ведь у нас человек с огромными аппетитами.
Картер поднялся и потянулся, затем медленно прошел к окну – этакий доктор, прооперировавший всю ночь и достигший лишь весьма сомнительного результата. Он раздвинул занавеси. В комнату проник серый свет.
– Осталось еще одно, что нам необходимо обсудить, прежде чем ехать в Израиль, – сказал Шамрон.
Картер повернулся к ним лицом, став силуэтом на фоне окна.
– Деньги?
– Как именно вы планировали с ними поступить?
– Мы еще не пришли к окончательному решению.
– А я пришел. Два с половиной миллиарда долларов – цена, которую вы платите за то, что использовали такого человека, как Эрих Радек, хотя знали, что он убийца и военный преступник. Эти деньги были отобраны у евреев, шагавших к газовым камерам, и я хочу получить их назад.
Картер снова отвернулся к окну и стал смотреть на засыпанные снегом пастбища.
– А вы мастер шантажа, Ари Шамрон.
Шамрон встал и надел пальто.
– Приятно было иметь с вами дело, Эдриан. Если в Иерусалиме все пойдет по плану, встретимся снова в Цюрихе через сорок восемь часов.
29
Иерусалим
Встреча была назначена на десять часов вечера. Шамрон, Габриель и Кьяра, чей самолет задержался из-за непогоды, прибыли за две минуты до назначенного времени после головокружительной езды на машине из аэропорта «Лодь», однако помощник сообщил им, что премьер-министр запаздывает. Ему явно приходилось разбираться еще с одним кризисом в его неустойчивой правящей коалиции, поскольку приемная перед кабинетом походила на временный приют после катастрофы. Габриель насчитал не меньше пяти членов кабинета, каждый был окружен помощниками и аппаратчиками. Все кричали друг на друга, подобно ссорящимся родственникам на семейной свадьбе, а в воздухе висел туман от табачного дыма.
Помощник провел Шамрона, Габриеля и Кьяру в помещение, отведенное для службы безопасности и сотрудников разведки, и закрыл дверь. Габриель покачал головой.
– Израильская демократия в действии.
– Хочешь верь, хочешь нет, сегодня еще тихо. Обычно бывает много хуже.
Габриель рухнул в кресло. Он вдруг осознал, что не принимал душ и не переодевался два дня. И в самом деле, брюки его были все в пыли после посещения кладбища в Пуэрто-Блесте. Когда он сказал об этом Шамрону, старик улыбнулся.
– То, что ты покрыт грязью Аргентины, лишь добавит достоверности твоему сообщению, – сказал Шамрон. – Премьер-министр оценит это.
– Я никогда прежде не докладывал премьер-министру, Ари. И мне хотелось бы по крайней мере принять душ.
– Да ты нервничаешь. – Это, казалось, позабавило Шамрона. – Мне кажется, я никогда в жизни не видел тебя нервничающим. А ты, оказывается, обычный человек.
– Конечно, я нервничаю. Он же сумасшедший.
– Собственно, мы с ним похожи по темпераменту.
– Это должно меня приободрить?
– Могу я дать тебе совет?
– Если вы считаете, что должны это сделать.
– Он любит истории. Расскажи ему хорошую историю.
Кьяра присела на подлокотник кресла Габриеля.
– Расскажи все премьер-министру так, как ты рассказывал мне в Риме, – произнесла она sotto voce.[24]
– Ты тогда лежала в моих объятиях, – возразил Габриель. – Что-то говорит мне, что сегодняшний доклад будет несколько более формальным. – Он улыбнулся и добавил: – По крайней мере, я надеюсь, что так будет.
Время близилось к полуночи, когда помощник премьер-министра просунул голову в комнату, где они сидели, и объявил, что великий человек готов наконец принять их. Габриель и Шамрон встали и направились к открытой двери. Кьяра продолжала сидеть. Шамрон приостановился и повернулся к ней:
– Чего ты ждешь? Премьер-министр готов принять нас.
Кьяра широко открыла глаза и передернула плечами.
– Я всего лишь bat leveyha,[25] – возразила она. – Я не иду к премьер-министру с докладом. Бог ты мой, я же не израильтянка.
– Ты рисковала жизнью, защищая эту страну, – спокойно произнес Шамрон. – Ты имеешь право там присутствовать.
Кабинет премьер-министра, большой и на удивление очень просто обставленный, был погружен в темноту. Освещено было лишь пространство вокруг его стола. Лев каким-то образом сумел проникнуть туда раньше их. Его лысая костистая голова блестела, несмотря на удаленное освещение, длинные руки были скрещены в молитвенном жесте под вызывающе вздернутым подбородком. Премьер-министр был в рубашке и выглядел усталым, но довольным после долгого вечера политической схватки. Он, как и Шамрон, был в душе́ бойцом. Компромиссы раздражали его. Как он умудрялся править в столь разношерстном и непокорном Израиле, было чудом. Лев намеренно нехотя поднялся и без восторга обменялся с ними рукопожатиями. Шамрон и Габриель сели. Потертые кожаные сиденья стульев были все еще теплыми от других тел.
Премьер-министр посмотрел исподлобья на Габриеля. Шамрон уже привык к этому. Красивая внешность Габриеля была тем, что вызвало озабоченность Шамрона, когда он выбирал его для операции «Гнев Господень». Люди пялились на Габриеля.
Они уже однажды встречались – Габриель и премьер-министр, хотя при совершенно других обстоятельствах. Премьер-министр был начальником штаба израильских сил обороны в апреле 1988 года, когда Габриель во главе группы командос ворвался в Тунисе на одну виллу и убил Абу Джехада, второго человека в ПЛО, в присутствии его жены и детей. Премьер-министр находился вместе с Шамроном в самолете спецсвязи, кружившем над Средиземным морем. Он услышал об убийстве через переносной микрофон Габриеля. Он слышал также, как Габриель, убив Абу Джехада, потратил несколько ценных секунд на то, чтобы успокоить его жену и дочь, которые были в истерике. Габриель тогда отказался от ожидавшей его награды. И теперь премьер-министр хотел знать почему.
– Я не считал это нужным, премьер-министр, учитывая обстоятельства.
– У Абу Джехада руки были по локоть в еврейской крови. Он заслуживал смерти.
– Да, но не в присутствии жены и детей.
– Он сам выбрал ту жизнь, какую вел, – сказал премьер-министр. – Его семья не должна была находиться вместе с ним. – И тут, словно внезапно осознав, что ступил на заминированное поле, премьер-министр попытался на цыпочках выйти оттуда. Однако его размеры и природная резкость не позволили бы сделать это изящно. Поэтому он быстро сменил тему разговора. – Шамрон сообщил мне, что вы хотите выкрасть нациста, – сказал премьер-министр.
– Да, господин премьер-министр.
Он поднял руки ладонями вверх: давайте послушаем.
* * *
Габриель, если и нервничал, то не показывал этого. Он изложил все сухо, точно и уверенно. Премьер-министр, славившийся своей нетерпеливостью, выслушивая докладчиков, на этот раз слушал как завороженный. Когда Габриель рассказал о покушении на него в Риме, премьер-министр нагнулся вперед с напряженным лицом. Признание Эдриана Картера об участии в этом деле американцев явно вызвало у него возмущение. Когда подошло время представить документальные доказательства, Габриель встал рядом с премьер-министром и выложил их на освещенный лампой стол одно за другим. Шамрон же тихо сидел, сжимая ручки кресла, словно человек, изо всех сил старающийся не нарушить клятву молчания. Лев, казалось, устроил состязание с большим портретом Теодора Херцля, который висел на стене за столом премьер-министра, в том, кто кого переглядит. Он делал пометки золотым пером, а однажды – весьма невежливо – долго смотрел на свои ручные часы. Шамрон с трудом сдерживался от желания протянуть руки и свернуть ему шею.
– Можем мы его заполучить? – спросил премьер-министр и добавил: – Без того, чтобы поднялся адский шум.
– Да, сэр, я считаю, что можем.
– Расскажите, как вы собираетесь это сделать.
Рассказывая, Габриель не пожалел деталей. Премьер-министр, бывший генерал, в свое время возглавлявший военную разведку, немедленно налетел бы на Габриеля, упусти он что-либо в своей информации. А премьер-министр молча сидел, сложив пухлые руки на столе, и внимательно слушал. Когда Габриель закончил свое изложение, премьер-министр кивнул и обратил взгляд на Льва: «Насколько я понимаю, тут вы расходитесь?»
Лев, будучи технократом, сначала подумал, а потом стал говорить. Его комментарий, наконец прозвучавший, был изложен бесстрастно и методично. Будь у него график или актуарная таблица, Лев наверняка встал бы с указкой в руке и тянул бы резину до зари. А так он продолжал сидеть и вскоре довел своих слушателей до мучительной скуки. Речь его прерывалась паузами, когда он составлял вместе пальцы рук и прижимал их к своим бескровным губам.
Проведена впечатляющая разведывательная работа, сказал Лев, делая запоздалый комплимент Габриелю, но сейчас не время тратить драгоценное время и политический капитал, сводя счеты со стариками-нацистами. Основатели государства удержались – за исключением дела Эйхманна – от охоты за теми, кто устроил холокост, так как знали, что это уведет службу в сторону от главной задачи, которая стоит перед ней, а именно: защиты государства. Эти же принципы применимы и сегодня. Арест Радека в Вене вызовет отрицательную реакцию в Европе, где поддержка Израиля висит на волоске. Это поставит также под угрозу существование маленького беззащитного сообщества евреев в Австрии, где антисемитизм силен и глубок.
– Что мы станем делать, когда на евреев станут нападать на улицах? Вы думаете, австрийские власти хоть пальцем шевельнут для того, чтобы это прекратить?
И наконец, он выложил свою козырную карту: почему, собственно, Израиль обязан преследовать Радека? Пусть этим занимаются австрийцы. Что же до американцев – пусть себе лежат в своей постельке. Выявите Радека и Метцлера и отойдите в сторонку. Вы сделаете свое дело, а последствия будут менее серьезными, чем если мы проведем операцию похищения.
Премьер-министр с минуту спокойно размышлял, затем посмотрел на Габриеля.
– Этот Людвиг Фогель действительно является Радеком – в этом нет сомнения?
– Никакого, господин премьер-министр.
Премьер-министр повернулся к Шамрону:
– И вы уверены, что американцы не возмутятся?
– Американцы, как и мы, жаждут решить эту проблему.
Премьер-министр, прежде чем принять решение, посмотрел на документы, лежавшие на столе.
– В прошлом месяце я совершил поездку по Европе, – сказал он. – Когда я был в Париже, я посетил синагогу, которую подожгли за несколько недель до того. На следующее утро в одной из французских газет появилась передовица, в которой меня обвиняли в том, что я вскрываю болячки антисемитизма и холокоста всякий раз, как это отвечает моим политическим целям. Пожалуй, настало время напомнить миру, почему мы поселились на этом куске земли, окруженные морем врагов, и сражаемся за выживание. Привезите сюда Радека. Пусть он расскажет миру, какие преступления он совершил, чтобы скрыть холокост. Быть может, это заставит раз и навсегда замолчать тех, кто утверждает, что все это байки, придуманные людьми вроде Ари и меня для оправдания нашего существования.
Габриель прочистил горло.
– Это не ради политических целей, господин премьер-министр, это ради правосудия.
Премьер-министр улыбнулся, услышав эту неожиданную поправку.
– Верно, Габриель, это действительно ради правосудия, но правосудие и политика часто идут рука об руку, и если правосудие может служить политике, в этом нет ничего аморального.
Лев, потерпев поражение в первом раунде, попытался одержать победу во втором, захватив контроль над операцией. Шамрон-то знал, что цель у него прежняя: прикончить ее. К несчастью для Льва, понимал это и премьер-министр.
– Габриель подвел нас к этому моменту. Пусть Габриель и доведет дело до конца.
– Со всем моим уважением, господин премьер-министр, Габриель – kidon, лучший, какой когда-либо был, но он не умеет планировать операцию, а именно это нам и нужно.
– Его оперативный план представляется мне отличным.
– Да, но сможет ли он подготовить и выполнить его?
– За спиной у него все время будет стоять Шамрон и глядеть через его плечо.
– Вот этого-то я и боюсь, – ледяным тоном произнес Лев.
Премьер-министр встал – остальные последовали его примеру.
– Привезите сюда Радека. И что бы вы ни делали, даже и не думайте устраивать заваруху в Вене. Заберите его чистеньким, без крови, без инфарктов. – Премьер-министр повернулся ко Льву. – Обеспечьте все ресурсы, какие им потребуются, чтобы дело было сделано. Не думайте, что в вас не полетит дерьмо, потому что вы голосовали против этого плана. Если Габриель и Шамрон рухнут, сгорев, вы рухнете вместе с ними. Так что никакой бюрократии. Вы в этом деле действуете все вместе. Shalom.[26]
Премьер-министр схватил Шамрона за локоть, когда тот уже выходил в дверь, и оттянул в угол. Затем уперся одной рукой в стену над плечом Шамрона, перекрывая тому возможность сбежать.
– Мальчик справится, Ари?
– Он уже не мальчик, господин премьер-министр, далеко не мальчик.
– Я знаю, но сумеет ли он это сделать? Сумеет ли он убедить Радека приехать сюда и предстать перед судом?
– Вы же читали свидетельство его матери?
– Читал и знаю, как я поступил бы на его месте. Боюсь, я всадил бы пулю в мозг мерзавца, как это делал Радек со столь многими, и дело с концом.
– А подобная акция была бы справедливой, с вашей точки зрения?
– Существует правосудие цивилизованных людей – правосудие, что свершается в залах суда мужчинами в мантиях, и существует правосудие пророков. Божье правосудие. Какое может быть правосудие за столь огромные преступления? Какого рода наказание может для этого быть? Пожизненное заключение? Безболезненная казнь?
– Правда, господин премьер-министр. Иной раз наилучшим средством мщения является правда.
– А если Радек не согласится с таким предложением?
Шамрон передернул плечами.
– Вы даете мне указания?
– Мне не нужно еще одно дело Демджанука. Мне не нужен процесс-спектакль на тему холокоста, который будет превращен средствами массовой информации в цирк. Было бы лучше, если бы Радек просто исчез с лица земли.
– Исчез с лица земли, господин премьер-министр?
Премьер-министр тяжело выдохнул в лицо Шамрону.
– А вы уверены, что это он, Ари?
– В этом нет сомнения.
– В таком случае, если возникнет необходимость, уничтожьте его.
Шамрон опустил глаза на свои ноги, но увидел лишь круглый животик премьер-министра.
– Он взвалил на свои плечи тяжкое бремя, наш Габриель. Боюсь, я возложил на него эту ношу еще в семьдесят втором году. Он не годится в убийцы.
– Эрих Радек возложил это бремя на Габриеля задолго до того, как появились вы, Ари. Теперь у Габриеля есть возможность сбросить часть этой ноши. Выскажу свое пожелание напрямик: если Радек не согласится приехать сюда, скажите Князю огня уничтожить его, и пусть псы лижут его кровь.
30
Вена
В этот момент Манфред Круц, сидя за рулем своей «ауди», мчался по пустынным улицам Пятого округа Вены. Он свернул на Штёббергассе и остановился у тротуара, затем выключил мотор и какое-то время неподвижно сидел в машине. Полночь в Пятом округе, мертвая тишина, – тишина, какая бывает только в Вене, этакая царственная пустота. Круца она ободряла. Правда, это чувство длилось недолго. Старик редко звонил ему домой, и никогда еще Круца не вытаскивали из постели среди ночи для встречи. Он сомневался, что новости будут хорошими.
Круц посмотрел вдоль улицы и не увидел ничего необычного. Взгляд в зеркальце заднего вида подтвердил, что за ним никто не следует. Он вылез из машины и пошел по холоду к большому серому каменному дому № 22. На первом этаже за закрытыми занавесками горел свет. На втором этаже светилось всего одно окно. Круц позвонил у калитки. У него было такое чувство, будто кто-то наблюдает за ним, – чувство еле уловимое, словно чье-то дыхание в затылок. Он повернулся и посмотрел на окошки запаркованных вдоль улицы машин.
Он снова потянулся к звонку, но прежде чем успел нажать на кнопку, раздался зуммер и задвижка отскочила. Он открыл калитку и пересек двор. Когда он подошел к порталу, дверь распахнулась, и на пороге стоял мужчина в расстегнутом пиджаке и спущенном галстуке. Он и не пытался скрыть черную кожаную кобуру, в которой лежал револьвер «глок». Круц ничуть не встревожился – он хорошо знал этого человека. Это был бывший полицейский по имени Клаус Хальдер. Дело в том, что это Круц нанял его для охраны Старика. Хальдер обычно сопровождал Старика, лишь когда он выходил из дома или ожидал гостей. Его присутствие на Штёббергассе в полночь, как и телефонный звонок на дом Круцу, не были добрым знаком.
– Где он?
Хальдер молча перевел взгляд в пол. Круц расстегнул пояс на своем плаще и вошел в кабинет Старика. Фальшивая стена была отодвинута. Маленький, похожий на капсулу лифт стоял в ожидании. Круц вошел в кабину и, нажав на кнопку, медленно отправился вниз. Через несколько секунд дверцы открылись, и перед Круцем оказалось маленькое подземное помещение в светло-желтых тонах и с позолотой, поскольку хозяин любил барокко. Американцы построили для него эту комнату, чтобы он мог проводить в ней важные совещания, не опасаясь, что русские могут его подслушать. Они построили и тоннель, куда открывала доступ стальная дверь с секретным замком. Круц был одним из немногих в Вене, кто знал, куда ведет этот тоннель и кто жил в доме на другом его конце.
Старик сидел у маленького столика, на котором стоял стакан с напитком. Круц сразу понял, что Старик не в себе, потому что он вертел стакан дважды вправо, потом дважды влево. Направо, направо, налево, налево. «Странная манера, – подумал Круц. – Чертовски угрожающая». Он полагал, что Старик приобрел эту манеру в своей прошлой жизни, в другом мире. В мозгу Круца возникла картина: русский комиссар, прикованный к столу допроса, и Старик, сидящий по другую сторону стола, весь с головы до ног в черном, крутящий вот так свой стакан и глядящий на свою добычу бездонными голубыми глазами. Круц почувствовал, как у него екнуло сердце. Бедняги, наверное, обделывались еще до того, как дело принимало крутой оборот.
Старик поднял глаза – вращение стакана прекратилось. Его холодный взгляд уперся в грудь Круца. Он насупился. Круц опустил глаза и увидел, что у него на рубашке неверно застегнуты пуговицы. Он одевался в темноте, чтобы не будить жену. Старик указал на пустой стул. Круц перестегнул пуговицы на рубашке и сел. Стакан снова завертелся – два раза направо, два – налево. Направо, направо, налево, налево.
Он заговорил без приветствия и преамбулы. Словно они продолжали разговор, прерванный стуком в дверь.
– В последние семьдесят два часа, – сказал Старик, – были совершены две попытки покушения на жизнь израильтянина: первая в Риме, вторая в Аргентине – к несчастью, израильтянин в обоих случаях остался жив. В Риме, судя по всему, его спасло вмешательство коллеги из израильской разведки. В Аргентине дело было сложнее. В церкви города Пуэрто-Блест израильтянин и женщина, с которой он, судя по всему, путешествует, были взяты под охрану американцами.
У Круца естественно возникли вопросы. В обычных обстоятельствах он придержал бы язык и дождался бы, пока Старик скажет все до конца. Теперь же, через тридцать минут после того, как его вытащили из постели, он не выказал обычного долготерпения.
– А что израильтянин делал в Аргентине?
Лицо Старика словно застыло и рука замерла. Круц перешел границу – границу, отделявшую то, что он знал о прошлом Старика и чего он никогда не узнает. Он почувствовал, что ему стало трудно дышать под упорным взглядом Старика. Не каждый день удается довести до ярости человека, способного организовать две попытки убийства на двух континентах за семьдесят два часа.
– Вам нет нужды знать, почему израильтянин оказался в Аргентине или даже то, что он вообще там был. Что вам нужно знать – это что данное дело приняло опасный поворот. – Вращение возобновилось. – Как вы, вероятно, понимаете, американцам известно все. Кто я на самом деле, что я делал во время войны. От них этого не скрыть. Мы же были союзниками. Мы вместе вели крестовый поход против коммунистов. В прошлом я всегда рассчитывал на их осмотрительность – не из лояльности ко мне, а просто из страха перед неприятностями. У меня нет иллюзий, Манфред. Они смотрят на меня как на проститутку. Они обратились ко мне, когда были одиноки и нуждались в людях, а теперь, когда «холодная война» окончена, я превратился в женщину, о которой лучше забыть. И если они сейчас каким-то образом сотрудничают с израильтянином… – Он так и не докончил мысли. – Вам понятна моя позиция, Манфред?
Круц кивнул.
– Я полагаю, им известно насчет Петера?
– Им известно все. Они обладают властью уничтожить меня и моего сына, но лишь в том случае, если готовы вынести боль от нанесенной себе раны. Я был абсолютно уверен в том, что они никогда ничего не предпримут против меня. Теперь я уже не так в этом уверен.
– А что вы хотите от меня?
– Держите израильское и американское посольства под постоянным наблюдением. Приставьте наблюдателей ко всем известным сотрудникам разведки. Держите под контролем аэропорты и вокзалы. Проверьте также ваших информаторов в газетах. Они могут дать опасные сведения в прессу. Я не хочу, чтобы меня застигли врасплох.
Круц опустил глаза на стол и увидел свое отражение в полированной поверхности.
– А когда министр спросит меня, почему я выделил такие ресурсы на американцев и израильтян, что я ему скажу?
– Неужели я должен напоминать вам, что поставлено на карту, Манфред? Что вы скажете вашему министру – это ваше дело. Просто поступайте, как надо. Я не допущу, чтобы Петер проиграл на этих выборах. Вам это ясно?
Круц заглянул в безжалостные голубые глаза и увидел человека, одетого с головы до ног в черное. Он закрыл глаза и кивнул.
Старик поднес стакан к губам и, прежде чем глотнуть, улыбнулся. Это было так же приятно, как если бы неожиданно треснуло накрывавшее столик стекло. Он сунул руку в нагрудный карман своего блейзера, извлек оттуда бумажку и положил на столик. Круц посмотрел на нее, когда Старик повернул бумажку к нему, затем поднял на него глаза.
– Что это?
– Это номер телефона.
Круц не прикоснулся к бумажке.
– Номер телефона?
– Никогда не знаешь, как подобная ситуация может разрешиться. Возможно, придется прибегнуть к насилию. И вполне возможно, что я не буду в состоянии отдать приказ о принятии подобных мер. В этом случае, Манфред, вся ответственность возлагается на вас.
Круц взял бумажку и подержал ее двумя пальцами.
– Если я наберу этот номер, кто мне ответит?
Старик улыбнулся.
– Насилие.
31
Цюрих
Герр Кристиан Цигерли, координатор особых событий в отеле «Дольдер Гранд», был очень похож на сам отель – почтенный и помпезный, решительный и недооцененный, человек, наслаждавшийся своим положением в жизни, потому что это позволяло ему смотреть сверху вниз на остальных. Он также не любил сюрпризов. Как правило, он требовал сообщения об особых заказах и конференциях за семьдесят два часа, но когда «Предприятия Хеллера» и «Радиоприемники Систек» выразили желание в «Дольдере» провести окончание своих переговоров по слиянию, герр Цигерли согласился забыть о предупреждении за семьдесят два часа в обмен на пятнадцатипроцентную приплату. Он мог быть услужливым, когда хотел, но услужливость, как и все остальное в «Дольдере», стоила немалых денег.
Просителем была фирма «Предприятия Хеллера», поэтому Хеллер взялся за организацию встречи, – конечно, этим занимался не сам Рудольф Хеллер, а его личная помощница, шикарная итальянка по имени Елена. Герр Цигерли склонен был быстро создавать мнение о людях. Он вам скажет, что любой человек, работающий в гостиничном деле и имеющий вес, поступает точно так же. Герр Цигерли вообще не любил итальянцев, и агрессивная требовательная Елена быстро заняла высокое место в его длинном списке непопулярных клиентов. Она громко говорила по телефону, что, по мнению герра Цигерли, было преступлением, за какое выносят смертный приговор, и, казалось, считала, что, тратя крупные суммы денег своего хозяина, имеет право на особые привилегии.
Она, казалось, действительно хорошо знала отель, что было странно, поскольку герр Цигерли, похвалявшийся своей памятью, которая была у него как картотека, не мог припомнить, чтобы она когда-либо останавливалась в «Дольдере», а она была до головной боли требовательна. Она хотела, чтобы ей дали четыре соседних номера «люкс» возле террасы, выходящей на поле для гольфа, с хорошим видом на озеро. Когда Цигерли сказал, что это невозможно, – два и два номера рядом или три и один, но не все четыре, – она спросила, нельзя ли переселить клиентов, чтобы удовлетворить ее требования. Извините, сказал хозяин отеля, но в «Дольдер Гранде» не принято превращать гостей в беженцев. Тогда она согласилась на три номера «люкс» рядом и четвертый дальше по коридору.
– Делегации прибудут завтра в два часа дня, – сказала она. – Им надо будет подать легкий рабочий ленч. – За этим последовало десять минут споров по поводу того, каким должен быть «легкий рабочий ленч».
Когда меню ленча было составлено, Елена выдвинула еще одно требование. Она приедет за четыре часа до прибытия делегаций в сопровождении шефа безопасности Хеллера, чтобы проинспектировать номера. После проведения инспекции персонал гостиницы сможет зайти в них лишь в сопровождении сотрудника безопасности Хеллера. Герр Цигерли тяжело вздохнул и согласился, затем положил трубку телефона на рычаг и за закрытой и запертой дверью своего кабинета проделал ряд упражнений по глубокому дыханию, чтобы успокоить нервы.
Утро переговоров было серым и холодным. Величественные старые башенки «Дольдера» прорывали одеяло морозного тумана, а идеально заасфальтированная подъездная дорога блестела, словно полированный черный гранит. Герр Цигерли стоял на страже в вестибюле, сразу за блестящими стеклянными дверями, расставив ноги на ширину плеч, держа руки по бокам, приготовившись к сражению. «Она наверняка опоздает, – думал он. – Они всегда опаздывают. И ей потребуются еще „люксы“. И она захочет изменить меню. Это будет ужас какой-то».
Черный «мерседес» проехал по дороге и остановился у входа. Герр Цигерли бросил втихую взгляд на свои ручные часы. Было точно десять часов. Впечатляюще. Швейцар открыл заднюю дверцу, и из нее показался изящный черный сапог – от Бруно Мальи, заметил Цигерли, – за ним последовало изящное колено и бедро. Герр Цигерли, встав на цыпочки, качнулся вперед и пригладил волосы на лысине. Он видел немало хорошеньких женщин, проплывавших сквозь знаменитые двери «Дольдера Гранда», однако немногие сделали это с большей грацией или стилем, чем прелестная Елена с «Предприятий Хеллера». У нее были густые каштановые волосы, схваченные пряжкой на затылке, и кожа медового цвета. Ее карие глаза были в золотых точечках, и они словно посветлели, когда она обменялась с ним рукопожатием. Ее голос, такой громкий и требовательный по телефону, звучал сейчас мягко и волнующе, как и ее итальянский акцент. Выпустив его руку, она повернулась к своему неулыбчивому спутнику.
– Герр Цигерли, это Оскар. Оскар занимается безопасностью.
Похоже, у Оскара не было фамилии. «Да она и не нужна», – подумал Цигерли. Телосложением он напоминал борца, светловолосый, с россыпью веснушек на широких щеках. Герр Цигерли, натренированный наблюдать разных людей, увидел в Оскаре что-то знакомое. Соплеменника, если угодно. Герр Цигерли мог представить себе его два столетия назад шагающим по дороге в Черном лесу в одежде лесоруба. Как и все хорошие сотрудники безопасности, Оскар говорил глазами, и глаза его сообщили герру Цигерли, что ему не терпится приступить к работе.
– Я провожу вас в ваши номера, – сказал хозяин отеля. – Пожалуйста, следуйте за мной.
Герр Цигерли решил подняться с ними по лестнице, а не на лифте. Лестницы были одним из лучших атрибутов «Дольдера», да и Оскар, лесоруб, явно не был из тех, кто любит дожидаться лифта, когда есть лестница. Номера были на четвертом этаже. На площадке лестницы Оскар протянул руку за электронными картами-ключами.
– Мы начнем отсюда, если не возражаете. Нет нужды показывать нам внутренность номеров. Мы все бывали раньше в отелях. – Многозначительное подмигивание, дружеское похлопывание по плечу. – Только покажите нам направление. И все будет с нами в порядке.
«Уж не сомневаюсь», – подумал Цигерли. Оскар был из тех, кто внушает доверие другим мужчинам. Да и женщинам тоже, как подозревал Цигерли. И подумал, не является ли Елена – он уже мысленно называл ее моя Елена – одной из завоеваний Оскара. Он положил карточки-ключи на ладонь Оскара и указал им дорогу.
Герр Цигерли был человеком, следовавшим многим постулатам – «Если клиент спокоен, значит, он доволен» было самым любимым его изречением, – и потому он счел тишину на четвертом этаже доказательством того, что Елена и ее дружок Оскар довольны всем. Это, в свою очередь, порадовало и герра Цигерли. Теперь ему хотелось, чтобы Елена была довольна. До конца утра, занятого делами, мысли о ней не покидали его, как и запах ее духов, сохранившийся на его руке. Он обнаружил, что мечтает, чтобы какая-нибудь проблема, какая-нибудь глупая жалоба потребовала консультации с ней. Но не было ничего – лишь удовлетворенная тишина. Теперь с ней был ее Оскар. Она не нуждалась в координаторе особых событий в одном из лучших отелей Европы. Герр Цигерли снова, как всегда, слишком хорошо выполнил свою работу.
Он ничего не слышал от них и даже не видел их до двух часов дня, когда они встретились в вестибюле, создав странную группу для встречи прибывающих делегаций. Теперь во дворе вихрился снег. Цигерли считал, что дурная погода лишь делает старый отель еще приятнее – спасительным прибежищем от бури, как и сама Швейцария.
Первый лимузин остановился на подъездной дороге, и из него вышло двое пассажиров. Одним из них был сам герр Рудольф Хеллер, маленький пожилой мужчина в дорогом темном костюме и серебряном галстуке. Слегка задымленные очки указывали на то, что не все в порядке с глазами; быстрая стремительная поступь создавала впечатление, что, несмотря на преклонный возраст, это был человек, который мог позаботиться о себе. Герр Цигерли поздравил его с прибытием в «Дольдер» и пожал протянутую руку. Она была словно из камня.
Его сопровождал мрачный герр Капельманн. Он был, пожалуй, лет на двадцать пять моложе Хеллера, коротко стриженный, с сединой на висках и очень зелеными глазами. Герр Цигерли видел в «Дольдере» достаточно охранников, и герр Капельманн, безусловно, принадлежал к их числу. Спокойный, но неусыпно бдительный, тихий как церковная мышь, крепко стоящий на ногах и сильный. Изумрудные глаза были безмятежны, но находились в постоянном движении. Герр Цигерли посмотрел на Елену и увидел, что ее взгляд прикован к герру Капельманну. Возможно, он был не прав относительно Оскара. Возможно, мрачный Капельманн был счастливейшим на свете человеком.
Затем явились американцы: Брэд Кентуэлл и Шелби Сомерсет, исполнительный директор и заместитель директора «Коммуникаций Систек инкорпорейтед» из Рестона, штат Виргиния. Они выглядели искушенными и спокойными, чего Цигерли не привык видеть в американцах. Войдя в вестибюль, они не были излишне дружелюбны, но и не рявкали в свои мобильные телефоны. Кентуэлл говорил по-немецки не хуже герра Цигерли и избегал встречаться с ним взглядом. Сомерсет был более любезен. Поношенный синий блейзер и слегка смятый полосатый галстук указывали на то, что он выходец из университета Восточных штатов, на что указывала и его тягучая, присущая высшим классам манера говорить.
Герр Цигерли произнес несколько фраз приветствия и тихо отошел в сторонку. Вот это он умел особенно хорошо делать. Елена повела группу к лестнице, а он ускользнул в свой кабинет и закрыл дверь. «Внушительная группа», – подумал он. Он ожидал от этого мероприятия великих свершений. Свою роль в этом деле – сколь бы ни была она незначительна – он провел точно, спокойно и компетентно. В современном мире эти качества мало ценились, но они составляли главное достоинство крошечного королевства Цигерли. Он подозревал, что мужчины из «Предприятий Хеллера» и «Коммуникаций Систека», по всей вероятности, думали так же.
В центре Цюриха, на тихой улочке, близ того места, где тяжелые зеленые воды реки Лиммат стекают в озеро, Конрад Беккер заканчивал дела в своем частном банке, чтобы закрыть его на вечер, когда на его письменном столе мягко зазвонил телефон. Технически оставалось пять минут до закрытия, но его потянуло взять трубку. Беккер знал по опыту, что лишь клиенты с проблемами звонят так поздно. А у него и без того был достаточно трудный день. Тем не менее, будучи хорошим швейцарским банкиром, он потянулся к трубке и точно робот поднес ее к уху.
– «Беккер-унд-Пуль».
– Конрад, это Шелби Сомерсет. Как, черт побери, вы там?
Беккер с трудом проглотил слюну. Сомерсет – так звали американца из ЦРУ, по крайней мере так он называл себя: Сомерсет. Беккер очень сомневался, что это было его настоящее имя.
– Чем могу быть вам полезен, мистер Сомерсет?
– Для начала отбросьте формальности, Конрад.
– А в качестве основного блюда?
– Можете спуститься вниз на Тальштрассе и залезть на заднее сиденье серебряного «мерседеса», который ждет там.
– Зачем мне это нужно?
– Нам необходимо видеть вас.
– И куда этот «мерседес» повезет меня?
– В одно приятное местечко, уверяю вас.
– Как быть одетым?
– По-деловому. И еще, Конрад!
– Да, мистер Сомерсет?
– Не вздумайте разыгрывать неприступность. Дело стоящее. Идите вниз. Садитесь в машину. Мы следим за вами. Мы все время за вами следим.
– Как приятно, мистер Сомерсет, – сказал банкир, но на линии уже царила тишина.
Через двадцать минут герр Цигерли стоял в приемной и заметил одного из американцев – Шелби Сомерсета, лихорадочно шагавшего взад-вперед по подъездной дороге. Через минуту серебряный «мерседес» въехал на поворот и с заднего сиденья вылез маленький лысый человечек. Начищенные туфли от Балли, бронированный «дипломат». «Явно банкир», – подумал Цигерли. Он готов был поспорить на чек своего жалованья. Сомерсет одарил вновь прибывшего приветственной улыбкой и крепким хлопком по плечу. А маленький мужчина, невзирая на теплую встречу, выглядел так, точно его вели на казнь. Тем не менее, герру Цигерли показалось, что переговоры ведутся как надо. Прибыл человек с деньгами.
– Добрый день, герр Беккер. Так приятно вас видеть. Я – Хеллер. Рудольф Хеллер. А это мой коллега мистер Капельманн. Вот этот человек – наш американский партнер Брэд Кентуэлл. С мистером Сомерсетом вы явно знакомы.
Банкир несколько раз быстро поморгал, затем уставился своими хитрыми глазками на Шамрона, точно пытался вычислить, чего он стоит. Он держал свой «дипломат» на гениталиях, словно опасаясь неизбежного нападения.
– Мои коллеги и я, мы собираемся пуститься в совместное плавание. Беда в том, что мы не можем этого сделать без вашей помощи. Ведь именно для этого и существуют банкиры, верно, герр Беккер? Для помощи в великих начинаниях? Для помощи людям осуществить свои мечты и свой потенциал?
– Все зависит от того, какое это предприятие, герр Хеллер.
– Понятно, – с улыбкой произнес Шамрон. – Например, много лет назад к вам пришла группа мужчин. Немцы и австрийцы. Они тоже хотели совершить крупное начинание. Они доверили вам большую сумму денег и дали вам право превратить ее в еще бо́льшую. Вы осуществили это необыкновенно хорошо. Вы превратили эту сумму в гору денег. Я полагаю, вы помните этих джентльменов? Я полагаю также, что вам известно, откуда у них эти деньги?
Взгляд швейцарского банкира стал жестким. Он вычислил, чего стоит Шамрон.
– Вы ведь израильтянин, верно?
– Я предпочитаю считать себя гражданином мира, – ответил Шамрон. – Я живу во многих местах, говорю на языках многих стран. Моя преданность, как и мои деловые интересы, не знает национальных границ. Будучи швейцарцем, я уверен, что вы можете понять мою позицию.
– Я ее понял, – сказал Беккер, – но я ни на минуту не верю вам.
– А если бы я был из Израиля? – спросил Шамрон. – Это как-то повлияло бы на ваше решение?
– Повлияло бы.
– В какую сторону?
– Я не хочу иметь дело с израильтянами, – напрямик заявил Беккер. – Или, если уж на то пошло, с евреями.
– Мне очень жаль это слышать, герр Беккер, но каждый человек имеет право на собственное мнение, и я не стану на вас обижаться. Я никогда не позволяю политике встревать в бизнес. Мне нужна помощь, чтобы осуществить задуманное, и вы единственный человек, который может мне помочь.
Беккер вопросительно поднял брови.
– Это задуманное, герр Хеллер, какого характера?
– Все очень просто. Я хочу, чтобы вы помогли мне выкрасть одного из ваших клиентов.
– Я полагаю, герр Хеллер, что задуманное вами будет нарушением швейцарских законов о секретности банковского дела… а также нескольких других швейцарских законов.
– В таком случае, я полагаю, нам придется держать в секрете ваше участие в этом деле.
– А если я откажусь сотрудничать?
– Тогда мы будем вынуждены сообщить миру, что вы были банкиром убийц и что вы сидите на двух с половиной миллиардах долларов, награбленных в холокосте. Мы спустим на вас всех ищеек Всемирного еврейского конгресса. От вас и вашего банка останутся одни клочья, когда они покончат с вами.
Швейцарский банкир бросил умоляющий взгляд на Шелби Сомерсета.
– Мы же с вами договаривались.
– И наш уговор по-прежнему существует, – произнес длинный американец, растягивая слова, – но его границы изменились. Ваш клиент – очень опасный человек. И необходимо принять меры, чтобы нейтрализовать его. Вы нужны нам, Конрад. Помогите нам вычистить нечистоты. Давайте совершим вместе доброе дело.
Банкир побарабанил пальцами по «дипломату».
– Вы правы. Он действительно опасный человек, и помочь вам выкрасть его – это все равно что вырыть себе могилу.
– Мы же будем с вами, Конрад. Мы защитим вас.
– А что, если границы договора снова изменятся? Кто меня тогда защитит?
Тут в разговор вмешался Шамрон:
– Вы должны были получить сто миллионов долларов по рассредоточении счета. Теперь не будет никакого рассредоточения, потому что вы отдадите все деньги мне. Если вы поступите, как мы вам говорим, я позволю вам удержать половину того, что вы должны были получить. Я полагаю, вы хорошо знаете математику, герр Беккер?
– Знаю.
– Пятьдесят миллионов долларов – больше того, что вы заслуживаете, но я готов дать их вам, чтобы получить в обмен ваше сотрудничество. На пятьдесят миллионов можно купить безопасность, и сколько угодно.
– Я хочу видеть это написанным – в гарантийном письме.
Шамрон печально покачал головой, как бы говоря, что есть вещи – «и вам это должно быть известно лучше, чем кому-либо, мой дорогой приятель», – о которых не пишут.
– А что вам надо от меня? – спросил Беккер.
– Вы поможете нам проникнуть в его дом.
– Каким образом?
– Вам нужно будет срочно встретиться с ним по поводу одного аспекта его счета. Возможно, надо подписать кое-какие бумаги, кое-какие последние детали для подготовки ликвидации и рассредоточения вклада.
– А когда я окажусь в его доме?..
– Ваша работа будет закончена. После этого делами займется ваш новый помощник.
– Мой новый помощник?
Шамрон посмотрел на Габриеля.
– Наверное, настало время представить герру Беккеру его нового компаньона.
* * *
Это был человек со многими именами и личностями. Герр Цигерли знал его как Оскара, начальника охраны Хеллера. Хозяин квартиры этого человека в Париже знал его как Винсента Лаффона, писателя бретонского происхождения, рассказчика про путешествия, проводящего большую часть времени на чемоданах. В Лондоне он был известен как Клайд Бриджес, директор по европейскому маркетингу малоизвестной канадской фирмы по продаже канцелярской оргтехники. В Мадриде он был немцем с непонятными доходами и беспутной душой, часами просиживавшим в кафе и барах и путешествующим от скуки. Его настоящее имя было Узи Навот. В ивритском лексиконе израильской разведслужбы Навот значился, как katsa, секретный оперативный работник и офицер-куратор. Территорией его деятельности была Западная Европа. Имея на вооружении целый арсенал языков, грубоватый шарм и фаталистическое нахальство, Навот проник в ячейки палестинских террористов и набрал агентов в арабских посольствах по всему континенту. У него были источники почти во всех европейских службах безопасности и разведки, и он контролировал широкую сеть sayanim, добровольных помощников, набранных из местных еврейских общин. Он также всегда знал, что ему дадут лучший столик в ресторане отеля «Ритц» в Париже, потому что maitre d'hôtel был его платным информатором, равно как и начальник над горничными.
– Конрад Беккер, познакомьтесь с Оскаром Ланге.
Банкир долго сидел неподвижно, словно вдруг превратился в бронзовую статую. Затем его умные глазки передвинулись на Шамрона, и он в вопросительном жесте поднял руки.
– Что я должен с ним делать?
– Это вы нам скажете. Он очень хороший работник, наш Оскар.
– А может он выступить в роли юриста?
– При хорошей подготовке он может выступить в качестве вашей матушки.
– И как долго будет длиться эта шарада?
– Пять минут, может быть, меньше.
– Когда вы имеете дело с Людвигом Фогелем, пять минут могут показаться вечностью.
– Я слышал об этом, – сказал Шамрон.
– А как быть с Клаусом?
– С Клаусом?
– С охранником Фогеля.
Шамрон улыбнулся. С сопротивлением было покончено. Швейцарский банкир стал частью группы. Он сейчас принес присягу флагу герра Хеллера и его благородному делу.
– Он отличный профессионал, – сказал Беккер. – Я был в доме с полдесятка раз, тем не менее он всегда тщательно меня обыскивает и просит открыть «дипломат». Так что если вы хотите попытаться пронести оружие в дом…
Шамрон оборвал его:
– Никакого оружия в доме не будет.
– Это не совсем так. Сам Клаус всегда вооружен.
– Вы уверены?
– По-моему, при нем «глок». – Банкир похлопал себя по левому боку. – Он носит его вот тут. И не пытается скрыть.
– Отличная деталь, герр Беккер.
Банкир принял комплимент кивком головы: «Детали – это по моей части, герр Хеллер».
– Простите мою дерзость, герр Хеллер, но как можно кого-то похитить, если его защищает охранник и этот охранник вооружен, а нападающий – нет?
– Герр Фогель добровольно покинет свой дом.
– Добровольное похищение? – В тоне Беккера звучало недоверие. – Вот это уникально. И как можно убедить человека добровольно быть похищенным?
Шамрон скрестил на груди руки.
– Просто дайте возможность Оскару проникнуть в дом и предоставьте остальное нам.
32
Мюнхен
Это был старый многоквартирный дом в Лехеле, красивом маленьком районе Мюнхена, огражденный забором с калиткой, с главным входом из крошечного дворика. Лифт был шатким и двигался нерешительно, а чаще и вовсе не двигался, так что им пришлось просто подняться по винтовой лестнице на третий этаж. Обстановка была безликой, как в номере отеля. В спальне стояли две кровати, а кушетка в гостиной была диван-кроватью. В чулане стояли четыре раскладушки. Кладовка была набита непортящимися продуктами. В шкафах хранилась посуда на восемь персон. Окна гостиной выходили на улицу. Ставни были все время закрыты, так что казалось, будто на дворе все время вечер. У телефонных аппаратов не было звонков. Вместо этого в них вспыхивали красные огоньки, которые, мигая, указывали на входящие звонки.
Стены гостиной были увешаны картами: центр Вены, Большая Вена, Восточная Австрия, Польша. На стене, что напротив окон, висела очень большая карта Центральной Европы, на которой был указан весь путь вывоза пленника Вены до побережья Балтийского моря. Шамрон с Габриелем немного поспорили по поводу цвета, прежде чем остановиться на красном. Издали казалось, что это река крови, – да, собственно, Шамрон и хотел, чтобы так это выглядело – как река крови, текущая из рук Эриха Радека.
В квартире они разговаривали только по-немецки. Так постановил Шамрон. Радека называли Радеком и только Радеком – Шамрон не желал называть его тем именем, какое он купил у американцев. Шамрон установил и другие правила. Это была операция Габриеля, и, следовательно, Габриелю ее срежиссировать. И это Габриель с берлинским акцентом своей матери давал указания командам, Габриель проверял отчеты о слежке из Вены, и Габриель принимал все окончательные решения по операции.
Первые два-три дня Шамрон с трудом приспосабливался к своей вспомогательной роли, но по мере того, как его уверенность в Габриеле росла, он понял, что легче отодвинуться на задний план. Тем не менее каждый агент, проходивший через конспиративную квартиру, отмечал мрачность Шамрона. Казалось, он никогда не спал. Он стоял часами перед картами или сидел за кухонным столом в темноте, куря одну папиросу за другой, как человек, борющийся с нечистой совестью. «Он точно смертельно больной пациент, планирующий собственные похороны», – заметил Одед, агент-ветеран, говоривший по-немецки, которого Габриель назначил шофером на машине, которая повезет пленника. «Это последний удар Memuneh, и если он отправится в ад, то на его надгробии, как раз под звездой Давида, вырежут именно это».
В идеальных условиях подобная операция потребовала бы многих недель планирования. У Габриеля же были всего лишь дни. Операция «Гнев Господень» хорошо его подготовила. Террористы «Черного Сентября» не сидели на месте – они появлялись и исчезали с раздражающей частотой. Поэтому, когда кого-нибудь из них обнаруживали и действительно идентифицировали, ударная команда включалась и действовала с молниеносной быстротой. Расставлялись наблюдатели, арендовались машины и конспиративные квартиры, намечались пути ухода. Этот опыт и знание хорошо служили Габриелю в Мюнхене. Немногие разведчики умели быстрее и лучше планировать и наносить молниеносные удары, чем он и Шамрон.
По вечерам они смотрели новости по германскому телевидению. Выборы в соседней Австрии завладели вниманием немецких телезрителей. Метцлер неуклонно продвигался вперед. Толпы на встречах с ним, как и цифры опроса населения, росли с каждым днем. Австрия, казалось, была на грани безрассудства – избрать канцлером человека крайне правых взглядов. В конспиративной квартире в Мюнхене Габриель и его команда оказались в нелепом положении – они приветствовали укрепление популярности Метцлера, так как без Метцлера их дверь к Радеку была бы закрыта.
Лев неизменно звонил с бульвара Царя Саула вскоре после новостей и подвергал Габриеля унылому перекрестному допросу по поводу того, что произошло за день. Это было единственное время, когда Шамрон сбрасывал с себя бремя командования операцией. От самой мысли, что придется выдержать получасовую беседу со Львом, у него начинало стучать в висках. А Габриель мерил шагами комнату, прижав телефон к уху, и терпеливо отвечал на все вопросы Льва. И иногда – при соответствующем освещении – Шамрон видел, как рядом с Габриелем шагала его мать. Она была единственным членом команды, о ком никто никогда не упоминал.
Раз в день, обычно ближе к вечеру, Габриель и Шамрон выходили из конспиративной квартиры прогуляться по Английским садам. Тень Эйхманна висела над ними. Габриель считал, что она была с ними с самого начала. Она появилась в тот вечер в Вене, когда Макс Клайн рассказал Габриелю про офицера СС, убившего десяток заключенных в Биркенау, а теперь каждый день наслаждавшегося хорошим кофе в кафе «Централь». Однако Шамрон до сих пор упорно избегал называть даже его имя.
Габриель прежде много раз слышал, как поймали Эйхманна. Собственно, Шамрон использовал эту историю в сентябре 1972 года, чтобы убедить Габриеля присоединиться к операции «Гнев Господень». Теперь же Шамрон во время этих прогулок по тенистым дорожкам Английских садов рассказал Габриелю более детальную версию, чем все, что тот слышал прежде. Габриель понимал, что это не просто болтовня старика, пытающегося вновь пережить былую славу. Шамрон был не из тех, кто жил прошлым или похвалялся своими победами. Издатели тщетно будут ждать его мемуары. Габриель понимал, что Шамрон по определенной причине рассказывает ему об Эйхманне. «Я осуществил то, что ты собираешься предпринять, – говорил ему Шамрон. – В другое время, в другом месте, с другим человеком, но есть вещи, которые тебе надо знать». Габриель порой не мог избавиться от ощущения, что он шагает рядом с историей.
– Самым трудным было ожидание самолета, который увезет нас. Мы были заперты в конспиративном доме с этой крысой. Некоторые члены моей команды не могли даже смотреть на него. И мне пришлось сидеть в его комнате ночь за ночью и стеречь его. Он был прикован к железной кровати, лежал в пижаме и в темных очках. Нам было строго запрещено разговаривать с ним. Только человеку, проводившему допрос, разрешено было говорить с ним. Но я не мог придерживаться этих указаний. Понимаешь, я хотел знать. Как мог этот человек, которому от вида крови становилось плохо, убить шесть миллионов моего народа? Мою мать и отца? Моих двух сестер? И я спросил его, почему он это делал. И знаешь, что он мне сказал? Он сказал мне, что такова была его работа – его работа, Габриель, – точно он был банковским клерком или железнодорожным кондуктором.
И позже, стоя у балюстрады горбатого моста, переброшенного через поток:
– Только однажды, Габриель, мне хотелось убить его – когда он стал говорить мне, что не питал ненависти к еврейскому народу, что на самом деле ему нравился еврейский народ и он восхищался им. И чтобы показать, как он любил евреев, Эйхманн начал произносить наши слова: «Shema», «Yisrael», «Adonai Eloheinu», «Adonai Achad»! Мне невыносимо было слышать эти слова, вылетавшие из его рта, – рта, который отдавал приказы убить шесть миллионов. Я рукой зажал ему рот, пока он не умолк. Его стало трясти, и у него начались конвульсии. Я подумал, что довел его до инфаркта. Он спросил меня, собираюсь ли я его убить. Умолял не причинять вреда его сыну. Этот человек, который вырывал детей из рук родителей и бросал в огонь, заботился о собственном ребенке, точно мы могли действовать как он, точно мы стали бы убивать детей.
И за исцарапанным деревянным столом в пустынной пивной:
– Мы хотели, чтобы он согласился добровольно вернуться с нами в Израиль. Он, конечно, не желал туда ехать. Он хотел, чтобы его судили в Аргентине или в Германии. Я сказал ему, что это невозможно. Так или иначе, он предстанет перед судом в Израиле. Рискуя карьерой, я разрешил ему выпить немного красного вина и выкурить сигарету. Я не стал пить с убийцей. Я не мог. Я заверил его, что ему будет дана возможность рассказать все, как он считает нужным, что он будет предан настоящему суду с настоящей защитой. Он не питал иллюзий относительно исхода, но возможность объяснить свое поведение миру в какой-то мере привлекала его. Я отметил также то, что он по крайней мере будет знать о грозящей ему смерти, в чем он отказывал миллионам, шагавшим в раздевалки и газовые камеры под звуки музыки, исполняемой Максом Клайном. Он подписал свои показания, поставил на них дату, как добрый германский бюрократ, и дело было сделано.
Габриель внимательно слушал, подняв воротник пальто, засунув руки в карманы. А Шамрон от Адольфа Эйхманна перешел к Эриху Радеку.
– У тебя есть преимущество, так как ты однажды уже видел его лицом к лицу в кафе «Централь». Я же видел Эйхманна лишь издали, когда мы следили за его домом и планировали захват, но я никогда не разговаривал с ним и даже не стоял рядом. Я знал в точности, какого он роста, но не мог себе представить, как это произойдет. Я представлял себе звук его голоса, но в действительности не знал его. А ты знаешь Радека, но, к сожалению, и он немного знает про тебя благодаря Манфреду Круцу. А хотелось бы ему знать больше. И он будет чувствовать себя незащищенным и уязвимым. Он попытается уравнять позиции игроков, задавая тебе вопросы. Захочет знать, почему ты преследуешь его. Ни при каких обстоятельствах не вступай с ним в разговор. Помни: Эрих Радек был не охранником в лагере и не механиком в газовых камерах. Он был СД, человек, умело проводивший допросы. И он попытается использовать это свое умение в последний раз, чтобы избежать своей участи. Не играй ему на руку. Теперь все возложено на тебя. Он попытается найти способ, как все перевернуть.
Габриель опустил глаза, словно читал услышанное, выбитое на столе.
– Так почему Эйхманн и Радек заслуживают судебных процессов, – произнес наконец он, – а палестинцы из «Черного Сентября» – всего лишь мести?
– Из тебя вышел бы хороший ученый-талмудист, Габриель.
– А вы увиливаете от ответа на мой вопрос.
– Конечно, в нашем решении преследовать террористов «Черного Сентября» была в известной мере чистая месть, но было в этом нечто большее. Они представляли для нас постоянную угрозу. И если бы мы не убили их, они убили бы нас. Это была война.
– Почему было не арестовать их, не предать суду?
– Чтобы они могли изливать свою пропаганду на израильском суде? – Шамрон медленно покачал головой. – Они этим уже занимались… – он поднял руку и указал на башню над Олимпийским парком, – прямо тут, в этом городе, перед всеми камерами мира. И мы не собирались давать им новую возможность оправдать убийство невинных людей.
Он опустил руку и пригнулся к столу. Вот тут он и сообщил Габриелю о пожеланиях премьер-министра. Дыхание морозным туманом вырывалось из его рта, когда он говорил.
– Я вовсе не хочу убивать старика, – сказал Габриель.
– Он не старик. Он носит одежду старого человека и прячется за лицом старика, но он по-прежнему Эрих Радек, чудовище, которое убило десять человек в Аушвице только потому, что они не смогли назвать сонату Брамса. Чудовище, которое убило двух девочек у польской дороги, потому что они не стали отрицать того, что в Биркенау творятся жестокости. Чудовище, которое вскрыло могилы миллионов и подвергло их трупы последнему унижению. Старость не дает прощения подобным грехам.
Габриель поднял глаза и встретился взглядом с Шамроном.
– Я знаю, что он чудовище. Я только не хочу убивать его. Я никого не хочу убивать.
– В таком случае будь готов сразиться с ним. – Шамрон взглянул на свои ручные часы. – Я приведу кое-кого, кто поможет тебе подготовиться. Собственно, он скоро должен появиться.
– Почему вы говорите мне об этом только сейчас? Я считал, что это я принимаю все оперативные решения.
– Так оно и есть, – сказал Шамрон. – Но порой мне надо показать тебе путь. Старики для этого и существуют.
Ни Габриель, ни Шамрон не верили в предвестия или дурные приметы. Если бы они верили, то операция, которая привела Мордехая Ривлина из «Яд Вашема» на конспиративную квартиру в Мюнхене, заставила бы их усомниться в способности команды выполнить стоявшую перед ними задачу.
Шамрон хотел иметь Ривлина в команде и втихую довел это до его сведения. К несчастью, на бульваре Царя Саула сделать это поручили паре недоучек, только что вышедших из академии, оба были явно семитской внешности. Они решили переговорить с Ривлином, когда он шел из «Яд Вашема» на свою квартиру близ рынка Иегуды. Ривлин, выросший в Бруклине, в районе Бенсонхерст, шагая по улицам, никогда не терял бдительности. Поэтому он быстро заметил, что за ним следуют двое в автомобиле. Он решил, что это смертники из Хамаса или пара уличных преступников. Когда машина остановилась рядом с ним и один из пассажиров сказал, что хочет с ним поговорить, Ривлин бросился бежать. Ко всеобщему удивлению, нескладный хромой архивариус оказался нелегкой для поимки дичью и в течение нескольких минут убегал от своих преследователей, пока два агента Конторы не загнали его наконец в угол на улице Бена Иегуда.
Он прибыл на конспиративную квартиру в Лехеле поздно вечером с двумя чемоданами, набитыми исследованиями и жалобой на то, как ему было передано приглашение приехать.
– Да как же вы думаете заграбастать человека вроде Эриха Радека, если вы не можете схватить одного толстого архивариуса? Послушайте, – сказал он, уволакивая Габриеля в заднюю спальню. – Ведь нам придется проделать большую работу, а времени совсем немного.
На седьмой день в Мюнхен прибыл Эдриан Картер. Это была среда; он прибыл на конспиративную квартиру к вечеру, когда начинало темнеть. На паспорте, что лежал в кармане его пальто от Бэрберри, все еще значилось: Брэд Кентуэлл. Габриель с Шамроном только что вернулись после прогулки по Английским садам и были еще в шляпах и шарфах. Габриель отослал остальных членов команды на их позиции в спектакле, так что в конспиративной квартире не было никого из персонала Конторы. Оставался лишь недавно прибывший Мордехай Ривлин. Он встретил заместителя директора ЦРУ в рубашке навыпуск и без ботинок и назвался Яковом. Архивариус хорошо приспособился к дисциплине операции.
Габриель заварил чай. Картер, расстегнув пальто, озабоченно совершил обход квартиры. Он долго простоял перед картами. Картер верил в карты. Карты никогда вам не солгут. Карты никогда вам не скажут того, что вы хотели бы услышать.
– Мне нравится, как вы оборудовали это место, герр Хеллер. – Наконец-то Картер снял пальто. – Неосовременный беспорядок. И запах. Я уверен, что знаю его. Прибыл из «Вайнервальде», что, если не ошибаюсь, немного дальше в этом квартале.
Габриель протянул ему кружку с чаем, через край которой свешивалась ниточка от пакетика.
– Почему вы сюда прибыли, Эдриан?
– Я подумал, что надо заскочить – а вдруг я смогу чем-то помочь.
– Ерунда.
Картер смахнул что-то с дивана и тяжело опустился на него – этакий торговец по окончании долгой и бесполезной поездки.
– По правде говоря, я приехал по просьбе моего директора. Похоже, у моего директора начались серьезные предоперативные судороги. Он считает, что мы выступаем вместе и в ваших руках, ребята, пульт. Он хочет, чтобы Управление участвовало в спектакле.
– Как именно?
– Он хочет знать план игры.
– Вам известен план игры, Эдриан. Я рассказал вам весь план в Виргинии. Ничего не изменилось.
– Я знаю основные моменты плана, – сказал Картер. – А теперь я хотел бы видеть петит.
– По вашим словам выходит, что ваш директор хочет пересмотреть план и списать его.
– Нечто вроде этого. Он хочет также, чтобы мы с Ари стояли в стороне, когда план рухнет.
– А если мы пошлем его к черту?
– Тогда я скажу: пятьдесят на пятьдесят, что кто-нибудь шепотком предупредит Эриха Радека и вы его потеряете. Играйте в одной команде с директором, Габриель. Только так вы сможете заполучить Радека.
– Мы готовы действовать, Эдриан. Сейчас не время помогать советами с седьмого этажа.
Шамрон сел рядом с Картером.
– Если у вашего директора есть хоть одна унция мозгов, он как можно дальше держался бы от всего этого.
– Я пытался объяснить ему это – не такими словами, учтите, но более-менее близкими. Он и слышать не хочет. Он ведь прибыл к нам с Уолл-стрит, наш директор. Он любит считать, что все может заграбастать своими руками и всем командовать. Всегда знал, чем у него занимался каждый отдел. И старается так же править в Управлении. А кроме того, как вам известно, он еще и друг президента. Если вы станете ему перечить, он позвонит в Белый дом, и тогда всему конец.
Габриель взглянул на Шамрона – тот стиснул зубы и кивнул. И Картер получил полный отчет. Шамрон несколько минут продолжал сидеть, но вскоре поднялся и зашагал по комнате – этакий шеф-повар, чьи секретные рецепты передают конкуренту с соседней улицы. Когда изложение было закончено, Картер долго набивал чубук трубки табаком.
– Мне кажется, что вы, джентльмены, готовы, – сказал он. – Чего же вы ждете? Будь я на вашем месте, я бы начал действовать, прежде чем наш директор Длинные руки решит, что он хочет стать частью команды захвата.
Габриель согласился. Он снял телефонную трубку и набрал номер Узи Навота в Цюрихе.
33
Вена – Мюнхен
Клаус Хальдер тихонько постучал в дверь кабинета. Голос по другую сторону двери разрешил ему войти. Он открыл дверь и увидел, что Старик сидит в полутьме, устремив взгляд на мерцающий экран телевизора, а там – собрание в поддержку Метцлера, проходившее в тот день в Граце, обожающие толпы, разговор уже о составе кабинета Метцлера. Старик выключил картинку с помощью пульта и обратил свои голубые глаза на охранника. Хальдер взглянул на телефон. Там мерцал зеленый огонек.
– Кто это?
– Герр Беккер звонит из Цюриха.
Старик снял трубку.
– Добрый вечер, Конрад.
– Добрый вечер, герр Фогель. Извините, что тревожу вас так поздно, но, боюсь, дело не ждет.
– Что-то случилось?
– О нет, как раз наоборот. Учитывая последнее известие о предстоящих выборах в Вене, я решил ускорить подготовку и повести дело так, словно победа Петера Метцлера – это fait accompli.[27]
– Очень разумно, Конрад.
– Я так и думал, что вы согласитесь. У меня здесь несколько документов, требующих вашей подписи. Я подумал, что лучше всего начать нам этот процесс теперь, а не ждать до последнего момента.
– Какого рода документы?
– Мой адвокат сможет объяснить их лучше, чем я. Если вы не возражаете, я хотел бы приехать в Вену для встречи. Это займет у нас не более нескольких минут.
– Как насчет пятницы?
– Пятница вполне подходит, только это будет в конце дня. У меня утром встреча, которую я не могу перенести.
– Скажем, в четыре часа?
– Лучше будет в пять, герр Фогель.
– Хорошо, в пятницу, в пять часов.
– Я буду у вас.
– Конрад?
– Да, герр Фогель.
– Этот адвокат… скажите мне, пожалуйста, как его зовут.
– Оскар Ланге, герр Фогель. Это очень талантливый человек. Я многократно пользовался его услугами в прошлом.
– Я полагаю, он понимает значение слова «дискретность»?
– Дискретность – не то слово, которое может его описать. Вы будете в руках очень способного человека.
– До свидания, Конрад.
Старик повесил трубку и посмотрел на Хальдера.
– Он кого-то привозит с собой?
Медленный кивок.
– В прошлом он всегда приезжал один. Почему он вдруг вздумал привозить помощника?
– Герр Беккер вот-вот получит сто миллионов долларов, Клаус. Если на свете есть человек, которому он может доверять, то это гном из Цюриха.
Охранник направился к двери.
– Клаус?
– Да, герр Фогель?
– Возможно, ты прав. Позвони-ка нашим друзьям в Цюрихе, проверь, слышал ли кто-нибудь из них об адвокате по имени Оскар Ланге.
Часом позже запись разговора с телефона Беккера пошла по надежной трансмиссии из конторы «Беккер-унд-Пуль» в Цюрихе на конспиративную квартиру в Мюнхене. Они прослушали запись один раз, затем снова, затем в третий раз. Эдриану Картеру она не понравилась.
– Вы понимаете, что Радек, положив телефонную трубку на рычаг, тотчас снова снял ее и позвонил в Цюрих, проверяя Оскара Ланге. Надеюсь, вы это учли.
Шамрона, казалось, разочаровал Картер.
– Вы что, думаете, Эдриан, мы никогда прежде не делали ничего подобного? Мы – малые дети, которым надо все подсказывать?
Картер поднес спичку к трубке и выдохнул дым в ожидании отклика на свои слова.
– Вы когда-нибудь слышали такое слово sayan? – спросил Шамрон. – Или sayanim?
Картер кивнул, не вынимая трубки изо рта.
– Ваши маленькие волонтеры-помощники, – сказал он. – Клерки в отелях, которые дают вам номера без регистрации. Агенты по аренде машин, которые дают вам машины без записи. Доктора, которые лечат ваших агентов, когда они бывают ранены и это может вызвать трудные вопросы. Банкиры, которые дают вам срочные кредиты.
Шамрон кивнул.
– Мы – маленькая разведслужба: всего тысяча двести сотрудников. Мы никогда не могли бы делать то, что мы делаем, без помощи sayanim. Они – одна из положительных черт диаспоры, это моя личная армия маленьких волонтеров-помощников.
– А Оскар Ланге?
– Он цюрихский адвокат по налогам и недвижимости. Он также втихую еврей. И не рекламирует этого в Цюрихе. Года два-три назад я пригласил Оскара поужинать в маленький, тихий ресторанчик на озере и прибавил его к моему списку помощников. На прошлой неделе я попросил его об услуге. Я хотел одолжить его паспорт и его кабинет и попросил его исчезнуть на пару недель. Когда я сказал ему, зачем мне это нужно, он охотно согласился помочь. Он даже хотел сам поехать в Вену и помочь захватить Радека.
– Надеюсь, он в надежном месте?
– Можно так сказать, Эдриан. Он в этот момент находится на конспиративной квартире в Иерусалиме.
Шамрон протянул руку к плейеру, нажал на «Перемотку», затем на «Стоп», затем на «Пуск».
«Как насчет пятницы?»
«Пятница вполне подходит, только это будет в конце дня. У меня утром встреча, которую я не могу перенести».
«Скажем, в четыре часа?»
«Лучше будет в пять, герр Фогель».
«Хорошо, в пятницу, в пять часов».
Стоп.
* * *
Мордехай Ривлин на другое утро выехал из конспиративной квартиры и вернулся в Израиль рейсом компании «Эль-Аль» с «няней» из Конторы, сидевшим рядом с ним. Габриель оставался на месте до четверга, когда в семь часов вечера фургон «фольксваген» с двумя парами лыж на крыше остановился перед квартирой и водитель дважды нажал на клаксон. Габриель сунул свою «беретту» за пояс брюк. Картер пожелал ему удачи; Шамрон поцеловал его в щеку и отправил в путь.
Шамрон раздвинул занавеси и выглянул на темную улицу. Габриель появился из прохода и подошел к окошку водителя. После минуты переговоров дверца открылась и появилась хорошенькая женщина. Кьяра. Она обошла фургон спереди и ненадолго появилась в свете фар, прежде чем залезть на сиденье для пассажира.
Фургон отъехал от тротуара. Шамрон проследил за ним взглядом, пока малиновые хвостовые огни не исчезли за углом. Он не сдвинулся с места. Ожидание. Вечное ожидание. Внезапно он увидел в окне мужчину, прикованного к кровати, с темными очками на глазах, хотя вместо Эйхманна это был Габриель. Картер протянул Шамрону чашку с чаем. Шамрон щелкнул зажигалкой – облачко дыма затуманило стекло.
34
Цюрих
В пятницу, ровно в четыре минуты второго, Конрад Беккер и Узи Навот вышли из конторы компании «Беккер-унд-Пуль». Наблюдатель Конторы позвонил Залману, сидевшему на противоположной стороне Тальштрассе в сером «фиате», сообщил время, а также погоду – дождь лил как из ведра – и передал все это Шамрону в Мюнхен, на конспиративную квартиру. Беккер был одет как для похорон: в сером полосатом костюме и черном галстуке. А Навот, подражая Оскару Ланге в его манере одеваться, был в блейзере от Армани и соответствующей ярко-голубой рубашке и галстуке. Беккер вызвал такси, чтобы ехать в аэропорт. Шамрон предпочел бы частную машину с водителем из Конторы, но Беккер всегда ездил в аэропорт на такси, и Габриель хотел, чтобы его привычки не нарушались. Так что это было обычное городское такси с иммигрантом-турком за рулем, которое и вывезло их из центра Цюриха и провезло по затянутой туманом приречной долине в аэропорт «Клотен», а наблюдатель Шамрона следовал за ними.
Вскоре они столкнулись с первой накладкой. Над Цюрихом появился холодный фронт, превратив дождь в крупу и ледышки и вынудив начальство в аэропорту «Клотен» временно прекратить полеты. Рейс 1578 швейцарских международных воздушных сообщений, направлявшийся в Вену, был вовремя загружен, затем застыл неподвижно на бетонированной полосе. Шамрон и Эдриан Картер, следившие за ситуацией по компьютерам в мюнхенской конспиративной квартире, стали обсуждать, что делать. Надо ли сказать Беккеру, чтобы он позвонил Радеку и предупредил об отсрочке? Что, если у Радека есть другие планы и он решит отменить встречу и перенесет ее на другое время? Команды и машины находились на старте, готовые двинуться в путь. Временная задержка может поставить под угрозу безопасность операции. Ждем, посоветовал Шамрон, и они стали ждать.
К 2.30 погода улучшилась. «Клотен» снова открыли, и рейс 1578 занял свое место в веренице самолетов в конце взлетно-посадочной полосы. Шамрон сделал подсчеты. Лететь до Вены меньше девяноста минут. Если они вскоре взлетят, то все равно вовремя будут в Вене. В 2.45 самолет взлетел, и сложная ситуация рассосалась. Шамрон передал команде приема в венском аэропорту «Швехат», что пакет находится в пути.
Из-за бури над Альпами полет в Вену оказался куда более тряским, чем хотелось бы Беккеру. Стремясь успокоить нервы, он выпил три бутылочки «Столичной» и дважды ходил в туалет – все это было отмечено Залманом, сидевшим на три ряда позади него. А Навот, олицетворение сосредоточенности и спокойствия, смотрел из окошка на черные тучи и не притрагивался к своей минеральной воде.
Они приземлились в «Швехате» через несколько минут после четырех, в грязно-серых сумерках. Залман тенью следовал за ними по аэропорту в направлении таможни. Беккер еще раз сходил в туалет. И Навот еле заметным движением глаз велел Залману последовать за ним. Воспользовавшись уборной, банкир целых три минуты провертелся перед зеркалом – слишком уж долго, подумал Залман, для человека, у которого почти нет волос. Наблюдатель подумал даже пнуть Беккера в щиколотку, чтобы он сдвинулся с места, потом решил: пусть делает как знает. В конце-то концов, он ведь всего лишь любитель, действующий под принуждением.
Пройдя паспортный контроль, Беккер и Навот направились в зал прилета. Там, среди толпы, возвышался специалист по наблюдению по имени Мордехай. Он был в мятом черном костюме и держал картонку с надписью «Баер». Его машина, большой черный «мерседес», стояла на краткосрочной стоянке. В двух шагах от нее находилась серебряная «ауди» с открывающейся вверх задней дверцей. Ключи были в кармане у Залмана.
Залман избегал их по пути в Вену. Он позвонил на мюнхенскую конспиративную квартиру и в нескольких тщательно подобранных словах дал знать Шамрону, что Навот и Беккер прибыли вовремя и направляются к цели.
К 4.45 Мордехай достиг центра города. В 4.50 он пересек границу Пятого округа и стал пробираться сквозь поток транспорта часа пик по Виднер-Хауптштрассе. Через несколько быстрых поворотов в узких боковых улочках он добрался до выезда на Штёббергассе. Залман подвел машину к тротуару и стал наблюдать, как «мерседес» проехал последние несколько метров и остановился у нарядных чугунных ворот Эриха Радека.
– Помигайте фарами, и охранник впустит вас.
Беккер дал команду, и Мордехай сделал, как было велено. В течение нескольких напряженных секунд ворота оставались неподвижны, потом раздалось резкое металлическое лязганье и со скрежетом включился мотор. Ворота медленно открылись, и у входной двери появился охранник Радека – яркий свет люстры создал ореол вокруг его головы и плеч. Мордехай, не желая показать излишнюю нервозность, дождался, пока ворота полностью не открылись, и лишь тогда въехал на маленькую закругленную подъездную дорогу.
Первым из машины вылез Навот, затем Беккер. Банкир пожал охраннику руку и представил своего спутника:
– Мой помощник из Цюриха, герр Оскар Ланге.
Охранник кивнул и жестом предложил им войти. Дверь за ними закрылась.
Мордехай взглянул на свои часы: 4.58. Он взял свой мобильник и набрал номер в Вене.
– Я опоздаю к обеду, – сказал он.
– Все в порядке?
– Да, – сказал он. – Все отлично.
Через несколько секунд на экране компьютера Шамрона вспыхнул сигнал, что Беккер и Навот вошли внутрь дома № 22 на Штёббергассе. Шамрон взглянул на свои часы.
– Сколько времени вы им дадите? – спросил Картер.
– Пять минут, – сказал Шамрон, – и ни секундой больше.
Черная «ауди» с высокой антенной на корпусе была припаркована на расстоянии двух-трех улиц от Штёббергассе, на краю маленькой зеленой площади. Залман припарковался позади нее. Он вылез из машины и как можно небрежней подошел к дверце «ауди» со стороны пассажирского сиденья. Водитель перегнулся и открыл ему дверцу. Звали его Одед – это был плотный мужчина с мягкими карими глазами и сплющенным носом борца. Пара больших умелых рук спокойно лежала на руле. Залман слышал, как он размеренно дышит, словно доктор выслушивает его легкие стетоскопом. Старается успокоиться. Залман был в более выгодном положении: ему удалось днем немного пошевелиться. Одед же сидел на конспиративной квартире в Вене и лишь раздумывал о том, какие могут быть последствия от провала. Не спуская рук с руля, он повернул запястье и посмотрел на светящийся циферблат своих часов. На сиденье рядом с ним лежал мобильник с открытой связью на Мюнхен. Оба молчали и ждали, когда раздастся голос Шамрона и прикажет им вступить в битву.
Шоссе Е-461 ведет на север из Вены. Всего в двадцати пяти милях от нее проходит граница Чешской республики. Там есть переход, обычно обслуживаемый двумя пограничниками, которые не очень стремятся покидать свой пост, чтобы хотя бы мимолетно осмотреть проезжающие машины. Транспорт из Австрии обычно принимают с распростертыми объятиями.
В нескольких милях, на территории Чешской республики, австрийская равнина наталкивается на горы Южной Моравии. В этих горах разместился древний город Микулов, пограничный городок, в котором царит приграничная атмосфера. Это соответствовало и настроению Габриеля. Он стоял у средневекового стального парапета, окружающего старый город, под холодным дождем, который, точно слезы, стекал по его непромокаемой куртке. Он смотрел по склону вниз, в направлении границы. В темноте виден был лишь свет фар машин, двигавшихся по шоссе, – белые огни в его направлении, красные огни, убегающие к границе Австрии.
Где-то там, как раз по другую сторону границы, на краю леса, близ деревни Пойсдорф стоит фургон «фольксваген» и за рулем его – Кьяра. Последнее звено в цепи. То звено, что отдаст Эриха Радека в руки Габриеля.
Он взглянул на свои часы: 5.01 дня. Они теперь уже в вилле Радека. Габриель представил себе, как открывают «дипломаты», разливают кофе и вино. А потом перед его взором возникла другая картина – череда женщин в сером, пробирающихся по заснеженной дороге, пропитанной кровью. И его мать, по щекам которой катятся ледяные слезы.
«Что ты расскажешь своему ребенку про войну, еврейка?»
«Правду, герр штурмбаннфюрер. Я расскажу моему ребенку правду».
«Никто не поверит тебе».
Она, конечно, не рассказала ему правды. Вместо этого она изложила правду на бумаге и заперла эту бумагу в архивах «Яд Вашема». Возможно, «Яд Вашем» – наилучшее для этого место. Возможно, есть такая жуткая правда, что лучше оставить ее в архиве ужасов, закрытом для не прошедших вакцинацию. Мама была не в состоянии рассказать ему, что была жертвой Радека, как и Габриель никогда не мог сказать ей, что он – палач, работающий на Шамрона. Хотя она всегда это знала. Она знала, как выглядит лицо смерти, и она видела смерть в глазах Габриеля.
Телефон в кармане его куртки тихо завибрировал у бедра. Он медленно поднес аппарат к уху и услышал голос Шамрона, сообщивший ему, что игра началась. Габриель опустил телефон в карман и постоял с минуту, глядя на фары, плывшие к нему по черной австрийской долине.
– Что ты скажешь ему, когда увидишь его? – спросила ранее Габриеля Кьяра.
«Правду, – подумал сейчас Габриель. – Я скажу ему правду».
И он зашагал вниз по узким, выложенным камнем улицам древнего города в темноту.
35
Вена
Узи Навот кое-что понимал в обысках. Тот, что провел Клаус Хальдер, был тщательным и высокопрофессиональным. Их заставили вывернуть карманы, проверили все конечности и расчленили хорошо отрегулированный магнитометр. Последним объектом интереса были «дипломаты». Папки были открыты, все страницы перелистаны, с ручек сняты колпачки и обследованы. Проведя досмотр, Хальдер щелкнул замками и вручил каждый «дипломат» своему владельцу.
– Герр Фогель ждет вас в гостиной, – сообщил охранник. – Пожалуйста, следуйте за мной.
Они вошли в гостиную через двойные двери цвета топленых сливок. Охранник отступил в сторону, и показался Радек, который сидел у огня в пиджаке «в елочку» и галстуке ржавого цвета. Он приветствовал гостей наклоном узкой головы, но даже не попытался встать. Навот понял, что этот человек привык принимать гостей сидя.
Беккер приблизился к нему вместе с Навотом, шедшим у его плеча. Охранник взял каждую створку двери в руку и сдвинул их, словно камергер, закрывающий хозяина на ночь в Спальне.
Беккер пожал Радеку руку. Навот читал досье Радека и свидетельство матери Габриеля Аллона. Он не хотел пожимать руку убийце, но выбора не было. Несмотря на возраст, рукопожатие у Радека было твердым и руки не дрожали. Его голубые глаза все время сверлили Навота. Рукопожатие было проверочным. Навоту показалось, что он прошел испытание.
Радек движением пальцев указал на пустые кресла, затем рука его вернулась к напитку, стоявшему на ручке его кресла, и он начал вертеть стакан туда-сюда – два поворота направо, два налево.
– Я слышал очень хорошие отзывы о вашей работе, герр Ланге, – неожиданно произнес он.
– Это все вранье, уверяю вас, герр Фогель.
– Вы слишком скромны. – И он крутанул стакан. – Вы выполнили кое-какую работу для одного моего знакомого несколько лет назад – джентльмена по имени Хельмут Шнайдер.
«И вы пытаетесь расставить мне западню», – подумал Навот. Он подготовился к подобному. Настоящий Оскар Ланге дал ему список своих клиентов за последние десять лет, и Навот запомнил его. Имя Хельмута Шнайдера там не фигурировало.
– У меня было много хороших клиентов за последние несколько лет, но, боюсь, фамилии Шнайдер нет среди них. Возможно, ваш знакомый спутал меня с кем-то.
Навот опустил глаза, щелкнул замками своего «дипломата» и поднял крышку. Когда он снова взглянул на Радека, его голубые глаза были устремлены на Навота, и он крутил напиток на ручке кресла. В глазах Радека была пугающая неподвижность. Такое было впечатление, будто охотник изучает дичь.
– Возможно, вы правы. – Примирительный тон Радека никак не соответствовал выражению его лица. – Он сказал, что вам нужна моя подпись под некоторыми документами, связанными с ликвидацией счета.
– Да, это так.
Навот достал из своего «дипломата» папку и поставил «дипломат» на пол у своих ног. Радек проследил за передвижением «дипломата», затем взгляд его снова обратился к лицу Навота. Навот поднял обложку папки и посмотрел на Радека. Он открыл было рот, чтобы сказать что-то, но тут на антикварном письменном столе в нескольких шагах от них зазвонил телефон. Это был резкий электронный звук, и чувствительным ушам Навота показался вскриком на кладбище. А Радек, казалось, не слышал звонка. Его глаза были выжидающе устремлены на лицо Навота. Телефон снова зазвонил. Зазвучал третий звонок, но был заглушен на половине вскрика, и послышался баритон Клауса, охранника, эхом отдавшийся среди стен.
Навот достал из папки первый документ и пригнулся в кресле, чтобы показать его Радеку. Австриец был теперь явно чем-то отвлечен, взгляд его уже не был таким пристальным. Он слушал своего охранника, говорившего ему что-то из соседней комнаты.
– Вот это первый документ, герр Фогель, – сказал Навот, но Радек поднял указательный палец руки, державшей напиток, и Навот умолк.
В коридоре послышались шаги, затем звук открываемых дверей. Охранник вошел в комнату и подошел к Радеку.
– Это Манфред Круц, – произнес он шепотом, словно в церкви. – Он хочет сказать вам несколько слов. Говорит, это срочно и не может ждать.
Эрих Радек медленно поднялся с кресла и подошел к телефону.
– Вы застали меня в середине важной встречи, Манфред.
– Я понимаю, но дело не ждет.
– А что такое?
– Израильтяне.
– А что с ними?
– У меня есть данные разведки, которые говорят о том, что в последние несколько дней в Вене собралась большая группа израильских оперативников, чтобы захватить вас.
– Насколько вы уверены в том, что ваши разведданные точны?
– Настолько уверен, что пришел к выводу: вам небезопасно оставаться в вашем доме. Я хочу, чтобы вы немедленно оттуда уехали. Я посылаю отряд полицейских, чтобы забрать вас и отвезти в безопасное место.
– Никто не может проникнуть сюда, Манфред. Просто поставьте вооруженного охранника у дома.
– Мы имеем дело с израильтянами, герр Фогель. Я хочу, чтобы вы не оставались в доме.
– Ну хорошо, если вы так настаиваете, но скажите вашему отряду, чтобы они не вмешивались. Клаус вполне справится.
– Одного охранника недостаточно. Я отвечаю за вашу безопасность, и я хочу, чтобы вы находились под защитой полиции. Боюсь, я вынужден настаивать. Разведданные, которые я имею, весьма специфичны.
– Когда ваши офицеры прибудут сюда?
– В любую минуту. Будьте готовы к переезду.
Эрих Радек положил трубку и посмотрел на двух мужчин, сидевших у огня.
– Извините, джентльмены, но, боюсь, у меня возникла чрезвычайная ситуация. Нам придется закончить эти дела в другое время. – И он повернулся к своему охраннику. – Открой ворота, Клаус, и подай мне пальто. Немедля.
Механизм передних ворот включился. Для Мордехая, сидевшего за рулем «мерседеса», открытие задвижек прозвучало как оружейный залп. Он посмотрел в зеркальце заднего вида и увидел машину, сворачивавшую на дорогу, ведущую с улицы. Она остановилась позади него с резким скрежетом тормозов. Двое мужчин. На крыше крутятся синие огни. Мужчины выскочили каждый из своей дверцы и одним прыжком одолели ступени входа. Мордехай протянул руку вниз и медленно повернул ключ зажигания.
Эрих Радек вышел в коридор. Навот спрятал документы в свой «дипломат» и поднялся. А Беккер словно застыл в своем кресле. Навот просунул пальцы банкиру под мышки и поднял его на ноги.
Они вышли вслед за Радеком в коридор. Синие огни отражались вспышками на стенах и потолке. Радек стоял рядом с охранником и спокойно говорил что-то ему на ухо. Охранник держал его пальто и был заметно напряжен. Помогая Радеку надеть пальто, он впился взглядом в глаза Навота.
Стук в дверь – два резких звука, эхом прозвучавшие под высоким потолком и отдавшиеся среди мраморных стен коридора. Охранник выпустил из рук пальто Радека и повернул замок на двери. Двое мужчин в костюмах обошли его и вошли в дом.
– Вы готовы, герр Фогель?
Радек кивнул, затем повернулся и еще раз посмотрел на Навота и Беккера.
– Опять-таки примите, пожалуйста, мои извинения, джентльмены. Мне ужасно неприятно причинять вам это неудобство.
Радек повернулся к двери вместе со стоявшим рядом с ним Клаусом. Один из офицеров преградил ему дорогу и положил руку на грудь охранника. Охранник сбросил ее.
– Да вы что? Герр Круц дал нам совершенно точные указания. Мы берем под свою защиту только герра Фогеля.
– Круц никогда не отдал бы такого приказа. Он знает, что я иду туда, куда идет он. Так всегда было.
– Извините, но таков данный нам приказ.
– Покажите мне ваши жетоны и документы.
– Нет времени этим заниматься. Прошу, герр Фогель. Поехали.
Охранник отступил на шаг и сунул руку за борт куртки. А Навот, пока они переговаривались, осторожно продвинулся вперед и теперь стоял всего в двух-трех футах позади охранника.
Как только появился револьвер, Навот ринулся к охраннику. Левой рукой он схватил его за запястье и повернул оружие ему в живот. А правой со всего размаха нанес ему два сильнейших удара по затылку. От первого удара Хальдер зашатался; от второго у него подкосились колени. Рука разжалась, и «глок» с грохотом упал на мраморный пол.
Радек посмотрел на револьвер и на секунду подумал было подобрать его. Но вместо этого повернулся, кинулся к открытой двери в свой кабинет и с грохотом захлопнул ее.
Навот попробовал ее открыть. Заперта.
Отступив на несколько шагов, он ударил плечом в дверь. Дерево раскололось, и он влетел в затемненную комнату. Поднявшись на ноги, он увидел, что Радек уже сумел отодвинуть стенку фальшивого книжного шкафа и стоит в маленьком, величиной с телефонную будку, лифте.
Навот бросился туда, когда дверца лифта начала закрываться. Он сумел всунуть в кабину обе руки и схватить Радека за отвороты пальто. Дверца ударила в левое плечо Навота, а Радек схватил его за запястья и постарался отцепить руки от своего пальто, но Навот крепко держал его.
На помощь пришли Одед с Залманом. Залман, более высокий из двоих, протянул руку поверх головы Навота и потянул на себя дверцу. Одед, проскользнув между ног Навота, потянул снизу. Под таким натиском дверца наконец снова раскрылась.
Навот вытащил Радека из лифта. Теперь уже было не время увиливать и обманывать. Навот зажал рукой рот старику, Залман схватил его за ноги и приподнял с пола. Одед нашел выключатель и потушил люстру.
Навот взглянул на Беккера:
– Идите в машину. Да двигайтесь же, идиот.
Они снесли Радека по лестнице к «ауди». Радек старался сбросить руку Навота со своего рта. И отчаянно молотил ногами. Навот слышал, как ругался себе под нос Залман. Почему-то даже в разгар сражения он умудрялся ругаться по-немецки.
Одед распахнул заднюю дверцу машины, затем обежал ее и сел за руль. Навот пихнул Радека головой вперед в заднюю часть машины и пристегнул к сиденью. Залман, в свою очередь, забрался внутрь и закрыл дверцу. Последним покинул дом Мордехай – он закрыл переднюю дверь, затем сел за руль «мерседеса». Беккер устроился на заднем сиденье.
«Мерседес» рванул вперед и выехал на улицу, «ауди» следовала за ним. Неожиданно тело Радека вдруг замерло. Навот убрал руку с его рта, и австриец стал жадно глотать воздух.
– Вы причиняете мне боль, – сказал он. – Я дышать не могу.
– Я оставлю вас в покое, но вы должны обещать мне вести себя как следует. Никаких больше попыток к бегству. Обещаете?
– Просто оставьте меня в покое. Вы же все кости мне переломаете, дурак.
– И переломаю, старина. Только окажите мне сначала любезность. Сообщите, пожалуйста, ваше имя.
– Вы отлично знаете мое имя. Меня зовут Фогель. Людвиг Фогель.
– Нет, нет, не это имя. Ваше настоящее имя.
– Это и есть мое настоящее имя.
– Хотите ли вы сесть и выехать из Вены как мужчина, или мне все время придется сидеть на вас?
– Я хочу сесть. Вы причиняете мне боль, черт побери!
– Тогда скажите мне ваше имя.
С минуту он молчал, затем пробормотал:
– Мое имя – Радек.
– Извините, но я не расслышал. Пожалуйста, не скажете ли вы ваше имя еще раз? На этот раз погромче.
Фогель сделал большой глоток воздуха, и тело его словно окаменело – как будто он встал по стойке «смирно», а не лежал на заднем сиденье машины.
– Меня зовут… штурмбаннфюрер… Эрих… РАДЕК!
В мюнхенской конспиративной квартире на экране компьютера Шамрона появилось сообщение: «Пакет получен».
Картер хлопнул Шамрона по спине:
– Чтоб я провалился! Они зацапали его. Они действительно его зацапали.
А на лице Шамрона отражалось лишь напряжение.
– Зацапать человека – это всегда самая легкая часть операции, Эдриан. А вот вывезти – совсем другое дело.
Шамрон встал и подошел к карте. Двадцать пять миль до чешской границы. «Мчись, Одед, – подумал он. – Мчись так, как ты никогда еще в жизни не ездил».
36
Вена
Одед раз десять уже совершал подобную поездку, но никогда еще вот так, – никогда с сиреной и синими огнями, сверкающими на крыше, и никогда так, чтобы глаза Эриха Радека в зеркальце обратного вида смотрели прямо в его глаза. Выехав из дома Радека в Пятом округе, он направился на запад к Вэрингер-Гюртель, затем на северо-восток через Дунай и самые дальние окраины города. Вечерний поток транспорта не ослабевал, но ни разу не был настолько густым, чтобы его машине с сиреной и сверкающими огнями не давали проехать. Дважды Радек взбунтовывался. И всякий раз его безжалостно усмиряли Навот и Залман.
Теперь они мчались на север по шоссе Е-461. Транспортные потоки Вены остались позади, шел сильный дождь и замерзал на краях ветрового стекла. «Дворники» у Одеда работали вовсю. Мимо пролетела надпись: «Чешская республика – 22 км».
Навот долго смотрел через плечо, затем на иврите велел Одеду заглушить сирену и потушить огни. Они погрузились во тьму, – единственным звуком было шуршание шин по мокрому асфальту, этот звук да еще тяжелое дыхание Эриха Радека.
– Куда мы едем? Куда вы меня везете? Куда?
Навот потерял счет тому, сколько раз Радек задавал этот вопрос. Вот и сейчас Навот снова пропустил это мимо ушей. Его так и подмывало заткнуть кляпом Радеку рот, но Габриель дал на этот счет совершенно точные инструкции. «Пусть задает вопросы, пока не посинеет, – сказал Габриель. – Только не давай ему почувствовать удовлетворение от полученного ответа. Пусть его гложет неуверенность. Так поступил бы он, если бы мы поменялись ролями».
Итак, Навот смотрел в окно, а они проносились сквозь одно селение за другим: Мистельбах, Вильферсдорф, Эрдберг… Залман понимал, о чем он думает. Навота тревожил охранник Радека. Если бы пришлось все сделать заново, думал Навот, он ликвидировал бы охранника. Навечно.
Перед ними возникло селение Пойсдорф. Одед промчался сквозь селение, затем свернул на двухполосную дорогу и поехал по ней на восток по ущелью, поросшему покрытыми снегом соснами.
– Куда мы едем? Куда вы меня везете?
Навот больше не в состоянии был молча выносить его вопросы.
– Мы едем домой, – буркнул он. – И вы едете с нами.
Клаус Хальдер открыл один глаз, потом второй. Стояла абсолютная тьма. С минуту он полежал неподвижно, стараясь определить положение своего тела. Он упал вперед, прижав руки к бокам. Его правая щека лежала на холодном мраморе. Такое было впечатление, точно он лежит на глыбе льда. Он попытался приподнять голову. Невероятная боль прокатилась по его шее. Теперь он все вспомнил – вспомнил, когда это произошло. Он потянулся к своему револьверу, и тут его дважды ударили сзади. Это был Оскар Ланге, адвокат из Цюриха. Ланге явно был не просто адвокат. Он был соучастником операции, как с самого начала и опасался Хальдер.
Он рывком поднялся на колени и привалился спиной к стене. Закрыл глаза и подождал, пока комната не перестанет крутиться, затем потер затылок. На нем была шишка величиной с яблоко. Он поднял левое запястье и, прищурясь, посмотрел на светящийся циферблат своих часов: 5.37. Когда же это произошло? Через несколько минут после пяти – самое позднее в 5.10. Если только их не ждал вертолет на Штефанплац, можно считать, что они все еще в Австрии.
Он похлопал по правому карману своей спортивной куртки и обнаружил, что его мобильник все еще там. Он вытащил телефон и набрал номер.
– Круц.
– Они забрали его. – Усилие, которого ему стоило произнести эти слова, вызвало острую головную боль. – Они забрали Старика.
– Как это случилось?
– Они явились в дом в одежде офицеров Государственной полиции. Сказали, что берут его под опеку по вашим указаниям. Банкиры Старика…
– По моим указаниям?! – воскликнул Круц. – Да о чем ты говоришь?
Хальдер начал было говорить ему про телефонный звонок, но Круц оборвал его:
– Когда это случилось?
– Самое большее полчаса назад, а может, немного меньше.
– Сколько было машин?
– Лимузин «мерседес» и «ауди», выглядевшая так, будто это непомеченная машина Госполиции. Я полагаю, что Старик – в «ауди».
– Ты запомнил регистрационные номера?
– Я могу проверить по видеокамере.
– Так сделай это. А сколько человек в команде захвата?
– Четверо, насколько я могу судить. Адвокат, именовавший себя Оскаром Ланге, двое агентов, выступавших в роли госполицейских, и шофер «мерседеса».
– Все мужчины?
– Да.
– Сообщи мне регистрационные номера.
* * *
Манфред Круц с грохотом опустил трубку на рычаг и стал думать, что делать. Само собой разумеется, следовало подать сигнал тревоги, предупредить все полицейские отряды в стране, что Старик захвачен израильскими агентами, перекрыть границу и закрыть аэропорт. Это очевидно, но очень опасно. Подобные действия вызовут множество неприятных вопросов: почему выкрали герра Фогеля? Кто он на самом деле?
Израильтяне знали ответы на эти вопросы, и даже если Круц сумеет их задержать, разоблачения хлынут потоком. Кандидатура Петера Метцлера пойдет под откос, как и карьера Круца. Даже в Австрии подобные дела живут своей жизнью, и Круц видел их достаточно, чтобы знать, что расследование не завершится Фогелем.
Израильтяне понимали, что у него будут связаны руки, и они хорошо выбрали момент. Круцу надо было придумать какой-то обходной путь для вмешательства, какой-то способ помешать израильтянам. Он взял телефонную трубку и набрал номер.
– Это Круц. Американцы сообщили нам, что, как им известно, команда «Аль-Кайеды», возможно, будет сегодня вечером пересекать страну на автомобиле. Они подозревают, что члены «Аль-Кайеды» могут ехать с сочувствующими им европейцами, чтобы лучше слиться с окружающими. В данный момент я включаю сигнал тревоги в связи с появлением террористов. Увеличьте охрану границ, аэропортов и железнодорожных вокзалов до категории два.
Круц опустил на рычаг трубку и посмотрел в окно. Он бросил Старику спасательную веревку. И подумал: будет ли тот в состоянии схватить ее. Круц понимал, что если он преуспеет, то вскоре перед ним возникнут новые проблемы – как быть с израильской группой захвата. Он сунул руку в нагрудный карман пиджака и вынул кусочек бумаги. Развернул его и с минуту смотрел на номер, написанный паучьим почерком Старика.
«Если я наберу этот номер, кто мне ответит?»
«Насилие».
Манфред Круц потянулся к телефону.
Часовщик со времени своего возвращения в Вену почти не выходил из своего надежного убежища, каким была его маленькая лавка в квартале Штефансдом. Недавно проделанные поездки принесли ему большой набор предметов, требовавших его внимания, в том числе часы в стиле Венского бидермейера, созданные знаменитым венским часовщиком Игнацием Маренцеллером в 1840 году. Шестидесятипятидюймовый футляр красного дерева был в идеальном состоянии, а вот посеребренный циферблат потребовал многих часов реставрации. Собранный вручную бидермейеровский механизм, рассчитанный на 75 дней, лежал разобранный на рабочем столе Часовщика.
Зазвонил телефон. Он приглушил свой переносной плейер, и «Бранденбургский концерт номер 4» Баха заглох до шепота. Выбор Баха был весьма прозаичен, но дело в том, что Часовщик считал педантизм Баха идеальным аккомпанементом для работы по разбору и восстановлению антикварных часов. Он левой рукой взялся за трубку. Вдоль всей руки пробежала волна боли – напоминание о пережитом в Риме и Аргентине. Он поднес трубку к правому уху и зажал ее плечом.
– Да, – безразличным тоном произнес он. Руки его уже снова работали.
– Ваш номер дал мне наш общий друг.
– Понятно, – произнес Часовщик, ничем не выдавая себя. – Чем могу быть вам полезен?
– Помощь нужна не мне. Она нужна нашему другу.
Часовщик положил инструмент.
– Нашему другу? – переспросил он.
– Да, человеку со Штёббергассе. Я полагаю, вы знаете того, о ком я говорю?
Конечно, Часовщик его знал. Значит, Старик обманул его и дважды поставил в компрометирующую ситуацию. А теперь совершил еще и смертельное оперативное преступление, дав его имя незнакомцу. Он явно попал в беду. Часовщик подозревал, что с этим как-то связаны израильтяне. И решил, что теперь настало очень удобное время, чтобы разорвать отношения со Стариком.
– Извините, – сказал он, – но, видимо, меня с кем-то спутали.
Человек на том конце провода попытался возразить. Но Часовщик повесил трубку и увеличил громкость на своем плейере, так что звуки Баха заполнили мастерскую.
В мюнхенской конспиративной квартире Картер положил телефонную трубку и посмотрел на Шамрона, продолжавшего стоять у карты, представляя себе, как Радек едет на север, к чешской границе.
– Это звонили из нашей венской резидентуры. Они следят за австрийскими коммуникациями. Похоже, Манфред Круц поднял состояние безопасности до категории два.
– До категории два? Что это значит?
– Это значит, что вам придется пережить некоторые неприятности на границе.
Поворот находился в лощине у края замерзшего ручья. Там стояли две машины – «опель» и фургон «фольксваген». За рулем «фольксвагена» сидела Кьяра, приглушив фары, с молчащим мотором. И чувствовала уютную тяжесть лежавшей на ее коленях «беретты». Никаких признаков жизни вокруг – ни света в селениях, ни грохота транспорта на шоссе. Лишь стук ледышек по крыше фургона да свист ветра в высоких елях.
Кьяра обернулась через плечо и посмотрела в глубь «фольксвагена». Он был готов для принятия Радека. Находившаяся сзади складная кровать была разложена. Под кроватью было специально созданное помещение, куда его спрячут при пересечении границы. Ему будет там удобно – куда удобнее, чем он того заслуживает.
Она снова повернулась и посмотрела сквозь ветровое стекло. Видеть особенно было нечего – узкая дорога поднималась во мгле к вершине холма в паре сотен метров впереди. И вдруг возник свет – яркий белый свет, заливший горизонт и превративший деревья в черные минареты. Несколько секунд можно было даже видеть сыпавшиеся с неба льдинки, крутившиеся словно облако насекомых на ветру. Затем появились фары. Машина переехала через холм, и фары ее светили теперь прямо в Кьяру, отбрасывая тени от деревьев в одну сторону, потом в другую. Машина ехала очень быстро, разбрасывая снег. Кьяра обхватила рукой «беретту» и просунула указательный палец под спусковую скобу.
Машина, заскользив, остановилась возле фургона. Кьяра посмотрела на заднее сиденье. Одед сидел за шофером, Залман – за пассажиром, а между ними, застыв точно комиссар, дожидающийся кровавой расправы, сидел убийца. Кьяра перелезла в заднюю часть фургона и в последний раз все проверила.
– Снимайте пальто, – скомандовал Одед.
– Зачем?
– Потому что я так велел.
– Я имею право знать, зачем вам это нужно.
– Никаких прав у вас нет! Делайте, как я говорю.
Радек сидел не двигаясь. Залман потянул за отвороты его пальто, но Старик крепко скрестил руки на груди. Навот тяжело вздохнул. Если старый мерзавец хочет провести последний бой, он его получит. Навот разжал ему руки, а Залман сдернул правый рукав, затем левый. Следом за пальто был снят пиджак «в елочку», затем Залман разорвал рукав его рубашки и обнажил обвислую кожу предплечья. Навот достал шприц и набрал успокоительное.
– Мы это делаем для вашего же блага, – сказал Навот. – Лекарство слабое и очень недолгого действия. Таким образом вы легче перенесете путешествие. Никакой клаустрофобии.
– Я никогда не страдал клаустрофобией.
– Это не имеет для меня значения.
Навот всадил иглу в руку Радека и ввел лекарство. Через две-три секунды тело Радека обмякло, затем голова упала набок, рот раскрылся. Навот открыл дверцу и вылез наружу. Он поддел обмякшее тело Радека под мышки и вытащил его из машины.
Залман взял его за ноги, и они вместе поднесли его, точно мертвого солдата, к «фольксвагену». Кьяра сидела внутри, держа баллон с кислородом и чистую пластиковую маску. Одед с Залманом уложили Радека на пол «фольксвагена», затем Кьяра приложила маску к его рту и носу. Пластик тотчас затуманился, – это указывало на то, что Радек ровно дышит. Кьяра проверила его пульс. Без перебоев и сильный. Они переложили его в тайное помещение и закрыли крышкой.
Кьяра села за руль и включила мотор. Одед захлопнул боковую дверцу и постучал ладонью по стеклу. Кьяра включила скорость и повела фургон назад, к шоссе. Остальные сели в «опель» и последовали за ней.
Пять минут спустя на горизонте, словно прожекторы, появились огни границы. Подъехав ближе, Кьяра увидела небольшую вереницу машин – около шести штук, ожидавших переезда. Здесь было двое пограничников. Они держали фонарики, проверяли паспорта и заглядывали в окна машин. Кьяра посмотрела через плечо. Крышка над тайником была закрыта. Радек лежал тихо.
Машина перед ней прошла досмотр и была пропущена в Чехию. Пограничник жестом велел Кьяре подъехать. Она опустила свое окошко и заставила себя улыбнуться.
– Прошу паспорт.
Она протянула ему документ. Второй офицер подошел к фургону со стороны пассажира, и Кьяра видела, как он провел лучом своего фонарика по внутренности фургона.
– Что-то не так?
Пограничник опустил глаза на ее фотографию и ничего не ответил.
– Когда вы въехали в Австрию?
– Сегодня утром.
– Где?
– Из Италии, в Тарвизио.
Он с минуту сравнивал ее лицо с фотографией в паспорте. Затем открыл переднюю дверцу и велел ей выйти из фургона.
Узи Навот наблюдал за происходящим из «опеля» с переднего пассажирского сиденья. Он посмотрел на Одеда и тихонько ругнулся. Затем набрал на своем мобильнике номер конспиративной квартиры в Мюнхене. Шамрон ответил после первого же звонка.
– У нас проблема, – сказал Навот.
Офицер приказал Кьяре встать перед фургоном. Она попросила разрешения укрыться от дождя под навесом у сторожки.
– Нет, – сказал он, – стойте, где я сказал.
И стал задавать вопросы, светя ей в лицо. Несмотря на яркий свет, она увидела, как второй пограничник открыл боковую дверцу «фольксвагена». Но заставила себя смотреть на того, кто ее допрашивал. Кьяра пыталась не думать о «беретте», приставленной к ее спине. Или о Габриеле, ожидавшем их по другую сторону границы, в Микулове. Или о Навоте, Одеде и Залмане, беспомощно наблюдавших за происходившим из «опеля».
– А куда вы направляетесь в этот вечер?
– В Прагу, – сказала она.
– Зачем вы едете в Прагу?
Она посмотрела на него так, словно сказала: «А это не ваше дело». Затем произнесла:
– Еду встретиться с приятелем.
– Значит, с приятелем, – повторил он, приблизив лицо к ее лицу, так что она почувствовала его дыхание и запах выпитого днем пива. – И что же ваш приятель делает в Праге?
«Он обучает итальянскому», – сказал в свое время Габриель.
И Кьяра ответила на вопрос.
– А где он преподает?
«В Пражском институте иностранных языков», – сказал тогда Габриель.
И снова Кьяра ответила, как учил Габриель.
– А как давно он преподает в Пражском институте иностранных языков?
«Три года».
– И вы часто его видите?
«Раз, иногда два раза в месяц».
Второй офицер залез в фургон. Перед мысленным взором Кьяры мелькнул образ Радека, с закрытыми глазами, с кислородной маской на лице. «Только не приди в себя, – подумала она. – Не шевелись и не охай. Поведи себя пристойно, хотя бы раз в своей мерзкой жизни».
– А когда вы въехали в Австрию?
– Я вам уже сказала.
– Скажите, пожалуйста, еще раз.
– Сегодня.
– В какое время?
– Я не помню.
– Утром? Или днем?
– Днем.
– В первой половине дня? К вечеру?
– К вечеру.
– Значит, было уже темно?
Она помедлила. Он повторил вопрос:
– Да? Было темно?
Она кивнула. Из фургона донесся звук открываемых дверец шкафчиков. Кьяра заставила себя смотреть прямо в глаза тому, кто задавал вопросы. Его лицо, затененное из-за яркого света фонарика, начало принимать очертания Эриха Радека, – не того несчастного Радека, что лежал без сознания в глубине фургона, а того Радека, что вытащил девушку по имени Ирене Франкель из рядов «Марша смерти», шедших из Биркенау в 1945 году, и привел в польский лес, чтобы в последний раз помучить.
«Произнеси эти слова, еврейка! Тебя переправили на Восток. У тебя полно было еды. И тебе была оказана должная медицинская помощь. А газовые камеры и крематории – это вранье большевиков и евреев».
«Я могу быть не менее сильной, чем вы, Ирене, – подумала Кьяра. – Я могу через это пройти. В память о вас».
– Вы останавливались где-либо в Австрии?
– Нет.
– Вы не воспользовались возможностью побывать в Вене?
– Я была в Вене, – сказала она. – Мне не нравится этот город.
Он с минуту изучал ее лицо.
– Вы – итальянка? Да?
– У вас же в руке мой паспорт.
– Я не говорю о вашем паспорте. Я говорю о вашей расовой принадлежности. Вашей крови. Вы итальянка по происхождению или вы – иммигрантка, скажем, с Ближнего Востока или из Северной Африки?
– Я – итальянка, – заверила она его.
Второй офицер вылез из «фольксвагена» и отрицательно помотал головой.
– Извините за задержку, – сказал тот, кто допрашивал Кьяру, и протянул ей паспорт. – Можете ехать. Приятного пути.
Кьяра села за руль «фольксвагена». Пограничник захлопнул дверцу. Кьяра включила скорость и проехала через границу. Чешский охранник жестом показал, что она может ехать дальше. Она нажала на акселератор и помчалась к черной массе Карпатских гор. И полились слезы – слезы облегчения, слезы гнева. Сначала она пыталась остановить их, но тщетно. Дорога расплывалась, хвостовые огни машин превратились в красные ленточки.
– В память о вас, Ирене, – громко произнесла она. – Я поступила так в память о вас.
Железнодорожный вокзал в Микулове стоит ниже города – там, где холмы встречаются с долиной. На станции – одна-единственная платформа, открытая почти постоянно дующему с Карпатских гор ветру, и унылая, усыпанная гравием площадка для машин, которая превращается в озеро, когда идет дождь. Близ кассы находится автобусная стоянка, исписанная граффити, и именно там, прижавшись к стене с подветренной стороны, ждал Габриель, сунув руки в карманы своей непромокаемой куртки и не отрывая глаз от транспорта, мчавшегося по шоссе сквозь дождь со снегом.
Он увидел, как из тумана возник «фольксваген». С минуту он не двигался, пока не увидел, как замигал индикатор поворота. Тогда, нагнув голову, он побежал через площадку для машин. Кьяра постояла ровно столько, сколько потребовалось Габриелю, чтобы залезть на пассажирское сиденье. А через несколько секунд она уже снова ехала по шоссе, направляясь на север, к Карпатам.
У них ушло полчаса на то, чтобы добраться до Брно, еще час, чтобы добраться до Остравы. Габриель дважды открывал крышку над тайником, чтобы посмотреть на Радека. Было почти восемь часов вечера, когда они доехали до польской границы. На этот раз никакой проверки, никакой вереницы транспорта, – просто из кирпичного бункера вытянулась рука и устало махнула им, пропуская через границу.
Габриель прополз в конец фургона и вытащил Радека из тайника. Затем он открыл один из ящиков и достал оттуда шприц. На этот раз в шприце содержалась небольшая доза стимулятора – ровно столько, чтобы мягко вернуть ему сознание. Габриель воткнул иглу в предплечье Радека, ввел лекарство, затем вынул иглу и протер ранку спиртом. Глаза Радека медленно открылись. Он сначала обвел взглядом место, где находился, а потом перевел взгляд на лицо Габриеля.
– Аллон? – прошептал он сквозь кислородную маску.
Габриель медленно кивнул.
– Куда вы меня везете?
Габриель ничего не сказал.
– Я умру? – спросил Радек, но прежде чем Габриель сумел ответить, Радек снова погрузился в небытие.
37
Восточная Польша
Барьер между сознанием и комой был как театральный занавес, сквозь который он мог пройти. Сколько раз он проскальзывал сквозь этот занавес, он и сам не знал. Время, как и его прошлая жизнь, не существовало для него. Его красивый дом на Штёббергассе казался чьим-то чужим домом в городе, где жил другой человек. Что-то произошло, когда он выкрикнул в лицо израильтянам свое настоящее имя. Людвиг Фогель был для него теперь чужим, просто знакомым, которого он не видел много лет. Он был снова Радеком. К несчастью, время не пощадило его. Высокий, красивый мужчина в черном стал сейчас слабым, угасающим телом.
Еврей положил его на складную кровать. Его руки и щиколотки были обмотаны толстой серебристой упаковочной лентой, и он был привязан, как слабоумный. Его запястья были своего рода дверью между двумя мирами. Ему надо было лишь повернуть их под определенным углом, чтобы лента больно впилась в кожу, и он переходил сквозь занавес из мира снов в мир реальный. Сны? Верно ли называть эти видения снами? Нет, они были слишком точными, слишком реальными. Это были воспоминания, которые он не мог контролировать, – мог лишь прервать их на несколько мгновений, причинив себе боль упаковочной лентой евреев.
Его лицо находилось близ окна, и стекло было ничем не загорожено. Он мог, пробудившись от сна, видеть бескрайние черные поля и унылые мрачные деревни. Он мог прочесть надписи на дороге. Ему не нужны были надписи, чтобы знать, где он находится. Было время, в другой жизни, когда он правил бал в этой стране. Он помнил эту дорогу: Дахнов, Жуков, Нароль… Он знал название соседней деревни, даже прежде чем она промелькнула мимо его окна, – Бельзен…
Он закрыл глаза. Почему теперь, после стольких лет? После войны никто особенно не интересовался каким-то там офицером СД, который служил на Украине, – никто, кроме, конечно, русских, – а к тому времени, когда его имя всплыло в связи с «окончательным решением», генерал Гелен устроил его побег и исчезновение. Его бывшая жизнь спокойно осталась позади. Он был прощен Богом и своей Церковью и даже своими врагами, которые жадно пользовались его услугами, когда почувствовали угрозу со стороны евреев и большевиков. Правительства скоро потеряли интерес к преследованию так называемых военных преступников, а непрофессионалы вроде Визенталя сосредоточили свое внимание на крупных рыбах вроде Эйхманна и Менгеле, не подозревая, что тем самым помогают мелкой рыбешке вроде него найти убежище в защищенных водах. Правда, однажды он сильно испугался. В середине семидесятых один американский журналист – еврей, конечно, – приехал в Вену и стал задавать слишком много вопросов. На дороге, ведущей из Зальцбурга на юг, он упал в овраг, и угроза была устранена. Радек поступил тогда так, не колеблясь. Возможно, ему следовало сбросить в овраг Макса Клайна при первом появлении беды. Он заметил его в тот день в кафе «Централь», как и в последующие дни. Инстинкт подсказывал ему, что Клайн – источник беды. Но он медлил. А тем временем Клайн рассказал свою историю еврею Лавону, и тогда было уже слишком поздно.
Он снова прошел через занавес. Он был в Берлине и сидел в кабинете группенфюрера Генриха Мюллера, шефа гестапо. Мюллер ковыряет зубочисткой в зубах и машет перед его носом письмом, которое он только что получил от Лютера из министерства иностранных дел. Это было в 1942 году.
«Похоже, что слухи о нашей деятельности на Востоке начали достигать ушей наших врагов. У нас также возникла проблема с одним из мест заложения в районе Вартегау. Жалобы на какого-то рода загрязнение».
«Позвольте задать вам очевидный вопрос, герр группенфюрер: ну и что, если подобные слухи достигли Запада? Кто поверит, что такое действительно было возможно?»
«Слухи – это одно, Эрих. Доказательства – совсем другое».
«А кто обнаружит эти доказательства? Какой-нибудь польский раб-недоумок? Или косоглазый украинский копатель канав?»
«Может быть, Иваны».
«Русские? Да как же они могут найти…»
Мюллер поднял вверх руку укладчика кирпичей. Конец дискуссии. И тут Радек понял. Русская авантюра фюрера проходила не по плану. Победа на Востоке не была обеспечена.
Мюллер пригнулся к столу.
«Я отправляю тебя в ад, Эрих. Я так глубоко погружу твое нордическое лицо в дерьмо, что ты никогда больше не увидишь света белого».
«Разве я когда-либо смогу отблагодарить вас, герр группенфюрер?»
«Подчисти это безобразие. Полностью. Везде. Твоя обязанность, чтобы это так и осталось лишь слухом. И когда операция будет закончена, я хочу, чтобы ты был единственным человеком на ногах».
Радек проснулся. Лицо Мюллера растворилось в польской ночи. Странно, верно? Его вкладом в «окончательное решение» было не убийство, а сокрытие содеянного и безопасность, и, однако же, он попал в беду теперь, шестьдесят лет спустя. Из-за дурацкой игры, затеянной им под пьяную руку в воскресенье в Аушвице. «Акция 1005»? Да, это было его шоу, но никто из выживших евреев никогда не сможет доказать его присутствия на краю рва с убитыми, потому что выживших не осталось. Он провел строгую подчистку. Эйхманну и Гиммлеру рекомендовали поступить так же. А они, идиоты, позволили столь многим выжить.
Возникло новое воспоминание: январь 1945 года, цепочка евреев в лохмотьях беспорядочно бредет по дороге, очень похожей на эту – только много западнее. По дороге из Биркенау. Тысячи евреев, каждый со своей историей, каждый – свидетель. Он предлагал ликвидировать все население лагеря до эвакуации. Нет, сказали ему. Рабочая сила остро необходима рейху. Рабочая сила? Да большинство евреев, которые на его глазах уходили из Биркенау, с трудом могли идти, не говоря уже о том, чтобы работать киркой или лопатой. Они не годились для работы, – их можно было лишь уничтожить, и он сам убил нескольких. Почему – ради всего святого – ему велели очистить рвы, а потом разрешили тысячам свидетелей выйти из такого места, как Биркенау?
Усилием воли он открыл глаза и посмотрел в окно. Они ехали по берегу реки, близ границы с Украиной. Он знал эту реку – реку пепла, реку костей. И он подумал, сколько сотен тысяч лежит там, превратившись в ил на дне Буга.
Сотрясенная страхом деревня – Уруск. Радек подумал о Петере. Петер предупреждал его, что такое может случиться. «Если когда-либо возникнет угроза, что я стану канцлером, – сказал тогда Петер, – кто-нибудь непременно попытается разоблачить нас». Радек знал, что Петер был прав, но он также считал, что сумеет справиться с любой угрозой. Он ошибся, и теперь его сын стоял перед невообразимым унижением на выборах – и все из-за него. Такое было впечатление, точно евреи подвели Петера к краю рва, полного мертвецов, и приставили револьвер к его голове. И Радек подумал, нет ли у него возможности помешать им спустить курок, не сумеет ли он договориться еще об одной сделке, организовать свой последний побег.
«А этот еврей, что смотрит на меня сейчас такими ничего не прощающими зелеными глазами? Чего он ожидает от меня? Извинения? Чтобы я сломался и зарыдал и принялся изрыгать сентиментальности? Этот еврей не понимает, что я не чувствую вины за то, что совершил. Меня вели рука Господа и учение моей Церкви. Разве священники не говорили нам, что евреи убили Бога? Разве святой отец и его кардиналы не молчали, хотя прекрасно знали, что мы творили на Востоке? Этот еврей ожидает, что я теперь вдруг публично покаюсь и скажу, что все это было ужасной ошибкой? И почему он на меня так смотрит?» Они были ему знакомы, эти глаза. Он где-то видел их раньше. Возможно, ему так кажется из-за лекарств, которые они дали ему. Он ни в чем не был уверен. Не был даже уверен, что жив. Возможно, он уже умер. Возможно, это его душа едет по берегу Буга. Возможно, он уже в аду.
Еще одна деревня – Вола Уруска. Радек знал, что следующая деревня – Собибор…
Он закрыл глаза, и занавес бархатом обволок его. Время – весна 1942 года, он едет из Киева по Житомирской дороге вместе с командиром айнзатцгруппен. Они едут инспектировать овраг, в связи с которым возникли проблемы безопасности, место, которое украинцы называют Бабьим Яром. К тому времени, когда они приехали, солнце уже клонилось к горизонту и наступили сумерки. Однако света достаточно, чтобы видеть странное явление на дне оврага. Земля колышется, словно эпилептик. Из конвульсирующей почвы в воздух вырывается газ вместе с гейзерами вонючей жидкости. А запах! Иисусе, какой запах. Радек сейчас почувствовал его.
«Когда это началось?»
«Вскоре после того, как кончилась зима. Земля оттаяла, и трупы оттаяли. Они быстро стали разлагаться».
«Сколько их там?»
«Тридцать три тысячи евреев, несколько цыган и советских заключенных для ровного счета».
«Оцепите весь овраг. Мы возьмемся за него, как только сможем, но в данный момент приоритет у других мест».
«Каких других мест?»
«Мест, про которые вы никогда не слышали: Биркенау, Бельзен, Собибор, Треблинка. Здесь работа завершена. А в тех, других, местах ожидаются новые поступления».
«А что вы намерены сделать здесь?»
«Мы вскроем рвы и сожжем трупы, затем размельчим кости и разбросаем их по лесам и рекам».
«Вы сожжете тридцать тысяч трупов? Мы пытались это сделать, когда их убивали. Пустили в ход даже огнеметы. Массовые крематории под открытым небом не срабатывают».
«Это потому, что вы никогда не сооружали настоящих костров. Я доказал в Челмно, что такое возможно. Поверь мне, Курт, будет день, когда это место, именуемое Бабий Яр, станет лишь слухом – как и евреи, которые жили здесь».
Радек повернул запястье. На этот раз боль оказалась недостаточной, чтобы пробудить его. Занавес не раздвигался. Радек оставался запертым в тюрьме памяти, бредущим по реке из пепла.
Они ехали всю ночь. Время хранится в памяти. Изоляционная лента приостановила циркуляцию крови в его теле. Он уже больше не чувствовал ни рук, ни ног. Одну минуту он был как в огне, другую – дрожал от холода. Он попытался найти прибежище во сне. Даже воспоминания приносили определенное облегчение. Ему показалось, что они вдруг прекратились. Он услышал голоса. Одним из них был голос еврея, который приезжал к нему под видом швейцарского адвоката. Радек почувствовал запах бензина. Они что, заливают бак? Или ему вспомнились залитые бензином железнодорожные шпалы?
Лекарство наконец перестало действовать. Теперь он полностью проснулся, все понимал и был вполне уверен, что не умер. Что-то в позе еврея подсказало ему, что близок конец их путешествия. Они проехали через Седлице, потом – через Сокотов Подласки и свернули на более узкую деревенскую дорогу. Затем проехали Дыбов, потом – Косов Лаки.
Через несколько миль фургон свернул с шоссе и поехал по узкой грунтовой дороге через густой Белый лес. Доехав до поляны, они остановились. Там стояла маленькая деревянная изба, крытая гофрированным железом. На стене, смотрящей на поляну, зелеными буквами по белому фону было выведено: «Бистро». Напротив был серый каменный бункер, похожий на вход в бомбоубежище.
На поляне появилась вторая машина с притушенными фарами. Трое мужчин вылезли из нее и подошли к фургону. Радек узнал их. Это они забрали его из Вены. Еврей встал над ним и осторожно разрезал изоляционную ленту и расстегнул кожаные ремни.
– Пошли, – довольно любезно предложил он. – Давайте прогуляемся.
38
Треблинка, Польша
Они пошли по дорожке между деревьями. Начал падать снег. Снежинки мягко опускались в неподвижном воздухе и падали на их плечи, словно пепел от костра. Габриель держал Радека за локоть. Сначала тот шел неуверенно, но, пройдя несколько метров, почувствовал, как кровь снова прилила к его ногам, и захотел идти без поддержки Габриеля. Его дыхание морозным облачком поднималось в воздухе. Оно пахло кислятиной и страхом.
Они стали углубляться в лес. Дорожка была песчаная, покрытая тонким слоем сосновых игл. Одед шел в нескольких шагах впереди – его с трудом было видно сквозь падающий снег. Залман и Мордехай шагали позади. А Кьяра осталась на поляне сторожить машину.
Они остановились. Прорез в деревьях приблизительно пяти метров шириной уходил во мрак. Габриель осветил ее лучом фонарика. Посередине дорожки, на равных расстояниях, стояло несколько крупных высоких камней. Камни стояли, где раньше был забор. Они подошли к краю лагеря. Габриель выключил фонарик и подтолкнул Радека за локоть. Радек попытался воспротивиться, затем, спотыкаясь, пошел вперед.
– Просто делайте то, что я говорю, Радек, и все будет отлично. Не пытайтесь бежать, потому что бежать некуда, не трудитесь звать на помощь, – никто не услышит ваших криков.
– Вам доставляет удовольствие видеть, что я боюсь?
– По правде говоря, мне это противно. Мне неприятно дотрагиваться до вас, мне неприятен звук вашего голоса.
– Так зачем же вы здесь?
– Я просто хочу, чтобы вы кое-что увидели.
– Здесь нечего видеть, Аллон. Просто польский мемориал.
– Вот именно. – Габриель подтолкнул его под локоть. – Да ну же, Радек, быстрее. Надо шагать быстрее. У нас не так много времени. Скоро настанет утро.
Через минуту им пришлось снова остановиться перед железнодорожным полотном, старой веткой, по которой транспорты шли со станции Треблинка в лагерь. Шпалы тут были восстановлены из камня, и на них лежал слой замерзшего недавно выпавшего снега. Они прошли по шпалам в лагерь и остановились там, где раньше была платформа.
– Вы помните все это, Радек?
А он стоял и молчал, приоткрыв рот, прерывисто дыша.
– Да ну же, Радек. Мы знаем, кто вы, знаем, что вы делали. На этот раз вам не сбежать. Так что нет смысла играть в игры или пытаться что-либо отрицать – на это нет времени. Во всяком случае, если вы хотите спасти вашего сына.
Голова Радека медленно повернулась. Рот превратился в узкую щель, а взгляд стал очень жестким.
– Вы причините вред моему сыну?
– Собственно, вы сами это сделаете за нас. А мы лишь сообщим миру, кто его отец, и это уничтожит его. Ведь потому вы и заложили бомбу в конторе Эли Лавона – чтобы защитить Петера. Никто не мог тронуть вас – во всяком случае, в таком месте, как Австрия. Вы были под защитой. Вы находились в безопасности. Единственный человек, который мог заплатить за ваши преступления, – это ваш сын. Поэтому вы и убили Эли Лавона. Поэтому вы прикончили Макса Клайна.
Радек отвернулся от Габриеля и уставился во тьму.
– Чего вы хотите? Что вы хотите знать?
– Расскажите мне об этом, Радек. Я читал об этом, я вижу мемориал, но я не могу представить себе, как все это работало. Как можно было всего за сорок пять минут превратить целый поезд людей в дым? За сорок пять минут – вагон за вагоном, – разве не этим похвалялись эсэсовцы, говоря о здешних местах? Они могли превратить еврея в дым за сорок пять минут. Двенадцать тысяч евреев в день. В общем и целом – восемьсот тысяч.
Радек невесело хмыкнул – так хмыкает человек, ведущий допрос и не верящий своему заключенному. А у Габриеля словно камень лег на сердце.
– Восемьсот тысяч? Откуда у вас такая цифра?
– Это официальная цифра польского правительства.
– И вы ожидаете, что группа недочеловеков, какими являются поляки, может знать, что происходило здесь, в этих лесах? – Голос Радека внезапно изменился, стал более молодым и властным. – Прошу вас, Аллон, если мы намерены вести эту дискуссию, давайте оперировать фактами, а не польским идиотизмом. Восемьсот тысяч? – Он покачал головой и действительно улыбнулся. – Нет, их было не восемьсот тысяч. В действительности цифра была куда больше.
Радек протянул руку и попросил фонарик. Габриель не спешил его отдать.
– Вы же не думаете, что я нападу на вас с этим, верно?
– Мне известно кое-что из ваших деяний.
– Это было давно.
Габриель передал Радеку фонарик. Радек нацелил луч налево, освещая подрост елей.
– Они называли это место Нижним лагерем. Здесь жили эсэсовцы. Забор шел позади них. А перед ними была мощеная дорога, обсаженная кустами и цветами весной и летом. Вам, возможно, трудно этому поверить, но, право же, здесь было очень приятно. Деревьев было, конечно, меньше. Но мы насадили деревья после того, как сровняли с землей лагерь. Тогда это были всего лишь саженцы. А теперь они выросли и стало красиво.
– Сколько же здесь было эсэсовцев?
– Обычно около сорока. Еврейские девушки прибирались у них, а польки готовили – три местные девушки, приходившие из окружающих деревень.
– А украинцы?
– Они жили на другой стороне дороги, в пяти бараках. Дом Штенгла стоял посередине, у скрещения двух дорог. У него был прелестный сад. Его разбил для Штенгла человек из Вены.
– Но прибывавшие никогда не видели этой части лагеря?
– Нет, нет. Каждая часть лагеря была тщательно скрыта от остальных заборами, оплетенными сосновыми ветками. Когда люди прибывали в лагерь, они видели как бы обычную деревенскую железнодорожную станцию, с фальшивым расписанием отбывающих поездов. А из Треблинки, конечно, никто не отбывал. От этой платформы отходили лишь пустые поезда.
– И тут было какое-то строение, да?
– Здесь было все оборудовано как обычная железнодорожная станция, но в действительности строение было набито ценностями, отобранными у тех, кто прибыл раньше. Вот то место они называли Станционной площадью. А там была площадь Приема или площадь Отбора.
– А вы когда-нибудь видели прибывавшие поезда?
– Да, конечно. Я не имел отношения к этим делам, но да, я видел, как прибывали поезда.
– И были две разные процедуры приема? Одна – для евреев из Западной Европы и другая для евреев с Востока?
– Да, верно. Западноевропейских евреев принимали с большим обманом и жульничеством. Никаких кнутов, никаких криков. Им вежливо предлагали выйти из поезда. На площади Приема их ждал медицинский персонал в белых халатах, чтобы позаботиться о больных.
– Но все это было лишь хитростью. Стариков и больных немедленно уводили и расстреливали.
– Да, это верно.
– А восточные евреи? Как их встречали на платформе?
– Их встречали украинцы с кнутами.
– А потом?
Радек поднял фонарь и провел лучом по поляне.
– Тут шла колючая проволока. За проволокой было два строения. Одно из них служило бараком для раздевания. Во втором евреи-рабочие срезали волосы с женщин. Остриженных направляли вот туда. – И Радек лучом фонарика осветил гравийную дорожку. – Тут был проход – вроде спуска для скота – шириной в несколько футов, огражденный колючей проволокой с еловыми ветками. Он именовался туннелем.
– Но у эсэсовцев было специальное название для этого, верно?
Радек кивнул.
– Они называли это «Дорогой в рай».
– И куда эта «Дорога в рай» вела?
Радек поднял луч фонарика.
– В Верхний лагерь, – сказал он. – В «Лагерь смерти».
Они пошли дальше – на поляну, усеянную большими камнями, и на каждом камне стояло название еврейского сообщества, истребленного в Треблинке. На самом крупном камне значилось: «Варшава». Габриель посмотрел поверх камней, на небо на востоке. Начинало светать.
– «Дорога в рай» вела прямо к кирпичному зданию, где находились газовые камеры, – произнес Радек, нарушая молчание. Казалось, ему вдруг захотелось говорить. – Каждая камера была размером четыре метра на четыре. Первоначально их было всего три, но вскоре выяснилось, что нужно больше камер, чтобы справиться с поступлениями. И было добавлено еще десять камер. Дизельный мотор нагнетал в камеры угарный газ. Люди задыхались меньше чем за тридцать минут. После этого трупы вытаскивали.
– И что с ними делали?
– В течение нескольких месяцев их хоронили вон там, в больших рвах. Но очень скоро рвы заполнились, и разложение трупов стало заражать лагерь.
– Вот тогда-то вы и прибыли сюда?
– Не сразу. Лагерь Треблинка стоял четвертым в нашем списке. Сначала мы очистили рвы в Биркенау, затем в Бельзене и Собиборе. До Треблинки мы добрались только в сорок третьем. Когда я приехал сюда… – Голос его прервался. – Это было ужасно.
– Что же вы стали делать?
– Мы, конечно, вскрыли рвы и убрали оттуда трупы.
– Вручную?
Он отрицательно покачал головой.
– У нас был механический черпак. Таким образом работа шла гораздо быстрее.
– Коготь – вы ведь так его называли?
– Да, верно.
– А после того как трупы были вынуты?
– Их сжигали на больших чугунных решетках.
– У вас было свое название для этих решеток, верно?
– Жаровни, – сказал Радек. – Мы называли их жаровнями.
– А после того, как трупы были сожжены?
– Мы размалывали кости и зарывали их во рвах или свозили к Бугу и бросали в реку.
– А когда старые рвы были опустошены?
– После этого трупы из газовых камер прямиком отправляли на жаровни. Так дело шло до октября того года, когда лагерь закрыли и все следы его были уничтожены. Он просуществовал немногим дольше года.
– И тем не менее они умудрились уничтожить восемьсот тысяч.
– Нет, не восемьсот тысяч.
– А сколько же?
– Более миллиона. Немало, верно? Более миллиона человек в таком маленьком местечке, как это, в глубине польского леса.
Габриель снова взял фонарик и вытащил свою «беретту». И подтолкнул Радека. Они пошли по дорожке, проложенной по полю, усеянному камнями. Залман и Мордехай остались позади, в Верхнем лагере. Габриель слышал звук шагов Одеда по гравию.
– Поздравляю, Радек. Благодаря вам это всего лишь символическое кладбище.
– Вы теперь убьете меня? Разве я не рассказал вам все, что вы хотели услышать?
Габриель подтолкнул его вперед по дорожке.
– Вы, возможно, гордитесь этим местом, а для нас это священная земля. Неужели вы думаете, что я осквернил бы ее вашей кровью?
– Тогда зачем все это? Ради чего вы привезли меня сюда?
– Вам надо было еще раз увидеть все это. Вам надо было посетить место преступления, чтобы освежить память и подготовиться к предстоящим показаниям. Так вы избавите своего сына от унижения иметь такого отца. Вы поедете с нами в Израиль и добровольно предстанете перед судом за свои преступления.
– Это не мои преступления! Я же не убивал их! Я просто делал то, что приказал мне Мюллер. Я совершил подчистку!
– Вы внесли свой вклад в убийства, Радек. Помните вашу маленькую игру с Максом Клайном в Биркенау? А как насчет «Марша смерти»? Вы ведь тоже были там, верно, Радек?
Радек замедлил шаг и повернул голову. Габриель толкнул его меж лопаток. Они подошли к братским могилам – длинным вдавленным четырехугольникам, неровно залитым черным базальтом. Радек остановился у первой могилы и посмотрел вниз.
– Убейте меня сейчас, черт бы вас побрал! И не везите меня в Израиль! Расправьтесь со мной сейчас и точка. Ведь именно в этом вы мастер, верно, Аллон?
– Не здесь, – сказал Габриель. – Не в этом месте. Вы не заслуживаете даже того, чтобы стоять здесь, не то чтобы умереть здесь.
Радек упал перед могилой на колени.
– А если я соглашусь поехать с вами? Какая участь ждет меня?
– Вас ждет правда, Радек. Вы будете стоять перед израильским народом и признаваться в своих преступлениях. В том, какую вы роль играли, в «Акции 1005». В убийстве узников Биркенау. В убийствах во время «Марша смерти» из Биркенау. Да помните ли вы девушек, которых вы прикончили, Радек?
Голова Радека дернулась.
– Да как вы…
Габриель прервал его:
– Вас не казнят за ваши преступления, но вы проведете остаток жизни за решеткой. И пока будете в тюрьме, будете работать с командой ученых из «Яд Вашема», изучающих холокост, чтобы помочь им составить подробное описание «Акции 1005». Вы расскажете отрицающим и сомневающимся то, что вы делали, чтобы скрыть величайшее массовое убийство в истории. Впервые в вашей жизни вы расскажете правду.
– Чью правду – вашу или мою?
– Существует лишь одна правда, Радек. Правда – это Треблинка.
– А что я получу взамен?
– Вы получите больше, чем заслуживаете, – сказал Габриель. – Мы ничего не скажем про сомнительное родство Метцлера.
– Вы готовы пережить то, что в Австрии будет крайне правый канцлер, ради того, чтобы получить меня?
– Кое-что говорит мне, что Петер Метцлер станет большим другом Израиля и евреев. Он не захочет ничего делать, чтобы озлобить нас. Ведь у нас в руках будет ключ к его уничтожению еще долгое время после того, как вас не станет.
– Как вы убедили американцев предать меня? Очевидно, шантаж – это известный еврейский прием. Но наверняка было что-то большее. Думаю, вы дали им слово, что никогда не позволите мне говорить о моих связях с организацией Гелена или с ЦРУ. Я полагаю, ваша преданность правде так далеко не распространяется.
– Я жду вашего ответа, Радек.
– Да как я могу поверить вам, еврею, что вы сдержите свое слово?
– Вы что, снова читали «Дер Штюрмер»? Вы доверились мне, потому что у вас нет иного выбора.
– И что хорошего это даст? Вернет ли это хотя бы одного из мертвецов, что лежат там, в этом рву?
– Нет, – согласился Габриель, – но мир узнает правду, а вы проведете последние годы своей жизни там, где вам и место. Соглашайтесь на наши условия, Радек. Соглашайтесь ради своего сына. Считайте это вашим последним избавлением.
– Это не останется тайной навсегда. Когда-нибудь правда об этой сделке выплывет.
– Со временем, – сказал Габриель. – Я полагаю, невозможно скрыть правду навсегда.
Голова Радека медленно повернулась, и он с презрением посмотрел на Габриеля.
– Будь вы настоящим мужчиной, вы бы сами так поступили. – И он насмешливо улыбнулся. – Что же до правды, то никого она не интересовала, пока тут шла операция, и никого она не заинтересует теперь.
Он повернулся и посмотрел на ров. А Габриель сунул «беретту» за пояс и зашагал прочь. Одед, Залман и Мордехай неподвижно стояли на дорожке позади него. Габриель молча прошел мимо них и направился через лагерь к железнодорожной платформе. Прежде чем исчезнуть среди деревьев, он приостановился, посмотрел через плечо и увидел Радека, который, держась за руку Одеда, медленно поднимался на ноги.
Часть четвертая Узник Абу-Кабира
39
Яффа, Израиль
Довольно много было споров о том, где держать Радека. Лев считал его угрозой для безопасности и хотел держать под постоянным присмотром Конторы. Шамрон, как всегда, занял противоположную позицию, хотя бы по той причине, что не хотел, чтобы его любимая служба открыла тюрьму. Премьер-министр полушутя предложил отправить Радека пешком в пустыню Негев, чтобы его сожрали там скорпионы и стервятники. В конце концов взял верх Габриель. Худшим наказанием для такого человека, как Радек, заявил Габриель, будет отношение к нему как к обычному преступнику. Стали искать подходящее место, где бы его запереть, и остановились на полицейском исправительном центре, построенном англичанами во время Мандата в убогом квартале Яффы, все еще известном под своим арабским названием Абу-Кабир.
Прошло семьдесят два часа, прежде чем широкой публике стало известно, что Радек взят в плен. Сообщение премьер-министра было кратким и намеренно уводящим в сторону. Были приняты все меры, чтобы без нужды не ставить в сложное положение австрийцев. Радек, заявил премьер-министр, был обнаружен, когда он жил под фальшивым именем, но не было сказано, в какой стране. После проведенных с ним переговоров он добровольно согласился приехать в Израиль. По условиям соглашения, он не будет предан суду, поскольку по израильским законам единственно возможным для него приговором была бы смерть. Вместо этого он постоянно будет находиться в исправительном центре и «признает свою вину» в совершении преступления против человечества, сотрудничая с группой историков из «Яд Вашема» и Ивритского университета над созданием досконального описания «Акции 1005».
По этому поводу не было особых фанфар и возбуждения, какие сопровождали весть о захвате Эйхманна. Собственно, захват Радека через несколько часов был отодвинут на задний план известием о смертнике, убившем с помощью бомбы двадцать пять человек на рынке в Иерусалиме. Лев получил некоторое удовлетворение от такого развития событий, казалось, подтвердившего его точку зрения, что у государства есть куда более важные заботы, чем преследование старых нацистов. Он начал именовать эту историю «придурью Шамрона», но довольно быстро обнаружил, что в этом отношении одинок среди рядовых своей службы. А на бульваре Царя Саула захват Радека, казалось, разжег старые костры. Лев изменил свою позицию, чтобы не противостоять общему настроению, но было уже слишком поздно. Все знали, что задержание Радека было устроено Memuneh и Габриелем и что Лев на каждом повороте всячески пытался препятствовать им. Отношение ко Льву рядовых бойцов упало до опасно низкого уровня.
Слабая попытка сохранить в тайне австрийскую принадлежность Радека была взорвана видеопленкой его прибытия в Абу-Кабир. Венская пресса быстро и правильно установила, что узником является Людвиг Фогель, довольно известный австрийский бизнесмен. Неужели он и правда согласился добровольно покинуть Вену? Или же в действительности был выкраден из своего похожего на крепость дома в Пятом округе? В последующие дни газеты полны были догадок о таинственной карьере Фогеля и его политических связях. Проведенные прессой расследования опасно близко подошли к Петеру Метцлеру. Ренате Хофманн из Объединения за лучшую Австрию призывала начать официальное расследование и высказала предположение, что Радек, возможно, был связан с бомбой, взорвавшейся в «Рекламациях за период войны и справках», и с таинственной смертью пожилого еврея по имени Макс Клайн. Ее требования не были услышаны. Взрыв бомбы был устроен исламскими террористами, заявило правительство. Что же до смерти несчастного Макса Клайна, так это было самоубийство. Дальнейшее расследование, заявил министр юстиции, ни к чему.
Следующая глава в деле Радека развернулась не в Вене, а в Париже, где на французском телевидении выступил замшелый бывший кэгэбешник, заявив, что Радек был московским шпионом в Вене. Бывший мастер шпионажа в Штази, ставший своего рода литературной сенсацией в новой Германии, тоже претендовал на Радека. Шамрон сначала заподозрил, что эти притязания являются частью кампании дезинформации, направленной на то, чтобы вытравить из ЦРУ вирус Радека, – именно так поступил бы Шамрон, будь он на их месте. А потом он узнал, что в ЦРУ намеки на то, будто Радек предлагал свои услуги на обеих сторонах улицы, вызвали нечто вроде паники. Из морозильника были вытащены папки; была срочно собрана команда из старых специалистов по Советскому Союзу. Шамрон втайне наслаждался этой тревогой у своих коллег в Лэнгли. Окажись Радек двойным агентом, сказал Шамрон, – это было бы лишь справедливо. Эдриан Картер запросил разрешения проверить как следует Радека, когда израильские историки покончат с ним. Шамрон пообещал рассмотреть эту просьбу.
Узник Абу-Кабира понятия не имел о бушевавшей вокруг него буре. Он сидел в одиночке, хотя и не в очень тяжелых условиях. Он содержал в порядке свою камеру и свою одежду, принимал пищу и мало жаловался. Его охранники, хотя и старались ненавидеть его, не в состоянии были питать к нему ненависть. Он в душе ведь был полицейским, и его тюремщики, казалось, видели в нем что-то знакомое. Они обращались с ним вежливо, и такой же вежливостью отвечал им он. Он был своего рода редкостью. Они читали о таких, как он, людях в школе и проходили мимо его камеры в самые разные часы, просто чтобы посмотреть на него. Радеку начинало все больше и больше казаться, будто он стал музейным экспонатом.
Он обратился всего с одной просьбой: попросил каждый день давать ему газету, чтобы быть в курсе текущих событий. Его вопрос был передан даже Шамрону, который дал согласие при условии, что это будет израильская газета, а не какое-нибудь немецкое издание. И вот каждое утро на подносе с завтраком у него лежала «Джерузалем пост». Он обычно пропускал статьи о себе – в любом случае они были во многом неточны – и обращался к разделу иностранных новостей, чтобы прочесть, как идут выборы в Австрии.
Мордехай Ривлин нанес Радеку несколько визитов, чтобы подготовить его к предстоящим показаниям. Было решено, что их встречи запишут на видео и каждый вечер будут передавать по израильскому телевидению. Радек по мере приближения своего первого появления на публике, казалось, с каждым днем волновался все больше. Ривлин потихоньку попросил начальника исправительного центра держать узника под наблюдением, чтобы он не совершил самоубийства. И у решетки камеры Радека в коридоре был поставлен охранник. Сначала Радек возмущался этим дополнительным надзором, но вскоре даже обрадовался живому человеку рядом.
Накануне того дня, когда Радек должен был давать показания, Ривлин пришел в последний раз. Они провели час вместе – Радек был озабочен и впервые замкнут. Ривлин сложил свои документы и записи и попросил охранника открыть дверь камеры.
– Я хочу видеть его, – вдруг сказал Радек. – Спросите, окажет ли он мне честь посетить меня. Скажите, что я хотел бы задать ему несколько вопросов.
– Я не могу ничего обещать, – сказал Ривлин. – Я ведь не связан с…
– Просто спросите его, – сказал Радек. – В худшем случае он может сказать «нет».
Шамрон обязал Габриеля пробыть в Израиле до дня, когда Радек начнет давать показания, и Габриель, хотя ему не терпелось вернуться в Венецию, нехотя согласился. Он жил на конспиративной квартире близ Сионистских ворот и каждое утро просыпался под звуки церковных колоколов в Армянском квартале. Он садился на затененной террасе, с видом на стены Старого города и не спеша пил кофе и читал газеты. Он внимательно следил за развитием дела Радека. И был рад, что с поимкой Радека связано имя Шамрона, а не его имя. Габриель жил за границей под вымышленным именем, и ему вовсе не нужно было, чтобы его настоящее имя фигурировало в прессе. К тому же после того, как Шамрон столько сделал для своей страны, он заслужил один день в конце карьеры быть освещенным солнцем.
По мере того, как дни медленно текли, Габриель постепенно обнаруживал, что Радек становится все более и более чужим для него. Хотя у Габриеля была почти фотографическая память, он с трудом мог ясно припомнить лицо Радека или звук его голоса. Треблинка представлялась ему сейчас кошмаром, виденным во сне. Интересно, думал он, так ли это было и для его матери. Оставался ли Радек неприглашенным гостем в отсеках ее памяти, или же она заставляла себя вспомнить его, чтобы передать его образ на полотне? Так ли было со всеми, кто встречался с подобным абсолютным злом? Быть может, этим объяснялось молчание тех, кто выжил. Быть может, они были избавлены от боли воспоминаний, чтобы могли продолжать жить. Одна мысль без конца возвращалась к Габриелю: ведь если бы Радек вместо двух девушек убил в тот день в Польше его мать, он, Габриель, никогда бы не существовал. И он тоже начал чувствовать вину за то, что жив.
В одном он был уверен: он не готов был забыть. И поэтому обрадовался, когда один из помощников Льва как-то днем позвонил ему и поинтересовался, не согласится ли он написать официальную историю этого дела. Габриель согласился с тем, что он создаст также отредактированную версию событий для архива в «Яд Вашеме». За этим последовало немало переговоров о том, когда подобный документ может быть опубликован. Было установлено, что через сорок лет, и Габриель приступил к работе.
Он стал писать на кухонном столе, где стоял портативный компьютер, который дала ему Контора. Каждый вечер он запирал компьютер в сейфе, вделанном в пол под диваном в гостиной. Он никогда раньше не писал, поэтому инстинктивно подошел к решению этой задачи, словно надо было писать картину. Он создал грунт – широкий и аморфный, затем медленно начал накладывать краски. Он пользовался простой палитрой и тщательно работал кистью. По мере того, как шли дни, к нему постепенно вернулось лицо Радека – он увидел его так же ясно, как видел на картинах, написанных матерью.
Он работал до середины дня, затем устраивал перерыв и отправлялся к больнице при Хадасском университете, где лежал Эли Лавон, который, проведя месяц без сознания, начал проявлять признаки выхода из комы. Габриель сидел у Лавона час или около того и рассказывал ему о деле. Затем он возвращался на свою квартиру и работал дотемна.
В тот день, когда он закончил свой отчет, он пробыл в больнице до вечера и оказался там, когда Лавон открыл глаза. Сначала Лавон тупо смотрел в пространство, затем во взгляде его появилась былая острота и, оглядев незнакомую больничную палату, он остановил взгляд на лице Габриеля.
– Где мы? В Вене?
– В Иерусалиме.
– Что ты тут делаешь?
– Работаю над отчетом для Конторы.
– О чем?
– О поимке нацистского военного преступника по имени Эрих Радек.
– Радек?
– Он жил в Вене под именем Людвиг Фогель.
Лавон улыбнулся.
– Расскажи мне все, – пробормотал он, но прежде чем Габриель мог сказать хоть слово, он снова потерял сознание.
Когда в тот вечер Габриель вернулся в квартиру, на его автоответчике мигал огонек. Он нажал на кнопку «Пуск» и услышал голос Мордехая Ривлина:
– Узник Абу-Кабира хотел бы поговорить. Я послал его к черту. Теперь ваша очередь.
40
Яффа, Израиль
Исправительный центр был окружен высокой стеной желтого цвета, по верху которой были проложены витки колючей проволоки. Ранним следующим утром Габриель подошел ко входу и был тотчас же впущен. Далее он должен был пройти по узкому огороженному проходу, напомнившему ему о «Дороге в рай» в Треблинке. На другом конце прохода его ждал тюремщик. Он молча провел Габриеля в безопасное помещение, затем в комнату для допросов без окон, с голыми шлакобетонными стенами. Радек как статуя сидел у стола в темном костюме и при галстуке. Его руки в наручниках лежали на столе. Он поздоровался с Габриелем еле заметным кивком головы, но не встал.
– Снимите наручники, – сказал Габриель тюремщику.
– Это против правил.
Габриель так посмотрел на тюремщика, что через минуту наручников не стало.
– Лихо вы это проделали, – сказал Радек. – Это еще один ваш психологический способ воздействия? Хотите показать вашу власть надо мной?
Габриель пододвинул к себе жесткий железный стул и сел.
– Я не думаю, чтобы при данных условиях подобная демонстрация была необходима.
– Наверное, вы правы, – сказал Радек. – Так или иначе, я восхищен тем, как вы провели все дело. Хотелось бы мне думать, что я мог бы проделать это так же хорошо.
– С кем? – спросил Габриель. – С американцами или с русскими?
– Вы намекаете на заявления этого идиота Белова в Париже?
– А они соответствуют действительности?
Радек молча смотрел на Габриеля, и на несколько секунд что-то от прежней стали вернулось в его голубые глаза.
– Когда играешь в игру так долго, как это делал я, заключаешь много союзов и участвуешь в стольких обманах, то под конец порой трудно понять, где проходит водораздел между правдой и ложью.
– Белов, казалось, был убежден, что знает правду.
– Да, но, боюсь, это убеждение дурака. Видите ли, Белов не мог знать правду. – И Радек переменил тему: – Я полагаю, вы видели сегодняшние утренние газеты?
Габриель кивнул.
– Он победил с бо́льшим превосходством, чем можно было ожидать. Похоже, мой арест способствовал этому. Австрийцы никогда не любили чужаков, которые вмешиваются в их дела.
– Вы ведь не злорадствуете?
– Конечно, нет, – сказал Радек. – Мне только жаль, что я дешево продал себя в Треблинке. Возможно, мне не следовало так легко соглашаться. И я не так уж уверен, что избирательная кампания Петера пострадала бы из-за того, что стало бы известно о моем прошлом.
– Есть вещи политически несовместимые – даже в такой стране, как Австрия.
– Вы недооцениваете нас, Аллон.
Габриель дал тишине установиться между ними. Он уже начинал жалеть, что согласился прийти.
– Мордехай Ривлин сообщил, что вы хотите меня видеть, – примирительно сказал он. – Я не располагаю большим количеством времени.
Радек немного выпрямился на стуле.
– Я подумал, что вы могли бы оказать мне профессиональную услугу, ответив на пару вопросов.
– Это зависит от вопросов. И мы с вами не принадлежим к одной профессии, Радек.
– Да, – согласился Радек. – Я был агентом американской разведки, а вы – убийца.
Габриель встал со стула. Радек поднял руку.
– Подождите, – сказал он. – Сядьте. Пожалуйста.
Габриель снова сел.
– Человек, позвонивший ко мне домой в ночь, когда меня выкрали…
– Вы хотите сказать – арестовали?
Радек наклонил голову.
– Хорошо, арестовали. Я полагаю, это был самозванец.
Габриель кивнул.
– Он отлично сыграл. Как это он сумел так хорошо войти в роль?
– Вы же не ожидаете, что я стану отвечать вам на это, Радек?
– У вас явно была запись его голоса.
Габриель посмотрел на свои часы.
– Я надеюсь, вы не заставили меня ехать в Яффу, чтобы задать мне один вопрос.
– Нет, – сказал Радек. – Есть еще одна вещь, которую я хотел бы знать. Когда мы были в Треблинке, вы упомянули, что я принимал участие в эвакуации узников из Биркенау.
Габриель прервал его:
– Можем мы наконец оставить в покое эвфемизмы, Радек? Это не была эвакуация. Это был «Марш смерти».
Радек с минуту молчал.
– Вы упомянули также, что я лично убил несколько узников.
– Я знаю, что вы убили по крайней мере двух девушек, – сказал Габриель. – Я уверен, что их было больше.
Радек закрыл глаза и медленно кивнул.
– Их было больше, – сказал он словно издалека. – Много больше. Я помню тот день, словно это было на прошлой неделе. Я уже какое-то время чувствовал, что приближается конец, но, увидев эту вереницу узников, марширующих в направлении рейха… я понял, что это – Götterdämmerung. Это были настоящие Сумерки Богов.
– И тогда вы начали убивать?
Он снова кивнул.
– Мне поручили сберечь их страшную тайну, а затем выпустили несколько тысяч свидетелей живыми из Биркенау. Я уверен, вы можете представить себе, что я чувствовал.
– Нет, – вполне искренне сказал Габриель. – Я не в состоянии представить себе, что вы чувствовали.
– Там была девушка, – сказал Радек. – Помню, я спросил ее, что она станет рассказывать своим детям про войну. Она ответила, что расскажет им правду. Я приказал ей солгать. Она отказалась. Я убил двух ее подруг, а она по-прежнему не сдавалась. По какой-то причине я дал ей уйти. После этого я перестал убивать узников. Посмотрев ей в глаза, я понял, что это бесполезно.
Габриель опустил глаза на свои руки, не желая попадаться Радеку на удочку.
– Я полагаю, эта женщина и была вашей свидетельницей? – спросил Радек.
– Да.
– Странно, – сказал Радек, – но у нее были ваши глаза.
Габриель поднял глаза. Помедлил и произнес:
– Мне все так говорят.
– Это была ваша мать?
Снова помедлил, потом сказал правду.
– Я готов выразить мои сожаления, – сказал Радек, – но я понимаю, сколько бы я ни извинялся, это ничего для вас не значит.
– И вы правы, – сказал Габриель. – Не говорите ничего.
– Значит, вы это совершили в память о ней?
– Нет, – сказал Габриель. – В память обо всех них.
Тут дверь вдруг отворилась. Тюремщик вошел в комнату для допросов и объявил, что пора ехать в «Яд Вашем». Радек медленно поднялся и протянул руки. Пока ему надевали наручники, он все смотрел в лицо Габриеля. Габриель проводил Радека до двери, затем проследил за тем, как он прошел по огороженному проходу в ожидавший его фургон. Габриель достаточно насмотрелся. Теперь он хотел просто забыть.
Выехав из Абу-Кабира, Габриель поехал в Софед повидать Циону. Они перекусили в маленьком кафе в квартале художников. Она пыталась заставить его разговориться о деле Радека, но Габриель, расставшись всего два часа назад с убийцей, был не в настроении говорить и дальше о нем. Он заставил Циону поклясться, что она будет держать в тайне его участие в деле, затем переменил тему разговора.
Какое-то время они поговорили об искусстве, потом о политике и, наконец, о том, как будет строиться жизнь Габриеля. Циона знала о существовании пустой квартиры на расстоянии нескольких улиц от ее собственной. Квартира была достаточно большой, чтобы устроить в ней студию, и была одарена самым замечательным светом в Верхней Галилее. Габриель пообещал подумать об этом, но Циона снова поняла, что он лишь старается успокоить ее. Глаза его снова стали мятущимися. Ему уже не терпелось уйти.
За кофе он рассказал ей, что нашел место, куда можно поместить кое-что из работ матери.
– Где же это?
– В Музее искусства холокоста в «Яд Вашеме».
Большие глаза Ционы затуманились слезой.
– Какое идеальное место, – сказала она.
После ленча они поднялись по каменным ступеням в квартиру Ционы. Она отперла дверь чулана и осторожно достала картины. Они провели целый час и отобрали двадцать наилучших произведений для «Яд Вашема». Циона обнаружила еще два полотна, где был изображен Эрих Радек. Она спросила Габриеля, что он хочет, чтобы она с ними сделала.
– Сожги их, – ответил он.
– Но они, наверное, сейчас стоят кучу денег.
– Меня не интересует, чего они стоят, – сказал Габриель. – Я не желаю никогда больше видеть его лицо.
Циона помогла ему загрузить картины в машину. И он отправился в Иерусалим под затянутым тучами небом. Сначала он пошел в «Яд Вашем». Куратор принял у него картины, затем побежал назад, чтобы присутствовать при начале допроса Эриха Радека. Как, судя по всему, поступила и вся остальная страна. Габриель ехал по тихим улицам Оливковой горы. Он положил камень на могилу матери и прочитал заупокойный каддиш по ней. То же проделал он и на могиле отца. Затем он поехал в аэропорт «Лодь» и сел на вечерний самолет, летевший в Рим.
41
Венеция – Вена
На другое утро в районе Каннареджио Франческо Тьеполо вошел в церковь Сан-Джованни-Кризостомо и медленно пошел по среднему проходу. Он заглянул в часовню святого Иеронима и увидел, что на затянутой полотном платформе горит свет. Он подкрался к ней, схватил своей медвежьей лапой стояк лесов и сильно встряхнул. Реставратор поднял на лоб увеличительные очки и, словно горгулья, свесился вниз посмотреть, кто там.
– С приездом, Марио, – сказал Тьеполо. – Я уже начинал беспокоиться. Где ты был?
Реставратор опустил очки на глаза и снова обратился к созерцанию Беллини.
– Собирал искры от костра, Франческо.
«Собирал искры? О чем это – ради всего святого – он говорит?» Но Тьеполо знал, что задавать вопросы не надо. Ему важно было лишь то, что реставратор наконец вернулся в Венецию.
– Сколько еще времени до окончания?
– Три месяца, – сказал реставратор. – Может быть, четыре.
– Лучше, если это будет три.
– Да, Франческо, я знаю, что три месяца лучше. Но если ты будешь трясти мою платформу, то я никогда не закончу.
– Ты не планируешь снова куда-то отправиться, Марио?
– Всего в одно место, – сказал он, нацелив кисть на полотно. – Но это будет ненадолго. Обещаю.
– Ты всегда так говоришь.
Пакет прибыл в часовую мастерскую в Первом округе Вены с курьером на мотоцикле ровно через три недели. Часовщик самолично принял пакет. Он расписался у курьера и дал немного денег в благодарность за его труды. Затем отнес пакет в мастерскую и положил на стол.
А курьер снова сел на свой мотоцикл и помчался прочь – он приостановился в конце улицы ровно настолько, чтобы просигналить женщине, сидевшей за рулем автомобиля «рено». Женщина набрала номер на своем мобильнике и нажала на кнопку «Вызов». Через минуту Часовщик ответил.
– Я только что отправила вам часы, – сказала она. – Вы получили их?
– Кто это?
– Я друг Макса Клайна, – шепотом произнесла она. – А также Эли Лавона, Ревекки Газит и Сары Гринберг.
Она опустила телефон и быстро набрала четырехзначный номер, затем повернула голову и тотчас увидела ярко-красный шар, вспыхнувший на фронтоне магазина Часовщика.
Дрожащими руками она повернула руль, отъехала от тротуара и направилась к Рингштрассе. Габриель бросил свой мотоцикл и ждал ее на углу. Она остановилась ровно настолько, чтобы он успел залезть в машину, затем свернула на широкий бульвар и влилась в вечерний поток машин. Мимо них, в противоположном направлении, промчалась машина Государственной полиции. Кьяра внимательно смотрела на дорогу.
– Ты в порядке?
– По-моему, меня сейчас стошнит.
– Да, я понимаю. Хочешь, чтобы я сел за руль?
– Нет, я могу ехать.
– Тебе надо было дать мне набрать сигнал детонации.
– Я не хотела, чтобы ты чувствовал ответственность за еще одну смерть в Вене. – Она смахнула слезу со щеки. – Думал ли ты о них, когда услышал взрыв? Думал ли ты о Лее и Дане?
Он откликнулся не сразу, потом покачал головой.
– О чем же ты подумал?
Он вытянул руку и смахнул слезинку с ее щеки.
– О тебе, Кьяра, – мягко произнес он. – Я думал только о тебе.
От автора
«Смерть в Вене» завершает цикл из трех романов, написанных о неоконченном деле холокоста. Кража нацистами произведений искусства и сотрудничество с ними швейцарских банков послужили фоном для «Убийцы по прозвищу Англичанин». Роль католической церкви в холокосте и молчание папы Пия XII вдохновили меня на написание «Исповедника».
Роман «Смерть в Вене», как и предшествующие ему книги, основан в общем-то на реальных событиях. Генрих Гросс был действительно врачом в знаменитой клинике «Ам Шпигельгрунд» во время войны. И описание слабой попытки Австрии предать его суду в 2000 году абсолютно точно. В том же году Австрию раздирали слухи о том, что офицеры полиции и служб безопасности работают на Йорга Хайдера и его крайне правую партию Свободы, стремясь дискредитировать критиков и политических противников.
«Акция 1005» – так действительно именовалась нацистская программа по сокрытию доказательств холокоста и уничтожению останков миллионов погибших евреев. Руководитель этой операции, австриец по имени Пауль Блобель, был осужден в Нюрнберге за свою роль в массовых убийствах, которые проводила айнзатцгруппен, и приговорен к смерти. Он был повешен в Ландсбергской тюрьме в июне 1951 года и никогда не был подробно допрошен о том, что он делал как командир «Акции 1005». Епископ Алоиз Гудал был действительно ректором в семинарии «Санта-Мария-дель-Анима» и помог сотням нацистских военных преступников бежать из Европы, включая коменданта Треблинки Франца Штангля. Ватикан утверждает, что епископ Гудал действовал без одобрения папы или других старших членов курии и они ничего не знали об этом.
Аргентина, безусловно, была конечным пунктом для тысяч военных преступников, находившихся в поиске. Вполне возможно, что некоторые из них все еще живут там и сегодня. В 1944 году команда «Эй-би-си ньюс» обнаружила там бывшего офицера СС Эриха Прибке, который открыто жил в Барелоче. Прибке явно чувствовал себя в Барелоче в такой безопасности, что, отвечая на вопрос корреспондента «Эй-би-си ньюс» Сэма Доналдсона, спокойно признал, что играл центральную роль в массовом убийстве, произведенном в Адриатических пещерах в марте 1944 года. Прибке был выслан в Италию, судим и приговорен к пожизненному заключению, хотя ему позволили отбыть этот срок под «домашним арестом». После многих лет маневрирования законом и апелляций католическая церковь позволила Прибке жить в монастыре неподалеку от Вены.
Генерал Рейнхард Гелен, главный шпион Гитлера на Востоке, стал работать на американскую разведку почти сразу после войны. Десятки немцев, непосредственно связанных с «окончательным решением», со временем нашли работу в разведсети, финансируемой ЦРУ. Мы никогда до конца не узнаем, какое влияние имели эти люди на американскую внешнюю политику в первые годы «холодной войны».
Примечания
1
Округ (ит.). – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Исправления (ит.).
(обратно)3
Добрый день (ит.).
(обратно)4
Рожок (ит.).
(обратно)5
здесь: вода в каналах (ит.)
(обратно)6
Выход (ит.).
(обратно)7
Накидка (иврит).
(обратно)8
Алло (ит.).
(обратно)9
Младший офицер разведки (иврит).
(обратно)10
Шабат – празднование субботы.
(обратно)11
Стол, на котором лежит Тора.
(обратно)12
Шахиды – террористы-смертники.
(обратно)13
Еврейка, двигайся, двигайся (нем.).
(обратно)14
В очень хорошем, но мне надо поупражняться в квебекском акценте (искаж. фр.).
(обратно)15
Филе трески (ит.).
(обратно)16
Подлинный крест (ит.).
(обратно)17
Историческом центре (ит.).
(обратно)18
Район (исп.).
(обратно)19
Доброй ночи, синьор (ит.).
(обратно)20
Пирог с мясом (исп.).
(обратно)21
Приятного аппетита (фр.).
(обратно)22
Нежелательная личность (лат.).
(обратно)23
Мирт (исп.).
(обратно)24
Тихий голос (ит.).
(обратно)25
Мелкая сошка (иврит).
(обратно)26
Привет (иврит).
(обратно)27
Свершившийся факт (фр.).
(обратно)


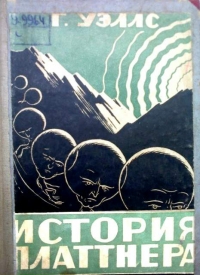

Комментарии к книге «Убийство в Вене», Дэниел Силва
Всего 0 комментариев