Ингрид Нолль Натюрморт на ночном столике
РОЗОЧКА
Яркий букет в прозрачном кубке: розы, розовые и белые, василек, огненные красно-желтые тюльпаны, нарцисс, крошечная фиалка, анютины глазки и жасмин, всего несколько цветочков. Сквозь стекло мерцают зеленоватые стебли и листья, вода мутноватая, зеленоватая с черным, как и весь затемненный фон картины. Освещен лишь сам букет. Каждый цветок живет своей жизнью — один склонился вправо, другой — влево, этот распускается, тот поднимает гордо голову, а кто-то там и вовсе прячется среди своих роскошных собратьев. Только один бутон не похож на остальные цветы: розочка клонится вниз, будто ей стыдно и она хочет скорей укрыться в темном углу натюрморта.
В моей жизни красные розы сыграли роковую роль, но этот темно-красный бутон — мой любимый. Нежные лепестки, те, что ближе к стеблю, отдают в желтизну, а вокруг — весенняя зелень чашечки. Один из лепестков дерзко загнулся кверху, но поникшая головка означает, что цветок обречен и скоро завянет. Три с половиной века назад написал Даниель Сегерс этот букет, а цветы такие свежие, будто только что из сада. Здесь нет ни пионов, ни лилий, ни ирисов — это все цветы Пречистой Девы, — так что, я думаю, никакого сакрального смысла картина в себе не таит. Букет предназначался для самой обыкновенной, земной нормальной женщины. Такой, скажем, как я.
Но тут же меня, в который раз, одолевают сомнения. Это я-то нормальная женщина? Я, которая любит пауков и мышей? Которая с детства помешана на животных? Нет, не на мишках там каких-нибудь плюшевых: меня всегда тянуло к крошечным живым тварям. Когда я следила за их возней, во мне разгорался охотничий азарт: мне хотелось поймать, схватить… По каким только пыльным углам я не рыскала без всякого страха в поисках бог знает каких насекомых, голыми руками поймала как-то шмеля, и он гудел у меня в кулаке. Еще интересней, конечно, было мять всяких теплокровных — маленьких грызунов и птичек. И при этом мне ни разу не удалось поймать здорового зверька — то какой-нибудь увечный попадется, умирающий, то какая-нибудь беременная. Кладбище мое напоминало грядку в огороде, и каждого усопшего моего пленника ждала красивая могилка, с любовью убранная камешками и маргаритками. Как истинная собирательница, я бы, разумеется, охотнее похоронила одного большого млекопитающего зверя, чем, скажем, уже пятого черного дрозда. Но этому обычно предшествовал сложный обмен. Однажды, например, за мертвую морскую свинку у меня потребовали мамину губную помаду, и я смогла это устроить.
Вообще в детстве я любила чего-нибудь «отмочить»: специально оставляла открытыми банки с медом — для пчел, пила папино пиво, успешно торговала сделанным домашним заданием, могла и стянуть у мамы из кошелька деньжат, врала напропалую. Чаще всего никто ничего не замечал. А если родители и «застукивали» меня, то мне все сходило с рук. Отец в таких случаях выговаривал мне, что я и так живу неплохо, что должна быть довольна тем, что имею, и потому не должна нарушать закон. Мать же никогда не ругала, лишь вздыхала время от времени: «Ах, глупая мышка!» Иногда я просто скучала по наказанию, мне хотелось, чтобы родители разбушевались, разгневались, но только оба они на сильные чувства были совершенно не способны.
Мой отец женился на моей матери, медсестре, намного моложе его, в 55 лет. Это был его второй брак. Едва я появилась на свет, он занемог, слег в постель, и пятнадцать лет, вплоть до самой смерти, уже не вставал, и мать ухаживала за ним. С тех пор в спальне моей матери стоят две кровати — «больная» и «здоровая». И только мы, члены семьи, понимаем, что это за кровати. Опустевшее ложе моего родителя так и осталось в спальне. На нем пришлось спать мне, пока я не покинула родительский дом. Правда, когда отца хватил третий уже удар и он скончался в больнице, я сама добровольно забралась в его кровать, поближе к мамочке. Но потом все мои попытки вернуться назад в мою комнату окончились ничем. Мать донимали то головокружения, то мигрень, то ночные кошмары, то приступы панического страха. Может, мне следовало бы дать ей отпор, воспротивиться поэнергичней, но на меня уже была возложена ответственность за материнское здоровье и благополучие, так что пришлось уступить. Она подспудно внушала мне, что просто умрет, если меня не будет рядом.
Отцовская кровать до сих пор всегда застелена свежим бельем. Некоторое время она называлась «папиной кроватью», потом мать переименовала ее в «больную». При жизни отца его ложе было оборудовано разными приспособлениями. Деревянной решеткой, например, которую можно было двигать и переставлять на разные уровни. Сверху лежал гибкий матрас, и вся кровать была как бы на шарнирах, крутилась и вертелась во все стороны, а сбоку крепился столик-поднос, который отодвигался и придвигался. Когда матери, после того как я покинула дом, пришлось, хотела она этого или нет, привыкать к одиночеству, то обнаружились все удобства и достоинства «больной» койки. Стоило маменьке схватить грипп, как она тут же перебиралась в кровать покойного супруга. Со временем мать постелила туда матрас из латекса и поменяла решетку, которую приводил в действие специальный моторчик: он поднимал или опускал на любой уровень и ноги, и изголовье. Кто не в курсе мамочкиной терминологии, тот непременно примет за «больную» кровать именно «здоровую», с древним продавленным матрасом. На таком даже самую мускулистую молодую спину скрутит радикулит.
Думается мне, мамуля специально по нескольку ночей спит на «здоровой» кровати, чтобы у нее вступило в спину и появилась причина перебраться на одр болезни. Там она с чистой совестью сутками валяется без дела, смотрит телевизор, читает, завтракает. Иногда нажимает на кнопку, нижний конец кровати взмывает вверх так, что ее бедра оказываются в вертикальном положении, а ноги ниже колен располагаются горизонтально. Порой она поднимает спинку и садится. Или наоборот — еще выше приподнимает подножие кровати. В этот момент она похожа на не до конца раскрытый складной нож. Несколько суток в «больной» кровати, и мама снова здорова и готова выдерживать неудобства в «здоровой».
Телефон, разумеется, стоит на ночном столике возле «больной» кровати, чтобы в смертный час был под рукой. Мамуля согласна даже каждый раз, когда телефон звонит, бежать в спальню. Там она плюхается на постель и только после этого хватает трубку. Знаете, некоторые курильщики не могут разговаривать по телефону без зажженной сигареты: первые секунды в трубке слышно щелканье зажигалки, потом человек глубоко затягивается и, наконец, внимание собеседника на том конце провода обращается на вас. Когда я звоню матери поболтать, в трубке слышится легкое жужжание: она поднимает повыше спинку кровати.
Эта «больная» кровать, скорее всего, и выгнала меня раньше времени из родительского гнездышка. До пятнадцати лет я спала в своей комнате и подружек иногда ночевать приводила. И родители позволяли мне остаться на ночь у какой-нибудь девочки после дня рождения или во время каникул. Но вот умер отец, и все закончилось. Хочешь не хочешь, окажешься в изоляции.
Только соберешься «оторваться» с одноклассниками на вечеринке, как мать ровно в десять присылает за тобой такси. Вероятно, она не столько беспокоилась за меня, сколько изнемогала от страха, что соседняя кровать будет пустовать до утра. И когда меня привозили домой родители моих подруг, она всегда бодрствовала и глаза ее были неизменно полны горького упрека.
Я закончила школу и решила уехать в Гейдельберг штудировать биологию. Правда, эта наука не особенно меня привлекала, но дома я сделала вид, что жить без нее не могу.
Мамуля меня все-таки, наверное, любит. Она смирилась или, по крайней мере, осознала, что ее единственное дитя не будет весь век свой спать у нее под боком. Я, понятное дело, поначалу на выходные приезжала домой и опять спала в одной комнате с матерью. Но через год она привыкла к одиночеству, перестала донимать меня каждый день звонками, больше не следила, во сколько я возвращаюсь вечером в общежитие, уже не присылала мне кулечки с сервелатом и миндальным печеньем и не закатывала истерику, если я уезжала на каникулы с подружкой куда-нибудь в Шотландию (вы понимаете, мне много надо было наверстать).
Спустя еще год я бросила учебу: меня доконала аллергия на асбест, достал один невменяемый профессор, а еще я возненавидела математику, физику и химию, и учить их было выше моих сил. Матери я ничего не сказала. Потом, решила я, когда хоть как-то в жизни устроюсь, вот тогда ей все и объясню.
С тех пор я проводила полдня в постели — совсем как маменька, а вечером отправлялась работать официанткой в одно кафе. Знакомилась с разными людьми, иностранцами и местными, школьниками и студентами. Частенько сама водила туристов целыми группами по городу, а они потом приглашали меня поужинать. Таких приятелей я меняла как перчатки. Свободы было хоть отбавляй. Вот было время, жаль, прошло… Но совесть меня все время колола: нехорошо врать маме, которая по-прежнему высылает тебе деньги на образование. А я все продолжала врать, когда приезжала к ней на день ее рождения, на Рождество. По телефону сочинять легко, но вот если надо смотреть человеку в глаза… Гадко было все это. Мне только оставалось утешать себя тем, что моя маменька дама совсем не бедная.
Мой первый друг носил многообещающее имя Гёрд Трибхабер.[1] Он звал меня Розочкой — Аннароза он и за имя не считал. Долгое время я полагала, что обязана своим прозвищем строчкам из Гёте: «Мальчик розу увидал, розу в чистом поле, роза, роза, алый цвет, роза в чистом поле».[2] Но одна подружка растолковала мне однажды, что в этом стихотворении речь идет об изнасиловании. Я тогда воспротивилась такому прозвищу, но Герд утверждал, что к нашей первой ночи оно никакого отношения не имеет, это просто сокращение от другого слова: «Неврозочка». Он считал меня немного… э-э… «тово».
Еще бы. Кто вырос на «больной» кровати, тот имеет право на некоторые странности. Меня, например, тошнит от молока, ресницы я никогда не крашу — туши не выношу, еще у меня аллергия на разные вещества. Зато я могу пить, как шут Перкео,[3] и ни в одном глазу. Я прошу кого-нибудь заливать бензин в бак: мне невыносим вид бегущих цифр на счетчике, который словно пожирает мои кровные. Ненавижу вычитать, люблю только складывать. Есть у меня еще парочка «тараканов», но о них я умолчу. Вообще-то нервы у меня в порядке, не стоит так уж преувеличивать. Скорее такое можно сказать о моей маменьке. Когда я предложила ей вообще убрать кровать «здоровую» и спать только на «больной», она встала на дыбы. И все из-за новой своей причуды. Как-то накануне Рождества она записалась в кружок, где шили медведей из плюша, — ей хотелось сделать подарок внукам. Но расстаться с творением своих рук она не смогла и с удвоенной энергией принялась ваять новых зверушек. Скоро вторая кровать вся была завалена лохматыми бурыми и белыми медведями, черными гризли, пандами, коалами, гималайскими медведями с белыми воротничками, барсуками и енотами и прочими «лохматками». Переселение всего этого народца с одной кровати на другую можно уже смело сравнивать с великим переселением народов. А маменька тем временем собирается освоить еще и шитье кукол. Если так пойдет дальше, думаю, скоро ей понадобится трехспальная кровать.
Я росла в семье единственным ребенком. Но это вовсе не означает, что у меня не было братьев и сестер. У моего отца была дочь от первого брака, моя сводная сестра. Она старше моей матери. Эту особу — Эллен ее зовут — я видела за все свои детские годы и в юности четыре раза, а на отцовских похоронах мы сидели рядом целый час. На Рождество мы посылали друг другу лишенные всякого содержания открытки. Кто знает, может быть, Эллен держала на меня зло за то, что наш общий родитель бросил ее мать ради моей, хотя это и произошло за два года до моего рождения. Эллен негодовала на мою маму: якобы та, разлучница, хищница, интриганка, увела у ее матери мужа, разрушила благополучную семью. Более абсурдную мысль трудно себе представить. Да моя мама просто овечка, которая заманила моего отца своим блеянием. Бог его знает, как уж так вышло: она забеременела, а когда на свет появился мой брат, наш отец развелся со своей первой женой. Он всю свою жизнь мечтал о сыне.
Увы, младенец погиб, кажется, год спустя — несчастный случай. Минуло совсем немного времени, и моя мать уже носила меня. Когда папуля узнал, что вместо сына ему родили дочь, он захворал. Таким только я его и помню: пятнадцать лет в постели, страдающего и несчастного. О причине его горя я узнала лишь тогда, когда пошла в гимназию и в одночасье стала «взрослой девочкой»: на ночном столике у кровати в позолоченной рамке стояла фотография его единственного сына, его погибшего Мальте.
Так вот, в моей жизни присутствуют живая сестра и мертвый брат, и к обоим — никаких нежных чувств. Всем, к сожалению, было ясно, что сына я отцу не заменю. Меня особенно раздражало, что о смерти мальчика никто ни слова не проронил, особенно о ее причине. Теперь-то понимаю: это молчание изуродовало мое детство.
Со временем я вышла замуж и сама забеременела. И своего будущего отпрыска я представляла таким же, как тот, чья фотокарточка стояла на отцовском столике: ангелочек со светлыми кудряшками и мечтательными голубыми глазками. А ведь судьба этого херувимчика-мечтателя была предопределена: Мальте мог бы и дальше мечтать сколько угодно, но отец готовил наследника для своего предприятия — магазина по продаже кухонных гарнитуров. Когда же вместо преемника на свет появилась дочь, он продал свой магазин еще до моего крещения и остаток своих дней прожил инвалидом. И даже мысли не допустил, что дочка тоже могла бы продолжить фамильное дело. А мой покойный братец, кажется, избежал отцовского гнева и семейного скандала: судя по его ангельскому личику, он мог обладать каким угодно талантом, кроме коммерческого.
К этим печальным воспоминаниям прибавились другие: отцы моих подруг были страшно заняты, и времени на семью у них оставалось крайне мало, мой же родитель, напротив, поражал моих одноклассниц тем, что постоянно сидел дома, но при этом все окружающее ему было абсолютно безразлично. Большинство моих подружек даже не видели его никогда, но всегда помнили: в нашем доме запрещено громко включать музыку, топать по лестнице, никаких танцев, не дай бог расхохотаться — одним словом, никакого шума, тишина и покой.
Мне иногда приходилось читать отцу вслух, потому что помимо всех его болячек он еще жаловался на «усталые глаза». А что папочка желает послушать? Ответ неизменно был один и тот же: ему все равно. И я читала ему девчоночьи книжки, что-то о животных, какие-то приключения саламандры или даже учебники. Не знаю, слушал ли он меня когда-нибудь или ему просто хотелось всеми силами привязать меня к своей постели. Думаю, впрочем, что, в сущности, ему не было дела ни до книг, ни до меня.
А я все приставала к матери с вопросом: что же это за человек такой был, за которого она вышла замуж? Что-о-о-о?! Ее изумлению не было предела. Я пятнадцать лет живу с отцом под одной крышей и до сих пор не поняла, какой у меня замечательный, все понимающий, душевный папочка?! При этом мамуля не упоминала, что ее муж сидит на транквилизаторах и оттого так отстранен от банальной реальности. А реальной банальностью была я.
Изредка все же мне нравилось проводить с ним время: по пятницам после обеда мы иногда играли. Отец сидел в кровати, я — у него в ногах, а мать была в парикмахерской. Приделанный к кровати поднос служил столом. Игры наши были незатейливы и назывались что-то вроде «цапцарап», «живой-неживой», а когда я подросла, появилась еще игра — «город, речка, лес». Я при этом грызла соленые палочки и шоколад с орехами, отец пил пиво. Мать возвращалась и ругала нас за испачканное белье. Но отец все равно ел в кровати, проливал кофе, сыпал пепел с сигарет, ронял на простыню жирную ветчину и кусочки колбасы, сорил ореховой скорлупой и корочками сыра. Белье тут же меняли, стлали свежее, но запах еды и болезни притягивал мух, и они летели в нашем доме не на кухню или в туалет, а собирались вокруг отцовской постели, источавшей нездоровый дух. Моего родителя так же нельзя представить без мухобойки, как Нептуна — без трезубца. Каждый день я приходила к нему с одним и тем же вопросом: как он себя чувствует? Ответ был всегда один: устал он от жизни, устал. Так, в пять лет я уже выучила употребление родительного падежа, больше ничего толкового отец мне не преподал.
Сейчас я набралась бы смелости и съездила к отцовской первой жене, поговорили бы, выслушали друг друга. Но она вскоре отправилась вслед за своим неверным мужем. Встречи же с моей сводной сестрой Эллен, которой посчастливилось застать нашего папочку в добром здравии, я очень боялась. Я бы не выдержала, если б она начала мне петь о своем счастливом безоблачном детстве, о добреньком папочке, который мастерил ей кукольные домики и танцевал с ней на выпускном балу… Эллен была уже взрослой, когда наш папа ушел от ее матери к моей, вернее, к моему новорожденному брату. Вряд ли для сестры развод родителей был такой уж драмой. У нее все-таки долгое время был отец, который носил синие костюмы. А мне пришлось любоваться его полосатой пижамой или халатами — бордовым или оливковым. Он ходил с Эллен в кино, на церковные праздники, возил на море и приглашал ее на танец. Я же сидела как прикованная у него на кровати, а после его смерти еще и спала там же.
Утверждают, что первая любовь каждой барышни — ее отец. Ну тогда считайте, что моя жизнь — полная безнадега. Отец меня в жизни не любил, а я его — и того меньше. Я вздохнула с облегчением, когда он помер, не подозревая, что он и после смерти может испортить мне существование.
Мать ведет себя так, что я перестала отправлять к ней на каникулы кого-нибудь из своих детей. В доме полно места, моя комната стоит пустая, можно спать там. Но я же знаю мамулю: обязательно заставит моих отпрысков спать в своей комнате на «больной» койке. Нет, все, хватит. Без особых отговорок: никаких бабуле внуков. Хватит ей и медведей плюшевых…
Я вообще считаю, что эта треклятая «больная» кровать виновата в моих ночных кошмарах. Любой человек в сновидениях живет параллельной жизнью, но обычно и там мрак сменяется светом. Подружка моя Сильвия сообщает постоянно: она, мол, видит такие радости, что потом три дня не ходит, а летает. Дети мои получают во сне золотые медали, грезят о том, что всю жизнь дружат с бесстрашным индейцем Виннету,[4] или уплетают двухметрового медвежонка из мармелада. Никогда ничего подобного мне не снилось. Какие-то гадости, отчаяние, то несчастная любовь, то кто-то меня ловит, а то вдруг накатит во сне страх смерти. Говорят, от нечисти, вроде вампиров, помогают распятие и чеснок. Не знаю, мне не помогают. В последнее время я придумала себе новую терапию: вглядываюсь в какую-нибудь картину, погружаюсь в нее, чтобы успокоиться и провести, если повезет, ночь вообще без снов. У меня даже есть два толстых альбома с репродукциями полотен эпохи барокко.
ТИХО, КАК МЫШКА
Еще одна любимая моя картина — натюрморт, где среди неподвижных фруктов и орехов копошатся маленькие грызуны, что, конечно, несколько нарушает законы жанра: натюрморт ведь на то и натюрморт, чтобы изображать только неживые предметы. Три бурые мышки вышли у художника Лудовико ди Сузио такими крошечными, что, кажется, уместились бы на самом кончике пальца, а фрукты по сравнению с ними просто огромные. Их так и хочется взять в руки: золотистый лимон, огненный апельсин, у которого выписана каждая складочка пористой шкурки, румяные яблоки, орехи, сладости, посыпанные сахарной пудрой, ножичек для фруктов на отполированном до блеска оловянном блюде. Мышек замечаешь не сразу, а лишь приглядевшись: они грызут миндальное зернышко. Тихо-тихо шуршат они в ночной темноте и ищут, где бы чего стянуть. Чутким ухом можно уловить, как возятся они на столе, как похрустывает миндаль у них на зубах. Но того, кто крепко спит, это, конечно, не разбудит.
Немало, должно быть, найдется родителей, что зовут своего отпрыска мышкой. А у меня была особая история: я подобрала где-нибудь дохлую мышь и возила ее в кукольной колясочке, а потом со спокойной совестью хоронила. Подружка моя Люси, как она рассказывает, в том же возрасте, играя в парикмахера, остригла усы своему коту. Да уж, славная мы с ней были парочка.
По ночам, когда мои родители давно уже спали, я начинала колобродить. Словно призрак, носилась по дому в ночной рубашке, таскала шоколадные конфеты, плясала перед телевизором с выключенным звуком, залезала в сейф и забавлялась с пачками денег, распускала куски пуловера, связанные мамой за день. Мне было и жутко, и потрясающе весело. Как я ждала, чтобы меня хоть раз застукали, как мне хотелось раскричаться от ужаса! Но все было напрасно, даже на другой день никто моих бесчинств не замечал. Я и бросила. Угас огонек моего темперамента под стеклянным колпаком родительского гнездышка, и я со всеми своими эмоциями утонула в этом болоте. Родители мои были ко мне всегда как-то профессионально добры, как врачи к пациенту, без тени личного участия.
Почти всех матерей терзает по ночам кошмарный сон о брошенном без присмотра младенце. Охваченные ужасом, они в панике ищут ребенка, забытого в каком-то темном пространстве, ребенка, за которого они в ответе. Жив ли он? Его уже столько дней никто не кормил, не пеленал, не прижимал к сердцу! Когда же наконец это несчастное маленькое существо оказывается на руках у матери, оно почти уже не подает признаков жизни, и тогда мать просыпается, захлебываясь слезами.
Сильвия, — она моя дальняя родня и третья в нашем дружеском союзе с тех пор, как переехала в наши края, — сразу подтвердила: сто раз ей такое виделось, каждый раз по-новому. Но я объясняю ей: «Мне это мерещится совсем не потому, что я такая никудышная мать и меня мучает совесть. Подсознание мое мне сигналит: я сама и есть этот замученный младенец». Я, как и многие другие женщины, годами, нет — десятилетиями пеклась только о своей семье и совсем забросила себя саму. Кажется, пришло время полумертвого ребеночка реанимировать, привести в порядок, а то как бы не было слишком поздно.
Сильвия просто обалдела, когда услышала: «Да ты что! Тоже мне психолог! Что за чушь! Это Люси тебе наплела? Да конечно, это все из-за детей, все из-за них совесть мучает. Для них же что ни сделай, все мало».
Я промолчала. Другой мой сон я вообще ей сначала рассказывать не хотела: она сама мне приснилась. Стоим мы в ванной перед зеркалом, делаем себе новые прически, а мой младший плещется в это время в оловянной ванне. Каждая из нас ругает свою свекровь, мы напеваем под музыку, звучащую по радио, пробуем мои новые духи. Тут я бросаю взгляд на своего ребенка: он уже давно утонул! У меня останавливается сердце, я выхватываю малыша из ванны: не дышит. Хватаю за ноги и трясу, чтобы вышла вода. Из его крошечного рта все течет и течет. Потом один за другим вываливаются органы: сердце, печень, почки падают в ванну. Сильвия собирает эти кровавые комочки и выбрасывает их в унитаз, а я с криком просыпаюсь.
Сильвия не стала следить за ходом моих мрачных мыслей, она в тот момент была вне себя: обнаружила у мужа старый чемодан, набитый всякими нескромными фотографиями. Напрасно я в утешение ей говорила, что такую порнушку можно найти чуть ли не в каждом доме. Но я ее, конечно, понимаю, мне и самой в моей семейной жизни приходилось налетать на подводные камни.
Видимо, тогда я твердо решила избавиться от ночных кошмаров и возродить к жизни себя, полумертвого младенца. Сильвии сделать это было легче, она уже много лет любила больше всего своих лошадей. Еще в детстве скакала на лошади, как амазонка, и вот теперь опять не слезала с седла. Каждый день утром дети — в школу, она — в конюшню. Я думаю, она увлеклась верховой ездой, чтобы избавиться от целлюлита, так называемого рейтузного ожирения[5] которым природа ее щедро одарила. Меня заразить страстью к лошадям ей не удалось, я спорт не люблю, мне бы лучше что-нибудь творческое.
Муж мой Райнхард закончил в свое время среднюю школу, выучился в училище на столяра, сдал экзамены, поступил в университет и стал архитектором. Об учебе своей он рассказывал безо всякого трепета, ведь он обтесывал двери из грубого вяза, мечтая о благородных корабельных соснах.
Но когда Райнхард стал работать архитектором, ему очень пригодилось то, что он разбирался в древесине. И когда мы купили свой собственный старенький домик, сбылись его творческие мечты: мой муж перекладывал и реставрировал потолочные и стенные балки, монтировал старинные створчатые окна со ставнями и целыми днями придумывал, что бы нам такое устроить на чердаке.
Мне кажется, лишь у немногих архитекторов действительно есть вкус. Мой муж к их числу не относится. То, что он тут в округе понаделал, трудно не заметить. Какой-то псевдомодерновый ширпотреб, которым заткнули пустые места в пространстве нашего городка. Но Райнхард ведь был всего лишь служащим в архитектурной фирме и заказы себе сам выбирать не мог, потому-то на нашем жилище он душу и отвел, так что наш домик медленно, но верно превратился в своего рода краеведческий музей.
Сначала я была в восторге: есть ли что милее собственного дома с садом? Когда мы осматривали дом и приценивались, в палисаднике цвели флоксы, левкои, маргаритки и гладиолусы вперемешку с петрушкой и луком. Прежняя хозяйка до самой смерти с любовью ухаживала за своими растениями, наследники же ее садом не интересовались, идиллию эту поддерживать не собирались, но цену решили заломить немалую. Мы же с первого взгляда влюбились в дом и в сад и, не особенно торгуясь, заключили сделку.
Что до моего нового хобби, то и оно возникло из Райнхардовой одержимости здоровым деревенским бытом. Дом наш должен быть как в деревне, без всяких стальных новомодных стульев, без кроватей от Корбюзье и офисной мебели, без всего того, чем так увлекались коллеги мужа. Вовремя я спохватилась, иначе мое приданое — мебель в стиле «бидермайер» исчезла бы совсем, а на ее месте возникли бы сосновые лавки, низенькие коротконогие табуреточки и чуть ли не прядильное колесо.
Однажды Райнхард притащил с барахолки настенные часы с разрисованным циферблатом, на котором, как выяснилось, треснуло стекло. Не беда, решил муж и полез в часовые внутренности. Но не тут-то было. Просто отвинтить старое стекло и купить новое, к сожалению, не имело смысла: стекло было расписано изнутри, и картинка тоже треснула. Райнхард был так огорчен, что я решила спасти часы по-своему.
Стекольщик вырезал мне из стекла круг подходящего размера с отверстием для стрелок посередине. И я решила картинку скопировать. Можно было бы, конечно, просто нарисовать на стекле пару садовых роз вместо веселой компании в лодке, усердно налегающей на весла на каком-то баварском озере, но больно уж приятно было смотреть на этих гребцов на прогулке, менять их ни на что не хотелось.
Я накупила масляных красок и прочих, кисточек из куньего меха, всяких дисперсных красителей[6] и прозрачный лак, чтобы покрыть им мое художество. Копировать было нетрудно: я просто подложила треснувший оригинал под новое стекло и обвела черной тушью контуры фигур. Тушь подсохла, и я, как мне посоветовали в магазинчике, где я покупала краски и кисти, начала с цифр, а потом перешла к фигурам на переднем плане.
Райнхард поначалу только скептически фыркал, но увидев, как заиграла моя картинка яркими красками под стеклом, оценил, похвалил и совершенно искренне одобрил. И потом всякий, кто разглядывал мое первое творение, отдавал мне должное: хотя изображение и смещено немного в сторону, так что чуть ли не наплывает на цифры, но все-таки вышло весьма и весьма удачно. Часы эти долго еще занимали почетное место над обеденным столом в нашей столовой.
После первого творческого успеха я вошла во вкус. Роспись часов меня больше не интересовала, в наш деревенский домик прекрасно вписывались и просто картинки на стекле с сельскими видами.
Так каждый из нашей семьи что-нибудь свое в наш интерьер, который все больше походил на деревенский, да привнес: Райнхард свои балки, я — картинки, свекровь моя связала нам из белой некрашеной хлопковой пряжи кружевные занавески, а маменька одарила парочкой плюшевых медведей, один в женском национальном костюме, другой — в кожаных штанишках.
Как-то раз, чтобы сплавить очередного мамулиного медведя в тирольском костюме, я в один из рождественских дней зашла к старой моей подруге Люси. Дочка ее, годовалая Ева, играла под рождественской елкой с котом Орфеем — просто идиллия! У этих двух приятелей под елкой, кажется, полностью совпадали вкусы: оба пили теплое молоко, обоим ласкал слух звон колокольчиков и обоих радовали красные елочные шары. Мерцающее стекло завораживало их, в результате оно скоро превратилось в опасные осколки и оказалось в мусорном ведре.
А как, собственно, формируется у человека вкус? Младенец, который никогда не переступал порога ни одного музея, тянется, подобно насекомым или птицам, ко всему пестрому, блестящему, к сверкающей золотой и серебряной мишуре. Восьмилетние девчонки с ума сходят по глянцевым открыткам, на которых пламенеют алые сердца, вьются гирлянды из незабудок и целуются голуби, и такое сокровище может затмить только новогодний кич: календари с искрящимся снегом. Мне, признаться, тоже все еще греют душу такие красивые глупости, что-то в них есть тайное и сердечное. Меня каждый раз трогает до слез, как дочка моя Лара меняется с подружками этими открытками и прячет их где-то, как ценный клад. Вот и я тоже когда-то, в ее годы…
Поначалу я с увлечением копировала лики святых из одного альбома, но со временем несколько утомилась от бесконечного благочестия и святости. Да и вообще, святого Себастьяна в каждом углу не повесишь, а пылающие сердца и «Мария-заступница» над кроватью тоже уже не радовали. И я стала рисовать что захочется.
Мои отпрыски, Лара и Йост, притащили со свалки стеклянную дверцу от кухонного шкафа, Райнхард принес целое эркерное окно из одного дома, списанного под снос, и укоротил его до размеров, мне удобных.
Одно время меня в моем творчестве поддерживала вся семья. Я рисовала четыре времени года, изображала деревенские гулянья, майские свадьбы, Гензеля с Гретель. Моей подруге Сильвии, которой вообще трудно угодить, я подарила сцену охоты на лис, где среди охотников в красных камзолах на лихом, огненном жеребце восседает она сама. Люси, по профессии учительница, получила от меня изображение старомодного школьного кабинета — за партами сидят хорошенькие школяры-отличники, а на стене висят доска и счеты. Иногда мне приходилось работать с лупой: некоторые мои картинки были совсем миниатюрными. То были лучшие дни моей жизни. Муж утром — на работу, дети — в школу, а я на кухонном столе развожу свою живопись. И забуду, бывало, все на свете: никому я не жена, никому не мать, никакого хозяйства у меня нет, никого мне обслуживать не надо. До того иногда уйду с головой в работу, что забуду приготовить обед.
Однажды Райнхард меня удивил: пришел и заявил, что уходит из своей архитектурной компании и открывает собственный бизнес. Муж давно жаловался на своего шефа: тот, мол, извел его совсем, взвалил на него всю самую неблагодарную работу, например улаживать отношения с подрядчиками и строителями, а это все равно что с ветряными мельницами воевать. Рискованно, конечно, из фирмы совсем уходить, правда, Райнхард надеялся, что часть преданных клиентов удастся переманить к себе. Для начала хватит маленького бюро, надо только освещение получше придумать, по высшему классу. Ну и, конечно, телефон, факс, мебель кое-какая, вывеска при входе, приборы чертежные — это можно себе позволить, стоит не целое состояние все-таки. Компьютер с графикой купим попозже.
— А персонал? — поинтересовалась я.
Райнхард решил, что секретарскую работу могу взять на себя я: назначать встречи, рассылать напоминания, принимать и подтверждать заказы на строительство. «В конце концов, когда дети в школе, времени у тебя предостаточно». И что за писклявый голос у него, думала я, совсем не вяжется с его мужской манерой поведения. Впрочем, он этим своим визгливым голоском все равно добился чего хотел.
До замужества я подрабатывала не только официанткой, но и секретарем в разных бюро, правда, без всякой охоты и не особенно успешно, но на машинке стучать умела. Господи, неужели опять придется тратить свое драгоценное время до обеда на занятие еще более ненавистное, чем стряпня? А с другой стороны, разве я не обязана помогать мужу в работе? Не он ли в доме кормилец? Я не отвечала Райнхарду ни нет ни да, а он, впрочем, моего мнения и не спрашивал. У него, видно, и сомнения не было, что я все брошу и стану ему помогать. Выходит, мои художественные опыты он не воспринимает всерьез. Между прочим, я, как жена архитектора-строителя, только и делаю, что стираю заляпанные краской и штукатуркой рубашки и брюки. Так нет же, теперь меня вдобавок ко всему впрягают в работу секретарши!
В остальном же, когда мы открыли бюро, — к счастью, рядом с домом — жизнь наша наполнилась эдаким духом пионеров-первооткрывателей. Превратить свой офис в деревенскую избу, как наш дом, Райнхард уже, разумеется, не мог — его бы не поняли. Все было как положено: стекло, бетон, кожаная мебель, ничего оригинального, никакой изюминки, все стерильно-нейтрально. Я в порыве великодушия вызвалась было сшить занавески, но Райнхард повесил серебристо-серые пластиковые жалюзи, чтобы будущих его заказчиков ничто не отвлекало от стиля собственного проекта. Мне же он поручил выбирать комнатные растения.
Между тем Сильвия влюбилась в своего тренера по верховой езде. После четырнадцати лет замужества это совершенно нормально. Я обзавидовалась: эмоции ее так и захлестывали, глаза блестели, она краснела как школьница и все только об этом наезднике, который был ее намного младше, и говорила. Нам, респектабельным домохозяйкам, в отличие от наших мужей, и пофлиртовать-то некогда и не с кем, так что иногда хоть газовщику или трубочисту глазки строй, честное слово. Благоверный Сильвии рано утром отправлялся к себе на фирму и торчал там до поздней ночи. Никто толком и не знал, чем он там, собственно, занимается, но хорошенькие секретарши и шустрые практикантки у него, конечно, были. Сильвия не сомневалась, что ее Удо, собой кадр видный, ни одной юбки не пропускает. Подруга моя частенько преувеличивала, но вот насчет муженька она была абсолютно права, он даже за мной ухлестывал.
Райнхарда в этом плане тоже Бог не обидел. Архитекторы вообще, я бы сказала, выгодно отличаются от накрахмаленных офисных боссов в дорогих костюмах с иголочки. Они носят сапоги, кожаные куртки, рубашки в клетку, на шее у них развевается шарф и от них веет романтикой строек, хотя большую часть своего времени архитекторы проводят, скрючившись над чертежами.
А что я? Я пыталась привлечь внимание домашнего врача, наведывалась к нему чаще необходимого с младшим моим Йостом. Но ничего у меня не вышло. Одна моя приятельница влюбилась в местного пастора и теперь шустрит в церковной общине, Люси тоже без конца бегает к парикмахеру, только счастливее они обе, как и Сильвия, не стали: когда это женщине, обремененной детьми и хозяйством, в таких делах везло? По вечерам они сидят как прикованные дома, в отпуск уезжают всем семейством, а когда дело доходит до интима, их заедает совесть, слезы рекой, и к тому же все происходит в такое неромантическое время суток…
Вот опять я рассматриваю картину с мышками. Как все таинственно, как тихо, одни намеки! Мне это близко. Люси в этом плане на меня похожа. О прошлом своем говорить не любит, а я подозреваю, что ее трехлетний старшенький не от мужа Готтфрида. Странный у Люси сын, чудаковатый маленький Мориц. С ним наверняка еще будут проблемы. Мы однажды плелись в церковном шествии — я с Райнхардом, наши двое отпрысков, Люси с мужем и их четверо детей — я еще прикинула, сколько всего супружеских пар умещаются в эту свиту. Шесть, что ли?
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Пока я не вышла замуж, у меня было много мужчин. И не потому, что меня одолевала похоть. Просто я не могла смириться с тем, что секс не доставляет мне удовольствия. Что-то с моими мужчинами было не так, с каждым следующим, сколько бы я их ни перепробовала.
И вот наконец появился Райнхард, с ним-то и случилось все так, как хотелось. Это был переломный момент. Причину я разгадала лишь потом: с Райнхардом я занималась этим не в постели, как с другими, а на строительных лесах. И не то чтобы мне нужен был для полного счастья, как говорится, экстрим, просто любой мужчина в кровати неизменно напоминал мне папочку. Видно, меня все время мучил эдипов комплекс, мне все казалось, что я сплю с собственным отцом, а это было невыносимо.
Вскоре после той авантюры на строительных лесах мы с Райнхардом перебрались на банальный матрас, но и на нем я была счастлива.
Года два после замужества я пребывала в эйфории, потом восторг мой стал остывать. Впрочем, брак наш долгое время был вполне удачным. Только когда Райнхард ушел из фирмы, начались неприятности. Мы едва не разорились, заказы еле капали, все сбережения были потрачены. С опозданием оплатив счета, мы оказались перед финансовым крахом. И тогда мой муж вступил в дорогущий теннисный клуб, чтобы познакомиться там с богатыми заказчиками.
Люси еще предложила Райнхарду записаться в хор, где поет ее Готтфрид. Там, она думает, человек пятьдесят… Я так и прыснула. Да, Райнхарду с его голоском только в хор! Уж лучше пусть вступит в какую-нибудь партию, может, партийный совет назначит его следить за коммунальным строительством. В открытую о таком, кажется, раньше никто не говорил, но ходят слухи, что это может сработать.
Когда наконец Райнхард получил несколько выгодных заказов, он превратился в трудоголика, у которого ни минуты не находится для семьи. Его любимым словом стало «делегировать». Делегировал он, понятное дело, меня. За почтовыми марками, починить ботинки, сводить детей в бассейн. А еще, мало ему показалось моих дел дома и секретарской работы, он делегировал меня прочитать и освоить «ПОТАИ» — «Правила оплаты труда архитекторов и инженеров».
Даже по вечерам, когда мы сидели за поздним ужином, названивал этот гнусный господин Рост. Гельмут Рост, кошмарный сон всех архитекторов, заказчик, который все не может решить, что же ему заказать. Он целую неделю боролся с собой и сообщал нам незадолго до полуночи радостную весть, что двери он хочет белые. Вот счастье-то!
Когда Райнхард, жертва своего предприятия, отправлялся играть в теннис, мне выпадал часик порисовать. Но за это время забыться с кистью в руке не получалось. Иногда мне приходило в голову: надо бы мне за моим благоверным присмотреть, в клубе же полно хорошеньких теннисисток. Или там только чисто мужская компания? Так начиналась история моего бунта.
С Сильвией я о своих проблемах поговорить не могла, у нее в голове были одни лошади. Слава Богу, у меня была Люси, которая умеет внимательно слушать. Правда, секреты собственной биографии она никому не открывает. На двери ее дома две фамилии: Херманн и Майер-Штювер. Понятно, двоим старшим детям Люси не мать. Восьмилетний Кай учился некоторое время в одном классе с моим Йостом, и на родительском собрании я и познакомилась с Люси и Готтфридом. Однажды, сгорая от любопытства, я стала расспрашивать Люси о ее личной жизни, спросила, женаты ли они с Готтфридом, но она мне дала от ворот поворот. А позже призналась, что однажды совершила в жизни величайшую ошибку и до сих пор за нее расплачивается.
Ее недоверие меня несколько обидело. Было бы что скрывать. Кого в нынешние времена волнует: женаты, неженаты, от разных ли отцов дети, да какая разница? Неужели она меня держит за ханжу, за святошу, от которой надо скрывать даже такие пустяки?
Однажды я пригласила к нам Люси с Готтфридом и Сильвию с Удо, чтобы и мужья наши познакомились поближе. Ой, зря, до сих пор жалею.
Мне очень хотелось дорисовать на стекле наш домик с садом, пока на улице солнце светит, пока тепло, а потом показать шедевр гостям. Но у меня не хватило времени, чтобы скрупулезно выписать синие ирисы, шиповник и подсолнухи. Да и с перспективой просчиталась: две дорожки, крест-накрест, с клумбой посредине что-то совсем разбегаются в разные стороны. Айвовые кусты получились слишком маленькими, а деревянная решетка, по которой вьется душистый горошек, — слишком большой.
Я до последнего момента пыталась что-то исправить, решила все-таки ничего никому не показывать, в результате мне совершенно не удался обед. Обидно до слез: придет Люси, а она лучшая кулинарка в округе. Жаркое из телятины подгорело, картошку я пересолила, в соус переложила лаврового листа, а Райнхардов любимый яблочный мусс и вовсе забыла сделать. Прощай, репутация образцовой хозяйки!
Муж мой, к сожалению, не проявил ни должной находчивости, ни чувства юмора и не стал спасать то, что еще можно было спасти. Он повел себя как последний зануда, так пламенно и угодливо извинялся за меня, так расшаркивался перед гостями, что даже добрейший Готтфрид скоро поверил, что хозяйка я никудышная. Удо воспользовался моим отчаянием и стал за мной ухлестывать. Стал мне петь, что у меня других достоинств масса, а потом полез целоваться. Пьяный Райнхард решил нас разнять, опрокинул свой бокал на Сильвию и залил красным вином ее голубое трикотажное платье от Миссони. Так что Сильвии, бедняжке, и от моего мужа досталось. А тут еще Люси в порыве сострадания давай Райнхарду сочувствовать: он, мол, несчастненький, все время в таком стрессе, так устает. Тот несколько удивился, что Люси в курсе его стресса, но, кажется, наконец-то почувствовал, что хоть кто-то его понимает.
Чтобы как-то разрядить обстановку, я заговорила о нашем прошедшем отпуске. Пусть наши богатые друзья знают, где мы отдыхаем. Женщина с детьми никогда не знает покоя, начала я. Представляете, приезжаем мы на Лазурный берег, и в первый же день Лара с Йостом подхватывают ветрянку! Я сидела в тесной квартирке, которую мы сняли, у детей — температура, а Райнхард развлекался серфингом, нагуливал загар и даже в аптеку за жаропонижающим сбегать не удосужился, по-французски, видите ли, ему говорить лень. Я уже приготовилась рассказать, как однажды один француз атлетического сложения, увидев меня в окне, принял за Брижит Бардо в молодости, но тут вдруг голос подала Сильвия: «Анна, дорогая, не устаю на тебя удивляться, как ты вечно скачешь вокруг твоих детей!»
В этот момент мне захотелось ее убить, но я сдержалась и даже ничего не ответила.
Тут Люси, училка несчастная, вмешалась: «Да уж, зато у Сильвии с воспитанием детей все в порядке, ни минутки о своем потомстве не позаботится», — съязвила она.
Удо поддакнул: его жена днями и ночами торчит в конюшне, а жаркого от нее вообще не дождешься никакого, даже пережаренного и жесткого, как подошва.
Сильвия взорвалась и в отместку мужу поведала всем о его коллекции порножурналов. Мне осталось только одно: напоить всех до потери пульса.
Когда же наконец обиженные гости убрались восвояси, я решила себя вознаградить и стала ласкаться к мужу. Но он слишком устал, так что мне пришлось снова погрузиться с головой в свои натюрморты эпохи барокко.
С тех пор как я сама начала рисовать, мне особенно нравятся картинки-обманки, на которых все предметы изображены объемно и так точно, так близко, так подробно и так ощутимо, что кажется, их не нарисовали, а наклеили на плоскую поверхность и их можно взять в руки. Вот доска на стене, к доске прибиты медными гвоздиками рыжеватые ремешки, а за них, как в кармашки, воткнули всякую всячину. Так бы и схватила круглые карманные часы или разлохмаченное гусиное перо! Печать из черного дерева, роговый гребень, пятнистый, как шкура тигра, перочинный ножик, письма со сломанными красными и черными печатями, растрепанные брошюры — их достают каждый день и каждый день кладут обратно. Среди всех этих канцелярских штуковин бросается в глаза ключ — интересно, зачем его оставляют на таком видном месте, почему им так часто пользуются, что за дверь он отмыкает?
Ни Люси, ни Сильвия мою живопись на стекле не оценили. Единственный, кого она хоть как-то заинтересовала, был Удо. Если забыть о том, что он бабник, то с ним вполне можно было бы ладить. Умен, с чувством юмора даже, к тому же большая шишка, зарплата — целое состояние. У Сильвии было все, о чем я только мечтала: домработница, респектабельный автомобиль (не то что моя развалюха со свалки), шмотки шикарные, огромная, великосветская вилла, а кошелек от наличных трещит по швам. Сильвия порой являет чудеса щедрости и передает одежду своих дочек по наследству моей Ларе. Мне самой перепало вечернее платье, в котором я красовалась на балу в теннисном клубе. Обратно Сильвия его забирать не стала. Мне ее одеяние было широковато в бедрах. Но вообще-то, я оттого еще дружила с Сильвией, что она обещала заказать Райнхарду, когда придет время, построить новые конюшни и новое здание для ее конного клуба.
До замужества Сильвия проектировала гарнитуры для «благородной» кухни. Необыкновенной какой-нибудь кулинаркой она в связи с этим не стала, но до сих пор ее кухня напичкана самыми high-techs.[7] Как только моя подруга выскочила замуж, она забросила работу, расслабилась и зажила в свое удовольствие, которое изредка прерывали внезапные истерические приступы материнской любви. Врач прописал ей пить на завтрак шампанское, я посоветовала увлечься лошадьми, а что у нее роман с «лошадиным» тренером, так это Удо виноват, совсем жену забыл.
А еще Сильвия торчит у меня как бельмо на глазу, потому что я ей, конечно, завидую немножко и ревную к ней моего мужа. В бытность свою дизайнером кухонь она нахваталась азов архитектуры и мнила, что имеет к ней какое-то отношение. Райнхард, правда, Сильвии избегал. Он и без того в своем блестящем фешенебельном теннисном обществе звезд с неба не хватал и сам это прекрасно знал. Я видела, как он из кожи вон лез, чтобы свести знакомство с богатыми теннисистами, хотя порой и сомневалась, что его на это толкает одна только забота о семье. Удо, муж Сильвии, тоже играл в теннис, и в тот злосчастный вечер они с Райнхардом договорились поиграть, но потом Удо пожаловался на сердце и встречу отменил.
Да уж, у богатых свои спортивные причуды, недешевые. В этом смысле Люси мне всегда нравилась больше. Она точно уж не бедная, но не играла в гольф и не ходила на яхте под парусом. С четырьмя детьми не очень-то разгуляешься.
Помню, она меня как-то удивила: решила отдать младшую Евочку в детский сад и пойти на полставки опять работать учительницей. «Анна, я же не для того университет заканчивала, чтобы стать потом наседкой», — объяснила она. На что я только с горечью отвечала: «Кажется, это как раз мой вариант».
Тут Люси предложила мне за приличную плату нянчить до обеда ее Еву и забирать в полдень Морица из детского сада.
— Ты же знаешь, — отвечала я, — у меня своих двое за юбку цепляются. А еще надо теперь при Райнхарде секретаршу из себя строить. Так что бебиситера из меня не выйдет. Кроме того, я у вас долго оставаться не могу в доме, у меня же на кота твоего аллергия. Если только ты Орфея вашего уберешь куда-нибудь подальше…
Да, кивнула Люси, моя аллергия нашей дружбе явно мешает.
О моем любимом хобби, на которое у меня и так совсем не оставалось времени, я вообще не упомянула. Я давно подозревала, что все дружно живопись мою осудили и стоящим занятием это никто не считает.
Спустя пару дней после того как мы собирали гостей на званый ужин, выхожу я утром на крыльцо в одних тапочках и халате, соскальзываю по мокрым ступенькам к почтовому ящику, чтобы выудить из него газету, и вижу: стоит Райнхардов джип-вездеход, а к лобовому стеклу «дворником» прижата красная роза. Моросил дождик, мне мокнуть не хотелось, так что я розу трогать не стала и пошла готовить завтрак. А когда Райнхард и дети с обычным опозданием допивали свой кофе и какао, я о цветке и вовсе забыла.
Но за ужином я опять о нем вспомнила.
— Слушай, ты куда розу дел? — спросила я мужа.
— Что? — отозвался муж.
— На твоем лобовом стекле была прикреплена роза, красная, символ любви…
То ли Райнхард строил из себя дурака, то ли и вправду не способен был замечать тайные знаки внимания и почитания. Он, мол, никакой розы не заметил, дождь шел, а может, она упала, когда он тронул машину.
Втайне я льстила себе надеждой, что цветок, может быть, вообще был посвящен мне, как намек на мое имя Аннароза. А может, это просто Сильвия так мило пошутила?
Я этой истории тогда не придала ни малейшего значения и забыла бы о ней навсегда, если бы неделю спустя на том же самом месте не нашла новую розу.
С видом триумфатора я положила улику на стол перед кофейной чашкой мужа.
— Это еще что такое? — Он не любил, когда его беспокоили за завтраком, ему нравилось молча читать газету.
— На прошлой неделе было то же самое! — отвечала я, поедая его глазами. Может, он и правда ничего не понимает? Или прикидывается? Может, у него талант вечно лицедействовать? А вдруг у него тайная возлюбленная? Или это у меня появился загадочный поклонник?
После третьей розы я стала за Райнхардом пристально следить: кто к нему приходит, когда у него встречи с заказчиками, когда он свободен, где проводит свободное время и, главное, во что одевается. Секретарскую свою лямку я тянула дома, в офис приходила редко, уборщицей он нанял молоденькую турчанку. Я решила «спонтанно» навестить мужа в его владениях.
Как-то, когда Райнхард отправился в ванную, я залезла к нему в сумку. Любовных писем там не было, только какой-то подозрительный счет из ресторана. Я заглянула к нему в рабочий план: вечером у него был намечен только теннисный клуб, а пришел он домой поздно и почти ничего не стал есть. Кроме дорогого вина и граппы можно было разобрать еще: «1 порция для пенсионеров» и «1 стейк». Ну ладно, стейк — это еще куда ни шло, но вот возлюбленная, которая заказывает порцию для пенсионеров, — это уже решительно интересно. Значит, я стряпаю тут специально для него сосиски с картофельным пюре, стараюсь изо всех сил, а он неизвестно с кем ходит по ресторанам! А ведь дома каждая копейка на счету!
Четвертая роза вывела меня из себя. Конечно, я пыталась застукать эту дамочку на месте преступления, но она, должно быть, проскальзывала ночью. Как бы рано я ни вставала, роза уже была на положенном месте. Сидя в утренних сумерках, я вдруг так захотела, чтобы все четыре розы предназначались мне, чтобы это мне приносил их каждую ночь какой-нибудь принц, пианист-виртуоз или, по меньшей мере, банкир. По ночам мне мечталось о симпатичном семейном докторе или хорошеньком инженере, который иногда забегал к нам поговорить с мужем, у меня дух захватывало от моих воображаемых романов, но больше это было похоже на издевательство над самой собой.
Вместо пятой розы я нашла бумажное красное сердечко с золотыми буквами «Я. Т. Л.» — «Я Тебя Люблю». И наклеила доказательство неверности Райнхарда ему на утренний бутерброд с мармеладом, отчего он пришел в бешенство.
— Слушай, Лара, ты передай этому своему кавалеру с розами, чтобы заканчивал хулиганить! Понятно?! — прорычал он нашей десятилетней дочери. Та залилась пунцовой краской до самых ушей, сгребла свои школьные пожитки и убежала в школу, не дожидаясь брата.
Райнхард еще некоторое время раздраженно тряс головой, потом взял Йоста за руку и ушел.
А я осталась одна с красным сердечком, и мне стало ужасно стыдно. Ну конечно, это же детский почерк, сердечко вырезано неровно. Детские шалости. Как мне только в голову пришло подозревать мужа в измене или тем более мечтать о том, что у меня завелся тайный поклонник!
Неужели Лара влюблена? Никогда бы не подумала, я в ее годы о таком и думать не смела. Лара казалась мне еще совсем ребенком.
Дочь пришла домой из школы непривычно рано, часом раньше Йоста. Она влетела на кухню и закричала:
— Он не признается!
— Кто?
Мальчик один из их класса, Хольгер его зовут. Ларина подружка Сузи тоже как-то его подозревала, больно чудно он на них пялился.
На обратном пути из школы девчонки прижали его где-то к стенке, и он им поклялся, что даже не знает, где Лара живет. Дочь моя вся просто кипела.
— Мы его обозвали педиком, отняли перочинный нож. Как думаешь, может, нам надо было его пытать?
Я была в шоке! Какой ужас, откуда? И это мой ребенок?! Как же плохо я ее знаю! Я попыталась за мальчишку вступиться: мол, розы — это же ничего дурного…
Но Лара была непримирима: все мальчишки козлы, а из-за этого идиота папа на нее сегодня утром накричал. «Вот если он еще хоть раз…» — пригрозила она Хольгеру.
Я глядела на дочь и думала, откуда это у нее, почему ей хочется весь мир поколотить?
Но тут она вдруг сообразила:
— А может, у Хольгера переходный возраст начался?!
Ну, теперь понятно. В соседнем городке убили девочку, и Ларина учительница объясняла, как надо правильно вести себя с незнакомыми чужими людьми. Опасны могут быть даже друзья и родственники. Лара просто испугалась. Ей вдруг весь мужской пол показался подозрительным.
Не рассказать ли Люси о нашей домашней «войне роз»? Лучше не буду, сама-то она вон какая скрытная, еще и посмеется над тем, какая ерунда меня занимает. Кроме того, скоро выяснилось, что Лара на своего одноклассника возвела напраслину.
Снова настал понедельник, который я назвала бы Розовым понедельником,[8] если бы снова нашла розу. Но цветка не было, и я вздохнула с облегчением: слава Богу, призрак оставил нас в покое. Слишком долго меня трясло, как в истерике, хватит, примусь лучше с новыми силами и добрыми мыслями за работу. Райнхард надиктовал мне полкассеты для расшифровки, в огороде пора снимать урожай редиски, пока она не стала совсем деревянной, а у детей нет чистых джинсов.
Из сада я увидела у забора нашего почтальона. Я всегда любила получать почту, а еще так интересно подглядеть, что прислали другим членам моей семьи. Но с почтальоном мне общаться не хотелось, на мне было платье, похожее на мешок, все в пятнах, и руки по локоть в земле. Так что я дождалась, пока он уйдет, бросив что-то в наш ящик.
Ничего особенного, как всегда, в ящике не оказалось: пара рекламных проспектов, открытка от мамы с курорта Бад-Вильдунген и какой-то конверт без марки. Конверт как конверт, но стоило мне взять его в руки, как я уже знала, что дело дрянь. Карандашом на нем было нацарапано: «Райнхарду лично».
ЖЕМЧУЖИНКА
Жорж де Латур[9] усадил кающуюся Марию Магдалину перед зеркалом в позолоченной раме, в котором отражается горящая свеча. Тихо, спокойно, безмолвно сидит знаменитая грешница перед зеркалом, положив мягкие, округлые руки на человеческий череп. На спину спадают тяжелые черные волосы, которыми некогда утерла она ноги одному человеку, лицо она отрешенно отвернула прочь от зрителя. Череп на коленях, прикрытых длинной красной юбкой, выглядит так естественно, что кажется, будто это не череп, а кошка.
Магдалина сняла с шеи массивное мерцающее жемчужное ожерелье в несколько рядов. К чему ей теперь эта земная роскошь, когда она думает о вечном и о преходящем, как этот череп у нее на коленях.
Не стоит метать жемчуг перед свиньями, говорили уже тогда. Вот и Магдалина больше не станет растрачивать себя перед недостойными, прочь от себя отбросила она жемчуг. Теперь грешница стала покаянием во плоти, чистая, благочестивая, целомудренная.
Взглянув на жемчуг Магдалины, я лишилась покоя: из головы все не шел конверт без марки, неизвестно кем брошенный в наш почтовый ящик.
Я прощупала конверт, изучила его, не вскрывая, но кроме маленького шарика внутри ничего не ощутила. Может, открыть? Никогда раньше такого не делала, но ведь раньше нам и не приходили никакие подозрительные послания. Почерк, случайно, не тот же? Может, это одна и та же рука выводила на конверте «Райнхарду лично» и «Я. Т. Л.» на сердечке?
Ох, невыносимо! Так, пока детей и Райнхарда нет дома, надо действовать!
Открыть конверт перочинным ножом незаметно не получится: бумага слишком тонкая, обязательно порвется. Придется держать письмо над паром. Никогда еще мне так бесчинствовать не приходилось. Теоретически должно сработать, а что, если нет? К счастью, та, что прислала письмо, только один раз провела языком по клейкой полоске на конверте. И вот он вскрыт. Из него выкатывается только одна жемчужина. И — ни слова.
Кто же, интересно, осыпает моего благоверного драгоценными каменьями? К чему все это вместе с красной розой? Моя мать как-то сказала, что жемчуг — это к слезам.
Может, у Райнхарда был увлекательный роман, он подарил ей жемчужное колье, а потом подружка сбежала, но теперь одумалась и вот возвращает своему бывшему подарок как доказательство своей любви? Тысячи подобных мыслей проносились в моей бедной голове. А мне-то, главное, что теперь делать? Заклеить конверт и положить его мужу на письменный стол как ни в чем не бывало? Или спрятать драгоценную бусину и никому ничего не рассказывать?
Мои мучительные раздумья прервал телефонный звонок. Я рассеянно подняла трубку и пробормотала: «Алло?»
Через секунду чужой, незнакомый голос произнес:
— Аннароза, это ты?
Не может быть! Моя разлучница, соперница перешла в наступление! Она мне теперь еще и домой звонит!
Но это была моя сводная сестра Эллен. Она путешествовала на автобусе с учениками своих вечерних курсов и случайно оказалась в нашем городе. У нее оставалось немного свободного времени до отъезда, и она предложила встретиться в каком-нибудь кафе. Ну что мне оставалось? Дети скоро должны были вернуться из школы, поэтому я забрала Эллен на машине с рыночной площади к нам домой. Честно говоря, мне любопытно было встретиться с ней после стольких лет.
Сестра моя была уже седая, но свои длинные волосы она распустила как девочка. Прическа не шла ко всему ее облику, к явно собственноручно сшитому бледно-голубому костюму и сандалиям на плоской подошве. Приглядевшись, я поняла, как она похожа на нашего общего папеньку. Мы обе были смущены, но Эллен искренне радовалась этой неожиданной встрече:
— У меня ведь кроме тебя, собственно, и родственников-то не осталось, — призналась она. — Жалко, что мы так мало общаемся, не хотелось бы совсем потерять тебя из виду. Да, кстати, до чего ж ты похожа на нашего папу!
Спасибо, конечно, но только сестрицын визит пришелся совсем некстати. Надо что-нибудь быстренько приготовить детям, и я едва успеваю сварить макароны. В доме все кувырком, кругом — беспорядок! Растерянно извиняясь, я привела сестру на кухню и полезла в холодильник в надежде отыскать там хоть каких-нибудь завалящих мидий, чтобы было чем облагородить макароны. Но ничего не нашла. Эллен между тем восторгалась нашим жилищем, добровольно вызвалась настрогать салат из одеревеневшей редиски, и скоро мое невыносимое напряжение стало спадать.
Пришли дети, и мы вчетвером уютно и по-дружески пообедали на кухне. Йост был в восторге, когда незнакомая тетя научила его в мгновение ока измельчать большими синими столовыми ножницами длинные спагетти. А я узнала, что сестра некоторое время назад овдовела, после чего стала страстной путешественницей и решила изменить свою жизнь. Потом я сварила кофе. Эллен торопилась, и я повезла ее обратно на площадь, откуда отходил автобус.
— Смотри, у меня тут с собой фотографии, — произнесла она, роясь в своей нелепой белой лакированной сумке, — сегодня можно совсем недорого сделать копию со снимка.
Я люблю старые фотографии, особенно пожелтевшие, с загнутыми, помятыми краями. Такие снимки можно найти в коробке из-под шоколадных конфет, что досталась в наследство от бабушки. Перед отъездом Эллен разложила на липком столе передо мной изображения наших родственников: мои дед и бабка с отцовской стороны в отпуске на горе Брокен, мой отец, босиком, в одних плавках, с лопатой в руке, стоит рядом со своей маленькой дочкой Эллен и ротвейлером. Мать Эллен в подвенечном платье. Какие-то давно почившие дядюшки и тетушки. Я, конечно, была заинтригована и благодарна, даже о жемчужине забыла и выслушала рассказ о каждом из этих людей, кто чем был интересен.
— Жаль, что сейчас редко делают семейные фотографии, — заметила я. — Оно и понятно, фотография-то больше не чудо, сегодня фотографируют все и чуть не каждый день. А вот когда нужно запечатлеть действительно важный момент, об этом забывают. Да и семьи такие нынче пошли, даже на праздники вместе не собираются. Вот и у нас, например, нет ни одного снимка, где бы мы с тобой вместе были с нашим папой.
— Упущенного уже не наверстаешь, — вздохнула Эллен сентиментально.
Я запротестовала: если можно сделать копию со снимка, то почему не фотомонтаж?
— Не так это просто, — отвечала сестра. — Кстати, почему бы тебе лучше не нарисовать все наше семейство вместе? Если тебе превосходно удается живопись на стекле, так, может, стоит попробовать: изобразить всех родственников, и живых и покойных, в саду?
Открыв рот, я уставилась на Эллен. Вот это идея! Так и вижу: четыре деда, четыре бабушки сидят в легких плетеных креслах, а вокруг стоят дяди и тети, моя мать, мать Эллен, наш отец, мой рано умерший брат Мальте, Райнхард и мои дети! Гениально!
Поздно вечером, когда измученный Райнхард ужинал, я рассказала ему об Эллен и, не спуская с него глаз, незаметно подсунула заклеенный конверт.
Райнхард проглотил остатки макарон, выслушал меня как-то даже благожелательно, предсказал дождь и наконец без малейшего любопытства открыл конверт. Жемчужина покатилась по столу.
— Что это? — произнес муж.
— Дай посмотреть! — отозвалась я с самым невинным видом и уставилась на драгоценность, будто видела ее впервые.
— Ничего себе! — присвистнул мой благоверный. — Парнишка пошел в атаку! А я-то наделся, что Лара его уже отшила.
— При чем тут Лара? — запротестовала я. — Посмотри внимательно, что на конверте написано. Этот подарок точно для тебя.
Муж прочитал надпись, повертел письмо во все стороны и объявил, что ничего не понимает.
И тут настал мой черед. Допрос был с пристрастием, разговор вышел не из приятных, дошло до крика. Райнхард, конечно, изо всех сил все отрицал, я обзывала его похотливым козлом, а он меня — безмозглой козой. В конце концов муж окончательно вышел из себя. «Господи, да что ж это такое!» — возопил он и швырнул жемчужину в мусорное ведро, откуда я ее позже выудила.
Да, кажется, он не врет, подумала я, слишком уж разбушевался, вряд ли притворяется. Наверное, все было так: Райнхард где-нибудь эту бусину потерял и какой-то честный малый ему ее вернул. Так?
Муж отверг и эту версию. Он, мол, не носит с собой повсюду в кармане жемчуг, словно сказочный принц, и тем более не разбрасывает его где попало. И вообще, до сих пор не было у него никаких жемчужин в жизни, разве только Гюльзун, уборщица в его офисе.
— Ты бы лучше рассказала еще о своей сестре. Вместо этого я должен выслушивать черт знает что, какие-то нелепые подозрения. Ты сестру сто лет не видела, почти ее не знаешь, так нет же! У тебя в голове одни розы, сердечки какие-то и жемчуга! Мне иногда кажется, что ты все это специально выдумала, чтобы меня доставать!
Тем не менее в ночь на понедельник он решил залечь в засаду и поймать незнакомца на месте преступления.
«Пусть мне даже придется торчать тут всю ночь!..» — его и без того высокий голос сорвался почти на визг. Ну, по крайней мере, он не держит меня за полную идиотку.
В итоге мы оба лежали в постели. Райнхард спал и храпел, я немножко поплакала и тоже уснула. И приснилась мне Эллен, которая в образе Царицы ночи сидит верхом на молодом месяце в одеянии, тяжелом от жемчуга, и невыносимо высоким пищащим голоском о чем-то меня предупреждает, предостерегает. Такой звук — я помню с детства — издают умирающие мыши.
Чтобы отвлечься, на другой день я занялась нашим семейным портретом. Писать его мне, конечно, придется долго. Моя мать лечила тогда свою скрученную радикулитом спину на курорте, и я написала ей, чтобы по возвращении домой она сразу же выслала мне две копии с фотографии моего покойного брата Мальте. Одну из них я задумала подарить Эллен, о чем маменьке, конечно, не стала докладывать.
К счастью, у меня осталось еще несколько кусков стекла. Я выбрала самый крупный и набросала композицию. Проблема была в том, что все персонажи на снимках были разного размера, к тому же для общего портрета слишком маленькие, их придется увеличивать.
Больше других меня впечатлила бабушка с отцовской стороны: прямая как свечка, она застыла со сложенными на коленях руками на стуле с высокой спинкой. Белокурые волосы убраны в высокую прическу, темное платье все в мелких складках, на шее — нитка жемчуга. Только черепа на коленках не хватает, а то была бы просто кающаяся Магдалина. Смутно припоминаю, что папочка называл ее строгой матерью, которая щедро трескала их по лбу столовой ложкой. Но я эту даму в живых не застала, мне и отец-то в деды годился.
До следующего «розового понедельника» оставалось четыре дня. Тут я вдруг получила от Эллен по почте посылку, тоненькую и твердую, как деревянная доска. Каково же было мое удивление, когда я распаковала ее и между двух плотных картонок нашла акварель, которую наш папочка написал в юности. Кто бы мог подумать, что он вообще когда-то брал кисть в руки?! Сюжет отец выбрал самый простой, неброский: вечер, поле, ручей, деревья. Мне вдруг впервые в жизни захотелось любить моего папу. И я решила изобразить его на семейном портрете не старым и больным, каким он мне запомнился, а молодым человеком, которому когда-то захотелось перенести на бумагу этот мирный пейзаж.
Райнхард заявился домой раньше обычного и увидел на кухонном столе большой кусок стекла, разложенные фотографии и альбом с набросками разных фигур и групп людей. О моем грандиозном проекте муж еще ничего не знал.
— Ты что, «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи скопировать собралась? — съязвил он.
Я бросилась с жаром объяснять.
— Спасибо, что меня не забыла, — сострил Райнхард, — а моя родня где будет, можно узнать?
Вот досада, о них-то я и забыла совсем! Я стала считать: даже если убрать кое-каких дядюшек и тетушек, все равно получится тринадцать человек, и всех надо разместить в нашем саду.
— Многовато будет, — решила я.
Муж тут же потерял всякий интерес к портрету.
— Когда будем есть? И куда ты задевала папку с документами?
По его легкому швабскому выговору я поняла, что он слегка нервничает. Я тут же убрала свое художество прочь со стола и призналась, что до сих пор не напечатала ни слова. А потом поспешно принялась готовить ужин.
— Дальше так не пойдет, — отозвался Райнхард раздраженно, — лучше я возьму на работу профессиональную секретаршу.
Мне бы только радоваться, что кто-то наконец избавит меня от этой писанины, но все-таки стало обидно: он хочет взять секретаршу не для того, чтобы меня освободить от работы, а потому, что я не справляюсь.
Но на этом не кончилось. Мой благоверный стал мне выговаривать, что я всегда была склонна к истерике, а теперь у меня и вовсе начинается психоз. Я слушала с каменным лицом. У-у-у… Старо как мир: муж изменяет жене, она все чувствует, — у женщин ведь шестое чувство, их не обманешь, — а он пытается ей внушить, что у нее крыша поехала от ревности. Что ж, Райнхард своего добьется: я или вправду свихнусь, или руки на себя наложу. Ну уж нет! Не выйдет! Видели мы это уже в кино, в книжках читали! Нас голыми руками не возьмешь.
День спустя, пройдясь по магазинам, я сделала небольшой крюк и заглянула на минутку к Райнхарду в бюро. Если бы муж уехал на стройку, то позвонил бы, он всегда переключает свой офисный телефон на домашний, когда отлучается с рабочего места. Уходя утром из дома, я включила автоответчик.
Его автомобиль стоял у входа в бюро. Значит, он у себя, за чертежами, так я и думала. «Дворники» не прижимали к лобовому стеклу его машины ни цветов, ни тайных посланий. Но, поднявшись на второй этаж, я обнаружила на подоконнике в цветочном горшке крошечный саженец розы. Я ему такого тут не ставила! Как он, интересно, изловчится это объяснить? Ладно, не буду действовать ему на нервы, не буду ни в чем обвинять, я-то тоже ничего доказать не могу.
Райнхард сам никогда не покупал никаких цветов: ни букетов, ни в горшках. «Вон сколько их за городом растет, рви не хочу», — говаривал он. Порой он вдруг начинал неистовствовать в нашем саду: корчевал какие-то кусты, втыкал на их место чахленькие деревца, на которые смотреть было жалко, выкапывал в лесу елочки и рассаживал их по всему участку, а потом они подрастали и закрывали солнце моим однолетним подсолнухам. Но особенно он учудил, конечно, со всякими палисадами, беседками, зелеными заборчиками, живыми изгородями и лесенками из железнодорожных шпал. Так сад изуродовать, надо постараться. Если я открывала по этому поводу рот, он обижался. Оказывается, я еще благодарна ему должна быть за то, что он избавляет меня от тяжелой физической работы.
Вот Люси меня понимала. Ее Готтфрид тоже творил в саду бог знает что, особенно после того, как увлекся экзотическими растениями. Его бедные саженцы, у кого-нибудь выклянченные или привезенные кем-то из отпуска, в нашем климате были похожи на больных детей, над которыми не смыкая глаз трясутся родители. Заморские травки замерзали зимой и засыхали летом. А их заботливый папочка Готтфрид критики в свой адрес, понятное дело, не терпел и за свои мучения садовника жаждал похвалы и вознаграждения.
Зато у Сильвии все было по-иному: у себя дома она была хозяйка и парадом командовала тоже она. Если в солнечное воскресенье она не сидела на лошади, то по саду разносился ее командирский голос:
— Удо, надо удобрить герань! Зачем летом скворечник на дереве висит? Убери его до осени в подвал! Удо, грядки с укропом заросли крапивой!
И Удо плелся полоть крапиву, видимо, его постоянно мучила совесть из-за его вечных сердечных дел, оттого он прямо-таки желал быть наказанным.
Что ж поделать, не могут двое с разными вкусами мирно ужиться на одном клочке земли, равномерно распределить обязанности, не могут не ссориться. Наверное, и Адам с Евой спорили, что им посадить в своем райском садике: осенний ранет или летний штрифель, белый налив или желтый гольден. Так и представляю себе, как на весь Эдем раздается:
— Ну и вкус у тебя!
— Да на себя-то посмотри!
Достала эта парочка тихого старичка Боженьку в его небесном уединении, вот он их и выгнал куда подальше, а первородный грех, я уверена, был только предлогом, чтобы избавиться от скандалистов.
Так вот, у моего «Адама» в офисе на окне стоял горшок с отростком розы. В свое время я сама обставляла его бюро и растения выбрала с толстыми мясистыми листьями, что растут сами по себе, соринки с них сдувать не надо. Так откуда же взялся этот чахленький кустик, что он собой символизирует? Эти мысли не давали мне покоя, и я все бродила, слонялась по улицам, пока наконец не набрела на тот загадочный ресторан, счет из которого нашла в сумке у Райнхарда. Я там никогда раньше не бывала.
А ресторанчик-то, судя по всему, не из дешевых. Над входом начищенный козырек сверкает, издалека видно, лавровые деревца, как маленькие пажи, стоят у входа. Я углядела свободное место на парковке, поставила машину и пошла к ресторану. У входа я стала читать выставленное на улицу меню. Вкусностей всяких было сколько угодно: устрицы, мидии, домашние равиоли с базиликом и тунцом, под шафранным соусом. У меня так слюнки и потекли. Но вот «порцию для пенсионеров» я найти не могла. Может, ошиблась? Райнхард тогда заплатил за «стейк» и за «1 п. д. п.», «1 порцию для пенсионеров». Вот стейк, вижу. Так. А для пенсионеров что-то ничего у них нет. Видно, я неправильно поняла.
Мне давно уже следовало быть дома, но я зашла и заказала «1 п. д. п.». Что бы это могло быть? И получила «1 порцию для президента» — потрясающую композицию из всякой всячины, разных филе под беарнским соусом на поджаренном тосте. С тех пор как вышла замуж, я ни разу не осмелилась вот так, совсем одна, среди бела дня пойти куда-нибудь перекусить. Уже и дети, наверное, давно дома. Ну ничего, подождут, мне еще предстоит одолеть целую тарелку с десертом из тропических фруктов с сахаром. Понятно, для Райнхарда такие роскошные обеды — дело привычное, он, видно, частенько сюда ходит. А один из несчастных бутербродов, что я ему с такой любовью утром намазывала, я недавно нашла в мусорном ведре, причем ладно бы еще в том, куда мы выкидываем пищевые отбросы, так нет же: там, куда бросаем бумагу, вот что особенно обидно.
Когда же я наконец, изрядно подкрепившись, вернулась домой, Лара и Йост готовили обед: на плите в одной кастрюльке клокотал и плевался во все стороны томатный соус, а в другой подгорал рис, из которого выкипела уже вся вода.
ОТДЕЛЬНЫЙ СТОЛ
Иногда знаешь точно, как надо себя вести, а делаешь все наоборот.
— Кто тебе подарил розу в горшке? — намекнула я мужу.
— Что? Какую розу?
Время тянет, подумала я. А он спокойно объяснил: это семья Фурманн подарила ему в день новоселья в благодарность за новый дом, который он им построил. «Вашей супруге», — уточнил господин Фурманн. Но поскольку я могла из-за этой розы опять закатить скандал, муж предусмотрительно оставил ее в офисе.
— Так я тебе и поверила! — выкрикнула я.
Он вскочил и схватил телефон: пусть Фурманны сами мне расскажут, как все было!
Я вырвала у него из рук трубку. Фурманны — наши лучшие заказчики, к тому же один приличный счет до сих пор не оплатили. Еще примут меня за ревнивую стерву или вообще за психопатку. Очень надо!
— Сама призналась! — съязвил Райнхард.
Был воскресный вечер, когда мы обычно вместе мирно обедали. Ссора наша миновала, уже час прошел, а муж со мной не разговаривал. Он оставил меня с детьми на кухне, а сам со своей тарелкой ушел в гостиную, включил телевизор и, жуя, стал смотреть новости.
— А нам никогда не разрешает за едой телек смотреть! — обиделась Лара.
Из соседней комнаты донеслась глубокомысленная фраза, которая для наших детей не означала ровным счетом ничего:
— Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Лара покрутила пальцем у виска.
— Папа безобразничает, его надо посадить за отдельный столик, — надулся Йост.
Я взглянула на него, как удав на кролика, и он тут же закрыл рот.
На полотне Иеремиаса ван Винге изображен такой отдельный стол. Дверь приоткрыта, за ней — сумрачная комната, харчевня в гостинице, четверо гостей сидят за трапезой. Но самое главное действие разворачивается на переднем плане, прямо у нас перед глазами, под лучами полуденного света. Кухонный стол завален снедью. Еще недавно все это ползало, плавало, дышало, а теперь — просто еда. На круглом подносе распластана выпотрошенная макрель, хоть сейчас на стол, бокал уже наполнен красным вином. А вот отварная рыба, приправленная луком и дольками лимона, — кажется, сейчас молоденькая кухарка подхватит тарелку и унесет в зал к пирующим. Огромный красный омар, похожий на древнее чудовище, окружен мелкими красными рачками. Поблескивает медная ступка. Аппетитные оливки так и хочется попробовать. Молодая крепкая девица орудует сильными руками в недрах освежеванной бычьей туши. На разделочной доске — легкие, сердце, потроха, там же лежит уже выпотрошенный петух и мешочки со специями. Бараний бок, савойская капуста, огурцы и белый хлеб ждут своего часа. От усердия и горячей печки щеки молодухи зарделись, на губах играет легкая улыбка. На ней деревенский наряд: черный корсет, спереди зашнурованный, белые рукава она закатала повыше, чтобы не испачкать кровью. Красная юбка будто одного цвета с омаром. И как только эта барышня все успевает, у нее все прямо горит в руках! Да еще и за кошкой следит, которая когтистой лапой тянется к бараньей ляжке. Кошечка — единственный зверек на кухне, который не предназначен для трапезы, она сама сейчас что-нибудь — цап-царап! — стащит и уплетет. А ведь она на картине в самом центре, не тайный мелкий воришка, а настоящий хитрый разбойник, того и гляди нападет.
Зазвонил телефон. Опять этот господин Рост противный. Настроение моего мужа между тем не улучшилось. Мне даже стало его жаль, когда он после разговора с Ростом пожаловался:
— Раз в жизни выпала возможность построить дом, не думая о расходах, так нет же, черт знает что!
Дети ушли спать. Райнхард, похоже, ждал этого момента:
— Как стемнеет, пойду в твою машину караулить. Давно пора. Хватит воевать.
В одиннадцать я отправилась на боковую, а он засел в моей машине, чтобы лучше видеть свою и с наших дверей глаз не спускать. Я бы осталась с ним, да он меня услал спать. Если эта неизвестная, которую мы подозреваем, для Райнхарда совсем не неизвестная, а очень даже хорошая знакомая, а то и любимая и дорогая, — размышляла я, — то он утром ее не выдаст, соврет, что никого не увидел, а из-за меня всю ночь без толку проторчал как дурак в машине не сомкнув глаз.
Я уже заснула, когда меня разбудили: внизу громко хлопнули дверью. Смотрю на часы — три утра, а внизу слышу негодующий голос Райнхарда:
— Да что вы себе навыдумывали?!
В мгновение ока я накинула халат и босиком соскользнула по лестнице вниз. Муж как раз открывал дверь в гостиную перед какой-то молодой женщиной. Я последовала за ними.
Я пожирала ее глазами. Господи, да она еще почти ребенок! Где-то я ее уже видела, вроде бы лицо знакомое. Наверное, живет рядом, может, в магазине встречались. Она учтиво протянула мне руку:
— Меня зовут Имке, — и уставилась на меня невинными, голубыми широко распахнутыми глазами.
Я растерялась.
— Может, присядем? — предложил Райнхард. Он чертовски устал. — Будьте добры, никогда больше так не делайте. — Он пытался придать голосу строгости.
Имке потупилась и улыбнулась.
Тут я вскинулась:
— Зачем вы по ночам приклеиваете моему мужу розы к лобовому стеклу?
С самым естественным наивным видом она спросила в ответ:
— А что, это разве преступление?
— Нет, не преступление, конечно, но это совершенно бессмысленно и нелепо. И вообще, к чему это все? — опять вступил Райнхард.
Имке, кажется, несколько растерялась.
— Можно мне поговорить с вами наедине? — обратилась она к моему мужу.
— У меня нет тайн от жены, — запротестовал Райнхард, но барышня заупрямилась, и я была вынуждена удалиться.
В стене между кухней и гостиной было проделано окошко, чтобы передавать еду. Но мы его почти не использовали, ели всегда на кухне. Зато я расписала стекло, вставленное в проем. Между прочим, это было мое собственное изобретение: стекло я взяла двойное и на каждой стороне нарисовала отдельную картинку. Но, впрочем, кого тут интересуют мои открытия? Имке сидела к окошку спиной. Я без малейшего шума вынула стекло из рамы и устроилась поудобнее на табуретке: подглядывать и подслушивать.
Имке уверяла моего мужа, что правильно истолковала один его жест, или, вернее, знак, ей поданный, и вот розы теперь и есть ее ответ. Райнхард слушал и, кажется, не понимал ни слова.
Необыкновенной красавицей Имке не была, но хорошенькой, симпатичной — да, а главное — она такая молоденькая, чуть за двадцать. И одета скромненько, не Лолита и не мадам де Помпадур: серенькая, довольно изношенная, потертая футболка и широкие штаны. Двигалась как-то неловко, угловато, светло-каштановые волосы средней длины спадали ей на плечи как охапка соломы.
Она без смущения глядела на моего мужа широко распахнутыми глазами.
Моему благоверному положительно льстило обожание такой юной барышни, но, тем не менее, он потребовал, чтобы та четко объяснила: при чем тут розы?
Несколько недель назад шла она мимо нашего дома с букетом роз, а Райнхард как раз садился в свою машину. Тут у нее из букета выпал один цветок. Мой муж поднял розу с земли, отдал Имке и улыбнулся. И тогда она прочла в его глазах тот самый знак.
— Какой знак?! — Райнхард не верил своим ушам.
— Мы предназначены друг другу судьбой, — отвечала она.
М-да-а… Напрасно я подозревала мужа в измене. Девчонка-то явно не в себе.
— После того дня, когда мы с вами познакомились и я прошла мимо вас с букетом, в понедельник, я вам стала каждый понедельник дарить розу. А потом вы мне ответили — поставили на окно в вашем офисе саженец розы в горшке. Я тогда почувствовала, как мы с вами близки, и поняла, что все у нас будет хорошо.
О Господи, она выяснила, где он работает, безумное дитя! Бедняга, ребенок ведь еще, к ней можно на «ты» обращаться, — подумала я.
Райнхард между тем продолжал допрос:
— А жемчуг зачем?
Так Имке снова ответила на очередной знак. Тут она назвала одну дату, и я занервничала: речь шла о дне рождения нашего Йоста. От напряжения я даже чихнула.
— Вы стояли у входа в ваш дом рядом с вашим другом, который держал за руку мальчика, — рассказывала Имке, не услышав моего чиха. Наверное, она имеет в виду Готтфрида, тот забирал своего Кая с нашего детского праздника. — И в этот момент я проходила мимо, а вы сказали: «Эта девушка просто жемчужина!» и посмотрели на меня.
Райнхард рассмеялся:
— Мой приятель спросил, нет ли у меня на примете подходящей уборщицы, и я ему посоветовал мою Гюльзун…
Его все это уже забавляло. Он покачал головой, бормоча: «Ну дела! Быть не может!», а потом снова стал расспрашивать ночную гостью.
Выяснилось, что вот уже несколько месяцев Имке живет на другом конце нашей улицы. В Вайнхайме ей предложили неплохую работу, она уехала от родителей и поселилась здесь.
— Что за работа? — поинтересовался Райнхард.
— Диетсестра в больнице.
Тут я улучила момент, чтобы снова присоединиться к мужу и его обожательнице. Я вплыла в гостиную с достоинством, как законная супруга, но влюбленная барышня ничуть не смутилась, просто повернула ко мне лицо. Особо разговорчивой я бы ее не назвала, из нее приходилось тянуть каждое слово. Тихоня эдакая! Да только в тихом омуте…
— Я думаю, нам всем уже пора спать, — заявила я без всякой враждебности, но строго, авторитетно, как почтенная мать семейства. — Завтра понедельник, рано вставать.
В то же мгновение Имке вскочила, пожала каждому из нас руку своей маленькой, хрупкой ручкой, улыбнулась Райнхарду и исчезла.
— Ну вот видишь, — заговорил муж, — всего-то несчастная полоумная девочка!
— Да уж, барышня сильно не в себе! — отозвалась я. Райнхард ухмыльнулся:
— Ты хочешь сказать, всякая женщина, что в меня влюбится, сходит с ума? — Он обнял меня за плечи и повел вверх по лестнице в спальню.
В голове у меня все еще постукивало от напряжения, но я уже не обращала на это внимания. Спать, скорее спать.
На другое утро за завтраком я обратилась к дочери:
— Невиновность твоего Хольгера установлена. Это не он носил розы и не тебе.
— А ты откуда знаешь? — встрепенулась дочь.
— Ночью папа поймал одну даму, которая хотела прикрепить розу к лобовому стеклу его машины.
У детей ушки тут же оказались на самой макушке. Райнхард еще спал. Сегодня он решил наконец-то сознательно воспользоваться привилегией независимого предпринимателя и прийти на работу попозже.
— А зачем она это делает? — спросил Йост.
— Да потому, что она в папу по уши втрескалась! — тут же объяснила ему сестра.
Мы все рассмеялись.
— А я, между прочим, ее знаю! — важно сказал Йост.
— Да ну! — Лара прищелкнула языком. — А может, она тебя любит, а не папу? — она ткнула брата в бок. — И как она выглядит?
— Она иногда стоит перед нашим домом и пялится так прикольно… — объявил Йост. Он часто играл перед домом в футбол.
Несомненно, Йост имел в виду именно Имке. Единственным, что во всем ее облике обращало на себя внимание, был всепроникающий взгляд, медленный, застывающий подолгу на одной точке.
Наконец все разошлись по своим делам, а я напечатала все, что Райнхард надиктовал мне за выходные, убрала постели, полила цветы и запустила стиральную машину. За долгое время я научилась вести хозяйство с молниеносной быстротой, чтобы поскорей с ним разделаться. Вот было бы здорово, если бы дети могли еще и обедать в школе! Так нет же: стоит мне спровадить их со двора и раскидать домашние заботы, как они уже тут как тут, стоят голодные у двери! Я сунула в духовку готовую покупную пиццу и нагрузила мороженым горошком микроволновку.
А в почтовом ящике между тем уже лежало письмо от Имке. Видимо, она написала его глубокой ночью и бросила к нам в ящик по пути на работу. Я колебалась одну минуту, потом вскрыла конверт даже без всякого пара. Зеленый, как лужайка, листочек бумаги с розовыми тиснеными розочками.
«Мой возлюбленный жемчужный принц, нынешней ночью я стала самой счастливой женщиной на свете. Я знаю, что Ты страшишься всей глубины Твоего огромного чувства и пытаешься уберечь от него меня. Но верь мне, лишь я одна могу по-настоящему понять Тебя и помочь Тебе. Ты так раним, я прочла это в Твоем взгляде. До сего дня Ты был совершенно одинок, но теперь все будет хорошо.
Тысячу приветов шлет маленькая пчелка своему petit prince»[10]Да, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Это Райнхард-то одинокий и ранимый? Слава Богу, уж кто-кто, а он самый что ни на есть земной, практичный реалист. Но вот Имке меня беспокоит. Это не та соседка, которой хочется выцарапать глаза за то, что пялится на твоего мужа, девчонке всего двадцать один год, бедная, маленькая дурочка. С ней нужно себя повести осторожно, чтобы не обидеть, но, с другой стороны, она должна понять, что без толку растрачивает свои чувства. Ей бы найти себе молодого достойного паренька. Райнхард же в отцы ей годится, женат, с двумя детьми. Ну на кого она тратит свои лучшие годы?!
Йост захотел навестить друга своего Кая и упросил меня отвезти его на машине. Мне тоже хотелось поговорить с родной душой. Перед Сильвией я бы откровенничать не стала, а вот Люси… Может, она выслушает? Лара тоже как-то невзначай оказалась с нами в машине: у Кая морская свинка родила детеныша.
Ну, думаю, сейчас начнется: мои отпрыски будут меня изводить, канючить из-за новорожденного грызуна (им так хочется завести дома зверушку): «Мам, ну прими ты это, как эти таблетки-то называются?»
— Десенсибилизаторы, — напомнила я в очередной раз. Люси внимательно выслушала меня и позвонила Готтфриду на работу, в издательство. Тот объяснил ей, где какую книгу искать, и мы отправились в его рабочий кабинет. Люси покопалась на полке с психологическими трудами и вскоре держала в руках «Исследования по индивидуальной психотерапии, основанной на частных особенностях психологии пациента». Там стояло, четко и однозначно: «Женщина, одержимая любовным безумием, уверена в правильности и адекватности своих чувств и поведения, независимо от того, как реагирует на ее любовь объект обожания, даже если он кидает телефонную трубку, услышав ее голос, или отправляет обратно нераспечатанными ее письма…»
Значит, так оно и есть: Имке не просто молоденькая дурочка, без памяти влюбленная в моего мужа, она больна, она не в себе, как я и предполагала прошлой ночью.
— Люси, что же нам теперь делать?
— Не поддаваться, я думаю, — размышляла подруга, — вести себя спокойно и последовательно, не дергаться, не нервничать. Что с нее взять, она же ненормальная! Как девочку зовут, ты говоришь?
— Имке. Но, между прочим, девочка-то уже давно совершеннолетняя и, кстати, очень даже хорошенькая.
Люси задумалась ненадолго и пообещала посоветоваться с Готтфридом, он кроме теологии и медицины изучал в университете еще и психологию и неплохо во всем этом разбирается.
Через четверть часа, как всегда, у меня стали слезиться глаза. Кошачья шерсть в этом доме торчала из всех щелей, так что оставаться у подруги стало для меня совсем уже невыносимо. В саду сидеть было холодно, я забрала детей и уехала домой.
Брови моего мужа взлетели высоко-превысоко, когда я передала ему открытый конверт с письмом, но от головомойки и притчи о любопытных женах он меня избавил. И пока он читал любовное послание, физиономия его прямо светлела:
— А ты знала, что ты замужем за жемчужным принцем?
— Не смешно! — Мне его шутки в данном случае казались абсолютно неуместными. — Имке больна, Люси тоже так считает.
О нет, Райнхарду не хотелось, чтобы обожание юной дурочки интерпретировали как безумие, как болезнь. Она влюблена в него до потери пульса, она его боготворит, немножко на нем сдвинута, ну и что с того? Некоторые падали в обморок от одного взгляда на Элвиса Пресли!
— А с другой стороны, — засомневалась я, — она ведь и школу закончила, и на медсестру училась, и работа у нее солидная. Как же она могла так помешаться?
Не хотелось мне больше цапаться с мужем после нескольких недель постоянных ссор. Я была так рада, что все мои подозрения и страхи оказались напрасными, муж мне верен по-прежнему. И бог с ним, с Готтфридом, с его умными книжками, до поры до времени не буду мужа донимать. Пусть лучше поедет заправить мне полный бак бензина, мне опять нужна машина.
Во вторник я наконец снова начала рисовать. На лужайке на переднем плане пусть сидят дети: Лара в летнем платье с рюшечками (такого наряда у Лары не было, потому что он был еще впору дочери Сильвии). Рядом Йост с морской свинкой в руке, с той самой, которая по моей милости никогда ему не достанется. А куда деть моего годовалого покойного брата Мальте? Поместить с моими детьми на первый план, как если бы он принадлежал к их поколению в нашей семье? Но вообще-то, он моим детям дядюшка. Скорей бы мама прислала его фотографию, надеюсь, мне удастся передать сходство.
В почтовом ящике действительно лежало письмо от матери. И еще одно — от Имке. Не раздумывая, я написала на ее конверте красным карандашом: «Адресат отсутствует. Вернуть отправителю». Но ведь письмо пришло не по почте, как оно вернется теперь к отправителю? Может, наклеить марку? До дома Имке самое большое десять минут, а в это время она точно на работе. Я сняла фартук, испачканный краской, и побежала к ней — лучше сразу сделать и забыть.
Перед нашим домом стоял широко открытый мусорный контейнер. Райнхард снова опустошил свою корзину для бумаг и снова забыл отсортировать отходы. Я вздохнула и выполнила это за него.
Через несколько минут я уже стояла перед скучным длинным зданием, состоящим из шести подъездов, со съемными квартирами. В мансарде жила Имке. Когда я бросала письмо в ее ящик, на улицу вышла пожилая дама с ведром и шваброй.
— Вы к кому? — спросила она.
— У меня только письмо, — отвечала я, но потом решила воспользоваться случаем: — Скажите, вы знакомы с девушкой, которая живет там, на самом верху?
— Да, знаю. Имке ее зовут. Единственная, кроме меня, кто прилично моет лестницу, когда приходит ее черед.
Мы улыбнулись друг другу, как две заговорщицы, две домохозяйки. И я поспешила опять вернуться к моим покинутым краскам на кухне. Но на буфете я заметила книгу Готтфрида по психологии, не долго думая открыла ее и зачиталась.
УКУС ПЧЕЛЫ
«Нарциссы и тюльпаны краше шелковой купены», — поется в летней песне Пауля Герхардса о лете, хотя речь идет о весенних цветах. Смотрю я на полотно Руланта Саверея[11] и думаю, что шелк, даже самый тонкий и нежный, не идет ни в какое сравнение с живыми весенними цветами. Белые нарциссы, желтые ирисы и синие лилии-касатики, диковинные шахматные лилии, розовые пионы, чайные розы и свежие зеленые листья переплелись в необыкновенно пестрый, играющий красками букет. Цветы смотрят на зрителя широко распахнутыми глазами. Как они наивны, эти глаза. И как ранимы и беззлобны те, кто смотрит на окружающий мир такими глазами.
Художника увлек разноцветный хоровод цветов, но во всех уголках его картины возятся еще и всякие маленькие существа. Здесь, внизу, на краю деревянного стола растения переплетаются с животными, одно переходит в другое: мохнатая пчела, изумрудная ящерица, упавший цветок анютиных глазок, кузнечик, нежный бледно-голубой цикорий с зелеными листьями и наконец моя любимая мышка. Среди стеблей и цветов самого букета прячутся жуки, бабочки, крошечные дикие пчелки и ползают гусеницы.
Аллегория весны? Или аллегория конечности всего живого? Гимн красоте, жизни, творцу? А может, антитеза, заложенная в самой матери-природе: созидательница пчела, несущая жизнь и пользу, и кузнечик — уничтожитель, разрушитель?
И здесь торжествует все то же жизнеощущение барокко, что и в летнем напеве: «Ищи свою радость, сердце мое, ищи свое счастье!» Рог изобилия флоры и фауны низвергает водопады, и певец никого не забывает упомянуть, даже насекомых: «Пчел мохнатых рой сердитый вьется здесь и там в поисках меда».
Я уже говорила, что еще ребенком любила насекомых, ладила даже с кусачими пчелами. Я была старательной, прилежной, трудолюбивой как пчелка, по крайней мере, пока в моей жизни не появилась Имке.
Сильвия как-то лежала в больнице, потому знала нескольких медсестер из отдела интернов и в удобный момент расспросила их об Имке. «Очень прилежна, незаметна, дружелюбна, несколько замкнута в себе, интровертна, но на нее можно положиться». Никто ничего против нее не имеет, никто с ней близко не дружит. Да, не много, прямо скажем. И что мне теперь со всем этим делать? Я не хотела ни очернить ее, ни сделать всеобщим посмешищем. Просто мне казалось безответственным сложа руки наблюдать, как девочка сходит с ума. Пришли еще три письма, их я также отнесла обратно. А чтобы Райнхарда зря не беспокоить, ему ничего не сказала.
После неудачи с письмами Имке явилась лично, однажды вечером я застала ее сидящей на ступеньках нашего палисадника перед домом. Я заметила ее из окна и ждала, что она войдет в дом. Но и через два часа Имке сидела неподвижно на том же месте. Тогда я вышла и заговорила с ней мягко:
— Имке, ну зачем вы, в конце концов, опять здесь сидите? Это же совершенно бессмысленно!
— Я жду вашего мужа, я нужна ему, — был ответ.
— Райнхарду не нужна вторая жена, — сообщила я ей, — нераспечатанные письма, вернувшиеся обратно, тому доказательство. Они ему уже давно не интересны.
— Письма вернули вы, а не он, — заупрямилась барышня, — а у вас нет на это права. Я дождусь здесь Райнхарда и отдам ему мои письма лично.
Ну, это уж слишком!
— Пожалуйста, уходите отсюда, — вспылила я, — и оставьте моего мужа в покое, он и так завален работой и устает смертельно! Не беспокойте его такими детскими глупостями!
Мой тон подействовал на нее не особенно — она ушла с лестницы и переместилась на улицу. Я в гневе вернулась в дом и попыталась дозвониться Райнхарду. Но его в офисе не было, либо он на стройке, либо уже ехал домой, а предупредить его я не могла. В порыве щедрости я позволила детям посмотреть по телевизору вечерний детектив, а сама то и дело выглядывала в окно.
Вскоре приехал Райнхард. Имке тут же подошла к его машине, заговорила с ним через открытое окно и передала с самым серьезным видом полное собрание своих душевных излияний. Никакого девчоночьего флирта, ни тени сомнения в том, что она действует правильно. Мой муж вышел из машины и что-то сказал ей, всего несколько фраз. Потом он убрал конверты в карман своей кожаной куртки и с улыбкой протянул ей руку, как-то по-отцовски или по-дружески. «Вот дурак!» — кипятилась я, глядя в окно. Он же ее поощряет таким образом! Совершенно некорректное поведение!
Но выразить свое «фи» я не успела, муж меня опередил.
— Это не честно, — заявил он, — письма адресованы мне, а не тебе. Могла б хоть спросить, прежде чем относить их обратно. Не надо за меня решать, ладно?
— Мне хотелось тебя избавить от лишней работы. Ты бы все равно потом «делегировал» меня отнести их обратно, — несколько раболепно отвечала я, потому что меня все-таки немного мучила совесть.
И что же? Мой муж, который обычно приходил с работы такой усталый, распечатал один конверт за другим и внимательно, с явным удовольствием прочитал каждое послание. А потом аккуратно их сложил и спрятал в бумажник.
— А моя женушка, за которой нужен глаз да глаз, в наказание не узнает, о чем повествуют сии шедевры любовной лирики, — объявил он.
Я стала уверять, что и так могу себе представить, что там написано, и совсем мне не интересно, а вот он бедной безумной Имке окажет медвежью услугу, если будет и дальше несчастную в ее безумии поощрять. Но муж мой был слишком толстокожим, он ничего не понял:
— Через пару лет ты вылечишься от своей ревности и будешь над письмами этой барышни хохотать до слез. Такое надо сохранить, чтобы было что вспомнить!
И тут я от бешенства взвилась на дыбы как ужаленная, и меня понесло:
— Идиот! Да ты что, совсем не въезжаешь, что ли? Она же больная, у нее крыша съехала! Свихнувшаяся девчонка придумала себе бога, принца сказочного, а ты и рад стараться! Да ты на самом деле знаешь кто? Ты… ты… старый драный кот! Самовлюбленный и безмозглый!.. — Я задохнулась, мне не хватало воздуха.
Был скандал. Писем он так и не дал. Но кое-что другое открылось мне, когда самодовольный Райнхард раздраженно проводил пальцами по своему бумажнику. Прежде я этого не осознавала. У него был дар: его руки, сильные, крепкие мужские руки посылали эротические флюиды. Мне всегда нравилось, как он с любовью дотрагивается до куска древесины, берет в руки яблоко или любой другой самый банальный предмет, но я никогда не подозревала, что существует взаимосвязь между этим чувственным прикосновением его рук и сексуальностью. В тот вечер я вдруг увидела своего мужа глазами Имке. Райнхард действительно — невольно, ненамеренно — посылал некий тайный знак, о котором говорила бедная безумная девочка. Посыл был слабенький, конечно, еле заметный, но женщина чуткая, чувствительная, тонко чувствующая его уловит. В общем, имеющая чутье да учует, но та, чей сейсмограф способен улавливать такие тонкие колебания, конечно, не вполне от мира сего.
В следующий понедельник утром Райнхард вышел за газетой и вернулся в некотором замешательстве с изящно упакованной маленькой посылкой. Я все поняла лучше, чем он сам. Подарок, найденный на капоте мужниного автомобиля, оказался свежайшим, ароматным, только что из печки, медовым тортом под названием «Укус пчелы».
— Твоя пчелка всю ночь пекла для тебя угощение, — оскорбленно прокомментировала я.
Польщенный Райнхард тут же принес из кухни нож и отрезал по куску каждому члену семьи.
— Ну вот, нет худа без добра, — обрадовался он, — пирог-то ты ведь не понесешь ей назад?
Дети были в восторге.
— Вкусно как! У мамы так не получается, — оценил Йост. Ну да, конечно, она же медсестра-диетолог, еще бы ей торты не удавались. А когда она, интересно, вообще спит? Ладно, торт, как ни крути, лучше, чем постоянные письма, которые возвращаются к ней без ответа.
Оставшись в одиночестве, я проглотила второй кусок пирога, вкусно было и правда необыкновенно. Что же это такое происходит? Может, Имке, каким-то своим тайным шестым чувством затронула в моем муже такую скрытую струну, которую я проглядела? Может, он мечтал всю жизнь, чтобы его обожали, почитали, боготворили, носили на руках? Или он действительно одинокий принц-мечтатель, тонкий, чувствительный, нежный, а вовсе не толстокожий и грубоватый, как я о нем думала?
Сильвия пригласила нас на обед. По каким-то необъяснимым причинам, ей одной ведомым, приглашения удостоились также и Люси с Готтфридом. Готовить самой хозяйке было лень, да она и не умела, и чтобы не позориться, пригласила таиландского повара по имени Тои, а уж он-то лицом в грязь не ударил: стол ломился от тайских деликатесов. Я уже взяла себе на тарелку каракатицу, фаршированную рубленым мясом, лимоном и специями, и собиралась все это разом проглотить, но тут снедь застряла у меня в горле: на другом конце стола мой муж залюбовался помидором, вырезанным в виде розы, держа его на свет, и громко произнес:
— Я вам на десерт кое-что такое сладкое почитаю, что никакого пудинга уже не нужно будет!
— Мой экзотический фрукты нет сахар, только мед! — обиделся Тои.
Когда подали жареные бананы, ломтики манго и шарики дыни, Райнхард достал письма Имке. И я не могла ни пнуть его под столом ногой, ни остановить сердитым взглядом — он на меня даже не взглянул. Писем было не два и не три, а штук двадцать. Видно, он получил их без меня и ничего не сказал.
«Мой маленький принц! Как же ты одинок в этой пустынной вселенной! Но в оазисе моего сердца для тебя одного расцвел розовый куст, и в каждом бутоне ты найдешь жемчужину от меня…»
Сильвия расхохоталась во все горло, Люси сдержанно рассмеялась, Удо подавился, Готтфрид вообще вышел из комнаты. А я произнесла тоном палача:
— Райнхард, это верх безвкусицы, хвастаться письмами, которые тебе написала больная женщина!
— Да мы же здесь все свои, чего там! — заворковала Сильвия примиряюще. — За эти стены ни словечка о душевных излияниях Имке не выйдет. Наоборот, было бы жаль, если бы Райнхард ничего нам не рассказал!
Удо рассмеялся до слез:
— Какой бред!
Тут Люси встала на мою сторону:
— Райнхард, мне кажется, Анне обидно, что ты так гордишься этими любовными посланиями…
Райнхард разозлился и вспылил:
— У вас с чувством юмора плохо! Да, ну конечно я не отношусь серьезно к бредням полоумной девицы, у которой половое созревание затянулось. И с чего вы взяли, что мне это льстит?! Да просто послушали бы, как она пишет, каждая строчка — конфетка!
Всем стало неловко, все замолчали. Наконец в гостиную вернулся Готтфрид, как галантный кавалер, наполнил наши бокалы и стал болтать с мужчинами о всякой ерунде вроде цен на недвижимость. Сильвия увела меня и Люси в спальню полюбоваться на новый персидский ковер, который стоил целое состояние. На самом деле он служил Сильвии только поводом продемонстрировать нам новинки своего гардероба. Мы с Люси из вежливости аплодировали.
— Слушай, ты бы занялась собой. — Сильвия была в своем репертуаре, безмозглая и бестактная. — У тебя фигура как у богини, а ты носишь какие-то мешки! — Она захихикала. Что-то новое послышалось в ее злорадном тоне, чего я раньше никогда не замечала.
Пришло время прощаться. Пьяная Сильвия особенно долго лобызалась с моим мужем, он, впрочем, выдержал ее напор как мужчина. «Знаешь что, принц ты наш сказочный, — замурлыкала она ему на ухо, но я, правда, все слышала, — принцам положено целовать спящих красавиц и будить их своими поцелуями».
Я выпила совсем немного, потому что мне предстояло вести машину. Я злилась и засыпала от усталости за рулем, разговаривать мне совсем не хотелось, но на одном из светофоров, остановившись на красный свет, я не выдержала, и как-то само собой у меня вырвалось: «Какая же ты свинья!» Райнхард молча вылез из машины и пошел домой пешком.
На другое утро он отрицал все: никаких писем от Имке он больше не получал, кроме тех, что видела я. Мне все это приснилось, я ослепла от ревности и ярости.
Йост, неутомимо игравший в футбол перед домом, рассказал, что Имке шестичасовым автобусом вернулась с работы домой и по пути завернула к нам. На этот раз ее встретила я:
— Вы же мне обещали — больше никаких писем!
— Нет, — твердо отвечала она, — если бы я обещала, я бы свое слово сдержала. Но мне никто не может запретить писать моему любимому хоть каждый день.
— Вы передавали ему когда-нибудь ваши письма лично? — спросила я.
Она бросала их в ящик у него в офисе, чтобы я не относила их обратно…
Девочка говорит правду, думала я, и вообще-то она абсолютно порядочна.
— Имке, скажите, вы когда-нибудь обращались за помощью к доктору?
Она помотала головой. Я хотела было объяснить ей, что имею в виду, но она повернулась и ушла, оставив меня одну.
Я позвонила Люси:
— Ты тоже считаешь, что я ношу не одежду, а мешки?
— Аннароза, дорогая, неужели тебе нравится эта безвкусица с блестками, в которую Сильвия втискивает свои формы? У тебя особенный вкус, особое чутье, ты носишь, что тебе нравится, и это всегда выглядит оригинально.
Я не совсем была уверена, что услышала в свой адрес комплимент. Сама Люси принципиально одевалась в черное.
— Ты с Готтфридом насчет Имке не говорила? Готтфрида на тему психических заболеваний лучше не трогать, у него брат шизофреник.
— Обратись лучше к психотерапевту, — был совет.
— Спасибо, легко сказать! Как я могу?
— Ну и ладно, пусть и дальше бредит на здоровье. Надолго ее не хватит. Если уж она тебя совсем до белого каления доведет, тогда и воюй с ней. Слишком уж ты, радость моя, серьезно ко всякой ерунде относишься, — отозвалась Люси.
Последняя фраза меня покоробила: Райнхард повторял мне ее каждый день.
В Готтфридовой книжке вслед за главой о любовном помешательстве шел рассказ о сумасшествии на почве ревности. Неужели я скоро стану такой же психопаткой, как Имке? Боюсь, она толкнула с горки камушек, за которым покатятся и другие, и камнепад уже не остановить.
Только мое рисование меня еще и утешало. Покойный Мальте появился на семейном портрете первым. На фотографии, что прислала мне мама, он одет в летние штанишки, под которыми угадывается подгузник. А я решила изобразить его в матросском костюмчике, так будет заметнее разница между ним и поколением моих детей. Разглядывая в лупу маленькое личико Мальте, я обнаружила призрачное сходство с детскими чертами Имке. У обоих были широко расставленные глаза, голубые, как небо, полные какой-то невыразимой мечты. От таких глаз мне всегда становится жутко. «Не от мира сего» называю я тех, у кого такие глаза. «Не от мира сего», — сказала я себе, глядя на Мальте, и чуть не расплакалась по своему потерянному брату.
Мне казалось, я рисовала минут десять, на самом деле пролетели уже два часа. Мне знаком этот феномен: стоит уйти с головой в воображаемый мир, и время несется, бежит вскачь, фантастически скоро, будто в сказке, вечность превращается в один миг.
Интересно, получила ли сестра моя Эллен снимок Мальте? Я сделала перерыв и позвонила ей. Эллен сказала, что также хотела позвонить мне сегодня, поблагодарить за фотографию.
— Эллен, а ты не знаешь, отчего он умер? — Я коснулась темы, которая в нашей семье всегда была табу.
Сестра задумалась на некоторое время, а потом отвечала, что, кажется, говорили о внезапной детской смерти.
Те, у кого есть дети, знают, о чем речь. Младенца между вторым и шестым месяцами жизни иногда находят мертвым в колыбели, хотя он ничем не болел, причин для внезапной смерти вроде не было никаких.
— Странно, Эллен, — засомневалась я, — мама, я помню, говорила о несчастном случае.
— Ну, сейчас-то мы ничего не выясним, — решила Эллен, — лучше как-нибудь осторожно снова выспроси у матери, что же случилось. И вот что я хотела сказать. Когда ты ко мне приедешь? Я вас жду всех четверых, места у меня много, приезжайте.
— Спасибо, может, когда у детей будут каникулы, — согласилась я.
День перевалил за середину, мое место теперь было у плиты. В голове стояла полная мешанина: любовные письма, живопись на стекле, какой-то обед, пожилая сестра, заново обретенная, маленький брат, умерший еще до моего рождения. Не соблазнить ли Райнхарда в новом платье, узком, обтягивающем, сексапильном?
— Не хотите навестить нашу тетю Эллен? — обратилась я к Йосту и Ларе, уминавшим рыбные палочки и жареную картошку с кетчупом.
— Кого?
Они забыли, кто это.
— А, это та, в сером, которая ножницами режет спагетти! — вспомнил Йост.
— Я поеду, если Сузи с нами поедет, — предложила Лара.
— И Кай, — добавил Йост.
Иногда меня, как потоп, переполняет любовь к моим детям, но порой я готова свернуть им шею. В теории, конечно, в действительности я пальцем их не трону. Временами на меня что-то накатывает, я порывисто прижимаю их к сердцу, покрываю поцелуями, душу в объятиях. Йост таких нежностей не выносит, Лара смущенно улыбается и тоже спешит от меня освободиться. Вот на Райнхарда никогда ничего не накатывает. И я при нем держу себя в руках. Мне так хотелось в детстве увидеть, как целуются мои родители — ну хоть раз, хоть как-нибудь проявили бы живые человеческие чувства, и я была бы счастлива. Мой муж умеет прятать свои эмоции очень глубоко, но на мою маменьку он, слава Богу, не похож.
Пока я самозабвенно и старательно корпела над изображением Мальте, я вдруг внезапно полюбила брата. Неожиданно, как вспышка молнии, меня пронзило к мальчику чувство, сравнимое с тем, что я испытываю к моим детям. Тогда же я, как ни странно, приняла в свое сердце и бедную Имке. Чудеса, думала я, мне впору эту барышню ненавидеть. Но вместо этого я испытываю к ней даже не симпатию, а какую-то материнскую доброту. Мне захотелось защитить ее, но я не могла, как не могла уже помочь и брату.
На семейном портрете Мальте получил одного из плюшевых медведей, сшитых маменькой. Конечно, это анахронизм: когда родился брат, мать еще не увлекалась пошивом мягких игрушек. Ну и пусть. Вся картина будет немного сюрреалистична. Прошлое, настоящее, сон и мечта будут перетекать одно в другое, как акварельные краски. Райнхарду, например, я дала бы в руку одну из папиных мухобоек, чтобы мой муж пристукнул одну настырную маленькую пчелку. Так и слышу, как его писклявый голосок произносит: «Да ладно тебе, ты-то уже давно не кусаешься!»
СВОБОДНА КАК ПТИЦА
В этот самый момент моя маменька объявила, что собирается нас навестить. Она сразу чует, когда у нас с Райнхардом что-то не ладно, поскольку уверена, что наш брак представляет собой такое же ленивое, скучное, однообразное, тоскливое перетекание изо дня в день, что и ее совместная жизнь с моим папенькой. Мать любила внуков, ей нравился зять, и она была убеждена, что ее дочь удачно вышла замуж и счастлива в браке. И я не стремилась ее разуверить, пусть бы она всю жизнь так и думала.
Когда я забирала ее с вокзала, первое, что она произнесла, было: «Мышка моя, ты выглядишь такой счастливой!»
А я как раз плохо спала ночью, меня опять мучили кошмары, напялила на себя с утра один из своих любимых мешков, скандинавский спортивный костюм в серую, темно-коричневую и бежевую полоску. Уже неделю я не могла избавиться от насморка, и мой ярко-красный нос, единственное цветное пятно всей композиции, был виден за версту.
Йост приветствовал бабушку словами, которые ему запрещено было произносить:
— Ба, я надеюсь, ты мне не привезла очередного медведя?
Бабушка только умилилась его искренности:
— Бабуля знает, что ты уже не играешь с плюшевыми зверушками, бабуля сшила тебе дракончика.
Дети схватили дракона и умчались на улицу. Не пришло и двух минут, как они вернулись, и вместо бедного дракошки у них в руках была куча разноцветных лохмотьев.
— Бабуля ничего не смыслит в аэродинамике, — был Ларин приговор бабушке.
На другой же день матери стало хуже, и она заныла:
— Это ты виновата. — Еще бы, кто ж еще! — Моя спина не выдерживает новых матрасов, зачем вы старый выкинули? Мне на нем было почти так же хорошо, как на «больной» кровати.
— Мамочка, милая, ты спишь на прежнем старом матрасе. Откуда у нас возьмется столько денег, чтобы менять матрасы каждый год?
Наверное, я и правда была сама виновата, я раздражала и мать, и мужа, потому что постоянно злилась, нервничала, дергалась и чувствовала себя препаршиво. Вечером я спустилась в подвал забрать из машины белье и нарочно шаталась там без дела подольше, чтобы побыть одной, совсем одной. Мне стало лучше.
Я вернулась в гостиную, и что вы думаете? Думаете, они там телевизор смотрели? Как бы не так! Сидят зять и теща и зачитываются новым очередным посланием от Имке. Меня так и передернуло, но я не стала им мешать, пусть развлекаются.
— Как мило, — вздыхала маменька, — как трогательно все, что малютка пишет. Немножко безумно, конечно, но до чего же мило!
— Ну-ну, радуйтесь дальше, — бросила я, — но только без меня, я устала.
Я еще не успела выйти за дверь, как мамуля спросила моего мужа:
— Что это с ней?
И Райнхард отвечал, громко, специально, чтобы я слышала:
— Да спятила она, вот что! Птичка одна ее, видать, клюнула!
Птичка, говоришь? Хм, птичка… На птиц всегда охотились, ловили, продавали. Вот и Криштоффель ван Берге изобразил на полотне 1624 года охотничьи трофеи на деревенском дубовом столе. Все больше болотные и водоплавающие птицы, значит, господа охотники побывали в камышовых зарослях, в лесных топях. Сегодня выпь уже никто не подстрелит, ее охраняют, но тогда об охране природы и слыхом не слыхивали. Во время осенней охоты били всякую птицу, попавшую под руку.
На крякву и сегодня еще охотятся. Вместе с выпью и гусем-монахом она составляет центр всей композиции картины. Особенно мастер старался, выписывая оперение выпи: воздушное, легкое, светло-коричневое, испещренное темно-коричневыми и черными крапинами, полосками и пятнами, будто тесьмой. Ее зеленоватые лапы торчат прямо над гусем, лежащим по соседству. Таких гусей прозвали «монахами» из-за их окраски: передняя часть головы у них белая, а все остальное черное — затылок, шея, туловище. Ну хорошо, эти птицы самые мясные, но зачем было стрелять всякую певчую мелочь? Наверняка они попали сюда случайно, эти малиновки, зорянки, синицы, славки, снегири. Неверная рука егеря, целясь в крупную добычу, отняла жизнь и у этих малюток. И вот теперь их вместе с остальными зажарят и съедят, но прежде всю добычу разложили, как на витрине, чтобы полюбоваться богатыми трофеями, украсив их еще и персиками с виноградом в китайском фарфоре и красной клубникой в красивом горшочке. Рядом с обильной добычей в полумраке на заднем плане тускло мерцает оловянная посуда. В переднем левом углу красуется розовая роза, значит, картина написана для меня. Сорванная роза — символ конечности всего живого, но, с другой стороны, яркий цветок контрастирует с темными птичьими телами.
Людей без роду-племени, аутсайдеров общества, как теперь говорят, раньше звали вольными птицами. И нигде на свете не мог такой человек схорониться от опасности, будто птица, за которой повсюду следит глаз охотника. И ладно бы еще, если приманит охотник хищника, но вот же на полотне эпохи барокко — маленькие, жалкие, безобидные птахи. Жили себе, пели, никому не мешали, чирикали с утра до вечера, их как ни пожарь, чем ни нашпигуй, они голода не утолят. Да, грустно это, птичья охота, особенно для такой защитницы природы, как я. Но это сегодня, а во времена барокко я бы первая прикрепила к своей шляпе чье-нибудь яркое перо.
Интересно, художнику жалко было птичек, когда он их рисовал? Или я только придумала, что траурный сумрак на картине — знак сочувствия мастера?
С тех пор как я стала вникать в тонкости мастерства на старинных полотнах, мне вдруг осознанно открылась красота природы. Капля росы на воздушном, невесомом, прозрачном лепестке мака может растрогать меня до слез.
На следующий день маменька взялась за мое воспитание:
— Мышка моя, ты бы поласковей с мужем, а? А то, что он ни скажет, что ни сделает, все тебе не то!
— Ну что, например? — огрызнулась я.
Работа его мне всегда не нравится: каждый дом, им построенный, я критикую, камня на камне не оставляю.
— Мужчина любит чувствовать себя немножко богом, — серьезно заявила мать, будто открыла мне тайну масонского ордена.
— Я вполне достойная пара Райнхарду, — возразила я. — Что же это за брак, если жена только мужу в рот и смотрит? В конце концов, если его что-то не устраивает, он тоже не молчит!
— Женщины вообще выносливей и сговорчивей, — стояла на своем маменька, — но я не призываю тебя стать тенью твоего мужа! Рецепт моего брака был — уступай!
Господи, тоска-то какая!
Наверное, не лучшее я выбрала время, чтобы поведать матери о своем художественном проекте. Поначалу она пришла в восторг:
— Какая идея! Молодец! Как здорово придумала! Папа, я, Мальте, ты с Райнхардом и ваших двое сладких — какой получится замечательный портрет! Ты уже начала рисовать?
Я тоже загорелась и стала ей показывать изображение Мальте под стеклом, наброски, эскизы.
— Которая здесь я? — Мамуля нацепила на нос очки и с увлечением разгадывала мои картинки, как ребусы.
— Ты справа рядом с папой, — пояснила я и только тут вспомнила, что слева от моего родителя стоит мать Эллен, предшественница моей. Мать изумилась, и мне пришлось выкладывать все начистоту о том, как ко мне приезжала сестра.
Мамочка страшно разволновалась:
— Аннароза, ты невыносима! И что, эта… эта… Она тебя расспрашивала о семье, да? И ты ей, конечно, все рассказала?! Да как же ты не понимаешь, от нее же ничего хорошего ждать нельзя!
— Мама, ты что? Эллен добрый человек. Кроме того, она моя сестра, она жива, глупо было бы не общаться!..
— Сводная сестра! — гневно выпалила мать.
— Ну и ладно! Да, раз уж мы заговорили о семье: у Эллен несколько иные сведения по поводу моего брата Мальте. Может, наконец, я могу узнать, что же на самом деле произошло: несчастный случай или внезапная детская смерть?
— Несчастный случай, Господи! Несчастный случай!
— Что, что за случай, мам? Почему ты вечно от меня что-то скрываешь? Что ты молчишь?
И тут у матери окончательно сдали нервы. Она надрывно разрыдалась, мне даже жалко ее стало. Лучше бы я ради нее разбила свой стеклянный портрет, чтобы о брате ей не напоминать больше никогда, рыдала она. Почему надо всегда все выспрашивать, зачем лезть в душу? Но вдруг она наконец стала рассказывать, и ее уже было не остановить.
— За год до твоего рождения, в пасхальный понедельник, папа повез меня по магазинам, у меня, как ты знаешь, к сожалению, так до сих пор и нет водительских прав. Мы хотели запастись перед праздниками. Я с Мальте сидела сзади, держа его на коленях. Удобных детских креслиц для автомобилей тогда еще не делали, и пристегиваться было не обязательно. На обратном пути отец обнаружил, что забыл в бюро ключ от сейфа, и мы поехали на склад. Домой приехали позже, чем планировали, и у меня в голове вертелось только одно: скорей убрать мясо, рыбу и овощи из душной машины в холодильник, солнце припекало ужасно. Обычно отец нес тяжелые сумки, а я твоего брата. Но в тот раз я побежала с пакетами в дом, а Мальте оставила сидеть в машине. Папа загонял машину в гараж. Пока я шла к двери с покупками, он стал заезжать задом в ворота. Мальте выбрался на улицу, а мы не заметили, и отец его переехал, задавил моего мальчика, своего единственного сына.
Вот оно что! Господи! Наконец-то я все узнала! Ужас какой!
Слезы моей матери постепенно иссякли, и она продолжала говорить, ровно, без единой запинки, так что слова вставить было нельзя:
— Никогда не забуду: твой отец, белый как покойник, поднимается в гостиную и кладет нашего мальчика на софу, мертвого уже. Потом он стал упрекать меня, что я не закрыла заднюю дверь и малыш выкарабкался наружу. Я в свою очередь обвиняла его, но что толку было спорить, сына было уже не вернуть. Знаешь, Аннароза, думаю, нет ничего страшнее для родителей, чем потерять единственного сына…
— Ну, страшнее, видимо, может быть только последующее рождение дочери, — с горечью произнесла я.
На другой день мама уехала, не сказав на прощание ни слова. Жаль мне было вот так ее отпускать, но зато моя собственная беда осталась при мне, незачем матери всего знать. А наша с мужем история набирала обороты.
Райнхард счел мое поведение неуместным и некорректным: во-первых, не следовало хвастаться перед мамой моим стеклом, во-вторых, рассказывать про Эллен, в-третьих, добивать ее расспросами о Мальте.
— До чего ж ты все-таки бестактная! Зачем бередить старые раны, зачем терзать старую, одинокую женщину? Кому от этого хорошо? Она и так не самая счастливая из…
Я не считала, что моя мать настолько стара, чтобы забыть, что с ней в жизни происходило. Вспоминать иногда полезно! Мы с мужем опять отчаянно поспорили. Любой нормальный зять вздыхает с облегчением, когда любимая теща убирается восвояси, но только не Райнхард! Они с маменькой спелись и вдвоем ополчились на меня одну.
Ну и, конечно, о чем бы мы с мужем ни спорили, разговор теперь неизменно заканчивался на Имке. И все началось сначала: я свихнулась от ревности, да он даже матери моей письма ее читал, неужели это не доказательство его невиновности?! Он чист передо мной как ребенок, а я просто не могу пережить, что его, такого неоцененного, боготворит молоденькая смазливая дурочка! Ну да, дурочка, ну так что ж с того?!
— Будь ты звездой Голливуда, тогда я понимаю — в них все юные дурехи по уши влюбляются. Но ты же самый обыкновенный, самый средний мужик, женатый, с детьми! Банальней и не придумаешь! А Имке себе принца своего выдумала, понимаешь? Приснился он ей, ты-то тут при чем? У нее никого нет, вот она и размечталась о большой любви. Я тебя давно уже не ревную, мне девчонку жалко…
— Да, да, да! Смешно, — отозвался муж.
Тогда я попыталась поговорить снова с Имке, чтобы она перестала мечтать. Но та не сомневалась, что они с Райнхардом предназначены друг для друга.
— Ваш муж изменил всю мою жизнь. До него я не жила, плутала во тьме, — произнесла она серьезно, — а он пришел, и я поняла — это настоящая любовь. Мы спасаем друг друга от тяжких страданий.
— А я как же, позвольте полюбопытствовать?
Имке задумалась.
— У вас останется двое детей, — утешила она меня, — а мне двадцать один год, парня у меня еще никогда не было. Честно говоря, у меня вообще еще ничего в жизни не было.
Но все же, кажется, такое разделение труда ее несколько озадачило, и потому, прощаясь, она смущенно бросила ничего не значащую фразу: «Всего вам хорошего!» и скрылась.
Хорошо все-таки, когда есть друзья. Сильвия таковой не считается, я поехала к Люси: может, мне удастся проконсультироваться у ее Готтфрида под предлогом, что я хочу вернуть ему его ученую книжку. Люси работала в саду, дети резвились неподалеку. Готтфрид был в доме, лежал в шезлонге и читал. Я улучила подходящий момент:
— Вот, хочу вернуть тебе твою книгу по психотерапии. Спасибо, очень было интересно ее полистать. Тебе Люси наверняка уже рассказала о нашей напасти…
— Как раз то, что я сейчас читаю, — отвечал он, — удивительно подходит к вашему случаю. Любовные послания от женщин Адольфу Гитлеру. Невероятно! Что ему писали влюбленные дамы! Вот, например: «Адольф, мой дорогой, мой необыкновенный, мой замечательный!» Впрочем, смешного ничего нет, меня лично мороз по коже продирает. И ты представляешь, это ведь не какие-нибудь одинокие старые девы, всеми брошенные неудачницы, от отчаяния обратившиеся к культу фюрера, нет, здесь явный случай любовной лихорадки, помешательство от любви. Вот, слушай: «Ты посылаешь мне по радио знаки, я сразу все понимаю, узнаю каждый звук». Сегодня так же вот какая-нибудь телезрительница уверена, что диктор на экране смотрит в глаза именно ей, ей одной.
— Я читала, любовное помешательство в основном нападает на женщин, — проговорила я.
— Да, — согласился Готтфрид, — у женщин в период полового созревания возникают ирреальные мечты о неземной любви, после чего обычно вскоре появляется вполне реальный молодой человек и буйная фантазия барышни понемногу успокаивается. Знаешь что, боюсь, вам с Имке может помочь только специалист — сами вы не справитесь, это будет тянуться до бесконечности, — заключил он.
Катастрофа разразилась буквально через пару дней, когда Райнхард после ужина поехал в клуб играть в теннис. Играл он обычно якобы с доктором Кольхаммером, отоларингологом. А на самом деле? Вопрос. Не знаю, не знаю… Не могла же я заявиться в клуб нежданно-негаданно и там за ним шпионить. В расстроенных чувствах я позвонила доктору, чтобы услышать его голос на автоответчике. И как на зло, Кольхаммер оказался у себя в рабочем кабинете. Так, значит, в теннис он сегодня не играет! Я положила трубку и задумалась. Дети смотрели телевизор. «Пойду почту проверю!» — крикнула я им и вышла на улицу. Немного свежего воздуха не повредит. В ящике письменного стола я нашла запасной ключ от офиса мужа и отправилась туда с детективной инспекцией. Гюльзун убирает только раз в неделю, я с ней не столкнусь. А что, если мой бедный трудоголик-архитектор вместо тенниса корпит над чертежами, чтобы заработать на посудомоечную машину? Если его машина стоит перед конторой, просто повернусь и пойду домой.
Если честно, то мне очень хотелось почитать письма от Имке, муж ведь так мне их и не показал. Да и чек из ресторана казался мне подозрительным. И вообще, с кем, интересно, сегодня Райнхард собирается провести вечер? Внутри у меня все замирало и щемило. Так у меня захватывало дух, когда я девчонкой хулиганила по ночам в родительском доме. Между прочим, в глубине души мне это чувство нравится.
Перед офисом стоял не только автомобиль Райнхарда, рядом припарковалась карета «скорой помощи». Наверху, в бюро горел свет, хотя было еще светло. В замешательстве я спряталась за соседний гараж, чтобы меня не заметили из окон, и в укрытии стала думать, как быть дальше. Может, лучше убраться подобру-поздорову? Не дай бог увидит меня здесь муж, и тут уж его обвинения в безумной больной ревности крыть будет нечем. С другой стороны, он ведь должен был уехать в клуб, значит, его не будет, как и всегда в таких случаях, до определенного часа.
Вдруг мне показалось, что я слышу весьма отчетливо чей-то крик, высокий, тонкий, но довольно долгий. Сердце у меня заколотилось, меня бросило в жар. Что здесь делает «скорая»? Что-то с Райнхардом?
Потом двери здания распахнулись: два санитара осторожно вели упирающуюся Имке, обе ее руки до самых локтей были туго перебинтованы. Молодой человек в белом халате и мой муж вышли следом.
— Сейчас лекарство подействует, — успокаивал врач Райнхарда, — скоро она уже будет спать.
Санитары уложили Имке в машину, врач сел в кабину, они уехали. Райнхард нервно огляделся, в окнах соседних домов торчали любопытные. Он поскорее укрылся в бюро. А я не в силах была больше прятаться, меня всю трясло.
Едва я уложила детей спать, как муж пришел домой.
— Привет, — пробормотал он и тут же поспешил уйти с головой в телевизор. Прикидываясь дурочкой, я с участием поинтересовалась, кто выиграл теннисный турнир.
— Никто, — отвечал Райнхард, — доктора Кольхаммера срочно вызвали, у кого-то кровь из носа хлестала, не могли остановить. Никогда не следует выбирать себе в партнеры врача.
— Где ж ты был все это время? — спросила я. Тут у него сдали нервы.
— Это что, допрос?! — взорвался он и швырнул в стену вазу с фруктами. Яблоки, бананы и мандарины покатились под софу. — Если бы не ты, ничего бы не случилось!
И он рассказал мне все. Вместо тенниса он вернулся в бюро, разумеется, в дурном настроении, решил в неожиданно освободившееся время доделать кое-какие неоконченные дела. Внизу он наткнулся на Имке, которая, вся светясь от счастья, опускала очередной розовый конверт в его почтовый ящик. «Я знала, что встречу тебя, — произнесла она мечтательно, — мои предчувствия меня никогда не обманывают».
— Вы что, уже на «ты» перешли?
— Вообще-то нет, — отвечал Райнхард и замолчал. Я уже испугалась, что он свою исповедь продолжать не намерен, но он вдруг начал ругать меня:
— С тех пор как мы поженились, ты вечно меня подозреваешь в измене. Как бы я себя ни вел, ты все о своем!
Теперь разъярилась я:
— Говори, что ты натворил!
— Да другой бы на моем месте сто раз бы уже это сделал! Все мужья это делают! — нагрубил он в ответ. — Я подумал, один раз как следует петушок курочку потопчет, она и успокоится!
— Что?! Не может быть! Ты!.. Ты!.. Да как же?!
— А ты что думала?! — Он в бешенстве топтал мандарины на полу. — Да ты ж сама меня разве не в этом обвиняла?! Сама виновата, сама! Любого нормального мужика такая ревность на мысль натолкнет!.. Любой другой…
Я неистово размахнулась и отвесила ему пощечину. В ответ Райнхард дал мне сдачи, да так, что я упала. Мы впервые подрались. Он бросился вон их комнаты, а я осталась лежать и плакать. Об Имке, о нашем браке, о себе самой.
УЛИТКИН ДОМИК
Мужчины на руководящих постах, как, например, Удо, совершенно по-иному воспринимают жизнь, нежели, скажем, обычные домохозяйки. Они никому никогда не меняли пеленки, не бегали по магазинам за покупками, им неведомо, что такое отдраивать духовку после Рождества. Зато они знают, какой нынче курс акций, сколько стоит прилежная секретарша, и скрупулезно вчитываются в политические статьи в журнале «Шпигель». Райнхард таким не был. Его еще в родительском доме приучили день и ночь пахать как лошадка. При этом он понятия не имел, какое жалованье следует положить компетентному секретарю. В тот роковой вечер я решила, что его секретаршей больше не буду.
В бессонную ночь после нашего скандала я размышляла, как бы утром поделикатней объяснить детям, почему их папочки нет за завтраком. Кроме того, как выяснилось, Райнхард вместо запланированной посудомоечной машины купил черный кожаный диван себе в офис, потому что якобы заказчики к нему стали приходить семьями и не хватало стульев, чтобы всех рассадить. С трудом могла себе представить, как наши клиенты приводят к архитектору своих детей. Зачем? Нет, не обманешь, неспроста ты диван у себя завел, ты мне на нем изменить решил, вот что! Ненавижу я этот кусок мебели!
На другое же утро, только я собралась в ванную, заявился муж, грязный и небритый. Я молча ушла обратно в комнату. Он как призрак спустился к завтраку, закрылся газетой и под ее защитой судорожно, через силу глотал кофе. У меня аппетита тоже не было. Дети, ничего не подозревая, поели и убежали в школу, он все сидел. Что сейчас начнется! Станет требовать развода, наверняка. Я приготовилась защищаться.
Но Райнхард стал вдруг оправдываться, даже давить на жалость. Эта ненормальная так себя нескладно с ним вела, так вызывающе, так откровенно, ну он и понял ее по-своему! Что еще должен подумать мужчина, когда современная женщина на ночь глядя сама напрашивается к нему в пустой офис?! И кто бы мог подумать, что она до двадцати одного года дожила и еще ни с кем… Что у нее никогда парня не было! Они же сейчас уже в пятнадцать лет…
Я — ни слова.
Он все ходил вокруг да около, но до меня уже дошло: выкрутасы Имке на черном кожаном диване мой муж истолковал не так. Она впала в панику, завопила как резаная, помчалась в туалет и стала истошно звать на помощь. Чтобы ее наконец заткнуть, Райнхард взломал дверь в туалет. Теперь он переживал, как объяснит плотнику вышибленную дверь. Имке между тем совсем обезумела, потеряла голову и пыталась лезвием от бритвы вскрыть себе вены.
Мне не хотелось его перебивать, но стало ужасно любопытно, откуда взялось лезвие, если муж всегда брился электрической бритвой.
Лезвием Гюльзун отскребала от кафеля брызги краски и оставила свое орудие на подоконнике, чтобы потом не искать, если еще понадобится. И тут же — я рот открыть не успела — Райнхард обвинил меня в том, что в его офисе на видном месте валяется без присмотра холодное оружие: это я не слежу за порядком в офисе, я виновата. Ну конечно, а то кто ж еще?!
— У нее совсем крышу снесло! — переживал муж. — В таком состоянии она и меня могла б искромсать на куски!
Я отрицательно покачала головой.
— Нет, не думаю, вряд ли такое могло случиться. Куда увезли Имке?
Порезы на запястьях оказались неглубокими, но ее пришлось отправить к хирургу, а потом в психиатрическую клинику. Так положено после попытки самоубийства.
— Это был какой-то кошмар! — проскулил Райнхард напоследок, напрашиваясь на сочувствие.
Но от меня сочувствия ждать не приходилось. Мне вспомнился мой первый парень Герд Трибхабер. Была у нас с ним однажды такая же история. Я в нее вляпалась, потому что слыла нахальной, разбитной девицей без комплексов, которую и в постель тащить не надо, сама пойдет. А Герду хватило глупости и эгоизма именно этого от меня потребовать. И хотя мы уже некоторое время встречались, такой поворот оказался роковым.
Люблю я все-таки разглядывать картины, которые каким-то таинственным образом связаны с моей жизнью. Полотно Георга Флегеля[12] «Снедь, заготовленная для трапезы» — это просто иллюстрация к списку продуктов, который составила хозяйка, чтобы приготовить обед. Чего только не настряпаешь из такой снеди! На переднем плане на оловянном блюде красуется солидная голова карпа, а рядом как огонек светится ярко-красный вареный рак. По тем временам — редкостные деликатесы, можно закатить пир горой даже в Пост. Уже откушенная зачерствевшая краюха хлеба еще напоминает о некотором воздержании, как и яичница на сковороде, — кажется, обычная, повседневная еда в этом доме довольно скромна. А в центре, наоборот, блещет во всей красе кусок мяса, символ изобилия и чревоугодия. Видно, здесь готовятся к настоящему празднику: это же телячья ляжка, бело-розовая такая, еще сырая, хвостик еще не отрезали. Вокруг смачного куска на том же глиняном блюде разложены изысканные фрукты: виноград, апельсины, лимоны, дыня — и овощи местного происхождения: лук и редька.
Слева — кувшин с водой, справа — бокал вина. Мне тоже кажется, что жизнь наполовину состоит из скудости и нужды, наполовину — из удовольствия и наслаждения. Но обжорство — грех, придется расплачиваться: вот уже синица поклевывает дыню, муха откладывает яйца на свежее мясо, вот подбирается жук-олень, преодолевая лежащий на столе хлебный ножик, другой жучок мостится поближе к рыбной тарелке. А зачем, интересно, на заднем плане корзинка с улитками?
Чудной она зверь, эта улитка, необычный. В тяжкие минуты и я себя чувствую улиткой, и я тоже прячу свои рожки и ищу укрытия. Вот бы мне такой домик, чтобы залезть туда совсем, целиком, уйти от всех и сидеть там. Улитка прячется, скрывается, уходит в свое убежище, а жадные люди находят ее и поедают. Мне часто попадаются удивительные пустые улиткины домики в саду, и я не могу не забрать их с собой домой, аккуратно промыть и выставить на дубовом подоконнике. Природа — художник более талантливый, чем любой из людей. Она с легкостью создает шедевры, которые недоступны человеку: птичьи гнезда, паутина, раковины. Райнхарду никогда не удалось бы построить такой потрясающий дом, такое необыкновенное жилище, как госпоже Улитке.
Люблю, глядя на натюрморты, выдумывать всякие интересные вкусные меню, целые обеды из нескольких блюд. Улитки в чесночном соусе на закуску, они пробуждают аппетит, рыбный суп с кусочками краба на первое, а к нему — немного белого вина. Наконец грандиозное жаркое со специями, с хрустящей корочкой, обложенное колечками печеного лука и салатом из редьки, к ним — свежий хлеб. На десерт фруктовый салат: ломтики дыни, засахаренные лимонные корочки, виноград и грецкие орехи, подаются вместе с апельсиновым шербетом. Если бы Георг Флегель имел представление о помидорах, мой рыбный суп получился бы еще пикантней, еще тоньше, еще изысканней. С другой стороны, хорошо, что на столе нет сливок в кувшинчике, я терпеть не могу молока.
Да, хорошая я мать, ничего не скажешь! Мои бедные дети едят пиццу и макароны, а в мыслях я для кого-то закатываю пиры, как на королевской свадьбе.
Не получалось у меня пожалеть Райнхарда после всего, что он натворил, и я лишь злорадно ухмыльнулась. Он же, в свою очередь, все никак не мог понять, какую боль мне причинил, думал, что я его по-прежнему ревную и потому злюсь. А у меня не укладывалось в голове, как мой муж, отец моих детей, с которым я уже долго живу вместе, которого, как мне, по крайней мере, казалось, я люблю и хорошо знаю, воспользовался безумием бедной девочки. Что мне теперь делать? Позвонить подругам? Может, Эллен, в конце концов, может, даже маме? Нет, не буду! Что ж теперь? Мой муж запал на наивную молоденькую дурочку-мечтательницу, значит, брак наш, по всей вероятности, вот-вот развалится.
Мы с Райнхардом почти перестали разговаривать друг с другом, и только перед детьми еще дружно притворялись, даже не договариваясь специально. На некоторое время мы перестали обедать все вместе. Я по-прежнему вела хозяйство, но, убирая кровать, оставляла его половину незастеленной, перестала на его долю выжимать апельсиновый сок по утрам — только для детей, а его нижнее белье запихивала в стиральную машину вместе с полотенцами и с прочей одеждой, которая безбожно линяла. И никакой бумажной работы, его канцелярию я возненавидела больше всего.
Все свободное время я рисовала наш портрет. Скоро на стекле появились Мальте, Йост и Лара. Изображения были готовы, но личики у всех троих оказались, к сожалению, печальными. Детишки у меня сидели на зеленой травке, сразу за ними по моему замыслу должны были восседать в плетеных креслах мои бабушки и дедушки. В третьем ряду я собиралась поместить себя с Эллен и нашего отца с его обеими женами. С удивлением я поймала себя на том, что, вопреки изначальному плану, забыла не только своих свекров, но и самого Райнхарда.
Ко мне заехала Сильвия, и я готова была с ней поделиться. Кому уж, как не ей, лучше других знать, что такое неверный муж. Но не вышло: подруга сама приехала поплакать мне в жилетку, пожаловаться на дочек: Коринна и Нора решили стать веганками.
— Кем? Это что, секта? — удивилась я.
Против вегетарианцев Сильвия, как большая любительница лошадей, ничего не имела, но веганцы! Они же совсем сумасшедшие: кожаную обувь не носят, хлопчатую ткань не признают, никаких яиц, молока, меда — природа якобы все это не поставляет людям по доброй воле.
— Седло свое новое потрясающее найти не могу, — ныла Сильвия, — наверняка они его стащили и кому-нибудь сплавили!
Да, у девчонок переходный возраст, вот и чудят.
— Ты их покорми недельку одной овсянкой, картошкой в мундире и сырыми овощами, сама увидишь — долго не продержатся: кушать захотят, дурить перестанут, — утешала я подругу.
Сильвия корила себя за то, что не занималась своими детьми. Она их, конечно, забросила, она лошадей любила больше, чем дочерей! А дочерям впору было есть овес, чтобы мамочка на них наконец обратила внимание. В итоге Сильвия вынула из пакета два свитера для Лары — Коринне они стали малы — и обещала скоро еще один из ягнячьей шерсти со своего плеча. Я забеспокоилась: придется теперь, вместо шерстяной, покупать акриловую куртку.
— Да, кстати, Люси хочет позвать нас всех на ужин, — сообщила Сильвия, — но только я тебе ничего не говорила, ладно? Она сама сегодня после обеда позвонит.
Я так и вздрогнула. До чего ж обидно! Во-первых, Люси, моя лучшая подруга, сначала позвала Сильвию, а ведь знакомы они через меня! И, во-вторых, зачем собирать нашу компанию так часто? Я опозорилась со своим жарким буквально на днях, тут же Сильвия закатывает пир горой, да еще и с таиландским поваром, и демонстрирует мне, как следует принимать гостей, а теперь Люси вознамерилась нас обеих переплюнуть! И вообще, не те у нас нынче взаимоотношения с мужем, чтобы изображать перед друзьями любящую пару.
— С моей аллергией на ее кота, — протянула я, — вряд ли мне ее ужин будет в радость. Целый вечер я в любом случае не выдержу.
Люси действительно позвонила в тот же день. Я уже приготовила отговорку про аллергию на кота Орфея, но она меня опередила:
— Анна, ужин будет в саду. Мы неделю назад построили новую террасу из темно-красного кирпича, кладка елочкой, надо отметить! Я же знаю, что в доме ты моментально превращаешься в красноглазого монстра, который чихает и задыхается…
Новой отговорки так быстро я не нашла, только весьма вяло пробормотала что-то насчет другого приглашения, о котором якобы обмолвился Райнхард.
— Что-то ты путаешь, — возразила Люси. — Райнхарда я случайно встретила недавно на Северной улице, я с ним говорила.
Райнхард на Северной улице? Что он там забыл? Точно знаю, стройки там нет.
Я дала Люси неопределенное согласие и решила потом выдумать себе какую-нибудь болезнь. Ничего другого не оставалось.
Мой муж между тем делал вид, что все отлично.
— Люси нас приглашает на ужин, — заявил он, — я встретил ее на улице. Она намекнула, что готовит мне какой-то сюрприз!
Ну, еще лучше!
— Очень за тебя рада, но только иди развлекайся без меня, — отрезала я.
Дети сидели с нами и спорили, как разделить шоколадного зайца. Услышав мой резкий тон, они замолчали и насторожились. Мы с Райнхардом, будто сговорившись, тут же поменяли тему.
— Думаю, в нынешнем году мирабели будет мало, — заметила я, — она падает, не успев созреть. Может быть, дерево болеет?
Разумеется, я все-таки пришла к Люси. Во-первых, было ужасно любопытно, что за сюрприз Люси приготовила моему мужу, во-вторых, не хотелось давать подругам повод для сплетен и пересудов. Я даже специально побежала на распродажу и урвала летнее шелковое платье, которое уж никак не походило на мешок. Итальянский дизайнер набросал на ткани экстравагантный рисунок: на черном фоне блестящие красные, розовые и желтые розы, нежные бутоны раскрываются в светло-зеленых чашечках. Из-за чернильного пятнышка на воротнике дорогая модель страшно подешевела. Я скрыла пятно под брошкой и осталась и собой, и покупкой очень довольна.
Чтобы выйти в сад на террасу, нам надо было пройти через дом. Тут же кот Люси стал тереться об мои ноги. Плохое предзнаменование, подумала я.
Райнхард еще никогда здесь не был. Он на ходу со всеми поздоровался слегка охрипшим голосом и с видом специалиста стал осматривать жилище. Он весь ушел в свои мысли, стучал то по одной, то по другой стене, чтобы выяснить, несущие они или так просто тут стоят. Прежде я только смеялась над его профессиональными странностями, теперь же мне его поведение показалось неуместным. Я оставила мужа, неистово хлопавшего по стенкам, с Люси и Готтфридом в прихожей, а сама поспешила на террасу — не хватало еще мне сейчас аллергии.
Несколько благотворных минут я стояла одна, вдыхая вечерний воздух. Большой стол на террасе был уже накрыт. Так: раз, два, четыре, шесть, восемь. Восемь человек? Интересно. Люси расстаралась: над белой скатертью вились плющ и виноград, рядом с каждой тарелкой лежали ложки, вилки и ножи разного размера и назначения.
Я еще не успела все проинспектировать, как вошли хозяева и муж. В отличие от меня, которая тайком вертела серебряные приборы и фарфоровую посуду, Райнхард откровенно полез изучать подпорки террасы.
— Слушайте, великолепная древесина! — похвалил мастер.
Люси рассмеялась:
— Наш ортопед нам признался, что у каждого человека бросается искать смещение позвонка или сколиоз. А Райнхард, кажется, не может спокойно смотреть ни на один дом…
Я ее перебила:
— С ним невозможно даже просто пойти погулять по городу, ни по нашему, ни по чужому: он на каждом шагу высматривает, где что сломалось, где что разваливается. Найдет где-нибудь оторвавшуюся водосточную трубу и радуется. Мне хочется полюбоваться на старый центр, а он меня тащит в жуткие новостройки на окраину. И там глазеет часами на бетонные коробки, которые наваяли его иностранные коллеги.
Засмеялись все, кроме Райнхарда.
— Надо же быть в курсе, что строят конкуренты, — обиделся муж, — Анна, к сожалению, совершенно не предстазляет себе, что я интересуюсь и социальным многоэтажным строительством.
Готтфрид, вечный миротворец, стал успокаивать оскорбленного Райнхарда, чья профессиональная честь была задета:
— Да ладно тебе, старина. Жена твоя слегка утрирует, все жены этим грешат. Мы же знаем, что ты больше всего любишь старину. Стоит только увидеть ваш домик, чтобы понять: в душе ты настоящий романтик, Райнхард.
Между тем подошли и Сильвия с Удо, тему разговора сменили, обменялись поцелуями.
— Потрясная терраса! — возопила Сильвия и посчитала стулья вокруг стола. — А четвертая пара кто?
— Не все сразу. Скоро узнаешь, — отвечала Люси, — придется еще немножко подождать!
Ага, значит, четвертая пара и есть обещанный сюрприз. Наверное, кто-нибудь, кто знал Райнхарда раньше: старые друзья, одноклассники, родственники, может, его бывший шеф.
Мы сидели в саду, каждый с бокалом шампанского, когда в дверь позвонили. Все с любопытством повернули головы к входу на террасу, Готтфрид вывел к нам новых гостей — двух смеющихся женщин.
Я не спускала с мужа глаз. Поколебавшись между восторгом и изумлением, он решил, что все-таки скорее следует искренне обрадоваться. С криком: «Не может быть! Это же наш старый древесный червяк!» обе дамы по очереди кинулись к нему на шею. Он прижал обеих к сердцу, расцеловался с ними, и никто не мог понять, что происходит. Люси ухмылялась, наблюдая всеобщее смятение.
Выяснилось, что обе женщины учились вместе с моим мужем в университете. Одну звали Миа, другую Биргит. Мы сели за стол, гордый Райнхард между двух однокашниц, которым было около сорока. Я заняла наблюдательный пост стратегически весьма удачно — напротив. Сидящие рядом любезный Готтфрид и Удо, всячески меня клеивший, перестали меня интересовать.
Был ли у моего мужа с какой-нибудь из двух, если не с обеими, роман, вот в чем вопрос. Биргит казалась симпатичней и спокойней. Она напоминала индейца Виннету из Баварии: на ней была бело-голубая клетчатая юбочка и кожаная курточка, отделанная бахромой и желто-зеленым бисером.
Миа была потемпераментней и понравилась мне, вообще-то, больше. На ней был так называемый плотницкий костюмчик — черные хлопчатобумажные брючки в сочетании с белой плиссированной блузкой, похожей по фасону на смокинг. На отвороте блузки приколота розовая гвоздика. Они обе не замужем? Охотятся на мужчин? Может, лесбиянки? Или у них командировка, а где-нибудь в провинции их ждут мужья и дети? С Райнхардом они вспоминали студенческие годы, судя по всему, очень веселые. И засыпали друг друга вопросами вроде: «А что, кстати, делает Вилли?»
Мои соседи с обеих сторон вынуждены были терпеть мое невнимание и невежливость, я вся была там, на другой стороне стола.
— Слушай, а ты все так же храпишь во сне? — поинтересовалась Миа и тут же поведала всем, как много лет назад их компания ночевала в лесу в домике для лыжников и Райнхард всю ночь будил друзей раскатистым храпом.
Люси тут же подхватила тему и заявила, что хуже, чем ее Готтфрид, с виду такой безобидный, никто шуметь во сне не может, и Райнхард не смог бы, даже если б трубил, как олень.
Тут не удержалась и Сильвия: ее Удо не храпит, но лучше бы храпел, потому что его собачье фырканье и хлюпанье ее достало. «Он что, лунатик?» — полюбопытствовали окружающие. Нет, отвечала Сильвия, он просто встает по ночам попить, грейпфрутовый сок опрокидывает бутылками, даже свет не зажигает, но так хлюпает, так шумно глотает, что бедная его жена от шума каждую ночь просыпается.
Вскоре мужчины за нашим столом выслушали о себе все, и только тогда разговор ушел в сторону.
ОСВИСТАННЫЙ СВИСТУН
Взгляните на полотно Караваджо[13] начала XVII века, и вы увидите, что музыкальные инструменты того времени не сильно отличаются от нынешних. Вдохновенный музыкант готовится к концерту, раскладывает свои инструменты, наверное, кое-что требует небольшой починки. Как бы то ни было, он, сидя на кожаном стуле, раскладывает на раздвижном столике свои ударные, духовые и струнные. Вот разобранная на части волынка, вот скрипка, пока без струн, а эти бумажные свертки — ноты, конечно, — и еще — пузатая бутыль, с которой музыкант-путешественник не расстается в дороге.
Правая рука, тонкая, даже хрупкая, держит кольцо бубна с колокольчиками, укрепленными по бокам, левая сжимает в кулаке какой-то маленький невидимый предмет, наверное бубенчик. В вытянутых губах молодого человека крошечный свисток, сегодня его называют «соловей». Изумленные дети на церковных ярмарках слушают птичьи трели, слетающие с человеческих губ.
Но этот молодой музыкант не принадлежит к когорте бродячих артистов, которым нечего есть. Он одет, как придворный, лицо у него нежное, печальное, взгляд задумчивый. Цвета его туалета тщательно продуманы: белоснежное страусовое перо на красном берете, кружевное жабо, красный цвет возникает снова на оторочке камзола. Тон замечательной кожаной жилетки — люди этого ремесла часто такие нашивали — перекликается с цветом деревянного стола и стула.
Музыкант молод, но в жизни повидал, кажется, уже немало, оттого и глаза его, печальные, меланхоличные, устремлены куда-то внутрь. Порой ему выпадает оглушительный успех, порой — такой же оглушительный провал, его превозносят, его освистывают, если публике хочется искрометного чардаша вместо лирических баллад. Впрочем, пусть свистят, он готов, ему все равно.
До сих пор я не без стыда вспоминаю тот концерт свистунов, из-за которого, благодаря лично мне, мой муж пережил унижение.
На вечере у Люси я внимательно прислушивалась к тому, о чем беседуют за столом. На одном углу Сильвия доказывала Готтфриду, что мусульманская женщина, которая вынуждена носить паранджу, неизбежно теряет свою индивидуальность. На другом — потрясенные Люси и Удо обсуждали недавний шокирующий случай, как родительница в приступе помешательства удушила пеленкой двух своих детей. А напротив меня сидел мой муж в окружении университетских подружек и рассыпался перед ними в комплиментах.
Когда Люси поднялась, чтобы поставить в духовку горячее, я вскочила и вызвалась ей помочь. Мне не терпелось выяснить, откуда она знает обеих женщин. Но подруге было не до меня, она озабоченно проверяла деревянной палочкой, достаточно ли нежны и сочны перепелки, и одобрительно кивала.
— Отлично, — сообщила она.
Я покосилась на бедных птичек, укутанных в сало и уложенных на листья свежего шпината. Люси украсила дичь сверху еще и оранжевыми настурциями. «Могилка какая-то», — подумалось мне.
— Где ты подцепила этих двух дамочек? — спросила я. — Они же точно нездешние?..
Люси задвинула перепелов в горячую печку и принялась взбивать картофельное пюре.
— Биргит с некоторых пор живет здесь, в Вайнхайме. Муж вечно в разъездах, в командировках, дочка учится в Канаде. Ей одиноко, она решила вспомнить юность — пошла петь в хор, где поет мой Готтфрид, чтобы с кем-нибудь познакомиться. А он случайно узнал, что она сто лет назад училась вместе с Райнхардом в университете.
— А вторая?
Люси вложила мне в руки блюдо с салатом.
— Неси, — был приказ, — я сейчас приду. Но я стояла как вкопанная.
— Ну ладно, — Люси сбросила фартук, — Миа — близкая подруга Биргит, сейчас у нее в гостях. Не могли же мы пригласить только одну Биргит? Вот мы и позвали обеих. Муж Биргит сейчас опять где-то в Китае.
— Миа замужем? — хотела я знать.
— Не знаю. Думаю, скорее, разведена, — отвечала Люси.
Мы вместе вернулись на террасу, одна с горячим, другая с салатом. Со всех сторон поднялся хвалебный гимн перепелам, похоже, и правда деликатес неслыханный. Потом гул восторженных голосов затих, публика заработала челюстями и примолкла. Тут я впервые обратилась к двум новеньким:
— Вы в фирме архитектурной работаете или сами по себе? Шесть пар глаз оторвались от тарелок и с любопытством уставились на нас. Первой заговорила Миа:
— Я переквалифицировалась в дизайнера по интерьеру. Мне безумно нравится. Женщине легче…
Биргит ее перебила:
— А я сдуру бросила университет, когда забеременела. Ну да, если мужу некогда присматривать за ребенком, другого выхода нет. Мне, конечно, сначала следовало диплом получить, а потом уже детей рожать.
Люси заметила строгим тоном:
— Но дочка-то ваша давно выросла. Почему бы тебе теперь…
Биргит замотала головой:
— Еще раз начинать учиться — я не потяну. Мне бы лучше какую-нибудь немудреную работку, не для денег, а так — для удовольствия.
Скажите пожалуйста! Небось муж всегда целую кучу денег зарабатывал, жила, горя не знала. А теперь размечталась, самореализации захотелось…
Все снова принялись за еду, я озлобленно шпионила направо и налево, несла всякую ерунду, невпопад отвечала на чьи-то бессмысленные вопросы. Люси то и дело бегала к своей годовалой Еве, та температурила. Дизайнер по интерьеру Миа, которая, кажется, владела магазином элитной мебели, рассказывала Райнхарду о своем новом изобретении: ей в последнее время особенно удавались кованые железные стулья, у которых сиденье состояло из переплетенных прутьев.
— Такое впечатление, что сидишь на куске наждачной бумаги, — поделилась изобретательница.
Райнхард был потрясен, а его собеседница с таким же юмором продолжала рассказывать, как ей удается сплавить покупателям разные другие совершенно неудобные предметы интерьера.
Биргит, понизив голос, сплетничала с Готтфридом о других хористах, о прошедшем концерте и его программе и о любовных приключениях кассира хора.
— Знаешь, песни из синего сборника для меня совсем не трудные, — призналась она, — но я так дрожу перед осенним концертом! Может, ты со мной позанимаешься отдельно пару раз, порепетируем вместе?
Мы и опомниться не успели, как Готтфрид и Биргит очень вдохновенно запели вдруг дуэтом французскую песенку «Belle, qui tiens ma vie».[14] Наши вежливые аплодисменты, к сожалению, были восприняты как просьба продолжать. В итоге был устроен концерт по заявкам. Сильвия заказала «Как прекрасно нынче утро» и сама подхватила изо всех сил. Последовали и другие пожелания, участвовали все, даже кот Орфей таращился на нас из кустов, сверкая глазами. Люси пыталась напомнить пирующим, что мы не в доме, а в саду, что вокруг соседа, которые уже, скорее всего, хотят спать. Ее голос утонул в нашем хоре. Наконец Райнхард предложил спеть своеобразный гимн их студенческой компании «Память о Гейдельберге».
Наши ученые хористы спасовали. Их, мол, учат петь всякие мадригалы эпохи Возрождения, а такая ерунда им незнакома. «Как это поют-то?» — замялся Готтфрид.
И тут Райнхард встал из-за стола, покачиваясь от выпитого, — он явно перебрал и к тому же не усваивал алкоголь с такой легкостью, как я, — и запищал, зафистулил своим высоким голоском на каком-то диковинном английском со швабским выговором, да еще безбожно фальшивя. Его выступление всех потрясло, а у меня внутри словно все оборвалось. И, сама не знаю почему, я, которая до сих пор сидела тихо, первая начала свистеть. Удо подхватил в два пальца, «Фу!» — завопила Сильвия, Миа громко застонала, Биргит зажала уши руками. Только хозяева пытались усовестить бесчинствующих гостей.
Райнхард ушел в дом. Через некоторое время выяснилось, что он не в туалет вышел, а уехал домой. Люси сгорала от стыда:
— Мы, наверное, его обидели, как ты думаешь? — переживала она.
— Ясный перец, — злилась я, — но ты-то тут при чем? Так ему и надо, заслужил!
Готтфрид привез меня домой, потому что Райнхард забрал нашу машину. Когда я вернулась, муж уже храпел.
На другое утро ни один из нас ни словом не вспомнил о вчерашней недостойной бульварной комедии у Люси. Только муж отправился на службу, а я села снова за рисование, в дверь позвонили.
У порога стояла Биргит.
— Мужа нет дома, — сказала я довольно неприветливо, пропустила ее в дом, но кофе предлагать не стала. Кухонный стол был завален кисточками, красками и жестяными противнями, а на мне — фартук весь в краске. Биргит же была в элегантном шелковом пиджаке и спортивных брючках. Все высшего качества. И еще запах дорогих духов, тонкий аромат ландыша. Что ей надо?
Нимало не смущаясь, она попросила меня позвонить Райнхарду в офис и сообщить, что зашла к нам и времени у нее мало. Я повиновалась. Он слегка удивленно — что его оправдывает — спросил, чего же она хочет. Я не знала.
Двадцать минут спустя мой муж был дома. Биргит приветствовала его поцелуем и объятиями, он немного застеснялся, но не отшатнулся. Она достала из ярко-красной сумочки телячьей кожи небольшую коробочку, обернутую в подарочную бумагу: «Это вам обоим». Райнхард развернул лиловую папиросную бумагу — внутри оказался стеклянный шар. Как красиво!
— Здорово, — оценил муж, — из этого выйдет хорошее пресс-папье, его-то мне в офисе и не хватало.
Наконец Биргит перешла к делу. Она слышала, Райнхард ищет секретаря, ей хотелось бы попробовать.
— Ну да, — подтвердил мой неверный, — секретарь мне нужен. Аннароза перегружена дома, и дети, и хозяйство, я решил ее от канцелярии освободить. Но, Биргит, если серьезно, ты для такой работы слишком образованна.
Она рассмеялась:
— Да что ты, наоборот! Я уже забыла все, что учила, к архитектуре теперь отношения не имею, в офисе, правда, тоже никогда не работала. Но мне надоело, что меня содержат, даже на карманные расходы себе заработать не могу, а вот мои подруги все при деле.
— Ну ладно, давай попробуем, — неуверенно произнес Райнхард. Видимо, он вспомнил гору накопившейся корреспонденции, никем не разобранной, а с другой стороны, наверное, прикинул в уме наши финансы, давно поющие романсы. Если бы я продолжала вести его бумажные дела, он бы, вероятно, нашего оскудения так и не заметил.
Биргит, однако, заработок, кажется, совсем не волновал. Она лишь спросила, когда может начать. «Завтра», — был ответ. Райнхард встал.
— Миа просила передать тебе привет, — вспомнила Биргит после паузы, — привет нашему древесному червячку. И еще, если ты для нее что-нибудь найдешь, было бы просто классно!
Меня распирало любопытство, я влезла в разговор и прямо в лоб, тупо спросила, о чем это они? Оказывается, Миа ищет для своего бутика старинные, антикварные стройматериалы, а Райнхард знает, где какой дом сносят и где есть чем поживиться.
Мой муж гордо вскинул голову и кивнул на сосновые балки, паркет, стены и мебель, переполнявшие наш дом.
— Да, дерево ей тоже нужно, — согласилась Биргит, пристально оглядывая наше жилище оценивающим взглядом, — но Миа больше интересуется всякими медными набойками на мебели, коваными решетками, старинными каминами, дверными ручками, колоннами из натурального камня, и даже кусками бетона или садовыми поилками для животных.
Райнхард обещал смотреть в оба.
Ох, недоброе у меня было предчувствие, с самого начала недоброе. Невыносимые канцелярские обязанности с меня, слава Богу, сняли, но мне совсем не нравилось, что Биргит будет работать с моим мужем в одном офисе. Она ведь потом еще и домой к нам заявляться будет, то кассеты надиктованные забрать, то документы напечатанные шефу отдать. Так и вижу, как эти двое резвятся на черном кожаном диване.
Биргит ушла наконец, а меня, видно от ее ландышей, свалил приступ аллергии, я чихала, не могла остановиться.
— Я думал, ты обрадуешься, что я тебя избавил от ненавистных бумаг, — подал голос мой муж, — а у тебя лицо, как будто ты лимон съела.
Тут меня прорвало:
— Да ты что, не видишь, что ли? Не понимаешь, чего эта расфуфыренная мадам от тебя хочет? Сам подумай: муж в командировках, дочь в Канаде! Да ей просто скучно одной в постели! Вот она и охотится за мужиками. В хоре у нее ничего не вышло, так она переметнулась к тебе, якобы на работу наниматься!
— Господи, ну и дура ж ты! — отвечал Райнхард.
Позвонила Люси, побеспокоилась, как мы там. Я немного смутилась, чувствуя свою вину в скандальном окончании ее званого ужина. И уже готова была поведать ей о том, что из-за истории с Имке наш брак чуть ли не разваливается, но вместо этого только спросила:
— Люси, ты тоже считаешь, что я ревнива до безумия?
Она рассмеялась. Слова «ревнива до безумия» — мужские выдумки! Здоровый инстинкт самки заставляет женщину насторожиться, если ее браку что-то угрожает, а они договорились считать это болезнью, назвали неприглядным именем «больная ревность». По своему прежнему опыту Люси сама знает: когда ее бывший муж — она называет его «отец моих детей» — увлекался какой-нибудь дамочкой и разговаривал со своей новой пассией, у него менялся голос, когда смотрел на нее, глаза блестели. Когда при нем начинали ее обсуждать, ерзал на стуле и проявлял повышенный интерес. Так что Люси гораздо раньше него поняла, что их супружеству скоро конец. Господи, да любая жена видит своего мужа насквозь, закончила она.
— Ох, Люси, — вздохнула я, — у тебя хватило ума вовремя уйти от папаши твоего Морица, а мне-то что же делать? Может, следует Райнхарда как-нибудь предупредить заранее, подать ему знак, чем дело может кончиться? А с другой стороны, как бы хуже не вышло: разозлится, заупрямится и начнет сознательно, специально гулять налево.
Люси снова засмеялась:
— Если ты опять имеешь в виду малютку Биргит, то зря беспокоишься. Это настоящая наседка, совсем не эмансипе, обычно помалкивает, мозгов у нее тоже не много. Она, знаешь ли, несколько не нашего уровня.
Ну не знаю. В тихом омуте черти водятся. А чтобы развести мужа с женой, мозги и не нужны, главное — бюст попышнее и лишняя порция гормонов. Люси согласилась, но напоследок посоветовала мне воспринимать ситуацию с юмором.
Я решила, что не буду нервничать из-за новой секретарши моего мужа, но все-таки наблюдения не прекращу. Райнхард между тем пытался растопить глыбу льда, в которую превратилась его жена: приходил раньше с работы, шутил с детьми, хвалил мою стряпню. А я все гадала: чего он подлизывается, зачем умасливает — совесть заела, может, в тайне собирается подавать на развод? А может быть, это просто я действительно так невыносима и мне повсюду мерещится измена? Наверное, я такая подозрительная оттого, что в юности, еще до знакомства с Райнхардом, сама не очень-то была постоянна. Не маменька ли моя испортила меня, когда силилась приковать к себе и к дому? Или переходный возраст, пережитый на «больной» кровати, так меня изуродовал?
Всю ночь меня мучили кошмары: Райнхард изменяет мне с Биргит, я застаю обоих в двусмысленной ситуации. Во сне я заливалась слезами и мечтала либо убить этих двух развратников, либо наложить на себя руки. Говорили же мне: нервы у меня не в порядке! Нынче женатые мужчины через одного бегают налево, и кто думает иначе — старомодный ретроград!
После той ужасной ночи я позвонила своей сводной сестре, так ко мне расположенной.
— Ну как вы там? — непринужденно защебетала она, не ожидая, конечно, что я сейчас обрушу на нее мощный поток моего больного сознания и кошмарных снов.
— Эллен, слушай, ты в дурные предсказания или в сглаз веришь? Может мой брак полететь ко всем чертям собачьим оттого, что я постоянно с ужасом думаю о разводе, почти жду его?
— Решать такие проблемы — дело психолога, задача специалиста, — отозвалась сестра. — Что проку тебе от моего совета? — (В одной фразе — три родительных падежа! Это у нее от папочки.) Значит, и она тоже считает, что с головой у меня не все в порядке.
Минут через пять Эллен перезвонила и сообщила мне о каких-то своих знакомых, которые живут в так называемом открытом браке: у каждого есть отношения на стороне, совершенно легально, никто никого не стесняет, и все в порядке.
Вот спасибо большое! Утешила! Неужели ей непонятно: я хочу, чтобы мой муж был только со мной! Со мной одной! Сильвии, что ли, позвонить, она из-за Удо еще и не такое пережила. Нет, не буду, стыдно как-то. Пусть моя подруга и дальше думает, что у меня только денег в банке меньше, чем у нее, зато секса хоть отбавляй.
Райнхард мне, между прочим, уже однажды, года через два после свадьбы, рога наставил. Открываю я как-то бардачок в его машине, а там пачка презервативов. Я их пересчитала, а через две недели одного на месте не оказалось. Меня терзал извечный вопрос: что такого он нашел у той другой, чего нет у меня? Я приперла мужа к стенке, и он стал просить прощения, клялся, что один раз промахнулся и все, больше это не повторится! Сильвия мне рассказала, что Удо придумал другое оправдание своим амурам на стороне: его, говорит, стенокардия заставляет так распутничать. Сколько ему еще осталось жизни радоваться, сердечко-то шалит. Вот он и ловит мгновения, пока живой. Я всегда подозревала, что мой неверный бегает налево, чтобы избавиться от своих комплексов, но доказательств у меня не было. Что влечет женщин к Райнхарду? Может, это я представляю его себе секс-гигантом, потому что мне самой не хватает сексуальности?
За ужином я, естественно, опять стала приставать к мужу с вопросами:
— Как Биргит, справляется?
Райнхард отвечал, что не знает, она взяла кассету домой и еще не вернула.
— Ты бы посмотрела документы, когда она принесет, — попросил он, — а то я при тебе привык подписывать бумаги не глядя.
Стеклянный шар, между прочим, Райнхард забыл дома, и он лежал все это время на окне. Вытирая пыль, я взяла его, чтобы и смахнуть соринки, и увидела на деревянном подоконнике маленькую подпалину. Дети, что ли, хулиганили со спичками? За обедом я забыла их спросить. Но когда мыла посуду, что-то зловеще засверкало с подоконника мне прямо в глаза, будто шар хотел меня о чем-то предупредить. Лучи полуденного солнца упирались в отполированную гладкую кристальную поверхность. Сощурившись, я пригляделась к шару и увидела тоненькую, еле заметную струйку дыма.
ОСТОРОЖНО: СТЕКЛО!
Пресс-папье из Венеции или Карлсбада и сто лет назад были замечательным подарком на память. Таинственно мерцающие стеклянные шары, искусно отполированные, с каким-нибудь сюрпризом внутри — цветком, например, — прохладным приятным грузом ложились в ладонь. Глаза, утомленные чтением и письмом, радовались, гладя на маленький шедевр с искоркой. Детям обычно особенно нравились так называемые «снежки»: их встряхиваешь, и внутри, над домиком или одинокой фигурой, поднимается целая снежная буря. В детстве у меня тоже было такое сокровище. Любознательность подтолкнула меня как-то этот шарик разбить — очень уж мне хотелось посреди лета достать оттуда немного снежных хлопьев. Велико же было разочарование: вместо снега там оказалась лишь водянистая мыльная пена.
Стеклянный шар, подаренный Биргит, был совсем новый, модерновый, похоже, из бутика Миа. Кажется, ни она, ни я не знали, что такой шарик может устроить в доме пожар, если положить его на солнышко. Опасно, подумала я и убрала подарок с подоконника на кухонный стол, куда солнечные лучи не доставали. Но там его заметил Райнхард и на другой день забрал с собой в офис.
Вот натюрморт «Суета сует» неизвестного мастера школы Питера Класа.[15] Здесь, среди прочих символов конечности бытия, тоже есть стеклянный шар.
В печальном серо-зеленом сумраке виднеется человеческий череп — зловещее предупреждение: зри, человече, во что суждено тебе превратиться — один лишь череп голый от тебя и останется. Казалось бы, хватит сполна и такого напоминания о неизбежной смерти и распаде, но художнику этого показалось мало: рядом с черепом лежат еще и человеческие кости. Золотой кованый кубок, роскошная вещь, опрокинут, стеклянный бокал пуст, гусиное перо уже поставило последнюю точку на каком-нибудь письме. На переднем плане три раковины разной формы — символ гроба Господня — напоминают о восстании из мертвых, о воскрешении и вечной жизни. А что поведает нам стеклянный шар, который покоится на оливковой скатерти наискосок от черепа? Что это в нем отражается? Вот изящные линии кубка, вдалеке — створки маленького окошка, но это еще не все. Присмотритесь повнимательней, напрягите глаза: в полумраке вы угадаете очертания мольберта, а за ним маячит чья-то фигура. Кто же это, как не сам мастер? Помните, в те времена художники не ставили автограф на свое полотно, скорее, какую-нибудь зашифрованную монограмму, а тут живописец изобретает такой простой способ утвердить за собой свое авторское право. Я тоже буду впредь помечать мои картины маленьким бутоном розы.
Представляю себе, как же трудно было художнику голландского барокко заманить в свое мрачное жилище хоть лучик солнечного света. Наверное, стеклянные шары помогали в этом не только плотникам или сапожникам, вечно торчавшим в темных подвалах, но и другим ремесленникам. Художника же такой шарик радовал сразу по двум причинам — как фонарь и как произведение искусства. А хрупкость чудо-лампочки лишний раз напоминала о бренности всего живого, о мимолетности любви и счастья.
Так и в мое мрачное подземелье на короткое время проник лучик солнца, скоро, впрочем, потухший. После истории с Имке мы с мужем перестали спать вместе, и вдруг неожиданно как-то жаркой ночью он, как вихрь, обрушился на меня на моей половине нашей супружеской кровати. Я даже не стала размышлять, простить ли мне его окончательно или нет, — меня саму так всю и затрясло от возбуждения.
На следующее утро он сам побежал вынимать газету из почтового ящика, сам включил кофеварку, сорвал в саду бутон и преподнес его мне со словами, звучавшими не особенно оригинально: «Роза для Аннарозы». И я возмечтала о новом счастье и втором медовом месяце.
Вечером Райнхард принес домой на проверку напечатанные бумаги. Я приготовилась к тому, что мне придется их все сейчас перепечатывать. Но Биргит справилась с работой как нельзя лучше. При этом печатала она, конечно, на компьютере своего мужа, а не на старомодной пишущей машинке, как я.
— Новая метла хорошо метет, — признала я, — что ты ей за это заплатишь?
Райнхард не имел представления, до сих пор они так и не договорились.
В эйфории позвонила Сильвия:
— Добрые вести, ребятки! — ликовала она. — Осенью начинаем строиться!
Что, ей захотелось новую виллу? Да нет, речь наконец-то идет о новых конюшнях! Райнхарду заказали новый манеж и здание клуба, и чтобы все было в лучшем виде!
Я позвала к телефону мужа. Он так и просиял. Вот это да! Никогда еще он ничего подобного не строил! И клиенты — люди совсем не бедные, так что заказ солидный.
Он условился с Сильвией и председателем конного клуба о неофициальной встрече и напоследок спросил, не смогу ли я пойти вместе с ним. Я замахала руками, замотала головой: с моей аллергией только по конюшням ходить!
В конце концов Райнхард достал из подвала бутылку вина, — обычно он предпочитал пиво, — и мы сели ужинать в саду, где я в тот летний вечер накрыла стол. Мы всей семьей дружно сдвинули бокалы.
— Конец войне! — провозгласил мой муж.
— А кто воевал-то? — поинтересовался Йост.
Да, кое-кто многого не знает, но у меня язык не повернется, это не для детских ушей. К тому же вдруг разговор прервал истошный визг Лары: у нее в стакане с яблочным соком барахталась оса.
— Ты сегодня поедешь играть в теннис? — обратилась я к мужу.
— Господи, совсем забыл, спасибо, что напомнила! — отозвался он. — Да, поеду, конечно. Доктор Кольхаммер ужасно расстроится, если я не приеду.
Рисовать не было сил. Я осталась с детьми в саду и выслушала их пожелания на ближайшие каникулы: две недели отрываться в парижском Диснейленде или полазать в Большом Каньоне.
— С вами вместе, разумеется, — заверила меня дочь.
— Дороговато будет, — осадила я их, — скорее всего, я вас отвезу к бабушке.
— Тогда лучше в парк Хаслох, — предложил Йост, — там настоящие гномы в маленьком кемпинге живут…
Тут Лара вспомнила, что по телевизору идет потрясающе интересный документальный фильм про олимпийские игры для инвалидов, и мои отпрыски ускакали в дом.
А я так и сидела на деревянной скамейке, сложив руки на коленях, тихая и неподвижная. До чего ж у мужчин все просто: один раз затащил женщину в постель и думает, что уже дело улажено и в доме снова мир. С вишни мелодично засвистел дрозд. Отчего мне так неуютно, что не дает мне покоя? Мне еще нет сорока, и у меня есть все, о чем я мечтала в юности; правда, нет профессии и работы, но зато есть семья, дом, сад. Мой взгляд упал на огромный побег крапивы, обосновавшийся на грядке с аконитами и лилиями. Вот он, мой брак! Вот оно, мое счастье! Я напялила рукавицы, со всей силы рванула наглеца из земли, и мне стало лучше. Я хищно огляделась вокруг. Райнхардовы любимые елочки, которые он пару лет назад приволок из леса, забивали мои розовые кусты. Я возненавидела этих мрачных, угрюмых хвойных оккупантов, когда они были еще саженцами, а между тем они уже переросли нашего младшего. Да разве мой муж заметит, если их здесь не будет? Он уже сто лет не дотрагивался до сада. Я схватила топор и безо всяких усилий — даже сама удивилась — порубила тех, кто развел тут в моем саду никому не нужную сырую тень.
На другое утро весь мир был задернут серенькой пеленой мелкого летнего дождика. Когда муж и дети ушли, я босиком выскользнула в мокрый сад. Елочки валялись на земле, словно воины на поле боя, ожидающие погребения в братской могиле. Надо их убрать отсюда. Я закуталась в серый дождевик, отстригла секатором для роз еловые ветки и побросала их в пластиковый мешок. Я чувствовала себя преступницей. Стволы и крупные ветки пришлось измельчить топором. На это злодеяние у меня ушло все утро: я обливалась потом, орудуя топором и секатором. Однако справилась, уложилась до обеда: распихала все по мешкам, а мешки утрамбовала в багажник машины, чтобы потом отвезти их на свалку, где из них приготовят компост или комбикорм.
И вот опять я гляжу на фамильные снимки. Неуютно, должно быть, чувствовала себя моя прабабушка, когда жесткий меховой воротник-горжетка поверх шерстяного платья туго сдавливал ей шею. Длинные полоски меха серебристой лисы свисают с плеч до талии, на живот, до самых бедер. Пышные лисьи хвосты спускаются чуть ли не до пят. Перенести ли этот царственный образ на мое стекло? Боюсь, тогда портрет будет напоминать мне Сильвию, это от нашей общей прабабушки она унаследовала страсть к дорогой красивой жизни, к элегантной одежде.
Я все рассматривала свой неоконченный шедевр, когда вдруг между мной и столом возник Райнхард.
— Ну что ты встал? Уйди, ты не прозрачный, — пошутила я.
Но ему было не до шуток: я поняла это, увидев его мрачную физиономию.
— Где елки? Когда ты их вырубила? — спросил он меня.
Надо же, как быстро он заметил! Врать было без толку, пришлось признаться, что его хвойные подружки давно стояли мне поперек дороги. Он посмотрел на меня таким взглядом, что у меня даже сердце остановилось.
— А мне осточертело вот это! — Он схватил мою картину…
Райнхард ушел, а я осталась одна с грудой осколков. Тут появились дети.
— Папа разбил твое стекло? — спросила Лара. Она слышала, как отец в ярости хлопнул входной дверью.
— Да нет, нет, — запричитала я, слезы бежали у меня по щекам, — это не папа, это я, я его уронила. Папа здесь ни при чем…
— Мы тебе новое найдем, — утешал меня Йост.
— Дурак ты, Йост! — одернула его сестра. — Мама не из-за стекла плачет! Ей работу свою жалко, искусство пропало, понимаешь? Мам, ты лучше рисуй на бумаге, она не бьется.
Я обняла детей. Они тут же решили, что настал удобный момент поканючить насчет летних каникул.
— Сузи едет в Канаду! — заныла Лара.
Йост к ней присоединился — его друзья тоже разъезжались по разным уголкам Земли.
— Вы бы поторопились, а то бунгало не достанется, — напомнила дочь, — а что папа говорит?
— Спроси его сама, — всхлипнула я. Ехать в отпуск вместе с мужем! Господи, театр абсурда какой-то!
Йост между тем сложил осколки моей картины на кухонном полу, как мозаику, и предложил их склеить. Не надо, спасибо. Швы будут всю жизнь напоминать мне о минувшем скандале.
— Смотри-ка, мы с Ларой разбились, а бабушка и вот этот мальчик почти целы, — обнаружил сын, — можно я их себе возьму?
Я кивнула и собрала оставшиеся кусочки стекла. Хотела было выбросить их, но, повинуясь тому же импульсу, что и Йост, сложила изображения моих детей на поднос и задвинула его на буфет, на самый верх.
Новый кризис, как я и ожидала. Мы почти не разговаривали, только при детях перебрасывались парой ничего не значащих фраз. Райнхард бывал дома крайне редко, а когда появлялся, мы старались разминуться. По ночам мы ложились в одну кровать, но поворачивались друг к другу спиной. И мне было страшно: а вдруг он побежит за утешением к Биргит?
Наконец муж отправился на встречу с заказчиками новых конюшен. Значит, в его офисе некоторое время никого не будет. Дети с классом на весь день отправились в поход, готовить мне было не нужно, и я с чистой совестью покинула дом. Ключом из мужнина секретера я открыла бюро и прежде всего с особым пристрастием исследовала кожаный диван. Разумеется, это оказалось полной глупостью.
Розовый кустик в горшке весь пересох, я не удержалась и полила его. Потом села за рабочий стол Райнхарда и сразу заметила незнакомый альбом с фотографиями. Точно, от Биргит! Закладка указывала на страницы, где были снимки из общих студенческих времен моего мужа, Биргит и Миа. Вот все трое смеются, перегнувшись через перила мостика над Неккаром, вот они и еще какая-то компания на развалинах старинного замка Виндэк, перед университетом, в чьей-то машине, у каждого на носу огромные солнечные очки, и еще что-то, и еще, и еще…
Так, ясно: старая любовь вернулась! Неужели наш брак развалится из-за какой-то секретарши? Боже, как пошло! Что ж мне теперь — ждать, что и моя семья разлетится на осколки, как мое стекло? Я сжала в кулаке стеклянный шар, стоявший рядом со мной на столе.
Теперь, в полдень, солнце светило прямо на металлический шкаф с документами. Попробую-ка устроить маленький эксперимент. На полке для чертежей папиросной бумаги не было, зато я нашла пачку бумажных салфеток. На подоконнике в туалете все так же лежала бритва, в остальном Гюльзун содержала офис в идеальном порядке. Под раковиной в шкафчике хранились моющие средства, порошки и спирт для мытья окон. Чтобы не оставлять следов на мебели, я уложила пропитанную спиртом бумагу в плоскую пепельницу, пристроила сверху шар и выставила их на подоконник, прямо под полуденные солнечные лучи. Долго ждать не пришлось: скоро в пепельнице занялось маленькое оранжевое пламя. Я тут же потушила пожар и быстренько замела следы.
Шла домой и все прокручивала в голове планы жестокой мести, решая задачки по физике и химии. Нет, спирт — материал ненадежный, он слишком быстро выветривается. Допустим, однажды в субботу, после уборки Гюльзун, я смогу проникнуть к мужу в офис и пропитать спиртом альбом Биргит. Но спирт ведь испарится еще до восхода солнца. Кроме того, Райнхард иногда работает и по выходным. Прежде чем альбом загорится, муж обратит внимание на странное сооружение на подоконнике.
Значит, спирт не подходит. Ладно, попробуем по-другому. Может, гигиенические салфетки, пропитанные воском? Нет, они плохо горят. Без шара я дома эксперимент все равно как следует не проведу. Но очень хочется увидеть, как пылает этот ненавистный альбом! «За Имке — елочки, за Биргит — небольшой пожарник, — бормотала я. — Только б солнышко светило, тогда и топлива никакого не надо».
Вечером дети взяли в осаду отца: каникулы через неделю! Уже все, кроме нас, знают, куда поедут! Райнхарда явно грела мысль, что он может вот так разом взять и сбагрить куда-нибудь на время все свое семейство. Красота!
— Ребята, мне страшно жаль, но я сейчас никуда ехать не могу, мне нужно строить новый домик для лошадей Сильвии. Мама поедет с вами к бабушке.
Дети надулись. Большей чуши трудно было себе представить, с таким же успехом они могли бы остаться дома. Я промолчала. Мои мысли занимал прощальный подарок моему неверному: маленький пожар в офисе, чертежи не пострадают, а вот фотографии и любовные письма сгорят дотла.
Я позвонила Эллен и спросила, ждет ли она нас по-прежнему к себе в гости. С минуту она молчала, а потом ответила, что в августе уезжает, но… мы обе помолчали и заговорили одновременно.
— Да ладно, это я так, — замялась я, — Райнхард все равно не сможет, он занят, работы много, а на море — у нас сейчас с деньгами…
— Да помолчи ты! — прикрикнула сестра. — Молчи и слушай!
Много лет подряд она отдыхает на курорте на Искье.[16]
— Поехали со мной, — позвала она, — я всех приглашаю! Avanti, avanti![17]
Я не знала, что ответить. Да, конечно, Эллен совсем не бедна, но могу ли я принять ее великодушное приглашение? И еще с детьми! На курорт для старых ревматиков! Они же поставят там всех на уши, перевернут весь остров вверх дном! Сестра развеяла мои сомнения:
— Море — у порога гостиницы, на пляже полно развлечений, детям скучать не придется. Да и мы с тобой найдем, чем себя порадовать! — заключила она.
— Ладно, уговорила! Едем!
Дети засомневались, будет ли путешествие веселым:
— Тетя Эллен еще старше бабушки, — напомнила Лара.
— Но у нее нет детей, значит, нет и внуков, — возразила я, — может, она мечтает о вас бессонными ночами.
В остальном мои отпрыски приглашением остались довольны.
— У меня как раз Италии нет еще в коллекции, — вспомнил Йост. — Франция есть, Дания, Голландия, и Швейцария тоже. А вот у Кая гораздо больше — у него еще Израиль с Америкой есть, и еще что-то.
Вечером он бросился навстречу к отцу, чтобы первым обрадовать его нашим отъездом.
— Па, а ты в прошлом году тоже с нами не смог поехать, школу ремонтировал. Грустно тебе, что мы тебя бросаем одного?
Папочка, разумеется, не признался, что рад-радешенек, и даже вызвался отвезти нас в будущее воскресенье во Франкфурт в аэропорт.
Эллен позвонила еще раз пять. В отеле на Искье ей, как постоянному клиенту, выделили отдельную комнату для детей. Но первую неделю мне все-таки придется жить с ней вместе. Я поблагодарила и побежала паковать вещи, а в голове все вертелся план поджога.
Мне и правда удалось перед самым отъездом на минутку исчезнуть из дома. Я соврала, что мне надо зайти к Люси, взять что-нибудь с собой в дорогу почитать. В офисе мужа я заложила бомбу замедленного действия: открытый альбом — на шкаф с документами, и прямо на разворот — стеклянный шар. На другой день обещали солнце, солнце и еще раз солнце. Вот и отлично! Пусть коричневые прожженные страницы в альбоме отравят Биргит всю радость от ее фотографий. Да к тому же виноват окажется Райнхард!
ОГОНЬ И ПЛАМЯ
Райнхард не только отвез нас в аэропорт, он даже припарковался в подземном гараже и отнес наши чемоданы к стойке «Alitalia»,[18] где мы договорились встретиться с Эллен. Мой муж приветствовал ее несколько смущенно. Она, конечно, ожидала, что на прощание он меня поцелует, но не тут-то было, такого удовольствия он никому не доставил, демонстративно обнял Лару и погладил Йоста по голове.
Всю дорогу в Неаполь дети вели себя просто образцово, и в награду стюардесса отвела их к капитану и показала им кабину пилота изнутри. Мои отпрыски сияли. А я все нервно поглядывала на часы. Так, в девять мы вышли из дома, в одиннадцать взлетел самолет, значит, скоро солнце будет уже в зените.
В полдень меня вдруг стала душить паника. Мне привиделось, что вместе с Райнхардовым офисом пылает весь жилой квартал вокруг, под аккомпанемент сирен «скорой помощи». А вдруг мой муж и Биргит так увлекутся на кожаном диване, что не почувствуют запаха гари? Поздно теперь! Их обоих, обугленных, может быть, еще вытащат из пекла, о соседях по кварталу я молчу.
Принесли непривычный обед на пластмассовом подносике. Я есть не стала — кусок в горло не лез. Но бокал вина меня успокоил. А зачем, собственно, Райнхарду вообще нужно в выходной день идти в офис? Он лучше притащит Биргит к нам в дом или сам к ней заявится. Наверняка они сейчас сидят у нас в саду за поздним завтраком, шампанское пьют, обнимаются самозабвенно, так и вижу! О, Боже, чужая женщина в нашей постели! Не могу, тошнит! Я встала со своего места и пошла в туалет. Эллен проводила меня озабоченным взглядом. Да, отпуск в Италии удался бы на все сто, он мог бы стать сказкой, но разве мой неверный даст спокойно отдохнуть?! Не верю я ему и все!
Огонь бывает разный: он согревает, он испепеляет. Нынче невозможно представить себе жилище без отопления, кухню без плиты, но как же за всем этим пламенеющим хозяйством приходится следить! Пламя страсти человеческой может сплавить двух людей навсегда, а может спалить без остатка всякую любовь и привязанность, и ведь никакая пожарная служба такой пожар не потушит, так что и спрашивать будет не с кого.
Натюрморт Готтфрида фон Ведигса — свечка тихо и неярко освещает чью-то скромную трапезу. Что ели тогда на ужин, в начале XVII века? Немного хлеба, яйцо, кувшин с водой и стаканчик вина — никакой роскоши.
Можно, конечно, долго рассуждать о христианской символике воды и вина, света и хлеба, но меня больше интересует яйцо. На круглой деревянной дощечке — она совсем как современная — лежат длинные тонкие полосочки хлеба и нож. Так режут хлеб к австрийскому полднику, сидя ввечеру перед телевизором в халате или пижаме. Но вот яйцо, вопреки традиции поколений, не стоит вертикально в своем стаканчике, а лежит горизонтально в оловянной подставочке, как будто специально приспособленной именно для такого его положения. Некто, кого вечерний голод пригнал на кухню, разбил скорлупу не на одном из концов, он пробуравил яйцо ножиком прямо по экватору, чтобы макать в самую сердцевину хлебные полоски и с наслаждением их поглощать одну за другой. Когда же, интересно, придумали разбивать яйцо по-другому?
Если бы не свечка, не было бы во всей картине такого таинственного, интимного полуночного сумрака. На заднем плане все тонет во тьме, только вино золотисто поблескивает в бокале, только свеча мерцает, только яичный желток внутри скорлупы и светится на полотне. Красновато-коричневым оказался глазированный кувшин, такой же оттенок у деревянной доски, у свечки, у хлеба. Металл отливает серебром, язычок пламени — золотом. Цвета ясного дня — белый, синий, зеленый, красный — померкли ночью, до утра.
Маленькое такси везет нас в отель по загазованным улицам Искьи. Но даже сквозь дым я вижу: как же все-таки прекрасен юг! Какие краски! Эритрина, шиповник, бугенвиллеи и живые изгороди из белых роз. Мне мешали только немецкие туристы. Сюда что, съехались все шестидесятилетние немцы? И разгуливают тут в шортах, сандалиях, натянув носки до колен, с видеокамерами на пузе. Мои дети резвились в подогретом бассейне, а я распаковывала вещи. Как же здесь влажно! Пропитанная влагой мебель издает запах, напоминающий духоту фамильного склепа. Наконец и мы с Эллен улеглись у бассейна и стали смотреть за детьми. Не очень, должно быть, старички, вылезающие из своих норок после сиесты, обрадуются, что рядом с ними в бассейне как одержимый ныряет Йост и отчаянно плещется Лара. Кажется, если не считать моих отпрысков, я в этом отеле самая молодая.
Сестра подозвала гнусавого официанта, похожего на Ханса Мозера,[19] и он засеменил к нам мелкими шажками. Эллен заказала два «каппучино» для нас обеих. «А вам чего?» — крикнула она детям. И нам удалось на время выманить их из воды стаканчиком мороженого. Пусть они лучше резвятся в море, решила я в тот момент.
Эллен сообщила мне по секрету, что рано утром в бассейне включают гидромассаж. И она собиралась еще до завтрака подставить спину и затылок веселым целебным струям.
После ужина Лара позвонила домой, она обещала отцу. Трубку никто не брал. О, я бы могла назвать сотню причин тому, о самых страшных из них лучше умолчу.
После трехчасового водяного сражения дети рухнули как подкошенные и тут же уснули. Мы сидели вдвоем за бокалом вина.
Метрдотель поцеловал руку Эллен и мне и на беглом немецком спросил, чего мы желаем. Два отдельных номера, как можно скорее, потребовала сестра, мы ведь, в конце концов, не муж и жена! Скоро все будет, заверил он нас и добавил высокопарную, но весьма таинственную фразу: «Спокойствие, дамы, спокойствие и терпение. А главное — доверие!»
— Ой, смотри, — зашептала вдруг сестра, — графиня! Она приезжает сюда из Рима каждый год, купается в огромных темных очках и шапочке а-ля Грета Гарбо, а на прогулке цитирует «Цветы зла»![20]
Я увидела высокую, сухопарую даму лет семидесяти, в серебряных сандалиях со шнуровкой и в каком-то фиолетовом одеянии. На глазах у изумленной публики она, кажется, занималась йогой: гнулась и крутилась во все стороны.
Она заметила мою сестру, приблизилась, сохраняя свою аристократическую осанку, и поздоровалась с Эллен, сдержанно радуясь новой встрече. Вблизи я заметила, что графиня уже не один раз сделала подтяжку, пытаясь избавиться от морщин.
— Мы с ней в прошлом году чуть не повздорили, — трещала Эллен, — представляешь, положили глаз на одного и того же парнишку…
Ну и дела! Да, теперь вижу: Эллен к ужину надела платье с декольте, а я по-прежнему сижу в своем любимом мешке. Ну сестрица дает! Она откинула назад еще влажные седые волосы, посмотрела мне в глаза, заметила мое изумление и с удовольствием прокомментировала:
— Это был массажист.
Все, решено: каждый вечер буду надевать мое черное с розами платье.
На другое утро мы заказали завтрак на террасу и долго не могли снять полиэтиленовую пленочку с кусочков сыра: было ужасно влажно, и она приклеилась намертво. Да, мне бы, конечно, больше понравились свежие помидоры с моцареллой, а не эти резиновые ломтики, уступка итальянской кухни немецкому желудку. Но зато с террасы открывался потрясающий вид на море, порт и маяк.
Наконец пешком по оживленным улицам мы отправились в Порто. Эллен хотелось показать нам свой отпускной рай во всей красе. Ей удалось завлечь детей в монастырь Кастелло Арагонезе, им стало интересно. К счастью, туда можно подняться на лифте. В пустой капелле, такой простой, белой и оттого очень благородной, сестра и Лара спели пару фраз и прислушались к эху. А потом мы спустились на знаменитое подземное кладбище, главную местную достопримечательность, которой все восторгались. Там монахини находили свой последний приют, на каменном стуле с отверстием посередине.
«На туалет похоже», — заметил Йост.
Представляю себе: мертвые тела истлевали и беспомощно сползали со своих сидений вниз. А рядом с ними живые сестры творили свои молитвы, ни на минуту не забывая о бренности всего живого и о собственной смерти. Моим отпрыскам, охочим до всяких сенсаций и страшилок, стало жутковато.
Между тем моя бездетная сестра Эллен вела нас дальше, в туристический магазин, где продавались всякие очки для ныряния, ласты и сачки. Она исполняла все наши желания.
— Теперь надо позвонить папе, — настаивала Лара, — а то я забуду, что хотела ему рассказать!
Мы заглянули в Понте, перекусили fritto misto[21] с салатом и на такси вернулись домой. Начиналась сиеста, а это, как заметила Эллен, у них святое.
Как только мы вошли в гостиницу, Лара кинулась звонить отцу, и домой и в бюро. Нигде никого. Даже автоответчик выключен. Что бы это значило? Я прилегла на кровать, застеленную свежим прохладным бельем, но не сомкнула глаз. Эллен уже через три минуты храпела, а у меня из головы не шел Райнхард.
Но вечером, когда мы вернулись с пляжа, дочке повезло. Она щебетала в трубку не переводя дыхания: их водили в кабину пилота, мы ходим на пляж, видели мертвых монахинь, едим мороженое, зеленое, фисташковое, Эллен купила им с Йостом очки для ныряния! Тараторила без запинки. Так, Райнхард жив. Меня слегка трясло, я выхватила у дочери трубку, слушать ее болтовню сил больше не было:
— Привет. Что нового?
— А что тут может быть нового? Куча работы, как всегда, и больше ничего, — ответил муж и положил трубку.
Кажется, стеклянный шарик не сработал.
Ужин был превосходный — vitello tonnato.[22] Официанты, уставшие от старых немецких зануд, балагурили с моими детьми, звали их «синьорина», «синьорино» и подали им двойную порцию мороженого. Я наконец-то расслабилась, пила вволю вина, хохотала во весь рот и поднимала тост за тостом за великолепную Эллен, которая устроила нам эти потрясающие каникулы. Но ночью в спертом воздухе нашей комнаты меня снова стал душить страх: Райнхард, слава Богу, жив и здоров, но он ведь наверняка спит с другой! А я, дура набитая, уехала на три недели.
Внезапно Эллен щелкнула выключателем:
— Ты почему не спишь?
— Мне муж изменяет! — взвыла я.
— Точно знаешь или подозреваешь только? — отозвалась сестра.
Я молча хлюпала носом. Тогда Эллен решила стать моим доктором:
— Заведи красивого любовника, — посоветовала она, — это самое верное, единственное верное средство.
— Что? Как? Прямо здесь?
— А то где же еще! Здесь, конечно. Самое место. Дети тебе не помешают, их я беру на себя. А теперь давай, закрывай глазки, завтра будет уже другой день.
Наутро Эллен пустилась с места в карьер и начала действовать. Она манипулировала детьми с ловкостью опытного педагога. Меня отправили в город, в банк, за деньгами, а поскольку занятие это скучное, унылое, неинтересное, то дети охотно поскакали с ней на пляж.
Так. Я осталась одна. Теперь задача номер один: срочно кому-нибудь улыбнуться. На остановке вместе с другими туристами я ждала автобуса и во все глаза рассматривала каждого одинокого мужчину. Их, прямо скажем, было не много, пока откуда ни возьмись не свалилась толпа предприимчивых пенсионеров, у которых были сумочки с надписью: «Туристическое агентство „Ойкумена“». Я прочитала надпись и не стала ни на что особо надеяться. Слепой с палочкой, тоже турист. Что ему этот прекрасный райский остров и мои льняные кудри? Рядом со мной стоял какой-то прыщавый толстяк, голый по пояс. Да, автобус будет, кажется, весьма плотно набит. Что-то не хочется мне ехать всю дорогу зажатой между такими соседями. Пойду-ка я лучше пешком.
Вдруг ко мне с дребезгом подкатила старая раздолбанная машина. Бронзовый от загара мужчина, рыбак или крестьянин, приглашающим жестом распахнул передо мной ржавую дверцу: не подбросить ли даму? В смятении я села в машину, а он, любуясь, провел огрубевшими от работы пальцами по моим волосам: «Теdescа?»[23] Разговор у нас не клеился, словарный запас у обоих был скудноват, но у него уже была заготовлена коронная фраза: «Ты ийти мой лодка». Я, набравшись храбрости, как маленькая воспитанная девочка стала отнекиваться и уверять, что мне надо в банк. Ничего, отвечал кавалер, тогда он отвезет меня в город. Тут я совсем засомневалась и призналась, что в отеле меня ждут дети. Ухажер настаивать больше не стал. Он высадил меня около банка, проводив словом «grandezza».[24]
Несколько неуверенно я действительно зашла в банк, поменяла деньги, купила себе коралловое ожерелье, а Ларе бусы из лавы Везувия. Осталось только подыскать что-нибудь для Йоста и Эллен, и образцовая мать семейства может отправляться домой.
Когда же я наконец, измученная полуденной жарой, отягощенная огромным мешком с пахучими персиками, опустилась на пляжный песок, моя сестра позволила себе при детях двусмысленный и не очень приличный намек:
— Кажется, предприятие было не из легких, а?..
Не успели мы на сиесту вернуться в гостиницу, как она пристала ко мне с расспросами.
— Ну, меня подвез на машине… — заикалась я. Сестра навострила уши. — Ну, в общем, тут один на своем «феррари» привез меня к себе на яхту, подали омара, ну, то да се, а потом…
Как мало человеку надо для счастья. Эллен вся светилась от восторга:
— Когда же новое свидание?
— Никогда, — в глазах у меня стояли слезы, — он здесь был последний день. Ему надо обратно в Париж, там его ждет жена, она больна, у нее рак.
Сестра обняла меня, полная сочувствия, и посоветовала завтра попытать счастья снова.
Дети во время сиесты отдыхать не стали, они отправились на кухню в поисках приключений. Гостиничный персонал влюбился в моих хулиганов. Мы еще лежали в номере, собирались вставать, вдруг сорванцы влетели, вломились, ввалились кувырком без стука в комнату, Лара сунула Эллен под самый нос котенка и заверещала:
— Мне Луиджи подарил!
— Убери это отсюда! — крикнула я.
Эллен решила, что я спятила, но дети повиновались. Пришлось объяснять сестре, что в Германии пять с половиной миллионов кошек и примерно три миллиона аллергиков. И хотя у нас никогда не было кошки, у меня на них аллергия. Сначала слегка зудит в носу, потом из глаз текут слезы, потом я начинаю неистово чихать и сморкаться. Когда совсем плохо, начинается астма, и тогда можно и вовсе умереть. Я бы принимала десенсибилизаторы, но у них побочные эффекты, и мне отсоветовали.
— Что ж теперь делать с подаренной киской? — поинтересовалась сестра.
— Придется вернуть ее доброму Луиджи.
А тут мне и сама природа пришла на помощь: у кошечки оказались блохи, и стоило вредному насекомому один раз тяпнуть моих детей, как их восхищение сразу резко пошло на убыль.
Я задала Эллен бестактный вопрос: почему у нее нет детей?
— Наш с тобой отец тоже спрашивал, — отвечала сестра, — и лицо у него при этом было такое же смущенное, как у тебя сейчас. Я хотела иметь детей, ходила по врачам. Но не получилось и все.
В голове моей вертелась навязчивая мысль: я сама появилась на свет благодаря тому, что у моей сестры не было детей. Ведь если бы у нашего отца родился внук, он не стал бы заводить наследника, зачем?
— А если бы Мальте не погиб, — сказала я сестре, — то на свет никогда не появилась бы Аннароза.
Эллен рассмеялась:
— Подумаешь, не все дети рождаются по плану, но от этого их любят не меньше. А тебя, наоборот, запланировали. Я, между прочим, тоже дочь, а не сын, но мне никогда не казалось, что наш отец недостаточно меня любит.
— Ну да, — отозвалась я, — ты его первая попытка, а я-то — последняя.
Позже Эллен пошла к римской графине посплетничать, пошушукаться. Как только они заметили меня, обе замолкли, как по команде, и заговорили о погоде.
Дети увлеченно писали открытки своим друзьям, отцу, моей матери. Я ничего от себя приписывать не стала, только везде оставила свой символ: Райнхарду — поникшую розу, маме — мышку. Лара и Йост были в превосходном настроении, им хотелось пошутить.
— Эллен, — обратился младший к своей тетушке, которую стал называть уже просто по имени, опуская слово «тетя», — Эллен, а ты знаешь, что наша бабуля нашу маму мышкой зовет?
Все трое моих добрых родственников так и покатились со смеху. А ну вас, подумала я, и без меня обойдетесь! И отправилась гулять по направлению к порту.
Да зачем мне вообще кто-то нужен? Гулять одной, оказывается, здорово! Можно сколько угодно стоять у витрин магазинов, никто тебя не дергает. Можно зайти куда-нибудь, поесть, выпить, где хочешь, чего хочешь и когда хочешь!
Я остановилась рядом с художником, который рисовал на улице портреты прохожих. Он как раз набрасывал на бумагу черты очередной отдыхающей, обладательницы весьма импозантной головы. Даме хотелось выглядеть на портрете как можно моложе и красивей. Кто здесь чья жертва? Красным мелком художник привычными, отработанными быстрыми движениями наносил на бумагу черты модели, без труда добиваясь поверхностного сходства, что мне удавалось с таким трудом, когда я писала наш семейный портрет. Когда же заказчица, в высшей степени довольная, расплатилась, шустрый рисовальщик тут же стал искать глазами нового клиента и заметил меня.
— Нет, нет, — отмахнулась я, — не надо, у меня и денег-то нет, мне просто интересно посмотреть, я сама рисую.
Ну если так (художник говорил по-немецки, как, видимо, и все на Искье), то тогда ему, право, стыдно, ведь его быстрые портреты-наброски — это не искусство, не живопись, но в нынешнем сезоне, несмотря на конкуренцию, он прекрасно зарабатывает своим ремеслом. Он порылся в папке и показал мне работы, более, по его мнению, достойные и возвышенные. То были сюрреалистические поэтические этюды в размытых мечтательных тонах. Какие-то неведомые сказочные существа бродили по райским кущам.
— Очень красиво! — охотно похвалила я. Такое стоило похвалить.
Паоло собрал свои инструменты и попросил коллегу, промышлявшего тем же самым метров через десять от нас, посторожить сложенный мольберт и складной стул. Мы отправились пить «эспрессо» и беседовать на профессиональную тему — о живописи. Ему хотелось знать, что и как я рисую, не тянет ли меня и в отпуске бросить все и погрузиться в любимое ремесло.
Никакого приключения, к сожалению, не вышло: у Паоло только что родился сын-наследник. Зато мы вместе зашли в художественный магазин. Мы выбрали ему баночки с тушью, перья, кисти, акварельные краски и несколько альбомов разного формата. На прощание он произнес: «Ciao, bellа!»,[25] и его слова звучали у меня в ушах всю дорогу домой как музыка.
Эллен подумала, что рисование — прекрасный предлог, чтобы поймать на удочку Паоло.
— Добрый кузнец плавит в горниле сразу несколько подков, — посоветовала она. — Иди завтра снова гулять! Нечего валяться у бассейна, тебе еще не столько лет, сколько мне. Иди, иди!
Но не тут-то было! Соло я больше из гостиницы не выходила, я начала рисовать как одержимая!
Сначала артишоки, потом — скелет кефали, цветущий олеандр и шиповник, блюдо с инжиром… Я рисовала пером, сажала кляксы, размазывала краску, писала акварелью и с каждым часом становилась все счастливей. Я сидела где-нибудь на террасе, у бассейна, на пляже, вокруг носились мои дети, а мне ничего на свете не могло помешать. Сестра моя, должно быть, скучала из-за моей художественной страсти смертельно. Самой-то ей закрутить роман не удавалось, так что страшно хотелось, чтобы я пережила эротическое приключение и поделилась с ней.
Лара интуитивно почувствовала, что между ее родителями пробежала черная кошка. Через день она звонила папочке, которого нигде не могла застать. Моя дочь взвалила на себя мои обязанности, чтобы сохранить отца и кормильца семьи. Я же только радовалась, что не сгорел его офис. Новое бюро, даже несмотря на пожарную страховку, мы бы вряд ли потянули.
СИНДРОМ ПОПУГАЯ
Остров Искья знаменит своими курортами, где врачуют наши тевтонские северные хвори вроде ревматизма. Рядом с некоторыми санаториями красуется шутливая реклама: «Утром — фанго,[26] вечером — танго!» Но не верьте старым избитым клише. На пляже я встречала множество молодых итальянских семей или пар, которые бежали сюда из загазованного дымного Неаполя. Глядя на счастливую молодость, я казалась самой себе древней старухой. Да, что там и говорить: женщина, которой скоро стукнет сорок, мать двоих малолетних детей, меньше всего похожа на студентку. На пляже бабульки, возмущенные разнузданным поведением неистовой юности, обязательно возьмут такую женщину себе в союзницы: «Да вы только посмотрите, что эти… там вытворяют!..»
Одна молодая пара на пляже едва не заставила меня расплакаться. Как хороши собой были оба! Загорелые, блестящие, стройные тела, черные кудри! Они просто светились! Как малые дети они играли с мячом, со смехом валяли друг друга в песке и уплетали мороженое из одного вафельного стаканчика. Как они были счастливы! Как невинно радовались друг другу! А я? Сижу на пляже с сестрой, рисую, одергиваю время от времени детей, чтобы совсем не распоясывались, и тоскую о неверном муже! Пролетела моя молодость, и никогда больше не испытать мне восторга первой любви, если я вообще когда-нибудь его испытывала.
Жители Искьи не похожи на континентальных итальянцев, отдыхающие отличаются от туристов на итальянском континенте. Здесь на острове люди замкнуты, себе на уме, своевольны и независимы. Здешние мужчины — это не те пресловутые папагалло,[27] похожие на попугаев. Таким робким, застенчивым, нелюдимым индивидуалистом был и мой художник Паоло. Я частенько скучала по нему.
Многие туристки с севера совершенно сознательно заводят интрижку с latin lover.[28] Мне было неприятно наблюдать, как провоцирующе вели себя стареющие дамы, как готовы были к любому флирту, как отчаянно бросались в авантюру. Строгие южанки, одетые в черное, нравились мне больше, с ними мне было бы уютнее, чем с пятидесятилетними немками, что рыщут по курортам в поисках приключений и жадно набрасываются на молоденьких итальянцев. А эти, в свою очередь, раздражали меня своей безмозглостью и навязчивостью. Я замучилась: мне каждый день приходилось отшивать очередного поклонника моей белокурой шевелюры.
В 1716 году итальянец Габриеле Сальчи нарисовал попугая среди зашифрованных символов чувственных утех. Только женщина могла так соблазнительно сервировать стол: скатерть из голубого шелка, сверху накинута другая — белая, батистовая, воздушная, невесомая, прозрачная, как фата, а по краям — тончайшие кружева. На столе — корзина с фруктами, к ней прислонили скрипку, рядом круглый поднос, на подносе — необыкновенный, искуснейший кубок с вином из тончайшего отшлифованного стекла. Взглянешь на свежие фрукты, на сахарный бисквит на подносе — и слюнки потекут. Ухо уже заранее предвкушает нежные звуки скрипки, ноздри втягивают запах розы, еще не распустившейся до конца, пальцы уже скользят по кружеву, по стеклянным узорам кубка, глаз радуют яркие цвета, их замысловатая, заманчивая игра и переливы. Попугай, сидя среди фруктов, жадно, даже алчно заглядывает внутрь плода инжира, который только что продолбил клювом. Птица вцепилась в шкурку вкусного спелого фрукта хваткой лапкой, острыми коготками крепко держит заветный плод. Наверное, это пестрое яркое создание с кривым клювом — аллегория сексуального вожделения. Видно, уже в те ранние времена художники изображали на полотне и похоть, и страсть, тайно, конечно, скрыто, одними намеками, символами, шифрами, но гораздо раньше, чем мы увидели это в кино в самом неприкрытом виде. Эротической символикой наделили именно плод инжира, в розовую нежную мякоть которого хищно впивается клювом попугай. Рядом лежат дыня, виноград и персики, но маленький сластолюбец не обращает на них внимания.
Вот и нынешние папагалло похожи на эту пеструю птичку. Они всегда так веселы, улыбчивы, радостны, они очаровывают, берут приступом, застают врасплох, обескураживают тем, что никогда не скрывают своих намерений, своего желания. О да, они в любой момент готовы со сладострастием впиться в спелый сочный плод, и совесть их молчит. Неужели я превратилась в перезрелый инжир? Эллен пинала меня, как упрямую старую клячу: — Из меня тоже сделали такую «порядочную женщину», что я после смерти мужа шарахалась даже от собственной тени. Вам, молодым женщинам, надо быть посмелее!
— Но я-то не вдова! — запротестовала я. — Может быть, мне так трудно с мужчинами, потому что меня еще наш папочка куклой бесчувственной считал?
Эллен возразила, что у любой женщины с мужчинами не всегда все гладко, и наоборот.
Мне хотелось что-нибудь сестре подарить, но вот что? Украшений она почти не носила, чудной оригинальный стиль ее одежды был мне непонятен. Я полдня после обеда бродила по магазинам и лавочкам, пока наконец в Касамиччола не нашла керамическую вазу для фруктов, украшенную фарфоровыми плодами.
Эллен была очень рада.
— Но у меня есть еще одно желание: нарисуй мой портрет! — сказала она.
У Паоло это получилось бы гораздо лучше, подумала я, на моем разбитом семейном портрете внешнее сходство некоторых моих родственников можно заметить, только если очень сильно постараться. Но я все-таки решилась. Сестра послушно и терпеливо мне позировала, но творение мое не удалось, и Эллен скоро сама это заметила.
— Знаешь что, Анна, — сказала она, — люди у тебя действительно выходят не очень, a вот предметы гораздо лучше. Так что ты лучше нарисуй мне натюрморт, из одних только вещей, на память, пусть напоминает мне об Искье.
Мы набрали ракушек, нашли филигранный скелет морского ежа, красные цветы олеандра, сложили все это в новую вазу для фруктов и поставили на балюстраду, окруженную бугенвиллеями, так что получился вдохновенный островной натюрморт.
Я уже начала рисовать, когда явились дети и меня прервали. Оказывается, они ныряли, подвергая свою жизнь опасности, и нашли на дне морском драгоценные камни. Выяснилось, что это осколки кафеля из бассейна, гладко отшлифованные морем. Мы добавили эти сокровища к нашей икебане.
Эллен поехала в Форио и тоже купила мне подарок — гравюру на меди эротического содержания: кентавр обнимает нимфу.
— Повесь это у себя дома над кроватью, — велела она, — и убери со стены святого Иосифа!
Мы посмотрели друг на друга и засмеялись. Две недели полного безделья, солнце, море и хорошая еда сделали меня похожей (разумеется, слегка) на сладострастную нимфу.
В ту последнюю неделю вдруг резко сменилось настроение у Лары. Из самой жизнерадостности она превратилась в сварливую, нервную брюзгу, вечно цапалась с младшим братом и то и дело посылала его куда подальше скверными словами. Тогда Йост, иногда строивший из себя настоящего мужчину, завел дружбу с детьми наших соседей. Я наблюдала, как некий господин средних лет учил малолетних мальчишек плавать кролем. А когда Йост наступил на стекляшку и поранил ногу, тот привел моего сына к нашему лежаку. Для первой помощи у меня под рукой оказалась только бумага для акварели.
Незнакомец, который представился Рюдигером Пентманом, одолжил аптечку у одного мороженщика на пляже. Йост побелел при виде собственной крови и остался с нами на берегу, в море ему было пока нельзя.
Рюдигер Пентман сжалился над мальчиком и предложил сыграть в покер:
— Я вас научу в одно мгновение! У меня карты с собой, — предложил он. — И сестру твою позовем!
Через некоторое время Лара прискакала ко мне со словами:
— Рюдигер такой крутой! У него так здорово получается это вот pokerface![29]
Я порекомендовала дочери не называть незнакомых людей по имени и продолжала умиротворенно рисовать, не подозревая, что на другой день мастер покера начнет другую игру.
Позже выяснилось, что Рюдигер из Ганновера, он математик, работает в страховой компании. Его отпуск, в отличие от нашего, только начинался, и он не мог еще похвастаться шоколадным загаром. Отель, где он остановился, к сожалению, совсем ему не нравился, поэтому господин Пентман собирался ехать дальше — на Капри — и искать пристанища там.
— А у нас классный отель, — похвастался Йост. — Может, у них есть еще одна свободная комната?
Эллен тут же затею поддержала. На том и порешили: Рюдигер стал обедать вместе с нами и при случае подыскивать себе новое жилье. Он приходил, ел и оставался с нами долгое время. Сестра моя тут же стала выдумывать:
— Он из-за тебя к нам так привязался. Ну не на графиню же старую он позарился! А ты заметила — у него нет обручального кольца на пальце? Ну да не в том дело! Главное, сейчас здесь он один, без женщины. Как тебе все это нравится?
— Да, он мне нравится, он хорош собой, манеры как у аристократа, детей любит и не навязчив. Может быть, несколько застенчив, скован, но это лучше, чем развязность и позерство.
Скоро Йост вынудил нас обращаться друг к другу на «ты», отчего наш новый знакомый каждый раз краснел. Рюдигер оказался высокообразованным интеллектуалом, который объездил пол-Европы, он немного говорил по-итальянски и много читал. Эллен осторожно выуживала из него кое-какую информацию. Пентман же узнал от детей, что у них есть отец, который постоянно живет с семьей.
Невероятно, такой привлекательный мужчина, всего каких-нибудь сорока четырех лет, и холост — ни семьи, ни подруги. Либо только что развелся, либо когда-то расстался с женщиной, и рана от разрыва до сих пор причиняет боль. С другой стороны, он не походил на старого холостяка, что охотится за невестами. На нашем курорте было предостаточно молодых женщин, которые не сидели на пляже с седовласой сестрой и двумя отпрысками. Были гостиницы, где вообще отдыхала публика помоложе. Лара как-то прямо в лоб, не стесняясь, спросила, есть ли у него дети? «Нет, к сожалению, нет», — отвечал он.
С той минуты за нашим столом становилось все веселее. Лара и Йост чувствовали, что их воспринимают всерьез, и старались нравиться Рюдигеру. Я слегка расцвела, Эллен была в восторге. Так мы впятером и проводили день за днем с утра и до самого вечера.
— Этому человеку необходима семья, — уверенно заявила моя сестра, — у него талант воспитывать детей! Как жаль, что мы так поздно его встретили!
Нерешительных мужчин нужно поощрять и подталкивать к решительным действиям.
— В Лакко Амено я видела одну сумочку, — соврала я за завтраком, — ужасно хочется такую! Кто составит мне компанию?
Тут же вызвалась Лара, но в разговор дипломатично вступила Эллен:
— Дети, я договорилась с Луиджи: сегодня он покатает вас на лошади своего брата!..
— Здорово, я вас буду фотографировать! — обрадовался Рюдигер.
Ч-черт… Мой план провести полдня отдельно от всего семейства провалился. Хорошо же, пойду в наступление!
— Вообще-то мне хотелось, чтобы ты со мной поехал и посоветовал, стоит ли эту сумочку покупать. — Я озарила его лучезарной улыбкой. — Знаешь, иногда в магазине глаза разбегаются, модные вещи так трудно выбирать!
Рюдигер отвечал, что он тоже не знаток женской моды и сестра моя была бы, несомненно, лучшей советчицей, но он все равно с радостью поедет со мной в магазин. Лара проводила нас до самой автобусной остановки.
— Вообще-то я уже на лошадях наскакалась, у Сильвии, — сообщила дочь. Я насторожилась, а она продолжала: — Ну да ладно, надо порадовать тетю Эллен.
Мы долго ждали автобуса. На этот раз мне даже хотелось, чтобы он был набит до отказа.
— Мама! — крикнула Лара. — Там два автобуса идут. Второй совсем пустой!
Но не успела она оглянуться, как я помахала ей рукой из первого.
Когда автобус проваливался в ямы и кренился на поворотах, я пыталась упасть прямо на моего спутника. Но скоро рядом освободилось место, и мне пришлось сесть. В Лакко Амено я повела Рюдигера через городской парк на виллу Арбусто. В парке с любовью выращивали мирты, розы и подстригали зеленые коридоры. Мы присели на скамеечку, покрытую мозаикой, откуда открывался замечательный вид, словно на открытке: вот он, символ города, так называемый «Иль фунго»,[30] монолит из вулканического туфа в форме гриба, что каменистой грядой сбегает в море от горы Монте Эпомео. В путеводителе я читала историю о печальной любви, связанную с этим грибом, который на самом деле представляет собой окаменевшую пару влюбленных.
Мало-помалу мне стало казаться, что Рюдигер тоже каменный. Я набралась смелости и спросила:
— Ты женат?
Слегка помедлив, он отвечал:
— В отличие от тебя, я вот уже десять лет как разведен.
— Почему?
— Не сложилось, не подошли мы друг другу. Слишком молоды были, когда женились.
Желая утешить, я взяла его левую руку. Должен же кто-то из нас сделать первый шаг! Ему, похоже, это даже понравилось, но в то же время свободной правой рукой он продолжал листать мой путеводитель, пытаясь выяснить, во сколько открывается археологический музей.
Да что ж такое? Что я делаю не так?
Зашли в музей, потом купили сумочку, съели по тарелочке антипасти[31] и поехали домой. Между тем мы с Эллен давно уже жили в разных номерах. Слегка упав духом, я в одиночестве отправилась к себе передохнуть.
Через пять минут стук в дверь. Эллен стоит на пороге и смотрит на меня, сгорая от любопытства.
— Ничего, — отрезала я.
— Может, он голубой? — предположила сестра. Я помотала головой.
— Тогда почему он свой отпуск проводит с нами? — одновременно воскликнули мы.
— Я думаю, он тоскует о какой-нибудь женщине, — решила Эллен, — все не может ее забыть, никак с ней внутренне не порвет, не расстанется.
Да, может быть. Видно, вариант безнадежный, не насиловать же мне его. Кроме того, нет худа без добра: пока он рядом, ко мне не лезут настырные итальянские мужики-попугаи.
Как же все-таки несправедливо устроен мир! Почему моему мужу везет со всякими секретаршами, почему ему так легко с разными дурочками? А я-то, бедная, почему с мужиками так мучаюсь?
После обеда мы снова все вместе сидели на пляже. Я указала Рюдигеру на красивую парочку и заметила:
— Прямо завидно, честное слово! Правда?
Мой каменный кавалер согласно кивнул и задумчиво, почти мечтательно произнес:
— Еще дети почти.
Вот оно что! Значит, я слишком стара? Но ведь ему самому, между прочим, уже не двадцать!
Новая попытка. Не мог бы он помазать мне спину кремом для загара? «Охотно», — согласился Рюдигер. Он и правда делал это безо всякой неловкости, даже с радостью, точно так же, как сделала бы моя сестра Эллен. Но я-то знаю, что можно растирать крем по спине по-другому!
Лара, оставшись со мной вдвоем, тактично спросила:
— Тебе Рюдигер нравится больше, чем папа, да? Я рассмеялась немного деланно, натужно:
— Солнце мое, ну что за чушь! Через пару дней мы будем дома, и никогда никакого Рюдигера больше не увидим! — Я испытующе взглянула на своего ребенка. — Может быть, тебе он нравится больше, чем твой папа?
— Нет, — Лара покачала головой, — он мальчиков любит гораздо больше, чем девочек.
Хорошенькое дело… После слов Лары я стала следить орлиным взглядом, как наш математик играет с детьми. Почему мне ни разу не пришло в голову, что этот человек привязался к моему сыну больше, чем к кому-либо из нас, что он отдает Йосту явное предпочтение?
— Эллен, — в смятении толкнула я сестру, — Эллен, посмотри на детей и скажи, не сошла ли я с ума?
Рюдигер держал в руках ногу Йоста и осматривал его рану, уже совсем зажившую. Осторожно, бережно гладил он загорелую ножку моего сына и смотрел на мальчишку с такой нежностью, что тот засмущался и вырвался.
— Все ясно, — прокомментировала моя сестра, — что делать будем?
— Я отравлю его протухшими мидиями! — кипела я, взрываясь от негодования.
Открыв рот, мы наблюдали, как Рюдигер метрах в двадцати от нас листает итальянскую газету, а дети осаждают мороженщика. Откуда у них деньги? Я точно не давала!
— Вообще-то не надо сразу обдавать его холодом, — решила Эллен, — он, кажется, довольно безобиден. Кроме того, он ни разу не оставался с детьми совсем один. А на пляже полно людей, итальянки со своих сыновей глаз не спускают. Голову даю на отсечение, ничего он нашему Йосту дурного не сделал и не сделает!
— Откуда ты знаешь? — засомневалась я.
Но, видимо, сестра была права. Я залюбовалась очаровательной парочкой, Пентман весь светился, глядя на моего хорошенького сына, а в глазах его читалась печаль: нельзя, табу, запрещено, не смей!
Последние дни мы провели в мире и согласии. Рюдигер почуял, что я его раскусила, и однажды у меня вырвалось едкое замечание:
— Ты сидишь за нашем столом не из-за моих прекрасных глаз, Эллен тоже тебе сердце не разбила, Лара и того меньше. Кто остается?
Удивительно, он стерпел мою пощечину, не стал спорить, не стал ничего объяснять. Позже он сказал мне:
— Аннароза, мы оба с тобой несчастны, потому что нам обоим приходится от чего-то отказываться, нам обоим что-то запрещено. Но ты, несомненно, свое счастье найдешь быстрее меня, я же обречен до конца дней моих бороться с самим собой.
Он выглядел очень грустным.
Внешне мы производили впечатление благополучной семьи, и сами едва в это не поверили, особенно когда в наш последний день все вместе праздновали с жителями Понте именины их святого покровителя Джованни Джузеппе. Замечательная была процессия, и на суше, и на воде, а вечером устроили еще и салют. Я все думала, что скажет мой муж, если я расскажу ему, как свела знакомство с платоническим педофилом. С тех пор, как выяснилось, кто из нас кто, мы с Рюдигером ладили все лучше.
В последний вечер мы с Эллен пошли погулять, попрощаться с островом. Она с любопытством спросила:
— Слушай, я тебя узнала гораздо лучше, но кое-чего я все-таки совсем не понимаю. Ты рассказывала, что до замужества у тебя было много романов, ты со многими парнями спала. Почему ж ты теперь в отпуске так мучаешься и ничего у тебя не получается?
— Может, я заводила себе парней, чтобы досадить матери. Знаешь, радости-то большой мне от них не было. Райнхард первый, с ним-то случилось по-настоящему, на строительных лесах.
— Милая моя, — засмеялась сестра, — если у тебя ни с кем больше не выходит, ты хоть с мужем попробуй, будь с ним поласковей!
— Да, «мама»! — откликнулась я.
Встреча с Райнхардом приближалась, и мне становилось все неспокойней. Домой звонили только дети, я ни разу инициативу не проявила, открытки ему не послала, даже сувенира не припасла. А он, бедный, наверное, все пахал день и ночь, пока мы на острове развлекались и бездельничали. Могу себе представить, до чего он нам завидует! Если он встретит нас с сияющей миной, значит, совесть нечиста, скрывает что-то. Ну и чего ж мне больше хочется, сама не знаю: обманщика, расплывшегося в лицемерной улыбке, или мрачного, усталого, зато верного мужа-трудоголика?
Пришло время паковать чемоданы, и я принялась заворачивать в отдельные тряпочки и платочки ракушки, сушеных морских коньков, камушки, коралловые веточки. Это не дети мои насобирали, а я, это будет мой натюрморт, который я нарисую дома. Скорей бы опять за мой кухонный стол, рисовать, позабыв обо всем, когда я принадлежу только себе самой. Я уже представляла, как разложу мою морскую коллекцию в ячейки коробочки, где раньше хранились шоколадные конфеты. Добавлю к ним пустые улиткины домики, осколки моего семейного портрета и сухие цветы, пусть радуют мне глаз. Куриная косточка, бабочка, синий цветок чертополоха — их тоже не забыть бы. В общем, я отправилась домой, полная новых идей и планов.
Рюдигер отвез нас в неапольский аэропорт, Райнхард встречал во Франкфурте.
ОВЕЧЬЯ ГОЛОВА
Ливень, приветствовавший наше возвращение, как нельзя более соответствовал моему скверному настроению. Дети накинулись на отца и стали душить его в объятиях, будто не виделись годы. Растроганный Райнхард обнял и меня, потом погрузил наш багаж на тележку и покачал головой, глядя на обилие пластиковых пакетов, откуда торчали громоздкий набор удочек, очки для ныряния и еще мокрые купальники и плавки. В машине начались рассказы о каникулах, Лара трещала без единой паузы, пока мы не приехали домой.
Ну и что у нас дома? Все вверх дном или идеальный порядок? Ни то ни другое, как и мой муж — ни счастлив, ни взбешен. Последние дня два никто в доме не убирал, но гор мусора нигде не было. Пока в стиральной машине крутилась первая порция одежды, я побежала в сад. Наверняка там растут уже новые елочки. Но нет, Райнхард оставил все как было. Сорняки, к сожалению, тоже трогать не стал и поливать не поливал, хорошо, что иногда шел дождь.
— Па, ты в покер играть умеешь? — услышала я голос Йоста.
Отец заметил, что скат, кажется, увлекательней, но с готовностью достал из ящика стола колоду карт, чтобы перекинуться с детьми перед обедом. Я отмывала на кухне грязные чашки (следов помады на них не было) и тарелки, покрытые затвердевшей коркой, и через окошко между кухней и гостиной мне хорошо было слышно, как дети через фразу утверждали, что вот, мол, Рюдигер им сказал…
Лишь когда Лара и Йост уже спали, а мы, какие-то робкие и смущенные, остались вдвоем, муж недоверчиво спросил, кто такой этот Рюдигер. В ответ я протянула ему пачку фотографий.
— И что, он тут на всех снимках, что ли? — Райнхард был слегка задет. — Я вообще-то думал, что ты ездила отдыхать с сестрой.
Действительно, Эллен не было почти ни на одном снимке, потому что она, собственно, и фотографировала. Удивительно, но первые две недели, пока у нас еще не завелся кавалер, мы совсем забыли, что взяли с собой фотоаппарат. Эллен заразилась страстью фотографировать от Рюдигера.
Райнхард посмотрел на снимки и взорвался:
— Так вот оно что! Ты себе курортного любовника завела!
Ого! Что-то новенькое! Я моего мужа таким еще никогда не видела! А забавно даже!
— Остынь! — одернула я его. — Он не за мной бегал. Ему мальчишки нравятся.
И зачем я это вякнула? Лучше б язык проглотила! Райнхард совсем вышел из берегов, так разбушевался, что его было уже не унять. Не сошла ли я с ума, кричал он. Напрасно я пыталась убедить его, что Рюдигер ни разу не позволил себе ничего непристойного! Мой муж вынес мне приговор: безответственная, дура набитая, за детьми не слежу, ни от какой опасности защитить их не в состоянии! Башка у меня как у овцы, набита соломой и опилками, ни мозгов, ни материнского инстинкта, а человеческого здравого смысла — и того меньше!
Овечья башка, значит. На полотне одного безымянного мастера такая вот овечья голова — самый центр, кульминация натюрморта. Но я бы назвала это несчастное, безвредное животное скорее символом страдания, нежели воплощением глупости и безмозглости. Взгляните, какие у него остановившиеся, застывшие глаза, как мучительно перекошена морда. В глубине картины воскресший Иисус пирует с двумя юношами, девушка поддерживает огонь в очаге, чтобы приготовить обильную, роскошную трапезу из той снеди, что загромождает кухонный стол на переднем плане.
Харчевня в Эммаусе, должно быть. На кухонном дубовом столе, рядом с овечьей головой разложены стручки гороха, белая редиска, капуста, морковь, лук, свежий хлеб, только что из печки, и селедка. Вот корзинка с фруктами: вишни, яблоки, груши. Над столом подвешен надраенный до блеска медный котелок. На переднем плане — край стола, и там протекает своя маленькая, крошечная жизнь, своя возня: мухи и бабочки, розочка и мальва, вишенка и ягода черной смородины.
Четыре стихии царствуют на полотне: огонь, потрескивающий в камине, воздух (его символ — крылатая бабочка), вода (там недавно еще плавала рыба) и земля, которая напитала соком плоды и цветы. Библейская же сцена разыгрывается в глубине, далеко, ибо не она главное на картине. Видимо, мастеру больше были интересны яркие краски и контрасты кухонной снеди, колоритной, сытной, обильной. Мораль? Да при чем тут мораль? Не в ней дело! Свет из окон падает на глиняный кувшин с водой, на начищенный котелок, отражается в рыбьих чешуйках. Кажется, можно провести пальцем по складкам тканого полотенца, потрогать плетение корзины, взять в руки цветок. Кажется, ладонь сейчас ощутит мохнатый мягкий овечий нос или ребристые листья капусты с прожилками. Но что ждет эту роскошь после того, как художник перенес ее на полотно? Известно что! Век ее недолог, скоро от нее не останется и следа, точно так же как, увы, ничего не остается от стараний трудолюбивой хозяйки, корпевшей над праздничной трапезой. Суета, все суета, барокко во всем видит скорый финал. Постоянным и вечным осталось лишь одно, это я точно знаю: сколько еды ни приготовь сегодня, завтра уже придется стряпать по новой, так всегда было и будет.
Что есть домашнее хозяйство? Конечно, сизифов труд, и больше ничего! Мой посуду, готовь обед, стирай, чисти, мой, выпалывай сорняки как каторжная! А на другое утро встаешь, и все сначала! И так каждый день, всю жизнь! Муж разнес вдребезги мой семейный портрет, а сам наваял уродливых хибар, которым сносу нет! А что есть у меня? Через десять лет мои дети оставят меня одну, и что тогда? Зачем я вообще живу на свете?!
В тот вечер наш неприятный междусобой прервал телефонный звонок. Я с облегчением схватила трубку, Райнхард включил телевизор.
— Вы уже дома? — услышала я голос Эллен. — Ты одна? Говорить можешь?
Я прикрыла дверь из коридора в гостиную и доложила сестре обстановку:
— Плохо дело, Рюдигер торчит на всех фотографиях! Райнхард заревновал, а я возьми да сдуру и ляпни ему всю правду! Что тут началось, ты себе не представляешь!..
Эллен, кажется, подавила смешок:
— Слушай, а как там у него с секретаршей, того? А? Я прокрутила в голове последние несколько часов: не натыкалась ли я на улики? В это время взгляд мой остановился на окне.
— Эллен, слушай, вязаные занавески недавно стирали! Что бы это значило? Не странно ли?
Сестра сочла такой поступок несколько странным для любовницы:
— Может, она решила доказать твоему мужу, что она супербаба, что она о вашем доме и о своем мужике заботится лучше, чем ты, неряха и распустеха? А знаешь, вернуться в совсем пустую квартиру, вот как я, тоже радости мало. В почтовом ящике — только какие-то извещения, счета и некролог моей лучшей подруги. Представляешь, как ее детки сообщают о смерти мамочки: «Две заботливые материнские руки навсегда перестали раздавать подзатыльники…»
Я в тот момент сей тонкий каламбур оценить не смогла, потому что со своего места углядела вдруг на кухне полку, которая ломилась от обилия банок.
— Подожди-ка секунду! — фыркнула я в трубку и кинулась к полке. Это был мармелад. — Ты не поверишь! Супербаба наварила ведро вишневого мармелада! И каждую банку подписала от руки! Эллен, представляешь, какой бред?!
Сестра на том конце провода задохнулась от изумления, а рядом со мной скрипнула дверь. Райнхард услышал мою последнюю фразу:
— Рюдигер твой названивает? Я молча передала ему трубку.
— Анна, малыш, что там у тебя такое? — крикнула Эллен в ухо моему мужу.
Он бросил трубку. И тут уже взвыла я:
— Что это за банки?! Кто их разукрасил кружевной бумагой?! Кто завязал каждую ленточкой?!
— Ах вот ты о чем! — отозвался муж. — Это моя мама приезжала на неделю.
Примирение было почти полным, мы даже легли вместе спать. Но как только мы прижались друг к другу в кровати, я вдруг расчихалась и не знала, как унять насморк. Приступ аллергии отпустил только тогда, когда я вышла в темный сад, на террасу. Когда же спустя полчаса я, окоченевшая, прибежала обратно в постель греться, раскатистый храп моего мужа возвестил, что жена из меня никудышная.
С одной стороны, я рада, что приезжала моя свекровь. Пока эта чопорная мамаша следила за сыном, налево он вряд ли гулял. Но, с другой стороны, мне совсем ни к чему, чтобы какая-то прилежная старушка, этот гренадер в отставке, хозяйничала в моем доме, подмечая маленькие упущения по хозяйству. Да, мне давно следовало вымыть холодильник, она меня опередила, самозабвенно отчистила его раствором уксуса. Полки на кухне отскребла от жира и расставила по порядку все их содержимое. Напрягая все силы, я выдвинула из ниши плиту, ожидая увидеть там знакомую картину: гербарий из лавровых листьев, лапши, гороха, луковых шкурок и какого-нибудь кассового чека, склеенных почерневшей масляной пленкой и прилипших к полу. Да, красота, хоть пикник устраивай! Отодвигаю я плиту, и что бы вы думали? Чистота такая, что даже противно! Господи, наверное, так выглядит преисподняя после генеральной уборки!
На другое утро дел было невпроворот. У детей еще не кончились каникулы, и сразу после завтрака мои сорванцы помчались хвастаться перед друзьями нашим итальянским отпуском. А я залезла во все шкафы, выдвинула все ящики всех столов, заглянула даже в корзинку с нитками и шитьем — моя не в меру заботливая свекровь оставила следы своей деятельности повсюду. Только до сада, слава Богу, руки у нее не дошли. Но хватило и дома, за одну неделю она горы своротила! Не знаю, что она мне хотела этим сказать — то ли просто порадовать, то ли ткнуть меня носом: вот как надо вести хозяйство, вот как должен выглядеть дом у приличной хозяйки!
Каждый год мужнина матушка приезжала к нам на Рождество из Бакнанга и две недели вдохновенно стряпала для семьи, а вообще-то — для одного только своего мальчика, ее обожаемого Харди. На столе появлялись все любимые блюда моего супруга. Йост и Лара тоже обожали швабский суп с поджаристыми клецками или сырную лапшу, но их тошнило, когда два раза подряд приходилось есть потроха с кислой капустой. Однако жаловаться мне было не на что, свекровь не донимала меня невыносимым занудством, не гнула в три погибели и все больше помалкивала. Разумеется, она была бы лучшей кухаркой для своего сына, и то, что он по ночам невесть где шатается, ее бы тоже не очень смущало. Могу себе представить: увидев наши занавески, что сама для нас и связала, уже изрядно посеревшими, она, наверное, только воскликнула:
— Ах, Боже ж ты мой, страх-то какой! — и тут же перешла к делу.
После обеда я стала обзванивать подруг. Люси, Готтфрид и все четверо детей были еще в отпуске, могла бы и догадаться. У Сильвии трубку взяла вечно обиженная Коринна:
— Мама нянчит своих лошадей, — прогнусавила она, — передать что-нибудь?
— Нет, спасибо, не надо, я позвоню попозже. Какое-то смутное беспокойство подталкивало меня — я позвонила Биргит. Я только хочу услышать ее голос и сразу брошу трубку! Автоответчик сыграл пару музыкальных тактов, потом заговорил мужчина: «До начала сентября вы найдете нас в нашем летнем домике». Настоящее приглашение для грабителей: «Приходите, воруйте, нас все равно нет!» Ну и муженек у Биргит, сам вечно в отъезде, а таких глупостей не понимает!
Когда же господа уехали в летнюю резиденцию? Я залезла к Райнхарду в стол. Десять полностью надиктованных кассет ждали трудолюбивую секретаршу. Умела бы моя свекровь еще и печатать, цены б ей не было! Рано или поздно мой муж снова меня куда-нибудь «делегирует». Ну ладно, все лучше, чем то, что я ожидала увидеть и услышать!
Да, наверное, я действительно овца. Я испортила себе весь отпуск, мне все казалось, что у моего барана случка с Биргит. А он между тем, может, и хотел бы, да вместо того три недели поневоле оставался мне так же верен, как и я ему.
Только что-то все-таки здесь не так! С каких пор у меня аллергия на объятия мужа? В ванной не видно никакого нового одеколона после бритья, в подвале — нового стирального порошка и никаких экзотических цветов в вазе. Я принюхалась к его подушке и опять чихнула, правда, только один раз. Надо застелить постель новым бельем. Если нынешней ночью Райнхарду станет одиноко на его половине кровати, я хочу, чтобы все прошло как следует. Если.
В почтовом ящике лежал толстый большой пакет с маленькой надписью, отчего я на секунду вновь вспомнила Имке. Рюдигер прислал нам фотографии, у него получилось намного красивее, чем у моей сестры. Думаю, неудачные снимки он просто не стал присылать, как мило с его стороны — подумал о нашем самолюбии. Показать, что ли, мужу, какое у него замечательное загорелое семейство, как оно чудесно смотрится на летнем взморье? Да нет, пока лучше не надо! И чтобы дети не сорвали мои расчеты, я спрятала конверт под свой матрас, до лучших времен.
Обычно, когда я гладила, я либо включала радио, либо ставила гладильную доску в гостиную, чтобы краем глаза заглядывать в телевизор. На этот раз я поступила по-иному: приколола свои отпускные рисунки булавками к рифленым обоям и любовалась картинками и набросками — левая рука разглаживала белье, правая, как автомат, водила туда-сюда утюгом. Больше всего мне удались рисунки пером, раскрашенные акварелью, по-моему, они гораздо интереснее моих прежних зарисовок на стекле. Сколько же всего в мире есть интересного, всяких неподвижных, неживых предметов, которые оживают на полотне художника, — рисуй не хочу! Подумать только, оригинал давно истлеет в мусорном контейнере, а его копия на бумаге или холсте будет столетиями рассказывать следующим поколениям о дне нынешнем.
Кончив гладить, я достала горшок для соления огурцов, фаянсовый, а по краю — кобальтовый голубой орнамент из разных завитушек. Пером можно набросать на бумаге тончайшие контрасты, отражения и оттенки, и на картинке толстопузый горшок заблестит, заиграет, запереливается, так что и не узнать! Отличная идея, так и сделаю! Но сначала надо укомплектовать всю композицию, весь натюрморт. Так, берем три деревянные ложки, кладем их в горшок. Вниз — вместо скатерти, кухонное полотенце в голубую клеточку. Что еще? Ага, вот букетик лаванды и горсть синих слив! Вот! То, что надо! И все почти в одной цветовой гамме! Монохром! Но я слишком долго переставляла свои вещички с места на место, рисовать уже было поздно: пришли мои детки и попросили покушать.
Вечером, когда Райнхард вернулся домой, Лара вскрикнула: его левая рука была перебинтована и держалась на перевязи. Я испугалась не меньше и побледнела.
— Ты что, упал на стройке? — Когда мы только поженились, меня часто мучили такие страхи.
— Я свалился с лошади, — криво улыбнулся муж. — Сильвия уговорила меня залезть на ее кобылу, якобы смирную как овечка. Ну, я сдуру и полез, только сел, а она — на дыбы!
— Пап, а мы думали, ты на работе! — засомневался Йост.
Ну правильно, на работе, подтвердил отец. Но он же строит новые конюшни, ему же надо зайти, посмотреть, что за дом этим коварным тварям нужен!
Как же он теперь будет одной рукой водит машину? — беспокоилась я. Да перелома-то нет, успокоил муж. Сильвия сразу отвезла его на рентген. Через пару дней бинты снимут, а что тут ехать? Два шага! Справится, не инвалид же!
Не инвалид, разумеется, но без левой руки тоже не очень-то разгуляешься. Пришлось помогать: я резала ему мясо и намазывала хлеб маслом, Йост ходил с ним в ванную и следил, чтобы не намокли бинты. И как-то я услышала, сын Райнхарду похвастался:
— Пап, а мы в Италии тоже катались на лошади, но не разу не упали!
Лара принесла мне отцовские джинсы, заляпанные грязью, и рубашку с кровавыми пятнами. Я, задыхаясь от насморка, засунула все это в машину.
Терзаемая угрызениями совести, позвонила Сильвия:
— Ой, прости, мне так жаль! Я виновата! Он просто хотел, чтобы я научила его ездить верхом…
Вот как? Я не знала!
Ну да, Райнхард же превосходный теннисист, пела Сильвия, вот она и подумала, может, ему и другой вид спорта подойдет, верховая езда например. И в конном клубе, между прочим, полно богатеньких толстосумов, наверняка кто-нибудь из них закажет Райнхарду новый дом!
— Может, и тебе бы понравилось… — начала было она.
— Сильвия, солнышко, — оборвала я ее, — тебе ли не знать, что меня в конюшню калачом не заманишь! Кстати, я теперь знаю, откуда у меня взялась аллергия на собственного мужа!
— So sorry![32] — как-то слишком самозабвенно извинялась подруга.
— Да ладно, ты ни при чем, — отвечала я. — Взрослый мужик сам должен соображать. Хотя в последнем я несколько сомневаюсь.
Ночью я слышала, как муж мой стонет, но явно не от удовольствия. Так ему и надо, будет знать, как вечно на чужих кобыл заглядываться!
Наутро Райнхард попросил завтрак в кровать, и так это развлечение ему понравилось, что он и вовсе решил не вставать.
— Ужасная была ночь, — пожаловался он. — Анна, будь добра, пойдешь в магазин — прихвати из офиса мои бумаги, принеси мне их сюда. Надо проверить счета от мастеров, это можно и дома сделать.
Ну вот, мне так даже на руку: пойду проверю бюро!
Стеклянный шар покоился на столе так уютно, будто никакого пожара разжечь никогда бы не смог. Фотоальбом от Биргит исчез, на черном кожаном диване — ни одной дамской шпильки для волос.
Бумаги, что просил муж, я нашла очень быстро. В самом низу обнаружила счет, не от Райнхарда заказчикам, а самому Райнхарду — от Биргит. За вышеперечисленную секретарскую работу она запросила у моего мужа невероятную сумму. У нас нет таких денег! Хотя теперь муж имел представление, — черным по белому написано, не отвертишься! — сколько он должен был бы заплатить мне, если бы я по-прежнему на него работала. А что, если он уже уволил обнаглевшую свою секретаршу, чтобы не задавалась, и теперь хочет при случае опять припахать меня? Прощайте, мои натюрморты! Не дай бог Райнхарда потянет к лошадям, это еще дороже, чем теннис. А потом Сильвия будет петь ему, что она мечтает о парусной яхте, и пошло-поехало! Господи, неужели это мой муж, мой неотесанный мужик, который всегда смеялся на теми, кто считал себя самым крутым на селе? Мой медведь из простой семьи, который на нашей свадьбе не знал, как едят спаржу?
Вечером навестить больного заявились Сильвия и Удо, с цветами, шампанским и стопкой книжек для постельного режима. Пациент тем временем в тапочках и пижаме восседал перед телевизором и весь был занят футболом. Друзья наши стали расшаркиваться, Удо извинялся за свою «невозможную жену», которая толкнула моего бедного мужа на глупость. Я отправилась на кухню за фужерами для шампанского, Удо пошел за мной.
— Знаешь что, Сильвия там в конюшне развлекается с Райнхардом, а мы с тобой чем хуже, а? Мы тоже имеем право…
— Ну конечно, Удо, — оборвала я его, меня уже тошнило от его похотливых намеков. — А потом мы все вчетвером пойдем на ток-шоу, где супружеские пары откровенничают, каково это, поменяться на время партнерами?
Удо в ужасе уставился на меня, я с трудом заставила себя улыбнуться.
Ночью меня терзал кошмар, который я никогда не забуду. Опять главную роль играла ванная. Нас с Райнхардом, и детей тоже, однажды солнечным воскресеньем приглашают на гриль. Сначала каждый занимается своим делом: Удо мажет растительным маслом колбаски и телячьи котлеты, Сильвия валяется в шезлонге, Райнхард феном раздувает костер, чтобы угли скорее разгорелись, дети играют с морской свинкой. Я инспектирую сад, шныряю по кустам, осматриваю садовый инвентарь в сарае и вдруг проваливаюсь в яму, а там — навоз!
Мое светлое милое летнее платье превращается в лохмотья, от меня несет за три мили. И никто меня не жалеет, все громко хохочут.
— Марш под душ! — кричит мой муж, и я бегу в большую ванную, залитую солнцем.
Наконец я снова чиста и свежа, заворачиваюсь в шелковое кимоно Сильвии и возвращаюсь в сад.
— Ты ванну вымыла? — подает голос моя подруга. Я таращу глаза. Мыть ванну?! Мы вместе с ней идем в ванную: она черная, никогда не видела столько грязи.
ТОМЛЕНИЕ ПЛОТИ
Вопреки ночным кошмарам, следующее воскресенье было замечательное. Накануне ночью мы с Райнхардом, после долгого воздержания, спали наконец вместе без всякой аллергии. Должна признаться, инициатива исходила только от меня. Не то чтобы меня обуял приступ всепрощающей любви, нет, но мне захотелось! Очень! Я потребовала своего. Слишком долго приходилось себе отказывать в самом естественном — до отпуска, во время отпуска — больше терпеть сил моих не было. Все, хватит, меня было не удержать! Одна ночь — маловато, конечно, по сравнению с неделями вынужденного одиночества, но это только начало, начало новой нормальной семейной жизни. Мне бы хотелось, чтобы и утром меня тоже обнимали, но когда я проснулась, Райнхард уже встал и играл с детьми в их любимый покер. Рука его снова работала превосходно, зато настроение было так себе. В последние дни муж стал какой-то нервный, дерганый. Да, ему бы в отпуск, жалела я его.
Что же мне оставалось, как не мириться с мужем и терпеть, так советовала мне Эллен. Если отношения не наладятся, то выход один — развод, но стоит ли? Так ли все скверно? Куда я денусь с детьми? Хватит ли у Райнхарда денег, чтобы содержать две семьи? И прежде всего Лара и Йост будут мучиться. Они с отцом прекрасно ладят, им с ним так весело! Да, им-то весело, зато я одиноко увядаю в этой птичьей клетке. В наших недоразумениях я винила саму себя: это я ревную его без повода, у меня с нервами не все в порядке, а он — нормальный мужчина, самолюбивый, тщеславный и несколько самовлюбленный. История с Имке — я все не могу простить — как раз и показала, какой он чувствительный, как ему не хватает, чтобы его почитали, обожали, превозносили. Наверное, я теперь должна чем-нибудь его умаслить, угодить ему, польстить.
В начале XVII века сведущий, начитанный зритель рассматривал какую-нибудь самую обычную сцену в трактире, запечатленную на полотне, и знал наверняка: сие есть настоящая проповедь о вожделении плотском. Мастер Иеремиас ван Винге, не отставая от своих современников, щедрой рукой нагромоздил на кухонный стол обильную снедь. У нас на кухне тоже есть такое окошко в стене, чтобы передавать обед в гостиную. Там, в глубине картины, в зале харчевни, три господина в ожидании трапезы коротают время, играя в кости. Но до них живописцу почти нет дела. То, что происходит здесь, на переднем плане, на кухне, вот оно — главное. А здесь доминирует мясо, плоть, тело, во всех вариантах: ощипанная курочка с кремовой кожицей, розовая телячья вырезка, а рядом — кухарка, молодуха, чей цвет лица, кровь с молоком, затмевает сочный колорит мяса на столе. Кажется, ее блузка, белая, как цветок лотоса, с глубоким вырезом на груди, почти декольте, неохотно скрывает свой секрет. Девица слегка придерживает края выреза левой рукой, одновременно кокетливо открывая округлый изгиб груди. Правой рукой она будто пытается оттолкнуть мужчину, который настойчиво ее домогается, впрочем, отталкивает она его как-то нерешительно, неуверенно. А все потому, что соблазнитель перед ее глазами держит монету. Ну все понятно, он свое получит, не сомневайтесь, звонкая денежка дело сделает.
Вот она, пара эпохи барокко — в любой момент двое готовы поддаться греховному искушению. Однако непристойней всех ведет себя на картине курица: валяется на спине, ноги кверху задрала, все нутро нараспашку, бесстыжая! А вот и аллегория первородного греха, погубившего человечество еще в райском саду: маленький мальчик сейчас втихаря стянет со стола румяное яблочко. Символом похоти и вожделения становятся еще капуста и морковь. Одна только грустная рыба на простой круглой доске на переднем плане, перед самыми глазами зрителя, напоминает о воздержании.
Может, я тоже вела себя так же похотливо в ту ночь, как эта девица, эта курица и маленький воришка. Ну и что? Я соблазнила собственного мужа, ни один пуританин, будь он хоть апостолом морали, не назвал бы меня грешницей!
Вскоре после воскресного обеда зазвонил телефон. «Пусть звонит, — решила я, — это, наверное, Эллен или моя мама. Я сама перезвоню попозже».
Райнхард вскочил:
— А что, если это мой офис горит? — Он метнулся к телефону, вероятно желая мне продемонстрировать в очередной раз, что оказался прав. — Сильвия, — коротко сообщил он и остался поблизости, чтобы все слышать.
— Дерьмовая погода! — ругнулась подруга. — У вас тоже? Я еще вчера приехала к маме в Реде и, представляешь, забыла дома очки для чтения, вот дура-то! Коринна с Норой уверены, конечно, что я стала такая забывчивая, потому что ем мясо. А у самих головы дырявые — оставили дома выпрямлялки для зубов, обе!
Я выразила ей свое сожаление. Я и не знала, что она читает в очках!
— Я, между прочим, старше тебя, — бросила она в ответ. — Была б здесь хоть одна лошадь, не надо бы мне было никаких очков. Слушай, окажи мне одну огромнейшую услугу, а?
— Какую? — проворчала я. Наверное, попросит поливать цветы.
— Я целый день пытаюсь дозвониться до Удо, — отвечала Сильвия, — вчера еще оставила ему сообщение на ответчике, чтобы перезвонил нам сам, а он не звонит. Понять не могу, что такое, может, телефон сломался? Он завтра уезжает в командировку, пусть до тех пор перешлет нам вещи!
— Разумеется, — обещала я, — сегодня же передам Удо все распоряжения. Где искать очки?
— Либо на ночном столике, либо на телевизионной программе под торшером в гостиной. Да, а скобки для зубов…
— А если Удо нет дома?
— Возьми ключ, ты же знаешь, где он лежит, — был приказ. — Если он не откроет, зайди и найди очки! А если опять валяется пьяный на кровати, растряси его, пусть встает! Нечего!
Немного расстроенная, я вернулась за стол. Муж посмотрел на меня вопросительно, я отчиталась.
— Приказ, однако, — подтвердил он.
— Да нет, так, — отмахнулась я, — в Реде больше нечем заняться, только читать и остается. Знаешь что, ты бы поехал со мной к ним домой, а?
Сейчас я пойду одна (одна!) в спальню к пьяному донжуану, вот спасибо! Подозреваю, Сильвия направила меня шпионить за своим неверным, чтобы не сильно гулял. С другой стороны, она рассчитывает, что именно я упакую и отправлю им по почте их очки и выпрямлялки для зубов, Удо этого сделать не сможет, если уже завтра он уезжает в командировку.
Когда мы уже сидели в машине, я будто вскользь, как только могла непринужденно, поинтересовалась, почему Райнхард решил, что его бюро может загореться.
Муж приглушил радио:
— А, ну да, я ж тебе не рассказал! Когда вы уехали в Италию, чуть было не стряслась беда. Гюльзун положила стеклянный шар на окно. Чуть важные документы не сгорели, шарик-то может пожар устроить! Слава Богу, погода поменялась, так что только несколько подпалин осталось.
Автомобиль Удо стоял перед домом. Мы позвонили, но никто не открыл. Права Сильвия — что-то случилось! В минувшем году, пока они были в отпуске, я приходила поливать их герань. Как и прежде, ключ хранился в горшке с пальмой.
— Не самое удачное укрытие, — заметил Райнхард. — Любой взломщик знает, что запасной ключ спрятан либо под ковриком у входной двери, либо под какимнибудь камнем у двери, либо в цветочном горшке на крыльце. Бери не хочу! Мы вошли.
— Удо, привет! — крикнул муж. Тишина.
— Так и знала — мне придется отсылать ей очки, — вздохнула я и отправилась на поиски. Где они лежат, Сильвия сказала? Либо там, либо где-то тут? Гостиная, кухня, гостевой туалет — так, нет, здесь их нет, дальше! Райнхард последовал за мной наверх. Ощущение у меня было скверное, будто я сама взломщица, воровка. Вдруг сейчас войдет Удо?!
В ванной лежали зубные скобки девчонок. Я завернула их в салфетку и без особой радости убрала в сумочку. В детских комнатах царил привычный хаос, здесь Сильвия оставить свои очки не могла. Наконец мы вошли в спальню, последнюю из комнат.
Удо мирно спал на супружеском ложе, один.
— Пойдем, — шепнула я мужу, — оставим ему лучше записку.
Но Райнхард решил по-иному. Он раздернул занавески. Резкий свет полоснул Удо по глазам, но тот не пошевелился. Я дотронулась ладонью до его лба — ледяной! Боже! Мне стало жутко, я вскрикнула. Я никогда в жизни еще не трогала мертвого.
Слава Богу, со мной был Райнхард! Он ощупал застывшую ступню хозяина дома, спросил у меня карманное зеркальце и сунул его под нос Удо (муж видел, наверное, в каком-нибудь детективе — так определяют, дышит еще человек или уже нет).
— Что нам теперь делать? — Я была в шоке.
— У него, насколько я помню, были проблемы с сердцем, — отозвался Райнхард, — смотри, целая аптека на ночном столике!
Мне самой бы в тот момент не повредили сердечные капли, сердце выпрыгивало из груди. Этот мужчина пару дней назад звал меня на свидание, чуть ли не вчера еще! Господи, что происходит?!
— Надо позвонить их семейному врачу, — сообразил муж, — ты его не знаешь ли случайно?
— Знаю, знаю, у нас один и тот же доктор.
У кровати стоял телефон. Пока Райнхард звонил, я рухнула в единственное в комнате кресло, прямо на одежду Удо. Передо мной, как сцена в театре, стояло брачное ложе моих друзей. Что здесь за драмы разыгрывались? На ночном столике Сильвии я действительно обнаружила ее очки, несколько романов, сережки, салфетки и лавандовый мешочек. На столике рядом с Удо — м-м-м, не могу смотреть! — громоздились книжки по экономике, какие-то спреи, капли и мази, бутылка грейпфрутового сока, чайная ложка, пастилки от кашля, будильник, затычки для ушей и крошечный радиоприемник. Чудной натюрморт, нарочно не придумаешь! На байковом коврике перед кроватью я увидела газету и один из так называемых мужских журналов, он был открыт. Девица на развороте показалась мне страшно скучной, вряд ли сердце Удо отказало, когда он на нее взглянул. На секунду я пожалела, что не прихватила с собой свой альбом для набросков.
— Пошли вниз, будем ждать врача, — Райнхард сам был белый как покойник.
Уже на лестнице я спросила, не следует ли нам позвонить Сильвии.
— Не все сразу, подождем, — отвечал муж и взял в гостиной бутылку коньяка.
— Нам вообще повезло, между прочим, что врач в воскресенье оказался дома, — заметил Райнхард, — может, пусть лучше он Сильвии о несчастье сообщит, он как-никак специалист.
— Нет, — запротестовала я, — Сильвия должна узнать все от нас! — Я решительно потянулась к телефону, но меня тут же стали терзать сомнения. — Господи, да как же я ей скажу? — запричитала я.
Может, у Райнхарда лучше получится? Он ведь такой дипломатичный! Последняя фраза была откровенным враньем, но я заметила, как мой мужик мгновенно клюнул на неприкрытую примитивную лесть.
— Ладно, — согласился он, — не особо мне, конечно, хочется, но для тебя…
Райнхард позвонил в Реде, я включила громкую связь, чтобы все слышать. Сильвия взяла трубку.
— Слушай, тут такое дело, я хотел тебе, сказать, — беспомощно залепетал муж в трубку, — мы тут с Анной к вам зашли…
— Ой, спасибо! — защебетала она на том конце. — Спасибо, милые! На вас всегда можно положиться. Не подведете! И где же я оставила очки?
— Сильвия, ты это, ты лучше сядь, а? — запинался Райнхард. — Здесь Удо лежит в кровати, мертвый. — Он тяжело перевел дух — трудное дело дипломатия!
— В кровати? — не поняла Сильвия. — А я думала, они на ночном столике, — пролепетала она. Потом вдруг до нее дошло. — Что ты сказал только что?
Я схватила трубку и стала заклинать подругу оставить девочек у матери и первым же поездом, поездом, а не на машине, вернуться домой!
— Нет, — заупрямилась она, — машина нужна мне дома. Мы немедленно выезжаем! Врач уже был? Откройте ему, пожалуйста, ворота! Пусть подъедет прямо к двери!
— Поговори с ней еще, — зашептала я мужу, отдавая ему трубку, и помчалась открывать ворота.
Мы снова сидели в гостиной и ждали.
— Знаешь что, — внезапно опомнился муж, — пойду заберу я этот его журнал.
Надо же, кажется, я недооценивала его тактичность! Райнхард, прости меня!
Вскоре приехал доктор Бауэр, пожал каждому из нас руку и пошел наверх. Минут через пять он вернулся, перебирая что-то в своей сумочке из черной свиной кожи, где хранил справки и рецепты.
— Я выпишу свидетельство о смерти, — объяснил он и на мгновение задумался. — Острая коронарная недостаточность… вследствие аритмии, — был диагноз. — Молодой он еще, — покачал головой доктор, — звонил мне в самое неурочное время, когда сердце его беспокоило, но ни разу не удосужился зайти на прием, сделать кардиограмму. Ох уж эти мне преуспевающие бизнесмены, как это на них похоже! Не обращают внимания на тревожные сигналы и все нагружают себя, все взваливают на себя бог знает сколько работы! Вот так всегда: семейство в отпуск, отец остается пахать.
Я виновато взглянула на своего трудоголика, который остался без отдыха.
— Причина тахикардии никогда точно не известна, — вздохнул доктор Бауэр, — наверное, придется делать вскрытие. Но это только если жена согласится. — Он спешно попрощался.
— Пойдем домой, нам тоже пора, — заговорила я, — дети ждут.
Я варила крепкий кофе и все думала о Сильвии. Как она хладнокровно приняла новость! Хотя как себя надо вести, когда тебе сообщают такое? Ну не знаю, в любом случае я бы отреагировала по-иному.
Когда зазвонил телефон, я была уверена, что услышу сейчас следующее: Сильвия на машине попала в автомобильную катастрофу и еле живая лежит в больнице. Но трубку взял Райнхард и разговор у него зашел о чем-то совсем другом:
— Ничего, они нам еще устроят сладкую жизнь! Такая будет конкуренция на европейском рынке! Да в одной Германии только девяносто тысяч архитекторов! Через десять лет будет на тридцать, а то и сорок тысяч больше!
С кем это он? На кого он пытается произвести впечатление?
— Гранитные садовые поилки для животных? Да, достану, Миа, нет проблем! — произнес он наконец.
— Райнхард, — обратилась я к мужу, наливая ему кофе, — Райнхард, мы ошиблись. Надо было сразу отправить Удо в морг. Нельзя же, чтобы Сильвия и дети…
— Не понял, — отозвался он, — ты же первая подумала, что он спит. По-моему, родственникам лучше с ним попрощаться дома, тихо, в семейной обстановке, а не в морге!
В комнату ворвался Йост:
— Папа! Каю повесили в ухо сережку! Я тоже хочу!
— Даже думать забудь, — рассердился отец, — это не для мальчиков!
Ага, Кай здесь! Значит, Люси вернулась из отпуска! Я тут же ей позвонила, чтобы сообщить печальную новость. Люси страшно разволновалась, сказала, что сейчас зайдет, и десять минут спустя уже была у нас.
— И вы позволили Сильвии в таком состоянии ехать на машине?! — набросилась она на нас.
— Она не стала нас слушать, — оправдывалась я, — она сказала, машина нужна ей здесь!
Я представила себе: ночью Сильвия приезжает домой с рыдающими дочками, поднимается по лестнице в спальню, и теперь ей еще целую ночь придется спать рядом с покойником! Я чуть не расплакалась. Стала просить Райнхарда: пусть позвонит в морг, пусть Удо немедленно заберут. Муж позвонил, но работал только автоответчик — был воскресный вечер.
— Мы ее друзья, — напомнила Люси, — мы должны быть рядом с ней, когда ей понадобится. Готтфрид умеет превосходно убеждать, пусть ждет Сильвию у нее дома.
А Люси либо останется со своими детьми, либо сама пойдет утешать нашу овдовевшую подругу!
Райнхард готов был на еще большие подвиги великодушия: он тоже пойдет утешать Сильвию.
— Анне лучше остаться дома, у нее нервы слабые! — решил он.
Ох, слава Богу! Около одиннадцати Люси с Райнхардом ушли. Я валилась с ног, но уснуть не могла — так были нервы накручены. И стала делать какую-то мелкую домашнюю работу: подмела на кухне и понесла на улицу набитый мусором мешок. Не забыть бы включить фонарь на крыльце, чтобы Райнхард, когда вернется в темноте, не искал дверь ощупью и не спотыкался на ступеньках. В мусорном контейнере опять лежал журнал, которому там было совсем не место, мы же сортируем мусор, все должно быть отдельно: стекло, бумага, пищевые отходы. Райнхард выкинул журнал Удо, как только мы вернулись домой. Какой у меня чопорный муж, даже не заглянул под обложку, не полюбовался на полуголых красоток, что скрасили последние часы жизни нашего друга.
Под журналом валялась бутылка, которая тоже была не на своем месте — ей надлежало лежать среди стекла. Я и ее вынула. Грейпфрутовый сок? Я его не покупала! Откуда? Или это та, что стояла на столике у Удо? Ну и что она здесь-то делает? Почему она здесь? Кажется, мой муж решил избавить бедную Сильвию еще и от вида этой бутылки, чтобы вдова не вспоминала больше, как ее покойный муж хлюпал по ночам у нее над ухом, глотая в темноте грейпфрутовый сок. Да, помню, она жаловалась! Ну, это уж слишком! Райнхард перебрал с галантностью и с тактичностью. Я отнесла бутылку в подвал, где собирался весь стеклянный мусор, а журнал забрала с собой в дом. Вот, значит, чем зачитываются респектабельные богатенькие дяденьки, когда им перевалит за сорок?! С ума сойти: да тут не только девочки в неглиже, тут еще и яхты, рестораны с тремя звездами! Ага, вот, тут еще что-то о политике, мужская мода, так, так. А вот самое главное — биржевые сводки.
В конце концов я достала атлас автомобильных дорог, чтобы найти Реде и выяснить, сколько, собственно, Сильвия еще будет добираться домой? Хм, вообще-то, она давно уже должна бы быть здесь. Так, прикинем, сколько времени понадобится двум добрым друзьям, чтобы посочувствовать одной бедной вдове? Когда мне ждать Райнхарда назад? А, была не была — позвоню! Звоню, и что же? Никого — ни Сильвии, ни дочерей, ни моего мужа!
Мало-помалу мне как-то перестало нравиться, что мой муж так самозабвенно соболезнует чужой вдове. Хотя что я говорю! Там же две плачущие девчонки, наверное, приклеились к матери, так что как же Райнхард может… Ну что у меня за мысли, Господи! Прочь их надо гнать, прочь! Что я за подруга, надо же такие гадости думать о близких людях в такой момент! Но я все-таки позвоню еще раз. И я позвонила снова. На том конце снова никто не отозвался. Да где они все, черт возьми? В гостиной или в спальне, рядом с покойником? Меня начинало все это потихоньку бесить. А Люси-то хороша, нечего сказать! Надо, говорит, рядом быть, пожалеть, говорит, надо, мы друзья! Друзья, друзья, а сама уже элегантно так — раз — и в сторону!
Уже светало, ждать становилось невыносимо! Я вскочила, напялила ботинки, схватила сумку, запрыгнула в машину и понеслась — самое время забрать мужа домой, мягко, но настойчиво! У него встреча через несколько часов, ему еще в себя прийти нужно!
ГОРЬКИЙ МИНДАЛЬ
Никогда еще не выходила я из дома так рано утром, народу — никого. Как будто и не было бессонной ночи, я мчалась и радовалась, что живу!
На автобусной остановке маячил какой-то одинокий силуэт. Я подъехала ближе и узнала Имке. Слава Богу, ее отпустили из психушки! Если она снова в такую рань ждет автобуса, значит, снова работает в больнице и едет к утренней смене. Надеюсь, тот же Райнхард, по милости которого она серьезно заболела, и исцелил ее окончательно.
Улица, где жила Сильвия, вся была перекопана. Я с трудом проехала, чуть ли не по тротуару, мимо стройки и остановилась перед домом подруги в маленьком скверике. Вышла из машины, десять метров до крыльца можно пройти пешком. У роскошного господского подъезда в ряд стояли три машины — Сильвии, Удо и Райнхарда. Сад был в идеальном состоянии: Удо трудился. Кто же будет теперь выполнять приказы его вдовушки, она так привыкла командовать?! Вдруг кто-то назвал мое имя. Я спряталась за раскидистым кустом рододендрона.
Сильвия и Райнхард появились на пороге, он собирался уходить. Она была чем-то раздражена:
— Сколько раз тебе повторять? — кипятилась подруга. — Говорю ж тебе: он просто надорвался, он все свои силы потратил на нее!
Муж мой, кажется, не мог поверить в то, что слышал:
— Не могу, вот не могу себе такого представить и все тут! Анна бывает невыносима, у нее трудный характер, она ревнива как черт, но она мне верна как кошка! Да поосто помешана на мне! Ну ладно, мне теперь правда пора домой, а то будет беда! — он обнял ее. — Давай, все будет хорошо!
Мне стало дурно. Сильвия! Моя ближайшая подруга Сильвия! Родственница моя Сильвия! Здесь, на моих глазах, только что оклеветала меня перед моим мужем! Что с ней, как она могла?! Неужели Удо хвастался ей, что у него со мной роман? А она и поверила! Как побитая собака я выползла из кустов и потащилась прочь, собраться с духом и подумать. Не время сейчас разговаривать с Сильвией. Я влезла в машину. Надо подождать. Так, это улица с односторонним движением, муж меня не заметит. Я услышала, как зашумел мотор его машины, еще пять минут посидела и тоже тронулась домой. Тихо отомкнула дверь и в прихожей наткнулась на Райнхарда. Он уставился на меня, будто я привидение.
— Ты где была? — прохрипел он.
— Хотела сменить тебя на посту доброго самаритянина, — честно призналась я, — но увидела только задние фары твоей машины.
Он взглянул на часы:
— Так ты что, всю ночь не спала? Ну и зачем, спрашивается? Я же специально всю ночь дежурил, чтобы ты отдохнула! Я пойду посплю пару часов, чего и тебе советую.
Внезапно возник Йост в пижаме:
— Что, уже в школу? — заныл он.
— Нет, заяц, только через неделю, — успокоила я.
— Пошел в постель, дурень! — рявкнул отец. Перед самым пробуждением привиделся мне сон: Имке стоит перед нашим домом и держит в руках бомбу в виде женщины.
Проспали все. Райнхард убежал небритый и без завтрака, лишь бы не опоздать на встречу с возможным заказчиком. Для таких случаев у него была припасена электробритва в ящике стола в офисе. Пока он запрыгивал в брюки, я в суматохе сделала ему бутерброд и походя спросила:
— А как там девочки?
— Какие девочки? — с отсутствующим видом откликнулся муж.
— Коринна и Нора. Они, должно быть, не в себе, бедные?
Мне было сообщено, что дочерей Сильвия решила пока оставить у бабушки.
После полудня я наконец сидела с детьми за завтраком.
— А как мертвый Удо выглядел? — полюбопытствовала Лара, любительница «баек из склепа». Йост отложил в сторону журнал и навострил уши: не пропустит не слова!
— Да так, мирно, спокойно, — отвечала я, — он умер во сне.
Йост задумался:
— Эллен говорит, мужчины умирают раньше женщин. Я тоже умру раньше, чем Лара?
— Да ты ж еще не мужчина, — разочаровала его сестра, — тебе еще лет десять ждать, пока ты им станешь!
— Можно нам на похороны? — попросили оба.
— Пока не знаю, — отнекивалась я.
Лучше им сходить в бассейн. Я полезла в сумочку за деньгами на мороженое и жареные колбаски и наткнулась на скобки для зубов. Йост в это время пугал сестру:
— Бабушка говорит, кто гуляет с мокрой головой, тот может умереть!
Я осталась одна. Чтобы развеяться, решила пойти собрать оставшуюся мирабель и сварить варенье. Втайне мне хотелось перещеголять свою свекровь с ее вишневым мармеладом.
Году в 1660-м один неизвестный неаполитанец запечатлел на полотне осенний натюрморт. Давно это было, однако взгляните на цветовую гамму, решение света и теней, по-моему, чрезвычайно современно! На полированном деревянном столе лежат два гриба, стоит корзинка с каштанами, рядом — гроздь спелых ягод, тарелка с миндалем и два маленьких кружка сыра. Вспомните, его современники щедрой рукой раскладывали перед собой такое обилие пестрых, ярких, колоритных предметов, фруктов, цветов, что стол под ними ломился. Особенность же этой композиции — в ее лаконичной сдержанности. Преобладает коричневый тон: светло-коричневый стол, такие же зерна миндаля, темно-коричневые блестящие каштаны, коричневатый сыр, глубокий темный фон (кажется, этот цвет называется «умбра»). Слабый контраст создают корзинка, что сплетена из светлого лыка, белые шампиньоны — они отдают в желтизну, — чернеющие ягоды и серовато-белая бумага, в которую завернут сыр. В своей цветовой скромности картина показалась бы даже скучной, если бы не керамическая тарелочка. Мастер покрыл ее фиолетовой глазурью, которая напоминает оттенки синего винограда, и поверхность тарелки слегка переливается. Это, пожалуй, единственное, что контрастирует спокойным природным тонам остальных предметов.
Есть в осеннем урожае нечто колдовское, таинственное, этого не объяснить поверхностной расшифровкой символики. Что это за черные ягоды? Действительно ли на картине изображены шампиньоны? А миндальные зерна, так аккуратно уложенные на голубой тарелке, сладкие они или горькие? Любой предмет может быть совершенно безобидным, а может и таить в себе угрозу.
Стоя на шаткой приставной лестнице, длинными граблями я стучу по веткам мирабели, и желтые плоды с шумом плюхаются на землю. А мыслями я где-то далеко-далеко. Подумать только, у меня был роман с Удо! Бред какой-то. Как могла Сильвия до такого додуматься? Ну, хотя уж кто-кто, а я-то по своему опыту знаю, как легко можно напридумывать себе самой всякую небывальщину. Я подалась в сторону, чтобы достать до одной ветки, и чуть было не рухнула вниз. А что, если Сильвия врет намеренно? Может, ей так надо? Если бы она действительно сама в эту чушь верила, то вряд ли послала бы меня за очками в свой дом, можно сказать, прямо в объятия к своему мужу.
Вокруг меня жужжали осы, и мне приходилось отвоевывать у них каждый плод. В задумчивости я порой отправляла очередную сливу в рот, хотя она уже наполовину была съедена этими прожорливыми насекомыми. Каждую третью выплевывала — они были совсем невкусные.
Ладно, чего тут голову ломать, надо варить мармелад. Я вымыла фрукты, вынула косточки, размельчила мякоть в дробилке, перемешала мусс с желатином. Теперь надо было этому всему дать настояться несколько часов. Но я, хоть совесть меня и колола, решила схалтурить, мне лень было так долго ждать. С большой корзиной я спустилась в подвал за чистыми банками, взглянула на контейнер для стекла и снова вспомнила про бутылку из-под грейпфрутового сока. Я вынула ее и увидела, что на дне еще остался сок. Открыла крышку и глотнула. Горечь-то какая, скулы сводит! Наверно, испортился уже. Хорошо еще, что его дети не нашли — им вечно хочется пить.
Я задвинула бутылку за ящик с вином, тащить ее наверх вместе с двадцатью тяжеленными стеклянными банками не было никакой охоты. Может, Удо отравился прогорклым и оттого уже ядовитым соком? А может, кто-то подмешал яд в бутылку? Если Райнхард тайно поспешил ее спрятать, значит, знает кое-что. Знает, кто и зачем помог Удо уйти туда, откуда не возвращаются!
У меня потемнело в глазах. С трудом переставляя ноги, я поплелась по лестнице наверх с корзинкой, где звякали стеклянные банки. Как во сне зажгла конфорку. Не может быть! Не верю! Чтобы мой муж, да с Сильвией, злодейкой!.. Неужели сообщники?!
Я стала перебирать одежду мужа, в которой он был накануне. Что именно я ищу, не представляла. В кармане брюк лежала рулетка, его первейший инструмент. До чего же Райнхард был не в себе, если забыл ее здесь. Вот листок бумаги, весь исписанный с обеих сторон какими-то цифрами. А вот это число я уже где-то видела. Телефон матери Сильвии. В письменном столе не было больше кассет, значит, опять вернулась Биргит. Кроме того, новый ресторанный счет и одна из фотографий от Рюдигера. А я думала, снимки лежат у меня под матрасом! Значит, мой муженек тоже меня обыскивает, тоже что-то вынюхивает!
Запах горелого и характерное шипение погнали меня снова на кухню, где меня ожидало отвратительное свинство. Бог знает сколько времени я отскребала от плиты клейкую пригоревшую массу, о кастрюле вообще молчу. Ох, уж лучше бы эту мирабель склевали птицы!
Пока я драила и мыла, мне стало плохо. Зачем я только глотнула этот распроклятый сок, надо было выплюнуть его сразу! Теперь, наверно, уже поздно. А впрочем… Люси мне как-то призналась: лучшее средство от несварения желудка — два пальца в рот. В мучительных удушающих судорогах я освободила желудок от мирабели. Почему сердце так колотится? Просто от страха? Или я скоро последую за нашим другом? Может, бежать к врачу, пусть промоет желудок?
А может, я вообще все это придумала? Может, мне только кажется? Просто я так сама себя взвинтила? Терзаемая собственной необузданной фантазией, я заклинала себя успокоиться и ничего не делать, не дергаться. В конце концов, доктор, который и наше семейство пасет уже много лет, счел, что смерь Удо наступила по естественным причинам. Упражнения полузабытого автотренинга заставили меня взять себя в руки, я заварила ромашкового чая и решила, что как-нибудь отдам содержимое бутылки на экспертизу. Куда вот только и как я объясню все это? Что-нибудь да придумаю, главное — орудие убийства не должно снова попасть в руки мужа.
Пара чашек чая привели меня в чувство, я и соку-то выпила всего две капли. Решено, проведу эксперимент. Настоящую бутылку спрячу хорошенько, а утром к завтраку подам такую же. Интересно…
Время едва перевалило за полдень, Лара и Йост сейчас заявятся из бассейна. Ничего, потерпят, с голоду не умрут, поеду в магазин, а они пусть подождут. Супермаркет был пуст, так что я сразу заметила Имке у полок с овощами, она взвешивала бананы. День был теплый, но на ней были длинные брюки и ее любимый широкий серый вылинявший пуловер. Не долго думая я со своей тележкой подкатила к ней сбоку и по-дружески заговорила:
— Здравствуйте, Имке. Как вы поживаете?
— Спасибо, очень хорошо, — был ответ.
— Вас уже вылечили? — поинтересовалась я и тут же прикусила язык.
Но она совершенно спокойно отвечала, что еще ходит к терапевту. Главное, она вернулась на работу. Имке посмотрела на весы, и мы распрощались.
Среди напитков на полке я нашла бутылку такого же сока, какой пил по ночам бедный Удо. Кроме того, я купила стиральный порошок, пять фунтов лапши, фарш, кетчуп, сыр «гауда», два килограмма груш и двадцать школьных тетрадей для детей.
Когда я вернулась, перед нашей дверью Люси усаживала свою Еву в детское креслице на заднем сиденье машины, а Мориц в это время тянулся ручонками за ядовитыми волчьими ягодами в нашем палисаднике. Мать отдернула его от куста железной рукой, сгребла в охапку вместе с Евочкой и обратилась ко мне:
— Мы приехали, а вас никого нет дома, мы уже хотели поворачивать домой! Я Сильвии звонила только что.
Мы расположились в саду и следили за детьми. Сильвия сказала, что ни помощи, ни утешения ей больше не надо, покойника как раз около полудня забрали в морг, все бумаги в порядке, все подписано, все улажено.
Люси, как всегда, была вся в черном — узенькая блузка и короткая юбка. Вообще-то, она больше походила на вдову, чем Сильвия нынче утром, облаченная в фиолетовое платье рубашечного покроя. После того как она возвела на меня напраслину перед моим мужем, у меня совсем не было охоты с ней общаться.
Но моя сердобольная подруга — ей бы работать в социальной службе спасения — все жалела Сильвию:
— Анна, чем мы можем ей помочь, как ты думаешь?
— Пришлем дорогой похоронный венок, — огрызнулась я, напугав Люси.
— Что это с тобой? — заволновалась она. — У тебя совершенно измученный вид.
Я вскочила и вовремя поймала Еву, которая целеустремленно карабкалась к старшему брату на компостную кучу.
— Что со мной такое, хотите знать? Да я просто не спала всю ночь, ждала мужа домой, вот что со мной! А потом у меня убежало варенье из мирабели и залило всю плиту! Я полдня отдирала это свинство, отмывала кухню! Что, у меня после такого должно подняться настроение?
Люси засмеялась в ответ. Да, бывают такие деньки, словно их кто заколдовал! Она метнулась к детям: трехлетний Мориц сыпал землю на волосы сестре.
— Как ты только справляешься? С ума сойти — четверо балбесов в доме! — вырвалось у меня.
Двое старших — дети Готтфрида от первого брака, Кай и Геза, — были поспокойней, с ними можно было расслабиться. Ева в принципе тоже. Но зато Мориц стоил всех троих, чертенок, весь в отца! Я осторожно спросила Люси, кто же этот таинственный родитель?
И тут наконец Люси открыла мне свой секрет. Как известно, она урожденная Майер, в первом браке — Штювер, потому и дощечка на двери ее дома гласит: «Майер-Штювер». Этот Штювер развелся с ней, потому что она забеременела от некоего Герда, который и есть папаша Морица. А Готтфрид — полное имя «доктор Готтфрид Херманн» — отец Евы. Но, к сожалению, он до сих пор не развелся со своей первой женой, матерью Кая и Гезы…
— Такая вот путаница! — Люси ухмыльнулась до ушей. — Со Штювером мы время от времени встречаемся, он меня простил давно. Вообще-то, он нормальный мужик. Так что я только раз в жизни гуляла налево, один только раз сбилась с пути истинного. Мое единственное прегрешение — Герд Трибхабер.
Что?! Я не ослышалась? Мой первый парень Герд Трибхабер — отец Морица?! Удо, Сильвия, бутылка с соком были забыты. Вместе с Люси мы ударились в воспоминания о человеке, которого я знала еще задолго до того, как она с ним встретилась. И что с ним теперь стало?
— Угадай, — увильнула Люси, — его профессия начинается на букву «ф»! Он женат во второй раз, двое детей, с Морицем, значит, трое!
— Где он теперь живет?
— Да рядом, можно сказать, в Людвигсхафене. Работает фармакологом в одной из университетских клиник, получает кучу денег и ни разу ни гроша не потратил на Морица.
Потрясающе! Но хорошо все-таки, что я тогда не осталась с Гердом навсегда.
Я взяла Морица на колени и стала разглядывать его совсем другими глазами, внимательно, скрупулезно. С ума сойти! Трибхабер в детстве, собственной персоной! Знает ли мальчик?
Люси замотала головой:
— Анна, ему же три года! Кроме того, я бы ни в жизни не вышла за Герда замуж, у него одна фамилия чего стоит! Мориц и Ева — оба Майеры. Если их такая фамилия не устраивает, пусть один женится на аристократке, а другая выходит замуж за принца.
Люси вырвала у меня своего бесенка и неистово прижала к себе, Ева даже заревновала. И тут вдруг моя подруга произнесла:
— А ты, кажется, тоже не самая верная жена. Сильвия тут намекнула…
— На что намекнула? — Я покраснела до корней волос, будто мне и правда было что скрывать.
— Ну, ты с Удо… — Люси запнулась. — Мне трудно себе представить, но, ты знаешь, Сильвия утверждает, что Удо сам ей признался! Поэтому она не очень сильно по мужу убивается.
Люси испытующе взглянула мне в глаза.
— Врет она все! Совести у нее нет, вот что! — взорвалась я в ответ. — Врет! Ни слова правды! Удо за мной увивался, да только без толку! Он и не особенно рисковал, чтобы не схлопотать по физиономии.
Люси задумчиво покачала головой:
— Либо Удо соврал, либо Сильвия.
Третий вариант: вру я. Она не произнесла этого вслух, но по виду ее было понятно, что она и такого не исключает.
— Сильвия блефует, — утверждала я. — Неужели Удо стал бы ей такое наговаривать? Не верится что-то. Неверные мужья так себя не ведут. Они изо всех сил открещиваются от своих интрижек. Не стал бы Удо выдумывать, чего не было! Не идиот же он в самом деле.
— Не поймешь их, этих мужчин, — откликнулась Люси. — Может, у него перестало с Сильвией получаться, он пришел в отчаяние и наплел ей всякой ерунды — якобы с другими у него никаких проблем!
Может быть, конечно, и такое, но только при чем тут я, почему именно со мной у Удо не было проблем? Я попросила Люси никому о нашем разговоре, особенно, конечно, Райнхарду, не рассказывать.
— Люди сразу думают: нет дыма без огня, — обиделась я, — но ты-то, я надеюсь, за меня перед Сильвией вступилась?
— Разумеется, — произнесла Люси как-то нерешительно. — Но ты сама подумай: она рассказывает мне в слезах: Удо признался ей, что у него с тобой был роман! Что я могу ей на это возразить?
С этими словами моя подруга собрала своих отпрысков и отправилась домой.
Я знаю, это звучит и выглядит несколько эксцентрично, но именно в тот момент я выгребла из шкафа все свои принадлежности для рисования. Мне хотелось лишь одного: забыться и убежать от всех этих неверных мужей, лживых подруг, дурацкого моего прошлого и идиотского настоящего. Не начать ли сегодня же тот запланированный натюрморт на кухне? Ну да, тут же заявится все семейство и начнет качать права. Но я все равно открыла альбом и стала по памяти набрасывать покойного Удо на кровати. Причем выяснилось, что точно я не помню уже ни одной детали. Раза три я стирала и снова набрасывала нижнюю часть его лица, прежде чем вспомнила, что у него была тяжелая, массивная нижняя челюсть. Зато мне сразу удалась композиция на ночном столике: лекарства, затычки для ушей, бутылка с соком, чайная ложка, радио, будильник, капли. Меня напугали дети.
— Где мои динозавры с компостной кучи?! — негодовал Йост.
О чем он? Не понимаю!
Тогда сын мне объяснил, что построил для своих резиновых ящеров доисторический мир на компостной куче. И вот теперь все его любимые зверушки исчезли!
Ох, вздохнула я, кто ж еще мог их стащить, как не этот сатаненок Мориц!
ВИНО БЕЗ ОСАДКА
В моих кошмарах мне иногда снится, будто я несусь на машине, мне под колеса падает какой-то ребенок, а я ничего, ничего не могу сделать! На самом деле я никогда в жизни еще не задавила ни одного живого существа. Наоборот, недавно даже спасла кошку. Она затаилась, сидя посреди улицы, и так была чем-то увлечена, что упорно не двигалась с места. Я не успела даже затормозить, как она вскочила и метнулась на левую сторону улицы, а на правой в то же мгновение мелькнул другой зверек, много меньше кошки — мышь. После этого у меня целый день было приподнятое настроение — наконец-то и кошка, а то всю жизнь одни мыши да мыши!
Сейчас, когда я, перепуганная, не могла доверять ни собственному мужу, ни подруге, я делила всех на мышей и кошек, на хищников и их жертв. Некогда Удо был охотником, но с некоторых пор сам стал охотничьим трофеем. Сильвия и Райнхард вели себя как два волка, а я казалась себе зайцем. И сделалась бы их добычей, если бы не стала защищаться.
К завтраку я выставила бутылку грейпфрутового сока, недавно купленную, но уже початую. Дети его точно пить не стали бы, им бы не понравилось. А Райнхард сначала ловушку и не заметил, потому что сидел по своему обыкновению закрывшись газетой. Но вот наконец он отвлекся от чтения, чтобы налить себе вторую чашку кофе, взгляд его упал на бутылку с соком, и мой муж едва не подпрыгнул от ужаса:
— Что это такое?! — вскричал он.
— Фруктовый сок, — невозмутимо отвечала я. Райнхард выронил газету.
— Вот новости! — занервничал он. — С каких это пор мы на завтрак пьем сок?
Я же была занята только созерцанием струйки жидкого меда, которая текла из банки на мой бутерброд.
— Чего ты так раскричался? Не переживай, я его не купила, он валялся в мусорном контейнере, а бутылка еще почти полная. Ну, я и подумала: витамины детям…
— И дети его пили?! — Райнхард взвился как ужаленный.
Я пожала плечами и слизнула мед с пальца. И тут моего мужа понесло.
— Где дети?! — прорычал он.
— Собираются в бассейн, до школы пара дней осталась, пусть еще порадуются жизни.
Безумный отец отшвырнул свою чашку, схватил меня за плечи и стал трясти.
— Как можно быть такой безответственной?! Как можно ставить на обеденный стол продукты, найденные в помойном ведре?! Ты что, хочешь собственных детей на тот свет отправить?
— Ты, наверно, не выспался. Или не с той ноги встал? — произнесла я дружелюбным тоном. — Дети этот сок не переносят, он для них слишком горький. Зато мне нравится!
С этими словами я открыла бутылку и несколько раз смачно глотнула. Райнхард не стал меня останавливать, только глаза у него полезли на лоб.
— Ты мне дашь наконец мою часть газеты почитать? — напомнила я и поставила пустую бутылку на пол.
Надо отдать должное моему неверному — совесть его все-таки уколола. Он забегал по кухне, краем глаза за мной наблюдая, и все не мог ни на что решиться.
— Зачем ты вообще вытащила эту чертову бутылку из помойки? — злился он. — Может, ее соседи выбросили и…
— Райнхард, да ты же сам выкинул ее в контейнер для пищевых отходов, — перебила я его, — а ей там не место, ты же знаешь. Слушай, ты бы поспешил, а то опоздаешь!
У животных — я помню из краткого курса биологии — наблюдается такое явление: в экстремальных ситуациях иногда срабатывает не только один нужный рефлекс, а сразу два. Вот, например, если птица видит кошку, что подкрадывается к ее гнезду, бедную птаху будут терзать противоречия: спасать своих птенцов от зубов хищника или спасаться самой, пока не слопали. Как разрешить такой внутренний конфликт? Нет решения. И потому несчастная черная дроздиха, чтобы хоть что-то предпринять в момент опасности, начинает как сумасшедшая чистить свои перья. Вот так же мучился и Райнхард. Что ему делать: везти меня в больницу, чтобы мне срочно промыли желудок? Но тогда придется признаться, что в бутылке был яд! Инстинкт самосохранения долго боролся с долгом отца семейства и верного мужа, в результате наступило некоторое равновесие, и Райнхард стал причесываться перед зеркалом в коридоре. Когда же оперение было уже в порядке, его охватил приступ эгоизма. Даже не попрощавшись со мной, он уехал на работу, то есть, очевидно, смирился с тем, что через некоторое время его дети найдут свою мать на кухне мертвой.
Оставшись одна среди кухонного беспорядка, я разрыдалась. Трус! Трус, изменник и врун! И, что хуже всего, он вот так хладнокровно оставил меня одну умирать от отравленного сока!
Правда, если сок, что некогда пил Удо, совершенно безвреден, тогда теория моя летит ко всем чертям. Значит, надо срочно отдать сок на экспертизу. Куй железо, пока горячо! Я не стану надеяться, что Райнхард выложит мне все начистоту. Не стану ждать, а то как бы не стало поздно!
Прозрачное стекло рисовать очень трудно, особенно если стеклянный сосуд не пуст. То, что происходит на заднем плане полотна, проглядывает сквозь прозрачный материал и через мерцающую темноватую жидкость, свет преломляется, в стекле отражаются окна, изгибы пузатого сосуда отбрасывают колдовские тени, рефлексы, отблески. Какой вызов художнику: а ну-ка попробуй нарисуй!
Кристофоро Мунари изобразил сразу три потрясающих стеклянных сосуда — кувшин, легкий, воздушный, до половины наполненный светлым красным вином, хрупкий бокал и маленький графин с холодной водой. Фиолетовые и желтоватые плоды инжира на серебряной тарелке, бело-голубой фарфор. Натюрморт завершают опрокинутый медный котелок и несколько цветов. Преобладают зеленовато-холодные тона, но за этой холодностью поблескивает огненный темперамент — взгляните на розовое играющее вино в кувшине и на два пламенеющие цветка.
Сколько еще мастеров на исходе XVII века, подобно Мунари, влюбленно выводили на полотне силуэты избранных предметов: металл и стекло, цветы и фрукты, утонченный фарфор и кожаные корешки книг. Мунари же более всего удался именно вот этот стеклянный кувшин, в котором красным рубином переливается вино. Вино без осадка, чистое, не мутное — символ истины. Вино! А ведь его так просто испортить: переложить сахара, перелить воды или еще чем-нибудь подделать, отравить, так что оно станет ядовитым…
Я позвонила в справочную и узнала телефон Герда Трибхабера. Сердце колотилось как сумасшедшее. Набрала номер, трубку, понятное дело, взяла его жена. Я представилась страховым агентом, чтобы выведать название и телефон клиники, где работает ее муж. Ну, теперь вздохну поглубже, и с Богом — поговорим с Гердом лично.
— Не может быть! — возликовал он. — Аннароза, «Неврозочка» моя, сколько лет, сколько зим!
Хорошо, что он не видел моей перекошенной физиономии! Придется разговаривать сладким, елейным голоском, мне ведь кое-что он него нужно. Ладно, мило побеседовали за жизнь, выяснили в самых общих чертах, не называя имен, кто что пережил после того, как много лет назад мы расстались. И тогда я перешла к делу:
— Герд, слушай, ты можешь провести экспертизу одной жидкости?
— Ого, — отозвался он, — какие у нас секреты! Что это мы задумали, а?
— Герд, извини, это и правда секрет, не могу тебе сказать, пока тайна. Скажу только, что, может быть, кое-кто посягает на мою жизнь, вот как!
— Ну, тогда тебе надо обратиться в полицию, — посоветовал он. — Может, все-таки расскажешь пару деталей?
— Понимаешь, — оправдывалась я, — я не могу идти в полицию, я пока не уверена, у меня одни только подозрения, это же смешно! Кроме того, не хочу спугнуть подозреваемого.
— Ладно, понял, — согласился Герд. (Не знаю, что он там понял.) — Вези сюда свою отраву, завтра будет тебе готов анализ.
Нет проблем! В следующий миг я уже сидела в машине. В доме, я слышала, зазвонил телефон. А ну его! Если это мой муженек, пусть спокойно думает, что я уже валяюсь тут без сознания.
Герд спешил, работы было невпроворот. Тем не менее он окинул меня взглядом знатока и оценил: хороша, мол, слов нет, хороша! Удивительно, откуда что берется, он совсем не оставил мне времени привести себя в порядок.
— Ну, давай сюда, — был приказ. — Грейпфрутовый сок? Неплохо, он горький, перекрыл бы горький вкус любого лекарства. Отпечатки пальцев на нем чьи, твои? Ладно, позвоню завтра, встретимся, поговорим спокойно!
Да, ну и дела. А что, если мой бывший возлюбленный потребует особого вознаграждения? Ничего, где сядет, там и слезет. Если его жена до сих пор не знает, что у него есть сын Мориц, я намекну пару раз — отстанет. Я ехала домой и почти ликовала, куда девались мои слезы? И следа не осталось! Да, жизнь становится интересней с каждым часом, если взять инициативу в свои руки.
Лара открыла мне дверь, глаза красные от хлорки.
— Уже вернулись? — дурацкий вопрос. Дочь засмеялась. В бассейне больше двух часов не проплескаешься. А вот меня где носило, интересно? Папа, между прочим, звонил! — Папа звонил? А чего звонил, чего хотел?
— Ничего особенного, — возник Йост. — Тебе тут кое-что от Рюдигера и Эллен, — он передал мне два конверта.
Рюдигер Пентман спрашивал в письме, получили ли мы его фотографии. Дети смотрели на меня вопросительно. Ах да! Ну конечно! Совсем забыла! Фотографии! Вот же они! Я пошла в спальню, достала из-под матраса пакет и показала детям снимки из отпуска.
В конверте от сестры я нашла три банкноты. Она писала:
«Я прибегла на этот раз к помощи ручки, а не телефона. Очень хочется подарить вам один замечательный денек, так что вот вам мое скромное подношение. Поезжайте в дорогой ресторан! Сегодня никаких макарон! Я запрещаю! Идите и оторвитесь! Напоминаю всем о моей огромной любви.
Ваша Эллен».— Круто! Здорово! — возопили мои хулиганы и не давали мне покоя, пока мы не расселись наконец все трое в ресторанчике: двое счастливых сорванцов и их мамаша, которая подозревает мужа в причастности к убийству.
— Почему тетя Эллен так странно изъясняется в письме? — спрашивала Лара.
— Потому, — объяснила я, — что мой и ее общий папа, то есть ее и Йоста дедушка, был мастером родительного падежа и моей сестре этот падеж втемяшился в голову гораздо больше, чем мне.
— Ну-ка, давай мне тоже родительный падеж! — потребовал сын.
Родительный тебе? Пожалуйста!
— Какого вы мнения, молодой человек? — отозвалась я. — В каком вы нынче расположении духа? Эллен — дама среднего возраста и редкой доброты — проявила чудеса щедрости, так что мы обязаны ей обилием нашего ужина…
Дети открыли рты.
Эллен тоже открыла бы: к кому, вы думаете, мы завьюжились с ее капиталом? К итальянцам, конечно. А что заказали? Макароны, понятное дело, что ж еще?
— Дети, — заметила я, — вам не кажется забавным: мы опять едим спагетти? Ну ладно, поехали домой, я устала, хочу отдохнуть немножко.
Когда мы подъезжали к дому, засыпающий Йост углядел на тротуаре призрак.
— Это она, опять стоит перед нашим домом! — крикнул сын, и тогда я тоже узнала Имке. Она же, как только заметила нас, резко порывисто повернулась и исчезла.
Позвонила Люси:
— Ты что завтра наденешь на похороны? И вообще — во сколько они, собственно? Я не люблю венков никаких, заказала большой букет роз. А вы?
Вроде бы панихида назначена на три, сколько я знаю. Но о цветах и нарядах я еще не думала. О-о-о, да у меня сейчас голова занята совсем другим!
— Я не буду надевать черного, — отвечала я, — сейчас это необязательно. А о цветах позаботится Райнхард.
Люси несколько удивилась, что мой муж должен заниматься такими вещами. Мы еще не договорили, как он заявился, распахнув дверь. Вот он, легок на помине, ненаглядный! Между прочим, что-то рановато! Он бросил на меня испытующий взгляд, но на нем тут же повисли дети:
— Папа, папа! Мы обедали у итальянца! Папа, хочешь, мы тебе покажем фотографии с Искьи?!
Они уселись за кухонный стол, дверь на кухню была широко открыта, и я решила разыграть перед своим благоверным маленький спектакль.
— Люси, знаешь что, я боюсь, я вообще не пойду завтра ни на какие похороны. Ох, что-то мне нехорошо. Мы с детьми сегодня обедали у итальянца, кажется, я что-то не то съела, — пожаловалась я громко. — Ну ладно, давай. Перезвоню попозже! — Я бросила трубку и прилегла на софу.
С закрытыми глазами я ждала. Скоро Райнхард пришел, пощупал мне лоб, померил пульс. И приговор его был сух и короток:
— Температуры у тебя нет.
Я уже собиралась было заныть, что у меня страшная слабость, что я невыносимо устала, что состояние какое-то странное. Но тут кто-то позвонил в дверь. Кто бы это мог быть? Наверняка какой-нибудь ребенок пришел в гости к моим. Но тут Райнхард вскочил и побежал открывать.
Послышался голос Биргит:
— Заехала наудачу к тебе домой, не застала тебя в офисе. Вот, здесь все бумаги, надеюсь, в порядке, все как тебе нужно. Счет прилагается, сверху, видишь?
— Заходи, — предложил мой муж. — Пойдем на кухню, в гостиной Анна прилегла, на сердце жалуется.
Кто жалуется на сердце? Я жалуюсь на сердце? Решительно интересно! Я разве упоминала о каком-нибудь сердце?
В плюс ко всем моим несчастьям перед глазами стоял еще и печальный лик Имке. Моя мама сказала бы, гладя на нее:
— Ох, бедная! Стоит тут одна, как будто диван, который заказать заказали, а забрать забыли.
Что же получается? Вовсе ее и не вылечили, выпустили больную, как была, и она снова пошла искать свою безумную любовь, одержимая бредом! Я-то считала ее мышкой, тихой, серенькой, безобидной. А она, кажется, скорее кошка, с когтистыми лапами, маленький зубастый хищник! Да, но только и я-то сама не лучше: слепая курица, столько лет жила и думала, что у меня счастливая, крепкая семья и надежный брак!
Лежа на софе, я снова навострила уши: ни слова из кухни не пролетало мимо меня. Ужасно жалко мужа Сильвии, вздыхала Биргит, один только раз она его и видела — тогда, на вечере у Люси. А с тех пор они больше и не встречались, но помнит она его хорошо. Да, поддакивал Райнхард, ужасно. А знает ли Биргит, что Удо нашли именно он и я. Придет ли завтра Биргит на похороны?
Нет, нет, отвечала та, она не переносит кладбищ, они повергают ее в депрессию! Но она уже выразила Сильвии свои соболезнования, буквально накануне.
— Хотя, кажется, она совсем не в таком уж и трауре, — таинственно добавила Биргит, — обычно в ее положении вдовы скорбят гораздо больше.
От этих слов у меня и правда захолонуло сердце. Так, отлично, Люси и Райнхарду уже доложено о том, что я якобы крутила роман с покойным. Неужели Сильвия еще и Биргит навешала лапши на уши, Биргит, которую видела-то один раз в жизни и совсем не знает?!
Господи, что ж это такое завтра будет, а? Черт знает что, вот что! Герд будет звонить, чтобы сообщить мне результаты экспертизы, а я в это время буду стоять над могилой Удо, и все вокруг будут пялиться на меня и думать: «Вот она, последняя интрижка покойного!»
Его горемычная вдовушка уже, должно быть, половине города это растрезвонила! Да уж, лучше всего было бы мне провести следующий день в кровати!
Когда Биргит ушла, Лара пристала к отцу:
— А можно мне на похороны Удо пойти?
— Похороны — не развлечение для детей! — отрезал строгий отец, чем тут же вызвал мой протест.
— Почему нет? — вмешалась я, забыв о своей тяжелой болезни. — Почему ей нельзя пойти с нами? Во-первых, Лара уже не младенец, девочка взрослая, во-вторых, она бы помогла Коринне с Норой. А в-третьих, она может пойти вместо меня. И вообще, ты венок заказал?
Он растерянно уставился на меня.
А Лару, как и любую женщину, занимал только один вопрос: что надеть? Нора с Коринной всегда так одеты, просто шик!
— Если каждый день носить шик, скоро будет пшик! — повторил мой муж поговорку моей маменьки и устроился перед телевизором, а я пошла страдать в постель.
На другое утро, часов в одиннадцать, зазвонил телефон. Герд Трибхабер. Дети, к счастью, возились в саду, муж уехал в бюро. К моей радости, Герд сразу начал с дела:
— Твои опасения подтвердились, Анна. В соке нашли раствор дигиталиса, он же наперстянка. Грейпфрут горький, и горечь перебивает вкус лекарства. Видимо, препарат был в жидкой форме и его подлили в бутылку.
— От каких болезней принимают дигиталис?
— Дигиталисом, — объяснил Герд, — лечат разные сердечные хвори, обычно его прописывают в таблетках, но иногда, бывает, и в каплях. Знаешь, есть такие пациенты, которым таблетки лень глотать, и таких полно!
Что он там еще дальше говорил, я уже не слушала. Помню только, он посоветовал мне пойти в полицию. Да, в полицию-то оно в полицию, но сначала я подумаю. Я смутно припоминала: врач, кажется, упоминал о вскрытии, но это решает вдова. Ну да, могу себе представить, Сильвия ни за что на свете теперь не позволит патологоанатомам «тревожить покой ее усопшего супруга». А при чем тут, интересно, мой муж?
Райнхард между тем заказал венок. Ну и венок! Воплощение Райнхардова скупердяйства и безвкусицы. Когда же муж переодевался к похоронам, а Лара выползала из своего любимого джинсового комбинезона и облачалась в нелюбимое серое платье на бретельках, я все-таки решила тоже пойти. Вот пойду, сострою сострадательную мину и полицемерней так Сильвии заявлю в лицо: как же я могла не прийти на похороны ее мужа? Нет, никак не могла, обязана просто была прийти, именно я, а как же? И я влезла в свой самый незаметный мешок, который совсем не бросался в глаза. Пришло время понаблюдать, людей посмотреть, себя показать, да, обязательно и себя тоже показать!
Тем временем муж срывал свое скверное настроение на дочери, которая скакала по дому от нетерпения и любопытства. Обычно он бедного Йоста обзывал идиотом или бараньей башкой, а тут еще и Ларе досталось. Она вдруг почему-то оказалась «безмозглой курицей», на что, впрочем, не обиделась, потому что мыслями уже была там, на церемонии.
Ехать два шага до кладбища на машине смысла не было, пошли пешком. Райнхард повесил свой отвратный венок на плечо и молча шагал впереди большими шагами. Лара приклеилась ко мне и всю дорогу проболтала о чем-то своем.
Мы расписались в книге соболезнований и вошли в маленькую капеллу, где устроили отпевание. Сильвия с дочерьми сидели в первом ряду, вокруг них — целая армия родственников. Когда мы сели, она непроизвольно обернулась и обменялась с моим мужем одним молниеносным взглядом, совсем, казалось бы, ничего не значащим, но я-то этот взгляд разгадала, взгляд тайных заговорщиков!
Как всегда, кто-то произносил какие-то лицемерные речи, я ни слова не запомнила. Наконец все столпились у гроба. Среди присутствующих я обнаружила Имке. Она неприметно стояла в заднем ряду и занималась тем же, чем и я: во все глаза наблюдала за Сильвией.
Лара очень скоро заметила, что нет ничего скучнее похорон. Она как-то стеснялась шушукаться с Норой и Коринной, которые показались ей вдруг взрослыми и совсем чужими.
— Мама, — зашептала она мне на ухо, — когда это кончится, я на поминки не пойду!
— Ты где подхватила такое слово? — изумилась я. — Да нас вообще-то и не приглашали. Застолье устраивают только для родни, они приехали издалека, нехорошо отпускать их домой с ноющим от голода желудком.
Мы выстроились в длинную очередь соболезнующих, чтобы продефилировать со словами сочувствия мимо вдовы. И снова Сильвия совершенно по-особому взглянула на Райнхарда, я видела! Она протянула мне руку, холодную как лед, и посмотрела на меня так зло и враждебно, что у меня зубы заболели.
НЕЗАБУДКИ
После погребения Райнхард отвез меня и дочку домой и тут же опять уехал, сказал, что в бюро. Лара увязалась с ним, чтобы зайти к Сузи. Йост уже ускакал к кому-то из своих приятелей.
Мне бы порисовать, но голова занята не тем! Я достала наброски ночного столика Удо, которые сделала накануне. Да, эти натюрморты напоминали изображение аптечного киоска! Вот капли, мази, спреи — но никаких таблеток, ни одной упаковки. Если я, конечно, все правильно запомнила. Видимо, Удо был одним из тех, кто не может глотать таблетки или, по крайней мере, думает, что не может.
Как опытный детектив, я схватила истину за хвост, только вот что мне теперь с этим всем делать? И при чем тут муж мой Райнхард?
Зазвонил телефон. Эллен. Она отвлекла меня от моих мыслей. Кажется, она почуяла, что дела у меня идут неважно.
— Я вставила в рамку твою картинку с Искьи, — рассказала сестра, — висит теперь у меня над буфетом, чудо как хороша! Моя подруга Вальтруд, лучшая подруга, мы сто лет уже не разлей вода, от твоего художества в восторге. Так что у меня для тебя хорошая новость: принимай заказ, сестрица!
— Какой заказ?
— У Вальтруд скоро день рождения, шестьдесят пять лет исполняется. Для именинницы надо составить композицию из определенных предметов и изобразить «персональный натюрморт», в технике «перо, акварель».
— Что за предметы? — довольно вяло поинтересовалась я.
Сестра выбрала несколько вещей, многое означавших для их хозяйки Вальтруд: фотографию ее матери в рамке стиля модерн, засушенные незабудки, шарф из зеленой ткани, напольные часы, отложенную в сторону трость… Я загорелась — Эллен собиралась выложить за мою работу тысячу марок.
Всю жизнь я мечтала сама зарабатывать деньги. Пока у меня всего один заказ, на постоянное занятие не похоже, но кто знает, может, это начало новой, насыщенной, полной жизни!
— Эллен, — откликнулась я, — ты не представляешь, как ты вовремя, как ты кстати с твоим заказом! Дела-то у меня и впрямь — дрянь! Ну да ладно, потом расскажу как-нибудь.
Договорились: Эллен вышлет мне снимки означенных предметов и поточнее опишет свои пожелания.
Вот это да! За один день и столько всего сразу, какие виражи, голова кружится! Но на том еще не кончилось! Приключения продолжались.
Окрыленная, я побежала в палисадник, где у нас еще цвели незабудки. Сорву, думаю, несколько штук, засушу под прессом, потренируюсь их рисовать, набросаю пару раз на бумагу.
Перед домом стояла Имке. Я недовольно покачала головой и нервно откашлялась.
— Имке… — начала было я. Но она меня перебила:
— Я знаю, что вы думаете, — тихо заговорила она и покосилась на крохотные цветочки у меня в руке. — Но все на самом деле не так, я должна вам рассказать кое-что.
Тогда я любезно пригласила ее в дом и мы сели на кухне. Немного помолчав, она произнесла как-то робко, застенчиво:
— Я ошибалась. Я знаю теперь, что я его не люблю, и он меня тоже. Я, наверное, была немного не в себе.
Слава Богу, поняла наконец! Я одобрительно кивнула. Надеюсь, теперь она снова пришла в себя.
— Я вышла из больницы, — продолжала она, — и начала лечиться. Я каждую неделю хожу к моей психологине.
Я снова поощрительно улыбнулась:
— Вы молодец, Имке, так держать! Вот увидите, скоро все будет замечательно!
Тут барышня расплакалась, я села рядом и погладила ее по волосам, похожим на копну соломы. А она, всхлипывая и сморкаясь, продолжала:
— Я только хотела действительно выяснить, что же он за человек такой. Вот я и следила за ним все последнее время, уже несколько недель.
Я чуть не расхохоталась! До чего же глупо, абсурд какой-то! Какой из Имке шпион?
— Я тогда была еще на больничном, времени у меня было много свободного, а вы с детьми уехали в отпуск.
Ага! Становится интересно! Я навострила уши.
— Каждое утро он уезжал в сторону лесной купальни, — рассказывала Имке, — я думала — у него там стройка. А как-то раз я на велосипеде поехала за ним, чуть ли не до самого Оденвальда, чтобы посмотреть, что он там строит. И случайно заметила его машину рядом со старым манежем.
— Это не новость, — заметила я, — я знаю, что Райнхард строит новые помещения для конного клуба.
Имке никак не отреагировала на мое замечание и продолжала:
— Ну, я прошлась туда-сюда, посмотрела вокруг, — (Имке так безобидно выглядит, так похожа еще на ребенка, что на нее наверняка никто не обратил внимания. Скорее всего, ее приняли за школьницу, которая, желая подработать на каникулах, ухаживает за лошадьми). — Так вот, они там в конюшне целовались.
— Кто?
— Райнхард и наездница.
Меня вдруг бросило в жар. Вот и новые доказательства: Райнхард тоже впутался в эту историю! Но я взяла себя в руки.
— Имке, понимаете, мой муж знает Сильвию уже много лет. Мы всегда все целуемся, когда встречаемся. Подумаешь, что тут такого?..
— Да нет же, — Имке затрясла головой, — я следила за ними каждый день, через щелочку. Они запирались в сарае, где корм для лошадей хранится. Они не только целовались! Не станете же вы утверждать, что при встрече вы и ваши друзья еще и раздеваетесь донага?
Бедная моя головушка! Она раскалывалась от тысячи разных мыслей. Неужели Имке говорит правду? Может, она просто затаила зло на моего мужа и теперь ему мстит? Или она ненавидит меня и потому терзает? И вообще — можно ли ей доверять? Она же реальность воспринимает как-то неадекватно все-таки! Какая из нее свидетельница, у нее в голове еще полная каша! Я пристально посмотрела на нее — и поверила ей на слово.
— А ты не слышала: может, они еще и разговаривали о чем-нибудь? — спросила я и только тут заметила, что стала звать ее на «ты».
Она кивнула:
— Сильвия много говорила о свободе.
— А Райнхард так ни разу тебя и не заметил?
— Думаю, один раз, может быть, — отвечала она. Один раз! Хватит и того!
— Ладно, — решила я, — тебе теперь лучше уйти. Не надо, чтобы он тебя здесь застал. И пожалуйста, будь добра, никому ни слова о том, что ты там видела! А если еще что-нибудь важное вспомнишь, звони. Я обычно днем всегда дома одна.
— Я еще много раз слышала, — произнесла Имке, — как они говорили: «Она ничего не знает!» Они, точно, вас имели в виду. Но я больше не могу следить за вашим мужем, я опять работаю в клинике!
На том мы и распрощались. Я сердечно обняла Имке и после ее ухода расплакалась.
На кухонном столе лежали три веточки незабудок и грустно так на меня смотрели. Бог знает сколько влюбленных рисовали этот цветок, засушивали его, складывали в гербарий, дарили друг другу. На скольких колечках, медальонах и брошках навсегда запечатлены незабудки, сколько над этими голубыми цветочками произнесено уже клятв, уверений в любви и верности!
Амброзиус Босхарт Старший[33] собрал в корзинку тончайшего плетения множество разных садовых цветов и изобразил их — вот они, на медном подносе — в окружении пчел, бабочек и даже одной стрекозы. Розы, гвоздики, тюльпаны, альпийские фиалки, ландыши, гиацинты, анютины глазки и водосбор — весеннее торжество в бело-сине-розово-желтых тонах. Сбоку приткнулись две веточки скромных незабудок, незаметные, бледненькие, светло-голубые, но на них много крошечных цветов, и они напоминают о любви, о верности и постоянстве.
Вероятно, этот натюрморт выполнен на заказ. Я слышала, в те времена были такие коллекционеры и ботаники, которые желали увековечить свои гербарии и то, что им удалось взрастить в своем саду. Значит, если и я по чьему-либо желанию запечатлею на бумаге определенные предметы, то продолжу старинную традицию. Кстати, незабудки в те времена были так же актуальны, как и сейчас.
— Незабудки. Не забудь меня, значит, — бормотала я себе под нос.
Нынче цветок, вероятно, стали бы называть «незабудьменя». Помню, в одной народной песенке поется: «Болит, болит мое сердце, забыли меня, забыли!» Ага, вот он опять, любимый родительный падеж! Я взяла цветы в руку и задумалась.
Незабудки — цветы тех, кто расстается, подумала я с горечью, вот как я сейчас. Кажется, я больше не могу жить с Райнхардом, не могу больше быть ему женой.
Но мне было страшно, панически страшно вот так просто подойти к нему и в лицо сказать: «Ты изменяешь мне с Сильвией! Ты помог ей избавиться от Удо!» И что? Как он, интересно, отреагирует? Думаю, станет все отрицать. Да только если он и впредь останется ее любовником, не получится у него и дальше интрижку свою скрывать!
Доказательства мне нужны, вот что! Тогда не отопрется! Для развода мне хватило бы как свидетельницы и Имке, но, боюсь, ее психическое состояние признают нестабильным. Чтобы доказать убийство, я припрятала в подвале остатки отравленного сока, но ни Райнхард, ни Сильвия никогда не признаются, что эта бутылка когда-либо стояла на ночном столике покойного. Да, дурные у меня карты, ни одного козыря на руках! Но я не могу больше спать в одной постели с убийцей, не могу есть с ним за одним столом, не могу оставить с ним детей!
Господи, как вульгарно: Сильвия и Райнхард на сене! Пошлее не придумаешь! Тут мне вспомнились строительные леса, где я наконец-то познала радость любви. Может, с Сильвией происходит то же самое среди соломы, кожаных седел и сапог для верховой езды? Да что я вообще знаю о любви своей подруги? Знаю ли, как она любит? Страстно? Может, она вся пылала в объятиях моего мужа? Кстати, сено и солома тоже превосходно горят. Не испытать ли второй раз стеклянный шарик?
Если верить Имке, они занимались любовью до полудня, наверное, тогда в конюшнях никого нет. Вероятно, Сильвии удалось устроить так, что в это время не было конюших, и они с Райнхардом оставались одни. И все-таки они запирались на ключ. А вот я подопру снаружи дверь и захлопну обоих в ловушке! Как бы это устроить? Имке говорит, она наблюдала за ними через узенькую щелочку. Значит, там нет окон, значит, и солнце свои опасные жгучие лучики внутрь не запускает. Да, кроме того, мой неверный сразу догадается, кто притащил стеклянный шар в их соломенное гнездышко.
Дети заявились домой голодные. Скоро ожидалось прибытие и главы семейства.
— Я сегодня ночую у Сузи, — объявила дочь, — ее родители уходят в гости, а ей страшно одной. Или, может, она к нам придет спать?
Сузи была единственным ребенком, чрезвычайно пугливым. Я великодушно предложила отвезти Лару после обеда к ее подружке. Весьма кстати — я на ночь переберусь в Ларину кровать. Так что я не могла дождаться, когда же наконец можно будет сплавить дочку из дому. Я даже разрешила Йосту, все в том же приливе щедрости, посмотреть по телевизору кино про вампиров.
— Когда придет папа, скажи ему, что я сегодня сплю в Лариной комнате, — велела я сыну, — я болею и хочу отдохнуть.
Йост удивленно взглянул на меня и кивнул. В принципе компания говорящего ящика для дураков нравилась ему больше, чем моя.
— Но если станет очень страшно, — напомнила я, — буди меня.
Обычно в самый пугающий кровавый момент Йост прятался за спинку дивана, звал на помощь и цеплялся за мою юбку. Я погладила его по голове, совсем как накануне Имке, поднялась наверх и ушла в комнату дочки. Было восемь вечера.
В Лариной маленькой империи всегда царил беспорядок. Я плюхнулась на ее кровать, вдохнула тонкий запах детских волос на подушке, включила настольную лампочку и стала смотреть на мир глазами своей дочери, как она смотрела на него каждый день и каждый вечер. Кровать была задвинута в нишу. В ногах кровати Райнхард устроил некое сооружение, на котором громоздились четыре медведя, сшитых моей маменькой. Две медведихи в национальных костюмах, Барбара и Николь, и два медведя-мальчишки — Сеппи и Кен. На Сеппи нацепили сапоги и лосины для верховой езды. Я взглянула на него, и в голове у меня что-то отчаянно застучало.
Но мне не дали потосковать: в комнату влетел Йост, кинулся ко мне с визгом:
— Помогите! Чеснок! — набросился на меня и оскалил свой последний молочный зуб: — Хочу твоей крови! Я граф Дракула!
В это время внизу заскрипела входная дверь, и мой свирепый вампиренок, спрыгнув с меня, помчался встречать отца.
Райнхард первым делом вырубил грохочущий телевизор. Я выскользнула на лестницу, на верхнюю площадку, и прислушалась. Ничего особенного не услышала. Йост взахлеб рассказывал отцу о Трансильвании, будто только что оттуда.
— Где Лара, — вспомнил Райнхард, — и мама?
— Лара у Сузи, а мама спит! — отчитался сын. Видимо, муж отправился на кухню — перехватить бутерброд, в гостиной же опять загремели зловещие голоса вампиров. А я, вопреки собственным ожиданиям и опасениям, быстро уснула, гораздо раньше обычного. Да, иногда перемена обстановки действует потрясающе. Мне же особенно хорошо спится, если я сплю одна.
Я проснулась и сначала не могла опомниться и понять, где я очутилась. Бледный свет пробивался в окно не с той стороны, не с привычной. Я рассеянно водила рукой по стене, пытаясь нащупать выключатель. Полночь. Час духов и привидений. Я тут же выключила свет, пусть Райнхард, если он еще сам не спит, думает, что я вижу десятый сон. Спустя пару минут я выскользнула в туалет. В спальне горел свет. К изумлению своему я услышала, как мой муж с кем-то разговаривает, понизив свой писклявый голос до шепота. Он не один!
— Она крепко спит, уже несколько часов, не волнуйся, — уговаривал он кого-то. — Больна? Трудно сказать. Сок, наверное, подействует не скоро.
Как важно было бы услышать, что ответила ему Сильвия! Но она, видимо, говорила шепотом, ничего нельзя было разобрать. Райнхард надолго замолчал, я уже было подумала, что они сейчас начнут заниматься любовью, но муж вдруг опять заговорил:
— Ну хорошо, наверное, ты права! Я тебе верю, верю! Но если это так, то она сейчас очень страдает. Получается, что она твоего Удо любила без памяти, иначе я ничего не понимаю!
Неужели Райнхард меня защищает?
Уснула я снова лишь под утро. В голове у меня все стучало: там, в моей спальне, в моей постели разлеглась Сильвия!
Часа через три меня резко и грубо растолкал муж. Он распахнул окно в комнате и крикнул:
— Хочешь, чтобы твои дети умерли с голоду?!
Совершенно сбитая с толку, я открыла глаза. Несколько долгих секунд до меня доходило: я в комнате Лары, в ее кровати, я здесь спала. Смотрю на часы — девять. Что здесь делает Райнхард? Ему давно положено сидеть в офисе! Видно, проспал, ночка выдалась больно короткая, да?
Словно безумная я вскочила с постели и как была, волосы дыбом, зубы не чищены, помчалась на кухню. «Дети умирают с голоду!» — громко сказано. Лара завтракала у подружки, за столом сидел один Йост, Сидел и задумчиво хрустел кукурузными хлопьями.
— Ма, я пойду кататься на роликах. — Он подхватил под мышку свое новое приобретение, подарок Эллен, и убежал.
Ну все, на этом с завтраком, я полагаю, покончено. Самое время заглянуть в ванную.
Я выглянула, только когда постучали во входную дверь. Но это оказалась ловушка: на кухне, гневно сдвинув брови, на меня налетел Райнхард. Между тем, подумала я, пришел мой черед негодовать.
— Как ты можешь?! Зачем ты разрешаешь ему гонять на этих штуках?! Это опасно! — возмущался муж.
— Но его друзья… — попыталась возразить я.
— Ну и что — друзья? Мало ли чем разные придурки развлекаются! При чем тут наш сын?! — перебил меня Райнхард. — Твоя ненормальная сестрица купила ему черт знает что, а он и рад стараться, да? А мое мнение что, побоку, так, что ли?!
Ни слова тебе больше не скажу, подумала я, хоть застрели меня! Он же любое мое слово против меня обернет! Но Райнхард никаких оправданий от меня и не ждал.
— Знаешь что, когда мы с тобой познакомились, — продолжал он в запале, — я думал, мы идеально подходим друг другу. И вдруг ты неизвестно откуда достаешь себе, как по волшебству, богатую сестру, которая тебя просто-таки содержит! А все наши друзья смотрят на меня косо: я, видишь ли, для них уже не хорош!
Мой обет молчания был забыт:
— Ты с ума сошел? — взорвалась я. — Ты спятил? У Эллен нет миллионов! И, кстати, насчет друзей — что у нас там с Биргит? А с Миа? Или у них не хватает прыти, чтобы тебя наконец окрутить?
— Да я их даже в дом пригласить не могу! Моих старых друзей, с которыми я еще в университете учился! Их же придется спасать от тебя, от твоего высокомерия, от твоих издевок! Я же вижу, как ты ухмыляешься, когда я разговариваю со своей матерью на диалекте! — кричал в ответ мой муж. — Да, да, конечно, у тебя-то на серебре ели, ножи к рыбе специальные подавали, черт бы их побрал! А моя мать всю жизнь как лошадь на фабрике пахала, а семью кормить не забывала, и макароны на столе были всегда домашние, самодельные!
Я утонула в потоке его обвинений, замолчала снова, мне стало стыдно за себя. Вообще-то он прав кое в чем: я, особенно в последнее время, не слишком была к нему терпима, и вообще часто задирала перед ним нос.
Тут он мне и это припомнил:
— Кто я для тебя? Мужик неотесанный, деревенщина! Ну скажи, что я неправ! Мои проекты — гадкие, дом наш — убогий! Но зато я каждый месяц приношу зарплату домой, за это ты меня и любишь! Нет чтобы помочь, немного самой денег заработать для хозяйства, поработать секретарем для меня! Нет же! Она выдумала, что она художница, черт возьми! А от печатной машинки шарахается, как от чумы! Строит из себя тут нежную! Да, рисовать, видно, ей больше пристало! Неужели ты думаешь, что я счастлив от всего этого бумажного мусора, в котором каждый день роюсь? Или, может, я в восторге от этих бездарных коробок, которые строю?!
— Мне и так есть чем заняться, кроме твоих бумаг! Должно же хоть что-то в жизни доставлять удовольствие! — взвилась я. Он наступил на больную мозоль. — А что у меня есть? Я вся просто растворилась в детях, в этом доме, в саде! Сколько ж можно?!
— Ага! — подхватил Райнхард. — Сама себя выдала. Семья, значит, тебе удовольствия не доставляет!
Я сжимала кулаки и вытирала слезы. Ну, кажется, когда столько грязи друг на друга вылито, самое время завести речь о разводе. Но только как же я об этом заговорю, когда мысли у меня в голове путаются? Может, припомнить ему его дорогущий теннисный клуб, в который он вступил якобы на благо семьи? Или мой аллергический приступ, когда я вернулась с Искьи? Или конские волосы в нашей спальне? Или?.. Или?.. Но не успела я рот открыть, как Райнхард обнаружил на столе увядшие незабудки. Вчера в суматохе я начисто забыла положить их под пресс, в какую-нибудь толстую книжку.
— Уж не для Удо ли? — цинично пошутил он. — Последний привет, незабудки на могилку, а? Какая же ты романтичная, черт, кто б мог подумать!
И в тот момент, когда я уже приготовилась с ним тоже рассчитаться, что-то запищало у него в дипломате. К моему удивлению, он вынул оттуда мобильный телефон. Вот новости, никогда ничего такого я у него еще не видела! «Да, иду, сейчас буду, — пообещал он кому-то, — у меня тут небольшие семейные неприятности. Прошу меня извинить!» И он вышел.
А у меня перехватило дыхание. Ну конечно! Нынешней ночью он разговаривал по телефону!
СПЕЛАЯ ГРУША
Так, ну и что мне теперь делать? Не поговорить ли с Сильвией? Может, оно получится лучше, чем с Райнхардом? Из любого мужчины, тем более из собственного мужа, с трудом удается вытрясти хоть какую-нибудь информацию о его личной жизни, чувствах, сексуальной жизни. Нежные они такие, мужчины эти: задень их один раз, и они всю жизнь будут мучиться. Так вроде и незаметно, а в один прекрасный день — срыв, истерика, надлом, катастрофа!
Зачем Сильвия меня оклеветала? Зачем ей понадобилось валять меня в грязи? Не была ли я ей верной подругой многие годы, во всем? Я всегда вставала не ее сторону — и когда она обнаружила залежи порно под кроватью у своего любвеобильного муженька, и когда ее дочки помешались на здоровом образе жизни! И как она меня отблагодарила? Прибрала к рукам моего мужа! Ох, змея! Пригрела же я гадюку на груди! Если она еще и Удо отравила, то я ей желаю… Я ей желаю… Чума на нее, вот что! Чтоб ей пусто было! Пришло время спасать себя и своих детей!
Если подозрения мои оправданны, значит, Сильвия — хладнокровная убийца, циничная и расчетливая, а мой муж — ее холоп, ее сообщник, ее раб! Вот возьму и все расскажу кому следует, и оба окажутся за решеткой. Но тогда Коринна и Нора, — да я же их знаю с пеленок, они взрослеют у меня на глазах, и я их даже по-своему люблю, хотя у них переходный возраст и они чудят, — тогда девчонки останутся совсем одни, без отца, без матери. А мои детки будут навещать своего папочку в тюрьме. Разве мне этого хочется? Ох, я уже сама не понимаю, чего мне хочется! Моя бедная голова трещала и лопалась, как переспелая груша.
Груши, дыня и еще кое-какие непритязательные фрукты как будто случайно, но весьма искусно перенес на полотно Луис Мелендес.[34] В ту пору, в семидесятые годы XVIII века, стало модно изображать не аллегории, но одну только красоту предметов, чтобы они заиграли всеми гранями, в общем, от морали к эстетике. Груши, напоминающие формы женского тела, на этой картине — сама невинность, никакой двусмысленности. А дыня — старинный символ плодородия и плодовитости — не разрезана, и ее недра скрыты от зрителя.
Свет падает откуда-то слева, косо, по диагонали, и спелые сочные груши, кажется, можно схватить рукой, потрогать шершавую ребристую кожуру дыни, всю покрытую прожилками. А сзади льняной покров скрывает кое-что в ивовой корзинке. Там тоже осенний урожай: из кузовка торчит широкая волнистая охристая шляпка лесного гриба. Ага, ясно теперь, что там под льняным покрывалом спрятано. Простая, грубоватая крестьянская посуда — деревянные ложки и пузатая глиняная миска, — выписанная в коричневых тонах, составляет контраст жизнерадостным ярким краскам фруктов на переднем плане. Однако, как ни жаль, природа все-таки небезупречна, халтурит и она. Вот, взгляните, — каждая груша с червоточинкой, с бочком. Они упали с дерева, они лежали на земле, и в каждой поселился червячок. С виду-то они такие аппетитные, а разрежешь — черные, и есть не станешь!
Дочь вернулась от подруги после ночных бдений усталая и неразговорчивая. Но, в отличие от меня, она провела ночь не в тягостных мрачных раздумьях и тревогах, а трепалась ни о чем и хихикала с подружкой. Я хотела ее обнять, прижать к себе покрепче — она вдруг разразилась слезами. Кажется, у всех накопилось, всем охота поплакать — сначала Имке, потом мне, а теперь вот и Ларе.
— Солнышко, что с тобой? — кинулась я к ней. Она меня оттолкнула.
— Ты шлюха! — выпалила она мне в лицо и убежала к себе в комнату. Я, в шоке, последовала за ней.
Мне пришлось довольно долго ее уговаривать, прежде чем она сообщила мне следующее: по дороге домой Лара встретила Коринну, и та основательно просветила ее по поводу моих взаимоотношений с покойным Удо.
— Ты спала с Удо! Ты изменяла папе! — обвинял меня мой собственный ребенок.
Я клялась, что это ложь, клялась чем могла. Напрасно! Лара мне не верила. Я была в таком же отчаянии, как и дочь.
— Слушай меня внимательно! — крикнула я наконец. — Сильвия распускает эти слухи по всему городу, пора этому положить конец! Я прямо сейчас иду к ней и заставлю ее признаться, что она лжет!
Борцовская натура моей дочери оказалась еще сильнее моей: Лара решила ехать вместе со мной и отстаивать честь семьи! Я не хотела ее брать, наверняка о некоторых вещах лучше говорить без лишних ушей.
Как только Сильвия может быть такой бесчувственной, бестактной стервой! Она еще и своих дочерей науськивает! Понимает же прекрасно, что девчонки, в их-то годы, не умеют держать язык за зубами, при первой же возможности все растреплют подружкам!
В тот же миг я прыгнула в машину и понеслась. Едва успела затормозить на красный свет. И от испуга немного пришла в себя. Так. Сейчас главное — не допустить тактических ошибок! Меня бросило в дрожь, стал душить страх, и я почти желала, чтобы ни Сильвии, ни дочерей дома не оказалось. А если там сейчас Райнхард, что мне делать?
Из окон верхнего этажа, где находились комнаты девочек, гремела музыка. Сильвия, открыв мне дверь, умело скрыла свое удивление:
— Привет. Заходи. Чай? Кофе?
— Кофе, пожалуйста, если не сложно, — вежливо отвечала я.
Стараясь не смотреть на меня, она исчезла в своей кухне, напичканной всякой новой навороченной техникой, и включила огромных размеров итальянскую кофеварку.
— Ты не представляешь, что тут творилось в последние дни, — крикнула она мне из кухни, — одних только бумаг для похорон нужно целую кучу, детей утешить, родню обслужить! Слава Богу, тебе этого еще делать не приходилось! — Она подошла к буфету, чтобы достать чашки. — С молоком и с сахаром?
— Черный, — мрачно отозвалась я.
Пока Сильвия искала шотландское песочное печенье и нарочито аккуратно раскладывала его на серебряном блюде, я осматривалась по сторонам. Я сто раз бывала уже в этом доме, но никогда еще не разглядывала его глазами обманутой жены.
Райнхард тут упрекнул меня, что наш дом кажется мне убогим. Между тем я терпеть не могу никакого новомодного шика, который стоит целое состояние, однако начисто лишен индивидуальности. Нелепый, вычурный, претенциозный интерьер в национальном стиле — эти дурацкие гигантские пуховые перины с балдахинами — раздражал меня еще больше, чем наша лесная идиллия. Я встала и поправила картинку с подсолнухами на стене: она покосилась. Может, там за ней тайник в стене? Да, если очистить жилище моей якобы подруги от глупых дизайнерских примочек, от всякого претенциозного безвкусного мусора, то он превратится прямо в конфетку: просторный, светлый, а вид какой из окон на Рейн, на долину, старые ореховые деревья в саду какие! А какие окна, — восторг! — старинные, буржуазные, дугообразные, сводчатые окна!
Сильвия закопалась на кухне. Даже кофе сварить толком не может, даже это делал за нее Удо! Некоторое время — тишина, только у девчонок наверху гремели басы.
Наконец хозяйка справилась с кофе, накрыла на стол и довольно бестактно поставила-таки рядом с кофейником еще и полный молочник (Господи, у меня же аллергия, она же знает!). Тут я собралась с духом:
— Знаешь что, сегодня Лара пришла домой в слезах. Она встретила твою Коринну, и та ей наговорила всякого вздора: якобы у меня был роман с твоим мужем. Я полагаю, это ты все придумала?
Сильвия сделалась пунцовой и, кажется, некоторое время размышляла, стоит ли ей все отрицать или признаться? В итоге она, упорствуя во лжи, заносчиво, с вызовом заявила, что ничего она не придумывала, что так оно и есть! Рано или поздно наши дети все равно узнали бы обо всем от чужих людей, так не лучше ли, чтобы от нас самих?!
Я застыла с открытым ртом. Не может быть! Не верю своим ушам!
— Сильвия, умоляю тебя, это же ложь! Ничего такого никогда не было! Удо, вероятно, не отказался бы от небольшой интрижки, но я! Я же твоя подруга, я никогда в жизни!..
— Анна! — презрительно фыркнула она в ответ. — Хватит! Я не могу больше спросить об этом самого Удо, но у меня есть доказательства!
Да не может такого быть! Я стала допрашивать ее как подозреваемую, я заклинала ее в отчаянии, неистово. А она все о своем!
— Ну и что же?! — крикнула я в запале. — Ты поверила в эту мерзость и решила захомутать Райнхарда?
Тут Сильвия — обычно такая трепетная, нервная, легковозбудимая, Сильвия, которую так легко смутить, сбить с толку, запутать, — овладела собой, успокоилась, стала холодна и самоуверенна, как настоящая леди, и ничего больше отрицать не стала. Она даже как будто гордилась своим бесчинством:
— Ничего другого мне не оставалось, дешево и сердито. Ты — мне, я — тебе, все по-честному.
Я между тем все мешала ложечкой в чашке с кофе, хотя там не было никакого сахара, мешала, мешала, и в конце концов побоялась этот кофе пить. Не напомнить ли Сильвии о бутылке с соком? Я нацепила такую же салонную дипломатическую мину, что и она, и какой-то бес пихнул меня изо всех сил:
— Что-то я последнее время ужасно много пью воды. Уж не диабет ли у меня, как у моей бабушки? Знаешь что, кофе совсем жажды не утоляет, не принесешь ли мне стакан сока, грейпфрутового, пожалуйста?
Никогда мы еще так церемонно не общались. В прежние времена я просто принесла бы сама себе из кухни минералки. Как бы то ни было, Сильвия при упоминании об отраве даже не вздрогнула.
— Я специально для тебя сварила кофе, а ты его не пьешь. Извини, но кроме яблочного с мякотью никакого другого сока у нас доме нет, — отвечала она с нарочитой, убийственной вежливостью.
— Правда? — удивилась я деланно. — А когда мы заезжали за твоими очками, мне показалось, я где-то видела грейпфрутовый.
— Где же это? — она вздернула брови. Я снова струсила и пробормотала только:
— Да уж теперь и не знаю, может, в подвале. Моя бывшая подруга резко встала:
— Пойдем, покажешь!
До сих пор она избегала на меня смотреть, тут же взглянула, и если бы взгляд мог убивать, я бы была уже мертва.
Она пропустила меня вперед, на крутую лестницу в подвал. Ой, не нравится мне это все! Едва я шагнула на ступеньку, как мне под ноги попалась швабра, и я полетела в темноту.
Внизу я долго хватала ртом воздух, задыхаясь, прежде чем закричала от боли и бешенства. Тишина. Через минуту попыталась встать. Ой, больно! Кряхтя, поднялась на ноги, включила свет и заковыляла к лестнице, подгоняемая страхом. Какая же я дура — явилась одна, без сопровождения в дом к убийце!
Дверь в подвал была не заперта, Сильвии нигде не было видно. Я стиснула зубы и поплелась к машине. Все тело ужасно болело. Я медленно тронула машину, даже на сцепление нажимать толком не могла, меня всю передергивало от боли, и я каждый раз ругалась на чем свет стоит во весь голос.
Лара, сгорая от любопытства, открыла мне дверь, я даже ключ достать не успела. Она пожирала меня глазами. Я доковыляла до гостиной и рухнула на софу.
— Ну и видок у тебя! — воскликнула дочь. — Что с тобой, в аварию попала?
— Почти, — простонала я. — Сильвия столкнула меня с лестницы в подвал.
Лара опешила. Может, бешенство Сильвии только подтверждает мою вину?
— Это Удо, наверное, ей наврал, — негодовала я, — она ведь и вправду верит, что у меня с ним что-то было! Господи, но его же теперь уже не допросишь!
Глядя на мои страдания, Лара стала мягкой как масло.
— Может быть, заварить травяного чаю? — засуетилась она.
— Да, пожалуйста, — ответила я, — а еще принеси аптечку и перебинтуй мне ногу покрепче. И обезболивающее какое-нибудь было бы кстати.
Совершенно неожиданно для меня моя десятилетняя дочь стала ухаживать за мной, как за ребенком. Мне сразу полегчало, но все-таки роль сиделки не для нее, поэтому, как только появился Йост, я услала обоих в магазин за цветной бумагой и альбомами для рисования. Но прежде строго-настрого запретила Ларе кому бы то ни было рассказывать о моем падении в подвал и о сплетнях Сильвии. Только правда — никому! Не хочу быть похожей на свою бывшую подругу, которая распускает грязные слухи.
— А Сузи можно? — встрепенулась дочь.
Но я так энергично замотала головой, что ей сразу все стало ясно.
Болела нога, трещала голова, просто раскалывалась. Завтра по всему телу наверняка пойдут синяки, стыдно будет людям на глаза показаться. Подумают еще, что меня муж поколотил. Не позвонить ли Люси или Эллен, может, чем утешат? Я схватила трубку и тут же ее бросила. А потом нашла в телефонной книге номер Имке.
— Да? — тихо произнесла она на том конце провода.
— Как ты поживаешь? — поинтересовалась я. О себе рассказывать не стала. — Не вспомнишь ли чего-нибудь, о чем мне еще не сообщила?
— Не знаю, насколько это важно, — ответила Имке, — недавно я заглянула в окно к Сильвии и увидела там Райнхарда. Но они не целовались, наверное, обе дочки дома были.
— Чем же они занимались?
Я сама устыдилась своего вопроса. Господи, я чувствовала себя каким-то извращенцем, которому доставляет удовольствие подглядывать в замочную скважину.
— Они сняли со стены картину с подсолнухами, — отозвалась Имке, — а за ней оказался сейф. Только открыть его не смогли. Сильвия еще долго рылась в письменном столе, должно быть, искала шифр.
— Когда это было? После смерти Удо или до? — не унималась я.
— После, разумеется! — Имке отвечала так уверенно, будто уже давно выстроила всю цепь событий.
Хороша же я, однако! Психически неустойчивая барышня шпионит для меня за моим же мужем!
— Имке, а ваш терапевт знает, что вы следите за Райнхардом?
— Нет, не знает, — откликнулась она, — в конце концов, я не обязана отчитываться ей за каждый свой шаг.
Не успела я сказать ей спасибо и положить трубку, как силы меня оставили. Значит, речь идет о деньгах, вот что Сильвию так беспокоит — ценные бумаги, наличные, документы на недвижимость. Удо, должно быть, оставил всего этого добра предостаточно. Да, вдовушка, очевидно, рассчитывает на крупный куш. Наверняка она и моего муженька приманила кругленькой суммой.
Что теперь будет со мной? Я в опасности? Глупо было упоминать о грейпфрутовом соке! Если Сильвия разнюхает, что я у нее на хвосте, она и со мной церемониться не станет, разделается по-свойски, она это умеет. Никогда не ожидала получить от нее удар в спину! Мне казалось, женщины друг с другом так не поступают, по крайней мере, до последнего времени я была в этом уверена.
Телефон! Меня бросило в дрожь. Кто?! Сильвия? Райнхард? Имке вспомнила еще что-нибудь? Оказалось, что моя мать.
— Мышка моя — что-то вы совсем пропали. Все в порядке, я надеюсь? — проворковала она.
— Ну конечно, мама, лучше не бывает! Только работы много, — ответила я.
В трубке послышалось тихое гудение — спинка «больной» кровати поплыла вверх. Мамочка устраивается поудобнее — значит, разговор предстоит долгий.
— Что тебе подарить на сорок лет? — полюбопытствовала она.
— Господи, мама, это еще так не скоро! — воскликнула я вне себя.
— Ну так я и хочу знать заранее. Хороший подарок нужно готовить заранее, — не унималась она.
Мне на ум пришел старый фильм Хичкока — «Окно во двор». Там один фотограф из газеты сломал ногу и теперь лежит дома. Из своего окна он наблюдает одну сцену, которая напоминает убийство. Моя нога болела ужасно, но я все-таки могла двигаться. Перелома, скорее всего, нет, кажется, только растяжение. Но следующие несколько дней придется дома посидеть, как Джеймс Стюарт в том фильме. Либо это западня, либо большая удача. По крайней мере, будет немного времени, чтобы обо всем поразмыслить. Об ужине в восемь вечера сегодня можете забыть…
Когда же, интересно, началась история между Сильвией и Райнхардом? Когда я с детьми и Эллен уехала в отпуск? Говорила мне мать: не оставляй мужа одного на три недели без присмотра! А что означает таинственный счет из дорогого ресторана? А новые конюшни, что Сильвия заказала моему мужу? Может, это был только предлог, своеобразное алиби для ежедневных встреч?
А Удо? Как Сильвии могло прийти в голову, что у нас роман? Впрочем, она была способна заподозрить его в очередной измене всякий раз, когда у него появлялся новый одеколон. Что, если она увидела одну из девиц в журнале, похожую на меня, и это восприняла как доказательство наших с ним отношений? Все выстраивается в один ряд: слишком много ложных, но подозрительных признаков, она интерпретирует их по-своему и в результате сама верит в то, чего нет. Признаюсь, со мной самой такое бывало, но только мое чутье не вело меня по ложному следу.
Вполне вероятно, что Удо и впрямь воспылал страстью к какой-нибудь особе, о которой давно мечтал, и Сильвия почуяла неладное, но не угадала, кто это был. Нет, я не собиралась ее оправдывать и даже не стремилась понять. Неважно, обидела я ее или нет — она вела себя со мной неоправданно агрессивно и бессовестно!
Тянуться за блокнотом и карандашом мне не хотелось, поэтому я просто выудила из-под стола ранец Йоста. В тетрадке по математике, наполовину уже исписанной, измусоленным цветным карандашом я набросала:
«1. С. убила Удо
2. С. увела у меня Райнхарда
3. С. распустила сплетню про меня и Удо
4. С. спихнула меня с лестницы».
Пока больше ничего в голову не приходит, но и этого с лихвой хватит. За такое полагается высшая мера. Или пожизненное заключение, хотя не надо быть такой кровожадной. Уговорили. В конце концов, мы же родственники.
ШАХ И МАТ
Вот работа Любена Вожена,[35] французского мастера эпохи барокко: аллегорическое изображение пяти чувств — просто и элегантно. Художник не стал громоздить одну на другую множество лишних деталей — ни к чему перегружать изображение какими-то мелочами, ни к чему утяжелять его, все должно быть строгим и лаконичным. Три красно-розовые гвоздики в шарообразной прозрачной вазе — не то что голландские роскошные букеты. Страничку нотной тетради закрывает перевернутая лютня, тонкий, изящный инструмент, мастерски сработанный, с отполированным точеным корпусом. На фоне каменной стены два силуэта — краюха белого хлеба и бокал красного вина. На светлом столе лежат колода игральных карт и зеленый бархатный мешочек — видимо, касса игроков. Однако более других предметов взгляд притягивает черно-белая шахматная доска, чья геометрическая точность контрастирует с остальным беспорядком и неправильной формой хлеба, цветов в вазе, с произвольными складками мешочка.
Лютня — это слух, вино — вкус, гвоздики — обоняние, карты — зрение, горбатая краюшка хлеба — осязание. А шахматная доска, очевидно, символизирует расчетливый ум, рассудок. Без этого картина человеческих чувств не полна. Кисть художника не осилила лишь неведомое, загадочное шестое чувство, превосходящее все остальные.
Есть на свете гениальные шахматисты, которые ставят своим противникам мат путем простых математических вычислений и элементарной логики. Но есть и такие, которые чуют слабость соперника именно этим сверхъестественным шестым чувством. У них неплохие шансы стать однажды вице-чемпионами мира, но вот одолеть компьютер — не дано.
Я же воспринимаю мир то как невротик, то как художник. В тот вечер, с больной ногой и разрывающимся сердцем валяясь на софе, я решила: никогда больше, до конца дней моих, не стану себя жалеть, буду действовать — есть проблемы, значит, надо их решать!
Из гостиной я руководила детьми, которые готовили обед, вернее, разогревали уже готовый полуфабрикат. Они явились в гостиную с тарелками, на которых дымилась лазанья, уселись на ковер, тут же заляпали его томатным соусом и стали с аппетитом жевать перед включенным телевизором. А Райнхард, который в своем Бакнанге хотя и вырос без салфеточек и специальных рыбных ножей, все-таки не любил, когда нарушался привычный порядок, а потому нетрадиционная трапеза на ковре в гостиной ему бы не понравилась. Йост уплетал лазанью за обе щеки, и я, казалось, слышала, как Райнхард говорит на своем швабском диалекте: «Если бы у нас не было Йоста, пришлось бы завести свинью, а то некому было бы столько съесть!» Однако дети были под впечатлением от уютного семейного обеда, и когда отец вошел в дом, они спокойно удалились в свои комнаты.
— Мне нужно поговорить с папой наедине, — сообщила я им с таинственным видом.
Итак, муж увидел меня одну, на софе, с перебинтованной ногой и страдающим выражением лица.
— Что с тобой случилось? — воскликнул он, кажется даже не притворяясь.
И тут меня понесло, куда девалась моя робость: Сильвия, Сильвия, Сильвия! Она сама призналась мне, что у нее роман с моим мужем! Теперь Райнхард не отвертится! Это она растрепала по всему городу про меня и Удо, она оклеветала меня! Мало того, она еще пыталась меня угробить! Она и Удо на тот свет отправила!
Райнхард только тряс головой, но не перебивал. Наконец он спросил:
— Ты уже была у врача? Нужно сделать рентген ноги. Но вообще-то у меня впечатление, что ты больше повредила голову, а не ногу.
Я вышла из себя, откинула плед, которым Лара меня укутала, и показала мою рану. Нога между тем страшно отекла, раздулась до самого колена, и когда я задрала повыше юбку, он увидел огромные фиолетовые синяки, царапины и кровоподтеки. Пусть говорит после этого, что у меня мания преследования!
Райнхард подошел к телефону и позвонил нашему домашнему врачу.
— Моя жена немного ушиблась, — услышала я его голос из коридора. — Доктор Бауэр приехать не может, — объявил он мне, — велел привезти тебя к нему.
Муж принес мне правый ботинок и одну из своих домашних тапок. Я оперлась на его руку и прошлепала к двери. Когда же я уже сидела в машине, меня вдруг пронзила мысль: мы сейчас поедем совсем не к доктору, а на свалку или в каменоломню, и там мой неверный пришибет меня автомобильным домкратом!
Но нет, мы ехали в правильном направлении, на Вахенберг Райнхард не свернул. Вдруг он резко затормозил:
— Ты мне только вот что скажи, — нервно спросил он, — с чего ты взяла, что Сильвия убила Удо?
Наверное, не очень дипломатично в данной ситуации упоминать Герда Трибхабера? Накануне я сдуру все открыла Сильвии и поплатилась, а теперь вот Райнхард пристал! А я, можно сказать, на одной ноге, сопротивляться не смогу! Но если сказала А, надо говорить и Б.
— Ты убрал с ночного столика Удо бутылку с отравленным соком и выбросил ее в наш мусорный контейнер, — произнесла я, — надо думать, по просьбе Сильвии. И никто тебе не поверит, что ты ничего не знал о ее махинациях.
— Секундочку, — перебил он. — Ладно, признаюсь, я спал с Сильвией, ты меня довела, сама виновата, нечего было вечно ломать комедию! Я действительно забрал бутылку со столика Удо, и меня об этом просила Сильвия! Но на то у нее была особая причина, уважительная!
Он стал рассказывать, что Удо, как утверждает Сильвия, разводил в соке свои сердечные таблетки, чтобы легче было глотать. Если бы врач обнаружил на столике бутылку, пришлось бы отдавать сок на экспертизу, делать анализ, черт знает сколько времени бы потребовалось, зачем было все осложнять.
— Так вот, она и попросила, когда мы ей тогда звонили, чтобы о смерти мужа сообщить, бутылку эту тихонько взять и спрятать! — заключил Райнхард.
— Ну и дурак же ты! — крикнула я. — Поверил этой чуши! Таблетки разводят в стакане, целая бутылка не нужна! А в сок подмешали не таблетки, а сердечные капли, да еще столько, что быка свалить можно! На ночном столике не было никакого стакана, зато лежала чайная ложечка, чтобы принимать капли! Сильвия — убийца, а ты — ее сообщник!
Райнхард все больше бесился, чувствовал, что его загоняют в угол. И решил нахамить мне в ответ, нападение — лучшая защита.
— Да если бы ты не наставила мне рога с Удо, я бы в жизни с Сильвией не связался. Сама знаешь, она не в моем вкусе!
— Давай двигай, — прошипела я, — поздно уже. Доктор ждет! Я, в отличие от тебя, никогда налево не гуляла.
Сильвия не в твоем вкусе, а Удо уж точно — не в моем! Не веришь — не надо, дай мне выйти из машины! Ни минуты не хочу больше с тобой здесь оставаться!
Это подействовало, и он поехал дальше. До самой клиники мы оба молчали. Там я с трудом вскарабкалась по лестнице. Райнхард не протянул мне руку помощи, уселся в приемной и тупо уставился перед собой.
Доктор Бауэр помог мне сесть в кресло для обследования. Первым делом он хотел знать, как я сподобилась так себя покалечить.
— Упала!.. — крикнул муж через открытую дверь.
— Не с вашей ли помощью? — засмеялся доктор.
В последующие несколько дней мне такой вопрос задавали часто.
— С лестницы в подвал, — добавила я.
— А бинты? Кто же их накладывал? — расспрашивал доктор и, качая головой, разматывал все, что наваяла на моей ноге Лара. — Завтра ждите новых синяков и гематом. Ночью немного поболит, но перелома, к счастью, нет. Я вам дам мазь от отеков и обезболивающее. А вашему мужу придется несколько дней носить вас на руках!
Я не выдержала:
— Доктор, помните, вы приезжали тогда, когда Удо умер? Скажите, это правда, что он не мог глотать таблетки?
Доктор Бауэр задумался:
— Вообще-то я не имею права давать сведения о моих пациентах, даже о покойных. Спросите лучше у его вдовы, как мы мучились: некоторые лекарства с огромным трудом удается достать в жидкой форме.
Ага, слышали?! Пусть Райнхард знает — я права!
На обратном пути он снова неожиданно остановился, вспомнил кое-что важное.
— Слушай, быть не может, — встрепенулся он, — она не убийца. Ты же на моих глазах выпила весь сок, что еще оставался в бутылке! Или ты ведьма? Может, тебя яд не берет, которым можно быка свалить?
Тут уж я ему все выложила:
— Это была совсем другая бутылка! Я хотела тебя проверить, хотела посмотреть, будешь ли ты смотреть спокойно, как я помираю!
Райнхард как с цепи сорвался:
— Господи! Что ж это у меня за баба безмозглая?! — заорал он на диалекте. — Не стал бы!
Потом он взял себя в руки и договорил уже сдержанней на том же своем швабском диалекте. Конечно, он испугался, что у меня сейчас сердце не выдержит, лекарства-то ведь еще оставалось в бутылке немало.
— Ту бутылку я припрятала, Герд сделал анализ, и теперь я могу доказать… — похвасталась я.
Муж резко развернул машину и двинул по самой середине улицы.
— Едем к Сильвии, — решил он, — пусть сама все объяснит!
Я подняла бунт. Уже поздно, не время для визитов, да еще без предупреждения! Райнхард же, наоборот, считал, что слишком накалились страсти, пора бы и пар выпустить. Самое время неожиданно заявиться и побеседовать. Неужели он в конце концов принял мою сторону?
Но у меня сил никаких уже не было.
— Райнхард! — взмолилась я чуть не плача. — Не могу я больше. Болит все! Мне бы таблетку принять, ногу помазать и в кровать! Давай завтра, а?
Он сжалился и повернул домой.
Дети еще не спали, но уже сонные сидели перед телевизором. Райнхард прогнал всех спать. Со мной мог бы быть и поласковей, между прочим! А я, кроме прописанного болеутоляющего, проглотила еще снотворное, чего обычно не делаю.
Ночью я все-таки проснулась. Что-то теплое давило на мою истерзанную конечность. Безобразие, подумала я, только заснула… Но Райнхард мирно храпел на почтительном расстоянии от меня, на своей половине кровати. Меня звал Йост:
— Мне страшный сон приснился, — промычал он и прижался ко мне всем телом.
Ну ладно, для восьмилетнего сыночка у меня всегда найдется местечко, даже если ноет больная нога.
К несчастью, меня мой сон тоже не радовал. Мне приснилась завтрашняя встреча с Сильвией. На этот раз она разливала чай «эрл грей» из старинного чайника, который я привезла из Шотландии еще студенткой. Квадратный зеленый чайник куплен был у старьевщика. Шесть долгих недель я осторожно таскала его завернутым в свитер в рюкзаке. Этот чайничек напоминал мне о моем первом самостоятельном путешествии, которое я сама себе оплатила, он был моим личным сокровищем, и только самые дорогие, желанные гости удостаивались чести пить чай, заваренный в нем. И вот теперь он оказался на стеклянном журнальном столике в гостиной у Сильвии, потому что Райнхард с утра пораньше преподнес его хозяйке в подарок. Я разревелась во сне, и, когда проснулась, лицо мое было в слезах. Мне хотелось растолкать мужа и высказать ему за его дурацкий поступок с моим чайником все!
На другой день я проспала чуть не до самого обеда. Когда проснулась, муж был уже, видимо, на работе, через открытую дверь спальни до меня долетали голоса детей, они о чем-то спорили. Пару секунд я чувствовала себя вполне сносно, но стоило мне пошевелиться, как боль напомнила о вчерашнем дне. О чем же мы с Райнхардом в итоге договорились? В котором часу мы должны ехать к злодейке Сильвии?
Когда я ковыляла в ванную, меня заметили дети. Лара заботливо включила мне воду и испуганно уставилась на мои синяки. Но только я собиралась залезть в ванную, Йост дернул меня за руку: звонил отец.
— Я к четырем освобожусь, — произнес муж, даже не справившись о моем самочувствии, — было бы здорово, если бы ты была к тому времени уже готова. Думаю, Сильвия будет дома.
— Тебе ее привычки известны лучше, чем мне, — съязвила я.
Теплая вода не помогла, чай, заваренный детьми, был невкусный, а их навязчивая забота раздражала. Меня вдруг опять стал душить страх. Около четырех я кое-как оделась. Кофе, болеутоляющее, кухонный нож в сумочку. Понемногу успокоилась, прибавилось уверенности. Больше не позволю себя провести!
Ровно в четыре Райнхард загудел во дворе клаксоном.
Я прижала детей к сердцу, будто прощалась с ними навсегда.
— Куда вы собрались? — недоверчиво спросила Лара.
Чтобы ее совсем успокоить, я придумала какую-то отговорку.
Дверь открыла Коринна.
— Мамы нет дома, — сердито пробурчала она.
— Когда вернется? — хотел знать мой муж. Девочка мрачно пожала плечами:
— Если мать со своими лошадьми, то это надолго.
А я, если честно, страшно обрадовалась, что сегодня чаша сия нас миновала.
Мы снова сели в машину. Муж молчал. Через пару улиц я поняла, что он рулит к конюшням. Только этого мне сейчас недоставало!
Вдруг мы увидели, что навстречу нам на тяжелом автомобиле Удо едет Сильвия. Райнхард загудел, замигал фарами, машины остановились, он вышел и заговорил с ней. Потом мы поехали вслед за ней и снова оказались у ее дома.
Сели в гостиной. Сильвия, не дожидаясь просьбы, принесла пиво и картофельные чипсы для Райнхарда. Мне — ничего, себе — тоже, кажется, у нее пропал аппетит. Она взглянула на наши серьезные лица и произнесла:
— Простите, мне очень жаль. Видно, я случайно уронила швабру и она попала Анне под ноги.
— Случайно? — вскинулась я. — Да ты специально мне ее подсунула. Я чуть все кости себе не переломала. Вот, полюбуйся! — я подобрала юбку. — А потом ты еще и сбежала!
Райнхард, на которого мои страдания действовали надлежащим образом, вступился за меня:
— Ты зашла слишком далеко! — проговорил он своим визгливым голосом.
Сильвия сидела как на скамье подсудимых.
— Сама виновата! — бросила она мне. — Сидит тут, овечкой прикидывается! Чучело надменное, вот ты кто! Увела у меня мужа, интриганка!
Тут даже Райнхард взвился:
— Черт вас всех побери! — Но тут же взял себя в руки и продолжал: — Ты говорила, ты можешь доказать, что у Анны был роман с Удо. Она все упорно отрицает!
— А вот и могу! — отвечала Сильвия.
— Ну так давай, вперед! Доказывай! — крикнула я ей.
Она слегка заерзала и смущенно сообщила, что об этом написано в дневнике у Удо.
Неужели Удо вел дневник? Никогда бы не подумала! Райнхард, кажется, тоже сильно сомневался в этом.
— Ну тогда дай почитать! — приказал он.
— Выкладывай дневник! — потребовала я, и мой муж кивнул, поддерживая меня.
— Не могу, мне его не достать, — жалобно сказала Сильвия, — он в запертом сейфе.
Ага, значит, до сих пор она его так и не открыла!
— Ну так позови слесаря, пусть взломает, — посоветовал Райнхард.
— Да я и сама бы справилась, — вздохнула Сильвия, — узнать бы только шифр.
— Девятнадцать ноль девять шесть пять, — как под гипнозом произнесла я.
Райнхард и Сильвия уставились на меня и, наверное, подумали: если Удо меня одну посвятил в тайну шифра, не доказывает ли это однозначно, что у нас с ним что-то было?! Райнхард вскочил, несколько раз судорожно крутанул ручку сейфа, и тот вдруг открылся.
Я приподнялась, чтобы бросить взгляд в недра тайника, Сильвия с жадностью простерла вперед руку. Райнхард, однако, был к желанному объекту ближе, к тому же выше и сильней нас. В сокровищнице не оказалось ни серебра, ни золота, ни брильянтов, ни акций, ни снимков голых девочек. Мой муж извлек на свет только несколько купюр в сто марок, обручальное кольцо и ежедневник, в который он вцепился железной хваткой.
— Прежде чем я это прочту вслух, — заговорил он, не обращая внимания на молящий жест Сильвии, — пусть Анна скажет, откуда она знает шифр. Сильвия испробовала все — дни рождения, телефоны, номера домов, — все не то. Откуда взялось это число? Удо его выдумал?
— Нет, — отвечала я, — не выдумал. Это телефон доктора Бауэра.
Сильвия бросила на меня изумленный взгляд и, не закрывая рта, метнулась к письменному столу. Там, в записной книжке, она нашла адрес доктора.
— Телефона здесь нет, — опешила она, — наверное, Удо знал его наизусть.
— Доктор Бауэр нам рассказывал, — подтвердила я, — что Удо часто звонил ему, причем в самое неурочное время. Я угадала номер, потому что тоже держу его в голове, что вообще-то редко бывает. Когда в доме дети, телефон врача должен быть под рукой.
Действительно ли в этом обыкновенном ежедневнике изложена история всех похождений Удо? Райнхард сел рядом со мной на софу, Сильвия, уверенная в своей правоте и непогрешимости, встала за нашими спинами, чтобы читать вместе с нами. Первые месяцы мы бегло пролистали. Там были, как я и ожидала, деловые записи, иногда и личные, какие-то встречи, звонки, сроки оплаты счетов и налогов, приглашения, встречи, каракули всякие.
— И что, это называется дневник, Сильвия? — торжествовала я.
Рано, однако, радовалась. Она уже тыкала в страницу пальцем и кричала:
— Вот! Вот, смотри!
Там, черным по белому, и впрямь было написано: «Сегодня с Анной в постели. Счастлив, как никогда в жизни». Я онемела. Не может быть! Это не я! Это другая Анна!
Райнхард выронил ежедневник и нервно вскочил.
— Ах ты шлюха! — выкрикнул он.
Я подобрала продолговатую книжечку, полистала и тут же нашла снова то место. Да, придраться не к чему, каждая буковка прописана ясней ясного. Ну и дела, мое имя в ежедневнике Удо!
Но что-то здесь не так! До сих пор не было ни одного предложения о личных чувствах, ни одной записи собственных мыслей, нигде не промелькнуло ни цитаты, ни строчки!
— Как же ты смогла прочесть этот бред, если до сих пор так и не сумела открыть сейф? — резко проговорила я.
— До некоторого времени он лежал на столе, — парировала Сильвия, — лежал свободно, открывай и читай! Даже от детей он его не прятал! А потом, видно, решил, что пора кое-что скрывать, и запер его.
— Слушай, ежедневник — это не дневник, — не унималась я. — Разумеется, я не знаю Удо так хорошо, как ты, но думаю, что эти строчки — фальшивка, подделка. Может, твои дочки хотели тебя разыграть?
Сильвия затрясла головой:
— Это почерк Удо! Голову даю на отсечение. Кто ж еще мог тогда положить ежедневник в сейф, если не Удо? И зачем ему вообще понадобилось его от меня прятать? Понятно, зачем — он решил туда записывать свои амурные дела!
Райнхард между тем хлебнул шнапсу и вступился за покойного:
— Неужели Удо был такой дурак? Не мог он так рисковать! Каждый знает, если баба измену почует, вмиг как гиена оскалится!
И он тоскливо взглянул на нас обеих.
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
Вину мою еще толком так никто и не доказал, а Сильвия уже решила, что одержала верх. Она обнаглела до предела, подошла сзади к Райнхарду и неистово обвила руками его шею. От такого бурного проявления ее горячей нежности мне стало совсем нехорошо. Слава Богу, мой муж поспешил в смущении снова освободиться от навязчивых объятий. Сильвия на него обиделась, оскорбленно собрала со стола стаканы для шнапса и пивные кружки и унесла их на кухню. Райнхард без дела стоял у окна и меланхолично пялился в сад, а я листала ежедневник. Может, Удо еще где-нибудь воспел меня как женщину своей мечты, оказавшуюся наконец с ним в постели? Хотя он эту историю придумал, мне его отзыв очень даже понравился.
Вслед за той важной фразой, обличающей меня, потянулись страницы скучных деловых записей. Как вдруг:
«Долго тебе придется взламывать мой сейф, долго. Потому что мозгов не хватает. Ты годами роешься в моих вещах, закатываешь мне скандал из-за каждой полуголой девчонки с журнальной обложки и в каждой своей подруге подозреваешь мою тайную любовницу. И вот сегодня я наконец все тебе выложу: моя работа — лишь предлог, я целыми днями ничего не делаю и только тем и занимаюсь, что отрываюсь с бабами».
Сильвия повела себя как полная идиотка:
— Вот видите! — завопила она и по нашим лицам поняла, что такая реакция неуместна.
Минуту длилось неловкое молчание, потом я произнесла:
— И вот из-за такой ерунды ты убила своего мужа?
— Он заслужил! — крикнула эта дура. И только потом сообразила, что сама во всем призналась! — Он умер от сердечной недостаточности! — она старалась сгладить свой промах. — Доктор Бауэр может подтвердить!
И тут настал мой час. Подробно, шаг за шагом, не упуская ни одной мелочи, я выложила ей всю историю о том, как выудила из нашего мусорного контейнера ту самую бутылку с соком и как в конце концов получила результат экспертизы.
— Лопух! — фыркнула Сильвия поверх моей головы в сторону Райнхарда. — Ни о чем попросить нельзя! Я тебе велела бутылку в урну обычную выбросить, на улице! Так нет же, два шага пройти было лень! Да любой знает, что у Анны бзик — она мусор сортирует как одержимая!..
— Уймись, Сильвия, — тихо проговорила я, — я звоню в полицию.
Все-таки роза — самый красивый цветок! Вот и Рашель Руиш вплела в свой букет бледно-кремовую благородную розу, поместив ее в самый центр и окружив самыми простыми, обычными цветами, что радуют глаз в любом саду: яркие оранжевые герберы, синий львиный зев и дикая роза, не окультуренная сестра королевы букета. Свежие оттенки так и сияют на темном фоне. Художница — работа ее датируется 1695 годом — ничего еще не знала о розовых садах века девятнадцатого, о тех, что украшали, скажем, королевские парки Мальмезон или Сан-Суси. В ту пору существовали лишь крестьянские угодья, где среди коренастых выносливых фруктовых деревьев, овощей, зелени и прочих цветов попадались порой и розы. Если кто собирался нарвать букет цветов, подобно Рашели Руиш, тому приходилось беречься острых шипов. Колючки написаны весьма реалистично, не очень-то схватишь!
Да, кстати, коль уж я решила помечать мои будущие натюрморты бутоном розы, не забыть бы мне о шипах. Розочкой назвал меня мой первый мужчина, но он вряд ли мог тогда подумать, что и у меня есть чем уколоть и я умею за себя постоять.
Понемногу до Сильвии стало доходить, в какую сложную ситуацию она попала. На Райнхарда ей надеяться было нечего, от него помощи не дождешься.
— Вы ничего не докажете! — бросила она нам упрямо. Шедевр самозащиты, нечего сказать! Но вообще-то она, похоже, была права. Если тело эксгумировать, а потом провести вскрытие, то, может быть, уже никакого яда и не обнаружат. И я решила: блефовать так блефовать!
— Нет, Сильвия, концентрированный раствор дигиталиса оставляет следы в организме месяцами. Кремировать надо было.
Мы уже не сидели все вместе. Я осталась на софе, чтобы лишний раз не двигаться, а Сильвия и Райнхард отсели друг от друга как можно дальше.
Мой муж напустился на свою любовницу. Я ликовала.
— Из-за твоей клеветы у нас брак разваливается! Анна меня теперь держит за убийцу! Как нам теперь вместе оставаться после такого?! — кричал он.
Ах вот оно что! Вот он как от меня избавиться захотел! Я тут же нанесла ответный удар:
— Забирай его себе, Сильвия, всего бери, с потрохами! Желаю счастья! У него всегда такое замечательное настроение, такие оригинальные идеи! А темпераментный какой! Но только придется потерпеть, конечно, не сразу же вам воссоединяться. Лет эдак через пятнадцать — в самый раз!
У Райнхарда чувства юмора не было никакого, так что он моментально полез в драку:
— Продавать меня вздумала, как с молотка! Не дождетесь! Я лучше до конца дней своих в монастырь уйду!
И вдруг Сильвия, чего никто не ожидал, не выдержала — началась исповедь, да какая! Камень бы не выдержал! Мы услышали душераздирающую историю о несчастливом браке, полном печали и горя, о совместной жизни, омраченной с самого начала неизменным сексуальным разочарованием. Удо всю жизнь клеился к молоденьким девчонкам, а жене доставалась лишь остывшая зола. И тогда в первый раз… Сильвия все пыталась понять, как же оно, у других-то женщин? Ведь наверняка по-иному! И она завидовала чужим женам.
— Ты помнишь, — жаловалась она, — ты помнишь, ты рассказывала, как у тебя было, ну там, на строительный лесах?..
Райнхард пунцово покраснел и хлопнул кулаком по столу. Выразить с помощью нормативной лексики то, что хотелось произнести, он не смог. Мне даже жалко его стало.
Вообще-то мне давно уже следовало прекратить всякие разговоры и позвонить в отдел убийств. Я с трудом поднялась, сидя до телефона было не дотянуться. В этот момент кухонный нож, что я принесла из дома, переселился из сумочки в мой сжатый кулак: мало ли что, того и гляди получу новый удар в спину. Но Сильвия вдруг взмолилась со слезами:
— Не звони! Не надо! Я все исправлю! Сомневаюсь. Она что, умеет воскрешать мертвых? Или спасать разваливающиеся браки? Или она тянет время, коварная, а сама придумывает новую гадость? Любопытство перевесило, я остановилась.
— Ну, ну, интересно, как это ты собираешься все исправлять, интересно? Послушаем! — И нож сверкнул у меня в руке.
— Может, деньги? — неуверенно проговорила она.
— Сколько? — подхватил Райнхард.
Ох, не нравится мне, что он лезет! Продешевит, черт побери! Мало мне, что я годами мучилась от его жадности?! Его даже собственная мать скупердяем зовет! Для Райнхарда тысяча марок — целое состояние, а шантажист из него — ни к черту! Молчи уж, лучше я!
— Я забуду о полиции при одном условии. Ты с Райнхардом будешь жить в нашем домике, а я перееду сюда, мне же тоже где-то надо жить! Так что предлагаю — обмен домами!
Зареванная Сильвия едва не расхохоталась:
— С ума сошла? Не собираюсь я в вашу конуру собачью переезжать! У меня совсем другие планы. У меня теперь денег полно, я теперь одна, я свободна и независима. Поеду на север страны, куплю себе там конный завод. Мне никогда не нравилось в Вайнхайме. Хочешь здесь жить — пожалуйста, снимай, плати две тысячи марок в месяц, только где ты их возьмешь?
— Да, снимать твой дворец мне и впрямь не по карману, — согласилась я, — но ты меня не поняла. Я хочу не снимать твой дом, я хочу им обладать, владеть, понимаешь? Я хочу, чтобы ты мне его подарила.
Они уставились на меня в изумлении.
— Я не могу, не имею права, — медленно произнесла Сильвия, как будто специально растягивая слова, будто объясняла что-то умственно отсталому человеку, — это не только мой дом, это наследство моих детей. Не могу я его просто так вот взять и отдать!
— Когда ты сядешь в тюрьму, много им проку будет от этого наследства, — сухо отвечала я, — не хочешь, как хочешь, я звоню в полицию! — Я поиграла ножичком в ладони, и он снова заблестел.
Супостаты глядели на меня во все глаза и не верили. А я была в ударе, и мне пришел в голову новый блестящий ход:
— Кстати, у моего адвоката лежит протокол убийства Удо. Если со мной что случится, документ распечатают, — соврала я.
Ни слова правды, ну да ничего, надо будет, устроим и это!
Когда мы наконец вернулись домой, Йост тут же воспользовался ситуацией. Он почуял, что у нас перед детьми совесть нечиста.
— Ну, если мне нельзя серьгу, так хоть тамагочи купите! — потребовал он. Отец так свирепо на него взглянул, что сын тут же исчез в своей комнате.
В голове моей все было кувырком, одно я знала точно: мои дети хотят есть. Я быстренько достала из морозилки две камбалы. Знаю, знаю: Райнхард ненавидит рыбьи кости и рыбных блюд избегает. Ну и черт с ним! Когда еда уже стояла на столе, муж скривил физиономию, как только что при виде нашего сына. Через некоторое время я заметила, что он пакует чемоданчик. Ему надо на работу, проскулил он, в офисе он останется ночевать, там он сможет остаться один и обо всем поразмыслить.
— Какой-то папа сердитый и колючий, как еж морской, — обиделся на него Йост.
Как только захлопнулась дверь, меня обуял страх: а вдруг Райнхард сейчас поедет к Сильвии и начнет с ней торговаться. Может быть, он и впрямь ни об одной из нас и слышать больше не желает, но кушать-то хочется, денежки-то манят! Жадность свое дело сделает!
После этого мы несколько дней не виделись. Дети скучали по отцу и все спрашивали о нем. «Сходите к нему в офис, — отвечала я, — только сначала позвоните, а то еще не застанете его там». Но им было лень двигаться.
На другой же день после разборки я пришла к нотариусу и оставила у него письменное свидетельство об истинной причине смерти Удо. Я в любой момент ждала от Сильвии удара в спину. Чтобы на руках у меня был документ об экспертизе сока, я попросила Герда Трибхабера составить отчет.
— Сделаю, Розочка, все сделаю, — согласился он, — но ты за то пойдешь со мной ужинать!
— Заметано! — отвечала я.
В сопровождении изумленного юриста я снова нанесла визит Сильвии. В завещании Удо она названа единственной наследницей всего имения, а потому ничто не мешает нам скоренько переписать домик на меня, а бывшей хозяйке объявить день, когда она обязана покинуть свое бывшее жилище. К тому времени она была уже никакая, так что сразу согласилась на все. И, удивительное дело, обе мы вдруг забегали, засуетились, заспешили. Пару недель встречались чуть ли не каждый день. Сильвия озадачила своего маклера, чтобы тот поскорее нашел ей на севере какую-нибудь крестьянскую усадьбу. И вскоре, радостная и возбужденная, разложила передо мной план и фотографии своих будущих владений.
— Ты лучше с Райнхардом посоветуйся, — предложила я, — он-то лучше разбирается.
Сильвии предложили сразу несколько поместий с конюшнями, и она желала осмотреть все.
— Я смогу разводить там лошадей! Не хочешь со мной поездить, посмотреть? — спрашивала она по старой привычке. — У тебя глаз острый!
— Дочерей своих возьми, — отвечала я, — это им с тобой переезжать, а не мне!
Но Коринна и Нора забастовали и ехать отказались. Переезжать, менять школу, терять друзей! Они перестали разговаривать с матерью.
Позже я узнала, что Сильвия и вправду искала Райнхарда в бюро, чтобы посоветоваться. Он ей в помощи отказал. Предполагаю, что ее в итоге несколько надули, когда она покупала землю. Ей, кажется, сплавили разоренное крестьянское хозяйство в Шлезвиг-Гольштейне, и она так спешно уехала, что не успела даже отстроить толком свой новый дом. Следующие десять лет ей придется провести на стройке, среди кирпичей и гор мусора.
Сейчас уже и не представляю себе даже, как это я успела в те безумные дни нарисовать натюрморт для подруги Эллен. В саду нашем давно уже отцвели все незабудки, пришлось для подспорья использовать учебник ботаники. Но, вы же понимаете, когда в доме нет мужчины, у женщины появляется масса свободного времени. Нет больше совместных вечерних бдений перед телевизором, нет вечной болтовни, прогулок и тихих домашних воскресных обедов, ничто и никто не отвлекает. Я с удовольствием и с любовью пекусь о своих чадах, звоню подружкам почаще и стараюсь не запускать мое «осиротевшее» хозяйство. Но каждую освободившуюся минуту я рисую, рисую, рисую… Я даже как-то расстроилась, когда моя работа была закончена. Но, с другой стороны, она вдохновила меня на новые эксперименты. Я научилась изображать перспективу, освоила пропорции, композицию, научилась улавливать оттенки, игру света и тени.
Однажды я дала в газету объявление: «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДАРОК! РИСУЮ ЛЮБИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ. ВЫПОЛНЯЮ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НАТЮРМОРТ. ТЕЛЕФОН: 04-04-31». Такие же объявления, написанные от руки, я разложила в нашем книжном магазине и супермаркете.
Кое-кто позвонил, спросил цену и сроки работы. Прежний заказчик Райнхарда Гельмут Рост хотел, чтобы я нарисовала его коллекцию часов, но потом не перезвонил. В конце концов ко мне наведалась супруга одного банкира и попросила показать мои картины. Ей хотелось подарить мужу натюрморт к десятилетию свадьбы. Такой, где «ожили бы», как она выразилась, предметы, напоминающие о счастливейших днях совместной жизни.
Она стала перечислять: ноты одной арии из оперы Моцарта — она познакомилась со своим благоверным на концерте, — меню из ресторана, фотография и высушенный лист гингко. Тут я ее перебила: почему бы просто не сложить все эти бумаги в определенную композицию и под стекло, как гербарий! Сухой лист, например, просто создан для этого! Хм, отличная идея, согласилась она, удивленно глядя на меня, и откланялась.
Люси подбила Готтфрида тоже сделать мне заказ. Хор, в котором он пел, праздновал юбилей — двадцать лет. Участники хора решили преподнести хормейстеру оригинальный подарок. Никто, однако, не подумал, что это могут быть нарисованные любимые предметы, которые я разложу на своем кухонном столе и перенесу на бумагу, скорее всем хотелось сделать портрет солистов, героев прошлых концертов. Например, библейский царь Соломон Генделя обнимает Fairy Queen из Перселла. Моих скромных талантов на такое не хватило. Нет, господа, я пас!
Когда однажды позвонил владелец одного дорогущего ресторана, я не сильно надеялась на успех. Но именно его идея оказалась не только оригинальной, но и вполне реализуемой. Господин Ферингер заказал натюрморт для своей возлюбленной — поварихи, что специализировалась на овощах. За долгое время их отношений он подарил ей целый ювелирный магазин, и теперь хотел, чтобы я изобразила все эти броши, кольца, цепи на бумаге и переплела с блюдами из ресторана. Это можно, справлюсь, подумала я вдохновенно. Работала целую неделю, в результате — декоративное панно под названием «Украшенные овощи». Заказчик был в восторге.
Гранатовое колечко красуется на ростке спаржи, сережка — стебель лука, брошка украшает кочан капусты, а грибы и морковь оплетают нити мерцающего жемчуга. А из каждого из четырех уголков картины выглядывает маргаритка, так пожелал заказчик, потому что его ненаглядная носила имя Дэйзи.[36]
Господин Ферингер повесил мою работу в своем респектабельном заведении над буфетом и всем меня рекомендовал. Так у меня появились новые заказчики. Я зарабатываю не бог весть сколько, особо не разгуляешься. Но на жизнь хватает. Райнхард каждый месяц аккуратно присылает чек — алименты для Лары и Йоста.
Накануне Рождества я с детьми переехала в нашу виллу, а их отец вместо черного кожаного дивана по-прежнему спит в маленьком стареньком домике, на деревенской кровати, застеленной бельем в красную клеточку. А у меня пустовало несколько комнат, их в доме слишком много, всех мне не занять. Лучше сдам парочку внаем, решила я. Так к нам переехала Имке, и не случайно. Лара с Йостом каждый получили свои комнаты, в зимнем саду я устроила себе мастерскую. Вот это да, сколько же тут места! Какой простор! Большая гостиная и столовая — огромное свободное пространство!
Переезд меня только порадовал. Имке живет теперь в комнате рядом с Ларой, в бывшей спальне хозяев. Живет и не знает, что там умер Удо. А вообще-то они с моей дочерью стали закадычными друзьями, не разлей вода. Каждые выходные пекут вместе пирог, а Имке читает Ларе стихи Германа Гессе.
Я же приобрела наконец отдельную кровать. «Здоровую», если выражаться в терминологии моей маменьки. И поставила ее в бывший кабинет Удо. Здесь, в этой комнате, ничем не омраченной, меня перестанут преследовать кошмарные сны и злые духи. Наконец-то я разрешила паукам плести свою паутину повсюду в моем доме, где им заблагорассудится. Райнхард такого никогда бы не потерпел. Тонкие сетки, что они сплели вокруг, защищают и укрывают меня.
Месяца через четыре я узнала от Биргит, что у Райнхарда завелась подружка. Он осматривал как-то один дом, где все работает на солнечных батареях, и познакомился с молодой архитекторшей, Мартиной, которая чрезвычайно интересуется альтернативными источниками энергии и тепла в жилых домах. Она была без работы, а что касается прозрачных теплоизоляторов, то у нее были весьма неплохие шансы. Скоро она перебралась к Райнхарду, и без работы осталась Биргит. Мартина справляется со всякой секретарской канителью, не забывает наполнять стиральную машину и превосходно готовит домашнюю лапшу и фрикадельки, видно, в детстве еще научилась. Лара частенько заглядывает к своему папочке и сообщила мне недавно, что он называет свою новую пассию Солнышком, а она его в шутку дразнит Храпосвистуном. Зато под руководством Мартины Райнхард наконец-то научился грамотно сортировать мусор.
Любопытная дочь бесцеремонно спросила отца, когда он на Мартине женится.
— Когда рак на горе свистнет, — проворчал он в ответ.
Может, мне следует порадоваться за своего муженька? У него, кажется, жизнь налаживается. Ну не знаю. К сожалению, я не склонна к такой филантропии. Я печалилась, огорчалась, меня брала досада и тоска, я категорически восставала против новой женщины моего мужа, но в то же время требовала от Лары каждый раз, чтобы она подробно, в деталях описала мне, как Мартина выглядит.
— Нормально, — заверяла меня дочка.
— А как она одевается? — не унималась я.
— Ну так, ничего особенного, не знаю даже, — размышляла Лара, — пойди, сама погляди.
Ну уж нет, гордость не пускает!
Порой я в ударе, строю планы на будущее, фантазирую, каким будет мой сороковой день рождения, куда мы поедем в отпуск с Эллен, рисую, вью гнездо в новом жилище, хожу на курсы гравюры или на выставки. Весной я даже собираюсь заняться садом. Прикидываю в уме, не вырубить ли мне кусты рододендрона, который так любила Сильвия? Какое счастье: хочешь спать — идешь спать, хочешь приготовить обед — готовишь, и в принципе никому не подчиняешься, одна только забота — твои дети! Но иногда, как сегодня, например, накатит вдруг такая грусть, становится так одиноко, что выпить хочется. А еще беспокоит Йост: он замкнулся в себе, агрессивным стал, на меня огрызается, в школе отстает, плачет по ночам во сне.
На днях я узнала, что Люси и Готтфрид устраивают вечеринку и пригласили не меня, а Райнхарда с Мартиной. А вот Биргит, которая тоже теперь не у дел, недавно позвала к себе меня. Я пришла одна, остальные все были супружеские пары. Народу было много разного, я сидела рядом с двумя дамами, которые весь вечер сверлили меня сердитыми, чуть ли не враждебными взглядами. Я знаю, что обо мне судачат: будто покойный Удо завещал мне, своей любовнице, виллу. А бедную Сильвию прогнали со двора вместе с дочками, и она теперь до конца дней своих будет прозябать на краю света.
Поздно вечером гости разошлись по домам, парами, понятное дело. Одна я возвращалась без спутника, не с кем было обсудить прием, посплетничать об ужине и о гостях. А дома давно уже спали дети и Имке. Райнхарда мне иногда не хватает просто хотя бы для того, чтобы с кем-нибудь повздорить.
Сильвия пока тоже в одиночестве. Недавно она мне звонила, обменялись новостями. На самом деле, кроме прадеда, у нас еще много общего: мужа нет, переехали недавно на новое место, и дети наши растут без отцов. Дочки ее опять обожают кожаную одежду и недавно примкнули к какой-то сомнительной местной тусовке деревенских рокеров, с которыми по вечерам на тракторе катаются в соседнее село на дискотеку. Сильвии жаль, что ее потрясающая кухня, набитая новейшей техникой, осталась у меня, ей теперь приходится устраиваться в поместье с нуля, на пустом месте. В спешке она даже не успела выгрести хлам из подвала и с чердака.
Если у меня будет время, я могла бы туда заглянуть. Кто знает, что меня там ждет?
Впрочем, я Сильвию простила. Она не виновата, что распался мой брак. Он разбился на мелкие осколки, когда Имке, безумная от любви, явилась к Райнхарду в офис, и он понял это по-своему.
Мне порой даже кажется, что Сильвия, хотя и носится со своим вдовьим статусом, скучает по Удо. Просто, наверное, свобода повенчана с одиночеством, как жена с мужем.
Примечания
1
Triebhaber (нем.) — человек, влекомый инстинктом.
(обратно)2
Баллада «Дикая роза» (1771). Перевод Д. Усова.
(обратно)3
Перкео — знаменитый пфальцский шут-пьяница.
(обратно)4
Виннету — храбрый индеец, герой многотомного приключенческого романа немецкого писателя XIX века Карла Мая.
(обратно)5
Игра слов: reiten — скакать, Reithose — рейтузы, бриджи (нем.).
(обратно)6
Дисперсные красители — неионные, почти не растворимые в воде краски, используются в основном для окрашивания химических волокон.
(обратно)7
Высокие технологии (англ.).
(обратно)8
Розовый понедельник (Rosenmontag) — один из главных дней, пик и переломный момент карнавала в Германии, день завершающего карнавального шествия, после чего карнавал идет на убыль и заканчивается, переходя в Пост.
(обратно)9
Жорж де Латур (1593–1652) — французский художник. Ему не было равных в использовании света для моделирования объемов.
(обратно)10
Petit prince — маленький принц (фр.).
(обратно)11
Рулант Саверей (1576–1639) — голландский художник и рисовальщик, мастер пейзажа, натюрморта и анималистического жанра, представитель позднего маньеризма. В качестве мотивов избирал обычно фантастические пейзажи с экзотическими животными, к которым часто добавлялись мифологические сцены.
(обратно)12
Георг Флегель (1566–1638) — немецкий живописец, один из первых немецких мастеров натюрморта.
(обратно)13
Караваджо, Микеланджело Мериди да (1573–1610) — итальянский художник раннего барокко. Влиянием его драматической светотени отмечена вся европейская живопись XVII в.
(обратно)14
«Красавица, которой принадлежит моя жизнь» (фр.).
(обратно)15
Питер Клас (ок. 1597-погр. 1661) — голландский живописец.
(обратно)16
Искья (Ischia) — остров у западного побережья Италии, недалеко от Неаполя.
(обратно)17
Вперед! Поехали! (ит.).
(обратно)18
Итальянская авиакомпания.
(обратно)19
Ханс Мозер — австрийский актер.
(обратно)20
«Цветы зла» — сборник французского поэта Ш. Бодлера (1821–1867).
(обратно)21
Fritto misto — досл. «жареная смесь», блюдо из разных сортов жареного мяса (ит.).
(обратно)22
Итальянское блюдо из телятины (ит.).
(обратно)23
«Немка?» (ит.).
(обратно)24
«Роскошная!» (ит.).
(обратно)25
«Прощай, красавица!» (ит.).
(обратно)26
Лечебные грязи.
(обратно)27
Папагалло — от ит. «pappagallo» — попугай. Обозначение итальянских мужчин на побережье, всегда готовых крутить курортный роман с туристками.
(обратно)28
Латинский любовник (англ.).
(обратно)29
Pokerface — досл. «покерное лицо» (англ.). Во время игры в покер лицо одного из игроков принимает бесстрастное, лишенное эмоций выражение, что вводит в заблуждение остальных игроков, так что они не догадываются, какие карты на руках у их противника.
(обратно)30
Il fungo — гриб (ит.).
(обратно)31
Закуски (ит.).
(обратно)32
Прости, страшно неудобно! (англ.).
(обратно)33
Амброзиус Босхарт Старший (1573–1621) — голландский живописец, один из первых среди художников своего времени специализировался в жанре натюрморта, изображал цветы и фрукты.
(обратно)34
Луис Эухенио Мелендес (1716–1780) — испанский художник эпохи рококо; портретист, миниатюрист, автор натюрмортов.
(обратно)35
Любен Божен (1610/1612—1663) — французский живописец. Искусствоведы считают, что описываемый натюрморт нельзя приписать этому художнику с уверенностью.
(обратно)36
Daisy — маргаритка (англ.).
(обратно)

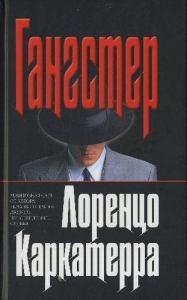


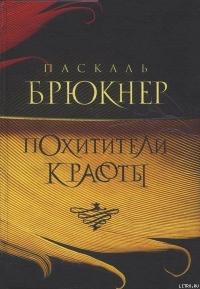

Комментарии к книге «Натюрморт на ночном столике», Ингрид Нолль
Всего 0 комментариев