Эдварду Л. Кингу и Алберту Брэйзлтону, моим товарищам
В основе человеческой жизни лежит принцип недостаточности.
Жорж БатайГордость сердца твоего обольстила тебя;
ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем:
«кто низринет меня на землю?»
Книга пророка Авдия, 3.До
Карта разворачивалась неохотно, вырываясь из рук, и когда кто-нибудь из нас отпускал один из ее углов, тут же пыталась свернуться вновь. Бумажная земля прыгала перед глазами и, чтобы ее успокоить, нам пришлось поставить свои пивные кружки на каждый из четырех углов карты. Отрезок реки длиною в сто пятьдесят миль, ужатый в пару десятков сантиметров, змеился между нарисованных гор. Льюис взял карандаш и точным, уверенным движением отметил место, где зеленая окраска сменялась коричневой. Карандаш пополз вниз по реке, с северо-востока на юго-запад, пробираясь сквозь леса. Я не столько смотрел на карту, сколько следил за рукой Льюиса, которая обладала способностью останавливать течение рек – они замирали, когда Льюис останавливал руку, объясняя что-либо, и возобновляли свое движение, как только рука начинала двигаться дальше. Карандаш перевернулся в руке и тем концом, в который была вставлена резинка, обвел невидимым контуром район протяженностью не меньше пятидесяти миль, внутри которого река была особенно извилиста и зажата со всех сторон теснинами.
– После того, как проведут очередное геодезическое обследование этих мест и будет опубликована новая карта, – сказал Льюис, – все это будет отмечено голубым. У Эйнтри уже начали строить новую дамбу, ее должны закончить следующей весной. Когда реку полностью перегородят, весь этот район быстро окажется под водой – воды в реке предостаточно. Но пока эти места совершенно дикие. Когда я говорю «дикие», я имею в виду именно дикие, полностью безлюдные, как в некоторых районах Аляски. И нам нужно побывать там сейчас, пока туда не придут застройщики и не превратят эту необжитую местность в то, что они называют «райскими уголками».
Я, склонившись над картой и уставившись на участок, обведенный невидимым контуром, попытался представить себе эти, по словам Льюиса, девственные земли, пока свободные от присутствия человека, и грядущие изменения. Быстро поднимется вода, остановленная дамбой, возникнет озеро, на берегах которого найдутся отменные участки, пригодные для застройки; цивилизация принесет с собой моторные лодки и загадит все пустыми банками из-под пива... Я сделал глубокий вдох, потом выдох, чувствуя, как во мне зарождается желание отправиться в этот неизведанный край. Мышцы моего тела, особенно на руках и на спине, сообщили мне, что они готовы к работе. Я обвел взглядом помещение бара, потом снова взглянул на карту. Отыскал глазами то место, с которого мы должны были начать наше путешествие. Немного к юго-востоку окраска на карте менялась.
– Насколько я понимаю, здесь начинаются возвышенности? – спросил я.
– Да, – сказал Льюис, быстро взглянув на меня – будто для того чтобы удостовериться: понимаю ли я, насколько он терпимо относится к тому, что я так слабо разбираюсь в картах?..
Ага, он явно собирается воспользоваться моим незнанием для того, чтобы преподать очередной урок, прочитать мораль, вывести жизненный принцип, указать Путь, подумал я.
Однако на этот раз Льюис ограничился лишь кратким сообщением:
– Очевидно, здесь река протекает по ущелью, или что-то вроде того. Но этот участок можно проплыть за один день, причем запросто. И течение здесь хорошее, особенно вот тут.
Я не очень представлял себе, что значит «хорошее течение», но раз Льюис определил его как «хорошее», значит, оно должно было отвечать каким-то определенным стандартам. У Льюиса ко всему, чем бы он ни занимался, было свое особое отношение. И занимался он чем-либо прежде всего потому, что имел возможность проявить это свое особое отношение. Особенно он любил заниматься каким-нибудь исключительно специализированным и трудным видом спорта – обычно таким, который не требовал участия кого бы то ни было еще, «одиночным», – и вырабатывал свой особый подход к нему, изощряясь как только можно. Льюис вовлекал и меня в свои увлечения. Мы вместе занимались стрельбой из лука, спортивной ловлей рыбы, тяжелой атлетикой и спелеологией. Во всем этом он достигал высочайшего мастерства, тайну которого держал в секрете ото всех. А недавно он увлекся плаванием на байдарках...
Я распрямился и вернулся из плоского мира карты в мир вокруг меня.
Напротив меня сидел Бобби Трипп. Прилизанные редкие волосы и гладенькое, розовое лицо. Из всех сидевших за столом я знал его меньше всего, но, несмотря на это, он мне очень нравился. Он был в должной мере циничен, и у меня складывалось впечатление, что он до некоторой степени разделял мое убеждение в том, что нам не стоит принимать Льюиса слишком всерьез.
– Говорят, что время от времени такое находит на степенных, зажиточных граждан, – сказал Бобби. – Но большинство в таких случаях просто отлеживается, пока не пройдет зуд.
– Да-да, растягиваются на диване и так и валяются, пока их не вынесут ногами вперед, – отрезал Льюис.
– Известное дело – так обычно и говорят себе: вот, ближайшими днями начну приводить себя в порядок, займусь спортом. Вроде как в школе – определят тебя в группу усиленных занятий физкультурой и заставляют заниматься бегом на короткие дистанции, который вышибает из тебя весь дух. Время от времени можно бегать трусцой по утрам – это нормально. Но заниматься спринтом? Или плавать на байдарках по реке?
– Вот как раз и предоставляется шанс отправиться по реке на байдарках, – сказал Льюис. – Абсолютно реальный. Мы можем отправиться в пятницу, если вам удастся отпроситься с работы. Мы можем поехать все четверо, а если нет – то поеду я с Эдом. Но я должен знать прямо сейчас, поедете вы со мной или нет. Ведь понадобится еще одна байдарка.
Мне нравится Льюис. Я чувствовал, как меня – в который раз! – захватывает его восторженность, его непредсказуемые увлечения, благодаря которым мне уже доводилось ходить с ним на охоту с луком и стрелами и выслеживать лис. А однажды мы спустились глубоко под землю, в крошечную пещеру, где было чертовски холодно, и там обнаружили одну дохлую, окаменевшую лягушку. Льюис был единственным из моих знакомых, который распоряжался всем в своей жизни именно так, как ему этого хотелось. Он постоянно говорил о том, что собирается переехать жить в Новую Зеландию, или в Южную Африку, или в Уругвай, но так как ему необходимо все время находиться поблизости от земли и дома, которые он унаследовал и теперь сдает внаем, я не думаю, что он действительно когда-нибудь соберется и уедет. Но внутренне он постоянно куда-то отправлялся, постоянно пребывал в иных местах, постоянно делал то, чего не делали другие. Это таинственное умение, так высоко в нем развитое, производило на меня большое впечатление. Он был не просто независим от внешних обстоятельств, не просто действовал лишь по своему усмотрению – он всегда был полон решимости действовать. Он был одним из лучших стрелков из лука во всем штате и несмотря на свои тридцать восемь лет – исключительно сильным человеком физически. Ни у кого я не встречал более крепкого рукопожатия. Каждый день Льюис отводил время для занятий со штангой и с луком, чередуя первое со вторым таким образом, что добился поразительных результатов – двадцатикилограммовый лук при полном натяжении тетивы он мог держать на вытянутой руке не меньше двадцати секунд. Однажды мне довелось увидеть, как он стрелой подстрелил взлетающего перепела с двадцати метров. Стрелял он алюминиевой стрелой для спортивной стрельбы по мишеням. Стрела нырнула в птичьи перья, когда перепел уже взлетал.
Обычно я отправлялся с ним повсюду, куда бы он ни звал меня. У меня тоже был лук, который он сам помог мне выбрать, и всякие другие штучки, приобретенные в комиссионном магазине, необходимые для стрельбы. И в хорошую погоду мне доставляло удовольствие, прихватив лук, отправляться с Льюисом в лес. А погода в охотничий сезон в наших местах, на юге Штатов, обычно хороша. Мне очень нравилось бродить по лесу вместе с Льюисом, и я полюбил стрельбу из лука. К тому же, всегда был шанс – хотя, надо признать, весьма призрачный, – подстрелить оленя. В любом случае, это было значительно лучше, чем заниматься игрой в гольф. Но главное, что меня привлекало в этих прогулках – это был сам Льюис. Из всех людей, которых я знал, он был единственным человеком, полным решимости получить от жизни все, что она может дать ему, и который при этом имеет не только желание и волю, но и средства, необходимые для достижения этой цели. И меня очень интересовало, что у него из всего этого получится.
Сам я не очень люблю предаваться досужим размышлениям, и по поводу предлагаемого путешествия по реке у меня возникли лишь самые положительные эмоции. Выпустив столько стрел по бумажным силуэтам, я очень хотел попробовать поохотиться с луком на настоящего, живого оленя.
– Ну, а как ты собираешься добраться до этой самой реки? – спросил Дрю Боллинджер.
– Вот здесь, сразу за возвышенностями, маленький провинциальный городишко. – Льюис показал на карте. – Зовется он Оури. Мы можем доехать до него на машинах, потом спустить на воду байдарки и через пару дней доберемся вот сюда, до Эйнтри. Если мы отплывем в пятницу, где-нибудь поближе к вечеру, то к вечеру воскресенья уже вернемся домой. Еще успеем посмотреть бейсбол.
– В этой затее меня беспокоит лишь одно, – сказал Дрю. – Мы толком не знаем, куда отправляемся. Никто из нас ни черта не знает ни о том, что там нужно делать в лесу, ни о том, как вести себя на воде в этих твоих байдарках. В последний раз я залезал в лодку Бог весть сколько лет тому назад. На озере Воуди у моего тестя было что-то вроде катера. Я и грести-то толком не умею. А как управляться с этими байдарочными веслами, вообще не имею никакого представления. К тому же, что мне в тех горах делать?
– Зря беспокоишься, – возразил Льюис, ткнув в воздух кулаком. – Сегодня вечером, когда поедешь домой, ты будешь подвергаться большей опасности, чем в байдарке на реке. Едешь ты на машине, а кто-нибудь выскочит из встречного потока, пересечет разграничительную и прямо лоб в лоб с тобой столкнется. Всякое бывает на дороге.
– Я, кстати, тоже хотел сказать, что вся эта затея кажется мне слегка безумной, – промямлил Бобби.
– Ладно, – сказал Льюис. – Я вам сейчас все растолкую. Что ты собираешься делать сегодня до вечера?
– Ну... – начал Бобби; потом, немного пораздумав, продолжил: – Скорее всего, надо будет встретиться кое с кем, обсудить финансовые дела. Потом составить кой-какие документы и пойти к нотариусу заверить.
– А ты, Дрю, что будешь делать?
– Беседовать с нашими коммивояжерами. Нам нужно четко определить, кто чем будет заниматься и почему у нас не все ладится. Как всегда, мы пытаемся увеличить сбыт наших напитков. Иногда продаем больше, иногда меньше. Вот сейчас напиток раскупают неважно.
– А ты, Эд?
– Я? Буду работать над рекламой для «Киттс Текстайл». Там собираются выпускать трусики с изображением котенка. На рекламе должна быть хорошенькая девушка, которая гладит свою кошечку. Не ту, что у нее между ног – настоящую, живую.
– Жаль. Тот мех, что между ног, мне больше нравится, – сказал Льюис и осклабился, хотя говорить о себе, насколько мне известно, ему никогда не нравилось.
Он, не прибегая к разъяснениям, тем не менее продемонстрировал нам, что, собственно, хотел сказать. Он обвел взглядом полупустой бар, в котором мы сидели, подпер подбородок кулаком и стал ожидать решения Бобби и Дрю – поедут они или не поедут.
Я стал склоняться к мысли, что, наверное, не поедут. Они были вполне довольны своей размеренной жизнью и вовсе не маялись скукой, как Льюис и я, а Бобби даже нравилась та жизнь, которую он вел. Насколько мне известно, он был родом из каких-то других мест Юга, кажется, из Луизианы, и с тех пор как перебрался в наш город, – по крайней мере, все то время, что я знал его, – дела у него, вроде бы, шли неплохо. Он был очень общителен, и, наверное, ему бы очень понравилось, если бы кто-нибудь назвал его прирожденным коммивояжером. Он любил общаться с людьми, и многим нравилось общаться с ним – многим совершенно искренне, а некоторым потому, что Бобби был холост и охотно откликался на любые приглашения на ужины и вечеринки. Казалось, он вездесущ. Куда бы я ни отправлялся, повсюду встречал его. Куда ни придешь – там либо ожидают прихода Бобби, либо он, сделав свои дела, только что ушел.
Едешь по улице, смотришь в окно – идет Бобби; приезжаешь в супермаркет – и он там; думаешь – ага, сейчас встречу Бобби, и действительно встречаешь его; не думаешь о нем – и все равно встречаешь. Он был приятным, уравновешенным, поверхностным человеком. Только один раз он на какой-то вечеринке устроил скандал, и я почему-то запомнил этот случай. Я не помню, из-за чего он разошелся, но помню, что лицо у него исказилось страшной гримасой – такое выражение, наверное, бывает у правителя, охваченного бессильной яростью. Но это случилось только однажды.
Дрю Боллинджер был открытым, спокойным человеком, преданным своей семье, особенно своему маленькому сыну Поупу. У мальчика на лбу был какой-то странный вырост, похожий на вздувшийся кровавый пузырь или на рог, росший прямо из одной брови. Этот вырост жутким образом демонстрировал таинственную непредсказуемость и несовершенство телесного устройства человека. Дрю работал распорядителем по сбыту в какой-то большой компании, производящей безалкогольные напитки, и всей душой верил в высокое предназначение этого дела – прямо как в рекламе. У него дома, на маленьком столике в гостиной, всегда лежала брошюра, в которой излагалась история его компании и цели ее деятельности. Только один раз мне довелось видеть, как его вывели из себя. Он возмущался по поводу рекламного заявления конкурирующей, более молодой фирмы, утверждавшей, что их напиток способствует потере веса. «Подлые брехуны! – восклицал Дрю. – В их продукте столько же калорий, сколько и в нашем! И мы это можем легко доказать!»
Мы с Льюисом отличались от них, но и друг от друга мы отличались тоже. У меня не было ни его напористости, ни его одержимости. Льюис хотел быть бессмертным. У него было все, что могла дать человеку жизнь, но это не давало ему удовлетворения. Для него невыносима была мысль, что ему придется расстаться с чем-нибудь из того, чем он обладает, включая здоровье и силу, что время отберет у него столь многое. Он боялся, что тогда, когда у него не будет уже ни прежних сил, ни прежнего здоровья, он обнаружит, наконец, то, что ему так хотелось получить, нечто такое, что существует и подчиняется человеческой воле – но будет уже слишком поздно. Он был одним из тех, кто пытается любыми способами – физическими упражнениями, диетой, чтением книг, начиная от пособий типа «как реализовать себя» и кончая руководствами по таксидермии и монографиями по вопросам современного искусства – поддерживать тело и дух в прекрасной форме, все время совершенствоваться, чтобы освободиться от оков времени. Но, одновременно, он любил, риск. Казалось, бремя так тяжело добываемого бессмертия было слишком велико для него, и он хотел избавиться от него с помощью какого-нибудь несчастного случая – или того, что могло бы выглядеть как несчастный случай. Пару лет назад, отправившись на охоту один, он сломал себе ногу в щиколотке. До своей машины ему пришлось три мили добираться, прыгая на одной ноге и ползком. А потом он сам приехал домой, нажимая на педаль газа палкой. Перелом был очень болезненным. Я навещал его в больнице, прежде всего потому, что мне было совестно – на ту охоту он звал меня с собой, но я не смог с ним поехать. Когда я пришел к нему в больницу, и спросил его, как он себя чувствует, он заявил: «Ве-ли-ко-лепно! Сплошной отдых. Не нужно подымать железяки или лупить по груше».
Вспоминая о том случае, я бросил быстрый взгляд на Льюиса. В нем было что-то ястребиное. Но это был очень особенный ястреб. Обычно, когда смотришь на чье-нибудь лицо, создается впечатление, что оно формировалось сверху вниз или снизу вверх. Когда же смотришь на Льюиса, то представляешь себе скульптора, который лепил переднюю часть его головы, начиная с боков. Получилось вытянутое вперед лицо, с длинным носом, цвета красной глины; волосы были песочного цвета; на макушке – посветлее, так что получалось почти белое пятно в обрамлении более темных волос.
– Ну что? – спросил он. – Надумали?
Я был рад тому, что поеду с Льюисом. Я подумал о Дрю и его заботах по поводу сбыта прохладительных напитков и зримо представил себе то, что мне самому предстояло делать после обеда. Сами по себе зажглись лампы в фотостудии, раздался шорох газет под ногами. Я вполне отчетливо представил себе, как будет выглядеть фотомодель, хотя видел ее только один раз, да и то на фотографии – она стояла во втором ряду участниц, конкурса красоты, проводившегося в соседнем городке. Мой партнер, Тэд Эмерсон, обвел ее на фотографии красным карандашом. Он связался с ней через газету и контору по найму; потом отвез ее в «Киттс Миллз», и там девушка всем понравилась. В рекламном агентстве, с которым сотрудничала «Киттс», девушка тоже понравилась, хотя финансовый распорядитель и заявил, что она показалась ему «не очень-то профессиональной». А теперь и мы собирались фотографировать ее для нашей рекламы. В ее красоте не было ничего экстраординарного, и только после многих проб и компромиссов рекламу с ее фотографией можно будет поместить в рекламный журнальчик с небольшим тиражом, и вряд ли она будет чем-то выделяться среди других рекламных объявлений и фотографий. Я уже видел, как она будет выглядеть. Мне придется провести много часов над макетом; потом пойдут бесконечные препирательства с рекламным агентством, оформление счетов, записи в книгу расходов и все такое прочее... Я действительно был рад, что отправлюсь с Льюисом! Я снова взглянул на карту, и она представилась мне разложенным макетом страницы журнальной рекламы – несмотря на то, что мысленно я уже плыл на байдарке с Льюисом, предвкушение этого путешествия еще не вырвало меня из моей рутины.
С точки зрения композиции, карта оставляла желать много лучшего. Светло– и темно-коричневые, извилистые пятна, обозначающие возвышенности, соседствовали с различными оттенками зеленого; на карте не было композиционного центра, который бы привлекал или останавливал взгляд. Однако все, взятое в целом, притягивало взор – во всех этих пятнах виделась какая-то гармония. Может быть, подумал я, это от того, что на карте попытались представить нечто действительно существующее. А может быть, и потому, что на ней то, что в скором времени изменится, и изменится навсегда. Вот этот голубой цвет у моей левой руки на новых картах будет покрывать значительную часть листа; я попытался мысленно перенестись в те места – туда и никуда больше, – и вообразить хотя бы какую-то одну деталь реального пейзажа, которую я не увижу никогда, если она не встретится мне во время путешествия на байдарках. Я старался разглядеть глаз оленя среди листьев, камешек на земле. В этом мире все исчезает с такой легкостью...
– Я поеду, – заявил Дрю. – Взять с собой гитару?
– Конечно, – ответил Льюис. – В той глуши будет даже вроде как приятно послушать музыку.
Дрю всем сообщал, что у него нет никакого таланта, но, благодаря ревностной приверженности своему искусству, он играл отменно. Он занимался игрой на гитаре и банджо уже двенадцать лет – в основном, предпочитая гитару, – и выучился играть сложнейшие композиции, требующие приличной техники. В его репертуаре были вещи Гэри Дэвиса, Дейва Вэн Рока, Мерла Тревиса, Дока Ватсона.
– У меня есть старенькая гитара, мне ее привели в порядок. Купил у какого-то школьника. Она была тогда в плачевнейшем состоянии, – сказал Дрю. – Можете не сомневаться – свой основной инструмент я бы не взял с собой.
– Ладно, друзья-аборигены, – решился и Бобби, – уговорили. Но я настаиваю на том, чтобы мы были обеспечены хотя бы минимальным комфортом. Я имею в виду выпивку.
– Тащи с собой все, что твоей душе угодно, – сказал Льюис. – Плыть по быстрой реке в байдарке, немножко на взводе – это прекрасно. Обязательно надо попробовать!
– Ты берешь свой лук, Льюис? – спросил я.
– Что за вопрос! – воскликнул Льюис. – И если кому-нибудь из нас удастся подстрелить оленя – будем есть прекрасное мясо, а шкуру и голову заберем с собой. Я обработаю шкуру и сделаю чучело из головы, так, чтоб можно было прицепить на стену.
– Ничего не должно пропасть, а? Уметь делать все – это что, один из принципов выживания в ядерной войне? – съехидничал Бобби.
– Вот именно.
Все это прекрасно – олень, мясо, шкура, – но в сентябре охота еще запрещена. И если нам действительно удастся свалить оленя, то это будет браконьерством. Но я знал, что Льюис вовсе не хвастает и в самом деле сможет сделать все то, что пообещал. Обработка шкур и набивка чучел были теми занятиями, которым он выучился помимо многого другого.
Официантки в сетчатых колготках и сетчатых блузках стали поглядывать на нашу карту. Пора было уходить. Льюис снял кружки с двух углов карты, и она резко свернулась.
– Ты можешь взять свою машину, Дрю? – спросил Льюис, когда мы встали из-за стола.
– Конечно, – ответил Дрю. – У нас две машины, одна в полном моем распоряжении. Мой мальчик еще не такой взрослый, чтобы сидеть за рулем.
– Встречаемся в пятницу, рано утром, в половине седьмого. Мы с Эдом будем вас ждать у «Вилз Плаза Шоппинг Сентер», там, где начинается шоссе. Сегодня вечером позвоню Сэму Стайнхозеру и спрошу, в порядке ли его байдарка. Почти все остальное у меня уже приготовлено. Да, наденьте теннисные тапочки. И возьмите с собой выпивку и хорошее настроение.
Мы вышли из бара.
Ярко светило солнце. Я возвращался к себе на работу и размышлял. Я немного опаздывал, но это, собственно, не имело значения. Мы с Тэдом ни себя, ни других не заставляли перетруждаться на работе. «Мы же не контора по выжиманию пота», – сказал как-то раз Тэд. И был очень рад, когда это его выражение, погуляв по городу, было принесено к нам одним из посетителей. Мы купили нашу студию лет десять назад у человека – которому тогда уже было около семидесяти, – открывшего ее и основавшего дело. Теперь бывший владелец студии посвящал себя тому, о чем мечтал всю жизнь – рисовал туристов, посещающих Куэрнаваку. В определенном смысле работать в нашей студии «Эмерсон-Джентри» было довольно приятно. По крайней мере, условия работы у нас были значительно лучше, чем в других подобных конторах в нашем городе. Тэд оказался вполне толковым бизнесменом, ну а я – когда старался – в своем деле был немножко выше среднего уровня. Я выполнял функции художественного консультанта и директора конторы. У нас в студии работало много седовласых, приветливых мужчин, которые, проработав какое-то время в Нью-Йорке, переехали на Юг, чтобы доживать здесь свой век и умереть спокойно. Они были достаточно компетентными в своем деле, однако мы и не требовали от них очень многого; когда они не были заняты созданием эскизов рекламной иллюстрации или клейкой коллажей, то сидели, откинувшись на спинки стульев и заложив руки за головы. И смотрели поверх своих чертежных досок в никуда, которое всегда было там, где ему и полагалось быть. Время от времени мы брали на работу ребят, закончивших какое-нибудь художественное училище. У них раз в полгода возникала поразительно хорошая композиционная идея, однако все остальное время они выдавали совершенно никчемные решения, по принципу «авось что-нибудь из этого выйдет». Ни один из них не задерживался у нас надолго. Они либо использовали пребывание у нас просто как возможность получить некоторый опыт, а затем искать более выгодную работу, либо уходили, чтобы заняться чем-нибудь совсем другим. За десять лет нашего компаньонства нам с Тэдом доводилось несколько раз брать на работу людей, которые считали себя настоящими художниками. Эти не скрывали, что работают у нас лишь для того, чтобы иметь возможность по вечерам, субботам, воскресеньям и праздникам заниматься своей «настоящей» работой, а не «этой халтурой». Они являли собой самое грустное зрелище, даже более грустное, чем бывший второй пилот бомбардировщика, который некоторое время работал у нас, врисовывая в рекламу мешки с удобрениями; более грустное, чем выпускник училища дизайна, считавший, что ему нужно подыскивать себе какое-нибудь другое занятие, потому что в нашем деле «ему ничего не светит». Один из таких «настоящих художников» развесил на стенках своей загородки репродукции с картин Утрилло[1]. Он был из нашего города, средних лет; ему хотелось оставить о себе, после того, как он уйдет от нас, какое-то воспоминание, хотя всем своим видом и поведением он показывал, что мы для него – промежуточная станция. Но сам он никогда бы не ушел, если бы ему позволили остаться. Но нам пришлось попросить его уйти. Он перебрался на работу в другую студию, а потом куда-то исчез. Мне не встречались люди более увлеченные искусством, чем он. В отличие от Льюиса, у него в жизни было только одно увлечение, и он считал, что у него есть талант, который позволит ему стать крупным художником. К местным художникам и любителям, балующимся живописью по воскресеньям, он испытывал лишь презрение и категорически отказывался посещать выставки их работ. Он постоянно говорил о том, что нужно применять коллажную технику Брака[2]при создании иллюстраций для брошюр, рекламирующих удобрения или установки по обработке целлюлозы, или чего-нибудь еще в таком же роде. И когда он, наконец, ушел от нас, я испытал большое облегчение от того, что мне не придется больше выслушивать всю эту галиматью.
На своем уровне, мы в нашей студии работали неплохо и дружно. Ощущение этого давало мне радость. Мне вовсе не хотелось, чтобы мы прыгали выше головы или становились прибежищем для гениев, которые прямой дорожкой шли к сумасшедшему дому или к самоубийству. Я понимал, что нам сопутствует удача, и надеялся, что эта полоса везенья продолжится и в будущем. Я отдавал себе отчет в том, что своим успехом мы обязаны прежде всего весьма низкому уровню художественного мышления в нашем городе и вообще в нашей части страны. Мы вполне прилично справлялись со всеми заказами. В целом, мы находились в таком положении – в смысле ведения нашего дела, – при котором все, работавшие на нас, оказывались обеспеченными достаточно хорошо. Даже те, кто проявлял весьма мало способностей, однако выполнял свою работу старательно и вовремя. Солидные агентства нашего города и местные отделения действительно крупных агентств Нью-Йорка и Чикаго обращались к нам редко, а если и обращались, то с мелкими заказами. Мы как-то попытались ухватить от них побольше, но они не проявили особой заинтересованности в наших услугах. И мы – по крайней мере, Тэд и я, – были только рады вернуться к нашим обычным заказчикам, среди которых нам больше всего нравились те агентства, которые в чем-то были похожи на нас – не дергали, не торопили с выполнением заказов, заботились о людях, работающих в них. Мы выполняли небольшие заказы, которые поступали к нам от местных банков, ювелирных магазинов, супермаркетов, радиостанций, хлебопекарен, прядильных фабрик. И намеревались и впредь держаться этих заказчиков.
Проходя под большим деревом, отбрасывавшим плотную тень, я почувствовал, как поднимается во мне отрыжка после выпитого пива, но у меня было такое впечатление, что выходит она не через горло, а через глаза. Все вокруг болезненно заискрилось, завертелось на какой-то невидимой оси, и сквозь это искрящееся верчение прочертил свой путь лист, упавший с дерева. По краям он уже был тронут цветом осени, и я впервые осознал, что осень действительно близка. Я стал взбираться по последнему подъему на пути у студии.
Когда я преодолел половину подъема, то вдруг увидел, что вокруг меня одни только женщины. После того как я прошел мимо автозаправки «Галф» на углу, я не видел ни одного мужчины. Я стал высматривать мужчин в проезжающих машинах, но на всем пути до здания, где находилась наша студия, не увидел ни одного. Женщины были, в основном, секретарши, мелкие клерки, молодые, и не очень молодые, и среднего возраста. Их волосы, уложенные в высокие прически со всякими выкрутасами, покрытые лаком для волос, казались плотными как шапки, и от этого зрелища меня охватила тоска. Я озирался, надеясь увидеть хотя бы одну приличную задницу, и мне это удалось; она была обтянута бежевой юбкой. Но когда девушка повернула ко мне свое пустое, глупое лицо, жуя резинку, всякий интерес к ней мгновенно пропал. Я неожиданно почувствовал себя так, как, наверное, чувствовал себя Джордж Холли, наш работник, почитатель Брака, который повторял про себя все то время, пока у нас работал: я с вами, но я не один из вас. Но на самом деле я такого сказать не мог. Я был один из этих людей, меня окружавших, возвращавшихся на работу после обеденного перерыва, быстро поднимающихся по склону и заскакивающих в свои конторы. Поток служащих обходил с двух сторон модернистский фонтан, в котором поблескивали брошенные туда монеты. И я церемонно присоединился к потоку.
Дверь открылась, и прямо у меня перед носом в прохладный холл с кондиционированным воздухом проскочила девушка небольшого роста с высокой конусообразной прической. Я слышал, как женщины, проходившие сквозь вертящиеся двери, тихо, но протяжно вздыхали – обеденный перерыв закончился, снова начиналась работа. Я вздохнул точно так же. В лифте тихо играла музыка – такая музыка, «Мьюзэк», играет в тысячах и тысячах других лифтов Америки. И под мелодию «Венского вальса», которая исполнялась на струнных инструментах, мы поднимались вверх. В промежутке между двумя музыкальными фразами я почувствовал, что желудок у меня сделался каменным. Я немного распустил ремешок, и пиво осело. Вытер лоб изнанкой пиджачного рукава. К шестому этажу добрались только две женщины и я – остальные работали в больших открытых офисах страховых компаний на нижних этажах. Я вышел из лифта и пошел по чистому коридору к нашей конторе, на стеклянных дверях которой было наклеено изображение головы лошади. Холли сделал для нас единственную стоящую вещь – вырезал из большой репродукции Брака птицу, превратив ее в Пегаса. Лошадь вежливо посторонилась, пропуская меня внутрь.
– Кто-нибудь звонил?
– Звонили, но ничего интересного, мистер Джентри. «Шэдоу-Роу Шелл Хоумз» хотели бы ознакомиться с эскизами на следующей неделе. Звонила молодая женщина насчет работы и спрашивала, не могла бы она прийти на собеседование, но не назвалась, сказала, что позвонит позже. Натурщица, которая должна сниматься для «Киттс», уже здесь.
– Большое спасибо, Пег, – сказал я. Пег Ваймен работала у нас секретаршей со дня основания конторы, и это чувствовалось во всем. – Я пойду к себе.
Я отправился через прихожую к себе в кабинет, на ходу медленно стаскивая пиджак. Почему-то только теперь я обратил внимание на то, что холл нашего офиса представляет собой отгороженную часть холла побольше, вытянувшегося по всему этажу. Однако наше помещение было оформлено со вкусом. У Тэда и у меня были действительно прекрасные кабинеты, оснащенные поворотными лампами направленного света; те из наших сотрудников, которые либо работали у нас достаточно продолжительное время, либо получали более высокую зарплату, имели свои небольшие кабинеты, или по крайней мере свои места, отгороженные с трех сторон. Все остальное большое открытое помещение было заставлено чертежными досками. Я остановился и минуту обозревал студию: седые и лысые головы были на своих местах; обладатели блестящих черных волос, вьющихся волос, гладких и прямых волос только возвращались после обеденного перерыва. Странно, но ведь могло случиться так, что я не имел бы никакого отношения ко всему этому – к созданию этой студии, – сказал я себе внутренним голосом, который отличался от того внутреннего голоса, которым я обычно обращался к себе. Но вышло так, что я имел ко всему этому самое непосредственное отношение. Никогда раньше у меня не было такого сильного ощущения, что я пребываю в том месте, которое сам создал. Если бы не я, Олтон Рождерс не сидел бы здесь и не вспоминал о том, как летал когда-то на своем бомбардировщике. Если бы не я, загородка, в которой когда-то сидел Джордж Холли, была бы все еще полна репродукций с картин Утрилло. Если бы не я, головы были бы тут совсем другие, другие пальцы держали бы карандаши и кисти, на столах стояли бы другие стаканы. Все эти люди работали бы в других конторах, их бы здесь просто не было. Все они – вроде как мои пленники. Их жизнь – небольшая часть жизни для одних и большая часть жизни для других – проходит именно здесь.
Но и моя жизнь проходит здесь, в этой студии. На самом же деле я, конечно, не вспоминал их как «узников» нашей студии, но подсознательно рассматривал как людей, которые принадлежат мне. Я вошел к себе в кабинет и, стянув, наконец, с себя пиджак, повесил его. На секунду положил руку на чертежную доску и принял позу, будто собираясь позировать для рекламы: вице-президент студии «Эмерсон-Джентри» принимает важное решение. Одна из тех поз, которая должна была продемонстрировать, что такие решения, делающиеся ответственными лицами средних лет, являются важным фактором в поддержании на должном уровне экономики и морали всего Западного мира. Забавно, но это действительно могло быть именно так. По крайней мере, мне так тогда казалось. Возможно, так оно и есть.
На столе у меня лежали кучи пробных фотографий, и среди них я увидел свою жену и своего маленького сына, Дина. Кругом стояли стопки рекламных буклетов, уже одобренных к печати, и пробных, присланных нам назад от заказчиков. Я отметил про себя, что следует напомнить Тэду о настойчивых предложениях, поступающих от некоторых заказчиков, – заняться выполнением различного рода художественных и оформительских работ. Но идея такой переориентировки нашей деятельности ни мне, ни Тэду не нравилась. Я позвонил Джеку Вэскоу, фотографу, и спросил, готов ли он к съемке. Он был готов, «но еще не совсем», и я сел за стол и стал обдумывать, что бы сделать из необходимого, но что не отняло бы много времени.
Прежде чем заняться чем-нибудь, я просидел с полминуты неподвижно, прислушиваясь к биению своего сердца. И хотя мне в тот момент очень хотелось его услышать, я его не слышал. Из самых моих потаенных глубин выползло ощущение ненужности того, что я собирался делать, и того, о чем я собирался думать, того, на что смотреть – и совершенно неважно, что это должно было быть. Как избавиться от этого гадкого ощущения, задал я себе вопрос. Сделать что-то важное прямо сейчас – вот лучший ответ из всех, которые я мог бы дать самому себе. Просто сделать, и никому ничего не говорить об этом чувстве. Но ощущение бесполезности и бессмысленности любых действий, тем не менее, присуще человеку испокон веков. Оно извечно пугает человека, напоминая ему о смертности и беспомощности. Подобное состояние меня уже пару раз охватывало, и именно когда я был на работе. Хотя, по идее, оно скорее должно было бы приходить, когда я был с семьей, а не на работе, в студии, где всегда было чем заняться, или, по крайней мере, притвориться, что чем-то занимаешься. Хотя это последнее было тяжелее, чем выполнение настоящей работы. Но на этот раз меня ощущение бесполезности просто напугало. Оно так плотно заполнило меня, что если бы даже мне удалось подняться со стула, преодолев невероятно огромный вес так неожиданно обрушившейся на меня вялости и апатии, и я бы пошел доставать воду из холодильника, или беседовать с Джеком Вэскоу или с Тэдом, у меня было бы чувство того, что все это делает кто-то другой. Какой-то бедняга, живущий незаметной и никчемной жизнью, невидимый, как привидение, двигающийся, как бессмысленный автомат.
Я взял со стола пробный вариант рекламы, которую сделал для «Киттс». Если есть вообще что-нибудь, в чем я достаточно уверен, так это в своей способности привести все элементы макета рекламы в некоторого рода гармоническое соотношение друг с другом. В целом, мне не нравилась слишком традиционная, упрощенная реклама с надписями, сделанными крупными буквами, вопящими: «купите аспирин»; не нравилось мне и холодно-безразличное коммерческое эксплуатирование секса; при этом, не нравилась мне также и излишне «творческая» реклама, со всякими там сумасшедшими штучками-дрючками и выкрутасами. Мне нравилась гармоничность, и поэтому я ценил такие композиции, в которых отдельные элементы не вступали в противоречие друг с другом и не подавляли друг друга. В свое время я получил несколько скромных наград за художественное оформление рекламы, хотя, надо признать, в нашем городе уровень творческого мышления невысок, и конкуренция в этой сфере довольно слабая. Дипломы висели в рамочках на стенах моего кабинета.
Я взял со стола предложенный нами вариант рекламы женских трусиков «Китн Бричиз» из искусственного шелка; обнаженная девушка – только в трусиках – стоит спиной к зрителю, голова повернута так, что виден ее профиль. Мы планировали дать ей в руки котенка, который должен был выглядывать у нее из-за плеча. Но если делать фотографию в полный рост, то голова котенка может показаться слишком маленькой, едва заметной. Мы, конечно, могли бы обрезать снимок снизу, нам не обязательно было показывать ноги девушки во всю длину, так, чтобы были видны ее ступни, как на этом настаивал финансовый распорядитель «Киттс». Но мне хотелось, чтобы ноги были видны полностью. Толком сказать, почему, я не могу. Может быть, потому, что мне просто нравится форма ступни. К тому же, на фотографии человек выглядит, как это ни странно, во много раз более убедительно и эффектно, если он представлен весь, без каких-либо изъятий. Мы с нашими заказчиками долго обсуждали эту проблему. Менеджер по сбыту из «Киттс», этот невероятный жлоб, поначалу предлагает позаимствовать идею, использованную в какой-то другой рекламе: там был изображен здоровенный мужик, стягивающий с девушки купальник, обнажая ее попку. «Мы можем повторить этот трюк, но с кошкой, – предложил менеджер. – К тому же, это продемонстрирует прочность трусиков». Но совместными усилиями его удалось отговорить от этой затеи; ему объяснили, что в респектабельном каталоге одежды такую рекламу никто не поместит. К тому же, нам вряд ли удастся найти девушку, которая была бы хороша собой и при этом согласилась позировать для подобной фотографии. В итоге он уступил, но продолжал настаивать на том, чтобы в этой рекламе было побольше эротики, чего мне как раз и не хотелось. Когда мы расставались, он сказал: «Но кто бы там ни позировал, у нее должна быть приличная задница. Эти трусики должны обтягивать ее до отказа».
Я стал прикидывать различные варианты композиции, приближая фигуру девушки к зрителю и, наоборот, удаляя от него вглубь фотографии. Наконец, мне удалось достичь, как мне казалось, вполне приемлемого решения. А буквы мы пустим у нее по бедрам... Но что из себя, все-таки, представляет натурщица? Какое тело оживит мою композицию?
Я отправился в съемочную секцию студии. Там уже распоряжался Тэд. Он, с уверенным видом художника по интерьеру, безапелляционно и споро переставлял с места на место предметы и людей. Натурщица сидела на складном стуле, прикрывая рукой глаза от яркого света. На ней был клетчатый халатик, в котором было нечто карнавальное, – по крайней мере, мне так показалось. Однако в ней самой, слава Богу, ничего карнавального не было. Хотя нас было всего пятеро, включая осветителя, казалось, что вокруг нее толпится много мужчин. Пришла секретарша Тэда – ее звали Вильма, у нее были тонкие злые губы, – она принесла котенка, которого мы раздобыли в Обществе защиты животных. Она держала его, прижимая рукой к груди, и при этом у нее был такой вид, будто позировать должна была она сама. Макс Фрейли, один из наших сотрудников, занимавшихся клейкой коллажей, принес блюдце с молоком. Я сел на край стола и ослабил узел галстука. Безжалостный, ровный, болезненно-голубоватый свет создавал ту особую, противоестественную атмосферу, которую я терпеть не мог – она вызывала у меня ассоциации с тюрьмой и допросами. Она и в этот раз очень неприятно подействовала на меня. Ко всему прочему, сюда примешивался еще и привкус порнографии. Я сразу вспомнил о тех фильмах, которые обычно смотрят в мужской студенческой компании или в офицерских: глядишь на экран и вдруг с ужасом осознаешь, что когда девушка стягивает с себя халат, камера не уйдет застенчиво в сторону, как это делалось в старых голливудских фильмах – камера снимает босые ноги, потом начинает движение вверх, а потом раз – и все исчезает. А тут понимаешь, что камера начнет заглядывать в самые интимные места, как только халатик будет сброшен; такое подглядывание разрушает женственность, грубо срывая покров тайны и не оставляя ничего сокровенного.
Тэд попросил девушку встать. Пальцы ног у нее были большие и сильные. Благодаря им, возникал образ девчонки-сорванца, пышущей здоровьем. Я мог бы побиться об заклад, что девушка росла на какой-нибудь ферме. У нее было тонкое, открытое, немного веснушчатое лицо с серыми глазами. В такие глаза приятно смотреть. А если позволяют заглянуть в них, то обычно обнаруживаешь большую глубину. И я посмотрел ей прямо в глаза, потому что мне вдруг очень захотелось. В ее левом глазу я увидел необычное светлое пятнышко – и сразу ощутил его странное и сильное воздействие. Такое пятнышко не только тут же запоминается, но и всплывает в памяти само по себе. Одной рукой – которая тоже казалась сильной – она спокойно Сжимала воротник халата, плотно закрывая им шею. Девушка откинула назад голову, и под таким углом, что сразу пришел на ум акробатический этюд; волосы свесились назад, не касаясь плеч. В это время появились еще две секретарши, чем-то напоминавшие сестер милосердия или тюремных надзирательниц, и стали крутиться вокруг натурщицы.
Тэд подвел девушку к отметке, сделанной мелом на участке пола, предварительно очищенном от газет. Натурщица уверенно стала на пробковый пол босыми ногами, и Вильма сняла с нее халат. Судя по ступням, я ожидал увидеть мускулистые ноги, но они оказались длинными, плавно очерченными, красивой, гармоничной формы. Я с сожалением отметил про себя, что ей вряд ли удастся долго поддерживать ноги в таком отличном состоянии, и они скоро станут дряблыми. Ее спина выглядела беззащитной, совсем как у девочки, и оттого девушка казалась еще более женственной и милой. Однако больше всего женственности было в ее глазах. Трусики «Китн Бричиз» сидели на ней очень плотно, однако в этом не было ничего вызывающе сексуального. Ее можно было бы воспринимать как сестру, но как раз такого впечатления в нашей рекламе нам и не хотелось создавать. Еще толком не зная, какую я хотел придать ей позу, не зная даже, можно ли вообще добиться нужного нам эффекта изменением позы, я шагнул к ней и коснулся ее плеча.
Она повернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Теперь, с близкого расстояния, я смог получше рассмотреть и пятнышко, сияющее золотом в ее глазу. В нем было больше золотистости, чем в настоящем золоте. Пятнышко казалось живым, и оно как бы увидело меня. Вблизи девушка казалась совсем другой – в мгновение из молоденькой девушки она превратилась в цветущую женщину. Она, как бы совсем непреднамеренно, скрестила руки на груди, и Макс растерянно примеривался, как бы ей подать котенка. Она взяла котенка одной рукой, прикрываясь другой; при этом се ладонь как чашкой накрыла левую грудь. Глядя на этот жест, я почувствовал, как во мне вспыхнуло исконно мужское, глубинное возбуждение – как будто ласкающие пальцы пробежали у меня в паху. Натурщица поставила ноги в очерченные на полу круги, качнулась – свет соскользнул на мгновение с ее плеч – и, наконец, заняла устойчивое положение. Вокруг нее гудели, заливая светом, нити накала в лампах.
Мы закончили съемку, получив, по мнению Тэда, «вполне приличный материал». Однако он сказал, что девушка не очень-то нам подходит и мы вряд ли будем прибегать к ее услугам в будущем. Я вернулся к себе в кабинет и стал заниматься тем, чем не занимался с тех давних пор, когда мы только открыли студию. Все время, оставшееся до конца рабочего дня, я перебирал в уме самые безумные идеи. Ничего толкового из этого не вышло, но перескакивая от одной идеи к другой, мне удалось вызвать весьма необычные ассоциации. Отдавая Тэду кучу эскизов и пробных вариантов, я сказал, что хочу взять на пятницу отгул – мне нужно кое-что сделать по дому. Он не возражал. В конце концов, главную работу на этой неделе мы сделали. И нам удалось кое-чего добиться.
14 сентября
Наверное, во мне присутствовало нечто такое, что мешало мне видеть сны по ночам или лишало меня возможности вспомнить, проснувшись, что мне снилось, если это действительно происходило. Я мог находиться в состоянии либо полного бодрствования, либо полного забытья, из которого выходил медленно. У меня было такое ощущение, что если бы вокруг меня было совершенно тихо, если бы я не слышал ни звука, я никогда бы и не проснулся. Что-нибудь в мире, меня окружавшем, должно было вытянуть меня из сна, ибо каждую ночь я погружался в него настолько глубоко, что если у меня и возникали какие-нибудь ощущения, то это было чувство, что я погружаюсь все глубже и глубже, пытаясь достичь какой-то точки, линии, границы.
В этот раз меня разбудил ветер. Я принялся тащить себя из глубин и, подчиняясь инстинкту самосохранения, в очередной раз старался побыстрее убраться оттуда, где был. Я привык к тому, что в этот мир меня возвращает дыхание Марты – во сне она дышала довольно шумно, – но на этот раз это сделал ветер. Начал меня пробуждать просто шум ветра, а потом ветер стал позванивать маленькими металлическими фигурками на ниточках – Марта их прицепила во внутреннем дворике нашего дома; при первом же дуновении ветра бронзовая сова поворачивалась как флюгер и касалась бронзовых птичек, тихо позванивавших, как китайские стеклянные колокольчики, которые в те времена и в тех краях, где я рос мальчиком, были развешены во дворах всех домов. Звук был тихим, прерывистым, очень приятным – по крайней мере, мне так всегда казалось. И когда я выбрался из черноты сна в темноту комнаты, у меня возникло ощущение, что звон этот может вызвать в памяти какое-то воспоминание. Я лежал без движения, как труп, а комната постепенно становилась реальностью. Рядом со мной, в темноте, лежала моя жена.
Я протянул руку и притронулся к ней, как делал всегда, просыпаясь. Ее голова заворочалась под полотенцем, которое она каждую ночь набрасывала. Я легонько погладил ее по плечу и только тогда вспомнил, что отправляюсь с Льюисом в путешествие. То, что я привык делать по утрам, воззвало ко мне, однако над ним всплыло нечто беспокоящее, полное какого-то неясного страха, расслабляющее, но одновременно и волнующее. Я обнял Марту, готовый как к тому, что она отодвинется от меня, чтобы снова погрузиться в сон, так и к тому, что она прильнет ко мне, ища теплоты и ласки, чтобы потом снова заснуть.
Когда пятнадцать лет назад мы поженились, она была худенькой девушкой, работавшей медицинской сестрой в хирургическом отделении больницы. Тогда я не задумывался, хорошенькая она или нет, хотя мои друзья убеждали меня – правда, в их словах не чувствовалось ни воодушевления, ни убежденности, – что она хороша собой. Женская красота – если не принимать во внимание того естественного и явно поверхностного воздействия, которое она могла оказывать, – никогда не играла существенной роли в моем общении с женщинами. В женщинах я искал некой искры, чувства глубинной, личностной связи. И когда я повстречался с девушкой, которая ими обладала, – пусть и в небольшой степени, но прочно, – я женился на ней. И мне не о чем было жалеть, и я не жалел ни о чем. Она была хорошей женой и хорошим товарищем, немного жесткой в некоторых вещах, но такая жесткость как раз и позволяет кое-чего добиться в жизни. Марта искренне гордилась тем, что я вице-президент компании, пусть и небольшой; она неустанно повторяла, что у меня есть художественный талант, хотя я-то сам знаю, что у меня никакого таланта нет. Я работал в области графики, и когда мне удавалось подойти к решению тон или иной проблемы с точки зрения, так сказать, механической, мне удавалось достигать неплохих результатов. Исходя из этого принципа, я сделал для нашей гостиной несколько больших коллажей из рекламных плакатов, журнальных фотографий, заголовков спортивных изданий и других подобных вещей. Но этими коллажами и ограничилось мое приобщение к высокому искусству. Вспоминая эти произведения, я подумал о том, что Марте они нравились не столько потому, что создал их я, сколько потому, что они представляли ту часть меня, которая была ей неизвестна и непонятна. Ее вера в мои способности как художника была заблуждением, и хотя я никогда не пытался разубедить ее, я никогда и не поддерживал в ней эту уверенность.
Я привлек ее поближе, и она прильнула ко мне:
– Который час?
– Шесть, – ответил я, глядя на тоненькие, мерцающие стрелки часов, тикающих у изголовья кровати. – Льюис заедет за мной через минут двадцать – двадцать пять.
– У тебя все готово? – поинтересовалась она.
– Да, почти. Мне, собственно, нужно только одеться. Я надену свой старый нейлоновый комбинезон и какие-нибудь теннисные тапочки. А когда приедет Льюис, нужно будет загрузить в багажник все, что беру с собой. Я все уже приготовил – совсем немного. Я их сложил вчера вечером в гостиной, после того, как ты легла.
– Радость моя, тебе действительно хочется ехать с Льюисом?
– Да, я прямо умираю от нетерпения, – ответил я. – Но если бы я не поехал, то с тоски тоже бы не умер. Хотя работа меня уже достала. Вчера был совершенно гадкий день. Хорошо еще, что хоть после обеда можно было заняться хоть каким-то конкретным делом. У меня вчера было такое чувство... вроде мне все до задницы, все бессмысленно. Мне было на все и на всех наплевать. Если моя поездка с Льюисом поможет мне избавиться от этого ощущения – это как раз то, что нужно.
– Это... я виновата?
– О Господи, конечно, нет! – сказал я.
Но на самом деле в этом, частично, была и ее вина. Собственно, в возникновении чувства безысходности есть вина любой женщины – она представляет собой нормальный, обыденный мир.
– Знаешь, мне не хотелось бы, чтобы ты уезжал вот так... Точнее, я просто не хочу, чтоб ты ехал с таким настроением. Могу я что-нибудь сделать, чтобы исправить его?
– Можешь.
– А у нас есть время?
– А мы заставим время подчиниться нам. В конце концов, Льюис может и подождать немного. Не на самолет же мы опаздываем. А вот я ждать уже не могу.
Мы сплелись в любовных объятиях.
– Ложись на спину, – сказала Марта.
У нее были очень ласковые руки, они хорошо знали мое тело. В ней осталось что-то от медицинской сестры – практичный подход к сексу, обдуманные, неспешные действия, лишенные какой бы то ни было стыдливости, направленные на то, чтобы приносить максимум удовольствия. Что меня очень заводило. Кровь быстрее текла у меня в жилах, я весь отдался ее рукам; в тишине было слышно влажное причмокивание ее любовных нутряных соков. Потом Марта сползла с меня, положила посреди кровати подушку, отбросила одеяла нетерпеливым жестом и примостилась спиной ко мне, лицом в подушку. Я пристроился сзади, и стоя на коленях, вошел в нее. Передо мной трепетали, поднимались и опускались ее ягодицы.
– Да, да, вот так, – приговаривала она, – вот так.
Тепло ее тела, охватывающее меня трепещущими волнами, вызвало во мне воспоминание. Перед моими глазами возникла натурщица в студии, отбрасывающая назад свои волосы и прикрывающая грудь рукой. И в самом центре так умело и возбуждающе двигающихся передо мной ягодиц Марты сиял золотистый глаз, зовущий не к сексу, столь необходимому для существования, а обещающий совсем другое – другую жизнь, избавление.
* * *
Я отправился в туалет, и стоя с закрытыми глазами, заструил. Опорожнив пузырь, я запахнул халат и посмотрел в зеркало. Свет, падавший сбоку, высвечивал ту часть головы, где волосы мои стали уже совсем редкими, безошибочно отмечая места, лысеющие быстрее всего, и бросая тени под глазами, будто сообщая мне, что кожа вокруг глаз уже никогда не будет такой, какой была раньше. Наверняка я буду стареть быстро. Но пока еще у меня были хорошие плечи, а бедра и живот, хотя и достаточно тяжелые, оставались упругими. Волосы густо покрывали грудь и верхнюю часть спины; заросший участок напоминал по форме ярмо. Свет лампы окрашивал волосы в мягкие сероватые тона, по цвету напоминавшие обезьяний мех.
Если бы у меня была возможность выбрать себе внешность по образцу кого-нибудь из ныне живущих, или исторических личностей, или совместить в себе черты и части тела разных мужчин прошлого и настоящего, я бы не знал, на чем остановиться. Наверное, в какой-то степени я позаимствовал такое отношение к собственной внешности у Льюиса. Он постоянно тренировал свое тело, но к одежде относился весьма равнодушно – у него на каждый сезон было всего два-три костюма. Никакого пиетета к одежде у него не было – не то что к телу. «Важно то, что ты можешь заставить свое тело делать, – говорил он, – и что оно сделает для тебя даже тогда, когда ты и не подозреваешь, что же тебе, собственно, нужно. Если будешь постоянно держать себя в форме, или даже, если хочешь, выходить за пределы того, что ты считал для себя предельно возможным – это и спасет тебя». «Спасет меня? – спрашивал я. – Спасет от чего? Или для чего?» Несмотря на мой скепсис, Льюис принимал меня и поддерживал со мной близкие отношения; можно сказать, что я был его лучшим другом. Он заявлял, что я необычно постоянен во всем и мог придерживаться избранного пути в любом деле почти так же стойко, как и он. Единственным моим недостатком, по мнению Льюиса, было неумение верно оценить расстояние. Он считал, что искусство стрельбы из лука не зависит от верного глаза. То есть, он считал, что стрельба из лука, если она не основывается на врожденных, чисто инстинктивных качествах того, кто ею занимается, вообще не может называться настоящей стрельбой. На четырнадцати мишенях я обычно выбивал около 160 очков, а Льюис стабильно показывал 230, а иногда подымался и до 250. Наблюдать за тем, как он стреляет и как любовно ухаживает за луком и всем тем, что к нему прилагается – тетиву и все прочее он изготавливал сам, – было одно удовольствие.
В гостиной было полутемно. На полу и в окнах лунный свет уже погас. Я стоял у окна и смотрел на занимавшийся рассвет, что за последние десять лет мне приходилось делать нечасто. В гостиную вошла Марта. На ней был халат с оборками. Не задерживаясь в комнате, она двинулась на кухню. У двери остановилась.
– Ты не видел Дина? – спросила она.
– Как это? Его что, нет в комнате?
Мои вещи для поездки, сложенные на полу темной, будто затвердевшей кучей, вдруг рассмеялись, и через мгновение сам Дин появился из-за них. В руках он держал мой большой «боуи» в ножнах.
Это было странное зрелище. Было такое впечатление, что мальчик одновременно и понимает, что такое нож, и не знает, для чего он предназначен. Он размахивал и грозил мне им с величайшей любовью, и я тоже стал по-дурацки приплясывать, прекрасно понимая, чем может закончиться неосторожное обращение с очень острым ножом, и ни на мгновение не веря, что это действительно может произойти. Наконец, я отобрал у Дина нож и засунул его туда, в темноту, среди прочих вещей. Только тогда я ощутил, что в комнате прохладно. Холодом тянуло от пола, хотя он и был покрыт ворсистым ковром, и я сообразил, что под халатом на мне больше ничего нет.
Поверх надувного матраса лежал спальный мешок, на нем – моток нейлоновой веревки, нож, мой лук и четыре стрелы. Веревку я купил случайно, увидев ее в спортивном магазине. И сделал это только потому, что Льюис когда-то сказал мне, что «нельзя отправляться в лес без крепкой веревки». Я взял в руки лук. Его было приятно держать в руках, ощущать его вес и водить пальцами по гладким и прохладным изгибам. Это был отличный лук, возможно, я такого лука и не был достоин. Он был не фабричного, а, так сказать, домашнего изготовления. В нем сочетались элементы многих видов стандартных луков – «дрейков», «бен-персонов», «ховаттов», «беаров», – но в итоге он не был похож ни на один из них. К стрельбе из него тоже надо было приноровиться. Центральная часть была достаточно тяжелой, и в целом это был своего рода экспериментальный лук. Я привык к его тяжелой центральной части, и мне это стало даже нравиться, так что с луком иной балансировки мне было бы даже неудобно. Льюис купил этот лук у человека, который был когда-то чемпионом нашего штата и сам этот лук смастерил. У него самого был лук такого же типа, и он превозносил его достоинства, которые поначалу, насколько я помню, казались преимуществами чисто психологического свойства. И лишь постепенно, с течением времени, они стали проявляться на деле. Например, при спуске тетивы отдача была почти неощутима. Стрела уходила очень гладко и, к тому же, тихо. Мой лук не дергался и не щелкал при спуске тетивы, как это происходило с луками Льюиса. Начальная скорость стрелы не была особенно высокой. В первый раз, когда я стрелял из этого лука, мне показалось, что стрела движется невозможно медленно, но потом оказалось, что из моего лука можно стрелять в мишень горизонтально, прямой наводкой, с расстояния больше чем в двадцать метров. Когда отпускаешь тетиву, мой лук какое-то мгновение как будто сомневается, что ему делать дальше, а потом его распрямляющиеся концы резко набирают огромную скорость, и стрела уносится с тетивы, как вышвырнутая катапультой. Траектория полета стрелы очень ровная, самая ровная из всех мною виденных, а проблема отклонения влево-вправо стоит значительно менее остро, чем при стрельбе из луков Льюиса.
Теперь, когда я держал свой лук в руках и смотрел на его внутренние и внешние поверхности из белого стекловолокна, мне казалось, что это именно тот лук, который просто предназначен для меня. Я полностью на него полагался, я верил в него; к сожалению, в слоях стекловолокна стала накапливаться усталость, и на верхней части луки в некоторых местах появились торчащие кончики волокон. Я установил на лук новую тетиву, в которой сделал щелевой прицел. Льюис никогда не прибегал к нему. Этот прицел – замечательная штука. Мы с Мартой раздвинули дакроновые волокна, вставили между ними маленькие зажимчики, а потом Марта обмотала разделенные половинки оранжевой ниткой. Получилась очень красивая тетива, и мне было очень приятно пользоваться ею. Когда лук натянут до предела, щелевой прицел на тетиве подходит максимально близко к глазу. И цель оказывается заключенной внутри него, слегка подрагивая от того физического напряжения, которое требуется, чтобы удерживать лук в устойчивом положении. Такая кадровка цели имеет большие преимущества, по крайней мере, для меня, ибо то, во что стреляешь, становится изолированным от всего окружающего и входит в какое-то странное, особо интимное отношение со стреляющим. За пределами красной рамки уже ничего не существует, а то, что находится внутри нее, становится ужасно важным и существенным; складывается такое впечатление, что цель создана смотрящим на нее глазом.
Стрелы у меня, правда, были не очень хорошие, но пользоваться ими было можно. Я обычно пользуюсь алюминиевыми стрелами, и я знал по опыту, что стрелы такой толщины и длины – около 70 сантиметров – вполне подходят для стрельбы из моего лука. Именно стреляя такими стрелами, я достигаю наибольшей точности. К луку клейкой лентой был прицеплен колчан, – во-первых, мне хотелось нести все в одной руке, а во-вторых, у меня попросту не было колчана, который можно носить, перекинув за спину. Стрелы выглядели весьма устрашающе – они были оснащены наконечниками «говард-хилл» с двухсторонними лезвиями и длинным оранжевым спиралевидным оперением. Купив стрелы, я измазал их по всей длине зеленой и черной масляной краской, чтобы хоть как-то закамуфлировать; потом пошел к соседу, у которого было точило, и заточил лезвия наконечников. Причем сделал это очень старательно, так что они стали острыми как бритва. Наконечниками можно было бы побриться. А их плоские поверхности я обработал напильником так, чтобы на них образовались маленькие зазубрины – это, как утверждал журнал «Стрельба из лука», способствует более глубокому проникновению наконечника в цель. Я попробовал край одного из наконечников пальцем, и пришлось идти к свету смотреть – не порезался ли.
Пореза не было, и я отправился в спальню. Достал из бумажника двадцать долларов, прошел через гостиную на кухню. Марта, босая, ходила туда-сюда перед плитой, ее очки поблескивали, отчего казалось, что она подмигивает. Посмотрел сквозь окно на наш задний дворик. Держа в руке теннисные тапочки, я сел на пол и стал надевать их, продолжая смотреть в окно. Деревья казались порождениями совершенно дикой природы, свободными созданьями, которые лишь случайно оказались рядом с жильем человека, и меня это странным образом взволновало. Дин подошел ко мне сзади и потянул за рукав комбинезона. Я взял его на руки, все еще продолжая глядеть во двор. Обычно детям сразу становится скучно, если взрослые молчат, уставившись на что-то, – дети не понимают, как можно долго смотреть на то, что не движется. Однако на этот раз Дин замер. Я, не шевелясь, смотрел на мир, окружавший нас, и Дин не шевелился тоже. Я поцеловал его, он обнял меня за шею. Обычно он не проявлял нежностей такого рода, и то, что он сделал это сейчас, зародило во мне какое-то беспокойство. Марта тоже подошла ко мне поближе. Ее лицо было разгоряченным от жара плиты. Я поднялся на ноги, и теперь мы все стояли, как примерная семья на фотографии.
– А ты хоть знаешь, куда вы, собственно, едете? – спросила она.
– Так, в общих чертах. Наш маршрут точно знает Льюис. Это где-то на северо-востоке штата. Он там часто ловит рыбу. Если все будет в порядке, мы должны вернуться в воскресенье вечером.
– А что может быть... не в порядке?
– Все будет нормально, но ведь всякое бывает. Слушай, если бы я считал, что в этом путешествии нас может подстерегать какая-нибудь опасность, ни за что бы не поехал. Поверь мне, ни за что! Я просто хочу немного отвлечься, развеяться. К тому же, говорят, горы в это время года очень красивы. Вот, кстати, – я возьму с собой фотоаппарат.
Я снова пошел в спальню и взял свой «роллейфлекс», принадлежавший студии. Взял еще запасную тетиву и положил ее в боковой карман на штанине комбинезона. Когда я вернулся на кухню, я увидел в окно, что Льюис уже приехал. Я одной рукой обнял Марту за плечи – таким жестом обычно мужчины обнимают своих друзей, – но тут же обхватил ее и второй, сцепив пальцы за спиной. Дин обошел ее сзади и стал разнимать мои руки.
Когда я вышел из дома, Льюис уже выбрался из машины и шел навстречу нам. По мере того как он подходил все ближе, его раскрасневшееся волчье лицо расплывалось в широкой улыбке. Обычно он постоянно улыбался, но малознакомые люди неправильно воспринимали эту улыбку, потому что видели лишь профильную часть ее, и от этого им могло казаться, что у него на лице постоянно присутствует какое-то ускользающее выражение самоуверенности и немножко сумасшедшинки – перед ними представало лицо врожденного оптимиста и непоседы. На голове у него была шляпа, какие носят в австралийской глубинке; она была закреплена под подбородком кожаным ремешком. Я вынужден был признать, что в этот раз он надел ее весьма кстати. Держа в руках фотоаппарат и лук, я пошел вместе с ним к машине.
Машина была забита разными вещами: две палатки, плотные подстилки, два лука, коробка стрел, спасательные жилеты, спиннинг, продукты. Он был фанатик всего, что касалось готовности к путешествию; именно благодаря этой черте его характера он настаивал, чтобы я взял с собой веревку – она, свернутая кольцами, свисала у меня с пояса. Сам я был уверен, что она мне совершенно не понадобится. Льюис также настоял на том, чтобы я надел нейлоновый комбинезон, потому что, по его словам, «нейлон быстро высыхает». Но при всем при этом, если ему нужно было, он мог поехать по разбитой дороге, по которой никто уже не ездил лет пятнадцать, прыгая по ухабам, не считаясь ни со своим удобством, ни с удобством тех, кого он вез, не заботясь о своей машине. Я надеялся, что на этот раз обойдется без такой тряски. Стоя рядом с ним, я чувствовал, что этим ранним утром он мне особенно близок. У него был вид человека, который всегда готов с радостным предвкушением броситься в какое-нибудь безумное предприятие. Рутинная моя жизнь давила на меня своей тяжестью, но когда я был рядом с Льюисом, я всегда чувствовал, что этот вес становится легче, а я становлюсь сильнее и мужественнее.
Льюис стал складывать мои веши в машину, как всегда, аккуратно и деловито. Заднее окно оказалось чуть ли не полностью закрытым изнутри вещами, почти все из них были зеленого цвета разных оттенков. Прежде чем положить мой лук в машину, он повертел его в руках.
– Смотри, тут стекловолокно потихоньку сдает, – сказал он, проводя пальцем по верхней части лука.
– Надеюсь, он еще продержится. Эти волокна уже давно торчат так.
– А знаешь, – продолжал Льюис, – мне нравится этот лук. Бывало, стоишь с ним, держишь в руках после того, как спустишь тетиву, и думаешь – какого черта, что за дурацкий лук! А потом смотришь – а стрела торчит в мишени.
– Да, к нему нужно привыкнуть, – сказал я. – С этим луком чувствуешь себя раскрепощенным.
– Ага, теперь ты это понимаешь! – воскликнул Льюис. – И каждый раз, когда будешь стрелять из него, будешь вспоминать.
– Поехали, – сказал я. – Солнце уже встает. Мы можем поесть по дороге. А там, на севере, и речка нас заждалась.
Его вытянутое вперед лицо расплылось в хитрой усмешке.
– Ты прямо моими словами говоришь.
– Это ж надо, – сказал я и отправился в последний раз в дом, чтобы забрать сумку с одеждой, в которую засунул шерстяной пуловер, пару маек и джинсы, в которых предполагал спать.
Закончив грузить вещи, мы обернулись и помахали Марте и Дину, стоявшим в дверях. Очки Марты оранжевыми отсветами отражали восходящее солнце. Я залез в машину и захлопнул дверцу. Байдарка, закрепленная на крыше, придавливала машину к земле, весь салон был забит вещами, поверх которых лежали луки. Мы перестали быть теми, кем были вчера – по крайней мере, я. Если бы с нами произошел несчастный случай, и пришлось бы «устанавливать личность» по тем вещам, которые были на нас и которые мы везли с собой, скорее всего, пришли бы к мысли, что мы геодезисты, топографы, охотники, геологи-разведчики или коммандос передовой бригады каких-то войск, готовящих вторжение. Теперь я был просто обязан оправдать все эти приготовления и должным образом использовать все эти вещи; если не удастся, каким дурацким все это окажется – как, впрочем, и все остальное в этой жизни.
Я подумал о том, где мне придется спать следующей ночью – о змеях, которые наверняка в такую теплую, не по сезону, погоду повыползали из своих нор, о твердых веточках под боком, о насекомых, которыми кишит лес. И мне вдруг страстно захотелось – у меня действительно было такое желание – вернуться домой, сказаться больным, найти какой-то предлог... Я даже стал прислушиваться – не зазвонит ли телефон, и уже начал раздумывать над тем, что скажу разносчику газет или страховому агенту, или кому-нибудь там еще, кто мог бы звонить в такую рань... тогда я мог бы вылезти из машины, а потом придумать какой-нибудь благовидный предлог, чтобы не ехать с Льюисом, снять комбинезон... А больше всего мне хотелось просто вернуться в дом, поспать еще немного, а потом поехать на работу... А, я же взял отгул на сегодня! Ну, тогда я бы с удовольствием отправился поиграть в гольф... Но все вещи уже уложены в машину, рядом сидит Льюис со своей самой широкой улыбкой на лице, и всем своим видом показывает, что я – один из избранных, и что он вытаскивает меня на пару дней из скуки обыденщины, или, говоря его словами, позволяет мне «сломать стереотип».
– Поехали, – сказал он. – Из сонного царства тихонь в бурное царство плещущейся воды.
С торчавшей над ветровым стеклом байдаркой мы проехали по дороге, ведущей к дому, потом повернули налево; машина ускорила движение, потом повернула еще раз налево и, выехав на шоссе, помчалась по нему на большой скорости. Я глядел в окно, поставив ногу на сиденье. Мы спустились с холма, потом взобрались на следующий и покатили по ровной местности. Через минуту мы были у места встречи. «Олдсмобиль» Дрю стоял у обочины четырехрядного шоссе. На крыше машины была установлена старая деревянная байдарка, которая подходила скорее для плавания по озеру; видавшие виды веревки опутывали ее как сетка; чтобы лодка не царапала крышу, под нее было подстелено старое армейское одеяло. Льюис, не снижая скорости, пронесся мимо «олдсмобиля» и выехал на подъем, ведущий на автостраду. Когда мы проезжали мимо машины Дрю, я показал сидевшим в ней Боллинджеру и Бобби Триппу два пальца, растопыренных в форме буквы "V"[3]– когда-то, после победы над Германией, Черчилль приветствовал таким образом радостные толпы англичан. А Бобби классическим жестом показал мне в ответ оттопыренный вверх средний палец. Я повернулся лицом к набегавшей на нас дороге, удобно растянулся на сиденье и стал наблюдать за тем, как солнце вступает в свои права.
Солнце поднималось справа от меня, становясь все ярче и ярче, забираясь все выше в небо над заправками «Тексако» и «Шелл», пивными, закусочными «драйв-ин»[4], которые будут мелькать мимо окна на протяжении следующих двадцати миль. Мне не было до них никакого дела, они были для меня чем-то совершенно чудным, закрытым и проносились по обеим сторонам дороги, будто на экране. Но я когда-то побывал в одной из этих «заезжаловок». В желудке у меня произошло какое-то шевеление, и я узнал ее. Справа, по ходу движения машины, я увидел приближающуюся к нам длинную вереницу белых бетонных столбов, за которыми располагался красно-белый «драйв-ин»; оцинкованная крыша отражала лучи солнца; свет вспыхивал, зависал в воздухе, прыгал под разными углами. Я, прищурив глаза, высмотрел один столб в ряду других, и он, казалось, вырос в размерах, подобно тому, как это происходит в глазу ястреба, высматривающего добычу.
Два года назад, на Рождество, я стоял там, прислонившись к этому столбу; я боялся от него оторваться и прижимался к нему все плотнее, пока, наконец, не начал вертеться вокруг него, все быстрее и быстрее. Потом мне, хотя и с трудом, удалось остановиться, и меня вытошнило, сначала наполовину переваренными кусочками пищи, потом крепкими напитками – они хлестали из меня, как разноцветный коктейль. Днем мы отмечали Рождество у нас в конторе, а потом, насколько я помню, Тэд решил, что неплохо бы выпить еще пивка, которое, по его мнению, должно было меня отрезвить, и мы поехали сюда, в эту заезжаловку. Но когда Тэд увидел, в каком состоянии я оказался после этого пива, он пришел в ужас – человек незнакомый и то смутился бы меньше, лицезрея меня в таком виде. Много раз, когда я был пьян, мне казалось, что некоторые вещи и предметы вокруг меня тоже пьяны, но хотят помочь мне – например, дружелюбные столы, диваны и даже деревья. Однако столб оказался просто мертвой вещью, холодной, бетонной, такой же недружелюбной, как и зимняя ночь. В нем не было никакой теплоты, никакого движения, и я не мог поделиться с ним своим теплом и своим вращением. На меня, обнимающегося с этим столбом, смотрели с возмущением люди, сидящие в машинах, одетые в приличные пальто; их лица, на которые падал свет неоновой вывески, никогда не устающей менять свои цвета, становились попеременно то голубыми, то зелеными; мне показалось, что мой желудок схватила холодная рука, значительно более холодная, чем столб, все во мне прыгнуло вверх, желудок выворачивался наизнанку. И я больше не сдерживался, и все еще хватаясь за столб, позволил всему, что было у меня в желудке, вырваться наружу. Я слышал, как вокруг заводились двигатели машин, а внутри меня мускулы выдавливали из желудка все, что там еще оставалось. Должно быть, я пару раз стукнулся о столб головой – на следующий день я обнаружил на голове пару шишек, одну прямо над глазом. Теперь, проезжая это место, я развернулся на сиденье, чтобы повнимательнее рассмотреть этот столб, наверное, надеясь увидеть в нем что-нибудь особенное. Может быть, я ожидал увидеть выцветшие пятна на земле вокруг него, или что-нибудь в таком роде, – которые свидетельствовали бы о том, что я когда-то там нагадил. Но ничего подобного я, конечно, не увидел, однако почувствовал неприятный потусторонний холодок в животе, желудок встрепенулся – но в следующее мгновение мы были уже далеко. Скоро шоссе сузилось до двух полос, и предместья закончились.
Этот переход не был постепенным: можно было бы остановить машину на том рубеже, где предместья заканчивались и начиналась сельская местность южной глубинки. Мне захотелось это сделать, вылезти из машины и узнать, какие у меня возникнут ощущения. Предместье заканчивалось мотелем; дальше простирались поля, заросшие сорняками; затем, по обеим сторонам дороги, замелькали рекламные щиты, с которых улыбались румяные девушки, с которых Иисус призывал к спасению, на которых пенились напитки. Даже стены сараев были покрыты рекламой. Мы неслись вперед, с байдаркой на крыше, по дороге, вдоль которой нескончаемой вереницей тянулись сливающиеся в пестрые ленты огромные рекламные щиты, призывающие покупать патентованные лекарства и спасаться, приобщаясь к Библии. Езда по нашим дорогам могла натолкнуть на мысль, что у нас на Юге ничем иным, кроме приема лекарств и распевания евангельских гимнов, не занимаются. И что южане, у которых, судя по этим рекламным щитам, нарушены все естественные процессы выведения шлаков из организма, постоянно страдают жесточайшими запорами и вынуждены поэтому принимать слабительное, чтобы иметь возможность с достоинством отправиться в церковь.
Мы остановились в маленьком городке под названием Селука и позавтракали в ресторанчике «Хлопотливая пчела». По моему мнению, завтрак был великолепен: нам подали кукурузные лепешки, яйца, много масла, печенье и маринованные овощи. От всего съеденного у меня так раздулся живот, что комбинезон мне стал тесен, и, сев в машину, я перестал замечать все, что творилось вокруг меня, полностью отдавшись пищеварению. Меня тут же стал одолевать сон, но прежде чем заснуть окончательно, я еще успел услышать, как Льюис заводит мотор, и подумать о Марте и Дине... о моей жене и о моем сыне... таких близких мне людях... дома меня всегда ждут...
Я был мертв, но осознавал, что меня везут... Сон в движущейся машине отличается от всех других видов сна. Временами я слышал, как Льюис говорил мне что-то, но смысла слов я не улавливал. Когда я проснулся, я попросил его повторить все сказанное.
– ...ну и отправился туда, в национальный заповедник «Грэсс Маунтин Нэшнл Менеджмент Эириа». Я хотел половить форель. Кстати, это недалеко от тех мест, куда мы сейчас направляемся. Дороги там ужасные, но Боже Праведный, если бы ты только видел эту реку! У тебя б на лоб глаза повылазили! Последний раз, когда я там был, я расспрашивал у лесничих, что они знают об этой реке, но никто ничего толком сказать не мог. Они мне сказали, что сами там не бывали, но то, как они произносили слово «там», заставляло думать, что добраться туда будет нелегко. Может, так оно и есть, но это как раз то, что делает такие места особо привлекательными. На том участке, где я побывал, река довольно бурная, но говорят, к югу от Оури становится потише. Но что происходит еще ниже по реке – не имею ни малейшего представления. Оури стоит на довольно высоком и крутом берегу, так что для того, чтобы спустить байдарки на воду, придется, пожалуй, переправиться на другую сторону. Зато в Оури можно будет подкупить чего-нибудь съестного.
Я лениво открывал и закрывал глаза, но ничего не видел – в них попадали образы внешнего мира, но были не в силах оставить какой-либо отпечаток в памяти. Мир превратился в цветной реальный сон, в котором вещи стали бестелесными. В очередной раз, когда мои веки поднялись сами по себе, я уставился перед собой, но мозг мой еще спал, хотя глаза были уже широко открыты. Мы как раз проезжали по окраине маленького городка. Потом свернули направо, и мимо окон замелькали какие-то серые растения с тонкими веточками, которые на Юге растут вдоль всех проселочных дорог. Дорога бежала к холмам, между которыми вдалеке поднималась гора – высокая, широкая в основании, голубая, как плотный дым от горящего дерева. Еще дальше виднелись другие горы, уходящие вдаль и понижающиеся и с правой и с левой стороны.
– Забавно, – сказал Льюис.
– Что забавно? – спросил я, наклоняясь к нему.
– Забавно, насколько там, на тех холмах, все по-другому, – сказал Льюис. – Там по-другому относятся к жизни, совсем иначе, чем мы, воспринимают то, что жизнь приносит.
– Мне нужно что-то знать об этом? – поинтересовался я.
– Как это ни печально, ты не только ничего не знаешь об этом, но и не желаешьоб этом знать.
– А зачем мне об этом что-то знать?
– Потому что, черт подери, там, может, есть что-то важное, такое, что важно и для нас. И знаешь что?
– Нет, не знаю. Я вообще ничего не знаю и не понимаю, о чем ты. Я согласен прокатиться с тобой по бурной реке, выпить виски у костра. Но зачем мне нужно знать что-нибудь про эти твои холмы или про тех, кто там живет?
– А ты знаешь... – сказал Льюис тихо и спокойно, и это заставило меня прислушиваться к его словам более внимательно, хотя я оставлял за собой право перестать слушать, если то, чему он придавал такое значение, окажется для меня все-таки неинтересным. – На этих холмах живут люди, которые еще поют песни, не записанные ни одним собирателем на пленку. Я даже видел там у одного семейства настоящий дульцимер – это такой инструмент, вроде цимбал, с тремя или четырьмя струнами; его кладут на колени и играют на нем молоточками или как на гитаре, пощипывая.
– Ну и что из этого?
– Может быть, ничего, а может – кое-что.
– Пускай этим интересуется Дрю, – сказал я. – И знаешь что, Лью? Если бы эти твои ребята с холмов, со всеми своими песнями и как их там – дульцимерами – спустились с гор и повели нас к новым небесам и к новому раю на земле, мне было бы на все это начхать. Я человек, живущий только сегодняшним днем. И мне кажется, я всегда был таким. Я ничего особенно не представляю из себя ни как художник рекламы, ни как стрелок из лука... Меня прежде всего интересует скольжение. Ты понимаешь, что я имею в виду?
– Нет. Ты хочешь, чтобы я догадался?
– Можешь не напрягаться, я сам скажу тебе. Скольжение – это когда в жизни все движется с наименьшим трением... Нет, не так: скольжение – это способ жизни, это жизнь с минимальным трением. Трюк заключается в том, чтобы найти себе в жизни скромное занятие, которое тебе под силу, а потом все время смазывать его. Со всех сторон. Чтоб все скользило как по маслу.
– Но в твоем скольжении нет места безрассудству! Ты считаешь что в жизни без него можно обойтись?
– Да, считаю. И никаких безрассудных поступков.
– И поэтому следует...
– И поэтому следует делать то, что делается. Делаешь себе свое дело, и стараешься делать его как надо. А изредка – очень, очень редко – можно чего-нибудь там такое учудить.
– Посмотрим, посмотрим. – Льюис быстро взглянул на меня так, будто он поймал меня на слове. – Насчет учудить – это интересно. Сидишь ты в своей конторе, и что ты видишь вокруг? Столы, шкафы, ящики и ящички, бумаги и все такое прочее. Сидишь на неподвижном стуле. И сам ты становишься вроде как частью этой мебели. А вот когда почувствуешь под собой пляшущую реку – для тебя все сразу изменится. Когда вокруг тебя запенится вода, тебе будет наплевать на то, что ты там какой-то вице-президент какой-то конторы «Эмерсон-Джентри». И ты будешь вести себя не так, как требует твое положение в обществе, а так, как требуют постоянно меняющиеся обстоятельства. Понимаешь, нужно будет что-то делать,очень конкретное, и ежесекундно.
Он помолчал, давая мне время проснуться полностью.
– Знаю я, – сказал Льюис, – ты считаешь, что я просто чокнутый. Самовлюбленный фанатик. Но я вовсе не такой.
– Нет, так бы я тебя не назвал.
– Я просто считаю, что вскоре все повернется так, что главным снова станет человеческое тело, раз и навсегда, – сказал Льюис. – И я хочу быть к этому готовым.
– Что «все» и куда повернется?
– Человеческий род. Я считаю, что наша машинная цивилизация зайдет в тупик, вся эта техника выйдет из строя, все эти политические системы рухнут, а те немногие, которые выживут, уйдут в горы и начнут все сначала!
Я пристально посмотрел на Льюиса. У него, как и у всех у нас, отправившихся вместе с ним в это путешествие, был дом в зажиточной части города; у него были деньги, красивая жена, трое детей. Трудно было поверить, что после того, как он обойдет всех тех, кому он сдает жилье, выслушает их жалобы и успокоит их, он каждый вечер посвящает себя подготовке к выживанию, тренируя для этого свое тело. Какая безумная фантазия могла заставить человека поступать подобным образом? Неужели Льюиса так беспокоили видения ядерной катастрофы, мучили ночные кошмары, в которых ему приходилось спасать свою семью из-под развалин и пробираться сквозь дымящиеся пепелища, заваленные трупами, вот к тем самым голубым холмам?
– Мне построили бомбоубежище, – продолжал он. – Как-нибудь покажу его тебе. В нем двойные двери, закрываются совершенно герметично. Я запасся бульонными кубиками и мороженым мясом по крайней мере года на два. Там есть игры для детей, проигрыватель, набор пластинок. Есть пластинки, так сказать, обучающие игре на флейте. Мы можем образовать семейный оркестр. Но вот однажды я спустился в свое бомбоубежище, сел там и стал думать. И пришел к выводу, что выживание зависит не от всяких там железяк и технических приспособлений, не от двойных герметических дверей и не от шахматных фигурок и всяких там фишек. Выживание зависит только от меня самого. Человеку дано его тело, и от него самого зависит, как он им распорядится. Тело – это то единственное, что нельзя ничем заменить. Оно просто есть, и все тут.
– Ну а если будет очень высокая радиация, или воздух будет так заражен, что нельзя будет дышать? Что, если радиация не будет уважительно относиться к твоему могучему телу?
– В этом случае, – сказал Льюис, – я признаю свое поражение, дружище. Но если ситуация будет такой, что в ней все-таки будет шанс выжить, я не хочу упустить его. Ты же знаешь меня достаточно хорошо, Эд. И как ты, наверное, уже догадываешься, я отправляюсь в какие-нибудь дикие места, например, в эти горы, и думаю, что выживу в таких условиях, в которых большинство погибло бы.
– И ты ко всему готов?
– Думаю, да. С точки зрения, так сказать, физиологической, я готов полностью. Иногда у меня возникает даже нетерпение – скорее бы. Жизнь – одна беготня, все так сложно, что я бы вовсе не возражал, если бы это случилось именно сейчас, и дело дошло бы до простого физического выживания. Выживает тот, кто готов к выживанию. Ты можешь сказать, что я чокнулся на этом выживании. Эдакий, так сказать, пунктик. Не думаю, кстати, что найдется много людей, которые бы относились к проблеме выживания так же серьезно, как и я. Почти все готовы повыть, повыдирать себе волосы на голове, впасть в истерику, даже проявить какую-то бурную деятельность, но очень кратковременно, в панике. А большинство, как мне кажется, все-таки не будет очень сопротивляться – будут даже рады, если для них все быстро закончится.
– Это все касается только тебя? А жена знает об этих твоих настроениях?
– Конечно. Ей очень понравилось бомбоубежище. А теперь она учится готовить на костре. У нее все отлично получается. Она даже говорит, что возьмет с собой краски, чтоб создавать новое искусство, в котором все будет максимально упрощено, представлено самое главное, и знаешь, как в наскальной живописи – не будет никаких там тебе фиглей-миглей, как в современном искусстве.
У меня было ясное ощущение того, что Льюис по-настоящему никогда не вдумывался в эти свои фантазии, хотя наверняка говорил он обо всем этом очень много – со своей женой, может быть, с кем-то еще.
– А куда бы ты отправился? – спросил Льюис. – Куда бы ты отправился после того, как умолкнут радиоприемники, погаснет телевизор и никто уже тебе не скажет, куда бежать, где спасаться?
– Ну, я бы, наверное, отправился на юг, туда, где потеплее. Постарался бы добраться до Флориды, к морю – хотя бы рыбу ловить, если ничего другого съестного не останется.
Льюис показал рукой на приближающиеся холмы, которые все увеличивались в размерах и из эфемерных, плоских голубых силуэтов превращались в настоящие горы.
– Я отправлюсь вот туда. Туда, куда мы сейчас едем. Там можно обосноваться, там есть все, что нужно для жизни.
– Например?
– Если растения, деревья, животные выживут, можно жить так, чтобы не спасаться от природы, а, наоборот, идти к ней. Можно охотиться, даже чего-нибудь там выращивать, разводить. Этого вполне хватит, чтобы выжить. Да, такая жизнь быстро загонит в могилу, а пока живешь, будет тяжко, и детям твоим будет тяжко. Но каким-то изгоем не будешь себя чувствовать, будешь жить одной жизнью с природой.
– А почему бы тебе в таком случае, – сказал я, – не отправиться в эти горы прямо сейчас и жить там – так, как ты описываешь? Ты мог бы охотиться, возделывать землю, выращивать животных. Ты бы мог испытывать там эти свои страдания и терпеть, без всякой водородной бомбы. Мог бы основать колонию таких же, как ты. Ты думаешь, Каролине понравилась бы такая жизнь?
– Нет, сейчас это было бы не то. Как ты не понимаешь! Это было бы просто эксцентричной выходкой. Выживание зависит... оно зависит от того, что необходимовыжить, когда нет другого выхода. Только тогда, когда это твой последний шанс, та жизнь, о которой я говорю, имеет смысл. Самый последний шанс.
– Надеюсь, что до этого не дойдет. За получение такого шанса пришлось бы заплатить слишком дорого.
– За выживание нельзя заплатить слишком дорого, – сказал Льюис таким тоном, что я понял – эта часть беседы окончена.
– А что там за жизнь сейчас? – спросил я. – Как там живут сейчас, пока ты не отправился туда устанавливать свое Царство Здравого Смысла?
– Наверное, такая, как и положено ей быть. Охотятся, плодятся, как кролики, немножко занимаются фермерством. Гонят виски понемножку. Много музыки. Все на чем-нибудь играют – на гитаре, банджо, гармошке, ложках, дульцимерах. Они их называют «далсимор». Музыка кругом. Будет жаль, если Дрю не послушает, что и как там играют. Там живут хорошие люди, Эд. Но они замкнуты в своем кругу, у них своя, особая жизнь. Они делают то, что им хочется делать, и если им уж чего-то захотелось, их не остановишь. У всех, кого я там встречал, в каждом семействе есть кто-нибудь, кто сидит в тюряге. Некоторых посадили за незаконное изготовление виски, или незаконную его продажу, но большинство сидит за убийство. В тех местах убийство не считают чем-то особенным. Убивают запросто. Но тебя не тронут, если будешь вести себя так, как ведут себя они. А если ты кому-нибудь понравишься, то для тебя сделают все. И все семейство такого человека для тебя сделает все. Вот давай я тебе расскажу одну историю. Это произошло два года назад.
– Расскажи.
– Мы с Шэдом Маккеем ходили на байдарках по речке Блэквелл-Крик. Речка в ту пору года была мелковата, и нам стало немножко скучно. Мы занимались только тем, что гребли, а жарко было адски, Вот Шэд и говорит: возьму-ка я для разнообразия лук и отправлюсь в лес поохотиться на кроликов. Он вылез из байдарки, и мы договорились, что он будет двигаться вдоль речки, а я буду плыть вниз по течению, и встретимся там, где наша речка впадает в реку Кагула.
Он ушел себе в лес, а я поплыл по реке. В тот день, помню, видел дикую кошку на водопое. Ну вот, добрался я до того места, где мы условились встретиться. Вытащил байдарку на берег, улегся на большом камне и стал его ждать. Жду, жду, а его все нет. Стал прислушиваться. Ничего, кроме обычных лесных звуков, не слышу. Стало темнеть, я начал уже волноваться. Болтаться одному по лесу в темноте – совсем неподходящее занятие, да и мне там торчать ночью совсем не хотелось. Я к такому не был готов. Понимаешь, я был еще не готов.У меня с собой не было никакой еды. У меня не было лука. Сижу я как дурак на этом камне, а в кармане у меня только складной нож, моток веревки в лодке – и все.
– Тебе нужно было это воспринимать как проверку того, что ты можешь, проверку на выживание, – не удержавшись, подколол я Льюиса.
Но его было трудно задеть такими замечаниями. Он твердо стоял на своем.
– Неподходящая ситуация была для проверки, – сказал Льюис и продолжил свой рассказ. – Ну, сижу я там у реки, становится все прохладнее, чувствую – продрог до костей. Оглядываюсь – смотрю, невдалеке кто-то стоит, смотрит на меня. «Чего ты тут делаешь, парень?» – спрашивает. Тощий такой, комбинезон на нем, в белой рубашке, рукава закатаны. Я ему рассказал, что, вот, плыл на байдарке по реке с приятелем. Приятель отошел, сейчас вернется. Поначалу он слушал очень недоверчиво, но потом мы понемногу разговорились. Он сказал, что у него недалеко стоит его перегонный куб, о чем я и так уже догадывался. Он и его сын гнали виски. Ну, привел он меня к этому своему перегонному устройству. Действительно недалеко, где-то с четверть мили от реки. Его пацан как раз разводил огонь. Сели, стали беседовать. «Ты вот говоришь, что где-то по лесу ходит человек с луком и охотится. А он знает эти места?» – спрашивает меня этот мужик. «Нет, – говорю, – не знает». «А тут, чтоб ты знал, покруче, чем в каталажке, в южной Джорджии, – говорит. – Можешь мне поверить, я знаю, что говорю. А ты хоть представляешь, где этот парень может быть?» Отвечаю, что нет, не представляю. Где-то поблизости, наверное...
Тут мне захотелось рассмеяться. Несмотря на всю свою маниакальную приверженность «готовности», Льюис постоянно попадает сам в такие ситуации и других втягивает. И я мог только надеяться, что в этот раз ничего такого не случится.
– Ну и что было дальше? – спросил я.
– Горит костер, тени прыгают. Мужик этот встает, подходит к своему пацану – тому лет пятнадцать было, – и о чем-то там они шушукаются. Потом вроде идет назад ко мне, но останавливается, поворачивается к своему сыну и говорит: «Сынок, пойди, найди того человека». У меня аж внутри все похолодело. А мальчик встает, не говоря ни слова, идет, берет электрический фонарик и старое ружье, однозарядное, двадцать второго калибра. Насыпает себе в карман патронов из коробки. Потом подзывает к себе собаку – и уходит в лес.
– Вот так вот просто, поворачивается и уходит в ночной лес?
– Он пошел в ту сторону, куда я показал. Вот и все. Никаких расспросов. Он мог полагаться только на себя. И, конечно, на своего отца. Это как раз именно то, о чем я тебе толкую. В них есть что-то особенное. Можешь спорить со мной сколько тебе угодно. Я это знаю.Уверенность в себе, уверенность в своих близких. И все устраивается само собой. Этот мужик не приказывал своему сыну, не заставлял его делать что-то против воли. Парень просто знал, что ему надо делать. Он встал и ушел в темноту.
– Ну и что из этого?
– А то, что они сильнее нас, Эд. Да, как это ни печально, мы слабее. Неужто ты думаешь, что твой Дин отважился бы на такое, если б ему было сейчас пятнадцать лет? Даже если б попытался это сделать, ничего бы у него не вышло. Когда ему будет пятнадцать лет, он ни за что не уйдет вот так, в ночной лес со своей собакой.
– Но этого мальчика могли убить! И может быть, его папаша жопа, – сказал я.
– Может быть, но мальчик так не считал. Для родителей позволить своему ребенку поступать так не легче, чем для него самого. Но если и родители и сын признают это, все происходит, как надо. Понимаешь?
Я не совсем понимал, но ничего не стал выяснять.
– А у этой твоей истории есть окончание?
– Есть, – сказал Льюис. – Около двух часов ночи, когда костер уже почти догорел, а я уже дремал, прислонившись к дереву, мальчик вернулся. И привел с собой Шэда, прыгающего на одной ноге. Другая нога у него была сломана. Он сломал ногу, когда в темноте лазил по кустам. Пытался себе как-то помочь, но ничего у него не выходило. И тут его нашел этот мальчик. Бог его знает, как это ему удалось.
– А если б он не нашел Шэда?
– Для мальчика это не имело никакого значения. Он пошел на поиски, он попытался помочь. Его ж никто к этому не обязывал... Точнее – он не мог не пойти. Ну, как бы там ни было, он пошел. Шэду пришлось бы очень туго, если б его не нашли.
– Я встречался с твоим Шэдом. В прошлом месяце на собрании бизнесменов и менеджеров довольно высокого уровня. Может, он тебе и приятель, но извини, не могу сказать, что тогда в лесу стоило так сильно напрягаться, чтоб его спасти.
– Эд, нехорошо так говорить, бессердечно.
– Допустим. Но что из этого?
– Кстати, в принципе, я с тобой согласен, – сказал Льюис после краткого молчания. – Он действительно не очень хороший человек. Пьет слишком много, и пьет по-дурному. Слишком много болтает. Толку от него мало и на реке, и в бизнесе, и – я в этом почти уверен – в постели с женой или с кем бы там ни было. Но дело не в этом. Пускай он сам разбирается со своей жизнью и сам определяет для себя свои жизненные ценности и принципы. Мальчик отправился в ночной лес и приволок Шэда, потому что он действовал в соответствии со своимижизненными принципами. И они сложились благодаря его отцу. Или, если хочешь, несмотря на то, какую жизнь ведет его отец. Несмотря на их невежество, его собственное и его отца. Несмотря на их предрассудки и суеверия, несмотря на то, что они легко проливают кровь, убивают, пьют. Несмотря на всю их грязь, глисты и солитеры, несмотря на то, что они живут воспоминаниями о прошлом, несмотря на то, что живут они недолго. А может быть, все-таки, именно благодаря всему этому. Меня их образ жизни восхищает, меня восхищает то, что этот образ жизни делает из этих людей, меня восхищают эти люди, которые сами же и создают этот образ жизни, а если ты не понимаешь, почему – ну и хуй с тобой.
– Ладно, – сказал я, – тогда хуй со мной. Но я все-таки всегда буду предпочитать городскую жизнь.
– В этом я и не сомневался. Но тебя будут грызть сомнения.
– У меня могут возникать сомнения, но грызть они меня не будут.
– В этом-то все и дело. Город слопал тебя со всеми потрохами. Ты можешь жить только в городе.
– Правильно. Но, Льюис, город одолел и тебя тоже. Мне не хотелось бы этого говорить, но ты просто время от времени играешь в разные игры. И я играю в игры, например, я играю роль художника по рекламе. Но я честно это признаю. Для того, чтобы жить, содержать семью, мне нужно это делать, и я это делаю. Я не мечтаю о каком-то там новом обществе. И я принимаю все так, как оно есть. Я не читаю умных книжек и не придумываю новых теорий и идей. Какой был бы толк от них? А ты живешь в мире фантазий.
– А что еще человеку остается? Все зависит от того, насколько твои фантазии сильны, и от того, насколько ты внутренне действительно – по-настоящему -соотносишься со своими фантазиями. От того, насколько соответствуешь тому, что ты там себе нафантазировал. Не знаю, какая там у тебя главная фантазия, но могу спорить, что ты не дотягиваешь до нее.
– Моя фантазия очень проста.
Но я не сказал, какие формы она принимала в последнее время, не рассказал о золотом пятнышке в глазу натурщицы, которое потом засветилось в центре между ягодицами моей жены, когда она двигала ими, доставляя нам обоим удовольствие.
– Моя тоже, но я делаю все, чтобы она стала реальностью. Возможно, никогда не возникнет ситуация, в которой придется бороться за выживание. И знаешь, по ночам я сплю спокойно, меня ничего не беспокоит, я становлюсь сам собою, пусть я как личность и не представляю собой ничего особенного. Меня никто не формировал, я сам себя формирую. Я сам для себя выбираю, каким мне быть, и я таков, каков я есть.
– Но можно быть и совсем другим. Выбор большой, – сказал я.
– Да, выбор большой. Но я выбрал для себя то, что мне больше всего подходит. Например, когда отпускаешь тетиву и посылаешь стрелу в цель, и знаешь, что все сделал как надо, – это приносит удовлетворение. Ты знаешь, куда летит стрела, знаешь, что она прилетит именно туда, куда ты хочешь – и больше ей некуда деться.
– Боже, Льюис, – воскликнул я, – но это очень узкий подход к жизни!
– Кто знает, кто знает. Но я верю в принцип выживания. Выживание в самом широком смысле слова. И каждый раз, когда я еду в эти горы, моя уверенность в том, что я прав, становится все крепче. Знаешь, сколько бы у нас ни было так называемых «современных удобств», человек может споткнуться, упасть и сломать ногу. Как это случилось с Шэдом. И он будет лежать в лесу, придет ночь, он будет думать о том, что в гараже у него стоят две машины, одна из них суперновая модель, его жена и дети смотрят телевизор, какой-нибудь там фантастический фильм, а он пытается ползти сквозь кусты, отдуваясь и воя от боли. Человеческое тело остается тем, чем оно всегда было. Оно чувствует страх, боль, как это было испокон веков. В последний раз, когда я был в этих местах...
– Это ты про то, как ты сломал ногу, дружище?
– Было такое. Я сломал себе ногу, как последний дурак. Я был один. Там была одна маленькая речка, в ней я хотел половить форель, но было трудно туда добраться. Я привязал веревку к дереву и спустился к речке по очень крутому откосу. Спускаться пришлось метров десять. Стал ловить рыбу... Какая это была ловля, Эд! Там я провел один из лучших дней в своей жизни, а вокруг никого: ни мужчин, ни женщин, ни зверей. С ними мне очень редко бывало так хорошо. Потом я начал карабкаться по веревке вверх. Она сильно врезалась в правую руку, было чертовски больно. Тогда я чуть ослабил давление на эту руку и попытался обернуть веревку вокруг руки каким-нибудь другим способом. Не знаю, как так получилось, но вдруг оказалось, что я лечу вниз. Точнее, я сообразил, что произошло, только тогда, когда был уже внизу. Приземлился неудачно, прямо на одну ногу. Я даже расслышал, как в лодыжке чего-то там хрустнуло. В высоких резиновых сапогах взбираться назад было весьма непросто, доложу я тебе. Но когда я попытался встать на обе ноги, я понял, что иначе я оттуда не выберусь.
– Ну и как же ты выбрался?
– По веревке! Вытащил себя, подтягиваясь только на руках – сначала левой, потом правой, и так до самого верха. А потом прыгал на одной ноге, полз. И можешь себе пожелать, чтобы тебе никогда не пришлось пробираться по лесу на одной ноге. Я хватался за деревья, будто каждое было моей мамочкой.
– Может быть, тогда так оно и было.
– Нет, но я все-таки выбрался. А остальное ты и сам знаешь.
– Знаю, но несмотря на то, что с тобой произошло, ты снова туда едешь.
– Именно так. И знаешь что, Эд? В том происшествии было нечто особенное, концентрированное. Тогдашняя поездка была великолепной, несмотря на сломанную ногу и все остальное. А ночью, перед тем, как я сломал ногу, я слушал Тома Маккэскилла.
– А кто это?
– Ладно, я тебе расскажу. Приезжаешь в эти места, в лес, к реке, сидишь в кустах, охотишься или чем-нибудь занимаешься другим, и вдруг, среди ночи, обязательно услышишь страшный вопль – самый страшный, какой только может вырваться из человеческой глотки. И непонятно, откуда этот вопль несется. Просто слышишь его, вот и все. Иногда он раздается один раз, а иногда он повторяется и повторяется.
– Ну и что же это такое, скажи мне ради Бога!
– Там живет один старик. Он каждые две недели берет большую бутылку виски – покупает или делает бухло сам – и ночью отправляется в лес. Мне рассказывали, что он сам толком не знает, куда идет. Он просто заходит в лес и топает себе, пока не устанет.
Потом разводит костер, садится рядом и начинает хлебать из своей бутылки. Когда уже прилично наклюкается, он начинает выть. Такое у него развлеченьице. Как говорят, пока не попробовал, не говори, что плохо. Ты когда-нибудь такое пробовал?
– Нет, не пробовал. Может быть, теперь попробую. Вряд ли у меня будет еще когда-нибудь такая возможность. А может, нам вовсе не стоит плыть по этой реке? Может быть, нам просто развести костер, сесть рядом, хорошо принять и выть? А Дрю будет играть на своей гитаре. Наверняка ему это понравится. Могу поспорить, он предпочтет такое времяпрепровождение болтанию в байдарке.
– Я – нет. А ты?
– Пока не попробовал, не говори, что плохо, – сказал я. – Но я бы тоже не хотел такого. Признаться, мне уже не терпится сесть в лодку. Ты меня так накачал этими своими рассказами о «таинственном ощущении реки», что я уверен – как только опущу в воду весло, со мной произойдет какая-то фантастическая перемена.
– Подожди, потерпи еще малость, дружище, – сказал Льюис. – Ты еще заскулишь, тебе захочется домой. На реке все по-настоящему.
Я взглянул на голубые горы, которые становились все более плотными и все менее облакообразными; от движения машины на поворотах дороги они перемещались с одной стороны шоссе на другую, возвращались, располагались прямо по центру движения, потом снова съезжали в сторону и при этом, казалось, отвердевали на глазах. Мы проехали участок, заросший кустарником, потом покатили по равнине, которая простиралась вокруг нас на много миль и упиралась прямо во вздымающуюся гряду холмов. Они, по мере того, как мы к ним приближались, меняли свой цвет от голубого до светло-золотисто-зеленого – цвета миллиардов и миллиардов листьев на деревьях, растущих на склонах холмов.
Около полудня мы уже ехали меж холмов, но пока еще по шоссе. На перекрестке дорог съехали на асфальтированную дорогу, потом свернули на старую дорогу, уже снова с бетонным покрытием. Бетон был потрескавшимся, в трещинах росла трава. Насколько я мог судить, дорогу эту строили еще в тридцатых годах. По центру ее извилисто бежала разделительная линия, проведенная смолой. Потом мы свернули еще на одну бетонную дорогу, которая местами просела, местами была покрыта большими трещинами и выбоинами. Машину заносило, нас трясло, но мы продолжали двигаться вперед. Дорога была в таком запущенном состоянии, что ремонтировать ее уже не было смысла.
До Оури оставалось ехать еще не менее сорока миль. Нам нужно было туда добраться, нанять двух человек, которые бы перегнали наши машины в Эйнтри, затем спустить байдарки на воду, проплыть какое-то расстояние, найти подходящее место для лагеря, поставить палатки. И все это до наступления темноты. В городке мы хотели, если это будет возможно, купить еще немного каких-нибудь продуктов. Времени на все это у нас было достаточно, но чтобы поспеть все это сделать, нужно было поскорее добраться до городка. Льюис прибавил скорость – плохие дороги будто дразнили его и заставляли ехать быстрее. Байдарка над нами скрипела и стучала по крыше.
Теперь нас окружали деревья, великое множество деревьев. Я даже с закрытыми глазами мог бы определить, что мы едем среди деревьев – вот, судя по звуку, едем мимо густой рощицы, вот безлесый участок, вот опять деревья. Я был удивлен богатству цветов и оттенков листвы. Я всегда думал, что сосна – самое распространенное дерево в нашем штате, но теперь убедился, что это не так. Я понятия не имел, как все эти деревья называются, но они были великолепны в своем огненном убранстве. Казалось, они меняют цвет прямо на глазах. Листья начали желтеть и краснеть совсем недавно, и пламя их увядания было еще не очень жарким. Но оно уже возгорелось, и разгоралось все сильнее.
– Ты только посмотри на эти деревья, – сказал Льюис. – Я бывал здесь в апреле – это было поразительное зрелище.
– Сейчас это не менее поразительное зрелище, – отозвался я. – Но я не совсем понимаю, что ты, собственно, имеешь в виду?
– Ты что-нибудь знаешь о личинках липовой моли?
– Конечно. Постоянно читаю о них. И вообще... Ну, шучу. Честно сказать, понятия о них не имею.
– Каждую весну, когда личинки начинают проявлять активность личинки – это такие червячки, гусеницы, – так вот, этих личинок иногда бывает невероятно много. Смотришь на деревья и видишь – происходит что-то необычное.
– Что необычное?
– Видишь их массовое повешение. Самоповешение миллионов и миллионов личинок.
– Это опять какие-то твои придумки?
– Нет, дружище, никаких придумок. Эти личинки выпускают из себя тонкую нить, вроде паутинной, цепляют за веточку, за листик, а потом опускаются вниз. Куда ни посмотришь – кругом в воздухе болтаются эти личинки на концах своих нитей, извиваются и корчатся – как повешенные, которые никак не хотят умирать. Некоторые из личинок почти черного цвета, некоторые – коричневые. Идешь по лесу – тишина и спокойствие. Такая тишина! Только эти личики извиваются в воздухе... Но они далеко не безобидны – жрут листья. Правительство пытается придумать какой-нибудь способ, чтобы от них избавиться.
День выдался теплый. Все вокруг еще было зелено, но сквозь эту зелень уже пробивались золотисто-желтые и красные цвета, отчего зелень казалась еще ярче, так что глазам было больно. Мы поехали через городки Уайтпэс и Пелэм, совсем крошечные. Потом петляющая по склонам дорога пошла вверх. Густые леса плотно подступали к городкам, заполняли все пространство вокруг них и между ними.
– Высматривай оленей, – сказал Льюис. – Когда им не хватает корма в лесу, они выходят к кукурузным посевам и идут вдоль дорог.
Я стал озираться по сторонам, но ничего особенного не увидел. На одном из поворотов дороги мне показалось, что при нашем приближении какое-то животное бросилось назад в лес. Но когда мы проезжали это место, листья на кустах, там, куда оно вроде бы нырнуло, были неподвижны, так что, скорее всего, мне просто показалось.
Наконец мы приехали в Оури. По всей видимости, это был окружной центр. В нем имелся побеленный известкой дом, который назывался «городским советом»; в этом же доме располагалось помещение «тюрьмы», а возле него стояла старенькая пожарная машина. Мы подъехали к заправке «Тексако» и спросили, нет ли кого-нибудь, кто хотел бы заработать немного денег. Когда Льюис выключил мотор, стало слышно гудение насекомых, наполнявшее даже центр городка. И от этого тишина казалась еще более глубокой. К машине со стороны Льюиса подошел старик в соломенной шляпе и рабочей рубашке, наклонился и стал беседовать с Льюисом сквозь открытое окно. Он выглядел как хиллбилли[5]из плохого кинофильма – актер, играющий характерную роль и выряженный слишком достоверно, чтобы в эту достоверность можно было поверить. Неужели это и есть тот местный колорит, который так нравился Льюису? Городок казался сонным, затхлым и уродливым и, что самое главное, совершенно ничтожным. В таком месте невозможно было встретить какую-нибудь интересную, достойную личность, которая хоть чего-нибудь бы стоила. Городок был поистине ничтожен, как ничтожны большинство таких городов и большинство живущих в них людей. Льюис спросил старика, согласился бы он и кто-нибудь еще за двадцать долларов перегнать две машины в Эйнтри.
– Что, для того, чтобы управиться с этой колымагой, нужны двое? – спросил старик.
– Если бы это было так, то нам понадобилось бы тогда просить четверых, – сказал Льюис, не объясняя еще раз, что нужны водители для двух машин. Он сидел и ждал. Я взглянул на нос байдарки, торчащий над ветровым стеклом; с него свешивался крюк.
Через пару минут, показавшихся очень долгими, подъехали Дрю и Бобби на своей машине.
– Теперь понятно, что я имею в виду? – сказал Льюис.
Дрю и Бобби выбрались из машины и подошли к нам. Старик повернулся, будто почувствовал угрозу – окружают! Его движения были невероятно медленными. Так двигается человек, лишенный – но вовсе не старостью – всей жизненной энергии. Находиться рядом с ним было как-то унизительно, особенно когда миру явлен огромный, накачанный, с выступающими венами бицепс на руке Льюиса, небрежно торчащей из окна и освещенный солнцем. Краем глаза я видел, как трясутся руки старика, усыпанные старческими пятнами; казалось, он трясет ими нарочно. У сельских жителей всегда что-нибудь не так, подумал я. Хотя я редко бывал в глухих сельских районах Юга, но меня всегда поражало, что у многих людей на руках не хватает пальцев. Как-то раз я насчитал за одну поездку около двадцати человек с недостающими пальцами. Обязательно встретишь калек, людей, изуродованных какой-нибудь болезнью, слепых или одноглазых. Возможно, сказывается недостаток медицинского обслуживания. Но этим всего не объяснишь. Казалось бы, занятие сельским хозяйством предполагает здоровую жизнь – свежий воздух, здоровая пища, физический труд. Но я никогда не видел фермера, который производил бы впечатление совершенно здорового человека, всегда у них что-то не так, а часто совершенно явно видно, что человек чем-то серьезно болен. Не видел я среди фермеров и просто физически развитых, мощных людей. И уж точно – таких как Льюис среди них нет. Очевидно, физический труд, работа руками на свежем воздухе и на солнце приносит значительно больше вреда, чем пользы, подумал я. К тому же, работа фермера просто опасна – попадет рука между каких-нибудь движущихся частей трактора, где-нибудь далеко в поле, никого вокруг, беспощадно жжет солнце и заглядывает в открытый рот, из которого несется вопль боли... Или идешь в лесу, наступил на сгнивший ствол, а оттуда змея, и цап тебя за ногу... Или – сколько угодно случаев, когда какая-нибудь корова или бык неожиданно поворачивается и прижимает тебя к деревянной стене сарая, из которой торчат острые отщепы... Нет, такая жизнь не для меня! Даже просто недолго находиться в местах, где случается такое, мне бы не хотелось. Но вот сейчас я как раз и был в таком месте, и сбежать из него нет возможности. Только по воде – подальше от этих людей с девятью пальцами.
Я посмотрел в сторону леса, потом краем глаза взглянул на свой лук. Да, так глубоко в глухие леса я еще никогда не забирался. Наверняка здесь водится множество всяких зверей, по-настоящему диких. Льюис говорил, что в этих горных районах встречаются даже медведи и дикие кабаны, хотя, прибавил он, эти кабаны скорее всего просто одичавшие свиньи. Но свиньи, по его словам, дичают очень быстро; на спине у них отрастает щетина, удлинняются рыло и клыки, и через лет шесть-семь их не отличить от каких-нибудь диких сибирских кабанов – разве что остаются метки на ушах да кольца в носу. Но я понимал, что встретить в этих местах медведя или кабана очень маловероятно – такие встречи относятся к разделу романтических мечтаний. Но и сама идея охоты с луком была для меня в определенной степени романтикой. Насмерть подстрелить настоящего оленя – это казалось чем-то смутным, несбыточным, хотя возможность такого достижения каждый раз незримо оживляла бумажный силуэт оленя, поставленный как мишень на расстоянии сорока метров, когда я целился и старался попасть в отмеченный черным участок, обозначающий месторасположение сердца и легких.
– Слушай, мне нравится, как ты носишь свою шляпу, – сказал Бобби, обращаясь к старику.
Тот снял с головы шляпу, внимательно рассмотрел ее. В ней не было ничего особенного. Но на голове старика она – благодаря тому наклону, одновременно неуклюжему и вызывающему, который встречается лишь в сельских местностях Юга, – приобретала нечто своеобразное. Старик снова водрузил шляпу на голову, но сдвинув ее уже на другую сторону – сохранив при этом тот же наклон.
– Ни хрена ты в этом не понимаешь, – ответил он Бобби. В разговор вмешался Дрю:
– Не могли бы вы нам рассказать что-нибудь об этих местах? Дело в том, что мы хотели бы проплыть по реке до Эйнтри. Как вы думаете, это можно сделать?
Старик отвернулся от Бобби так, будто тот неожиданно исчез, и я невольно посмотрел в его сторону, чтобы убедиться, существует ли он еще. У Бобби на губах играла улыбка, которая могла означать, что Бобби собирается сделать какое-нибудь гадкое замечание. Хотя, может, у него и не было такого намерения.
– Расскажу, – сказал старик. – Там, ниже по течению, есть местечко, бурное такое. В воде большие камни. После дождя вода в реке поднимается и камни уходят под воду. Но вода через берега не выплескивается, ну, по крайней мере, почти нигде. Долину никогда не затапливает, никакой тут опасности. Но это так, промежду прочим. Дальше Волкерх-Пойнт я не бывал. Это милях в пятнадцати отсюда. Там уже горы повыше. А когда становится сухо, река спадает так низко, что и не увидишь ее. Ну течет, конечно, но так меленько. А еще говорят, что там, дальше на юге, есть еще одна стремнина, ущелье. Но там я не бывал, не видел.
– Но как вы считаете, сможем мы доплыть до Эйнтри?
– А на чем плыть будете?
– На этих двух байдарках.
– Я в этого не делал, – сказал старик, выпрямившись. – Если пойдет дождь, хороший дождь, вам придется тяжко. Вода что твоя обезьянка – так и прыгает на каменные стены.
– Нечего каркать, – сказал Льюис. – Никакого дождя не будет. Посмотри на небо.
Я посмотрел. Небо было чистым, в знойной голубой дымке, но без единого облачка. Действительно, ничто не предвещало дождя.
– А если вдруг все-таки пойдет дождь, мы всегда найдем укромное местечко и пересидим непогоду, – закончил свою мысль Льюис. – Я не раз так делал.
– В том ущелье, если вы туда полезете, вам крепко достанется.
– Ничего, управимся.
– Ладно, – сказал старик. – Вы спрашивали, я отвечал. Дрю и Бобби направились назад к своей машине, местный пристроился рядом с Дрю. Я услышал, как он спросил: «А чья там гитара, в машине?» Потом вдруг он неуклюже, как собака на задних лапах, бросился к заправке. «Лонни, – закричал он, – иди-ка сюда!»
Старик вернулся к машине, за ним шел молодой парень, альбинос, с красными, как у кролика, глазами; один глаз косил в сторону под невероятным углом. Именно этим полубезумным глазом он смотрел на нас, повернув при этом голову в другую сторону. Другой, нормальный, был направлен на нечто невидимое, скрытое в пыли на дороге.
– Принеси-ка свое банджо, – сказал старик, а потом обратился к Дрю. – Сыграйте нам чего-нибудь, а?
Дрю, улыбнувшись во весь рот, опустил стекло в заднем окне машины, достал большую старую гитару с потрескавшейся декой и вооружился медиатором. Обойдя машину, он уселся на капот, подняв одно колено так, чтобы поддержать гитару. Пока он ее настраивал, вернулся Лонни, держа в руках пятиструнное банджо; каподастр был сделан из плотно свернутой тряпки, закрепленной резинками.
– Лонни – дурачок, ничего не понимает, а вот на банджо бренькает здорово, – объяснил старик. – В школу никогда не ходил. Когда был маленьким, сидел себе во дворе и стукал палкой по пустой жестянке.
– Ну, что мы сыграем, Лонни? – спросил Дрю – у него от удовольствия даже очки запотели.
Лонни стоял с банджо в руках, повернув к нам голову; глаза его смотрели в противоположные стороны, и мы явно не попадали в поле его зрения.
– Да что угодно, – сказал старик. – Играйте, все равно что.
Дрю начал играть «Дикий цветок», поначалу в среднем темпе, без поворотов музыкальных фраз. Лонни потянул за резинки и передвинул каподастр вверх по грифу. Дрю заиграл громче; гитара гудела, затопляя звуками площадку перед заправкой. Дрю играл прекрасно – я никогда раньше не слышал, чтобы он играл так хорошо. И я весь отдался музыке, которая захватила меня и глубоко тронула, как это бывает с человеком, достаточно равнодушным к музыке, но вдруг почувствовавшим силу ее воздействия. Через некоторое время стало казаться, что Дрю добавляет к каждой сыгранной ноте еще какой-то звук, выше по тону, воспринимавшийся как нежное металлическое эхо мелодии; и вдруг я сообразил, что это играет банджо, но так мягко, верно, что складывалось впечатление, будто сам Дрю умудряется каким-то образом производить эти вторящие гитаре звуки. Я не видел лица Дрю, но его спина выражала чистейшую радость. Дрю ушел в сторону от мелодии и стал наигрывать что-то ритмичное, и Лонни тут же подхватил этот ритм. Он ничего не акцентировал, и во всем, что он играл, присутствовало восхитительное гладкое переливание, бесконечное течение. Его руки, все в длинных царапинах, двигались не спеша, а пальцы – так быстро, что казались почти неподвижными, как у хорошей машинистки, и было такое впечатление, что музыка рождается сама по себе. Дрю вернулся к мелодии, но уже в другом ключе, соскользнул с капота и, продолжая играть, стал рядом с Лонни. Они наклонились друг к другу, сблизив инструменты – такие деланные позы принимают вокальные группы и так называемые «народные певцы», выступающие по телевидению, но у Дрю и Лонни это выглядело совершенно естественно. Меня охватило ощущение, что я являюсь свидетелем чего-то необычного, редкого, неповторимого, и я совершенно другими глазами смотрел на них – на этого слабоумного деревенского парнишку и круглолицего добропорядочного городского жителя, занимающего некоторое положение в обществе, хорошего семьянина, по субботам старательно подстригающего изгородь вокруг своего дома. Я порадовался за Дрю – не напрасно мы ехали так далеко: это маленькое музыкальное событие уже само по себе могло служить для него оправданием всей поездки.
– Отлично! – воскликнул Дрю после того, как прозвучал последний аккорд.
– Ладно, Дрю, – сказал Льюис. – Прячь эту штуку. Сегодня нам еще нужно усесться в байдарки и почувствовать под собой воду.
– С этим парнем я мог бы играть целый день, – сказал Дрю. – Можешь еще подождать минуту? Я хочу записать его имя и адрес.
Он хотел было обратиться к Лонни, но потом, вроде бы испугавшись, что тот может не знать ни своего имени, ни своего адреса, повернулся к старику. Они отошли на несколько шагов, почти за пределы заправки, остановились и стали о чем-то беседовать. Дрю передал свою гитару старику, вытащил из кармана ручку и бумажник и тщательно записал то, что диктовал ему старик. Старик на прощание дружеским жестом коснулся плеча Дрю. Дрю вернулся к машинам, а старик и Лонни ушли в дом.
– Знаете, – сказал Дрю, обращаясь ко всем нам сразу, – я бы хотел как-нибудь приехать сюда еще раз, послушать музыку, которую здесь играют. Я ошибался, когда думал, что все стоящие музыканты из глубинки переехали в Нэшвилл[6].
– А сказал старик что-нибудь еще о реке? – спросил Льюис.
– Он сказал, что берега здесь очень крутые и спустить байдарки на воду не удастся. Но милях в восьми или десяти к северу местность плоская, и можно легко подойти к реке. Через лес туда можно доехать по дороге. Он рассказывал, что несколько лет назад в лесу велась заготовка древесины и, насколько ему известно, там остались проложенные тогда дороги и подъезды к реке. Ну, по крайней мере, есть возможность подъехать прямо к берегу.
– А как насчет того, чтобы перегнать наши машины в Эйнтри?
– Здесь, он сказал, нет никого, кто бы взялся за это дело. Но недалеко, в той стороне, куда нам ехать, есть автомастерская. Там работают два брата, может, они согласятся помочь.
Мы выехали из городка, и только тогда я понял, как высоко над рекой он стоит. Когда мы проезжали по мосту, река, мелькавшая сквозь ажурную арматуру, выглядела зеленой, спокойной, медленно текущей и, как мне показалось, очень узкой, вовсе не глубокой, совсем не опасной, а просто живописной. Трудно было представить, что она течет через дикие леса, что к ней на водопой приходят дикие животные, что вскоре ее перегородят дамбой и она превратится в озеро.
Отъехав от городка не больше чем на полмили к северу, мы остановились. Льюис решил, что было бы неплохо, если бы Дрю и Бобби вернулись в город купить съестных припасов – их нам не хватало. А мы тем временем отправились бы договариваться насчет машин. С того места, где мы остановились, хорошо была видна автомастерская, на которой большими буквами было написано: «Гринер Бразерс Гэридж». Льюис сказал Дрю, что мы будем ожидать его и Бобби у мастерской.
Подъехав к ней, мы остановились совсем рядом и вышли из машины. Впритык к мастерской стоял каркасный дом; мы подошли к двери и постучали. Никто не ответил. В мастерской кто-то стучал молотком. Она была сооружена из листов оцинкованной жести, и звук казался особенно гулким. Мы обошли мастерскую вокруг и обнаружили, что на больших деревьях висит солидный замок на цепи. Мы пошли дальше, и с противоположной стороны мастерской увидели полуотворенную дверь с покосившейся створкой. Льюис зашел первым, я за ним.
Внутри было темно и очень жарко, пахло железом. В таком душном, жарком помещении сразу прошибает пот, будто он только и ждал нужного сигнала, чтобы залить все тело. Кругом стояли или лежали на боку наковальни; сверху свисали цепи, покрытые толстым слоем застывшей смазки. Куда ни повернись – какие-то крюки, острые предметы – инструменты, большие гвозди, разодранные, ржавые жестяные банки и канистры. На полу и на скамейках стояли аккумуляторы и батареи, еще блестящие и уже позеленевшие. Стук молотков по металлу несся отовсюду, в основном, отражаясь от крыши. Этот грохот не только оглушал – казалось, он ослеплял. Было как-то странно стоять в полутьме, в этом металлическом грохоте, причиняющем боль. Нас пока явно не заметили.
Мы двинулись дальше в поисках того, кто производил весь этот невероятный шум. Было такое впечатление, что одновременно грохотало во дворе, на крыше, прямо за стенами и все это громыханье было направлено прямо в нас. Когда мы подошли достаточно близко к источнику шума, вздрагивая при каждом ударе, грохот вдруг прекратился. Казалось, сам воздух уплотнился вокруг нас. Хотя в той части мастерской, где мы оказались, было темнее, чем там, где были наковальни и аккумуляторы, глаза уже освоились с темнотой, и мы стали различать и другие предметы. На столе лежала большая ступица – наверное, от колеса грузовика, – и над ней склонилась фигура человека. Он нас еще не заметил, и когда я уже было собрался что-нибудь сказать, человек распрямился и повернулся в нашу сторону.
Ничего не говоря, сжав одну руку другой, человек прошел между нами и направился к косой полосе света, обозначавшей вход. Я инстинктивно отстранился, давая ему пройти. На какое-то мгновение мне показалось, что Льюис сделал движение, будто хотел стать на его пути. Я весь внутри сжался, не понимая, но пугаясь того, что происходит, или того, что вот-вот может произойти. Движение Льюиса, который намеревался преградить ему путь, помешать ему пройти, было таким же инстинктивным, как мой шаг в сторону, чтобы пропустить человека. Но с уверенностью я сказать не могу – действительно ли Льюис попытался это сделать. Возможно, мне с того места, где я стоял, это просто померещилось в темноте. Мы вышли вслед за автомехаником.
Когда мы вынырнули в яркий солнечный свет, заливавший пыльный двор, кое-где поросший хилой травой, он стоял, широко расставив ноги, и глядел на свою руку. На тонкой перепонке между большим и указательным пальцами краснел свежий порез. Механик был большим, тяжелым человеком – килограммов на десять тяжелее, чем Льюис. На нем были комбинезон, майка, кепка, какую обычно носят машинисты-железнодорожники, и армейские сапоги с обрезанными голенищами. Он держал свою руку низко у пояса, и казалось, будто для этого ему приходится напрягать все мускулы второй руки и всего тела.
В такой ситуации непринужденно начать беседу очень трудно. Больше всего в тот момент мне хотелось просто исчезнуть, а не объяснять, что мы делаем у этой мастерской. Но Льюис подошел к человеку с порезанной рукой, и спросил – с удивительной для него вежливостью, – не мог бы ли он нам помочь.
– Нет, – ответил великан, пристально посмотрев при этом почему-то на меня, а не на Льюиса. – Не так страшно, как я думал.
Он вертел свою порезанную руку и так и сяк, все так же держа ее низко, у пояса. Потом вытащил из кармана серый платок и обернул им руку, затянув узел зубами.
Льюис подождал, пока не будет завязан второй узел, и сказал:
– Я вот хотел спросить: не могли бы вы или кто-нибудь еще, может быть, ваш брат, перегнать наши машины в Эйнтри? Мы готовы заплатить за это двадцать долларов. А если вы захотите взять с собой кого-нибудь третьего, который бы поехал с вами в какой-нибудь третьей машине, чтобы привезти вас назад, мы заплатим всем тридцать долларов, по десять долларов на каждого.
– А зачем, собственно", гнать машины в Эйнтри?
– Мы хотим проплыть по реке на байдарках до Эйнтри, и нам бы хотелось, чтобы машины ждали нас там. Мы предполагаем добраться до Эйнтри послезавтра.
– На байдарках? – спросил мужчина, переводя взгляд с Льюиса на меня и обратно на Льюиса.
– Да, на байдарках, – подтвердил Льюис, слегка прищурив глаза. – На байдарках вниз по реке.
– А вы там бывали раньше?
– Нет, а вы?
Гринер повернул свое тяжелое мясистое лицо к Льюису. Их взгляды столкнулись; кузнечики в траве вокруг мастерской трещали так громко и звонко, будто железом стучат о железо. Я видел, что Гринера оскорбили последние слова Льюиса, который сам мне когда-то говорил, что ни в коем случае нельзя жителей этих горных мест заставлять признать, что они чего-то не знают.
– Нет, не был, – ответил Гринер медленно. – В тех местах не бывал. А чего там делать? Нечего там делать. Рыбалка там плохая.
– А как охота?
– На охоту не хожу. Но на вашем месте я б туда не совался. И зачем вообще туда лезть?
– Да просто так. Просто потому, что есть такое место, – сказал Льюис, обращаясь к Гринеру, но явно предназначая свое замечание специально для меня.
– Ну, есть такое место, – проворчал Гринер. – А вот когда вы заберетесь туда и увидите, что выбраться не можете, вот тогда пожалеете, что вообще туда сунулись.
У меня в груди образовалась какая-то пустота, и в этой пустоте гулко бухало сердце. Мне хотелось поскорее убраться отсюда, вернуться домой и больше не рыпаться. То, что происходило, мне было очень неприятно.
– Послушай, Льюис, – сказал я. – Пошло оно все к черту. Поехали домой. Будем играть в гольф.
Льюис не обратил на мои слова никакого внимания.
– Ну что, сможете это сделать? – спросил он Гринера.
– Сколько, вы сказали, заплатите?
– Двадцать долларов двоим, тридцать – троим.
– Пятьдесят, – сказал Гринер.
– Ну да, держи карман шире, – сказал Льюис.
Господи Боже, ну почему он так себя ведет? Я был напуган и раздражен тем, что Льюис и меня делает невольным участником происходящего. Никто не заставлял тебя ехать, сказал я себе. Но это – в последний раз. Никогда больше! Никогда.
– Как насчет сорока? – спросил Гринер.
Льюис притопнул ногой по земле и повернулся ко мне:
– У тебя есть десятка?
Я вытащил деньги и вручил ему десятидолларовую бумажку.
– Сейчас получаете двадцать. – Льюис протянул Гринеру две десятидолларовые бумажки, свою и мою. – Остальное мы вам пришлем по почте. Не беспокойтесь, раз мы платим сейчас половину, то и вторую половину заплатим. Ну что, берете?
– Ладно, я вам верю, – сказал Гринер, но таким тоном, будто говорил гадость. Он взял протянутые деньги, рассмотрел их и засунул в карман. Потом пошел через двор к дому, а мы, обходя мастерскую, пошли к машине.
– Как ты считаешь, – спросил я Льюиса, – мы увидим свои машины снова? Рожа этого сукина сына никакого доверия мне не внушает. Он и его братец могут запросто угнать машины и продать!
– Он этого не сделает хотя бы по одной простой причине – мы же знаем, кто он и где его искать, – сказал Льюис спокойно. – А двадцать долларов ему заработать не так просто. Можешь быть уверен, машины нас будут ждать в Эйнтри, когда мы туда доберемся. Не беспокойся.
Через несколько минут Гринер вышел из дома в сопровождении своего брата, который был еще крупнее, чем он. Они напоминали двух бывших футболистов[7]в первый год после того, как те ушли из профессионального спорта, – они начинают оплывать жирком, устроившись на работу ночными сторожами. Мы даже не представились, а мысль о том, что можно было бы пожать им руки, просто не пришла мне тогда в голову – я подумал об этом много лет спустя. До сих пор мне интересно, что случилось бы, если бы мы попробовали это сделать.
Подъехали Дрю и Бобби. Мы рассказали им, о чем нам удалось договориться с братьями. В это время откуда-то появился третий человек, и братья и этот третий залезли в старенький пикап – во многих местах краска на нем облезла, обнажив голый металл, – и когда мы двинулись дальше, они поехали следом. Мне казалось, что более правильным было бы нам ехать заними, но той информации, которую удалось получить на бензоколонке – хоть и была она весьма расплывчатой, – Льюису, по всей видимости, было достаточно. Он знал, в каком направлении река, знал, что где-то дальше к северу берег сильно понижается и что где-то у реки производилась когда-то вырубка леса. И его совершенно не беспокоило, что все это могло совершенно не соответствовать действительности. Он просто ехал вперед, уверенный, что доедет куда надо.
Через некоторое время он свернул на проселочную дорогу. Льюис ехал слишком быстро, и за нами развивался шлейф охристой пыли, в котором полностью скрывался грузовик. Мы проехали мимо нескольких ферм, потом дорога пошла вниз и стала ровной, как длинная борозда в земле; по обеим сторонам ее стояли заросли сгнившей кукурузы. Затем дорога привела нас в сосновый лес, и местность действительно стала понижаться, притом значительно. Дорога становилась все хуже. Она поворачивала в том направлении, где проходило шоссе, и Льюис все время высовывался из окна, надеясь увидеть поворот, после которого дорога, наконец, повернет в ту сторону, где, по его представлению, протекала река. В какой-то момент он повернул машину так резко и неожиданно, что я решил – Льюис пытался избежать столкновения с чем-то, чего я не заметил. Но мы просто свернули с дороги и поехали вниз по довольно крутому склону.
Все вещи в машине сползли с мест, и позади нас что-то тарахтело. Льюис даже немного приподнялся на сиденье, высматривая, куда ехать. По машине с боков и снизу хлестали ветки кустов. Я оглянулся, но ни второй машины, ни грузовика не увидел. Если на повороте они отстали – Льюис вел машину очень быстро, – они все равно должны были бы видеть, где мы свернули. И им уже пора было бы и появиться. Но их позади нас не было.
Дорога, описав полукруг, вообще исчезла. На земле перед нами валялось несколько почерневших, полусгнивших досок; чуть подальше находилась каменистая расщелина, полностью заросшая бурьяном. По большому камню пробежала ящерица, остановилась, подняв голову. Поодаль, в углублении, одиноко стояли козлы для пилки дров.
– Похоже на то, – сказал Льюис, – что мы заехали не туда.
– Может быть, будет лучше, если мы все-таки попросим их показать нам, где река?..
– Посмотрим.
Льюис долго разворачивался туда и сюда, насилуя машину, пока ему не удалось вырулить на дорогу, которая привела нас вниз. И мы поехали обратно, вверх к развилке. Когда мы туда добрались, там нас ожидал грузовик; машина Дрю стояла позади него. Интересно, почему Дрю не поехал за нами? Но я догадывался, что пристроиться за грузовиком – было вполне в его духе. Если он не знал, куда едет, то всегда был готов следовать за тем, кто знал.
Один из братьев Гринеров – тот, с которым мы разговаривали, – высунулся из кабины.
– Ну, и куда ты едешь, парень? Это тебе не город.
Льюис вспыхнул:
– Ладно, поезжай, поезжай вперед!
– Не-а, – сказал Гринер. – Ты поезжай вперед. Найдешь. Эта речка – самая большая в штате.
Льюис снова помчался вперед. Дорога пошла вправо, потом, снова влево, а потом вниз. Неожиданно до меня дошло – по обеим сторонам между деревьев были видны пеньки!
– Слушай, вырубку леса, наверное, вели здесь, – сказал я.
Льюис кивнул:
– Да, похоже на то, что тут крепко поработали. Я думаю, теперь мы едем куда надо.
Дорога продолжала спускаться, местами весьма круто. Вскоре ее трудно было уже назвать дорогой. Трудно было даже поверить, что по ней когда-то ездили машины – она теперь мало чем отличалась от нетронутой почвы леса вокруг нас. В одном месте нам пришлось проехать над вымытой дождями ямой – машина едва ползла, колеса с обеих сторон шли по самым краям. Даже на джипе проехать там было бы трудно.
Потом дорога резко нырнула вниз и привела к краю оврага. Я подумал, что назад выехать будет очень сложно, может быть, даже невозможно.
– Держись, – сказал Льюис и повел машину вниз, к оврагу. По машине хлестали рододендроновые и лавровые кусты, сгибаясь и тут же распрямляясь, когда мы проезжали. Какая-то ветка запрыгнула в открытое окно и улеглась мне на грудь.
Мы остановились. Со всех сторон нас обступал лес. Я посмотрел на ветку, лежащую у меня на груди, и увидел, что она подпрыгивает в такт биению моего сердца.
Льюис раковиной приложил руку к своему уху:
– Прислушайся!
Я стал прислушиваться. Поначалу я ничего не услышал. Потом сквозь тишину я уловил какой-то невнятный шум – ровный, неутихающий, нескончаемый. Льюис снова завел мотор, и машина поползла вниз, шурша листьями. Я снял с себя ветку и выбросил ее в окно. Мы подъехали почти вплотную к оврагу. Я вылез из машины и посмотрел себе под ноги: не видно ли змей? Боже, ну зачем я здесь? Когда я повернулся, чтобы посмотреть, что делает Льюис, я заметил свое отражение в зеркале заднего обзора. Я был весь в светло-зеленом – высокий лесной человек, первооткрыватель, партизан, охотник. Должен признать, мне понравилось то, что я увидел; мне понравился тот образ, который возникал. Даже если это была всего лишь игра, развлечение, в которое меня втянули – я был в настоящем диком лесу, и мой вид вполне соответствовал обстановке. Нет, не так уж плохо, что я здесь! Я прикоснулся к рукоятке ножа, висящего на боку, и подумал о том, что ведь все мужчины были когда-то мальчиками, а мальчикам всегда хочется почувствовать себя мужчинами. И это не так уже сложно сделать: например, нужно просто быть довольным тем, что происходит – вот и все.
Льюис прошел мимо меня и перепрыгнул через узкий овраг. С другой стороны склон оврага вздымался довольно круто. Льюис забрался наверх и на мгновение замер – руки на поясе, высокий, уверенный в себе человек, завоевавший лес. Он посмотрел куда-то вниз, по другую сторону оврага. Мне захотелось увидеть то, что видел он, и я полез за ним. Когда я выбрался наверх, он уже спустился по склону вниз. Пока я карабкался, мне пришлось помогать себе руками, и впервые за много лет руки у меня оказались вымазаны в земле. Выбравшись наверх, я ничего особенного не увидел – кругом расстилался лес, сквозь который шел Льюис в своей австралийской шляпе и маскировочном костюме. Я несколькими прыжками спустился вниз.
После каждого прыжка я приземлялся мягко, глубоко приседая. В мои теннисные тапочки набился лиственный перегной. Внизу, на земле, стояла большая лужа; вокруг все густо поросло деревьями с узенькими, как у вербы, листьями, так что впереди себя, кроме них, я ничего не видел. Вода в луже еще не зацвела, по ней пробегала рябь. Я вдруг понял, что со всех сторон до меня доносится шум, в который мы незаметно вошли.
Льюис, подскакивая как ворона, перебежал лужу; я последовал за ним, раздвигая ветки и молоденькие деревца, что не всегда было легко. Льюис остановился, и я, подойдя к нему, остановился тоже. Он отвел в сторону ветки со стреловидными листьями. Я придвинулся к нему поближе и заглянул в окно с неровными краями пепельного цвета, которое он проделал в лиственной завесе.
Перед нами открылась река – и никуда уже больше не исчезала. Она была серо-зеленой, очень чистой, однако с примесью молочной белесости; казалось, что вода в реке тут же станет белой и пенящейся, как только на ее пути встретятся подводные камни, и произойдет это быстрее, чем с водой в любой другой реке. Река в этом месте была метров сорок в ширину, и, по всей видимости, очень неглубокой, не более полутора-двух метров в глубину. Через проем в листьях и ветках нам был виден лишь небольшой участок реки прямо перед нами. По воде ничего не плыло, даже маленьких веточек не было видно. Льюис отпустил листья; они изящно вернулись на место, скрыв от нас реку.
– Вот и наша речка, – сказал он, продолжая смотреть перед собой.
– Красивая, – отозвался я, – действительно красивая. ...Потом мы долго возились, снимая байдарки с крыши машин и перетаскивая их через овраг, а затем через крутой вал за ним. На ровном месте Льюис и Бобби тащили веревки, привязанные к носу байдарок, а мы с Дрю толкали их сзади. Наконец, мы вытащили лодки из ивовых зарослей.
Деревянную байдарку мы спустили на воду первой. Льюис залез в воду и, стоя по щиколотку в прибрежном иле, руководил посадкой. У обеих байдарок на дне были деревянные настилы, которые не были закреплены и держались на месте благодаря своему весу и сидениям, нависавшим над ними. Сначала мы сложили в лодки наши скоропортящиеся съестные припасы, потом все остальное, а сверху положили водостойкие палатки, закрепив их веревками. Дрю зашел в воду, за ним я. Льюис вылез на берег.
– Тащить твою гитару? – закричал Бобби с вала у оврага.
– Тащи! – крикнул в ответ Дрю. И потом добавил, обращаясь уже ко мне: – Если с ней что-нибудь и случится здесь, на реке, я не буду особенно переживать. Но мне совсем не хочется, чтобы ее утащили эти типы.
– Будем надеяться, что мы не очень повредим ее, если перевернемся.
– Не знаю, как ты, приятель, – сказал Дрю, подражая местному говору, – но я вовсе не собираюсь макать свою жопу в эту самую реку. Я сяду в байдарку вместе с тобой, а не с этим мистером Льюисом Медлоком. Я видел, как он гонял по тем дорогам, ни хрена не зная, куда едет.
– Идет, – сказал я. – Я не возражаю. Но должен тебе сказать, что он здорово умеет управляться с веслами в этой байдарке, а я – нет. К тому же, он силен, как черт, и сейчас в прекрасной форме. А я – нет.
– Я все равно рискну плыть с тобой, – ответил Дрю. – И жена моя это одобрила бы.
Льюис и Бобби продолжали носить из машин наши вещи, а мы с Дрю засовывали их под палатки, стараясь разместить их поудобнее. Но это у нас получалось не очень хорошо, и я подумал, что лучше бы этим делом занимался Льюис. У него бы это получалось намного лучше. Мы с Дрю топтались в иле, замарав ноги до колен.
Наконец Бобби, пробираясь сквозь ивняк, пришел с последним грузом:
– Ну, вроде все.
– А как насчет машин, обо всем договорились?
– Да вроде бы, – сказал Бобби. – Льюис обговаривает с ними последние детали. Ну и типчики! Я рад, что больше их не увижу.
Мы услышали, как вдалеке завелся мотор машины. Тут я подумал о том, что совершенно не знаю, кто же этот третий, взявшийся нам помочь. Я совсем не запомнил его лица.
– Я лично, – сказал Бобби, – весьма сомневаюсь, что им удастся вернуться назад по той дороге, по которой мы ехали сюда.
– Утешительная мысль, – отозвался Дрю. – А что, если они действительно не смогут выехать назад?
– Мы все равно сейчас уплывем, – сказал я. – А как им выбраться отсюда – это уже их проблема.
– Ничего себе ихпроблема! – возмутился Бобби. – Что мы будем делать, если не найдем своих машин в этом – как его – городке, куда мы должны приплыть?
Тут раздался голос Льюиса из-за ивовой завесы:
– Да не волнуйтесь ни о чем! Машины будут на месте, где положено.
Мы надели спасательные жилеты. Я удерживал деревянную байдарку на месте, чтобы в нее мог забраться Бобби. Он, пошатываясь, залез в байдарку и уселся на носовом сиденье. За ним последовал Льюис. Под их весом байдарка осела в воде и приобрела максимально возможную устойчивость.
– Ладно, – сказал Льюис. – Отпускай.
Я отпустил, и лодка поплыла, уже ничем не удерживаемая. Я стоял ц смотрел на них через плечо. Я так глубоко погрузился в ил, что даже подумал о том, что вылезать из него будет трудно. Стоя так, я ухватился за алюминиевую байдарку, в которой уже сидел Дрю, державший в руках весло.
– Я правильно держу эту штуку? – спросил он.
– Наверное, – сказал я. – Весло нужно держать... Ну, в общем так, как ты его держишь.
Я вытащил одну ногу из ила, но при этом вторая застряла в нем еще глубже. Я ухватился за длинную ветку и стал вытаскивать себя из трясины, которая не хотела отпускать мою левую ногу.
– Она меня держит! – сказал я.
– Кто «она»?
– Да эта пакость.
Я дергался и, не отпуская ветки, тянул себя из ила. Когда, наконец, мне удалось вытащить ногу, я, нащупав более твердое место, оттолкнулся и заскочил на корму. Деревянная байдарка, в которой плыли Льюис и Бобби, у кого-то была одолжена, а алюминиевая, в которой разместились мы с Дрю, принадлежала Льюису. Байдарка раскачивалась и прыгала. Мы веслами оттолкнулись от берега, и медленное течение властно подхватило нас. Берег стал удаляться. Я чувствовал, как тянет нас течение, состоящее из многих невидимых потоков, – как будто нас тащили несколько веревок, каждая немножко по-разному. У меня возникло ощущение, которое всегда охватывает меня, когда я проваливаюсь в сон, расставаясь с сознанием, – вроде бы я двигаюсь к чему-то неизвестному, встречи с которым мне не избежать, но откуда я все-таки вернусь.
Благодаря кинофильмам, спортивным передачам по телевидению и большим фотографиям индейцев, гребущих в своих каноэ, я имел некое общее представление, что мне нужно делать. И я погрузил весло в воду с левой стороны байдарки и провел его вдоль борта. Нос лодки, где сидел Дрю, – и я тут же понял, что, пожалуй, самой большой проблемой будет поворачивать нашу байдарку из стороны в сторону, имея такого пассажира, сидящего на переднем сиденье, – тяжело повернул к середине реки, где течение, подхватившее нас, было быстрее. Я испытывал блаженное ощущение полного, свободного скольжения, движения, для которого не применяешь никаких усилий. И это несмотря на то, что мы, собственно, довольно медленно дрейфовали, перегруженные большим количеством вещей и скованные неуверенностью. Я заметил, что у Льюиса и Бобби, которых уже отнесло от нас довольно далеко, пока тоже получалось не лучше, чем у нас с Дрю, хотя Льюис явно старался вовсю. Я подумал, что он, наверное, позволяет Бобби освоиться на воде и определить, с какой стороны байдарки ему удобнее грести. Я предложил Дрю грести справа от лодки, и мы попробовали сделать несколько совместных гребков. Мы проплыли над очень мелким местом, где течение усилилось, – вода вскипала, проносясь над серовато-коричневыми камушками на дне. Байдарка закачалась и днищем проскрипела по камням.
– Давай, попробуй грести сильнее, – сказал я. – Нам нужно найти способ, как перемещать эту штуку так, как нам нужно.
Он погрузил весло глубоко в воду, и я гребнул вместе с ним. Мы нашли свой ритм и стали довольно уверенно приближаться к первому повороту реки. Пару раз весло ударялось о каменистое дно, от чего у меня в руках возникало какое-то странное, противоречивое, сокровенное чувство. Мы стали входить в поворот как раз тогда, когда передняя байдарка уже почти прошла его. Я начал грести немного сильнее, чтобы удерживать нашу лодку точно по течению. Дрю оглянулся, сверкнув очками; при этом он повернул только голову, а тело его, облаченное в спасательный жилет, оставалось неподвижным. На половинке лица, обращенного ко мне, была видна широкая улыбка.
– Смотри, – сказал он, – у нас что-то получается!
– У нас все получается нормально.
Когда мы вышли из поворота, у меня, при взгляде на зеленую байдарку впереди, тут же возникло ощущение, что происходит нечто странное. Либо неправильным образом вела себя река, либо зеленая байдарка. Льюис и Бобби двигались поперек пока еще спокойной реки, и Льюис старался изо всех сил развернуть лодку. Бобби, насколько я мог видеть с такого расстояния, выглядел совершенно растерянным, хотя и он пытался помочь. Их байдарка развернулась и теперь плыла по реке задом наперед. Дрю закрыл лицо рукой. Я хотел уже было крикнуть что-нибудь Льюису, но не смог заставить себя сделать это. Иногда я позволял себе посмеяться над Льюисом, но почувствовал, что сейчас это было бы неуместно. Дрю и я перестали грести, не решаясь окликнуть Льюиса и Бобби. Течение несло нас вперед, и мы могли спокойно наблюдать за происходящим. Бобби оставил попытки управиться с веслом, а Льюису – казалось, лишь благодаря страстному желанию исправить положение, – удалось снова развернуть лодку боком. Но едва он этого добился, байдарка остановилась, зацепившись за подводные камни. Льюис стал отпихиваться от камней веслом и руками, потом попытался сдвинуть байдарку с места, раскачивая ее своим весом. Наконец, он вылез из лодки в воду и стал спихивать ее с камней руками. Мы с Дрю подплыли к ним и, табаня, остановились. Подчиняясь невольному порыву, я вылез из байдарки, чтобы помочь. Мы с Льюисом тащили и толкали лодку, а Бобби сидел на носу как мертвый груз с соответствующим такому грузу выражением на лице.
Загружая байдарки вещами и даже проплыв некоторое расстояние по реке, я не ощутил по-настоящему присутствия воды. Это ощущение пришло только тогда, когда я залез в воду, чтобы помочь стащить байдарку с камней. Это было какое-то глубинное ощущение ее природы – в течение тысяч лет вода приходила из недр земли, образуя эту реку многими притоками, впадавшими в нее на протяжении сотен миль, и стоять в этой воде было очень приятно. Вода была прохладной, неубывающей, постоянно меняющейся, живой, беззаботной. Она плескалась вокруг моих бедер, и мне очень не хотелось выходить из нее.
– Давай хлебнем пивка, – сказал я.
Льюис вытер пот со лба и стал шарить рукой под палатками. Он вытащил банки пива из полиэтиленового пакета, наполненного уже тающим льдом. Мы открыли банки. После нервной работы по загрузке лодок и первых усилий по управлению байдарками нам всем хотелось пить. А моя жажда началась еще в автомастерской братьев Гринеров, где из меня с потом, как мне казалось, вышло больше жидкости, чем вообще имелось в организме. Я выпил всю банку одним залпом, не отрываясь. Пил я медленно, не спеша, как пьют вино герои эпических сказаний.
Допив пиво, я осмотрелся. По обеим сторонам реки, на берегу, располагалась ферма – с одной она занимала большее пространство, чем с другой. Было такое впечатление, что ферма сражается с лесом за существование. Справа от меня, у воды, стояла корова и пила из речки. Несколько других коров лежали на небольшом пригорке, заросшем травой. Было тепло; на траве поблескивали кучи коровьего навоза, над которыми маленькими облачками роились насекомые в своем безумном воздушном танце.
Я опустил банку под воду – под водой она изменяла форму и играла новыми цветами, – и когда она наполнилась водой достаточно, чтобы уже не всплыть, я отпустил ее. Течение тут же утащило банку, и она поплыла мимо моих оттопыривающихся в воде нейлоновых штанин.
Мы с Льюисом, упершись в байдарку тремя руками – в одной руке Льюис все еще держал банку, – сильным толчком сдвинули ее с камней. Я залез в свою байдарку. Мы выгребли на середину реки, которая текла здесь без извивов и поворотов. Меня снова прошиб пот – от выпитого пива и от усилий, которые приходилось применять, чтобы не поворачиваться боком к течению.
Берега по обеим сторонам стали повышаться. Река уверенно и быстро тянула нас к серебристому автомобильному мосту. Когда мы проплывали под ним, над нами прогрохотал грузовик. По берегам снова показались следы цивилизации. На правом берегу какие-то жестяные хибарки подходили к самой воде; из ила у берега торчали ржавеющие куски металла, части моторов, отсвечивали голубым и зеленым разбитые бутылки. Но помимо всего этого, в глаза бросались яркие пятна того, что со временем не меняет цвета и не разлагается – куски и обрывки пластмассы. Дрю тоже обратил на это неприятное зрелище внимание.
– Пластмасса, – сказал он. – Не разлагается.
– Это значит, что от нее вообще нельзя избавиться?
– Она не распадается на составные элементы, – ответил Дрю таким тоном, будто это так и надо.
В угасающем свете дня поломанные пластмассовые бутылки и коробки вспыхивали разными цветами, будто в них были встроены лампочки с батарейками. Там оранжевое пятно, там – желтое, а там – голубое. Марта назвала бы такой цвет, если бы это касалось одежды, «электрик». Все эти пластмассовые отбросы стойко сохраняли свои ядовитые цвета, ярко выделяясь среди изломанных, гниющих досок, золотисто-коричневых ржавеющих жестянок, валяющихся в грязи с оттопыренными крышками. Но все это поглотит, растворит земля – а пластмасса останется.
Небо начала затягивать дымка приближающейся ночи – ночи полной, без всяких проблесков искусственного света. Я подумал, что именно из-за этих наступающих сумерек вода потеряла тот вид сверкающей чистоты – с примесью белесоватой молочности, не лишающей ее, однако, чистоты, – который имела, когда мы только отправились в плавание. Течение казалось уже не таким целенаправленным и цепким, каким воспринималось возле ивовых зарослей. В воде появилось еще нечто, чего раньше в ней не было.
Я вытащил весло из воды – к нему снизу прилипло белое перышко. Я стряхнул его и стал всматриваться в воду. Справа от меня двигалось пятно чего-то белого, неопределенных очертаний, уходящее под воду. Присмотревшись, я понял, что это бревно, полностью покрытое куриными перьями и пухом. Каждое перышко колебалось и раскачивалось – вот так должно выглядеть зримое воплощение тошноты. Когда тошнит по-настоящему, возникает ощущение, так вещественно представленное этим бревном с прилипшими к нему перьями.
– Наверное, где-то поблизости птицеферма, – сказал Дрю, полуобернувшись ко мне.
– Похоже на то.
Река вся заросла перьями. На прибрежных камнях собрались маленькие сугробики перьев, а вдоль них проплывали перья полосами и пятнами. Казалось, все под водой тоже покрыто болезненным белым налетом; вся поверхность воды вокруг нас была устлана чистенькими, чопорными перышками, свернувшимися наподобие корабликов, которые любят пускать по воде дети; они плыли приблизительно с той же скоростью, что и мы. Справа я заметил куриную голову, сопровождаемую несколькими перьями; ее полуоткрытый, остекленевший глаз смотрел прямо на меня и сквозь меня. Если бы таких голов было несколько, эта одна не была бы столь приметной. Но я видел только одну голову, плывущую рядом с нами; поворачивающую ко мне другой глаз (будто под головой разворачивалось уже не существующее, отнятое у нее тело), печально пьющую воду неподвижным полуоткрытым клювом, вертящуюся, переворачивающуюся, потом возвращающуюся в прежнее положение. Я хлопнул по ней лопастью весла, но она лишь отплыла немного в сторону и двинулась по течению дальше вместе с нами.
Так мы и плыли, в окружении перьевых островков, мимо необщипанных камней, над бревнами, затонувшими в глубокой, ленивой воде. И когда я уже смирился с тем, что придется еще некоторое время плыть сквозь все это безобразие, я обратил внимание на то, что звук текущей воды изменился – хотя специально и не прислушивался. Он стал как-то глубже и немного явственнее. Было такое впечатление, что у меня неожиданно улучшился слух. Я стал вслушиваться внимательнее. Впереди нас ожидал новый извив, и река будто напрягалась, чтобы пройти его и провести нас вместе с собой.
За поворотом я увидел источник нового звука – поперек реки во многих местах вода вспенивалась белым, все вокруг было наполнено каким-то весенним движением, пузырьками, живой рябью. Это все выглядело не опасно, просто оживленно и бойко. У меня не возникало ощущения того, что вода сердится на препятствие на ее пути – она просто казалась настороженно-игривой. Она рассекалась струями на торчащих камнях, слегка пенилась, вертелась, сжималась, вздыбливалась над гладкими камнями пузырями, напоминавшими шлемы, а затем убегала вдаль по длинным террасам – будто искусственным – на следующем повороте.
Я стал высматривать между камнями проход. Дрю показал рукой перед собой, и этот жест был понятнее, чем если бы он попытался объяснять словами. Я погрузил весло в воду. Главное течение раздваивалось перед нами буквой V, однако пока еще оно несло нас прямо; я видел, где течение самое быстрое и где быстрая вода ныряет в порогах.
– Дрю, – закричал я, – нам нужно проскочить прямо по центру!
– Да, да, – ответил Дрю. – Туда и будем править!
Мы плыли прямо в центр V. Под байдаркой вода переключила сцепление и перешла на большую скорость. Нас стало бросать из стороны в сторону. Мы въехали в узкое место, и нас засосало в пороги так резко, что, казалось, из-под нас выдернули прежнюю спокойную реку – как выдергивают из-под ног половик, – и вместо нее новая, буйная вода подбрасывала нас, швыряла на камни. Мы изо всех сил старались удерживать нос байдарки по ходу течения. Дрю подбрасывало в воздух, но он сохранял спокойствие, не паниковал, хотя управляться с веслом ему было еще сложно. Каждый раз, когда он переносил весло с одной стороны байдарки на другую, я подстраивался под него. В какой-то момент наша байдарка пошла немного боком, и течение стало разворачивать нас поперек реки – настойчиво, с маниакальным упорством. Я чувствовал, что теряю управление, – я представлял, как мы выглядим, если глядеть на нас из прибрежных кустов. Но Дрю удалось наполовину сделать то, что положено, я сделал другую половину, и мы выровнялись. Днище байдарки терлось о камни, скрипело, ударялось о них, но мы не упускали главной струи течения и, подрагивая от напряжения и ощущения удачи, промчались мимо грозных, будто вибрирующих, больших камней.
Я крикнул Дрю, чтобы он греб или с одной, или с другой стороны. Он выбрал правую сторону – самые большие камни вроде бы находились справа. Одни торчали из воды, другие виднелись в воде, подступая прямо к поверхности. Я то греб изо всех сил, чтобы ускорить наше движение, то пытался табанить, когда мы приближались к камням справа слишком близко. Это было больше похоже на ту работу веслом, которая мне была достаточно хорошо знакома, и я почувствовал себя увереннее.
Я уже видел впереди, как пенистая, взбаламученная вода превращается в гладкую, темно-зеленую. Нас пронесло между двумя валунами, побросало немного напоследок – и мы, наконец, проскочили сквозь пороги.
Дрю провел рукой по планширу байдарки, и когда он повернул ко мне голову, ясно было, что он приятно удивлен.
– Да, старина Льюис знает кое в чем толк, – сказал он.
Я глазами поискал вторую байдарку – она оказалась недалеко от нас. Бобби и Льюис вспахивали веслами воду, которая казалась странно неподвижной после бурления в порогах.
Но это была уже вечерняя вода. Ее уже не освещало солнце, а блики света, еще падающие на воду, быстро угасали. Далеко впереди вода буйствовала у следующей преграды из камней – или, может быть, даже в небольших водопадах. Я готов был побиться об заклад, что там река делает еще один поворот.
Я почувствовал себя очень уставшим, однако у меня ничего не болело. По мере того, как день терял энергию солнца, терял ее и я. Подкрадывающаяся ночная прохлада окончательно забрала у меня остатки энергии. Мне захотелось побыстрее перебраться на берег, подальше от воды.
Течение медленно тащило байдарку. Оно входило в мои мышцы, в мое тело через весло, и мне казалось – это я сам, ворочая веслом, создаю течение. Я, пошарив рукой под сложенной палаткой, нащупал пару банок пива, открыл их и передал одну Дрю. Он, перегнувшись назад, взял ее. Одно из стекол его очков потеряло прозрачность, отразив заходящее солнце.
– Да, тяжела жизнь первооткрывателей, – сказал Дрю и стал насвистывать песенку: «Плыву я в каноэ, в берестяной лодчонке...»
Я поднес банку к губам и стал пить, не отрываясь. Подсыхающие нейлоновые штанины липли к ногам ниже колен. Я оттянул материю так, чтобы она не касалась кожи, и снова взялся за весло. Я чувствовал себя прекрасно.
Мы почти догнали переднюю байдарку. Плывя рядом, мы, лениво ворочая веслами, отдались на волю течения. Река сносила нас в наступающую навстречу темноту. Хотя мы и слышали урчание порогов где-то впереди, они не появлялись. На каменистых берегах по обеим сторонам росли печальные сосны с длинными иглами. По левому берегу бежала дорога, заросшая травой и кустами, но через несколько сотен метров она закончилась, упершись в поваленное дерево. В умирающей голубизне кружил ястреб. На фоне вечереющего неба четко были видны растопыренные перья на концах его крыльев.
Кругом становилось тихо и необитаемо. Я вспоминал, что в диких местах следует чего-то бояться – и тут же меня охватили неопределенные страхи. Больше всего на меня действовала безликая красота этих мест. Трудно было поверить, что на меня все это подействует так неожиданно и с такой силой. Тишина леса и тишина реки, насыщенные звуками, не имели никакого отношения ни к нам, ни к захолустному городку, в котором мы недавно были. С его несколькими уличными лампами, горящими в тени, отбрасываемой горой; с его кафе и лицами фермеров, освещенными усталым светом на центральной и единственной площади городка; с его кинотеатром, где шел фильм, который в тот же вечер должны были показывать по одному из каналов у нас в городе. Я, как и утром в машине Льюиса, задремал и снова стал видеть, как мы подъезжаем к голубым холмам, видел, как они меняют форму, цвет и расположение по мере того, как мы приближаемся к ним, – все было уже знакомо и одновременно ново. Каким-то странным образом я видел теперь все так, будто в голове у меня ленту перематывали в обратную сторону: я двигался прочь от холмов, мимо рекламных щитов с улыбающимися девицами, сельскими Иисусами, назад к веренице придорожных строений, мотелей, магазинов, назад в город. Я увидел и Марту и Дина, и был поражен тем, что меня с ними нет и что я, оказывается, сижу в лодке и смотрю в извивы течения в реке. Марта уже беспокоится, сидит с Дином перед телевизором. Ей непривычно без меня по ночам. Я видел, как она сидит, сцепив руки, в позе женщины, которая стойко переносит страдания. Ну, может быть, это сильно сказано, но все-таки она страдает. А на ногах у нее теплые домашние тапочки...
Я несколькими широкими взмахами весла подогнал нашу байдарку почти вплотную к зеленому каноэ. И тут об мою губу ударилось какое-то насекомое – будто попала в рот пуля.
– Тебе не кажется, что нам пора разбить лагерь? – сказал я Льюису.
– Да, наверное, пора. Боюсь, дальше берег снова поднимается и может стать таким высоким, что нам на него и не выбраться. Вы, ребята, высматривайте подходящее место на левом берегу, а мы будем смотреть на правый.
Мы проплыли сквозь небольшие пороги, фосфоресцировавшие в сумерках, почти не почувствовав, что в реке на этом участке прячутся камни. И хотя все обошлось благополучно, мы получили предупреждение о том, что нужно быть осторожнее: перевернуться в темноте и вывернуть все вещи в воду было бы крайне неприятно. На берегу кусты и деревья стали сливаться в одну плотную, темную массу, и разобрать деталей я уже не мог. Однако в одном месте мне показалось, что в двух-трех метрах от воды берег ровный и плоский. Я тут же показал Льюису в ту сторону, и тот кивнул головой. Я развернул байдарку, удерживая ее боком к течению, и по косой линии двинулся к берегу. Нос мягко уткнулся в податливый грунт. Я с опаской вылез в темную воду и ухватился за байдарку, чтобы удержать ее на месте. Казалось, в прохладной воде было полно невидимых ночных существ. Дрю выкарабкался из байдарки и привязал ее к молоденькому деревцу. Я вышел из воды на берег, в это время подплыли Льюис и Бобби. От неприятного ощущения, что в темноте кто-то прячется, у меня по спине мурашки бегали.
Мы развязали веревки, которыми были закреплены сложенные палатки, и взялись за устройство лагеря. Льюис захватил с собой в путешествие электрические фонарики с длинными ручками и теперь устанавливал их на пеньках и в развилках веток кустов так, чтобы место, где мы разбивали лагерь, было ярко освещено со всех сторон. Занимаясь непривычными для нас делами, мы входили в этот круг света из темноты и выходили назад в темноту. Казалось, Льюис точно знает, где что находится. Он ходил в круге света и раскладывал на земле палатки, гриль, надувные матрасы, спальные мешки. И возникало такое впечатление, что по его приказу все они сами поднимутся и образуют лагерь. Бобби и Дрю старались быть полезными, но у них мало что получалось. А я считал, что было бы просто свинством стоять на месте и позволять Льюису самому все делать. Хотя и знал, что он нисколько бы не возражал, если бы ему пришлось устраивать все без посторонней помощи. Меня клонило в сон, и в первую очередь я занялся тем, что имело к нему непосредственное отношение. Я надул матрасы ручным насосом – все четыре, на что ушло без малого полчаса активного качания, без перерывов. Река за это время посветлела, а лес, наоборот, становился все чернее и чернее.
Льюис поставил палатки, а Бобби и Дрю делали вид, что ищут хворост для костра. Я почувствовал себя значительно спокойнее после того, как палатки были установлены, надувные матрасы и спальные мешки уложены в них, электрические фонарики развешены внутри палаток и предохранительные сетки против змей подняты. Наша колония была основана, и я отправился с фонариком в лес набрать хвороста. Когда я натыкался на кого-нибудь из остальных, я светил фонариком в грудь, чтобы не слепить глаза, но зрелище при этом получалось неприятное. Свет, направленный снизу вверх, придавал лицу Бобби, которое казалось вымазанным жиром, монголоидный вид. Лицо Дрю выглядело так, будто его обрабатывали струёй из пескоструйного аппарата – оно все было покрыто точечными тенями в тех местах, где у него когда-то были угри. А вот лицо Льюиса даже в этом свете, отраженном от груди, менялось несильно, но это почему-то меня совершенно не удивляло. Длинная тень от его носа ползла вверх между глазами, надбровные дуги выступали вперед. Но его тихий голос шел оттуда, откуда ему и положено было идти – хотя временами казалось, что рот у него немного сместился влево.
Мы с Льюисом стояли у воды и светили фонариками на реку; свет прыгал по поверхности спокойного течения как пена. Меня охватило замечательное, меланхолическое чувство. Мне безотчетно нравилось стоять у реки и смотреть на луч света, выходящий из моей руки и скользящий по воде. Потом я подумал, что, наверное, мне следует сделать что-нибудь полезное. И я, ослабив тетиву, повесил свой лук на ветку так, чтобы наш лагерь действительно приобрел вид охотничьего; потом смазал наконечники стрел жиром, чтобы их не тронула роса. Льюис подошел ко мне и рукой провел по центральной части лука.
– Старенькая, но верная катапульта, а?
– Да, еще крепенькая, – сказал я.
– Тебе нравятся эти говардовские наконечники?
– Да, кажется, они как раз что надо. В одном журнале я прочитал, что такие наконечники позволяют стреле погружаться в цель особенно глубоко. Надеюсь, в журнале знают, о чем пишут. Во всяком случае, приходится им верить на слово.
– А они не начинают планировать на ветру?
– Я стрелял ими только по пням и земляным мишеням – и, похоже, они летят очень ровно. Ну, по крайней мере, если стрелять ими из этого лука.
Бобби налил всем виски, ни с чем его не смешивая. Мы сидели и прихлебывали его, а Льюис в это время сносил в одно место камни, которые выкорчевывал из земли или собирал вокруг палаток, раскладывая их в круг – для костра. Разведя костер, он позволил огню разгореться в большое пламя. Потом, когда оно притухло, поставил на него смазанную маслом сковородку, на которую выложил отбивные, захваченные им с собой еще из города.
Запах готовящегося мяса был восхитителен. Мы налили себе еще виски и сели на берегу, глядя на пляшущие, незатухающие отсветы костра на воде. Страх, взбудораженность и предвкушение ужина присутствовали во мне как отдельные ощущения, дополнявшие друг друга. Было нечто успокоительное в том, что мы в таком месте, где нас никто не мог бы найти – что бы там ни происходило в других местах, – что нас со всех сторон отступала ночь, что мы уже ничего не могли изменить, не могли отказаться от поездки.
Неяркое отражение огня на воде не подчинялось течению, и мне это казалось замечательным. Оно играло и плясало на одном месте, как неуязвимый дух, который умрет вместе с костром. Мы сидели молча, и я был рад этому молчанию. Я боялся, что Льюис начнет о чем-нибудь разглагольствовать, но он тоже молчал. Я лег на спину, параллельно реке, и закрыл глаза.
Когда я открыл их, повернув голову к лесу, там была лишь пустая, непроницаемая тьма. Мне казалось, что я лежу так уже довольно долго. Но потом из этой темноты что-то выдвинулось. Пришел Дрю со своей гитарой. Я сел. Вода, еще залитая огоньками от костра – наверное, пещерные люди сидели вот так же и смотрели на огонь, – казалось, вот-вот снесет их в сторону и поглотит.
Дрю тихонько настраивал гитару, потом тихо взял аккорд, который расплылся над водой и уплыл в ночь.
– Оказывается, мне всегда хотелось вот так сидеть у реки и смотреть на воду, – сказал он. – Я просто этого не знал.
Он передвинул одну руку по грифу, перебирая струны другой. Аккорды нарастали, отталкивались друг от друга в темноте, создавая гармонию одиночества и печали. Потом он стал играть отдельные ноты, сопровождая их звучанием басовой струны.
– Это музыка леса, – сказал он. – Тебе не кажется?
– Кажется.
Мне нравилось это мощное, звенящее, будто гнусавое наигрывание на гитаре, типичное для музыки «кантри»; в нем слышались стальные нотки, пальцы ударяли по струнам как молотки по рельсам. Дрю играл увлеченно, чисто, и всем нам было очень хорошо. Он сыграл и «Город на Юге», и «Гневный Господи», и «Он был мне другом», и «Лохматый парень», и «Полегче, мистер...»
– Последнюю вещь надо было бы играть на двенадцатиструнке, – сказал Дрю. Но и на простой шестиструнной она прозвучала очень хорошо.
Пока Дрю играл, Льюис принес всем нам уже зажарившиеся отбивные. Мы съели по две штуки – они были маленькие – и по большому треугольному куску пирога, который приготовила жена Льюиса. Потом еще выпили. Костер уже только тлел, оставив нас почти в полной темноте; огоньки на воде уже умерли.
– Знаете, – сказал Льюис, – у нас осталось не очень много лет для таких развлечений.
– Да, наверное, – отозвался я. – Но могу сказать – я рад, что поехал. Я рад, что я здесь. Нигде в другом месте я бы не чувствовал себя так, как здесь.
– Да, это правда, Льюис, – сказал Бобби. – Все правда, что ты сказал. Все очень здорово. И у нас все прекрасно получалось. То есть, я хочу сказать, что для людей, никогда раньше не плававших на байдарках, у нас все хорошо получалось.
– Терпимо, вроде бы, – согласился Льюис. – Но имей в виду – нам просто здорово повезло. И слава Богу – а не то, если бы нам не удалось развернуть это неповоротливое деревянное корыто и нас снесло задом наперед на пороги, нам бы не поздоровилось.
– Но все же обошлось, – сказал Бобби. – Я надеюсь, такого теперь снова не случится, а, Льюис?
– Надеюсь, нет.
– Ладно, ребята, пора в спальные мешки, – сказал я, потягиваясь.
– Знаете, когда-то, в юности, именно в спальном мешке я кончил. Мне приснился эротический сон, – сказал Льюис. – Представляете?
– Ну и как, приятно было? – спросил Бобби.
– О, прекрасно! Такое не повторяется.
Я встал, хрустнув суставами, и полез в палатку. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Проклятые шнурки на теннисных тапочках, намокшие в воде, не хотели развязываться. Пришлось стянуть тапочки просто так. Потом я стащил с себя все остальное, залез в мешок и застегнул молнию. Дрю все еще сидел на берегу и играл. Мне казалось, что я слышу его минорную музыку издалека. Я лежал на спине, чувствуя под собой мягкий мех подкладки, стараясь поудобнее устроиться на пружинистом матрасе. Выключил фонарик и закрыл глаза.
Я то уходил в сон, то возвращался. Я чувствовал себя полностью отключившимся и одновременно прислушивающимся к чему-то. Я не знал, к чему, собственно, я прислушивался. К какому-то голосу, в котором бушевал огонь, пьяному, неземному, нечеловеческому вою; может быть, я прислушивался, не раздастся ли вой старого Тома Маккэскилла, сидящего у костра и вопящего в ночи.
Потом я провалился в глухую черноту. Когда я проснулся снова и повернулся, то увидел Дрю, лежавшего рядом. Его рука покоилась на шве спального мешка.
Я слышал шум реки, плещущейся, казалось, у самых ног. А вокруг меня стоял лес, невероятно плотный, густой и темный. И для реки и для леса я был совершенно чужим, незнакомым. В ночи замерли неведомые существа с поднятой лапой, боясь опустить ее на землю, чтобы не хрустнула какая-нибудь веточка или не прошуршал листик. В ночи рыскали глаза, созданные для того, чтобы видеть в темноте. Я открыл глаза и увидел мрак в его ничем не нарушаемой черноте. В этой черноте я увидел ягодицы Марты, двигающиеся в стороны, вверх и вниз. Ягодицы растворились, и появилась студия – мы решили, после долгих обсуждений, что фотографии не получились как надо, и попросили натурщицу прийти к нам снова... мы решили также воспользоваться идеей, предложенной заведующим сбытом «Киттс», и сделать рекламу, повторив прием, использованный ранее: собака, стаскивающая с девушки купальник. Только у нас вместо собаки должен был быть котенок. Вот Вильма держит кошку и заставляет ее выпустить когти. Цепляет кошку сзади на трусики девушки. А вот и Тэд. А вон там стою я. Трусики оттягиваются, кошка тянет, пытаясь вытащить когти из искусственного шелка. Потом вдруг прыгает и царапает когтями попку девушки. Та визжит, в студии паника, девушка крутится на одном месте, вокруг нее летает котенок – маленький, оранжевый сгусток чистого ужаса, – зацепившись одной лапкой за трусики, стягивает их все дальше, царапается, шипит, раздирает кожу на ягодицах и на задней стороне ног девушки. Я стою как парализованный. Никто не двигается, чтобы чем-то помочь. Девушка визжит, прыгает, извивается, пытаясь схватить кошку, повисшую у нее на трусиках...
Что-то сверху ударило по палатке. Я даже подумал, что это продолжение моих видений – студия и все, что в ней происходило, была не сном, а именно видением, очень явственным. Я протянул руку и коснулся полотна палатки. Оно дергалось и гудело как парус. Было такое впечатление, будто что-то ухватилось за верхушку палатки, сотрясавшуюся от мощных рывков. Меня даже стало подташнивать от неожиданного, пугающего осознания того, где я нахожусь. Я на ощупь нашел холодный фонарик, зажатый между надувными матрасами, и, резко включив его, направил луч на вход в палатку. Но ничего особенного при его слабом свете не увидел. Я смотрел на серо-зеленый брезент, на швы прямо у меня над головой. И тут увидел, что полотно в некоторых местах надо мной проткнуто чем-то острым. В одну из дырок высунулся палец с костяшками – деформированный, скрюченный, с сильно изогнутым когтем на конце. Рядом торчали концы других когтей. Это когти хищной птицы, сказал я – почему-то вслух.
Я лежал не шевелясь, глядя на страшные когти прищуренными глазами и чувствуя, что сейчас меня от страха прошибет пот. Меня переполнял ужас, в котором было нечто даже забавное. И в самом деле – какую опасность может представлять собой сова? Она продырявила полотно когтями второй ноги неторопливо и нарочито, и стала перемещать вес с одной ноги на другую. Наконец, она распределила вес равномерно на ту и другую ногу. Когти не разжались, и, хотя полотно палатки уже не тряслось так сильно, оно продолжало подрагивать, будто сова собиралась унести палатку и нас вместе с ней. Я, задремав на минуту, увидел, как странно выглядит палатка извне, с большой ночной птицей – а что сова была действительной большой, можно было судить по величине ее когтей и лап, – сидящей сверху, не издающей ни одного звука, балансирующей, чтобы сохранить равновесие, крепко удерживающей нас внутри палатки и полагающей, что мы спим.
Когти немножко сошлись, лапы напряглись, полотно палатки вздрогнуло и слегка прорвалось, а затем стало сильно дергаться. Казалось странным, что мы еще на земле, а не в воздухе. Когда я услышал – или, скорее догадался, – что сова взмахнула крыльями, нетерпеливо и почти бесшумно, я откинулся на матрас. Еще один взмах – и сова взлетела.
Немного погодя, вынырнув из глубины сна, я услышал хлопанье крыльев в лесу. Полотно палатки снова затряслось – сова села на прежнее место. Я понял это, даже не включая фонарик, который по-прежнему держал в руках – моя рука нагрела его до температуры тела. Включив фонарик, я увидел когти, протыкающие полотно. На этот раз пролез и последний, пяточный коготь. Я вытащил одну руку из спального мешка. Рука поднялась нерешительно и боязливо – я будто смотрел на нее со стороны, – и при слабом свете я увидел, как палец прикоснулся к холодному птичьему когтю чуть пониже чешуек. Я не знал, почувствовала ли мое прикосновение сова. Улетит или нет? Но сова не улетала. Она снова стала переносить свой вес с одной ноги на другую, и когти на той лапе, к которой я дотрагивался, на секунду ослабили свою хватку. Я осторожно просунул указательный палей между полотном палатки и когтем, который на ощупь казался каменным. Коготь прижался сильнее, нервно, обеспокоенно и нерешительно. Потом стал давить еще сильнее, очень сильно, но не больно. Я стал вытягивать палец из этой хватки, и когда полностью освободил его, сова взлетела.
Всю ночь сова прилетала и садилась на верхушку палатки. Наверное, она оттуда отправлялась в свои охотничьи полеты. Я смотрел на появляющиеся время от времени когти и пытался представить, чем она занимается, когда не сидит на палатке. Я видел, как она, всевидящая, бесшумно скользит между деревьями, и я, бестелесный и невесомый, охотился вместе с нею. Не уверен, что у меня хорошо это получалось.
Меня всего заполонил лес.
К утру я уже мог протянуть руку и коснуться когтя, даже не зажигая свет.
15 сентября
Я просыпался и снова засыпал, просыпался и засыпал, и, наконец, проснулся окончательно – воскрес из небытия. Сквозь защитную сетку, закрывавшую вход в палатку, я увидел серый ровный свет. Дрю лежал, глубоко погрузившись в свой спальный мешок; голова его была повернута в сторону от меня. Я все еще держал фонарик в руке и, не поднимаясь, стал думать о том, чем буду заниматься весь этот наступивший день. Главной в моих мыслях была река, но до того, как мы снова отправимся по ней в плавание, была возможность заняться еще чем-нибудь. Я осознавал, что здесь, на реке, мне придется заниматься совсем не тем, чем я обычно занимаюсь по субботам. Все будет иначе – или почти все. Я не мог полагаться на свои обычные привычки.
Интересно, это и называется свободой?
Я расстегнул молнию на мешке и, задержав дыхание, выкатился из него. Тепло моего тела стало тут же уходить в прохладный воздух. Я мельком взглянул на дырки в полотне, проделанные когтями совы. Быстро натянув тапочки, вылез из палатки и стал прислушиваться к реке.
Было необычно тепло, совершенно тихо. С трех сторон наш лагерь обступал лес. Реку покрывал, как густой дым, туман; он, очевидно, двигался немного медленнее течения, большими бестелесными клубами скатываясь вниз по реке. Я стоял на берегу и смотрел на туман, а он совершенно бесшумно переползал на берега. Я вдруг понял, что подсознательно ожидал услышать какой-то звук, который туман, казалось, должен был бы производить, взбираясь на берег. Я посмотрел на свои ноги и не увидел их; через мгновение исчезли мои руки и живот. Я стоял неподвижно, туман съедал меня заживо.
Мне в голову пришла одна идея. Я вернулся в палатку, достал свой дорожный мешок и вытащил оттуда комплект исподнего – оно было такого же цвета, что и туман. Надел его. Мой лук был покрыт белым стекловолокном. Обычно этот цвет лука – большая помеха в зелено-коричневом лесу, но теперь это было как раз то, что надо. Я натянул тетиву, сгибая пружинистый лук весом своего тела – он казался живым. Вытащил из колчана стрелу и, обойдя палатки, углубился в лес. Туман уже накрывал палатки, медленно клубясь, – он казался белой жидкостью, которую наливают в воду. Туман заползал в лес по длинной, узкой лощине (а может быть, это был небольшой овраг), и я, не разбудив Льюиса – хотя такая мысль и пришла мне в голову – и стараясь двигаться как можно тише, двинулся по ней. Я почти ничего не видел вокруг себя, но знал, что если буду держаться лощины, то для того, чтобы вернуться в лагерь – даже если туман усилится еще больше, – мне понадобится лишь развернуться и идти по лощине назад путем, который я прошел. И я наткнусь – то есть, в самом буквальном смысле наткнусь – на палатки. Я старался все же отыскивать ориентиры в лесу и пытался определять, куда все-таки иду в таком густом тумане – сам я был совершенно неразличим в нем.
Поначалу я не думал охотиться по-настоящему. Я не задумывался над тем, что, собственно, делаю, – просто очень осторожно шел в сторону от реки, направляясь в глубь леса, в тишину, в непроницаемый туман, который уже обогнал меня и залил все вокруг. В одной руке я нес лук, приготовленную для стрельбы стрелу и три других стрелы, а другой оттягивал тетиву. Она звенела под пальцами как струна, как провод, проводящий какой-то особый ток, исходящий из леса, от тумана, от того, что, начав с притворства, я ощутил себя охотником по-настоящему. И уже не мог бы сказать, намереваюсь ли я охотиться серьезно или изображаю из себя охотника. Еще у палаток я подумал о том, что, раз у меня есть все, что нужно для охоты с луком, и раз я знаю, в некоторой степени, как им пользоваться, я мог бы, по крайней мере, поиграть в то, ради чего, собственно, и приехал в этот лес. Но на самом деле мне хотелось просто отсутствовать в лагере подольше, чтобы все проснулись и обнаружили, что меня нет. Я даже подумывал, не сесть ли мне где-нибудь на склоне оврага и не просидеть там с полчасика, а затем вернуться в лагерь, с натянутым луком, и сказать, что я вот просто ходил по лесу, присматривался, не попадется ли какая-нибудь дичь. Это бы вполне удовлетворило мою охотничью гордость.
Но теперь что-то немножко изменилось. Я прислушивался и присматривался по-настоящему, и в моих ногах, руках, пальцах появились уверенность и целенаправленность. Я ведь был все-таки неплохой стрелок. По крайней мере, с расстояния метров в тридцать пять. А в ближайшие полчаса мне не придется ничего увидеть на таком расстоянии – даже если туман рассеется немного, видимость будет все равно ограничена несколькими метрами, и если я натолкнусь на оленя, я наверняка смогу попасть в него. И я почему-то почувствовал, что так и случится; я был почти в этом уверен.
Туман пока не рассеивался, но со дна лощины он стал подниматься, и по мере того, как я продвигался дальше, стало светлеть – я стал различать, в какой стороне встает солнце, а потом увидел сквозь туман и веточки, листья. Стенки длинной канавы – теперь я видел, что иду вдоль того, что можно было бы назвать скорее канавой, чем лощиной или оврагом, – понизились и доходили мне лишь до плеч. Туман и тот угол зрения, под которым я смотрел, позволяли заглядывать в лес всего на несколько метров. Ничто не двигалось, было так тихо, что, казалось, в лесу вообще не было никаких животных. Но я все-таки старался производить как можно меньше шума. Это было несложно – земля под ногами была мокрая и, насколько я мог судить, двигался я практически бесшумно. Я даже решил, что из меня получается не такой уж плохой охотник; ну, по крайней мере, если охотой называть тихое перемещение.
Дно канавы постепенно поднималось и, наконец, поднялось до уровня земли; оставались лишь едва заметные следы обсыпавшихся краев. Туман разорвался на клочья, но я все-таки решил поворачивать назад, от канавы уже почти никаких следов не осталось – под ногами была ровная земля. Убедив себя, что ничего нового я дальше уже не увижу, я остановился, развернулся и отправился назад к лагерю, продолжая при этом всматриваться в лес, тянувшийся по обеим сторонам канавы, дно которой снова стало понижаться. Вскоре опять над краями канавы торчала лишь моя голова. Туман жидкими клубами летел мне в лицо. Я уже начал опасаться, что пройду мимо палаток, так и не заметив их. И тут я увидел какое-то движение. Туман, заполнявший канаву, поднимался мне до подбородка. Метрах в пятнадцати от меня – дальше все скрывал туман – стоял небольшой олень, судя по очертанию головы, самец-первогодок. Олень общипывал листья – совсем маленький олень, но тем не менее олень. Он поднял голову и посмотрел прямо в мою сторону. И если он увидел мою голову, торчащую из канавы, то она, наверное, показалась ему странным камнем, лежащим на земле. Я замер без движения.
Олень стоял ко мне боком. С такого расстояния я тысячу раз стрелял и попадал в мишени вчетверо меньшие, чем силуэт оленя, на которого я сейчас смотрел. И когда я вспомнил об этом, когда мои глаза и руки пришли в готовность, я понял, что могу попасть в этого оленя так же легко, как если бы его силуэт был вырезан из картона.
Олень поднял голову еще выше, а потом опустил ее снова. Я оттянул тетиву к правой стороне лица. Теперь надо было полностью обездвижить лук. На мгновение я замер, натянув тетиву до отказа, что потребовало отдать луку почти все силы, которые были во мне. Стрела была направлена прямо в сердце оленя. Так как мне приходилось целиться снизу вверх, я решил скорректировать свой прицел. Хотя, в принципе, на таком небольшом расстоянии стрела должна была лететь по прямой.
Я отпустил тетиву, но уже в тот момент, когда стрела ушла в полет, я понял, что выстрел был неточен – ненамного, но не точен. Я часто совершал ту же ошибку на соревнованиях по стрельбе из лука: слегка поднимал вверх руку, держащую лук. Услышав щелчок тетивы, олень подпрыгнул на месте и развернулся в тот самый момент, когда стрела должна была поразить его. Я даже подумал, что все-таки попал в него, но тут же пришло осознание того, что мгновением раньше я видел, как оранжевое оперение стрелы мелькнуло над его спиной и исчезло в лесу. Возможно, оно даже задело его, но я был уверен – даже не оцарапало. Отбежав на несколько шагов, олень повернул голову и посмотрел в мою сторону. Я быстро поставил на тетиву вторую стрелу, стал натягивать, но чувствовал, что внутренне собраться мне уже не удастся. Я весь дрожал, и стрела никак не хотела укрепиться на тетиве. Когда олень снова бросился бежать, мне удалось натянуть тетиву лишь до половины. Я все-таки выстрелил – стрела ушла в лес, пролетев над тем местом, где еще мгновение назад стоял олень.
Весь покрывшись потом, я вдыхал и выдыхал туман, клубящийся вокруг головы как тяжелый пар. Тогда я двинулся дальше по направлению к палаткам. Туман снова сгустился, и я шел, выставив вперед правую руку. Через несколько шагов я неожиданно увидел палатки – сначала одну, потом другую, – пятнами проступавшие сквозь туман. Правильность их очертаний показывала, насколько они здесь не к месту.
Оказалось, что Льюис уже поднялся; когда я вернулся в лагерь, он пытался разжечь костер, сложенный из больших и малых сырых веток. Когда я снимал с лука тетиву, появились и остальные.
– Ну что, дружище? – спросил Льюис, глядя на колчан, в котором уже не хватало двух стрел.
– Стрелял.
– Неужели? – сказал Льюис, распрямляясь.
– Да. И великолепно промазал с пятнадцати метров.
– Как это ты умудрился? А то ели бы на завтрак свежатину.
– Наверное, в последний момент чуть дернул левую руку вверх. Нервишки подвели. Не знаю, почему. Олень стоял спокойно. Как огромная мишень. Стреляй как в комнате по стене. Но я промазал. Оплошал как раз в тот момент, когда уже отпускал тетиву. Будто внутри что-то сказало: подними немного руку. И я, дурак, поднял!
– Страшная штука эта психология, – сказал Бобби. – В лесу ведешь себя как-то по-особенному.
– Не огорчайся, еще будет возможность пострелять, – решил успокоить меня Дрю. – Нам ведь еще плыть и плыть.
– А может быть, это и хорошо, что я не попал, – сказал я. – Если в я его ранил, бегал бы сейчас по лесу за раненым оленем. И найти его в этом тумане было бы очень трудно. Кстати, и меня тоже.
– Но ты бы мог отметить как-нибудь место, с которого стрелял, потом вернуться и позвать нас, – возразил Льюис. – И все вместе мы б его отыскали.
– Да, найдешь его сейчас, – сказал я. – Он уже, наверное, за много миль отсюда.
– Да, наверное, – согласился Льюис. – Но все равно жаль, что ты его упустил. Куда подевалось спокойствие моего доброго друга?
– Спокойствие твоего старого друга улетучилось, – сказал я. – И стрелы летели высоко и мимо.
Льюис как-то по-особенному взглянул на меня.
– Я знаю, что ты не сплоховал бы, Льюис. Можешь меня не убеждать. И у нас было бы свежее мясо. И мы все бы жили вечно. И знаешь что? Жаль, все-таки, что тебя там не было. Мне хотелось бы, чтобы ты был на моем месте, а я был бы рядом с тобой. Я бы ослабил тетиву на своем луке и смотрел, как ты бы послал стрелу куда следует – прямо в сердце оленя. Прямо, так сказать, в главный котел. В главную шестеренку. С пятнадцати метров – это для тебя раз плюнуть. Когда я стоял и целился, я думал: как бы ладно все это сделал Льюис.
– Ну, в следующий раз думай не обо мне. Думай об олене.
Я, раздумывая над его словами, стал вынимать наши вещи из палаток. Льюису, наконец, удалось разжечь ленивый костер. Солнце, взобравшись достаточно высоко, сожгло туман за несколько минут. Его рассеивающиеся клочья обнажали реку, которая еще несколько минут назад едва просматривалась. А теперь мы видели не только ее поверхность, иссеченную течением, но даже камешки на дне у берега.
Мы позавтракали блинами с маслом и джемом. После того, как мы поели, Льюис отправился к реке помыть тарелки и сковородку. Я разложил все надувные матрасы на земле, отвинтил заглушки и улегся на матрасы, выдавливая из них воздух. Наконец, издав подо мной последний стон, матрасы сплющились так, что я стал ощущать под собой твердую землю. Мы скатали палатки, полотно которых было влажным и покрытым листьями и кусочками коры, и сложили в лодки, закрепив веревками. Я спросил, обращаясь ко всем сразу, не рассесться ли нам в лодках в этот раз по-другому. Я боялся, что Льюис, раздраженный неповоротливостью Бобби, мог сказать ему что-нибудь неприятное. И так как мне вдруг показалось, что Бобби уже готов горько пожалеть о том, что поехал с нами, я подумал, что будет лучше, если в байдарку вместе с ним сяду я. Дрю не смеялся бы – или смеялся бы не так, как надо, – шуткам Бобби, которые были для того единственным способом сохранять присутствие духа, и я решил, что предложение мое было правильным и нам с Бобби плыть вместе.
– Как насчет того, чтоб нам сесть в одну байдарку, а? – спросил Бобби.
– Ладно. А как ты думаешь, куда мы доберемся сегодня к вечеру?
– Понятия не имею, – сказал я. – Доплывем, куда доплывется. Все зависит от течения и от того, много ли будет попадаться нам таких мест, где придется вылезать из байдарок и тащить их руками. Все говорят, да и на картах это есть, что где-то там, ниже по реке, ущелье. И если честно, то меня это немного беспокоит. Но пока об этом думать рано.
Мы с Бобби забрались в байдарку и оттолкнулись от берега. И я тут же понял, что мне предстоят трудные испытания. Я и сам был не в очень хорошей форме, а Бобби стал пыхтеть и задыхаться после первых же сотен метров. У него совсем отсутствовала координация движений, и байдарка превратилась в неустойчивое, нервное суденышко, которое, казалось, было полно решимости делать все не так, как следует, и избавиться от своих ездоков. С Дрю, спокойным и серьезным, хорошо удерживающим баланс своим весом, все было иначе. Теперь я был уверен, что Льюиса Бобби бесил своей неповоротливостью. И чувствовал, что пройдет немного времени – и со мной случится то же самое.
– Осторожно, – сказал я, – поспокойнее. Ты напрягаешься слишком сильно. Нам нужно только держаться ровно, чтоб лодка не повернулась поперек течения. Вовсе не нужно выкладываться. Пускай река нас несет сама. Не мешай ей.
– Но она тащит нас слишком медленно! Я хочу побыстрее отсюда выбраться! Блядская река, и все остальное вместе с ней!
– Ну-ну, не надо так. Все идет не так уж плохо.
– Неплохо? Всю ночь меня жрали эти ебаные комары. Я весь искусан! От этого блядского спанья на земле у меня начинается простуда, ебись оно все в рот! Мне хочется чего-нибудь вкусненького. И не какого-нибудь там сраного джема!
– Греби поосторожнее, увереннее, и мы доплывем, куда надо... и когда надо. Мы доберемся на место... ну, тогда, когда доберемся. Могу тебя уверить, твоя простуда не уменьшится, если мы перевернемся и ты плюхнешься в воду.
– Да пошло оно все в жопу! – сказал Бобби. – Мне хочется поскорее отсюда выбраться. И лес этот вокруг мне остоебенил! Надоело срать под кустиком. Этим пускай индейцы занимаются.
Через некоторое время он немного успокоился и стал грести ровнее; его сердитый красный затылок побледнел. Река несла нас, и нам приходилось лишь изредка помогать ей веслами. Но я считал, что, учитывая нервозность Бобби и неудачное распределение груза в лодке, до вечера нам предоставится достаточно возможностей перевернуться, особенно если нам попадутся мелкие участки со множеством камней на дне. Под весом Бобби и наших вещей – а Бобби был на килограмм двадцать пять тяжелее, чем все наше барахло и я, вместе взятые, – лодка слишком глубоко сидела в воде. Она оказалась перегруженной после того, как место Дрю занял Бобби. Надо было часть груза переложить в другую байдарку. Я просигналил Льюису, который с Дрю плыл за нами, чтобы он пристал к берегу. Вскоре наши лодки покачивались рядом у берега. Мы вылезли из лодок и привязали их к кустам.
– Становится жарко, – сказал Льюис.
– Как в несмазанных петлях на двери, – отозвался я.
– А ты видел ту большую змею? На поваленном дереве.
– Нет. А где?
– Ты проплыл подней, где-то мили полторы выше по течению. Помнишь ствол старого дуба, который торчал над водой? Ты проплыл прямо под ним. Она лежала, свернувшись на развилке ветвей. Я заметил ее только когда ты уже был прямо под ней – она как раз подняла голову. Я не хотел кричать – не дай Бог потревожить! Я почти уверен – это была мокасиновая змея. Говорят, они иногда прыгают вот с таких деревьев в лодки.
– Ну ни хуя себе! – воскликнул Бобби. – Только этих блядских змей нам и не хватало!
– Ага, – сказал Льюис, – воображаю, что было бы, если бы она свалилась к вам в лодку.
– Льюис, ты не мог бы забрать кое-что из вещей в свою байдарку? – спросил я. – Из-за лишнего груза мы слишком глубоко сидим в воде, и байдарка стала очень неповоротливой.
– Конечно. Тащи всю нашу кухню и постели. Это распределит груз приблизительно поровну. И можешь нам подкинуть половину пива – из того, что осталось.
– С удовольствием! Сегодня так жарко, все время будет мучить жажда. А пивко прекрасно прохлаждает.
– Но почему обязательно пиво? – сказал Льюис, расстегивая рубашку. – Я окунусь.
Я перенес спальные мешки, матрасы, пиво, примус, кастрюли, сковородки и тарелки в байдарку Льюиса. Льюис, раздевшись, уже плыл в реке, высоко выбрасывая руки и демонстрируя свою могучую спину – он был похож на Джонни Вайсмюллера в старых фильмах о Тарзане. Льюис плавал так же хорошо, как делал и все остальное, легко преодолевал сопротивление течения. Когда он вернулся к берегу, его глаза сверкали от удовольствия и приятных усилий, затраченных на плавание; из воды торчала только его голова. Я стянул свой комбинезон и нырнул в воду. За мной тут же последовал Дрю.
Вода оказалась очень холодной, будто в ней только что растаял снег или лед. Но она была замечательно чистой, подвижной, так что казалось живой; при каждом взмахе руки она разбивалась как стекло, но потом сходилась снова как ни в чем не бывало. Я заплыл достаточно далеко от берега и почувствовал, как меня тянет течение. Подумал о том, что я бы с радостью прекратил сопротивляться ему, – я уже давно устал от всякой человеческой деятельности, от всяких усилий, особенно от моих собственных, – и позволил бы течению утащить меня, живого или мертвого, неважно куда. Но я поплыл назад к берегу, преодолевая мягкое, но настойчивое сопротивление. Подплыв к берегу, я остановился рядом с Льюисом, который стоял в воде по пояс. Вода плескалась вокруг него и расходилась рябью. Я рассматривал Льюиса, которого никогда раньше не видел полностью обнаженным.
Льюис не напрасно посвятил своему телу много лет. И когда он взглянул на меня, он увидел в моих глазах восхищение. Я никогда не видел раньше такого тела, даже на фотографиях культуристов, которые почему-то все кажутся небольшого роста, а их мускулы гипертрофированными. Рост Льюиса же был не меньше ста восьмидесяти пяти сантиметров, и весил он, я думаю, около девяноста килограммов; мускулы, пропорционально и гармонично развитые, плотно облегали его, а когда он совершал какое-нибудь движение, под кожей проступали вены. Он весь казался сложенным из отлично прилаженных друг к другу красно-коричневых кусков плоти, опутанных голубой проволокой. Вены проступали даже на его животе, и страшно было подумать, сколько приседаний и других соответствующих упражнений ему пришлось сделать, чтобы добиться таких результатов.
Он положил руку мне на плечо и пальцами взъерошил густые волосы, которые на спине у меня подступали прямо к плечам.
– Ну, что скажешь, Горилла Болгани?
– Мне казатся, Талзан говолить один, а думать длугой, – ответил я. – Мне казатся, Господин джунглей такой хитлый, как и Змей Гистах. Мне казатся, нам никогда не выблаться из лесу. Он пливодить нас сюда, чтобы основать новое цалство.
– Вот именно, – сказал Бобби, сидевший на берегу. – Царство Змей. К нам подплыл Дрю и стал на дно рядом с нами:
– Отличная водичка! Просто отличная! Никогда в жизни чувствовал себя так хорошо! Вода действительно освежает. Лучше и не опишешь это – освежает. Теперь я готов работать веслами хоть целый день. Бобби, ты тоже окунись.
– Нет уж, спасибо. Когда вы будете готовы, я и наш второй толстячок усядемся в байдарочку и поплывем себе. И будет она везти мытого и немытого.
Бобби сидел скрючившись, прижав колени к груди. Казалось, ему холодно только от того, что он смотрит на нас, покрытых гусиной кожей, и пытается сохранить тепло своего тела. Мои соски посинели и сжались, а мышцы живота стали подергиваться от холода, который взбирался из воды вверх по телу. Я вылез на берег и натянул свои комбинезон, еще влажный от пота. Голове было свежо и прохладно, а тело тут же нагрелось, и мне захотелось поскорее плыть на байдарке дальше, пока я снова не стал таять от жары.
Мы с Бобби подошли к нашей байдарке, и я стал раздумывать, что бы еще переложить в другую лодку. В конце концов, у нас остались шесть банок пива, мой лук, одна палатка и гитара Дрю – деревянная байдарка немножко протекала, а наша была более или менее сухой. Мы завернули гитару в палатку, залезли в лодку и оттолкнулись от берега.
Теперь байдарка вела себя на воде значительно лучше, и Бобби греб заметно увереннее. А может быть, он просто убедил себя, что чем меньше беспокойства он причиняет, тем быстрее нам удастся закончить путешествие по реке.
Довольно долго течение было относительно спокойным, и никаких проблем у нас не возникало. Мы делали поворот за поворотом, иногда прижимаясь к одному берегу, иногда к другому. Я старался держаться подальше от нависающих ветвей и склонившихся над водой деревьев. Река становилась шире, течение все замедлялось, и нам пришлось грести поактивнее, чем раньше. Вскоре течение настолько ослабло, что стало едва ощущаться, и когда мы переставали грести, чтобы передохнуть, мне казалось, что нас легонько тащит что-то невидимое. При этом поверхность воды оставалась совершенно неподвижной. Мы слышали какой-то отдаленный шум, приходящий откуда-то снизу по течению, но источник его постоянно отступал, и за каждым новым поворотом мы видели лишь еще один спокойный участок реки и лес, тянущийся вдоль берегов. Справа от меня мелькнула цапля; она летела впереди нас, поворачивая в воздухе то вправо, то влево, иногда нерешительно снижаясь к воде. Цапля исчезала за поворотом реки, а когда мы огибали его, она вылетала откуда-то из листьев и тяжело взмывала в воздух на своих длинных голубых крыльях, издавая хриплый крик; в нем не было ничего человеческого, но, казалось, присутствовала мука. Потом она делала в воздухе впереди нас величественный, красивый поворот и летела дальше, вниз по течению, редко и плавно взмахивая крыльями, концы которых почти касались воды, а под ними по воде бежала бесформенная и едва заметная тень. И так продолжалось довольно долго – мы успели пройти несколько поворотов по реке. И только потом, когда обогнули пятый или шестой, цапля уже больше не появлялась. Возможно, она улетела в лес, но я решил, что, скорее всего, она сидит тихо и незаметно где-то в кустах, готовая, если мы приблизимся слишком близко, снова взмыть, подавляя в своем длинном горле крик отчаяния. А потом, наверное, мы проплыли мимо, так и не заметив ее.
Без криков цапли тишина над рекой показалась еще более глубокой, а сама река тоже как будто становилась глубже. По мере того, как солнце взбиралось выше, зеленый цвет воды становился более темным. Скорость течения увеличилась, и каждый гребок посылал нас все дальше и дальше вперед. Я подумал, что если бы кто-нибудь бежал по берегу сквозь заросли, ему бы не удалось за нами угнаться.
Время от времени я поглядывал на лук, лежавший у моих ног, на две стрелы, вымазанные бытовой масляной краской. Лук, с мощной центральной частью, выглядел воплощением укрощенного напряжения; с одного конца стрелы спиралью опоясывали оранжевые оперения, а на другом заточенные на точиле наконечники поблескивали на солнце так, будто были сделаны из драгоценного металла. Я всматривался в лес, тянувшийся по обеим сторонам реки, надеясь увидеть оленя, большого самца, пришедшего к реке на водопой, и я был даже готов, если бы действительно увидел какого-нибудь зверя, совершить головоломный трюк, пытаясь натянуть лук и сохранить при этом равновесие. Надо же было хоть чем-то занимать себя, кроме гребли!
Мы проплыли по участку реки с глубокой, быстрой водой, а затем оказались на повороте реки, где река раздавалась вширь. По спокойной поверхности воды нас вынесло под сень каких-то огромных хвойных деревьев – я не знал, как они называются. Там стало темно и душно; казалось, плотно подступающие к воде деревья высасывают воздух из легких. Как будто по сигналу, мы с Бобби вытащили весла из воды и позволили реке нести нас туда, куда ей хочется. По ряби прыгали яркие, узкие как иголки пятна света – золотистые, жаркие, готовые вспыхнуть и выглядевшие настолько твердыми, что, казалось, эти золотые гвозди можно взять в руку и поднять с поверхности воды.
Когда деревья закончились, мы оказались между полями, заросшими очень высокой травой. Пятнистая узкая полоска берега прямо на моих глазах метрах в десяти от нас сползла в воду – и лишь мгновение спустя я осознал, что это была змея. Она поплыла через реку. Казалось, она не плывет, а ползет в воде, высоко подняв голову. Совершенно не меняя характер движения при переходе из воды на сушу, змея вылезла на противоположный берег; она выглядела как некое магическое существо, находящееся в вечном, однообразном движении, не знающее преград.
Мы плыли дальше, медленно гребя веслами и подолгу оставляя их в воде. Я старался подстроиться под Бобби и двигался, вторя его движениям, – и вскоре так приспособился, что мог погружать весло в воду и поднимать его точно в тот же момент, когда это делал он. Я подумал, что он, наверное, получает удовольствие от того, что гребет теперь значительно лучше, чем раньше. Но не похвалил его, боясь нарушить ритм гребли.
Через часа два после того, как цапля оставила нас и скрылась, мы выпили все оставшееся у нас пиво.
Солнце жгло мою лысую макушку; я весь взмок от пота, и мой комбинезон тоже. Язык во рту распух, а позвонки, казалось, вот-вот прорвут кожу на спине. Между гребками я проверял рукой, не сломалось ли у меня что-нибудь.
Край сидения врезался мне в правую ляжку – я сидел в неудобной позе, только в таком положении мне удавалось более или менее управляться с веслом. Все, что у меня болело по отдельности, стало сливаться в одну общую боль, и я ничего не мог поделать, чтобы облегчить ее.
Я оглянулся – байдарка с Льюисом и Дрю появилась из-за поворота. Я думаю, Льюис предпочитал плыть позади нас, чтобы иметь возможность все время наблюдать за нами и прийти на помощь, если дела у нас пойдут совсем худо. Как бы там ни было, они отставали от нас где-то на полмили, и когда мы вошли в следующий поворот реки, они исчезли из виду. Я помахал им на всякий случай веслом, показывая на левый берег, но не был уверен, успели ли они увидеть мои сигналы. Я решил, что буду махать им уже с берега, когда они будут проплывать мимо. Мне хотелось полежать в тени и немного отдохнуть. К тому же, я был голоден и совсем не отказался бы от пива. Мы с Бобби гребнули и развернули лодку к берегу.
Когда мы были уже совсем близко от берега, я расслышал звук льющейся воды; деревья и кусты подходили почти к кромке воды, и в одном месте я увидел, как листья подрагивают, как будто обдуваемые легким ветерком – небольшой приток вливался в реку свежим зелено-белым потоком, вспениваясь при встрече с речными струями. Мы проплыли мимо и пристали к берегу метрах в семидесяти ниже по течению. Нос байдарки уткнулся в берег, и я усиленно работал веслом, удерживая лодку на месте и позволяя Бобби вылезти из нее и привязать к кусту.
– Все это слишком похоже на обыкновенную работу, – сказал Бобби, протягивая мне руку, чтобы помочь выбраться из лодки.
– Ох, Боже, Боже! – простонал я. – Похоже, что я становлюсь слишком старым для таких путешествий. Наверное, это и называется «обучением через трудности».
Бобби сел на землю и развязал платок, которым у него была обвязана шея. Наклонился к реке, намочил платок и стал обтирать себе лицо и шею, особенно тщательно протирая вокруг носа. Я, сидя, вытянул ноги и сделал несколько упражнений, сгибаясь и касаясь носков тапочек кончиками пальцев. Я пытался освободиться от неприятных ощущений, вызванных тем, что мне приходилось сидеть в байдарке неудобно повернувшись. Эта поза насиловала мне спину. Потом взглянул вверх по течению, но байдарки с Льюисом и Дрю не увидел. Повернулся к Бобби, чтобы что-то сказать ему.
В этот момент из лесу вышли два человека; один из них держал ружье наперевес, ухватив за ствол.
Бобби не увидел их и не слышал их приближения. Только когда он взглянул на меня и увидел мое выражение, он резко повернул голову, чтобы посмотреть через плечо. Потом встал, отряхиваясь.
– Как дела? – сказал он.
Один из мужчин, тот, который был повыше ростом, прищурил глаза и скривился. Они направились в нашу сторону, но не прямо к нам, а полукругом, будто обходя что-то, лежащее на земле. У того, что был пониже и постарше, были белесые глаза, и белая щетина кустиками покрывала его щеки. Черты его лица, казалось, двигались каждая по отдельности. Одет он был в комбинезон, из которого выпирал большой живот, готовый, похоже, прорвать материю и вывалиться наружу. Высокий тощий мужчина смотрел на мир своими глазами с пожелтевшими белками так, будто выглядывал из пещеры или из какого-то укромного темного местечка. Он двигал челюстями, и нижняя поднималась неестественно высоко, так, будто у него не было во рту зубов. В моей голове как-то бочком пробежала мысль: «Сбежавшие заключенные». А с другого боку выползла другая: «Самогонщики». Но они вполне могли быть и просто местными, отправившимися на охоту.
Они подходили все ближе и остановились слишком близко. Неприятно близко. Я не сдвинулся с места – уступать или не уступать могло быть делом принципиальным.
Тот, что постарше, сказал, каким-то вращательным движением приблизив свое большое, болезненное лицо к моему:
– А какого хера вы тут делаете?
– Плывем по реке. Вот уже второй день.
Я надеялся, что раз мы, по крайней мере, заговорили друг с другом – это могло каким-то образом помочь.
Заговоривший взглянул на высокого – возможно, он что-то говорил своим взглядом, а может быть, и нет. У меня было такое ощущение, что Бобби исчез, и я остался один. Байдарки с Льюисом по-прежнему не было видно. Я внутренне ссохся до своих истинных размеров – такое со мной бывает, но объяснить это очень трудно, – и под ложечкой у меня защемило. Я сказал:
– Вчера, после обеда, мы отправились на лодке из Оури. Мы надеемся добраться до Эйнтри сегодня к вечеру. Или, может быть, завтра утром.
– До Эйн-три?
Тут в разговор вмешался Бобби, и я готов был убить его за это:
– А куда еще? Конечно, до Эйнтри. Эта река течет только в одном направлении, начальник. Ты что, разве не слышал об этом?
– Ни до какого Эйн-три вы никогда не доберетесь, – сказал человек в комбинезоне, не делая ударения ни на одном слове.
– Почему же не доберемся? – спросил я. Я был испуган, но одновременно во мне шевельнулось странное любопытство: непостижимо, но мне хотелось вызвать его на объяснения.
– А потому что эта река ни к какому Эйн-три не течет. Вы где-то повернули не туда. Эта вот река не проходит мимо Эйн-три.
– А куда ж она течет?
– Она течет... она течет...
– Она течет к Круглой Дыре, – заговорил высокий, раскрыв широко рот, в котором не хватало многих зубов, но это обстоятельство, судя по всему, его совершенно не заботило. – Отсюда до туда миль пятьдесят будет.
– Ну и ну, – сказал человек, заросший белой щетиной, – похоже, вы понятия не имеете, где вы, а?
– Ну, – ответил я, – мы плывем туда, куда течет река. Куда-то мы обязательно приплывем.
Высокий придвинулся поближе к Бобби.
– Послушайте, – сказал я. – Нам до вас нет никакого дела, мы не хотим ни во что ввязываться. Если у вас где-то тут поблизости стоит перегонный куб, нам-то что до этого? И никому об этом мы и рассказать не смогли бы, даже если б захотели. И знаете почему? Да потому что вы правы – мы толком не знаем, где мы.
– Чего? Какой еще куб? – откровенно удивился высокий.
– Ну, самогонный аппарат, – ответил я. – Если вы гоните виски, мы у вас с удовольствием купили бы немного. Виски нам бы очень пригодилось.
Человек с вываливающимся животом посмотрел на меня в упор:
– О чем это ты? Какой, в сраку, аппарат?
– Ну, тогда я не понимаю, что здесь такого непонятного.
– Ты чего-то там сказал про виски. Чего-то вроде того, что мы гоним виски, а? Ты думаешь, мы занимаемся таким делом, а? Так я говорю? Ну, так?
– Да мне до жопы, – сказал я, – чем вы тут занимаетесь – гоните виски, охотитесь, или просто живете в этом ебаном лесу. Я не знаю, чем вы тут занимаетесь, и знать не хочу. Это меня совершенно не касается.
Я взглянул на реку, но с того места, где был, байдарки с Льюисом не увидел. Вряд ли они уже могли проплыть мимо, не заметив нас. Но абсолютной уверенности в этом у меня не было. Мысль о том, что это все-таки могло случиться, была очень неприятна. Нет, скорее всего, мы слишком далеко уплыли вперед.
Колоссальным усилием воли я заставил себя посмотреть на белое, болезненное лицо, пытаясь, сообразить, как себя вести и что говорить. Он заметил, что я взглянул на реку как-то по особенному.
– Кто-то еще плывет с вами? – спросил он меня.
Я проглотил слюну, лихорадочно обдумывая возможности ответа. Если я скажу «да», а у этих личностей что-нибудь недоброе на уме, то Льюис и Дрю могут неожиданно для себя тоже оказаться в неприятной ситуации. Но с другой стороны, нас могут оставить в покое – с четырьмя им уже будет справиться слишком сложно. С другой стороны, если я скажу «нет», тогда Льюис и Дрю – особенно Льюис – могли бы, ну, сделать что-нибудь. Перед глазами встали мышцы Льюиса, на животе, на ногах... его вены, подпираемые снизу мускулами и проступающие сквозь кожу... его ноги в плещущейся вокруг них воде, сквозь которую видны узкие лодыжки и массивные икры – как столбы. Да, я скажу «нет».
– Нет, – сказал я и стал отступать подальше от реки, чтобы и этих двух типов увлечь за собой.
Тощий протянул руку и с неожиданной нежностью провел пальцами по руке Бобби выше локтя. Бобби дернулся в сторону – и тут же дуло ружья взметнулось вверх, будто ненароком, но уверенно.
– Ну, нам пора двигать дальше, – сказал я. – Нам еще далеко плыть. – И шагнул к байдарке.
– Никуда вы не поплывете, – сказал высокий и направил ружье прямо мне в грудь.
Сердце у меня в груди прыгнуло – я представил, как из обоих стволов вырывается огонь. Интересно, как все-таки эти отверстия будут выглядеть во время выстрела? Действительно ли из них вырвется огонь? Или просто серый бесформенный дымок? Успею ли я вообще заметить что-нибудь в то краткое мгновение между жизнью и смертью? С такого расстояния выстрел из обоих стволов разнесет меня надвое. Вместо курка была приспособлена бечевка, и человек, держащий ружье, натянул ее, обмотав вокруг руки.
– Пошли с нами, если не хотите, чтоб ваши кишки разнесло по всему лесу.
Я поднял руки вверх, как это делают в кино, – оставив ладони на уровне груди. Бобби умоляюще посмотрел на меня, но я был так же беззащитен, как и он. Я почувствовал, как сокращается мой мочевой пузырь. Я стал отходить в лес, продираясь сквозь большие кусты, которые видел, но не чувствовал. Они все шли позади меня.
Раздался голос одного из них:
– Стань спиной вон к тому деревцу.
Я глазами выбрал одно из тех деревьев, которое можно было назвать «деревцем».
– Вот это? – спросил я.
Ответа не последовало. Я прислонился спиной к дереву, которое себе выбрал.
Тощий подошел ко мне и снял с меня плетеный пояс, на котором висели нож и смотанная веревка. Затем, очень быстрыми движениями, отцепил веревку и снова надел на меня пояс – но так, что он обхватил и дерево. Пряжку он переместил на другую сторону ствола и затянул пояс так плотно, что мне стало трудно дышать. Когда он вернулся из-за дерева, в руках он держал мой нож. Мне пришло в голову, что, наверное, все это они проделывали не в первый раз – они действовали слишком уверенно, что вряд ли было бы возможно, если бы им пришлось все это делать впервые.
Тощий повертел нож перед глазами, и я ожидал, что сталь блеснет на солнце. Но туда, где мы стояли, лучи солнца не проникали. Даже в густой тени я видел, как хорошо мне удалось заточить лезвие – оно было покрыто едва заметной паутиной следов от точильного камня; станок был рассчитан на очень высокие обороты, и точильный круг съел лишний металл, оставив смертельно острый край.
– Ты посмотри на эту штуку, – сказал высокий, обращаясь к своему напарнику. – Этим можно бриться!
– Вот и попробуй на нем. Волос у него вроде бы хватает. Вот только на башке мало осталось.
Высокий, почему-то задерживая дыхание, ухватился за собачку на молнии моего комбинезона и потянул ее вниз, расстегнув молнию вплоть до пояса. Будто вскрыл меня.
– Милостивый и всемогущий Боже! – воскликнул пузатый. – Обезьяна, да и только! Я никогда такого не видел. А ты?
Тощий подсунул кончик ножа мне под подбородок, и мне пришлось задрать голову вверх.
– Тебе когда-нибудь отрезали яйца, ты, сучья обезьяна?
– Нет, в последнее время такой операции надо мной не производили, – сказал я подчеркнуто правильно, «по-городскому». – А зачем тебе мои яйца?
Он приложил нож плоскостью к моей груди и провел им немного в сторону. Потом отнял нож от груди. Лезвие было покрыто черными волосками и капельками крови.
– Острый, – сказал он. – Бывает острее, но и этот сойдет.
Я чувствовал, что с того места под подбородком, куда он ткнул кончиком ножа, стекает кровь. Никогда мне раньше не приходилось сталкиваться с таким грубым и пренебрежительным отношением к телу другого человека. И дело было не в том, что он тыкал в меня железом, водил стальным острием по груди, – если бы он тыкал в меня или царапал своим ногтем, это было бы не менее грубо и жестоко; нож лишь подчеркивал его пренебрежительное отношение к живому телу. Я тряхнул головой, пытаясь вернуть себе нормальное дыхание в этой серой пустоте, наполненной листьями. Я посмотрел прямо вверх над собой, на ветки молодого дерева, к которому был привязан. Потом перевел взгляд на Бобби.
Он, открыв рот, смотрел на то, как я судорожно хватаю воздух, один глоток жизни за другим. Он ничем не мог мне помочь, но судя по тому, как он смотрел на кровь на моей груди и под подбородком, его собственное положение ужасало его еще больше – в том, что его не привязали, был заключен какой-то пугающий неизвестностью смысл.
Они оба подошли к Бобби, тощий держал ружье. Пузатый, с белой щетиной, взял Бобби за плечи и развернул его спиной к себе.
– А теперь сымай штаны, – велел он.
Бобби нерешительно опустил руки и запинающимся голосом сказал:
– Снять?..
У меня внутри все сжалось, даже в заднице заныло. Господи Боже. Беззубый приставил ружье к шее Бобби под правым ухом, поте слегка подтолкнул его:
– Ну, давай, снимай, и все. Шевелись!
– Что все это... То есть... – чуть ли не шепотом пробормотал Бобби.
– Помалкивай, – сказал пузатый. – Сымай, и все.
Тощий злобно ткнул в шею Бобби ружьем, его движение было таким быстрым, что мне показалось, что ружье выстрелило. Бобби расстегнул пряжку пояса, потом брюки; снял их и стал оглядываться в смехотворной попытке отыскать подходящее место, куда бы их положить.
– Трусишки, трусишки сымай тоже, – сказал пузатый.
Бобби снял трусы – он был похож на мальчика, который впервые, в присутствии других, раздевается на медосмотре. Выпрямился, толстенький, розовый, гладенький, почти без волос на теле, с трясущимися ляжками, с плотно стиснутыми ногами.
– Видишь то бревно? Иди к нему.
Осторожно ступая по земле босыми ногами и морщась всякий раз, когда наступал на что-то острое, Бобби медленно подошел к большому поваленному дереву и стал рядом с ним, склонив голову.
– Ложись брюхом на бревно.
Бобби, став на колени, перегнулся через бревно; при этом высокий все время держал ружье направленным в голову Бобби.
– Подтяни сзади рубашку вверх, толстожопенький.
Бобби одной рукой нащупал у себя на спине край рубашки и подтянул ее вверх, полностью оголив ягодицы. О чем он в этот момент думал, я и представить себе не мог.
– Я сказал, вверх! – Высокий дулом ружья подтолкнул рубашку, сдвигая ее вплоть до шеи Бобби; на спине остался длинный красный след оцарапанной кожи.
Когда я перевел взгляд на пузатого, с белой щетиной на щеках, я увидел, что тот тоже успел снять штаны. Пытаться понять, почему все это происходит, дать этому рациональное объяснение было бессмысленно – они сделают то, что намереваются, и все тут. Сражаясь за каждый вздох, дающий жизнь, я смотрел на неподвижное розовое тело Бобби, растопыренное на бревне в неприличной позе. Никто ничем ему уже сейчас не поможет. Высокий снова направил ружье в голову Бобби, а пузатый примостился сзади.
Вопль, который раздался, мог бы быть и моим, если бы у меня хватило на это воздуха в легких. В этом вопле были и боль, и ужас поругания; за ним последовали стоны чистой боли, для выражения которой не нужны слова. Потом Бобби издал еще один вопль, более высокий по тону, более громкий. Я выдавил из себя весь воздух и повернул голову так, чтобы видеть только реку. Ну где же они, спрашивала во мне каждая жилочка. В одном месте ветви кустов немного расходились и образовывали нечто вроде узкого и неровного прохода к реке – в какой-то момент я не был даже уверен, смотрю ли я на пятно воды или на подрагивающие листья, – и в этом проходе я увидел, как мелькнула байдарка. И Льюис и Дрю держали весла вытащенными из воды – ив следующее мгновение байдарка исчезла.
Седой человек, стоя на коленях, работал над Бобби ритмично и уверенно, время от времени устраиваясь поудобнее. Наконец, он поднял лицо вверх, будто для того, чтобы взвыть во всю силу своих легких, обращая этот свой вой к листьям и к небу, но когда его сильно передернуло, он не издал ни звука. Второй, державший ружье, наблюдал за ним с выражением, в котором странным образом смешивалось одобрение и сочувствие. Пузатый, вытащив себя из Бобби, отстранился от него, а высокий, убрав дуло ружья, упиравшееся в шею Бобби под правым ухом, отступил на шаг. Бобби отпустил бревно и упал на бок, закрыв лицо обеими руками.
Мы все вздохнули. Я смог вздохнуть немного глубже, но только совсем немного.
Высокий и пузатый повернулись ко мне. Я распрямился как можно ровнее и стал, прижатый к дереву, ждать, что они будут делать дальше. Я чувствовал присутствие своего ножа, торчавшего в коре дерева рядом с моей головой, и видел полопавшиеся сосуды в глазах высокого человека. Никаких других чувств во мне не было – я был совершенно опустошен.
Пузатый направился ко мне и исчез за деревом с другой стороны. Ствол дернулся, и я почувствовал, как благодатный воздух наполняет мои легкие. Я дернулся вперед и готов был упасть на землю, но высокий подставил мне ружье под нос. У меня возникло очень странное ощущение, в котором было нечто забавное, более забавное, чем можно было бы ожидать при таких обстоятельствах, – я представил себе свой мозг, который думает о Дине и Марте, а в следующее мгновение лежит, разбрызганный – как какая-то серая грязь – по листьям и веточкам.
– Ты вроде как лысенький и толстенький, а? – сказал высокий.
– Что ты хочешь, чтобы я сказал? Ну ладно, я лысый и толстый. Идет?
– Ты волосатый, как вшивая собака, а?
– Ну, наверно, есть такие собаки.
– Что он мелет? – Высокий обернулся к пузатому. Тот сказал:
– А у него в пасти волос нет, того и болтает всякую хуйню.
– И то правда, – согласился высокий. – На, возьми. Цель в башку.
Потом, протянув ружье пузатому, но не смотря в его сторону, повернулся ко мне. Ружье зависло в воздухе в его вытянутой руке.
– Становись на колени, парень, и молись, – сказал он мне. – И молись как следует.
Я стал опускаться на колени. Когда они коснулись земли, я услышал в лесу какой-то звук, щелчок или хлопок, похожий на тот, который производит лопающаяся резинка, или напоминавший звук косы, быстро срезающей твердый стебель. Пузатый стоял, держа в руке ружье за ствол; глупое самодовольное выражение на его лице совершенно не изменилось – а точно по центру из его груди торчала ярко-красная, полуметровая стрела. Она появилась так неожиданно, что, казалось, выскочила изнутри него.
В первое мгновение никто из нас не понял, что произошло. Все оставалось так, как и было секунду назад: высокий продолжал расстегивать штаны, я стоял на коленях, с полуприкрытыми веками, затемняющими лес; краем глаза я видел, что Бобби катается по засыпанной листвой земле. Ружье упало на землю, и я, как в замедленной съемке, потянулся к нему. Высокий, с животной прыткостью, прянул в том же направлении. Я ухватил ружье за приклад, и если бы смог подтащить его к себе достаточно быстро, я бы, не задумываясь, выстрелил. И проделал бы в высоком приличную дыру. Но тот, едва ухватившись за ствол, должно быть, почувствовал, что я собирался сделать – каждой своей клеточкой я жаждал дернуть спускающую веревку. И, отпрыгнув в сторону, он бросился в лес, в направлении, очевидно, противоположном тому, откуда прилетела стрела.
Я вскочил на ноги с ружьем в руках, словно налившись силой. И, обернув бечевку вокруг правой руки, стал поворачивать ствол во все стороны, угрожая всему вокруг – лесу, миру. Высокий исчез, а на полянке оставались только Бобби, подстреленный человек и я. Бобби все еще лежал на земле, но теперь поднял голову. Это я видел достаточно ясно, однако все вокруг мне казалось каким-то размытым – листья, река, Бобби, я сам. Человек со стрелой в груди продолжал стоять. Он казался нереальным, расплывающимся перед глазами, сдувающимся, как шарик, из которого выходит воздух. Я с изумлением наблюдал за ним. Он осторожно потрогал стрелу, торчавшую из него и спереди и сзади, потянул за нее, но я видел, что она сидит в нем очень плотно – стрела стала словно частью его костяка. Он взялся за нее обеими руками, но руки его были уже слабы, и слабели они прямо у меня на глазах – стрела отбирала у него силы. Он стал проседать, как тающий снег. Сначала он опустился на колени, потом завалился набок, поджав ноги. А потом стал кататься из стороны в сторону, как человек, из которого неожиданно вышибло воздух, производя при этом булькающий, скрежещущий звук. Его губы покрылись красной пеной, конвульсии, в которых было что-то комичное и одновременно невероятно отвратительное, казалось, придавали ему сил. Ему удалось подняться на одно колено, потом даже встать на ноги. Я смотрел на него, держа ружье по-военному, у груди. Он сделал пару шагов по направлению к чаще, потом повернулся, будто передумав, и пляшущей походкой направился назад ко мне, раскачиваясь, дергаясь, будто переступая через что-то невидимое и таинственное. Он протянул ко мне руку – такой жест, наверное, делают пророки, обращаясь к толпе, а я наставил ружье прямо в то место, откуда торчала стрела. Я чувствовал, как внутренний холод наполняет меня – даже зубы заныли. Я уже был готов одним движением перенестись за страшную черту: один рывок за веревку – и все.
Но этого не понадобилось. Он согнулся и упал лицом на мои белые теннисные тапочки; по его телу прошла дрожь, он дернулся и замер, с открытым ртом, полным крови, – будто оттуда выглядывало красное яблоко. На губах вздулся большой, красный, прозрачный пузырь и больше уже не опадал.
Я отступил на шаг и обвел глазами полянку, пытаясь оценить ситуацию. Бобби лежал на земле, приподнявшись на одном локте. Его глаза были такими же красными, как и пузырь во рту мертвеца. Бобби поднялся на ноги, посмотрел на меня. Я вдруг сообразил, что невольно наставил ружье на него – я направлял ружье туда, куда смотрели глаза. Смотрю. Опускаю ружье. Что сказать?
– Вот...
– Господи Боже мой, – проговорил Бобби, – Господи Боже...
– Ты в порядке? – спросил я. Хотя мне было очень неприятно задавать такой прямой вопрос, но я должен был знать. Лицо Бобби покраснело еще больше. Он покачал головой.
– Не знаю, – сказал он, – не знаю.
Я продолжал стоять на одном месте, а Бобби снова лег на землю, положив под голову ладонь. Мы оба смотрели прямо перед собой. Было очень тихо. Человек с проткнувшим его алюминиевым стержнем лежал, склонив голову на одно плечо; его правая рука бессильно сжимала наконечник стрелы; из его спины торчало серебристо-голубое оперение, которое выглядело совершенно чуждым элементом среди зелени.
Долгое время больше ничего не происходило. Вернется ли высокий? Интересно, что произойдет, если он вернется в тот самый момент, когда появится Льюис? Я начинал представлять себе: вот Льюис выходит с одной стороны полянки, в руках у него лук, а высокий появляется с другой... Но чем эта встреча завершится, я никак не мог представить. Я пытался вообразить, как все это произойдет между ними – и тут услышал какое-то движение. Мне показалось, что кора на одном из больших дубов, почти у самой земли, сдвинулась в сторону. Из-за дерева выступил Льюис, двигаясь боком, он вышел на полянку; на тетиве своего лука он держал еще одну из своих стрел с ярким оперением. За ним шел Дрю, держа весло как бейсбольную биту.
Льюис прошел между мной и Бобби, подошел к человеку, лежавшему на земле; опустил лук, потом поставил его одним концом на землю, попав прямо на листик, лежавший там. Дрю двинулся к Бобби. Я так долго держал ружье наизготовку, что возможность опустить его показалась странной, но я опустил его; дула смотрели вниз, и теперь я мог бы разрядить их только в землю. Мы с Льюисом, стоя над убитым, посмотрели друг другу в глаза. Глаза моего друга были живыми и ясными, он улыбался – легко, свободно, очень дружелюбно.
– Ну, и что теперь? А?.. Что теперь делать? А? – сказал я.
Я пошел по направлению к Бобби и Дрю, хотя и не имел никакого представления о том, что делать, когда я пойду к ним. Я видел все, что произошло с Бобби, слышал его крики и стоны, и хотел приободрить его, сказать ему, что, как только мы уйдем из леса или даже как только мы сядем в байдарки, все пройдет, позабудется. Но сказать это – просто язык не поворачивался. Не спросишь же его, в самом деле, как поживает его прямая кишка, или – не чувствует ли он, есть ли у него внутреннее кровотечение? Попытка осмотреть его была бы немыслимой, смехотворной, да и просто для него унизительной.
Но ни о чем подобном сейчас даже и речи быть не могло – Бобби спрятался в свою раковину и яростно пресек бы любую попытку даже просто утешить его. Он поднялся на ноги и отошел в сторону. Он был все еще на половину обнажен; его половые органы, казалось, ссохлись от боли. Я поднял с земли его штаны и трусы и подал ему. Он взял свои вещи, будто удивляясь чему-то. Вытащил платок и ушел в кусты.
Держа ружье наперевес – так же, как держал его тот высокий тощий человек, когда он только показался из лесу, я вернулся к Льюису, который стоял, опираясь на лук, и смотрел в сторону реки.
Не взглянув на меня, он сказал:
– Я думал, думал и потом решил, что ничего другого сделать нельзя.
– Ты правильно решил, – согласился я, хотя вовсе не был в этом уверен. – Я уже было подумал, что все – приехали, сейчас нас оприходуют.
Льюис быстро взглянул в ту сторону, куда ушел Бобби, и я понял, что выбрал весьма неудачное выражение.
– Я был уверен, что нас убьют.
– Наверное, так бы и было. Кстати, за содомию в нашем штате полагается смертная казнь. А если еще к этому принуждают, угрожая оружием... Нет, вас бы живыми не отпустили. Им бы это совсем ни к чему.
– А как вы догадались, что что-то не так?
– Мы услышали крик Бобби, но первая мысль, которая пришла в голову, была: кого-то из вас укусила змея. И мы сразу стали рулить к берегу. Но потом вдруг до меня дошло, что если действительно кто-то из вас напоролся на змею, другой мог бы принять какие-то меры – для этого не нужны три человека, по крайней мере, поначалу. Ну а если на вас напала не змея, а человек или несколько людей, то будет значительно лучше, если я подберусь к ним так, чтобы они меня не заметили. Об этом я и сказал Дрю. И он согласился.
– Ну, а дальше?
– Мы свернули, заплыли в тот маленький приток – помнишь? – и проплыли вверх по течению метров пятьдесят. Потом вылезли из лодки и затолкали ее в кусты. Я натянул тетиву, поставил стрелу, и мы тихонько двинулись в вашу сторону. Метрах в тридцати отсюда я увидел, что тут не два, а четыре человека. Тогда я стал выбирать позицию так, чтобы видеть, что тут происходит. Но листья все время мешали. Поначалу я никак не мог понять, что же все-таки творится, хотя, честно, я сразу подумал именно об... этом. Мне очень жаль, что я не смог ничем помочь Бобби, но – один неосторожный шаг, и они продырявили бы ему голову. По крайней мере, я рад, что этого не случилось. А как только тот тип встал с колен, я взял его на прицел и стал ждать подходящего момента.
– А как ты определил, когда нужно стрелять?
– Я выжидал момент, когда ружье не будет направлено на тебя, я был уверен, что, пока они не разберутся, Бобби они не тронут. Второй тип еще не был в деле, и я был уверен – он рано или поздно передаст свое ружье другому. Единственное, чего я опасался – что ты можешь оказаться между мной и тем типом. Но ни на одну секунду я не спускал с него прицела – смотрел на него все время вдоль стрелы. И стоял я вот так, с полностью оттянутой тетивой, наверное, не меньше минуты. Но даже если бы мне пришлось держать ее натянутой меньше, не могу сказать, что стрелять было бы легче... Но, в целом, все было достаточно просто. Я знал, что он сидит у меня на конце стрелы. Я старался попасть ему посередине спины и немного влево. В последний момент он сдвинулся, а иначе получил бы стрелу точно куда надо. Уже когда я спустил тетиву, я знал, что не промахнулся.
– Да, ты не промахнулся, – сказал я. – А что мы будем делать ним теперь?
Дрю подошел к нам и, наклонившись, взял с земли горстку пыли и стал оттирать ею руки. Потом похлопал руками об штанины, чтобы отряхнуть их.
– Мы можем сделать только одно, – сказал он. – Положить его в одну из байдарок, привезти в Эйнтри и передать полиции. Рассказать, как это все произошло.
– Рассказать что именно? – спросил Льюис.
– Ну, все, что произошло. – Дрю слегка повысил голос. – Это убийство – как это там называется – при смягчающих вину обстоятельствах. Вполне оправданное, если вообще убийство бывает оправданным. Они совершали половое насилие над двумя членами нашей... над двумя нашими товарищами. Угрожая им при этом оружием. И, по твоим же словам, нам ничего другого не оставалось.
– Ничего другого, кроме того, чтобы застрелить человека стрелой в спину? – спросил Льюис с наигранной вежливостью.
– Но это ты так сам решил, Льюис! – сказал Дрю.
– А как бы ты поступил?
– Сейчас не имеет никакого значения, как бы я поступил, – ответил Дрю твердо. – Но могу тебе сказать, что я не верю, что...
– Не веришь – что?
– Подождите, подождите, – вмешался я. – Это бы мы сделали, или не сделали, сейчас не имеет никакого отношения к делу. Он уже там, очень далеко – а мы тут. Не мы все это начали. Мы на это не напрашивались. Вопрос заключается в том, что нам делать теперь.
Что-то задвигалось у моих ног. Я взглянул вниз и увидел, что человек, лежащий на земле со стрелой в груди, покачал головой, будто удивляясь чему-то невероятному, потом издал горлом долгий свистящий звук и снова обмяк. Дрю и Льюис наклонились над ним.
– Он что, разве не умер? – спросил я. Я уже давно считал его мертвым и совершенно не мог понять, как он мог вообще еще двигаться и вздыхать.
– Вот теперь он мертв окончательно, – сказал Льюис, не поднимая головы. – Окончательно и бесповоротно. Но спасти его было бы все равно невозможно. Он прострелен насквозь, прямо по центру груди.
Льюис и Дрю распрямились, мы попытались вернуться к обсуждению того, что же нам делать.
– Давайте обмозгуем все, – заговорил Льюис. – Давайте успокоимся и хорошенько подумаем. Кто знает что-нибудь о законах?
– Я был в составе присяжных на суде. Но только один раз, – отозвался Дрю.
– Ну, это на один раз больше, чем я, – сказал я. – И я ничего не знаю о всяких там подразделениях убийства на предумышленное, непредумышленное и все прочее в таком духе. Ровным счетом ничего.
Мы все повернулись к Бобби, который как раз в это время подошел к нам. Но он отрицательно помотал головой. Лицо у него все еще было пунцовым.
– Не нужно много понимать в законе, чтобы догадаться, что если мы привезем этого типа и передадим его шерифу, будет назначено расследование, и можете не сомневаться – нам придется предстать перед судом, – сказал Льюис. – Я не знаю, какое против нас выдвинут обвинение, как это там будет называться технически, но могу вас заверить – нами будет заниматься суд присяжных.
– Ну и что из этого? – спросил Дрю.
– Что из этого? А вот что. – Льюис переступил с ноги на ногу. – Мы убили человека. Выстрелом в спину. И мы убили не просто вообще человека, а местного, жителя этих гор. И теперь давайте прикинем, чем это для нас чревато.
– Ладно, – сказал Дрю. – Прикидывай. Мы слушаем. Льюис вздохнул и почесал в затылке.
– Только нам не надо горячиться и изображать из себя бойскаутов Мы должны все сделать толково и правильно. А сделать мы можем только одно.
– Вот тут ты совершенно прав, – сказал Дрю. – Мы можем сделать только одну вещь...
Я пытался представить, что нас ожидает, и видел в будущем одни лишь неприятности, которые будут преследовать теперь меня до конца жизни. Меня всегда до смерти пугало все, что связано с полицией; от одного вида человека в полицейской форме я весь холодею – иногда мне кажется, что у меня даже слюна во рту замерзает... В наступившей тишине я почувствовал, что дыхание мое участилось; я снова стал различать тихие звуки, издаваемые рекой – будто что-то скребется за дверью.
– Прежде чем мы примем решение предстать перед судом присяжных в каком-нибудь городке среди этих гор, нам нужно очень хорошо все взвесить. Мы не знаем, кем был этот человек, но знаем, что жил он где-то неподалеку. Может быть, сбежавший из заключения преступник, или, может, он занимался незаконным изготовлением виски. И кто знает, чей он там отец, брат или близкий родственник. Я могу почти наверняка сказать, что у него родственников полно по всей округе. В этих местах все друг другу в той или иной степени родственники. И подумайте еще вот о чем: здесь все очень сильно настроены против дамбы. Придется переносить много кладбищ, чтобы не залило водой, ну и прочее в том же духе. Местным не нравится, что здесь болтаются всякие «пришлые». И мне совершенно не улыбается предстать здесь перед судом, на котором среди присяжных будут родственнички типа, которого я застрелил в спину. А может быть даже, среди присяжных будут его родители – здесь все возможно.
То, что Льюис говорил, имело смысл. Я стал прислушиваться к лесу, к реке – не дадут ли они мне ответа. И явственно представил себе, как все мы четверо гнием месяцами в какой-нибудь местной тюрьме, в одной камере с пьянчужками, питаясь кукурузным хлебом с солониной, салом, стараемся не думать о том, что нас ожидает, чтобы не умереть от беспокойства; ведем переговоры с адвокатами, оплачиваем их услуги из месяца в месяц; добиваемся того, чтобы нас освободили под залог или чтобы кто-нибудь взял нас на поруки... Но я не имею ни малейшего представления, позволено ли подобное вообще при разбирательстве такого дела, как наше... Я уже видел, как затягиваю свою семью все глубже в эту отвратительную передрягу, вылезти из которой уже невозможно; все более запутываюсь в обстоятельствах жизни, смерти и существования этого гнусного, бессмысленного человека, лежавшего передо мной и с задумчивым видом державшегося рукой за наконечник стрелы, убившей его, с лопнувшим красным пузырем на губах, превратившимся в маленькую тоненькую струйку крови, которая медленно собиралась в каплю под ухом... Да, среди всех нас Льюису грозили самые большие неприятности, но каждому из нас тоже было что терять. Крайне неприятно будет уже то, что пресса раструбит про случившееся, и наши имена будут как-то связываться с убийством, и пройдет очень много времени, прежде чем об этом позабудут... Нет, если есть возможность избежать всего этого, ею надо воспользоваться.
– Ну, а что ты думаешь, Бобби? – спросил Льюис, и в его голосе прозвучали нотки, которые давали понять, что решение Бобби будет для всех нас решающим.
Бобби сидел на том же бревне, на которое его заставили улечься; одной рукой он прикрывал глаза, другой подпирал подбородок. Он встал, постаревший лет на двадцать, подошел к мертвецу. Потом вдруг, в неконтролируемой вспышке гнева, которая была совершенно неожиданной, будто прорвавшейся откуда-то из другого мира, он ударил труп в лицо ногой, потом еще раз, и еще. Льюис, обхватив за плечи, оттащил его в сторону. Когда он отпустил Бобби, тот повернулся и отошел на несколько шагов.
– Ну, а что ты скажешь, Эд? – спросил меня Льюис.
– Боже, я не знаю, честное слово, не знаю!
Дрю обошел тело, стал с другой стороны и нарочито медленно протянул руку и показал на труп.
– Не знаю, что ты задумал, Льюис, – сказал он, – но если ты попытаешься скрыть это тело, ты сразу себя подставляешь под обвинение в предумышленном убийстве. В законах я разбираюсь мало, но это знаю наверняка. А учитывая то, что ты нам рассказал об условиях, в которых будет здесь проводиться суд, тебе это совсем не нужно. Хорошенько подумай, Льюис, если, конечно, мысль об электрическом стуле тебя не так уж беспокоит.
Льюис взглянул на него с выражением заинтересованности:
– А если... если тела нет? Нет тела, нет преступления. Что, не так?
– Ну, наверное, так. Но я в этом не уверен. – Дрю пристально взглянул на Льюиса, потом перевел взгляд на мертвеца. – А все-таки, что ты задумал, Льюис? Мы имеем право знать. И хватит нам уже стоять здесь и охать да ахать. Надо что-то предпринимать, и немедленно.
– Никто не охает и не ахает, – сказал Льюис. – Я как раз раздумывал, пока вы высказывали то, что можно было бы назвать «общепринятой точкой зрения».
– О чем раздумывал? – спросил я.
– О том, что делать с телом.
– Не будь дураком, Льюис, – сказал Дрю тихо. – Что ты собираешься делать с телом? Бросить в реку? Его начнут искать именно в реке.
– Ктоего начнет искать?
– Ну, все те, кто будет его разыскивать. Ты же сам сказал, что у него здесь наверняка полно всякой родни. Друзья будут искать, полиция. Тот тип, который был с ним и сбежал.
– Вовсе не обязательно бросать его в реку, – возразил Льюис.
– Льюис, – сказал Дрю, – брось свои штучки. Я говорю совершенно серьезно. Послушай, что мы тебе говорим. Это тебе не твои дурацкие игры. Ты убил человека. Вот он – лежит здесь.
– Да, убил, – согласился Льюис. – Но ты не прав, когда говоришь, что в том положении, в котором мы оказались, нет элемента игры. Может быть, это самая серьезная игра из всех существующих. Но если ты не видишь в этом игры, ты не видишь кое-чего очень важного.
– Ладно, Льюис, – вмешался я. – Давай сейчас не будем об этом.
Льюис развернулся ко мне.
– И ты, Эд, послушай, и послушай внимательно. Мне кажется, мы можем выбраться из этой истории. И сделать это так, что нам никто не будет задавать никаких вопросов, никаких не будет у нас неприятностей – если только мы возьмем себя в руки и сделаем все толково и быстро. Займет это у нас времени не больше часа. Если мы все хорошо обдумаем и все правильно сделаем и не совершим никаких ошибок – у нас потом не будет никаких проблем. Если же мы обратимся к представителям закона – мы не отвяжемся от этого человека, от этого тела до гроба... От него надо избавиться.
– Как? – сказал я. – Куда его засунуть?
Льюис повернул голову к реке, потом широко махнул рукой в сторону леса, обступающего нас со всех сторон, будто говорил этим жестом: вот вам сотни и сотни миль. В его глазах появилось особое выражение – забавная заговорщицкая хитринка, предвкушение удовольствия от хорошо обдуманного действия, спортивный азарт. Он опустил руку, а потом легко положил ее на свой лук – он предлагал мне и Дрю весь лес, всю дикую природу.
– Выбирайте, – сказал он. – Где угодно. В любом месте.
– Да, мы можем с ним что-нибудь сделать, – загорячился Дрю. – Мы можем бросить его в реку. Мы можем закопать его. Мы можем даже сжечь его! Но если его начнут искать, то все равно найдут. Его или какие-нибудь следы. А ты забыл про другого типа, того, кто был с ним? Он возьмет и приведет с собой...
– Приведет с собой кого? – спросил Льюис. – Сомневаюсь, что он захочет привлекать еще кого-нибудь. И уж конечно – он не обратится ни к шерифу, ни в полицию. Ему совсем не нужно, чтобы кто-нибудь узнал, чем он тут занимался, когда подстрелили его дружка. Он может кого-нибудь привести сюда с собой – хотя я очень сомневаюсь, что он это сделает, – но, уверяю вас, вернется он сюда не с полицией. А если вернется – что из этого?
Льюис концом лука коснулся трупа и в упор посмотрел на Дрю:
– Но он сюда никогда больше не возвратится.
– Это почему же? – сказал Дрю, упрямо выставив челюсть. – И откуда ты знаешь, что он не околачивается где-то рядом? Может, он наблюдает за нами? А если мы куда-нибудь потащим труп и попытаемся от него избавиться, то разве так трудно проследить за нами? А потом он приведет сюда кого надо. Посмотри по сторонам, Льюис. Он может прятаться где угодно!
Льюис не посмотрел по сторонам, зато я сделал это. Противоположный берег казался мирным и безопасным, но мне становилось все страшнее оставаться на этом берегу. Мне казалось, что со всех сторон – со стороны реки, со стороны леса – на нас наплывает чье-то невидимое, всепроникающее присутствие. Дрю был прав – тот тип мог быть где угодно. В сплошной массе деревьев и листьев взгляд не находил никакой опоры, терялся в прихотливом переплетении растений, доживающих свой век в затхлой темноте, – и среди них скрывается тощее тело глупого, хитрого человека, который может двигаться так же незаметно, как змея или лягушка, и неслышно следить за нами, следить за каждым нашим шагом. Но нашей единственной защитой от него был Льюис, хотя, когда я осознал, что возлагаю надежды на то, что мог бы с ним сделать Льюис, меня это неприятно поразило. Спокойствие и уверенность, с которыми Льюис убил человека, наполняли меня страхом и отчаянием, но одновременно эти же его качества успокаивали меня. И я стал бессознательно продвигаться к нему поближе. Мне бы очень хотелось прикоснуться к его спокойной, могучей руке; он стоял в грациозной позе, приподняв слегка одно бедро и согнув в колене одну ногу. Я бы последовал за ним куда угодно – и понял: все, что он предложит, я сделаю.
Все еще глядя на реку, Льюис сказал:
– Ладно, давайте прикинем, как дальше быть.
Бобби поднялся со своего бревна и подошел к нам. Мы трое стояли по одну сторону трупа, Льюис по другую. Я отодвинулся немного в сторону от Бобби – чтобы не видеть его красного лица. Он не был виноват в том, что произошло, но мне казалось, что он стал заразным. Я почему-то вспомнил, как он выглядел, перегнувшись через бревно, как пискляво звучал его голос, когда он закричал.
Льюис склонился над мертвецом, во рту он держал сухую травинку:
– Если мы повезем его в байдарке, нас будет видно со всех сторон. И если за нами кто-нибудь следит, то он легко увидит, где мы его оставим. К тому же, как правильно говорит Дрю, в реке будут искать прежде всего. Так что надо выбрать другое место.
– Вернуться назад или пойти дальше, вниз по течению.
– Или пойти в сторону, – сказал Льюис. – Или, может быть, и то и другое.
– Что значит «и то и другое»?
– Вернемся немного назад, как можно ближе к берегу. Проплывем. А потом углубимся в лес. Есть смысл закопать его или спрятать где-нибудь, и как можно скорее.
Я был согласен с Льюисом, хотя леса вверх по течению мне казались уже больше наполненными опасностью, чем вниз по течению – только там открывалось какое-то более или менее благополучное решение нашей проблемы, только там, вниз по течению, мы можем обезопасить себя...
– Итак... мы везем его назад, вверх по реке, а потом углубляемся в лес. Отвезем его к тому маленькому притоку, свернем в него и будем двигаться, пока не найдем подходящее место. Там мы его закопаем, вместе с его ружьем. И я совершенно уверен, что никто его не найдет. В этих лесах человечьих костей столько – не сосчитать. Тут постоянно исчезают люди, и никто не знает, что с ними. А через несколько недель долина реки будет затоплена, и все эти места окажутся под водой. Неужто вы думаете, что власти штата приостановят затопление, чтобы позволить полиции поискать исчезнувшего местного бродягу? Особенно если никто не знает точно, где он и был ли вообще в лесу? Бред абсолютный! А через полтора месяца... Вы когда-нибудь были у большого озера? В нем столько воды, что все, что было на дне, так и останется там на веки вечные.
Дрю покачал головой:
– Говорю вам – я не хочу в этом принимать никакого участия.
– Никакого участия? – спросил Льюис, резко повернувшись к Дрю. – Ты уже принимаешь во всем этом самое непосредственное участие! Ты хочешь быть честненьким, хочешь остаться в стороне?.. У тебя просто не хватает духу решиться! Поверь мне, если мы все сделаем, как следует, мы вернемся домой такими же, какими уехали. И все будет в порядке. Если, конечно, кто-нибудь не проболтается.
– Ты же прекрасно знаешь, Льюис, что никто из нас ничего не выболтает. – Дрю сердито сверкнул стеклами очков. – Но я не могу принять то, что ты предлагаешь! И вовсе не потому, что у меня, как ты сказал, не хватает духу. Дело не в моей трусости – дело в соблюдении закона.
– Закона? Какой в этих лесах закон? – сказал Льюис. – Мы сами себе закон. Как мы решим, так и будет. Поэтому давайте проголосуем. И я приму то, за что мы проголосуем. Но и тебе, Дрю, придется подчиниться. У тебя нет выбора.
Льюис повернулся к Бобби:
– Что ты скажешь?
– Любым способом избавиться от этой гниды, – сказал Бобби хриплым и сдавленным голосом. – Неужели вы думаете, что мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь пронюхал обо всем этом?
– Эд?
Дрю нервно помахал рукой у меня перед лицом:
– Подумай хорошенько, Эд, ради Бога, подумай, что ты собираешься сделать! Льюис просто маньяк! Он загипнотизировал себя мыслью о собственной непогрешимости! Из-за него нас либо упрячут до конца жизни за решетку, либо просто убьют! Эд, ты же рассудительный человек. У тебя семья. Ты же совершенно не замешан во всем этом деле! Но все будет иначе, если ты согласишься сделать то, чего хочет от нас Льюис. Прислушайся к голосу разума, Эд, не делай глупости! Эд, не надо, я умоляю тебя, не надо!
Но я был готов рискнуть. В конце концов, я не совершил ничего криминального; я просто постоял, привязанный к дереву, и никто, что бы там ни было, не сможет ни в чем меня обвинить. Если я соглашусь участвовать в сокрытии тела и нас на этом деле поймают, будет легко доказать, что я вынужден был это сделать – хотя бы потому, что большинство было за то, чтобы избавиться от трупа.
– Я с тобой, Льюис. – Я не внял призывам Дрю.
– Хорошо, – сказал Льюис. Он нагнулся и взял за плечо мертвеца. Перевернул его на спину, ухватился за древко стрелы в том месте, где она выходила из груди, и стал тянуть. Потом ухватился и второй рукой, сильно дернул. И когда она зашевелилась и стала вытягиваться из тела, продолжал тянуть уже одной рукой. Стрела медленным, скользящим движением выходила из тела, вся в пятнах темно-красной крови. Льюис выпрямился, повернулся и пошел к реке. Ополоснул стрелу в воде и вернулся к телу. Засунул стрелу в колчан.
Я отдал ружье Бобби и отправился за своим поясом, ножом и веревкой. Потом Дрю и я наклонились и, ухватив мертвеца под мышки, подняли, а Бобби и Льюис держали его за ноги; в одной руке каждый из них держал ногу трупа, а во второй – ружье, лук и саперную лопатку, которую достали из байдарки. Труп оказался очень тяжелым и провис между нами. Только тогда дошел до меня смысл выражения «быть мертвым грузом». Когда я пытался выпрямиться, этот груз невероятной тяжестью тянул меня вниз. Мы двинулись в том направлении, откуда Льюис вышел на полянку.
Мы не прошли и пару десятков метров, как у нас с Дрю ноги стали заплетаться в сухой траве – мы шли, спотыкаясь. Один раз я услышал какой-то треск и тут же решил, что это наверняка гремучая змея. Я стал озираться по сторонам, посмотрел слева и справа от тела, которое ногами вперед уплывало в лес. Голова мертвеца сильно откинулась назад, раскачиваясь между мной и Дрю, цепляясь за все, за что только можно было зацепиться.
Мне было трудно поверить в реальность происходящего. Ничего подобного я не делал даже в самых извращенных приступах воображения, воспаленного болезнью или алкоголем. Сказать, что это было похоже на игру – еще не значит описать то, что я тогда переживал. Я знал, что никакая это не игра. И все же, когда я бросал взгляд на труп, я ожидал, что вот сейчас он придет в себя, перестанет прикидываться мертвым, встанет на ноги, пожмет всем руки, будет просто незнакомцем, которого мы случайно встретили в лесу, объяснит нам, где мы находимся. Но его голова по-прежнему была запрокинута назад, и нам приходилось поднимать ее, чтобы она не цеплялась за высокую траву и ветки колючего кустарника и чтобы мы могли продолжать наше движение туда, куда нас вел Льюис.
Наконец, мы выбрались к берегу притока, недалеко от байдарки Льюиса. Вода поблескивала сквозь листья, и казалось, что приток наполовину состоит из медленно текущей воды, а наполовину из листьев и веток. Что я здесь делаю? Вот – стою здесь среди этих листьев и думаю: как странно все это! Я помог остальным погрузить тело в байдарку, которая под его тяжестью глубоко осела в воду, наполненную листьями. Мы стали толкать байдарку вверх по течению, загоняя ее подальше вглубь леса. Я чувствовал каждый камешек сквозь тонкую резиновую подошву теннисных тапочек, пригодных лишь для того, чтобы носить их в городе; вода казалась такой же нематериальной, как и тень вокруг моих ног. Каким бы странным не казалось то, что мы делаем, ничего другого нам не оставалось.
Льюис шел впереди и тащил байдарку за носовой фалинь. Он хлюпал по воде, вены на его руках вздулись; веревка, перекинутая через его плечо, казалась привязанной не к носу байдарки, а к мешку с золотом. Над притоком аркой склонялись деревья – в основном, горный лавр и рододендрон, – так что нам иногда приходилось становиться на колено или даже на оба колена и, согнувшись в три погибели, пробираться сквозь листья и ветви. Я погрузился в воду по грудь и чувствовал давление течения, скользящего сквозь листья. В некоторых местах казалось, что двигаешься сквозь тоннель, в который никогда не должен был бы забираться человек. В других местах перед нами открывались более свободные пространства, напоминавшие зеленые коридоры; вода меняла оттенки и даже температуру. Она выглядела более приглаженной, чем если бы текла по открытой местности.
По моим часам мы двадцать минут шли по этой нескончаемой пещере, потолок которой образовывали листья, а полом была вода. Единственным смыслом нашего передвижения стало для меня само передвижение; я лишь отыскивал ногами воду притока сквозь листья рододендронов, которые прыгали в лицо и скрывали все вокруг. Интересно, что я буду делать, если все остальные вдруг исчезнут? Исчезнет этот ручей? И останусь только я, один, и лес вокруг меня и этот труп? Куда мне тогда идти? А если исчезнет и этот приток, найду ли я дорогу назад к реке? Наверное, нет. И я умом и сердцем привязал себя к остальным – только с ними я выберусь отсюда.
Время от времени я смотрел в байдарку и видел там труп, развалившийся на дне; одна рука закрывала лицо, ноги скрещены – карикатура на бездельника из маленького провинциального городка, настолько ленивого, что единственное, что он может делать – это спать.
Льюис поднял руку. Мы, стоя вокруг байдарки, выпрямились, удерживая ее носом к течению. Льюис, как проворное животное, вскарабкался на берег. Я, Бобби и Дрю остались стоять в воде; байдарка, касаясь наших бедер, слегка покачивалась между нами. Лес обступал нас со всех сторон так плотно, что в некоторых местах и руку, наверное, было бы сложно протиснуть сквозь множество переплетенных ветвей. И следить за нами не представляло бы никакого труда – с любой точки, под любым углом, из-за любого куста и дерева. Но я не ощущал на себе подсматривающих глаз. Зато я чувствовал руки Бобби и Дрю, удерживающих байдарку в одном положении.
Через минут десять одна ветка, погруженная в воду, поднялась, отодвинулась – и появился Льюис. Выглядело это так, будто дерево само подняло свою ветку из воды – как человек, поднимающий руку. У меня даже возникло ощущение, что в чаще леса, в самых глухих местах, такое происходит все время... Листья на ветке выбрались из воды осторожно, но уверенно – и в воду вступил Льюис Медлок.
Мы привязали байдарку к кусту и подняли тело, при этом каждый из нас занял то же положение возле него, что и раньше. Мне кажется, что я не смог бы заставить себя взяться за него в каком-нибудь другом месте.
Льюис сказал, что не нашел никаких тропинок, но наткнулся на небольшую подходящую полянку между деревьями, немного дальше, в сторону от притока, но вверх по течению. Впрочем, подходящим здесь может быть любое другое место. Мы тащили труп, продираясь сквозь кусты и между деревьями, которые, казалось, росли там испокон веков и будут расти вечно. Мы спотыкались, падали, разворачивались то в одну, то в другую сторону. Я, весь мокрый и липкий от пота, безуспешно пытался запомнить наш нелепо усложненный путь между кустами и деревьями. Однако после первых нескольких поворотов я полностью потерял представление о том, где мы находимся, но, как ни странно, это мне нравилось. Раз уж забрался в такую глушь, то хотелось чувствовать, что ты полностью отрезан от всего мира. Когда я перестал слышать журчание ручья, то понял, что совсем не представляю, в какую сторону мы движемся. Я просто вместе с остальными нес труп, ухватив его за рукав.
Льюис снова поднял руку, и мы опустили тело на землю. Мы стояли рядом с каким-то болотом, наполненным стоячей водой, которая либо натекла сюда с какого-то другого места, либо проступила из земли. Земля вокруг была мягкой, и при каждом шаге из-под ног выдавливалась вода. Я старался найти местечко посуше – хотя какое это имело значение после того, как я, вместе с остальными, так долго брел по колено в воде.
Льюис знаком подозвал меня к себе. Когда я подошел к нему, он вытащил из колчана стрелу, убившую человека. Я ожидал, что увижу, как она еще дрожит, но она не дрожала: она была такой же, как и все остальные – спокойной, цивилизованной, отменно сработанной. Я проверил, не прогнулась ли она немного, – нет, она была совершенно ровной. Я вернул ее Льюису, но мне почему-то не хотелось, чтобы Льюис выбросил ее. Льюис как-то странно качнул головой – будто выражая нечто среднее между решимостью и удивлением тем, что он собирается сделать, – и взял стрелу, которую я не выпускал из рук. Так мы и стояли, держась за стрелу. На ней не было следов крови, но оперение было все еще мокрым от речной воды, в которой Льюис ее ополоснул. Она выглядела как любая другая стрела, которая попала под дождь, или которую покрыла обильная роса, или которая побывала в густом тумане. Я отпустил свой конец стрелы.
Льюис поставил ее на тетиву своего лука. Потом оттянул ее до отказа – я видел, как он это делает, сотни раз. Он принял позу – классическую, правильную позу, значительно более правильную и точную, чем та, в которой обычно изображают лучников на всяких вазах, – и замер, сосредоточиваясь. Перед ним не было ничего, кроме черной болотной воды, но он целился в какую-то точку на ней: может быть, пузырек, который двигался по воде, – но должен был, раньше или позднее, остановиться хотя бы на мгновение.
Стрела полетела. Она спрыгнула с лука с захватывающей дух серебристой молниеносностью и моментально исчезла. Льюис смотрел ей вслед, не опуская лук, будто стрела все еще находилась на нем. Не было ощущения того, что стрела остановилась, ударившись обо что-нибудь под водой – о камень или бревно. Она просто исчезла и, может быть, пробившись сквозь грязь и ил, улетела к мягкому центру земли.
Мы подняли тело и двинулись дальше. Когда мы подошли к берегу болота, оползшему, покрытому папоротником и сопревшими листьями, разлезавшимися под ногами как дерьмо, мы остановились. Льюис повернулся к нам и прищурил один глаз. Мы опустили тело на землю. Левая рука трупа завернулась под неестественным углом, и это показалось очень странным и более страшным, чем вес то, что происходило до сих пор – как в таком положении ему не было больно, почему он не кричит?
Льюис резко опустился на корточки и начал копать яму складной саперной лопаткой, которую прихватил с собой в путешествие, чтобы рыть лунки для «отхожих мест». Земля – или то, что толстым слоем лежало на земле, – копалась легко. Но почвы как таковой не было – лишь слой за слоем сопревших листьев и всего прочего, источавших запах многолетнего перегноя. Да, все это могут затапливать, подумал я; эти места ни для чего толкового не пригодны.
Мы с Дрю опустились на колени и стали рыть руками, помогая Льюису. Бобби не помогал нам; он стоял, отвернувшись, глядя на деревья. Дрю рыл энергично, стараясь, очевидно, забыться в этой физической работе, размышляя лишь о том, как с этим лучше управиться. Во впадинах его рябого лица, будто составленного из блоков, стал скапливаться пот, а его черные волосы, казавшиеся благодаря своей густоте и напомаженности сплошной твердой массой, поблескивали, сползая на бок и прикрывая ухо.
Место было темное, тихое и душное. Когда мы, наконец, закончили копать яму, на моем нейлоновом комбинезоне не оставалось ни одного сухого пятнышка. Яма получилась узкой и неглубокой – не больше метра в глубину.
Мы подтащили тело к яме и столкнули его в нее так, чтобы оно улеглось на бок. Как только труп улегся, он стал невероятно далеким от нас. Льюис протянул руку к Бобби, и тот подал ему ружье. Льюис опустил ружье в яму, потом, сидя на корточках, положил руки на колени и стал что-то в ней рассматривать. Затем его правая рука снова отправилась в яму – он передвинул ружье, укладывая его как-то по-новому.
– Ладно, все, – сказал он.
И мы начали, руками и лопатой, засыпать яму. Работали исступленно. Я старался побыстрее засыпать лицо мертвеца, и это оказалось нетрудным – я работал обеими руками, сцепив их как лопату. Но тело исчезало медленно, скрываясь в общей неухоженности и неряшливости глухого леса. Когда яма была полностью засыпана, Льюис разровнял на ней перегной из листьев.
Мы стояли на коленях, наклонившись немного вперед, тяжело дыша: кто упирался руками о собственные ляжки, кто о землю. В какой-то момент мне невероятно сильно захотелось откопать его снова и стать на сторону Дрю. Откопать, пока мы еще знаем, где он. Потом его ни за что не найти... Но уж слишком много пришлось бы объяснять: грязь на теле, задержку, ну и все остальное... А может быть, вытащить его все-таки, помыть в реке? И как только я подумал об этом, я понял, что это невозможно. Я поднялся на ноги.
– Через несколько дней это все зарастет папоротником. – Я был рад услышать голос Льюиса, именно его голос. – Никто его тут не найдет. Никогда. Сомневаюсь, что мы сами сможем найти это место.
– Еще есть время передумать, – откликнулся Дрю. – Ты уверен, что мы поступаем правильно?
– Уверен, – сказал Льюис. – Первый же дождь смоет все следы, все следы, которые мы тут оставили. Ни одна собака не сможет вынюхать это место. Когда мы вернемся домой, все будет в порядке. Поверь мне.
Мы двинулись назад к байдарке. Я не мог бы с уверенностью определить, куда идти; Льюис время от времени останавливался, сверялся с наручным компасом и шел дальше. Мне казалось, что мы идем в более или менее правильном направлении; по крайней мере, если бы я был один, я бы шел именно так.
Мы вышли к притоку значительно выше того места, где находилась байдарка. Но теперь мы точно знали, куда идти – приток тек в сторону реки. И мы отправились вниз по течению, ступая по невидимым камешкам на дне, проходили, сильно нагибаясь под свисающими над водой ветвями, что-то бормоча себе под нос. Я чувствовал себя оторванным от остальных, и особенно от Льюиса. И чувство того, что мы помогаем друг другу, исчезло. Мне казалось, что если я провалился бы в какую-нибудь дыру и исчез, другие вообще бы этого не заметили, а бросились бы вперед, двигаясь все быстрее ч быстрее: каждый из нас хотел выбраться из этих лесов как можно скорее. Ну, по крайней мере, я только об этом и думал, и если бы мне понадобилось вернуться хотя бы на один шаг назад – и даже если бы это потребовалось сделать, чтобы прийти кому-нибудь на помощь, – я не уверен, смог ли бы я превозмочь себя.
Вернувшись к байдарке, мы влезли в нее все вчетвером. Гребли Льюис и Дрю, и я чувствовал, как сильные, долгие гребки Льюиса толкают нас вперед – именно так я и хотел, чтобы мы двигались; Дрю отводил в сторону ветви, низко склонившиеся над водой. Мы выбрались к реке значительно быстрее, чем я ожидал.
Вторая байдарка благополучно находилась на том же месте, где мы ее оставили; она качалась на воде, слегка ударяясь о берег.
– Поплыли отсюда скорее, – вырвалось у Бобби.
– Сейчас. Но сначала нужно кое-что решить, – сказал Льюис. – Сейчас не время предаваться переживаниям по поводу оскорбленного самолюбия и достоинства и вспоминать обиды... Бобби, ты сможешь грести?
– Не знаю, Льюис. Попробую.
– Я понимаю, ты в этом не виноват. Но в данный момент «попробую» – это не достаточно. Мы должны сообразить, как получше рассесться по байдаркам. Я думаю, будет правильнее, если теперь со мной снова сядет Бобби. Эд, много у тебя в байдарке осталось барахла?
– Точно не знаю. Кой-чего осталось.
– Ладно. Ты и Дрю – берите мою лодку. Мы с Бобби перетащим во вторую все, что можно будет там уместить. Будет лучше, если вы поплывете впереди, а мы будем следовать за вами, чтобы все время видеть вас, и если что – мы поможем. Как мне не хотелось этого говорить, но, насколько я понимаю, на этой реке нам еще только предстоит встретиться с самыми трудными участками.
– А, это там, где мы должны были испытать большое удовольствие? – спросил Бобби.
– На этой реке есть такие места, где тебе вышибет твои дурные мозги, если не будешь делать все так, как я тебе скажу, – сказал Льюис, но при этом голоса не повысил. – Давайте двигать. Сначала вытащим из моей байдарки все, что можно. Если хотите выбраться отсюда побыстрее – шевелитесь.
Минут десять у нас ушло, чтобы переместить кое-какие вещи из одной лодки в другую.
– Льюис, возьми к себе все, что можешь, – попросил я. – Если мне с Дрю предстоит нырять в эти ебаные пороги первыми, я хочу сидеть в лодке, которой хоть немного смогу управлять. И мне совсем не хочется, если мы все-таки перевернемся, чтобы на меня падали всякие там палатки и матрасы.
– Я понимаю, – сказал Льюис. – Мы заберем все, что сможем.
– Я хочу оставить только лук. Я его заберу к себе.
– А вот этого как раз бы я тебе не советовал, – сказал Льюис. – Если ты боишься палаток, то подумай, как приятно тебе будет, когда эти наконечники пырнут в тебя пару раз – если ты вдруг окажешься в воде рядом с ними.
– Нет, я все-таки их возьму к себе в лодку. И очень жаль, что мы не забрали с собой то ружье. На кой черт мы оставили емуружье?
– Ружье там, где ему положено быть, – сказал Льюис.
– Мы могли бы избавиться от него позже.
– Нет, это было бы слишком рискованно. С каждой милей, которую мы проплыли бы с этим ружьем, увеличивалась бы опасность того, что нас могут поймать. И тогда нам крышка, дружище. Отвертеться не удалось бы.
Дрю забрался на нос алюминиевой байдарки. Мы были готовы отплыть. Я был рад, что теперь со мной в байдарке будет Дрю – с ним у меня все должно получаться нормально. Он уселся, опустив весла к самой воде и качая головой. Ни я, ни он не проронили ни слова. Наконец я сказал ему, что пора отталкиваться.
Было около четырех часов дня. И мысль о том, что придется еще одну ночь провести в лесу, приводила меня в ужас. Пока мы тащили тело, везли его, закапывали, я об этом не думал. Но теперь меня начала терзать мысль о еще одной ночевке, о том, что может произойти ночью; она вошла в меня как гвоздь под ударом молотка. Но при этом во мне возникло и совсем иное ощущение: вокруг меня яркими пятнами шевелились листья, таинственными вспышками света поблескивала река, все источало чистейшую энергию. Мне никогда раньше не приходилось находиться в столь нервном, возбужденном состоянии, но меня вдруг охватило уверенное спокойствие – постоянная внутренняя дрожь, настороженность, расплывающаяся по всему моему телу, собрались вместе и создали некое равновесие, благодаря которому мои руки обрели уверенность в движениях. Я греб длинными, уверенными гребками; а по некоторым изменениям на поверхности воды я уже хорошо предугадывал наличие подводных камней.
* * *
Почти целый час мы плыли безо всяких происшествий. Льюис не отставал, толкая вперед глубоко осевшую в воде байдарку; мне даже было странно подумать, какие усилия он на это затрачивал. Он любил все брать на себя, и поскольку действительно мог это делать, то делал больше, чем все остальные. И я был рад тому, что в критический момент его система выживания не отказала, а продолжала работать по-прежнему или даже еще лучше.
Но еще больше я был рад тому, что лодка у нас с Дрю была легкой и хорошо управляемой. Хотя пороги нам еще не повстречались, течение, судя по всему, стало быстрее. У меня возникло странное, но явное ощущение того, что мы двигаемся по длинному, изгибающемуся уклону. Это ощущение все усиливалось, и наконец я осознал, что оно возникает от меняющегося облика обоих берегов. Поначалу берега поднимались не очень значительно – при этом левый берег был выше, чем правый, – а потом их неровные верхние края резко полезли вверх, все выше и выше. Шум реки изменился, и теперь в нем слышался глубокий размеренный гул; это новое звучание усиливалось по мере того, как берега становились все выше и круче. Деревья исчезали; оставались лишь редкие кусты, все остальное заполнил камень. Стены берегов поднимались, в основном, не отвесно, но все-таки очень круто. И я понял, что если мы перевернемся, нам придется очень туго. Боже, лишь бы нам не повстречались пороги, пока мы плывем сквозь это ущелье! А если уж повстречаются, то пускай они будут не очень опасными!
Мы гребли без передышки, так, будто хотели оттолкнуться от воды и взлететь. Дрю сидел, наклонившись вперед; казалось, он старательно изучает что-то, разложенное перед ним на рабочем столе; при каждом гребке старая военная рубашка, которая была на нем, плотно прилегала к его плечам, так и не успев полностью расправиться после предыдущего гребка.
Я оглянулся. Вторая байдарка отставала теперь от нас метров на тридцать. Мне показалось, что Льюис что-то кричит нам – может быть, чтобы мы притормозили. Но в гулком шуме реки, зажатой высокими скалами берегов, голос прозвучал очень неубедительно, едва слышно. А может быть, мне вообще померещилось.
Берега по обеим сторонам реки вздымались в высоту метров на пятьдесят. Эхо, отражавшееся с обеих сторон, казалось, несло нас вперед не в меньшей степени, чем течение; оно стало частью нашего движения, будто подсказывая направление, в котором мы должны двигаться, чтобы проплыть сквозь ущелье.
Я снова оглянулся. Льюис и Бобби немного приблизились к нам. Пожалуй, даже слишком близко для безопасного прохождения порогов. Но ничего с этим поделать я уже не мог. Как будет, так и будет.
Проходя каждый поворот реки, я, прежде чем нос лодки разворачивался и Дрю оказывался прямо передо мной, высматривал, не появятся ли впереди белые буруны; убедившись, что порогов еще не видно, я быстро осматривал скалы, пробегая взглядом как можно Дальше, надеясь увидеть, что они начнут понижаться. Но ни порогов, 1П! снижения скал я не замечал; известняковые берега продолжали оставаться высокими, серыми, поросшими высоким кустарником, покрытыми трещинами и каменными струпьями.
А вот звучание реки постоянно менялось – оно становилось все глубже, все беспокойнее, все настойчивее. В нем все явственнее выделялся шум, прорывающийся сквозь раскаты эха, отражавшегося от берегов со всеми его обертонами и полутонами. Этот шум, как бассо остинато, казалось, вбирал в себя все звуки реки, которые мы слышали с момента нашего отплытия.
Боже, о Боже, я знаю, что это за шум! Если это водопад – нам конец!
Солнце завалилось за скалы правого берега, и от них по воде побежала тень – так быстро, будто прыгнула с одной стороны на другую. Надвигавшаяся тьма прикрыла нас как покрывалом, и в ней вода бежала все быстрее, вскипая и уже почти пенясь вокруг байдарки. У меня начали стучать зубы, да так сильно, что сотрясали весь череп – вроде я уже успел побывать в реке и теперь трясся от холода в тени скал, на камнях у берега. Мне казалось, что мы, влекомые горным потоком, прыгаем с одного уровня на другой, с одного на другой, скатываемся вниз по какому-то подземному тоннелю.
Я понял, что нам ни за что не добраться до Эйнтри до наступления темноты. Но и пережить эту ночь, оставаясь на воде, не видя ничего вокруг, мы тоже не сможем. Каково будет нестись в темноте по реке – в этом ущелье! Может быть, лучше было бы, если бы мы попытались пристать к берегу, пока еще хоть что-то видно, найти какой-нибудь плоский камень или даже песчаный участок берега, поставить там палатки. Или, в конце концов, провести ночь в байдарках, но привязанных к чему-нибудь у берега.
Мы прошли еще один поворот, и в конце его ложе реки стало понижаться. Я увидел целый ряд порогов, но не мог определить, как далеко вперед они уходят. Пожалуй, единственное, что я твердо выучил о проходах на байдарках через пороги – нужно править к той их части, где движение реки кажется самым быстрым. Дневного света оставалось совсем мало, и я решил для себя – пройдем этот отрезок реки и подгребем к берегу, независимо от того, что решат делать Льюис и Бобби.
Течение безжалостно швыряло нас в разные стороны. Мы проскочили первый участок порогов. Теперь мы двигались слишком быстро и не могли бы уйти с середины реки, чтобы обогнуть следующие пороги. Я побоялся попытки уйти к берегу – нас могло развернуть боком к течению и швырнуть прямо на камни. Это не только выбросило бы нас из лодки, но, вероятно, сама байдарка оказалась бы притиснутом напором воды к камням; давление воды удерживало бы ее заклиненной на камнях так прочно, что снять ее оттуда вряд ли бы удалось. А четверо в одной байдарке мы далеко бы не уплыли, особенно если учитывать, что она так перегружена – ею было бы практически невозможно управлять. Я пытался подправлять движение байдарки так, чтобы Дрю все время маячил передо мной посередине белой, вспенившейся полосы течения: его надо было вывести точно по центру между камнями и дать байдарке проскочить между ними. Если мне удастся правильно прицелить Дрю и он гладко войдет между камнями, мы проскочим, подумал я.
– Поддай скорости, золотце ты мое! – завопил я.
Дрю поднял весла на мгновение, а потом стал грести глубоко и сильно.
И тут с ним что-то произошло. В первый момент – и сейчас все это стоит перед моими глазами так, как будто происходит снова, будто Дрю снова сидит передо мной на носу байдарки, и все как при замедленной съемке, даже со стоп-кадром, предстает передо мной, – мне показалось, что резкий порыв ветра – но очень узко направленный и краткий – шевельнул волосы на затылке Дрю. Он как будто мотнул головой или дернулся так, словно лодку тряхнуло, хотя я никакого толчка не почувствовал. Так или иначе, но как только это произошло, управление байдаркой было потеряно. Вода вырвала весло из рук Дрю – оно исчезло, будто он никогда его и не держал. Его правая рука, будто сама по себе, резко выпрямилась и простерлась над водой, а в следующее мгновение Дрю ныряющим движением полетел в воду, перевернув при этом байдарку. Я не успел ничего предпринять, но в самый последний момент, перед тем, как плюхнуться лицом в пенящуюся воду, когда вся река вдруг вздыбилась, стала заваливаться на бок и переворачиваться, я совершенно инстинктивно отпустил весло и схватил лук, лежавший у моих ног – даже в панике я знал, что лучше в руках иметь оружие, чем весло, несмотря на то, что в бурлящей воде было опасно держать рядом с собой обнаженные наконечники с грел, прикрепленные к луку липкой лентой.
Река приняла меня, но лука я не отпустил. Спасательный жилет тут же вынес меня на поверхность, но на меня сразу навалилась байдарка, как кит или дельфин, выпрыгивающий из воды. Вздыбленная течением, байдарка ударила меня в плечо и отбросила к камням, вокруг которых вода неистовствовала особенно сильно. Потом что-то ударило меня по голове, скорее всего, весло. Льюис и Бобби были уже рядом и веслами пытались отталкиваться от торчащих из воды камней. Дрыгая ногами и отпихиваясь от камней, я поднялся немного над поверхностью воды. Увидел, как зеленая байдарка с Льюисом и Бобби ударилась о нашу лодку, которая, зажатая между камнями, стояла поперек течения. Льюис и Бобби вывалились в воду, один по одну сторону байдарки, другой – по другую. Я ударился о камень и почувствовал, как что-то важное – кость или мускул – нарушилось в одной ноге. Я дрыгнул обеими ногами и на мгновение уперся во что-то твердое. Наверное, я в тот момент перевернулся головой вниз, потому что воздуха глотнуть не мог. Открыл глаза, но ничего не увидел. Дернул головой, надеясь, что вздохну, но из этого ничего не получилось – голова оставалась под водой. Дышать я не мог, а со всех сторон меня избивали камни и еще что-то твердое – удары сыпались и сыпались отовсюду. Я получал их в самые неожиданные части тела: мимо меня что-то проносилось, я сам мчался вперед и получал все новые удары; река – и все, что было в реке, – швыряла меня, топтала, лягала.
Меня вертело, крутило, я попытался ползти по проносящемуся подо мной дну. Ничего не получалось. Я умирал, я чувствовал, как растворяюсь в невообразимом буйстве и жестокости реки, сливаюсь с ней. Не такой уж плохой способ уйти из жизни, подумал я; а может быть, я уже на том свете?..
Моя голова выскочила из воды, и от неожиданности я даже решил снова засунуть ее под воду. Но тут заметил обе байдарки, и это настолько заинтересовало меня, что удержало на поверхности. Байдарки, наталкиваясь друг на друга, перекатывались, как бревна; зеленая была уже повреждена... Странное ощущение: моя рука – левая – будто вся истыкана гвоздями... Зеленая байдарка, с размаху налетев на камень, развалилась и исчезла, а алюминиевая прыжком вырвалась на свободу и поплыла дальше.
Ноги выставь вперед, парень, сказал я себе, хотя рот у меня был полон воды – нижняя часть моей головы была под водой. Перевернись на спину.
Я попытался это сделать, но каждый раз, начиная подтягивать ноги, ударялся о камень либо голенью, либо бедром. Я снова ушел под воду и услышал какое-то тихое позвякивание – должно быть, алюминиевая байдарка ударялась о камни. Звук был звонкий, далекий, красивый.
Мне все-таки удалось перевернуться на спину, и я слился с течением, скользя по камням, словно какое-то существо, всегда жившее во мне, но которое я никогда не выпускал на волю. Благодаря спасательному жилету верхняя часть моего тела теперь почти полностью торчала из воды. Когда мне удавалось подбирать ноги – точнее, пятки, – я скользил над камнями, чувствуя, как водоросли и мох легко касаются шеи. Вместе с каскадом воды я прорывался к следующему рубежу порогов.
Меня, как доску для серфинга, продолжало нести вперед. Я понял, что этот участок реки нам бы ни за что не удалось пройти на байдарках. Здесь было слишком много камней; они располагались слишком непредсказуемо, и течение было слишком быстрым. И становилось все быстрее и быстрее. Не смогли бы мы и протянуть байдарки волоком – берега были очень крутыми; не было бы возможности даже вылезти из байдарок и провести их между камней. Так или иначе, нас бы вывернуло из них в воду, и как это ни странно, я почему-то обрадовался этой уверенности. Все мне подсказывало, что то, как я перемещаюсь, было единственным способом пройти пороги.
И это доставляло мне удовольствие, смешанное со страхом; оно было бы более полным, если бы у меня не так болело все тело. Река швыряла меня вперед; если я видел большой камень, встающий на моем пути, я поднимал ноги, и меня проносило над ним. Потом бросало на задницу в пенящийся водоворот, потом снова подхватывало и с еще большей скоростью опять мчало вперед. Я пару раз ударялся о камни затылком, но потом сообразил, что в тот момент, когда соскальзываю с очередного камня, мне нужно нагибаться вперед. И после этого головой я уже не ударялся.
Но я знал, что уже и так что-то повредил себе, хотя и не был уверен, что именно. Особенно сильно болела левая рука, и она беспокоила меня больше всего. Но никаких особенно сильных ударов, которые пришлись бы на эту руку, припомнить не мог. Я поднял ее над водой и увидел, что держу лук, ухватившись прямо за наконечник стрелы, и каждый раз, когда дергал руку, они врезались мне в ладонь. Сам лук был зажат под левой рукой, и прежде чем я перелетел через следующий большой камень, передвинул его так, чтобы наконечники торчали в сторону от меня. Слетая с камня вниз, я увидел, что за следующей линией порогов вода текла уже спокойно – мелькнуло довольно широкое, спокойное водное пространство, а еще дальше вода снова вспенивалась белым. Но это было совсем далеко, там, где уже полностью царил вечер. Я расслабился, и в этот раз пролетел сквозь пороги, не коснувшись ни одного камня – легко скатился из взбудораженной холодной воды в воду спокойную. Лук был при мне.
Теперь я просто болтался на поверхности воды, а не несся куда-то. Лениво вращаясь – река здесь раздалась и напомнила глубокое черное озеро, – я взглянул вверх. Надо мной поднимались скалы ущелья. Очень ныли ноги, но я мог дрыгать обеими, и насколько мог определить, никаких серьезных повреждений в ногах не было. Я поднял из воды левую руку – она была изрезана, в некоторых местах порезы были глубокими и располагались близко друг от друга, но в общем все было не так плохо, как я опасался. Поперек ладони шел Длинный, но не глубокий диагональный порез.
Я, поддерживаемый спасательным жилетом, плыл по воде, пытаясь собраться с мыслями и решить, что же делать дальше. Наконец, я начал двигать руками и ногами; развернулся, осмотрелся – не видно ли остальных. Тело казалось тяжелым и неповоротливым – не таким как в порогах, когда поток воды распоряжался им, проносил между камнями и над ними и сообщал, что делать дальше.
Ни вверх, ни вниз по течению я никого не увидел. Я был один. Я стал присматриваться к последней линии порогов – может быть, я сильно обогнал других, и сейчас они появятся?.. По крайней мере, в нескольких местах поток разделялся камнями, и все трое могли застрять где-нибудь там, среди этих камней – живые или мертвые.
Как только я об этом подумал, из порогов вывалился Бобби; его несколько раз перевернуло на скользких камнях, потом бросило животом на спокойную воду. Я рукой показал на берег, и Бобби начал потихоньку плыть в ту сторону. Я тоже двинулся к берегу.
– Где Льюис? – крикнул я.
Он замотал головой, и я перестал подгребать под себя, развернулся и стал ждать, стараясь удержаться на одном месте.
Через пару минут показался Льюис, весь скрюченный, какой-то изломанный. В одной руке он держал весло, а второй прикрывал лицо жестом, в котором читалась невыносимая боль. Я быстро, брассом, подплыл к нему и у самых последних камней порогов примостился рядом с ним на холодной вертящейся воде. Льюис извивался, корчился на одном месте, будто схваченный снизу, под водой, чем-то невидимым, которое, на меня, однако, не набрасывалось.
– Льюис, а Льюис? – позвал я.
– Нога, – выдавил он из себя, задыхаясь. – Что-то с ногой. Такое чувство, что она вообще оторвалась.
Вода вокруг нас цвета не меняла, кровавых пятен на ней не появлялось.
– Держись за меня, – сказал я.
Он под водой протянул ко мне свободную руку и пальцами ухватился за воротник моего скользкого нейлонового одеяния. Я стал медленно передвигаться по воде в сторону больших валунов, находившихся прямо под скалой. Темнота опускалась на нас все быстрее и быстрее, а я плыл, преодолевая течение, и тащил за собой очень тяжелого Льюиса; воротник оттягивался и душил меня.
С того места, где мы находились, скала выглядела как невероятно огромный экран заезжаловки, на котором вот-вот начнут показывать какой-нибудь грандиозный фильм. Я даже стал прислушиваться – не раздастся ли музыка, и пару раз взглянул на бледную, слегка вогнутую стену камня – не появятся ли титры или огромная голова льва, с которой начинаются фильмы «Эм-Джи-Эм». А может, фильм давно уже идет, а я просто этого еще не понял?
Когда мы приблизились к каменной стене, я разглядел, что у ее подножия среди нескольких камней примостился крошечный песчаный пляжик – туда мы и направились. Бобби, сложившись вдвое, сидел на большом камне. Я махнул ему; он распрямился и подошел к краю воды. Казалось, руки мешают ему двигаться.
Он подал мне одну из этих своих беспомощных рук, и я вытащил себя и Льюиса из воды. Льюис, прыгая на одной ноге, взобрался на большой плоский, кажущийся спокойным, камень. Он очень старался, но потом не выдержал и, резко согнувшись, рухнул на него. Камень, еще сохранивший тепло последних лучей солнца, вполне удобно разместил на себе Льюиса. Я перевернул его на спину, он все еще прикрывал лицо рукой.
– Дрю подстрелили, – сказал Льюис, почти не шевеля губами. – Я видел. Он убит.
– Я не уверен в этом, – ответил я, хотя на самом деле я считал, что так оно и было. – С ним произошло что-то странное, это правда. Но что – я не знаю, я не знаю. Давай снимем с него штаны, – сказал я, обращаясь к Бобби.
Тот обалдело уставился на меня.
– Да не обращай внимания на слова! -крикнул я. – Теперь мы в совсем другой ситуации, дорогуша! Сними с него штаны, и посмотрим, может быть, мы сможем определить, что там у него с ногой. А я попробую поймать эту блядскую лодку. А не то мы здесь надолго застрянем.
Я вернулся к реке, вошел в воду; с умирающим последним светом дня умирала и возможность того, что прозвучит выстрел. Я входил в воду, похожий в своем спасательном жилете на какое-то бесформенное животное, и как это обычно бывает в воде, с каждым шагом терял вес. С очень ясной головой я полностью погрузился в воду.
Я растворился в темноте: надо мной и подо мной простирались темные глубины – теперь меня на воде никто не различит. Из темноты на меня темным пятном выплыла алюминиевая байдарка, ее медленно сносило в сторону следующих порогов. Она двигалась не спеша, неестественно замедленно, будто застревая в спокойной воде. У самой байдарки я наткнулся на что-то деревянное – оказалось, сломанное весло. Я взял его с собой.
Я проплыл вдоль байдарки, прислушиваясь к ружейному выстрелу, второго, если бы пуля попала в меня, я никогда не услышал бы все равно. Когда выстрелом был убит Дрю – если это действительно было так, – никакого звука я не услышал. С вершины скалы меня нельзя было увидеть, я знал это наверняка. Но, наверное, можно было видеть байдарку. Хотя это вряд ли. Уверенность в том, что я невидим, успокоила меня. И я мог бы себе плавать, не прячась, вокруг байдарки всю ночь, если бы мне вдруг так захотелось.
Спокойный участок реки был глубок, и стать на дно, чтобы вычерпать воду из лодки, я не мог. Я уцепился за ее край, торчавший под углом из воды, и стал раскачивать, пытаясь выплеснуть реку, забравшуюся в эту обработанную на фабрике алюминиевую форму. Наконец, лодка качнулась нужным образом; вода отпустила ее и потекла дальше; корпус, освободившийся от груза, почти полностью выступил из воды. Я толкнул байдарку в острую корму и поплыл за ней, подталкивая ее и мучительно дрыгая по-лягушачьи ногами. Течение лениво обтекало меня со всех сторон и двигалось дальше, в темноту. Я различал белую пену внизу по течению, но это было где-то там, блаженно далеко, за пределами спокойного участка реки. О том, что ожидает нас там, впереди, можно будет беспокоиться потом. Я подплыл к подножью скалы и тихо позвал Бобби. Он откликнулся.
Из воды я едва мог различить его лицо. Толкнул байдарку по направлению к нему – таким же легким толчком я когда-то отправлял вперед Дина, когда он только учился ходить. Бобби зашел в воду и, ухватившись за линь, привязанный к носу, вытащил ее на песок. Потом мы вдвоем оттащили ее подальше от воды.
Я отошел в сторону, ничего не сказав.
– Ради Бога, – сказал Бобби, – не молчи, говори что-нибудь. Меня и так жуть берет.
Я открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыл его и в темноте пошел к Льюису, который лежал уже не на камне, а на песке. Его обнаженные ноги, казалось, светились, и когда я склонился над ним, то увидел, что его трусы задраны с правой стороны до паха. Судя по виду верхней части ноги, у него была сломана берцовая кость. Я протянул руку и очень осторожно ощупал его ногу. Тыльная сторона моей руки случайно коснулась его пениса, и я почувствовал, как он вздрогнул от боли. Я услышал, как скрипит песок у него под головой – Льюис ворочал ею из стороны в сторону. Насколько я мог судить, это был не «осложненный перелом»: я не нащупал осколков кости – на неисчислимых, обязательных курсах «по оказанию первой помощи», которые мне приходилось посещать, учили, что в подобных случаях следует прежде всего определить вид перелома. Но под рукой у меня вздувалась огромная, теплая, живая опухоль. Казалось, она хочет раскрыться, лопнуть, что-то выпустить из себя.
– Держись, Лью, – сказал я. – Теперь все будет в порядке.
Темнота была уже полная. Звуки реки обступили нас со всех сторон – днем такого ощущения не могло бы возникнуть. Я сел рядом с Льюисом и жестом подозвал Бобби. Тот подошел и сел на корточки.
– А где Дрю? – спросил Бобби.
– Льюис говорит, что он мертв, – сказал я. – Возможно, так оно и есть. Не исключено, что убили выстрелом из ружья. Но наверняка сказать нельзя. В тот момент я смотрел прямо на него, но с уверенностью сказать, что произошло, не могу.
Я почувствовал, как меня снизу за одежду потянул Льюис. Я наклонился поближе к его лицу. Он пытался сказать что-то, но у него ничего не выходило. Потом, в конце концов, он выговорил:
– Ты... теперь ты должен...
– Я, я, конечно, я, – сказал я. – Я вот сижу здесь. Рядом с тобой. Нас сейчас никто не тронет.
– Нет, не то. Я не то хочу ска... – В шуме реки потонуло остальное.
Потом в темноте заговорил Бобби:
– Что мы будем делать?
– Похоже, – сказал я, – что мы из этого ущелья живыми не выберемся.
Неужели это я сказал? Да, сказал во мне кто-то, это ты сказал. Ты это сказал, и ты действительно так считаешь.
– Я думаю, завтра утром он перестреляет нас, – продолжил я вслух, и это прозвучало еще более странно. Кто бы мог вообразить, что мне когда-либо придется говорить что-либо подобное?.. Боже, неужели это все происходит не в кино?
– Что?..
– Я бы поступил именно так. А ты разве нет?
– Я не...
– Если Льюис прав – а я думаю, что он прав, – та беззубая сволочь пальнула по нам как раз в тот момент, когда мы входили в пороги. Он выбрал момент, когда мы двигались не очень быстро. Он убил того, кто сидел на носу в первой лодке. Следующим должен был быть я. А потом – ты.
– Другими словами – нам повезло, что мы перевернулись.
– Совершенно верно. Повезло. Очень повезло.
Это прозвучало странно, учитывая то, где и в каком состоянии мы находились. Хорошо, что мы хоть не видим выражения лиц друг Друга. Хотя мне казалось, что у меня выражение спокойное, глаза слегка прищурены... но кто знает, каково оно было в действительности. Но надо было сыграть спокойствие.
– Что мы будем делать? – снова спросил Бобби.
– Точнее – что онсобирается делать?
Ответа не последовало, и я продолжал:
– Что ему теперь терять? Он сейчас в том же положении, в котором были мы, когда закапывали его приятеля в лесу. Ему не надо бояться свидетелей. Никакого мотива убийства, по которому его могли бы вычислить. Ему проще простого доказать, что он нас никогда не видел, а мы никогда не видели его. И если все мы окажемся в реке брюхом вверх – кому до этого дело? Но счеты свои он сведет. Ну кто сюда доберется, даже если нас начнут искать? Если прилетят на вертолете – с него вглубь реки не заглянешь. Так что и это не поможет. Ты думаешь, кто-нибудь прилетит сюда на вертолете, будет летать над этим ущельем, кого-то высматривать? Ни малейшей надежды. Ну, какое-то расследование начнется. Но ничего из этого не получится. Напомню тебе на всякий случай – это совершенно дикая местность. Если он перестреляет нас, то можно надеяться лишь на то, что мы станем местной легендой. Напишут в местной газете: «Таинственное исчезновение четырех мужчин». И все. Можешь мне поверить, дорогуша.
– Ты думаешь, он там где-то, наверху? Ты действительно так думаешь?
– Я думаю, нам же лучше будет, если мы будем считать, что он сидит где-то там, на скалах.
– Ну ладно. А дальше что?
– Мы застряли в этом ущелье. Он спуститься сюда не может, а для нас единственный способ выбраться отсюда – плыть вниз по течению. Ночью этого мы сделать не сможем, а утречком, когда соберемся отплывать – он тут как тут, поджидает где-то наверху, с ружьем.
– Господи Боже мой!
– Да, – сказал я, – другого и не скажешь. А Льюис бы сказал: «Давай, выручай, где ты там, Иисусе, топай к нам по этой белой пенистой водичке. Ну, а если не хочешь идти к нам, тогда нам придется самим что-нибудь придумать».
– Но послушай, Эд, – сказал Бобби, и от его голоса, прозвучавшего так по-человечески жалобно на фоне безмятежного шума реки, я съежился. – Но откуда у тебя такая уверенность?
– Уверенность в чем?
– В том, что ты прав. Что, если ты ошибаешься? Может быть, нам вовсе не грозит никакая опасность ни от кого, и там, наверху... этот... никто нас не поджидает.
Он сделал жест рукой, наверное, показывая вверх, но в темноте эффект этого жеста пропал.
– Ты что, хочешь рискнуть и притвориться, что нам ничего не угрожает?
– Нет, не хочу. Если только не какие-нибудь там обстоятельства... Но что...
– Что «что»?
– Что мы можем сделать?
– Мы можем сделать три вещи. – И какой-то совсем другой человек, сидящий во мне, начал рассказывать, что мы можем сделать: – Мы можем просто сидеть здесь, потеть от страха и звать мамочку. Можем взывать к силам природы. Можем затащить Льюиса на тот камень и устроить вокруг него шаманский танец и вызывать дождь. Чтоб нас не было так хорошо видно. Но если мы вызовем дождь, довезти живым Льюиса мы не сможем. Он в таком состоянии, что умрет от переохлаждения... Посмотри туда.
Мне нравилось слушать собственный голос, произносящий эту нагорную проповедь, особенно в темноте; он звучал так, будто говорил человек, знающий, где он находится и что он собирается делать. Я почему-то вспомнил, как Дрю и мальчик-альбинос играли там, на заправке.
В молчании мы смотрели вверх – туда, где между краями ущелья загорались звезды в совершенно безоблачном небе.
– Ну ладно. А еще что? – сказал Бобби.
– Еще что мы можем сделать? Кто-то из нас может попробовать взобраться туда и дождаться его там, наверху.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Что я этим хочу сказать? Помнишь, что говорят в этих дурацких боевиках, особенно в тех, которые показывают вечером по субботам? «Или он нас, или мы его». Мы убили человека. И он убил человека. Теперь все зависит от того, кто кого убьет. Вот так все просто.
– Я понял, – сказал Бобби. – И я не хочу умирать.
– Тогда, если не хочешь умирать, помоги мне сообразить, как вес сделать правильно. Нам нужно вычислить, о чем он там думает. От этого зависит все.
– Я понятия не имею, о чем он там думает.
– Ну, начнем с предположения, что он собирается нас убить.
– Это я уже понял.
– Теперь давай думать, когда ему это лучше всего сделать. Пока не начнет светать, стрелять он не сможет. А это значит, что у нас есть время до рассвета. И нам до восхода солнца нужно поспеть сделать то, что мы собираемся.
– Но ведь я до сих пор не знаю, что именно.
– Сейчас, подожди – я закончу мысль. Я думаю так. С такого расстояния звук выстрела не слышен, особенно в шуме реки. После того, как он выстрелил в Дрю, он, может быть, стрелял по нам еще несколько раз, но мы об этом узнали бы только в том случае, если бы он попал в кого-нибудь еще. Догадаться, что он видит с того места, где сидит, очень трудно. Но я думаю, вполне резонно предположить – он видел, что попал в Дрю и что байдарка перевернулась. Он, может быть, даже подумал, что мы все утонули, но вряд ли он успокоится на этой мысли и не проверит. Здесь очень бурное место, но то, что Льюис, ты и я выбрались живыми, доказывает, что выжить здесь можно. И я думаю, что и он об этом догадывается. Может быть, он не перестрелял нас всех здесь под скалой только потому, что с того места, где сидит, стрелять по нам было уже невозможно. Или потому, что стало слишком темно. Тут нам повезло. И это наше везение означает, что у нас есть пара выигрышных моментов. То есть, они могут стать выигрышными, если мы правильно ими воспользуемся.
– Выигрышных? Ничего себе выигрышных! У нас на руках человек со сломанной ногой. У нашей байдарки измято дно, и она наверняка протекает. Что мы еще имеем? Двух дураков, которые ни хрена не знают о том, что нужно делать, попав в дикие места в лесу. И даже толком не знают, где находятся. А у него ружье! И он сидит там, над нами. И знает точно, где мы, и что мы отсюда никуда не денемся. А мы не имеем никакого представления о том, где он и даже, собственно, кто он. У нас нет ни малейшего шанса спастись, ну, ни самого маленького – если, конечно, вы с Льюисом правы. Если кто-то там наверху выжидает, чтобы нас убить, он может это сделать запросто. И он нас убьет.
– Ну, пока ведь не убил. А у нас все-таки есть одна могучая козырная карта.
– Это еще какая?
– Он думает, что нам туда, к нему, ни за что не добраться. Но если мы это сделаем, мы можем убить его.
– Как?
– Ножом или стрелой из лука. Или, в конце концов, если понадобится – голыми руками.
– Мы вдвоем?
– Нет, только один из нас.
– Я из лука стрелять совсем не умею, – сказал Бобби с облегчением – теперь он был избавлен, по крайней мере, на время, – от необходимости карабкаться вверх по скале.
– Это, конечно, сужает выбор, – согласился я. – Теперь ты понимаешь, что я имею в виду, когда говорю о решении нашей проблемы? Нужно просто немного пошевелить мозгами.
Решение возникло само по себе, но оно тут же разделило нас. Даже в темноте это отчуждение остро ощущалось.
– Эд, скажи мне честно. Ты действительно считаешь, что можешь туда залезть в этой кромешной тьме?
– Сказать честно? Нет, надежды у меня очень мало. Но другого выбора у нас нет.
– А мне все-таки кажется, что он ушел. Что, если он взял и ушел?
– А что, если он взял и остался? – сказал я. – Ошибка нам будет слишком дорого стоить. Послушай, если я свалюсь с этой ебаной скалы, тебеж от этого больно не станет. Если меняподстрелят, не тыбудешь подыхать... У тебя есть два шанса остаться в живых. Первый: он ушел или, по какой-то причине, не захочет стрелять, ну, или он начинает пальбу, но промахивается много раз, и ты в байдарке успеваешь уплыть достаточно далеко вниз по течению. И второй твой шанс остаться в живых: я залажу по скале наверх и убиваю его. Так что сиди и не дрыгайся. Дрыгаться буду я.
– Эд...
– Заткнись и дай мне еще подумать.
Я окинул взглядом стену ущелья снизу доверху, но ничего особенного, кроме того, что скала очень высокая, не увидел. Но теперь я рассмотрел, что, по крайней мере, нижняя часть ее была не такой крутой, как я поначалу думал. Скала не уходила вверх вертикально, а поднималась под очень крутым наклоном. И когда вышла луна и я смог все рассмотреть немного лучше, то пришел к выводу, что смогу взобраться, по крайней мере, до половины скалы.
– Бобби, слушай. И слушай меня очень внимательно. Я заставлю тебя повторить все, что тебе скажу. Ясно? Перед тем, как я туда полезу, ты мне расскажешь, что ты будешь делать, потому что все нужно будет сделать правильно, без единой ошибки, и правильно с первого – и единственного – раза. Вот что я хочу, чтобы ты сделал...
– Ладно, я слушаю.
– Сделай все, чтобы Льюису было тепло и по возможности – удобно. Как только станет светать – и, Бобби, я имею в виду буквально, как только появятся первые признаки рассвета, – ну, в общем, как только станешь видеть больше, чем сейчас, грузи Льюиса в байдарку и отплывай. А все остальное будет решаться там, наверху.
А мне предстоит быть тем, от кого будет зависеть, как все это закончится. Я прошелся по песку, в одну, потом в другую сторону. Я чувствовал, что имею на это право. Потом почему-то подошел к краю воды. Наверное, мне хотелось снова ощутить присутствие всех тех стихий, которые меня окружали: воздуха, земли – то есть, песка, – воды. А еще иметь возможность взглянув вверх, рассмотреть скалу получше. Я стоял в холодной воде, задрав голову и рассматривая скалу, круто уходящую во тьму. Над верхним краем стены появилось очень много звезд – целая звездная река. Я натянул на лук тетиву. Провел рукой по нему – не сломано ли что-нибудь, не расщепилось ли где-нибудь стекловолокно?.. Верхняя часть лука мне показалась расцарапанной... нет, так и раньше было, так и раньше торчали занозы стекловолокна. Отцепил две остающиеся стрелы. Начинал путешествие я с четырьмя, но две стрелы выпустил по оленю. Одна из двух оставшихся была достаточно ровная – я протащил ее, вращая между пальцами, так, как учил меня Льюис. Если стрела слегка погнута или перекручена, под пальцами это сразу почувствуется. Может быть, в хвостовой части, под оперением, она была все-таки чуть-чуть погнута, но, так или иначе, ее вполне можно было использовать для стрельбы, и на небольших расстояниях можно было надеяться на достаточную точность. Вторая стрела оказалась сильно погнутой, и я руками разогнул ее, стараясь выровнять как можно лучше. Но в темноте сделать ее совершенно ровной было невозможно. Я держал ее на уровне глаза, направленной к участку неба посветлее, и все равно не смог определить, где именно и насколько серьезно она оставалась погнутой. По крайней мере, я увидел, что наконечник в порядке.
Я вернулся к Бобби и прислонил лук к камню, торчавшему рядом с байдаркой. Потом начал разматывать тонкую веревку, которая благополучно осталась привязанной к моему поясу; Бобби стоял совсем рядом со мной. Какую, однако, я сделал удачную покупку – кто бы мог предположить, что мне придется карабкаться по такой скале, – а ведь мне действительнопридется это делать! И веревочка моя может очень пригодиться! И мне на краткий миг поверилось, что удача меня будет сопровождать и во всем том, что мне предстояло сделать. Я наматывал веревку на руку между оттопыренным большим пальцем левой руки и локтем и получил, наконец, плотное кольцо. Завязал концы и просунул пояс, на котором висел нож, сквозь этот веревочный круг.
– Смотри не засни, – предупредил я Бобби.
– Даже если бы я захотел заснуть, ничего из этого не получилось бы, – сказал Бобби. – О Боже!
– А теперь слушай. Если ты отплывешь с первым светом, для того, кто будет сидеть там, наверху, ты будешь представлять очень сложную цель. Пока ты будешь проходить следующие пороги – судя по всему, это будет совсем несложно, – я думаю, ты будешь в безопасности от выстрелов сверху. Если мне вообще удастся забраться на эту скалу, то к тому времени, когда ты отплывешь, я уже должен буду быть на месте. Шансы уравняются, если Человек-Муха – то есть я – залезет по этой стене. И постараюсь сделать все, что смогу, чтобы он не начал стрелять по тебе. Из того, что я увидел раньше, чем стало совсем темно, края ущелья очень неровные. И если он промажет по тебе, стреляя с одного места – или если ты успеешь проплыть под ним так, что он тебя не заметит, – он не успеет перебежать на другое, чтобы снова стрелять. Все, что нужно сделать – это успеть проскользнуть мимо него и добраться до следующего поворота реки. Тогда считай, что ты в безопасности.
– Эд, скажи мне такую вещь... Тебе приходила в голову мысль, что там может быть не один человек, а больше?
– Да, я думал об этом. Признаюсь, что думал.
– Ну и если это так, что тогда?
– Тогда – мы скорее всего умрем... завтра, рано утром.
– Боюсь, ты прав.
– Но я все-таки не думаю, что он привел с собой кого-нибудь еще. И я объясню тебе почему. Вовлекать кого-нибудь еще в такое дело – совсем не в его интересах. Он бы это сделал только в случае крайней необходимости. Это с одной стороны. А с другой – у него просто не было времени бежать за подмогой. Да и так на его стороне все преимущества. И ему не нужна ничья помощь.
– Я очень надеюсь, что ты прав.
– Нам ничего другого не остается – только надеяться. Что-нибудь еще?
– Да... Я должен тебе это сказать... Мне кажется, мы делаем все неправильно. Все как-то не так.
– Моя жизнь зависит от того, насколько правильно мое решение. Если бы Льюис мог – это все сделал бы он. А теперь придется делать мне. Ну все, мне пора идти.
– Послушай, – сказал Бобби, схватив меня за руку слабыми пальцами. – Я не могу сделать то, что ты от меня требуешь. Я не буду изображать из себя подставную утку, чтобы ты спокойно убежал в лес и оставил нас здесь на, убой. Я просто не могу, вот и все. Не могу!
– Послушай, ты, сучий сын, если хочешь – ты можешь сам лезть на эту скалу. Вперед! Вот она, прямо перед тобой! Никуда не убегает. Но если полезу я – мы будем играть по моим правилам! И клянусь Богом: если ты не сделаешь то, что я от тебя требую – я сам тебя убью. Ты знаешь, это так просто! И если ты оставишь здесь Льюиса одного, я сделаю то же самое – убью тебя!
– Эд, я не оставлю Льюиса одного! Ты же прекрасно знаешь, что я никогда бы этого не сделал... Я просто... не хочу плыть под носом этого ублюдочного убийцы и подставляться, чтоб он прихлопнул меня, как Дрю.
– Если все пойдет как надо – и если ты сделаешь то, что я от тебя требую, – тебя не убьют. Послушайменя внимательно. Я повторю еще раз. И надеюсь, теперь ты запомнишь все. Я тебе расскажу, что делать, независимо от того, что произойдет... со мной.
– Ладно, ладно, – сказал он после короткого молчания.
– Первое. Отплывай, как только будет достаточно света, чтобы ты мог хоть что-нибудь различать на реке и проскочить следующую линию порогов. Скорее всего, чтобы стрелять прицельно оттуда, сверху, света будет еще недостаточно. Даже если окажется, что он увидит тебя на воде, когда ты доберешься до порогов, попасть в тебя, если лодку будет бросать между камней, будет очень сложно. Когда ты будешь проплывать спокойные участки, сначала греби изо всех сил, потом поубавь прыть – самое главное, нельзя двигаться с одной и той же скоростью. Если он все-таки начнет по тебе стрелять, изо всех сил старайся добраться до следующих порогов или до поворота реки. Если же увидишь, что удрать от него не сможешь – то есть, если увидишь, что он пристрелялся по тебе и попадания все ближе и ближе, вываливайся из лодки. Попытайся вытащить из лодки Льюиса, оставайся рядом с ним, подгреби к берегу и жди. Я постараюсь привести кого-нибудь на помощь. Если через сутки я не появлюсь, значит... я никуда не добрался. Тогда оставляй Льюиса и отправляйся вниз по реке. Может быть, лучше всего вплавь. Возьми все три спасательных жилета – они тебя будут держать на плаву даже в самой бурной воде. Пускай тебя сносит течение. Я думаю, до ближайшего моста через реку – миль пятнадцать, не больше. Но если ты будешь плыть сам, ради Бога, запомни хорошенько, где ты оставил Льюиса. Если ты не запомнишь, как отыскать то место, он умрет. В таком состоянии он долго не протянет.
Бобби посмотрел на меня в упор и впервые с того момента, как зашло солнце, я увидел его глаза – в них были заметны какие-то точечки света.
– Ну, вроде бы все, – сказал я и, подняв лук, пошел к тому месту, где рядом с байдаркой лежал Льюис, который все так же, без устали, продолжал втирать затылок в песок. Я сел рядом с ним на корточки; его трясло мелкой дрожью от боли, не от холода. Но выглядело это так, будто ему просто очень холодно. И когда он, протянув руку, коснулся моего плеча, эта дрожь частично передалась и мне.
– Ты хорошо себе представляешь, что собираешься делать?
– Нет, Лью, – ответил я, – не очень. Но по ходу дела я буду думать, что делать дальше.
– Не дай ему себя заметить, – сказал Льюис. – И никакой ему пощады. Никакой!
– Я сделаю все, чтобы он меня не заметил.
– Сделай так, чтобы удалось и все остальное.
Я задержал дыхание, ожидая, что Льюис скажет дальше.
– Убей его, – сказал Льюис. И, казалось, река повторила его слова.
– Если я его смогу найти, я убью его.
– Вот так. Знаешь, где мы? В стране Льюиса Медлока.
– Да, выбор один – выжить, – согласился я.
– Я же тебе всегда говорил, – сказал он. – Все упирается в проблему выживания.
– Да, ты мне это говорил.
У меня было такое впечатление, что вокруг меня все изменилось. Я просунул левую руку между тетивой и луком, потом через плечо закинул его за спину таким образом, чтобы наконечники стрел смотрели вниз. Потом подошел к каменной стене ущелья и положил на нее руку – ту руку, которая была изрезана наконечником стрелы, когда я кувыркался в воде; провел по камню так, будто ладонью я мог ощупать всю поверхность скалы, ощутить всю сложность стоящей передо мной задачи и зажать ее в руке. Поверхность камня была шероховатой. И неожиданно, от моего прикосновения, от нес отлетел кусочек. Шум реки здесь казался громче, как будто камни в порогах передвинулись поближе. Через некоторое время шум вроде бы снова уменьшился – эта прибавка в звуке либо потухла, либо отползла в сторону, на середину течения.
Я решил, что это – знак. Я отошел на несколько шагов назад, потом бегом бросился к стене, подпрыгнул, успел положить локоть на первый невысокий выступ, подтянулся и выбрался на него, ободрав при этом немного бока и ноги. Встал во весь рост. Бобби и Льюис оказались прямо подо мной, скрытые каменным выступом. А может быть, их там вообще уже нет? Стоя там, на каменном выступе, яощутил полное одиночество – такого в своей жизни я никогда раньше не чувствовал.
И сердце мое радостно встрепенулось при мысли о том, где я нахожусь и что делаю. На воде появились отблески нового света – всходила луна, все выше и выше. Несколько минут я, стоя спиной к скале, смотрел на реку, ни о чем не думая, лишь ощущая свою беззащитность, какую-то обнаженность и тесную связь со всем, что меня окружало.
Меленько переступая ногами, я повернулся лицом к скале, прислонился к ней телом, определяя степень ее уклона. Приложил к камню щеку и поднял вверх, в темноту, обе руки. Пальцы, казалось, сами по себе бегали по скале, ощупывая ее. Камень казался податливым, и эта податливость беспокоила меня больше всего. Я боялся, что выступы камня, за которые я буду цепляться или на которых буду стоять, рассыплются под нажимом. Правой рукой я нашарил нечто вроде трещины, запустил туда пальцы, носком левой ноги стал нащупывать какой-нибудь выступ, что-нибудь, от чего можно было бы оттолкнуться. Нащупал какую-то неровность – как вздутость на камне, – стукнул по ней ногой, чтобы проверить, насколько она прочна. Потом поставил на нее ногу, оттолкнулся, одновременно подтягиваясь на правой руке.
Я медленно поднялся с поверхности большого выступа, на котором стоял; лук, перекинутый через левое плечо, сдвинулся дальше на спину; мне пришлось больше полагаться на правую руку, чем на левую; вставил правое колено во впадину, потом поставил туда ногу. Укрепился в этом новом положении, как мог, и снова стал ощупывать скалу выше себя. Обнаружил небольшой выступ слева, двинулся к нему, дивясь тому, что делаю.
Скала была не такой крутой, как казалось снизу, но, возможно, поближе к верху она станет круче. Если я сорвусь, то скорее всего буду скользить вниз. А если упаду, то не в реку, а на большой выступ внизу. И когда я представил себе, как это будет происходить, это меня немного приободрило – хотя и не очень значительно. Я подобрался к выпуклости, перебрался через нее, уверенно поставил на нее левую ногу, а правой рукой нащупал что-то, что было похоже на корень, уцепился за него и посмотрел вниз.
Поверхность большого выступа, которая находилась подо мной метрах в трех-четырех, казалась бледным пятном. Я снова повернул голову к скале и перестал о нем думать; подтянулся вверх, опираясь коленями, нащупывая концами тапочек трещины и выступы. Когда это было возможно, я втирал носок в крошащийся камень, пытаясь, прежде чем переместиться в новое положение, найти опору для обеих рук и второй ноги. Некоторое время мне это удавалось, и моя уверенность в себе возросла. Часто мне удавалось найти то, за что можно было схватиться одной рукой; потом я отыскивал опору хотя бы для одной ноги; иногда я мог за что-нибудь ухватиться сразу двумя руками. Один раз было так, что только одна рука держалась за что-то, но держалась крепко, и я, поперемещавшись немного то в одну, то в другую сторону, подтянулся наверх, нашарив концом тапочка опору для ноги.
Поначалу постоянный поиск опор и трещин и интерес к тому, что я делаю, занимали меня настолько, что я ни о чем не думал. Но вскоре стал замечать, что отыскивать эти опоры для перемещения вверх становится все труднее и труднее. Мне стало казаться, что скала дрожит перед моим лицом и грудью. Я стал слышать свое дыхание, которое со свистом и гудением металось между мной и скалой. Стена становилась все круче, и каждый сантиметр продвижения вверх стоил мне невероятных усилий. В руках накапливалась все большая усталость, а икры ног уже не просто дрожали – они прыгали от напряжения. В какой-то момент я понял, что меня начинает одолевать искушение посмотреть вниз, хотя мне, как и всем, был прекрасно известен этот знатный совет: кому приходится взбираться на значительную высоту – не смотрите вниз и не оглядывайтесь. Во мне шевельнулась паника. Ее шевеление было еще не очень беспокоящим, но достаточным, чтобы ощутить ее присутствие. Я сосредоточился, призывая все оставшиеся резервы сил, – я надеялся, что мне, несмотря на сильную дрожь, удастся проникнуться более тонким, более глубоким пониманием и ощущением скалы. И я медленно, сантиметр за сантиметром, полз вверх. По мере того, как я взбирался все выше и выше, я ощущал все растущую нежность к этой каменной стене.
И все-таки я посмотрел вниз. Река лежала широким плоским пространством, залитым светом, заполняющим весь мир подо мной. По ее середине бежали гибкие, сворачивающиеся и разворачивающиеся пятна света, сливающиеся в холодное прыгающее пламя. Я висел на высоте метров двадцати пяти-тридцати над этим сияющим, всепроникающим великолепием, над этой сверкающей пропастью.
Я повернул голову назад к стене и приложил к ней губы, чувствуя, как она входит во все мои нервы, во все мускулы. Я обладал этой стеной в четырех случайно найденных точках, которые и удерживали нас – меня и скалу – вместе.
Наверное, как раз тогда я и стал подумывать о том, что, может быть, следует спуститься вниз, проплыть вдоль берега и попытаться найти более легкий подъем, и я даже опустил одну ногу немного вниз – в пустоту. И под ногой действительно ничего не оказалось. Нога отчаянно искала опоры, но находила только пустоту. Я подтянул ее назад и поставил на то же место на скале, где она была раньше. Носок теннисного тапочка вгрызся в податливый камень как живое существо, как зверюшка, копающая норку. И я снова полез вверх.
Ухватившись левой рукой за что-то – очередной небольшой выступ на скале, – я стал подтягиваться. Но сдвинуться вверх не смог. Я отпустил то, за что держался правой рукой, и сжал ее запястье левой; пальцы левой руки дрожали, готовые вот-вот сорваться. Носком одной ноги я упирался в ямку на поверхности скалы – вот и все, на чем я держался. Я взглянул вверх. Стена не давала мне больше ничего. Я вдавился в нее, но она меня уже не пыталась оттолкнуть. Исчезло нечто, на что я полагался до этого момента. Все, конец. Я еще висел, но чувствовал, что в любую секунду могу сорваться. Я устремлял все свои силы в пальцы левой руки, но они уже почти не слушались меня. Я находился на совершенно отвесном участке стены и понимал, что если мне не удастся преодолеть его немедленно, я не удержусь и полечу вниз, как отшелушившийся кусочек краски. У меня на этот случаи было нечто вроде плана: я решил, что мне нужно будет изо всех сил оттолкнуться от стены и постараться упасть в реку, в эту сияющую бездну со скрученными жгутами света и пролететь, по возможности, мимо большого выступа внизу, у подножия. Но даже если бы мне удалось упасть не на камни, а прямо в воду, у берега было достаточно мелко. И это было почти все равно, что упасть на камни. К тому же, во время падения мне надо было бы успеть избавиться от лука.
И я держался. После множества едва ощутимых перемещений мне удалось поменять руки в той трещинке, за которую я уцепился. Освободившейся левой рукой стал шарить по скале; руку мне сильно оттягивал вниз лук, висящий через плечо; я вспомнил кадры из фильмов, когда крупным планом показывают руку, в отчаянии пытающуюся до чего-нибудь дотянуться: через тюремную решетку к ключу, или из зыбучего песка к кому-то – или к чему-то, – стоящему на твердой земле... Но ничего я не нащупал. Я снова поменял руки и стал обшаривать стену вверх и справа от себя. И там ничего. Я отправил в поиски болтающуюся в пустоте ногу в надежде, что, если мне удастся нащупать мало-мальски надежную опору, я мог бы чуть-чуть податься сверх и продолжать обшаривать стену руками, но никакой опоры я не обнаружил, хотя искал коленом и носком ноги везде, куда только мог дотянуться, во всех возможных направлениях. Задняя часть левой ноги сильно дрожала. Подпитанные вредной энергией, источаемой все растущей паникой, мои мысли завертелись в безумном круговороте; моча в пузыре затвердела, и низ живота охватила сильнейшая боль, а потом моча вырвалась и потекла, давая почти оргазменное наслаждение, как это бывает в юности, когда снятся эротические сны – такое нельзя предотвратить, и такого не нужно стыдиться. Мне не оставалось ничего другого, кроме как упасть. Оставалась последняя надежда – надо немедленно проснуться.
Я терял последние силы, но злость еще удерживала меня на месте. Я бы предпринял что-нибудь отчаянное, но ничего отчаянного сделать не мог – я застыл в одном положении, будто прибитый к стене. И все же понимал: если рисковать, то это надо делать немедленно.
Я вогнал все те малые силы, которые оставались во мне, в мышцы левой ноги, и оттолкнулся вверх, насколько это было возможно – сильнее, чем это было возможно. Не находя руками ничего, за что можно было бы ухватиться, я сражался со стеной за все, что она могла дать мне. В какой-то момент я обеими руками одновременно шарил по стене, хватаясь за ничто, а потом, когда вдруг сообразил, что бью в стену кулаками, я приказал себе не сжимать руки в кулаки, а держать их все время раскрытыми. Я находился на участке стены, гладком, как пьедестал памятника. И мне до сих пор кажется, что какой-то очень краткий промежуток времени я висел у стены, ни за что не держась и ни на что не опираясь, удерживаемый от падения лишь силой воли.
Затем под пальцем безумно шарившей по скале правой руки появилась трещинка; я решил, что разорвал камень собственным усилием. Я тут же засунул в нес остальные пальцы и повис на этой руке, а другой тут же стал ощупывать стену – не имеет ли эта трещина продолжения? Трещина оказалась весьма значительной, и мне удалось засунуть пальцы обеих рук, вплоть до ладоней – и тут же из камня в меня начали вливаться новые силы. Трещина привела меня к горизонтальной расщелине; я подтянулся, как подтягиваются на турнике, чтобы достать до перекладины подбородком, и забросил в расщелину ногу. Потом втянул туда и все тело, что было самым сложным делом – всегда, когда мне приходилось куда-нибудь втискиваться, не ноги, а тело представляло самую сложную проблему. Я забился в расщелину как ящерица, однако полностью уместиться там не смог. Когда я втискивался в эту большую трещину, плоско распластываясь и наслаждаясь переходом из напряженного вертикального положения в расслабляющее горизонтальное, то почувствовал, как лук соскальзывает с плеча, потом по руке вниз, но в последний момент успел согнуть руку в локте и остановить его падение. Втащил лук к себе в расщелину – наконечники стрел оказались у самого горла.
16 сентября
Лежа в расщелине, как в каменной могиле, стиснутый с трех сторон камнем и открытый с одной стороны темноте ночи, я ни о чем не думал. Щека упиралась в плечо, рука сжимала знакомую прохладу стекловолокна. Прикосновение к изгибам лука вызывало чувство красоты – лук был гладок, прохладен, текуч, рядом с его изгибами жестко торчали ровные стрелы, – при малейшем движении я задевал за их оперение, наконечники меня слегка покалывали. Но боль от уколов была хорошей болью – она возвращала меня от нереальности восхождения по скале к реальности того, что мне еще предстоит сделать. Я лежал, отдаваясь камню, штаны были полны соками, излившимися из моего пузыря – не холодными и не теплыми, просто присутствующими. Думай, говорил я себе, думай! Но ничего из этого не получалось – пока не думалось. Хотя у меня еще было в запасе немного времени. Я закрыл глаза и произнес несколько слов – ив них, вроде бы, был какой-то смысл, но совершено неуместный. Насколько я помню, я говорил что-то о проекте рекламы, по которому у нас с Тэдом возникли споры, но уверенности в этом у меня нет. Я мог произносить и какие-нибудь другие слова, о чем-нибудь другом. Как можно теперь сказать наверняка?
Но кое-какие из сказанных тогда вслух слов я запомнил точно. Какой вид! Какой восхитительный вид! Но при этом глаза у меня были закрыты. Река текла в моем воображении. Я поднял веки и увидел в точности то же, что только что видел внутренним взором. Какое-то мгновение я даже не различал, что видел, а что воображал; между двумя образами – зрительным и мысленным – была такая схожесть, что как-то различить их не имело смысла: оба сливались в образ реки. Река вечным потоком заполняла мир; отражение луны в ней казалось невероятно огромным и отсвечивало так сильно, что было больно глазам – ив воображении свет был столь же ярок. Что? – сказал я. Где? Нигде, я только тут. Кто? Неизвестный. С чего начинать?
Можешь начинать с лука и понемногу возвращаться к жесткой реальности того, что еще предстоит сделать. Вспомни, что произошло, вспомни, что должно произойти. Я сжал лук изо всех сил, возвращаясь к осознанию того, что мне снова придется карабкаться вверх, снова рисковать. Но еще немного можно подождать. Пусть река побудет со мной еще немного. И пускай еще немного мне светит луна...
У меня есть лук, и у меня есть стрела, пригодная для стрельбы, и еще одна, которой тоже можно рискнуть воспользоваться, но только на небольшом расстоянии. Мысль о том, для какойстрельбы предназначены эти стрелы, выбросила во все мои жилы полную порцию адреналина. И я почувствовал, что становлюсь бестелесным. Как ангел. Это ли имеют в виду, когда говорят об ангелах? Может быть...
А еще у меня есть моток нейлоновой веревки и длинный нож, который приставляли к моему горлу и который убийца воткнул в дерево рядом с моей головой. Но он уже не торчит в дереве, он у меня на боку. И от того, что нож побывал в реке, он ничуть не затупился, и если бы мне захотелось этим ножом побриться, то я мог бы это сделать. Интересно, болит ли еще в том месте на груди, где эта лесная мерзость, этот невероятный подонок, провел моим ножом? Я попробовал грудь рукой – все еще болело. Замечательно, замечательно. Я готов карабкаться дальше? Нет, нет, еще не готов. Еще немного подожду. Хотя время уже поджимает.
Было легко себе сказать: не понимаю. И я сказал это. Но к чему, собственно? Надо просто еще раз четко уяснить, где я и что я на этой скале делаю. И я почувствовал себя значительно спокойнее. Я находился, насколько мог определить, на высоте метров пятидесяти над рекой, – и полагал, что если мне удалось взобраться так высоко, то оставшееся расстояние мне тоже удастся преодолеть, хотя скала от моей расщелины до верху выглядела более крутой, чем там, пониже. Надо посмотреть еще раз. Сейчас больше ничего не нужно делать. Просто посмотреть. И все.
Какой вид, сказал я снова. Река совсем обезумела от красоты. В ней не было ничего, кроме красоты. Я никогда не видел ничего красивее. Но красота эта не смотрела на меня, она созерцала все вокруг. А я созерцал реку, эту сияющую ледяную бездну, из которой приходил далекий речной шум, которая была равнодушна ко всему, где кружились крошечные вспышки отраженного лунного света, собираясь в длинные, гибкие полосы, насыщенные непостижимым значением. Что за всем этим скрывалось?
Только это потрясающее сияние. И в этом сиянии – только несколько камней, каждый как остров; вокруг одного из них обвернулась полоска ярко-красного цвета, будто очертив лицо, силуэт бога, эскиз рекламы, набросок, деталь дизайна. Эта полоска была такого же цвета, какой обычно появляется, когда из-под закрытых век смотришь на солнце. Камень трепетал как раскаленный уголек – он выглядел так, как я того хотел, зажатый в своих пульсирующих границах и очерченный тем, что пульсировало во мне. А может быть, он напоминал мое лицо – как на тех прозрачных фотографиях, которые подсвечиваются с обратной стороны. Мое лицо? А почему, собственно, нет? Я могу представить его так, как мне того хочется – пускай будет лицо в повороте в три четверти, обрамленное лунным сиянием, отражающимся в бездне. Может быть, выглядящее слишком позерски, слишком напыщенно, но совсем не такое, какое можно увидеть в зеркале, что бы оно там ни отражало. Мне казалось, что я вижу выставленную вперед челюсть, рот, вдыхающий воду и камень; может быть, какую-то улыбку... Я закрыл глаза, открыл их снова – и полоса вокруг меня исчезла. Но она была там, была. Я чувствовал себя лучше, я чувствовал себя замечательно, и в глубине этого чувства, в его сердцевине затаился страх, страх и предвкушение грядущего – и неизвестность: чем все это закончится?
Я повернул голову – повернулся к скале, к стене, к своему положению, пытаясь представить себе высоту скалы – насколько высокой она казалась при дневном свете? И оценить, сколько же мне еще предстоит карабкаться. Я решил, что наверняка преодолел уже по крайней мере три четверти подъема. А если стану во весь рост, упираясь ногами в край расщелины, где лежу, это даст мне еще метр два продвижения вверх, подумал я.
А действительно, почему не сделать так? Прямо надо мной небольшой выступ, и если мне удастся взобраться на него, кто знает, какие это откроет возможности? Я позволил своей руке выползти из расщелины и пропутешествовать по ее верхнему краю. Что ты даешь мне? – сказал я. То, что я нащупал, радовало. Было похоже, что смогу взобраться на выступ над этим краем – нужно будет двигать влево, а там – приготовиться к смертельному трюку к момента, когда смерть, в буквальном смысле, будет совсем рядом. Но о это ничего. За последние несколько часов я пережил много таких мгновений: мне приходилось принимать решения, которые могли привести к смерти, мне пришлось, спасаясь от смерти, хвататься пальцами за ничто, за шероховатости скалы, напрягать все мускулы, сражаясь с камнем.
А где Дрю? Он когда-то говорил – и это была единственная интересная мысль, которую мне удалось услышать от него, – что лучшие гитаристы – слепые: преподобный Гэри Дэвис, Док Ватсон, Брауни Макги. У них развилось особое тонкое чувство осязания, значительно более тонкое, чем у зрячих. У меня тоже развилось такое чувство, сказал я. Разве это не свершение – взобраться так высоко? И удалось мне это, в основном, благодаря чувству осязания – ведь я карабкался в темноте.
Интересно, Бобби и Льюис – все там, внизу? Льюис все так же втирает голову в песок? А Бобби сидит рядом с ним и думает, что очерченный тем, что пульсировало во мне. А может быть, он напоминал мое лицо – как на тех прозрачных фотографиях, которые подсвечиваются с обратной стороны. Мое лицо? А почему, собственно, нет? Я могу представить его так, как мне того хочется – пускай будет лицо в повороте в три четверти, обрамленное лунным сиянием, отражающимся в бездне. Может быть, выглядящее слишком позерски, слишком напыщенно, но совсем не такое, какое можно увидеть в зеркале, что бы оно там ни отражало. Мне казалось, что я вижу выставленную вперед челюсть, рот, вдыхающий воду и камень; может быть, какую-то улыбку... Я закрыл глаза, открыл их снова – и полоса вокруг меня исчезла. Но она была там, была. Я чувствовал себя лучше, я чувствовал себя замечательно, и в глубине этого чувства, в его сердцевине затаился страх, страх и предвкушение грядущего – и неизвестность: чем все это закончится?
Я повернул голову – повернулся к скале, к стене, к своему положению, пытаясь представить себе высоту скалы – насколько высокой она казалась при дневном свете? И оценить, сколько же мне еще предстоит карабкаться. Я решил, что наверняка преодолел уже по крайней мере три четверти подъема. А если стану во весь рост, упираясь ногами в край расщелины, где лежу, это даст мне еще метра два продвижения вверх, подумал я.
А действительно, почему не сделать так? Прямо надо мной небольшой выступ, и если мне удастся взобраться на него, кто знает, какие это откроет возможности? Я позволил своей руке выползти из расщелины и пропутешествовать по ее верхнему краю. Что ты даешь мне? – сказал я. То, что я нащупал, радовало. Было похоже, что я смогу взобраться на выступ над этим краем – нужно будет двигаться влево, а там – приготовиться к смертельному трюку к моменту, когда смерть, в буквальном смысле, будет совсем рядом. Но это ничего. За последние несколько часов я пережил много таких мгновений: мне приходилось принимать решения, которые могли привести к смерти, мне пришлось, спасаясь от смерти, хвататься пальцами за ничто, за шероховатости скалы, напрягать все мускулы, сражаясь с камнем.
А где Дрю? Он когда-то говорил – и это была единственная интересная мысль, которую мне удалось услышать от него, – что лучшие гитаристы – слепые: преподобный Гэри Дэвис, Док Ватсон, Брауни Макги. У них развилось особое тонкое чувство осязания, значительно более тонкое, чем у зрячих. У меня тоже развилось такое чувство, сказал я. Разве это не свершение – взобраться так высоко? И удалось мне это, в основном, благодаря чувству осязания – ведь я карабкался в темноте.
Интересно, Бобби и Льюис – все там, внизу? Льюис все так же втирает голову в песок? А Бобби сидит рядом с ним и думает, что ему делать? И голову обхватил руками? Сцепил зубы? Верит ли он в то, что нам удастся отсюда выбраться, несмотря ни на что?
Кто может на это ответить? Мы составили план действий – но это пока все, что мы смогли сделать. Если он не сработает, то, наверное, нас всех убьют. А если никто по нам стрелять не будет и если мне удастся благополучно спуститься отсюда, мы поплывем вниз по течению в байдарке, доберемся до Эйнтри, потом приедем домой, отдохнем несколько дней, чтобы прийти в себя, сообщим, что Дрю утонул. А потом вернемся к нашей обычной жизни – и незаметно состаримся. Но пока мы должны доиграть наши роли в этой пьесе до конца.
Я должен сыграть роль убийцы. Мне предстояло убить человека, может быть, двоих. А пока я лежу животом вверх, забравшись в расщелину в скале, высоко над рекой, в руках у меня холодное стекловолокно лука, и от меня зависит, как все будет разыгрываться дальше.
В своем воображении я уже представлял, что вылез наверх. Все разворачивалось, как в старинной кинокартине, в конце которой каждый получает по заслугам. Там, наверху, все заросло деревьями и кустами, – по крайней мере, так казалось снизу. Мне хотелось представить себе, что я буду делать, когда выберусь наверх, что-то конкретное. И лежа в расщелине, я стал раздумывать над тем, что мне нужно будет сделать в первую очередь – после того, как я окажусь, наконец, наверху скалы.
Я вынужден был признаться себе, что в глубине души не верил, что меня там подстерегает какая-то опасность, что человек, убивший Дрю, будет дожидаться всю ночь, чтобы утром снова стрелять по нам. Но тут вспомнил, что говорил Бобби. И меня снова охватило беспокойство. Я исходил из предположения, что так поступал бы сам, если бы был на его месте. Я снова все проиграл в уме и пришел к выводу, что был прав. У этого человека – кто бы он ни был – было значительно больше оснований убить всех нас, чем позволить нам убраться отсюда живыми. Мы все должны сыграть свои роли до конца.
Я повернул голову и, глядя в нависающий надо мной черный камень, сказал себе: когда я вылезу наверх, первое, что сделаю – не буду думать о Марте и о Дине; я не буду вспоминать о них, пока снова их не увижу. А потом я подойду к краю и осмотрюсь, хотя будет еще темно. После этого похожу вокруг, очень тихо, и буду высматривать его, вынюхивать его, словно какое-нибудь животное. Какое животное? Не имеет значения. Как змея. Важно лишь, чтобы меня не было слышно и чтобы мой укус был смертелен. Может быть, я смогу убить его, пока он спит. Это было бы самым легким, но смогу ли я действительно это сделать? Как это сделать? Выстрелом из лука?
Или ударом ножа из магазина спортивных товаров? Смогу ли я такое сделать, спрашивал я себя.
Хорошо, а как быть с моей предполагаемой прогулкой по ночному лесу? Если я отойду слишком далеко от реки и перестану слышать ее шум, я почти наверняка заблужусь. А что тогда? Идти по кругу? Какому кругу? Как ориентироваться? Как определять в ночном лесу, что идешь по кругу? По кругу,да еще и темноте,да еще о лесу?Я так не умею. И если я действительно заблужусь – тогда все пропало.
Но я вполне мог вообразить себя в роли убийцы. Наверное, потому, что у меня не было четкого осознания того, что мне действительно придется кого-то убивать. Но все-таки... Если он расположится близко к краю скалы – а ему так или иначе придется это сделать, – шум реки в стенах ущелья позволит мне подобраться к нему достаточно близко... ну, по крайней мере, на такое расстояние, с которого я смогу стрелять наверняка. Мне хотелось убить его точно так же, как Льюис убил того, другого: я хотел бы, чтобы он ни о чем не подозревал до того самого момента, когда вдруг почувствует страшную боль в груди и увидит стрелу, пронзившую его насквозь, попавшую ему в спину, прилетевшую неизвестно откуда.
А это будет весьма непросто, подумал я. В лесу, с болтающимися перед носом листьями, с неожиданными порывами ветра... Слишком рискованно, слишком много случайностей, которые могут все испортить... Нет, так не получится. Я понял это, и чем больше я думал, тем больше убеждался в том, что так ничего не получится.
Ну, тогда как, художественный руководитель? Что будешь делать, консультант по графике? Какой у тебя эскиз? Общая задумка такова: убить его выстрелом в спину, где-нибудь у края скалы. Почти наверняка он уляжется на землю, чтобы удобнее было вести стрельбу вниз, по реке. Когда человек готовится к стрельбе, он проходит несколько этапов сосредоточения. И когда он полностью сосредоточится, я попробую подобраться к нему метров на десять и постараться послать стрелу куда-нибудь под ребра – на таком расстоянии я вполне могу рассчитывать на мою неповрежденную стрелу и на высокую точность стрельбы... А потом развернусь и убегу в лес, сяду и буду пережидать какое-то время, пока он не умрет.
Что делать дальше, я себе пока не представлял. Все было уже предрешено, как это бывает во сне, но ощущение предрешенности возникало лишь потому, что реальность того, что должно было произойти, была еще очень далекой. Я находился приблизительно в том же расположении духа, как и тогда в лесу, когда отправлялся в тумане охотиться на оленя. Все, что я намеревался проделать, казалось правильным, но пока это происходило в моем воображении. И мне становилось не по себе, когда я думал о том, что, столкнувшись там, наверху, с человеком, вооруженным ружьем, мне придется проделать это все в действительности.
Я вдавился еще глубже в расщелину, чтобы получить от камня последнее одобрение, и тут же почувствовал, что расщелина меня начинает угнетать. Нужно было выбираться из нее и карабкаться дальше.
Я начал осторожно высовываться, и, приподнявшись на одном колене, расставил и поднял руки и ладонями стал ощупывать скалу над собой. Отклоняясь назад, я шарил по выступу над верхним краем расщелины. Справа – ничего не получится, и я с облегчением втянулся назад. Слева – расщелина, сужаясь до трещины, уходила за пределы моей досягаемости, и единственное, что мне оставалось – подняться во весь рост, опираясь ногами о нижний край расщелины и двигаясь вдоль нес. Я дюйм за дюймом передвигал ноги, медленно перемещаясь влево; пальцы ног быстро устали; я двигался вдоль трещины, цепляясь за ее край лишь носками тапочек. Но смог распрямиться – полностью, во весь рост. А потом, как это ни странно, по мере того как передвигался влево, даже, слегка согнувшись в поясе, наклониться вперед. Это было неожиданно и подействовало очень ободряюще – значит, стена здесь не отвесная! Прижимаясь к камню, я чувствовал его встречное давление. Я перенес тяжесть тела с концов пальцев и концов тапочек на колени и занял новую позицию. Начал червячными, извивающимися движениями перемещаться сначала влево, потом вправо. Подо мной по-прежнему сверкала бездна-река. Передвигался я очень медленно, потому что руки не находили достаточно надежных точек опоры, наконечники стрел постоянно впивались в меня. Но мне удалось достичь хоть и хрупкого, но почти идеального – или так мне казалось – баланса между силой тяжести и наклоном скалы, удерживающим меня от падения. Я находился в таком месте, где сила, влекущая меня, удерживающая на стене, уравновешивались в моем теле – и вторая получила даже небольшое преимущество. И я двигался дальше. Время от времени я ложился на скалу, обливаясь потом, теряя опору для ног, не находя, за что ухватиться руками. Резина на концах моих тапочек перегибалась, упираясь в камень, а руки с растопыренными пальцами прилипали к стене. Затем я начинал снова ползти вверх, сантиметр за сантиметром, совершая такие интимные телодвижения, каких не знал ни с Мартой, ни с любой другой женщиной. То, что я не мог позволить себе с человеческим существом, я отдавал стене; страх и какая-то невероятная чувственность, сверкающая не менее ярко, чем луна, поднимали, тянули меня вверх, миллиметр за миллиметром. И все же я не мог раствориться в луне, в реке, в камне, я продолжал оставаться в сфере человеческого. Я искал живое, золотистое пятнышко, как у той натурщицы, какую-нибудь веснушечку, что-нибудь трогательное в гигантском зареве луны, в змееподобных отражениях в реке...
Распределение темных пятен камня и неба надо мной изменялось, и в одном из этих пятен засветилась звездочка. По обеим сторонам этого крошечного источника света поднимались угрюмые тени камней, все такие же черные и непроницаемые, но их власть уже не была абсолютной. Мертвая поверхность камня, к которой я приник, стала все больше отклонятся от вертикали и устремляться уверенно к жизни, к проему между камнями, в котором мерцала звезда. И в котором, по мере того, как я приближался к нему, стали появляться другие звезды, оформляясь в созвездия, напоминающие корону. Теперь я уже мог ползти на коленях – на коленях! – лук царапал по камню рядом со мной.
Я полз и плакал. Почему? Не было никаких причин плакать, ведь мне нечего было стыдиться, нечего страшиться – я просто выбрался наверх по скале, и все. Но мне пришлось растянуться на скале и, часто моргая, очистить глаза от слез. Я приподнялся на локти и, как турист, осмотрелся вокруг. О Господи, Господи! Река, затуманенная и вспыхивающая острыми лучиками света в слезах, повисших на ресницах, плясала перед глазами, еще более прекрасная, чем раньше – из-за того, что казалась теперь совершенно недостижимой. Вот это вид, вот это да!
Но в конце концов нужно возвращаться к передвижению на коленях, которые лучше, чем какая-нибудь другая часть тела, приспособлены для карабканья по каменным стенам, отклоняющимся от вертикали под определенным углом. И я снова стал на четвереньки.
Мое продвижение было довольно болезненным, но я продвигался вперед и вверх. Мне приходилось ползти, но уже не нужно было заниматься любовью со стеной, не нужно было ее ебать, чтобы, освещенная лунным светом, она подарила мне пару сантиметров пути вверх; теперь между моими бедрами и камнем был большой зазор. Я мог бы даже – хотя и проявляя осторожность – лягнуть камень подо мной, и он бы меня уже не сбросил.
Мои ступни болезненно изгибались под разными углами, в разные стороны. Ведомый Бог знает какой интуицией, я продолжал карабкаться как некое существо, порожденное скалой и теперь возвращавшееся домой. Часто рука или нога съезжали, но обязательно натыкались на что-нибудь, мне уже знакомое, сами по себе, без моей помощи, цеплялись за выступ, и я полз и полз вперед и вверх. Стена уже ничего не могла со мной поделать, не могла ничего такого выкинуть, с чем бы я не справился, как говорят, в мгновение ока. Я неостановимо поднимался вверх.
Таким вот образом я выбрался на край стены и попал в какой-то миниатюрный каньон. Да, я вылез наверх и мог разогнуться и встать во весь рост. Хотя я почти ничего вокруг себя не видел, по ощущению мне это напоминало канаву, по которой я шел в тумане, охотясь на оленя. Под ногами – как замечательно было ощущать что-то подногами – было полно мелких и крупных камней, но я достаточно уверенно шел вперед. Стены расселины, по мере того, как я продвигался все дальше от края скалы, должны были бы опускаться, но они не опускались – зрительно они оставались на той же высоте из-за густых кустов и призрачных деревьев, росших по краям расселины. Деревья постепенно обретали плотность и осязаемость, их становилось все больше и, наконец, их ветви стали склоняться надо мной. Я вышел из расселины.
Я снял лук, висевший на сгибе локтя. Со мной было все, с чем я начал подъем; на боку висел нож, сообщавший своим присутствием, для чего может служить; моток веревки, который, может быть, ни для чего и не пригодится, а может, окажется для чего-то нужен. Я смотрел по сторонам, на пустоту, на красоту.
Взглянув вверх по течению реки, я увидел неровный, слепяще-белый треугольник порогов, которые нас вышвырнули из байдарок. А больше там нечего было высматривать, кроме непрекращающегося, почти бесшумного потока воды – течет себе и течет. Я отвернулся от реки и столько же времени, сколько смотрел на нее – или, по крайней мере, мне так казалось, – вглядывался в лес. Я подошел к соснам, росшим на твердой, ровной почве, прислонился лбом к стволу одного из деревьев, потом засунул между лбом и деревом руку.
Постоял, подумал. Куда теперь? Я вернулся к краю скалы, чтобы еще раз взглянуть на реку. По краю росли редкие деревья. Сквозь хвойные иголки я видел луну, освещающую реку, и почему-то впервые серьезно подумал о том, что скоро эта река исчезнет. Вода поднимется высоко, может быть, чуть ли не до того места, где я сейчас стою; река вздуется, выплеснется из своего русла; камни, в которых нам крепко досталось, покроются водой, уйдут в глубину; вода будет терпеливо, неостановимо подниматься вверх, выискивая каждый выступ, который меня вел наверх, а потом подберется к краю, к тому месту, где я стою в лунном свете. Я сел на холодный камень на краю скалы и посмотрел вниз. Мне представилось, что если бы я вдруг упал вниз, я мог бы, пролетая мимо скалы в этом буйстве лунного света, инстинктивно схватиться за что-то, и это удержало бы меня от падения; мне казалось, что из всех тех мест, в которых я мог бы погибнуть, эта скала не могла бы меня убить.
Мало-помалу я стал возвращаться к обдумыванию того, что мне предстояло сделать.
С этим решено. Дальше что? Мне нужно стрелять в него из засады, по возможности в спину. Но для этого нужно определить место, откуда он будет вести стрельбу. В этом придется полагаться не только на расчеты, но и на везенье. И мне нужно будет выстрелить в него, когда он полностью изготовится к стрельбе, когда будет полностью поглощен своей мишенью... но это сильно увеличит опасность того, что он может успеть выстрелить по Бобби и Льюису.
Я так долго и так усиленно думал о нем, что и по сей день считаю, что тогда, на скале, наши мысли слились. Не то чтобы я почувствовал, что становлюсь злодеем. Нет, мной овладело колоссальное физическое равнодушие, такое же огромное и бесчувственное, как все залитое лунным светом пространство вокруг меня; равнодушие по отношению не только к телу другого человека, который будет извиваться и корчиться на земле, пронзенный стрелой, но равнодушие и по отношению к моему собственному телу. Если бы Льюис не застрелил того, второго, этот человек и я испытали бы то, что называют физической близостью, для меня болезненную и ужасающую, а для него гадким образом приятную. Но так или иначе, мы стали бы единой плотью, там, на земле, в лесу, и думать об этом было очень странно. Кем он был, этот человек? Преступник, сбежавший из тюрьмы? Наемный рабочий с какой-нибудь фермы, отправившийся поохотиться? Бутлегер[8]?
Так как мне необходимо было найти место, с которого я мог бы обозревать реку – и чем больший отрезок реки я буду видеть, тем лучше, – чтобы определить, видна ли лодка тому, кто придет по ней стрелять, мне хотелось взобраться куда-нибудь повыше, но при этом не оказаться на виду. Для этого подошел бы какой-нибудь большой камень, недалеко от края скалы... а лучше всего – дерево. Я вспомнил, что когда в нашем штате только начала распространяться охота с луком на оленей, некоторые охотники-новички с первого раза успешно добывали оленей, стреляя с помостов, которые устраивали на деревьях. Ведь, кажется, никто из естественных врагов оленей не обитает на деревьях, и олени редко смотрят вверх. Я не собирался охотиться на оленей, но мысль была полезной. Вдоль края скалы росло достаточно деревьев. Но сначала нужно выбрать подходящее место, откуда хорошо была бы видна река.
Я двинулся вдоль обрыва, параллельно реке, перелезая через большие камни, попадавшиеся по пути. Поначалу я подумывал, что передвигаться будет трудно, но в действительности это оказалось не таким уж сложным делом. Камни были очень большими. Меня удивила та уверенность, с которой я прыгал с одной черной глыбы на другую; мне казалось, что я могу совершенно не опасаться неудачного прыжка. Дышал я еще с каким-то присвистом, и это было единственное, что время от времени беспокоило меня – в моем дыхании еще слышался отзвук паники. И создавалось такое впечатление, что дыхание мое никак не соотносится с тем, что делает мое тело. Мне понадобилось не меньше часа – а может быть, и все два, – чтобы поверху обойти пороги, тянувшиеся внизу, там, на реке. Когда, глянув вниз, я увидел, что лунный свет на поверхности уже почти не пляшет и отражение выровнялось и выгладилось, а рокочущий шум порогов остался позади, я понял, что добрался туда, куда хотел. Что делать дальше?
Все вокруг было усеяно глыбами камня, и за многими из них я мог бы надежно укрыться. Но мой обзор оказался бы очень ограничен. Я решил пройти еще немного вперед, параллельно реке, посмотреть, что там, а потом вернуться обратно – на то место, где сейчас стоял.
На этот раз передвижение мое было значительно более трудным: все было завалено расколотыми глыбами, между которыми там и сям торчали поваленные деревья, а в одном месте мне повстречалась каменная стена – как высокая, сама по себе выросшая из земли баррикада. И я решил, что перелезть через нее не смогу. Чтобы обойти ее, мне пришлось бы углубиться в лес метров на двадцать-тридцать, а делать этого мне не хотелось; с обеих сторон каменного препятствия росли молодые деревья. И с их помощью мне удалось взобраться на верх «баррикады», а потом соскользнуть на другую сторону. На всем пути продвижения вдоль реки я не терял ее из виду. И если только этот человек не решил бы расположиться на вершине того каменного препятствия, через которое я перебрался – но там обзор был ограничен и река едва просматривалась за плотной завесой листьев, – ему, как я понимал, придется расположиться у самого края обрыва. Чтобы видеть реку на достаточном протяжении и иметь возможность вести лодку некоторое время под прицелом. На том участке, который располагался над отрезком более или менее спокойной воды – япрошел его в обе стороны несколько раз, – я обнаружил лишь одно место, которое было бы для этого вполне подходящим. С одной стороны оно было отгорожено грудой каменных глыб, но, насколько я мог судить, подойти к нему со стороны леса было достаточно просто. На самом краю обрыва я обнаружил песчаный участок, в лунном свете он выглядел бледным пятном. Если лечь там, то можно будет прекрасно обозревать реку в обе стороны, а высокую, – не менее метра в высоту, – и густую траву, растущую по самому краю, можно будет легко убрать. Я решил, что лучшего места не найти. Насколько я мог судить, до ближайших домов и дорог было не очень далеко, но все же никаких выстрелов там, конечно, не будет слышно. Хотя чем ближе мы к жилью, к людям, тем менее вероятно, что он устроит пальбу. А если он не придет к этому месту, а отправится куда-нибудь дальше вниз по течению – Бобби и Льюиса можно считать мертвецами.
Да, если он выберет другое место, их можно считать мертвецами, мелькнула успокоительная, хотя и трусливая мысль. В конце концов, чем бы все это ни закончилось, я сделал все, что мог; если он придет не сюда, а засядет где-нибудь в другом месте, я смогу лесом выбраться к шоссе или к мосту через реку. Меня не очень пугала мысль, что, застрелив Бобби и Льюиса, он начнет охотиться за мной. Хотя и холодело под ложечкой, когда я представлял, как он неожиданно появляется на моем пути среди лесных зарослей и темной листвы. Но так как он не имел никакого представления, где я нахожусь (хотя почти наверняка помнил, что изначально нас в байдарках было четверо), для него один из нас вполне мог утонуть при прохождении порогов; в конце концов, мы действительно чуть не утонули. Моя жизнь, здесь, в лесу над ущельем, была в полной безопасности от нападения этого беззубого типа, если только мы не натолкнемся друг на друга по чистой случайности.
Другая опасность была значительно более реальной: что, если я выстрелю – и промахнусь? И от этой мысли у меня по спине побежал холодок, а язык перестал помещаться во рту. Я даже подумал – может быть, мне начать выбираться из леса прямо сейчас?.. Но что-то в глубине сознания подсказало мне, что я еще не выполнил – хотя бы для видимости – всего, что было задумано. Если Бобби и Льюису суждено умереть, я должен иметь возможность сказать себе, что сделал нечто большее, чем просто вскарабкался по стене ущелья и потом бросил их на произвол судьбы. Но если человек, которого я ожидал, не придет на то место, которое мне показалось наиболее подходящим – ну что же, это не моя вина. Я сделал все, от меня зависящее, чтобы найти и убить его. Я сознавал, что вероятность того, что я все правильно рассчитал и он явится именно сюда, была все же невелика. Просто ничего другого я уже не мог сделать.
* * *
В небе не было еще никакого света, кроме лунного. И в этом свете я видел, что вдоль края обрыва стоят низкорослые деревья, по земле разбросаны глыбы камня. Когда я повернулся в сторону леса, там царила полная тишина. Оказавшись среди деревьев, которые поглощали свет, я ничего не видел и мог продвигаться лишь на ощупь. Я выставил ногу вперед – ногой я мог достать дальше, чем рукой – и натолкнулся на что-то твердое. Я шагнул в ту сторону и тут же оказался среди веток и жестких хвойных иголок, напоминавших щетину животного. Я прислонил лук к стволу и взобрался на нижние ветви, которые оказались очень толстыми и растущими близко одна к одной. Потом полез выше и остановился лишь тогда, когда дерево стало раскачиваться под моим весом. Ветки и иголки очень ограничивали мои обзор; я видел мерцание света, исходившее от реки, которое теперь казалось в два раза дальше, чем когда я смотрел на него сквозь траву на краю обрыва. Я, наконец, пришел к выводу, что вижу участок реки там, где она, прорвавшись сквозь пороги, поворачивала и протекала мимо Бобби и Льюиса. И, успокоившаяся и разгладившаяся, затопленная лунным светом, теряла свой серебристо-полосатый вид.
Я слез вниз, взял лук и стал размышлять, что мне нужно, чтобы устроить засаду на дереве. Я никогда не стрелял с дерева – вообще не стрелял, ни по какой цели. Но вспомнил, как мне кто-то рассказывал, что при стрельбе с дерева следует целиться немного ниже, чем кажется нужным. Я думал об этом, пока обустраивался на дереве.
Я лез вверх и при этом будто инструктировал самого себя: где ухватиться этой рукой? Здесь? Нет, вон там будет лучше, или вот тут, пониже... Когда я залез достаточно высоко, я проделал окно в хвое, оборвав перед собой веточки с небольшими иголочками. Проделать это оказалось несложным – я срывал все, что находилось между моим лицом и отсветами, которые отбрасывала река. Когда я снова прислонился к стволу дерева, передо мной был тоннель, отороченный по краям мохнатыми ветками. Сквозь него я видел песок на краю обрыва. Я буду стрелять в эту дыру; в какой-то степени она даже будет помогать целиться. Обрывая ветки, я вдруг понял, что руководствуюсь совсем новым чувством осязания, которое, наверняка, у меня развилось, когда я карабкался, по стене ущелья. Мне казалось, что я могу определить точную форму и вес того, к чему прикасаюсь, и могу точно и сразу определить, сколько мне нужно затратить усилий, чтобы отодвинуть в сторону или оборвать мешавшую мне ветку. Осознание того, что я сижу на дереве, в темноте, что я жив, не разбился, карабкаясь вверх по вертикальной стене, что я срываю мохнатые ветки, ввергало меня в некое умственное опьянение. Мне было трудно поверить в реальность происходящего; никогда ничего подобного мне не приходилось переживать. Я раскрытой ладонью, очень нежно ощупал кору дерева, сорвал иголку, положил ее в рот, пожевал. У нее был нормальный вкус хвои.
Я немного передвинулся сначала в одну сторону, потом в другую, пытаясь определить, не удастся ли мне занять позицию получше или найти более широкий угол обзора для стрельбы. Мне не хотелось обрывать слишком много веток – мое дерево должно выглядеть естественно, в нем не должно быть ничего необычного, настораживающего; оно должно выглядеть так же, как и все остальные. Я добился того, что смогу стрелять по цели сквозь темный тоннель среди веток, и этого мне было достаточно. Менять свое положение при прицеливании я мог не больше чем на полметра влево или вправо. Чтобы мне удалось в этих условиях убить его, надо было, чтобы он думал так же, как думал за него я. Причем не приблизительно так же, а совершенно точно так же. Мой и его разум должны были слиться воедино.
Я достал непогнутую стрелу из ее гнезда в держателе на луке, ощупью поставил на тетиву, стал натягивать лук, крепко упираясь ногами в большие ветки; наклонившись немного вправо, чтобы ничего не мешало правому локтю, я натянул тетиву до отказа и замер. Насколько мог точно прицелился в расчищенный мною тоннель. В какой-то момент я подумал: не выстрелить ли в песок, чтобы проверить угол стрельбы? Но отогнал от себя эту мысль. Меня даже в пот бросило, когда я подумал, чем такой выстрел мог бы закончиться. И стал ослаблять натяжение, позволяя наконечнику уходить вперед. Облегченно вздохнул. И чуть было невольно не спустил стрелу. Если бы я это сделал, я мог бы потерять стрелу или повредить ее. И возможность выполнить то, ради чего я сидел на дереве, сократилась бы почти до нуля. Если, конечно, этот человек придет. Если.
Я устроился как можно удобнее и решил оставаться на дереве до рассвета; я должен быть неподвижен, меня не должно быть ни видно, ни слышно – для это я на дерево и залез.
Было очень тихо, реку почти не было слышно; грохот воды в порогах долетал до меня лишь как нескончаемый шорох, неясный, далекий шум, который смешивался с каким-то другим звуком, приходящим тоже со стороны реки, но ниже по течению. Я прислушался – должно быть, следующие пороги. Судя по звуку – может быть, даже небольшой водопад. Если это так, то шансы того, что я выбрал место правильно, должны были возрастать. Все, вроде бы, было очень логично. Но, несмотря на всю эту логичность, у меня не было твердой уверенности, что этот человек придет именно сюда. Значительно более вероятно, что я все рассчитал правильно. И теперь, хотя речь шла о жизни и о смерти, лишь исполняю то, что было ранее задуманным; однако я внутренне встрепенулся, когда подумал, что если все-таки угадал все правильно, мне придется совершить и последнее из задуманных действий: прицелиться из лука в человеческое тело и выпустить стрелу в тоннель хвои... раз и навсегда...
Пожалуй, мое положение скорее забавляло, чем пугало или беспокоило. Как-то по-идиотски забавляло. Вот я могу запросто протянуть руку и коснуться коры. А осознать, что я глубокой ночью сижу на дереве в лесу, выжидаю, готовлюсь убить человека, которого видел всего один раз в жизни, было значительно труднее. Никто во всем мире не знает, где я, подумалось мне. Я натянул лук немного сильнее, и стрела пошла назад. Кто бы мог такому поверить, сказал я про себя, кто?
Ожидание было тягучим. Я взглянул на часы – но река убила их. Голова у меня склонялась все ниже и ниже. И казалось, она хочет склониться до самой земли. Два или три раза я засыпал и тут же просыпался, но каждый раз делать это было все труднее. Один раз мне уже начало сниться, что я падаю – такой сон, наверное, когда-нибудь снится всем. Какое-то мгновение я не знал, что мне делать, за что хвататься, и просто отставил в сторону руку. Я выпрямился, уселся попрочнее и стал проверять, все ли на месте. На луке стрелы не было. Боже, подумал я, все потеряно! Своей искривленной стрелой я смогу подстрелить разве что дерево! Что я буду делать безоружный? Прижиматься к дереву, молиться, чтобы он не заметил меня, и беспомощно ждать, пока он не убьет Бобби и Льюиса? Я знал, что не смогу броситься на него с ножом, сколь бы неожиданным ни было мое нападение.
Было по-прежнему очень темно, даже, пожалуй, темнее, чем раньше. Я повесил лук на ветку и полез вниз. Стрела должна быть где-то на земле, наверное, торчком вверх... Но ее нигде не было. Я ползал вокруг дерева, по иголкам, покрывающим землю, всхлипывая от ужаса и отчаяния, ощупывая все вокруг руками, ногами, телом, всем, что у меня было, надеясь порезаться о наконечник – все что угодно, лишь бы найти стрелу.
Но она все не находилась. И тут я увидел, что темнота стала терять свою непроницаемость. Мне нужно было возвращаться на дерево. Может быть, когда посветлеет еще больше, я смогу немного подправить кривую стрелу? Но я знал, что даже если мне удастся это сделать, прежней уверенности в том, то я смогу попасть в свою цель, у меня не будет. А ведь, наверное, ни в чем другом, ни в каком виде спорта, ни даже в хирургии и гольфе не требуется такая уверенность в себе, как в стрельбе из лука.
Но все же мне удалось найти стрелу, которую я обронил – она торчала, воткнувшись в ветку, прямо под тем местом, где висел лук. И возможность осуществить задуманное снова стала грядущей реальностью: все части плана пришли в соответствие друг с другом, сомкнулись и окончательно оформились. У меня снова было все, что надо, чтобы привести план в действие. Я снял лук с ветки и занял позицию, из которой предполагал стрелять.
Хвойные иголки медленно пропускали первые проблески наступающего дня, и дерево начало излучать слабый свет, который, будто скрывающийся в хвое и теперь освобожденный, стекал внутрь ветвей, прямо на меня, и мне казалось, что я отражаю этот свет, отдавая его вовне. Я смотрел в проделанный в хвое тоннель, который уже не казался окруженным сгустком темноты, – я стал различать зеленый цвет иголок. Я открыл рот, чтобы дышать еще тише – боялся, что ноздря, одна или другая, наполнившись слизью, начнет свистеть и булькать.
Через некоторое время я уже хорошо различал все вокруг: каменистую почву под деревом, усыпанную иголками; все, что находилось между мной и песчаной площадкой на краю обрыва, отороченной высокой, неровной травой; площадка была метра три в ширину. Взгляд нырнул дальше, упал, как сорвавшееся тело, но не разбился, а мягко опустился на реку. Бобби пора бы уже отплывать – а через несколько минут может быть слишком поздно. Через несколько минут станет ясно, ошибся я или нет. И мы будем либо живы, либо мертвы.
А может быть, он, пока я искал свою стрелу, незаметно прошел мимо меня и занял где-то позицию для стрельбы? Узнать, так это или нет, было пока невозможно. И я, сидя среди мохнатых ветвей, мучительно ожидал выстрела, который вот-вот раздастся где-то вдалеке, в том месте, о котором я просто не мог и догадываться.
Но выстрелов не было. А свет все усиливался. Чувство того, что я полностью скрыт, невидим, начало умирать во мне, уходить из меня и из дерева. Если бы человек, который бы пришел на песчаную площадку, посмотрел в мою сторону, он наверняка увидел бы меня сквозь мой тоннель в хвое. И это могло произойти как преднамеренно, так и случайно. Как много зависит от случайности!
Я очень осторожно подвинулся, чувствуя себя каким-то существом, обитающим на деревьях; вытягивая шею и отстраняясь от ствола, насколько это было возможно, я пытался прибавить себе лишь метр обзора и высмотреть, не плывет ли уже байдарка.
Уголком левого глаза я уловил какое-то движение, и внутри у меня все застыло. Я повернул голову, но не резко, а медленно. Но я уже и так знал, знал, знал!
Я услышал, как у кого-то под ногой камень стукнул о камень, и увидел человека с ружьем, идущего к песчаной площадке; одна рука у него была засунута в карман.
Вот и все, подумал я, но у меня оставалась еще надежда, что он постоит и уйдет, а я останусь незаметно сидеть на дереве, и нелепую эту надежду мне никак не удавалось прогнать от себя. Азарт восхождения на скалу давно выветрился, и теперь мне хотелось только одного – жить. Меня било мелкой дрожью, хорошо, что стрела была на тетиве – сейчас мне бы вряд ли удалось ее там установить. Я взглянул на свои руки, держащие лук, увидел наконечник стрелы – заточенные части отличались по оттенку от незаточенных, и почему-то это уняло дрожь. Я снова поверил, что мне удастся сделать то, ради чего я забрался на это дерево, что мне удастся разрешить загадку жизни и смерти. Если он ляжет на песок спиной ко мне, я тут же выстрелю. Я сжал пальцы на конце стрелы, упирающейся в тетиву, сделал медленный вдох открытым ртом и, отклонившись к стволу, замер и стал напряженно ждать.
Он смотрел вверх по течению реки, держа оружие обеими руками, но на уровне пояса так, что казалось – он вовсе не собирается поднимать его и прикладывать к плечу. В его позе было нечто первобытно-грациозное, тело у него было расслабленным, наслаждающимся своей свободой. Если бы его удалось очень точно передать в рисунке, получилась бы невиданно красивая и убедительная фигура. Я хотел бы убить его, пока он стоит в такой позе. И мне страстно хотелось, чтобы на реке появилась байдарка Бобби, но никакой байдарки я не видел, и, судя по всему, этот человек не видел ее тоже. Он слегка передвинулся, и теперь только половина его была видна сквозь мой тоннель хвои. Подожди, пока он уляжется, сказал я себе беззвучно, – слова, казалось, приходили откуда-то из глубины горла, – потом стреляй по центру спины. Поставь себе такую задачу. Попытайся перебить ему хребет или, по крайней мере, если это не удастся, поразить что-нибудь жизненно важное.
Но он продолжал стоять; в нем не чувствовалось ни решительности, ни нерешительности – он просто стоял, и все. Часть его тела была открыта для стрельбы, но голова не была мне видна. Может быть, стрелять прямо сейчас? Он может вообще пропасть из поля зрения. Я напряг мускулы руки, чтобы проверить, насколько они слушаются меня. Стал понемногу оттягивать тетиву. Я смотрел прямо на него, а он снова немного переместился. Теперь он стоял ко мне боком, и стоило ему поднять голову и взглянуть в мою сторону, он бы тут же увидел меня. Я знал, что теперь мне придется противиться истерическому желанию выпустить стрелу. Такое желание возникает каждый раз, когда лук полностью натянут: хочется избавиться от стрелы и от напряжения, которое требуется, чтобы удерживать лук в нужном положении. Во мне росло это безумное желание выстрелить побыстрее и покончить со всем этим. Я стал проходить в воображении все сложные этапы подготовки к удачному выстрелу из лука, постоянно напоминая себе, что любая подготовка пойдет насмарку, если будет совершена ошибка в момент спуска стрелы. Пальцы правой руки должны быть расслаблены; но главное, чего следует добиваться – рука, держащая лук, должна быть совершенно неподвижна.
Человек казался чем-то озадаченным. Он смотрел то на реку, то себе под ноги – на песок и камень, проступающий кое-где сквозь него, – и каждый раз, когда он наклонял голову и его скрытое от меня лицо ныряло вниз, его взгляд явно уходил все дальше от реки и все ближе ко мне.
Я закрыл глаза, сделал вдох, но не полный, а на три четверти, задержал воздух. И стал наводить лук, миллиметр за миллиметром. Когда он занял то положение, которое мне приблизительно было нужно, я переключил внимание на мышцы и стал оттягивать тетиву. Спина раздавалась, черпая силы у дерева. Наконечник пополз к луку, стрела двигалась по направляющей и шептала мне что-то, принимая на себя неестественное напряжение моего тела. Но звук, который она производила, был слышен только нервам ладони левой руки. Я подтянул задние зазубрины наконечника плотно к луку и стал пальцами, ладонями, руками, телом прислушиваться к луку и стреле, проверяя, все ли в порядке, – я начал своего рода предстартовый отсчет времени.
Человек находился чуть-чуть в стороне от рамочки из нитей на тетиве – моего прицельного приспособления. Мне оставалось лишь слегка передвинуть лук – и он попадет в прицел. Проблема прицеливания на уровне «вправо-влево» будет, таким образом, решена. Останется последнее – спуск тетивы. Оранжевые нейлоновые нитки Марты и мишень были совмещены – человек вошел в оранжевую рамочку. Оставалась теперь вертикальная наводка, которая всегда представляет самую серьезную проблему при стрельбе сверху вниз. Ну и, конечно, спуск тетивы. Кончик стрелы был направлен в точку, расположенную сантиметрах в десяти под его ногами; стрелу я видел своим боковым зрением, а на человека смотрел прямо. Я подправил положение лука таким образом, что казалось, будто собираюсь стрелять ему в живот. Глядя сквозь тетиву – вдоль древка стрелы – и через узкую пещеру хвои, я видел стрелу, находящуюся в невидимой плоскости, которая пересекала человека посередине.
Мы теперь составляли некое единство. И чувство какой-то странной близости между нами усилилось после того, как я замкнул его в двойной рамке из окна в хвое и моего прицела на тетиве – и то и другое я создал для него сам. И я чувствовал, что теперь он никуда от меня не денется; мне оставалось лишь разжать пальцы правой руки, позволить стреле вырваться, а левой руке следовало оставаться неподвижной и принять на себя вибрацию лука.
Все было отлажено, все было так, как надо, и лучшего нельзя было и требовать. Я находился в удобной и прочной позе, наконечник не колебался и казался превратившимся в неподвижный камень. Полностью натянутая тетива давала мне какую-то преображающую силу, но одновременно вызывала и «истерику натянутого лука», состояние, которое губительно для некоторых стрелков из лука и благодатно для других – для тех, кто может совладать с ним и заставить работать на себя.
Я был готов – оставалось выполнить два последних пункта. Человек не двигался, стоял, слегка наклонившись, но теперь он был больше повернут ко мне, чем раньше – хотя и немного. Потом он вдруг пошевелился – незначительно, но резко, – и мне пришлось преодолеть инстинктивное желание спустить тетиву. Он копнул песок одной ногой, и я впервые увидел его лицо – увидел, что у него, оказывается, есть лицо. Вся моя тщательная подготовка к выстрелу стала разваливаться. Всеми своими мышцами, кишками, сердцем я старался сохранить все так, как было. Его глаза бегали по песку, камню, по реке все быстрее и быстрее. Они плывут! Как только из-за камней появилась байдарка, мои пальцы на тетиве немедленно разжались. Я не увидел, как стрела метнулась в воздухе; он, конечно, тоже не видел ее, но несомненно слышал, как зазвенела тетива. Я так долго держал лук полностью натянутым, что в момент, когда отпускал стрелу, мне казалось – левая рука, державшая лук, превратилась в камень. В тот момент, когда я спускал тетиву, мне показалось, что человек почувствовал мое присутствие и знает, где я нахожусь. И я испугался, что моя сосредоточенность тут же рассеется. Почти так и случилось, но не совсем – сосредоточенности осталось достаточно. Прицел был взят правильно, и если левая рука не подвела, я должен был в него попасть.
Что произошло затем, для меня до сих пор остается загадкой. Дерево вздрогнуло и загудело, будто по нему сильно ударили топором, и лес вокруг меня, такой до этого момента тихий, наполнился каким-то невероятным гулом. А в следующее мгновение ствола дерева рядом со мной уже не было. Не было и лука. Большая ветка схватила меня за ногу, явно намереваясь ее оторвать. Я летел мимо ствола, спиной вниз, потом головой вниз, и что-то меня хлестало и толкало живыми, пружинящими толчками, будто руками. И сейчас я могу утверждать, что, падая, я проверял, расслаблены ли пальцы левой руки, были ли они расслаблены должным образом в момент выстрела – и убедился в том, что с пальцами было все как надо.
Но я был занят в полете не только этим: я пытался повернуться так, чтобы не удариться головой о землю, и уже, насколько помню, начал разворачивать тело – но полностью этого сделать не успел. Меня ударило сзади, и я услышал звук, похожий на треск рвущейся простыни. Подо мной что-то вмялось и сломалось – и я лежал на земле, дыхание из меня вышибло. Я чувствовал, что где-то, в каком-то месте я себе что-то сильно повредил. И тут раздался выстрел. Я не мог вскочить на ноги и стал, цепляясь руками за все что попало, отползать в сторону; за мной что-то волочилось. Снова прогремел выстрел, потом еще и еще. От дерева отскочила ветка, но выше того места, где находилась бы моя голова, если бы я стоял во весь рост. В этой стрельбе было нечто странное – это я смог определить даже несмотря на то, что был оглушен. Я поднялся на одно колено, потом из этой позиции – на ноги, и, пригибаясь и подпрыгивая как ворона, бросился за близлежащую груду камней. Скрывшись за ней, я не высовывался. Грохнул очередной выстрел. Потом я медленно поднял голову над глыбой.
Человек брел, спотыкаясь, к тому дереву, на котором я сидел несколько секунд назад. В тот момент, когда я выглянул, он находился от дерева метрах в четырех, пытаясь поднять винтовку, которая никак не поднималась. Выглядело это так, будто он возится с чем-то очень длинным, вертлявым – вроде шланга. Он выстрелил еще раз, но выстрел ушел в землю, в метре перед ним. Верхняя часть его груди была залита чем-то темным; он таял и оседал, и я увидел стрелу, болтающуюся у него в спине, чуть пониже шеи, стрела была полностью окрашена красным. Она, очевидно, пройдя его насквозь, зацепилась на нем лишь самым концом, тем местом, где находится выемка для тетивы; теперь она легко по всей своей длине вздрагивала при каждом его движении. Человек осторожно опустился на колени; рот открылся, и из него полилась кровь. Было такое впечатление, что она фонтаном бьет из земли, прямо ему в рот, – в ней был напор жидкости, под давлением вырывающейся из недр. Это напоминало родник, который вдруг забил – после того, как был резко сдвинут запиравший его камень. Умирай, молил я, умирай. Боже мой, умирай, умирай! Умри наконец!
Я, соскользнув с каменной глыбы, завалился на правый бок и вытянулся на камнях, прижавшись к ним щекой. Что это со мной, спросил я себя, когда камень под головой стал важно и тяжело поворачиваться, будто собирался подняться с земли. Я повернул голову и, посмотрев на свой левый бок, увидел, что стрела, та, вторая, искривленная, торчит из меня, а с нее свисает поломанный лук; стрела не полностью вышла из держателя на луке и этим его удерживала при себе.
Я наклонил голову – и ушел. Куда? Я с облегчением устремлялся вдаль; я смутно видел себя самого, переворачивающегося в воздухе, исчезающего в тумане, машущего рукой на прощание...
А потом – ничего.
А потом – опять ничего, но уже другого рода, и из этого другого ничто я поднял голову и в удивлении осмотрелся. Прямо передо мной – впрочем, на некотором расстоянии – на четвереньках стоял какой-то человек, которого рвало кровью. Если бы не кровь, то это выглядело бы так, как будто он, приняв в гостях у друга немного лишнего, отправился в туалет и, стараясь ничего не испачкать, аккуратно наклоняя голову, потоком блевотины метит в унитаз. Я снова опустил голову на камень и опять провалился куда-то.
* * *
В тех местах, куда я отправился, стало не хватать воздуха, и я вернулся. Мое дыхание наталкивалось на твердый камень, и мне было трудно дышать. Я поднял голову, потом веки – но человека, стоящего на четвереньках, глаза не увидели. Я, наверное, так бы и оставался лежать там вечно, если бы не это загадочное исчезновение – это оно заставило меня окончательно очнуться и что-то предпринять.
С большим трудом я приподнялся и стал осматривать себя самого. Стрела вошла в плоть моего бока сантиметра на три – но шла онине вглубь, а внутри тех жировых отложений, что уже стали накапливаться из-за возраста и сидячего образа жизни. Мне нужно было либо разрезать кожу и вытащить стрелу, либо протолкнуть ее дальше – с тем, чтобы наконечник вышел наружу. Стараясь быть максимально осторожным и не делать лишних движений – и все же при каждом движении у меня внутри все сжималось от боли, и мне хотелось выть и звать на помощь, – я оборвал оперение. А затем, сцепив зубы, стал проталкивать ее сквозь себя, надеясь, что наконечник выйдет наружу и я смогу вытащить всю стрелу. Стрела продвигалась, но медленно; я подумал о всей той краске, которая облезает со стрелы и остается в ране, но избежать этого все равно никак не удалось бы. Я облизал пальцы и обмазал древко слюной, надеясь, что такая смазка поможет. Поначалу действительно помогла, но потом стрела перестала поддаваться моим усилиям, остановилась, и больше сдвинуть ее я не мог. Я чувствовал – еще одно небольшое усилие и я потеряю сознание.
Я вытащил нож из ножен, обрезал нейлон комбинезона вокруг рань; и взглянул на свой бок. Просто взглянул, и все. Но смотреть оказалось более пугающим и болезненным, чем проталкивать стрелу сквозь себя с закрытыми глазами. Наконечник вспорол кожу и тело – он был сконструирован так, чтобы наносить именно такие раны – и вошел в меня; он был во мне.Когда я попытался снова сдвинуть стрелу с места, тело вокруг древка дернулось, рана приоткрылась жалостливо, как ротик. Я приложил нож к телу немного выше раны – место, куда вошла стрела. Режь сверху вниз, сказал я вслух. Режь так, чтобы вытащить наконечник, а рану промоешь потом в реке. Так будет лучше, парень, чем оставлять стрелу в боку.
И я резанул. Внутри все прыгнуло от боли, меня затошнило, но я резал все глубже. Лес, воздух завертелись вокруг меня, а со всех деревьев прямо мне в лицо ринулись черные бескрылые птицы. Я перевернул нож изогнутой стороной лезвия к ране и нажал на него обеими руками. Почувствовал, как лезвие заскрипело по металлу стрелы. Все, сказал я себе, больше не могу. Не буду больше себя резать, даже если мне придется, ухватившись за древко, просто выдирать стрелу из себя. И пусть при этом я разорву себя надвое. Камень подо мной был залит кровью. Я ощупал разрез, чтобы определить, оголилось ли древко. Нож выпал из руки и звякнул о камень. Я потянул за стрелу, и в ране что-то изменилось. В следующее мгновение окровавленная стрела оказалась у меня в руках, а из бока потекло, полилось на камни. Все еще держа стрелу в руках, я сначала согнулся, прижимаясь к камням, а потом поднялся на ноги.
Такого чувства свободы, освобождения еще никто никогда не испытывал. Сами по себе боль, кровь уже были свободой. Я поднял нож, отрезал один из рукавов – весь рукав, прямо от плеча – и затолкал нейлон в рану; затем отрезал от правой штанины длинную полосу и обвязал себя вокруг талии. Во мне все ныло и все пело. И мысли мои подчинились этим двум состояниям. Смогу ли я двигаться? Сможешь – ведь тебе ничего другого не остается.
Идти было неудобно и странно; я шел как-то боком, но передвижение оказалось возможным. Я подошел к краю обрыва; стена в этом месте была почти вертикальной. Байдарки я не увидел – должно быть, она уже давно проплыла мимо. Ну что ж, плохо, но ничего не поделаешь. Я подожду немного, попытаюсь найти человека, которого подстрелил, закопаю его или попробую избавиться от него каким-либо другим способом. А сам буду думать, как отсюда выбраться.
Я вернулся к тем камням, на которые пролилась моя кровь, и забросал кровавые пятна песком и землей – если мне и удалось присыпать все следы, то, по крайней мере, кровь не блестела так ярко. Больше своей крови я не намеревался оставлять в этом лесу – все остальные кровавые следы должны уже быть не моими.
Я пошел к тому месту, где некоторое время назад стоял и ползал подстреленный мною человек. Кровью были забрызганы многие камни, а в том месте, где он изрыгал кровь потоком, ее была целая лужа. Я посмотрел в сторону леса и стал припоминать – что я знаю об охоте на оленей с луком и стрелами. После того, как олень ранен стрелой, нужно подождать с полчаса, а потом следует отправиться на поиски, выслеживая его по следам крови. Сколько времени прошло с того момента, когда я выстрелил из лука, я не знал. Но судя по тому, что я успел увидеть, раненый не мог уползти далеко. Он должен быть где-то совсем близко. Я опустился на четвереньки и пополз по следам крови.
Там, где кровь капала на песок, ее следов почти не было видно – песок ее тут же поглощал. И я сразу понял, что все, что с ним происходило – если мне вообще удастся это выяснить, – расскажут мне только камни. Он двигался в сторону леса – а куда еще он мог бы ползти? Когда следы крови это подтвердили, уверенность, что я быстро найду его, окрепла. Я двигался от камешка к камешку – они сообщали мне направление движения.
У первых деревьев я нашел многозарядную винтовку, которая казалась плоской, длинной, совсем неуместной среди сосновых иголок. Я не стал ее трогать и взял в руку нож. Я по-прежнему двигался на четвереньках; там, где я останавливался, высматривая следы его крови, с меня скатывались капли собственной. Один раз мне даже пришлось немного вернуться назад и отыскать его следы – я не мог различить, где была его кровь, а где моя. Кровь из моей раны стекала на живот, заливала ткань комбинезона в разных местах и капала на землю. Но никакой слабости я пока не ощущал. Интересно, сможет ли кровь вообще свернуться в такой большой открытой ране? Часть моего бока почти потеряла чувствительность. С тех пор как я вырезал из себя стрелу, я стал прижимать к тому месту локоть и делал это уже рефлекторно; казалось, я всю жизнь только так и передвигался – с локтем, крепко прижатым к боку. Я решил, что еще какое-то время продержусь, а далеко не загадывал. Меня интересовал лишь следующий камень на моем пути: моя или не моя кровь на нем?
В лесу передвигаться было сложнее. Там было еще темно, но следы крови я различал, а когда ее не видел, то мог определять на ощупь. В некоторых случаях я даже находил ее по запаху. Я попытался снова – в последний раз – думать так, как думал подстреленный мною человек. Я попал ему прямо по центру груди, где-то у самого основания шеи, а может быть, даже в самую нижнюю часть шеи. Он умирал, у него уже не было оружия; возможно, стрела перерезала ему яремную вену. Единственное, что меня беспокоило: не полз ли он в какое-нибудь определенное место, или – что еще важнее – к кому-нибудь, кто ожидает его где-то в лесу? Я считал, что это очень маловероятно, но полной уверенности у меня не было.
И мне обязательно нужно было его найти. Если не я, то кто-то другой мог наткнуться на него, и если такое случится, нам всем конец, в том или ином смысле. По меньшей мере, придется что-то объяснять, давать показания, ходить в суд, нанимать адвокатов – в общем, тогда на нас обрушится все то, чего мы пытались избежать, когда Льюис убеждал нас закопать тело в лесу, в лопухах...
В лесу я передвигался уже на ногах, но с высоты моего роста мне было трудно различать следы крови, и я снова опустился на четвереньки. Я двигался как собака по следу, держа нож в зубах, продираясь сквозь кусты. Наконец, я выбрался на поляну шириной метров в пятьдесят. Шум реки здесь был почти не слышен – до меня доносилось лишь далекое, невнятное бормотание, и с каждым новым листочком, который оказывался между мною и рекой, оно все больше приглушалось.
Я потерял след, крови не видел. Голова не поднималась; я чувствовал дурноту, хотя особой слабости при этом не ощущал. Главная проблема заключалась в том, что я не мог ясно мыслить. Но я знал, что мне обязательно нужно снова отыскать следы его крови – иначе все будет потеряно.
Я поднялся на ноги и вышел на середину поляны. Смертельно раненый человек не будет продираться сквозь кусты. Если он ползет в каком-то определенном направлении, то будет стараться двигаться по открытым, не заросшим кустарником местам. Но даже если он ползет куда глаза глядят – все равно будет стараться избегать чащи. Его здесь, на поляне, нет. Проползал ли он здесь вообще? А если да, то по краю или прямо по центру? А мог ли он вообще двигаться прямо? Я пошел к дальнему краю поляны, собираясь осмотреть каждый листик на каждом кусте; стал медленно переходить от одного куста к другому. Кругом пробивались лучи восходящего солнца; пятнышки света нервно шевелились на усыпанной иголками земле; какое-то место удостаивалось, по непонятной причине, яркого освещения, а потом, когда ветер слегка раскачивал верхушки деревьев, пятно света немного перемещалось в сторону. Когда я уже обошел половину поляны, двигаясь по ее краю, один из солнечных лучей прыгнул в сторону, что-то высветив. Это был камешек, размером с теннисный мячик, – он выглядел так, будто его в спешке выкрасили, и целую минуту я соображал (а голова у меня становилась все тяжелее), что бы это могло значить. На этот раз я был уверен, что окрасила его моя кровь. Ты тут не проходил, повторял я себе сквозь зубы, все еще сжимавшие нож, тебя здесь еще не было. И я направился к красному камешку.
Наверное, в том месте он потерял всю ту последнюю кровь, которая позволяла ему хоть как-то двигаться. Через несколько шагов вглубь леса от поляны я обнаружил кровь на листьях у самой земли – наверное, он припадал тут к земле. Я подумал, не опуститься ли и мне на четвереньки и снова, по-собачьи, начать обнюхивать кровь. Но вероятность того, что он тоже где-то ползет на четвереньках, заставила меня предпочесть вертикальное положение. И я остался стоять, хотя и согнувшись и прижимая локоть к ране, будто опирался на нее, удерживая свою собственную кровь.
Я взглядом прошелся по земле, покрытой листьями, иголками и камнями. И метрах в двадцати увидел нечто, тюком лежащее у подножия мертвого дерева. Это мог быть куст или большой камень – но с первого взгляда я понял, что это ни то, ни другое. Это нечто не двигалось – пятна света бегали по нему, и оно казалось не полностью неподвижным, а одушевленным, в том же смысле, как и все остальное з лесу кажется одушевленным. Я подошел к нему совсем близко. И это нечто оказалось человеком, лежащим лицом вниз, ухватившимся за один из корней мертвого дерева. У него были длинные, тонкие и грязные пальцы, вся его спина была залита кровью. Некоторое время я стоял неподвижно – не мог заставить себя взяться за то, что мне теперь предстояло сделать. Его мозг и мой разъединились, распались, и в каком-то смысле мне было жаль, что он ушел от меня. Никогда раньше мне не приходилось решать проблемы жизни и смерти подобным образом; срастаться мыслями с другими мне не придется. Я просто стоял над ним, без движения, смотрел на него и дышал сквозь нож.
Между той позой, в которой он лежал, и теми, в которых я его видел, когда он был еще жив, не было ничего общего. Но потом я вспомнил ту позу, в которой он стоял у обрыва, когда мне больше всего хотелось убить его. И теперь у него был такой же спокойный, расслабленный вид; казалось, ему очень нравится лежать здесь, особенно в лесу, необходимой, составной частью которого он был.
Я ногой перевернул его, и рука, ухватившаяся за корень, перевернулась ладонью вверх; пальцы так и остались скрюченными, будто все еще держались за корень. И теперь я смог, наконец, рассмотреть его лицо.
Я рухнул на землю, нож отлетел в сторону. Сердце съехало куда-то вбок и стало биться так, что, казалось, хочет загнать кровь куда угодно, только не туда, куда нужно. Я закрыл лицо руками – я обезумел от ужаса. Я не мог заставить себя взглянуть на его лицо еще раз... Открытый рот был полон зубов...
А может, мне померещилось? Я пополз к нему, подобрав нож. Засунул ему нож в рот и ковырнул зубы у десны. И оказалось, что у него вставная челюсть – она немного сдвинулась под нажимом. Значит ли это, что это все-таки тотчеловек? Достаточно ли этого свидетельства? Я рукояткой ножа загнал вставную челюсть на место и стал внимательно рассматривать убитого. Он был одет так же, как и тот,беззубый тип, но точно ли так – я не мог бы утверждать с полной уверенностью. Во всяком случае, очень похоже. Он был на вид такого же роста, таким же тощим и отвратительным. И хотя все происшедшее там, у лодок, на поляне, въелось в мою память, как выжженное тавро, тогда я наблюдал его совершенно в ином состоянии, чем теперь. Думаю, что если бы я увидел его так близко в движении, я бы тут же определил, тот это человек или нет. Но он не двигался, и я не мог сказать: тот или нет. И до сих пор не могу.
Я крепко сжал нож в руке. Что делать с ним? Все что угодно. И никто этого не увидит. Никто об этом никогда не узнает. Можно делать с ним все, что захочется, и ничего в этом не будет слишком ужасного. Я могу отрезать ему половые органы, те самые, которые он вчера хотел использовать, чтобы совершить надо мной насилие. Или – я могу отрезать ему голову, глядя при этом прямо в его открытые глаза. Или – могу съесть его. Я могу сделать с ним все, что захочу. И я стал терпеливо ждать – какое желание придет ко мне; что оно мне скажет, то и сделаю.
Никакого определенного желания не приходило; вокруг меня сгущался первобытный ужас, отсвечивая рефлексами на лезвии ножа. Я начал петь. Я пел популярную тогда песню в стиле фолк-рок. Я закончил пение и почувствовал, что ужас немного отступил. Я встал на ноги и выпрямился насколько мог.
И тут же на меня нахлынуло осознание всего того, что мне предстояло сделать. Я бы предпочел тащить его по земле, а не нести на себе, но догадывался, что если буду волочить его волоком, это займет намного больше времени. Поэтому я вставил нож в ножны, опустился на одно колено, взвалил его на плечи так, как учили меня делать в лагерях бойскаутов, когда нас инструктировали в оказании помощи пострадавшим во время пожара. Поднялся на ноги, почувствовал, что стал вдвое тяжелее, и двинулся через поляну. Обошел камень, который привел меня к убитому, продрался сквозь кусты, через которые немного раньше прополз в поисках подстреленного мною человека, и, шатаясь, направился к обрыву. Я чувствовал, как мой бок и левая нога постепенно увлажняются, потом вроде бы высыхают, потом снова становятся мокрыми. Тело убитого старалось загнать меня в землю, и у меня было ощущение, что если я сброшу его с плеч, я тут же, освобожденный от веса, взлечу. Пробираясь сквозь кусты, я вовсе не был уверен, что мне удастся дойти до обрыва. Деревья медленно расступались передо мной, ветви хлестали по лицу и раздвигались и, наконец, впереди, метрах в двадцати, я увидел, что деревья расступаются и открывается спокойное, наполненное солнечным светом пространство. До меня снова стал доноситься уже хорошо знакомый мне шум вечности.
Я опустил его на землю почти точно на то же место, где он стоял, когда моя стрела поразила его. Подошел к обрыву. Сначала я посмотрел вниз по течению – я боялся посмотреть вверх и обнаружить там все ту же пустоту. Но даже глядя вниз по течению, я уже знал, что пустота вверх по течению чем-то наполнена; в ней было нечто – как пятнышко на чистом листе. Я повернул голову – я должен был удостовериться, увидеть невозможное, – байдарка Льюиса сверкала на солнце, сверкала открыто и призывающе, двигаясь, как серая форель, выплывающая из камней. Я взглянул на убитого. Ты уже мертв, Льюис, сказал я, обращаясь к мертвецу. Ты и Бобби уже мертвы. Вы отплыли слишком поздно, вы сделали все неправильно. Мне следовало бы взять эту винтовку и выбить твои сраные мозги, Бобби! Ты вонючая жопа, Бобби, годная только на то, чтобы срать! Ты жирное ничтожество, Бобби, приспособленное только для игры в гольф в своем засраном клубе! Ты бы уже сдох – тебе нужно было бы сдохнуть, Бобби, как раз бы сейчас по тебе бы начали стрелять. Ты прекрасная мишень, ты плывешь медленно, ты сидишь так, что по тебе невозможно промахнуться. Если бы я не залез сюда и не сделал бы то, что сделал, ты плыл бы по воде брюхом вверх, с выбитыми мозгами, из тебя сочились бы остатки твоей крови... и Льюис, такой же мертвый, плыл бы рядом с тобой.
Я вернулся к винтовке, подобрал ее, и мое взвинченное, полубезумное состояние усугубилось, как только я прикоснулся к ней. Я подошел к обрыву, прицелился. Прицел упирался Бобби прямо в грудь. Давай, стреляй, сказал мертвец. Давай, давай, смотри, так здорово будет в него пульнуть. Но я отогнал от себя этот вой в голове – просто разжал пальцы и уронил винтовку на песок. В какой-то момент я действительно подумал, не выстрелить ли мне в воздух, чтобы привлечь внимание Бобби. Но я отшвырнул от себя и эту мысль, ведь звук выстрела наверняка напугал бы его; он мог бы тут же прыгнуть в воду, перевернув байдарку. К тому же, мне не хотелось прикладывать эту штуку к плечу снова. А искушение было велико – еще чуть-чуть и я бы выстрелил. И не в воздух. Нев воздух.
Я взял винтовку за ствол, раскрутил над головой и швырнул как можно дальше. Винтовка, тяжело вращаясь, полетела вниз, потом перешла в простое падение, медленно переваливаясь из стороны в сторону, и, наконец, ударилась о воду метрах в пятидесяти от байдарки. Я надеялся, что Бобби увидел ее падение и успел рассмотреть, что это винтовка, и понять, что дело сделано – мы в безопасности. Винтовка, падающая с неба, уже не могла выстрелить.
Сразу же после того, как она упала в воду, Бобби вытащил из реки весло, но не посмотрел вверх. Я вложил в рот большой и указательный пальцы и свистнул как мог громче; свист получился пронзительный, высокого тона. Но мне показалось, что свист мой, зажатый между стенами ущелья, все-таки затерялся в шуме реки. Я взобрался на самый большой камень у края обрыва и стал во весь рост. Потом я сообразил, что нужно не просто стоять, а как-то двигаться – может быть, повторять движения упражнений, которым меня учили еще на уроках физкультуры в школе. Ничего другого, что предполагало бы столько же движений руками и ногами, я не мог придумать. Мне казалось, что сейчас я развалюсь на куски, но я продолжал, приплясывая, размахивать руками. Наконец, Бобби взглянул наверх, и пустое пятнышко его лица осталось поднятым в мою сторону. Я дернулся еще раз, теннисные тапочки скрипнули по камню, рана рванула за бок, но радость приглушила боль – Бобби узнал меня. Я показал рукой – подгребай сюда, к скале, прямо подо мной. Он поднял весло, а потом медленными гребками с правой от себя стороны стал разворачивать байдарку к подножию скалы, на которой я стоял.
Я подошел к убитому, который валялся на боку – одна нога согнута, – и перевернул его на спину. Он лениво закинул голову и уставился в небо. В один глаз, когда я его тащил, наверное, ткнула какая-то ветка, и теперь он был замутнен, как жидкость, в которую налили грязного молока. А второй оставался чистым и голубым, покрытым изящным и необычным рисунком кровеносных сосудиков. Я увидел себя в этом глазу – крошечная фигурка, склоняющаяся над ним, растущая в размерах.
После того, как я тащил его на своих плечах, я мог прикоснуться к нему еще раз без внутренней борьбы. Я мог бы даже порыться в его карманах. Хотя меня по-настоящему и не интересовало уже, кто он такой, я подумал, что можно все-таки попробовать выяснить, кто же он, – может быть, это мне могло понадобиться в будущем. Я залез в один карман и вывернул его наружу – в нем оказалась какая-то пуговица, холодным кружком легшая мне на руку. В другом я нашел пять патронов большого калибра, и еще маленькую прямоугольную картонку, с отпечатанными на ней буквами – вроде визитной карточки. Мне пришлось разогнуться и повернуть карточку к свету, чтобы прочитать, что на ней было написано. Стоувэлл, почетный помощник шерифа графства Хелмз штата Джорджия. Это меня несколько обеспокоило, но не сильно; я вспомнил, что Льюис когда-то рассказывал мне, что в этих горах все – или почти все – были «почетными помощниками шерифа». Теперь меня беспокоило другое: если его посчитали достаточно заметной личностью, чтобы выдать такую карточку – или даже если кто-то просто дал ему свою карточку, – он, вероятно, был, как говорят, «человеком, хорошо известным в различных кругах общества», – что бы под этим ни понималось в графстве Хелмз. И, соответственно, его исчезновение не пройдет незамеченным. Я снова взглянул на него – он, даже для этого захолустья, выглядел таким ничтожным, что вряд ли его могли хватиться больше чем пара человек. И скорее всего, они тоже не будут слишком печалиться по поводу его исчезновения. Я скомкал карточку, скрутил ее между ладонями в шарик, потом развернул снова, разорвал на мелкие кусочки, снова скрутил их в шарик и швырнул с обрыва вниз. Шарик рассыпался в потоке воздуха; кусочки будто зависли в пустоте, потом разбрелись в стороны и медленно полетели вниз, вниз. Я отправился за стрелой, убившей этого человека и, подобрав ее, бросил – как бросают копье – с обрыва в реку. Затем поднял стрелу, покрытую моей собственной кровью, и отправил ее туда же. Потом пришла очередь лука, моей старой доброй катапульты. Поначалу мне очень не хотелось расставаться с ним – что, если его еще можно починить? А если нет, то все равно, мне хотелось бы сохранить останки этого лука до конца дней моих. Но, поразмыслив, я выбросил и его. Швырнул далеко и сильно.
Снял моток веревки с пояса и размотал его. Веревки было много, однако вряд ли ее хватило бы на то, чтобы спустить тело прямо до поверхности воды; в любом случае, я смогу опустить тело на значительное расстояние – а дальше посмотрим, что-нибудь придумаю. Я подтащил труп к краю обрыва, обмотал его веревкой как можно плотнее, завязывая, где нужно, простыми узлами – я знал только один вид узлов, тот, который знают, наверное, все; подвязал его веревкой под мышками. Каждый раз, когда я завязывал очередной узел, его голова дергалась и качалась из стороны в сторону, и это очень сильно меня раздражало – пожалуй, даже больше, чем что-либо вообще за всю мою жизнь. Больше, чем выражение лица Вильмы, секретарши Тэда, с ее по особому сложенными губками, больше, чем весь ее облик, призванный изобразить ее преданность долгу, а на самом деле скрывающий натуру просто скучную и грубую. Рана на шее убитого не выглядела особо страшной, и по сравнению с моей изрезанной, развороченной раной в боку теперь, после того как она закрылась и кровь свернулась, была похожа, скорее, на глубокую царапину. Или даже на сильный порез, сделанный во время бритья. Трудно было поверить, что рана эта уходила вглубь него, проходила его насквозь, что именно от этой раны он умер, что эта рана и была сама смерть.
Я привязал второй конец веревки к ближайшему дереву, потом пошел к краю обрыва и позвал Бобби, но мой крик, срывающийся в бездну, испугал меня самого. Я понял, что как бы громко я ни кричал, звук моего голоса не достигнет реки; я чувствовал, что сила голоса и смысл слов гаснут в солнечном свете, наполнявшем пустоту. Внизу, у подножия скалы, была расселина, наполненная зеленью – там кусты подходили к самой воде. Среди этой зелени появилось лицо Бобби. Может быть, к шуму реки, поднимавшемуся вверх, добавлялся голова Бобби. Но если он действительно что-то кричал, я не мог разобрать ни слова.
Но жаль все-таки, что переговариваться с Бобби было невозможно – как объяснить, что мне нужно доставить вниз особый груз? Я, удерживая веревку обеими руками и толкая труп ногами, спихнул его с края обрыва. Труп, перевалившись через край, дернулся в воздухе будто для того, чтобы развернуться и спускаться ногами вниз; я стал ощущать, как меня тянет вниз, тянет сильно, рывками. Я вернулся к дереву, к которому она была привязана, и оперся о него; стал мало-помалу опускать невидимый вес в никуда, перехватывая веревку руками. Дело шло тяжело и медленно. Мне приходилось оборачивать тонкую нейлоновую веревку вокруг кисти одной руки, потом другой, потом вокруг кистей обеих рук и менять руки все чаще и чаще. Я потел, напрягался, бухта веревки у моих ног разматывалась и уменьшалась, красные кольца вокруг кистей становились все краснее и глубже – еще немного, и появится кровь. Я пожалел, что не обмотал веревку один раз вокруг ствола перед тем, как начал опускать тело, но теперь уже ничего изменить было нельзя, и мне приходилось удерживать вес только руками. Я не мог просто отпустить веревку и позволить этому человеку полететь вниз; когда веревка вся размотается, он резко дернется вверх и, качаясь, повиснет; мысль об этом была шокирующей и просто неприемлемой. Я продолжал напрягаться, потеть, упираться, пытаясь при этом представить, о чем думает Бобби, глядя на тело человека, опускающегося на веревке с края каменной стены, сантиметр за сантиметром. Это было тело того человека, который держал ружье, направленное ему в голову, в то время как его напарник сношал Бобби в зад, и если бы Бобби попытался сопротивляться, тут же бы пристрелил его. Еще я пытался представить, исходя из напряжения веревки, какое положение принимает тело и где оно находится, что делает это тело, управляемое мною, лишенное всякого достоинства, удерживаемое от падения красными кругами на моих запястьях, моей болью, моим потом. Я представлял себе, как тело опускается на какой-нибудь выступ в скале, потом соскальзывает с него, со всех этих каменных выступов, болтается, перекатывается, скользит. Но не падает вниз и не разбивается о камни, торчащие из воды, не лопается, как целлофановый кулек, наполненный чем-то желеобразным и сброшенный с большой высоты.
Я выдал последний метр веревки и отступил в сторону, позволив теперь дереву, не чувствующему боли и напряжения, удерживать труп. Вынимать руки из обвивавшей запястья веревки оказалось делом сложным. И даже потом, когда я подошел к краю обрыва, моим рукам все еще отчаянно хотелось удерживать ее. Я посмотрел вниз, проследил глазами весь путь зеленой нейлоновой веревки: вот она уходит вниз с песчаного края, вот проходит по краю выступающего, опасно острого камня, исчезает из поля зрения, появляется вновь, напрягаясь в пространстве, ее окружающем, цепляется за что-то, раскачивается под весом висящего на ней невидимого мне тела. Интересно все-таки, о чем думает Бобби? Я вернулся к дереву, проверил узлы; затем возвратился к тому месту, где веревка уходила с края обрыва вниз, и попытался подсунуть под нее свой окровавленный платок – чтобы веревка не терлась о камень – но мне уже не хватило сил сделать это.
Ну ладно, сказал я. Теперь будем играть в другую игру; которая называется – доверие. Придется доверять вещам. Я оглянулся на лес, потом стал на колени, схватился за веревку одной рукой над краем обрыва, а другой пониже и начал спуск.
Было очень приятно знать, за что держаться, а не шарить руками, нащупывая очередной выступ или трещину, которых, может быть, там и не было и не будет. Но в руках моих и ногах почти не осталось сил. Я знал, что не падаю, что держусь за веревку, что в боку болит, и этого было достаточно. Я постоянно беседовал со своими руками, с каждым маленьким выступом камня так близко от моего лица, что я мог рассматривать их с удивительной ясностью, во всей красе. Передо мной было то, что с такого близкого расстояния никогда никем не созерцалось, то, чего никто никогда раньше не видел. Время от времени мне приходилось останавливаться – тогда, когда чувствовал: еще немного, и я умру. Я, зависший высоко над рекой, вглядывался в зерна песчаника, болтаясь в текучем пространстве, в глубоком сосредоточении пытаясь запечатлеть в мозгу все, на что смотрел, так глубоко, чтобы оно навсегда осталось со мной таким, каким я его тогда видел – всегда, ночью и днем. А может, даже после смерти. Я прижимался к веревке, дышал в камень, вдыхая каменную пыль, которую поднимало мое дыхание.
Моя последняя остановка была на выступе с неровными рваными краями, сантиметров пятнадцать в ширину; держась за веревку обеими руками, я даже смог там усесться, причем достаточно удобно. Теперь я уже видел труп, медленно поворачивающийся подо мною – моя хватка за веревку сообщала ему поворотный момент, – выглядевший ужасно тяжелым, полным мертвого веса, задумчивым, отдыхающим.
Видел я и Бобби, но ни я, ни он не пытались заговорить друг с другом. Он загнал байдарку в небольшое углубление подножия скалы. Движение воды удерживало ее там, и Бобби приходилось применять лишь небольшие усилия. Я снова полез вниз, страстно желая оказаться в воде и стать невесомым. Труп висел, насколько я мог судить, метрах в десяти над водой, из которой торчали прибрежные камни; у меня пока не было четкого представления о том, что я буду делать, когда доберусь до него. Падать мне и ему с такого расстояния над водой было бы довольно высоко. Но, очевидно, придется обрезать веревку и лететь в реку вместе с ним. Однако я решил, что буду обдумывать, что делать, лишь когда доберусь до него.
Когда я спустился почти к самому трупу, я стал думать, удерживаясь от дальнейшего сползания и отталкиваясь от скалы ногой и коленом, как быть дальше: ползти по нему, как это делал в старых комедийных фильмах Гарольд Ллойд, или оттолкнуться от него и прыгнуть в реку?
Веревка оборвалась, и мы полетели вниз. Неожиданно я стал невесомым, и планировать дальнейшие действия уже было не нужно. Однако спасло меня то, что предыдущей ночью я обдумывал, что мне нужно делать, если сорвусь со скалы. И теперь я знал, что следует предпринять: я успел хорошо оттолкнуться от скалы одной ногой и коленом другой ноги. И это позволило мне падать не вертикально вниз, а по дуге, подальше от стены. Камни летели мне навстречу, а я летел навстречу камням. Развернувшись в воздухе, я увидел, что упаду не на них, а в воду, и это было сейчас самым главным. Обо всем остальном можно было пока не беспокоиться.
Ничего большего, кроме того, что я уже сделал, я сделать не мог. Было ощущение солнечной пустоты, движения в никуда, переворачивания. А где же река? Мелькнуло что-то зеленое, голубое, одно за другим, а потом река ударила меня, будто ледорубом, в правое ухо. Я закричал – задавленным, оборванным воплем. И почувствовал, как поток воды прошел сквозь меня, сначала сквозь голову, входя в одно ухо и выходя из другого, а затем каким-то сложным образом сквозь тело, вливаясь в задний проход и выходя через рот и через развороченный бок.
Теперь я находился в среде, мне хорошо знакомой – в медленной, неторопливо текущей воде, которая тащила меня. Вода прильнула к ране и почти полностью сняла ощущение боли. У меня уже много лет ничего так не болело, и освобождение от боли я испытал почти как блаженство. Однако когда я попытался выбраться из-под воды, то понял, что ослабел намного сильнее, чем ожидал. Я чувствовал, что теряю сознание. Вокруг меня колебались красивые оттенки зеленого, от светлых до темных, и я направился в сторону самого светлого оттенка. Хотя мне казалось, что он располагается где-то сбоку от меня, а не надо мной. За мгновение до того, как я пробился сквозь воду на поверхность, я увидел солнце, жидкое и искаженное. А затем оно обрушилось мне в лицо.
Теперь у меня болело во многих местах, особенно болели руки. Но, вынырнув на поверхность и подвигав руками и ногами, я понял, что ничего себе не повредил и вполне могу плыть. Я, отдаваясь пока на волю течения, как-то отстраненно размышлял, как же это делать. Но оказалось, что я и так плыву, и размышлять над тем, что для этого требуется, уже не нужно.
Я подплыл к байдарке и, ухватившись за борт, вытащил себя настолько, насколько у меня хватило сил. Мое лицо оказалось сантиметрах в двадцати от лица Льюиса. Его глаза были закрыты, он выглядел одновременно и спящим и мертвым. Но тут он повернул голову и открыл глаза. Он посмотрел на меня долгим, серьезным взглядом, снова устало закрыл глаза и, лежа на спине, как-то обмяк. Та часть байдарки, в которой он лежал, особенно вокруг его головы, была забрызгана блевотиной, в которой я заметил остатки отбивной и всего прочего, что мы привезли из города и ели на ужин и на завтрак. Я опустился в воду и, плывя вдоль байдарки, пристал к берегу. Повернулся к Бобби:
– Это, по-твоему, первые проблески света?
– Послушай, – сказал он, – Льюису было очень плохо. В какой-то момент я даже подумал, что он умер. Ему очень крепко досталось.
– Считай, что ты уже сам мертв. Этот тип поджидал вас там, наверху, с винтовкой. Ты не сделал того, что я тебе сказал. И если бы не я, ты был бы уже мертв! Он мог застрелить тебя пятьдесят раз. Ты подставлялся ему так удобно. Он бы тебя запросто прихлопнул, потому что ты сделал все не так, как было нужно. Посмотри вот туда, наверх, посмотри, как светло, дорогуша! Посмотри на себя, на свои ручки и ножки, тебе так хотелось их лишиться! И порадуйся, что ты еще жив!..
– Послушай, – снова сказал Бобби. – Пожалуйста, послушай! Я не мог погрузить его в байдарку, пока не стало достаточно светло. Я должен был видеть, что делаю. Когда я затаскивал его в лодку, он отрубался несколько раз. Честно скажу тебе, не дай Бог кому-нибудь провести такую ночку. Я в лучше лез по скале, с тобой.
– Отлично, в следующий раз, может быть, ты так и поступишь.
– Но как тебе все-таки удалось... это сделать? Честно говоря, думал, что у тебя ничего не получится. Я думал, что никогда тебя больше не увижу. Если в я был на твоем месте, не знаю, скорее всего я бы просто смылся, если бы, конечно, удалось залезть наверх.
– Я подумывал о том, чтобы просто слинять, – ответил я, – как видишь, не сделал этого.
– Ты сделал все, как обещал, – сказал Бобби. – Но это про невозможно! В это невозможно поверить. Мы до сих пор не верим, что у тебя все вышло, как надо. Неужели я действительно вот здесь и ты здесь?.. Невероятно!
– Ну, теперь надо сделать так, чтобы всего, что произошло, времени как не было. Ничего. Весь вопрос в том: какэто сделать?
– Не знаю, – ответил Бобби. – Ты действительно думаешь, можно что-то придумать? Ты действительнов это веришь?
– Да, верю, – сказал я. – Несмотря на все, что с нами случилось, несмотря на то, что нам так крупно не повезло, мне кажется, везение теперь с нами...
– Ты убил его, да? Ты убилего?
– Да, убил. И убил бы еще раз, и еще раз. Только потолковее.
– Ты подстерег его из засады?
– Да, что-то вроде того. Я делал так, чтобы все получилось как можно лучше, я ждал его в нужном месте. И он сам пришел ко мне...
Мы пошли к искалеченному телу, распростертому на камнях; около головы лежало несколько кусочков от разбившихся вставных челюстей – он ударился о камни лицом. Мы перевернули его на спину. Лицо было в ужасном состоянии, оно выглядело много хуже, чем все остальное. Я услышал, как Бобби с шумом втянул в себя воздух. Потом я услышал, как он выпустил его из легких и сказал:
– Похоже, ты стрелял не в спину. Как это тебе...
– Я стрелял ему в грудь, – прервал его я. – Я стрелял в него, когда он стоял ко мне лицом... А я сидел на дереве.
– На дереве?
– Там полно деревьев... Знаешь, в лесу обычно много деревьев. Очень много деревьев...
– Но как...
– Он не видел меня. Может быть, увидел только после того, как я выстрелил. А может, и нет. Мне кажется, он собирался идти к тому месту, где сидел я – и тут в него попала стрела... И он начал стрелять. Он выстрелил много раз. Ты что-нибудь слышал?..
– Мне показалось, что один раз я услышал что-то вроде выстрела. Но я не уверен... я так внимательно прислушивался, что мне могло и померещиться... Нет, наверное, все-таки ничего не слышал.
– А теперь вот он тут валяется, – сказал я. – Еще один, подстреленный стрелой.
Бобби посмотрел на мой бок:
– Но он попал в тебя все-таки?
В его голосе было нечто такое, что я никак не ожидал от него услышать. Мне была приятна заботливость, которую он так неожиданно проявил.
– Дай посмотрю, что там.
Я расстегнул молнию, и комбинезон свалился с меня. Мои трусы были пропитаны кровью, ткань задубела. Кровь все еще продолжала сочиться, стекая на трусы.
– Боже, – сказал Бобби. – Выглядит так, будто тебя рубанили тесаком.
– Я упал с дерева и напоролся на свою вторую стрелу, – обронил он.
– Стоило ли ее дома точить так тщательно? Хорошо еще, что я не взял с собой стрел с наконечниками, у которых четыре режущих края.
* * *
– Ну, я тебе скажу! – заметил Бобби. – Невероятно! Этот наконечник будто специально сделан для того, чтобы вскрывать человека, как консервную банку.
– Именно так и есть. Он меня и вскрыл. Но мне кажется, что рана не рваная. И не грязная. А то, что в нее попало лишнего, вымыла река.
Я взглянул на свой искромсанный бок. После спуска и падения в реку рана открылась во всю свою ширь – в лесу она старалась вовсю затянуться и позволить крови свернуться. А теперь я истекал кровью, хотя и тоненькой струйкой. Я стянул трусы и стоял голый, весь в крови. Потом взял окровавленный рукав, который еще там, наверху, отрезал от комбинезона, и потом с его помощью кое-как закрепил скомканные трусы, приложив их к ране. Снова надел то, что оставалось от комбинезона.
– Давай закончим с этим и будем отправляться, – сказал я. Мы стояли перед трупом. Он был готов к тому, чтобы с ним что-нибудь сделать. На теле и рядом лежала кольцами веревка. На том месте, где она оборвалась, там, высоко наверху, торчали поблескивающие как стекло нейлоновые волоски.
– А ты уверен, что это?.. – спросил Бобби. Я посмотрел Бобби в лицо, на его открытый рот, в его воспаленные глаза.
– Нет, не уверен, – сказал я, – я мог бы сказать, что это, конечно же, тот тип, но полной уверенности у меня нет. Может быть, если бы мы могли заставить его взять то ружье и наставить его на тебя, ты бы смог мне сказать точно. Или если бы могли вернуть ему его прежнее лицо, то смогли бы рассмотреть его получше... А так – я не знаю. Единственное, что я знаю наверняка – мы здесь, и это нам не снится. Давай побыстрее утопим его в реке. Раз и навсегда.
Мы отправились вдоль берега искать камни подходящих размеров; мы ходили туда-сюда, проходя мимо друг друга, размышляя о чем-то своем. Зачерпнув двумя руками воду – кусочек реки в ладонях, – я стал смывать кровь с того камня, о который ударилось его лицо. Крови было много. Стоя на коленях, я смывал эту кровь, и она смывалась, уходила в песок. Ушла вся. Потом я вернулся к поискам камней рядом с телом. Я нарезал веревку на достаточно длинные куски и, обвязав ими камни, привязал к трупу. Самый большой камень я привязал к его шее. Веревка затянула рану так, что ее почти не стало видно.
– Не здесь, – сказал я. – Где-нибудь посередине реки, туда, куда труднее всего добраться.
Мы с трудом, борясь с его весом и с некоординированностью наших собственных движении, втащили его, вместе с привязанными к нему камнями, в байдарку и положили рядом с Льюисом, который слегка подвинулся, будто давая место тому, кто по праву должен был занять его в лодке – так подвигаются ночью, позволяя хорошо знакомому телу улечься рядом.
Управлять сильно перегруженной байдаркой было очень сложно. Поначалу мы просто оттолкнулись от берега и какое-то время плыли вниз по течению; мы слишком устали, чтобы ворочать веслами. Где-то впереди раздавался шум следующих порогов, наполняя нас, и так испуганных, новым ужасом. Бобби пытался перевести лодку в устойчивое положение, а я опустился на колени, и стоя среди блевотины, крови и камней, поднял два камня и перекинул их за борт. Байдарка двинулась в одну сторону, а я – в другую, чтобы сбалансировать новое распределение веса. Тело с трудом выползало из байдарки, но застряло на планшире. Я поднял и перевалил за борт еще один камень, потом перекинул за борт и одну ногу трупа, но он не хотел нас покидать. Собрав остатки сил, я поднял последний камень, самый большой и тяжелый, привязанный к шее трупа, и швырнул его в воду. Рана на шее резко раскрылась, но крови не было. Мне показалось, что у тела отрывается голова – ив следующее мгновение оно исчезло под водой. Оно было так быстро поглощено водой, что казалось, его никогда не было. Он вообще никогда не существовал. Я опустил одну руку в воду и вернул ему остатки его крови.
Мы остались в байдарке, плывущей по течению, втроем.
Мы вошли в длинный изгиб реки. Течение ускорилось, вода вокруг нас ожила. Я сделал гребок веслом, и хотя сил во мне никаких не оставалось, продолжал грести. Мы прошли сквозь небольшие пороги без особых затруднений, и я даже стал думать о том, что плавание на байдарках может доставлять удовольствие. Лодка двигалась фактически сама по себе, увлекаемая течением.
Стены ущелья с обеих сторон стали понижаться, отступать. Они опустились, потом стали снова расти и выбрались почти на прежнюю высоту, но былой мощи в них уже не чувствовалось. И каждый новый подъем был ниже предыдущего.
Солнце светило нам в спину и толкало вперед. Мне было приятно чувствовать давление его лучей, я был рад этому, хотя в нашем положении, казалось, радоваться чему-либо было невозможно. Но мне было все труднее удерживать голову в вертикальном положении. Мой бок отвердел и рыдал кровью; мой подбородок постоянно опускался на грудь, и перед глазами все расплывалось; будто сквозь туман я видел перед собой Льюиса, лежащего на дне лодки и прикрывающего глаза рукой. Я прижал руку ко лбу и попытался удерживать веки открытыми, подтягивая кожу вверх, но все равно спал – я смотрел на мир так, будто мои глаза были закрыты. Мне нужно лечь и поспать, подумал я. Если я не лягу, упаду в реку.
Сказать по правде, в этой возможности было даже нечто привлекательное. Было бы так замечательно еще раз отдать весь свой вес воде, может быть, навсегда. Так тяжко здесь сидеть. Слишком тяжко. Любой на моем месте почувствовал бы, как это тяжело.
Мы проскочили через небольшие пороги, которые тряхнули нас несколько раз, но не сильно. Байдарка стала двигаться немного быстрее. Камни, сидевшие глубоко в воде, выглядели очень внушительно, но проходы между ними были очень ровными и лишенными более мелких камней, которые стояли бы на пути, и мы прошли между ними практически без всякого маневрирования. Я был уверен, что нам осталось плыть не очень долго. Но в каком месте нам остановиться? Что, из сделанного руками человека, подскажет нам, что мы приплыли? Что нас ждет после того, как мы навсегда покинем реку?
Льюис спокойно лежал на дне байдарки, похожий на большую сломанную игрушку; его штаны были расстегнуты, пояс распущен. Могучие мускулы на ноге вокруг места перелома приобрели синеватый оттенок. Свободной рукой, не прикрывавшей лицо, он упирался в борт лодки. И я решил, что, наверное, так он пытается смягчить толчки и дать своей ноге возможность заснуть. На его упирающейся в борт лодки руке вздулись мускулы, пружинисто вздрагивающие каждый раз, когда река встряхивала нас.
Река теперь, единым потоком, быстро катила свои воды, глубокие и темно-зеленые. Пороги нам не встречались, и управлять байдаркой было не трудно – пожалуй, легче еще не было. Каждый раз, когда мне удавалось поднять голову, я, в своем воображении, укладывал через реку мост. Но удержать его на месте мне не удавалось – мост дрожал, зависал и исчезал.
Далеко впереди замаячили пороги – несколько больших камней. Шум, долетавший до нас, был пока тихим, рокочущим и скорее приятным, чем пугающим; берега реки на том изгибе, впереди, снова были покрыты лесом. Мы двигались в полосе вспененной, белок, быстрой воды. И были уже совсем близко к ней, когда я увидел Дрю – его тело было прижато к камням и, казалось, он смотрит прямо на нас.
Я сказал об этом Бобби, но он не поднял головы и не посмотрел вперед. Он просто не мог этого сделать, я знал, что он не может, и не рассердился на него. Но все равно следовало разбудить его – ведь нужно было что-то предпринять. И будет лучше, если мы будем делать это вдвоем.
– Эй, Бобби, послушай! – Я услышал свой голос будто со стороны. – Просыпайся и помоги мне.
Я подправлял байдарку так, чтобы мы двигались прямо к тому месту, где Дрю лежал на камнях. Приходилось сильно грести, чтобы преодолевать сопротивление течения – оно пыталось пронести нас мимо него. Я развернул байдарку боком к течению и попросил камни поймать нас, держать нас, помочь нам. И они остановили нас. Мы легко прижались к камням. Я вылез из байдарки. Дно было песчаным, на ноги давило подводное течение. Я сделал два шага вдоль байдарки – каждый из них давался с трудом, – преодолевая сопротивление реки, и ударил Бобби по плечу. Ударил изо всех сил, но все-таки недостаточно сильно. Для того, чтобы придать больше весомости удару, я положил другую руку на рукоятку ножа.
– Ты слышал меня? – сказал я негромко. – Ты мне поможешь, а не то я убью тебя, прямо тут, в байдарке! И ты уже никогда больше не поднимешь свою дурную жопу! Двигайся! Нужно еще кое-что сделать.
Бобби медленно вылез из байдарки в воду; покачиваясь от напора воды, он смотрел куда угодно, но не на меня.
Дрю сидел лицом к течению, опираясь на два камня – как будто в глубоком кресле, изготовленном природой; его удерживало на месте напором воды, которую отбрасывал на него плоский камень. Он сидел в свободной, раскованной позе. Вода взбиралась ему на грудь, обтекала его, постоянно заливая рот тонкой струйкой, вздувалась дрожащим серебристым колокольчиком вокруг его слегка раскрытых губ, сквозь которые поблескивал золотой зуб. Вода забиралась и выше, не позволяя его векам закрываться; казалось, глаза смотрят сквозь воду на те горы, мимо которых мы уже давно проплыли, на все извивы реки, смотрят в бесконечность. Давление воды придавало его лицу выражение, которое бывает у вислогубых кретинов. Но в глазах кретинизма не было: они были голубыми, всевидящими, чистыми.
Я спотыкающимися ногами подошел к нему – будто пьяный в баре, где все тоже пьяны, шел к его столику. Я попытался стащить Дрю с камней, ухватившись за спасательный жилет, но с первой попытки это не удалось. Казалось, он еще глубже уселся между камнями. Но в следующее мгновение, выталкиваемый водой из его нового положения, он поднялся без всяких усилий с моей стороны. Бобби подошел к нему с другой стороны, и мы втроем побрели к байдарке сквозь два элемента мироздания – воду и воздух, – спотыкаясь о камни, о воду, которая своим напором запутывала нам ноги, спутывая их с ногами Дрю. Я впервые осознал, насколько большим и тяжелым, оказывается, был Дрю. Мы все трое упали, и Дрю поплыл в сторону, закинув голову, медленно поворачиваясь; его изуродованное лицо было очень спокойным, умным, ничего не выражающим, пустым как небо.
Я отправился за ним, оступился в небольшую подводную яму, снова чуть не упал. Наконец, поймал труп и, преодолевая течение, подтащил его, удерживаемый на воде спасательным жилетом, к камню, совсем рядом с байдаркой и уложил на него животом. Осмотрел голову. Да, действительно, что-то очень сильно ударило его по голове, но был ли это след от попадания пули, я не знал. Я никогда не видел огнестрельных ран. Все свои знания об огнестрельных ранах я почерпнул только из сообщений об убийстве президента Кеннеди, которые я читал в свое время, как и большинство других американцев. Там приводились всякие подробности, показания свидетелей и врачей. Больше мне сравнивать было не с чем. Я помнил, что, судя по тогдашним описаниям, выстрел снес Кеннеди часть черепа. Но глядя на Дрю, я ничего похожего на страшную рану не видел. Под линией волос, прямо над левым ухом, проходила полоска содранной кожи, и череп в этом месте казался вдавленным, вмятым. Но он не был разворочен, не было и никаких следов проступающего сквозь рану мозга.
– Бобби, иди сюда, – позвал я. – Надо кое-что решить.
Я показал ему на рану на голове Дрю. Бобби наклонился, всматриваясь, потом распрямился; его глаза налились кровью. Мы прислонились к камням, пытаясь отдышаться.
– Это огнестрельное ранение?
– Эд, знаешь, я не знаю. Но мне кажется, это не похоже на след от пули.
– Посмотри получше.
Я показал на содранное место над ухом.
– Из того, что мы знаем, это может быть следом от пули, которая просто чиркнула его по голове. Но утверждать, что эта пуля убила его, я не берусь.
– Но ведь такую отметину мог оставить и камень, после того как он упал в воду, – возразил Бобби.
– Если мы все сделаем как нужно, нам не придется никому объяснять, как все получилось. Никому, кроме нас самих, – сказал я. – Но сам бы я очень хотел знать. Я думаю, нам просто нужнознать.
– Но как мы можем знать наверняка?
– Льюис, может быть, разбирается в ранах лучше, чем мы. Давай подтащим Дрю поближе к нему. Пускай он хорошо посмотрит.
Мы снова подняли Дрю и подтащили его к байдарке. Подвинули ею так, чтобы затылок оказался на уровне планшира, и положили голову на борт лодки.
– Льюис, – позвал я тихо.
Он не ответил, глаз не открыл; дышал он тяжело.
– Льюис, открой глаза на секунду. Это важно. Это очень важно.
Он повернул голову и открыл глаза. Бобби и я поддерживали Дрю тремя руками; свободной рукой я повернул голову Дрю и показал Льюису на рану над ухом.
– Льюис, это след от пули? Этот след оставила пуля?
В глазах Льюиса шевельнулся его прежний интерес к тому, что происходит вокруг. Он приподнял голову, насколько мог, и посмотрел на голову Дрю.
– Ну, что ты скажешь? Это огнестрельная рана? Это от пули, а, Льюис?
Он слегка шевельнулся и посмотрел мне прямо в глаза. Я внутренне сжался – я не знал, что последует. Он кивнул едва заметно, и его голова снова откинулась назад.
– Чиркнуло, – сказал он.
– Ты уверен? Уверен?
Он снова кивнул, его слабо передернуло от позыва к рвоте, и эти движения почти совпали. Потом кивнул еще раз, и еще. Мы с Бобби переглянулись. А потом снова посмотрели на рану на голове Дрю.
– Может, так и есть, – сказал Бобби.
– Может быть, так оно и есть, – повторил я. – Так или иначе, нам придется в это поверить. Но никому другому мы не можем его показать. Сами мы не в состоянии определить наверняка, но есть специалисты, они это определят запросто. А если нам придется объяснять, как он получил пулевое ранение, все остальное тут же всплывет.
– Как мы из всего этого выберемся? Я не представляю, как нам теперь из всего этого выбраться. Не представляю, и все тут!
– Мы уже почти выбрались, – сказал я.
– А что будем делать с Дрю?
– Мы... утопим его в реке, – сказал я. – Так, чтобы он никогда не всплыл.
– О Господи, Господи!
– Послушай, все обстоит именно так, как я только что сказал. Именно так! Мы не можем позволить никому, кто в этом разбирается, осматривать его. Если мы вернемся без него – ну, случилось несчастье, не повезло. В конце концов, мы ни хера не понимаем в плавании на байдарках. И пускай кто-нибудь попробует доказать обратное! Мы приехали на эту ебаную реку, ничего о ней не зная. Разве это не святая правда? Поначалу все шло нормально, а потом мы перевернулись. Потеряли вторую лодку. Льюис сломал в порогах ногу, а Дрю утонул. Этому все поверят. Но объяснить, как так получилось, что одного из нас убили выстрелом из винтовки – не удастся.
– А если его действительно убила пуля?
– Совершенно верно – его убила пуля.
В глазах Бобби появился какой-то свет, потом он померк.
– Этому всему нет конца, – сказал он. – Нет конца!
– Есть конец, – ответил я. – Конец вот здесь. Нам осталось сделать совсем немного, но это надо сделать с толком. Все теперь зависит от того, как мы управимся. Абсолютно все.
Я засунул руку в накладной карман на штанине комбинезона и нашарил там запасную тетиву. Привязал ее одним концом к большому камню, а другим – к поясу Дрю. Связал узел за узлом. Мы положили камень в байдарку. Потом я уложил тело Дрю, в его спасательном жилете, на воду и побрел через пороги, волоча его за собой и иногда легонько подталкивая.
Когда стало поглубже, Бобби залез в байдарку и взял в руки весло. Мы с Дрю пошли сквозь пороги, и я отправился в полет по воде в своем спасательном жилете. Я взглянул на руку Дрю, плывущую в воде раскрытой ладонью вверх. На пальцах, уже вспухших в воде и побледневших, были мозоли от гитарных струн, на одном пальце – кольцо еще со времен его студенческой жизни. Я подумал, что следовало бы отдать его жене хотя бы это кольцо. Нет, нет, я не мог сделать даже этого – пришлось бы что-то объяснять... Я прикоснулся к мозоли на среднем пальце левой руки – и мои глаза ослепли от слез. Я на мгновение обнял его. Из глаз текли слезы, как еще одна река. Нас несло течение. Я мог бы плакать вечность, пока течет река. Но времени уже не было.
– Ты был лучшим из нас, Дрю, – сказал я громко, так, чтобы Бобби услышал, – я хотел, чтобы он услышал. – Ты был единственным здравомыслящим человеком среди нас.
Я расстегнул ремень спасательного жилета Дрю и отпустил тело. Стоя на коленях в байдарке рядом с Льюисом, Бобби перевалил камень за борт. Одна из ног Дрю дернулась вверх, и его пальцы коснулись моей голени. Мы – свободны. И мы – в аду.
Я оставался в воде позади байдарки, с жилетом Дрю в руке. Ноги мои, ставшие невесомыми, ныли значительно сильнее, чем раньше. Мне хотелось спать, уйти под воду, избавиться от необходимости дышать. Я лежал на поверхности и перемещался с течением, предчувствуя приход всех тех кошмаров, которые будут меня мучить позже, заставляя покрываться потом – но это все еще в будущем, это все еще не со мной. Когда мы подплыли к очередному мелкому месту, я поднялся из воды, прочь от раков, прячущихся между камнями, и снова обрел свой полный вес – мне казалось, что я теперь в полтора раза тяжелее. Я залез в байдарку, сел на заднее сиденье: солнце жарко светило мне в спину; мне казалось, у меня на спине несколько слоев чего-то мокрого и тяжелого.
* * *
Долгое время ничего не происходило; я ощущал лишь жару и усталость. Между мной и Бобби над байдаркой танцевали насекомые, но я не был уверен, существует ли эта поющая, жужжащая дымка в действительности или только в моей голове. Каменные стены по обеим сторонам реки продолжали понижаться. Через несколько миль скалы на правом берегу вообще сошли на нет, а на левом еще тянулся каменный барьер. Потом и он уступил место равнине, и нас снова окружали леса. Я понял, что неправильно оценил расстояние, которое нам еще предстояло проплыть – реке, казалось, не будет конца. Голова Бобби по-прежнему была склонена на грудь; мне оставалось лишь надеяться на то, что он не будет дергаться и не свалится в реку. Если при этом он перевернет нас, а мы в этот момент будем находиться над глубоким местом или в порогах, залезть назад в байдарку будет очень трудно, а Льюиса мы уж точно не сможем в нее затащить.
Мне было очень жарко – я еще раньше надел на себя спасательный жилет Дрю. Теперь дополнительный воротник прикрывал мне шею от прямых лучей солнца, и я был ему благодарен хотя бы за это. Меня преследовала, как назойливое насекомое, мысль о том, что этот жилет проделал по реке длинный путь, поддерживая Дрю на воде, не давая ему, уже мертвому, утонуть.
Я чувствовал, что от жары у меня начинают вспухать губы. Я медленно двигался к тому пределу, за которым наступает полное истощение физических возможностей. Но я точно не знал, где же этот предел находится, или где мы будем находиться, когда я пересеку этот невидимый рубеж, или что я буду делать, когда пересеку его. Что, интересно, можно сделать с собой или с Бобби, чтобы встряхнуться?
– Бобби, – сказал я неожиданно, – держись. Если мы продержимся еще десять миль, все будет в порядке. Я уверен в этом. Мы столько уже натерпелись, но скоро это закончится.
Он попытался кивнуть, и у него даже получилось нечто вроде кивка.
– Не раскачивай нас, дорогуша. И если ты увидишь что-нибудь такое, чего мне не будет видно, сразу скажи мне. И если мы попадем в пороги, старайся направлять нос лодки между камнями или предупреждать меня о них. Но если ничего не будет получаться, просто сползи на дно байдарки, ложись рядом с Льюисом и молись. Но самое главное – не нарушай баланса лодки.
К шуму реки прибавился новый, пока еще далекий, уже хорошо мне знакомый звук.
– Боже, – сказал я, – сделай для нас что-нибудь!
Звук этот приближался, но когда мы проплыли следующий поворот, оказалось, что в полумиле впереди нас река поворачивала еще раз.
Звук приходил откуда-то оттуда, из-за поворота.
– Бобби, мне кажется, что я слышу шум порогов впереди. Нет, не кажется! Я точно слышу их. Мы можем вылезти из байдарки и попробовать провести ее через пороги, если найдем мелкие места. Если удобного места не найдем, придется плыть через камни.
Мы двигались все быстрее, шум нарастал – будто кто-то крутил ручку громкости, – вселяя ужас, уже не раз испытанный, и азарт, который так любил Льюис. И я, несмотря на свою усталость, почувствовал этот азарт тоже.
Мы вошли в поворот; пороги располагались в конце поворота или недалеко от него, на расстоянии видимости. И судя по звуку, они не должны были быть такими страшными, как те, через которые мы уже проходили. Но когда мы вышли из поворота, двигаясь все быстрее, и я не увидел ни порогов, ни водопада, ни вспененной белой воды – я понял: нам предстоит тяжелое испытание. По всей вероятности, шумели не пороги, а рокотал водопад. И я снова приготовился к тому, чтобы умереть. Потом звук резко усилился; в нем слышалось пенящееся буйство, хриплое отчаяние. Мы проплыли еще один изгиб. Левый берег очистился от леса, и я увидел пороги – они обозначали место, где река уступами круто спускалась вниз, значительно круче, чем раньше. Камни усеивали реку на значительно большем протяжении, чем во всех предыдущих порогах; они со всех сторон воронкой обступали две большие глыбы, между которыми висело марево водяной пыли.
Поверхность воды выглядела как стекло; мы пронеслись сквозь группу небольших каскадов, которые выглядели так, будто их специально соорудили для съемок фильма. Цвет воды, которая двигалась все быстрее и быстрее, менялся от темно-зеленого к светло-зеленому, все более наполняясь белым; вода мчалась по небольшому изгибу к двум глыбам. Что находилось дальше, я не видел – возникало впечатление, что реку поглощает туман. Мы могли бы еще попытаться пристать к берегу, но у меня для этого уже не оставалось сил. Течение полностью завладело нами – мы прямиком неслись на пороги.
– Пешком мы тут не пройдем, – заорал я. – Опусти жопу как можно ниже и держись!
Бобби не оглянулся, а стал сползать вниз и назад, держась за планшир; он примостился на дне байдарки, и его колени торчали перед сиденьем. Центр тяжести байдарки сместился, но ничего больше поделать было нельзя, несмотря на то, что я не наклонился вперед. Если бы я попытался опуститься ниже, я бы не смог управлять байдаркой. Мы неслись по воде, увлекаемые вперед как нити, втягиваемые в прядильный станок. Рев воды бил нам в лицо, обрушивался со всех сторон; мы погрузились в него, подскакивая на жгутах воды. Прыгнули с первого уступа; нос байдарки нырнул вниз, она проскрипела по камням – я чувствовал этот скрип кончиками пальцев. Потом спрыгнули еще с одного уступа, пониже – толчок, отозвавшийся в хребте, стряхнул меня с сиденья и накренил байдарку на один борт. Но благодаря своей скорости она тут же выпрямилась. И я, собрав все силы, которые оставались во мне, сделал глубокий гребок справа от лодки, чтобы удержать ее посередине течения. Мы пронеслись еще над двумя уступами – каждый раз нас так встряхивало, что, казалось, расплескаются мозги. И тут я осознал, что к реву воды присоединился еще один звук, сначала тихий, но с каждой секундой раздававшийся все громче – будто кто-то вопил, пел или звал непонятно откуда. Я подумал, что это, наверное, кричит от боли Льюис. Через мгновение мы уже мчались по ровной поверхности несущейся вперед воды. Из-за того, что мы цеплялись днищем за камни, наша скорость несколько уменьшилась, но потом снова возросла. И теперь росла постоянно. Мы приближались к облаку водяной пыли, к бело-черному проходу между каменными глыбами. Я снова гребнул, глубоко и сильно, потом попытался гребками в обратную сторону притормозить наше движение. И тут же понял, что это бесполезно. Гребнул справа еще раз, изо всех сил, чтобы развернуть немного нос лодки. Байдарка стала поворачиваться, нос пошел в сторону. В следующее мгновение лодка, будто выстреленная из катапульты, прыгнула в проход.
В течение секунды я ничего вокруг себя не видел. Было такое впечатление, что мы стоим на месте, рот наполнен водой, насыщенной воздухом, а байдарка слегка подрагивает от не очень сильных ударов снизу. Когда не видишь ничего, проносящегося мимо тебя, кажется, что собственное движение прекращается. У меня было такое ощущение, что я нахожусь в наполненной холодным паром незнакомой странной комнате или пещере, содрогающейся от землетрясения. В одно мгновение я оказался мокрым с головы до ног, моментально исчезнувшее солнце уже не грело плечи. Я ткнул веслом справа от себя – в основном, просто потому что предыдущий раз делал гребок с этой стороны, и если тогда это было нужно, то, может быть, сейчас это тоже будет нужно. Я был уверен, что нам следует поворачивать влево – если это, конечно, удастся. От того, что находилось справа, веяло смертью. И если мне не удастся держаться подальше от него, нас развернет боком, и вся река, все горы, с которых она стекала, обрушатся на нас и будут без конца заливать байдарку тоннами и тоннами и тоннами воды. Я сделал еще один глубокий гребок, но не смог определить, имел ли он какие-либо последствия. Что-то попыталось выхватить весло у меня из рук; я дернул его из воды, потом гребнул снова, потом еще раз. Впереди, сквозь водяной туман, мелькнула река; нас швырнуло вперед так, будто мощный толчок запускал нас в воздух. Мы двигались быстрее, чем мне когда-либо приходилось двигаться без мотора. Напор воды, который я чувствовал каждый раз, когда опускал в нее весло, был колоссален – было ощущение, что я опускаю весло в какой-то сверхъестественный источник первичной энергии.
Казалось, мы несемся не по водяной, а по воздушной реке. Мимо нас, под нами, мелькали камни, потом песок, потом снова камни, сливаясь в полосы, меняя цвета. Я привстал со своего сидения – только так я мог реагировать на то, что происходит вокруг меня. Я чувствовал себя неуязвимым, меня нельзя было убить – эта иллюзия неподверженности смерти торжествовала потому, что события, казалось, подтверждали се неиллюзорность. Я был готов ко всему, что ожидало меня впереди. «Держись, держись, – вопил я, – мы уже почти дома!»
Прямо перед нами вырастал наклоненный гребень каменной глыбы, над которой вода вздымалась дугой, похожей на окаменевший, вырубленный резцом скульптора вихор. Водяная дуга накрыла нас, когда мы влетели на камень; я ткнул в него веслом, чтобы проскочить над ним поудобнее, чтобы все было как надо, чтобы все было в порядке. Впереди мелькнула гряда камней, как стена, постепенно понижающаяся с обеих сторон.
Нос байдарки задрожал, будто мы собирались взбираться на горку, и мощная сила подхватила нас сзади. Мы оказались в невесомости. Перекатились через верхушку глыбы одним неосторожным движением. Я закрыл глаза и закричал, вторя Льюису, присоединяя свой крик к нечеловеческому воплю друга. Легкие мои разрывались от крика; мы на мгновение зависли на высоте метров трех над поверхностью воды. А потом стали падать вниз. Я ожидал злобного, подбрасывающей удара снизу, но нос байдарки соскользнул вниз с непонятной мягкостью, нырнул в бурлящую, разбивающуюся, напоминающую сворачиваемый свиток воду у подножия глыбы. Сильная дрожь сотрясала байдарку по всему ее хребту, отозвалась в моем позвоночнике и в мозгу – ив нем вспыхнуло видение: горящее соломенное чучело, какие-то летящие иголки. А в следующий момент, проскакивая по двум уступам подряд, мы оказались в ровном, зажатом берегами потоке реки. Я слышал свой собственный крик, который завис в столбе водяной пыли над каменной глыбой, которая сверкала бело-голубым, как флаг. Я до сих пор прислушиваюсь к этому крику. А мы уже плыли все медленнее и медленнее, под нами была зеленая вода, байдарка снова обрела вес и плотность, и вода под нами была тяжелой и упругой.
Камни остались позади; впереди нас, на расстоянии метров ста, река изгибалась снова, но порогов не было видно. Я взглянул на Бобби. Он уже начал взбираться назад на свое переднее сиденье. Немного повернул голову в мою сторону – я увидел, как он открывает глаз на той стороне лица, которая была обращена ко мне. Он явно собирался сказать что-то, но не сказал. И я хотел сказать что-нибудь, но промолчал тоже.
Теперь, плывя по спокойной воде, я начал собираться с мыслями, собирать все, что понадобится нам для будущего.
– Вот, сразу позади нас, все и произошло. Ты понял? – спросил я.
Бобби непонимающе посмотрел на меня.
– Нам придется отвечать на всякие вопросы. Когда нас начнут расспрашивать, что да как, надо говорить, что при прохождении вот тех, последних порогов Дрю вывалился из байдарки... Мы все вывалились. Там Льюис и сломал ногу, и мы потеряли вторую байдарку.
– Ладно, – сказал Бобби, но в его голосе не было уверенности.
– Обернись, посмотри вокруг, – продолжал я. – Надо высмотреть что-то на берегу и при рассказе ссылаться на эти детали. Мы выбрались на берег где-то здесь. Самое главное – не дать повода к тому, чтобы Дрю начали искать выше по течению. Поэтому – смотри в оба глаза. Смотри и примечай.
Бобби тупо посмотрел по сторонам, прошелся взглядом по одному и другому берегу, но я видел, что он ничего не замечает и не запоминает.
– Видишь то высокое желтое дерево? – спросил я. – Оно будет нашим главным ориентиром. Дерево и пороги. Особенно этот здоровенный камень, по которому мы проехались. Мы будем вспоминать и то и другое. И все будет в порядке.
Я уставился на желтое дерево и не спускал с него глаз, пока мы проплывали мимо. Я изгонял из памяти все остальные образы и пытался оставить в ней лишь образ этого дерева. Дерево было наполовину мертвым; кора с одной стороны была неровно содрана. Наверное, когда-то в него ударила молния, и огонь выел сердцевину. Это был вполне подходящий ориентир – искалеченное желтое дерево.
– Послушай меня, Бобби, послушай внимательно, – снова заговорил я. – Нам нужно крепко запомнить вот что. Дрю утонул где-то здесь. Я бы сказал – нет, я именно так и скажу, – что лучше всего искать его тело приблизительно там, где мы сейчас. Дрю никогда не доберется сюда оттуда, где остался. Никаких подъездных дорог в том месте, где он лежит, нет. И никто туда не отправится искать его, если только мы этого сами не подскажем.
– Он здесь, – сказал Бобби, поставив руку ко лбу над глазами, чтобы защитить их от солнца. – Он здесь, прямо под нами. Я всем буду это говорить. Это просто.
Это было именно то, что я от него хотел. Льюис молчал: либо он был без сознания, либо у него просто не было сил говорить.
– Мы перевернулись в этих жутких порогах, – сказал я. – Мы даже можем сказать, что перевернулись в тот момент, когда влетели в тучу брызг между теми большими камнями. Мы перевернулись, и Дрю утонул. А наши часы остановились, и мы не можем сказать, когда точно это произошло. Но мы можем сказать, гдеэто было. Где-то недалеко от того желтого дерева.
Бобби выглядел уже не таким усталым.
Я продолжал:
– Это могло произойти именно так. Нам легко поверят, если мы будем твердо помнить, что нужно говорить. Никого – никого, -кто мог бы рассказать что-то другое, не осталось. Только мы! Никто не видел, никто не знает. Если мы не запутаемся в подробностях – все будет в порядке. Все будет нормально – насколько это для нас возможно. Но, по крайней мере, никто не будет больше к нам соваться с расспросами – даже полиция. Не будет никакого расследования, ну ничего! Мы будем сами по себе, и все.
– Надеюсь, так и будет.
– И я тоже. Но как сказал бы Льюис – нам нужно сделать больше, чем просто надеяться. Все в наших руках, дорогуша! Все можно устроить так, как надо. Ну, а теперь расскажи мне, что с ним произошло.
И Бобби рассказал именно так, как я того хотел. Я был доволен, я стал чувствовать себя увереннее. Я уже испытывал меньше страха перед встречей с людьми, перед их вопросами, перед тем, что нам еще предстоит. Неосознанно я уже давно этого страшился.
Я ощущал давящую тяжесть собственного тела, голова немного кружилась, но я чувствовал – чего не чувствовал на протяжении последних нескольких часов, – что еще продержусь. Я все больше отдавал байдарку на волю течению, но чтобы удерживать лодку в нужном направлении, изредка подгребал веслом. Берега по обеим сторонам реки были покрыты лесом. Но это уже были другие леса: не дикие, заросшие подлеском, сцепившиеся ветвями чащобы в районе ущелья, и не мрачные, спокойные заросли перед нами. Все больше ощущалась близость людей. После каждого следующего извива реки я ожидал увидеть признаки присутствия человека.
Ага, вот и оно! У края воды, под деревом, лежала корова. Мы медленно проплывали мимо.
– Вот и какая-то ферма, Бобби, – сказал я. – Мы прибыли. Мы можем приставать к берегу в любой момент.
Но мне не хотелось бы далеко топать по полям и пастбищам в поисках фермерского дома. В надежде увидеть какой-нибудь мост или дорогу я решил проплыть еще немного.
Количество коров увеличилось – некоторые были яркие, бело-черные, а некоторые тусклых оттенков. Они лежали по берегам вдоль реки, подальше от воды, жующие, пьющие, поднимающиеся из воды, тяжело вздымающие рога, вековечно и неизменно глупые, огромные, такие сами себе не нужные. Еще один изгиб реки, и можно считать – мы прибыли. Я был уверен в этом.
Но мы прошли еще поворотов десять – все эти извивы реки были совершенно неотличимы один от другого, – и казалось, что мы постоянно входим в один и тот же поворот. Приблизительно через час – судя по жаре и высоте солнца, наверное, был полдень – мы прошли еще один поворот, точно такой же, как и предыдущие. Но теперь я увидел мост через реку. Стальная арматура, дощатый настил. Сразу за мостом располагался небольшой и тихий отводной канал; под мостом сидели мужчина и мальчик и ловили удочками рыбу.
Мы свернули к берегу. Нам пришлось подналечь на весла, чтобы провести байдарку поперек течения. Когда мы, наконец, пристали к берегу, Бобби встал на ноги, качнулся, затем вылез из лодки, погрузившись по щиколотки в прибрежный ил. Я вылез из лодки в воду, почувствовав, как мои ноги погружаются в ил, с трудом выбрался на берег. Когда мы вытаскивали лодку на берег, я старался больше в воду не входить. Сняли с себя спасательные жилеты.
Льюис лежал в байдарке, сложив руки на груди. Солнце сожгло ему лицо; когда он двигал губами, с них слетали чешуйки шелушащейся кожи.
– Льюис, – сказал я, – ты меня слышишь?
– Я слышу тебя, – ответил он спокойно, ровным голосом, но глаз не открыл. – Я слышу тебя и я слышал все, что ты говорил раньше. Ты все рассчитал правильно. Мы можем гладко из всего выбраться. Меня спрашивать пока ни о чем не будут, а если все же будут, я повторю то, что сказал Бобби. Ты все делаешь абсолютно правильно, ты делаешь все лучше, чем сделал бы я. Так и действуй.
– Как нога? Ты что-нибудь чувствуешь?
– Нет, но я уже долго не шевелил этой ногой, не прикасался к ней, вообще ничего с ней не делал. Я старался как мог, чтобы она, так сказать, уснула, а теперь не могу ее разбудить. Но это не имеет сейчас никакого значения. Я в норме.
– Я отправлюсь за помощью, – сказал я. – Ты еще потерпишь немного?
– Конечно, – ответил он. – Бог мой, те пороги, вот это была штучка, а?
– Да уж, штучка! Но мы справились бы с ними значительно лучше, если бы ты был с нами и вел байдарку сам, дружище.
– Я был с вами.
– Если б ты только видел, что творилось с водой между теми камнями!
– Я их не видел, – сказал он, и было видно, что ему снова становится дурно. – Но я их чувствовал. Моя нога мне обо всем сообщала. И могу тебе сказать, теперь я знаю кое-что, чего не знал раньше.
На его лице появилась хорошая улыбка. Он попытался поднять голову, но тут же откинулся в свою засохшую блевотину.
– Ты уверен... насчет Дрю? – спросил Льюис. – Его не найдут?
– Его не найдут, – успокоил я его. – Будь уверен – я уж точно не расскажу, где нужно искать.
– Ну, тогда, думаю, все в порядке, – сказал он. – А теперь – иди, приведи кого-нибудь на помощь. Кого угодно. Я уже не могу больше поджариваться в этой блядской печке. Я хочу поскорее выбраться из этого ебаного гроба, из этой вонючей жестянки!
– Лежи спокойно. Мы выбрались. Мы свободны. Лежи спокойно и не волнуйся.
Я сказал Бобби, чтобы он оставался рядом с Льюисом, а сам, взобравшись по склону берега наверх, отправился к дороге, которая вела к мосту. Дорога была с тонким асфальтовым покрытием; в полумиле от себя увидел старенькую заправочную станцию, – наверное, «Шелл», – с двумя ярко-желтыми бензоколонками и магазинчиком. Я стоял и размышлял, как мне добраться до этой заправки и при этом не умереть по дороге. Удивительно, почему дорога под ногами не превращается в воду и не начинает течь вокруг меня? Странно было ощущать под ногами твердую, неколеблющуюся поверхность; но асфальт упорно не разжижался. И стоя на дороге, я оглянулся и посмотрел на реку – она была очень красива; уже тогда я знал, что всю свою жизнь я буду чувствовать ее особое притяжение, заново ощущать вес воды, обрушивающийся на меня, ощущать собственную невесомость при погружении в ее глубину, ощущать скорость ее течения – все эти ощущения навеки останутся со мной.
Но сейчас я чувствовал свой полный вес и передвигался с трудом. Рана в боку, покрытая корой засохшей крови, давно закрылась; к ней прочно присох кусок комбинезона, обвязанный вокруг талии. Если бы я попытался отодрать его от себя, я бы наверняка упал в обморок. И поэтому я его не трогал и шел, прижимая к ране локоть и слегка наклоняясь в сторону обочины. Я шел к станции; перешел мост над отводным каналом; заправка дрожала в горячем воздухе и все время убегала от меня, как мираж. А я гнался за ней. Бок сильно болел, но у меня было такое ощущение, что боль как-то отстранилась от меня. Мои лохмотья уже будто не касались раны, обступали ее со всех сторон; ощущения, подобные тем, которые я тогда испытывал, возникают, когда несешь какой-то громоздкий, угловатый, причиняющий боль груз, прижимая его к себе рукой. Когда я отправился в путь к бензоколонке, я чувствовал себя сухим – штанины комбинезона – которые я замочил, вылезая из лодки, быстро высохли, а пот еще не начал заливать меня. Но очень скоро под нейлоновой тканью, плохо пропускающей воздух, стало мокро от пота. К тому времени, когда я добрел до заправочной станции, я был весь исполосован потоками пота. Сквозь проволочную сетку, которой была затянута рама, заменявшая дверь, я увидел подростка, сидящего на старом стуле без спинки. Он выглядел так, как и положено выглядеть подростку в такой глубинке. По сетке ползали мухи, взлетали, ударяясь в нее снова. Подросток наверняка давно уже следил за мной, но мой облик вблизи, должно быть, произвел на него ошарашивающее, впечатление. Он нерешительно встал и открыл сетку-дверь.
– Тут есть телефон? – спросил я.
У него было такое выражение лица, будто он толком не знал, есть ли на станции телефон.
– Мне нужно вызвать скорую помощь, – сказал я. – И нужно позвонить в полицию. Пострадали люди, один погиб.
Я попросил парня, чтобы он позвонил сам – я не мог бы толком рассказать, где находится эта заправочная станция.
– Скажи им, что на реке произошел несчастный случай. И расскажи, как сюда добраться. Попроси, чтобы приезжали поскорее. Мне кажется, долго я не продержусь, а там в лодке лежит человек – он пострадал еще сильнее.
Он дозвонился, повесил трубку и сказал мне, что «скоренько приедут». Я сел на какой-то стул, откинулся на спинку и замер в полной неподвижности, повторяя про себя последний – самый важный раз – то, что я должен буду сказать. Но за придуманной историей стояло реальное происшествие, с его лесами, рекой, со всем тем, что случилось и что заставляло скрывать правду. Мне надо было свыкнуться с мыслью, что за два дня я захоронил трех человек, одного из которых убил сам. Раньше я никогда не видел мертвецов, если не считать отца, увиденного мельком в гробу. Было странно думать о себе как об убийце. Особенно если мирно сидишь на стуле на заправке. Но я слишком устал, чтобы испытывать беспокойство – и я его не испытывал. Единственное, что меня волновало – запомнил ли Бобби все то, что я ему сказал о дереве и обо всем остальном.
Я слышал, как мимо проехала пара машин, но ни одна из них и не притормозила у станции. Моя рана ныла, но боль была не острая – она пока отдыхала, лежала, затаившись у меня под рукой; я ее сотворил сам, она стала частью меня, и с ней можно было уживаться. Что сказать врачу, который будет ею заниматься? Сказать, что наткнулся на свою стрелу и она пропорола меня? Или что я порезал бок о байдарку, когда мы перевернулись? Дело в том, что после всех тех ударов о камни некоторые металлические части байдарки торчали рваными, острыми краями, о которые действительно можно было порезаться. Но я решил все-таки рассказать, что дыру во мне проделала моя же стрела, потому что в ране могли оставаться кусочки краски; к тому же, вид моей резаной раны вряд ли позволил бы выдать ее за нанесенную рваным алюминием.
Я чувствовал, как отяжелеваю. Я стал таким тяжелым, что не смог бы встать. Потом и моя голова стала такой тяжелой, что я не смог бы ее поднять. При этом, мне казалось, что, оставаясь неподвижным, я продолжаю грести. Потом меня охватило ощущение, что я совсем задубел. Но это было не так: когда кто-то коснулся моей обнаженной руки у плеча – с той стороны, где я отрезал весь рукав от комбинезона, – мышцы дернулись и напряглись. Рядом со мной стоял негр – водитель скорой помощи.
– Вы привезли врача? – спросил я.
– Да, привезли, – ответил водитель. – У нас хороший врач, молодой, но умелый. А что это с вами такое случилось? Что это такое могло с вами произойти? В вас что, стреляли из пулемета?
– Река, – сказал я. – Река стреляла в меня из пулемета. Но не я главный пострадавший. Я еще могу двигаться, потому и пришел сюда. Там, через мост, в лодке лежит человек, который действительно очень сильно пострадал. И третий из нас остался рядом с ним. Четвертый погиб... по крайней мере, я думаю, что он погиб. Мы не смогли найти его.
– Вы поедете с нами, покажете – где?
– Поеду... если смогу встать. Но сидеть я здесь больше не хочу. Еще немного, и свалюсь со стула.
Водитель подошел ко мне поближе, а я медленно поднялся – казалось, я весь обвешан глыбами камня. Все вокруг меня задвигалось, перед глазами запрыгали черные пятна – как кривые, дешевые солнцезащитные очки, выставленные на продажу на фоне желтого картона.
– Держитесь за меня, приятель, – сказал водитель.
Он был щуплым, но на ногах стоял уверенно. Я одной рукой обхватил его за плечи – но не той, что придерживал рану, а другой; колени подгибались, в глазах померкло.
– Нет, вы не дойдете до машины, – сказал он. – Садитесь, садитесь на стул.
– Нет, нет, дойду, – ответил я, и все вокруг меня снова сфокусировалось, будто я надел очки.
Я сказал подростку с заправочной станции, куда мы едем, и попросил сообщить полиции, где нас искать. Потом вместе с водителем вышел наружу. Ярко светило солнце. Я двинулся к белой машине скорой помощи. Врач сидел на переднем сиденье и что-то писал. Он поднял голову и тут же выскочил.
Он открыл задние дверцы:
– Подведи его сюда и уложи.
Я залез на носилки, установленные в машине, и улегся на спину. Сделать это было довольно сложно; к тому же, мне не хотелось отпускать водителя. Мне не только было приятно ощущать его присутствие рядом, принимать его помощь, но я чувствовал, что он вообще хороший человек. А мне так в тот момент нужно было ощущать присутствие хорошего человека. Я себе был уже не нужен – слишком долго я был только с собой и для себя.
Молодой врач, совсем не загоревший, с волосами соломенного цвета, склонился надо мной.
– Нет, нет, – сказал я. – Я могу подождать. Есть человек, которому помощь нужна больше. Поезжайте через мост. Там в лодке лежит человек с ужасным переломом ноги. Может быть, у него внутреннее кровотечение. Его надо осмотреть в первую очередь.
Мы поехали по шоссе – странно было ощущать это движение посуху, в машине, которая предназначена для перемещения по земле, – проехали мост, остановились. Я вылез, хотя, вероятно, этого и не нужно было делать. Но я решил, что так будет лучше.
Льюис, вытянувшийся во весь рост, обливающийся потом, по-прежнему лежал в байдарке; его рубашка во многих местах потемнела от пота. Одной рукой он прикрывал глаза; Бобби разговаривал с мужчиной и мальчиком – теми, кто удил рыбу. Я понял, что Бобби решил на них опробовать нашу версию случившегося; я надеялся, что он за это время обкатал ее в уме и теперь выдает то, что нужно. Судя по виду слушающих, ему верили. Ну, а как не поверить израненным, смертельно уставшим людям? Этим мы и должны воспользоваться.
Водитель и врач вытащили Льюиса из лодки и уложили на носилки. Центральная больница графства находилась в Эйнтри, милях в семи от того места, где мы находились. Когда мы уже собирались садиться в машину и отправляться, подъехала полицейская машина, и из нее вылез небольшого роста мужчина и светловолосый молодой человек, весьма агрессивного вида. Я приготовился.
– Что тут происходит? – спросил светловолосый полицейский.
– С нами произошел несчастный случай, – сказал я, покачиваясь несколько сильнее, чем несколько мгновений назад. Хотя тут же и прекратил – всякая неестественность могла все испортить. – Нас было четверо. Один утонул, миль за десять отсюда, вверх по течению.
Полицейский уставился на меня:
– Утонул?
– Да, утонул, – сказал я; мне казалось, что я успешно прошел первое испытание – будто прорвался сквозь первую линию опасных порогов. Но расслабляться нельзя – нужно продолжать держаться и дальше.
– А откуда вы знаете, что он утонул?
– Ну, понимаете, мы перевернулись, когда проходили пороги, ну, и когда оказались в воде, там каждый был сам по себе. Я точно не знаю, что с ним произошло. Может, он ударился головой о камень. Но точно я не знаю. Мы искали его, но не нашли... Если бы он не утонул – куда бы он мог подеваться? Я все еще надеюсь, что он, может быть, не утонул... но боюсь, что все-таки... если бы он не утонул, мы бы нашли его.
Все время, пока я говорил, я смотрел ему прямо в глаза, и это оказалось неожиданно легким делом; его глаза смотрели проницательно, но сочувствующе. Я рассказал ту версию, которую мы подготовили с Бобби еще на реке; при этом я старался зримо представить себе то, о чем я рассказывал, будто все так и происходило в действительности. Внутренним взором я видел, как мы ищем Дрю, хотя мы этого не делали; я видел, как мы выбираемся на берег у желтого дерева, и когда я говорил об этом, я видел, как мы это делаем; теперь мне было уже трудно представить, что ничего этого не было в действительности. Я видел, что он слушает и все запоминает, и сказанное мною становилось частью реального мира, вполне достоверного мира, мира зафиксированных событий.
– Ну что ж, – сказал полицейский, – нам придется поискать на дне реки. А вы можете показать нам, где это произошло? Ну, хотя бы приблизительно?
– Я думаю, да, – ответил я; мне хотелось, чтобы это прозвучало не абсолютно уверенно, а просто достаточно уверенно. – Я не знаю, есть ли дорога, чтобы подъехать прямо к реке, но, думаю, я бы узнал то место, если бы попал туда снова. Но сейчас нам надо отвезти в больницу сильно пострадавшего человека.
– Ладно. – Полицейскому явно не хотелось передавать власть в руки врачей. – Мы попозже заедем в больницу.
– Хорошо, – сказал я и залез в машину скорой помощи, улегся рядом с Льюисом.
Мы поехали. Хотя никогда раньше мне не приходилось ездить в машине скорой помощи, да еще в лежачем положении, я не припомню, чтобы поездка в автомобиле доставляла мне такое удовольствие. Наконец, шины съехали с асфальта, прошуршали по гравию – и машина остановилась. Я принял сидячее положение, поднимаясь медленно, поэтапно. Доктор, выйдя из машины, одним движением открыл обе задние дверцы; мне открылся широкий вид. Машина стояла рядом с длинным невысоким зданием, напоминавшим сельскую школу; вокруг простирались поля; дул теплый ветер.
– Приехали, дружище, – сказал доктор. – Не делайте резких движений. Корнелиус вам поможет. А мы пока займемся вашим другом.
Я снова ухватился за водителя; мы прошли сквозь стеклянные двери, потом двинулись вверх по пандусу, вошли в бесконечно длинный, просторный коридор. Окно в его дальнем конце выглядело как кадрик микрофильма.
– Вторая дверь направо, – сказал водитель, и мы направились к этой двери.
Вошли. Я безвольно опустился на белую пружинистую поверхность медицинской кушетки, подминая под собой простыню. Через пару минут принесли Льюиса, но в комнату не заносили. Его переложили на каталку, стоявшую у двери, и бесшумно покатили дальше, в сторону того, далекого окна. А я лежал и прижимал руку к своему старому другу, к своему боку.
Врач вернулся ко мне, ступая неслышно.
– Ну, посмотрим, что у нас там такое, – сказал он. – Вы можете приподняться, хоть чуть-чуть? Эта молния еще расстегивается?
– Наверное, – пробормотал я.
Я попытался принять сидячее положение – у меня это удивительно легко получилось. Мне даже удалось быстро расстегнуть молнию свободной рукой. Он снял мои теннисные тапочки и я, извиваясь, выполз из остатков комбинезона. Мои трусы, засунутые в рану, присохли к ней, как и кусок нейлона, которым я обвязался. Но врач, взяв какую-то бутылочку, полил все это жидкостью, не причинившей никакой боли, и трусы стали отставать от раны. Он бросил все мои вещи в угол и занялся раной.
А в ней что-то продолжало размягчаться – либо материя, либо моя плоть стали выходить из меня кусочек за кусочком. Врач бросал их куда-то под стол, на котором я лежал. Я не мог припомнить, видел ли что-нибудь под столом в этой пустой комнате, когда только вошел. Мой бок стал дышать, будто ртом – рана не ныла уже так сильно, в ней появилось какое-то необычное ощущение: казалось, она открылась значительно шире, чем была.
– Боже праведный! – воскликнул врач. – Что вам так изрубило бок? Такое впечатление, что сюда несколько раз ударили острым тесаком.
– Неужели?
Затем врач спросил более профессиональным тоном:
– Как это получилось? Что могло нанести такое ранение?
– Понимаете, мы собирались немного поохотиться на оленей. С луком, где-нибудь в диких местах, в лесу, по берегам реки. Хотя это официально и не разрешено, – стал рассказывать я. – Я знаю, это нехорошо, но мы все-таки хотели поохотиться. У нас не было бы времени отправиться на охоту в сезон, когда разрешено, и поэтому мы решили попробовать сейчас.
– А как же это вам удалось подстрелить себя стрелой? Я и не представлял, что такое бывает.
Разговаривая со мной, он не прекращал работу, заглядывая мне в рану, в мою кровь – спокойно, уверенно.
А я продолжал рассказывать спокойным голосом:
– Видите ли, когда мы переворачивались, лук со стрелами был рядом со мной, и я успел схватить его. Мне не хотелось оставаться в лесу – я имею в виду, на реке, но лес там везде подходит прямо к берегу, – совсем без оружия. Одна стрела изрезала мне всю руку.
Я поднял руку и показал врачу порезы. Эту руку действительносильно изрезали стрелы.
– Ну, а потом я налетел на какой-то камень. Почувствовал, что мне что-то всаживается в бок. Лук я потерял. Куда он потом девался, не знаю. Смыло, наверное, вниз по течению.
– Могу вам сказать, что первоначальная рана была просто резаная, – сказал врач, – а потом ее сильно что-то покромсало, будто по ней проехались несколько раз пилой... В ране есть следы какого-то постороннего вещества, и мне придется все это вычистить.
– На стрелах были пятна краски, для камуфляжа, – объяснил я. – Я думаю, часть этой краски облезла прямо в ране. А может быть, туда попало что-нибудь еще. Бог его знает, что там еще может быть.
– Мы все вычистим, – сказал врач. – А потом зашьем вас. Будете как стеганое одеяло. Хотите выпить?
– Да, неплохо бы, – сказал я. – У вас есть виски?
– Что-нибудь другое найдется, а вот виски – нет. Его вам придется пить где-нибудь в другом месте, – сказал врач. – С виски у нас туго. У нас в графстве сухой закон.
– Вы хотите сказать, что у вас в больнице не найдется самогонного виски? Как можно жить в таком месте? И вообще – что происходит с северной Джорджией?
– Нет, самогона у нас нет. Мы постоянно всех предупреждаем, чтобы не пили его. В том виски, которое здесь гонят, много солей свинца.
Врач сделал мне укол в бедро и снова принялся за рану. Я посмотрел в окно, но там были видны лишь краски угасающего дня – различные, постоянно меняющиеся оттенки зеленого.
– Хотите у нас провести эту ночь? Места предостаточно. Собственно говоря, в вашем распоряжении вся больница. Такой возможности у вас больше не будет, это я могу вам гарантировать. Здесь у нас спокойно. Никаких вам подстреленных фермеров. Никого, кого бы помял трактор. Никого, сидящего на капельнице и глюкозе после автомобильной аварии. Пьяных у нас на дорогах нет. В больнице сейчас никого нет, кроме вас, вашего приятеля и еще одного мальчика – того укусила змея. Завтра мы его выпишем. Яд у мокасиновой змеи не такой уж сильный.
– Нет, спасибо, не останусь, – сказал я (хотя если бы я знал, что мне нужно было побыть рядом с Льюисом, остался бы). – Зашейте меня, а потом расскажите, где у вас тут что-нибудь вроде гостиницы – переночевать. Мне хочется позвонить жене, поговорить с ней, и еще побыть одному. А спать в больничной палате мне совершенно не хочется. Я бы остался в больнице только, если бы это было совершенно необходимо.
– Вы потеряли много крови. Вы будете чувствовать большую слабость.
– Должен вам сказать, что я чувствую слабость уже давно. Дайте мне какое-нибудь лекарство, на ваше усмотрение, и я не буду вам больше надоедать.
– Я отправил вашего друга, ну, того, что стоял рядом с лодкой, в гостиницу «Виддифорд». Это в центре города. Обслуживание там хорошее. Но будь я на вашем месте, я бы остался сегодня на ночь здесь.
– Нет, нет, спасибо, – поблагодарил я. – Со мной все будет в порядке. Скажите, пожалуйста, полиции, где меня искать. Если можете, отвезите меня в гостиницу – и займитесь Льюисом.
– С ним сейчас другой врач. Насколько я могу судить, перелом очень сложный. Можно считать, что ему повезло, если перелом не осложнится гангреной. Перелом пренеприятнейший.
– Нам очень повезло, что тут такие хорошие врачи, – сказал я.
– А вы, оказывается, подхалим! Скажите еще, что у меня ангельские руки!
Врач отвез меня в город на своей машине. Возле главной заправочной станции Эйнтри стояли машины Льюиса и Дрю. Я зашел в здание станции. Бок давал о себе знать, но мне не приходилось больше придерживать рану рукой. Я поговорил с владельцем заправки и взял у него адрес братьев Гринеров – надо было отослать им вторую половину денег, обещанных за доставку машин. Оказалось, что Льюис договорился обо всем заранее, еще до нашего отъезда, и мне пришлось попросить владельца станции рассказать мне, что теперь нужно сделать. У меня с собой не было достаточно денег, но я мог взять деньги либо у Льюиса, либо отправить их Гринерам после того, как вернусь домой. Главное, что машины были на месте и что я смог забрать ключи от них. Я попрощался с врачом и сказал, что заеду в больницу на следующий день. Потом позвонил Марте и сказал, что произошло несчастье, что Дрю утонул, а Льюис сломал ногу. Я попросил Марту позвонить жене Льюиса и сказать ей, что Льюис в больнице здесь, в Эйнтри, и что ему придется оставаться в больнице еще некоторое время, но что с ним все будет в порядке. Если жена Дрю Боллинджера позвонит жене Льюиса или ей. Марте, и начнет о чем-нибудь расспрашивать, ей следует сказать, что мы вернемся через пару дней. Я сам хотел рассказать жене Дрю о его смерти; я сказал Марте, что вернусь где-то в середине недели.
Я, взяв машину Дрю, поехал в гостиницу «Биддифорд». Это был каркасный дом, в котором было много людей, много шума, много света. В большом зале, за длинным сосновым столом, расширяющимся к одному концу, сидело за ужином, наверное, все население гостиницы. Вдоль стола, на совсем небольшом расстоянии от него, висели полоски липкой бумаги для мух. Среди ужинающих я увидел Бобби; он что-то жевал; на его лице, казалось, оставался лишь жующий рот. Я, подмигнув ему, сел за стол. Мне уступили место рядом с Бобби. За столом сидели фермеры, дровосеки, мелкие торговцы. На время я потерял интерес ко всему, кроме еды. Мне передали жареного цыпленка – кругом меня все было заставлено тарелками с жареными цыплятами. Я подкладывал себе еще и еще; кроме курятины, я поел картофельного салата, тяжелых галет из муки грубого помола. Ел и подливу, масло, капусту, фасоль, мамалыгу, ботву репы, вишневый пирог. И все это было очень вкусно. Хорошо и вкусно.
После ужина хозяйка гостиницы провела меня в мою комнату на втором этаже, где стояла большая двухспальная кровать – все остальные номера были заняты. Бобби разместили в другом номере. Я чувствовал сухость во рту, вся кожа казалась сухой. Я спустился вниз и в душевой, расположенной в подвале, принял душ. На меня снова лилась река, вокруг была сине-зеленая сельская ночь. Плотная от теплой воды, свеженькая повязка на боку вздулась, отяжелела, и на ней проступили пятна крови. Я уже стал засыпать в душе, но вода, которая становилась все прохладнее, разбудила меня. Потом я, с мокрыми волосами и мокрой повязкой на боку, вернулся к себе в номер и залез в постель. Все закончилось. Всю ночь я бодрствовал, погруженный в великолепный сон.
После
Когда я проснулся, оказалось, что я снова прижимаю локоть к раненому боку – он теперь был прикрыт плотным пакетом, от которого, казалось, исходило тепло. Я полностью очнулся ото сна довольно быстро; лучи утреннего солнца – или, по крайней мере, мне казалось, что еще достаточно рано – начали покалывать мои веки. Открыв глаза, я увидел, что лежу в большой, провинциального вида комнате; на окнах кричащие занавески (их цвет можно было бы назвать красным); на стене напротив меня огромное зеркало; где-то позади – маленький туалет; в углу – небольшой комод, без ручек на ящиках; по всему полу – вязаный ковер.
Я лежал и раздумывал. Сначала мне хотелось повидать Бобби, потом Льюиса. Я встал с постели, обнаженный, если не считать плотного пакета на боку – он давал ощущение, что на мне все-таки что-то надето, – поднял с пола то, что оставалось от моего нейлонового комбинезона – изорванные, залитые высохшей кровью тряпки без рукавов. Надевать эти лохмотья мне не хотелось, но я все-таки натянул их и стал шарить по карманам в поисках денег. Обнаружил пару банкнот – отпечатанных и выпущенных, казалось, рекой. Но все равно, это были деньги, которые могут очень пригодиться. Оставив нож и пояс в номере, я отправился на поиски Бобби. Когда я уже выходил, я увидел себя в зеркале. Я выглядел как человек, который пострадал при взрыве: один рукав оторван, комбинезон изорван и в крови, одна штанина распорота; на щеках щетина, глаза красные, губы плотно сжаты. Я улыбнулся своему отражению широко, белозубо – борода раздалась в стороны.
Узнав у хозяйки гостиницы, убиравшей со стола после завтрака, в каком номере остановился Бобби, я отправился к нему. Подошел к двери, постучал. Он наверняка еще спал, но мне хотелось немедленно, не оставляя на потом, обговорить с ним то, о чем я размышлял утром. Я настойчиво стучал, и через некоторое время Бобби открыл дверь.
Я вошел, сел в кресло-качалку, а он – на кровать.
– Прежде всего, – сказал я, – мне нужна какая-нибудь одежда. Тебе, наверное, тоже нужно будет что-нибудь прикупить – если у нас хватит денег, конечно. У тебя со шмотками явно получше, чем у меня, поэтому именно тебе придется пойти и купить мне какие-нибудь штаны, самые простые. Можно обыкновенные голубые джинсы. И какую-нибудь рубашку попроще. Потом купи себе, что тебе там нужно, а если останутся деньги, купи мне туфли. Самые простые.
– Ладно. Где-то здесь поблизости должен быть магазин. В этом городке все где-то поблизости.
– Так, теперь вот еще что. Пока все идет нормально. Мы чисты от каких бы то ни было подозрений. Сверкаем как золото. О Льюисе заботятся, и наши рассказы – наверное, следует говорить «наш рассказ», – воспринимается как надо. Я не увидел ни тени сомнения в глазах тех, с кем мы говорили. А ты?
– Нет, вроде не видел. Но во мне нет такой уверенности, как у тебя. Тебя этот тип расспрашивал про байдарки?
– Нет. Какой тип? Что именно он спрашивал про байдарки?
– Ну, такой маленького роста старичок, он здесь вроде как «представитель закона». Он расспрашивал меня про вторую байдарку: где она, что с ней сталось, где мы ее потеряли, что в ней там находилось.
– И что ты ему сказал?
– Ну, сказал то, о чем мы и договаривались, – что мы потеряли ее в этих последних порогах, очень опасных и бурных.
– А о чем он еще расспрашивал?
– Да вроде ни о чем больше. Я так и не понял, чего он добивался.
– А я понимаю, – сказал я. – Ну, по крайней мере, мне кажется, что понимаю. И тут нас могут поджидать неприятности, может быть, еще, и не очень крупные, но неприятности.
– О Господи, какие еще неприятности?
– Мы потеряли зеленую байдарку не вчера, а позавчера,и ее, или что-нибудь, что от нее осталось, может быть, нашли. И нашли еще до того, когда мы, по нашим словам, добрались до тех порогов и потеряли ее.
– Боже милостивый!
– Значит – придется подлатать нашу историю. Возможно, тот тип, о котором ты рассказываешь, сообщит полиции штата, что в нашем рассказе не все сходится. И тогда полиция начнет задавать нам всякие вопросы. Полиции всегда хочется разъединить подозреваемых и допрашивать их раздельно. А потом выясняют, нет ли противоречий в их показаниях. Я надеюсь, ты понимаешь, чем все это может для нас закончиться, если они что-нибудь вынюхают. Поэтому нам нужно сейчас посидеть здесь, все еще раз обдумать и выдать версию, в которой нельзя будет найти никаких противоречий.
– И ты думаешь, у нас это получится?
– Надо попробовать. Думаю, получится. Давай вспомним, как это все было на самом деле. Мы потеряли лодку тогда, когда Дрю был убит, так?
– Так. Так оно и было. Против правды не попрешь. Но если мы им покажем, где это действительно произошло, или если они сами туда доберутся...
– Подожди, подожди. Мы скажем, что в первый раз перевернулись где-то там, значительно выше по течению. Там мы и потеряли одну байдарку, а Льюис сломал ногу. Но мы всетогда выжили и попытались плыть дальше вниз по реке в байдарке Льюиса. Мы пошли на риск – хотели побыстрее доставить Льюиса в больницу, но байдарка была перегружена, и управлять ею было очень трудно. А потом мы влетели в эти жуткие пороги. И там было еще что-то вроде каскадов небольших водопадов. Ну, нас и перевернуло, и Дрю погиб. Вот этой версии нам и надо придерживаться. Понятно? Если мы будем рассказывать именно так, то уже завтра вечером, а может быть, уже и сегодня будем дома.
– А что, если нам не поверят? Что мне сказать, когда этот красномордый коротышка начнет меня расспрашивать опять: где же мы все-таки потеряли ту байдарку? Ведь сначала я ему сказал, что мы потеряли ее в последних порогах.
– Скажи ему – и говори это всем, – что он тебя неправильно понял. Кто-нибудь еще был при вашем разговоре?
– Нет. Я не думаю, что нас еще кто-нибудь слышал.
– Это хорошо. И, насколько я помню, тому первому полицейскому я ничего об этом не говорил. Скорее всего, он тебя об этом уже не будет спрашивать, а придет сюда и начнет расспрашивать меня. А я ему изложу все как надо. Я готов встретиться с ним. Я очень рад, что ты мне рассказал об этом типе. Очень даже рад.
– Что-нибудь еще будем менять в рассказе?
– Насколько я понимаю ситуацию – нет, не будем, – ответил я.
– А все-таки, Эд, что, если нам не поверят? Что, если полиция будет сомневаться в правдивости нашего рассказа и отправится вверх по течению искать всякие там свидетельства?
– Ну, в таком случае, как я уже сказал, у нас могут возникнуть неприятности. Но я не думаю, что полиция что-нибудь пронюхает. Вспомни – позавчера мы прошли сквозь такое количество этих блядских порогов, что могли перевернуться в любом из них. А там, где был убит Дрю и где мы притопили тело того типа, стены ущелья были самыми крутыми и высокими. Добраться туда можно либо плывя вниз по течению, как плыли мы, либо двигаясь вверх по реке, против течения. Представляешь, что значит добраться туда против течения? Проходить все эти пороги и при этом искать, обшаривать реку, метр за метром. На это уйдет не один день! Отправлять такую поисковую партию только потому, что кто-то там не поверил рассказу потерпевшего? Никто этим не будет заниматься. Моторная лодка там не пройдет, обыкновенная лодка не проскочит по тем местам, где мелко. Значит, остается одно – плыть на лодках вроде наших байдарок вниз по течению, проходить сквозь все те же пороги. А ты сам прекрасно знаешь, что это значит. Ты хотел бы все это повторить? Им придется подвергать свою жизнь опасности, и ради чего? К тому же, как можно проноситься сквозь все эти пороги и одновременно что-то искать?
– Ну, можно искать там, где течение не такое бурное. А Дрю лежит на дне как раз в таком месте.
– Правильно. В одномиз таких мест. Но в каком именно?
– Ладно, – сказал Бобби. – Кажется, все будет нормально.
– Есть еще один способ подобраться к тому месту – спуститься со скалы. Но для этого нужно организовать целую скалолазную экспедицию. А кто захочет лазить по той скале? Даже если кому-нибудь такая мысль и придет в голову, никто за это не возьмется.
– Ну, а что, если они все-таки выйдут на то место наверху? Там же остался кусок твоей веревки. Так или нет?
– Очень маловероятно, что они попадут именно на томесто. Веревка, действительно, оборвалась, но у самой верхушки скалы. Нет, того места не найдут. До той веревки уже никому не добраться.
– Ну что, вроде все?
– Да, все, кроме одного. Помни: ни на реке, ни в лесу мы никогоне видели с того самого момента, когда отплыли из Оури. Ни одного человеческого существа. Это самое важное. Это самое важное. Только так и никак иначе. Ни-ко-го.
– Можешь быть спокоен, я только так и буду говорить. Мы никого и не видели... О Боже, как бы я хотел, чтобы нам действительно никто не повстречался!
– А нам никто и не повстречался. Тут есть еще одно обстоятельство, оно меня немного беспокоит. Не исключено, что полиции сообщили о том, что пропали люди. И может быть, кто-нибудь знает, куда именно эти люди направлялись. Но по сравнению с другими – эта проблема самая незначительная. Мы никого не видели, и все тут. К тому же, те два типа были совершенно отвратительны. Кому придет в голову искать их?
– Ну, может быть, кому-то и придет.
– Правильно, кому-то, может быть, и придет. Но если даже этот «кто-то» знает, куда они собирались, или знает, в каких приблизительно местах болтались, то нам что до этого? С этим мы ничего поделать не можем. Тут нужно надеяться просто на везенье. И я чувствую, что везенье на нашей стороне. Шанс, что все обойдется, достаточно велик.
Бобби рассмеялся, и на этот раз смех был искренним.
– Как ты думаешь, в этой комнате установлены «жучки»? Может быть, нас подслушивают?
– Никаких «жучков» здесь нет, – сказал я, – но сама по себе мысль очень своевременна, приятель.
Я снял теннисные тапочки, в носках бесшумно подошел к двери и прислушался.
– Говори что-нибудь, – прошептал я, повернувшись к Бобби. – Говори чего-нибудь и дай мне время послушать.
Я стоял у двери и прислушивался, не услышу ли тихое дыхание, тихий свист воздуха, когда дышат через нос, – и мне показалось, что я что-то услышал. Но если слишком напряженно прислушиваться, то можно услышать дыхание где угодно. Но то, что я слышал, нельзя было бы с уверенностью назвать чьим-то дыханием. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Я ухватился за ручку и резко открыл дверь. Никого. С лестницы ничего не слышно? Нет, не слышно, я был уверен в этом. Ничего.
Я повернулся к Бобби и жестом показал – все в порядке.
– Я буду у себя в номере, – сказал я. – А ты пойди, купи одежду, а потом мы отправимся в больницу. Льюис наверняка еще в отключке, и в любом случае я не думаю, что к нему будут особенно приставать с вопросами. Но нам все равно нужно попытаться сообщить ему об изменениях в нашей версии. И спросить, что он помнит о ее первом варианте.
Я вернулся в свой номер, стянул свой изорванный комбинезон и улегся в кровать. Мне хотелось побыстрее встретиться с местным шерифом, если тот тип, который расспрашивал Бобби о лодке, был действительно шерифом. Кто бы он ни был, я был готов к его вопросам, сколько бы он ни строил из себя провинциального детектива. Пускай попробует вывести нас на чистую воду!
Солнце стояло довольно высоко в небе. Я стащил с себя одеяло. Я чувствовал еще некоторую усталость, но яркий солнечный свет отгонял сонливость. Мне, раненому, было приятно лежать в постели и чувствовать, как возвращаются силы. И не так уж сильно я ранен. Швы крепко сжимали рану. А силы все прибывали. Да, хорошо...
Бобби вернулся с купленной одеждой. Я натянул на себя голубые джинсы – странно было ощущать, что они сухие, – рабочую рубашку, грубые башмаки, какие носят фермеры; при каждом шаге я чувствовал, как они соединяют меня с землей. Хотя башмаки были очень тяжелыми, я уже не ощущал усталости, и мне было довольно приятно поднимать ноги, обремененные тяжестью.
Я взял свой комбинезон, скомкал его. И мы с Бобби, одетые как типичные фермеры, спустились по лестнице на первый этаж. Было восхитительно чувствовать на себе сухую одежду.
Хозяйка гостиницы, которую раньше назвали бы постоялым двором, занималась уборкой.
– Я не знаю, куда это выбросить, – сказал я. – Вы не поможете?
И протянул ей свой свернутый комбинезон, весь измазанный высохшей кровью.
Она взглянула на меня:
– Помогу. Это, действительно, остается только выбросить.
– Да. Эта одежка уже ни к чему не пригодна. Сжечь ее – и все.
– Придется так и сделать. Даже на тряпки это нельзя пустить. – И она улыбнулась. А мы улыбнулись в ответ.
Мы с Бобби сели в машину Дрю и поехали в больницу. Рядом с ней стояли две полицейские машины.
– Ну, держись, – сказал я. – И помни, о чем мы говорили.
Мы зашли в здание, и какой-то человек в белом халате проводил нас в палату, где лежал Льюис. В палате стояли трое полицейских. Они тихо переговаривались, ковыряя во рту зубочистками. Льюис, который либо просто спал, либо еще находился под воздействием наркоза, лежал на койке в углу большой пустой палаты. Нижняя половина его тела была укрыта простыней, которая особым образом поддерживалась на весу так, чтобы не касаться тела. Рядом с ним сидел врач с соломенными волосами – тот самый, который занимался моей раной, – и опять что-то писал. Услышав мои тяжелые шаги, он повернул голову.
– А, привет, покоритель стихий. Как спалось?
– Нормально. Лучше, чем на берегу реки.
– Швы держатся?
– Держатся. Вы меня так крепко сшили, что я уже не расползусь. Ничего не залазит в рану и ничего из нее не вылазит.
– Хорошо, – сказал он, неожиданно посерьезнев; мне нравилось то, как он становился серьезным, когда речь заходила о вещах профессиональных.
Льюис вернулся к нам, в этот мир, раньше, чем я успел сказать что-нибудь еще. Верхняя часть его тела вдруг ожила; он выходил из сна, будто совершал какое-то мускульное усилие. Резко обозначились вены на его бицепсах – как на рисунке из анатомического атласа, – и он открыл глаза.
Я повернулся к полицейским:
– Вы уже с ним говорили?
– Нет, – ответил один из полицейских. – Мы ждали, пока он очнется.
– Похоже, он уже очнулся, – сказал я. – Или вот-вот очнется. Подождите еще минутку.
Льюис смотрел прямо на меня.
– Привет, Тарзан, – сказал я. – Как там дела, в мире Великого Белого Доктора?
– Очень бело, – ответил он.
– Что там с тобой делали?
– Это ты мне должен рассказать, что со мной делали. Нога – будто свинцом налита. И в ней гуляет боль. Но я лежу в чистой постели, крови нет, нет и этого скрежета внутри меня, когда я двигаюсь. Так что, думаю, все в порядке.
Я стал так, чтобы находиться между Льюисом и полицейскими, наклонился очень низко к нему – голова к голове – и подмигнул. Он подмигнул мне в ответ, но так, что всякий, кто точно не знал бы, что он подмигивает, не догадался бы об этом.
– В эту реку мы больше не полезем, приятель, – сказал он. – По крайней мере, сегодня.
Льюис, сам того не подозревая, дал мне возможность сообщить ему то, что мне было нужно. И я не упустил эту возможность; при этом я надеялся, что все слышали его слова.
– Все полетело кувырком, – сказал я. – А Дрю погиб. Ты помнишь, как я тебе говорил об этом?
– Вроде помню, – ответил он. – После того, как мы перевернулись, а потом поплыли снова, я чувствовал, что его уже в байдарке нет. Это я помню точно.
– А ты помнишь это облако брызг между двух камней? – спросил я.
– Ну так, смутно. Это произошло именно там?
– Дрю утонул после того, как мы перевернулись во второй раз, в последнихпорогах, – сказал я медленно. – В первый раз, когда ваше корыто перевернулось, мы выловили тебя со сломанной ногой. Там, помнишь, вверхпо течению. Я поймал вторую байдарку, мы загрузили тебя в нее и поплыли дальше. А по дороге перевернулись еще раз,в тех порогах, где висело это водяное облако... Там и погибДрю.
– Я ничего не видел, кроме воды. Я смотрел вверх и не видел даже неба.
– Да, ничего не было видно, даже неба, – сказал я.
– Даже неба.
Я развернулся своим залатанным боком к полицейскому, который стоял ко мне ближе всех.
– Вы сами увидите. Сразу поймете, о чем говорит Льюис.
– Вы не подождете немножко за дверью, а? – сказал один из полицейских – я его раньше не видел.
Мы вышли из палаты и пошли по коридору. Но самое главное было сделано – Льюис получил предупреждение; я был уверен, что он понял, что я хотел ему сказать. И получил вовремя.
Ни я, ни Бобби не успели побриться, и хотя мы, наверное, выглядели довольно неряшливо, но, по крайней мере, чисто – в нашей новой одежде. Если бы я побрился, я бы почувствовал себя совершенно другим человеком. Но в новой одежде я уже был наполовину другим человеком, и это было хорошо. Возвращаться все-таки лучше чистым.
Через минут пятнадцать один полицейский – тот, которого мы впервые увидели в палате Льюиса, – подошел к нам и как бы между прочим спросил:
– Как насчет того, чтобы вернуться в город?
– Ладно, – сказал я. – Как скажете.
Мы залезли в полицейскую машину; я сел рядом с полицейским на переднем сиденье. Мы ехали; я молчал, полицейский молчал тоже. В городе он остановился у какого-то кафе, зашел внутрь и стал куда-то звонить. Когда я смотрел на него через три слоя стекла – через ветровое стекло машины, через витрину и стекло телефонной будки внутри кафе, – я почувствовал неясный страх. Меня как будто опутывала огромная, безжалостная паутина современной связи. А что, если сейчас приводится в действие колоссальный, непостижимый аппарат расследования преступлений, от которого никто не защищен? Я представлял себе бесконечные картотеки, компьютеры, неустанно сортирующие информацию, сравнивающие данные и факты. А что, если он говорит с самим Эдгаром Гувером, главой ФБР? Наша версия не устоит перед таким напором... Нет, устоит – даже перед Гувером!
Полицейский вернулся к машине, сел за руль, но дверцу оставил открытой. Через некоторое время подъехали еще две машины. Вокруг нас стала собираться небольшая толпа. Сначала одна голова повернулась в нашу сторону, потом еще одна... В конце концов все, кто проходил мимо, останавливались недалеко от нас, смотрели в нашу сторону. Некоторые украдкой, а некоторые – открыто, без стеснения. Я, в своей фермерской одежде, сидел без движения. И я могу показать, где эта одежда куплена. Мысль о том, что среди всех этих здоровых людей я один с раной в боку, почему-то подействовала на меня успокаивающе.
Один из полицейских из другой машины расспрашивал у кого-то из местных о дорогах, ведущих к реке. Через несколько минут мы уже были готовы ехать. Я поискал глазами Бобби – он сидел в одной из полицейских машин. Как только мы отъехали, еще одна машина полиции, выглядевшая как-то очень по-местному, проехала мимо нас. В ней сидел пожилой, спокойный, старомодный человек; я был уверен, что это именно он говорил с Бобби. Наверняка мы поедем к реке, где они будут совещаться, что делать дальше, подумал я. Под щетиной у меня зачесалась кожа. И я стал прикидывать в уме, что и как говорить – еще и еще раз.
Мы свернули с шоссе и поехали по узкой дороге, проходившей по территории какой-то фермы. Проехали мимо курятника. Какая-то женщина кормила цыплят; она была укутана так, будто на дворе было холодно. Но, скорее всего, она просто спасалась от палящих лучей солнца.
Мы двигались все медленнее и медленнее. Пока ничего не происходило. Никаких обвинений против нас не выдвигали, ничего подозрительного не обнаружили. Чем больше я сживался с выдуманной мною историей, тем правдивее она мне казалась; тела, спрятанные в реке и в лесу, оставались на своих местах.
Та машина, в которой сидел я, шла первой. Мы проехали через поле кукурузы яркой расцветки, заехали в скудный лесок с низкими соснами. Я прислушивался – не услышу ли шума реки, но увидел ее раньше, чем услышал. Чем ближе мы подъезжали к реке, тем хуже становилась дорога. Ничего удивительного в этом не было. У самой реки машины уже едва ползли.
– Это произошло где-то здесь? – спросил меня полицейский, сидевший за рулем.
– Нет, – сказал я, выхваченный из полусна, в который, незаметно для себя, погрузился. – Должно быть, где-то выше по течению. Вода здесь слишком спокойная. Если бы умудрялись переворачиваться даже в тихой воде, мы бы сюда вообще не доплыли.
Полицейский как-то странно взглянул на меня – или мне просто показалось, что странно. А я как раз в этот момент высматривал желтое дерево и прислушивался – опять! – не слышно ли шума водопада. Было чудно подъезжать к порогам на машине, двигаясь вдоль реки.
Нам пришлось ехать еще не менее часа – ехали медленно, перебираясь через неглубокие овраги, но участков, непроходимых для обычных машин, не было. Наконец, мы увидели желтое дерево. В глаза бросился сначала его цвет, а потом я разглядел и следы от удара молнии. И сердце мое прыгнуло, будто независимое от меня живое существо, – казалось, оно хочет выскочить и убежать. В порогах, до которых было с четверть мили, ревела вода. Я различал уже некоторые камни и увидел, что пороги значительно страшнее, чем они казались раньше. Перепад уровня реки на одном участке был не меньше трех метров. И единственное место, сквозь которое могла проскользнуть байдарка, представляло собой узкую воронку, в которую вжимался весь поток реки; вода протискивалась в этот проход, становясь белой от пены, беснуясь, являя собой зрелище невероятной мощи, постоянно стремясь вырваться из узкого прохода. Полицейский показал на воронку:
– Это здесь?
– Да, мы перевернулись в этом месте, – сказал я. – Но скорее всего, Дрю – нашего товарища – снесло дальше вниз по течению. Или, может быть, он остался где-то там, на камнях. Я думаю, искать нужно начинать отсюда.
Мы вылезли из машины, остальные вышли тоже, и все мы стали сходиться. Проведя взглядом над капотами и крышами машин, я увидел Бобби, который стоял без движения. Полицейские проходили мимо него, и его неподвижность среди двигающихся туда-сюда людей наводила на мысль, что он либо не может перемещаться свободно, либо вообще не может двигаться. Вряд ли кто-нибудь, кроме меня, обратил на это внимание или интерпретировал таким образом неподвижность Бобби. Но так или иначе, меня охватило некоторое беспокойство – Бобби выглядел как арестованный, в какой-то момент я даже подумал, что ему на ноги надели кандалы. Я направился к нему, но полицейские, вылезшие из этих трех машин, двигались так, что все время оказывались между мной и Бобби – очевидно, вполне намеренно, хотя им удавалось создавать вид, будто это происходит случайно. Но, наконец, Бобби сдвинулся с места и вместе со всеми пошел к реке.
Тем временем подъезжали все новые машины, и вскоре они вытянулись в длинный ряд вдоль берега вниз по течению. Среди приехавших в основном, были фермеры, но, судя по внешнему виду, попадались и мелкие торговцы. Некоторые привезли с собой длинные веревки с привязанными к ним крюками – «кошками». И я впервые с ужасом осознал полный смысл выражения, которое иногда встречалось в газетах, особенно летом: «драгировать реку с помощью крюков в поисках трупа». Действительно, с помощью крюков.
– Это то самое место? – снова спросил меня полицейский.
– Насколько я помню, то самое, – сказал я. – И мне кажется, я не ошибаюсь.
Люди стали входить в воду, держа свои веревки и крюки наготове. Некоторые стояли по пояс в воде, некоторые – по грудь. Вода спокойно обтекала их. Стали забрасывать веревки и цепи, тащить их обратно, но крюки возвращались пустыми. В действиях людей обозначился определенный ритм. Каждый раз казалось, что крюки за что-то цеплялись под водой, но это что-то непременно соскальзывало с них, когда их подтягивали к берегу. Я сидел под кустом рядом с полицейским, который привез меня к реке, наблюдая за людьми в высоких резиновых сапогах, стоящих в воде; я вспомнил кольцо на пальце Дрю, мозоли на мертвой ладони, развернувшейся в воде.
Кто-то подходил к нам, не спеша, но целенаправленно. Я повернул голову к полицейскому, сидевшему рядом со мной, чтобы показать, что я, вроде бы, не замечаю подходящего ко мне человека.
– Послушай, приятель, – сказал этот человек. – Можно с тобой поговорить?
– Да, конечно, – ответил я. – Садитесь.
Он сел, мы пожали друг другу руки. Подошедший оказался пожилым человеком, щуплым, с морщинистым лицом, карими глазами. Шляпу он носил как это было принято в сельской местности, слегка набекрень – это всегда меня забавляло. Я чуть не улыбнулся, но, взяв предложенную мне сигарету и закурив, отогнал улыбку.
– Ты уверен, что это то самое место?
– Я не могу быть совершенноуверенным. Я уверен, что Дрю погиб где-то здесь, но не могу сказать, где именно: там, в камнях, или уже тут, поближе к нам.
– Ты говоришь, что вы вот плыли по этой самой речке на байдарке?
– На двух байдарках. Поначалу мы плыли в двух байдарках.
– Как так?
– Как так что?
– Как так, что вы вообще взялись плыть на этих штуках? Зачем?
– Э-э-э-э... – начал я, колеблясь, не зная точно, что сказать (я и до сих пор не знаю). – Ну, я думаю, мы хотели вроде как проветриться немного. Мы все работаем в большом городе, и торчать все время в конторе очень утомительно. Тот, который сломал ногу – он уже бывал раньше в этих местах, ловил рыбу. Он рассказывал, что места здесь очень красивые и нам стоит их посмотреть сейчас, потому что реку скоро перегородят дамбой, все зальет водой, а то, что не зальет, превратят в что-то вроде парка. Вот и все. Никакой особой другой причины не было. Мы затеяли все это просто со скуки.
– Это я понимаю, – сказал он после небольшого молчания. – И вы не знали толком, что здесь, на реке, вас ожидает, так?
– Да, действительно, не знали, – ответил я. – Мы и предположить не могли, что все так обернется.
Он некоторое время обдумывал мои слова.
– Видишь те большие старые камни, вон там? Почему вы не вылезли из вашей лодки и не протащили ее через них? Почему вы попытались проплыть между ними? Вы что, не видели, как это сложно? Зачем вы туда сунулись на лодке?
– Течение там, перед порогами, очень быстрое. Эти вот камни – последние в порогах. Мы плыли слишком быстро. К тому же, эти пороги не казались такими уж страшными. Мы не видели, что там такой большой перепад. А когда увидели, было слишком поздно. Мы уже падали с уступа вниз. И ничего уже нельзя было сделать. Там нас и вывалило из лодки.
– Раз так, то вашего приятеля нечего искать на камнях, а?
– Нет, его там, конечно, нет, – сказал я. – Поэтому я предложил искать сначала где-то здесь. Он не мог остаться там, на дальних камнях, но может быть, он застрял на камнях тут, прямо под водопадом.
– Ну, тогда от него мало что осталось, а?
– Да, наверное.
– Ты говоришь, вы отправились по реке позавчера?
– Мы отплыли в пятницу, около четырех дня.
– В двух лодках.
– Да, в двух байдарках.
– И потеряли одну из них здесь, на этом месте?
– Нет, не здесь. Значительно выше по течению. После этого мы все четверо забрались в одну байдарку.
Наступило молчание, которое продолжалось не меньше минуты.
– А твой приятель рассказывает по-другому.
– Этого не может быть, – сказал я. – Пойдите и расспросите его получше.
– А я уже расспрашивал его.
– Ну тогда расспросите еще раз. Расспросите того, кто в больнице.
– Э, нет. У тебя была возможность поговорить и с тем, и с другим.
– Ну тогда у вас что-то не в порядке со слухом.
– Со слухом у меня все нормально. Никакого тела мы тут не найдем. А найдем его выше по течению.
– На что это вы намекаете? – сказал я с возмущением, и оно было не деланным, а вполне искренним. Мой рассказ подвергали сомнению, а мне стоило много времени, сил и крови – да, да, крови, – создать нашу версию происшедшего.
Я наклонился к полицейскому.
– Послушайте, почему я должен выслушивать все это? И я не собираюсь больше отвечать ему. Вот так. Он что, имеет право задавать такие вопросы?
– Вам бы, наверное, лучше ответить еще на несколько вопросов, – сказал полицейский. – А потом – это уж его дело, как реагировать на ваши ответы.
– Мы нашли вашу вторую лодку – или, точнее, что от нее осталось. Нашли тогда, когда вы, по твоим словам, должны были еще быть далеко отсюда.
– Ну и что из этого? Я же говорю вам, что мы потеряли вторую байдарку выше по течению. Там, где большое ущелье. Если хотите, можете отправляться туда. Я покажу вам, где это произошло.
– Ты же прекрасно понимаешь, что нам туда не добраться.
– А это уже ваши проблемы. И вообще: что это все значит"? Нам очень крепко досталось, и я не собираюсь больше выслушивать всю эту херню. Кто вы такой? Шериф?
– Помощник шерифа.
– А где сам шериф?
– А вон там.
– Ну, тогда приведите его сюда. Я хочу с ним поговорить.
Старик встал и направился к тучному мужчине, который выглядел как техасский фермер, со значком шерифа на груди. Когда они вернулись ко мне, я обменялся рукопожатием с шерифом, который представился:
– Буллард.
– Шериф, я не знаю, что у этого человека на уме, он мне об этом не рассказывает. Но насколько я понимаю, он считает, что мы утопили нашего товарища или что-то в таком духе.
– А может быть, вы так и поступили, – сказал старик.
– Боже мой, зачем бы мы это делали?
– А откуда я знаю? Но я знаю, что рассказываете вы все по-разному. А если люди врут, то, наверное, на то есть своя причина.
– Поаккуратнее, поаккуратнее в выражениях, мистер Квин, – сказал шериф. Потом он обратился ко мне: – Но что вы скажете по этому поводу?
– По какому поводу? Послушайте, если вы найдете хотя бы одного человека – хотя бы одного, -который предоставит какие-нибудь доказательства в пользу того, что говорит ваш помощник, я сделаю все, что вы от меня потребуете – поеду с вами в лес, буду бродить с вами по воде, буду искать тело в реке крюком, сделаю все, что вы потребуете! Но у вашего помощника просто все перемешалось в голове. У него просто к нам неприязнь. Ему не нравятся городские жители, ему хочется выглядеть важной особой. Бог знает, что еще! В чем дело, мистер Квин? Тут считают, что вы не отрабатываете свою зарплату? И поэтому вы стараетесь проявить бурную деятельность?
– Я скажу тебе, городской ублюдок, в чем дело, – сказал Квин страшным голосом, – меня просто бесит, когда люди начинают говорить вот так. – Вчера мне позвонила моя сестра и сказала, что ее муж ушел на охоту и не вернулся. Мы прочесали лес в тех местах, где он должен был быть. И никого не нашли. Я гарантирую, голову даю наотрез, что ты где-то с ним повстречался. И я докажу это.
– Вот и докажите!
– Что с вами, мистер Квин? – спросил шериф. – Зачем приставать к этим ребятам, если у вас в семье что-то не так? Только потому, что они городские? Может быть, ваш свойственник споткнулся, упал куда-нибудь и повредил себе чего-нибудь?
– Не-а. С ним бы ничего такого никогда не случилось.
– А почему вы так уверены, что с ним вообще произошло что-то нехорошее? – спросил я.
– Я это чувствую, – ответил Квин. – И я никогда не ошибаюсь в своих предчувствиях.
– В этот раз ошибаетесь, – сказал я. – А теперь отстаньте от меня! Идите и делайте все, что вам придет в голову. А от меня – отстаньте! Ваша река, ваши леса, все, что тут происходит, а особенно вы сами мне уже остоебли! Если у вас нет ничего, в чем нас обвинять, если нет свидетельств, чтобы как-то подтвердить ваши слова, все эти ваши идиотские подозрения – оставьте меня в покое!
Он отошел, бормоча что-то себе под нос, а я вернулся к полицейскому, который сидел на прежнем месте. Квину ничего не удастся доказать, и ничего у него не получится. Интересно, действительно ли один из тех двух, кого мы убили, был мужем его сестры? Я стал обдумывать, как узнать его фамилию, но потом решил, что не стоит и пытаться. Зачем мне, действительно, знать его фамилию? Только для того, чтобы удовлетворить свое любопытство? Вряд ли это может дать какое-либо удовлетворение.
Люди, которые драгировали реку, постепенно смещались вниз по течению. Время от времени крюк, заброшенный одним из них, цеплялся под водой за что-то, и все тут же бросались к нему; выражение на лицах тут же менялось: у одних появлялся страх в глазах, у других – предвкушение, а у третьих – радость. Когда это случалось, сердце у меня начинало биться чаще, но каждый раз крюк, вытащенный общими усилиями, оказывался пустым. Весь день рана моя под повязкой то начинала ныть, то успокаивалась. И за все это время удалось прощупать реку на протяжении не более двухсот метров.
Ко мне подошел шериф Буллард.
– Похоже, что на сегодня придется заканчивать. Становится слишком темно.
Я кивнул и встал.
– Вы со своим приятелем останетесь на ночь в Эйнтри?
– Наверное, – сказал я. – Мы все еще не оправились полностью. И я хочу побыть пока недалеко от Льюиса. Надо заехать в больницу, узнать, как он там. У него очень сложный перелом.
– Не повезло ему, – согласился шериф. – Доктор сказал, что хуже переломов ему не доводилось видеть.
– Мы остановились в «Биддифорде». А, ну, вы и так это знаете.
– Ага, знаю. Мы вернемся сюда завтра утром. Вы можете поехать с нами, но это не обязательно.
– Не вижу причин, зачем нам сюда еще приезжать, – сказал я. – Если тело не здесь, то я не знаю, где оно может быть. Скорее всего, где-то ниже по течению.
– Мы поищем немного и вверх по течению.
– Не имеет смысла, – сказал я. – Но конечно, делайте все, что считаете нужным. И если там вы найдете каких-нибудь утопленников, то среди них не будет Дрю. Он утонул где-то здесь, и если вам все-таки удастся найти его, то только вниз по течению.
– Может быть, мы разделимся, и часть людей будет работать вниз по течению, а часть – вверх по течению.
– Ладно. Прекрасно. Но все произошло именно здесь. Я абсолютно в этом уверен. Я запомнил вон то желтое дерево, и пока мы искали Дрю, я все время посматривал на это дерево. Тело снесло куда-то вниз по течению. Оно могло плыть только в одном направлении.
– Верно, – сказал шериф. – Но искать мы будем не только здесь. Мы сообщим вам, если найдем его. Завтра я заеду к вам в гостиницу. Где-нибудь после обеда. Премного благодарен за то, что вы согласились помочь нам.
Мы с Бобби снова плотно поужинали и отправились спать. Говорить уже ни о чем не было нужно – все было уже сказано. Теперь все зависело от того, найдут труп или не найдут.
На следующий день мы отправились в больницу проведать Льюиса. Он чувствовал себя значительно лучше. Его нога была поднята в воздух с помощью системы специальных подтяжек и блоков; он читал местную газету, в которой была напечатана заметка об исчезновении Дрю и о поисках его тела в реке; рядом с заметкой была помещена фотография, на которой я узнал себя, и рядом с собой помощника шерифа Квина. У моего лица торчал кулак Квина, и я понял, что нас сфотографировали тогда, когда разговор уже подходил к концу. На фотографии я выглядел так, будто я терпеливо, просто из любезности, выслушиваю Квина, но не прислушиваюсь к его словам. Даже эта фотография, помимо всего прочего, могла пойти нам на пользу.
В палате никаких полицейских не было, но Льюис уже не был единственным больным: предыдущим вечером привезли фермера – ему по ноге проехался трактор. Он лежал в противоположном углу, и когда мы пришли, спал. Я рассказал Льюису обо всем, что происходило предыдущим днем, о том, что Бобби поедет назад, в наш город, на его машине, и что потом жена Льюиса или кто-нибудь еще приедет за ним, когда его выпишут из больницы. Льюис сказал, что это его вполне устраивает.
Мы попрощались с Льюисом; он откинулся на подушки:
– Я думаю, что через недельку-другую и меня отсюда отпустят.
– Конечно, – сказал я. – Лежи, отдыхай и не скучай. Знаешь, этот городок не так уж плох.
* * *
Потом мы с Бобби вернулись в гостиницу и стали ожидать шерифа. Он появился в половине шестого вместе со злобным маленьким Квином. Шериф достал лист бумаги:
– Прочитайте это. Здесь изложено то, что вы нам рассказали. Посмотрите, все ли правильно.
Я прочитал.
– Все правильно, – сказал я. – Но я не знаю всех этих названий разных мест, которые здесь упоминаются. Пороги, где мы перевернулись, действительно называются так, как здесь написано?
– Да, именно так, – ответил он. – Стремнина Гриффина.
– Ладно. – И я подписал бумагу.
– Теперь эта бумага является вашим официальным заявлением. И вы уверены, что все именно так и произошло? – спросил шериф Буллард.
– Можете не сомневаться. Я абсолютно уверен.
– Это неправда, – сказал Квин значительно громче, чем говорили мы с шерифом. – Он все врет! Беззастенчиво врет! Там, вверх по реке, он сделал что-то такое, что теперь хочет скрыть. И я вам скажу, что он сделал: он убил моего зятя.
– Послушай, ты, поганый коротышка! – Мой голос дрожал, и дрожал неделанно. – Может быть, твой свойственник кого-то прихлопнул, и ты хочешь втянуть нас в это дело. Иначе зачем тебе было бы все время талдычить про убийство? Убийцей была река! Других убийц мы не видели. Если ты надеешься, что река тебя не прихлопнет, садись своей дурной жопой в лодку и поплавай по этой реке! Посмотришь, что получится!
– Мистер Джентри, поосторожнее с выражениями, – нахмурился шериф. – Не надо так. Нет никакой нужды так выражаться.
– Ладно, пока хватит. Остальное оставим на другой случай, – сказал я.
– Он все врет, шериф, все врет! Не позволяй им уехать! Не позволяй им уехать! Не позволяй этому сучьему сыну смыться!
– Артэл, у нас нет никакого права задерживать их, – сказал шериф. – Против них нет никаких улик. Они и так крепко натерпелись. И они хотят после всего этого спокойно вернуться домой.
– А я тебе говорю, не отпускай их! Моя сестра мне снова звонила. Вчера вечером. Говорит и плачет. Бенсон до сих пор не вернулся. Она уверена, что его уже нет в живых. Уверена, и все тут! Он никогда раньше не пропадал так долго, а эти были как раз в тех местах, где он пропал. Там никого больше не было.
– Артэл, ну откуда ты знаешь, был там кто-то еще или нет? Ты просто хочешь сказать, что там не было других городских, кроме этих ребят.
Я покачал головой, будто показывая этим, что трудно поверить, насколько глупыми бывают люди; но перед нами действительно был очень глупый человек.
– Вы можете ехать, когда захотите, – обратился к нам шериф. – Оставьте только мне ваши адреса.
Я написал на бумажке наши адреса:
– Ладно... Сообщите нам, пожалуйста, если что-нибудь найдете.
– Не беспокойтесь. Вам сообщим в первую очередь.
* * *
Я снова погрузился в сон, который увел меня за пределы сна, обвел вокруг смерти и привел назад; я плыл на волнах сна; мне показалось, что я слышу звон совы, который заглушил пение других птиц; эту металлическую сову Марта прицепила во дворе нашего дома вместо флюгера. Было еще рано, и мы были на свободе. Я оделся, пошел к Бобби и разбудил его. Хозяйка гостиницы уже встала: мы расплатились – на это ушли деньги, которые у нас оставались. Затем поехали на заправочную станцию, чтобы забрать машину Льюиса. Там мы обнаружили шерифа, который беседовал с владельцем станции. Мы вылезли из машины.
– Доброе утро, – поприветствовал нас шериф. – Раненько вы собрались.
– Мы как раз и намеревались выехать пораньше, – сказал я. – Мы можем быть чем-то вам полезны?
– Нет, нет. Я просто хотел убедиться, что все в порядке с ключами от машины, и все такое прочее.
– Теперь у нас все будет в порядке. Нам помощь больше не нужна, – сказал я. – Да, вот еще что, шериф. Мы должны немного денег тем ребятам из Оури, которые пригнали сюда наши машины. Не могли бы вы позвонить им и сказать, что мы пришлем им деньги, как только вернемся домой? Они вам поверят больше, чем нам. Вы здесь живете, и они наверняка вас знают.
– Буду рад вам помочь, – согласился шериф. – А как их зовут?
– Братья Гринеры. У них там автомастерская.
– Я передам им. Не беспокойтесь... Так вы говорите, что кроме них вы никого больше на реке не видели?
– Никого. А, да, с ними был еще какой-то человек. Но я не знаю, кто.
– Может быть, мы узнаем, кто это был. Может, я даже сам поеду туда и поговорю с ними. И можете не сомневаться – я им скажу, что вы пришлете им деньги.
– Прекрасно. Ну, мы, наверное, поедем.
– По дороге домой – особенно не гоните, – добавил шериф. – И знаете, что, приятель... я вам вот что скажу: никогда больше не плавайте по реке на байдарках. И не появляйтесь здесь, в наших местах.
– По этому поводу можете не беспокоиться, – я широко улыбнулся – шериф улыбнулся в ответ. – Насколько я понимаю, вы советуете нам уматывать отсюда побыстрее и никогда больше носа не показывать в этих местах?
– Ну, приблизительно так.
– Ладно, шериф. Но вы же прекрасно понимаете, что мы не какие-нибудь там наемные убийцы мафии, – сказал я с техасским акцентом. – Мы просто себе мирные городские жители. Охотимся с луком и стрелами.
– А теперь послушай, что я тебе скажу, парень...
– Шериф, вам надо сниматься в кино. Или переехать в штат Монтана. И в Монтане, и в Голливуде вам придется иметь дело с ребятами, которые значительно хуже, чем я.
– Может быть, я так и поступлю, – сказал шериф. – Тут такая тихая заводь – ничего не происходит. Крадут себе цыплят, гонят потихоньку самогон. А так – тишь да гладь.
– Все было тихо, пока мы не появились здесь, а?
– Ага. Но такого нам больше не нужно. Веселенькая работа – шарить крюками по дну речки!
– Нам тоже такого больше не нужно. Вы нас больше не увидите.
– Ладно. Ну, пока. Счастливо доехать!
– До свидания. И я надеюсь, что зять вашего помощника отыщется.
– Конечно. Сам припрется! Пьяный. Гнуснейший тип, кстати. Сестре Квина было бы значительно лучше без него. И всем остальным тоже.
Я открыл дверцу машины Дрю.
– Напоследок – разреши мне, приятель, спросить тебя кое о чем и кое-что тебе сказать.
– Спрашивайте.
– Как так получилось, что у вас было четыре спасательных жилета?
– У нас был с собой запасной. Даже не один, а два. Второй вы наверняка выловите где-нибудь ниже по реке. Они не тонут, знаете. Ну, а что вы хотели сказать мне?
– Ты держался молодцом!
– Ну, кому-то же надо было что-то делать, – сказал я. – И знаете – мне очень не хотелось умирать.
– Тебя здорово распороло, но если б не ты, вы все бы так и остались в реке, как ваш товарищ.
– Спасибо, шериф. Мне приятно это слышать. Я запомню ваши слова.
– Ага... обезьяна, а похвалу понимает... А чего ты такой волосатый? Кто у тебя был папаша?
– Тарзан, – ответил я.
Бобби уже сидел в машине Льюиса. Я взял карту со стойки, утыканной картами, и крикнул:
– Бобби, давай заедем, заберем лодку!
– Ни за что на свете! – отозвался он. – Пускай остается здесь. Я больше не хочу ее ни видеть, ни прикасаться к ней! Даже от запаха этой штуки меня мутит. Ну ее к черту!
– Нет, Бобби, – возразил я. – Мы поедем и заберем ее. Езжай за мной. Мы управимся очень быстро.
Когда мы подъехали к реке, я, увидев, что в байдарке играют какие-то дети, подумал, что это хороший знак – значит, помощника шерифа Квина поблизости нет. К тому же, дети наверняка отмыли лодку от блевотины, оставленной Льюисом. Я прогнал детей из байдарки и осмотрел корпус. Он был весь во вмятинах, со следами ударов о камни не только на днище, но и на боках, причем в некоторых местах – вплоть до планшира. Глядя на все эти отметины, я снова переживал удары, которым подвергалась байдарка. Я обнаружил и две дырки – небольшие дырочки – расположенные рядом друг с другом по центру лодки; я подумал, что лодка оставалась бы на плаву, даже получив еще несколько таких пробоин – но не слишком много.
Мы уже собирались поднимать лодку, чтобы установить ее на машине, когда я случайно взглянул через реку на противоположный берег. Там, среди деревьев, передвигались какие-то люди; за деревьями и кустами пряталось небольшое кладбище – я на него не обратил бы внимания, если бы не увидел люден.
Я спросил детей, которые продолжали стоять рядом:
– Там кого-то хоронят?
– Не-а, – сказала одна девочка, вся вымазанная в грязи. – Ну, тех всех, кто лежит на кладбище, перенесут в другое место. Когда будет дамба, тут все зальет. Вот их и выкапывают.
Я и так догадывался, что наблюдаю не похороны – люди перемещались слишком активно. Но то, что сказала девочка, прозвучало неожиданно. Я стал присматриваться и увидел зеленые гробы, поставленные один на другой; двое мужчин время от времени исчезали под землей и потом одновременно появлялись, явно что-то поднимая.
– Странно, что все тут зальет водой, – сказал я, обращаясь к Бобби.
– Странно, странно. Ради Бога, Эд, поехали уже, поехали отсюда!
Мы подняли байдарку и, спотыкаясь и раскачиваясь, поднесли ее к машине, взгромоздили на крышу, потом привязали к раме.
– Поезжай впереди, Бобби. Ты же знаешь, где живет Льюис? Расскажи его жене, что произошло, но помни нашу версию. Она накормит тебя и приголубит. И позвони Марте, скажи, что я еду домой.
– Я скажу, что нужно, – сказал он. – Не волнуйся, такое не забывается.
Я подошел к воде, наклонился и, зачерпнув воду из реки, напился.
* * *
Возвращаться было легко и приятно, хотя я ехал в машине погибшего человека, и все в ней напоминало о нем. Машина – в прекрасном состоянии, мотор работает ровно, в салоне чисто и прибрано; на ветровом стекле приклеена маленькая эмблема компании, в которой Дрю работал. Нужно было отрешиться от всего, что окружало меня в машине, и отдаться красоте местности, по которой я проезжал; из этой красоты нужно было выстроить свой собственный, тихий внутренний мир. Через четыре часа я, оставив позади фермерские районы и придорожные рекламные щиты, призывающие обратиться к Богу, въехал в царство мотелей, заезжаловок; чувствовалось, что я уже совсем недалеко от города. И все время, пока я ехал, у меня перед глазами стояла река. Я видел, как она обрушивается на меня, прорываясь между глыбами камня, – и тогда я невольно нажимал на педаль газа. Я видел извивы реки, с медленно текущей водой, темно-зеленые участки с водой почти неподвижной; деревья и скалы по берегам, мосты, дающие надежду...
Меня грызло беспокойство, и никакие попытки избавиться от него не помогали – достаточно ли прочна наша версия случившегося? Что произойдет, если что-нибудь все-таки вынюхают? Я был полностью уверен в Льюисе, уверен в нем, как в самом себе... но можно ли быть полностью уверенным в ком бы то ни было? И я не был уверен в Бобби. Он много пил, и, как у нас говорят, пил много и часто, а пьяный человек – особенно такой человек, как Бобби, – может наговорить о себе всяких гадостей, может начать каяться и изобличать себя в разных там грехах. Но будем надеяться, что рассказать правду ему не позволит воспоминание о том, как он стоял на коленях, опираясь животом на бревно, а к его голове было приставлено ружье, о том, как он вопил и верещал, дрыгая ногами, как маленький мальчик. Он ни за что не захочет, чтобы кто-нибудь узнал об этом, ни при каких обстоятельствах, как бы пьян он ни был. Нет, он будет придерживаться моей версии событий.
И она казалась мне достаточно прочной. Я соорудил ее и испробовал ее на крепость, и она устояла. Она так прочно засела у меня в голове, что мне уже трудно было сквозь нее различать правду. Но стоило немного напрячься – и правда обнажалась: светила луна, заливая своим светом дикую реку; каменная стена упиралась мне в грудь, сердце стучало и отзывалось в пульсации камня; сосновая иголка щекотала мне ухо; я сидел на дереве и ожидал рассвета...
Я ехал уже по четырехрядному шоссе – город был совсем близко. Почти во всех заезжаловках, которые я сейчас проезжал, я когда-то останавливался, чтобы перекусить. Я бывал почти во всех этих магазинах, и Марта тоже ездила сюда за покупками. Машина пошла вверх по холму; мимо меня мелькали дома; я оставил позади себя рев грузовиков и мельтешение заправок. Я сделал еще один поворот – и дорога, слегка изгибаясь, повела меня к дому. Было около двух часов дня. Я заехал к себе во двор, вышел из машины и постучал в дверь. Тут меня спасут, тут мое избавление!
Дверь открыла Марта. Мы молча стояли, друг против друга, затем вошли в дом. Я снял свои тяжелые башмаки, поставил их в угол и походил по ковру, застилавшему пол. Потом вернулся к машине, взял с сиденья нож и пояс, и раскрутив, забросил подальше в деревья, окружавшие дом, – в наш предместный лес.
– Знаешь, любовь моя, я бы чего-нибудь выпил, – сказал я.
– Скажи мне... – Марта смотрела на мой бок. – Скажи мне, что с тобой случилось? Я знала, что с тобой что-то случится!
– Нет, не знала, – возразил я. – Ты и вообразить не можешь, что с нами произошло!
– Иди, ляг, – сказала она. – Я хочу посмотреть, что там у тебя. Мы пошли в спальню; Марта прикрыла кровать старой простыней, и я улегся. Она сняла с меня рубашку и осмотрела меня; я ощущал ее любовь и беспокойство. Потом пошла в ванную и вернулась с тремя-четырьмя бутылочками. Наша встроенная в стену аптечка напомнила мне больницу – она вся была забита лекарствами.
– Любовь моя, дай мне сначала чего-нибудь выпить, – попросил я. – А уже потом мы будем играть в доктора.
– Все врачи играют в доктора, – сказала она. – А все медсестры играют в медсестер. И все бывшие медсестры играют в медсестер, особенно если любят.
Она принесла мне бутылку «Уайлд Тэрки», и я отхлебнул прямо из горлышка. Потом жена стала смачивать повязку какой-то таинственной жидкостью из бутылки, которую достала из аптечки. Повязка отставала от кожи слой за слоем; ее нижняя часть была сильно пропитана кровью. Швы были покрыты кровью и еще какими-то выделениями тела.
– Тут у тебя все будет в порядке, – сказала Марта. – Края раны уже сходятся.
– Это хорошо. А ты сможешь этот пакет прицепить назад?
– Смогу. Все будет нормально. Но что с тобой произошло? Рана резаная, почти все края очень ровные. Тебя кто-то пырнул ножом? Очень острым ножом?
– Я сам себя пырнул, – сказал я. – Я сам.
– Как это могло получиться?
– Да вот, так уж получилось... А потом мне пришлось самого себя резать ножом... Знаешь, я потом все тебе расскажу. А сейчас мне нужно поехать к жене Дрю. Потом я вернусь... и буду спать целую неделю. Рядышком с тобой. Рядышком с тобой.
Марта вернулась к моей ране; действовала она профессионально, одновременно нежно и жестко, именно так, как я надеялся. Я знал, чего можно было ожидать от нее, но все-таки недооценивал ее. Она положила на рану какую-то мазь-антибиотик, потом несколько слоев марли; по краям закрепила лейкопластырем; сделала все очень умело – сквозь повязку проходил воздух. Когда я встал, в моем боку уже не было жесткости, и он снова стал частью меня. И хотя рана все еще болела, и болела сильно, она не дергала меня при каждом движении.
– Ты бы не могла поехать со мной на нашей машине? Чтобы потом отвезти назад?
Она кивнула.
Дверь открыл сын Дрю, мальчик со странным выростом на лбу. Я зашел в дом, держа ключи от машины в руке. Поуп пошел звать мать. Я стоял, окруженный вещами Дрю; вдоль стен стояли шкафы с магнитофонами, проигрывателями, бобинами магнитофонной пленки, пластинками, рекламными изречениями компании, наградами от компании за успешную деятельность. Ключи в моей руке тихо позванивали.
– Миссис Боллинджер, – сказал я, когда она вошла в комнату и направилась ко мне. – Дрю... погиб.
Я сказал это так, будто хотел остановить ее, не дать подойти ко мне совсем близко.
И эти слова остановили ее. Одна рука медленно, почти сомнамбулически, поднялась ко рту, а потом поднялась вторая, прикрыв первую и прижав ее ко рту. Голова мелко затряслась – она отказывалась верить в услышанное, и руки, прижатые ко рту, не могли унять подрагивание.
– Он утонул, – сказал я. – Льюис сломал ногу... А нам с Бобби просто немного повезло. Мы все могли утонуть.
Она не отнимала рук ото рта. Ключи в моей руке позвякивали, потом прозвенели как-то окончательно.
– Я приехал сюда на его машине. Вот ключи.
– Так бессмысленно, – сказала она голосом, сдавленным пальцами. – Так бессмысленно!
– Да, наверное, вся эта затея была нелепой. Нам не следовало вообще это все затевать. Но мы вот взяли и отправились на эту реку... Отправились.
– Умереть так по-идиотски бессмысленно...
– В каком бы виде ни приходила смерть, умирать всегда бессмысленно, – сказал я.
– Но не до такой же степени бессмысленно!
– Мы оставались там, сколько нужно... помогали искать тело... Его еще ищут... Вряд ли найдут, но продолжают искать.
– Бессмысленно...
– Дрю был лучшим среди нас, – продолжал говорить я. – Мне очень жаль... Мне невероятно жаль... Могу я чем-то вам помочь? Я действительно мог бы. Я могу...
– Можете помочь. Убирайтесь отсюда, мистер Джентри! Убирайтесь отсюда, отправляйтесь к своему безумному другу Льюису Медлоку – и убейте его! Вот что вы можете для меня сделать!
– Льюис очень сильно пострадал. И он переживает смерть Дрю не меньше, чем я. Пожалуйста, поймите это! И в том, что произошло, вины Льюиса совершенно нет. Во всем виновата река. И мы сами – нам не надо было соглашаться ехать с Льюисом.
– Ладно. – Голос ее звучал как бы уже издалека, из будущего; в нем были различимы годы одиночества, мука одиноких ночей в постели. – Ладно, Эд. Никто ничего уже не изменит. Никто вообще ничего не может изменить: все бессмысленно! Все совершенно бессмысленно. И всегда все было бессмысленно!
Я чувствовал, что она вот-вот замолчит и не скажет больше ни слова, но рискнул все же сказать:
– Может быть, прислать Марту, чтобы она побыла с вами пару дней?
– Мне не нужна Марта. Мне нужен Дрю.
Она разрыдалась; я шагнул к ней, но она затрясла головой так сильно, что я остановился и попятился; повернулся, положил ключи на кофейный столик, рядом с книгой об истории компании, в которой работал Дрю, и вышел.
Когда мы ехали домой, я раздумывал, не лучше ли было бы, если бы я рассказал правду. Было бы ей легче, если бы я сказал ей, что Дрю лежит на дне реки? Что вокруг него дикие места? Что в голове у него вмятина, то ли от удара пули, то ли от камня? Что его удерживает под водой камень, привязанный к нему тетивой от лука? Что он слегка колышется, из стороны в сторону, туда-сюда, толкаемый течением? Если бы она узнала обо всем этом, как это могло бы ей помочь? Это могло бы лишь зажечь в ней безумную, животную жажду мести. Кому? Тому, кто убил его? Но все уже сделано, и большего сделать нельзя: возмездие свершилось, и не нужны уже ни электрический стул, ни газовая камера, ни веревка.
Вернувшись домой, я поставил кресло перед окном, взял подушку и одеяло и сел в кресло, поставив рядом с собой телефон. Я смотрел в окно на дорогу, ведущую к дому, и меня трясло. Марта села на пол и положила голову мне на колени; потом встала, принесла бутылку виски и пару стаканов.
– Любимый, – сказала она. – Расскажи мне, что тебя беспокоит? Кто-то разыскивает тебя? У тебя неприятности?
– Вроде нет, – ответил я. – Никто меня не разыскивает. Не думаю, чтобы мной кто-нибудь особенно интересовался. Но... полностью я в этом не уверен. Может быть, кое-кто и хотел бы до меня добраться. Может быть, полиция захочет пообщаться со мной. Мне нужно просто немножко пересидеть. Если ничего неприятного не произойдет в ближайшие полмесяца – значит – я надеюсь, – все будет в порядке.
– А ты не можешь мне рассказать, что же все-таки произошло?
– Нет, сейчас не могу. И может быть, вообще никогда не смогу тебе рассказать.
– Кто тебя ранил, Эд? Кто посмел тыкать ножом в моего любимого мужа?
– Я сам себя резанул, честное слово, – сказал я. – Я упал на свои стрелы. Одна застряла во мне, и ее пришлось вырезать ножом. Иначе я не смог бы ее вытащить. А со стрелой, торчащей из меня, я не мог управиться с байдаркой и довезти Льюиса. Вот и пришлось резать. Я рад, что нож был такой острый, а не то я б до сих пор сидел там, на реке, и резал.
– Пойди лучше, поспи, любимый. Если нужно будет, я тебя сразу разбужу. Я с тобой, я помогу тебе. Лес, река – все это уже в прошлом. Иди поспи.
Но я не мог заснуть. Мы живем в тупике, и поэтому, если на нашей улице появляется машина, это значит, что либо соседи возвращаются домой, либо кто-то едет к ним по делам. Я видел, как несколько машин проезжали по улице и подъезжали к соседним домам. Около десяти часов вечера какая-то машина остановилась у нашего дома. Когда она подъезжала, свет фар медленно развернулся и утопил нас в своем сиянии. Марта своей теплой рукой прикрыла мне невольно открывшийся рот. Я сидел оцепеневший, ослепленный, неподвижный. Подъезд к нашему дому был последним на нашей улице, и водитель машины воспользовался им, чтобы развернуться. Он уехал. И вскоре уехал и я – в сон.
* * *
Я проснулся. Марта все еще была рядом со мной. Было уже светло. Ее неровно рассыпавшиеся волосы вызвали во мне прилив нежности. Она спала. Очень осторожно я выбрался из-под нее, положил ее голову на кресло. Взял один стакан, бутылку виски и пошел в ванную. Я повернулся и увидел в дверях Марту. Она поцеловала меня, потом села на крышку унитаза и содрала с меня повязку уверенными, быстрыми движениями профессиональной медсестры.
– Сегодня уже лучше, – сказала она. – Все будет в порядке. А ты здоровый парень! Раны заживают на тебе быстро.
– Честно говоря, я не чувствую себя сейчас очень здоровым. Я до сих пор чувствую усталость.
– Тогда тебе нужно отдохнуть.
– Нет, я поеду в контору.
– Нет, не поедешь! Что за идиотская мысль! Ты отправишься в постель.
– Нет, честно, я хочу поехать в город, зайти к себе в кабинет. Мне хочется, да к тому же это просто необходимо. На то есть много причин.
– Поступай как знаешь! Но это действительно глупо. Езжай, езжай, только смотри не помри.
– Ни за что, – сказал я. – Но понимаешь, если я не буду чем-нибудь заниматься, я просто сойду с ума. Я не вынесу больше этого ожидания и высматривания в окно – не едет ли кто?
Марта сделала мне новую перевязку, и я поехал в город. Мне нужно было вернуться к обычной жизни, и чем скорей, тем лучше. Так, чтобы казалось, что жизненная рутина никогда ничем не нарушалась.
Я зашел к себе в кабинет и оставил дверь широко открытой – так, чтобы всякий, кому захотелось бы меня увидеть, мог это сделать. Я сидел за столом и перебирал фотографии и эскизы.
В обеденный перерыв я вышел на улицу и купил местную газету. В ней я нашел заметку о смерти Дрю и его фотографию, сделанную во время одной из ежегодных встреч выпускников его колледжа. Вот и все. Я усиленно трудился до конца рабочего дня. И когда ехал по шоссе домой, меня восхищало, что я могу свободно перемещаться куда захочу. Это было просто чудесно.
На этом все и закончилось. Все происшедшее прошло сквозь фильтры моей памяти, и в ней осталось лишь то, что имело значение для меня.И только для меня. У меня до сих пор сохраняется небольшой, особый страх, который вспыхивает всякий раз, когда возле нашего дома я вижу огни незнакомого автомобиля, или когда в телефонной трубке слышу незнакомый голос, или когда Марта звонит ко мне в контору. Долгое время я каждый день просматривал все ежедневные местные газеты, но только один раз я увидел в них название реки, по которой мы плавали. Река упоминалась в связи с завершением строительства дамбы в Эйнтри. Губернатор штата участвовал в церемонии открытия, играли студенческие и школьные оркестры; газеты писали, что губернатор произнес очень хорошую речь о той пользе, которую принесет дамба для всего региона и о том, что производство электроэнергии будет способствовать развитию промышленности. Упомянул он и о дополнительных возможностях, которые появятся после образования нового озера. И по мере того, как воды озера поднимались все выше, я каждую ночь засыпал все спокойнее; внутренним взором я видел, как ползет вверх уровень воды, которая становится все темнее и темнее; вода взбирается по скале все выше и выше, ощупывая все те выступы, где я подтягивался и полз вверх. И, наконец, я засыпал уже легко и спал так же глубоко, как и Дрю. Через несколько дней после того, как я прочел заметку о завершении строительства дамбы, я знал, что над человеком, которого мы захоронили в лесу, уже плещется вода; когда долину реки стало заливать водой, Дрю и тот второй, убитый стрелой, оказывались все глубже и глубже под водой, которая давила на них все сильнее и сильнее; они погружались все глубже во мрак. Они все больше уходили в прошлое, все меньше влияния оказывали на жизнь оставшихся в живых.
И произошла еще одна странная вещь. Река – и все, что с ней было связано – не просто осталась в памяти. Она стала моей собственностью, моей личной частной собственностью. Никогда по отношению к чему бы то ни было я не испытывал ощущения такого полного обладания. Река, оставшаяся в моем воображении, теперь текла в никуда, она стала вечной. Я ощущал ее – и до сих пор ощущаю, – всем телом. Мне даже, некоторым образом, нравится, что она больше не существует, а я вот обладаю ею. Во мне она продолжает свое существование, и она будет жить во мне, пока я не умру. Зеленая, с торчащими из нее камнями, глубокая, мелкая, быстрая, медленная, прекрасная, какой она в реальности никогда не была. В ней умер мой друг, умер, в какой-то мере, ради того, чтобы я мог жить. И мой враг тоже был скрыт в ней.
Река присутствует, в той или иной степени, во всем, что я делаю. Она всегда находит способ послужить мне – и тогда, когда я стреляю из лука, и когда я создаю эскизы рекламы, и в новых коллажах, которые я делал для друзей. Джордж Холли, тот, который увлекался Браком, купил у меня один из этих новых коллажей, после того, как я снова взял его на работу. Теперь этот коллаж висит у него в загородке; коллаж насыщен волнистыми, сложными формами, извивающимися посреди заголовков, кричащих о каких-то войнах и студенческих забастовках, которые я повырезал из газет и журналов. Джордж стал одним из моих лучших друзей, – только Льюис мне по-прежнему ближе всех, – и мы ведем с ним серьезные беседы об искусстве. Иногда мы слишком увлекаемся, и от этого страдает работа – ее в студии очень много, больше, чем раньше.
Бобби я видел всего пару раз; мы встречались случайно на улице и просто кивали друг другу, даже не заговаривая. По его внешнему виду я не мог определить, как он поживает. Но ясно было, что он вернулся к своим вежливым, хотя и несколько гадким манерам, которыми всегда отличался. И я не пытался поддерживать с ним никаких контактов. Он для меня всегда будет оставаться ненужным балластом, верещащим и дрыгающим ногами. Зачем мне с ним, с таким, поддерживать какие бы то ни было отношения? Потом я узнал, что он ушел из компании, в которой работал, пытался начать новое дело – открыл закусочную для автомобилистов, в которую «можно заехать, получить в корзинке жареного цыпленка и ехать дальше», и закусочную, где давали еду и напитки на вынос, расположенную рядом с техническим колледжем. Но ничего у него не получилось, и он переехал в другой город, а позже, насколько мне известно, уехал на Гавайи.
Наши отношения с Тэдом стали еще лучше. Работа в студии такая же скучная, ну, может быть, чуть-чуть веселее, чем раньше. Мой сын Дин растет нормально, хотя он и странно молчаливый мальчик. Он иногда взглянет на меня, будто исподтишка, словно хочет сказать нечто такое, чего раньше не говорил. Но, возможно, это мне только кажется; он никогда не говорил мне ничего особенного, ничего, кроме тех обычных вещей, которые отцу может говорить сын. А вообще он крепкий парень, простой, и мне кажется, становится красивым юношей. Льюис для него нечто вроде идола: Дин уже занялся культуризмом.
Я разыскал ту девушку, которая позировала для рекламы трусиков – у меня с ней были связаны определенные ассоциации, – и даже пару раз ужинал с ней в ресторане. Мне она все еще нравилась, но золотое пятнышко в ее глазу потеряло для меня свою притягательную силу. Его место было в ночной реке, в мире невозможного. Для меня его чарующая сила находилась только там. И я оставил его в прошлом, хотя, должен признать, что мне снова хотелось бы видеть, как девушка, окруженная мужчинами, стоит в небольшом помещении, прикрывая рукой грудь. Я иногда вижусь с ней, и студия время от времени пользуется ее услугами. Она составляет некую, весьма приятную часть моего мира, хотя и совсем незначительную. Она для меня скорее воображаемая, чем реальная.
Марта же для меня очень настоящая. Летом мы сидим у озера, где снимаем беленький домик; но это не озеро Кагула, образовавшееся на месте той реки; наше озеро расположено совсем в другой части штата, но оно тоже не естественное, а образовавшееся в результате постройки дамбы. Мы сидим на берегу, смотрим на воду, по вечерам иногда пьем пиво. На противоположной стороне озера залив, в котором стоит много лодок. Мы наблюдаем за ними – они снуют по озеру. Время от времени появляется кто-нибудь, катающийся на водных лыжах, вспрыгивает на длинную, бесконечную, белую по краю водяную ступеньку, протянувшуюся по зеленому верхнему слою воды. Время от времени из своего домика появляется Льюис, хромая, подходит к нам. И мы смотрим друг на друга, будто передаем друг другу секретную информацию: мы знаем истинный вес воды и то, что она может сделать с человеком. Льюис тоже изменился, но это не сразу заметно. Теперь он может умереть спокойно – он знает, что смерть лучше бессмертия. Он просто человеческое существо, а не сверхчеловек, и при этом хорошее существо. Теперь он меня называет «Эн-Пэ», что означает – но об этом знаем только мы с ним – «неорганизованная преступность».
Когда на вечеринках или во время обеда в ресторане Льюис обращается ко мне «Эн-Пэ», все пытаются выяснить, что же это значит.
Иногда, на том же озере, мы практикуемся в стрельбе из лука. Льюис установил между деревьями мишень, и мы стреляем по ней метров с пятидесяти, немножко вниз по уклону. Место там для стрельбы прекрасное. Мы используем алюминиевые стрелы, но я никогда больше не ставлю на них наконечники – мой бок запрещает мне это делать. Я чувствую, как он вздрагивает при одной мысли об этом. К тому же, в этом нет никакой необходимости. Тот лук, которым я сейчас пользуюсь, слишком легок для охоты.
Льюис все еще остается прекрасным стрелком, и следить за тем, как он стреляет – одно удовольствие.
– Мне кажется, – сказал он однажды, – когда я спускаю тетиву, то попадаю в царство Дзен. Эти заумники дзен-буддисты правы. Не нужно ничему сопротивляться. Лучше содействовать ему. И тебя приведет куда надо. И стрелу принесет прямо в цель.
Хотя озеро Кагула не стало пока центром отдыха, столь же популярным, как то озеро, на которое мы ездим отдыхать, есть признаки, что интерес к нему постепенно возрастает. И в тех местах, которые застройщики именуют «нетронутыми участками», появляется то, что обычно называется «хорошими базами отдыха». Я полагаю, что вокруг озера Кагула водится еще много оленей – большинство из них обитало в лесах на возвышенностях. Но, скорее всего, через несколько лет они исчезнут, и из живности там останется лишь неистребимое племя кроликов. На южном конце озера уже построили большую стоянку для лодок, и младший брат моей жены говорит, что озеро все больше привлекает «молодое поколение», тех, кто как раз заканчивает школу.
Примечания
1
Морис Утрилло, французский художник XX века, мастер городского пейзажа.
(обратно)2
Жорж Брак, французский художник первой половины XX века, один из зачинателей – вместе с Пикассо – кубизма.
(обратно)3
Начальная буква английского слова «viclory» (победа).
(обратно)4
«Драйв-ин» (англ. drive-in) – место у дороги, куда можно заехать прямо на машине, чтобы поесть, выпить пива, кофе и т. д., посмотреть фильм; дословно: «заехать в»; предлагаем новообразование «заезжаловка», по аналогии с «забегаловкой».
(обратно)5
Человек из бедных горных районов американского Юга.
(обратно)6
Город Нэшвилл, штат Тенесси, является центром, где собираются исполнители музыки стиля «кантри», т. е., народной музыки сельских районов.
(обратно)7
Имеется в виду «американский футбол» – игра, которая требует серьезной атлетической подготовки.
(обратно)8
Человек, незаконно производящий и сбывающий виски; американский «самогонщик».
(обратно)

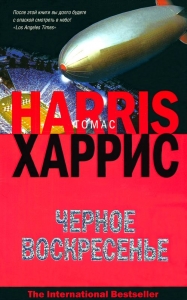

Комментарии к книге «Избавление», Джеймс Дики
Всего 0 комментариев