Леонид Сапожников, Георгий Степанидин
Три версии
…Люди: знакомые, учителя, одноклассники — уходили с кладбища, негромко переговариваясь между собой.
Около свеженасыпанного холмика остались лишь двое — Екатерина Ивановна и Федор Борисович. Мать и отец погибшего Никиты Гладышева.
…Я медленно ухожу с кладбища. В глазах две застывшие фигуры в черном. И холмик земли. Так что же что же произошло в то штормовое воскресенье. 14 мая 1978 года, на бывшем третьем, давно уже не действующем морском причале? Убийство? Самоубийство? Или же трагический несчастный случай?
15 мая 1978 года, понедельник, 13 часов
— Садись, Дмитрий Васильевич. — Заместитель, прокурора снял очки положил к перед собой, и глаза его сразу же стали беспомощными. — Ну что там случилось на причале? Рассказывай, но только побыстрее. У меня через пятнадцать минут совещание у прокурора. Давай самую суть.
— Утонул парень, школьник. обнаружили рано утром…
— Фамилию, имя, отчество установили?
— Да, — кивнул я. — Никита Федорович Гладышев.
— Слушай! — воскликнул Сергей Семенович. — Уж не сынок ли Федора Борисовича, управляющего строительным трестом?
— Он. Мать уже опознала. Сам Федор Борисович в Москве в командировке. Завтра возвращается.
— Какое несчастье…
— В карманах пиджака, — бесстрастно продолжал я, — обнаружены очки в роговой оправе, находились в футляре. Эксперт определил, что диоптрии плюс девять. Для слабовидящего человека очки. В кожаном кошельке застегнутом на “молнию”, лежали деньги, двести рублей…
— Так-так, — протянул Сергей Семенович, — очки, деньги… Все это хорошо, а что ты сам-то, Дмитрий Васильевич, думаешь об этом происшествии?
— Все чисто, Сергей Семенович, — ответил я и вздохнул. — Похоже, что парень сам упал в воду. Между прочим, эксперт такого же мнения придерживается. Понимаете тут…
— Ага! — не дав мне договорить до конца, воскликнул Сергей Семенович, словно поймал на важном признании. — Значит, и ты такого же мнения придерживаешься? — И сердито нахмурился. — Что значит сам?! А может, кто сзади подтолкнул? У этого причала всегда было глубоко, мог и захлебнуться сразу. Ну извини, Дмитрий Васильевич, но подобного легковерия я от тебя не ожидал!
Я терпеливо ждал, когда Серсемыч выпустит из себя первый “пар”. Мы с ним вместе уже много лет работаем. И прекрасно знаем характерные особенности друг друга. Конечно, он зря меня недослушал: то, что я хотел ему сказать, несомненно, было важным. Но ничего, успею и потом проинформировать, без спешки и горячки.
— Сам, — продолжал ворчать Сергей Семенович, — это тебе и несчастный случай и самоубийство… Не поверю, чтобы у такого человека, как Федор Борисович Гладышев, сын мог кончить жизнь самоубийством!
Сергей Семенович вынул из кармана платок, начал тщательно протирать стекла очков, негромко размышляя вслух:
— Вчера штормило так, что деревья пригибало к земле. Я с трудом до дома добрался… Н-да… И чего его понесло на этот разрушенный причал? Мне думается, это сейчас один из самых первых вопросов, который надо выяснить.
— Да, разумеется, — неопределенно ответил я.
— Кто из уголовного розыска.
— Лейтенант Самсонов.
— Ну давай, действуй.
15 мая 1978 года, понедельник, 13 часов 20 минут
С инспектором уголовного розыска Игорем Демьяновичем Самсоновым, размашистым в движениях человеком, мне прежде работать не доводилось, но друг о друге мы слышали. Я знал, что Самсонов из категории тех людей, кто сначала подумает, а уж потом спросит или ответит.
Поздоровались и сразу к делу.
— Игорь Демьянович, надо выяснить, есть ли в наших аптеках очки, аналогичные тем, что были обнаружены в пиджаке, покойного Гладышева. Попробуйте отыскать рецепт, по которому они были отпущены, хотя понимаю, что это очень сложно. Но важно. Мать Гладышева сказала, что у сына было стопроцентное зрение.
— А-а!..
— Необходимо также собрать информацию о семье Гладышевых.
— Ясно.
Мы помолчали немного. Потом я спросил у Самсонова:
— У вас сейчас как со временем, Игорь Демьянович?
Он усмехнулся:
— Вагон и маленькая тележка, Дмитрий Васильевич. Всего семь дел в производстве.
— А у меня восемь, — вздохнул я и рассмеялся. — Зато недавно прочитал детектив, где следователь действие в идеальных условиях — ведет всего одно дело. Да еще в придачу заполучил двух сотрудников уголовного розыска для выполнения отдельных следственных поручений. И инспектора тоже заняты раскрытием только этого дела.
— Бывает, мне тоже цветные сны снятся! — Самсонов поднялся. — Так я пойду, Дмитрий Васильевич?
— До встречи, Игорь Демьянович.
Я достал из ящика стола справочник, нашел номер телефона 47-й школы.
— Здравствуйте. Мне нужен директор школы товарищ Румянцев.
— Слушаю вас! — ответил на другом конце провода любезный баритон.
— Беспокоит старший следователь прокуратуры Красиков…
15 мая 1978 года, понедельник, 14 часов
У директора Румянцева крепкое, как будто вырубленное лицо. Морщины прорезали высокий лоб. Глубокие темные глаза.
Во взгляде затаился испуг: я же из прокуратуры, стало быть, случилась какая-то неприятность, иначе зачем бы я захотел срочно встретиться с ним. И еще мне ясно: он пока ничего не знает о Никите Гладышеве.
— Я хотел бы поговорить о девятом “Б”, — начал я издалека.
— Девятый “Б”? — удивился директор Румянцев. — Обычный класс. Средний. Никаких особых чепе я там что-то не помню. А что, собственно, случилось? — Он спохватился, что все еще не задал главного вопроса. — И с кем, с каким шалопаем?
— Разговор о Никите Гладышеве…
— Что? — Он даже привстал на мгновение, глаза его округлились. — Вот уж вы меня удивили, право слово!
— Почему же?
— Ну, как же! Насколько я себе представляю, милицию и прокуратуру могут интересовать “трудные” подростки. А Никита Гладышев — отличник, претендент на золотую медаль. У нас никто не сомневается, что он получит ее. Конечно, еще рано об этом говорить, но Никита девять лет идет круглым отличником. Его отцу наша школа многим обязана. Федор Борисович — управляющий строительным трестом…
Так-так, сразу замешал в одно и сына и отца. Дескать Никита Гладышев — это не просто так, это вы сразу же учтите, если у вас что-нибудь эдакое…
— Федор Борисович, — продолжал директор Румянцев, — ничего не обещает. Он просто делает. У меня голова не болит, когда ремонт предстоит начинать. В первую очередь строители — к нам! И не только потому, что его сын у нас учится. У Федора Борисовича в целом такое отношение к школам района, ибо он понимает, что школы-то — главное, что здесь все закладывается.
— Не в семье? — перебил я.
— Э-э. дорогой товарищ Красиков, — отмахнулся директор Румянцев, — старый спор! А я, Дмитрий Васильевич, не делю. Когда говорю “школа”, имею в виду семью. На меня учителя ворчат за то, что я их постоянно убеждаю ходить к учащимся домой.
Он вдруг прицелился в меня взглядом и выстрелил вопросом:
— Вы когда-нибудь занимались дрессировкой собак?
— Не довелось, — несколько ошарашенный таким поворотом, ответил я, уже с большим интересом разглядывая директора школы.
— Вот у дрессировщиков бытует поговорка: нет плохих собак, а есть плохие хозяева. Я, конечно, не хочу сравнивать — это глупо. Просто по ассоциации… Мы учим детей, а я порой задумываюсь над тем, что прежде-то, может, родителей учить нужно. Потому и говорю своим педагогам: ходите в семьи, общайтесь с родителями, не ждите, когда они к вам пожалуют. Они ведь могут и вовсе не прийти…
Директор Румянцев тяжело вздохнул и сказал:
— Вы только задумайтесь, Дмитрий Васильевич, какая сейчас насыщенная программа! Помню, четверть века назад ребята обожали играть в чехарду, в отмерялку, бог знает еще во что. А нынче? Не играют! Нет у них и минуты свободной…
Директор Румянцев перескакивал с одного на другое, но мне было интересно его слушать, потому что, откровенно говоря, я плохо знаю современную школу. В своей следственной практике я впервые столкнулся с уголовным делом, в котором главным действующим лицом оказался школьник.
Если не считать тех редких моментов, когда я — вместо Ксении — приходил на родительские собрания — наша Галка тоже девятиклассница, — иметь служебное дело со школой мне еще не доводилось. Практически для меня это новый мир. И образ мышления взрослых людей в этом мире мне мало известен. А для установления полной истины в случившемся с Никитой Гладышевым мне, несомненно, надо многое понять. И, в частности, образ мышления, психологию людей, призванных выпускать в большую жизнь таких ребят, как Никита Гладышев, наша Галка, и других-других…
Я внезапно поймал себя на том, что ощущаю какую-то личную причастность ко всему этому делу как человек, в семье которою живет и воспитывается дочь-девятиклассница.
И почувствовал раздражение. При чем здесь личная причастность, при чем моя дочь? Я следователь, юрист. Все остальное может только мешать, уводить в сторону.
А директор Румянцев между тем разволновался, встал начал ходить по кабинету, иногда взмахивая рукой и рубя воздух.
— Высоки требования современной школы, скажу я вам, Дмитрий Васильевич, ох, высоки! Видимо, иначе и нельзя, жизнь на месте не стоит, заставляет уходить от привычного. Ко люди-то все из того же, как говорится, материала. Их трудное переделывать, нежели новые поколения ЭВМ создавать. Вот, к примеру, семья Никиты Гладышева. Отец с высшим техническим образованием. Мать с высшим медицинским. Оба, значит, знакомы с математикой, физикой, химией, а это сегодня, что ни говори, три кита. Так?
— Верно, — согласился я.
— Что же получается? А то, что родители Никиты — при необходимости! — сами в состоянии помочь своему сыну. Теперь берем из этого же девятого “Б” другого учащегося — Николая Терехова. Шпанистый парень, не буду скрывать. Приди вы по поводу него — ничуть из удивился бы! Учится плохо, еле-еле на троечку вытягивает. Кстати, из семьи ушел отец. Одна мать и тащит Николая. Ну, вызывал ее, беседовал. А она плачет: “Так я ж не могу в его уроках разобраться, товарищ директор, как мне его проверять? А на репетиторов денег у меня нет!” Она машинистка… Мне ее по-человечески жаль, а у самого в голове мысли об отчетности по успеваемости, об отчетности для роно!
— По-моему, — заметил я, — вы берете полярные точки, говоря о Гладышеве и Терехове.
— Верно! — обрадовался директор Румянцев. — Правильно вы ухватили. А почему беру? Да потому, что они оба учатся в одном классе. Вы мне можете возразить: “Пусть Терехов идет в ПТУ, там он получит среднее образование да еще специальность”. Согласен. Получит. Но если бы в ПТУ пошел, скажем, Никита Гладышев, уверяю вас, специалист из него получился бы выше классом. Однако ни мы, ни родители не отпустим ведь Никиту Гладышева в ПТУ!
Директор Румянцев еще раз вздохнул, вернулся к столу, тяжело опустился на стул.
— Впрочем, — тихо заговорил он, — мне бы не хотелось, чтобы вы подумали, будто успеваемость школьников и их поведение зависят исключительно от уровня образования родителей. К сожалению, часто образованные родители в силу различных причин — занятость, просто нежелание, лень, равнодушие — не могут или не хотят уделять необходимое внимание ребенку. А вот, допустим сын нашей гардеробщицы тоже отличник. Мать его с детства к труда приучила, к настырности, к любопытству, если угодно. Он, если чего не понял, с учителя семь потов сгонит, чтоб тот все объяснил, по полочкам разложил. Тут все, конечно, индивидуально. И о Никите Гладышеве я так, к примеру просто. Понимаете?
— Понимаю, — кивнул я. — Вчера вечером Никита Гладышев погиб.
Мои слова прозвучали для директора Румянцева громом среди ясного неба. Он даже весь сжался.
— Боже мой, — чуть шевеля губами пробормотал он. — Гладышев был верным кандидатом на золотую медаль.
Понятное дело в этот момент директор Румянцев не осознавал всей нелепости своих слов.
— Его что же, — он как-то боком, неуклюже потянулся ко мне, — убили?
Я не ответил, пожал плечами.
— Господи, скорей бы уж эти два оставшихся года с плеч, — страдальчески воскликнул директор Румянцев. — И все — на пенсию! Пускай другой на мое место садится, кто помоложе, у кого нервы покрепче, а я свое отдал…
Если окажется, что Никита Гладышев покончил с собой, директору Румянцеву не позавидуешь: вереницей потянутся всякого рода комиссии. “Почему? Как такой роковой исход могли просмотреть школа, педагогический коллектив и вы лично, товарищ Румянцев? Кто виноват? И вообще что за человек он был, этот ваш Гладышев, которого вы, товарищ директор считали верным кандидатом на золотую медаль?..”
Что и говорить, не позавидуешь ему. А мне?
Вообще-то легче пока идти от “несчастного случая”. Но путь наименьшего сопротивления, как известно, не самый лучший. Однако у меня сейчас объективно больше фактов за то, что произошел несчастный случай. И нет, по существу, ни одного серьезного “против”. Утонуть у этого проклятого причала проще пареной репы Когда-то, в годы войны, сюда угодила бомба, после котором осталась глубокая воронка. Даже время не смогло ее затянуть. К тому же разрушенные металлические конструкции переплелись, как спрут щупальцами стискивают. Кроме того, Никита Гладышев по словам матери, плохо плавал, боялся воды. В детстве мальчик перенес тяжелейший грипп с осложнением: в холодной воде у него тотчас же сводило ноги, оказывается, он уже дважды тонул. А весна в этом году у нас выдалась холодная. Совсем не теплое нынче Черное море!
Что еще за несчастный случай? Конечно же, шторм. Был очень сильный шторм. А на причале никого, кроме подростка. Мог сбить с ног ветер, могла налететь волна, обрушиться, утащить в воду.
О том, что Никита Гладышев практически не умел плавать, я и хотел сказать “Серсемычу”. Впрочем еще скажу. Успеется. Потому что даже таков серьезное обстоятельство все равно не снимает с меня необходимости отрабатывать и остальные версии — убийство и самоубийство.
— Скажите, — через паузу заговорил я, — какие отношения были у Гладышева с одноклассниками.
— Хорошие, — уверенно ответил директор Румянцев. — Ребята уважали его.
— А с преподавателями?
— В целом нормальные.
— Что значит “в целом”? — Я уловил какую-то неуверенность в голосе собеседника, пожалуй.
— На него иногда жаловалась Елизавета Павловна Ромашина, классный руководитель.
— Почему?
— Ну… — Он замялся. — Разные мелочи. Чего не бывает во время урока!
— А что из себя представляет Ромашина?
— Хороший специалист. Прекрасный методист по литературе и русскому языку. Умеет поддерживать дисциплину в классе.
— Понятно. Это, так сказать, с профессиональной точки зрения. А как человек?
— Молода, красива… Правда, иногда бывает вспыльчивой. Насколько мне известно, у нее в семье какие-то нелады с мужем. Однако, я думаю, это к делу не относится, поэтому хотел бы, чтобы сие осталось между нами, не люблю испорченный телефон. Хорошо?
— Разумеется. Я смогу встретиться с Ромашиной?
— Сегодня она уже ушла из школы.
— Не сегодня. В следующий раз. Я позвоню.
— Пожалуйста, — кивнул директор Румянцев. — Боже мой, то, что вы сообщили, у меня до сих пор не укладывается в голове.
Я встал.
— Я могу сказать преподавателям о случившемся? — спросил он.
— Конечно.
— Когда похороны? Вам это известно?
— Завтра в город возвращается отец Никиты. Похороны, видимо семнадцатого числа.
— Все учители придут! — зачем-то заверил меня директор Румянцев. — И я тоже.
Он вяло пожал мою руку. Ладонь у него была маленькая, сухонькая. Да он и сам — полное несоответствие с крепким, рубленым лицом — худосочный, узкоплечий человек с тяжелыми, набрякшими мешками под глазами. У него, очевидно, не все в порядке с почками. Я смотрел на директора Румянцева глазами сорокатрехлетнего здоровяка и мне было искренне жаль этого человека, которому до пенсии осталось всего два года. А сейчас у него могут быть разные неприятности, связанные со смертью учащегося его школы. Хотелось сказать директору Румянцеву что-нибудь утешительное дружески-участливое. А говорить-то как раз и нечего было, потому что в начале расследования вопросов всегда больше чем ответов. В данном же случае вообще не было никаких ответов, одни лишь вопросы.
…Я вернулся в прокуратуру, и меня вызвал к себе Сергей Семенович. На этот раз мы сидели не пятнадцать минут, а часа полтора обсуждая сложившуюся ситуацию. Потом позвонил прокурор и попросил нас обоих зайти к нему.
Рабочий день уже кончился, а мы все еще сидели в кабинете у прокурора, обменивались мнениями.
15 мая 1978 года, понедельник, 20 часов
Дома, на столе, — записка: “Ужин на плите. Разогрей. Ушли с Галкой в театр. Ксения”.
Большой презент маме: согласилась вместе пойти в театр! Галке почти шестнадцать, у нее свои интересы. У нас в ее годы интересы больше совпадали с родительскими. Да и время какое было: после войны я, например, работал с отцом в одном цехе.
Впрочем, нам грех жаловаться на дочь. Растет целеустремленный человек. Да, с семьей у имя все в порядке, как говорится, крепкие тылы. Я люблю приходить домой. И не очень люблю уходить из дома.
Разумеется, Галка предпочитает проводить свободное время со своими приятелями, которых у нее, кажется, миллион.
Но все-таки есть одно место, куда она с большим удовольствием отправляется вместе с нами, даже поторапливает. Я говорю о доме наших друзей Михайловых. Галка думает, что мы с матерью не замечаем, как меняется ее лицо, стоит ей увидать Валерку Михайлова.
Рано еще думать о замужестве дочери, однако же я не стал бы возражать против Валерия Михайлова как будущего зятя. Единственное, что мне не очень в нем нравится, — уж слишком спокоен, без преувеличения — олимпийское спокойствие. Ну право же, нельзя быть таким спокойным в восемнадцать лет!.. Впрочем, если иметь в виду активный характер Галки, выдержка Валерия — это даже к лучшему.
…Вымыв и убрав посуду, я прошел в комнату, распахнул окно. С моря дул прохладный ветер. Изредка доносились гудки теплоходов. Я примостился на подоконнике — привычка с детства, от которой не могу избавиться, — и стал смотреть на море, думать.
Версия о несчастном случае прямо-таки лезет сама, назойливо лезет, спасу нет, как лезет. Что же меня смущает в ней? Собственно ничего не смущает. Я готов с ней согласиться, пожалуйста, я не против… Вот если мне кто-то убедительно объяснит, почему Никита Гладышев пришел в штормовую погоду на разрушенный причал; если мне кто-то подскажет ответ, чьи очки лежали у него в кармане и зачем ему понадобилось носить при себе двести рублей?.. Я даже согласен “списать” последний вопрос: зачем ему понадобилось иметь при себе эти деньги? В конце концов это его личное дело. Но вот откуда они у него? Кто их дал Никите? Зачем, с какой целью?
Екатерина Ивановна ничего на знала об эти деньгах, что крайне странно, если иметь в виду будто Никита никогда от нее ничего не скрывал. Ах, бедная женщина, как она убивалась, когда ее привезли в морг и показали труп сына.
Мы установили личность юноши легко: на его наручных часах было выгравировано “Н.Гладышеву — Красногвардейский РК ВЛКСМ 31.12.77 г.”.
Через два часа мы уже имели первые необходимые сведения. Потом привезли мать для опознания, так положено. Она упала в обморок.
Иногда я думаю: почему, за что люблю свою профессию? Сколько страдания подчас приносит она и мне и другим…
Я еще до Серсемыча, едва приехал на место происшествия задал себе вопрос: “Что этого парня принесло в шторм на разрушенный причал?” Перво-наперво подумал, что у него могла быть девушка, с которой он договорился там встретиться, а потом уже ничего не мог переиграть, потому и пришел на причал. Надо сказать бывший третий причал — одно из самых популярных мест у влюбленных парочек. Но Екатерина Ивановна сказала, что у Никиты не было девушки, с которой бы он встречался.
Постовой милиционер, дежуривший недалеко, сообщил, что причал вчера вечером был безлюден. Правда, показания милиционера в данной ситуации мало что значат, так как штормить начало примерно в восемь вечера и он отправился в управление порта, где находился до одиннадцати вечера. Эксперт же полагает, что смерть Никиты Гладышева наступила между двадцатью одним и двадцатью двумя часами.
Что же могло привести Никиту в штормовую погоду на причал?.. Екатерина Ивановна никак не могла этого объяснить. В воскресенье в пять вечера она ушла к подруге на день рождения, сказав сыну, что оттуда отправится в клинику на ночное дежурство. Два раза она звонила домой и разговаривала с Никитой. Первый раз она позвонила в шесть часов. Сын сказал, что готовит уроки. Потом позволила через час. Сын сидел за книгой, перечитывая в который раз “Три мушкетера” Александра Дюма. Больше она ему не звонила. В десять часов вечера Екатерина Ивановна поехала в клинику. Утром, вернувшись домой, она не застала сына и была убеждена, что он в школе.
Так… Что дал мой визит в школу к директору Румянцеву? Мало. Никита Гладышев был одним из лучших учащихся, комсомольцем, общественником. Отношения с ребятами хорошие. С преподавателями — нормальные. Хотя на него иногда жаловалась Елизавета Павловна Ромашина, классный руководитель 9 “Б”. “Почему?” — уточнил я. “Разные мелочи. Чего не бывает во время урока!” — ответил директор Румянцев. Вот именно — чего не бывает. Во всяком случае, меня эти “разные мелочи” интересуют. Директор назвал Ромашину резкой, вспыльчивой. И сказал, что у нее какие-то нелады в семье с мужем. Ну и что с того для меня? Ничего! Директор Румянцев восторженно отозвался, хвалил Федора Борисовича Гладышева. Кстати, Сергей Семенович, а потом и прокурор тоже назвали отца Никиты хорошим человеком, деловым. А они оба редко кого хвалят.
Завтра Федор Борисович возвращается из Москвы. Да-а, вот это самое страшное — родителям хоронить своих детей! Противоестественно.
Серсемыч и прокурор мысли не допускают, что произошло самоубийство, хотя и считают, что эту версию я тоже должен проработать со всей тщательностью. Действительно, с какой стати было парню кончать с собой? Будь хотя бы какая-нибудь там “несчастная любовь”. В таком возрасте — если юноша очень уж восприимчивый, эмоциональный — может сорваться, наделать глупостей… Так ведь и девушки не было, с которой бы дружил или встречался! Целиком отдавался учебе, общественным делам в школе. Неприятности в школе? Наоборот, все прекрасно! Даже если и не сложились безоблачно отношения с классным руководителем, это же не причина, черт возьми… Тяжелая обстановка в семье? Это при хороших-то, умных родителях? Говорят, чужая жизнь — потемки. На людях можно быть одними, а дома — совсем другими. Нет, о семье Никиты Гладышева я ничего не знаю. Но должен узнать!.. Может быть, связался с плохой компанией? Такой вариант тоже нельзя исключать. И тут во многом надежда на Самсонова. Пусть постарается выяснить, была ли у Никиты Гладышева еще какая-нибудь жизнь, помимо школы и дома.
А если убийство? Месть? Или с целью ограбления? Нет, нетронутые деньги в кошельке основательно рушат версию об убийстве с целью ограбления Никиты Гладышева.
За размышлениями незаметно пролетело время: почти половина двенадцатого ночи. Что-то задерживались мои женщины. Спектакль в театре давно окончился.
Я надел плащ и вышел из квартиры.
Ночной воздух был терпко напоен запахами. Но сейчас мне было не до того, чтобы оценивать всю эту весеннюю благодать.
Я стоял у подъезда, курил и с тревогой всматривался в ту сторону, откуда, по идее, должны были появиться жена и дочь.
Неожиданно мое внимание привлекли всхлипывания и громкий шепот, доносившиеся из беседки, плотно закрытой деревьями и кустарником. Я машинально сделал несколько шагов к ней и вдруг с удивленней узнал голосе Ксении и Галки.
Странно, почему они не идут домой, а сидят в беседке и шепчутся, да еще в слезах? Ох уж эти женские тайны!.. Как летит время! Не успели мы с Ксенией опомниться, а дочь-то невеста и тайны у нее появились…
Я решительна раздвинул ветки и шагнул в беседку.
— Что здесь происходит?
— Ой, кто тут? — испуганно вскрикнула Ксения.
— Я, всего лишь я. А вот вы что делаете, дорогие мои? О чем шепчетесь, почему слезы? И вообще не пора ли домой? Спектакль давно окончился!
— Да, да, — кивнула Галка и попыталась улыбнуться. — Правильно, папа, спектакль кончился. Но только он недавно кончился. Пойдемте домой.
И все это — на одном дыхании, на одной ноте. Гм-гм…
— Может, мне все-таки объяснят, что здесь происходило? — проворчал я, беря руку Галки. — Какая сильная драма разыгралась в тихой беседке? Я ведь тоже любопытный!
— А никакой драмы, папа! — Галка резко выдернула свою руку. — Просто твоя дочь дура, неврастеничка и злюка. Вот и все!
Иной раз ее грубая прямолинейность ошарашивает, и даже теряешься, не находишь, что сказать. “Неужели это все из-за бедной акселерации?” — иронизирую я над попытками жены смягчить эти пусть редкие, но все-таки неприятные выходки Галки. Однако я все чаще и чаще задумываюсь над тем, что модная ныне акселерация — это не выдуманная кем-то проблема, что она проявляется не только в том, что Галка уже на полголовы обогнала мать, что эта загадочная штука еще в чем-то, что, быть может, и вовсе не поддается расшифровке.
Мы молча вошли в подъезд. Галка не стала ждать, когда спустится кабина лифта, а направилась пешком на пятый этаж.
— Не сердись на нее, Дима, — тихо сказала Ксения. — Она, кажется, поссорилась с Валерием.
— Мировой катаклизм! — Я развел руками. — Еще сто раз поссорятся, а на сто первый помирятся.
— Нет, у них что-то серьезное произошло, — возразила, вздохнув, Ксения. — Но Галка не говорит.
— Слушай, дорогая, — сердито ответил я, — меня больше волнует, что завтра я встану с больной готовой, а моя работа, между прочим требует здоровой головы!
Я с трудом удержался от искушения грохнуть дверью лифта.
16 мая 1978 года, вторник, 9 часов 30 минут
Звонил городской телефон. Я поднял трубку.
— Дмитрий Васильевич? Самсонов говорит.
— Слушаю вас, Игорь Демьянович.
— Я к вам заеду минут через пятнадцать.
— Жду.
Стоило закончить разговор с Самсоновым, как по местному позвонил заместитель прокурора и срочно попросил зайти.
Кабинет Серсемыча через три двери. Я вошел и увидел, что он стоит у окна и вертит в руках какой-то конверт.
— Тут, Дмитрий Васильевич, — медленно заговорил Сергей Семенович, — ерунда, знаешь ли, получается…
— Что именно? — насторожился я.
— Вот! — Он протянул конверт. — Анонимка пришла на Гладышева-отца. Черт знает что! Анонимка она конечно и есть анонимка, но, сам понимаешь, как сигнал ее тоже не следует со счетов сбрасывать, коли такое происшествие с парнем вышло. Дыма без огня не бывает.
Я сунул конверт в карман и пошел к себе.
Итак, анонимка пожаловала. Симптом. Тропиночка к истине или же, наоборот, чье-то злонамеренное желание сбить следствие, направить его по ложному пути? По-разному случается, когда приходит такой “подарок”.
…В конверте лежал сложенный вдвое листок с машинописным — как водится! — текстом: “Никита Гладышев погиб из-за тирана-отца и глупой матери, простившей своему муженьку измену ей. А сын-то не простил! Охоч товарищ Гладышев до молоденьких женщин. Семьи он разбивает из-за своих сердечных увлечений. А еще называется руководитель! Однажды на моих глазах, на вокзале, он обнимал и целовал молоденькую женщину, а в руках у нее были свертки. Одарил, выходит!”
От этой анонимки пахло кухонными склоками. И тем не менее мимо этого сигнала нельзя было равнодушно проходить.
Постучав, в комнату вошел инспектор Самсонов и прямо с порога начал:
— Я узнал насчет очков, Дмитрий Васильевич. Были такие в наши аптеках, но давно. Мне посоветовали съездить в Черновин. Одна из сотрудниц аптекоуправления гостила там месяц назад и видела эти оправы, они немецкие, из ГДР. Я попытался связаться с Черновином по телефону, но не удалось. Где-то нарушена телефонная линия. Может, мне и в самом деле съездить туда? Окошечко появилось между другими делами.
— Что ж не возражаю, — кивнул я. — Вот взгляните. — И протянул Самсонову анонимку. — Сегодня пришла.
— Без почтового штемпеля конверт, — заметил инспектор.
— Да. Опущено в почтовым ящик на здании прокуратуры. Задание для вас, Игорь Демьянович, остается прежним, но с учетом того, что пожаловало письмецо, нужна попробовать установить прежде всего кто из жильцов дома работал ли работает вместе с Федором Борисовичем и Екатериной Ивановной Гладышевыми, узнать, какие между ними отношения. Выяснить, у кого в доме имеются пишущие машинки, ну и естественно, попытаться достать машинописные образцы с них. Практика показывает, что авторы анонимок чаще всего бывают из ближайшего окружения тех на кого потом и шлют свои послания. Безусловно, это вовсе не означает, что сейчас не может быть иначе. Нужно побывать в строительном тресте, установить контакты там.
— Интересно, какой микроклимат был в семье Гладышевых? — сказал Самсонов. — Побеседую с участковым инспектором. Может, даст информацию о Никите, не замечен ли был в какой-нибудь подозрительной компании.
— Верно, — согласился я.
Переговорив с Самсоновым, я позвонил директору Румянцеву и попросил передать Ромашиной, что хотел бы с ней встретиться сразу после уроков.
— Когда они сегодня кончаются у Елизаветы Павловны?
— Одну секундочку, Дмитрий Васильевич, взгляну в расписание… Ага у нее четыре урока. Значит, в двенадцать двадцать. Но обычно после уроков преподаватели обедают в школе. Приезжайте к двенадцати сорока пяти.
— Договорились. Я буду ждать ее в вестибюле.
16 мая 1978 года, вторник, 12 часов 45 минут
— Директор сказал, что вы приглашаете меня на прогулку…
В голосе — насмешка, а взгляд между тем серьезный, цепкий.
Эффектная женщина Ромашина Елизавета Павловна. Высокая, стройная. В глазах и движения — властность.
— Надеюсь, вы не против? — простодушно спрашиваю я.
— Ну отчего же против? — Легкое пожатие плечами. — Уроки у меня кончились. Полагаю, часа нам с вами хватит?
— Вполне!
Мы вышли из школы и Елизавета Павловна сама предложила маршрут:
— Поедемте к морю!
Спустились к набережной. Над головой шумно кружили чайки. Ромашина на мгновение подняла голову, на лице промелькнула гримаса брезгливости.
— Не люблю этих птиц! — бросила она.
— Чаек? — удивился я, как-то прежде никогда не задумываясь над своим отношением к ним. Чайки для меня были все равно, что рыбачьи шаланды или гудки теплоходов. — Почему же вы не любите чаек?
— Не знаю, — легко ответила она. — А разве вы все можете объяснить?
Мне показалось, что Ромашина хочет прощупать меня и сознательно пытается заострить разговор. Что ж, я готов помочь ей в этом. Мне тоже интересно увидеть ее разной. Скажем, разговор в прокуратуре, в моем кабинете или в школе — у директора Румянцева — заранее был обречен на определенную “служебную стилистику”. Здесь же совеем иное дело. Медленно прогуливаясь по набережной, слушая, как вода бьется о гранит, мы оба можем позволить себе разговор почти непринужденный. И мы как бы проверяли себя, а способны ли на подобный тон разговора.
— Впрочем, — неожиданно улыбнулась Ромашина, — я могу сказать, почему не люблю чаек. Их считают чуть ли не символом свободы. А они истерично и жадно кричат и до крови, до смерти забивают друг друга. В этих птицах есть какое-то поразительное противоречие между формой и содержанием. Мне же не по душе раздвоение. Наверное, в чем-то я идеалистка.
Насколько она идеалистка, я не смог бы сказать, но то, что эта броская женщина весьма категорична о своих суждениях, в этом я почему-то уже не сомневался.
Мы незаметно дошли до порта, точнее сказать, до прежних его границ. Показался бывших третий причал.
— Скажите, где его нашли? — внезапно спросила Ромашина.
Она говорила о Никите Гладышеве.
— Вон там, справа, — показал я рукой.
— Какой ужас! — чуть слышно обронила Елизавета Павловна. — Если бы это случилось с моим сыном, не знаю, что бы я…
— Елизавета Павловна, — перебил я, — расскажите мне о Никите Гладышеве. Я хочу понять, что за человек был этот юноша.
— Вы полагаете, что учителя так уж хорошо знают своих учеников? — не без горечи откликнулась Ромашина.
И замолчала. Она долго смотрела на воду, лениво плескавшуюся около причала. A еще два дня назад здесь безумствовал шторм.
— Собственно, что вы хотите доказать своим расследованием? — Елизавета Павловна резко повернулась ко мне.
— Я хочу установить истину: как и почему погиб Никита Гладышев. Пока меня не убеждает, не удовлетворяет ни одна из трех версий, над которыми мы работаем. Могло произойти убийство, самоубийство и несчастный случай.
— Но так ведь не может быть! — возразила она. Что-то одно из трех?
— Совершенно верно, — ответил я. — Я сконцентрировал внимание на версии, по которой…
— Гладышева убили, да? — напряженно перебила Ромашина.
— Нет, — покачал я головой, — по которой с ним произошел несчастный случай.
— Вам что же, так удобнее? Почему?
— Почему? — повторил я. — Я вам отвечу. Если не возражаете, вопросом на вопрос. Выходит, вы допускаете, что Никиту Гладышева могли убить, столкнуть в воду?
— А вы опасный собеседник, Дмитрий Васильевич, — заметила Ромашина. — С вами ухо востро нужно держать!
— Ну, вам-то зачем его со мной так держать? — пожал я плечами.
— Не скажите, не скажите! — живо возразила Ромашина. — Вы следователь. А погиб учащийся из моего класса…
Ее намек был более чем прозрачен. Ромашиной, как и директору Румянцеву, тоже хотелось, чтобы я искал причину гибели Никиты Гладышева где-то в ином месте
Я сделал вид, что не понял смысла ее слов. И продолжал:
— Например, мог кто-нибудь отомстить Гладышеву? Мог Никита быть для кого-нибудь врагом?
— А почему бы и не? — вдруг жестко произнесла Ромашина. — У него был трудный характер.
— Ну, а покончить с собой Никита Гладышев мог? Такое вы допускаете? — Я посмотрен на нее в упор.
— Когда речь идет о Гладышеве, — помолчав, ответила Ромашина, — я допускаю все что угодно.
— Вот видите! — усмехнулся я. — Вы тоже допускаете все что угодно. Однако у вас есть передо мной одно несомненное преимущество. Вы классный руководитель девятого “Б”. Сколько лет вы знаете Никиту Гладышева?
— Пять.
— А я его совсем не знал. Поэтому давайте вернемся к характеру Гладышева. Вы назвали его трудным. Но почему?
— Потому что он был талантлив! — ответила Ромашина. — А у талантливых людей характер всегда нелегкий. Да, Никита был талантливым мальчиком. Это несомненно. Легко учился, прекрасно рисовал, обладая сильной волей. Все это делало его личностью. И естественно, притягивало к нему остальных ребят. Постепенно вокруг него возник ореол исключительности. А рядом с исключительностью всегда эгоизм!.. На мои взгляд, Никита принадлежал к той части нынешнего поколения мальчиков и девочек, которые не знают слова “нельзя”. Суть их — тихое непослушание. Они не хулиганят, не шумят на уроках, вежливы, не выражают бурно своих обид, но всякий раз сделают по-своему. Они активны в своем отрицании, хотя эта активность внешне никак не проявляется. Допустим, шалопай Коля Терехов из моего же класса может позволить себе пустить бумажного голубя по классу, однако этим он не сорвет урок, потому что на остальных ребят его голубь не произведет особенного эффекта. А Никита Гладышев мог сорвать урок, например, спросив: “У Пушкина были внебрачные дети? А Наталья Николаевна Гончарова все-таки изменяла когда-нибудь Пушкину?..” Вот вы, дорогой следователь, окажись на моем месте, стали бы отвечать на такие вопросы?
— Как юрист я привык оперировать лишь проверенным фактами, — отшутился я.
— Но ведь всему есть предел! — раздраженно воскликнула Ромашина, не принимая моего шутливого тона. — Самое любопытное заключается в том, что еще относительно недавно у нас с Никитой Гладышевым были прекрасные отношения. А потом его словно кто-то подменил. И у меня появилось ощущение, что он ставит целью обязательно сорвать мой урок…
— Простите, — перебил я, — когда вы на это обратили внимание?
— Когда?.. Пожалуй, в начале второго полугодия. И все в интеллигентной форме. Вопросы, вопросы, вопросы… Его рука постоянно была поднята!
— Что поделаешь, — дружелюбно заметил я, — любознательность.
— Нет! — отчеканила Ромашина. — Это смахивало, уверяю вас, на ученическую наглость, а не на любознательность.
— По-моему, — возразил я, — это все же из разноплоскостных категорий.
— Вот-вот, — почему-то обрадовалась Ромашина. — Вы сейчас чуть ли не слово в слово повторили то, что сказал однажды Морозов!
— Кто такой Морозов?
— Преподаватель физики. Самый любимый учитель девятого “Б”! — В ее голосе прозвучали нотки ревности и раздражения.
— Это как же ему удалось?
— Самым легким способом! — ответила Ромашина. — Приглашает ребят к себе. Пьют чай с вареньем и печеньем. Слушают пластинки. Ведут разговоры об искусстве и науке. Играют в шахматы. Словом. Морозов шагает в ногу с современной педагогикой! Это конечно, прекрасно и замечательно… когда нет семьи, когда нет других забот.
Она махнула рукой, в упор посмотрела на меня и с сарказмом бросила:
— Ну что, Дмитрий Васильевич, составили представление о классном руководителе девятого “Б”?
— То есть? — смутился я, потому что действительно уже составил о ней свое представление. Ничего не скажешь: умна, проницательна и с хорошей реакцией.
— Как же, как же! — насмешливо продолжала Ромашина. — По тому, как вы спрашивали, как слушали, я же видела что вы прямо-таки лепите мои портрет. Думаете, я злая, скрипучая, консерватор? Вовсе не такая! И свой девятый “Б” люблю. И хороших, и плохих, и отличников, и двоечников. Что вас еще интересует? Кладу руку на классный журнал и клянусь говорить правду, правду и только правду…
Вообще-то она нервничала. Я это видел.
— Никита Гладышев дружил с кем-нибудь из класса?
— Да, с Мишей Тороповым.
— Тоже отличник?
— Нет. Середняк. Довольно робкий, пугливый мальчишка. Ему частенько доставалось о Терехова. Вот уж кто сорвиголова!
— Что же связывало Гладышева и Торопова.
— Не знаю, — пожала плечами Ромашина. — Думаю. Никите нравилось выглядеть еще более эффектно на “средней плане” Миши Торопова. Вы только поймите меня правильно, товарищ Красиков. Я потрясена случившимся, но думаю, что для вас теперь важнее не мои эмоции, а…
— Да, да! — кивнул я. — Конечно. Ваш рассказ для меня очень важен. Скажите, а какие отношения были у Гладышева с Тереховым?
— Наверное, сложные. Видите ли, они оба претендовали на роль лидеров в классе. Никита, так сказать, в плане интеллекта, а Терехов — физической силы. И каждый из них хотел держать класс под своим влиянием. Впрочем, Терехов не рисковал задираться с Гладышевым, насколько мне известно.
— Понятно.
Мы поговорили с Елизаветой Павловной еще несколько минут и распрощались.
16 мая 1978 года, вторник, 15 часов
Расставшись с Ромашиной я вернулся в школу № 47. В канцелярии мне сообщили домашний адрес Миши Торопова. О нем классный руководитель отозвалась как об ученике среднем, мальчишке робком и пугливом. Но именно с ним дружил Никита Гладышев, лидер класса. Это уже интриговало. Торопову частенько доставалось от Николая Терехова. Почему же Никита Гладышев не вступался за друга? Неужели ему было безразлично, что Мишу обижает Терехов? Наконец, меня интересует и сам Терехов, потому что он, как и Никита Гладышев, тоже хотел быть лидером класса. Мы с ним обязательно встретимся, но чуть позднее когда я соберу о нем достаточную информацию.
…Миша Торопов жил недалеко от нового Дворца спорта. Дверь открыл долговязый подросток, смотревший на меня удивленно-вопрошающе.
— Вы Михаил Торопов? — спросил я, делая шаг вперед.
— Да-а… Здрасьте…
— Меня зовут Дмитрием Васильевичем. У вас найдется немного времени, чтобы поговорить?
— Конечно, — кивнул он. — Проходите, пожалуйста.
Судя по планировке прихожей, квартира Тороповых была трехкомнатной. Миша занимал небольшую солнечную комнату. В ней было уютно и пахло деревом. Видимо, потому что всюду стояли, сидели, лежали “деревянные люди” пешие воины в кольчугах, с копьями и луками, пушкари времен Ивана Грозного, конные гвардейцы с саблям наголо, летчики в самолетах, трактористы на тракторах, дети, взявшиеся за руки в хороводе…
Честно признаюсь, я был ошеломлен этим уникальным в своем роде музеем. Я ведь и сам неравнодушен к дереву, в свободное время творю кое-какие поделки. Но мне было далеко до этих!
— И это все ваши работы Миша? — спросил наконец я.
— Что вы! —смутился юноша. — Общие. Мама, папа и я сделали. А вот это…
Он подошел к остекленному шкафу и достал оттуда смешного пузатого повара.
— Яшкина работа! — с гордостью произнес Миша. — Братика моего. Он еще маленький, ему шесть лет. Но он тоже любит вырезать.
— Ого! — воскликнул я. — Яша, наверное самый знаменитый человек в своем детском саду.
— Нет, — погрустнел Миша. — Яша в детский сад не ходит. Он вообще у нас не ходит. У него только руки двигаются, а все остальное парализовано.
И от его слов все вокруг внезапно потухло. Я сердцем прикоснулся к трагедии этой одаренной семьи ощутил ее боль.
— Но Яшка — веселый человек! — снова заговорил Миша. — И всегда вырезает смешных человечков. А вы кто? — с детском непосредственностью перевел он разговор.
— Я следователь. Занимаюсь расследованием смерти твоего друга Никиты Гладышева. Вы же с ним были друзьями? — Я внимательно взглянул на парнишку.
— Да, — ответил Миша. — Это правда. Никита был моим самым лучшим другом. Больше таких друзей у меня никогда не будет.
— Почему?
— Ну… Не будет.
— Он что же, помогал тебе? В учебе? — незаметно для себя я перешел в разговоре с ним на “ты”.
— Помогал. Но только не в учебе.
— А в чем же?
— Он помог мне однажды человеком себя почувствовать.
— Что ж, —согласился я, — это серьезно. Правда, не понимаю пока, почему ты себя раньше человеком не чувствовал?
— Долгая история, — неохотно ответил Миша.
— И все же? — настаивал я.
— Потому что я трусом был, — неожиданно твердо сказал Миша.
— А-а! Но, может быть, ты себя слишком строго судишь?
— Нет, — покачал он головой. — Я все правильно говорю. Отец призывает: надо всегда быть самокритичным.
— Если не секрет, в чем именно проявлялась твоя трусость, Михаил?
— Ладно, скажу, — вздохнул он. — В общем, у нас в классе парень… Колька Терех… Терехов. Здоровый такой амбал. Железки всякие поднимает, перед девчонками фасонит. И еще психованный какой-то. С ним даже десятиклассники не связываются. Терех обязательно из себя что-нибудь изображает. Ну вот, года два назад шли мы с ним вместе из школы, а он вдруг достал из кармана нож, складной такой большой, пять рублей стоит. И говорит мне: “Тороп, будешь у меня шестерить. Я так решил. Завтра рубль принеси мне, понял?”
— И ты принес?
— Принес, — кивнул Миша. — Я же вам, говорю, что был трусом. С того дня все и началось. То одно ему дай, то другое принеси, то еще чего-нибудь сделай. А откажешься он тебе сразу в челюсть. Я даже в другую школу хотел перейти.
— Почему же ты никому не рассказывал? — удивился я. — Учителям, родителям?
— Что вы?! — отрицательно затряс головой Миша. — Это нельзя! У нас так не принято. Мы взрослых в свои дела не посвящаем. Скандалить будут, нотации читать. А кому это надо?
— А остальные ребята что же, не видели.
— Видели, — пожал он плечами. — Ну и что? Терех же не к ним приставал, чего же им-то лезть?
— Ясно. Значит, один Никита решил вмешаться, так?
— Он мне давно говорил, чтобы я с Терехом бороться начал. А когда узнал, что я решил в другую школу податься, сказал мне: “Не надо переходить, Мишка. Завтра я этого дебила человеком буду делать, но если ты и после этого снова станешь ему подчиняться, помощи от меня больше не жди!”
— И что же произошла между Тереховым и Гладышевым? — заинтересовался я. Ромашина утверждала, что Гладышев и Терехов в отношениях между собой соблюдали “воинственный нейтралитет”. Кажется она далеко не все знала об их отношениях.
— Что произошло? — переспросил Миша. — Да ничего такого особенного. Никита подошел к Тереху после уроков и сказал ему: “Отстань от Мишки Торопова. Иначе я могу тебя по стенке размазать”. Тот сначала обалдел, а потом полез на Никиту. Тут Никита, конечно, ему и двинул. Он ведь самбо занимался. Только об этом никто, кроме меня не знал. Никита вообще не любил о своих делах рассказывать. Вот Терех и покатился. А потом вскочил и снова на Гладышева, а тот его на болевой прием поймал. Терех даже закатился от “радости”…
— Когда это было? — перебил я. Миша рассказывал мне очень интересные вещи, очень!
— Двадцать первого апреля. У меня как раз день рождения был. Никита и сказал мне: “Это тебе мой подарок. А теперь все от тебя зависит!” Вот с того дня я больше не трус.
— А Гладышев и Терехов потом помирились, выяснив отношения? — уточнил я.
— Нет, — уверенно ответил Миша. — Терех, конечно, затаился. Только, как оказалось, ему против Ннкитиного самбо делать нечего. Хотя он и трепался, что еще посчитается с Никитой, не забудет ему.
— Кому он это говорил? — быстро спросил я.
— Много ребят вокруг стояло…
— Миша, а что ты лично думаешь по поводу гибели Никиты?
— Обидно очень… И чего ему на этом причале надо было, чего он там забыл? Он ведь плавать не умел.
— Это мне известно, Миша. Кстати, как ребята ваши относились к тому, что Никита не умел плавать? Не подшучивали над ним? Мол, на Черном море живет, а плавать не научился.
— Кто же станет подшучивать? — изумленно поднял он брови. — Мы знали, что у Никиты ноги судорогой сводит. Чего ж тут подшучивать! Ну, естественно, когда узнали, что он утонул…
— Когда вы узнали о случившемся?
— В понедельник, после уроков, Никита хотел у мена взять на несколько дней лобзик, что-то вырезать ему нужно было. Я принес лобзик в школу, а Никита не пришел. После уроков я к нему сам потопал. А во дворе-то уже разговоры. Я, конечно, некоторым нашим ребятам позвонил, сообщил. В общем, я думаю, что вечером в понедельник, то есть вчера, все уже знали. А сегодня только и были разговоры вокруг этого.
— Какие же разговоры? Можешь вспомнить?
— Да разные. Кто-то сказал, что Никита, наверное, бросился кого-нибудь спасать во время шторма, это в его характере, а так как плавать не умел, то, может, и спасти-то не спас, а сам утонул. Правда, мы это мнение сразу отмели. Нереальное оно. Потом кто-то сказал, что Никита случайно упал в воду, а его волной и накрыло. В общем много версий накрутили.
— А никто из вас не высказывал предположения, что Гладышева могли сознательно столкнуть в воду, зная, что он не умеет плавать? — осторожно спросил я.
— Как это сознательно? — уставился он на меня. — Убить что ли?
— Допустим.
— А за что его было убивать? Да нет, таких разговоров вроде не велось.
— Вот ты с ним дружил… А кто еще был его другом или близким приятелем? Может, у него какая-нибудь компания имелась?
— Нет, — возразил Миша. — Я только и был его другом. А так он занимался много, рисовал. Тут еще занятия самбо… Где на все время взять, чтобы еще и в компании?
— Скажи, Миша, а не было ли таких разговоров, что Никита сам бросился в воду? По какой-либо причине? Кстати, он не дружил с какой-нибудь девушкой? Не обязательно из вашего класса или школы…
— Никого у него не было! — перебил он уверенно. — Уж это я точно знаю. А вот насчет того, что Никита покончил жизнь самоубийством, вас ведь это интересует? — Его глаза доверчиво смотрели на меня. — Правильно, такое мнение у нас существует.
— Да? Почему?
— Так ведь никто не знает. Ну, просто мнение такое, понимаете?
— Не очень, Миша. Мнение должно на чем-то основываться!
— Невеселый он в последнее время был. А почему, я не знаю.
— Но вы же с ним были друзьями, Миша! — укоризненно заметил я. — Неужели тебя не интересовало, отчего твой друг ходит грустный?
— Почему же не интересовало? — обиделся парнишка. — Я у него два раза спрашивал: “Чего у тебя стряслось, старик?” А он в ответ: “Ничего. Отстань. Сам разберусь!” Я и отстал. У нас не принято приставать, если тебя не просят. Зачем лезть в душу человека? Может у него в голове какие-нибудь мысли. Захочет — сам скажет, а не захочет — пускай не говорит. А если вот так каждый будет приставать — это ведь садизм получается.
— И в школе у него тоже все было в порядке… — задумчиво проговорил я.
— Естественно! — кивнул Миша. — У него в школе всегда все в порядке, не то что у меня.
— А дома?
— Этого я не знаю. У него отец уехал в Москву. Никита почти месяц вдвоем с матерью жил.
— Никита был дружен со своим отцом?
— Еще как! Он все ждал, когда отец вернется, тот обещал ему привезти какие-то книги о театре. Никита театр любил, мечтал после школы в театральный вуз поступать. Или во ВГИК. Только об этом тоже никто из наших не знал. Никита даже в самодеятельности не участвовал. Правда, декорации оформлял, если попросят… Нет, с отцом он крепко дружил, как и я со своим. Тут у нас все нормально. С женщинами, конечно, посложнее…
— С какими женщинами? — не понял я.
— Ну с матерями, — ответил Миша. — Они нас, понятно, любят, но все равно полный антагонизм. Все суетятся. А зачем суетиться, когда и так все ясно?
— Миша, ты у Никиты никогда не видел при себе денег, крупной суммы? Двести рублей?
— Нет, — захлопал он глазами. — А зачем они ему?
— И очки он тебе тоже не показывал? — не отвечая на вопрос, спросил я.
— Какие очки? — вскинулся Миша. — Такие… ну… с “толстыми” стеклами?
— Да-да! — поспешно произнес я.
— Видел! — ответил Миша. — Еще поинтересовался у него, зачем они ему. А он положил их в футляр и говорит: “Не мои. Передать нужно”. Я и говорю: “Жаль. У них линзы в порядке”. Он на меня посмотрел и говорит: “Дурак ты, Мишка!” А почему я дурак? Я подводную лодку хочу делать, так эти линзы очень для перископа подойти могли.
— Кому Никита хотел передать очки, этого ты, разумеется, не знаешь? Или знаешь?
— Нет.
— Миша, а какие отношения были у Никиты с учителями?
— Обычные, — пожал плечами Торопов.
— И с Елизаветой Павловной тоже?
— Нет, на нее Никита за что-то взъелся. Может, потому что она ему в начале второго полугодия четверку за сочинение домашнее поставила. А он считал, что надо было пятерку. Никита самолюбивый человек был.
— Ты сказал, что в последнее время он ходил невеселый…
— Ну да, испортилось у него настроение. Это все заметили.
— Но когда именно оно испортилось? Не припомнишь?
— Недели две назад. Я как раз заболел. В школу не ходил. Ну, Никита как-то пришел ко мне домой. Мрачный весь. Я у него спрашиваю: “Чего у тебя стряслось старик?..”. А-а, я же вам уже говорил, кажется!
Верно, это он уже говорил мне. И судя по всему, больше ничего нового не скажет. Я поднялся, протянул ему руку. Уже у дверей спросил:
— Миша, можно задать тебе не совсем скромный вопрос? Если хочешь, не отвечай на него. Чем ты объяснишь, что из всех ребят Никита решил стать твоим другом?
Торопов вдруг покраснел и тихо ответил:
— Он говорил, что я талант раз умею так вырезать из дерева. А талант, говорит, надо охранять, потому что он чаще всего беззащитен и за себя постоять не может.
Было немного спешно услышать такое “признание”. Но услышав его. я тем не менее подумал, что какой-то раунд классный руководитель 9 “Б” проиграл своему учащемуся Никите Гладышеву. Она считала, что ему нравилось выглядеть эффектно на “среднем плане” Михаила Торопова. А вот Никита увидел в нем талантливого человека, нуждающегося в поддержке. Талантливого человека, которого не сумела разглядеть Елизавета Павловна Ромашина…
…Вечером мне домой позвонил инспектор Самсонов и сообщил, что днем вернулся Федор Борисович Гладышев и что завтра состоятся похороны Никиты. В 15 часов.
Я поинтересовался у Самсонова, удалось ли ему что-нибудь сделать за прошедший день. Оказалось, он кое-что узнал. Мы договорились встретиться завтра в прокуратуре в 17 часов.
17 мая 1978 года, среда, 16 часов 30 минут
…Люди — знакомые, учителя, одноклассники — уходили с кладбища, негромко переговариваясь между собой.
Около свеженасыпанного холмика остались лишь двое — Екатерина Ивановна и Федор Борисович. Мать и отец погибшего Никиты Гладышева.
Федор Борисович поддерживал жену. Лицо его было спокойным. А я понимал, какая неописуемая боль и тоска стоят за этим внешним спокойствием.
В числе других и я подошел к Гладышевым, тоже сказал какие-то слова соболезнования. Екатерина Ивановна, похоже, вообще ничего не видела и не слышала вокруг, а Федор Борисович кивал повторял: “Да, да… Да, да…”
Конечно, я не стал называть ему себя — до знакомства ли было в такой момент.
…Я медленно уходил с кладбища. А в глазах стояли две фигуры в черном. И холмик земли. Вот и все, что осталось от шестнадцатилетнего юноши. Неужели ничего больше? Неужели родился человек, чтобы ничего не успеть сделать за тот срок, что отвела ему судьба? Нет, это не так! Остался жить Миша Торопов, переставший считать себя трусом. Воля Никиты Гладышева сделала это возможным.
Я шел и думал, что скоро мы встретимся с Федором Борисовичем Гладышевым и он наверное, спросит меня: “Что случилось с моим сыном, товарищ Красиков?”
И что я отвечу ему? “Видите ли, товарищ Гладышев, на вас поступила анонимка, в которой утверждается, что именно вы виновник смерти сына…” Нет, об анонимке я не имею права пока говорить ему чего-либо. Все, что мне остается, так это продолжать по-прежнему поиск истины: пытаться понять, что же произошло в то штормовое воскресенье. 14 мая 1978 года, на бывшем третьем — давно уже не действующем — морском причале. Убийство ли? Самоубийство? Или же трагический несчастный случай?
“Волга” стояла чуть сбоку от ворот. Я сел в нее и бросил водителю.
— В прокуратуру, пожалуйста. — И посмотрел на часы: минут на пятнадцать я опоздаю.
…Инспектор уголовного розыска Самсонов неторопливо расхаживал по коридору.
— Извините за опоздание, — сказал я, приглашая жестом войти в кабинет. — Ну, что новенького?
— Разное есть, — степенно ответил Самсонов усаживаясь на стул. — Из жильцов, проживающих в настоящее время в доме вместе с Гладышевыми, нет никого, кто работал бы с Федором Борисовичем или Екатериной Ивановной…
— Что значит из “проживающих в настоящее время”? — перебил я.
— До недавнего времени в доме проживал бывший шофер Федора Борисовича, — пояснил Самсонов. — Терехов Василий Петрович. Квартира Тереховых как раз над Гладышевыми.
— Ну-ка, ну-ка, — оживился я, — что за Тереховы? Где этот Терехов работает сейчас?
— В автобусном парке водителем. Его бывшая жена Клавдия Потаповна машинистка в бюро по обмену жилплощади. Их сын Николай учится в сорок седьмой школе…
— В девятом классе “Б”? — снова перебил я.
— Совершенно верно, — кивнул Самсонов, ничуть не удивившись тому что мне известно, где учится отпрыск Тереховых. А может и удивился, но не подал вида.
— Весьма любопытно, Игорь Демьянович!
— Разведясь с Клавдией Потаповной, Терехов съехал с квартиры. Он почти сразу же вторично женился ушел жить к новой жене.
— Кто она?
— Здесь и начинается самое интересное, Дмитрий Васильевич! — усмехнулся Самсонов. — Терехов женился на секретарше Гладышева.
— Ах вот как!
— Ее фамилия Доценко, Нина Феликсовна Доценко, — продолжал Самсонов. — Двадцать восемь лет, три года работает у Гладышева. Терехова давно подозревала мужа в измене. Пыталась повлиять на него с помощью Федора Борисовича. Но тот якобы не захотел ничего сделать, как она утверждает.
— Так вы что, успели познакомится с Тереховой? — удивился я.
— Естественно, — хмыкнул Самсонов. — Вы ведь поручили мне достать машинописный образец. Я выяснил, что в доме живут две машинистки — Малахова Алевтина Даниловна и Терехова Клавдия Потаповна. Ну, и пришел — по очереди — к обеим. Принес им на перепечатку две лекции своего брата, он в политехническом учится. Вчера принес, а сегодня уже получил. Вот взгляните… Я их для удобства номерами обозначил. Номер один — это печатала Малахова, а номер два — Терехова.
— Отлично, Игорь Демьянович! Я немедленно отправлю ваши образцы вместе с анонимным письмом на экспертизу. Вы меня подождете я скоро вернусь.
Через несколько минут оформленный по всем правилам пакет был отправлен в НТО.
— А что представляет из себя эта Нина Доценко? — вернувшись назад, спросил я.
— В тресте о ней не очень высокого мнения, — ответил Самсонов. — Считают легкомысленной особой. Однажды произошел инцендент. В конце рабочего дня Терехова подстерегла Доценко у подъезда треста и учинила скандал. Многие сотрудники слышали, как Терехова кричала: “Ты, Нинка, змея подколодная, разбила мою семью! Сначала к начальнику бегала, а теперь мужа у меня увела. Накажет тебя бог!..” Терехова была пьяна. В жэке мне сказали, что с ней случаются “загулы”.
— Гладышеву об этом скандале стало известно?
— Да.
— Как он прореагировал?
— Никак. Между прочим, в тресте поговаривали, что у Гладышева и Доценко и в самом деле были какие-то личные отношения. Несколько раз Доценко после работы заставали наедине с Федором Борисовичем в его кабинете.
— Кто проявил инициативу в уходе Терехова с работы из треста?
— Это была инициатива самого Терехова. Водители автобуса гораздо больше зарабатывают.
— О сыне Тереховых есть что-нибудь?
— Участковый инспектор лейтенант Барышев характеризует Николая Терехова отрицательно. С “хвостом” парнишка. Имеет приводы в милицию, состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Полгода назад связался с группой спекулянтов, промышлявших запчастями к “Жигулям”. Но на него было мало материалов. После того, как спекулянтов осудили, Терехов вел себя некоторое время тихо. Однако месяц назад был задержан во время драки на стадионе “Буревестник” вместе с двумя приятелями. Они старше его.
— Кто такие? — уточнил я.
— Рабочие-ремонтники парфюмерной фабрики Егор Горохов и Павел Злобченко. Они были осуждены за мелкое хулиганство на десять суток. Терехова опять простили. Мать упросила не сообщать в школу, где сын и так на плохом счету.
— А сейчас эта троица поддерживает отношения?
— Вроде бы нет.
— А между Николаем Тереховым и Никитой Гладышевым не было, случаем, каких-либо конфликтных ситуаций, ну, скажем, на улице, во дворе? — спросил я.
— Барышеву об этом ничего не известно, — пожал плечами Самсонов.
— Вот что, Игорь Демьянович, нужно узнать, что делали весь вечер четырнадцатого мая Горохов и Злобченко.
— Вы думаете, что…
— Для того, чтобы о чем-нибудь думать, — перебил я, — мне нужны факты. В данном конкретном случае меня интересует, что делали вечером четырнадцатого мая Егор Горохов и Павел Злобченко, как они провели вечер, встречались пи с Николаем Тереховым куда ходили и так далее. Вот и все.
— Я должен также выяснить, что делал в этот вечер и Николай Терехов? — насупившись уточнил инспектор Самсонов.
— Нет, — покачал головой я, — этим займусь сам, Игорь Демьянович.
Через два часа позвонили из НТО и сообщили, что текст анонимки и текст “лекции № 2” напечатаны на одной пишущей машинке.
Что и требовалось доказать! Бывшая жена бывшего шофеpa Гладышева-отца Клавдия Потаповна Терехова приложила руку к анонимному письму, отправленному в прокуратуру. Да, но ведь могло быть и так, что Терехова лишь напечатала письмо по просьбе другого человека?
Легче всего верить самому себе. Однако лучше всего верить проверенным фактам. Их три. Терехова причастна к анонимке, ибо письмо напечатано на ее машинке, впрочем, может быть, в ее отсутствие?! Сын Тереховой Николай — одноклассник Никиты Гладышева, он конфликтовал с ним и однажды даже подрался. Николай Терехов был связан с правонарушителями, имеет приводы в милицию, состоит на учете в ИДН.
Три разрозненных факта. Дают ли они мне основание считать, что Никита Гладышев погиб насильственным образом, а Николай Терехов, в частности, причастен к его смерти?
Не дают!.. Хотя бы уж потому, что все эти факты могут развалиться под напором одного обстоятельства: а вдруг содержание анонимки соответствует действительности?
Одним словом, пора знакомиться с Клавдией Потаповной Тереховой.
18 мая 1978 года, четверг, 10 часов 15 минут
Перед бюро по обмену жилой площади толпились люди. Я с трудом пробился к двери.
Длинный коридор, масса дверей. Куда идти?
— Извините, девушка, вы здесь работаете? — остановил я чуть ли не пролетевшую мимо меня симпатичную девушку.
— До, — нетерпеливо ответила она. — А в чем дело?
— Где мне отыскать машинистку…
— Третья комната направо по коридору! — не дослушав выпалила девушка и мгновенно исчезла, растворясь в толпе снующих озабоченных людей.
Третья комната направо по коридору значилась под номером десять. Заняв очередь, я спросил у сидевшего на стуле старичка, поразительно напоминавшего одного из гномов в знаменитом фильме “Белоснежка и семь гномов”:
— Сколько машинисток работает?
— Трое, — охотно и неожиданно густым басом ответил “гном”. — Но если у вас серьезный ход на несколько комбинаций с отдельными и коммунальными, то есть если объявление будет пространным, вам лучше всего попасть к Клавдии Потаповне.
— Благодарю вас! — У меня, разумеется, был серьезный ход на несколько комбинаций, но объявлений не предвиделось.
…Откровенно говоря, я ожидал увидать не такую женщину. Маленькая, худенькая, с огромными доверчиво-наивными глазами, с красивым, но измученным какой-то потаенной печалью лицом — вот какой предстала Клавдия Потаповна Терехова, напечатавшая анонимку на Федора Борисовича Гладышева, в которой прямо обвиняла его в смерти сына.
— У вас что? — негромко, хрипловатым голосом спросила Терехова. — Текст объявления или другие документы.
— Да, — улыбнулся я, доставая из кармана сложенный вдвое листок ее письма. — Другие документы. Пожалуйста!
Терехова уже ловко заложила в машинку чистые листы. Привычным движением развернув листок, она изготовилась ударить по клавишам. И вдруг лицо ее вытянулось, а глаза — полные растерянности и даже ужаса — беспомощно уставились на меня. Ее руки бессильно опустились на колени.
Произведенный эффект оказался бльшим, нежели я мог предположить. Я взял анонимку, спрятал в карман и, наклонившись к Тереховой, негромко произнес:
— Клавдия Потаповна, я старший следователь прокуратуры, куда вы направили свое письмо. Экспертиза дала заключение, что оно напечатано на вашей пишущая машинка “Оптима”. Вы печатали это письмо?
— Да, — тихо ответила Терехова.
— Где нам удобнее будет поговорить? Вы же не хотите, чтобы кто-нибудь слышал наш разговор? — Я взглядом показал на работающих машинисток.
— Н-не х-хо-чу, — заикаясь ответила женщина, ошеломленная случившимся. Она встала и громко сказала, обращаясь к остальным машинисткам. — Девочки, я скоро приду. Поработайте пока за меня.
Я пропустил Терехову вперед. Мы прошли по коридору и поднялись на второй этаж. Клавдия Потаповна остановилась перед дверью, обитой дерматином, открыла ее.
— Входите. Здесь можно.
В комнате не считая шкафа, забитого папками, и двух стульев, больше ничего не было.
— У нас скоро начнется ремонт, — сдавленно произнесла Терехова. — Отсюда все уже выехали… Господи, зачем я это только сделала?!
И заплакала. Успокоившись, тревожно спросила:
— Теперь меня посадят, да? Как же вы так быстро узнали, что это я напечатала?
— Не стоит на это терять время, Клавдия Потаповна. Лучше сами скажите, что в вашем письме правда, а что — ложь?
— Так ведь все, наверное, правда, — простодушно ответила женщина, испуганно поглядывая на меня.
Вот так фокус!..
— Правда?
— Само собой, правда! — Она почему-то зашептала, опасливо косясь на дверь. — Квартира-то Гладышевых как раз под нашей.
— Ну и что? — поторопил я ее.
— Слышно, что там происходит. Я сама слышала не раз, как Федор Борисович громко выговаривает Никитушке. А тот ему попробует возразить, а Федор Борисович опять на него чуть ли не в крик… Разве ж порядочный отец должен так разговаривать со своим сыном? А уж Никита у них мальчик-то какой был! И в школе все его хвалили, а встретимся, бывало, вежливо поздоровается, золотой мальчишечка был… А тут получается, что застращал его отец, затыркал, запугал! Чего ж удивляться что паренек и руки на себя наложил? Могли не выдержать нервы… Простите, ваше имя-отчество как будет?
— Дмитрий Васильевич Красиков.
— Только я вам откровенно скажу, Дмитрий Васильевич, это Никитушка имел-то права выговаривать Федору Борисовичу, а не тот ему. Потому что Федор Борисович сам из одной истории выпутается, а в другую снова попадет. И все с женщинами…
Я молча, не перебивая слушал ее исступленный шепот. Неожиданно Терехова умолкла, а через несколько секунд совершенно спокойно сказала:
— Я в своем письме написала, что у Федора Борисовича была женщина, с которой я его видела на вокзале, ну, видела как он ее целовал. Но только мне и другое известно, о чем, может, его благоверная супруга и не догадывается, а вот сынок их покойный мог знать!
— Что вы имеете в виду? – заинтересовался я.
— Такое, понимаете ли, дело вышло, — внезапно сконфузилась Терехова, — примерно полгода назад я брала почту из ящика, а у нас почтовые ящики-то рядом висят — гладышевский и наш — вот повесили когда-то, так и висят. А почтальон у нас сменился. Старая, тетя Маша, на пенсию ушла, заместо нее новую прислали, просто девчонка! Вечно она путаницу вносит. Вы хоть у кого из соседей спросите, подтвердят вам. Значит, взяла я почту: газеты и два письма. Холодно было, я в одном халате, в тапочках на босу ногу… Ну, скорей домой. И сразу за письма. Гляжу, одно Федору Борисовичу адресовано. И сама не пойму, как получилось, но конверт незаклеенный был, честное слово… Я не удержалась и вытащила оттуда письмо. Читаю и глазам своим не верю. Оказывается, есть у Федора Борисовича другая жена, и дочь от него, а он, выходит, много лет от них скрывался. Я уж все подробности не помню… Словом, разыскивала его эта женщина, пока значит, не нашла.
— Адрес женщины вы запомнили? — перебил я Терехову.
— Нет, — огорченным тоном ответила она. — Город, кажется, Кудринск называется… А зовут эту женщину Анастасия… Фамилию, к сожалению тоже не запомнила.
— Почему вы решили, что Никита знал об этой истории?
— Думаю, что знал он! — уверенно заявила Клавдия Потаповна. — Я письмо прочитала и назад его в конверт вложила, а после в гладышевский почтовый ящик бросила. И видела, как Никитушка брал письмецо из ящика. Мог он его прочитать: конверт ведь не заклеен был.
Глаза у Тереховой теперь блестели. Она полностью оправилась от нервного шока, вызванного моим визитом.
— А ту женщину, о которой я написала, Федор Борисович целовал на вокзале, — оживленно продолжала она. — Своими глазами видела. Наверное, после свидания провожал ее. Целовались они — точно вам говорю. Дмитрий Васильевич! Он ее все к себе прижимал, по лицу гладил… Точно говорят седина в бороду, а бес в ребро! Наверное, Никитушка и об этом тоже узнал, вот и… Разве не обидно сыну-малолетке, когда такие вещи про родного отца узнает? Э-эх!
— Насколько я догадываюсь, Клавдия Потаповна, ничего хорошего о Федоре Борисовиче вы сказать не можете? — сощурился я.
— Нет, ничего! Раньше и вправду думала, что он мужчина самостоятельный, порядочный. И человек справедливый. Квартиру нам распорядился выдать. Мой бывший муж у него шофером работал.
— Да, я знаю.
— А из-за чего мы с Василием развелись, это вы тоже знаете? — зло выкрикнула Терехова. — Тоже ведь из-за Гладышева. Да, да! Мой Василий с его секретаршей связался, с Нинкой Доценко. Я так думаю, что Федор свет-Борисович сам с ней сначала всякие шашни имел, а потом, чтоб скрыть их и переправил Нинку моему дураку!
— А какие у вас, собственно, имеются основании утверждать, что Гладышев был в близких отношения с Доценко? — строго спросил я.
— Господи боже мой! — всплеснула руками Терехова. — Это и слепому ясно! Она девка пригожая, гладкая, ничего не скажешь. Без мужика была. А у Федора Борисовича жена в возрасте. Неужель устоит он? Я не маленькая, понимаю, как такие дела варганят. А потом взял и обкрутил моего Васеньку с ней! И ушел мой подлец из дома, бросил жену с сыном. Но Федор Борисович не дурак. Он их обженил, затем Василия с работы из своего треста уволил, чтоб разговоров лишних не было. Только Нинку-то все равно при себе оставил. Что ж он, если честный и принципиальный, и ее не уволил, а? — Лицо Тереховой покрылось красными пятнами, голос звенел. — Вот и получается, что теперь всем хорошо, кроме меня с Колькой, это сын мой от Василия. И никто не придерется. Ну, ничего, всем отольются мои слезы.
Она всхлипнула, забормотала сквозь слезы:
— Я однажды, дело прошлое, выпила малость, чтоб хоть как-то свое бабье горе заглушить, взяла да и позвонила Екатерине Ивановне, жене Гладышева, не назвалась, конечно, и говорю ей, что скурвился, мол, муженек-то ваш со своей секретаршей и другим людям жизнь портит. А она, дура, мне отвечает: “Меня подобные сплетни не интересуют!” И трубку положила. Вог уж дура так дура. Ничего, когда он ее на старости лет бросит, закудахчет, однако поздно будет!
Ох, эти семейные истории-драмы… Кто в них разберется? Но для меня безусловно важным обстоятельством было то что Терехова по-прежнему продолжала уверять, что Федор Борисович явился причиной смерти. Она в этом была убеждена. Ей было легче, чем мне. Я ни в чем не имею права быть до конца убежденным, пока не удостоверят факты. Кое-что в ее рассказе, несомненно, было интересным при условии, что это… правда. Что и говорить, дети-подростки тяжело, болезненно переносят семейные неурядицы и дрязги. Не случайно и термин такой появился “неблагополучная семья”. Неужели Гладышевы тоже относились к разряду неблагополучных семей?
— И бы ему сама сказала! — яростно говорила Терехова. — Но боюсь, что он козни начнет против меня строить. Кто я и кто он? Придумает чего-нибудь, у него ведь всюду дружки-приятели и выселят меня из квартиры в другое место. A мне от дома до работы близко, да и Колька с первого класса в сорок седьмой школе, тоже близко.
— Никто нас никуда не выселит! сухо возразил я. — Что за ерунда!
— Вы меня извините, ежели и чего не так говорю! — испугалась Терехова.
— Клавдия Потаповна, ваш сын учился вместе с Никитой Гладышевым…
— С ним, с ним, — поддакнула она.
— А какие отношения между ними существовали? Коля не знал о вашей обиде на Федора Борисовича?
— Бывало и при нем говорила. — Женщина пожала плечами. — А что?
— Да нет, ничего. Меня просто интересуют их отношения.
— Какие отношения у них могли быть? — удивилась Терехова, с недоверием поглядывая на меня. Почуяло материнское сердце, что мой вопрос неспроста. — Он ведь у меня год проболел. С трудом догнал остальных в классе. А Никита мальчик ухоженный был. И отличник. Квит у них могли быть отношения, Дмитрий Васильевич?
— Ну, как-никак в одном доме жили, — неопределенно заметил я. — Вероятно встречались после школы во дворе.
— Нет, — решительно прервала Терехова, — они не дружили.
— Вы друзей своего сына знаете?
— Черт их знает! — сердито ответила Клавдия Потаповна. — Я ведь как живу? С работы да за работу. Приносят мне разные рукописи лекции. Подрабатываю на машинке. Говорят, что не положено. Ежели фининспектор узнает, плохо мне может быть. — Она заискивающе взглянула на меня. — Вы уж не говорите никому, хоть и следователь, а? Тяжело мне одной-то сына тянуть.
— А разве вы не получаете по исполнительному листу? — удивился я. — Алименты от бывшего мужа?
— Провались он пропадом со своими алиментами! — ожесточенно воскликнула Терехова. — У меня своя гордость имеется. Коли он таким подлецом оказался, ничего мне от него не нужно! И Кольке наказала, чтоб никогда с ним не встречался, потому что нет у него отца, нет! Так и сказала Кольке…
А в ней была сила, в это маленькой, худенькой и обозленной женщине. Она вызывала к себе сочувствие: жизнь не устроена, а ведь женской гордостью своей не поступалась, однако…
— Клавдия Потаповна, когда вы узнали о смерти Никиты Гладышева? — снова спросил я.
— В понедельник, — ответила Терехова. — Пришла к вечеру с работы, а весь дом гудит: “Никита Гладышев утонул в море, у причала!”
— А Коля ваш когда узнал?
— Коля? — Она вдруг смутилась. — Да он уже знал, когда я пришла.
В ее голосе звучала фальшь. Однако я сделал вид, что этой фальши не услышал.
— У вашего сына несколько приводов в милицию, — помолчав, снова заговорил я.
Она опустила голову, ее руки нервно комкали носовой платок, который она достала из кармана жакета. Потом женщина подняла на меня глаза, в которых зависли слезы.
— А вы думаете, — тихо, с мукой в голосе произнесла, — одной-то легко воспитывать такого парня? Что ему мои слова!
— Ответьте, пожалуйста, четырнадцатого мая Коля был дома или уходил куда-нибудь?
— Не знаю. Я в субботу уехала к матери в деревню, а вернулась в воскресенье около двенадцати ночи. А чего это мой Колька вас заинтересовал? — забеспокоилась Терехова. — Может он снова набезобразничал, наозорничал где, а? Так вы уж мне сразу скажите!
— Нет, нет, поспешил я успокоить ее. — Я подумал, что Николай мог видеть четырнадцатого мая Никиту Гладышева и разговаривал с ним.
— Вот не знаю, — успокоилась Терехова. — Вы у него сами спросите.
— Пожалуй, воспользуюсь вашим советом.
— Дмитрий Васильевич, — неуверенно, просящим тоном произнесла Терехова, — а что мне будет за это письмо?
— Если вы написали правду…
— Да господь с вами! — взволнованно воскликнула Терехова. — Зачем же мне напраслину-то возводить? Мне ведь как Никиту жалко, и не передать. Я ж как услыхала про то, что с ним случилось, сразу поняла: из-за отца, из-за него все это!
Она была непреклонна в своем мнении, что во всем виноват Федор Борисович Гладышев.
18 мая 1978 г., четверг, 12 часов 25 минут
В прокуратуру я возвращался на автобусе. Он был старенький, изношенный, то и дело его подбрасывало, и тогда меня прижимало к плотному мужчине, который неодобрительно морщился, но молчал. Ничего не поделаешь, придется и мне и ему потерпеть. Когда едешь в таком автобусе лучше всего думать о чем-нибудь, не столь заметен в этом случае “комфорт”. Мне было о чем подумать. Что же удалось узнать за то время, что идет расследование? Есть ли какое-нибудь движение вперед? Меня все больше интересует фигура самого Никиты Гладышева. И Николая Терехова. Особенно после встречи с Ромашиной и Михаилом Тороповым. По словам Елизаветы Павловны, Никита был личностью в классе притягивающей к себе остальных ребят. Лидер класса. Так сказать, интеллектуальный лидер. И был другой ученик, тоже претендующий на лидерство, Николай Терехов.
Николай Терехов. По определению директора Румянцева, “шпанистый”. Мнение Ромашин: “сорвиголова”. “С “хвостом” парнишка. Три привода в милицию имеет. Состоит на учете в ИДН…” — проинформировал лейтенант Самсонов. “Он здоровый очень, — сказал о нем Торопов. — Железки всякие поднимает, перед девчонками фасонит. И еще психованный какой-то”.
Так-так… Поставим этих двух подростков рядом, сопоставим. Никита — отличник, художник, общественник. Нужно ему было утверждать себя в глазах соучеников? Пожалуй, нет. Все, что он умел, чему научился, чем обладал утверждало его.
Николай слабо успевает в учебе, никакими художественными талантами не блещет, в смысле “интеллекта” тоже ничего выдающегося. Но к лидерству он стремится, следовательно, не лишен честолюбия. Для него спорт, усиленные занятия “с железками” — путь к самоутверждению, а через него — к утверждению в классе. По принципу: пусть не уважают, но пусть боятся!
Два таких антипода в одном классе — Никита Гладышев и Николай Терехов — рано или поздно не могут между собой не столкнуться. К личной неприязни и озлобленности — брошен отцом! — может еще добавиться откровенная ненависть матери к отцу Никиты, потому что она убеждена: муж не ушел бы из семьи, если бы вмешался, помешал Федор Борисович Гладышев.
Юношеская ожесточенность остра, непримирима.
Да могло между Николаем и Никитой произойти столкновение. Оно и произошло, кода Никита вступился за Мишу Торопова…
А для чего я все это раскладываю по полочкам? Понятно, для чего: чтобы выстроить версию, по которой Николай Терехов был непосредственно замешан в смерти Никиты Гладышева.
А где факты? Нет их у меня. Во всяком случае, пока инспектор уголовного розыска лейтенант Самсонов не сообщит, что он выяснил по поводу Егора Горохова и Павла Злобченко, с кем приятельствовал Николай Терехов и с кем вместе был задержан во время драки на стадионе “Буревестник”. Игорь Демьянович обязан непременно узнать, что делали Горохов и Злобченко 14 мая вечером, где и как они провели вечер. А я постараюсь выяснить, что делал в это вечер Николай Терехов. До тех пор, пока я не узнаю всего этого, моя версия построена на песке.
Идем дальше. Семья Никиты Гладышева. О матери ничего не знаю, кроме того, что она сама сказала об отношениях с сыном: “Он никогда ничего от меня не скрывал…” Матери всегда может казаться, что ее ребенок с ней откровенен, а на повepку часто оказывается, что это далеко не так. “Никита вообще не любил о своих делах рассказывать”, — заметил Миша Торопов. А ведь с друзьями бывают более разговорчивыми и откровенными.
В моем распоряжении еще два факта свидетельствующие о том, что Никита не столь уж и откровенным был с матерью. При нем обнаружили чьи-то очки и крупную сумму денег. Екатерина Ивановна ничего не смогла сказать по их поводу, объяснить их происхождение. Следовательно, не знала?
В воскресенье, 14 мая, в гостях у подруги, Екатерина Ивановна дважды звонила домой, разговаривала с Никитой, а он ей ни словом не обмолвился, что собирается куда-то уходить. То есть в его планы не входило посвящать мать, что он собирается на разрушенный причал? Допустим, не сказал, потому что не хотел ее волновать. Но меня сейчас этот эпизод занимает лишь с той точки зрения, что не права была Екатерина Ивановна, уверяя будто сын никогда ничего не скрывал от нее!
Что за человек она — Екатерина Ивановна Гладышева? Терехова анонимно позвонила и сказала ей, что у Федора Борисовича роман с секретаршей Ниной Доценко. И как отреагировала Екатерина Ивановна? Она ответила: “Меня подобные сплетни не интересуют!” И не захотела больше продолжать разговор. На этот факт можно посмотреть двояко. С одной стороны, она любит своего мужа, верит в его чистоту и порядочность и поэтому пресекает малейшие попытки опорочить его. Хотел бы я знать, рассказала ли она Федору Борисовичу об этом телефонном разговоре.
Но с другой стороны, если права Терехова и Федор Борисович и в самом деле изменял жене, о чем та догадывалась или даже знала, то поведение Екатерины Ивановны может быть расценено иначе. Она зачеркнув для себя в душе этого человека, могла просто сохранять видимость нормальных отношений в семье. И тогда вовсе не было “прекрасных семьи” Гладышевых, как считает директор Румянцев. Да и Федор Борисович вряд ли о этом случае “милейший человек”. Наконец, Никита действительно мог быть свидетелем семейных ссор, виновником которых становился его отец.
Зато Михаил Торопов уверен, что Никита “жил дружно” со своим отцом, с нетерпением ждал, когда тот вернется из Москвы.
Много противоречий, много… Однако прежде всего надо попытаться выяснить, верно ли, что у Федора Борисовича была другая семья, проживающая ныне в Кудринске, жена и дочь?
Что еще? Отношения Никиты Гладышева и Ромашиной. Почему у него резко изменилось отношение к Елизавете Павловне, почему он внезапно чуть ли не мстить стал ей? За что, в чем причина? Имеет ли она хоть какое-то отношение к случившемуся с ним? Не из-за четверки же, в самом-то деле, изменились их отношения, как полагает Миша Торопов!
Заколдованный круг! А в конце концов все может оказаться прозаически простым, как чаще всего и бывает. Но в этой простоте развязки заключена вся сложность. Истину ищешь в одном месте, а она порой прячется совсем в другом.
Следствие — это всегда беспощадный поединок бескомпромиссный. С самим собой. С другими. С истиной, наконец, которая как капризная женщина, хочет, чтобы ее завоевывали постепенно, чтобы она могла вдоволь насладиться своим поражением.
И все же… И все же я могу быть доволен: кое-что серьезное мне удалось узнать. От Михаила Торопова. Он сказал, что у Никиты Гладышева две недели назад испортилось настроение.
Это уже не абстракция, а конкретность, ибо появляется возможность сузить границы времени.
Ну вот и подошли, может быть, к главному вопросу на данном этапе расследования: что же экстраординарного произошло две недели назад с Никитой Гладышевым, заставившее его погрустнеть, опечалиться?
На работе мне нужно было сделать кое-какие дела, связанные с ранее закончившимся расследованием. После этого я мог встречаться с Николаем Тереховым.
Через полчаса я позвонил директору Румянцеву, и он сказал, что 9 класс “Б” сейчас находится на стадионе “Труд”, который арендует школа № 47.
18 мая 1978 г., четверг, 14 часов 30 минут
9 “Б” играл в футбол с 9 “А” — в рамках чемпионата школы. На трибунах сидело много ребятишек, шумно реагировавших на игру. Я подсел к веснушчатому мальчонке, который, кажется, особенно бурно “болел”.
— Ты за кого переживаешь? — спросил я его, увидев как мальчонка буквально съежился, стоило мячу перелететь на левую половину футбольного поря.
— За девятый “А”! — буркнул он. — За кого же еще! Там мои брат учится. Проигрывают они. Опять Терех гол забил. Он в каждой игре забивает.
— Какой Терех? — спросил я. — Где он?
— Да вон! — махнул рукой мальчонка. — На правом краю бегает дылда.
Трудно было поверить, что этому мощному парню всего 16 лет. Играл Николай Терехов отменно. Как-то совсем не по-мальчишески. Не суетился, выжидал, ловко “финтил”. Я люблю футбол и полагаю, что разбираюсь в нем. Впрочем, трудно найти болельщика, который сказал бы, что не разбирается в футболе!
— Сколько времени до конца матча осталось? — снова спросил я мальчонку.
— Пять минут, — плаксиво ответил тот, поглядывая на часы, которые видимо передал ему брат-футболист на хранение.
В этот момент Николай Терехов подхватил мяч, сделал с ним обманное движение, проскочил защитников “синих” и, энергично работая руками, понесся в центр, прямо на ворота противника. В воротах заметался долговязым мальчишка в кепке, сдвинутой на самые глаза. Через несколько секунд все было кончено: Николай Терехов с ходу пробил и мяч врезался в сетку ворот, вызвав радостным клич на трибунах. Все, как на большом футболе.
Николай ленивой трусцой бежал центру поля.
Вскоре прозвучал свисток судьи, игра закончилась. Футболисты пошли в душевую, и я тоже двинулся к раздевалкам.
Терехов вышел минут через двадцать, уже одетый в школьную форму, аккуратно причесанный. В руке он держал спортивную сумку. Он шел, окруженный толпой ребят, громко смеялся. Что ж это был звездный час Николая Терехова, он чувствовал себя героем и не считал нужным скрывать перед остальными, что он и есть герой!
— Николай, — окликнул я его, — можно на минутку?
Все остановились и удивленно глядели на меня.
— Вы меня? — небрежно спросил Терехов.
— Да, — кивнул я. — Разговор есть.
— А-а… Ладно, пацаны, не ждите меня.
Я направился к опустевшей трибуне. Николай шел рядом, вразвалочку, помахивая сумкой.
— Здорово ты гол забил! — сказал я, когда мы сели.
— Какой? — явно рисуясь, уточнил он. — Первый или второй!
— Первого я не видел. А что, тоже красивый был?
— Да так себе. — Он хмыкнул. — Пшенка. И вообще-то сегодня хет-трик хотел сделать но не вышло.
Николай говорил, спета растягивая слова.
— А вы тоже пришли меня уговаривать? — оценивающе глянул он на меня.
— Уговаривать? — не понял я.
— Ага! — кивнул он. — Чтоб я за какую-нибудь команду играл. Ко мне уже приходили два тренера. Только неохота. Я штангу люблю, гири, а в футбол не очень. Ну, за класс еще ладно… Вы тоже тренер?
— Нет, — усмехнулся я. — Не тренер. Я следователь прокуратуры, Николай.
— Следователь?! — В его глазах промелькнул испуг. — Зачем же я вам понадобился?
— Скажи, Коля, в прошлое воскресенье, четырнадцатого, ты Никиту Гладышева видел?
— Нет! — слишком поспешно ответил он, чтобы я поверил ему безоговорочно.
— А когда ты узнал о его смерти?
— Когда? Во вторник! — глухо бросил он.
Он лгал, ибо Клавдия Потаповна узнала о случившимся в понедельник и сказала мне, что сыну об этом известно стало до нее. Правда, она тоже не очень уверенно ответила на мой вопрос.
— Значит во вторник, — задумчиво произнес я, внимательно глядя на парня. — Неувязочка получается, Коля. Твоя мать узнала-то в понедельник.
— Ну и что? — буркнул Николай. — Она могла узнать в понедельник, а я — во вторник.
— Согласен, — кивнул я. — И так может быть. Но видишь ли, она сказала мне, что ты раньше ее знал.
— Откуда ей знать! — с неожиданной злобой выкрикнул он.
— Действительно, — заметил я. — Откуда ей знать? Может ты уже в воскресенье знал, верно?
— Нет! — Он вскочил на ноги. — Не знал я!
— Да ты садись, — добродушно сказал я и потянул его за рукав. — Ну чего ты волнуешься?
— А чего мне волноваться! — огрызнулся он. — Нечего мне волноваться.
— И я так думаю, Коля. Все-таки когда же ты узнал о смерти Никиты Гладышева. Ты ведь жил в одном доме с Никитой, даже в одном подъезде.
— Что с того? — пожал он плечами. — Я пришел в понедельник поздно вечером и лег спать.
— А где была в это время твоя мать?
— Не знаю, — покраснел Николай. — Может, на кухне. Или к соседке ушла.
— Другими словами ты ее не видел, когда пришел домой?
— Не видел, — тихо ответил он.
— А почему ты пришел в понедельник поздно вечером?
— С Валькой Грошевым математикой занимался. У него дома.
— А в воскресенье когда ты вернулся домой?
— Тоже поздно. В кино был. Проверять будете?
— Непременно, Коля. Ты зря на меня обижаешься. Я тебе зла не желаю. Если пришел к тебе, значит, надеюсь на твою помощь. Понимаешь?
— Не понимаю! — неуступчиво ответил Николай. — Меня ваши дела не интересуют.
— Напрасно, Коля, — миролюбиво сказал я, — Потому что твои дела меня откровенно скажу заинтересовали. Объясни, почему вы однажды подрались с Никитой Гладышевым? Двадцать первого апреля?
— По глупости. Никита за Мишку Торопова заступился.
— Верно. Молодец, что не соврал.
— А чего мне врать! — уже увереннее сказал парень.
— Я слышал, что ты одно время “промышлял” запчастями к “Жигулям”, так?
— Я с этим порвал.
— Потому что тех “барыг” осудили? — Я в упор смотрел на него.
Николай не ответил, отвернулся.
— А с Егором Гороховым и Павлом Злобченко ты тоже порвал, Коля?
Он резко повернул ко мне голову, сказал с нескрываемым изумлением:
— Вы и о них знаете?!
— У меня профессия такая — много знать. Но ты не ответил на мой вопрос.
— Не хожу я с ними больше. Себе спокойно.
— Пожалуй, ты прав, — согласился я. — Ну а теперь все же ответь, почему ты не хочешь сказать мне правду: когда узнал о смерти Никиты Гладышева?
Его неожиданное упорство было для меня странным и непонятным. Если он причастен к происшествию с Никитой Гладышевым, то его больше должно беспокоить воскресенье 14 мая, а не понедельник, 15 мая. Между тем о воскресенье он говорил равнодушно. Почем же настаивает на вторнике?
Я не торопил. Прошло несколько минут.
— Ладно, — звонко произнес Николай. — В понедельник я не ночевал дома.
— Где же ты ночевал?
— У тетки своей! — выкрикнул Николай и вдруг заплакал, чего я от него никак уж не ожидал.
Он уткнул лицо в руки и ревел, как ребенок. Но, по существу, он и был еще ребенком, высоким, плечистым, сильным ребенком.
— Я пришел домой… — Он поднял на меня мокрое от слез лицо, давился словами. — А дверь закрыта… Я звоню, а она не открывает… Я слышу: музыка играет… и голоса… пьяные… Она, значит, и он… поют… Пьяные уже…
— Она — это твоя мать? — негромко спросил я.
— Ну, да! — Николай шмыгнул носом. — Со своим… хахалем.
— И часто случается, что тебе приходится ночевать в другом месте? Острая жалость к нему охватила меня.
— Бывает, — пробормотал мальчишка. — Но, кроме тетки, никто не знает. Противно очень. Они, когда напьются, сначала целуются, а потом дерутся… Раньше, при отце, у меня свой ключ был… А теперь мать отняла. Ему отдала!
Сколько обиды, даже ненависти прозвучало в голосе Николая, когда он сказал: “Ему отдала!” Что же мне сказать этому мальчику, который иной раз не может попасть в свою квартиру, потому что родная мать отдала его ключ чужому мужчине. Однако для него, Николая Терехова, он чужой, этот мужчина, а для матери, брошенной мужем, вовсе и не чужой. Из-за него она предает сына? Э-эх, легче всего со стороны осуждать ли кого, успокаивать ли. А жизнь — сложная штука, давно и всем известно. Некогда мои бабка говаривала: “У каждой божьей твари своя правда имеется. Потому волк овцу режет, а охотник волка стреляет!” Но как же тогда истину найти, если у каждого, у всех своя правда.
— Мать твоя давно начала пить? — мягко спросил я.
— Давно, — коротко ответил он. Потом горькая усмешка исказила его губы. — Думаете, не понимаю, почему вы меня все расспрашиваете о Гладышеве? Подозреваете меня… Ну, будто я… чего-нибудь такое… с Никитой… Да? Только неправильно вы подозреваете. Видел я Никиту в воскресенье, видел!
— Когда? В котором часу?
— Вечером. В половине восьмого.
— Где ты его видел, Коля? Пойми, дружище, это очень важно.
— По набережной они гуляли.
— Кто они?
— Никита и Андрей Александрович… Морозов. Наш учитель физики. Ребята часто с ним встречаются после уроков или в выходные дни. Говорят, что интересно с ним. Но я у него ни разу не был…
— Погоди, погоди, — перебил я. — Ты говоришь, что они гуляли по набережной. А они тебя видели?
— Не знаю. Они в мою сторону не смотрели. Да я и сам спешил. К Вальке Грошеву. Мы с ним договорились, что в кино пойдем в “Вымпел”. Там у него мать работает администратором. Она нам разрешила прийти на сеанс двадцать тридцать. Мы две серии “Они сражались за Родину” смотрели. И Вероника Георгиевна вместе с нами сидела. И домой мы потом вместе пошли. Я к себе в половине двенадцатого пришел. Ветер сильный был. А мать к бабке в деревню поехала, я один дома… Если не верите, можете у Вероники Георгиевны спросить, она вам скажет, был я в кино вместе с Валькой или нет, шли мы вместе домой или нет…
— Успокойся Николай, — строго прервал я его. — Не маленький. И не надо обижаться. Я хочу узнать, что произошло с твоим школьным товарищем.
— Я понимаю, — сникшим голосом произнес он. — Извините.
18 мая 1978 г., четверг, 16 часов 45 минут
То, что сообщил Николай Терехов, было в высшей степени важно, ибо не исключало, что учитель Морозов оказался последним человеком, кто видел и разговаривал с Никитой Гладышевым.
О чем они говорили?
Вошел Самсонов.
— Ну что с Гороховым и Злобченко? — нетерпеливо спросил я, жестом приглашая его сесть.
— Алиби у них, — ответил Самсонов. — Горохову двенадцатого мая сделали операцию. Аппендицит. До сих пор лежит в больнице. Злобченко четырнадцатого мая работал на фабрике. Там вышла из строя отопительная система. Собрали всех ремонтников упросили их поработать в воскресенье. Работали в две смены. С фабрики все, в том числе Злобченко уехали после двадцати трех часов на служебном автобусе.
— Хорошо. Алиби так алиби, — кивнул я. — Надо побывать в кинотеатре “Вымпел” и поговорить с администратором Вероникой Георгиевной. Поинтересуйтесь, действительно ли в воскресенье Николай Терехов и ее сын Валентин смотрели на сеансе двадцать тридцать кинофильм “Они сражались за Родину”? Я думаю, что так оно и было, но для формальности нужно проверить. А потом позвоните мне.
— Понятно, — сказал Самсонов.
— Как с поездкой в Черновин? Оправа от очков повисла у нас, Игорь Демьянович. Не передумали ехать? — пошутил я.
— Завтра с утра, — ответил Самсонов. — А сегодня встречусь с администратором “Вымпела”.
— Лады.
После его ухода я позвонил в справочную и попросил назвать мне номер домашнего телефона Андрея Александровича Морозова.
— Алло, Андрей Александрович?
— Да.
— С вами говорит старший следователь прокуратуры Красиков…
— Дмитрий Васильевич? — оживленно перебил меня низкий мужской голос. — Очень рад, что вы позвонили. Я сам собирался это сделать. Узнал у директора ваш номер телефона… Да вот некстати свалился.
— Что-нибудь серьезное? — забеспокоился я.
— Нет, нет!
— Андрей Александрович, вы, кажется видели вечером в воскресенье Никиту Гладышева?
— Совершенно верно.
— Не станете возражать, если я сегодня загляну к вам? К вечерку?
— Милости прошу! Комсомольская, дом восемнадцать, квартира тридцать.
— Благодарю. До встречи.
Едва я положил трубку, как телефон зазвонил.
— Красиков слушает.
— Я — Гладышев… Федор Борисович Гладышев. Мой жена сказали, что вы… расследуете… Я хотел бы с вами встретиться. Если можно, прямо сейчас.
— Жду вас, Федор Борисович. Пропуск будет заказан.
— Благодарю.
18 мая 1978 г., четверг, 17 часов 15 минут
Теперь я смог лучше разглядеть отца Никиты: рослый, сильный человек лет пятидесяти–пятидесяти пяти.
— Хотел сразу к вам прийти, — медленно, с натугой говорил он, — как только приехал. Но с женой совсем худо. Уж лучше плакала бы… Знаете, на душе полная пустота… как будто и нет меня. — Взгляд у него был безжизненный. — Не укладывается в голове… Не верю… Привез ему сценарии итальянского кино. В Москве достал. В букинистическом магазине. Он ведь после школы хотел во ВГИК поступать.
Федор Борисович не называл сына по имени, словно боялся произносить его имя вслух.
— Федор Борисович, — сказал я, — к сожалению, ничего уже не поправишь. Это жестоко с моей стороны так говорить, но у меня нет иного выхода…
Гладышев сидел, не изменив позы, и взгляд его устремленный на меня, был таким же неподвижным.
— В воскресенье, — продолжал я, — ваш сын погиб. В понедельник мне поручили вести расследование.
Он шевельнул пальцами.
— Есть некоторые обстоятельства, Федор Борисович, в которых без вашей помощи мне будет сложно разобраться. И я надеюсь на вашу помощь, потому что — еще раз повторю — Никиту не воскресишь, но как он погиб и почему должно быть установлено.
— Да, — глухо произнес Гладышев. — Я тоже хочу знать, почему погиб мой сын. Я готов помочь вам и отвечу на любой вопрос.
Я молча поднялся и направился к сейфу. Открыл его и достал оттуда письмо Тереховой. Вернувшись к столу протянул листок Гладышеву.
— На вас поступила анонимка, Федор Борисович. Мы получили ее шестнадцатого мая.
Гладышев развернул листок, прочитал написанное, снова сложил бумагу и вернул письмо мне, не проронив ни слова.
— Это ложь, Федор Борисович? — тихо спросил я.
— Не совсем, — ответил он глядя мне в глаза. — Кое-что правда. Но больше неправды. От незнания. Да бог с ней, с этой анонимкой. У меня для вас новость посерьезнее. — Он вынул из кармана тетрадный лист. — Это письмо мы с женой получили сегодня. Прошу вас ознакомиться.
Я прочитал: “Дорогие мои, получила тринадцатого мая письмо от Никиты, ничего не могу понять, Всего одна строчка: “Наташа, наш с тобой отец — ничтожество!” Что у вас случилось? Я очень обеспокоена. Папа немедленно сообщи мне. Наташа”.
Как ударило: “Выходит, Терехова не солгала — у Федора Борисовича была дочь”.
— Очевидно, Дмитрий Васильевич вы не знаете, — проговорил Гладышев, — что у меня есть дочь, которую зовут Наташа.
— Вы ошибаетесь, Федор Борисович, — спокойно возразил я. — Мне известно об этом.
— А-а, тем лучше… Молодая женщина которую я целовал на вокзале, это и есть Наташа. Вообще-то я недавно узнал, что у меня есть дочь. Но вам это интересно, нужно?
— Да, — кивнул я. — Особенно теперь, после ее письма!
— Всего одна строчка, — его голос дрогнул, — а какая страшная и… Почему он так написал обо мне — вот о чем я думаю весь день.
— Вы не чувствуете своей вины перед Никитой?
— Нет! Мне всегда казалось, что сын любит меня и доверяет мне.
— Я тоже слышал, что у вас с ним были дружные отношения. Простите, а с женой?
— С Екатериной Ивановной?! Мы прожили вместе двадцать лет. У нас не было даже размолвок.
— Ваша жена никогда не говорила, что однажды ей позвонили и сказали, что между вами и вашей секретаршей…
— Да, да, — закивал Гладышев. — Такое случаи имел место. Звонила какая-то женщина и сказала, что Нина Феликсовна Доценко — моя любовница. Однако жена не стала продолжать разговор.
— Вы можете предположить, кто звонил?
— Думаю, что это сделала наша соседка, Клавдия Потаповна Терехова.
— Почему вы так полагаете?
— Тут малоприятная история. Дело в том, что мой бывший шофер Василий Петрович был мужем Тереховой. А потом ушел от нее: он женился на Нине Феликсовне. Терехова же почему-то посчитала виновным в этом меня. Я разговаривал с Василием Петровичем. Он долго не хотел объяснять причину своего разрыва с Тереховой…
— A разве он ушел от нее не потому, что сошелся с Доценко? — перебил я.
— Это скорее было следствием причины, — возразил Гладышев. — Видите ли Василий Петрович однажды случайно застал у своей жены мужчину в ситуации недвусмысленной, очевидной.
— Ах, так…
— Но Клавдии Потаповне, видимо, было легче считать виноватым кого-то другого, а не себя. Ладно, бог с ней. Наверное, я должен был предложить Доценко другую работу после того, как Терехов подал заявление об уходе. И тем самым прекратить всякие досужие разговоры о нас, которые ходили в тресте. Я этого не сделал.
— Почему?
— Ну, хотя бы потому, чтобы не считали, будто эти разговоры имеют какое-либо основание! И была еще причина. Вероятно, малоубедительная. Что поделаешь, Дмитрий Васильевич, человек состоит не из одной силы, у него имеются и свои слабости. Нина Феликсовна очень похожа на одну женщину, которая спасла мне жизнь во время войны, — на партизанскую медсестру Валентину Федорову. Она вытащила меня во время боя из-под огня, а сама погибла. И лет ей было тогда столько же сколько Нине сегодня. Когда я впервые увидел Доценко, то был поражен ее сходством с Валей Федоровой… Мне очень трудно расстаться с Ниной Феликсовной…
— А как вы оказались в партизанах? — спросил я.
— Я начал войну летчиком. Осенью сорок первого гитлеровцы сбили мой самолет. Раненым я попал в плен. Бежал. Вернее сказать, партизаны устроили побег. Мы бежали группой. Так я оказался в партизанском отряде. О базировался недалеко от одной деревне в Белоруссии. В этой деревне, в Старобичах, жила молодая женщина Анастасия Конодо. Мы полюбили друг друга, стали мужем и женой. В то время нельзя было пойти, как сейчас, в загс получить свидетельство о браке. Да и не до него было. День прожили — и за это спасибо! В конце зимы сорок третьего года немцы за помощь партизанам уничтожили Старобичи, а наш отряд изрядно потрепали. Гитлеровцы бросили против нас отборные эсэсовские части, артиллерию, самолеты. Пришлось нам уходить в другие леса. Анастасия была на шестом месяце беременности. Она не могла уйти с нами, так как предстояло пробираться через болота. Кроме того у нее тяжело болела мать. Но эсэсовцы никого не щадили. Мне потом передали, что Анастасия погибла… Вы позволите закурить?
— Да, пожалуйста!
Федор Борисович закурил, глубоко затянулся и продолжил:
— А полгода назад я вдруг получил от Анастасии письмо. Оказалось, что она спаслась. Анастасия писала что у нее уже взрослая дочь Наталья, у которой и свои дети есть. Моя дочь… Анастасия сообщала, что много лет назад вышла замуж и что ее муж, прекрасный человек, ставший для Натальи настоящим отцом. Он дал ей свою фамилию. Правда, потом, когда Наташа вышла замуж, фамилия у нее изменилась, теперь она — Троцюк. Живут они все вместе в городе Кудринске…
— Как же Анастасия Конодо разыскала вас через столько лет? — перебил я. — Или она давно разыскивала вас?
— Нет, — покачал головой Гладышев. — Она ведь тоже была убеждена, что я погиб. А вышло все случайно. Полгода назад Центральное телевидение сделало передачу о строителях нашего города. Меня пригласили принять участие в этой передаче, которую увидела Анастасия. Она писала, что сначала не узнала меня. Да это и немудрено. В партизанах я отпустил бороду, поклявшись, что не сбрею ее до нашей полной победы. Но Анастасия услышала мою фамилию, имя, отчество…
Да-а, в его интерпретации рассказ о письме из Кудринска звучал совсем иначе, нежели у Клавдии Потаповны Тереховой.
Некоторые узелки развязывались. Но появлялись новые. Почему так зло, жестоко написал Никита своей сестре Наталье Троцюк: “…наш с тобой отец — ничтожество!”?
В то же время я не мог не оценить честности Федора Борисовича, который сам сообщил мне об этом письме. Он, как и я, недоумевал по поводу такой его оценки сыном.
— Письмо от Анастасии мне передал Никита, — продолжая Федор Борисович.
— Он его прочитал?
— Я сам прочитал. И ему и жене. Никита обрадовался, что у него появилась родная сестра, которая на много лет старше его. А Екатерина Ивановна — в свое время я рассказывал ей об Анастасии — сказала, что я должен обязательно поехать в Кудринск. И я поехал. Это была трогательная встреча. Потом Наташа проездом была у нас на один день. И тогда они фотографировались с Никитой. Хотите взглянуть?
— Конечно!
Несомненно они были похожи — Наталья Троцюк и Никита Гладышев. Не зная всей истории, их можно было бы принять за мать и сына: разница-то в возрасте между ними составляла целых двадцать лет!
— Дмитрий Васильевич, — хрипло произнес Гладышев, — неужели Никита погиб из-за меня? Какой же грех я совершил, если сын решил искупить его ценой своей жизни?
Я не ответил. Что мог сказать ему?
— Теперь, — голос Гладышева затвердел, — я обращаюсь к вам, как к следователю. Вы должны все установить, иначе не будет мне покоя, пока живу. Ничего порочащего в своей жизни я не совершал. Воевал честно, работаю честно, живу честно. Еще вчера я не мог подумать, что Никита… А сейчас после того, что он написал Наташе…
Я догадываюсь, о чем он думает, не в состоянии произнести вслух страшные слова: “Мой сын кончил самоубийством!” Откровенно говоря, теперь я тоже, узнав о том, что написал Никита Наталье Троцюк, довольно решительно настраиваюсь на ту же волну: а не порешил ли с собой парнишка?
— Федор Борисович, вы никогда не были грубы с сыном?
В его взгляде — недоумение.
— Ну может быть, — уточняя я, — когда-нибудь повышал на него голос?
— У нас в семье не принято было громко разговаривать, — наконец ответил Гладышев.
А Терехова утверждала, что сама слышала, как Федор Борисович кричит на сына. Солгала, чтобы усилить свою “версию”, или же он сейчас со мной не совсем искренен?
— Почему вы об это спрашиваете? — озабоченно произнес Гладышев и укоризненно посмотрел на меня. — Дмитрий Васильевич, я с вами откровенен до конца. Возможно, у вас имеется еще какая-то информация против меня. Я не смею настаивать на том, чтобы вы сообщили ее мне, однако… теперь нельзя играть в испорченный телефон!
— Вы правы, — кивнул я. — Мне и в самом деле стало известно, что у вас с сыном происходили бурные сцены.
Гладышев напряженно слушал меня. На лбу у него собрались морщины.
— Чаще всего, — продолжал я, — это происходило по субботам.
— По субботам? — переспросил Федор Борисович. Он закрыв глаза, несколько минут думал. Словно восстанавливал в памяти субботние дни и вечера. Потом неуверенно заговорил: — Право, не знаю, что вы имеете в виду… Возможно, это… Я уже вам сказал, что Никита мечтал поступить учиться во ВГИК на режиссерский факультет. В нашей семье любят искусство. Я и сам до войны занимался в театральной студии… Так вот, иногда по субботам мы с Никитой читали вслух пьесы, киносценарии… Вот и все… Вероятно кому-то это могло показаться скандалом. Но для этого надо было обладать богатым воображением. Н-да… Ну да ладно…
Мне вдруг на память пришла острота французского мудреца Ларошфуко: “Наши поступки подобны строчкам буриме: каждый толкует их как ему заблагорассудится”.
— Федор Борисович, мы обнаружили в карманах пиджака Никиты очки в роговой оправе с плюсовыми стеклами. И двести рублей…
— Жена сказала мне об этом, — кивнул Гладышев. — Очки для меня загадка. А вот что касается денег… Никита коллекционировал почтовые марки. Некоторые из них — старые, старинные, как он говорил, — представляли собой ценность. Вернувшись из Москвы, я не увидел на полке альбома с марками. Не продал ли он марки? Но зачем Никите могли понадобиться двести рублей?
— Может быть он собирался уехать? — высказал я предположение.
— Лучше бы он уехал! — тихо обронил Гладышев и протяженно вздохнул.
Он встал. Я отметил его пропуск и проводил до дверей.
18 мая 1978 г., четверг, 18 часов 30 минут
“Наташа, наш с тобой отец — ничтожество!”
Я повторял эту фразу на все лады, потому что отчетливо осознавал, что в ней — ключ к искомой истине. Фраза мешала мне сосредоточиться.
В комнату заглянул Серсемыч.
— Ты еще не ушел? — удивился он.
— Собираюсь.
— Ну что с делом Гладышева? Сдвиги есть?
Я рассказал ему о встрече и разговоре с Федором Борисовичем.
— Но при чем здесь он? — пожал плечами Сергей Семенович. — Не вижу связи.
— А я уверен, что разгадка — в письме Никиты! — упрямо возразил я.
— Ну, если так считаешь, — нахмурился Сергей Семенович, — то и разгадывай. В общем форсируй это дело. Остальные тоже ждать не могут.
Он вышел, а я мысленно проворчал: “Легко сказать — форсируй дело. Вся наша жизнь — сплошные гонки…”
Закрыв на ключ сейф, я уже собрался уходить на свидание с учителем Морозовым. Остановил телефонный звонок. Черт побери, как же это столько столетий человечество существовало без телефона. Просто невозможно себе представить!
— Слушаю… А-а, это вы, Самсонов… Ну и как? Понятно. Спасибо, Игорь Демьянович. Значит, завтра с утра вы отправитесь в Черновин? Желаю успеха!..
Инспектор Самсонов сообщил, что администратор кинотеатра “Вымпел” подтвердила алиби Николая Терехова: он действительно вместе со своим школьным приятелем 14 мая, в воскресенье смотрел фильм “Они сражались за Родину”, демонстрировавшийся на сеансе 20.30. Собственно, я в этом и не сомневался.
…Рабочий день кончился. Меня обгоняли, шли рядом или навстречу люди, торопившиеся домой, в магазины, в театры, в гости. Для всех этих людей рабочий день кончился, а для меня продолжается: ждет учитель Морозов, который судя по всему был если и не последним, то одним из последних людей, кто видел и разговаривал с Никитой Гладышевым.
Заканчивается третий день расследования. Иногда мне кажется, что время пролетело в один миг, а иной раз возникает ощущение, словно уже прошла целая вечность.
Встречи с людьми, разговоры, вопросы, ответы. Что они дали? К чему привели?..
Еще недавно в готов был согласиться с мнением судебно-медицинского эксперта, что произошел несчастный случаи и Никита Гладышев стал его жертвой. Правда, я по-прежнему не отказываюсь от этой версии хотя… Я ведь чуть было не заподозрил в убийстве Никиты Гладышева его школьного товарища Николая Терехова! А теперь — особенно после телефонного звонка инспектора Самсонова — уже нет сомнений в том, что Терехов не замешан в этой истории. И я рад этому обстоятельству, потому что я всегда радуюсь, когда подозреваемый мною человек оказывается невиновным. Несмотря на то, что чаще всего это еще больше запутывает следствие.
Меньше всего я верил в возможность самоубийства Никиты Гладышева. А на поверку получается, что именно эта версии может оказаться ближе всего к истине. Выходит, права будет Клавдия Потаповна Терехова, убежденная в том, что Федор Борисович Гладышев стал причиной смерти сына? В том-то и дело, что ее слова ни в коей мере не приблизили меня к истине. Но самое странное заключается в том, что может так статься, что Федор Борисович действительно оказался виновником трагедии. Совсем по иной причине, нежели считает Терехова. К сожалению мне тоже ничего не известно об этой причине. Впрочем, есть ли она?..
Это всегда так: начинаешь расследовать уголовное преступление, и каждый новый факт, добытый в общении с людьми может внезапно зачеркнуть то, что вчера казалось полностью установленным, вызывало негодование или наоборот, сочувствие, располагало к человеку.
Признаюсь, когда услышал горестный рассказ Тереховой о том, как рухнула ее семья, как вынуждена она теперь одна “тащить” сына — трудного пария, как непорядочно обошелся с ней муж, — я посочувствовал ей. Потом встретился с ее сыном. И сочувствия поубавилось, но мысленно я все-таки пытался оправдать Терехову. А сегодня пришел Федор Борисович и сказал, что Терехова первая обманула своего мужа. И уж совсем не осталось к ней сочувствия. Но прав ли я? Может быть, если “вести раскопки” дальше, то выяснится, что тот же муж, бывший муж, Василий Петрович Терехов, все же когда-то чем-нибудь толкнул ее на этот первый шаг? Вот уж верно, чужая жизнь — потемки. Однако в настоящие момент ни Клавдия Потаповна, ни ее бывший муж меня — следователя Красикова — больше не волнуют. Ибо я хочу понять, почему Никита Гладышев написал своей сестре, что их отец — ничтожество? Причем написал в тот момент, когда Федор Борисович находился в Москве; написал, узнав что-то негативное о нем.
Что же он мог узнать? Кого встретить? Стоп! Да, да, Никита мог кого-то встретить, кто сказал о его отце нечто порочащее того! Столь порочащее, что сын любивший отца, друживший с ним, решился написать тяжкие, оскорбительные слова о нем.
Быть может, это связано с военными годами биографии Федора Борисовича Гладышева?
Мысль пришла вдруг, как бы между прочим. Но стоило ей родиться, как я сразу же уцепился за нее. И внезапно обнаружил, что в тайничке мозга находиться местечко и для мыслей об очках и двухстах рублях, находившихся при погибшем юноше. Человека, пользующегося очками с линзами плюс девять диоптрий, можно считать инвалидом.
Цепочка состоит из скрепленных звеньев… Миша Торопов обратил внимание на то, что у Никиты Гладышева ухудшилось настроение примерно за две недели до рокового 14 мая, именно тогда Никита встретил “инвалида”, когда-то знавшего Федора Борисовича, и приобрел для него очки; ему же он собирался передать двести рублей, в связи с чем продал свой альбом с марками…
Но как и где он встретил “инвалида”, каким образом узнал, что тот был знаком с отцом, где приобрел очки, если их нет в нашем городе? А почему, собственно, в нашем городе? Не уезжал ли Никита Гладышев куда-нибудь две недели назад?
…Дом, в котором проживал учитель Морозов, фасадом выходил на широкую улицу.
Дверь мне открыл мужчина средних лет, в пижаме. Мы познакомились, и Морозов пригласил пройти в комнату.
— Не обессудьте, — улыбнулся Морозов, — но разговаривать буду, лежа в постели. Знобит что-то. Прямо-таки какое-то наваждение. Всякий раз в мае простуживаюсь. Заметьте, в любую погоду. Так чем я могу быть вам полезен, Дмитрий Васильевич? Догадываюсь, что разговор пойдет о Никите Гладышеве. Какая трагедия, какая трагедия…
— Андрей Александрович, не знаете ли, уезжал Никита куда-нибудь из города две недели назад?
— Мне трудно ответить на ваш вопрос. Дело в том, что я сам уезжал в Брянск. Я уехал двадцать восьмого апреля. Умерла моя мать. Она жила в семье старшего брата. Я был там до второго мая. Третьего приступил к занятиям в школе Никита был на уроках. Однако легко выяснить, уезжал ли он…
— Да, да, конечно, — кивнул я. — Позвоню его родителям. Андрей Александрович, расскажите мне поподробнее о вашей последней встрече с Никитой четырнадцатого мая.
— Он позвонил в половине седьмого вечера и попросил разрешения прийти ко мне. Я никогда не отказывал ребятам во встрече. Он приехал минут через тридцать или сорок.
— Каким вы нашли его?
— Знаете, он был весь взвинченный. Это чувствовалось по каждому его движению, по тону, каким он говорил. Я спросил, что с ним. Никита неохотно ответил: “Ничего. Просто я устал, Андрей Александрович”. Потом спросил: “Может быть, я вам помешал”. Я успокоил его. Мы стали разговаривать.
— Он говорил с вами о своем отце?
— Об отце? — удивился Морозов. — Нет, ничего. Видите ли, Дмитрий Васильевич…
Учитель замялся.
— Вас что-то смущает? — насторожился я.
— То, что сказал Никита, касается Елизаветы Павловны…
— Ромашиной?!
— Да. Я уже не помню точно, как возник этот разговор… Словом Никита спросил: “Андрей Александрович, подлость и предательство — одно и то же?” Честно скажу, я растерялся от его вопроса. Начал с общих слов, но он перебил меня: “Как вы относитесь к Елизавете Павловне Ромашиной?” Я ответил, что не считаю приличным обсуждать другого человека в его отсутствие, тем более своего коллегу. На это Никита возразил: “Но ведь Елизавета Павловка и другие учителя часто обсуждают нас во время родительских собраний, несмотря на наше отсутствие”. Потом он пристально взглянул на меня и сказал: “Однажды я случайно увидел, как Елизавета Павловна целуется на улице с мужчиной. Это был не ее муж, я точно знаю. Ее муж — мой тренер по самбо! Разве Елизавета Павловна поступает не подло, предательски обманывая своего мужа? А когда я спросил ее, изменяла ли когда-нибудь Наталья Николаевна Гончарова Пушкину, Елизавета Павловна едва не выгнала меня с урока… Но не в этом дело. Я о себе хочу спросить. Я узнал чужую тайну. И до сих пор молчу о ней. Значит, я тоже подлец и предатель, если не рассказал правду ее мужу? Скажите, а подлость и предательство передаются по генам или нет?”
— Он так сказал? — пробормотал я, думая о своем.
— Да, — кивнул Морозов. — Я хорошо запомнил его слова, потому что они поразили меня своей неожиданностью. Чего-чего, а ошарашить вопросами сегодняшние ребята умеют. Особенно такие, как Никита Гладышев. Я попытался объяснить ему, что не вижу с его стороны подлости и предательства по отношению к мужу Елизаветы Павловны, ибо иной раз умолчание в подобной ситуации может оказаться лучшим выходом из положения. И, дескать, не зная многого в жизни других людей, нельзя вмешиваться в нее и уж тем более судить их. Никита был умным юношей, Дмитрий Васильевич, тонко чувствующим, с обостренным восприятием правды и лжи.
— Похоже, максималистом он был! — усмехнулся я.
— Конечно, — серьезно ответил Морозов. — То, что для другого подростка могло ничего не значить, для него поднималось чуть ли не до уровня обобщения. Допустим, учитель не ответил на его вопрос, все, больше он для него не учитель. И так далее. А знаете, где корни его максимализма?
— Где?
— В его семье. Я хорошо знаком с Федором Борисовичем и Екатериной Ивановной. По моему, в их семье существовал принцип: никаких полуправд. Либо правда, либо ложь! А натура у Никиты была эмоциональная, художественная. И отсюда — стоило ему столкнуться с “подлостью”, как он изменил свое отношение к Ромашиной, могло наступить ожесточение…
— Да мне известно, что у них ухудшились отношения. Она сама сказала мне об этом, но не знает причины.
— Я надеюсь, Дмитрий Васильевич, что от вас она…
— Не волнуйтесь, Андрей Александрович, — успокоил я учителя.
— Ах, бог мой! — воскликнул Морозов. — Да я убежден, что наши мальчишки чаще всего и страдают оттого, что их не понимают. Вот как глухонемые страдают, что мы — говорящие и слышащие — не понимаем их! Так и ребятишки наши. А отсюда, Дмитрий Васильевич, взрывы происходят. А мы нервничаем, торопимся, нам легче оборвать, чем прислушаться, разобраться, что в душе у них бурлит… Наши мальчишки сегодня такие же, какими и мы были, но чуточку другие. Они просто дети своей эпохи. А мы, не задумываясь глубоко над этим, спешим объявить их прагматиками, вкладывая в это слово что-то нехорошее. Им сегодня дико слышать о такой профессии, как землекоп. Почему? Да потому, что — их в этом сама жизнь убеждает! — машина сделает лучше и быстрее. Они ведь живут в век машин, в век ракет! Но они не стали роботами, на них надо воздействовать эмоционально, и тогда те же лопаты пробудят в их душах волнение. Потому что души у них есть, прячутся только глубже, чем у нас. Сейчас им надо больше давать, а потом они сами начнут отдавать сторицей! Я в это верю, Дмитрий Васильевич. И еще — врать им надо меньше. Мы, сами того порой не замечая, сами того не желая, так часто лжем им, что у них возникает защитная реакция: спрятаться от нас, взрослых…
— И у Никиты Гладышева было такое желание — спрятаться? — перебил я Морозова.
— В том-то и дело, что нет! — живо возразил учитель. — И в этом заслуга его семьи.
— Хорошо, Андрей Александрович, хорошо… А теперь такой вариант: Никита неожиданно узнает что-либо компрометирующее его отца или мать. Стало бы это трагедией для него?
— Безусловно, — кивнул Морозов. — Для иного мальчишки, подростка, привыкшего к вранью, — нет. Для Никиты — да! Но почему такое странное предположение, Дмитрий Васильевич?
— Просто так… Хочу понять, что случилось четырнадцатого мая с Никитой… — Эта спасительная фраза стала для меня, как крыша над головой во время грозы.
— Да, да, — печально произнес Морозов. — Я думаю — нелепая трагическая случайность. Когда мы вышли с ним — я решил немного прогуляться, — уже начинался штормовой ветер. Спустились к набережной, я предложил ему вернуться, переждать шторм у меня дома, но Никита торопился домой. Он сказал: “Мама не знает, что я пошел к вам. Она дежурит в клинике. Позвонит домой, а меня нет. Начнет волноваться”.
— То есть он обязательно хотел вернуться домой пораньше? — уточнил я.
— Да, — ответил Морозов. — Он поэтому и решил пойте мимо порта. Оттуда было ближе к его дому.
— И настроение у него было не такое подавленное, с каким он пришел к вам?
— Бесспорно! — уверенно сказал Морозов. — Мне даже показалось, что он повеселел, словно скинул с плеч тяжкий груз.
Я шел к троллейбусной остановке и думал, что теперь знаю, почему Никита Гладышев “мстил” Елизавете Павловне Ромашиной. Он был максималистом, предпочитал рубить сплеча. Учитель Морозов, которого он уважал, попытался объяснить, что в жизни все гораздо сложнее, чем представляется на первый взгляд. Никита ушел от Морозова повеселевшим, как “будто скинул с плеч тяжкий груз”.
Но с каким грузом он все-таки приходил к Морозову? Только ли с тем, что стал свидетелем “предательства” Ромашиной и мучимый угрызениями совести, — знает обо всем и молчит, не говорит своему тренеру — мужу Ромашиной?
Но что имел в виду Никита, задавая Морозову вопрос о генетике “предательства и подлости”? Может быть, вовсе не случай с Ромашиной, а иное, о чем не решился сказать даже любимому учителю?
Я не хотел так легко отступать от мысли, которая появилась еще до встречи с Андреем Александровичем Морозовым.
Однако важно вот что… Никита Гладышев торопился домой, не хотел волновать мать. И после… броситься в море.
Вряд ли это возможно Интуиция и логика подсказывают, что это нереально. Бог с ней, с интуицией. А вот по логике, если бы Никита написал и поспал письмо сестре после 14 мая, то есть после встречи с Морозовым, я мог бы многое другое допустить. Однако сначала было письмо, а потом разговор с учителем, после которого Никита ушел повеселевшим, “будто скинул с плеч тяжким груз”.
Подошел троллейбус и я легко вскочил на подножку.
20 мая 1978 года, суббота, 21 час
В пятницу и субботу на меня навалились другие дела, расследованием происшествия с Никитой Гладышевым я почти не занимался, если не считать того, что удалось побывать в магазине “Филателия”. Мое предположение, что Никита продал магазину свой альбом с марками, оказалось верным. Среди квитанций я обнаружил и датированную 12 мая. Она была выписана на имя Никиты Гладышева, магазин “Филателия” купил у него альбом с марками за 200 рублей.
…Домой я пришел поздно вечером. Ксения встретила словами:
— Тебе звонил инспектор уголовного розыска Самсонов. О сказал, что вернулся из командировки.
— Будет еще звонить? — спросил я.
— Да. Ужинать станешь?
— Пока нет. Возможно, Самсонов придет. Покормишь нас двоих.
Я прошел в столовую, увидел сидевшую за пианино Галку. Вид у нее был унылый.
— Здравствуй дочь! — весело поздоровался я.
— Привет, — вяло откликнулась Галка.
Я хотел спросить, как у нее дела, но в это время в моем кабинете позвонил телефон. Это был Самсонов.
— Ну, как съездили, Игорь Демьянович? — спросил я.
— На весь год наездился! — пророкотал в трубке бас инспектора. — В четырех городках побывал, благо они все рядышком.
— Есть предложение, — сказал я. — Приезжайте ко мне.
Примерно через полчаса инспектор уже сидел передо мной и, жестикулируя, оживленно рассказывал. Обычно немногословный, сдержанный Самсонов сейчас был просто неузнаваем. Чувствовалось, что он и сам доволен результатами своей поездки.
— Нашел я все-такт очки-то, Дмитрий Васильевич, хотя, чего греха таить, отчаялся уже было. Ну приехал я в Черновин. Интересуюсь. Отвечают: да, были такие очки. Но все давно распроданы. Вы, говорят, в Георгинск съездите. Приезжаю туда показываю “образец”. Нет машут руками, такие очки к нам не поступали. А вы мол поезжайте в Гребнев. Помчался туда. Там тоже “обрадовали”: имелись, а теперь нет. Оказывается в середине апреля приезжал в Гребнев некий Бойченко из Горобовского горздрава, увидел эти оправы, которые особым спросом у гребневских граждан не пользовались, и предложил передать и в Горобовск. А взамен прислать металлические, анодированные, которые не идут в Горобовске. Короче, оформили они это дело и Бойченко под расписку увез все имеющиеся в Гребневе оправы. А из Горобовска прислали металлические оправы. Спрос, предложения… Сам черт ногу сломит в этих комбинациях.
В комнату вошла Ксения, неся ужин.
— Совместим приятное с полезным, Игорь Демьянович, — пригласил я Самсонова к столу. — Ужин и беседу.
Ксения вышла. Самсонов, накладывая в тарелку еду, продолжал:
— А у меня, понимаете уже азарт. Столько объездил, время потерял, нет, думаю, все равно доберусь, не может быть такого, чтобы не добрался до этих очков!
Он откупорил бутылку минеральной воды, налил в стакан, сделал большой глоток.
— Приезжаю в Горобовск, выхожу на вокзальную площадь, в там рядом — автобусная станция. Смотрю, через дорогу — аптека. Я туда. Пожалуйста, лежат милые! Несколько пар, причем и в витрине красуются. Естественно одну пару я купил.
— Без рецепта? — уточнил я.
— Как же, потребовали рецепт, — улыбнулся Самсонов, — а я говорю: “Девушка, миленькая, не для себя покупаю, для деда. Не может без них газеты читать. Как ему жить без мировых новостей!” Девушка рассмеялась, махнула рукой, мол, ладно, платите деньги в кассу. В маленьком городе и строгости поменьше…
Рассказывая. Самсонов достал из кармана футляр.
— Вот очки, что были обнаружены у Гладышева. А эти я купил. — Он вынул из другого кармана вторые очки в таком же футляре. — Один к одному, Дмитрий Васильевич. С теми же диоптриями. Обратите внимание, и футляр аналогичный. Ну, а после того, как убедился, что можно очки и без рецепта приобрести, я, как говорится, представился по всей форме. Девушка, конечно, перепугалась сначала. Но я ее успокоил. Попросил помочь, отыскать рецепты, по которым в разное время отпускались эти очки. Словом, собрал по Горобовску рецепты. Пятнадцать штук. Вот, пожалуйста, список. Тут некоторые из других городов, близлежащих.
Самсонов протянул лист. Я скользил взглядом по фамилиям, потом задумчиво спросил:
— Стало быть, эти очки поступили в продажу в горобовские аптеки в апреле?
— Двадцать седьмого апреля, — ответил Самсонов.
— Извините, Игорь Демьянович…
Я быстро встал и направился к телефону, который стоял на письменном столе. Набрал номер Гладышевых. Трубку подняла Екатерина Ивановна. Я назвался и попросил ответить, уезжал ли куда-нибудь из города Никита между двадцать седьмым апреля и тринадцатым мая.
— Да, — тихо ответила Екатерина Ивановна. — В субботу, двадцать девятого апреля, Никита вместе с товарищам из школы отправился в какой-то поход Он был “красным следопытом”. Они выехали днем, после занятий, а вернулись после майских праздников.
— Куда они уезжали, Екатерина Ивановна?
— Не помню, Дмитрий Васильевич. Никита называл мне какой-то небольшой город, но я сейчас не вспомню. Извините… Но это легко выяснить в школе… А шестого, седьмого, восьмого и девятого мая Никита гостил у наших друзей Беленковых на даче.
— Далеко от города дача Беленковых?
— Тридцать километров. Они живут там весь год.
— У них телефон есть?
— Нет.
— Дайте мне, пожалуйста, адрес Беленковых.
— Записывайте, Дмитрий Васильевич.
Записав адрес Беленковых, я поблагодарил Екатерину Ивановну и вернулся к Самсонову. Он с любопытством поглядывал на меня, ждал, что я скажу.
— Ну вот, Игорь Демьянович, Никита уезжал из города. Причем дважды. Это крайне важно… Да-а, Игорь Демьянович, хотел дать вам возможность передохнуть от поездок, но, увы, ничего не получится. Завтра с утра вам придется съездить на дачу Беленковых. Вот по этому адресу. Надо узнать был ли у них с шестого по девятое мая Никита Гладышев. В каком состоянии и настроении они нашли его.
— Понятно, — кивнул Самсонов.
Посидев еще немного, мы распрощались.
Я чувствовал себя взбудораженным. Так со мной бывает всякий раз, когда в поисках истины я вдруг нащупываю какую-то почти незаметную для глаз тропку. И во мне сейчас росло ощущение, что я не только нащупал тропку, но уже ступил на нее.
Следственная версия иногда появляется как искрометная игра воображения следователя: искорка, которая как бы вырывается из цепи установленных им фактов расследования и на мгновение освещает, показывает возможный путь к установлению истины.
Но истина — правда, освещенная со всех сторон не искоркой, а ровно горящим огоньком, он непрерывен: составляющие истину факты сплетены между собой, вытекают один из другого, ни одно звено не выпадает.
Версия становится истиной только тогда, когда пройдет испытание проверкой, когда факты подтверждают ее с такой ясностью и определенностью, что она становится единственно возможной версией.
Эти мысли принадлежат не мне, другому юристу. Но они на редкость точны.
22 мая 1978 года, понедельник, 9 часов
Придя утром на работу, я позвонил директору Румянцеву и попросил узнать, по какому маршруту уходили школьные “красные следопыты” 29 апреля.
Пожалуй давно я ничего не ждал с таким нетерпением, как ответного звонка директора Румянцева. Наконец он позвонил.
— Их маршрут включал город Горобовск и деревню Колонкино Гребневского района, — сказал директор Румянцев.
— Кто сможет подробно рассказать мне об этом походе?
— Геннадий Корабельников из девятого “А”. Никита Гладышев был командиром отряда, а Корабельников — его заместителем.
— С вашего позволения я сейчас приеду в школу.
— Пожалуйста, Дмитрий Васильевич.
Геннадии Корабельников — шепелявящий, вертлявый подросток — смотрит на меня, полуоткрыв рот. Мы сидим с ним я пионерской комнате.
— А вы и вправду из прокуратуры? — изумляется он.
— Да, Гена. Но ты лучше ответь…
— Значит, вы и…
— Геннадий у нас с тобой мало времени!
— Что вы! Это же большая перемена!
— Давай по порядку.
— Давайте, — охотно соглашается он.
— Какова причине похода “красных следопытов”?
— К нам пришло письмо из села Колонкино. Там малышня нашла разрушенную землянку, а в ней скелет человека и вещмешок, в котором среди других вещей находился пожелтевший конверт. Мы с трудом разобрали адрес: “Город Горобовск, улица Морская, дом восемнадцать. Симончук Пелагее Григорьевне”.
— И вы решили поехать по этому адресу?
— Ну естественно! Никита сказал, что ехать нужно и в Колонкино и в Горобовск. У Никиты был нюх на такие поиски. Его даже райком комсомола именными часами наградил. Во, часы! “Слава” на браслете.
— И вы поехали в Горобовск?
— Конечно.
— Когда вы отправились в поход, какое настроение было у Никиты Гладышева?
— Отличное! Это ведь его идея была поехать!
— А когда возвращались из похода, настроение у него было такое же?
— Нет! — воскликнул с удивлением Корабельников. — Верно! Он мрачным был. А вы откуда знаете, а? Во дела.
— Так что же произошло в похода с ним?
— С кем? — не понял Корабельников.
— С Никитой Гладышевым. — Я почувствовал приступ раздражения, вызванного бестолковостью этого шумного подростка.
— С Никитой Гладышевым? — уставился на меня Геннадий. — Не знаю. А что?
— Гена, — терпеливо проговорил я , — по-моему, мы с тобой забрели в какой-то тупик. Я тебя спрашиваю: с Гладышевым что-нибудь произошло в походе, может, какая-нибудь неприятность?
— А я думал, что вы что-нибудь знаете!— искренне удивился подросток. — Наверное, ничего с ним походе не было.
— Послушай, — я крепко-крепко взял себя в руки, — только что ты подтвердил, что после похода Никита помрачнел, верно?
— Правильно! — обрадовался Геннадий. — Вы спрашиваете, когда у него испортилось настроение, я вам отвечаю — после похода. Логично?
— Вполне, — улыбнулся я. — А как Никита вел себя в походе?
— Не знаю… — захлопал он глазами. Потом воскликнул. — А-а! Понял! Я же вам не сказал, что в походе мы с Никитой находились в разных местах.
— То есть?! — вытаращил я глаза. Этот парень меня доконает, ей-богу.
— Так мы же разделились. В Горобовск приехали все вместе, а затем разделились. Я и еще двое наших поехали в Колонкино, чтобы встретиться с малышней, ну, с теми ребятишками, которые землянку отыскали. Двое других из отряда поехали в колхоз “Красный луч” под Горобовском.
— Зачем?
— А там работает и живет Оксана Григорьевна Симончук, сестра Пелагеи Григорьевны. Нам сказали в Горобовске.
— Понятно. Гладышев тоже поехал в “Красный луч”? — догадался я, с трудом пробираясь через его рассказ.
— Вовсе нет! — запротестовал Корабельников. — Никита поехал на автобусе в Трехозерск.
— В Трехозерск? — переспросил я, мгновенно припомнив, что в списке, переданном мне инспектором Самсоновым, значится некий Орешный С.М., проживающий в Трехозерске. По рецепту, выписанному Орешному, в одной из горобовских аптек были проданы интересующие нас очки с диоптрия плюс девять. — Зачем Никита Гладышев поехал туда?
— Ну как же! — состроил гримасу Корабельников. — Там ведь жила Пелагея Григорьевна Симончук.
— Погоди, погоди! — Я поднял руку. — Я уже запутался. Она же проживала в Горобовске?
— Верно, — кивнул Геннадий. — Проживала. Когда-то. Но, как нам сказали ее бывшие соседи, потом она переехала вместе с дочерью в Трехозерск, где дочь работала на мебельной фабрике. Вот мы и решили, что Никита там с ней и встретится.
— Ясно. И на этом ваш маршрут разошелся?
— Почему же? На следующий день, к вечеру, Никита вернулся в Горобовск и сообщил, что Пелагея Григорьевна Симончук умерла, а дочь ее живет на Алтае. Его сведения совпали с нашими. Нам то же самое сказала Оксана Григорьевна.
— Вам удалось узнать, кто был тот человек, останки которого нашли в землянке?
— Да. Это был сын Пелагеи Григорьевны — Алексей Митрофанович Симончук. Наверное, он был тяжело ранен и не мог уйти. Видно, он отстреливался до последнего патрона. Мы в землянке нашли много стреляных гильз. Ну, договорились с местными ребятами, что они поставят пока временный — деревянный — памятник, а на будущий год мы привезем из города мраморную плиту с выбитыми на ней фамилией, именем и отчеством погибшего.
— Скажи, Геннадий, когда Гладышев вернулся в Горобовск, в аптеку он не заходил?
— Я не видел… Не знаю… Вообще-то он из Трехозерска злой приехал, это точно. Может переживал, что не нашел ни матери, ни сестры Симончука.
— Может быть, Гена, все может быть, — ответил я, думая о том, что вряд ли Никита Гладышев мог купить очки в Горобовске в тот день, когда вернулся из Трехозерска, ибо было воскресенье, а затем наступили майские праздники. Следовательно, ему необходимо было побывать в Горобовске еще раз!..
До конца перемены оставалось несколько минут.
— Геннадий, у тебя есть адрес, по которому Гладышев разыскивал в Трехозерске Пелагею Григорьевну Симончук?
— Естественно! — гордо ответил он. — У меня все документы отряда хранятся в полном порядке.
С этими словами он подошел к шкафу, открыл его своим ключом, достал зеленую папку, начал перелистывать бумаги.
— Пожалуйста! Трехозерск, улица Колхозная дом четырнадцать. Но только Симончуки там больше не проживают, это вы учтите.
— Учту. Спасибо.
22 мая 1978 года, понедельник, 11 часов 10 минут
Сергей Семенович не возражал против моей поездки в Трехозерск.
В половине двенадцатого позвонил Самсонов и сообщил, что шестого, седьмого, восьмого и девятого мая сего года Никиты Гладышева на даче Беленковых не было. О его смерти они впервые узнали именно от Самсонова.
Пожалуй, я был бы огорчен и изумлен сообщи мне инспектор иную информацию. Теперь же я был убежден, что нахожусь у цели и загадку смерти Никиты Гладышем следует искать в Трехозерске.
Через пять минут электричка отправляется. До Трехозерска полтора часа езды.
Я отыскал свободное местечко у окна и сейчас наблюдаю за тем, как заполняется вагон. Шумно, говорливо — типично для черноморских электричек.
В кармане лежит блокнот, в котором записан адрес: “Трехозерск, ул. Колхозная, д. 14”. Когда-то в этом доме проживала вместе с дочерью Пелагея Григорьевна Симончук. Мать павшего в боях с фашизмом советскою солдата Алексея Митрофановича Симончука, останки которого случайно обнаружили деревенские ребятишки и сообщили “красным следопытам” в сорок седьмую школу нашего областного центра. В школу, в которой учился Никита Гладышев. Вместе со своими друзьями он отправился на поиски родных погибшего солдата, чтобы сообщить им, где покоится его прах. И в своих поисках приехал в Трехозерск.
Я должен узнать, с кем в Трехозерске разговаривал Никита и почему вернулся оттуда опечаленным. Я почему-то убежден, что одним из тех людей, с кем встречался в Трехозерске Никита, был С.М.Орешный. Кто он? Каким образом Никита познакомился с ним? Почему Орешный передал ему рецепт?
А если я ошибаюсь и все обстояло совсем не так? Ну что ж, тогда буду искать дальше. Но интуиция подсказывает, что Никита покупал в горобовской аптеке очки именно для Орешного, по его рецепту. Я ведь не ошибся, предположив, что Никита не был на даче Беленковых! В майские праздники он не мог купить эти очки. А вот шестого мая, снова приехав в Горобовск, в то время, как Екатерина Ивановна была убеждена, что сын находится у Беленковых, — Никита мог их купить. И купил! Однако вопрос: почему он не передал очки? У него в запасе было несколько дней, он преспокойно мог поехать в Трехозерск. Так что же: побывал он вторично в Трехозерске или нет? Для меня это имеет серьезное значение, так как если продолжать тянуть логическую цепь, то после второй поездки в Трехозерск у Никиты и появились основания написать сестре в письме: “Наташа наш с тобой отец — ничтожество!..”
Неожиданно я почувствовал, как на меня наваливается усталость. Четыре дни постоянного нервного напряжения измотали. А если добавить сюда весь год, то легко догадаться, как я измочалился и как приятно думать что впереди отпуск! Не надо будет рано утром вставать, куда-то спешить, что-то расследовать, кого-то допрашивать, выслушивать чьи-то жалобы, успокаивать, предлагать воду и т.д. и т.п.
Закрыв глаза, я задремал. Конечно это был не сон, а так, самообман. Я слышал все, что происходило вокруг меня. Вполголоса позади взаимно упрекали друг друга супруги. Рядом со мной сидел умненький юноша с реденькой русой бородкой и тихонько хихикал, читая роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Золотой теленок”. Я тоже, перечитывав Ильфа и Петрова, тихонько хихикаю. И, глядя на меня, начинают хихикать жена и дочь. Но в последнее время Галка совсем перестала смеяться. Ходит озабоченная и сердитая. Но это к понятно: скоро у нее выпускные экзамены в музыкальной школе. Кстати, из-за своей закрученности забываю поинтересоваться у Ксении, чем закончился “мировой катаклизм”: ссора Галки с Валерием Михайловым. Мне бы их заботы!..
Хотелось ехать и ехать дальше. Еще лучше — лежать на полке, свесившись и уперевшись глазами в окно, за которым проносились бы поля, реки, леса, домики, комбайны, стрелочники с флажками в руках.
Наверное, я все же от дремоты ушел ко сну, ибо почувствовал, как меня легонько толкают в бок.
— Простите, вам ведь до Трехозерска? — спрашивал мой русобородый умненький сосед.
Откуда ему известно, что я еду до Трехозерска? И тут же вспомнил, что сам спрашивал у него когда присоседивался, бывал ли он в Трехозерске и большой ли это город. Мой сосед был умненьким юношей и без труда вычислил, что, если я интересуюсь Трехозерском, следовательно, еду туда. Все правильно. Он не зря хихикает, читая Ильфа и Петрова.
— Что подъезжаем? — улыбнулся я.
— Да.
Я встал, взял с решетчатой металлической полки свой портфель и повторяя: “Прошу прощения!” — начал пробираться к выходу.
Дом № 14 на Колхозной улице был ветхим, за покосившимся штакетником.
Ступеньки крыльца старчески заскрипели под моими ногами. Я постучал в дверь. Никто не отзывался. Я постучал еще раз.
— А вам кого?
Я обернулся и увидел девочку лет двенадцати.
— Да вот стучу, а не открывают, — улыбнулся я в ответ на ее вопрос.
— Разве вы не знаете, что Степан Матвеевич Орешный умер?
— Как умер? — Я был ошеломлен. Сразу двумя событиями. Тем, что в этом доме проживал С.М.Орешный, и тем, что он умер.
— Моя бабушка, — печально произнесла девочка, — сказала, что у него был разрыв сердца.
— Когда это случилась?
— Шестого мая, — ответила девочка. — А вы что, его знакомый или родственник?
— Как тебя зовут? — перевел я разговор.
— Лида. Лида Уралова. А что?
— Скажи, Лида, к Степану Матвеевичу недавно не приезжал такой высокий мальчик?..
— Никита? — обрадованно перебила Лида. — Он был здесь. Но только он приезжал не к Степану Матвеевичу, а искал тетю Варю и бабушку Григорьевну. А бабушка Григорьевна давно уже умерла, а тетя Варя уехала. Но Никита очень подружился со Степаном Матвеевичем.
— Никита один раз приезжая сюда?
— Нет, — покачала головой Лида. — Сначала он приезжал на майские праздники. И шестого мая приехал. Поздно вечером. А Степан Матвеевич уже умер. Он утром умер. Никита сильно плакал. Он у нас потом три дня жил.
— Скажи, девочка, а твоя бабушка сейчас дома?
— Да.
— Можно мне с ней поговорить?
— Конечно. Пойдемте!
Переночевав в доме Ураловых, утром я уехал из Трехозерска.
23 мая 1978 года, вторник, 10 часов
Домой я возвращался почти в пустом вагоне. Никто не мешал думать, восстанавливая в памяти разговор с Лукерьей Филипповной, бабушкой Лиды Ураловой.
Она многое рассказала о своем бывшем соседе Степане Матвеевиче Орешном.
В прошлом партизан, Орешный поселился в Трехозерске вскоре после войны: тут жил его двоюродный брат, умерший в пятидесятых годах.
Степан Матвеевич был тихим, приветливым человеком. Война оставила много отметин на нем. К тому же страдал он сердцем, частенько прихватывали приступы. А с годам подкралась к Орешному новая беда: он стал слепнуть, почти перестал читать, что особенно удручало его.
Несколько лет назад Орешному во многих отношениях было полегче и у самого здоровье еще не так расстроилось, поэтому мог работать на местной небольшой обувной фабрике, и жильцы у него поселились хорошие, Пелагея Григорьевна и Варваре Митрофановна Симончук. Они скрашивали одиночество бывшего партизана. Через несколько лет Пелагея Григорьевна умерла, а Варвара подалась в иные края, на Алтай. Поехала то ли счастья искать, то ли судьбу испытывать.
После отъезда Варвары Степан Матвеевич сильно затосковал. Намечалось у них что-то похожее на взаимное чувство, но с отъездом молодой женщины все расстроилось.
“Кто ее знает, — заметила Лукерья Филипповна, — видно испугалась Варюша. У Степана приступы зачастили, да и слепнуть он начал. Ему врач прописал очки со стеклами сильными, а у нас в Трехозерске таких и не достать было… Он бывало все через лупу пытался читать. Только много ли через нее прочитаешь? Однако и Варюшу не поднимается голос осуждать. Она еще женщина молодая, а тут брать на себя этакую заботу. Всяк сверчок свое поет. Дай ей бог счастья, женщина она была хорошая, да не очень удачливая. Степан, конечно, скучал, но мне говорил: “Надо ей было ехать, Филипповна, надо. Я сам сказал, а то и приказал: уезжай! Чего ей с таким судьбу свою связывать? Неправильно это будет”.
На майские праздники объявился в Трехозерске Никита Гладышев. Он разыскивал Симончуков. А потом несколько часов они разговаривали — Никита и Степан Матвеевич. О чем? Этого ни Лида, ни ее бабушка не знают. Единственное, что им было известно, — мнение Орешного, который сказал: “Хороший паренек. Толковый. Я ему про войну рассказывал. У него отец тоже вроде партизаном был. Альбом с фотографиями показывал…”
Я везу этот альбом в своем портфеле. После смерти Орешного альбом взяла к себе Лукерья Филипповна. Я обещал ей вернуть его. Мне пришлось сказать Лукерье Филипповне и Лидочке о смерти Никиты Гладышева. Обе долго плакали.
Во второй раз Никита приехал в Трехозерск вечером шестого мая. Известие о смерти Орешного потрясло юношу. Он все повторял: “А я ему привез очки, понимаете, привез очки!..” Никита был в таком состоянии, что Лукерья Филипповна уговорила его несколько дней погостить у них. Каждый день Никита ходил на кладбище и сидел у могильного холмика. Перед отъездом он сказал Лукерье Филипповне, что снова приедет и привезет деньги, а ее попросил, чтобы она договорилась с кем-нибудь о памятнике или мраморной плите. Спросил сколько это будет стоить. Лукерья Филипповна переговорила с одним мастером поторговалась. Сошлись на ста пятидесяти рублях.
Ну вот, разрешилась загадка с деньгами и очками. Но главное впереди: моя встреча с Федором Борисовичем Гладышевым. Во всяком случае дело подошло к концу.
23 мая 1978 года, вторник, 11 часов 45 минут
Выйдя на привокзальную площадь, я по телефону-автомату позвонил Федору Борисовичу на работу и сказал, что нам необходимо встретиться.
— Если вас не затруднит, — после небольшой паузы предложил он, — приезжайте ко мне на работу.
— Хорошо, — согласился я. — Буду через полчаса.
Мы сидим с Федором Борисовичем за столом.
— Я только что вернулся из Трехозерска.
Он молча смотрит на меня.
— Ваш сын был там два раза, — продолжаю я, наблюдая за ним. — Причем последний раз он приезжал туда шестого мая, когда ваша жена была убеждена, что Никита гостит у Беленковых. Но он не был у Беленковых.
— Я знаю, — тихо говорит Федор Борисович, — вчера звонил Тихон Кузьмич и рассказал, что к ним приходил сотрудник милиции и интересовался Никитой.
— Верно, — киваю я. — Лейтенант Самсонов. Он выл у Беленковых по моему поручению.
— Я так и понял. Простите, Дмитрий Васильевич, но вам удалось узнать почему, зачем и к кому ездил Никита в Трехозерск?
Не отвечая на его вопрос, я открыл портфель и достал из него альбом покойного Степана Матвеевича Орешного. Раскрыл на закладке и взял фотографию, на которой были изображены три бородатых партизана с автоматами в руках. На груди каждого — по ордену Красной Звезды.
Я протянул фотографию Гладышеву. Он взглянул на нее и застыл, пораженный, изумленный до крайности.
— Федор Борисович, мне показалось, что крайний слева вы. Правильно?
— Да, это я, — пробормотал он.
— А кто двое остальных?
— Крайний справа — Харитон Гусев. А рядом со мной — Степан Орешный.
— У вас тоже имеется такая фотография?
— Да.
— В связи с чем и когда был сделан этот снимок? — Так уж получилось что наш разговор скорее напоминал допрос.
— В канун двадцать пятой годовщины Красной Армии несколько партизан нашего отряда, в том числе и я, были награждены боевыми орденами и медалями. Нас троих наградили орденом Красной Звезды. Прилетел фотокорреспондент газеты “Красная звезда”. Мы попросили его сфотографировать нас троих на память.
— А как сложилась судьба Гусева и Орешного? Вам что-нибудь известно о них?
— Гусев, — помолчав сказал Федор Борисович, — вскоре погиб, подорвался на мине. А Степан Орешный…
Он снова замолчал, опустил голову, Я терпеливо ждал, когда он продолжит. Я ведь разворошил его войну.
— Степан тоже погиб, — заговорил наконец Гладышев. — Можно считать, на моих руках, хотя мне и не пришлось его похоронить.
— Как же это произошло, Федор Борисович?
Гладышев посмотрел на меня в упор. Конечно, он понимал, что мои вопросы неспроста, однако же предпочитал ни о чем не спрашивать.
— Ранней весной сорок третьего года мы с Орешным получили задание взорвать немецкий штаб. Гитлеровцы усиленно охраняли весь участок. Большой группой туда трудно было пробраться. Многого ведь не учтешь: кто-нибудь кашлянул, чихнул… Словом большая группа — больше и риска себя обнаружить. Поэтому было решено, что пойдем мы со Степаном. У нас уже был опыт в подобных операциях. Вышли ночью, дошли быстро. Поначалу все сложилось в удачу. Я бесшумно снял часового. Заминировали дом и подорвали. Безусловно надо было сразу же уходить, но увидели выскакивающих из окон полуголых фашистов, не удержались и открыли по ним огонь из автоматов. Вдруг Степан увидел, что от дома бежит гитлеровец в одних подштанниках, а в руке у него портфель. Представляете, раздетый, а портфель не бросил. Значит, какие-то важные документы в нем находились. Степан скосил его очередью и бросился к портфелю. И здесь нам еще везло. Мы почти ушли. Но в этот момент Степана ранило в бедро. Он упал и подняться не может. Я хотел взвалить его на себя, а он говорит: “Не надо, Федор, я тяжелый, а снег глубокий. Оставь меня здесь, в лесу. Ты не беспокойся, я скоро сознание потеряю, а тогда уже не страшно. А вообще-то, Федя, сделай доброе дело — выстрели в меня!” Я ему отвечаю: “Не сходи с ума!”. Он опять свое: “Я не дойду, ты не дотащишь. Лучше выстрели, потому что я уже был у этих гадов в лагере. Больше не хочу!” Естественно, я не мог в него выстрелить… И тогда Степан сказал: “Оставь мне запасной диск для автомата и пару гранат, а сам бери портфель, отходи к нашим”. Я стал с ним спорить, но он крикнул: “Я тебе приказываю, сукин сын, уходи! Этот портфель, может, важнее, чем мы оба с тобой. В нем же документы!” И я, плача, как мальчишка, ушел. Вот и вся история. В портфеле действительно оказались серьезные документы. Из них нам стало известно, что немцы готовят против нас большую карательную экспедицию. В тот же день мы снялись с места. А Степан Орешный посмертно был представлен к ордену Красного Знамени…
— Федор Борисович, — спросил я, — а Никита знал об этой истории? Вы рассказывали ему?
— Я много рассказывал ему о своей партизанском жизни. Но подробно?.. Пожалуй, нет. Извините, Дмитрии Васильевич, я тоже хочу спросить у вас. Откуда у вас эта фотография?
— Дело в том, — медленно произнес я, — что в ту ночь Степан Матвеевич Орешный остался живым…
— Степан жив?! — воскликнул Гладышев. — Где он? У вас есть его адрес?
— Да, есть, — ответил я. — Но шестого мая Орешный умер. К сожалению, мне не удалось с ним встретиться и поговорить. Однако с ним разговаривал ваш сын, Федор Борисович.
— Теперь я все понимаю, — тихо произнес Гладышев. — Никита случайно встретился с ним, увидел эту фотографию…
— Вероятно, так оно и было, — кивнул я, — Никита приехал в Трехозерск в поисках родственников погибшего солдата. Они жили в доме Орешного. Никита познакомился с ним, очевидно, узнал эту историю. Я думаю, что он не сказал Степану Матвеевичу о том, что…
— Что партизан, стоящий рядом с Орешным, я? — криво усмехнулся Гладышев. — Понимаю… Никита решил, что я предал Степана, струсил. Но я не струсил, нет… Я могу дать слово коммуниста, что никогда бы не оставил Степана Орешного, не окажись этого портфеля…
— Скажите, Федор Борисович, — перебил я, — Никита знал о том, как вас спасла медсестра Валентина Федорова? Спасла и погибла…
— Знал! — Гладышев отвернулся. Когда он опять взглянул на меня, в глазах у него стояли слезы. — И сравнение оказалось не в мою пользу. Поэтому он написал Наташе, что я ничтожество… Что ж… — Он глубоко вздохнул. — Я сам учил Никиту быть бескомпромиссный и принципиальным во всем. Однако мне казалось, что я для него друг, которому приходят со своими сомнениями. А он не дождался меня, не пришел. Ничего не спросил, не обвинил, наконец, вслух. Он молча… А я в один миг лишился его доверия. Значит, своей смертью Никита вынес мне приговор, Дмитрий Васильевич?
— Я полагаю, вы ошибаетесь в этом, Федор Борисович. Письмо сестре он отправил до четырнадцатого мая, не так ли?
— Да, но какое это имеет значение?
— Серьезное значение. Да, Никита погиб. И его не вернешь Но и как он погиб, я думаю, имеет значение. И для вас с Екатериной Ивановной, и для его товарищей в классе, и для меня, следователя. Так вот, Федор Борисович, я убежден, что ваш сын не кончил жизнь самоубийством…
И я рассказал ему о своей встрече с учителем Морозовым. Прощаясь с Гладышевым, я сказал, что буду квалифицировать гибель Никиты как несчастный случай.
23 мая 1978 года, вторник, 19 часов
…Вечером, возвращаясь после работы домой, я вдруг подумал о семье Никиты Гладышева, пожалуй, больше о нем.
А имел ли он, шестнадцатилетний юнец, право обвинять своего отца? Что мы знаем о войне, мы, не нюхавшие пороха? Какое право имеем судить о ней так же, как наши отцы и деды, у которых свой счет? Это они имеют право судить и предъявлять счет. Потому что воевали и пережили. Они, а не мы, знающие войну по книгам, фильмам и спектаклям.
Отец Никиты Гладышева поступил как солдат. Оказавшийся случайно в его руках портфель с важными вражескими документам отнял у бойца Гладышева право остаться рядом с тяжелораненым другом, ибо в этом портфеле была спрятана смерть многих людей. Война — эта не игра в “казаки–разбойники”. В войну военные люди принадлежат не себе, а своему воинскому долгу…
…Я открыл дверь и вошел в квартиру, повесил плащ в шкаф и хотел было уже пройти в столовую, когда неожиданно услышал громкий, какой-то истеричный голос Галки. Она с кем-то разговаривала по телефону. То, что я услышал заставило меня замереть телеграфным столбом.
— Запомни, — доносился голос дочери, — я не хочу больше знать тебя и слышать о тебе! Не смей меня преследовать. Не смей приходить к нам. Ясно? Ясно? Не смей поджидать меня у школы. Ты гадина, жаба! Ты мне омерзителен и ненавистен!
Я стоял, ошеломленный услышанным. Я никогда не мог предположить, что наша Галка в состоянии таить в себе столько ненависти к кому-либо.
В этот момент дверь из столовой открылась, и Галка вся в слезах вышла навстречу.
— Ты все слышал? — дрожащим голосом спросила она, кажется не удивившись тому обстоятельству, что я стою в коридоре.
— Да. — Я не мог лгать ей. — С кем ты так разговаривала?
— С ним…
— С Валерием?! — изумленно спросил я, только теперь по-настоящему осознав, что между ними действительно произошло нечто серьезное.
— Папка, милый, все… понимаешь… с ним… у меня… ненавижу его… презираю…
— Ну и ладно. — Я ласково прижал ее голову к своей груди. — Все так все. Ты вступаешь в жизнь, дочь. Еще разное будет в ней. А сейчас успокойся и забудь…
— Нет! Нет! — крикнула она и вырвалась из мот рук. — Ничего не могу забыть. Хотела забыть. И не могу… Сначала я думала, что его спокойствие — огромное достоинство. Настоящий мужчина, думала я, должен быть спокоен, как же иначе… Лев — царь зверей! А тогда… тогда я поняла, что это его спокойствие — или полное равнодушие, или элементарная трусость… Еще неизвестно, что хуже!.. А их было-то всего двое! И он… спокойно смотрел, как они меня хватают и хохочут… Кажется, он даже заискивающе улыбался. А потом… потом, когда подскочил этот парень… Они же все трусы… Помнишь, ты говорил, что хулиганы — трусы?..
— Помню, доченька, помню, но ты успокойся!
— Да, папа теперь я убедилась, что ты прав. Конечно же, они трусы!.. Я убежала, а он даже не бросился за мной. Представляешь? Он спокойно пошел в другую сторону… Понимаешь?
— Ну-ка, давай, Галина, с самого начала, — вдруг спокойно сказал я. — Попробуем вместе разобраться. И перестань, пожалуйста, плакать!
— Хорошо… Я не буду плакать. Я никогда больше не буду плакать, папа. Обещаю тебе.
— Пойдем в комнату, чего мы тут застряли.
Мы прошли в столовую и сели рядом на диван.
— Мы с ним, — стала рассказывать Галка, — были в кино в воскресенье, четырнадцатого. Помнишь, ты принес два билета на французский фильм, в Клуб моряков?
— Помню, — кивнул я, настораживаясь едва услышал слова: “…в воскресенье, четырнадцатого”.
— После кино он предложил погулять у моря…
— Ну?!
— Что с тобой, папа? — Галка испуганно смотрела на меня. — Ты даже побледнел.
— Погоди, Галка, — хрипло сказал я. — Теперь я буду рассказывать!
— Ты-ы? — изумленно протянула она.
— Вы оказались в порту, да? Вернее, в районе порта?
— Да. А откуда ты знаешь?
— И вы пришли на разрушенный причал?
— Ага. Но начало штормить, и я сказала Валерке, что пора домой. А в это время подошли двое его приятелей. Валерка сказал, что один учится в институте, а другой работает. И они начали вышучивать его по какому-то поводу. Потом один из них сказал: “Что же ты, Валерик, молчал, что у тебя такая красотка имеется?” И обнял меня. Я оттолкнула его, а другой подскочил ко мне сзади и крикнул: “Стой смирненько, малышка, а то в Черном море в штормик искупаешься!”
— И что же Валерий?! — Я почувствовал, как меня начинает колотить озноб, едва представил, как эти хулиганы издеваются над моей дочерью.
— Один раз он пролепетал заискивающе: “Не надо, ребята, нам пора домой”. Они захохотали, а один из них — с золотой коронкой во рту — крикнул: “Ах, домой? Может, время манную кашку кушать? Заткнись, не то вниз пойдешь, вон волна катит!“” А другой говорит мне: “Брось ты его, крошка, видишь, какой он! Пойдем лучше с нами, потанцуем. У нас весело будет, у нас таких малышек много…” Я закричала, а они хохочут. Внезапно, откуда ни возьмись выскочил какой-то парень в клетчатом пиджаке. И как одному врежет, тот сразу и упал. Я воспользовалась моментом и побежала. Только я видела, что Валерка в другую сторону бросился… Папа, он подонок. Теперь я это точно знаю! И не уговаривай меня мириться с ним, иначе я перестану тебя уважать, так и знай, папка!
— Хорошо! Хорошо! — поспешно сказал я. — В котором часу это было?
— Что-то около девяти, может, меньше. Понимаешь, я хотела найти какого-нибудь милиционера, но никого не было… Ну, я и пошла домой.
— Скажи, как мне найти этих… приятелей Валерия или знакомых его?
— Не знаю, — пожала плечами Галка. — Да ладно, не обращай внимания. Я теперь сама умнее буду.
— Понимаешь, Галка, мне необходимо найти их!
— Да? Что ж, тогда позвони… этому типу. Он их знает.
— Ты права. А еще лучше будет, если я немедленно к нему поеду.
— Но не смей, — строго проговорила Галка, — брать на себя миссию адвоката!
— Обещаю! — серьезно ответил я.
Я поехал к Михайловым.
…Дверь открыл Владимир Львович, отец Валерия.
— Ты? — уставился он на меня торопливо застегивая на груди куртку пижамы.
— Валерий дома? — вместо приветствия спросил я.
— Дома, — оторопело ответил мой друг. — Слушай, Дмитрий, а чего там у них стряслось, между Галкой и Валеркой? Он все дни ходит, как сыч, надутый. И молчит…
— А-а! —отмахнулся я. — Стряслось… Ладно, я к нему пройду. Мне с ним вдвоем надо поговорить. Не мешай нам.
— Пожалуйста! — обиделся Владимир Львович. — Мог бы и мне сказать.
— Ничего я тебе не собираюсь говорить! — вспылил я, видимо, все-таки нуждаясь в разрядке.
Он ошарашенно посмотрел на меня, потом крикнул:
— Валерий, тебе пришел Дмитрий Васильевич!..
Валерий Михайлов почти слово в слово повторил рассказ Галки. С тем лишь исключением, что роли их в той истории существенно поменялись местами. По его словам, хихикала Галка, а он-то как раз и “защищал ее честь”. И, мол, если она такая недоразвитая и ничего не поняла, то он ей навязываться в друзья не собирается. Что же касается парня в клетчатом пиджаке, который налетел на его знакомых… Кто знакомые? Вадим Бекетов, он учится на третьем курсе Политехнического института, и Олег Расько, работающий в порту. Так вот, что касается этого парня в клетчатом пиджаке, то его никто не просил лезть. Впрочем, он, Валерий Михайлов, ничего не видел, ну, в смысл того, что там у них произошло, потому что сам ушел, как только Галка убежала.
Я достал фотографию Никиты Гладышева и показал ее Валерию Михайлову. Он подтвердил, что это и есть тот парень в клетчатом пиджаке.
Я попросил Валерия назвать мне адреса Бекетова и Расько. Оказалось, что он не знает точно их адресов, смог указать лишь улицу, на которой они живут. Однако это уже не имело для меня большого значения. Я знал, что один учится в Политехническом институте, а другой работает в порту.
На следующий день Вадим Бекетов и Олег Расько были задержаны…
Я так часто в последние дни думал и говорил об истине, что это слово начало меня немного пугать. Но на этот раз — после задержания и допросов Бекетова и Расько — истина, разгадка тайны смерти Никиты Гладышева нашла свое полное подтверждение.
Убийства не было. Как и самоубийства. Да, произошел несчастный случай, в результате которого погиб смелый, сильный юноша, красиво и уверенно входивший в большую жизнь.
Был несчастный случай, но не случайностью оказалось, то что он, Никита Гладышев, не раздумывая бросился на помощь незнакомой девушке, которую оскорбляли два подвыпивших мерзавца. Это было в его характере. Однажды он уже приходил на помощь — Мише Торопову, своему однокласснику.
Мне захотелось прийти к классному руководителю 9-го класса “Б” Елизавете Павловне Ромашиной, слишком рано уставшей молодой женщине, и сказать ей: “Как же непростительно вы заблуждаетесь, полагая, что Никита Гладышев был холодным, бесстрастным человеком! В нем билось горячее сердце, отзывчивое к чужим болям и страданиям. И еще — к справедливости. Вот почему он презирал вас, Елизавета Павловна. Тут уж ничего не поделаешь, ибо вы разменяли себя в его глазах. Впрочем, меня, следователя прокуратуры Красикова, ваша личная жизнь. как вы догадываетесь, не интересует!..”
Нелепая, но и героическая смерть… После того, как Никита сбил с ног Расько, он бросился на Бекетова. Однако тот увернулся, и Никита, поскользнувшись на мокром причале, да еще к тому же сбитый с ног сильным порывом ветра, упал в воду и запутался в ржавых железках Он ведь и плавал плохо…
А два подонка — Бекетов и Расько — вместо того чтобы прийти к нему на помощь или позвать кого-нибудь, трусливо убежали. И все последующие дни отсиживались в мерзопакостной своей надежде, что никто ничего не узнает, что истина не восторжествует.
Следствие по делу о смерти Никиты Гладышева я закончил. Что же касается Бекетова и Расько… Здесь оказалась причастной моя дочь. Как жертва. Я не имею ни морального, ни юридического права заниматься этим делом. Разумеется, Бекетов и Расько не могут быть обвинены в убийстве, ибо произошел несчастный случай. Вряд ли их привлекут к ответственности по статье 127 Уголовного кодекса РСФСР — оставление в опасности. (Хотя Бекетов и Расько, конечно же, оставили Никиту Гладышева в опасности!) Почему? Да потому, что обязательным признаком для привлечении к ответственности по этой статье является неоказание помощи потерпевшему виновный без серьезном опасности для себя или других лиц. В данном же случае штормовая погода как раз такую опасность для Бекетова и Расько не исключала.
Но их могут судить за хулиганские действия по отношению к “гражданке Красиковой Галине Дмитриевне”. Тут уж как решит следствие, а потом как рассудит суд.
Ну, а что я могу сказать о Валерии Михайлове? По-моему, все уже сказала Галка. Мне добавить нечего…
Вот так закончилось расследование дела о смерти Никиты Федоровича Гладышева, учащегося 9-о класса “Б” школы № 47, комсомольца, вожака школьных “красных следопытов”.
“Смена”, №№ 1–4, 1982 год.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


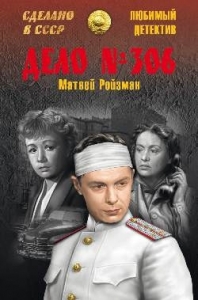

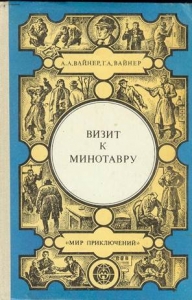

Комментарии к книге «Сапожников Леонид, Степанидин Георгий - Три версии», Буркатовский
Всего 0 комментариев