Богомил Райнов ТАЙФУНЫ С ЛАСКОВЫМИ ИМЕНАМИ
1
Вид поистине грандиозный: с четырех сторон долины крутыми диагоналями устремляются в небо снежные вершины, а между ними медленно течет и стелется серая мгла, словно неторопливые смутные мысли горного исполина. В самом низу, в этом хаосе скалистых круч, приютился город.
И будь у нас желание сделать тот единственный шаг, что отделяет великое от смешного, нам бы следовало добавить, что в центре этого небольшого города, на совсем маленькой улочке, в маленьком кафе приютился за маленьким столиком близ витрины некий человечек средних лет, пылинка средь необъятности этого альпийского пейзажа, — ваш покорный слуга Эмиль Боев.
Впрочем, в данный момент по соображениям гигиены я лучше буду именовать себя Пьером Лораном. Всего час назад под этим именем я перешел границу у Симплона. Под этим именем я намерен следовать дальше по этой живописной стране, которая не знает войн, зато отлично знает секреты международного туризма и издавна славится обилием горных цепей, часовых заводов и шпионов всевозможных национальностей.
Я заканчиваю обед, распределяя внимание между пирогом с абрикосами и стоящим у противоположного тротуара черным «вольво». В новом, весьма стандартном «вольво», которое, отметим для ясности, принадлежит мне, нет ничего примечательного. Тем не менее, лениво поглощая десерт, я то и дело поглядываю на него, потому что теоретически вовсе не исключено, что какой-нибудь прохожий, нагнувшись якобы для того, чтобы завязать шнурок ботинка, уже сейчас присобачит к днищу миниатюрное подслушивающее устройство, просто так, чтобы посмотреть, что получится. Сомнений быть не может: в ближайшие дни или недели это неизбежно, но нельзя же допустить, чтоб оно сопровождало меня с самого начала. К тому же сегодня мне предстоит серьезный разговор.
К моему столику приближается хозяйка заведения, уже немолодая дама, которая, судя по всему, неустанно заботится о своей внешности.
— Вам нравится обед?
После того как я оставил позади две тысячи километров и выкурил двести сигарет, мне трудно оценить здешнюю кухню, однако я говорю:
— Благодарю вас, все прекрасно.
Дама удаляется с довольным видом, а я дивлюсь этой аномалии — добрым старым, традициям, которые все еще бытуют в этой стране. Здесь пока не следуют новаторскому примеру Парижа, где никого не интересует, что тебе нравится, а что — нет, куда бы ни пришел, ты прождешь битых полчаса, пока закажешь бифштекс, и еще столько же, чтобы заплатить за него.
Неторопливо допив кофе, я отвожу глаза от «вольво», чтобы взглянуть на часы. Затем достаю из кармана географическую карту, и какое-то время меня в одинаковой мере занимает и сеть швейцарских шоссейных дорог, и стоящий на улице автомобиль. В сущности, моя зоркость — чисто профессиональный педантизм. В этот послеобеденный час и в эту сырую ветреную погоду улочка почти пуста.
Большая и малая стрелки часов образовали между цифрами двенадцать и три прямой угол, когда я наконец расплачиваюсь и встаю. Сев за руль «вольво», трогаюсь не спеша и, выехав на окраину города, сворачиваю на Сион.
Два-три плавных изгиба дороги, и позади остается Бриг. По одну сторону асфальта перемещаются громады пепельно-серых скал, а по другую зияет бездна широкого ущелья, на дне которого уже затаилась послеполуденная мгла. Машин на дороге немного: туристский сезон закончился. Всем, кто торопится, я охотно уступаю дорогу, так как мне самому торопиться нет нужды. Для меня сейчас главное — внимательно посматривать в зеркало заднего вида. Судя по всему, я пока что передвигаюсь без сопровождения.
Три часа пятьдесят минут. Вдали, справа от дороги, появляется большой бело-голубой указатель:
СИОН, 5 км.
В нескольких шагах от указателя остановился серый «опель». Но человек, протирающий заднее стекло машины, курит сигарету. А Белев некурящий.
Оставляю в стороне курящего некурильщика, не увеличивая и не сбавляя скорости, и, въехав в Сион, останавливаюсь возле первого попавшегося придорожного заведения. Пока я, лениво разглядывая улицу, утоляю несуществующую жажду стаканом «синалко», мимо кафе проносится на пределе дозволенной скорости серый «опель». Однако Белев, чтобы щегольнуть передо мной своей роскошной спортивной рубашкой в клетку, снял пиджак. А в такой прохладный день — уже конец октября — это по меньшей мере странно. Задержавшись еще на четверть часа, я тоже еду дальше. Стали спускаться сумерки, когда справа обозначился указатель:
МОНТРЕ, 5 км.
Под указателем стоит серый «опель». На сей раз Белев поднял капот и копается в двигателе — значит, без аварии не обошлось. Хотя мотор, возможно, тут ни при чем. Еду дальше, не меняя скорости, и вот я в Монтре. Ставлю машину перед бистро на главной улице, а сам устраиваюсь за столиком возле витрины. В этот час ярко освещенная люминесцентом улица весьма оживленна. Возвращаясь с работы, люди торопятся прикупить чего-нибудь, чтобы вовремя поспеть домой, поужинать и усесться перед телевизором, прежде чем начнется очередная часть многосерийного телефильма «Черное досье». Пока мы тут то съезжаемся бессмысленно, то разъезжаемся, люди следуют привычному ритму жизни.
Серый «опель» появляется в поле зрения и исчезает. Белеву, как видно, опять стало жарко. Опять он в яркой клетчатой рубашке.
Я оставляю на столике монеты соответственно выпитому кофе и немного спустя снова сажусь за руль. Особенно не нажимая на газ, еду по шоссе, освещенному фонарями, — их нездоровый желтый свет навевает чувство мировой скорби. Устало гляжу на убегающую ленту асфальта и уже без всяких иллюзий жду появление указателя:
ЛОЗАННА
Но, прежде чем появиться указателю, передо мной возникает нечто совсем другое: за одним из поворотов неожиданно образовался затор, а впереди стоящих машин под яркими лучами фар снуют люди, словно ночные насекомые.
Выскочив из «вольво», я тоже отправляюсь туда в роли невинного зеваки. Какой-то старый «ситроен», обгоняя «опель», хотел прижать его к бровке. Но «опель», видимо, не принял правил игры, и «ситроен», вместо того чтобы отстраниться, с ходу врезался в него. Как раз в тот момент, когда я подхожу к месту происшествия, санитары уносят к машине «скорой помощи» лежащего на носилках человека. Человека в яркой клетчатой рубашке с залитым кровью лицом.
— Вы не видели водителя «ситроена»? — недоверчиво спрашивает полицейский, увенчанный белой каской мотоциклиста.
— Что вы, как я мог его видеть? — отвечает молодой человек с темными косматыми бакенбардами — по всей вероятности, непосредственный свидетель несчастного случая. — Когда я подъехал, в «ситроене» никого не было.
— Так нахально врезаться… — восклицает какая-то пожилая женщина. — Ведь это же преднамеренное убийство!
— Убийство или самоубийство, не твое дело! — одергивает ее супруг и торопливо уводит к выстроившимся на дороге машинам. — Для этого существует полиция.
Полиция в самом деле налицо, так что все идет своим чередом Место происшествия огораживается, поток скопившихся машин направлен в объезд, и я, уже сидя за рулем «вольво», проезжаю мимо разбившихся в лепешку автомашин и устремляюсь к Лозанне.
Сделав остановку перед вокзалом, я захожу в бар отеля «Терминюс». Совершенно машинально заказываю бифштекс, даже не соображая, что сейчас вряд ли смогу есть. В эту минуту Белев, наверно, корчится в агонии, если агония не осталась для него позади. И здесь замысел, с такой тщательностью выношенный, полностью и окончательно провалился.
Строго говоря, сейчас все мое внимание должно быть сосредоточено именно на этом. Но в отличие от моего приятеля Любо я так до сих пор и не привык смотреть на вещи сугубо профессионально. И как я ни стараюсь начать с главного и закончить тем, что в данный момент является для меня главным, моя мысль то и дело ускользает к человеку в клетчатой рубашке, распростертому на носилках, с залитым кровью лицом.
Плачу по счету. Бифштекс остается на столе почти нетронутым.
— Вам не понравился бифштекс? — сочувственно спрашивает кельнер. — Наверное, вы любите не такой кровавый?
— Наоборот, мне по вкусу еще более кровавый, — говорю в ответ. — Но у меня дьявольски болит зуб.
Еще более кровавый… Пересекаю улицу и вхожу в здание вокзала. Юркнув в одну из телефонных кабин, начинаю листать справочник. Пострадавший, должно быть, в городской больнице. Набираю номер, спрашиваю.
— Да, верно… Доставлен час назад, — сообщает после короткой паузы дежурный.
— Могу ли я его видеть?
— В такой поздний час? Это исключено, — слышится ответ, которого и следовало ожидать.
— Но вы хоть скажите, в каком он состоянии!
— Минуточку…
«Минуточка» длится так долго, что я уже начинаю сомневаться, стоит ли держать трубку. Наконец слышится голос дежурного:
— Можете не волноваться, его жизнь вне опасности.
— А нельзя ли более конкретно…
Однако в этот момент на другом конце провода трубка, очевидно, переходит к другому человеку, потому что меняется тембр голоса, а интонация слегка напоминает речь полицейского.
— Кто у телефона?
— Это его знакомый, мосье Робер. Скажите ему, что мосье Робер и Дора хотят его видеть. И кладу трубку.
Часом позже я в Женеве. Останавливаюсь в отеле «Де ла пе». Под окном моего номера тянется ярко освещенная набережная с длинной шеренгой голых деревьев: их так безбожно обкорнали, что теперь они больше похожи на мертвые пни, не внушающие ни малейшей надежды на весеннее пробуждение. А за деревьями — черные воды озера. Воды, которые не видишь, а только угадываешь, ограждены вдали отражениями электрических огней противоположного берега. Глядя на пустую полосу асфальта, по которой лишь изредка с легким шуршанием проносятся машины, я внезапно сознаю, что вся эта картина мне хорошо знакома и даже привычна. И только теперь я вспоминаю, что всего несколько лет назад мне довелось жить в этом самом месте или совсем рядом — в соседнем отеле «Регина». И видится что-то абсурдное в том, что я только сейчас вспоминаю подробности той истории (свою первую встречу с Эдит в двух шагах отсюда, как мы впервые с нею обедали в ресторане «Регина»), в том, что прошлое ожило перед моими глазами лишь сейчас, после того как я побывал внизу, в регистратуре, поселился в этом номере, надел пижаму, после того как столько времени глазел в окно. Забыть незабываемое! Разве это не абсурд? Абсурд, конечно, но, быть может, это на пользу здоровью, потому что, если бы пережитое не сглаживалось в памяти, не исчезало хотя бы на время, голова наверняка давно бы уже треснула от избытка мыслей.
Эдит. И скверная погода. Эдит, ее давно уже нет, зато ненастье все еще налицо, что верно, то верно, и никаких признаков потепления. Сейчас не Эдит должна меня занимать, а Дора. Только Дора на нашем условном языке, моем и Белева, не Дора, а Центр. И мое послание, переданное по телефону, означает: «Смывайся при первой возможности — и домой».
— Ну так как же, по-вашему, могли бы мы распутать эту историю? — спрашивает генерал после того, как мы с Бориславом устраиваемся в темно-зеленых креслах под темно-зеленым фикусом.
— Пускай ее распутывает тот, кто запутал, — бормочет Борислав, поглядывая на пачку сигарет, неизвестно как оказавшуюся у меня в руке.
— Ты так считаешь? — поднимает брови генерал, но в его голубых глазах, просто-таки неприлично голубых для генерала, таится не раздражение, а сдерживаемый смех. — А я хотел было послать тебя, чтоб распутывал ты. Тебя и Боева.
В это время он замечает пачку сигарет в моей руке, а затем и голодный взгляд Борислава.
— Курите, курите. И пока будете курить, поделитесь своими мыслями, как бы вы поступили, если бы мы действительно поставили перед вами эту задачу.
В сущности, эта история началась с того, с чего начиналось немало других подобных историй. На первый взгляд каждая из них не стоит выеденного яйца, однако если присмотреться поближе, то подчас даже самая пустяковая деталь заставляет серьезно призадуматься.
Гражданина Караджова, инженера одного из промышленных предприятий, посылают в командировку в Мюнхен. Это не первая его командировка, но, так как прежние поездки вызвали некоторые неприятные сигналы, за Караджовым в целях предосторожности было установлено наблюдение. Так вот, в Мюнхене спутник инженера слышит его телефонный разговор с неким Горановым — они договариваются о встрече. Чтобы не привлечь к себе внимания, спутник вынужден следить за Караджовым с солидного расстояния, и когда он достигает места встречи (кафе, названия которого не помню, стоящего на площади, а на какой — тоже затрудняюсь сказать), то оказывается, что там уже никого нет. Зато потом спутник без всякого труда устанавливает, что после упомянутой встречи Караджов позволяет себе совершить ряд покупок, общая стоимость которых далеко превосходит скромные возможности человека, находящегося в командировке.
Неудивительно, что по возвращении Караджова на родину его вызывают для объяснений. Объяснения в общих чертах сводятся к следующему:
— Кто такой Горанов?
— Известный софийский коммерсант, промышлявший до Девятого сентября.
— Кем он вам приходится?
— Старый друг моего отца.
— Получали ли вы от Горанова деньги?
— Получил ничтожную сумму.
— За что?
— Просто так, он мне их дал по старой дружбе.
Однако проверка ставит под сомнение некоторые его утверждения, особенно одно из них. Если даже оставить в стороне модные тряпки, предназначенные для подарков, одни лишь золотые часы, купленные Караджовым, драгоценные украшения для его супруги и «лейка» для сына составляют по рыночным ценам около десяти тысяч марок. Сумма, конечно, не фантастическая, но и не такая уж пустяковая, чтобы Горанов мог выбросить ее на ветер только из любви к покойным родителям инженера.
Так что Караджов снова попадает под беглый огонь перекрестных допросов и, убедившись, что сухим из воды ему не выбраться, приходит ко второй фазе своих признаний. Вот некоторые из них:
— Сколько раз вы встречались с Горановым?
— Три.
— Где?
— Два раза в Мюнхене и один в Кельне.
— Какие сведения требовал от вас Горанов?
— Самые разные. Главным образом экономического характера.
— Точнее?
— О мощности отдельных промышленных предприятий… о том, насколько они связаны с программами СЭВ… о некоторых экономических трудностях.
— Ставил ли он перед вами конкретные задачи?
— Да.
— Какие суммы он вам выплачивал?
— Всего я получил от него тридцать пять тысяч марок.
— Как вы устанавливали связь с Горановым?
— Приехав в определенный город, я посылал ему письмо.
— По какому адресу?
— По адресу фирмы «Липс и Кo », Лозанна, до востребования.
— Как вы собирали нужные вам сведения?
— Тут меня выручали связи.
— Какие связи?
— Какие… Разве в наше время у человека мало знакомых?
И прочее, и прочее.
Разумеется, среди множества других вопросов особую важность приобретает то, с кем именно из наших граждан поддерживал подобные контакты Горанов, Но на это Караджов, естественно, не мог ответить. Ответ предстоит искать нам. Однако для этого нам нужно добраться до самого Горанова.
Караджову было предложено написать очередное письмо в адрес «Липс и Кo », в письме рекомендовать Горанову своего коллегу Цанева как вполне надежного и заслуживающего внимания человека, а также предложить место и время их встречи и назвать пароль. Цанев (который был, разумеется, коллегой не Караджова, а нашим) должен был поехать в Мюнхен, послать оттуда письмо и дожидаться встречи.
Встреча состоялась, не помню, в каком кафе, находящемся на площади — опять-таки затрудняюсь сказать, на какой именно, — но в ходе ее возникло два новых момента, которые в сильной мере усложняли ситуацию.
Прежде всего оказалось, что лицо человека, явившегося от имени «Липс и Кo », не имеет ничего общего с фотографией Горанова, которой мы располагали и с которой был ознакомлен Цанев. Верно, снимок был более чем тридцатилетней давности, а за тридцать с чем-то лет человек основательно меняется. Основательно, но не как угодно. Он может, к примеру, сделаться чуть более приземистым — но не может стать выше ростом; волосы его могут заметно поредеть — но пышной шевелюре на его плешивой голове уж никак не вырасти; наконец, у него может притупиться зрение — однако цвет глаз остается прежним. А тут вместо низкорослого, полного, кареглазого, изрядно оплешивевшего Горанова на встречу явился худой, высокий, сероглазый мужчина с довольно пышными, хотя и изрядно поседевшими волосами. И этот мужчина выдал себя за Андрея Горанова, некогда известного на всю Софию богача. А у Цанева не было ни подходящих причин, ни инструкции, чтобы подняться со своего места и решительно заявить: «Ступайте-ка лучше ко всем чертям, никакой вы не Горанов».
Другой новый момент выразился в том, что, хотя Горанов терпеливо выслушал нашего человека и до конца держался вежливо, он все же проявил недоверие к коллеге Караджова, не стал задавать ему никаких вопросов, не предложил никаких услуг и всем своим поведением как бы говорил: «Ну, что же тебе от меня нужно?»
Так что, хотя встреча и состоялась, прошла она с нулевым результатом, если не со счетом один — ноль в пользу противника. Однако, желая сравнять счет, Цанев с решительностью человека, которому больше терять нечего, пустился выслеживать Горанова и, несмотря на все его предосторожности, добрался у него на хвосте до самого Берна и даже до его дома, на двери которого, к своему удивлению, обнаружил табличку:
АНДРЕ ГОРАНОФ.
После чего сел в Цюрихе на самолет и явился к генералу с докладом.
Известно, ловкость необходима во всяком деле. Даже для того, чтобы расколоть орех. Если, желая расколоть, ты его раздавил, тебе приходится извлекать ядро крошку за крошкой. Так вышло и в нашем случае. Кто-то шибанул с размаху, и теперь приходится извлекать содержимое этой истории по крошке, чтобы восстановить все, как оно есть. Только когда выбираешь крошки расколотого ореха, хорошо знаешь, как выглядело ядрышко, а вот как выглядела определенная история, прежде чем ее «раздавили», никто заранее не может знать, и восстанавливать ее — дело нелегкое и весьма кропотливое. Тем более что некоторые ее элементы могли быть раз и навсегда утеряны.
Одним из таких элементов мог быть и Андрей Горанов: по крайней мере в данный момент мы ничего не знали о нем. Разумеется, в целях проверки был проделан необходимый эксперимент с Караджовым. Цанев сумел, хотя и не совсем удачно, сфотографировать человека, с которым встречался в Мюнхене. Была переснята и фотография Горанова, которой мы располагали. Смешав эти снимки со множеством других, мы привели Караджова и предложили ему показать своего знакомого по загранкомандировкам.
— Вот он. — Караджов не колеблясь ткнул пальцем в снимок, сделанный Цаневым.
— А это кто? — спросил следователь, указывая на холеную физиономию настоящего Горанова.
— Понятия не имею.
— И этот самый человек знаком тебе с молодых лет как Андрей Горанов, друг твоего отца? — настаивал следователь, держа в руке снимок, сделанный Цаневым.
— Он самый, конечно, — подтвердил Караджов. — Хотя он заметно состарился.
Показание прозвучало достаточно искренне. Но гораздо важнее было другое: инженер увяз в этом деле по уши, и не имело особого значения, Горанову давал он шпионские сведения или кому-нибудь другому. Разве что…
Да, разве что… Впрочем, тут начинается область самых смутных догадок, которые практически в данной ситуации ничего изменить не могут.
Караджов не смог дать вразумительного ответа и на другой вопрос — почему Горанов отнесся к Цаневу с такой осторожностью. Он уверял, что письмо было написано в совершенно определенном стиле, и это, вероятно, была правда, иначе представитель «Липс и Кo » едва ли явился бы на свидание. Видимо, была допущена какая-то промашка в ходе встречи: может, Цанев допустил ошибку, сам того не подозревая? Может, следовало произнести пароль или сделать условный знак при появлении незнакомца? Однако в этом вопросе Караджов был предельно категоричен: ни в одном случае пароль предусмотрен не был.
Так или иначе, результат был налицо. Один — ноль в пользу противника или ноль — ноль черту на потеху. Вместо того чтобы раскрыть историю, ее «раздавили», и теперь приходится все начинать сначала. Эх, в том-то и дело, что не сначала. Куда труднее вытащить репу, у которой по неловкости оторвали ботву.
Примерно в таком смысле повел свои рассуждения Борислав, раскуривая в тени экзотического фикуса ароматную сигарету. Что же касается генерала, то ему сейчас не до общих рассуждений.
— Оставь это! Скажи лучше, где, по-твоему, коренится ошибка и как нам быть дальше.
— Ошибок могло быть десяток… — роняет Борислав.
— Ошибка была одна-единственная, — обрываю я его. — Письмо.
— Что значит «письмо»? — поднимает брови генерал.
— Затея с письмом — чистейшая авантюра. Будь оно действительным, провоз его через границу также был бы авантюрой. Хитрая лиса — вроде этого так называемого Горанова — ни за что бы не поверила, что Караджов поставит на карту собственную судьбу, отдав подобное письмо в чужие руки. Потому что прежние письма он писал за границей, на месте, без малейшего риска.
— Возможно, ты прав, — тихо замечает шеф. — Хотя в письме не было ничего такого, что дало бы сейчас повод сотрясать воздух громкими словами вроде «судьба», «авантюра». Ты прекрасно знаешь: в этом отношении были предельно внимательно взвешены все «за» и «против». Помимо всего прочего, это была единственная возможность.
Верно, конечно. Ведь прежде, чем созрело решение послать Цанева, другой наш сотрудник был направлен в Лозанну — изучить характер «Липс и Кo ». Этот человек убил целых шесть месяцев на поистине жалкое открытие: что фирмы под названием «Липс и Кo » нет вообще, но под таким названием существует почтовое отделение, где должны вручаться письма до востребования, только никто и никогда им не пользуется.
Может, Караджов был для Горанова единственным (хоть и весьма ненадежным) связующим звеном, и у него Горанов черпал при случае кое-какие сведения, чтобы потом передавать кому-то другому? Будь это так, вся эта история подлежала бы отправке туда, где ей место, — в архив. Но так ли оно на самом деле? Поскольку невозможно было иным способом выяснить этот вопрос, созрело решение послать в Мюнхен Цанева.
— Была все-таки другая возможность, — отозвался Борислав с присущим ему упорством. — Ждать. Вы сами говорили, что в иных случаях предпочтительней всего — ждать.
— Ждать у моря погоды? — возражает шеф. — Ведь ожидание должно чем-то оправдываться! Что это за агент, который полгода не пользуется услугами своего почтового отделения? И разве это не дает оснований заподозрить, что у настоящего, действующего агента, пользующегося услугами различных информаторов, не один-единственный пункт связи? И что «Липс и Кo » больше никогда не будет использовано, раз Караджов в наших руках.
Какое-то время мы продолжаем спорить о характере ошибки, поскольку Борислав не может не возражать, а генерал любит, когда разгорается спор: он вообще убежден, что только в споре рождаются светлые идеи.
— Ну, братцы, вы совсем задымили комнату, — замечает шеф. — Разреши вам курить — и вы не остановитесь, пока не опустеет вся пачка.
Затем, слегка прищурив голубые глаза, словно бы изучая нас задумчивым взглядом, с хитринкой спрашивает:
— Ну, так кого мне послать из вас двоих? Тебя или Борислава?
Никто из нас не клюет на эту приманку. Мы-то знаем: это у генерала любимая фраза. За ней последуют и другие, произносимые обычно одним и тем же тоном:
«Нет, исключается. Вам еще предстоит подлечиться за канцелярскими столами. Что я могу поделать, коль вы меченые».
И вот мы «лечимся». От такого лечения волком завоешь. И если случается, что шеф спросит: «Кого из вас послать?» — мы делаем вид, что лично нас этот вопрос не касается. Пускай себе шутит человек.
Только сегодня он как будто утратил вкус к юмору, потому что я вдруг слышу:
— Предлагаю ехать Боеву.
Борислав с улыбкой посматривает на меня — с улыбкой несколько меланхоличной. Не только оттого, что он остается, но еще и потому, что остается один.
— Нечего шмыгать носом, — бросает ему шеф. — Боев первым возвратился, значит, и уезжать ему положено первым.
Первому уезжать и первому терпеть провал, думаю про себя следующим утром, пока струи холодного душа постепенно возвращают меня из царства сна, младшего брата смерти, в сияние нового дня. Очередное скромное воскресение — как редко мы в состоянии его оценить!
Во время завтрака в ресторане отеля я снова мысленно возвращаюсь к Белеву. Комбинацию с его участием сочли самой простой и удобной. Опытный в таком деле, он должен был следить за Горановым с близкого расстояния и информировать меня, тогда как мне по соображениям дальнего прицела следовало оставаться в тени. Таким образом, в первых эпизодах пьесы действие было связано в основном с риском для Белева. Что бы ни случилось с Белевым, я должен уцелеть, взять на себя риск последующих эпизодов и дойти до финала. Только Белев сгорел раньше, чем я включился в игру, и не успел передать мне эстафету.
В общем, невезение, с которого началась эта история, продолжается и, судя по всем признакам, будет продолжаться и дальше. Впрочем, разве это невезение? Это нечто более неприятное — коварство. Коварство Горанова или кого-то другого, стоящего за ним.
Эти размышления, не имеющие особого практического смысла, не мешают мне заниматься чисто практическими делами, которые человек в силу привычки делает машинально: выбираю ложечкой белок яйца и наблюдаю за обстановкой. В этот ранний час ресторан почти пуст, если не считать немцев — супружеской четы, быть может, пожелавшей отпраздновать здесь, среди осенней сырости Лемана, свою серебряную свадьбу, — да рыжеволосого англичанина, который, подобно мне, ест яйцо всмятку и, вероятно, из-за близорукости, так низко наклонился над столом, словно намеревается опорожнить яичную скорлупу не ложечкой, а крючковатым носом, торчащим у него на лице, словно птичий клюв.
В холле отеля, куда я попадаю несколько минут спустя, кроме дежурного администратора в окошке и женщины, оглашающей помещение сдавленным воем пылесоса, никого нет. На тротуаре безлюдно. Стоящие поблизости машины пустуют. Окинув беглым взглядом свою, прохожу со щемящей тоской мимо и направляюсь по набережной к рю Монблан. Мне навстречу дует ледяной ветер, насыщенный мелкими капельками дождя, однако бывают моменты, когда человеку приходится пренебрегать удобствами во имя гигиены, духовной и физической.
Пренебрежительно оставляю в стороне два моста и сворачиваю лишь на третий — Пон де ля машин, имеющий то преимущество, что предназначен исключительно для пешеходов и достаточно Длинный, так что совсем нетрудно заметить, тащится ли за тобой хвост или ты пока свободен от этого бремени. Хвоста нет, но, может, мне только так кажется, может, за мною следят издали. Поэтому, ступив на рю де Рон, решаю посвятить несколько минут витринам — сворачиваю сперва в один пассаж, затем в другой, попадаю на небольшую площадь, ныряю в узенькую улочку и наконец выхожу на Гранд-рю, которая тоже довольно узка, несмотря на свое внушительное название. Тесная и крутая, этакий мрачный желоб, ведущий в верхнюю часть старого города.
Знакомый мне дом. Я посетил его несколько лет назад, тоже после провала. Того провала, который стоил жизни моему учителю и другу Любо. Поднимаюсь по темной лестнице на второй этаж, с трудом различаю в полумраке табличку на дверях: «Георг Росс» — и трижды нажимаю на кнопку звонка, один длинный и два коротких.
Внутри слышится топот, наконец дверь открывается, и на пороге замирает пожилой человек в халате, с большой головой, покоящейся на тонкой птичьей шее. Хозяин окидывает меня взглядом, и я убеждаюсь, что он меня узнал. Однако это не мешает ему спросить:
— Что вам угодно?
— Господин Георг Росс?
Старик кивает.
— Мне хотелось узнать, сюда ли переехала фирма «Вулкан».
— Да. Уже два месяца… Заходите.
Пароль нынче другой, но человек тот же. Он словно законсервировался с годами и останется таким до конца дней своих. Я прохожу по знакомой прихожей и оказываюсь в столь же знакомой гостиной со старинной мебелью — стиль ее так и остался для меня загадкой — и с огромным зеркалом над камином, сделавшимся от времени зеленым, как застоявшаяся вода.
— Мы можем выпить по чашке кофе, — любезно предлагает хозяин. — Моя прислуга приходит только к десяти.
— Надеюсь, все та же?
— Да, все та же, жива и здорова. Чему тут удивляться, если даже я еще жив.
— Так и должно быть.
— Верно, так и должно быть. Когда жизнь человека теряет всякий смысл, он обычно живет до глубокой старости.
— Зря вы на себя клевещете, — пробую я возразить. — Разве беспокойство, причиняемое мной, не говорит о некой осмысленности?..
— А, пустяки.
Он небрежно машет рукой и уходит варить кофе, но я останавливаю его:
— Я хотел у вас спросить, не оставил ли господин Чезаре для меня…
— Оставил, — бормочет хозяин. — Только я оставил кофейник на плитке.
На душе у меня становится легче, и даже кажется, что мрачная гостиная делается какой-то светлой, словно в ее окно внезапно заглянуло осеннее солнце.
Кофе принесен, разлит в хрупкие фарфоровые чашки и выпит. Старик снова уходит. Продолжительное время передвигается какая-то мебель, хлопают дверки, и наконец письмо несуществующего Чезаре у меня в руках. Я распечатываю конверт, внимательно читаю послание, затем на всякий случай перечитываю его заново, после чего, чиркнув спичкой, поджигаю листок перед камином, чтобы превратить бумагу в пепел.
Из письма Белева я узнаю следующее:
«Лицо, проживающее под именем Андрея Горанова, то же самое, с каким Цанев встречался в Мюнхене. Я пока не успел установить, кто он в действительности. Но нет никаких следов самого Горанова. В том же доме живет эмигрант по имени Лазарь Пенев, подвизавшийся некоторое время на радиостанции „Свободная Европа“.
Человек, который выдает себя за Горанова, ни с кем не общается — по крайней мере с тех пор, как я за ним наблюдаю. Крайне осторожен, весьма подозрителен, почти не выходит из дому. Если поддерживает с кем-либо связь, то, вероятно, через Пенева, который часто бывает в городе.
Не исключено, что Пенев меня заметил, когда я в прошлый раз был в Мюнхене. Поэтому я все время старался следить за ним издали. Вчера, когда я шел за ним следом, он меня видел, но узнал, нет ли — сказать трудно. На всякий случай я пока прекращаю за ним наблюдение и оставляю для сведения эту справку».
Пока послание Белева постепенно превращается в пепел, я слышу голос хозяина:
— Могу ли я еще чем-нибудь вам помочь?
— Да. Дайте мне, пожалуйста, листок бумаги и конверт.
Мое письмо еще короче:
«Попытка ликвидировать Б. Он находится в городской больнице в Лозанне. Предлагаю перейти к варианту „Дельта“.
Запечатав конверт, передаю его господину Россу.
— Буду вам очень обязан, если вы сумеете еще до обеда связаться с братом Чезаре.
— Никак не сумею, — сокрушенно разводит руками старик. — Сегодня не тот день. Только завтра.
Хорошо, что «тот день» — завтра, а не через неделю. Но ничего не поделаешь. Хозяин не радист, а всего лишь скромный почтовый ящик. Скромный и слишком старый почтовый ящик, но все еще приносящий пользу вопреки утверждению, что его жизнь уже лишена всякого смысла.
— Надеюсь, ваши дела складываются не так скверно? — сочувственно спрашивает хозяин.
Он понятия не имеет о том, что собой представляют «наши дела», не проявляет ни малейшего любопытства, и все же в его взгляде нетрудно уловить тень беспокойства. Беспокойства не за себя, а за этого неизвестного человека, за незваного гостя, который забрел в этот тихий дом, чтобы обменяться какими-то загадочными письмами.
— Ничего страшного, — говорю в ответ. — Наши дела редко идут как часы. Даже в этой стране часов.
Наконец я подаю ему руку и спешу избавить его от своего присутствия.
Я снова в этом узком желобе, именуемом Гранд-рю, но, к счастью, теперь я спускаюсь под гору, и пронзительный ветер дует в спину.
Итак, кое-что проясняется — по крайней мере то, что касается вчерашней катастрофы. У тебя не было уверенности, узнал ли он тебя… Теперь ты в этом убедился, хотя и слишком дорогой ценой. Дорогой для тебя, а для дела и подавно.
Двумя годами раньше Белев занимался в Мюнхене изучением некоторых людей, связанных со «Свободной Европой». Его, разумеется, занимала не столько «Свободная Европа», сколько обратная сторона медали — ЦРУ. Очевидно, тогда-то он и сталкивался с Пеневым. И, очевидно, Пенев его видел и запомнил.
Выслеживать кого-то, думая, что тебя никто не знает, и вдруг столкнуться с типом, которому ты хорошо известен, — конечно же, чистая случайность, и Белев здесь ни в чем не виноват. Вина его в том, что не держался от Пенева на почтительном расстоянии. Слишком полагался на свой профессиональный опыт и пошел за ним следом. И вот в пути натолкнулся еще на одну случайность, уже трагическую, и Пенев его заметил.
Ну заметил, так что из этого? Пенев, надо полагать, тоже не лыком шит, и было бы вполне логично, если бы он сделал вид, что его никто не интересует, если бы прикинулся дураком и попытался разобраться, кто именно и с какой целью за ним следит. А вместо этого он двумя днями позже совершает покушение на своего преследователя.
Нелепость какая-то. Но может быть, Пенев сам был под наблюдением? Может быть, как раз те, которые держали его под наблюдением, решили по собственному усмотрению убрать неизвестного прилипалу? И как только он попался им на глаза, они тотчас же осуществили свое намерение. Что совсем нетрудно в небольшом городе вроде Берна, особенно когда речь идет о человеке, которого так и тянет в опасную зону, точнее, к вилле Горанова.
Последняя версия мне представляется крайне неприятной и, к счастью, маловероятной. Во всяком случае, инцидент на шоссе не в ее пользу. Окажись там опытные люди, исполненные решимости убрать Белева, его бы уже не было в живых. Несколько выстрелов или удар французским ключом по темени, и дело с концом Мизансцена несчастного случая близ Лозанны подсказывает иную ситуацию. Человек в старом «ситроене», вероятно, весь день тащился за Белевым в надежде застукать его в удобном месте. Однако, увидев, что уже стемнело и надеяться больше не на что, незнакомец решил прижать моего друга к бровке и вынудить его к признанию. С этой целью он стал его подсекать. Только Белев не был склонен останавливаться. Словом, завязалась игра, в процессе которой каждый из партнеров полагает, что другой струхнет и обязательно уступит. Но так как ни тот, ни другой не стал уступать, столкновение оказалось неизбежным. И, вероятно, выскочившая из-за поворота машина обладателя косматых бакенбардов нагнала страху на Пенева, потому что он — или кто бы там ни был — предпочел покинуть «ситроен» и исчезнуть во мраке; чтобы не давать показания в участке.
Разумеется, я не могу знать, что именно произошло, и вовсе не воображаю, что мне удалось нащупать истину, прежде чем я попал на рю де Рон. У меня достаточно времени для того, чтобы анализировать случившееся и строить догадки — пока не вступит в действие вариант «Дельта». Одно могу с уверенностью сказать: мы все же напали на логово зверя. В самом деле, если бы господин Лжегоранов или господин Пенев проводили время исключительно за раскладыванием пасьянса, Белев едва ли стал бы жертвой дорожного происшествия. К крайним мерам даже в мире шпионов прибегают лишь в крайнем случае.
Свернув с рю де Рон, я ныряю в первую попавшуюся телефонную кабину. Набираю номер городской больницы Лозанны. Голос на другом конце провода мне незнаком. Называю имя пациента, о здоровье которого я беспокоюсь, после чего слышу:
— Момент…
И через несколько секунд:
— Кто говорит?
Только это уже другой голос, знакомый мне своим полицейским колоритом.
— Это его друг, мосье Робер.
— Вы хотели его видеть? Пожалуйста.
— Благодарю вас. Только сейчас мне сложно. Поэтому…
— Если сейчас вам сложно, то боюсь, что потом вам вообще не удастся его повидать. Он очень плох…
Покинув кабину, я устремляюсь к Пон де ля машин, на ходу пытаясь разгадать, что это — грубая уловка или мне действительно сообщили печальную весть. С профессиональной точки зрения, сказал бы Любо, это тебя совершенно не касается. С профессиональной точки зрения сейчас тебе, браток, полагается быть подальше от Лозанны и от городской больницы.
Оставив позади мост, иду по набережной, на этот раз в обратном направлении, подталкиваемый ветром. Нечего меня подталкивать, говорю я ему, без тебя обойдемся. Оплатив гостиницу, сажусь за руль «вольво» и трогаюсь в путь.
Часом позже останавливаюсь на небольшой улочке Лозанны, покупаю в киоске план города и совершаю до нему соответствующий поиск. Затем пускаюсь в путь пешком по улицам, которые в большинстве своем напоминают женевскую Гранд-рю — если не теснотой, те но крайней мере крутыми подъемами и спусками.
С видом скучающего туриста, томящегося от безделья, прохожу перед зданием городской больницы по противоположному тротуару. Мой взгляд лениво знакомится с двумя рядами окон. Ничего.
Если на эту затею взглянуть с профессиональной точки зрения, то ты, браток, делаешь глупости, размышляю я. Затем решаю повторить уже содеянную глупость, только на этот раз с тыльной стороны здания. На улице пусто, если не принимать в расчет возвращающихся из школы детей. Больничный двор обнесен железной решеткой и живой изгородью. Мой взгляд без труда преодолевает эти препятствия и устремляется к окнам. Но вот на втором этаже, в третьем окне слева, мое внимание привлекает забинтованная голова — бинты скрывают почти все лицо, видны только крупный нос и часто мигающие глаза под густыми бровями. Но и этого мне достаточно, чтобы узнать человека.
Бедняга торчит в этом окне бог знает с каких пор, чтобы дать знать, что он жив, на тот случай, если кто-либо испытывает необходимость увидеть его. Он непроизвольно вскидывает руку, давая понять, что тоже узнал меня, но тут же опускает ее. Я тоже вовремя спохватываюсь и шарю в кармане, будто ищу сигареты.
Наконец, опять же с видом скучающего туриста, иду дальше.
2
Если вам выпала судьба жить в Берне и если вы хотели бы успокоить свои нервы или же расстроить их еще больше, лучшего места, чем район по ту сторону Остринга, вам не сыскать.
Вдоль асфальтовых аллей здесь тянутся виллы, очень разные по своим размерам и внешнему виду, что зависит от материального положения их владельцев и от их вкуса: одноэтажные или двухэтажные, ультрамодерные или в стиле доброго старого времени, с обширными верандами или скромными крылечками, окруженные пышными, прекрасно ухоженными садами или только миниатюрными газонами, огражденные подстриженной декоративной зеленью или скромной металлической решеткой.
Маленький частный оазис личного благополучия возведен здесь в культ, и в этом ощущается порыв к изоляции от шума и неврастении современного быта, атавистическое стремление вернуться в лоно природы, но уже облагороженной и заботливо подстриженной ножницами садовника.
Встретить на аллеях прохожего почти невозможно, а в какие-то часы дня весь этот район кажется совершенно мертвым, хотя в действительности жизнь его течет в определенном ритме, придерживаясь неписаного, но строгого расписания. Дети ходят в школу, родители спускаются на машинах в город, чтобы к определенному времени вернуться обратно, фургоны торговых фирм в строго определенные часы развозят продукты от дома к дому. Однако на обширной территории населения так немного, что это движение в тени вековых сосен и вечнозеленых кустарников почти незаметно.
Вилла, снятая для меня моим партнером Джованни Бенато, может быть отнесена к средней категории и вполне подходит для коммерсанта средней руки. Холл с небольшой смежной комнатой, а на втором этаже библиотека и спальня — кухня со служебными помещениями не в счет — таков мой маленький замок, стоящий в запущенном яблоневом саду, насчитывающем около дюжины деревьев.
По одну сторону со мной соседствует какой-то пожилой рантье с супругой. Сами хозяева ютятся в нижнем этаже, тогда как верхний, чтобы округлить доходы, сдают. Вначале все шло к тому, что на этом этаже должен был поселиться я, но, пока думали-гадали, он был предоставлен какой-то немке. И тем лучше. Потому что теперь я оказываюсь в непосредственном соседстве с Горановым, проживающим по другую сторону от меня. Подобное соседство, естественно, таит определенные неудобства. Вольно или невольно ты привлекаешь к себе внимание, на тебя начинают смотреть недоверчиво, за тобой устанавливают наблюдение, наводят справки. Поэтому долгое время я вообще воздерживаюсь от всяких действий, способных вызывать малейшее подозрение. Веду такой образ жизни, чтобы окружающие свыклись со мной, пускай считают меня человеком скучным и видят во мне совершенно безобидного соседа.
Вопреки этим неудобствам близкое соседство с Горановым дает мне такие преимущества, каких не может обеспечить квартира рантье, хотя она и богаче. Между моим жилищем и виллой Горанова не более двадцати метров, а ограда, разделяющая нас, слишком низка, чтобы служить препятствием. Имей я соответствующую аппаратуру, я бы мог запросто следить за всем, что происходит напротив. Только в моем положении хранить такую аппаратуру было бы непростительной глупостью. Надо быть слишком большим оптимистом, чтобы полагать, что мой замок не будет посещаться и тщательно осматриваться в мое отсутствие.
Однако я вовсе не собираюсь утверждать, что действую исключительно голыми руками и не использую никакой техники. С нашей профессией и в нашу эпоху бурного прогресса это означало бы примерно то же, что отправиться на охоту на слонов с рогаткой в руках. То ли по наивности, то ли из лицемерия некоторое время назад тысячи людей подняли шум до небес по поводу какого-то там Уотергейта, как будто они впервые узнали, что существует практика подслушивания. Мне не позволено проявлять наивность или чрезмерную щепетильность. Я не вправе обижаться, выражать свое возмущение, а главное — совершить провал.
Так что кое-какая техника у меня все же имеется. С виду она, правда, весьма безобидна, и таскаю я ее в карманах: фотоаппарат в виде зажигалки, рация с небольшим радиусом действия покоится в авторучке, а моя подзорная труба вместилась в колпачок второй авторучки (ничего, что вид у нее такой неказистый, она сильнее любого бинокля), микроскопический прибор для исследования секретных замков, несколько крохотных ампулок разного назначения — и только. Все это невесомо, не занимает места и при необходимости одним махом может быть незаметно выброшено.
Было бы ошибочно полагать, что здесь я только тем и занимаюсь, что караулю за шторами спальни, всматриваюсь в окна Горанова, хотя и такое занятие мне не чуждо. Еще более неуместно думать, что я вечно дремлю в своем уютном холле или день и ночь сгребаю осеннюю листву в саду. Легенда, в которую я облечен, — это легенда о трудовом человеке, и она должна повседневно и ежечасно подтверждаться.
День начинается с того, что я забираю продукты, оставленные у дверей кухни моими поставщиками, совершаю туалет, готовлю завтрак. Домашние хлопоты мне ни к чему скрывать массивными шторами: ведь я выступаю в роли добропорядочного и скучного человека, у которого все на виду.
Ровно в десять утра я выгоняю на асфальтовую аллею «вольво», закрываю ворота и еду вниз, к центру. Как и полагается добропорядочному и скучному человеку, маршрут у меня всегда один и тот же: Остринг, затем длинная с пологим спуском Тунштрассе, потом Кирхенфельдбрюке, который меня переносит через реку, на Казиноплац, а уже оттуда через Когергассе я попадаю на Беренплац, где расположена моя контора.
В сущности, контора принадлежит Джованни Бенато, но с той поры, как мое предприятие, существующее лишь на бумаге, слилось с его фирмой, агонизировавшей под ударами банкротства, мы дружески сожительствуем в этом чистом и тихом помещении, изолированном двойными окнами от несмолкаемого шума улицы и украшенном для пущей важности картой мира и двумя иллюстрированными календарями — Сабены и САС.
Не из суетного желания самовосхваления, а справедливости ради я должен отметить, что если фирма Бенато — импорт и экспорт продовольственных товаров — все еще существует, то этим в какой-то степени она обязана вашему покорному слуге, поскольку разными путями мне удается время от времени обеспечивать скромные сделки. Доходы фирмы невелики, так что мой партнер не видит смысла тратиться на секретаршу и сам ведет переписку, а так как этой переписки не так уж много, то наше рабочее время проходит в разговорах на свободные темы. Вернее, на тему о катастрофах. О катастрофах любых размеров, видов и оттенков.
Это тематическое своеобразие могло бы показаться странным лишь тому, кто недостаточно знаком с Джованни Бенато. Этот человек принадлежит к категории людей, которых на каждом шагу постигают неудачи: если рядом стоит ваза, он непременно ее опрокинет, если ему подали суп, он ухитрится утопить в ней свой очки, если надо пересечь улицу, он обязательно пойдет на красный свет и нарушит движение.
Однако мой партнер относится с полным пренебрежением к опасностям, грозящим ему непосредственно, и все его мысли устремлены к глобальным катастрофам прошлого и будущего.
— Если вы вспомните, как была уничтожена Атлантида, — говорит он, постукивая по столу своими короткими толстыми пальцами, — вам станет ясно, что и наша цивилизация может запросто погибнуть.
Я вынужден признаться, что мои воспоминания не восходят к эпохе Атлантиды.
— Мои тоже, — кивает Бенато. — Но для науки этот вопрос уже ясен. Представьте себе огромный метеорит или, если угодно, маленькую планету километров шести в диаметре и весом до двух миллиардов тонн. Колоссально, не правда ли?
Джованни свойственна такая особенность: беседуя, он постоянно обращается к вам с подобными вопросами. Разумеется, ваше мнение его особенно не интересует, это, скорее, его ораторский прием, рассчитанный на то, чтобы держать вас в постоянном напряжении. Пока длится разговор, протекающий в форме монолога.
Итак, чтобы обеспечить зеленую улицу его монологу, мне ничего не остается, кроме как подтвердить, что двести миллиардов тонн — действительно колоссально.
— Ну, этот гигантский метеорит с фантастической скоростью устремляется к Земле и — шарах во Флоридский залив! Хорошо еще, что туда: ведь упади он здесь, сейчас в Швейцарии на месте этих вот Альп зияла бы пропасть. Какой ужас, а?
— А по-моему, ничего ужасного в этом нет, — пробую я возразить. — Швейцарцы — народ настолько ловкий, что и с помощью пропасти сумеет обирать туристов.
— Запросто, запросто, — кивает Бенато. — Но дело не в одной пропасти. Я имею в виду ужасающее сотрясение. Впрочем, сотрясение — не то слово. Тысяча атомных взрывов!.. Могут сместиться полюса, и целый континент окажется под водой. Вы представляете?
— Пытаюсь.
Чтобы дать дополнительную пищу моему воображению, Бенато снабжает меня еще несколькими подробностями гибели Атлантиды, сопроводив их обычными «каково?», «вы представляете?». Затем накликает на грешную землю новые беды. К примеру, зловещие изменения климата. По мнению известных ученых, скоро неизбежно скажутся их последствия: новый потоп, а затем — новый ледниковый период. Или демографический взрыв, сулящий нам еще более страшные испытания: поначалу пищей будут служить корни растений, потом мы начнем поедать себе подобных (воображаете?). Или демонические силы, дремлющие под земной корой: пока мы с вами сидим вот тут, на Беренплац, где-то внизу, у нас под ногами, клокочет огненная лава, от одной мысли об этом в жар бросает (а раз уж клокочет, того и гляди пойдет через край). Или новая вспышка кошмарных средневековых эпидемий, от которых миллионы людей мрут как мухи (вы только подумайте!).
Особый раздел в репертуаре Джованни Бенато составляют катаклизмы военно-политического характера: китайское нашествие, ядерная катастрофа, гибель человечества от бактериологического оружия, а то и от химического. Это его самые любимые темы — вероятно, потому, что о них у него самая обильная информация. Однако при всей любви Бенато к военной тематике она не в состоянии вытеснить из его программы третий, и последний раздел, наполняющий его душу почти лирическим чувством: сюжеты научной фантастики, которую мой собеседник, конечно, воспринимает как живую реальность. Тут преобладают такие мотивы, как нашествия с других планет, мифическое чудовище, обитающее в шотландском озере Лох-Несс, исполинская белая акула, умопомрачительный снежный человек, летающие тарелки и не помню что еще.
Какого накала ни достигал бы разговор-монолог, Бенато не забывает посматривать время от времени на ручные часы и ни за что не упустит случая оповестить в нужный момент:
— Дорогой друг, уже двенадцать. Что вы скажете, если мы махнем куда-нибудь и маленько подкрепимся, пока несчастная вселенная не рухнула на наши бедные головы?
Первый раз я по неопытности принял его предложение с энтузиазмом, не подозревая, что эта авантюра связана с немалым риском. А теперь соглашаюсь поневоле, поскольку это уже стало традицией или просто вошло в привычку.
Говоря о риске, я не имею в виду вероятность того, что мне придется платить по счету (что толковать о риске, раз это железная неизбежность?). К тому же я не настолько мелочный, чтобы сетовать на недюжинный аппетит своего партнера. Дело в том, что, как уже упоминалось, Бенато всегда очень неловок, и передвигаться с ним по белу свету весьма непросто.
Итальянцу очень мешает близорукость, но в какой-то Мере спасают очки в толстой роговой оправе. Однако от рассеянности очки еще не придумали, и он то и дело сталкивается с прохожими, натыкается на идущих впереди или берет под руку незнакомца, полагая, что это я, его компаньон. Шагая по улице, Бенато, вероятно, вызывал бы немало ругани, да и пощечину мог бы запросто схлопотать, если бы не его детское лицо, с которого не сходит виноватая улыбка, если бы он любезно не бросал налево и направо «извините», «виноват», что, конечно, обезоруживает потерпевших.
Как-то раз, когда он вдруг обнаружил, что у него нет сигарет, и метнулся к табачной лавчонке, я еле успел его остановить — он мог проникнуть в магазин прямо сквозь витрину. В другой раз, видимо толкаемый голодом, он чуть не повторил этот номер, только уже с ресторанной витриной, гораздо толще и больших размеров.
— Такой витрины мне еще не случалось вышибать, — признался Бенато после того, как я вовремя его удержал. — С другими, поменьше, имел дело, но с такой громадной — никогда.
Как знать, может, он в душе даже упрекал меня за то, что я помешал ему поставить своеобразный рекорд в высаживании витрин лысой головой.
Не лучше вел себя Бенато и в ресторане, так что из предосторожности мы забирались в угол, где обслуживал Феличе, безропотно переносивший странности своего соотечественника.
— Ну, дорогой, что ты нам сегодня предложишь? — дружески спрашивал Джованни, раскрывая меню. При этом он непринужденно вытягивал под столом ноги, безошибочно точно попадая носками ботинок в мои штанины.
— У нас сегодня великолепная копченая семга, — охотно начал кельнер, готовый из служебного усердия предложить самое дорогое.
— Копченая семга… это действительно идея, — бормотал Бенато, пробуя высвободить ноги, запутавшиеся в чем-то там, внизу. — Меня интересует, что ты нам предложишь после семги.
Наконец в ходе продолжительного собеседования блюда и полагающиеся к ним напитки избираются, и Феличе уходит в сторону кухни.
— Какие чудесные цветы! — восклицает Бенато, протягивая руку к хрустальной вазочке с крупными гвоздиками.
В подобных случаях я инстинктивно сжимаюсь, хотя вазочка и не всегда опрокидывается. Бывает так, что она остается на месте. Мой партнер вытаскивает из воды гвоздику, осторожно нюхает ее и добавляет:
— Но в этом мире, дорогой друг, даже красота нередко бывает обманчива. Вы, наверное, слышали о тех страшных орхидеях, чей аромат действует как смертоносный яд…
Отравляющие вещества, создаваемые природой и в лабораториях, также одна из любимых тем Бенато, и он какое-то время не расстается с нею, чтобы заглушить приступы голода. Наконец Феличе приносит рыбу, и Джованни принимается за дело. Он аппетитно жует, пока его недреманное око не обнаруживает какой-то непорядок.
— Феличе, скажи на милость, откуда такая мода — подавать копченую рыбу с гвоздикой?
— Подозреваю, что вы сами положили гвоздику себе в тарелку, — попробовал возразить кельнер.
— Подозреваешь… Но ты в этом не уверен… Ну ладно, оставим этот вопрос открытым, — великодушно машет рукой Бенато и опрокидывает свой бокал.
С этого момента вплоть до окончания обеда он то роняет вилку или нож, то разбивает фужер, так что Феличе должен непрестанно караулить у нашего стола, готовый в любую минуту принести новый прибор. Особый риск для окружающих таит второе — обычно это бифштекс или отбивная котлета, требующие применения ножа. Мой компаньон действует им так решительно, что отрезанный кусочек плюхается либо на скатерть, либо прямо вам на костюм. Бывают моменты, когда из тарелки вылетает не отрезанный ломтик, а целая котлета, — однажды в подобном случае котлета шлепнулась на колено сидевшей за соседним столом дамы. Хорошо, что та заранее прикрылась салфеткой.
— Даже не подозревал, что я такой снайпер, — прошептал мне Бенато, когда инцидент был исчерпан. — Вы заметили? Прямо ей в салфетку угодила проклятая, на платье не попало ни капельки.
Случается, что страдают не только окружающие, но и сам Бенато: как-то, увлекшись разговором о неизбежном приближении какой-то кометы, он сокрушенно поставил локти в тарелку с миланским соусом.
Ну, а курьезы с сигаретой — дело привычное. Мой партнер кладет ее, где ему заблагорассудится, и вспоминает о ней обычно лишь тогда, когда начинает распространяться сильный запах гари.
— По-моему, что-то горит, — бормочет Бенато.
— Скатерть, прямо перед вами…
— А, ну леший с ней. Я уж было подумал, что прожег собственные штаны.
Однажды я нерешительно заметил ему:
— Когда-нибудь вы со своими сигаретами устроите пожар у себя дома.
— Дважды горел, — небрежно ответил Бенато. — Ерунда. Если застрахован, бояться нечего. Я никогда не забываю застраховаться.
Отобедав и расплатившись, мы снова направляемся к конторе. Впрочем, Бенато сопровождает меня лишь до ближайшего угла, а затем сообщает, что у него назначена деловая встреча. Судя по его сонному виду, встреча будет с мягкой постелью, в которой ему не терпится потонуть, забыться и хоть ненадолго избавиться от гнетущих мыслей о мировой катастрофе.
Так что я возвращаюсь в контору один и два часа посвящаю прессе и международным событиям. Затем выхожу, чтобы пройтись по главной улице, благо она от нашей фирмы в двух шагах. Здесь все в двух шагах от главной улицы: парламент, музей, собор, банки, вокзал, казино, театр. Решительно все, в том числе и место, откуда я раз в неделю связываюсь со своим человеком — просто так, даю о себе знать, ничего, дескать, особенного. Потому что вариант «Дельта» уже приведен в действие, хотя и работает пока на холостом ходу.
Главная улица, которая зовется то ли Крамгассе, то ли Марктгассе, то ли как-то иначе, изобилует многими историческими достопримечательностями, начиная с часовой башни Цитглюкке и кончая многочисленными старинными водяными колонками, украшенными скульптурой эпохи Ренессанса. Однако мой взгляд, неизвестно почему, особенно не задерживается на этих памятниках старины, для меня гораздо важнее вещи более банального свойства — пассажи, ведущие к прилегающим улицам, некоторые заведения, имеющие по два выхода, равно как и магазины — «Леб», «Контис», «Глобус» и тому подобные, полезные не только изобилием товаров, но и рядом ценных удобств.
Исследование этих объектов, разумеется, чисто профессиональная привычка, и по мне — так лучше бы они никогда не пригодились. Насколько легко здесь ускользнуть от возможного преследователя, настолько же просто столкнуться с ним пять минут спустя где-то рядом. И все потому, что в этом городе все находится в двух шагах от главной улицы.
Впрочем, город не так уж мал. Он широко простирается по обе стороны реки Ааре, которую можно было бы сравнить с извивающейся змеей, если бы это сравнение не звучало несколько обидно для такой чистой сине-зеленой реки. Но дальние тихие кварталы с широкими улицами и жилыми домами, предприятия и парки меня не занимают. В каком-то отношении они менее удобны, нежели теснота центра. А центр — это именно то место в излучине Ааре, где, как в подмышке, зажаты многочисленные магазины, где вечно толпится народ, где все находится в двух шагах от главной улицы.
Под вечер я возвращаюсь к своему «вольво», стоящему возле Беренплац, сажусь за руль и еду обратно на Остринг. День кончился, но скука продолжается. Только вот добропорядочный гражданин вроде Пьера Лорана не имеет права скучать. Скука — достояние более утонченных натур, тех, кто вечно мечтает о чем-то ином, о чем-то таком, что… словом, тех, кому снятся миражи и у кого ветер в голове. А у такого положительного человека, как Пьер Лоран, нет решительно ничего общего с подобными субъектами. Он возвращается домой в один и тот же час, паркует в точно установленном месте свою машину и занимается строго предусмотренным делом — приготовлением ужина.
Готовка длится недолго, так как основным и почти единственным блюдом на ужин является яичница с Ветчиной, затем я сажусь за кухонный стол и методично занимаюсь насущным действом — поглощением пищи, ничуть не заботясь о том, что мои занавески все еще открыты — любой и каждый может убедиться, что добропорядочный человек Пьер Лоран уже вернулся домой и, как приличествует добропорядочному человеку, спешит поесть, прежде чем начнется многосерийный телебоевик «Черное досье».
Затем, как вы уже догадываетесь, мои занятия перемещаются в холл, где можно подремать какое-то время, вытянувшись в кресле перед голубым экраном. Владелец виллы постарался обставить холл довольно элегантно, здесь все выдержано в зеленых тонах: шелковые обои, бархатные кресла, большой ковер, даже абажуры настольных ламп и те зеленые. Зелень преобладает и на висящих по стенам гравюрах, которые представляют собой пасторальные или галантные сцены с малой толикой женской наготы и обилием растительности.
Иногда, после того как очередная серия «Черного досье» уступает место очередной беседе об экономическом кризисе, я покидаю холл и лениво поднимаюсь наверх, в библиотеку. Здесь шторы уже спущены, и это вполне естественно — не заниматься же чтением на виду у всех. Увы, я не испытываю ни малейшего желания читать, тем более что книги, расставленные на полках, имеют чисто декоративное назначение — их массивные кожаные переплеты должны придавать обстановке старинный и ученый вид. Как мне удалось установить после беглого осмотра, это в основном сочинения на латыни, учебники да справочники прошлого века по садоводству. И поскольку у меня нет намерения погружаться в справочную литературу по садоводству, а шторы, как уже было сказано, спущены, я позволяю себе покинуть библиотеку, проникнуть в темный интерьер спальни и сквозь щелочку между занавесками устремить взгляд на соседнюю виллу.
Обычно в этот час освещены лишь два широких окна холла, подернутые молочной дымкой муслиновых штор; а то и с полной отчетливостью раскрывающие внутренность помещения. Обстановка старинная, роскошная, много массивной мебели и хрупкого фарфора. И среди этой роскоши худощавый пожилой мужчина, на которого направлена моя авторучка — подзорная труба.
Землистого цвета лицо, изрезанное мелкими морщинками, имеет болезненный вид. Вообще-то Горанов, как видно, относится к тому типу людей, которые в любой момент готовы отдать богу душу, однако, отмеченные такой готовностью, они способны прожить столько, что за это время успевают переселиться на тот свет все их близкие. Ему наверняка уже перевалило за шестьдесят, но, несмотря на седину и потускневший взгляд, он едва ли достиг следующего десятка. Рубленые складки образуют на его лице гримасу недовольства или страдания, словно его изводит не очень сильная, но непрекращающаяся зубная боль.
Одетый в поношенный халат вишневого цвета, он обычно читает газету, лежа на диване, или медленно ходит взад-вперед, словно вымеряя длину холла. Когда длина холла его не интересует, он убивает время за картами. Его единственный партнер в этих случаях — Пенев.
Пенев тоже с виду анемичный и болезненный, но до старости ему еще далеко — по уже имеющимся у меня сведениям, вот-вот стукнет сорок. Что касается данных о его лице, длинном и бескровном, то они весьма смутные, так что вы легко могли бы несколькими годками ошибиться в ту или другую сторону. Во всем его облике сказывается что-то острое: в крутом изломе бровей, в носе, вытянутом, словно птичий клюв, в заостренном подбородке, в колючем взгляде маленьких черных глаз. В углу бледных, бескровных губ неизменно торчит сигарета. Незажженная сигарета. Иногда он ее вынимает изо рта и бросает в пепельницу, но вскоре на ее месте появляется новая, тоже незажженная. Видимо, Горанов не разрешает ему курить. А может, врачи не разрешают.
Иногда старик резко оборачивается и глядит в окно, а порой и Пенев следует его примеру, словно за темным окном таится нечто неведомое и нежеланное. Потом игра продолжается. Продолжается обычно до одиннадцати, когда оба бросают карты, а побежденный выкладывает какой-нибудь банкнот. Покидая холл, партнеры гасят свет. Этим привычный спектакль кончается.
Пустой и досадный спектакль, вполне под стать этому тихому и сонному месту, где при необходимости вы могли бы несколько успокоить свои нервы или расстроить их еще больше. И вполне под стать милому старому Берну, где после восьми часов улицы пустеют и где единственно возможное приключение состоит в том, что Бенато прольет на ваш костюм миланский соус или прожжет вам рукав своей сигаретой.
Прошло целых две недели, пока однажды утром случилось нечто необычное. У моей двери раздался звонок. Не у черного хода, куда мои поставщики приносят продукты, а у парадного. Открыв, я оказываюсь лицом к лицу с молодой дамой. Не подумайте, что речь идет о самке типа голливудских, чье появление лишает героя рассудка. Дама без особых примет — словом, из тех, кого вы на улице не провожаете взглядом. Средний рост, строгий серый костюм и как будто не слишком интересное лицо, отчасти скрытое за большими очками с дымчатыми стеклами.
— Я пришла по поводу квартиры, — прозаично сообщает посетительница.
— Какой квартиры?
— Той, что вы сдаете.
— Нет у меня такой, — говорю в ответ.
— А объявление?
— Ах да, объявление… Я просто забыл его снять, — оправдываюсь я, вспомнив о визитной карточке над входом в сад, которую давно надо было убрать.
— Может быть, вы все же знаете, где тут поблизости есть свободное жилье? — продолжает дама.
— Нет, к сожалению. Сдавали в соседнем доме, но теперь и там занято.
— Странно… А мне говорили, здесь сколько угодно свободных квартир.
— Понятия не имею… Весьма возможно, — с досадой бубню я, посматривая на часы.
Наконец она кивает мне и направляется к красному «фольксвагену», стоящему у калитки.
Следующее утро тоже начинается необычно. Опять звонок — не с черного хода, а с парадного. Передо мной снова вырастает дама, и я не сразу понимаю, что это вчерашняя посетительница. Пастельно-лилового цвета платье из дорогой шерстяной ткани плотно облегает ее фигуру, выгодно подчеркивая ее силуэт и щедрые формы бюста. Лицо сегодня уже без дымчатых очков в виде ночной бабочки, сияет в обаятельной улыбке. Улыбаются сочные губы и карие глаза под тенистыми ресницами.
— Опять я по поводу квартиры, — сообщает дама.
— Но я же вам сказал, что у меня нет, — отвечаю, пытаясь выйти из шокового состояния. — Теперь, если вы заметили, и объявления уже нет.
— Верно, заметила, — кивает незнакомка, продолжая озарять меня своей улыбкой, — но, поверьте, я нигде вокруг так и не смогла найти ничего подходящего. Но так как мне стало известно, что вы один… И поскольку я готова довольствоваться одним этажом, а в крайнем случае и одной-единственной комнатой, мне пришло в голову, что…
Я тоже успел кое о чем подумать и даже готов на словах выразить свои мысли — послать нахалку ко всем чертям, но она опережает меня и с той же милой улыбкой добавляет:
— Неужели вы оставите без крова бездомную женщину, да еще в такую холодную и сырую погоду? Уверяю вас, я не пью, не созываю гостей, не пристаю к хозяину — словом, все равно что и вовсе не существую…
Пока длится ее небольшой монолог, мои рассуждения постепенно приобретают иное направление. В конце концов, эта женщина пришла сюда не просто так, а ради чего-то. Это что-то — едва ли я сам, и было бы недурно понять, что же это такое. И потом, подобное соседство может оказаться весьма полезным. Да и комната, смежная с холлом, мне совершенно ни к чему.
— У меня просто сердце разрывается, — тихо говорю я. — Можно бы уступить вам комнату на нижнем этаже, при условии что холл будет общим. Ничего другого предложить вам не могу.
— В первый же миг я поняла, что вы человек великодушный, — щебечет дама, пока я ввожу ее в дом. — Ничего, что холл будет общим… Теперь у меня сердце разрывается…
— Если бы не телевизор, то можно было бы уступить вам весь этаж, — сухо добавляю я. — Как раз сейчас показывают многосерийный телефильм «Черное досье».
— Но тут просто великолепно! — восклицает незнакомка, проходя в просторный холл, на который я уже частично утратил права. — Вся обстановка зеленых тонов… Мой любимый цвет.
Смежная комната и соседствующая с ней ванная тоже вызывают одобрение. Однако внимание дамы вопреки женской логике привлекает не столько ванная, сколько вид из окна. А вид из окна охватывает в основном виллу Горанова.
— Мне кажется, нам лучше сразу договориться насчет оплаты, — предлагает незнакомка, когда мы возвращаемся в холл.
— Успеется, — возражаю я. — К тому же мне пора на работу. Вот вам ключ от парадной двери. Закажите себе дубликат, а оригинал бросьте в ящик для писем.
Я киваю и ухожу со спокойным видом — дескать, мне, человеку добропорядочному и скучному, ничего не стоит доверить свою квартиру первому встречному, так как скрывать мне нечего.
Под вечер, вынимая ключ из нашего тайника, я чуть не сталкиваюсь у входа с каким-то бесполым существом в шляпе с широкими полями, в толстом свитере крупной вязки и в синих потрепанных джинсах.
«Вот и визиты начались!» — мелькает у меня в голове, только вдруг хиппи кажется мне подозрительно знакомым.
— Вы на маскарад? — спрашиваю я, убедившись, что бесполое существо — не кто иной, как моя женственная квартирантка.
— На художественную дискуссию, — уточняет дама-хиппи.
— А, понимаю. Потому-то вы так художественно вырядились.
— Иначе меня сочтут чужаком. Самое неприятное, если в тебе заподозрят чужака.
Следуя этой истине, незнакомка устраивается в моем доме, как в своем собственном. Держится, правда, без тени нахальства, но до того непосредственно, что остается только удивляться.
Вечером, по возвращении с упомянутой дискуссии, она плюхается в кресло и непринужденно оповещает:
— Ох, умираю с голоду.
— Холодильник к вашим услугам, — говорю я.
— И вы составите мне компанию?
— Почему бы нет? «Черное досье» уже закончилось.
Мы идем на кухню.
Покопавшись в холодильнике, дама-хиппи выбирает именно то, что и я бы выбрал, самое прозаичное и самое существенное: яйца и ломоть ветчины.
— Вы никогда не закрываете занавески? — спрашивает дама, ставя сковороду с маслом на газовую плиту.
— А чего ради я их должен закрывать?
— Неужто вы не общаетесь с представительницами противоположного пола?
— Вы первая. А что касается пола… То вы в этом туалете…
— Чтобы сделаться монахом, мало надеть рясу, господин… Не знаю, как вас величать…
— Мое имя вы могли видеть на дверях.
— Видела, только не знаю, как мне вас звать. Вы как предпочли бы обращаться ко мне?
Вопрос ставит меня в затруднение, хотя, вернувшись с работы, я обнаружил в холле предусмотрительно оставленную на столе ее визитную карточку, на которой значится: «Розмари Дюмон, студентка. Берн». Карточка шикарная, гравированная, к тому же только что отпечатанная, даже краска размазалась, когда я с нажимом провел пальцем по буквам.
— В зависимости от обстоятельств, — отвечаю. — Если вы намерены остаться здесь на продолжительное время, я бы стал звать вас Розмари — думаю, рано или поздно мы все равно к этому придем. А если вы совсем ненадолго…
— В таком случае зовите меня Розмари, дорогой Пьер.
Она выключает газ, несет сковородку на стол и ставит на заранее приготовленную деревянную дощечку. Но, прежде чем сесть, она делает два шага в сторону окна я резким движением задергивает занавеску. Вы, наверно, обратили внимание на то, что в отличие от театра в жизни действие нередко начинается именно после того, как закрывается занавес.
Какое-то время дама-хиппи ест молча, по всей вероятности, она порядком проголодалась. Когда еды заметно поубавилось, она ни с того ни с сего спрашивает:
— Вам нравятся импрессионисты, Пьер?
— Признаться по правде, я их часто путаю, все эти школы: импрессионистов, экспрессионистов…
— Как вы можете путать импрессионизм с экспрессионизмом? — с укором смотрит она на меня.
— Очень просто. Без всякого затруднения.
— Но ведь различие заключено в самих словах!
— О, слова!.. Слова — этикетка, фасад… Розмари бросает на меня беглый взгляд, затем снова сосредоточивает внимание на своей тарелке.
— В сущности, вы правы, — замечает она после двух-трех движений вилкой. — И в этом случае, как часто бывает, название не выражает явления. И все же вы не станете утверждать, что ничего не слышали о таких художниках, как Моне, Сислей, Ренуар…
— Последнее имя мне действительно что-то напоминает, — признаюсь я. — О каких-то голых женщинах. Рыжих до невозможности и ужасно толстых.
— Понимаю, — кивает Розмари. — Вы не относитесь к категории современных мужчин, для которых характерна широта культурных интересов. Вы принадлежите к другому типу — узких специалистов. А какая именно у вас специальность?
— Совершенно прозаическая: я пытаюсь делать деньги.
— Все пытаются, притом разными способами.
— Мой способ — торговля. Точнее, экспортно-импортные операции. Еще точнее — продукты питания. Вероятно, в соответствии с вашей классификацией типу мужчин, к которому вы причисляете меня, отведено место где-то в самом низу. Имеется в виду тип мужчин-эгоистов.
Она отодвигает тарелку, снова окидывает меня испытующим взглядом и говорит:
— «Тип мужчин-эгоистов»? Напрасно вы его так именуете, иного типа просто не бывает.
— Как так не бывает? А филантропы, правдоискатели, наконец, ваши импрессионисты?
— Не бывает, не бывает, — качает она головой, словно упрямый ребенок. — И вы это отлично знаете.
Потом она озирается и задерживает взгляд на пачке «Кента». Я подаю ей сигареты и подношу зажигалку.
— Сама сущность жизни, — продолжает она, — состоит в присвоении и усвоении, в присвоении и переработке присвоенного: цветок с помощью своих корней грабит и опустошает почву, животное опустошает растительный мир и умерщвляет других животных, ну а человек… человек, еще будучи зародышем, высасывает жизненные соки материнского организма, чтобы потом сосать материнскую грудь, чтобы в дальнейшем присваивать все, что в его силах и возможностях. И если, к примеру, мы с вами еще живы и окружающие пока не растерзали нас на куски, то лишь потому, что силы и возможности, подавляющего большинства людей довольно жалки…
— Если я вас правильно понял, вы считаете, что все крадут?
— А вы только сейчас узнаете об этом? Все, к чему вы ни протянете руку, уже кому-то принадлежит. Следовательно, раз вы берете, вы кого-то грабите. Конечно, общество, то есть сильные, присвоившие право действовать от имени общества, создали сложную систему правил, чтобы предотвратить грабеж и обеспечить себе привилегию грабить других. Законы и мораль лишь регламентируют грабеж, но не отменяют его.
— Скверным вещам учат вас в школе, — роняю я меланхолически.
— Этим вещам учит не школа, а жизнь, — уточняет Розмари, устремляя на меня не только вызывающий взгляд, но и густую струю дыма.
— Какая жизнь? Бедных бездомных студентов?
— Благодаря вам я уже не бездомна. И, пусть это покажется нескромностью, должна добавить, что и на бедность не смею жаловаться. Мой отец накопил немало денег именно по вашему методу — торговлей.
— Чем он торговал?
— Не продовольствием, а часами. Но это деталь.
— Которая не мешает вам видеть в нем вора.
— Не понимаю, почему я должна щадить его, если не щажу остальных? Все воры…
— И вы в том числе?
— Естественно. Раз я живу на его ворованные деньги.
— Логично! — киваю я и смотрю на часы. — Вроде бы пора ложиться спать.
— В самом деле. Я что-то не в меру разболталась.
— Наверное, вы держите под подушкой красную книжечку Мао…
— Допустим. Ну и что? — снова бросает она на меня вызывающий взгляд.
— Ничего, конечно. Дело вкуса. Но раз уж мы заговорили о вкусах, то позвольте заметить: одежда хиппи вам никак не идет. Ваша фигура, Розмари, достойна лучшей участи.
Пожелав ей спокойной ночи, я удаляюсь на верхний этаж. И быть может, это чистая случайность, но больше мне никогда не приходилось видеть Розмари в драных джинсах и мешковатом свитере.
«Не пью, гостей не созываю — словом, все равно что я вовсе не существую…» Должен признать, что, поселившись у меня, Розмари соблюдает все пункты вышеприведенной декларации, кроме одного: она все-таки существует. И вполне отдает себе в этом отчет, да еще старается, чтобы и я не упускал этого из виду. Вернувшись со своих лекций, она так грациозно покачивается на высоких каблуках, очертания ее бедер и бюста так соблазнительны, а глаза — просто грешно прятать такие глаза за стеклами очков — смотрят на меня с такой многообещающей игривостью, что… Как тут усомнишься в ее существовании?
— Скучаете? — спрашивает она, бросив на диван сумочку и перчатки. И, прежде чем я решил, что сказать в ответ, добавляет: — В таком случае давайте поужинаем и поскучаем вместе.
В сущности, с моей квартиранткой особенно не соскучишься. Она постоянно меняет наряды, которые приволокла в трех объемистых чемоданах, и возвращается домой то светски элегантной, словно с дипломатического коктейля, то в спортивном платье с белым воротничком, напоминая балованную маменькину дочку, то в строгом темном костюме, будто персона из делового мира. Постоянно меняется не только ее внешность, но и ее манеры, настроение, характер суждений. Веселая или задумчивая, болтливая или молчаливая, романтически наивная или грубо практичная, сдержанная или агрессивная, притворная или искренняя, хотя заподозрить в ней искренность весьма затруднительно.
Как-то в разговоре я позволил себе заметить:
— Вы как хамелеон, за вами просто не уследишь.
— Надеюсь, вам известно, что такое хамелеон…
— Если не ошибаюсь, какое-то пресмыкающееся.
— Поражаюсь вашей грубости: сравнить меня с пресмыкающимся!
— Я имею в виду только вашу способность постоянно меняться.
— Тогда вы могли бы сравнить меня с каким-нибудь чарующе-переменчивым драгоценным камнем.
— С каким камнем? Я, как вам известно, камнями не торгую.
— Например, с александритом… Говорят, утро у этого камня зеленое, а вечер красный. Или с опалом, вобравшим в себя все цвета радуги. С лунным камнем или с солнечным.
— Уж больно сложно. Совсем как у импрессионистов. Не лучше ли ограничиться более простым решением: выберите себе какой-нибудь определенный характер и не меняйте его при всех обстоятельствах.
— А какой вы советовали бы мне выбрать?
— Настоящий.
— Настоящий? — Она смотрит на меня задумчиво. — А вы не боитесь ошибиться?
У нее красивое лицо, но, чтобы увидеть, какое оно, это лицо, нужно, улучив момент, поймать его в миг углубленности и раздумья, однако именно тогда оно в чем-то теряет, потому что красота его в непрестанных изменениях — в целой гамме взглядов, в улыбках, полуулыбках, в ослепительном смехе алых губ, обнажающих красивые белые зубы, в красноречивых изгибах этих губ, в движении бровей, в едва заметных волнах настроения, пробегающих по этому то наивному и непорочному, то иронически холодному или вызывающе чувственному лицу.
Быть может, ей двадцать три года, но, если окажется, что тридцать два, я особенно удивляться не стану. Вообще-то иногда кажется, что ей тридцать два, а иногда — двадцать три, однако я склоняюсь к гипотезе в пользу третьего десятилетия или — ради галантности — в пользу конца второго. Внешность часто бывает обманчива, а вот манера рассуждать, даже если рассуждения не совсем искренние, говорит о многом.
— Скучаете?
Традиция этого вопроса, задаваемого моей квартиранткой всякий раз, когда она возвращается из города, восходит к первой неделе нашего мирного сосуществования. Но, говоря о нашем мирном сосуществовании, я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Потому что если дама следует правилу «не приставать к хозяину», то я со своей стороны соблюдаю принцип «не задевать квартирантку».
Итак:
— Скучаете?
Этот вопрос был мне задан еще в конце первой недели.
— Нисколько, по крайней мере сейчас, — говорю в ответ. — Только что смотрел «Черное досье».
— О Пьер! Перестаньте наконец паясничать с этим вашим досье. Я вас уже достаточно хорошо знаю, чтобы понять, что телевизор вам служит главным образом для освещения.
— Не надо было говорить, что я ничего не смыслю в импрессионизме, — замечаю я с унылым видом. — Непростительная ошибка. Вы раз и навсегда причислили меня к категории законченных тупиц.
— Вовсе нет. Законченные тупицы не способны скучать.
— Откуда вы взяли, что я скучаю?
— Невольно приходишь к такому заключению. По саду вы не гуляете, в кафе у остановки не ходите, гостей не принимаете, в карты не играете, поваренную книгу не изучаете, гимнастикой по утрам не занимаетесь… Словом, вы не способны окунуться в скучную жизнь этого квартала. А раз не способны, значит, скучаете.
— Только не в вашем присутствии.
— Благодарю. Но это не ответ. Потом добавляет, уже иным тоном — она имеет обыкновение неожиданно менять тон:
— А может, секрет именно в том и состоит, чтобы погрузиться в царящую вокруг летаргию? Раз уж плывешь по течению и обречена плыть до конца, разумнее всего расслабиться и не оказывать никакого сопротивления…
— Вот и расслабляйтесь, кто вам мешает, — примирительно соглашаюсь я.
— Кто? — восклицает она опять другим тоном. — Желания, стремления, мысль о том, что я могла бы столько увидеть и столько пережить, вместо того чтобы прозябать в этом глухом квартале среди холмистой бернской провинции.
— Не впадайте в хандру, — советую я. — Люди подыхают от тоски не только в бернской провинции.
— Да, и все из-за того, что свыклись со своим углом и не мыслят иной жизни. Одно и то же — пусть это будет даже индейка с апельсинами, — повтори его раз пять, станет в тягость. А секрет состоит в том, чтобы вовремя отказаться от того, что может стать в тягость, и избрать нечто иное. Секрет — в переменах, в движении, а не в топтании на месте.
— Послушав вас, можно подумать, что самые счастливые люди на свете шоферы и коммивояжеры.
— Зачем так упрощать?
— А вы не усложняйте. Я полагаю, если стремиться во что бы то ни стало сделать свою жизнь интересней, можно добиться этого где угодно, даже в таком дремотном углу, как этот, — конечно, при условии, что ты не лишен воображения.
— Пожалуй, вы правы! — соглашается она, снова переменив тон. — Пусть наша жизнь будет не такой уж интересной, но хотя бы менее скучной!
Говоря между нами, у меня не создается впечатления, что мою квартирантку одолевает скука. Днем она без устали мечется между Острингом и центром, да и будучи здесь, в этом дачном месте, продолжает сновать от кондитерской на станцию, со станции в магазин или в Поселок Робинзона — так именуют построенный с выдумкой ультрамодерный комплекс по ту сторону холма, где у Розмари завелись знакомые по университету.
Когда она возвращается домой раньше меня, я частенько застаю ее на аллее беседующей с кем-нибудь из соседей. Обаятельная внешность не единственное преимущество Розмари. Она человек на редкость общительный и приветливый, так что меня особенно не удивляет, когда однажды вечером она спрашивает меня:
— Пьер» вы не возражаете, если мы завтра составим здесь партию в бридж? Надеюсь, с игрой в бридж вы знакомы несколько лучше, нежели с импрессионистами.
— Кто же будет нашими партнерами?
— Наша соседка Флора Зайлер и американец, который живет чуть выше, по ту сторону аллеи, — Ральф Бэнтон.
— Я подозреваю, что вы их уже пригласили.
— Да… то есть… — Она сконфуженно замолкает.
— «Я не пью, гостей не созываю…» — цитирую я ее собственные слова.
— О Пьер!.. Не надо быть таким противным. Приглашая этих людей, я заботилась прежде всего о вас. Думаю, надо же как-то вырвать человека из цепких объятий этого «Черного досье».
— «Плафон» или «контра»? — лаконично спрашиваю я, чтобы положить конец этим лицемерным излияниям.
— Что вы предпочтете, дорогой, — сговорчиво отвечает Розмари.
Следующий день — суббота, так что мы оба дома, хотя это не совсем так, потому что с утра моя квартирантка катит на своей красной машине на Остринг и обратно, чтобы доставить деликатесы, необходимые для легкой закуски, а я тем временем забочусь о пополнении напитками нашего домашнего бара, до сих пор существовавшего лишь номинально, для чего мне приходится ехать в город, а едва вернувшись, я снова мчусь туда, чтобы прикупить миндаля и зеленых маслин, так как Розмари считает, что без миндаля и зеленых маслин не обойтись, однако, не успев отдышаться после возвращения, я слышу слова Розмари: «А играть на чем будем, стола-то нет», на что я не могу не возразить: «Как это нет стола?», после чего следует разъяснение, что имеется в виду не обеденный, а специальный стол, крытый зеленым сукном, к тому же такой стол прекрасно впишется в наш зеленый холл, хотя, по-моему, вполне достаточно зеленых маслин, и в конце концов мне снова приходится мчаться в город, долго бродить по торговому центру, прежде чем удается найти соответствующее игральное сооружение, после чего я возвращаюсь домой как раз вовремя, по крайней мере так говорит Розмари — она не может не высказать своего удовлетворения по этому поводу, потому что нужно помочь ей приготовить сандвичи.
Точно в шесть у парадной раздается звонок. Это, конечно же, упомянутый Ральф Бэнтон, потому что мужчины — народ точный. Кроме того, Бэнтон, по данным Розмари, работает юрисконсультом в каком-то банке, а юрисконсульты отличаются исключительной точностью, особенно банковские.
Гость подносит моей квартирантке три орхидеи в целлофановой коробке — надеюсь, не из тех, ядовитых, которых панически боится Бенато, — а меня одаряет любезной, несколько сонной улыбкой, вполне в стиле сонного дачного поселка. Этот черноокий флегматичный красавец, вероятно, уже разменял четвертый десяток, но сорока еще явно не достиг. Разглядеть его более тщательно удается после того, как мы размещаемся в холле, где всю тяжесть разговора об этой несносной погоде и прочих вещах принимает на себя Розмари, а мне остается только глазеть, молча покуривая.
Не знай я об этом заранее, вряд ли бы я счел его янки. Во всяком случае, у него очень мало общего с тем типом породистого американского самца, который вестерны возвели в образец. Хорошо сложенный, среднего роста, Бэнтон обнаруживает явно выраженную склонность к полноте, обуздывать которую ему, как видно, стоит немалых усилий. Черная грива Бэнтона подстрижена не столь коротко, чтобы противоречить современной моде, но и не столь длинно, чтобы роднить его с хиппи. У него черные брови с каким-то меланхоличным изгибом и черные, исполненные меланхолии глаза — их выражение неуловимо, скрытое где-то в полумраке ресниц. Слегка горбатый нос, нисходящая, чуть надломленная линия которого тоже имеет нечто меланхоличное. Полные губы очерчены на матовом лице весьма отчетливо. А небольшая родинка на округлом подбородке, видимо, создает ему некоторые неудобства во время бритья. Возможно, в его жилах есть одна-две капли мексиканской или пуэрториканской крови. А может, он принадлежит не к «ковбойскому» типу янки, а к иному — изнеженному и мечтательному; такие в кинофильмах бренчат на гитаре, вместо того чтобы стрелять из кольта.
— Мистер Бэнтон, наш друг Пьер предпочитает играть в «плафон», — слышится голос Розмари, которая от погоды уже перешла к картам. — Вы не против?
— Предпочтение хозяина для меня закон, — с флегматичной улыбкой отвечает американец.
— Тут дело не в предпочтении, а в возможностях, — спешу я пояснить. — Иначе я бы не стал предлагать вам играть в такую вздорную игру.
— В наше время человеку подчас трудно судить, что вздорно, а что нет, — замечает Бэнтон. — Посмотришь, как одевается нынешняя молодежь, послушаешь, какими она пользуется словами…
Розмари, похоже, готова что-то возразить, но у входа снова слышен звонок. Это, как и следовало ожидать, наша соседка Флора Зайлер, поселившаяся у моих соседей, рантье. При ее появлении Бэнтон слегка вздрагивает, что происходит и со мной, хотя я успел заметить ее издали. Правда, одно дело увидеть ее издали, и совсем другое — в непосредственной близости.
Флора Зайлер и моя квартирантка примерно одного возраста — точность в этом вопросе вообще вещь относительная, — во всяком случае, моложе она не кажется. Зато ростом гораздо выше Розмари, что же касается объема, то она вполне могла бы вобрать две таких, как Розмари, и глазом не моргнув. Чтобы не впадать в злословие, я спешу пояснить, что фрау Зайлер вовсе не кажется толстухой, страдающей от нарушения обмена веществ, или дюжим мужиком, защищающим спортивную честь своей страны в метании молота. Все у нее пропорционально — если не принимать в расчет бюста и тазовых частей, изваянных природой с некоторой излишней щедростью, но тоже вполне пропорционально при внушительном росте метр восемьдесят. Словом, она принадлежит к разряду тех дородных самок, которые рождают чувство неполноценности у подавляющего большинства мужчин и возбуждают атавистические аппетиты у остальной части.
Немка по-свойски жмет мне руку, затем Бэнтону, и тот с трудом скрывает страдальческое выражение. Мне думается, его состояние объясняется не только богатырским рукопожатием дамы, но и присутствием на пальце американца массивного перстня. Не знаю, приходилось ли вам это замечать, но, когда на пальце у вас кольцо и вам крепко жмут руку, ощущение не из приятных.
Чтобы не чувствовать себя стесненной в кресле, Флора Зайлер располагает свою импозантную фигуру на диване, а Розмари подтаскивает поближе сервировочный столик с напитками, наш домашний бар. Несколько минут длится выбор напитков, расстановка бокалов и сложные манипуляции с кубиками льда, которые, как известно, все время норовят выскользнуть из щипцов. Розмари уже готовится произнести скромный вступительный тост, однако немка успевает заткнуть ей рот:
— Не лучше ли прямо приступить к делу? Я заметила, что этот светский ритуал, пустая болтовня, не столько сближает людей, сколько угнетает.
Остальные, кажется, разделяют ее мнение, потому что все мы как по команде берем в руки бокалы и рассаживаемся за зеленым столом, так удачно дополняющим интерьер холла. По жребию первую партию я должен играть с Розмари против Флоры и Ральфа, чем я очень доволен, потому что если уж ссориться, то лучше с близким человеком.
Играть в бридж я научился из чисто профессиональных соображений и довольно давно, в пору моих многочисленных перевоплощений, когда я так же, как отец Розмари, занимался часовым промыслом. Правда, с той поры, поры моей молодости, уже много воды утекло, так что поначалу я воздерживаюсь от не в меру громких анонсов, давая возможность моей квартирантке держать инициативу в своих руках, что очень льстит ее деятельной и амбициозной натуре — хлебом не корми, только бы ей делать заходы.
— Пьер, вы на меня не сердитесь, за мою промашку?.. — мило спрашивает Розмари, после того как проваливает игру, которая явно сулила удачу.
— Нисколько, дорогая. Я даже подозреваю, что вы это сделали исключительно ради того, чтобы поднять мое настроение. Когда другой опростоволосится, начинаешь ходить петухом.
В сущности, она играет очень неплохо, правда, имеет склонность к авантюризму, который в бридже дорого обходится, особенно когда имеешь дело с такими беспощадными партнерами, как Флора и Ральф. Они с головой уходят в карты и, очевидно, понимают друг друга без слов — я хочу сказать — в игре, потому что о Другом пока рано судить, — а к словам прибегают лишь для того, чтобы сделать анонс.
Роббер, как и следовало ожидать, кончается для нас катастрофой, и Розмари снова спрашивает, не сержусь ли я на нее, а я снова горячо отвергаю ничем не оправданное подозрение. Мы меняемся местами, и на этот раз я оказываюсь напротив американца, а уж если двое мужчин ополчаются против двух женщин, добром это, естественно, не кончается, так что после второго роббера мой проигрыш удваивается, и Флора, моя очередная напарница, несмотря на свою молодость, по-матерински утешает меня:
— Вы должны рассчитывать только на свою партнершу, мой мальчик, иначе не сносить вам головы.
Я говорю, что рассчитываю исключительно на нее, и она, будучи в прекрасном расположении духа, воспринимает мои слова как нечто само собою разумеющееся. Кстати сказать, немка нисколько не стесняется своих внушительных габаритов и держится так естественно, словно считает, что именно она являет собой олицетворение истинной самки и что не ее вина в том, что вокруг копошатся всякие пигалицы вроде Розмари. Она не выпячивает свои щедрые формы, но и прятать их тоже не намерена, тем более что это просто невозможно — не появляться же ей перед людьми в фанерной упаковке. Одета она без претензий, на ней юбка, блузка и кофта, небрежно накинутая на плечи, чтобы не стесняла пышную грудь. Эти вещички она приобретает только в самом модном ателье и, конечно же, по заказу. При таких размерах…
Рассчитывая на Флору, я зорко слежу за ее красноречивым взглядом и довольствуюсь лишь тем, что время от времени сдержанно анонсирую. Переговариваться взглядами не очень-то прилично для порядочных игроков, однако наши женщины сделали этот стиль нормой — Розмари тоже не упускает случая вперить взгляд своих карих глаз в глаза американца.
Флора достаточно разумно использует преимущества своих ног, а также авантюристические проделки моей квартирантки, от которых та не может отрешиться, так что под конец ей и в самом деле удается удержать меня над пропастью. Затем мы решаем немного подкрепиться.
К нашим услугам «холодный буфет», как выражается Розмари. Каждый кладет себе на тарелку что-нибудь из деликатесов, грудой лежащих на краю стола, и устраивается в кресле рядом с передвижным баром.
Один только Бэнтон ест возле бара стоя. Я подозреваю, что он боится слишком измять свой костюм, а может, не желает стеснять немку, расположившуюся на диване. Одет он безупречно, может быть, даже чуть более безупречно, чем приличествует светскому человеку. Я хочу сказать, что ему недостает той едва заметной небрежности, которая отличает светского человека от витринного манекена. Впрочем, для юрисконсульта светские манеры не так уж обязательны.
— На этот раз вы сплоховали, Ральф, — произносит Розмари. — Вместо того чтоб меня поддержать, вы объявляете пас.
— Эта поддержка обошлась бы вам очень дорого, — отзывается Флора, обращая на меня заговорщический взгляд — дескать, какая наивность.
— Да, но вы бы не выиграли всю партию. И если так случилось, то этим вы обязаны Ральфу.
— Очаровательная соседушка, — обращается к ней американец с нескрываемой апатией, из которой явствует, что он ни во что не ставит ее очарование. — Бывают минуты, когда щадишь противника, чтобы пощадить самого себя.
— Не понимаю вашей логики, — упорствует Розмари. — Нельзя же в одно и то же время щадить и себя и своего противника, если интересы у вас разные.
— И все же в определенные моменты такая логика единственно приемлема, — невозмутимо настаивает Бэнтон.
— Так же, как элементарный расчет, — добавляет немка, снова заговорщически на меня поглядывая. — Две тысячи тоже кое-что значат.
Вероятно, без злого умысла она скрестила передо мною свои импозантные ноги, и я прихожу к мысли, что щедрая плоть этой женщины несколько не согласуется с ее лицом, если иметь в виду нашу привычку ассоциировать крупные формы с добродушным характером человека. Быть может, эта привычка связана с нашими ранними воспоминаниями о матери, которая в глазах ребенка всегда кажется очень большой, и лишь немногие из нас имеют возможность впоследствии убедиться, что не всякая рослая женщина переполнена материнской добротой. Так или иначе, лицо Флоры подошло бы даме куда более грациозной, этакой кобре, бытующей в представлении иных людей как женщина-вамп. Высокие дуги бровей, миндалевидные переменчивые глаза, выступающие скулы и довольно крупный рот, все это в обрамлении роскошных темно-каштановых волос — с таким лицом можно при желании пробиться на большой экран или хотя бы сниматься в рекламных короткометражках косметических фирм. Только мне кажется, что Флора вовсе не из тех женщин, которые склонны довольствоваться убогим доходом от подобных аттракционов.
Особенно странные у нее глаза — неуловимые, изменчивые, то голубые, то сине-зеленые, то серые. Я думаю, тут сказывается свет настольных ламп, а также отражение зеленых обоев. Интересно, как обозначены эти глаза в ее паспорте.
А между тем разговор на картежную тему продолжается, хотя и без моего участия, присутствующие давно называют друг друга по имени, и это наводит меня на банальную мысль, что ничто так не сближает людей, как мелкие пороки, и что в иных случаях игра в карты или хорошая попойка могут сделать больше в этом отношении, чем два года знакомства.
— У вас, Ральф, вроде бы отсутствует жажда обогащения, — комментирует Розмари.
— Эта жажда в избытке присутствует у нас у всех, — спокойно отвечает американец.
— Нет, не у всех, — возражает Флора. — У меня создается впечатление, что наш хозяин принимает участие в игре, лишь бы составить нам компанию.
— Вероятно, он мечтает о прибылях покрупней, — бросает Бэнтон.
— Разумеется, — киваю я. — Что вовсе не означает, будто более скромный доход мне ни к чему.
Еще несколько таких же пустых фраз, служащих гарниром к нашему «холодному буфету», и мы снова садимся вокруг зеленого стола, чтобы начать второй кон. Заканчивается игра довольно скверно для Розмари, а для меня и вовсе катастрофически, несмотря на самоотверженные попытки Флоры избавить своего партнера от поражения.
— Весьма сожалею, что вам так досталось, — бормочет немка после того, как с расчетами уже покончено. — Беда в том, что мне не всегда удается соразмерить свои удары.
— Не стоит извиняться. Я доволен, что вы испытали пусть небольшое, но удовольствие.
— Вы вправе рассчитывать на реванш, и я предлагаю дать его у меня, — заявляет на прощание Бэнтон.
— Мы не упустим возможности воспользоваться вашим приглашением, — грозится Розмари.
После этого мне приходится коснуться бархатной руки американца и стерпеть энергичное рукопожатие немки.
— Вы просто невозможны, Пьер! — заявляет моя квартирантка, когда мы остаемся одни.
— Скверно играл?
— Нет. Это я скверно играла. Но вы какой-то совершенно бесчувственный. С моими страстями я даже начинаю обнаруживать комплекс неполноценности.
— Вы такая пламенная натура?
— Я имею в виду игру.
— Ну, если дело только в игре…
Быть может, она чего-то ждет. Или, может, я сам чего-то жду. Или мы оба ждем. Но, как это порой случается, если оба чего-то ждут, ничего не происходит. Так что спустя некоторое время я слышу собственные слова:
— Ральф тоже не кажется чрезмерно экспансивным.
— В тихом омуте черти водятся, — говорит в ответ Розмари.
И удаляется в свою спальню.
Воскресный день проходит в молчании — каждый сидит у себя в комнате, и лишь к обеду мы собираемся вместе, чтобы покончить с обильными остатками «холодного буфета». Спустившись под вечер в холл, я застаю свою квартирантку возлежащей на диване с какой-то книгой, в которой много иллюстраций — если судить по крупным цветным пятнам, заменяющим изображения, это, должно быть, репродукции полотен импрессионистов.
— Кончилось «Черное досье», — предупреждает Розмари. — Последний эпизод прокрутили вчера вечером как раз в тот момент, когда Флора вытрясала из вас последние франки.
— Выходит, одно напряжение я заменил другим, — философски замечаю в ответ. И, вытянувшись по привычке в кресле перед выключенным телевизором, добавляю: — Но вы, похоже, привыкаете к здешней летаргии. Лежите весь день, разглядываете картинки…
— Не разглядываю картинки, а занимаюсь самообразованием, — поправляет меня Розмари. — Неужели вы не видите разницы между человеком, принимающим пищу, и другим, жующим жвачку? Здешние жители не едят, а жуют жвачку, не используют время, а убивают его.
Мысль о времени переносит ее взгляд к окну, за которым в сумраке кружат голубоватые хлопья первого снега.
— Какая погода! И как назло завтра утром мне ехать в Женеву. И как назло у моей машины забарахлил мотор.
— А что за необходимость ехать в Женеву именно завтра?
— Вызывает отец.
— Поезжайте поездом…
— А я надеялась услышать: «Я вас отвезу».
— Дорогая Розмари, может быть, неосторожно с моей стороны подобным образом выказывать вам свою слабость, но для вас я готов даже на эту жертву.
— Браво, Пьер, вы делаете успехи! — взбодрилась она — Я хочу сказать: в лицемерии.
— Какая неблагодарность!
— Держу пари, что и у вас какие-то дела в Женеве.
От этой женщины ничего не скроешь. Кроме характера дел. Который, честно говоря, пока не совсем ясен мне самому.
К утру от снега не осталось ничего, только не совсем просох асфальт. Так что мы отправились в дорогу в моем «вольво» и к одиннадцати уже были в Женеве.
— Где прикажете вас оставить? — спрашиваю, пока мы медленно спускаемся с рю Монблан к озеру.
— В «Ротонде», пожалуйста. Я должна там встретиться с одной приятельницей.
Выполняю приказание, затем сворачиваю вправо и паркуюсь в первом попавшемся переулке. Иду пешком обратно, вхожу во двор столь дорогого моему сердцу отеля «Де ля пе», а оттуда проникаю в пассаж, ведущий на рю Монблан. Теперь витрина «Ротонды» как раз в поле зрения. В заведении достаточно светло, чтобы вполне отчетливо видеть Розмари, сидящую за столиком в углу. Приятельницы пока нет и в помине.
Пять минут спустя женщина расплачивается, надевает пальто, выходит на улицу и, торопливо озираясь, идет к набережной. Я тоже выхожу, только в обратную сторону, чтобы между мною и моей квартиранткой образовалась необходимая дистанция. Меня очень забавляет, когда я вижу, как она повторяет в общих чертах маневры, к которым я сам прибегал чуть больше месяца тому назад. Она оставляет в стороне два моста, чтобы пойти по третьему, предназначенному для пешеходов, и удостовериться, что за нею не тянется хвост. Но кого Розмари имеет в виду? Меня? Маловероятно. Если она так меня боится, зачем ей было со мной ехать? Впрочем, она могла поехать именно для того, чтобы показать, что бояться ей нечего.
В сущности, это и есть то самое дело, которым мне предстоит заняться в Женеве и которое мне самому пока не вполне ясно. И побудила меня заняться этим делом сама Розмари. С первых же дней нашего сожительства — вроде уже говорилось, что не следует искать двух смыслов в этом слове, — я сумел установить, что эта дама трижды заботливо перерыла мои вещи. Заботливо в том смысле, что все было с предельной точностью положено на прежнее место, все до последней мелочи. Имей она дело со случайным человеком, может, от подобного педантизма был бы толк, но с профессионалом — никогда. Профессионал умеет использовать самые разнообразные и подчас совершенно невидимые приметы, чтобы доподлинно установить, прикасались к определенным вещам или нет.
Впоследствии эти своеобразные обыски действительно прекратились, и оставалось решить, почему: то ли моя квартирантка пришла к убеждению, что я заслуживаю большего доверия, то ли сделала вывод, что я достаточно хитер, чтобы предоставлять в ее распоряжение компрометирующий материал? Так или иначе, эти ее обыски и бесконечное шастанье по дачному поселку вынудили меня временно бросить на произвол судьбы несчастного Бенато и заняться Розмари.
Оказавшись на рю де Рон, она ныряет в универсальный магазин «Гран-пассаж», чем обрекает меня на суровые испытания. «Гран-пассаж» — громадный четырехэтажный лабиринт с четырьмя выходами, а так как я нахожусь на почтительном расстоянии от него, то можно не сомневаться, что, пока я войду, Розмари потонет в толпе покупателей. Мало того, она может оказаться на верхнем этаже и без труда засечь меня у входа. Словом, ничего удивительного, если в этой толпе и при таком обилии зеркал в магазине мы поменяемся ролями — вместо того чтобы следить, я сам окажусь объектом слежки.
Раз уж дело принимает такой оборот, я решаю довериться не ногам своим, а разуму. Разум подсказывает мне вести наблюдение с Пляс дю лак, и не только потому, что один из выходов магазина ведет на эту площадь, но и потому, что в случае появления Розмари у одного из двух других выходов я отсюда смогу ее засечь Может, конечно, случиться, что она воспользуется четвертым выходом, но мои шансы не так уж малы — три к одному.
Появляется она на Пляс дю лак только двадцать минут спустя, когда у меня нет почти никакого сомнения, что я ее упустил. Шмыгнув в обувной магазин на углу и выждав, пока она пройдет мимо витрины, я, пользуясь обычным в эту пору наплывом прохожих, иду за нею следом. Мне полагалось бы благодарить ее за то, что она не стала продолжать игру в прятки. Пройдя до угла, Розмари круто сворачивает в сторону и, быстро оглядевшись, покидает главную улицу. Ускорив шаг, я успеваю увидеть ее в тот момент, когда она входит в четвертый по порядку дом — весьма современное строение в пять этажей.
Точка! — говорю себе, подавляя инстинктивный порыв кинуться к дому и по свету, зажигающемуся на лестничных площадках, установить хотя бы этаж, на который она поднимется. Если Розмари действительно опасается, что за нею тащится хвост, она в эту минуту затаилась на лестничной площадке и ждет, чтобы установить, появится кто-нибудь или нет.
Выждав несколько минут, я прохожу метров двадцать вперед и ныряю в кафе напротив; устраиваюсь в углу возле витрины, чтобы, оставаясь невидимым, можно было побольше видеть. Особого риска тут нет. Если даже Розмари придет в голову заглянуть в это заведение, я вовремя ее замечу и без труда смогу улизнуть через служебный вход.
Немногочисленные посетители беседуют, просматривают утренние газеты. Мигом снабдив меня чашкой кофе, официант обменивается со мной несколькими словами о погоде, в частности о вчерашнем снеге, который, по его мнению, определенно говорит о начале зимы, а зима, по всей видимости, должна быть в этом году очень холодной, и так далее. Я согласно киваю, дополняю его прогнозы кое-какими своими, заимствованными, впрочем, из телевизионных передач, потому что в телепередачах всего мира о погоде толкуют так много и так часто, будто от того, облачно будет завтра или нет, зависит судьба человечества.
Выпив кофе, я заказываю бутылку «эвиан», выкуриваю одну за другой три сигареты, обмениваюсь с официантом еще несколькими словами, на сей раз выручает другая дежурная тема — экономический кризис и рост цен. В тот момент, когда я тянусь за четвертой сигаретой, из дома напротив во всем своем блеске появляется Розмари. Забыл сказать, что у нее зимнее пальто маслиново-зеленого цвета, а зеленый цвет ей чертовски идет, в чем я успел убедиться, созерцая ее на фоне интерьера моего зеленого холла.
— Какая женщина! — тихо роняю я, когда Розмари направляется в обратный путь и мое опасение, что она может заглянуть в кафе, рассеивается.
— Мадемуазель Дюмон? — спрашивает официант, уловив мое восторженное восклицание.
— Вы ее знаете?
— Еще бы! Это же секретарша господина Грабера. — И, усмехнувшись с видом знатока, добавляет: — Какая женщина, не правда ли?
С этой женщиной мне предстоит встреча ровно через полчаса в ресторане «Бель эр», в пяти шагах отсюда, но в пяти шагах для нее, а не для меня. Взяв такси, я попадаю на противоположный берег. Захожу в телефонную кабину и раскрываю указатель телефонов. Когда известны имя и адрес, ничего не стоит навести кое-какие справки, так что я без особых усилий и без разорительных затрат получаю необходимую информацию:
ТЕО ГРАБЕР
ювелирные изделия и драгоценные камни.
Информация, которая пока что мне ничего не говорит; разве что объясняет, почему Розмари так хорошо разбирается в драгоценных камнях, в тех чарующе-переменчивых, а может быть, и в других. Но человек ведь никогда не знает заранее, когда и для чего ему может пригодиться та или иная информация. Так что, запомнив добытые сведения, сажусь в «вольво» и еду к «Бель эр».
— Надеюсь, вы сумели повидаться с отцом? — любезно говорю я, усадив свою даму за отведенный нам столик.
— Да. И самое главное, мне посчастливилось выудить у него некоторую сумму на покрытие вчерашнего проигрыша.
— Если вопрос заключался только в этом, вы могли сказать мне.
— Нет, Пьер. Я никогда не приму от вас такой услуги.
— Именно такой?
— Никакой… Впрочем, не знаю… Она, может быть, готова сказать еще что-то, но в этот момент появляется метрдотель.
— Я бы ни за что не подумала, что вы, не считаясь ни с чем, повезете меня в Женеву, потратив на это целый день, — доверчиво говорит она к концу обеда.
— Неужто я вам кажусь таким эгоистом?
— Нет. Просто я считала вас человеком замкнутым.
— А вы действительно очень общительны или только так кажется?
— Что вы имеете в виду?
— Ничего сексуального.
— Если ничего сексуального, то должна вам сказать, что я действительно очень общительна.
Что правда, то правда. Мне удалось в этом убедиться. А если меня продолжают мучить некоторые сомнения по части этого, то они скоро рассеются. Потому что уже на третий вечер, когда я вхожу в свою темную спальню и заглядываю в щелку, образуемую шторами, освещенный прямоугольник окна виллы Горанова предложил мне довольно интимную картинку: устроившись на своих обычных местах, Горанов и Пенев поглощены игрой в карты. Только на сей раз к ним присоединился еще один партнер — милая и очень общительная Розмари Дюмон.
3
Субботний полдень. Вытянувшись в кресле, я рассеянно думаю о том, как приятно контрастируют тепло электрического радиатора и весенние цвета зеленого холла с крупными хлопьями мокрого снега, падающими за окном. К сожалению, уютная атмосфера слегка нарушена зимним пейзажем внушительных размеров, украсившим стену холла стараниями Розмари. Пейзаж тоже зеленоватых тонов, только при виде этой зелени тебя начинает бить озноб.
— От этого вашего пейзажа мне становится холодно.
— Это пейзаж Моне, а не мой, — уточняет Розмари, раскладывая пасьянс.
— Какая разница? Когда я гляжу на него, мне становится холодно.
— Но, как бы вам объяснить, Пьер, картина предназначена не для обогрева комнаты.
— Понимаю. И все-таки на этот пейзаж было бы более приятно смотреть в пору летнего зноя.
— Вы рассуждаете на редкость примитивно требуете от искусства того, в чем вам отказывает жизнь, — произносит Розмари, подняв глаза от карт.
— Лично я ничего не требую. Тем не менее мне кажется, что картина, раз уж вы вешаете ее у себя дома, должна чему-то соответствовать. Какому-то вашему настроению.
— Эта картина как раз соответствует. Соответствует вам, — говорит Розмари. И, заметив мое недоумение, добавляет: — В самом деле, посмотрите на себя, чем вы отличаетесь от этого пейзажа: холодный, хмурый, как пасмурный зимний день.
— Очень мило с вашей стороны, что вы догадались повесить мой портрет.
— А если бы вы решили украсить комнату каким либо пейзажем, который бы напоминал обо мне, что бы вы повесили? — спрашивает Розмари.
— Во всяком случае, ни пейзажа, ни какой-либо другой картины я бы вешать не стал. Все это слишком мертво для вас. Я бы положил на виду какой-нибудь камень, чье утро изумрудное, полдень золотистый, послеполуденное время голубое, а вечер цикламеновый.
— Такого камня не существует.
— Возможно. Вам лучше знать. Я полагаю, природа драгоценных камней вам знакома не меньше, чем импрессионисты.
— И неудивительно. Ведь и в том и в другом случае это природа переменчивой красоты, — отвечает она, глазом не моргнув.
— Неужто в университете вы и камни изучаете? — продолжаю я нахально.
— Камни я изучала у одного приятеля моего отца. Он владелец предприятия по шлифовке камней, — все так же непринужденно объясняет Розмари. — И совсем не с научной целью, а только потому, что от них просто глаз не оторвать.
— Но чем Же они вас привлекают? Красотой или дороговизной?
— А чем вас привлекает жареный цыпленок? Тем, что у него приятный вкус, или своей питательностью?
— Конечно, что-то должно преобладать.
— Тогда о чем разговор? Разве не ясно, что преобладает?
Она задумывается на какое-то время, потом говорит уже иным тоном:
— Как-то раз, увидев у него — ну, у приятеля моего отца — великолепный бесцветный камень, я сказала с присущей мне наивностью: «Наверно, этот брильянт стоит немалых денег». Он добродушно засмеялся:
«Да, он действительно стоил бы немалых денег, будь это брильянт. Только это всего лишь белый сапфир». И можете себе представить, Пьер, не успел он произнести эти слова, как блеск восхищавшего меня камня вдруг померк.
— Неужели этот приятель и не попытался реабилитировать камень в ваших глазах?
— Каким образом?
— Подарив его вам.
Розмари скептически улыбается.
— А вы бы это сделали?
— Не раздумывая. Жаль только, что к камням я не имею никакого отношения.
Она смотрит на меня, потом задумчиво произносит:
— Интересно, к чему же вы имеете отношение. — И добавляет, уже совсем другим тоном: — Пожалуй, мне пора одеваться. Вы, конечно, не забыли, что мы сегодня вечером идем к Флоре?
Итак, мы у Флоры. Трудно сказать, в который уже раз, потому что наши сборища давно стали традиционными и довольно частыми, а по календарю уже март, хотя на улице все еще падают хлопья снега.
Немка принимает нас в просторной «студии», образовавшейся из двух комнат после того, как съемщица убрала разделявшую их стену. Обстановка здесь в отличие от нашего зеленого холла простая и удобная — ни лишней мебели, ни настольных ламп. И если обстановка квартиры позволяет судить об индивидуальных особенностях ее хозяина, то нетрудно прийти к заключению, что фрау Зайлер будуарному быту явно предпочитает здравый практицизм. Никаких галантных сцен, никаких импрессионистов. Единственное украшение — три-четыре фарфоровые статуэтки, расставленные на низком буфете, рекламные подарки завода фарфоровых изделий — Флора представляет фирмы, снабжающие человечество столовой и кухонной посудой.
В этот раз состязание начинается в мою пользу — явление очень редкое, потому что обычно я проигрываю. Проигрываю по мелочам, не как первый раз.
— У вас недурно получается, — утешает меня в таких случаях Бэнтон. — Вам, должно быть, и в любви так везет.
— Охота вам говорить банальности, Ральф, — говорит Розмари. — Если человек апатичен в игре, он и в любви такой.
Тут немка могла бы возразить, что американец при всем его равнодушии к флирту в игре малый не промах, но она не возражает. Насколько я могу судить по моим беглым наблюдениям, Флора несколько раз пыталась флиртовать с Бэнтоном, но, увы, так и не сумела вывести его из летаргического состояния. Может быть, он не любитель крупных форм…
Итак, я определенно выигрываю, но мне особенно везет с момента, когда я сажусь напротив импозантной фрау Зайлер, потому что весь этот затяжной кон лучшая карта почти всегда оказывается в моих руках, а Розмари с Бэнтоном отчаянно обороняются; их оборона продолжается даже тогда, когда они попадают в опасную зону, а удары возмездия со стороны беспощадной немки сыплются один за другим, и наш банк все больше обретает контуры небоскреба, так что, когда Флора наконец подводит черту и делает сбор — бухгалтерские операции всегда выполняет она, — Ральф вынужден признать, что он никогда в жизни так не прогорал.
— Как видите, ради вас стараюсь, мой мальчик, — тихо говорит Флора, и я не могу не заметить, что глаза ее под действием скрытого внутреннего ликования обрели лазурный цвет.
— Вполне естественно, — отвечаю я. — Не будь людей вроде меня, никто бы не стал покупать ваших тарелок, поскольку нечем было бы их наполнять.
— Боюсь, вы ошибаетесь, полагая, будто моя симпатия к вам связана с тем, что вы торгуете продовольствием, — парирует немка, чем еще больше портит настроение моей квартирантки.
В результате длительного сожительства Розмари привыкла обращаться со мной, как со своей собственностью, хотя, в сущности, между нами не происходит ничего, кроме пустых разговоров. Но если в данном случае подначки Флоры вызывают у нее раздражение, то только потому, что этому предшествовал скандальный проигрыш. Обычно она умеет скрывать свое состояние. И если сейчас теряет над собой контроль, то это признак того, что она только начинает беситься. Озлобленная до предела, Розмари обычно предпочитает молчать.
Теперь уже Розмари моя напарница, она сосредоточенно смотрит в карты, и я, имея возможность немного поднять ее настроение, объявляю три без козырей, вслед за этим Розмари с торжествующим видом провозглашает четыре пики, не считаясь с тем, что я закрыл игру, в результате чего две кругленькие «помахали мне ручкой». Но три без козырей или четыре пики в любом случае — большой шлем, и это в какой-то мере воодушевляет мою партнершу, которая даже благоволит сказать мне:
— Очень сожалею, Пьер, но мне в голову не пришло, что тузы способны принести вам две сотни.
— Не стоит сожалеть. Я с истинным наслаждением наблюдал, как лихо вы разыгрывали конечную партию, — галантно отвечаю я, даже чересчур галантно, потому что никакой лихости в ее игре не было, да и при такой карте любой дурак мог выиграть.
— Ну, вы довольны? — спрашиваю, когда и второй манш заканчивается в нашу пользу.
— Чему тут радоваться, — отвечает Розмари. — С Флорой вы выиграли раза в три больше. Значит, вы любите Флору больше меня.
— А может, и я его люблю больше, чем вы, дорогая, — невозмутимо вставляет немка.
Так или иначе, закуска сейчас важнее, чем любовь, и мы отправляемся к длинному буфету, где наряду с рекламными, фарфоровыми, расставлены тарелки и попроще, с виду совсем плоские, заваленные мясом и зеленью. Практицизм немки находит свое выражение и на поприще кулинарного искусства. Она предлагает нам не так много, зато все достаточно вкусное, хотя нет в этом ни расточительных импровизаций Розмари, ни дорогостоящего гурманства американца, который заказывает закуски для своих вечеров в ближайшем ресторане.
— Будьте великодушны, ешьте сколько влезет! Иначе мне придется самой целую неделю доедать все это добро, — подбадривает нас немка, у которой вошло в привычку поддерживать светский разговор, пренебрегая светским тоном.
И мы едим, сколько в силах съесть, после чего снова принимаемся за карты, и в соответствии с правилом «повезет, так повезет» я продолжаю выигрывать, и первый мой выигрыш опять с Розмари, хотя, будь ты неладно, он и в этот раз намного меньше того, какой мне достался час спустя, когда моей напарницей стала немка.
— Теперь уже сомнений быть не может: вы и в самом деле больше любите Флору, чем меня, — констатирует моя квартирантка.
— В три раза больше, — уточняет хозяйка дома, чтобы подлить масла в огонь и подчеркнуть, как внушительна наша общая победа.
И ее миндалевидные лазурно-голубые глаза смотрят на меня так, словно она, после стольких встреч, впервые меня заметила. Этот взгляд мог бы пробудить во мне кое-какие мысли, будь я любитель столь большого формата и не знай я того, о чем, может быть, не подозревает Розмари: что эта самая Флора, кокетничающая своей холодностью и независимостью, уже завела себе приятеля.
— А немка изрядно действовала мне на нервы, — признается Розмари, когда мы возвращаемся домой.
— Я полагаю, дело тут не столько в ней, сколько в невезении.
— Да, верно. Но и в ней тоже.
После этого неожиданного признания собственной слабости она желает мне спокойной ночи и удаляется к себе.
О приятеле Флоры я узнал совсем случайно. Но если в течение месяцев ты общаешься с определенными людьми и жизнь протекает в таком тесном месте, как Берн, случайности становятся в какой-то степени закономерностью.
Это произошло во время одной из моих обычных прогулок по главной улице и прилегающим переулкам. Во время прогулок мне не раз случалось встретиться то с Ральфом, то с Флорой, но, обменявшись на ходу несколькими словами, каждый шел по своим делам. Однако, стоит мне встретить Розмари — если она не торопится на какой-нибудь крайне интересный диспут, — все мои планы рушатся, потому что она тут же тащит меня в какое-нибудь кафе или в кино и делает это с такой же милой непринужденностью, с какой поселилась в моем доме.
В этот раз встреча происходит не с Розмари, а с Флорой, и не на главной улице, а в куда более пустынном месте, довольно необычном для встреч. Тут я должен пояснить, что часть старого Берна имеет как бы два этажа, притом верхний этаж находится на одном уровне с главной улицей, а нижний — значительно ниже уровня реки Ааре. Прогуливаясь в тот день, я ненароком забрел именно в этот, нижний этаж, образуемый множеством строений весьма мрачного вида, вдоль которых тянется столь же мрачная крытая галерея.
Медленно двигаясь по галерее, я вслушиваюсь в собственные шаги, отчетливо звенящие под сводами. Наконец галерея остается позади, но я иду дальше. Слева течет река, глубокая и бурная, однако ее воды в этот зимний день утратили свой сине-зеленый цвет и сделались холодно-серыми. Они такие же переменчивые, как глаза Флоры, говорю я себе и, как бывает в подобных случаях, с удивлением вижу впереди Флору.
К счастью, она довольно далеко, у входа в громоздкий обветшалый лифт, который при всей своей неуклюжести способен за две минуты доставить вас в верхний город, куда пешком, в обход, пришлось бы топать два километра. Укрывшись за стоящим поблизости грузовиком, я осторожно посматриваю в сторону лифта.
Флора не одна. Возле нее торчит какой-то мужчина, ростом значительно ниже ее, зато плечи у него широкие, и всем своим видом он смахивает на профессионального борца. Случайный прохожий, если бы он вообще обратил на них внимание, наверняка принял бы их за незнакомых друг другу людей, ждущих лифта. Они, похоже, именно на это и рассчитывают, назначив здесь свидание, и — чтобы иллюзия была полной — стоят, почти отвернувшись друг от друга: Флора смотрит на реку, а борец — на свои ботинки.
Они стоят, будто совершенно незнакомые люди — мол, я тебя знать не знаю. Но вот что странно: они переговариваются между собой. Правда, с расстояния, которое нас разделяет, а также из-за того, что мне необходимо прятаться за грузовиком, я лишен возможности отчетливо слышать их слова. Зато мне легко вести за ними наблюдение, и я вижу, что разговор становится слишком затяжным для двух незнакомых людей, случайно столкнувшихся при входе в лифт.
Наконец Флора входит в кабину, которая, очевидно, давно уже ждет пассажиров, а борец предпочитает идти пешком и прямиком шагает в мою сторону. Я быстро обхожу грузовик, пересекаю асфальт и спускаюсь к реке, чтобы не маячить на горизонте. Несколько минут спустя я снова возвращаюсь на исходную позицию, к грузовику, и устанавливаю, что незнакомец уже удаляется по каменному полу галереи.
Пока тяжелый лифт медленно возносит меня к небольшой площади перед городским собором, я спешно провожу военный совет сам с собой. Подобные советы — довольно обычное и весьма полезное для меня занятие, хотя какой-нибудь психиатр определенно усмотрел бы в этом симптом шизофрении. В сущности, это горячий спор между мной — осторожным скептиком и другим мной — предприимчивым оптимистом. А как говорит генерал, спор нередко помогает найти лучшее решение.
Напасть на след борца не составляет особого труда. Пешеходный путь в верхний город только один, и, выиграв достаточно времени с помощью лифта, мне остается лишь подождать моего незнакомца. Только все оказывается не так просто. Не исключено, что Флора тоже где-нибудь затаилась, чтобы проверить, не ведется ли наблюдение за ее дружком. Может, и у него самого есть соучастник. Наконец, не исключена возможность и того, что незнакомец просто-напросто шмыгнет в первый попавшийся проулок, где ждет его машина, и ускользнет от меня. Спрашивается, стоит ли уже сейчас идти на риск, не лучше ли выждать еще немного?
Конечно, мне порядком осточертело выжидать. Я четыре месяца кисну в этой стране — и все на исходной позиции, и все с тем же нулевым результатом. Однако именно тогда, когда ожидание уже сидит у тебя в печенках, нужно соблюдать предельную осторожность, нельзя от нетерпения и досады совать голову в петлю.
К моменту моего выхода на площадь кафедрального собора военный совет окончен и принимается решение идти на риск. Нырнув в маленькое кафе в конце главной улицы, я дожидаюсь, когда из-за угла появится борец, и иду следом, держась на некотором расстоянии. В конце концов, что особенного, что я шагаю себе в тридцати метрах позади какого-то там гражданина, чье существование меня нисколько не занимает, да еще в этом небольшом городе, где все находится в двух шагах от главной улицы.
Незнакомец идет в приличном темпе — сразу видно, знает, куда идет, и ценит каждую минуту. Как выясняется, цель его — городской вокзал, точнее, поезд Берн — Базель — Мюнхен. До отхода поезда остается восемь минут — их хватает мне, чтобы сбегать к кассе и запастись билетом. Билетом до Базеля. Хотя не исключено, что придется продолжить путь до Мюнхена.
Медленно шествуя по перрону, я вижу: борец садится в вагон второго класса. Вхожу в тот же вагон. Выбираю местечко подальше, чтобы не мозолить ему глаза, но и достаточно близко, чтобы вести за ним наблюдение. Вынув из кармана газету, я по примеру своих соседей погружаюсь в изучение обстановки на бирже.
Езда до Базеля длится около часа. За это время я всего лишь четыре раза бросил взгляд на борца, пользуясь тем, что его тоже увлекли биржевые страсти. Человеку, видимо, и в голову не приходит, что за ним следят, а я, в свою очередь, не собираюсь убеждать его в обратном — нескольких беглых взглядов вполне достаточно, чтобы получить необходимую зрительную информацию, если, конечно, у тебя наметан глаз.
Незнакомцу лет пятьдесят — шестьдесят, но признаков дряхлости пока не видно. Сейчас, когда он снял серую шляпу с узкими полями, я могу видеть его большую голову, словно увенчанную лоснящимся куполом бритого темени. Похоже, он его выбривает столь же регулярно, как и свои толстые щеки. Встречаются мужчины, которые из боязни облысеть всю жизнь бреют голову.
Когда он отрывает глаза от газеты, я вижу их слегка прищуренными, словно он глядит на что-то ослепительное или весьма неприятное. Зато его чувственные ноздри кажутся не в меру открытыми, будто он воспринимает мир не столько зрением, сколько обонянием. В его массивной морде со свисающими сжатыми губами есть что-то бульдожье.
За полминуты до остановки поезда в Базеле незнакомец бросает газету на сиденье, встает, снимает с вешалки легкое пальто и шляпу и устремляется к выходу. Выждав минуту, я тоже выхожу на перрон.
Лишь в восьмом часу, после продолжительного томления в каком то кафе, человек приводит меня к своему обиталищу — к квартире на первом этаже нового жилого дома средней категории. На табличке значится:
МАКС БРУННЕР
торговый посредник.
Теперь, когда я установил наконец имя борца и несколько раз заснял его с помощью своей зажигалки, можно было бы считать свою миссию оконченной. Но где гарантия, что незнакомец привел меня именно к себе домой и что именно он и есть Макс Бруннер? В нашем деле, как и во всяком другом, поспешные выводы порождают иной раз невообразимую путаницу.
Выхожу на улицу и останавливаюсь на углу квартала, раздумывая, возвращаться мне домой или пока подождать. Перспектива снова ехать в Базель меня особенно не прельщает, а в сторону Берна, как мне удалось установить на вокзале, должны отправиться целых три поезда. Определенно есть смысл подождать, пусть даже перед пустыми яслями, как любит говорить генерал.
Мое терпение вознаграждается часом позже, когда борец снова появляется на улице. На сей раз он ведет меня в ближайший ресторан, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы окончательно установить, с кем я имею дело, потому что кельнер, принимая от него заказ, не перестает болтать: «Естественно, герр Бруннер», «Сию минуту, герр Бруннер», можно подумать, он понял мои сомнения и решил во что бы то ни стало убедить меня, что передо мной именно Макс Бруннер, торговый посредник, а не кто-либо другой.
Теперь, если взглянуть на вещи с профессиональной точки зрения, ужинать в этом захудалом ресторане мне вроде бы и ни к чему. Однако сам по себе ужин — дело стоящее, так что я выпиваю две кружки пива, съедаю две порции домашней колбасы с кислой капустой, делаю дополнительно несколько снимков борца и отправляюсь на вокзал.
Итак, одна парочка в общих чертах вырисовалась: Флора Зайлер и Макс Бруннер. Хотя рост у них разный, оба они существа массивные и чем-то напоминают тяжелые танки. Неприятная ассоциация. У таких лучше не стоять на пути. Но сейчас вопрос в том, куда и зачем они устремились. Быть может, эти двое должны остаться в стороне от твоего собственного пути? И не пошел ли ты по их следам из чисто профессиональной мнительности или просто от нечего делать?
Может, оно и так. Но чтобы удостовериться в этом, я при первой же возможности навожу справку — через человека, с которым встречаюсь каждую неделю в двух шагах от главной улицы.
— В сущности, что вас заставило покинуть Италию? — спрашиваю я, воспользовавшись редким молчанием моего собеседника.
— А мафия? — отвечает он вопросом на вопрос.
— Верно, мафия.
— А инфляция? — продолжает Бенато.
— Да, действительно, инфляция.
— Чтобы дать тягу, довольно одной серьезной причины. А у меня, как видите, их две.
Обед наш уже близится к концу, и муки Феличе, стоящего возле нас на страже, тоже вроде бы должны были кончиться после того, как он несколько раз менял оброненные приборы и собирал остатки разбитых фужеров. Сейчас мы заняты десертом, так что в худшем случае Бенато прольет на скатерть кофе или наперсток французского коньяку, который ему по традиции необходим, как финальный аккорд, для лучшего пищеварения.
К счастью или несчастью, вместо того чтобы пролить кофе на скатерть, мой компаньон выпивает его, что всегда делает его особенно болтливым, и мне приходится какое-то время выслушивать его обстоятельную информацию о характере и повадках итальянских гангстеров. Бенато знакомы все приемы ограбления человека — дома, в машине или идущего пешком по улице, — но вместе с тем он знает, как защищаться от грабителей.
— Мне эти типы ничего не могут сделать. Но почему я должен вечно быть начеку, вечно смотреть в оба? Рано или поздно это начинает надоедать, не правда ли?
Он вопросительно смотрит на меня круглыми глазами сквозь толстенные очки в массивной оправе, предназначенные для того, чтобы вовремя обнаруживать подстерегающую повсюду опасность. Не получив ожидаемого ответа, он склоняет над столом свое младенческое лицо и растерянно произносит:
— О! Эта сигарета… не знаешь, куда ее положить, Опять прожег скатерть…
Бенато гасит сигарету, чтобы минуту спустя закурить новую, которая тоже наверняка прожжет скатерть или его собственные штаны. Затем переходит к инфляции.
— В свое время мой дед обанкротился, — слышится его голос, уже несколько сонный: действие кофе мало-помалу прекращается. — Отец, кое-как встав на ноги, постепенно разбогател, но и он обанкротился. А я так рассчитывал на его наследство. Унаследовал же только одни долги. Обанкротились и мои дядюшки, сперва один, потом второй. Словом, банкротство в нашем роду вроде бы наследственная болезнь. А может, это болезнь века, как вы считаете? Может, эти банкротства не что иное, как предвестники бедствия, нависшего над всем человечеством?
— Трудный вопрос… — неуверенно отвечаю я, делая знак Феличе, чтобы нес счет.
Наступает момент, когда Бенато не без сожаления вынужден меня покинуть, так как его ждет важная встреча с каким-то греческим торговцем маслинами (я, конечно, понимаю, что встреча эта — с собственной постелью), так что я, как обычно, остаюсь в конторе один между календарями двух авиакомпаний и перед стопой утренних газет. Однако в этот раз я задерживаюсь здесь дольше обычного. По пятницам я всегда несколько засиживаюсь в конторе. Вместо того чтобы бродить по улицам с риском нарваться на кого-нибудь вроде моей дорогой Розмари, я предпочитаю отправиться прямо к месту встречи.
Пятница. Суеверные люди считают ее несчастливым днем. Но чем-то она удобна: завтра уик-энд, все торопятся пораньше сделать покупки и вернуться домой. Улицы пустеют рано. Самое время для встреч.
Выхожу на Бундесплац, где возвышается потемневшее от времени здание парламента — цитадель демократии, надежно защищенная цитаделями капитала: слева — Кантональный банк, справа — Национальный банк, а спереди — Креди Сюис и Шпаркассе. Обогнув парламент, спускаюсь вниз, к мосту, по которому я всегда возвращаюсь домой. Только на сей раз мне необходимо задержаться на этом берегу. Я уже говорил, что Берн имеет как бы два этажа, и не лишне добавить, что в этом месте, между верхним и нижним этажами вычерчиваются одна над другой — или, если угодно, одна под другой — узкие террасы, соединяющиеся между собой небольшими лестницами.
В этот уже мертвый час апрельских сумерек и в эту сырую ветреную погоду вокруг ни души. Опершись на каменный парапет верхней террасы, я окидываю взглядом нижнюю. В полумраке маячит длинная худая фигура нашего паренька. И как всегда в таких случаях, мне кажется, что рядом со мной стоит мой покойный друг Любо Ангелов. Ведь паренек на нижней террасе — его сын, Боян.
Любо ничего не говорит, привыкнув еще при жизни смотреть на все с профессиональной точки зрения. Но привычка привычкой, а родительское чувство тоже что-нибудь да значит, не может он не наведаться сюда, в это место, где его сын делает первые шаги. Любо молчит, а в моей памяти всплывают те далекие годы, когда он меня учил делать первые шаги, точно так же как я сегодня помогаю его сыну встать на многотрудный и неприветливый путь разведчика. Пройдет, сколько ему суждено, и передаст пароль другому.
В сущности, я бы мог и не спускаться на эту террасу и не заглядывать на нижнюю: миниатюрная рация действует на расстоянии двухсот метров. Но когда вокруг никого нет, я обычно прихожу сюда и, как бы выполняя молчаливую просьбу Любо, стараюсь собственными глазами увидеть Бояна.
Слегка повернув колпачок авторучки, я слышу еле уловимый шум, а затем знакомый тихий голос:
— «Вольво» пять.
Колпачок вращается в обратную сторону, и я сообщаю:
— «Вольво» шесть.
Принято. Разговор закончен. И при всей его лаконичности он содержит достаточно данных для той и другой стороны. Боян сообщает, что для меня оставлен материал, и что он хранится в нашем тайнике — в черном «вольво», похожем на мое, и что «вольво» оставлено в соответствующем месте на улице, пятой по нашему списку. А я информирую, что в тайнике будет оставлен мой материал и что машину я перегоню на шестую по списку улицу.
«Пятая» — длинный переулок, берущий начало от Бубенберга, достаточно далекий, чтобы по пути можно было убедиться, что за мной нет слежки, и достаточно близкий, чтобы не переутомляться от излишней ходьбы. Я без труда нахожу «вольво», неприметное среди множества других машин. Отпираю дверцу, сажусь за руль и трогаюсь. А во время стоянки перед красным светофором извлекаю из-под приемника оставленное для меня послание и кладу на его место свое. Операция длится ровно восемь секунд.
Однако, чтобы освободиться от машины, мне приходится потратить гораздо больше времени. И не только потому, что «шестая» находится довольно далеко от «пятой», но и в силу того, что мне так и не удается найти место для парковки. Это вынуждает меня в соответствии с договоренностью отогнать машину на «седьмую», где обычно бывает свободней. Прозаические, способные навеять тоску детали осуществляемой ныне операции, получившей условное наименование «Дельта».
Подчас простейшая комбинация предпочтительней любой другой. Но когда слишком упрощенная схема сулит провал, приходится прибегать к более сложной. Когда атака двух «Б» — Боева и Белева — потерпела неудачу, возникла необходимость подготовить атаку трех «Б» — Боева, Бояна и Борислава. В сущности, эти три элемента и образуют треугольник, который в греческой азбуке получил наименование «Дельта». Мне предстоит поддерживать контакт с противником, Бориславу — с Центром, а Бояну — между мною и Бориславом. В случае если одно из звеньев — Боян или Борислав — сгорит, треугольник должен быть восстановлен за счет подключения нового действующего лица. Если же случится сгореть мне, то на операции «Дельта» вполне можно будет поставить крест. По крайней мере до новых указаний.
Возвращаюсь на Беренплац, где стоит моя собственная машина. Довольно иметь дело с тайниками. Пора возвращаться на легальное положение скучного и ничем не примечательного гражданина Пьера Лорана.
Пока я шарю в кармане, чтобы найти ключи, открывается дверь, и на пороге показывается Розмари, лишний раз демонстрируя свою способность перевоплощаться — одетая строго, хотя и не без шику, она теперь кажется этакой наивной и миловидной маменькиной дочкой.
— Ах, вы уходите? И в канун уик-энда оставляете меня одного? — восклицаю я с легкой горечью, хотя, честно говоря, в данный момент мне ужасно хочется, чтобы она убралась куда-нибудь и не мозолила мне глаза.
— Мне очень жаль, Пьер, но наш сосед герр Гораноф пригласил меня на чашку чая. Постарайтесь умерить свою скорбь. Гораноф принадлежит к числу людей, которые после двух партий белота начинают зевать, так что едва ли вам придется долго скучать без меня.
Окрыленный этим обещанием, я вхожу в свое скромное жилище, ставлю на плиту чайник, а затем поднимаюсь в библиотеку и читаю послание. Это ответ на мой запрос относительно Макса Бруннера. Ответ весьма краткий, но, чтобы составить его, видимо, потребовалось провести целое исследование.
Теперь мне известно, что Бруннер закончил курс экономических наук, войну провел — вероятно, благодаря определенным связям — в интендантских частях, сравнительно безбедно, в звании обер-лейтенанта. После войны обосновался — опять же не без связей — на поприще торговли. В военных преступлениях не замешан, в каких-либо политических выступлениях активного участия не принимает.
Словом, весьма безынтересные сведения, кроме одного-единственного пункта: в 1943—1944 годах интендантская часть, в которой служил Макс Бруннер, находилась в Болгарии. Пункт, над которым стоит поразмыслить. Особенно если предположить, что Флора, за которой скрывается Бруннер, оказалась соседкой болгарина Горанова не по чистой случайности, а по каким-то соображениям.
Бруннер — Флора — Горанов — это уже некие штрихи изначальной схемы. Как бы разновидность «Дельты», с той разницей, что здесь одно звено, возможно, охотится за другим через посредство третьего. Но при всей своей привлекательности эта наметившаяся схема пока лишена реального, конкретного смысла. Даже если такой смысл и существует, никто, кроме самой Флоры или самого Бруннера, раскрыть мне его не в состоянии. Но я не знаю, удобно ли, прилично ли будет явиться к кому-нибудь из них и спросить: «Скажите прямо, какого вам черта нужно от этого старика Горанова?»
Я иду в ванную, сжигаю над раковиной письмо и мою раковину намыленной щеткой — при такой любопытной квартирантке, как Розмари, лучше не оставлять следов. Затем, в спальне, я сквозь щелку между шторами наблюдаю, как моя квартирантка режется в карты с этими подозрительными типами, Горановым и Пеневым, как они одаряют ее милыми улыбками и наперебой угощают чаем, конфетами и печеньем.
В конце концов мне надоело созерцать эту сердцещипательную идиллию, и я спохватываюсь — чайник на плите, должно быть, уже закипел. Спустившись в кухню, завариваю чай и достаю кое-что из холодильника. Довольно постный ужин в канун уик-энда и довольно убогая схема для построения определенной гипотезы: Бруннер — Флора — Горанов.
Затем, в зеленом оазисе холла, я дремлю в мягком кресле, прислушиваясь к звонкому пению капели, оповещающей меня в этот голубой вечер, что наконец идет весна.
Да, наконец-то идет весна, и Розмари наконец-то возвращается домой.
— Как мило с вашей стороны дождаться моего прихода! — щебечет она, едва переступив порог. — Эти жалкие люди совсем уморили меня.
— Ничего удивительного, — отвечаю я. — Можно только гадать, во имя чего вы подвергаете себя такой пытке. Мало сказать охотно — с восторгом.
— Какой вы скверный, — тихо роняет она, опускаясь на диван. — Еще немного, и вы уличите меня в мазохизме.
— Почему бы и нет? Извращения становятся сейчас чем-то вроде нормы.
— Но если я не в силах ответить отказом, когда пожилой человек приглашает меня на чашку чая?
По моим личным наблюдениям, чтобы удостоиться этой чашки чая, Розмари на протяжении долгих недель приставала к пожилому человеку: строила глазки и при каждом удобном случае останавливалась у его садовой ограды, чтобы поболтать о том о сем. Но стоит ли придавать значение таким пустякам?
Быть может, не стоит придавать значение и тому обстоятельству, что, вырядившись в коротенькую юбку, сейчас эта маменькина дочка так бесцеремонно закинула ногу на ногу, что моему взгляду представилась поистине живописная картинка — ее стройные бедра обнажились вплоть до того места, где природе было угодно их соединить. И вообще в последнее время Розмари ведет себя дома, мягко говоря, непринужденно выходит при мне в холл в одной комбинации, почти голая, чтобы сказать мне какую-нибудь ерунду. Словно я бездушный робот или некое бесполое существо То ли она действительно считает меня до такой степени холодным, то ли надеется проверить, так ли это на самом деле, но ее бесцеремонность уже начинает меня раздражать.
— В свое время вы меня заверяли, что не будете звать гостей, — напоминаю я своей квартирантке.
— О Пьер! Ведь вы же сами…
— Вы заверяли, что вам несвойственно приставать к хозяину, а теперь вот убеждаете меня в обратном.
— О Пьер! Неужели вы считаете…
— Да, считаю. И эта ваша поза говорит о том, что, кроме мазохизма, вам не чужд и садизм…
— О Пьер! — восклицает Розмари в третий раз. — Зря вы пытаетесь выступить в несвойственной вам роли! Не станете же вы отрицать, что я для вас всего лишь собеседница, помогающая вам убить время? Хотя иной раз мне кажется, вы и в собеседнице-то не нуждаетесь.
Она произносит этот небольшой монолог и не подумав сменить позу, не придавая ни малейшего значения тому, куда направлен мой взгляд. Это бесит меня еще больше. Но ей вроде бы все равно, а может, наоборот — она отлично понимает, что к чему, и, словно для того, чтобы совсем уж довести меня, бесстыдно спрашивает:
— Чего вы на меня так смотрите?
— Вас это смущает?
— Во всяком случае, я не хочу, чтобы меня изучали, словно какую-то вещь. И потом, я не могу понять, то ли вы оцениваете качество моих чулок, то ли пытаетесь разобраться в сложностях моей натуры.
Будь я Эмиль Боев, я бы сказал ей такое, что она сразу бы заткнулась. Но так как я не Эмиль Боев, а Пьер Лоран, мне приходится проглотить эту пилюлю, и я спокойно произношу:
— Не воображайте, что ваша натура — непроходимые джунгли.
— Ага! Наконец-то вы ухватились за путеводную нить. Не могу не радоваться — авось и мне она поможет.
— Запросто! Вы только трезво оцените всю сложность собственной натуры…
— Вы как-то не очень ясно выражаетесь.
— Боюсь, как бы вас не задеть.
— А вы не бойтесь. Шагайте прямо по цветнику.
— Зачем же топтать цветы? Вы сами в состоянии разобраться в себе. Вы ведь понимаете природу мимикрии?
— Это и детям ясно.
— Вот именно. Ваши уловки им так же были бы ясны. Только у хамелеона срабатывает инстинкт, а вы действуете строго по расчету. «Сложность» вашей натуры покоится на чистом расчете. И потому вы так ее афишируете. Все эти маски, позы и перевоплощения диктует вам довольно нехитрое счетное устройство, заменяющее вам мозг и сердце.
Безучастное выражение, до последней минуты владевшее ее лицом, постепенно сменилось оживлением. Да таким, что я бы нисколько не удивился, если бы она протянула руку к столику и шарахнула хрустальной пепельницей меня по голове. Но как я уже говорил, когда Розмари приходит в бешенство, буйство для нее не характерно. Какое-то время она сидит молча, вперив взгляд в свои обтянутые нейлоном колени, потом поднимает голову и произносит:
— Того, что вы мне сейчас наговорили, я вам никогда не прощу.
— Я всего лишь повторяю вашу собственную теорию об эгоистической природе человека.
— Нет, того, что вы сейчас наговорили, я вам никогда не прощу, — повторяет Розмари.
— Что именно вы не склонны мне простить?
— То, что вы сказали относительно сердца.
— О, если только это…
Чтобы живописная картина больше не маячила у меня перед глазами, я встаю и закуриваю сигарету. Затем делаю несколько шагов к окну и всматриваюсь в голубизну ночи, а тем временем звонкая капель методично повторяет все ту же радиограмму о наступлении весны.
— Возможно, я выразилась слишком упрощенно, но, если я говорю, что люди эгоисты, это вовсе не означает, что все они на одно лицо, — слышу за спиной спокойный голос Розмари. — И если у одного человека, вроде вас, грудь битком набита накладными да счетами, не исключено, что в груди другого бьется живое сердце.
— Вы тонете в противоречиях.
— Противоречия в природе человека, — все так же спокойно отвечает Розмари. — Пусть это покажется абсурдным, но есть люди, у которых эгоизм не вытеснил чувства. И как это ни странно, я тоже принадлежу к числу таких людей, Пьер.
Она встает, тоже, видимо, решив поразмяться, и направляется в другой конец холла.
— Я верю вам, — говорю в ответ, чтобы немного успокоить ее. — Может, я хватил через край, когда коснулся последнего пункта.
— Нет, вам просто хотелось меня уязвить. И если у меня есть основание расстраиваться, то только из-за того, что вам это удалось.
— Вы мне льстите.
— Я действительно привязалась к вам, Пьер, — продолжает моя квартирантка и делает еще несколько шагов по комнате. — Привязалась просто так, против собственной воли и без всякого желания «приставать к хозяину», как вы выразились.
— Может быть, именно в этом и состоит ваша ошибка, — тихо говорю я.
— В чем? — Розмари останавливается посреди холла. — В том, что привязалась, или в том, что не приставала к вам?
— Прежде всего в последнем. Чтобы убедиться, что у человека есть сердце, нужны доказательства.
Она делает еще несколько шагов и, подойдя ко мне вплотную, говорит:
— В таком случае я уже опоздала. Мы до такой степени привыкли друг к другу, что…
Как я уже сказал, она подошла ко мне вплотную, я ей не удается закончить фразу по чисто техническим причинам.
— О Пьер, что это с вами… — шепчет Розмари, когда наш первый поцелуй, довольно продолжительный, приходит наконец к своему завершению.
— Понятия не имею. Наверно, весна этому причина. Неужто не слышите: весна идет.
Я снова тянусь к ней, чтобы заключить ее в свои объятия. Но, прежде чем позволить мне это сделать, она резким движением опускает занавеску.
Потому что, как я, кажется, уже отмечал, в жизни в отличие от театра действие нередко начинается именно после того, как занавес опускается.
4
Весна наступает бурно и внезапно. Буквально на глазах раскрываются почки деревьев. За несколько дней все вокруг окрашивается зеленью — не той мрачной, словно обветшалой, которая зимует на соснах, а светлой и свежей зеленью нежных молодых листьев. Белые стены и красные крыши вилл, еще недавно так отчетливо вырисовывавшиеся на фоне темных безлистых зарослей, потонули в серебристом и золотистом сиянии плодовых деревьев. Цвета окрест переменчивы и неустойчивы, как на любимых картинах Розмари или у камней со странными именами; переменчивы и неустойчивы, радующиеся и свету и тени, потому что в вышине, между солнцем и землей, теплый ветер юга гонит по синему небу белые стада.
Перемены, увы, носят главным образом метеорологический характер и лишь отчасти — бытовой. Как выразилась моя квартирантка, мы с нею давно до такой степени привыкли друг к другу, что перемена в области наших чувств всего лишь легкий штрих на привычном фоне обыденности, легкий штрих, который только мы одни способны заметить.
В остальном все идет как прежде, каждый следует своему будничному распорядку, и лишь иногда, в послеобеденную пору, поскольку дни стали длиннее, а соседний лес — приветливей, мы, вместо того чтобы валяться в зеленом интерьере нашего не столь обширного холла, скитаемся в просторном зеленом интерьере леса или сидим на скамейке у дорожки и всматриваемся в изумрудную равнину, за которой возвышаются лесистые холмы, над ними сияет цепь горных хребтов, а еще выше встают заснеженные альпийские вершины под огромным небесным куполом, в необъятности которого теплый южный ветер торопливо гонит стада облаков.
Однажды Розмари предложила мне сходить в Поселок Робинзона, к ее знакомым. Молодые супруги из среды интеллигентов-экстремистов проживали в небольшой стандартной квартире, в этом супермодном микрорайоне, состоящем из двухэтажных бетонных ящиков. С профессиональной точки зрения ее знакомые не представляют для меня ни малейшего интереса, и, будь в наших отношениях хоть немного искренности, я должен был бы признаться, что познакомиться с ее шефом Тео Грабером мне было бы куда приятнее. Только искренность с Розмари — непозволительная роскошь, и так как я не максималист, то на данном этапе мне лучше довольствоваться дружбой и любовью без излишней откровенности. Потому что, как говорят французы, даже самая красивая девушка может дать не больше того, что у нее есть.
Экстремисты устроились весьма удобно, если хаотическое нагромождение транзисторов, магнитофонов, книг, алкогольных напитков прямо на полу, на синем искусственном половике в просторном холле, можно считать удобным. Вообще эти супруги так и живут на половике: принимают гостей на половике, предлагая им подушки для удобства, пьют виски и слушают поп-музыку на половике, спят, по всей видимости, тоже на половике, как бы говоря тем самым, что плевать они хотели на иерархическую лестницу — им, дескать, больше по сердцу скромный быт социальных низов.
Однако никаких других примет, доказывающих связь наших хозяев с эксплуатируемыми классами, мне обнаружить не удается, о чем я позволяю себе сказать открыто, когда знакомый репертуар о перманентной революции и об аскетической бедности во имя абсолютного безличия и полного равенства мне изрядно надоел.
— А что вам мешает? — спрашиваю. — Выбросьте все из квартиры, вместе с этим синтетическим половиком, напяльте на себя три метра зеленой холстины и живите прямо на полу. Или еще лучше: выдворите сами себя из дому и шагайте по дорогам перманентной революции.
Я говорю это супруге, точнее, предполагаемой супруге, потому что у обоих этих субъектов длинные соломенные патлы, хилые плоские фигуры и оба они в джинсах с декоративными заплатами.
Супруга отвечает, что я слишком вульгарно понимаю их воззрения и что в социальном равенстве они видят прежде всего высший абстрактный принцип, а не вульгарную житейскую практику.
После этого супруг — или предполагаемый супруг — снова подливает виски, доказывая этим, что идейная конфронтация его не трогает, и принимается развивать очередную теорию, оправдывающую террор как высшую форму революционного насилия.
— Я торгую преимущественно маслинами и брынзой, — говорю я, улучив момент, — но у меня в коммерческом мире обширные связи, и мне ничего не стоит снабдить каждого из вас парой пистолетов любой марки и ящиком ручных гранат. Так что если будет нужда в экипировке, дайте мне знать.
Тут супруга опять торопится возразить в том духе, что теория революционного действия — это одно, а практика — совсем другое и что разделение умственного и физического труда, которое произошло еще в рабовладельческом обществе, узаконило достойный уважения обычай: одни вырабатывают принципы, а другие применяют их на практике.
— Я никак не ожидала, Пьер, что вы способны вести себя так грубо, — тихо упрекает меня Розмари, когда мы по лесу возвращаемся домой.
— Что было делать, если интеллектуальный всплеск на уровне этого синего половика чуть не захлестнул меня.
— Однако это не основание все время называть хозяина госпожой…
— Вот оно что. Откуда я мог знать… У этого типа голос более тонкий.
— Чем же он виноват что у его жены такой низкий тембр? Нет, вы явно перестарались.
Спор о том, в какой мере я перестарался, продолжается. Наконец мы дома. Съев неизбежную яичницу с ветчиной, мы проводим какое-то время в холле, я перед телевизором, а Розмари, конечно же, над своими альбомами, после чего, как всегда, ложимся спать, с той лишь разницей, что спим мы теперь в одной постели, в комнате моей квартирантки, и что к привычной программе добавился небольшой аттракцион, который тоже начинает становиться привычным.
— Перемена… — любит помечтать Розмари. Я тоже мечтаю о переменах, хотя и про себя, но какая от этого польза? Перемены выражаются лишь в календарных датах. Время бежит, сменяются недели, а в ситуации ничего нового: топчемся на месте.
День заметно прибавился, и, когда в условленное время я подхожу к парапету террасы, мне отчетливо видна внизу фигура высокого худого парня. И как всегда, я чувствую присутствие рядом с собой еще одного человека — моего покойного друга Любо Ангелова. Потому что стоящий на нижней площадке парень — его сын, Боян.
Боян одет все по той же моде, какой следуют супруги-экстремисты, но что поделаешь: он студент — действительный и мнимый, как моя Розмари, — и приходится одеваться, сообразуясь с показной экстравагантностью своих товарищей. Эта пошлая экстравагантность делает его не столь заметным в толпе эмансипированной молодежи.
И мне чудится, будто я слышу голос Любо:
— Что это ты его так вырядил?
— Почему я? Они сами это делают. Но если не обращать внимания на длинные волосы и синие джинсы, то они ничем особенно не отличаются от нас.
— Больно они изнеженны, — замечает Любо.
— А может, мы были чересчур загрубевшими? Преследовать неделями бандитов в горах… Дело давнее…
— Неженки они, браток. Так что смотри, как бы мы его не упустили, нашего.
— Ты мог бы этого не говорить. Я понимаю, новичок всегда опасен. И прежде всего для самого себя.
Любо замолкает, руководствуясь сознанием, что всякое вмешательство с профессиональной точки зрения нежелательно, но вовсе не потому, что его опасения рассеялись.
Мне трудно представить, как сейчас выглядит Борислав, во всяком случае, он не станет ходить в прохудившихся джинсах: так же, как я, он скрывается за фасадом делового человека, с той лишь разницей, что делает деньги не на торговом поприще, а в какой-то авиакомпании. Живет он по другую сторону реки, в Кирхенфельде, и в силу чисто случайного совпадения одну из мансардных комнатушек того самого дома, где находится его уютная квартира, занимает Боян. Мне трудно представить, каким способом они поддерживают связь между собой, но я уверен, что она у них достаточно надежна и в этом они не испытывают затруднений.
Авторучка во внутреннем кармане моего пиджака издает сухой треск, я слышу тихий голос парня:
— «Вольво» три.
— Четыре, — говорю в ответ.
Принято. В машине-тайнике меня ждет очередное послание, но я не собираюсь на него отвечать. О чем мне писать? Что у меня все в порядке? Или наоборот? Раз никаких перемен нет, одинаково уместно и то и Другое.
Справка, с которой я час спустя возвращаюсь к себе на виллу и тороплюсь уединиться в пустой библиотеке, касается Горанова. Наконец-то. Чтобы установить его личность, потребовалось провести целые изыскания, потревожить многолетние слои архивной пыли. Чтобы в конце концов стало ясно, что Горанов — это вовсе не Горанов.
Вероятно, чтобы прийти к окончательному выводу, Центру пришлось прибегнуть к методу элиминации. Сваливаешь в одну кучу сведения обо всех подозрительных личностях, сбежавших или исчезнувших, и начинаешь разбирать ее, следуя принципу исключения: не этот, и не этот, и, конечно же, не этот, и так далее, пока на месте огромной кипы не останется всего лишь несколько подонков. Теперь надо выяснить, на котором из этих подонков следует остановиться.
Выбор пал на Бориса Ганева, рьяного служаку военной разведки предреволюционной поры. Хотя между военной разведкой и полицией существовала обычная вражда, справка свидетельствует, что Ганев принадлежал не столько военным, сколько Гешеву. А может быть, не столько Гешеву, сколько фашистской охранке. А вероятнее всего, не столько охранке, сколько гестапо. В общем, тип довольно сложный, опиравшийся на широкую агентурную сеть. Сложный и, должно быть, неглупый, раз ему удавалось служить стольким хозяевам.
Предположение, что Ганев был неглуп, подкрепляется еще одним обстоятельством: в отличие от своих шефов он своевременно приходит к мысли о неизбежности краха и не проявляет склонности на месте дожидаться развязки. Хотя точная дата не установлена, из справки следует, что Ганев втихую покинул страну еще за несколько дней до Девятого сентября.
Полученное послание не содержит никаких данных о периоде, который меня интересует больше всего: как жил и чем промышлял упомянутый Ганев за границей в течение последних тридцати лет. Сбежав, он как будто растаял в пространстве, чтобы воскреснуть лишь теперь и именно здесь. Впрочем, более чем тридцатилетний период, которого мне недостает, отнюдь нельзя расценивать как достояние архива, не заслуживающее внимания. Именно к этому периоду относятся опасные происки Ганева, которые необходимо пресечь. Но это уже забота не Центра, а лично моя.
Я сжигаю послание, открываю кран и мою раковину. Затем вхожу в темную спальню и заглядываю в щель между шторами. Знакомая картина: Розмари в обществе двух бледнолицых режется в карты. Сколько ни торчи здесь, за шторами, ничего другого, кроме этого зрелища, мне не увидеть.
Я спускаюсь в кухню, чтобы заняться готовкой, поглощением собственной стряпни и заодно поразмыслить над уравнением с двумя неизвестными — Горанов и Ганев. Человек, выдающий себя за Андрея Горанова, и человек, который в действительности является Борисом Ганевым, — одно и то же лицо. Слава богу, это уже не вызывает сомнений. Однако, чтобы решить у равнение до конца, мне предстоит пройти немалый путь.
Когда прощаешься с жизнью земной, принято оставлять на месте происшествия свои бренные останки, чтобы твои близкие получили возможность их оплакать, а врач — установить причину смерти. В обществе существует порядок, согласно которому даже факт переселения в мир иной регистрируется и скрепляется печатью. А вот Горанов в нарушение элементарных приличий исчез, не оставив никаких следов. Может быть, он все еще жив? В таком случае по какому адресу он прописан? А если его надо искать в числе усопших, где его свидетельство о смерти?
То обстоятельство, что вот уже более тридцати лет никто ничего не слышал о существовании Горанова — я имею в виду настоящего, а не этого, живущего по соседству, — уже само по себе наводит на размышления. В конце концов Горанов не Борман, и у него не было особых причин провалиться в тартарары, если не иметь в виду ту, что рано или поздно переселяет всех нас в мир иной Он не единственный богач, бежавший в канун революционного переворота за границу, и мог бы, подобно другим, не имея возможности продавать родину оптом и в розницу, жить на проценты от прежних накоплений.
Начав когда-то с экспорта продовольствия в Германию и переключившись вскоре на экспорт секретных сведений гитлеровской разведке, Горанов стал представителем крупнейших немецких фирм, производивших всевозможную технику — начиная с легковых автомобилей и кончая боевыми самолетами. Проценты от военных поставок очень скоро превратили его в финансового магната первой величины. И легко понять, что, решив бежать под угрозой надвигающихся событий, он пустился во все тяжкие не с пустыми руками. Но сейчас важнее другое: куда он сбежал, в какую забился дыру? И если в ту, из которой нет возврата, то почему над ней не установлен крест с его именем? Напрашивается и другой вопрос: почему Борис Ганев скрывается под именем Андрея Горанова? Легко догадаться, что у Ганева куда больше серьезных основании скрываться, чем у Горанова, хотя и Ганев не Борман. Но почему он скрывается именно под вывеской бывшего торговца? Не означает ли это, что Ганев лучше кого бы то ни было знает о бесследном и окончательном исчезновении ее настоящего хозяина?
Этот, как всякий тенденциозный вопрос, содержит в себе и ответ. Правда, полноценным ответом он станет лишь в том случае, если удастся подкрепить его необходимыми данными. И возможно, только тогда передо мной откроется путь, ведущий к окончательному решению уравнения.
— О, вы меня ждете, Пьер!.. Как мило с вашей стороны! — щебечет позади меня Розмари. — До чего же нудные эти люди…
Что эти люди ужасно нудные — единственная информация, которую Розмари благоволит мне приносить всякий раз после встречи с Ганевым и Пеневым.
— У меня такое чувство, что они вас основательно обирают, — позволяю себе заметить.
В силу привычки мы с нею продолжаем обращаться друг к другу на «вы» — остаток былой официальности, которая едва ли вообще существовала между нами.
— Они просто пользуются моим великодушием, — уточняет Розмари. — Такие скряги, такие мелочные — мне просто жаль их обыгрывать. Надо бы как-нибудь подослать к ним Флору, тогда они поймут, что значит настоящий противник.
— Давно следовало это сделать, раз они такие.
— Неужели вы способны так уж решительно избавляться от всего досадного? — спрашивает она, усаживаясь по своему обыкновению на диван и закидывая ногу за ногу.
— Нет, конечно. В противном случае вокруг меня не осталось бы абсолютно ничего… за исключением дорогой Розмари.
— Мерси, — кивает она. — Получилось не слишком убедительно. Дайте мне сигарету.
Я даю ей сигарету.
— А как вы сами представляете жизнь без досадных ситуаций?
— О, есть достаточно много простых и верных способов: почаще путешествовать, заводить новые знакомства, менять место жительства, впечатления… Пользоваться обществом Лорана, только не Лорана-торговца, а такого Лорана, который в редкие минуты, как бы случайно, становится очень милым… Не зависеть от отцовского бумажника, удовлетворять собственные капризы, сознавать в моменты усталости, что где-то меня ждет мой собственный уголок…
— И потом? — спрашиваю, когда она замолкает.
— Потом ничего. Внезапно прекратить свое существование в момент какой-нибудь катастрофы, даже не опомнившись, — прежде чем пресытишься, познаешь хандру, прежде чем старость обезобразит тебя… Взять свое и исчезнуть… Чего еще желать?
— Банально, — качаю я головой. — К тому же чересчур расточительно. Такие траты — и только ради того, чтобы не испытывать досады.
— Понимаю. Зато помечтать нам решительно ничего не стоит. Нужно только иметь желание. Впрочем, у меня такое чувство, что вам, к примеру, и в голову никогда не придет помечтать немного.
— Мне и в самом деле ничего подобного не приходит в голову.
— Вы, вероятно, только проекты вынашиваете. И конечно же, только в рамках полезного и вполне осуществимого.
— Совершенно верно.
Я охотно соглашаюсь с нею, чтобы доставить ей удовольствие, но, похоже, это ее лишь раздражает. Розмари бросает в пепельницу недокуренную сигарету, смотрит на меня недовольно и неожиданно взрывается.
— Зачем вы дурака валяете? Какого черта вы меня обманываете? Какая вам от этого польза?
— Но почему вы пришли к мысли, что я вас обманываю? — спрашиваю предельно спокойным тоном.
— Потому что вы совсем не тот, за кого себя выдаете. Я достаточно наблюдала, как вы проводите дни, как делаете покупки и как играете в бридж. У вас нет ничего общего с торговцами, которые поглощены заботой о том, как из одного франка сделать два, а из двух — четыре. Вы не умеете дорожить деньгами, вы их проигрываете так же небрежно; как стряхиваете пепел с сигареты!
— Я воспитанный человек, Розмари.
— Не особенно. Когда человек воспитан, это видно по его поведению. Особенно при затяжной игре.
— А почему вы не можете согласиться с тем, что у меня свое отношение к жизни?
— Какое именно?
— Совершенно непохожее на ваше. Вы гонитесь за ветром. Вполне естественный порыв, не отрицаю. Человек всегда склонен гнаться за тем, что ускользает от него.
— Ну хорошо, а вы? — спрашивает она, вытягиваясь на диване и бесцеремонно занося на столик ноги, обутые в туфли на толстенных каблуках, представляющие с некоторых пор крик моды.
— Я? Возможно, в определенном возрасте я тоже был неравнодушен к такому виду спорта. Но почему вы не хотите поверить, что я давно стал совсем другим и мы с вами смотрим на вещи совершенно по-разному? Вы бегаете, а я сижу смирно. Такой взгляд на вещи ведь тоже возможен: если желание недостижимо, не проще ли махнуть на него рукой? Раз непомерные претензии связаны с риском и приводят к банкротству, да пошли они ко всем чертям! Зачем иметь собственную виллу, когда я могу снять ее? К чему мне десять комнат, если меня устраивают две? Какой смысл стремиться к большим барышам, если необходимое я зарабатываю без особого труда?
Она слушает меня с отсутствующим видом, словно думает совсем о другом. Я уверен, ни о чем другом она не думает, но пока не могу понять, чем же она сейчас занята: то ли силится понять мое жизненное кредо, то ли старается разобраться, кто я есть на самом деле. Ведь человек, вынужденный выдавать себя за другого, — тот же актер. Только актер скрывающий, что он актер, попадает в довольно затруднительное положение на виду у одного и того же зрителя.
— Может быть, вы правы, — произносит она наконец с усталым видом. — Но это ваша правда. Досадная правда этого досадного мира. Потому-то для меня все же привлекательней мираж.
Она медленно встает, подавляя зевок, и направляется к спальне, не забыв пожелать мне спокойной ночи. Я в свою очередь поднимаюсь по лестнице, говоря ей вслед, что и ее банальный мираж, и мои плебейские рецепты в конечном итоге друг друга стоят.
Разумеется, я разыгрываю роль. Однако стоит мне задуматься на минуту, что эта сонная апатия без всякой надежды на пробуждение — прискорбная реальность, как меня начинает мутить. Хорошо, если тут роль виновата, а не яичница. Мне показалось, яйца были не совсем свежие.
Моя миниатюрная подзорная труба направлена на худое морщинистое лицо человека, стоящего на террасе. Свет, процеживающийся сквозь тканевые занавески в зеленую и белую полоску, делает это лицо зеленоватым, как будто перед моими глазами вампир Дракула отталкивающего вида, но не такой уж страшный Дракула, потому что вместо острых собачьих клыков у него искусственные челюсти. Это, разумеется, Горанов или, если угодно, Ганев.
Вместо обычного темно-красного халата на нем темно-синий, несколько вышедший из моды костюм — Горанов надевает его в тех редких случаях, когда отправляется в город. Пожилой человек прохаживается по террасе в тени занавесок, время от времени посматривает на часы, а его обычную гримасу, характерную для страдающих от зубной боли, несколько видоизменила нотка нетерпения — больной напрасно ждет зубного врача, который избавил бы его от страданий.
Если вы интересуетесь поведением субъекта, почти не выходящего из дому, и если вы заметили, что этот субъект собрался куда-то ехать и даже обнаруживает несвойственное ему нетерпение, легко объяснить ваше страстное желание последовать за ним. Такое желание я испытал еще в самом начале — через несколько дней после того, как поселился на этой вилле. Однажды утром Горанов отбыл на своем «шевроле» в неизвестном направлении и вернулся только вечером. Отбыл, а я остался дома.
Потому что я уже тогда достаточно твердо уяснил две вещи. Во-первых, все действия этого подозрительного человека, вероятно, в полной мере сообразуются с требованиями безопасности, следовательно, ничего, что заслуживало бы внимания, они мне не откроют. И во-вторых, также по соображениям безопасности, Горанов не побрезгует никакими средствами, лишь бы установить, следят ли за ним, и обнаружит меня. Потому-то я тогда остался дома.
С асфальтовой аллеи доносится шум мотора и возле соседней виллы замирает. Человек в темно-синем костюме спускается по ступеням террасы на садовую дорожку. Даже теперь, когда на него не ложится зеленая тень занавески, его лицо кажется совершенно бескровным и очень болезненным. Ганев приближается к калитке, когда с улицы в нее входит Пенев. Между ними происходит короткий и, видимо, неприятный разговор. Старик сердито жестикулирует. Молодой дает ему ключ от машины и, видимо, в чем-то оправдывается, но тот выходит из калитки, не дослушав.
Минуту спустя включается первая скорость, а моего страстного желания поохотиться уже нет и в помине. Меня разбирает досада. Шесть месяцев предостаточно убедили меня, что все житье-бытье Горанова-Ганева педантично сообразуется с требованиями безопасности. Я могу заглядывать в щелку между шторами еще шесть месяцев или даже шесть лет — и ничего интересного не обнаружу. Не обнаружу ничего интересного и в том случае, если, подвергая себя глупому риску, потащусь следом за его «шевроле». Потому что нечто интересное, если оно вообще существует, тщательно скрыто от любопытных вроде меня.
Выход один: надо нарушить размеренное течение этого педантично продуманного житья-бытья, вырвать этого человека с недоверчивым взглядом из привычного ему состояния. Надо его встряхнуть, ошарашить, напугать, вплоть до того, что вызвать внезапный пожар в его доме.
От пожара, конечно, пользы будет мало. Но есть множество других средств, и два дня назад я предложил одно в коротком послании, оставленном в тайнике «вольво», вниманию Центра. Теперь мне не остается ничего другого, кроме как ждать результата.
Да, от пожара проку мало. Пожар всегда привлекает зрителей. Сбегается толпа. В первый ряд протискиваются такие не в меру любопытные, как Флора и Розмари. Словом, вместо конспирации получается цирк.
Тем временем внизу отчетливо слышен стук дамских каблуков. Моя квартирантка закончила обход окрестных магазинов. Каблуки уже стучат по лестнице. Я успеваю плюхнуться в кровать, чтобы изобразить сценку, которую можно было бы назвать «Мирный сон».
— Пьер, вы спите?
— Должно быть, уснул… Перед тем как вы пришли, — бормочу я недовольно.
— И намерены продолжать, когда уйду?
— Почему бы и нет.
— А то, что вечером у нас будут гости, вас нисколько не смущает…
— Опять? — страдальчески вопрошаю я.
— Неужели вас не радует предстоящая встреча с Флорой?
— Три женщины мне ни к чему. С меня достаточно одной.
— А их скоро станет три? Это что-то новое.
— Я потому так говорю, что Флора вполне сойдет за двух.
— Оставьте ваши гимназические шутки и спускайтесь вниз, помогите мне, пожалуйста.
— Неужто поедем покупать еще один зеленый стол?
— Вы же знаете, сандвичей за пять минут не наготовишь…
Страдальчески вздохнув, я встаю. Не зря говорится — светским удовольствиям предшествуют кухонные муки.
В дверях раздается звонок. Это, конечно же, Ральф Бэнтон, аккуратный и точный, как всегда Он подносит Розмари букет огненно-красных тюльпанов, меня одаряет своей бледной сонной улыбкой и начинает расхаживать по холлу, чтобы не измять в кресле костюм раньше времени. Костюм у него светло-серый, сорочка снежно-белая, и все вместе это хорошо сочетается с его матовым лицом и черными густыми волосами, в чем юрисконсульт, вероятно, не сомневается.
Американец любит франтить, в этом нет ничего странного, но человеку свойственно франтить перед другими, будь то мужчины или женщины, а Бэнтон, насколько я заметил, особой склонности к женщинам не обнаруживает. Это уже странно. Не исключено, впрочем, что он проявляет склонность к мужчинам, хотя такое предположение может показаться вульгарным.
Розмари ушла на кухню, так что Ральф в силу необходимости вынужден начать чисто мужской разговор. А к чему может свестись мужской разговор, кроме денег и сделок?
— Ну, Пьер, надеюсь, вы довольны. Цены на продовольствие растут…
— Верно, — киваю я. — Только чему тут радоваться?
— Вот как? Разве вас не радует то обстоятельство, что вы будете продавать дороже, чем было до сих пор?
— Нисколько. Покупать ведь тоже придется дороже.
— Но у вас, вероятно, есть запасы…
— Боюсь, вы путаете меня с кем-то другим, Ральф. Я из тех горемык-торговцев, которые покупают сегодня, а завтра продают. И если завтра продать не удастся, им не купить послезавтра.
Он, как видно, собирается сказать, что я скромничаю или что-то еще в этом роде, но в дверях снова звонят, и я вынужден пойти встретить Флору. Вот это женщина! На ней светлый костюм из шотландки и белая гипюровая блузка, едва удерживающая ее пышные формы.
— Вы сама весна, Флора…
— Стараюсь оправдывать свое имя, мой мальчик, — скромно отвечает она. И, по-матерински пошлепав меня по щеке, добавляет: — Глядите на меня, глядите… Пока не появилась Розмари и не надрала вам уши.
В это время, как и следовало ожидать, на пороге расцветает Розмари и звучат ее взволнованные слова:
«Ах, наконец-то, дорогая!», затем ответное приветствие Флоры: «Рада вас видеть, милая!», но щедрое сердце Розмари не может этим ограничиться, и она изрекает: «А костюмчик ваш — просто чудо!» Это уменьшительное как бы подчеркивает, что костюмчик вполне способен вместить всех четырех партнеров по карточной игре. Но Флора тоже не остается в долгу:
«А вы в этом длинном платье и на самом деле кажетесь чуть выше!» Обмен змеиными любезностями продолжается, но этот репертуар слишком хорошо знаком, и я не стану воспроизводить его до конца.
Хорошо знаком и ход игры, к которой мы тут же приступаем: уже с самого начала я, как обычно, проигрываю. Проигрываю по мелочам, но методично и неизменно, так что даже Флоре не удается предотвратить мой крах.
— Рассчитывайте на меня, мой мальчик, во что бы то ни стало я должна вас спасти, — предупреждает женщина-вамп с непроницаемым лицом, и передо мной воинственно воцаряется ее огромный бюст.
— Сомневаюсь, — скептически бормочу я.
— Только не надо сомневаться! Когда идете к врачу или к женщине, постарайтесь отбросить всякие сомнения, иначе я вам не завидую.
Мне и в самом деле не позавидуешь, мое устойчивое невезение начинает бить Флору по карману, и она выложила несколько франков.
— Не сокрушайтесь, зато в любви повезет, — утешает меня Ральф, не выходящий из кризисного состояния по части остроумия.
Немка незаметно бросает в мою сторону довольно красноречивый взгляд, и после того, как я так позорно прогорел, он представляется мне лазурно-голубым. Похоже, эта женщина действительно строит какие-то планы относительно моего будущего, если я не заблуждаюсь.
Быть может, этот уик-энд — последняя доза досады, предусмотренной сонной терапией, длящейся вот уже шесть месяцев.
Очередная неделя начинается с важного сообщения. В Центре мой план одобрен с небольшими поправками, и мне предложено безотлагательно предпринять необходимые шаги. Наконец-то.
Уточнение данных между мной и Бориславом через посредство Бояна позволило окончательно скоординировать проект и закончить выработку часового графика. Наступило время всем нам перейти к активным действиям, не считаясь с опасностью. Самому большому риску подвержен Борислав.
Ему выпала высокая честь или, если хотите, неприятная задача войти в непосредственный контакт с Ганевым. С этой целью в пятницу утром — в пятницу, в этот плохой день, — мой друг должен позвонить по телефону мнимому Горанову и попросить встретиться с ним наедине. Если потребуется, заставить его согласиться на такую встречу неясными обещаниями и смутными угрозами, дав ему понять, что человек на другом конце провода знает о нем решительно все.
Рандеву должно состояться в тот же день — чтобы Ганев не смог подготовить засаду или выкинуть еще какой-нибудь номер. Моя задача состояла в том, чтобы следить за соседней виллой и предупредить Борислава, в случае если Ганев вздумает подличать. Предупредить через Бояна.
Пятница. Утро. Я неторопливо принимаю душ, неторопливо вытираюсь, неторопливо завтракаю — словом, делаю все возможное, чтобы Розмари уехала в город раньше меня. Так оно и происходит.
Заняв обычное место на своем наблюдательном пункте, я выглядываю в окно. В пяти метрах от меня Пенев, закончив мойку «шевроле», тщательно вытирает его известной водителям автомобилей специальной тряпкой, придающей кузову такой ослепительный блеск, о каком могут только мечтать владельцы автомобилей. Надеюсь, он готовит машину для себя, а не для Горанова.
Смотрю на часы: девять. Наверно, Бенато будет неприятно удивлен моим отсутствием, и перспектива самому платить за обед в «Золотом ключе» не очень-то его обрадует.
Пенев открывает ворота, садится в «шевроле», выгоняет его со двора и, закрыв ворота, едет вниз, к центру города. Это неплохо.
Спустя некоторое время я снова смотрю на часы, потом снова: десять. В соответствии с планом в эту минуту Борислав набирает номер телефона. И не только в соответствии с планом Сквозь распахнутое окно холла соседней виллы — сумрачного в это солнечное утро — я вижу, как появляется темно-красное пятно — изрядно поношенный халат соседа. Ганев движется медленно, словно призрак, подходит к стоящему на буфете телефону и поднимает трубку. Разговор затягивается, чего можно было ожидать, но в чем причина — сказать трудно. Наконец старик опускает трубку и продолжает неподвижно стоять, как бы соображая что-то. Надеюсь, не замышляет какую-нибудь глупость, которая дорого обойдется всем нам, включая и его самого. Старик делает несколько шагов к окну, упирается руками в подоконник и смотрит прямо на меня. Разумеется, видеть он меня не может — окно зашторено. Не исключено, что он вообще ничего не видит: у него совершенно отсутствующий взгляд, а на хмуром лице выражение глубокой задумчивости. Наконец он медленно оборачивается, как бы опасаясь повредить позвоночник, и постепенно тонет в глубине мрачного холла.
Ровно в половине одиннадцатого авторучка в моей руке предупредительно щелкает. Бояна я не вижу, да и незачем мне его видеть, так как я уверен, что в эту минуту он сидит в своем «вольво» у задней ограды сада, под яблонями, благоухающими свежей зеленью.
— Встреча в среду, в девять, — слышится голос парня.
В среду в девять означает на нашем языке завтра в шесть. Значит, Ганев отказался от рандеву сегодня и отложил его на завтра, а Борислав уступил. Пускаться в расспросы, как и почему, сейчас неуместно. Хотя мы разговариваем на одной волне, известной только нам двоим, приходится следовать железному правилу: в эфире будь предельно лаконичен.
— Пока ничего, — сообщаю в свою очередь. — Встреча в два.
Это означает, что наша следующая встреча в эфире состоится сегодня в пять часов. Вот и все.
С этого момента мне надлежит неотступно следить за виллой и ее окрестностями. Хорошо по крайней мере, что выдалась прекрасная погода и Ганев оставил окно в холле широко распахнутым. Не успел я поблагодарить бога за это благоприятное обстоятельство, как из полумрака выплывает старик, захлопывает обеими руками створки окна и вдобавок опускает массивную штору. Отныне никакой видимости.
А какой бы был прок, если бы это случилось несколькими часами позже? Реши Ганев дать тревожный сигнал, он имеет полную возможность сделать это и ночью или использовать Пенева в качестве связного. Об одном трудно с уверенностью судить: не вздумает ли Ганев сам уйти из дому и не придет ли к нему на выручку кто-нибудь со стороны? Вся надежда на то, что старик, человек разумный, будет иметь достаточно времени, чтобы взвесить все «за» и «против» и решить, что назначенная встреча ничем особенно ему не грозит и что в его интересах лучше понять намерения другой стороны.
И все же риск налицо. Не только в том, что я, быть может, переоцениваю здравый смысл этого типа. Ведь не исключено, что он находится под наблюдением других людей и они не станут дожидаться специального приглашения вступить в игру. Прелестная Розмари и пышная Флора, какими бы безобидными они ни казались, не оставляют сомнения, что не только треугольник «Дельта» проявляет интерес к Ганеву.
Итак, пять часов. Возможно, это самое подходящее время: моя квартирантка обычно возвращается позже. Только сегодня она, как назло, вернулась без десяти пять. Общительная, как обычно, она спешит подняться ко мне в спальню, чтобы справиться, как я себя чувствую. Оказывается, я заболел, хотя еще не на смертном одре.
— У вас температура? — сочувственно спрашивает она и протягивает свою белую руку к моему лбу.
— Думаю, что нет, — спешу я ответить. — Только жутко болит голова. Я буду вам признателен, если вы скатаете на Остринг и возьмете мне пачку пирамидона.
— Зачем вам этот ужасный пирамидон? — возражает квартирантка. — У меня есть аспирин.
— Я бы предпочел пирамидон, — настаиваю я, зная, что она пирамидоном не пользуется. — Аспирин скверно действует на мой желудок.
— Вы же знаете, для вас я готова на все, — уступает Розмари и спускается вниз.
Однако минутой позже мне слышится ее ликующий голос:
— Ваше счастье, дорогой! Я нашла пирамидон здесь, в ящике стола.
С торжествующим видом она приносит мне пирамидон и стакан воды, а уже без трех минут пять, и единственное, что мне приходит в голову, — попросить Розмари вместо воды дать мне стакан горячего чая. На что она, к моему облегчению, отвечает:
— Ну разумеется, стакан горячего чая вам скорее поможет.
И снова спускается вниз.
Заварить стакан чая не такая уж сложная процедура, и все же она длится достаточно долго, чтобы выйти на связь, предупредить Бояна, чтобы установил слежку за Пеневым, и сказать, что следующая встреча завтра в восемь.
Пенев возвратился полчаса назад, но где он сейчас и чем занимается — сказать трудно: прикидываться больным и в то же время торчать у окна я не могу, тем более что Розмари уже несет дымящийся чай и настойчиво требует, чтобы я его выпил, пока он не остыл, а вы знаете, как приятно в такую теплынь хлебать крутой кипяток, — если не знаете, то не мешает попробовать, только не забудьте перед этим проглотить пару таблеток пирамидона.
Наконец, когда я вытягиваюсь на кровати и страдальчески прикрываю глаза, Розмари оставляет меня одного, и это обстоятельство дает мне возможность снова занять наблюдательный пункт на стыке двух штор, впрочем, без особых результатов, потому что до самого вечера ничего не случается и никто из двух соседей не покидает виллу — по крайней мере насколько я могу видеть. Но вот напасть, без малого девять Розмари приносит новый стакан чая и опять заставляет меня наливаться кипятком и глотать пирамидон.
После ее горячей заботы я всю ночь исхожу потом, но от этого есть и польза: в таком состоянии я не могу пасть в манящие, но опасные объятия сна и, бодрствуя у окна, отчетливо вижу при свете уличного фонаря и сад, и парадный вход соседней виллы. Однако и в эти долгие часы ничего не происходит.
— Ничего, — слышу под утро в эфире голос Бояна.
— Ничего, — сообщаю в свою очередь. Последняя связь перед роковой встречей назначается на пять тридцать вечера. Чуть позже ко мне заглядывает Розмари — она справляется о моем здоровье. Я спешу успокоить ее, что мне значительно лучше, даже совсем хорошо, надеясь увидеть, как она уезжает в город на своем красном «фольксвагене», но сегодня суббота — отложив встречу, этот тип спутал все карты, — и Розмари шастает по дому до двух часов, а потом снова приходит, чтобы сообщить мне, что она собралась в кино, и торопится успокоить меня, что долго задерживаться не станет.
— Но чего ради вы должны портить из-за меня свой уик-энд, дорогая? — протестую я. — Ведь мне уже совсем хорошо.
Уверенная, что доставляет мне неземное удовольствие, она говорит, что долго не задержится, тогда как меня основательно заботит одно: часа через три, то есть в самое неподходящее время, она вернется. Возможно, даже в момент выхода на связь.
Наконец-то меня оставили в покое. Вздохнув с облегчением, я подхожу к окну. Ничего примечательного. Между прочим, еще и потому, что в доме напротив окна зашторены. Лишь к четырем часам на террасе появляется Ганев и вытягивается в шезлонге под навесом. Распростертый, с закрытыми глазами, он сейчас похож на спящего, а может, на мертвого Дракулу — с той лишь разницей, что вместо длинных и острых клыков вампира у него безобидная искусственная челюсть.
К пяти часам на террасу выходит Пенев. Они обмениваются несколькими словами, после чего Пенев идет к «шевроле», повторяет знакомую операцию с воротами и катит к центру города, а Ганев возвращается в виллу. Все идет как полагается, точно по плану: Борислав предупредил старика, что во время встречи никого, кроме них, в доме не должно быть.
Однако четверть часа спустя происходит нечто такое, что планом не предусмотрено. Два человека в темных шляпах, с портфелями такого же темного цвета, ничем не примечательные (совершенно мне незнакомые), заходят во двор, звонят у двери и входят в дом. Верно, они задержались там каких-то десять минут. Быть может, это обычные торговые агенты или налоговые инспектора. Что особенного, если они заглянут к клиенту в свободное время уик-энда? Словом, не заслуживающая серьезного внимания, хотя и непредвиденная деталь. Только при определенной ситуации непредвиденная деталь способна оказаться роковым обстоятельством.
— Бориславу ждать новых указаний, — передаю я в эфир. — Постоянно поддерживай контакт со мной.
Точный расчет и надежность операции — все вмиг пошло прахом. Изменившаяся обстановка перечеркивает хорошо обдуманные ходы, и теперь мы должны действовать напропалую. Две машины — Бояна и Борислава — будут колесить вокруг этих мест, таиться под деревьями неизвестно сколько времени, пока не привлекут к себе внимания.
«Бориславу ждать новых указаний». А когда они поступят, эти новые указания? Когда рак свистнет? Или после того, как Пенев вернется домой?
Пока я совещаюсь сам с собой и задаю себе эти неприятные вопросы, внизу, в холле, слышится шум. Отчетливый стук дамских каблуков. Это прелестная Розмари. Я мысленно желал ей хорошо поразвлечься и вернуться как можно позже, но она не посчиталась с моими пожеланиями и оказала мне неоценимую услугу.
— Как себя чувствуете, Пьер? — спрашивает Розмари, заглядывая ко мне в спальню. — Сделать вам чай?
— Это совершенно ни к чему, милая. Мне уже хорошо.
— У вас все получается наоборот, друг мой, — замечает моя квартирантка. — Зимой, когда здесь повсюду свирепствовал грипп, вы даже не чихнули. А сейчас, в разгар весны, вдруг свалились.
Она спускается вниз по лестнице. И в этот миг, словно только теперь вспомнив о чем-то, я кричу:
— Чуть было не забыл: некоторое время назад герр Гораноф звонил по телефону. Просил передать, что он и тот, другой, будут ждать вас в пять…
— В пять? Но сейчас уже без пяти шесть… Хорошо по крайней мере, что вы об этом не сообщили после полуночи.
Она продолжает спускаться по лестнице, и уже через минуту я слышу стук калитки и вижу, как Розмари приближается к парадному входу в соседнюю виллу и нажимает на кнопку звонка. Судя по всему, сигнал остается без ответа, так как она пробует снова звонить, а затем нажимает на ручку двери и входит в дом.
Входит и тут же возвращается. Эти два действия разделяют считанные секунды, но перемена в поведении женщины столь очевидна, что и подзорная труба не нужна. На ней лица нет, она в панике и вот-вот закричит, но, чтобы не закричать, закрывает рукою рот, и беспомощно вращает глазами — словно соображает, что ей делать, но тут ее взгляд инстинктивно устремляется на меня.
Облокотившись на подоконник, я в это мгновение радуюсь солнцу, как поступил бы всякий больной, чудом избежавший могилы. Встретив безумный взгляд женщины, я киваю ей, как бы спрашивая: «В чем дело?» Она кидается в мою сторону и в момент, когда издалека доносится тревожный вой полицейской сирены, кричит мне, задыхаясь:
— Убит!.. Ножом в спину…
— Чего же вы торчите там как идиотка! — кричу я ей. — Прыгайте через ограду! Разве не слышите, что уже едут!
Мой грубый окрик, как видно, помог ей опомниться, потому что, приподняв подол, она сигает через низкую ограду и устремляется к заднему входу в нашу виллу, где ей удается скрыться как раз в тот момент, когда перед домом Горанова пронзительно визжат тормоза полицейской машины.
В моей руке щелкает авторучка.
— Исчезайте! Ганев убит, — сообщаю, прежде чем в комнату врывается Розмари и прижимается ко мне, истерично выкрикивая:
— Лежит на полу в холле… В спине торчит нож, и все в крови…
— Ладно, ладно, успокойтесь. — Я похлопываю ее по дрожащей спине. — Вас это не касается, вы ничего не знаете.
— Видели бы вы, сколько крови… — продолжает она.
— Ровно столько, сколько человеку положено, не более. Успокойтесь. Наверно, скоро сюда придут расспрашивать. И если не хотите, чтобы вас месяцами таскали… Или, не дай бог, обвинили в убийстве.
Последние слова, по-видимому, окончательно вернули ей разум.
— А вдруг кто-нибудь видел меня там?
— Не думаю, что видел еще кто-нибудь, кроме меня.
— О Пьер! Я буду вам обязана всю жизнь! Пропускаю эту клятву мимо ушей, осматривая квартирантку, чтобы убедиться, не посадила ли она случайно где-нибудь кровавое пятно, как в старинных детективах.
— Ваше счастье, что вы в перчатках… — тихо говорю я, и у входа раздается звонок.
5
— Как я выгляжу? — спрашивает Розмари, выходя из своей комнаты.
— Нормально, — отвечаю.
Скоро семь, а в семь нам предстоит картежничать у Бэнтона, и моей квартирантке хочется выглядеть естественной, иметь вид человека, которого не особенно печалит убийство почти незнакомого соседа. Лицо ее, сейчас спокойное, снова обрело вполне здоровый цвет, возможно не без помощи косметики.
Подбоченясь — поза выставленных в витринах манекенов, — она делает несколько шагов по комнате, как бы приучая себя держаться просто и непринужденно.
— Вы будете выглядеть еще лучше, — замечаю я, — если в своей непринужденности не перестараетесь.
— На что вы намекаете? — вздрагивает она и останавливает на мне взгляд.
— На то, как вы себя вели в присутствии полицейских. Вначале вы совершенно одеревенели, а потом собрались с духом и до такой степени распустили язык, что неизбежно вызвали бы подозрение, если бы они так не торопились. Вам бы неплохо быть сегодня сдержанней и не оглушать всех вашим не в меру звонким и ужасно фальшивым смехом.
Она молчит, как бы подавленная моими словами.
— Вы меня разочаровываете, дорогая, — считаю я нужным добавить. — Вы женщина столь сложная по натуре…
— Но у меня нет ничего общего с преступным миром, Пьер.
— Вот и прекрасно. В самом деле, не вы же его убили?
— Вы хотите снова довести меня до истерики, — бросает Розмари дрожащим голосом. — Что из того, что не я его убила? Ведь я там была и все видела своими глазами: лежащий на полу труп и кровь… столько крови… Меня могли застать на месте преступления и спросить, что мне здесь нужно, возле этого трупа, в этой комнате, поинтересоваться, почему я так часто бывала в этой вилле, что у меня общего с этим стариком, и… еще минута, и я бы влипла по уши…
Она умолкает на время, затем, внезапно переменив тон, как это ей свойственно, спрашивает:
— А вы уверены, что сюда звонил именно Гораноф?
— Как же я могу быть уверен, если никогда в жизни не слышал его голоса?
— А какой у него был голос, у этого человека? Он говорил с акцентом?
— Низкий и хриплый. Акцента я не уловил.
— Значит, это был не Гораноф, — сокрушенно бормочет Розмари и опускается в кресло.
— Какая разница, кто это был? Может, тот, другой.
— Вы имеете в виду Пенефа? Нет, тоже исключено, — качает головой Розмари. — У них обоих ярко выраженный акцент. И голос у каждого из них не такой уж низкий и не хриплый. Это была ловушка, Пьер…
— Что за ловушка?
— Самая коварная ловушка. Вы только подумайте: звонят сюда, чтобы заманить меня на виллу именно в тот момент, когда там замышляется или уже совершено убийство…
— Но у каждого, кто пошел бы на такой шаг, должны быть серьезные основания, — соображаю я вслух. — У вас есть враги, способные на такую пакость?
— А почему вы думаете, что человек знает всех своих врагов? Я могу и не подозревать об их существовании, — возражает она, и в ее словах есть некоторая логика.
— Но если они существуют, то не без причин…
— Причин я тоже могу не знать. Откуда мне известно?.. Может, они и заманили меня туда, полагая, что на меня скорее всего падет подозрение… Я часто, хотя и без всякого умысла, бывала у Горанофа…
— Все возможно, — прерываю я ее. — Но мне кажется, надо отложить эти рассуждения на потом. Иначе вы и в самом деле снова расстроитесь. — И чтобы направить ее мысли по другому руслу, добавляю как бы невзначай: — Похоже, нынче вечером вы решили окончательно охмурить вашего Бэнтона.
Я имею в виду ее предельно короткую юбку, из тех, какие теперь носят лишь девочки-подростки, поскольку Розмари, видимо после долгих колебаний, снова решила выступить в роли балованной дочки.
— Мне все же кажется, — продолжаю я, — что искушение будет более сильным, если вы явитесь вовсе без юбки.
— Едва ли и это поможет, — отвечает Розмари, которая стала понемногу успокаиваться. — Мне думается, у вас несколько ошибочные представления о сексуальных вкусах этого господина.
В небольшой замок Бэнтона нас вводит его шофер. В гостиной камердинер хлопочет у буфета, пока Ральф не указывает ему на дверь. Верные слуги Ральфа — оба смуглые метисы, их большие глаза и неторопливые грациозные движения таят в себе что-то женственное. Одного Бэнтон называет Тим, а другого — Том. Они, наверное, братья, если не близнецы; что касается меня, то я никак не могу различить, кто из них Тим, а кто Том.
Не успел Ральф родить свой банальный комплимент в адрес Розмари, как холл озаряет Флора своим неповторимым царственным видом. Ее энергичного рукопожатия никому избежать не удается, но я замечаю, что американец предусмотрительно переместил свой массивный золотой перстень с правой руки на левую. Ну вот, все в сборе, можно бы начинать игру, как всегда. Однако сегодня все не как всегда.
— Какая сенсация, а? — восклицает Флора, располагаясь на золотистом шелковом диване, а не за карточным столом.
— Мне бы не хотелось вас разочаровывать, но десятки подобных сенсаций во всех уголках земли стали обычным явлением, — уныло замечает Бэнтон.
— Простите меня, дорогой, но, должна вам заметить, здешние места — это вам не Чикаго, а зона отдыха, — отвечает Флора, явно задетая тем, что кто-то попытался свести на нет ее сенсацию.
— В Чикаго опасность намного меньше, — поясняет Ральф все с той же апатией. — Там вас убивают лишь в крайнем случае и только при наличии серьезных мотивов.
— Мотив всегда один и тот же, — роняет Розмари. Она единственная сидит за столом и рассеянно тасует карты.
— Один и тот же? — вскидывает брови женщина вамп. — Говорят, что убийца пальцем не притронулся к деньгам, находившимся в бумажнике Горанофа.
— Вероятно, ему было недосуг заниматься такими пустяками, — пробую я вмешаться. — Он искал что-то более существенное.
— Тридцать тысяч франков тоже не пустяк, мой мальчик, — возражает Флора.
— Да, — киваю я. — Для вас и для меня. Но представьте себе, что убийца искал нечто такое, что не укладывается и в три миллиона…
— Не будьте наивны, Пьер, — корит меня американец. — Такие дорогие вещи люди хранят в банке. Тем более если они живут в городе банков.
— Не спорю. Но ни для кого не секрет, что такие вещи прячут в сейфе, а сейф запирается на ключ. Так что стоит ли удивляться, если убийца проник в этот дом именно в расчете завладеть ключом?
— Вот именно! — восклицает Флора.
— Вот именно? — бросает на нее взгляд Бэнтон. — Вы не забывайте, что для того, чтобы залезть в сейф, одного ключа мало, необходимо еще и шифром владеть.
— Вот и прекрасно, — иду я на компромисс. — Мы сошлись на том, что убийца проник в дом нашего соседа, чтобы завладеть ключом и шифром.
Американец лениво посматривает в мою сторону, и его черные глаза вроде бы таят легкую насмешку.
— У вас есть шифр, неужели вы станете сообщать его первому попавшемуся нахалу?
— А если у этого нахала в руке нож?..
— Если у него нож, вам ничего не стоит околпачить его всучить ему фальшивый шифр, выиграть время и сообщить в полицию. Кому придет в голову вместе с ключом поднести ему и волшебную цифру?
— В таком случае?.. — спрашивает озадаченная Флора.
— В таком случае? — пожимает плечами Бэнтон. — В таком случае спросите убийцу.
— Все же вы, как ревнитель законности, не можете не иметь собственной версии, — вызывающе произносит Розмари, продолжая бесцельно тасовать карты.
— Что касается законности, то мои интересы распространяются лишь на сферу банковских операций, — напоминает американец. — И вообще ни одна версия не может строиться на обывательских сплетнях. К тому же надо иметь хоть какое-то представление об убитом…
— Вы, дорогая моя, кажется, хорошо его знали, — обращается Флора к Розмари.
— Если вы считаете, что за три партии в белот можно узнать, что за тип… — пробует возразить моя квартирантка каким-то безжизненным голосом, но не договаривает.
— Три партии в белот? — снова вскидывает брови женщина-вамп. — А у меня создалось впечатление, что вы довольно частенько наведывались к нему…
— Не пользуетесь ли вы, милая, сведениями герра Пенефа, с которым у вас задушевная дружба? — спрашивает моя квартирантка, лучезарно улыбаясь.
— «Задушевная дружба»? Вы говорите на основании того, что однажды у вас на виду я обменялась с ним несколькими словами перед кафе, на Остринге…
— Я вас видела в другой раз, — уточняет Розмари. — И не перед кафе, а внутри него.
— А что вы станете делать, если какой-нибудь нахал плюхнется к вам за стол? Затевать скандал? — Она обводит всех нас взглядом, словно ищет сочувствия, затем добавляет: — Разве я виновата, что мужчины обалдевают при виде меня…
— Определенная категория мужчин… — вставляет Розмари.
— Женщина, способная производить впечатление на всех мужчин, еще не родилась на свет, моя дорогая, — философски заключает Флора.
Она встает с удивительной легкостью для ее внушительной фигуры и направляется к карточному столу. Мы с Ральфом также занимаем свои места. Разговор вроде бы на этом закончился или мог бы закончиться, если бы Розмари устояла перед искушением и не добавила масла в огонь:
— Я тут слышала в бакалейной лавке, вашего Пенефа задержали. Интересно, где он находился в момент убийства…
— Если я не ошибаюсь, он находился в таком месте, которое обеспечило ему алиби, — отвечает Флора, усаживаясь напротив меня. — И, к вашему сведению, сразу же был освобожден. Кроме всего прочего, он вовсе не «мой Пенеф».
— Я сказала без всякой задней мысли… — бормочет Розмари, желая убедить нас в обратном.
— Не сомневаюсь, — соглашается Флора с не меньшим лицемерием. — Но если говорить о вкусах и о мужчинах, то у меня такое чувство, что мои вкусы не слишком отличаются от ваших.
Разумеется, она так говорит лишь для того, чтобы привести в бешенство мою квартирантку, и с той же целью продолжительное время смотрит на меня с откровенной симпатией. Наконец начинается игра.
Холл Бэнтона намного больше нашего — как-никак хозяин занимает важный пост в солидном банке и является держателем акций этого банка. И все-таки замок принадлежит не ему, хотя и мягкой мебели здесь больше, и на стенах красуются английские гравюры на охотничьи сюжеты — у нас, как известно, их заменяют картинки, представляющие собой галантные сцены. Словом, если вы попробуете судить о характере хозяина по характеру интерьера, то непременно ошибетесь, потому что все здесь отвечает вкусу не хозяина, а владельца виллы. Ральф Бэнтон относится к числу людей, убежденных в том, что высокие доходы предоставляют им свободу устраивать личную жизнь по своей собственной воле, хотя им даже в голову не приходит, что вся их жизнь так или иначе зависит от воли других — хозяина, или портного, или парикмахера, или метрдотеля, обеспечивающего им в дни приема гостей «холодный буфет».
Впрочем, справедливости ради я должен признать, что «холодный буфет» превзошел все ожидания. Так по крайней мере считают Флора и Розмари, что же касается меня, то я не могу назвать себя ценителем ома ров и какой-то там рыбы с каким-то там майонезом — когда я голоден, я готов довольствоваться чем угодно, хотя бы яичницей с ветчиной.
Настало время заняться «холодным буфетом», и после того, как наши дамы, не устояв перед искушением, отведали всего, что бог послал, разговор, естественно, возвращается к исходной теме, то есть к вопросу о возможном убийце, и Розмари по-прежнему выражает сомнение, что Пенев освобожден — таких так просто не освобождают, а Флора убежденно доказывает обратное — задержав, его тут же освободили, и что при желании можно в этом убедиться, у него и сейчас горит свет, в чем Розмари не находит ничего удивительного, потому что полиция не станет сидеть в темноте, и, чтобы прервать этот бесплодный спор, я обращаюсь к Бэнтону с предложением:
— Ральф, а не могли бы вы послать туда кого-нибудь из своих людей и проверить, как в действительности обстоят дела с Пенефом, чтобы можно было осведомить дам и продолжить игру?
Американец галантно подтверждает, что ради дам он готов на любые жертвы, однако дамы тут же заявляют, что этот Пенеф им до лампочки, и мы снова садимся за карточный стол.
Газетное сообщение об убийстве Горанова привлекает внимание лишь крупным заголовком. Сама информация не изобилует любопытными данными. Предположительно указывается, в какое время совершено преступление, и отмечается, что убийца, вероятно, действовал в перчатках. Засим следует репортерский комментарий, в котором порицается неслыханное падение нравов, — дошло, дескать, до того, что даже в таком городе, как Берн, в городе с богатыми культурными традициями, совершаются кровопролитные покушения.
Убийство. Город забудет о нем в тот же день, а публика, проживающая в этом квартале, — через неделю или две. Убийство, мотивы которого весьма неясны, а автор неизвестен, неизбежно потонет в архиве. Что же касается меня и моих коллег, то для нас эта история кое-что значит, и мы не склонны так скоро похоронить ее под слоем канцелярской пыли.
Человека, для установления личности которого потрачено столько сил и времени, больше нет в живых. С первого взгляда может показаться, что это ставит точку на всей операции и для нас вроде бы гора с плеч… Вечный ему покой, мертвый для нас не враг, и все в этом роде. Шпионы, действующие в загробном мире, не входят в круг интересов разведки.
Но если Ганев больше не фигурирует среди живых, то его убийца, вероятно, фигурирует. И это обстоятельство само по себе вносит в повестку дня определенные вопросы. В случае если покойник располагал, как я склонен думать, картотекой своей агентуры, то где она теперь? А желание завладеть этой картотекой — не могло ли оно стать истинным мотивом убийства? И если картотека действительно сменила хозяина, не затем ли новый хозяин стремился ее заполучить, чтобы теперь найти ей применение? Кому она понадобилась, как и с какой целью ею можно воспользоваться? — это уже подтемы основных вопросов, ожидающих своего решения и указывающих на то, что операция вопреки внезапной кончине ее главного объекта вовсе не закончена.
Более или менее обстоятельный осмотр виллы, где проживал Горанов, возможно, пролил бы некоторый свет на проблемы, которые меня занимают. Только говорить об этом — все равно что делиться своими мечтами. Обыск одного-единственного помещения (имеется в виду обыск в полном смысле слова, тщательный и педантичный) предполагает долгие часы напряженной работы. Я же не имею возможности провести там ни минуты, а уж о часах и речи быть не может. Вилла все еще оккупирована швейцарской полицией. Заметим, кстати, что со швейцарской полицией шутки плохи. Отлично вышколенный, хорошо оплачиваемый и опирающийся на суровые законы, здешний полицейский спуску не дает. Конечно, имеется в виду полицейский по призванию. И если преступность в Швейцарии пока что не до такой степени марает быт общества, как в некоторых соседних государствах, то объяснение этому следует искать не в целебном альпийском воздухе, а в дюжей руке, держащей полицейскую дубинку.
Итак, весь нижний этаж виллы, где проживал Горанов, в распоряжении властей. Что касается верхнего этажа, там, как и прежде, живет Пенев. Сразу после того, как преступление было обнаружено, Пенев действительно оказался в городе, где и был ненадолго задержан, но, по утверждению Флоры, у него железное алиби. В момент покушения он находился в кафе, где был завсегдатаем и где все его знают как облупленного.
Как правило, железное алиби оказывается именно у того, кто больше всего в нем нуждается. Однако на руку Пеневу и другое обстоятельство: он в отличие от других возможных убийц Горанова для достижения корыстных целей мог не прибегать к убийству. Доверенное лицо Горанова, он многократно оставался в доме один, еженощно пребывал в непосредственном соседстве с его владельцем и, следовательно, располагал неограниченными возможностями осуществить грабеж, не пачкая рук в крови.
Разумеется, в глазах полиции грабеж — не единственный из возможных мотивов убийства. Именно Пенев надоумил власти искать причину совсем в другом. Когда в полиции его спросили, как он склонен объяснить преступление, Пенев не упустил удобного случая, чтобы лишний раз полить грязью свою страну, и высказал предположение, что убийство — дело рук болгар и носит политический характер. Эту версию, в свою очередь, подхватила местная консервативная газетенка, тут же напечатавшая очередную заметку против политики разрядки.
Итак, Пенев. После окончательного заката Ганева вполне логичен восход Пенева. И нет ничего удивительного в том, что именно Пенев станет наследником если не имущества своего покровителя, то его шпионской деятельности. Кстати, пронесся слух, будто Пенев вовсе не прочь завладеть и имуществом и с этой целью пытается использовать перед властями свидетельство какого-то нотариуса, у которого Горанов якобы собирался оформить завещание в пользу своего квартиранта. Однако властям на словах ничего не докажешь, им подавай бумагу, подписанную и скрепленную печатью, так что, опять же если верить слухам, имущество покойника в ближайшее время будет продано с молотка в пользу государственной казны.
Итак, Пенев. Досье этого человека мне хорошо знакомо. В свое время он едет погостить к дядюшке, проживающему в Ганновере. Там объявляет себя невозвращенцем. Очередная микроскопическая сенсация, отраженная в микроскопическом сообщении местной печати под обычным заголовком «Выбрал свободу». В силу своей ограниченности свободу он мыслит не иначе как возможность оплевывать родину через посредство пресловутой «Свободной Европы». Как раз в это время в Мюнхене находится Белев, занимающийся деятельностью некоторых людей, связанных с этим учреждением. В радиопередачах Пенев принимает довольно-таки мизерное участие, и это наводит на мысль, что свое жалованье он оправдывает на несколько ином поприще. Впрочем, это иное поприще тоже не тайна: он встречается с временно приезжающими на Запад болгарами, делает неудачные попытки выудить какую-либо информацию, а в отдельных случаях и завербовать. Потом Пенев исчезает с горизонта, чтобы несколько лет спустя появиться в этом мирном городе, в этом сонном квартале в качестве адъютанта Горанова.
Поистине жалкая биография, в полной мере характеризующая этого подонка. И почти не способная пролить свет на его нынешнюю роль. Адъютант Горанова? В каком смысле? В том, что выступает его партнером, когда по вечерам они играют в карты? Старик и без помощи Пенева мог бы заварить себе чай, поладить с налоговыми властями. Представить Пенева в роли телохранители тоже весьма трудно: нет у него для этого ни внешних данных, ни характера сторожевого пса. Остается одно: навязали его Горанову хозяева или тот сам его пригрел — Пенев стал его правой рукой в шпионской деятельности. У него есть необходимая квалификация. К тому же он еще достаточно молод и подвижен, чтобы быть счастливым дополнением к этому дряхлому старику.
Именно дополнением. Однако теперь, когда основа перестала существовать, дополнение в свою очередь сделалось основой. И если Горанов с Пеневым действительно возглавляли какую-то секцию шпионажа, вполне логично предположить, что сейчас она целиком в руках Пенева.
Мои небогатые личные наблюдения в совокупности с некоторыми отрывочными данными, полученными от Бояна, позволяют обрисовать этого типа, у которого все острое — начиная с носа, похожего на птичий клюв, и кончая колючим взглядом маленьких глаз, — как довольно тупую человеческую разновидность. Одевался он с дешевым шиком, два раза в день менял костюмы, хотя единственно доступные ему места светских развлечений — кинотеатры и раз в неделю кабаре «Мокамбо», символизирующее в этом сонном городе разгул плотских страстей. В остальном его вечера — по крайней мере до недавнего времени — заполнялись игрой в карты, а ночи, скорее всего, эротическими видениями, вызванными программой упомянутого «Мокамбо» или же прелестями загадочной Флоры. Одна-единственная самобытная черта в его характере — манера постоянно держать во рту незажженную сигарету, которую он все время жует, прежде чем раздавить и заменить новой, тоже незажженной. Хотя какая это индивидуальная особенность? Насколько мне помнится, Борислав в мучительный период отказа от курения тоже прибегал к подобному способу самообмана. Только в целях экономии он обычно сосал пустой мундштук.
Розмари врывается в холл, встает передо мной подбоченясь, принимает позу манекена и сверлит меня взглядом.
— Это платье с большими лиловыми цветами и в самом деле вам очень идет, — говорю я, полагая, что боевая поза рассчитана на комплимент.
Однако она оставляет комплимент без внимания и спрашивает:
— Вы слышали новость? Виллу Горанофа собираются продать с торгов.
— Великолепно. Мне только непонятно, почему это событие должно меня волновать.
— Такая роскошная вилла! Не говоря уже о том, что это лучший способ вложения капитала: цены на недвижимость непрерывно растут.
— Меня недвижимость не интересует.
— А меня интересует.
— Тогда дело за малым — нужны деньги.
— Я уже говорила с отцом. Он готов отпустить мне некоторую сумму.
— А мне что остается? Поздравить вас?
— Вы должны мне помочь.
Коснувшись существа вопроса, Розмари поднимает подол — «эти летние платья ужасно мнутся», — плюхается на диван и закидывает нога на ногу. Я предлагаю ей сигарету, не дожидаясь, пока она сама попросит, и жду дополнительных разъяснений.
— Недавно в трудный момент вы протянули мне руку… — начинает она несколько высокопарно и посылает мне благодарный взгляд, а заодно и густую струю дыма. — И знаете, как я вам признательна. Надеюсь, вы меня поймете, мне ужасно неудобно снова обращаться к вам за помощью… Но что я могу поделать, Пьер? Женщина, даже такая независимая, как я, иной раз испытывает неодолимую потребность на кого-нибудь опереться.
— Очень тронут, что свой выбор вы остановили на мне. Хотя, надеюсь, не в качестве жениха.
— Будьте спокойны. И может быть, это сентиментальное вступление совсем не к месту, потому что речь пойдет о совершенно прозаических вещах. Как вы уже слышали, определенную сумму мне дал отец. Не исключено, что ее вполне хватит. Но представьте себе, что имеющихся денег, как назло, окажется мало.
— Представить нетрудно: в эти времена инфляции…
— Я хочу просить вас ссудить меня необходимой суммой, если моего собственного капитала не хватит.
— А когда и как вы собираетесь вернуть долг? — непринужденно спрашиваю я, по собственному опыту зная, что при заключении сделок рыцарская галантность не обязательна.
— Немедленно и наипростейшим способом: я тут же закладываю виллу и возвращаю вам деньги.
— В таком случае я, пожалуй, смогу для вас кое-что сделать.
— О Пьер! Я так тронута!
Рискуя измять свое платье, Розмари бросается мне на шею. Когда же душещипательная сцена кончается и все возвращается на свои места, Розмари — на диван, а я — в кресло, на свое обычное место перед темным телевизором, мне приходится открыть ей глаза:
— Похоже, вы несколько преувеличиваете свои шансы. Я слышал, Пенеф тоже собирается купить виллу.
— Пускай себе собирается.
— Но у него есть некоторые преимущества… Впрочем, вы можете поделить эти преимущества, предварительно вступив в брак…
— Что за преимущества? — спрашивает Розмари, пренебрежительно обойдя тему брака.
— Он снимает эту виллу.
— В этом нет никакого преимущества. По крайней мере в Швейцарии.
— Чудесно! — киваю я. — В таком случае пошли.
— Торопиться некуда. Торги состоятся через два дня.
Только этого мне не хватало. Впутаешься в идиотскую историю, а потом поди узнай, чем это кончится.
Торги должны состояться в массивном старом здании близ Бубенберга, покрашенном охрой, как и другие казенные учреждения. Два дня спустя, точно в установленное время, то есть в два часа дня, мы с Розмари пробираемся в зал номер три, где уже толпится десяток гиен, промышляющих куплей-продажей недвижимого имущества.
На кафедру выходит комиссар-оценщик и называет первый по списку объект — какой-то скромный домишко в отдаленном квартале города. Комиссар, худой человек с лицом аскета, стоит в темном костюме рядом с кафедрой и под резким лучом света, падающим из высокого окна, очень напоминает священника, читающего проповедь, с той лишь разницей, что вызывает почтительность паствы не крестом божьим, а костяным молотком.
— Видали? — шепчет мне Розмари, когда отчетливый стук молотка оповещает конец состязания. — Его купили всего за пятьдесят тысяч.
— Но ведь это самый обычный барак, — пытаюсь я охладить ее азарт.
— Велика важность, вы увидите…
Ей не удается закончить фразу, потому что в этот же миг мы с нею действительно видим нечто такое, что достойно внимания: сквозь немногочисленную публику протискивается Пенев, останавливается недалеко от нас и дружески приветствует Розмари. Она отвечает ему с вполне объяснимым холодком, едва заметно кивнув головой.
Всегда одетый в высшей степени безвкусно, эмигрант на сей раз превзошел самого себя — вероятно, в честь торжественного события: он в спортивном костюме оливково-зеленого цвета в лиловую полоску и в желтой клетчатой рубашке, а галстук, завязанный большим узлом, представляет глазам окружающих такое буйство красок, что и описать трудно.
Второе по списку строение почти столь же убого, как и первое, и после непродолжительного пререкания двух торгашей резкий стук молотка фиксирует покупку на шестидесяти тысячах.
— Видали? И эта тоже… — шепчет мне Розмари. Однако она и в этот раз не успевает закончить фразу и устремляет взгляд направо, где появились еще два конкурента, один из которых на целую голову выше окружающих. Это — Ральф и Флора.
— До чего же нахальна эта немка… — бормочет моя квартирантка.
Но уже через мгновение она оснащает свое лицо весьма любезной улыбкой — они заметили нас. Змеиной улыбкой, на которую Флора не может не ответить взаимностью. И чтобы выиграть этот поединок на расстоянии хотя бы с минимальным счетом, Розмари хватает меня под руку, как бы говоря: «У меня есть союзник!» — ведь немка не может сделать то же самое, поскольку Бэнтон не создан для интимностей. Впрочем, я тоже не создан для интимностей, но кого это интересует?
Моя бедная квартирантка. Ей, похоже, невдомек, что и Флора в свою очередь полагается на союзника. Или упускает из виду, что, сядь мы с американцем друг против друга считать наши деньги, мне своих лучше вообще не показывать.
После продажи двух других столь же скромных недвижимостей приходит наконец очередь нашей. Комиссар указывает на выставленные в углу снимки — здесь все объекты представлены фотоснимками, хотя никто не проявляет к ним интереса, так как до этого все строения можно было видеть в натуре. Затем он сухим, казенным голосом начинает перечислять достоинства виллы, ее квадратуру и кубатуру, размеры сада, указывает число деревьев и наконец объявляет, резко повысив голос:
— Первоначальная цена: сто тысяч!
— Сто десять тысяч! — тотчас же слышу рядом звонкий голос Розмари.
— Спокойнее! — тихо советую я. — Сперва надо выждать немного. И потом, когда называете свою сумму, рывком подавайтесь вперед, пускай это их деморализует.
Она кусает губы, поняв, что несколько поторопилась, а тем временем кротко звучит реплика немки:
— Сто двадцать тысяч!
Наступает пауза, и оценщик начинает расшевеливать присутствующих, косвенно давая понять, что такая вилла все равно не может быть продана по столь низкой цене. Только присутствующие — я имею в виду «гиен» — уже поняли, что теперь страсти начнут разгораться по-настоящему, и терпеливо выжидают. Наконец какой-то дилетант, решив попытать счастья, подает голос из угла:
— Сто тридцать тысяч!..
— Сто сорок! — тут же затыкает ему рот немка. И снова пауза. Снова комиссар торопит, и не только торопит, но и угрожающе вскидывает молоток.
— Сто сорок тысяч! Раз… Два…
— Двести тысяч! — оповещает в тот же миг Розмари.
На что Флора реагирует со свойственной ей невозмутимостью:
— Двести десять!
После соответствующей паузы моя квартирантка поднимает цену до двухсот пятидесяти. Это, собственно, предел ее личных возможностей, однако она помнит мое гуманное обещание насчет пустяковой суммы тысяч этак в пятьдесят или чуть больше.
Флора снова добавляет свои десять тысяч. Она с самого начала взяла за правило всякий раз поднимать объявленную сумму на десять тысяч и делает это с беспощадной методичностью даже тогда, когда Розмари доводит торг до трехсот тысяч.
— Триста десять! — произносит немка. Теперь уже пауза длится значительно дольше. Коммерческая цена постепенно начинает превышать реальную стоимость объекта.
— Что там в этой вилле, золото спрятано, что ли? — слышится позади нас голос какого-то зеваки.
«Да, в самом деле, что там в этой вилле? — спрашиваю я себя. — Есть ли там вообще что-нибудь, кроме воздуха?»
Присутствующие с видимым интересом следят за развитием событий. И неудивительно: когда соперники хватают друг друга за горло, есть на что посмотреть. Но это всего лишь зрители, все, кроме двух тщеславных дам, все, в том числе и Пенев, который вопреки нашим ожиданиям за все время не обмолвился ни единым словом.
Розмари вопросительно посматривает в мою сторону и, уловив мой едва заметный кивок, снова оповещает:
— Триста двадцать тысяч!
— Триста тридцать! — отзывается немка, только теперь в ее спокойном голосе ощущается легкий оттенок усталости.
Розмари снова ищет взглядом меня. Я легонько пожимаю плечами — дескать, поступайте как знаете. Тут уже дело касается не моих, а ваших денег, так как вилла Горанова вовсе не стоит такой суммы. Розмари колеблется несколько секунд, но, когда комиссар угрожающе вскидывает молоток, она не выдерживает и снова выкрикивает:
— Триста сорок тысяч!
На сей раз колебания справа. И они длятся так долго, что сомневаться больше не приходится — моя квартирантка все же обеспечила себе разорительную покупку.
Комиссар в последний раз поднимает молоток.
— Триста сорок тысяч, дама посередине зала… Раз… Два…
— Триста семьдесят тысяч! — неожиданно звучит голос в публике.
Однако это уже не Флорин голос, а бас какого-то мужчины. Я гляжу в его сторону и вижу человека средних лет, среднего роста, с ничем не примечательной физиономией, в обычном сером костюме, человека, каких мы ежедневно встречаем на улице, даже не замечая их, а уж о том, чтобы как-то запомнить их, и говорить не приходится.
Розмари тоже смотрит в ту сторону, и по ее бесстрастному каменному лицу я вижу, что она в бешенстве.
— Он вас выручил из беды, — бросаю я, чтобы успокоить ее. — Перестаньте, это же безумие.
— Я, конечно, перестану, — отвечает она безучастным тоном. — Но не потому, что это безумие, а потому, что я не в состоянии позволить себе пойти на такое безумие.
— Триста семьдесят тысяч, господин в глубине зала… — снова подает голос комиссар, но тут же умолкает, так как в этот момент к нему приближаются двое мужчин и молодая женщина.
Незнакомые мужчины и комиссар вполголоса говорят о чем-то, после чего обладатель молотка снова обращает к публике свое аскетическое лицо, чтобы сообщить усталым голосом:
— Торг отменяется.
По залу проносится глухой ропот недовольства.
— Мне кажется, я вправе знать, в чем причина! — доносится бас из глубины зала.
— Причина не процедурного характера, — сухо объясняет комиссар. — Вилла продаже не подлежит, поскольку у покойного есть законная наследница.
По залу снова прокатывается ропот, на сей раз ропот удивления.
— Это наилучший исход, — безразлично говорю я своей квартирантке. — По крайней мере не придется сожалеть, что кто-то вас перещеголял.
Она не отвечает, и я оборачиваюсь, чтобы понять, почему она молчит. Оказывается, ее нет рядом со мной.
— Ну вот, все в сборе, можно садиться за стол раздавать карты, — добродушно замечает Бэнтон, приближаясь вместе с Флорой.
— Почему бы и нет! — любезно отвечаю я. — Сейчас или завтра, мне решительно все равно, когда раскошеливаться.
— Раскошеливаться полагалось бы нашей милой Розмари, — подает голос немка. — Сегодня она побила все рекорды легкомыслия.
— А куда же она девалась? — спрашивает американец.
Меня тоже занимает этот вопрос, по крайней мере до тех пор, пока я не обнаруживаю Розмари в обществе молодой женщины и двух молодых мужчин, появившихся в зале незадолго до этого. Розмари и молодая женщина медленно направляются в нашу сторону, и мой слух улавливает беззаботный щебет моей квартирантки:
— Ах, дорогая, какой же чудесный человек был ваш отец! Настоящий джентльмен…
6
Широко бытует мнение, что в извечном противоборстве двух полов сильнейшим оружием женщины является ее красота. И лишь немногие задумываются над тем, как же в таком случае объяснить, что тысячи женщин, у которых, как говорится, ни рожи ни кожи, ухитряются сохранять власть над своими мужьями Очевидно, средства воздействия, которыми пользуются женщины, далеко не ограничиваются одной лишь красотой, и полный набор этих средств могла бы раскрыть только женщина.
Трудно предположить, что Виолета Горанова — наследница моего покойного соседа — владеет этим полным набором. Зато, впрочем совершенно несознательно, она достигает многого своим скромным умением вызывать к себе сочувствие.
Если Розмари своим видом напоминает полную изящества греческую вазу, а Флора — пышную амфору, то Виолета весьма похожа на пробирку. Ровное как жердь тело, узкие плечи, жалкие бедра и худые ноги — словом, некое бесполое существо, увенчанное анемичным лицом. Но у этого существа постоянно присутствует выражение беспомощности и какой-то едва уловимый признак боязни, а взгляд ее карих глаз так робок, в нем столько детскости, что вы невольно испытываете желание взять это хрупкое существо под свою защиту.
Вероятно, рано почувствовав, что ей никогда не обрести подлинно женских черт, она все еще продолжает одеваться, как девочка. И когда она вырядится в плиссированную юбочку, в тирольский жакетик, а на ногах у нее белые носки и туфли без каблуков, вы скорее примете ее за гимназистку старших классов, нежели за молодую даму, которой под тридцать. Не исключено, что тут немалую роль играет и плюшевый медвежонок, которого она обычно таскает с собой — возможно, не как игрушку, а как талисман.
— Тут, наверно, люди подумали: «Что еще за нахалка такая!» — виновато говорит она Розмари в первые минуты их знакомства в торговом зале.
— Глупости! Это же ваше право. Будь я на вашем месте, я бы сегодня же потребовала от герра Пенефа забрать свои вещи.
— А где он живет?
— Да он занимает почти весь верхний этаж.
— В таком случае этот господин мне нисколько не помешает. Я поселюсь внизу.
— Но, дорогая моя, если вы оставите его хотя бы на неделю, он и через год не уйдет! Такие дела делаются сразу, одним заходом!
— Нет, мне как-то неудобно, — говорит одними губами Виолета. — Мне крайне неудобно. И потом, он мне совершенно не помешает…
Об этих подробностях я узнаю вечером, по возвращении Розмари. Бридж по ее вине не состоялся. Моя квартирантка взяла наследницу Горанова под свою опеку уже в торговом зале — это, непонятно почему, страшно раздражает всегда спокойную Флору. Она отвозит ее на виллу, помогает устроиться там — словом, проявляет материнскую заботу о бедной сиротке, которая, вероятно, годика на два старше ее самой.
— А почему вы так настаиваете, чтобы она прогнала этого Пенефа? — спрашиваю я, когда Розмари рассказала о своей беседе с Виолетой.
— Сама не знаю… Просто он мне несимпатичен.
— Просто вы говорите вздор, — говорю я. — Разумеется, я не требую, чтобы вы отчитывались передо мной, но зачем же нести заведомую чушь?
— А вы всегда искренни со мной, Пьер?
— Не вижу причины быть неискренним. Насколько я знаю, в поставках рыбных консервов вы мне не конкурент.
— А вы не допускаете, что я могу быть вашим конкурентом в чем-то другом?
— Это исключено.
Мои слова звучат с откровенной категоричностью. Не стану утверждать, что я всегда искренен с Розмари, но эта реплика в самом деле вполне откровенна, и моя собеседница это понимает.
— Я рада это слышать, — говорит она как бы сама себе.
— Чему тут особенно радоваться?
— Как чему? От Пенефа, к примеру, такого не дождешься.
— Где перекрещиваются интересы Пенефа и ваши?
— Откуда я знаю? Спросите у него. Во всяком случае, у меня такое чувство, что он меня ненавидит и вместе с Флорой строит козни против меня.
— В связи с виллой?
— Очевидно.
— Что ж, теперь можете быть спокойны: этого повода больше не существует.
Она смотрит на меня задумчиво, как бы что-то соображая. Потом делает два шага в мою сторону, словно решив в чем-то мне открыться. Однако, похоже, отказывается от своего намерения, садится на диван, по обыкновению закинув ногу на ногу, и тяжело вздыхает:
— Ох, как я нуждаюсь в дружеской поддержке!..
— Скажите, кого я должен убить? — спрашиваю я с готовностью.
Но так как она продолжает сидеть, глубоко задумавшись, мне не хочется мешать ей, и я поднимаюсь к себе наверх.
Итак, оказавшись у себя в комнате, я по привычке заглядываю в щель между шторами. Внизу, в холле Виолеты, горит свет, но шторы опущены. Вверху, у Пенева, тоже горит свет, но и там окна зашторены. С ума можно сойти от этих штор.
Я сажусь на кровать, не включая свет. Не знаю, как у других, но, когда вокруг мрак, у меня такое чувство, что голова моя светлеет. Розмари втемяшилось, что ей обязательно надо прогнать Пенева, и она сделает все возможное, чтобы добиться своего. Значит, ей необходимо помешать тем или иным способом. Не потому, что я испытываю особые симпатии к этому востроносому, но, если он вдруг исчезнет из поля зрения, это может спутать мне все карты.
Затем. Затем этот невзрачный тип с серым лицом и в сером костюме. Наконец-то противник высунул голову из окопа, дав мне возможность взглянуть на его физиономию. Только взглянуть, потому что, едва успев показаться, он тут же испарился, но если показался один раз, то, наверно, покажется снова. Важно, что он объявился и подтвердил наши предположения. Триста семьдесят тысяч. Что там, золото спрятано в этой вилле? Человек в сером костюме отлично знает, что там спрятано. Это меня успокаивает: значит, то, что нас интересует, все еще там, на вилле. И все это время не давали мне покоя вовсе не скорбные чувства в связи со смертью соседа, а мысль о тех двоих с черными портфелями. И опасение, что, может быть, в их портфелях находился архив, ради которого мы расходуем столько сил и времени. Триста семьдесят тысяч! Восклицание, способное вернуть утраченную веру в жизнь.
И еще одно — последнее и самое главное. Необходимо опередить соперников, Флору и Пенева, которые, возможно, образуют опасную пару. Тем более опасную, что, в сущности, приходится иметь дело с треугольником, если приобщить к этой паре Бруннера. Розмари, которая мечется в поисках неизвестно чего, способна спутать своими действиями все карты, особенно если втравит в свои интриги эту наивную Виолету. И наконец, человека в сером костюме. Одиночку, за чьей спиной явно скрывается целая организация.
Пока я рассуждаю обо всем этом, пока веду спор с самим собой, моих ушей достигает шум мотоцикла. Шум, на который я едва ли обратил бы внимание, если бы он внезапно не оборвался напротив соседней виллы. Заглянув в щелку, я успеваю увидеть почтальона, который звонит в дверь, а минуту спустя вручает Виолете какое-то письмо или телеграмму.
Едва успел почтовый служащий сесть на своего моторизированного коня — «рено» белого цвета. На белом Виолета, уже одетая в светлый плащ, быстро запирает дверь, бежит по саду на улицу и тоже садится на моторизованного коня — «рено» белого цвета. На белом «рено» в темную ночь.
Легко предположить, что выглядывать в окно свойственно не только мне, но если я в этом до сих пор сомневался, то теперь всякие сомнения отпадают. В самом деле, не успел на аллее рассеяться дымок белого «рено», как из дому выскакивает моя квартирантка, чтобы пуститься следом за ним на своем красном «фольксвагене». Стоит ли после этого сообщать, что немного спустя в том же направлении катит и «шевроле» Пенева.
Я смотрю на часы: восемь десять. Ложиться еще рано. Но может, и действовать рано? Будь у меня эмоциональная натура, я мог бы с ума сойти от досады. В городе у меня два помощника, но именно сейчас, когда я так нуждаюсь в братской помощи, ни на одного из них я не могу рассчитывать. Как было бы здорово, если бы, к примеру, Боян находился где-нибудь по соседству. Ему бы ничего не стоило в любой момент предупредить меня об опасности.
И все-таки необходимо действовать. Такая удачная ситуация, наверно, больше никогда не повторится. Чем я особенно рискую, если все главные действующие лица этого спектакля куда-то исчезли, исчезли в одном направлении? Все, кроме человека в сером костюме. Но человек в сером костюме здесь не проживает и выглядывать из-за штор не может.
Думая об этих вещах, я уже спускаюсь по лестнице и через черный ход попадаю в сад. На то место, где я сейчас нахожусь, вилла, освещенная стоящими на аллее фонарями, бросает густую тень. Такая же тень простирается и вдоль соседнего дома. Однако две тени разделяет широкая полоса освещенного луга, посередине которого проходит низкая ограда. Таким образом, мне придется углубиться в сад и уже оттуда, под прикрытием яблонь, проникнуть в соседний двор.
Я подбегаю к черному ходу дома Горанова и быстро знакомлюсь с замком. Замок секретный, но обычного типа, то есть давно перестал быть секретным. Через пять минут я уже в коридоре, прохожу мимо кухни и попадаю в холл.
Моя первая забота — обеспечить запасный выход. Поэтому я пересекаю холл, выхожу в коридор, ведущий к парадной двери. Защелки двух замков, к счастью, приводятся в действие с внутренней стороны обычным поворотом ручки, так что ключи здесь не нужны.
Затем возвращаюсь в холл. Единственный источник света — мой миниатюрный карманный фонарик, дающий тонкий, но сильный луч. Светлый луч совершает беглую прогулку по стенам и мебели, после чего я пробираюсь в соседнюю спальню. Что я, в сущности, ищу? Иголку в стоге сена. Огромный стог и в нем крохотная иголка, а времени в обрез. Вся моя надежда на профессиональную интуицию. Если вы пустите в это помещение какого-нибудь невежу, он убьет два дня и ничего не найдет. Но человек с определенным опытом знает, какие места могут быть использованы в качестве тайников. Кроме того, к счастью или несчастью, до меня тут шуровала полиция, и даже беглый осмотр мне подсказывает, в каких именно местах она орудовала — здесь я не стану попусту тратить время.
В качестве примера может служить встроенный сейф в холле, над старинным комодом, замаскированный картиной, изображающей банальную мифологическую сцену. Картина даже не возвращена на свое обычное место — очертания рамы не совпадают с темными контурами, образовавшимися на стене от времени. Все же я снимаю картину и обнаруживаю замок сейфа; это довольно сложное устройство, и мои карманные инструменты тут не помогут. Так тому и быть: после полиции тут искать уже нечего.
Без всякой надежды, скорее ради того, чтобы совесть была чиста, молниеносно проверяю ящики письменного стола. А вдруг попадется какая-нибудь записка с обрывками фраз или с обозначенным на ней номером телефона, какой-нибудь отпечаток на пресс-папье, вообще следы чего-нибудь, на чем мог не задержаться взгляд полицейского. Однако ничего такого я не вижу. Ганев тоже был профессионал и тоже соблюдал элементарное правило: храни в надежном месте или сжигай. Как раз в тот момент, когда я перехожу к следующей точке — библиотечному шкафу, моего слуха касается подозрительный шум, доносящийся со стороны черного хода. Еще кто-то занимается замком. Мой первый порыв, древний, как сам человек, — выскользнуть через парадную дверь. Однако счетная вычислительная машина в моем мозгу, за три секунды обработав имеющуюся информацию, предлагает иную Программу. Шум мотора со стороны аллеи не был слышен, незнакомец действует предельно осторожно — следовательно, он здесь такой же гость, как и я, и для меня исключительно важно в данный момент установить его личность.
Придется прибегнуть к простейшему, но самому эффектному трюку. Я бросаюсь в спальню и оставляю там свой фонарик, с тем чтобы он светил в один угол. Затем возвращаюсь в темный холл, чтобы затаиться у двери. Две минуты спустя слышатся тихие, неуверенные шаги, после чего мои глаза выхватывают из тьмы смутный силуэт пришельца. Он делает еще один шаг вперед, но останавливается на какой-то миг и, очевидно, решает, как ему действовать дальше, потому что его внимание привлек светлый луч, прорезающий темень спальни. И снова идет вперед, его движения вкрадчивы, бесшумны. Впрочем, идет лишь до тех пор, пока минует меня. Оказавшись позади него, я спружиниваю на ногах, обхватываю одной рукой его шею, а другую крепко прижимаю к его рту и носу. О деталях говорить не стоит, но об одной, имеющей некоторое значение, я все же скажу. В руке у меня оказывается хрупкая ампулка, содержащая газ, от которого человек тотчас же обалдевает. Ампулка раздавливается о зубы пришельца.
Эффект мгновенный и, надеюсь, безболезненный. Тело человека внезапно тяжелеет, словно в моих объятиях мешок с картошкой, сползает вниз и валится на ковер. Я приношу фонарик и делаю необходимый осмотр. Передо мной незнакомец из торгового зала, тот самый, с бесцветным лицом и в сером костюме. Но сейчас весь вопрос в том, что содержится в карманах этого костюма. В одном из них, спрятанном под мышкой, обнаруживаю маузер калибра семь шестьдесят пять. В бумажнике, кроме денег и паспорта на имя Кениг, есть еще и удостоверение, выданное ФБР. Ничего удивительного. Иные служащие ЦРУ в целях большей секретности разгуливают с удостоверениями ФБР.
Среди прочих мелочей, какие мы всегда носим в карманах и о которых не стоит говорить, я нахожу ключ немного необычной формы. Но поскольку речь идет не о чем-либо другом, а о ключе, вид этого предмета вызывает у меня в голове определенную ассоциацию. Придется снова убрать со стены мифологическую сцену и проверить правдивость собственных догадок» Ключ действует безотказно. А сейф, как и следовало ожидать, совершенно пуст.
И все же сейф, даже пустой, заслуживает того, чтобы его проинспектировать более тщательно. С помощью фонарика я обследую его внутренность сантиметр за сантиметром. Стены металлические, идеально гладкие и, очевидно, непроницаемые. Ни в одном из уголков ни малейших признаков существования секретных отделений. Но серый стальной интерьер делится пополам тоже стальной полкой толщиной около двух сантиметров. Несколько необычная толщина, если принять во внимание, что сейф не предназначен для хранения штанги. Увы, беглое ощупывание нижней плоскости полки указывает на то, что двойного дна у нее нет. И все-таки эта толщина… Я делаю попытку приподнять и вынуть полку, но это мне удается не сразу, так как полка основательно заклинена в сейфе. Но когда операция приходит к своему завершению, мои глаза не без удовольствия обнаруживают в глубине, на месте полки, широкий проем, достаточно широкий, чтобы в него можно было сунуть секретное досье.
Однако никакого досье тут нет. Вообще ничего нет. Я достаю из ящика стола случайно увиденную там канцелярскую линейку и сую ее в отверстие, чтобы исследовать его до конца. Линейка натыкается на что-то твердое. Когда мне удается наконец вытолкнуть предмет наружу, в мои руки попадает плоская коробочка, отделанная черной кожей. Коробочка наподобие тех, в которых гимназисты хранят свой чертежный инструмент, хотя вид у нее намного шикарней. Я раскрываю ее, и перед моими глазами сверкают на темном фоне бархата два ряда драгоценных камней, великолепно отшлифованных и абсолютно бесцветных. Словом, брильянты или что-то в этом роде.
Сунув коробку в карман, я восстанавливаю в сейфе порядок, запираю его и возвращаю ключ владельцу. Мне пора.
Пора, потому что через минуту мой музыкальный слух улавливает новые звуки — и опять со стороны черного хода. В этот дом, похоже, гости привыкли ходить только через черный ход.
Из-за недостатка времени я не могу придумать ничего оригинальнее, кроме как повторить уже знакомый номер. Чтобы расчистить место, я волоку тяжелое тело незнакомца в другой конец холла, кладу в спальне зажженный фонарик и замираю возле двери. Фигура, которая чуть позже вырисовывается на фоне плотной, едва просвечивающей шторы, столь импозантна, что полностью загораживает этот скудный источник света. Чтобы заключить ее в свои мужественные объятия, мне приходится приподняться на цыпочки. Окажись Пенев на моем месте, он бы затрясся от возбуждения. Держать в объятиях это пышное тело… эту роскошную Флору…
Но Флоре тоже не чужды сильные и внезапные переживания, она тут же млеет в моих руках — не смею надеяться, что это происходит в любовном экстазе, — и тяжело сползает на ковер. Пол так сильно задрожал, что спящий по другую сторону стола обнаруживает признаки пробуждения. Прежде чем продолжать свои поиски, приходится раздавить у его рта еще одну ампулку. Через четверть часа и Флора проявляет желание опомниться, так что и ее приходится угостить добавочной порцией.
Напрасная трата материала. Все дальнейшие исследования, описывать которые было бы утомительно и бесполезно, оказываются тщетными. Разумеется, я не рискну сказать, что обследовал всю виллу до последнего сантиметра. При таком импровизированном обыске человек не может быть абсолютно уверен, что от него ничего не ускользнуло. Однако «нечто», ради чего я сюда пришел, может иметь вполне определенный вид, и мой опыт подсказывает, что здесь мне его не найти, если вообще имеет смысл продолжать поиски.
Незачем больше подвергать себя опасности и продолжать потчевать этих двоих одурманивающими веществами. Довольно наркомании. Выскользнув из гостеприимного дома, я возвращаюсь в свои покои, не забыв попутно зайти на кухню и положить на место тонкие перчатки из пластика, которые я взял для временного пользования среди кухонной утвари Розмари.
Брильянты… Прозрачные, бесцветные и такие ослепительные… Только нас интересуют те, другие, — помутней, погрязней этих… Черные брильянты предательства.
«Рено» возвращается в восемь тридцать утра, как раз во время моего скромного завтрака. Я это вижу, глядя в окно из кухни. Но сейчас, в это светлое утро, белая машина вовсе не кажется такой эффектной, тем более что она основательно загрязнилась. Виолета едва успевает войти в дом, как позади «рено», метрах в двадцати от него, останавливается «шевроле» Пенева, и его владелец, оглядываясь, крадется к черному ходу. А несколько минут спустя распахивается кухонная дверь, и я слышу:
— А, вы уже завтракаете, Пьер…
— Могу и вам предложить чашку кофе.
— С удовольствием выпью, — тихо отвечает Розмари и опускается на стул.
Она и в самом деле нуждается в чем-нибудь бодрящем, потому что вид у нее довольно-таки усталый, и, что нетрудно заметить, это вовсе не та приятная усталость, которую человек испытывает после успешного завершения какого-то трудного дела.
— У вас весьма измученный вид, дорогая, — замечаю я, подавая ей кофе. — Надеюсь, не после пылких объятий господина Пенефа?
— Пенефа? — произносит она бессильным голосом. — Неужто я, по-вашему, такая неразборчивая…
— …как Флора…
— Да и Флора едва ли согласилась бы лечь с таким. Впрочем, это ее дело. Если хочет — пускай ложится.
Она замолкает, а я больше не проявляю любопытства, и мы какое-то время молча курим и пьем кофе.
— Мне пора катить к своему Бенато, — нарушаю наконец молчание и встаю.
Я должен подняться наверх и взять пиджак, но, странное дело, следом за мною идет по холлу Розмари.
— Вы даже не спрашиваете, где я была?
— Неужели вы до сих пор так и не уяснили, что я не любопытен? И что меня интересуют только рыночные цены, а всякие другие сведения мне безразличны.
— Даже те, которые касаются меня?
— Все, что касается вас… Вы сами об этом расскажете, если сочтете нужным…
И так как она продолжает стоять все с тем же жалким видом, я добавляю:
— Вы же понимаете, дорогая, что откровенность по просьбе не получается.
— У меня такое чувство, что вы вообще не дорожите моей откровенностью, Пьер.
— Напротив. Только у меня такое чувство, что это для вас — нечто совершенно недостижимое.
— Вы не первый раз упрекаете меня в неискренности.
— Просто констатирую. Я не слепой, но и упрекать вас не собираюсь. Полагаю, что у вас есть свои причины…
— Какие причины? Что вы имеете в виду? — спрашивает она, как бы просыпаясь ото сна.
— Прежде всего то, что вы все время лжете… И поскольку она пытается возразить, я успокаивающе поднимаю руку:
— Я же сказал, разве вы не слышали: я вас не упрекаю. Но если вы испытываете потребность разыгрывать комедию перед другими, то меня исключите, чтобы не тратить напрасно силы. Вчера вы, кажется, усвоили, что я вам не конкурент, и это истинная правда. И связываться со мной вам не имеет никакого смысла.
При этих словах я смотрю на часы и собираюсь взойти на лестницу.
— Не конкурент в чем, Пьер? — спрашивает Розмари, и я вижу, как напряглось ее лицо.
— Из-за вас я пропущу встречу с моим славным Бенато… — бормочу я.
— К черту вашего Бенато! — восклицает она. — Скажите: не конкурент в чем?
— На ваш вопрос я мог бы дать точный и исчерпывающий ответ. Но имейте в виду, что в таком случае ваша искренность задним числом не будет стоить ломаного гроша. И тогда уж не рассчитывайте на помощь или доверие с моей стороны.
Она вперяет в меня свои темные глаза.
— А если вы хотите взять меня на пушку? Если вы решительно ничего не знаете, а только пытаетесь что-нибудь выудить у меня?
— Фома неверный… В юбке, — с досадой роняю я. — Ну что ж, представлю вам вещественное доказательство, и вы убедитесь, что кое-что я знаю Но сперва я должен убедиться в вашей искренности… И после того, как повидаюсь с этим славным Бенато.
— К черту вашего Бенато! — снова восклицает она. Потом добавляет, уже другим тоном: — Сварить еще кофе?
Итак, мы сидим в холле на своих обычных местах: она — на диване, закинув ногу на ногу, а я — потонув в стоящем напротив кресле, и перед нами чашки горячего кофе. Сидим, как два бездельника в начале рабочего дня, когда повсеместно вокруг нас вычислительные машины и автоматические кассы уже строчат с предельной скоростью.
— Во-первых, вы никакая не студентка, — говорю я, чтобы помочь ей сделать первый шаг.
— Я студентка, — возражает она. — Пускай только формально. Во всяком случае, я числюсь студенткой.
— Во-вторых, вы находитесь здесь по воле вашего шефа, — добавляю я, чтобы у нее не оставалось сомнений. — А ваш шеф — Тео Грабер. — И, вытянувшись поудобней в кресле, бросаю ей: — Продолжайте.
— Но если вам все известно…
Она замолкает, напряженно глядя мне в лицо, но это напряжение уже не признак недоверия, а скорее изумление.
— Не думаю, что мне известно все, но некоторые важные детали я, пожалуй, знаю.
— Что ж, верно: я секретарша Тео Грабера или, если хотите, заместитель директора, поскольку эти две должности он в целях экономии объединил Верно и то, что это он меня сюда послал… — Розмари замолкает и тянется за сигаретой.
— Я должна рассказать вам все с самого начала?
— Думаю, так будет лучше.
— Однажды утром, в первых числах ноября, на наше предприятие явился незнакомый господин и пожелал видеть шефа. Я хотела ему дать от ворот поворот, потому что наш шеф принимает только после предварительной договоренности, но незнакомец настаивал, говорил, что дело касается чего-то очень важного, и Грабер согласился принять его. Не знаю, о чем они говорили, но нетрудно было догадаться речь идет о сделке, притом о крупной, необычной сделке, потому что через какое-то время шеф вышел из кабинета, вручил мне чек на пятьсот тысяч и велел быстренько съездить в банк и взять деньги. Меня это, конечно, сильно озадачило, потому что, вы понимаете, никто в наши дни не берет в банке такие суммы наличными, чтобы таскать их с собой в карманах. Я исполнила указание, передала деньги Граберу, а немного спустя незнакомец ушел. Потом я узнала, что его зовут Андре Гораноф. — Розмари пускает в мою сторону густую струю дыма и спрашивает: — Не слишком подробно я рассказываю?
— Вовсе нет, — успокаиваю я ее. — Говорите все, что считаете нужным. Протокола мы не ведем.
— Только не напоминайте о протоколах, — хмурится она. — Протоколы, стенограммы, деловые письма — все это мне до такой степени осточертело…
— И вы, надо полагать, с удовольствием согласились взять на себя новую миссию.
— Вот именно. Правда, я не сразу сообразила, что к чему, я подумала, что меня ждут долгие каникулы. Хотя я прекрасно знала: Грабер не из тех, кто способен предложить своей секретарше дополнительный отпуск.
— Но если секретарша такая хорошенькая…
— Грабер слишком расчетлив, чтобы подбирать себе чиновниц по таким признакам. Можно подумать, он родился и вырос в холодильнике и вместо того, чтобы стать человеком, постепенно превратился во внушительную глыбу льда.
Она бросает в пепельницу недокуренную сигарету и возвращается к своему рассказу:
— Уже на другой день после визита незнакомца шеф позвал меня к себе, чтобы ввести в курс дела. Как выяснилось, Гораноф предложил Граберу большущий брильянт, о существовании которого мой шеф знал ранее — вам, вероятно, известно, что большие брильянты так же славятся, как кинозвезды. И разговор между этими двумя лисицами — я имею в виду Горанофа и моего шефа — шел примерно так.
Тут Розмари разыгрывает небольшую сценку, которая не так уж богата полезной информацией, зато весьма забавна по форме: моя квартирантка, блестяще владея мимикой, бесподобно имитирует обоих дельцов, мастерски передает недоверие, испуг, колебание, недовольство, старческую алчность. Исполнительница принимает соответствующую позу, рассматривает лежащую в руке воображаемую драгоценность и начинает:
ГРАБЕР. Мне кажется, я мог бы дать вам за эту вещь триста тысяч…
ГОРАНОФ. Мерси. Она стоит в пять раз дороже.
ГРАБЕР. Очень может быть. Я могу точно сказать, сколько стоит этот брильянт, потому что он мне хорошо знаком. Как и девять его собратьев. Вам, вероятно, они тоже знакомы…
ГОРАНОФ. Не понимаю, о чем вы говорите.
ГРАБЕР. При виде такого брильянта возникнет законный вопрос: где вы его взяли? Но меня это не интересует. Не интересует потому, в частности, что я знал его прежнего владельца. А вот вы не склонны ценить то, что я не задаю вам неудобных вопросов.
ГОРАНОФ. Предположим, я это ценю. Но выходит, из чувства признательности к вам я должен добровольно разориться.
ГРАБЕР. В таком случае можете предложить этот камень одному из моих коллег, и я буду рад вас видеть снова.
ГОРАНОФ. Это уж мое дело, кому предлагать. Но дарить его я не намерен. Он уже тридцать лет принадлежит мне.
ГРАБЕР. Охотно верю. Коллекция, о которой идет речь, исчезла тридцать три года назад. Однако, кто бы ее ни присвоил, давность тут не имеет значения. К тому же наследники еще живы.
ГОРАНОФ. Не понимаю, о чем вы говорите…
ГРАБЕР. Быть может, вам понятно хотя бы то, что затронутый вопрос имеет прямое отношение к цене. Ворованные камни всегда ценятся ниже. Намного ниже. Хотя бы потому, что они нуждаются в новой огранке, а значит, и караты будут уже не те.
ГОРАНОФ. Не понимаю, о чем вы говорите.
ГРАБЕР. Триста тысяч — это большая сумма.
ГОРАНОФ. Ладно, давайте миллион, и дело с концом.
ГРАБЕР. Возможно, по трезвом размышлении я бы согласился на триста пятьдесят.
ГОРАНОФ. Ну хорошо, пускай не миллион. Я согласен на девятьсот тысяч.
— Если верить моему шефу, они сошлись на кругленькой сумме в полмиллиона, — произносит Розмари в качестве эпилога. — Таким образом, Граберу достался камень в три раза дешевле его реальной стоимости. Ничего не скажешь, редкая удача. Только Грабер не из тех, кто склонен довольствоваться единственной удачей, если представляются возможными девять других. Потому что купленный брильянт — действительно один в целой коллекции камней, хорошо знакомой шефу, поскольку сам он пополнял ее перед войной. Коллекция принадлежала какому-то греческому мультимиллионеру из числа крупных судовладельцев, которого потом ограбили нацисты. Впоследствии он умер, не исключено, что и наследников уже нет в живых, если они вообще существовали, но об этом Грабер не стал при мне распространяться.
Она меняет позу и откидывается в угол дивана.
— Я должна была по возможности изменить свою внешность, снять квартиру поближе к вилле Горанофа, которую шеф тотчас же обнаружил путем самой примитивной слежки. Мне было вменено в обязанность наблюдать за всеми действиями старика, чтобы жадность не толкнула его к другому ювелиру, которому он мог бы предложить остальные камни, значительно крупнее первого, по более высокой цене.
Розмари замолкает, как бы пытаясь что-то вспомнить, и рассматривает свои туфли, те самые, на толстых каблуках, — последний крик моды. Потом продолжает:
— В сущности, так выглядела моя задача лишь в первой редакции, впоследствии мне было предложено по возможности завести личное знакомство с Горанофом, втереться к нему в доверие, с тем чтобы по возможности склонить его к мысли расстаться с неудобными и обличительными драгоценностями, разумеется на самых выгодных условиях. Но до этого, как вы сами знаете, дело не дошло. Не только не дошло, но и сама задача усложнилась. Вмешались другие силы и, очевидно, враждебные: Пенеф… Флора… А теперь еще этот нахал из торга.
— Он тоже вынюхал брильянты?
— А как по-вашему? Неужели вы допускаете, что нормальный человек станет покупать за двойную цену какую-то виллу, если у него нет уверенности, что вместе с виллой он приобретает и еще кое-что, спрятанное в ней?
— Но почему вы думаете, что это «кое-что» непременно ваши брильянты?
— А что же еще? Золото в слитках, да? Она опять тянется к сигаретам, и я подношу ей зажигалку.
— Вдумайтесь хорошенько, Пьер: до сих пор никто ничего не нашел. Ни Флора, ни Пенеф, ни Виолета, ни даже полиция. Почему? Потому что сокровище совсем невелико по размерам: маленькая кожаная коробочка с девятью небольшими, но страшно дорогими и ужасно красивыми камнями. Маленькая коробочка, не мешки с луидорами и не золото в слитках.
— Не похожа та коробочка вот на эту? — небрежно спрашиваю я, вытаскивая из кармана вчерашнюю находку и кладя ее на стол.
В первое мгновение Розмари на грани обморока. Румянец совершенно исчезает с ее лица, но тут же возвращается, еще более густой, а ее темные глаза горят странным огнем. Она нерешительно протягивает к коробочке свою белую руку, словно боится спугнуть желанное видение. Наконец она нажимает кнопку, и крышка откидывается, внезапно открыв сияющие камни на темном фоне бархата.
— Десять… — произносит Розмари словно в полусне.
Потом осторожно берет двумя пальцами один из камней, внимательно разглядывает его, смотрит на свет и снова кладет в коробочку.
Сказке пришел конец. Видение рассеялось.
— О Пьер! — говорит квартирантка уже обычным для нее тоном. — Если бы я умерла от разрыва сердца, виноваты были бы только вы. — И, видя мое недоумение, добавляет: — Это не брильянты.
— А что же?
— Это точная копия той коллекции. Шлифованный горный хрусталь.
Розмари резким движением захлопывает коробочку и отодвигает ко мне. Жест ее настолько красноречив, что я не могу не спросить:
— Вы уверены?
— Когда-то коллекцию должны были экспонировать на выставке. И чтобы не стать жертвой какой-нибудь банды, грек заказал у Грабера точную копию оригинальных камней. Грабер мне рассказал о существовании дубликатов. Хотя обмануть они не могут никого, разве что какого-нибудь невежду…
— …вроде меня, — добавляю я. И уныло сую подделку обратно в карман. Розмари испытующе смотрит мне в лицо. Затем спрашивает с полуусмешкой:
— Вы, кажется, в самом деле поверили, что они настоящие?
— Угадали.
— Я просто потрясена… — говорит Розмари как бы сама себе.
— Что же вас так потрясло? — бросаю я недовольно. — Брильянтами я не торгую. Имей я дело с брынзой, я бы сразу вам сказал, качественна она или нет. Ну, а камни…
— Меня изумил ваш жест, — уточняет Розмари. — Изумило то, что вы приняли их за настоящие.
Она машинально гасит сигарету, впустую дымившую на пепельнице, обращает ко мне свой темный взор и тихо произносит:
— Если только я не обманулась, вы меня до такой степени растрогали своими фальшивыми брильянтами, что…
— Приберегите ваши благодарности до лучших времен, — останавливаю я ее. — До того дня, кода я положу перед вами настоящие.
Тут я изображаю на своем лице внутреннюю борьбу и сомнение, словно в эту минуту меня захлестнуло чувство горечи.
— Нет, боюсь, я никогда не предложу настоящие. Зачем они вам? Чтобы вы тут же отнесли их Тео Граберу?
— О Пьер! Не надо бередить мне душу. Вы ужасный человек. Вы искуситель.
— Значит, идея оставить Грабера с носом вам уже приходила?
— Сколько раз! Но это очень рискованно. Ювелиры, они, знаете, как масонская ложа. Зачем мне брильянты, если я не смогу их продать? А если и продам, где гарантия, что Грабер тут же не пронюхает и не начнет меня преследовать?
— Пустяки, — успокаиваю я ее. — Всякое дело надо делать с умом. И потом, всему свое время. Постарайтесь сперва раздобыть брильянты, а тогда будете думать о продаже.
— А каким способом вы раздобыли эти, фальшивые? — неожиданно спохватывается она.
Вопрос, которого я ждал давно, и потому отвечаю спокойно:
— Удивительно глупая история… Как-нибудь я вам ее расскажу.
— Так-то вы отвечаете на мою откровенность?
— Ужасно глупая история, уверяю вас. Кое-что в ней следовало бы уточнить. И я не могу вам ее рассказать, пока не проверю две-три вещи.
— Вы мне не доверяете, Пьер?
— Прежде чем вам доверить что-то, надо сперва самому удостовериться… Разве не достаточно, что я доверился вам и показал эти камни, пусть фальшивые? И как это ни смешно, я нашел их в глубине сада, в каменной вазе.
— В каменной вазе? — задумчиво повторяет Розмари.
Она мучительно что-то соображает, потом лицо ее внезапно светлеет.
— Тогда все ясно. Некто Икс послал Горанофу письмо с угрозой: если тот к такому-то часу не положит камни в такое-то место — имелась в виду, конечно, каменная ваза, — то будет убит. Старик, чтобы выиграть время, оставил в вазе дубликаты. Икс сразу обнаружил обман и осуществил свою угрозу.
— А может, и настоящие камни унес?
— Не мог он их унести. Если бы ему удалось их нащупать, зачем бы он стал убивать Горанофа? Старик не рискнул бы жаловаться на то, что у него украли ранее украденное им самим. А потом, не надо забывать и другое…
— Что именно? — спрашиваю я, поскольку она замолкает.
— А то, что все продолжают вертеться на этом пятачке: Пенеф, Флора, тот, из торга, не считая Виолеты, которая, может быть, не так наивна, как кажется. Если бы брильянты исчезли, можете быть уверены, всех как ветром сдуло бы. Они все знают. Одна я ничего не знаю.
— Только без причитаний, — останавливаю я ее. — Иначе и в самом деле вынудите меня разыскать их, эти брильянты.
— Я не такая нахалка, чтобы требовать этого от вас. Единственное, на что я смею рассчитывать, так это на дружескую помощь.
— В смысле?
— Флоре вы явно приглянулись, грубо говоря.
— И вы меня толкаете в объятия Флоры?
— Я этого не сказала. И полагаюсь на ваш вкус. Но было бы неплохо, если бы вы уделили ей немного внимания, пофлиртовали с ней, чтобы у нее развязался язык. Крупные женщины очень чувствительны к комплиментам, поскольку получают их редко, и размякнуть такой недолго…
— Надейтесь.
— Во всяком случае, вы могли бы вызвать ее на разговор. Порой одно-единственное слово открывает очень многое. Я так беспомощна и стольких вещей не знаю, хотя Грабер твердит, что я запросто могу заменить Второе отделение и Скотланд-ярд, вместе взятые…
— ЦРУ и ФБР, — поправляю ее. — Выражайтесь более современным языком.
— Флора с Пенефом, наверное, что-то замышляют, а что именно — я понятия не имею. Может быть, собираются как-то отвлечь Виолету и обшарить виллу или еще что-нибудь в этом роде.
— Но ведь вы уже подружились с Виолетой, что вам стоит их опередить?
— Вы так считаете? Она и в самом деле кажется мне беспомощной и наивной, но как раз такие обычно бывают чересчур мнительными и недоверчивыми — им все кажется, что они могут стать легкой добычей злоумышленников. Нет, с этими беспомощными и наивными держи ухо востро…
— Особенно когда их хотят лишить обременительного наследства.
— У нее пожизненная рента и два дома. Так что не оплакивайте ее раньше времени. Сжальтесь лучше надо мной.
— А если у меня начнется флирт с нашей роскошной Флорой, вас это не будет раздражать?
— Я стисну зубы и постараюсь сохранять спокойствие.
— И в этом будет ваша ошибка. Напротив, вы должны злиться, только смотрите не перестарайтесь.
— Это нетрудно, — заверяет она. — У меня, кажется, уже начинается приступ ревности. Вопреки тому, что я полагаюсь на ваш вкус.
Если поздним вечером — для Берна девять часов уже поздний вечер — вы бродите по переулкам близ главной улицы в надежде найти открытое кафе, то неизбежно наткнетесь на «Мокамбо» — ночное заведение города, который славится тем, что с наступлением ночи в нем вся жизнь замирает.
Неудивительно, что и мы наткнулись на «Мокамбо». После очередной встречи у нас дома. И после очередной партии в бридж. И после того, как Розмари заявила Ральфу, что нечестно с его стороны так ограбить всех троих.
— Я охотно вернул бы вам ваши деньги, только боюсь вас обидеть, — отвечает американец. — Но если вы не возражаете, мы можем пропить их вместе…
Я лично считаю, что, раз так уж необходимо пить, мы могли бы заняться этим дома. Однако Розмари бросает на меня многозначительный взгляд, и я храню молчание. Мы погружаемся в огромный смарагдово-зеленый «бьюик» Бэнтона и катим в «Мокамбо».
Наше первоначальное намерение довольно скромно: посидеть в уютном баре с окнами, открытыми на улицу. Но ядовитое замечание хитрющей Розмари о том, что Ральф, как истинный банкир, дрожит над каждой монеткой, делает свое дело, и мы спускаемся на несколько ступенек ниже и попадаем в кабаре.
В кабаре достаточно свободно, и можно выбрать удобный столик поближе к дансингу, и достаточно людно, чтобы не испытывать гнетущего чувства, будто мы самые испорченные люди в этом порядочном городе. Кельнер в черном смокинге церемонным жестом откупоривает бутылку шампанского, потому что дамы ничего, кроме шампанского, пить не желают — им не терпится вытрясти из американца как можно больше денег. Ради истины следовало бы уточнить, что их попытки омрачить настроение Бэнтона оказываются тщетными: кривая настроения американца, по существу, всегда остается прямой, иными словами, он относится к тому типу людей, которые живут без иллюзий, зато не знают и разочарований.
Оркестр начинает играть какой-то допотопный рок, и я, чтобы маленько досадить Бэнтону, со своей стороны, спрашиваю, не пригласит ли он Флору потанцевать, однако мой номер не проходит, мало того, рикошетом возвращается ко мне, поскольку я тут же слышу голос Флоры:
— Не нарушайте его сон, мой мальчик. Лучше сами пригласите меня.
Ничего не поделаешь, я встаю, вывожу даму на середину дансинга, и мы сразу же привлекаем к себе всеобщее внимание. И я бы сказал, почтительное внимание — публика, очевидно, считает, что это начало программы. Не помню, говорил ли я, но могучая Флора на каких-нибудь пять-шесть сантиметров выше меня ростом. Конечно, пять-шесть сантиметров не бог весть какая разница; по преданию, разница между Давидом и Голиафом была куда больше. Но если к несоответствию роста добавить несоответствие в объеме, а также своеобразный стиль, в каком эта пышная женщина трясет своим огромным бюстом и вертит тяжелым задом, вам, должно быть, станет ясно, почему публика воспринимает наш танец как небольшой вступительный аттракцион комического характера.
Но комические аттракционы редко вызывают комический эффект, потому что зрители считают их чересчур преднамеренными. Так что сидящие вокруг скоро перестают обращать на нас внимание, сногсшибательный рок кое-как заканчивается, и я с облегчением собираюсь вернуться к спокойному быту за столиком, однако этот идиот дирижер неожиданно заводит новую, еще более допотопную мелодию — аргентинское танго, — и Флора ловит меня за руку, а другой рукой молча предлагает мне обвить ее стан, затем плотно прижимается и шепчет, ведя меня по кругу:
— Обнимите же меня покрепче, мой мальчик. Я не фарфоровая.
Я выполняю требование и даже, удобства ради, склоняюсь на ее грудь — довольно широкую и умиротворяющую подушку, а Флора с каждым движением вызывающе задевает меня своими массивными бедрами, и мне ничего не остается, кроме как плыть в волнах плоти, в этом океане плоти, пока моего слуха снова не касается мягкий, спокойный голос:
— Мне кажется, вы несколько увлеклись. Не боитесь, что этой ночью Розмари может надрать вам уши?
— Такой риск всегда существует. Но что поделаешь, если я не в силах скрывать свои симпатии, — отвечаю я, очнувшись от грез.
— Свои симпатии? — вскидывает брови женщина. — Долгие месяцы пришлось ждать, чтобы услышать наконец от вас эти слова.
— А вы не заметили, Флора, что сильные чувства довольно медленно разгораются?
— Ничего такого я не замечала, — сознается она. — И скорее всего потому, что сильные чувства мне вообще незнакомы.
— Не убеждайте меня, что вы бесчувственны, — возражаю я, еще крепче прижимаясь к ее величавой груди.
— Розмари определенно надерет вам уши, — предупреждает меня Флора, но поддается моим объятиям. — Что касается вашего намека, то должна вам признаться, что страсти во мне не умолкают. Только не какие-то бурные, а маленькие, приятные, не грозящие тяжкими последствиями.
— Никак не предполагал, что такая могучая женщина, как вы, способна испытывать страх…
— Это вовсе не страх, мой маленький Пьер, — воркует мне на ухо женщина. — Это склонность к удобству. Бурные страсти всегда порождают неудобства и хаос. Я же предпочитаю уют и порядок. — Свой лазурный взгляд она погружает в мои глаза со спокойной уверенностью гипнотизера и добавляет: — Я женщина скучная, мой мальчик. Капризы и причуды вашей очаровательно легкомысленной Розмари мне чужды.
Это откровенное заявление спутало все мои планы по части молниеносной чувственной атаки, и я на протяжении нескольких упоительных тактов лихорадочно соображаю, как мне быть в создавшейся ситуации, но Флора сама приходит мне на выручку:
— Вы тоже далеки от испепеляющих эмоций, и если пытаетесь втемяшить мне обратное, то должна заранее сказать, что я вам не поверю. Вы человек уравновешенный, мой мальчик, вами руководит холодный рассудок, и нечего зря выпендриваться.
— Что поделаешь, — вздыхаю я. — Приходится жить по моде.
— Не вижу такой необходимости, — возражает Флора. — Если считаться с модой, то мне впору облиться каким-нибудь горючим и зажечь спичку, но, поверьте, подобная мысль мне никогда в голову не приходила. Пускай пигмеи следуют своей моде, а люди вроде нас с вами не обязаны этому подчиняться.
Тут аргентинское танго наконец обрывается, и, несколько опьяненный сознанием, что эта могучая дама возвысила меня до своего уровня, не считаясь с разницей в пять сантиметров, я торжественно веду ее обратно к столику.
— Вы были неподражаемы, — поздравляет нас Розмари. — Особенно в роке. Эти быстрые танцы для таких, как вы, дорогая, с точки зрения гигиены очень полезны.
— У меня нет ни грамма лишнего веса, моя милая, — информирует ее Флора, принимая царственную позу в своем кресле. — И на плохое здоровье я не жалуюсь. А вот вы последнее время какая-то бледная, как мне кажется. И раз уж речь зашла о гигиене, то, смею вам напомнить, прогулки действительно могут принести пользу. Только не ночные.
— Я вижу, господин Пенеф исправно вас информирует. Однако, заботясь о своевременности, он не считает нужным говорить вам правду. Мне действительно пришлось совершить прогулку — к моему больному отцу, моя дорогая.
Они продолжают беседовать в том же «дружеском» тоне. В целях восстановления мира мы с Ральфом аккуратно пополняем их бокалы — кельнер ставит в ведерко со льдом уже третью бутылку, — но «дружеский» разговор все не прекращается, и, чтобы хоть на время развести чемпионов, мертвой хваткой вцепившихся друг в друга на ковре, Бэнтон приглашает Розмари.
— Если она и дома такая, вашим терпением можно восхищаться, — тихо говорит Флора, когда мы остаемся за столом одни.
— Просто она чуток понервничала, — небрежно отвечаю я. — Эта внезапная болезнь отца…
— Заболевание отца? — прерывает меня дама. — А может, папы римского?
— Или хроническое недоедание…
— Мне не кажется, что она себя морит голодом, — снова прерывает меня Флора. — Если женщина хилая, это не всегда признак недоедания.
— Еще бокал? — галантно предлагаю я, чтобы переменить тему.
— Налейте, если это доставит вам удовольствие. Только не воображайте, что вам удастся меня напоить. Да и ни к чему это. — Флора мерит меня всевидящим взглядом и после непродолжительного гипноза спрашивает: — А если даже сумеете напоить, что толку? Милая Розмари всегда начеку.
— Мне кажется, вы немного преувеличиваете, говоря о власти Розмари надо мной.
— Неужели? А что вы скажете, если я захочу проверить ваши слова? — Каким образом?
— Самым простым: возьму и похищу вас.
— Вы даже сны мои начинаете отгадывать.
— Нет, я вам не верю, — качает головой Флора. — И проверять вас не собираюсь. Успокойтесь, я пока никого не похитила… да и меня никто не похищал…
Последнее утверждение близко к истине, но я не решаюсь об этом сказать, тем более что компания опять в полном составе. Компания в полном составе, однако веселья что-то не получается, хотя в ведерке охлаждается уже четвертая бутылка шампанского, и только Флора чувствует себя на гребне, насколько можно судить по ее теплым словам и теплому взгляду, обращенному на меня, что усугубляет хандру Розмари — во всяком случае, изображает она ее великолепно, — моя квартирантка признается, что у нее ужасно болит голова и что она с удовольствием ушла бы, и Ральф, естественно, предлагает отвезти ее домой, а я намекаю, что нам всем пора уходить, но Розмари возражает, зачем, мол, так рано, посидите еще, я бы не хотела портить вам вечер, а тем временем Флора сверлит меня многозначительным взглядом, и, подчинившись ему, я говорю уже другое — что нам и в самом деле не худо бы посидеть еще немного, что явилось вершиной бесшумного скандала, и моя Розмари венчает его тем, что демонстративно уходит в обществе Ральфа.
— Просто глазам своим не верю, — признается Флора. — Оказывается, вы можете проявить характер, если захотите.
— Тут исключительно ваша заслуга, дорогая, — скромно отвечаю я. — В этот вечер я весь во власти вашего обаяния.
— Оставьте эти книжные фразы, мой мальчик. Розмари так любит щеголять пустыми словами, что и вас заразила. С женщиной вроде меня надо говорить проще. И по существу.
Совет полезный, ничего не скажешь, и, следуя ему, я вывожу мою собеседницу из кабаре, беру такси, и через четверть часа мы с ней — в знакомом, удобно и практично обставленном салоне.
— Наливайте себе чего-нибудь, не бойтесь меня разорить, — предлагает Флора, указывая на заставленный бутылками столик. — А я тем временем приму душ.
Чтобы принять душ, ей, естественно, надо сперва раздеться, что она делает совершенно непринужденно, словно перед нею Макс Бруннер, а не Пьер Лоран, после чего исчезает в ванной. Я не испытываю желания снова приниматься за питье, особенно теперь, когда я в обществе этой опьяняющей женщины, и предпочитаю, вытянувшись на диване, очередной раз посовещаться с самим собой.
Итак, вопреки договоренности Розмари толкнула меня в объятия Флоры из чисто практических соображений, которые без всяких колебаний мне раскрыла. В силу какого-то совпадения, какими жизнь нередко нас поражает, наши цели не противоречат друг другу, хотя они далеко не равнозначны.
Пока я копаюсь в своих мыслях, из ванной выходит Флора — такой же внезапный сюрприз, каким было появление Венеры из пены морской.
— Вы просто ослепительны, — бормочу я, не в состоянии владеть собой.
— Скажите лучше: у вас хорошая фигура. Я же вам говорила, громкие слова — не моя страсть.
Она набрасывает полупрозрачный розовый пеньюар и направляется ко мне.
— Кстати, — роняю я, когда она уже совсем близко и наше столкновение кажется почти неизбежным. — Эта ваша дружба с Пенефом…
Во взгляде Флоры внезапно блеснул металл.
— Я подозревала, хотя не была уверена: это Розмари вас послала ко мне, чтобы все выведать.
— Вот и не угадали, — возражаю я спокойно. — Скрывать не стану, моя симпатия к вам действительно сочетается с определенными интересами практического порядка. Но может ли подобное сочетание приятного с полезным удивить женщину с таким трезвым умом? И чтобы не было недомолвок, я должен вас заверить: Розмари к этому не имеет никакого отношения.
Она стоит передо мной, держа руки на бедрах, нисколько не стесняясь своей наготы или не подумав о ней, и взвешивает мои слова. Затем садится, но не в интимной близости со мной, а в соседнее кресло, закидывает ногу на ногу, демонстрируя свои массивные бедра, и сухо говорит:
— Ну хорошо, мой мальчик, я слушаю.
— Да, но прежде, чем мы перейдем к откровенному разговору, мне бы хотелось, чтобы вы ответили на мой первый вопрос: эта ваша дружба с Пенефом…
— Отвечаю! — прерывает меня Флора. — Этот кретин вне игры. Так же как эта ваша дурочка.
— В таком случае дело в следующем… Я рассказываю ей без лишних слов — она ведь дала мне понять, что не любит пустых фраз, — все, что я знаю о ее жизни и планах, о ее связи с Бруннером, о ее интересе к покойному Горанову, а значит, и к Пеневу и, естественно, о том, что ее конечная цель — брильянты.
— Я верю, что откровенный тон нашей беседы не позволит вам оспаривать все эти бесспорные вещи, — заключаю я.
— Я не говорю ни «да», ни «нет», — отвечает она, — я вообще ничего не скажу, прежде чем не услышу главное: какую цель преследует сам господин Пьер Лоран?
— Пока что ответ будет негативный: брильянты его не интересуют.
— Все так говорят. В наше время альтруистов хоть пруд пруди.
— Хватит вам иронизировать, лучше рассудите логически. Если бы меня интересовали брильянты, разве стал бы я открываться перед вами, заведомо зная, что вы сами их ищете?
— Может, вы хотите втереться в доверие, чтобы поставить подножку в удобный момент. Или рассчитываете на то, что с вами поделятся. Только я, мой мальчик, делиться не люблю. — Она молчит какое-то время, потом поясняет: — Я вам это высказываю просто так, в качестве гипотезы.
Гипотеза или нет, но звучит достаточно ясно. Как и следовало ожидать, эта команда тоже охотится за брильянтами. Будем надеяться, что ее интересуют только брильянты.
— Вот видите, дорогая, у меня нет никаких поползновений завладеть вашими камнями. Зато я бы вам пригодился в обнаружении их.
— Каким образом?
— Снабдил бы вас кое-какими сведениями.
— В обмен на что?
— В обмен на кое-какие сведения.
— «Кое-какие»… Это слишком туманно, — недовольно бормочет она.
— Когда вы создадите мне необходимые условия, я буду конкретней.
— Говорите яснее. Что вы имеете в виду?
— Я должен повидаться с Бруннером. Она откидывается на спинку кресла и смеется не особенно веселым смехом.
— Это все?
— Это только начало.
— Странный вы человек, Лоран. Опасаетесь Флоры, а ищете встречи с Максом. Да Макс вас сотрет в порошок, если только усомнится в чем-нибудь.
— Такой опасности не существует.
— Вам видней. Что касается встречи с Бруннером, то этот маленький подарок вы от меня получите, мой мальчик. — Затем она поднимается с кресла, снова ставит руки на бедра и спрашивает деловым тоном: — Так мы будем ложиться?
— Мы же затем и пришли… — отвечаю я.
Я просыпаюсь с мыслью, что в такое теплое время давно пора убрать ватное одеяло. Одеяло мне заменяет Флора — ее дородные белые руки заключили меня в крепкие объятия… Другая моя забота касается несчастного Бенато. Похоже, что и сегодня ему суждено начать рабочий день, а может быть, и закончить обед без меня.
Я пытаюсь высвободиться из могучих объятий этой роскошной женщины, но во сне она прижимает меня к себе еще крепче. Я уже исхожу потом. Вот это объятия! Придется выждать какое-то время.
Истомленная переживаниями в кабаре, а затем ночными, Флора освобождает меня от своих объятий только в девятом часу. Но должен признать, что, едва открыв глаза, она проявляет завидную активность. Несколько энергичных приседаний и наклонов, несколько минут под душем, и мы уже сидим за кухонным столом перед обильным завтраком.
— А ты мне нравишься, мой мальчик, — говорит хозяйка, протягивая руку к булочкам, только что доставленным из пекарни. — Хотя я вправе обижаться на тебя.
В отличие от Розмари она в первую же ночь перешла на «ты».
— Обижаться, за что?
— За твое недоверие. Перешагиваешь Флору, ищешь Бруннера…
— Недоверие здесь ни при чем, это диктуется необходимостью: нужные мне сведения я могу получить не от тебя, а от Бруннера.
Флора задерживает на мне задумчивый взгляд, словно соображая, что же это за сведения такие: приятелю ее они известны, а ей — нет. Затем пожимает плечами.
— Так уж и быть. Хотя было бы куда лучше, если бы вели переговоры мы с тобой вдвоем — два представителя торговых фирм, не так ли?
— Ты, в сущности, кого представляешь?
— Тебе это известно: Макса Бруннера.
— Бруннер — это не фарфоровый завод.
— А при чем тут фарфоровый завод?
— Значит, ты его послушное орудие.
— А почему не наоборот?
— Потому что он дергает за нитки.
— Бог ты мой! — вскидывает она брови. — Если он начнет дергать за нитки, то до такой степени запутается в них, что даже мне его не высвободить.
— А ты не боишься, что, завладев добычей, он может махнуть на тебя рукой?
Она смеется коротким и невеселым смехом:
— Скорее я могла бы махнуть на него рукой. Но не стану этого делать. Одинокой женщине, мой мальчик, всегда нужен домашний пес.
7
До недавнего времени это заведение, вероятно, представляло собой обыкновенный подвал, заваленный всяким хламом. Но вот, распространяясь неведомыми путями, сексуальная революция докатилась и до этих мест — возможно, как ее далекий и робкий отголосок. Афиши «Казино де Пари» начала века, несколько красных фонарей в нишах, десяток столиков, освещенная прожекторами эстрада — и вот уже подвал превратился в берлогу, где немногочисленная местная богема может созерцать разгул эротических страстей.
Это второе и последнее ночное заведение в добропорядочном Берне рангом значительно ниже «Мокамбо», но, вероятно, значительно интереснее его, если судить по тому, что народу здесь полным-полно. Магнитофон, заменяющий дорогостоящий и совершенно ненужный в этом подвале оркестр, с помощью усилителей наполняет зал почти невыносимой поп-истерией. Избыток децибелов контрастирует, однако, с нехваткой освещения, и я довольно долго блуждаю в красном полумраке между столиками, пока не обнаруживаю интересующую меня личность.
— Вы позволите?
Личность бросает взгляд в мою сторону и безразлично пожимает плечами. Затем снова смотрит в мою сторону и, видимо, узнает меня, потому что бледная физиономия субъекта вытянулась еще больше, а острые глазки беспокойно забегали.
— Виски? — спрашивает кельнер, которому здешняя суматоха не мешает заметить мое появление.
Я киваю и, видя во рту соседа незажженную сигарету, услужливо подношу зажигалку. Однако человек внезапно шарахается в сторону, словно пламя обожгло его, и бормочет:
— Мерси, я не курю.
— Но вероятно, прежде курили? — задаю ему вопрос только для того, чтобы начать разговор.
— Курил, и еще как. Но однажды врач предупредил меня, что, если буду так много курить, долго не проживу. Грудь у меня не совсем в порядке. — Он замолкает и больше не смотрит в мою сторону — все его внимание поглощено женщиной, внезапно появившейся на эстраде под предупредительный гром воспроизводимых магнитофоном ударных инструментов.
У меня нет представления о программе в «Мокамбо», гак как в тот вечер, раньше времени похищенный Флорой, я был лишен возможности ее посмотреть. Что касается здешней программы, то ей, конечно, далеко до классических традиций знаменитого «Казино де Пари». Вышедшая на эстраду дама, вполне очевидно, прибыла сюда не из Парижа, а из какого-нибудь вертепа превращенного в развалины Бейрута. Чересчур жирная и весьма подвижная, она пытается сочетать восточный танец живота с американским стриптизом — постепенно стаскивая с себя свои эфирные вуали и обнажая все, чем одарила ее природа, она лихо вертит бедрами под завывания усилителей, и телеса ее трясутся, словно желе.
Мой сосед, весь превратившийся в слух и зрение, видимо, по достоинству оценивает эротическую сгущенность номера. И все же у меня такое чувство, что ему что-то мешает полностью сосредоточиться. Надеюсь, причина не во мне.
Показав публике все, что можно было, и не оставив после себя ничего, кроме пары туфель, толстуха исчезает за занавесом, вертя на прощание увесистым задом, и тут же на эстраде появляется ее антипод — длиннущая и ослепительно белая представительница северной расы, основательно одетая в шелка и меха, так что, очевидно, потребуется уйма времени, пока она окончательно разденется.
Однако я не намерен дремать здесь до поздней ночи, да и события принимают такой оборот, что мне совсем не до развлечений, поэтому я вынужден ненадолго отвлечь внимание соседа от очередного сексуального блюда.
— Я пришел сюда не ради стриптиза, господин Пенев, а для того, чтобы сказать вам несколько слов. В ваших интересах внимательно выслушать их, мне кажется.
Человек стрельнул в меня глазами и, как ни странно, снова вперяет взгляд в скандинавку, которая уже отбросила жакет из искусственной белки и занялась платьем.
— Я не добивался встречи с вами, — бормочет Пенев. — Но если хотите что-то сказать, говорите. Я не глухой.
— Мне нужны досье агентуры. Агентуры Горанова.
Сосед, снова коротко взглянув на меня, устремляет взгляд на длинную белотелую самку, которая уже на подступах к кружевному белью.
— Досье? — глухо произносит он. — И что еще? Сверхзвуковой самолет, атомная бомба, космическая ракета? Делайте любые заявки, я к вашим услугам.
— Видите ли, Пенев, не лучше ли нам обойтись без этих досадных вступлений? Ваше недоумение кажется таким наивным. Вам сказано предельно ясно: мне нужны досье. К этому можно добавить лишь одно: времени у нас в обрез.
— Лично мне торопиться некуда…
— Однако те, что идут за вами по пятам, торопятся. Мне трудно судить, насколько вы в курсе, но с некоторых пор вы находитесь под наблюдением. И не стану удивляться, если и сейчас за вами следит кто-нибудь из присутствующих.
— А с какой стати вы проявляете такую заботу обо мне? — замечает сосед, не отрывая глаз от эстрады. — Если вы все время суете свой нос куда не следует и бредите всякими там агентурами, вам лучше о себе подумать.
— Я думаю о нас обоих. Не потому, что питаю к вам особую симпатию, а в силу того, что так сложились обстоятельства: я разыскиваю то, что находится у вас, а вы — то, что у меня. К этому и сводится мое предложение: вы должны отдать то, что нужно мне, и получить взамен то, что нужно вам. Надеюсь, вам ясно?
— Не совсем, — слегка качает своей острой головой мой собеседник. — Я уже слышал, что вы ищете, но не могу понять, что я сам ищу.
— Брильянты.
Наконец-то Пенев благоволит отвести глаза от сцены, хотя именно в этот момент северная красавица, усевшись на стул в бесстыдной позе, начинает стаскивать чулки. Она их скатывает с такой досадной медлительностью, как будто рассказывает бесконечно длинный и скучный анекдот. Старый, бородатый анекдот.
— Вы не могли бы объяснить поточней? — спрашивает Пенев, вынимая изо рта уже совершенно размокшую сигарету и бросая ее в пепельницу.
— Я сказал — брильянты. Брильянты, оставленные Горановым, которые вам вот уже столько времени покоя не дают. И напрасно вы надеетесь докопаться до них с помощью Виолеты, Флоры или собственными усилиями Совершенно напрасно, Пенев. Потому что они у меня.
— Досье… Брильянты… Чушь какая-то, — бубнит пренебрежительно сосед.
Однако тот факт, что он утратил всякий интерес к номеру длинной скандинавки, говорит о другом. Пенев достает из кармана коробочку «Лаки-страйк» без фильтра — при его «холодном» курении всегда пользуются сигаретами без фильтра — и вставляет в угол рта новую сигарету.
— Вы, похоже, и в самом деле не даете себе отчета, что происходит, — спокойно говорю я. — Чтобы продлить жизнь, вы воздерживаетесь от курения. А вам и невдомек, что имеются все предпосылки к тому, чтобы ваша жизнь сделалась такой короткой, как эта сигарета, которую вы без конца жуете. Люди, убравшие Горанова, собираются убрать и Пенева. Вполне возможно, они уже готовы к этой операции, и, если вы хотите уцелеть, не тратьте время на разговоры и отбросьте всякое притворство.
Реплика оказалась достаточно длинной, чтобы артистка успела стащить чулки, а Пенев — побороть колебания.
— Зачем вам досье? — вдруг спрашивает он и торопится добавить: — Если они вообще существуют.
— В них значатся имена моих близких, а им больше не хотелось бы фигурировать в этих досье, они желают в будущем спать спокойно.
— Значит, вы болгарин? — спрашивает мой сосед на родном языке.
— А вы за кого меня приняли? За американского негра? — отвечаю на том же языке.
Он не реагирует на эти слова и погружается в свои мысли, а тем временем высокая женщина на эстраде царственным жестом отбрасывает в сторону бюстгальтер и приближается к апогею своего номера — ей осталось освободиться от трусов. И, поскольку мой собеседник даже в этот напряженный момент не поднимает взгляда на красотку и поскольку его размышления, по моему мнению, слишком затянулись, я ощущаю потребность прийти ему на помощь:
— Должен вас предупредить: если вы прикидываете, как бы спасти собственную жизнь, пустив в расход мою, то вы допускаете роковую ошибку. Сам факт, что я открылся вам, говорит о том, что тыл у меня надежно защищен. При малейшей попытке предательства вас мигом ликвидируют. Люди, готовые это сделать, всегда начеку, Пенев. Они не выпустят вас из поля зрения, и вам нигде не укрыться от пули. — И так как дело и без того зашло далеко, я позволяю себе добавить: — В сущности, пулю вы уже давно заслужили. И я проявляю большое великодушие, предоставляя вам амнистию. А оттого, что вместе с амнистией я даю вам и брильянты, мое великодушие представляется поистине фантастичным.
— Чем фантастичнее предложение, тем меньше доверия оно внушает, — отвечает Пенев, и ответ его не лишен основания.
— Вы прекрасно понимаете: люди, которых я представляю, брильянтами не интересуются, особенно крадеными.
— А что это, в сущности, за брильянты, о которых вы все время толкуете? — спрашивает он ради небольшой проверки.
— Многокаратовые. Потрясающая коллекция. Разложенные со вкусом в небольшой черной коробочке.
— Сколько их?
— Девять.
— Вот и обмишурились вы, — качает головой Пенев. — Их ровно десять штук.
— Было десять. Только один из них попал на рынок, где сбывают краденые вещи. Так что теперь их девять.
Он, разумеется, отлично знает, сколько их, просто ему понадобилось выяснить, насколько я в курсе дела. Уже исчезла со сцены высокая скандинавка, чтобы предоставить место мулатке с умопомрачительными формами в легком ситцевом платье. Эта явно работает в соответствии с лозунгом: «Берегите время!»
— И нечего вам мудрить, — советую я Пеневу. — Будете долго мудрить — сделка может и не состояться. У вас не так много времени, чтобы собрать свои пожитки и исчезнуть.
— Кстати, как вы себе представляете эти досье? — спрашивает Пенев, только теперь подняв голову, чтобы посмотреть мне в глаза.
— Их внешний вид меня нисколько не интересует. И то, как они заполнены. И шифр, если им пользовались.
— Шифра нет, — успокаивает меня Пенев. — Но есть другое: эти досье, гражданин, были разрезаны по вертикали на три полосы. Десять листов, и каждый был разрезан на три полосы, таким образом, всего получилось тридцать полос, не так ли? Ну вот. Но если дойдет до сделки, я смогу предложить вам только десять полос из общего количества.
— А где остальные?
— В двух различных местах.
— Но вам, конечно, известны эти места.
— Одно — да. Что касается другого, об этом спросите у Горанова.
— А где первое?
— А брильянты?
— О брильянтах не беспокойтесь. Я могу вручить их вам сегодня же.
— Когда вручите, тогда я вам обо всем и расскажу. И десять полос досье заодно передам.
— Условия сделки, которые вы мне предлагаете, неравноценны.
— Я вам ничего не предлагаю. Это вы предлагаете.
— И все же они неравноценны.
— Я не в состоянии дать вам больше того, что у меня есть, — пожимает плечами Пенев.
— А что содержат ваши «полосы»?
— Самое главное: псевдонимы. Листы, как я уже сказал, были разрезаны на три части. На одной — псевдонимы, на другой — подлинные имена, а на третьей записаны данные о характере деятельности.
— Но псевдонимы далеко не самое главное.
— Для нас они — самое главное, потому что мы под ними работаем. Во всяком случае, чем я располагаю, то предлагаю.
— Вы мне предлагаете сущий пустяк. Я рассчитывал на другое.
— Может, и я рассчитывал на другое, но, как видите, дошел до того, что вступаю в сделку с таким вот, как вы… — мрачно бормочет он и разминает в пепельнице мокрую сигарету.
Конечно, для него это предел падения — теперь, когда факт предательства для него позади, он отчасти соглашается раскрыть его механизм, с тем чтобы, нагрев на этом руки, скрыться в неизвестном направлении.
Мулатка в рекордное время стащила с себя почти все, что на ней было, но, как оказалось, это лишь скромное вступление, а главная часть ее действия — какой-то бесконечный бешеный танец под бешеный визг магнитофона.
— Я должен вам сказать еще несколько слов, — предупредил я. — А что касается обмена товаром, предлагаю произвести его этой же ночью…
Этой же ночью. Доверие хозяев к слуге — если оно вообще существовало — в последние дни начисто пропало. За Пеневым установлено наблюдение, и ему это хорошо известно. Однако после того, как я вошел с ним в контакт — а в этом была настоятельная необходимость, — я и сам могу оказаться под наблюдением, какой бы правдоподобной ни казалась версия о нашей случайной встрече в случайном заведении. Так что надо спешить.
Горсть брильянтов достоинством в миллионы долларов способна затуманить мозги даже самому расчетливому пройдохе. Произошло это и с Пеневым. Он похвалялся Флоре, что собирается купить себе виллу — конечно же, за деньги ЦРУ. Но вот ЦРУ отстраняет его от участия в сделке, и в торговом зале объявляется Кениг. Открытый выход на сцену Кенига, так же как неожиданное появление наследницы, о существовании которой никто не подозревал, порождает у Пенева страх, что добыча, которую он столько времени стерег, может от него уйти. Это толкает его на своевольные действия. К примеру, он неотступно следит за Виолетой, что не могло быть не замечено такими людьми, как Кениг, хотя, вероятно, никто ему такого поручения не давал. Не исключено также, что покушение на Кенига в вилле приписывается Пеневу, тем более что другой возможный виновник пока не обнаружен. Так или иначе, наследник Горанова находится под наблюдением. И это обстоятельство не только дает ему обильную пищу для раздумий, но и толкает на мысль, что надо скорее смываться, что отныне ему придется быть на нелегальном положении.
Быть на нелегальном положении — где? Если человек ухитрился бежать за границу, если ему удалось сменить шумный Мюнхен на тихий Берн, это вовсе не означает, что он может непрерывно прыгать с места на место, особенно если учесть, что ЦРУ не по вкусу подобные шалости. Но пусть от этого болит голова у Пенева.
Сейчас важно, чтобы сделка состоялась без каких-либо осложнений. Этой же ночью. В соответствии с договоренностью Пенев первым покидает прокуренный багровый полумрак сексуального подвала, а немного спустя я тоже выхожу и еду следом за «шевроле», сохраняя дистанцию. У меня нет сколько-нибудь серьезных оснований тревожиться, что наследник Горанова сделает попытку обмануть меня и выдать. Сейчас его положение слишком незавидно, и он не может позволить себе такую роскошь. Но все же — чем черт не шутит — я предпочитаю особенно не отставать от Пенева, чтобы можно было видеть, если он вздумает свернуть куда-нибудь в сторону с прямой дороги.
Судя по картине, пробегающей перед моими глазами в зеркале заднего вида, хвост за нами не тянется. Однако, как уже отмечалось, я не сторонник принимать кажущееся за действительное. Нынче, в эпоху небывалого технического прогресса, существуют всевозможные способы совершенно незаметно держать тебя под наблюдением. Именно поэтому сделка должна состояться только в три часа ночи, чтобы прошло достаточно времени с тех пор, как мы с Пеневым разошлись по домам и предположительно легли спать.
Три часа ночи. Обстановка, предельно ясная для людей старого поколения, которые все еще помнят сердцещипательную песню:
Брожу в тиши безлунной ночи, как сладок липы аромат!Что касается липы, то это, разумеется, поэтическая вольность — у меня в саду липа не растет, — а все остальное — чистая правда.
Безлунной ночью под пышными кронами яблонь я пробираюсь в самый конец сада, где на низкой ограде, разделяющей две усадьбы, возвышается никому не нужная каменная ваза.
Мрак не мешает мне видеть, что возле вазы, по другую сторону ограды, уже ждет Пенев.
— У меня пистолет, Лоран, — предупреждает он, — поэтому, если у вас есть какие-то дурные мысли, лучше выбросьте их из головы. Я продырявлю вам брюхо, не боясь потревожить окрестных жителей.
— У меня тоже кое-что имеется, — вру я нахальнейшим образом. — Но, я полагаю, мы пришли сюда не затем, чтобы дырявить друг друга. Доставайте лучше бумаги.
— Сперва доставайте брильянты!
Я вытаскиваю из кармана уже знакомую коробочку и открываю ее. Хотя ночь безлунна, брильянты заиграли веселым блеском даже при тусклом свете уличных фонарей, с трудом проникающем сквозь яблоневую заросль. Не в силах сдержаться, сосед протягивает к заветному сокровищу жадную руку.
— Не трогать! — предупреждаю я. — Выкладывайте бумаги!
Он отдергивает руку, в свою очередь роется в кармане пиджака и достает какие-то тонкие листочки, свернутые вдвое.
— Похоже, они были при вас и в кабаре…
— Естественно. Так же как ваши камни…
— Мы запросто могли обменяться товаром под столиком. Но с таким мнительным человеком, как вы…
Как бы в подтверждение моей правоты Пенев вдруг спрашивает:
— А где гарантия, что эти камни настоящие?
— А где гарантия, что ваши досье настоящие? — отвечаю я вопросом на вопрос. — У вас по крайней мере преимущество: вы хоть знаете, как выглядят камни. А я ведь понятия не имею, что собой представляют досье. Только — об этом я уже напоминал — если вместо настоящих документов вы мне всучите невинные клочки бумаги или вообще какую-нибудь фальшивку, вы неизбежно будете казнены, Пенев, и незамедлительно»
— Я не ребенок, — бормочет сосед. — Давайте камни!
— Успеется. Сперва я должен выслушать вашу информацию. Где находятся остальные полосы?
Он молчит какое-то время, взвешивая возможный риск. Потом шепчет:
— У Кенига. Не знаю, говорит ли вам что-нибудь это имя…
— Оно мне говорит о ЦРУ.
Пенев молчит, но в таких случаях молчание бывает красноречивее слов.
— Теперь давайте камни!
— Вот они, я кладу их на ограду. А вы положите рядом бумаги.
Он выполняет указание. И, не сосчитав до трех — за какую-то долю секунды до трех не досчитав, — каждый из нас хватает свою добычу.
— Один совет, — говорю я ему, перед тем как удалиться. — Исчезайте немедленно. Ваша жизнь и впрямь висит на волоске.
Он что-то тихо бормочет, вроде «я не ребенок», и уходит в темноту в направлении виллы.
Мне ровным счетом наплевать на то, что его жизнь висит на волоске. Предатель в момент предательства сам ставит на себе крест. Но сейчас мне крайне важно, чтобы он скорее убрался отсюда, и как можно дальше. Прежде чем установит истинную цену камней. И прежде чем его нынешний хозяин пронюхает каким образом он их получил.
Я пробираюсь во мраке к дому, поднимаюсь бесшумно по лестнице и вхожу в кабинет. Напряжение мое не столь велико, чтобы сердце у меня разрывалось, — давно уже миновало то время, когда мне были свойственны такие юношеские переживания. Однако было бы неверно утверждать, что я совершенно спокоен. Риск, что мне подкинули фальшивку, хотя и невелик, но все же есть.
Я зажигаю настольную лампу и быстро просматриваю досье. Тонкая с прожилками бумага сильно измята от перелистывания и основательно выцвела от времени. Потускнел и машинописный текст, так что абсурдно считать, будто эти бумаги приготовлены специально для меня. Машинопись — оригинал, а не копия, хотя в данном случае меня это мало интересует. Что касается содержания, оно сводится к перечню географических названий, напечатанных в столбик с неодинаковыми интервалами: Искыр… Огоста… Росица… Янтра… Места… Осым… Названия нередко повторяются, но их сопровождают различные цифры: Искыр-2… Искыр-3… Всего пятьдесят два словесных обозначения. Признаться, не ожидал я такого половодья.
Солидное приданое прошлого. Пятьдесят два предателя, которые периодически действовали либо были готовы к действию при определенных обстоятельствах. Пятьдесят два агента, которые будут целиком в распоряжении противника, если их вовремя не обезвредить. А насколько это возможно, пока сказать трудно, потому что на лежащих передо мной листах обозначены только маски, а истинные лица значатся на недостающем втором куске рукописи.
Полоски бумаги, до которых я докопался, весьма горькая победа. И все-таки победа. Потому что предположения, высказанные до начала операции, целиком подтвердились. И потому что теперь у меня есть точное представление о степени грозящей опасности, которую необходимо возможно скорее предотвратить. И потому, наконец, что теперь я знаю, где находится другая часть досье.
Только эта другая часть — не вторая, самая важная, а третья, насколько можно верить дополнительным сведениям, полученным от Пенева еще в кабаре.
Об этом и шла речь в заключительной части нашего разговора:
— Как бумаги попали в руки другого лица?
— Наверно, их взяли из сейфа сразу после убийства.
— А копии досье разве не существовало?
— Вы что, Горанова идиотом считаете? Картотека, говорил он, вот здесь! — И Пенев многозначительно постукивает указательным пальцем по голове. — Старик был стреляный воробей. Хотя и он ушел в мир иной.
— А почему ушел?
— Да потому, что дал маху с Караджовым… который оказался вовсе не Караджов… не знаю, в курсе ли вы…
— Я в курсе.
— Глупее всего то, что старик накололся именно при попытке обезопасить себя. Боясь, что его накроют ваши, сообщил о своей промашке… Иксу. Икс послал на выручку меня, и, казалось, все обошлось. Но потом появились эти женщины… Розмари, Флора… И стало ясно, что за стариком установлена слежка. Дальше больше, раздался этот телефонный звонок…
— Звонок?
— Я тогда подумал, что это ваша работа. Кто-то настаивал на встрече с ним… Невразумительно намекнул на что-то там… видимо, не подозревая, что телефонные разговоры старика подслушиваются… Это и решило судьбу Горанова.
— Они бы не стали его устранять, если бы вы не сообщили им, что существуют досье, что все записано черным по белому, — вставляю я только для того, чтоб поддержать разговор. — Ни один дурак не станет заносить руку на живую картотеку, пока не выудит из нее все, что может пригодиться.
— Думайте, что хотите, — отвечает Пенев.
— И что же это за бумаги, унесенные из сейфа?
— Третий раздел.
— А второй?
— Я же вам сказал: насчет второго обращайтесь к самому Горанову.
То, что отсутствует именно второй раздел, содержащий подлинные имена агентов, с одной стороны, плохо, но с другой — хорошо. Кениг и его люди пока не располагают подлинными именами. Сведения, содержащиеся в третьем разделе, достаточно важны, однако не могут иметь практической пользы, поскольку отсутствуют имена соответствующих исполнителей.
С этой в какой-то степени утешительной мыслью я достаю фотокамеру-зажигалку и начинаю снимать листки с машинописным текстом. Снимаю дважды, на две различные пленки. Одна завтра утром отправится в тайник «вольво». А другая… другая тоже может пригодиться.
— Вы идете по улице, и вдруг вам на голову падает цветочный горшок. Что это, случайность или судьба? — спрашивает Бенато, глядя на меня сквозь толстые очки круглыми младенческими глазами.
— Да, — отвечаю я без промедления.
— Что «да»? — снова спрашивает он уже с ноткой недовольства. — Вы, дорогой мой, просто не слушаете меня.
— Признаюсь, я маленько отвлекся, — тихо говорю я, отмахиваясь от своих мыслей.
— При этой вашей рассеянности немудрено и обед пропустить, — все так же недовольно отмечает мой компаньон и смотрит на часы. — Не кажется ли вам, что ваша дама заставляет нас слишком долго ждать?
— Мне кажется, что нам уже пора делать заказ, — предлагаю я, поскольку разговор этот происходит в уютном уголке «Золотого ключа» и поскольку как раз в этот момент у входа появляется импозантная фигура Флоры и словно туча закрывает собой белый свет.
Я встаю и исполняю неизбежный церемониал представления, после чего усаживаю даму между собой и Бенато. На Бенато Флора явно произвела впечатление, правда, исключительно своим ростом. Он, как мне кажется, давно уже вступил в тот возраст, когда на женщин смотрят только как на возможных собеседников.
После короткого совещания с Феличе, который всегда готов предложить все самое дорогое, мы заказываем аперитив и обсуждаем меню. Затем Бенато возвращается к прежней теме, только теперь он направляет свои испуганные детские глаза не на меня, а на Флору:
— Дорогая госпожа, представьте себе, что вы идете по улице и на вашу очаровательную головку откуда-то падает цветочный горшок. Как вы считаете, случайность это или судьба?
— Цветочный горшок, — коротко отвечает немка.
— Ну конечно, но все же какая-то сила привела его в движение.
— Земное притяжение, — уточняет дама.
— А вот мысль о фатуме вам не приходила?
— Видите ли, господин, если вам на голову свалится цветочный горшок и если вы при этом уцелеете, лучше всего подумать не о фатуме, а о том, как бы вызвать по телефону «скорую помощь». Ну, а если не уцелеете… Что ж, в этом случае вы можете быть уверены: проблема фатума вас больше никогда не будет беспокоить.
Справившись таким образом с трудным философским вопросом, Флора берет только что налитый бокал «дюбоне» — Феличе ни секунды не заставил себя ждать — и отпивает большой глоток. Полагаю, что вопреки проискам зловредной судьбы Бенато сделал бы то же самое, если бы не ухитрился опрокинуть свое вино. Правда, пострадал костюм не дамы, а его собственный. Вездесущий соотечественник Бенато подоспел как раз вовремя, чтобы прикрыть залитую скатерть двумя салфетками и подать новую порцию «дюбоне». Опасаясь, что случившееся может повториться, я и Флора следим за развитием событий с известным напряжением, да и сам Бенато, как видно, не свободен от подобных опасений, потому что предпочитает одним духом опорожнить свой бокал.
Пока мой партнер в ожидании салата из крабов обсуждает с нами одну из своих любимейших тем, а именно непрекращающиеся зверские убийства, что, конечно же, дело рук мафии, немка слегка наклоняется ко мне и шепчет безучастным тоном:
— Сегодня утром убит этот, как его, Пенеф.
— Как?
— Так же, как Гораноф: ножом в спину.
— Но вы, как я вижу, не слушаете меня? — бормочет с легким укором Бенато. — А я говорю о том, что в наше время преступность приобретает действительно угрожающие масштабы…
Наконец на столе появляются крабы, а затем и телятина по-итальянски, с зеленью и овощами, кофе и по наперстку коньяку, чтоб лучше усваивалась пища. Таким образом, если не принимать во внимание несколько разбитых бокалов и опрокинутые приборы, обед проходил вполне нормально не только для Бенато, но даже для Флоры, которая, несмотря на преждевременную гибель знакомого соседа, явно не утратила аппетита.
— Давайте выпьем еще по чашечке кофе, — предлагаю я в надежде услышать то, что и слышу:
— Прекрасная идея, но лично мне пора. Не хотелось бы расставаться с такой приятной компанией, но у меня неотложная встреча.
Бенато не только расстаться с нами трудно, он уже говорит с трудом, так его разбирает послеобеденная сонливость, и встреча с собственной постелью для него и в самом деле неотложна.
Мне остается только смириться с этим, и, заказав еще один кофе, я обращаюсь к Флоре:
— Когда это обнаружилось?
— В одиннадцатом часу. Возвращается домой Виолета, идет на кухню и натыкается в прихожей на труп. В спине торчит нож. Его убили, вероятно, за несколько минут до ее прихода. Когда Виолета ушла из дому, чтобы съездить на Остринг, в кондитерскую, был десятый час.
— Между десятью и одиннадцатью — исправно действуют, — заключаю я.
— Пускай над этим ломает голову полиция, мой мальчик. Для нас важнее другое — кто следующий?
— Уместный вопрос. Я рад, что ты над этим призадумалась.
— Чему тут радоваться?
— Скорее поймешь, что тебе полезно сотрудничать со мной.
— Если ты не станешь водить меня за нос, — вставляет Флора.
— Об этом можешь не беспокоиться. Лучше подумай о другом: у тебя опасные соперники, дорогая.
— Я это и без тебя знаю. Надеюсь, они не только мои соперники, но и твои.
— Меня не интересуют…
Фраза остается незаконченной, потому что моя собеседница знаком предупреждает меня о приближении кельнера. А когда Феличе удаляется, разговор принимает иное направление:
— Ну как, встреча состоится?
— Я затем и пришла, чтобы тебя осчастливить. Ее ирония не предвещает ничего хорошего.
— Где и когда?
— Ровно в шесть. Внизу, у лифта.
— У какого лифта? Что у кафедрального собора? — невинно спрашиваю я.
— Да. У лифта Эмпайр Стейтс билдинг не так удобно.
До шести еще далеко. И так как Флоре захотелось остаться в центре и сделать кое-какие покупки на главной улице, я еду к Острингу с намерением узнать подробности убийства от своей сожительницы — милая Розмари всегда все знает.
Оказывается, ее нет дома. После памятной ночи, которую я провел у Флоры, в наших отношениях с квартиранткой стал ощущаться легкий холодок. Совсем легкий и едва заметный, но все же холодок.
— У меня создалось впечатление, что вы слишком усердно, я бы сказала, чересчур самоотверженно кинулись в атаку на эту немку, — заметила было Розмари, когда я пришел домой на следующее утро.
— Если мне память не изменяет, вы сами поставили передо мной задачу, — попытался я оправдываться.
— Да, но не в этом, не в сексуальном смысле, как вы это поняли.
— В сексуальном смысле… Стоит ли преувеличивать…
— Вы не подумайте, я не ревную, просто я боюсь за вас, — сказала Розмари, — отклонения от нормального вкуса начинаются с пустяков — скажем, человека потянет на вульгарную бабищу или что-нибудь в этом роде. А потом незаметно дело доходит и до грубых извращений.
— Стоит ли преувеличивать? — примирительно повторяю я. — Все делается только ради вас.
— Ну и какой же результат? Я имею в виду не то, что вас так занимает, а то, что интересует меня.
— Если вы полагаете, что такую крепость, как Флора, можно взять за одну ночь…
— И сколько же вам понадобится, чтобы полностью овладеть этой цитаделью? Тысяча и одна ночь? Или чуть больше?
— Ваша ирония становится безвкусной, милая. Отрицать не стану, это доставляет мне некоторое удовольствие. Но возможно, вы все-таки ревнуете.
— И не надейтесь. Мне абсолютно безразлично. И если мне было немножко обидно, то только потому, что за всю ночь вы не вспомнили обо мне и о том, что меня заботит.
— Не знаю, как вас убедить, но я ни о чем другом и не думал.
— Только фактами, милый. Одними только фактами, и ничем иным.
— Факты пока что таковы: Флора действительно интересуется брильянтами и находится здесь именно из-за них.
— Об этом нетрудно догадаться.
— И за Флорой, точно так же, как и за вами, стоит другой.
— Я подозревала.
— И этот другой — немецкий торговец Макс Бруннер.
— Чем же он торгует?
— Не брильянтами. Но, как вам известно, брильянтами интересуются не только ювелиры. Иначе ювелирам было бы некому их сбывать.
— Как вы вовремя мне это сказали. А какие у нее отношения с Пенефом?
— Вы можете быть вполне спокойны. Она обозвала его кретином.
— Это еще ни о чем не говорит. Кретины для того и существуют, чтобы быть орудием в руках умных.
— Убежден, что на него она уже не рассчитывает. Не знаю, почему именно, но не рассчитывает.
— А как она относится ко мне?
— Просто боготворит вас.
Мы продолжали разговор в том же духе еще какое-то время. Однако, чтобы не показаться совсем неблагодарной, Розмари все же признала, что мои сведения небесполезны, и выразила надежду, что в ближайшее время я выясню еще кое-какие детали и окончательно овладею этой крепостью — конечно, не карабкаясь на ее стены в буквальном смысле слова. В общем, все кончилось довольно мирно, однако в наших отношениях стал чувствоваться какой-то холодок. Едва ощутимый холодок — чтобы мы не закипели в пылу страстей.
Поднявшись в спальню, я окидываю взглядом соседнюю виллу. Полиция, наверно, уже закончила свою работу. После двух убийств подряд в одном и том же месте люди приобретают определенные трудовые навыки, и все делается быстрее. В саду ни души, и холл с незашторенными окнами пустынный и немой. Немой — и все же говорит мне кое-что: значит, Розмари не пошла успокаивать то немощное существо. А может, уже раньше исполнила свою задачу.
Мне больше нечего делать в этой пустой вилле, разве что ждать, пока кто-нибудь пожалует и по мою душу. Я выхожу и иду по аллее в сторону леса, просто чтобы немного размяться и попробовать взглянуть на ситуацию со стороны. Лес, этот тихий и прохладный колонный зал, неторопливо заключает меня в свои объятья; за его колоннадами, там, вдали, просматривается изумрудно-зеленое поле, за ним — голубая цепь гор, а еще дальше — заснеженные громады альпийских вершин, над которыми синеет небо.
Я сворачиваю на тропинку, чтобы посидеть на первой попавшейся скамье, но скамья, оказывается, занята. На одном ее краю сидит пригорюнившись худенькая девушка в темном ученическом платье с белым воротничком. На коленях у девушки лежит плюшевый медвежонок. Заметив мое приближение, девушка вздрагивает, но я спешу ее успокоить:
— Не бойтесь… Я ваш сосед, хозяин Розмари.
— Мне кажется, я вас уже видела, — кивает девушка, которой, как я уже имел случай заметить, наверняка под тридцать.
— Вы мне позволите присесть на минутку?
— Почему нет? Скамейка не моя.
— Мне бы не хотелось вам досаждать…
— Что вы! Не станете же вы говорить об этом ужасном убийстве…
— Не беспокойтесь, — заверяю я ее, хотя мне не терпится заговорить с нею именно об убийстве.
— Тут все норовят меня успокаивать и все толкуют о вещах, которые меня расстраивают еще больше, будто мало мне того, что эта страшная картина до сих пор у меня перед глазами — труп… и эта кровь… Даже когда я закрою глаза…
— Не стоит закрывать глаза, — советую я ей. — Если вы хотите отделаться от какого-то кошмара, вы должны не закрывать глаза, а открывать их как можно шире, смотреть на окружающие вас предметы: на красивые деревья, на луг, на горы и небо… вслушиваться в говор простых вещей…
— Мне кажется, что простые вещи я в состоянии понять, — соглашается Виолета, прижимая к себе медвежонка, словно тот готов заплакать. — Единственное, чего я не понимаю, так это людей… И может быть, поэтому я всегда их боюсь, даже если они любезны и дружелюбны…
— Люди бывают разные, — внушаю я ей. — И дружелюбие — это еще не все. Важно знать, что за этим дружелюбием кроется: сочувствие или расчет.
— В сущности, что всем этим людям от меня нужно? — неожиданно спрашивает молодая женщина, словно мои банальные поучения задели скрытую рану. — И ваша квартирантка, и та рослая немка, которая сегодня утром угощала меня чаем с тортом в кафе… я господин Кениг. Вы слышали о таком?..
— Знакомое имя… — отвечаю неуверенно.
— Оно знакомо всему свету, потому что здесь каждый пятый — Кениг, но я имею в виду того господина, который вчера пришел ко мне и спросил, не продам ли я виллу, он, дескать, интересуется вполне серьезно, абсолютно серьезно, и не склонен верить, что я не собираюсь ее продавать, раз у меня есть где жить, я у него спрашиваю, о чем он толкует, а он все свое — ведь я где-то жила до сих пор, видя такое нахальство, я даю ему понять, что его вовсе не касается, где я жила, уперся как бык, конечно, не касается, просто я подумал, что вы продадите если не виллу, то хотя бы свое то, другое жилище, настаивает, чтобы я рассказала, где оно находится, открывается ли из него вид на озеро, я спрашиваю, о каком озере идет речь, а он говорит, мне лучше знать, и в конце концов, хоть это и грубо получилось, мне пришлось захлопнуть дверь у него перед носом…
Она рассказывает эту маленькую повесть, которой вполне подошло бы название «Незваный гость», как бы скороговоркой, слегка задыхаясь, словно ощутив потребность излить накопившуюся горечь, и я отлично ее понимаю — не очень приятно, оказавшись в отчем доме, почувствовать, что ты попал в гадючник.
— А как вы все это объясняете? — осмеливаюсь я спросить.
— Никак, абсолютно никак. Вы же слышали: мне легче понять язык вещей или животных, чем людей.
Она снова укладывает медвежонка у себя на коленях, словно ему пришло время спать, и продолжает:
— Может, это и лучше, когда не понимаешь. Потому что, если, я стану все понимать, боюсь, мне будет еще страшнее. Например, я тут подумала: а вдруг эта немка нарочно заманила меня в кафе на время, пока убьют этого несчастного человека? Наверно, я начинаю фантазировать: ведь стоит только вцепиться в какую-то мысль, и ты уже не в состоянии остановиться, в голову лезут страшные вещи…
— Вокруг вас действительно что-то происходит, — признаю я. — Если не страшные вещи, то по меньшей мере странные…
— Да, но почему? — спрашивает девушка страдальческим голосом. — Что я им сделала? Что им от меня нужно?
— От вас, вероятно, ничего. Но может, вилла чем-нибудь их привлекает. Вы хорошо осмотрели помещение, где жил ваш отец?
— Не могу же я все переворачивать вверх дном, когда не прошло и десяти дней после похорон. Как подумаю, что его похоронили без меня… Вы, может, не поверите, но о его смерти я узнала совсем случайно, из какой-то старой газеты… Я живу как отшельница, так что…
— Ах, моя дорогая!.. О Пьер!.. — раздаются восклицания позади меня, и нетрудно догадаться, кто пришел.
— Здравствуйте, Розмари, — киваю я, вставая со скамейки. — Это я вас разыскивал, но теперь мне пора ехать. Вечером увидимся.
— Приходите как-нибудь на чашку чая, вместе с барышней, конечно, — предлагает Виолета с усталой улыбкой. — Мне будет очень приятно.
И она несколько задерживает на мне взгляд, как бы давая понять, что она и в самом деле рассчитывает на свидание и что разговор наш не закончен.
Розмари сразу усаживается на скамейку, явно довольная тем, что я уступил ей место, и тем, что избавил их от своего присутствия. А я, спускаясь вниз, испытываю противоположные чувства, потому что Виолета — при этом ее простосердечии и желании излить душу — готовая жертва в руках моей прекрасной дамы. Будем надеяться, что дама кое-чем поделится со мной, хотя при том холодке, который с недавних пор установился между нами, особенно рассчитывать на это не приходится.
Сейчас без четверти шесть. Находясь в нижней части города, я иду несколько преждевременно к площадке перед лифтом. Преждевременно, хотя и преднамеренно, потому что в подобных обстоятельствах нелишне проверить, пока не поздно, не пожаловал ли кто-либо третий в качестве незваного участника встречи.
Оказывается, пожаловал. И не один. Я убеждаюсь в этом лишь после того, как мои шаги звонко прозвучали в галерее. Видимо, за мной следили сначала в машине, а теперь, для пущей интимности, сопровождают пешком. Один шагает под аркадами метрах в десяти позади меня, и шаги его раздаются в полной дисгармонии с моими, что меня, естественно, раздражает. Хоть бы ритм сохранял. Другой тащится по обочине дороги, параллельно галерее, бесшумный и грозный.
Впрочем, насколько я сумел оценить их беглым взглядом, оба довольно устрашающего вида: рослые, широкоплечие — словом, кавалеры под стать дорогой Флоре. На какой-то миг меня обжигает коварная мысль, что, может быть, я обязан таким вниманием именно Флоре. Обидная мысль. Но, как говорит Виолета, стоит только вцепиться в какую-то мысль, и ты уже не в состоянии остановиться, в голову лезут страшные вещи…
Случайное совпадение? Подобный вопрос может прийти в голову только новичку. Нос у меня достаточно натренирован, чтобы учуять прилипалу не с десяти метров, а со значительно большего расстояния. Да и опыт подсказывает мне, что, кто бы их ни подослал, этих молодчиков, о встрече с Флорой надо забыть и как можно скорей ускользнуть в верхнюю часть города.
Как можно скорее — это значит воспользоваться лифтом. Конечно, при условии, если мне удастся вовремя юркнуть в кабину и захлопнуть дверь перед носом у этих молодчиков. Оставаться в лифте с такими спутниками не очень рекомендуется.
Продолжаю двигаться к месту встречи, хотя и без всякой мысли о встрече. Те, что позади, видимо, разгадали мое намерение, потому что жмут на всю железку и уже заметно сократили расстояние. Пора и мне отказаться от лицемерной походки праздного зеваки и жать на газ. Нечему удивляться, что в несколько мгновений наше движение становится похожим на состязание скороходов.
Теперь уже сомневаться не приходится: прилипалы не склонны ограничиться простой слежкой. Быстро взвешиваю обстановку. Первая кассета с негативами в тайнике «вольво». Вторая покоится в крохотной полости каблука одного из моих ботинок. Секрет не такой уж хитрый, но я относительно спокоен, по крайней мере до тех пор, пока ботинки у меня на ногах. Только вот в карманах множество хозяйственной утвари: фотокамера-зажигалка, подзорная труба, отмычка, ампула… Нет, для обыска я совсем не готов.
Конечно, я мог бы миновать лифт и следовать дальше по набережной. Но она мне уже хорошо видна, эта набережная, довольно длинная и безлюдная, чтобы можно было на что-то уповать. Лифт все же предпочтительней, нужно только выиграть время.
И чтобы выиграть время, я вдруг пускаюсь бежать, отрешившись от неуместной стеснительности, и мчусь на всех парах к ожидающему меня лифту. Только эти двое тоже бегут, я уже вполне отчетливо слышу их топот, и нечему удивляться, что так ясно слышу, потому что они через считанные секунды поравняются со мной и прижмут меня с двух сторон — то ли я переоценил свои возможности, то ли недооценил их.
Я напрягаю последние силы, и мне удается достичь лифта с опережением в один метр с небольшим — в сущности, это мизерное опережение, потому что, когда я влетаю в металлический ящик допотопного подъемного устройства и пытаюсь у них перед носом захлопнуть дверь, я чувствую, что они изо всех сил тянут ее в обратную сторону — эти проклятые двери лифтов всегда открываются наружу, — и единственное, что мне приходит в голову, — это внезапно отпустить дверь, после чего, как я и ожидал, двое нахалов летят кувырком назад. Теперь бы мигом нажать на кнопку и скорее вверх, чтобы сказка имела счастливый конец, однако перед тем, как тронуться лифту, должна быть закрыта дверь, и, прежде чем я дотянулся до нее, прилипалы как до команде бросаются вперед, и вот они уже в лифте, рядом со мной.
Оба тяжело дышат, и у обоих тяжелый взгляд — сомнения быть не может, сейчас они рассчитаются со мной за мою проделку. Один из них — мне запомнился его шоколадный костюм в светлую полоску — грубым движением захлопывает дверь и дергает передвижную решетку, а другой нажимает на кнопку. Старая скрипучая машина медленно трогается, и, так как пословица гласит: «Добра ищи, а худо само придет», эти лихие удальцы подступают ко мне с двух сторон, чтобы доказать, что пословицы не лгут.
Стоящий справа замахивается кулачищем, явно желая размозжить мне голову, припечатав ее к стенке, но, на его беду, головы не оказывается на месте — в этот миг она врубается в живот стоящего слева, так что бедняга разбивает лишь собственный кулак. Мне тоже не очень-то везет, так как живот у этого типа тверд, как железобетонный бункер, правда, и голова у меня тоже не из папье-маше, словом, счет получился ничейный, вернее, мог бы быть ничейным, если бы мой хитрющий кулак не саданул его чуть пониже, а в какое именно место, я не стану говорить.
Рухнув на пол, противник корчится от боли, от адской боли, надо полагать, но моя собственная участь не слаще, потому что тот, другой, с разбитым кулаком, так сноровисто пинает меня в отместку под ребро, что я падаю, и на какое-то мгновение мной овладевает чувство, будто вдруг иссяк во вселенной кислород, только малый не желает останавливаться на достигнутом, он склоняется надо мной, чтобы одним ударом расквасить мне физиономию, однако допускает просчет: мне удается острым двузубцем — указательным и средним пальцем — пырнуть ему в глаза, и, чтобы сохранить зрение, он шарахается назад, я же, стараясь хоть как-то пособить ему, изо всех сил дергаю его за ногу, и молодчик падает, попутно проверяя затылком надежность противоположной стенки.
Не без труда я поднимаюсь на ноги — в скромной роли победителя. Однако иной раз победа способна вскружить нам голову: я совсем забыл того, которому нанес недозволенный, с судейской точки зрения, удар, и теперь он сам напоминает о себе неожиданным пинком сзади, и, в силу закона физики о движении тела, я стремительно перемещаюсь вперед, где меня ждет беспощадная твердость металлической стенки; тем временем другой удалец тоже успевает встать на ноги, в итоге я оказываюсь на исходной позиции, одинаково уязвимый с обоих флангов, и дальнейшее развитие событий не сулит мне ничего утешительного.
К счастью, даже самый тихоходный лифт в конце концов достигает места назначения, если только не застрянет где-нибудь между этажами, так что и старинная бернская черепаха вскарабкалась наконец на самый верх, и здесь, на небольшой площади перед кафедральным собором, нас ждут другие пассажиры — два господина и две женщины с детьми; один из моих спутников, вероятно ненавидящий толпу, протягивает руку к кнопке, чтобы обеспечить мне обратный рейс и все удовольствия беззаботного путешествия в ад. К счастью, дети — народ нетерпеливый, и кто-то из них поторопился открыть дверь, блокировав движение лифта, а я давай кричать сквозь решетку: «Бандиты, полиция!» — кричу раз, потом еще раз для пущей убедительности; и тут мои спутники, резким движением сдвинув решетку в сторону, бросаются наутек, подальше от возможных осложнений, однако, как они ни торопились ретироваться, тот, что в шоколадном костюме, ухитряется шарахнуть меня под глаз, чтобы напомнить давно забытый фильм «Как много звезд!»
Бернская публика, как видно, любит наблюдать всякие скандальные случаи, но только издалека, а тут опасность оказаться замешанными в какую-то уголовную историю в качестве свидетелей оказывается столь вероятной, что дожидавшиеся лифта мужчины мигом исчезают, а женщины в страхе пытаются оттащить детей в сторону, что толкает меня на мысль снова захлопнуть дверь и кратчайшим путем вернуться в нижний город, создав максимальную дистанцию между собой и этими типами.
— Господин Лоран? — спрашивает с усталым любопытством человек, с которым я сталкиваюсь при выходе.
— Господин Бруннер?
— Вы что, с боксерского матча возвращаетесь? — сочувственно произносит мужчина.
— Надеюсь, боксеров подослали не вы?
— Неужто у меня такой немощный вид, что без посредников мне не обойтись?
Вид у него, как уже отмечалось, далеко не немощный, однако тон его речи подсказывает мне, что мое предположение едва ли оправданно.
— Судя по вашему виду, вы по крайней мере сегодня вне игры? — замечает Бруннер.
— Почему? Мне бы вот только умыться где-нибудь.
— Тогда пойдемте. Тут недалеко стоит моя машина.
Его машина и в самом деле оказалась совсем близко, сразу за каким-то складом, и немец, аккуратный и предусмотрительный, достает из багажника небольшую аптечку и предлагает ее мне, чтобы я мог промыть спиртом ссадины на лице, а кровоточащую скулу заклеить пластырем бананового цвета, трогательно ассоциирующимся с дамским бельем.
— Для вас что предпочтительней, посидеть в машине или заглянуть в ресторан напротив и отведать свежей рыбы? — спрашивает Бруннер.
— Мне все равно.
— А вот мне, к примеру, далеко не все равно. Взять хотя бы форель в масле… Если вы безразличны к таким вещам, то это означает, что вам необходимо серьезно подумать о собственном здоровье.
Так что мы идем по импровизированному мостику на противоположный берег, к ресторану, напоминающему своим скромным видом горную хижину, но знаменитому на весь Берн рыбными блюдами. Красующиеся на полянке столики мы пренебрежительно оставляем позади и находим более укромное местечко внутри заведения, у окна, глядящего на противоположный берег, чтобы можно было все видеть, не мозоля глаза другим.
Делать заказ я предоставляю Бруннеру, который, похоже, у Флоры перенял непритязательные вкусы, если не привил ей свои. Салат, бутылка белого вина и по большой форели в масле — так обрисовывается наше угощение, никаких деликатесов, предваряющих пиршество и заключающих его. И лишь теперь, когда с едой покончено и нам подали кофе, немец благоволит заметить:
— Приятный городок. Спокойный, тихий, — говорит он с сытым добродушием, созерцая сине-зеленые воды Ааре.
— Как сказать, — отвечаю небрежным тоном. — В последнее время в этом спокойном городке некоторые люди лишились жизни.
— Что поделаешь: люди умирают всюду.
— Но не обязательно насильственной смертью.
— Верно. И все-таки умереть в Берне… Это и в самом деле не так плохо: умереть в Берне!
— Умирайте, если угодно. Я пока не спешу.
— Естественно, — кивает он. — Только не всегда это зависит от нас. Вы, к примеру, не подозреваете, что нанесенные вам побои следует рассматривать как прелюдию к чему-то более серьезному?
— Все может быть. Но стоит ли так злорадствовать? Если я сыграю в ящик, то едва ли вам от этого будет какая-то выгода.
— О, разумеется: нельзя извлекать выгоду из всего, — охотно соглашается Бруннер.
— Я бы даже сказал, вы окажетесь внакладе.
— В каком смысле?
— Потеряете вероятного союзника.
— Союзника по чему — по дележу выгод?
— Не по дележу, а по извлечению.
— Уважаемый господин, жизнь многому научила меня, и я знаю, что даже самый верный союзник стоит денег. Точнее говоря, чем верней союзник, тем дороже он обходится. Если вы полагаете, что Флора для меня недорогое удовольствие, то вы жестоко ошибаетесь. Для вас, может быть, да, но для меня — нет.
— Должен вас заверить, я обратился к Флоре не ради удовольствия, а из совсем других побуждений. И эти побуждения, надеюсь, вам хорошо известны, так же как мое вполне конкретное предложение.
— В самых общих чертах, мой дорогой: предлагаю одни сведения в обмен на другие… Ничего конкретного.
— Не стану же я уточнять детали в разговоре с этой женщиной. Я имел в виду, что мы с вами поговорим по-мужски.
Эти мои слова приятно ласкают слух Бруннера, поскольку он, как и всякий мужчина, находящийся под каблуком у жены, весьма чувствителен к вопросу о мужском достоинстве. С царственным жестом он проводит рукой по своему бритому темени, внимательно ощупывает полные щеки, трогает перстами кончик широкого носа и, убедившись таким образом, что все, слава богу, на месте, откидывается на спинку кресла и великодушно роняет:
— Что ж, я вас слушаю.
— Мне нужны сведения о ваших связях с Горанофом, начиная со старых времен и кончая самым последним.
— Зачем они вам?
— Я же не спрашиваю, зачем вам брильянты.
— Брильянты — дело другое. А сведения о Горанофе могут быть использованы против меня самого.
— Меня интересует только Гораноф, не вы.
— Но вам придется каким-то образом убедить меня, что это так.
— Впрочем, большая часть этих сведений уже в моих руках, и теперь мне ясно: Гораноф — это, в сущности, Ганеф, так что практически мне надо прояснить лишь некоторые подробности, которые известны лишь вам.
— Некоторые подробности… — насмешливо рычит Бруннер. — Ничего себе подробности!..
— Ну ладно, пусть не подробности, будем их называть жизненно важными сведениями, — киваю, убедившись, что я на верном пути. — Но жизненно важные для кого? Для нас с вами? Отнюдь! Человека, для которого эти сведения имели жизненно важное значение, нет в живых. Потому и сами сведения утратили всякую ценность. Вдумайтесь хорошенько: товар, ради которого я к вам пришел, уже утратил всякую ценность.
— Раз он никакой ценности не представляет, к чему он вам? — снова рычит Бруннер.
— Чтобы полностью восстановить досье на этого человека. Назовите это педантизмом, чем угодно, но мне нужно иметь полное досье. И пока оно неполно, у меня нет уверенности, что вопрос до конца изучен. Иной раз мельчайшая деталь…
— Какой тут педантизм, это шпионаж, — замечает немец. — Я всегда сторонился таких дел. С меня хватит пяти лет войны…
— Уверяю вас, вы ничем не рискуете. Я не собираюсь втравливать вас во что-нибудь такое, и пусть этот разговор останется между нами — это будет на пользу нам обоим.
Бруннер задумчиво подносит руку к носу — он, видимо, из тех людей, которые, напряженно думая, так же напряженно ковыряют в носу. Однако, сообразив, что находится на людях, ограничивается тем, что рассеянно массирует его.
— Хорошо, подумаем. А теперь поговорим о другом: что вы предлагаете взамен?
— Сведения об одном тайнике. И о прочих вещах такого рода, о которых я мог бы узнать, пока суд да дело. Вам, должно быть, понятно, что я не сижу здесь сложа руки.
— Конечно. Иначе никто бы на вас не покушался, — признает Бруннер и, поглядев на меня прищуренными глазами, спрашивает: — А откуда вам знать, что камни в тайнике?
— Я этого не говорил. Но я это допускаю, имея в виду некоторые приметы.
— Какие именно?
— Всех тут привлекает одно и то же место.
— И где же он, по-вашему, этот тайник?
— Спокойно, — говорю я. — Если после сегодняшних побоев я еще и поскользнусь, этого будет слишком много для одного дня.
— А вы действительно уверены в существовании тайника?
— Абсолютно. Я его видел собственными глазами.
— И не заглянули туда? Кому вы рассказываете?
— Бывают места, куда заглянуть не так просто, если не располагаешь соответствующими приспособлениями. Я оставляю в стороне то, в чем уже столько времени пытаюсь вас убедить: мне абсолютно ни к чему ваши брильянты. Поймите, Бруннер: абсолютно ни к чему!
— Может оказаться, что ваш тайник пуст, как воскресный день, — замечает упрямый собеседник.
— Не знаю, не проверял. Только будь он пуст, Пенеф был бы еще жив. Он стал жертвой любопытства, которое и вам не дает покоя: что там, внутри?
Заинтригованный моими словами и окончательно убедившись, что его собственный товар не стоит и ломаного гроша, немец уступает.
— Хорошо, Лоран. Откроюсь вам. Но предупреждаю: любая неустойка с вашей стороны будет наказана так сурово, что недавние побои покажутся вам кроткой материнской лаской. И запомните, если я не пускаю в ход кулаки, то лишь потому, что удары их смертельны!
Для пущей наглядности Бруннер кладет свои безотказные орудия на стол — ничего не скажешь, кулаки что надо, такие же массивные и тяжелые, как и вся его фигура. Потом тихо басит без всякой связи:
— Впрочем, я бы выпил кружку пива… После кофе пиво — подобная идея может прийти в голову только человеку вроде Бруннера, но я подзываю кельнера и заказываю требуемый напиток. Может, я забыл отметить, что в этот будничный день да еще в предвечернюю пору в заведении ни души, потому что народ валит сюда главным образом во время обеда, особенно в праздники. Если кто и пришел, то предпочитает сидеть снаружи, на свежем воздухе. Словом, обстановка достаточно спокойная, да и пиво, надеюсь, будет способствовать тому, чтобы этот подозрительный человек заговорил наконец.
Орошенный изрядным количеством кружек живительной влаги, рассказ получился на редкость обстоятельным, он изобилует множеством подробностей или отступлений, большую часть которых я для краткости опускаю.
«Вам известно, что я служил в Болгарии, не знаю, как вам удалось это установить, но факт есть факт Говоря между нами, Лоран, вы имеете обыкновение всюду совать свой нос, именно это дало вам возможность добраться до меня, потому что Флора ничего такого не могла выболтать. Она у меня сообразительная и скорее пустит вас к себе в постель, чем к секретным вещам. Верно, верно, вы всюду суете свой нос, и у меня такое предчувствие, что рано или поздно вы заплатите за свое любопытство — не хочу сказать, что обязательно мне, но найдется человек, который определенным образом поздравит вас с успехом.
С Горанофом я познакомился в Софии. В сделках этот господин оказался достаточно твердым, но при необходимости умел и платить. Впрочем, лично я с ним сделок не заключал, мне было далеко до его калибра, и вместо того, чтоб обмениваться чеками, мы обменивались услугами. Быть может, вы уже слышали, что я служил в интендантстве, а на интендантских складах со временем накапливается большое количество лежалого товара — или, может быть, не совсем лежалого, но такого, без которого рейх не проиграл бы войну. Гораноф вовсе не был мелкой сошкой, чтоб торговать подобным товаром, он просто присылал ко мне своих знакомых, промышлявших на черном рынке, и делая это очень аккуратно, а главное, не настаивал на какой-либо компенсации, но вы же понимаете, что в торговле, как и в любом другом деле, без компенсации не обойтись, и моя компенсация сводилась к тому, что и я со своей стороны посылал к Горанофу клиентов.
Вы еще молоды, во всяком случае значительно моложе меня, и могли не слышать, что в те годы находились люди, даже среди военных, которые прибирали к рукам все, что имело хоть какую-то стоимость, особенно на оккупированных территориях, где неприкосновенность личного имущества была под большим сомнением. Конечно, с формальной, юридической точки зрения это были краденые вещи, а иногда — такое тоже бывало — на них были следы крови. Но вы же знаете, такие вещи что вода в этой реке — грязная-прегрязная, но стоит ей пройти сквозь песок и камни, как она становится чистой. Вот так и с крадеными вещами: чем больше рук они проходят, тем скорее возвращают себе репутацию обычного товара.
Очень скоро я прослыл человеком безупречно порядочным в сделках, и, должен отметить, эта слава сохранилась за мной по сегодняшний день. Если вы позволите себе намекнуть, что мои сделки той поры с формальной, юридической точки зрения были не совсем нормальными, то придется возразить вам, что я никогда не стыдился этого — напротив, испытывал чувство гордости, поскольку с полным правом могу считать эту деятельность моим личным вкладом в поражение нацизма.
Я солдат, дорогой господин, но только не нацист, и я никогда особенно не верил ни бесноватому, ни его генералам, и, если хотите знать мое искреннее мнение на этот счет, я вам скажу, что страной должны управлять не политики и генералы, а деловые люди, те, в чьих руках богатство страны, а раз у них богатство, то они не станут им рисковать. Все остальные либо авантюристы, либо паразиты презренные. Нацисты с генеральным штабом и фюрером во главе тоже обычные авантюристы, они виновники катастроф, так что я не испытываю никаких угрызений, напротив, горжусь, что даже в те годы массовой истерии я не потерял голову, не стал плясать под дудку нацистов, а занимался своим делом.
— Если все мы будем заниматься своим делом, в мире, поверите мне, наступит успокоение, но на это, к сожалению, рассчитывать не приходится, раз каждый сует нос куда не следует, как, впрочем, и вы сами.
Итак, ко мне отовсюду ехали разные люди — у одних меньше звезд на погонах, у других больше, — и везли всевозможные похищенные вещи, рассчитывая на мою помощь, поскольку у меня были широкие связи и я слыл человеком вполне порядочным. Иногда среди привозимого попадались и уникальные изделия, стоившие баснословных денег. Не имея возможности покупать эти вещи, я направлял их к Горанофу, что и было компенсацией за оказываемые мне услуги. Не стану утверждать, что я знал решительно все о его покупках, скорее наоборот, мне было известно об этом совсем немного, потому что Гораноф очень быстро налаживал прямые связи с теми — ну, назовем их поставщиками Но даже немногое, что я знал, достаточно убеждало меня в том, что его привлекает лишь самое дорогое и не занимающее много места, поскольку он, так же как я и другие разумные люди, уже предугадывал, чем закончится весь этот буйный триумф рейха.
И вот в первые дни сентября сорок четвертого года, числа второго или третьего, точно не помню, заявляется ко мне сам Гораноф и доверительно сообщает, что дела, по крайней мере на Балканах, идут к своему завершению, и каждому, у кого есть голова на плечах, пора собирать шмотки и бежать на Запад, как можно дальше, и, если я способен подыскать для этого надежную военную машину, он со своей стороны берется раз добыть у одного из моих начальников документы, необходимые для свободного передвижения, но, поскольку ему самому для такого случая необходим служебный паспорт, а заполучить его не так-то просто, придется в качестве компенсации за услугу (Говорил же я вам, что без компенсации ни на шаг!) взять с собой в машину третьего пассажира — одного типа из министерства внутренних дел, который и в военном министерстве чувствует себя как рыба в воде, словом, человек надежный во всех отношениях, от него в любом случае будет польза.
Я был не настолько глуп, чтобы отказаться от такого предложения, тем более что угроза катастрофы была предельно очевидна, а свободное передвижение обеспечивалось официальными документами, к тому же Гораноф пообещал вознаградить меня за мою услугу, а он, как вам известно, слов на ветер не бросал. Мы выбрали маршрут Вена — Инсбрук — Брегенц и уже на месте, на берегу озера, должны были решить, отправимся ли мы в старую Германию или поищем способ проникнуть в Швейцарию. Я велел снарядить вполне исправный «опель», снабдил багажник всем необходимым, и, заручившись документами, уже шестого сентября, ранним утром, мы на всех парах двинулись в путь — я, Гораноф и Ганеф.
Мне пришлось категорически предупредить своих спутников, чтобы они не брали с собой ничего, кроме ручного багажа, поскольку провиант и горючее заняли очень много места, и Ганеф действительно захватил лишь маленький чемоданчик с бельем и тоненький портфель. У Горанофа же оказалось два чемоданчика, и один из них был настолько тяжел, что не открывая можно было догадаться, чем он наполнен. Конечно, Горанофа можно было понять: уезжая в неизвестность, может быть, навсегда, человек берет с собой самое ценное. Но во время долгой езды и в бесконечных разговорах от скуки и мелких неудобств Ганеф постоянно шутил по поводу чемоданчика Горанофа, предлагал выбросить его по дороге, чтобы облегчить машину, а Гораноф, естественно, отвечал, что разумный человек не станет отправляться в путь без движимого имущества, но на это следовало возражение Ганефа, что вовсе не обязательно, чтоб движимое имущество состояло из слитков золота, и что по-настоящему разумный человек предпочитает обеспечить себя такими вещами, стоимость которых не прямо пропорциональна их весу, — к примеру, вот в этом тоненьком портфелишке лежат бумаги дороже любого золота.
Наша первейшая и самая трудная задача состояла в том, чтобы благополучно пересечь неспокойные области Югославии, где полными хозяевами были партизаны, и если нам в конце концов это удалось, то вовсе не потому, что мы такие стратеги: нам просто повезло. В долгой дороге люди лучше узнают друг друга, чем в долгой попойке, и я должен признать, что Ганеф оказался куда симпатичнее Горанофа, который никак не мог расстаться со своими барскими привычками, и, если требовалось подыскать подходящее место для ночлега или раздобыть зелени, этим должны были заниматься мы с Ганефом, а он, важная персона, отсиживался в это время в «опеле», боясь растрясти свое брюшко, — словом, мы были для него чем-то вроде денщиков, и только в силу того, что Ганефу по его милости было предоставлено место в машине, а мне он сулил какое-то там вознаграждение.
Вероятно, поэтому между мною и Ганефом установилось нечто вроде дружбы, особенно когда мы въехали в Австрию, где Гораноф окончательно пришел в себя и до такой степени обнаглел, что стал обращаться с нами как со своими слугами: ведь пачки немецких денег находились у него, а не у нас.
Именно тогда возникла идея выпотрошить эту жирную рыбу в удобный момент, выпотрошить, разумеется, не в буквальном, а в переносном смысле слова, и вообще не истолковывайте мои слова неверно и учтите: я доверяю вам эти сведения вовсе не потому, что питаю к вам какое-то особое доверие, а просто из соображения, что мы сейчас — один на один и мои слова вы при всем желании не сможете использовать против меня.
Для обоих болгар война уже закончилась, и они это знали, так как еще в Вене нам стало известно о вступлении русских в Болгарию. Оба они помышляли перебраться в Швейцарию, а я решил не увлекаться эмигрантским авантюризмом и уже в Брегенце явиться в комендатуру; впрочем, авантюризм мне всегда был чужд. Дороги наши должны были разойтись, но перед тем, как им разойтись, нам, порядочным торговцам, приличествовало все-таки свести счеты.
Однажды, когда мы в полуденную пору ехали по довольно пустынной горной дороге, где-то между Блуденцем и Фельдкирхеном, если вам знакомы те места, я свернул с проезжей части в какой-то лесок.
— В чем дело? Почему мы останавливаемся? — вздрогнул Гораноф, очнувшись от дремоты.
— Кончился бензин, — ответил я, и это была правда, хотя мои спутники об этом не подозревали.
— Почему же вы раньше не сказали? — рассердился Гораноф. — К вечеру мы должны быть в Брегенце…
— Попробуем остановить какой-нибудь военный грузовик, — успокаиваю я его. — Деньги у нас есть. И раз уж речь зашла о деньгах, не пришло ли время свести счеты, пользуясь остановкой?
— В Брегенце, — ответил Гораноф. — На последней остановке.
— Нет, здесь! — подал голос Ганеф.
— А вы помалкивайте. Вам я ничем не обязан, — осадил его Гораноф.
— Вы мне обязаны своей жизнью. И сейчас самое время покончить с долгами. Потому что для вас последняя остановка здесь! — отрубил жандарм. — Ну-ка, вылезай!
— Опомнитесь! Что вы замышляете? — воскликнул Гораноф.
— Ничего особенного. Просто сейчас мы будем делиться, — заявил Ганеф, пистолетом помогая Горанофу вылезти из машины. — Я, как вы знаете, не любитель связывать руки громоздким багажом. Тяжелым тоже. И готов довольствоваться брильянтами. Поживей!
Они стояли друг против друга посреди поляны, рядом с машиной, и Гораноф уже был в паническом состоянии, но, несмотря на это, не обнаруживал склонности расстаться со своим сокровищем, а брильянты, о которых я тогда услышал впервые, были настоящим сокровищем — не случайно Ганеф решил довольствоваться только им; Гораноф начал скулить и, окончательно одурев от страха, пригрозил, что закричит, а тот ему в ответ: «Кричи на здоровье, здесь прекрасное эхо»; в конце концов, когда жандарм направил пистолет ему в живот, Гораноф сунул руку во внутренний карман и вынул плоскую черную коробочку, чтобы откупиться, только откупиться ему не удалось, потому что, взяв коробочку, Ганеф тут же всадил ему в грудь две пули, а тот все продолжать стоять с разинутым ртом, потом вдруг упал.
— Зачем вы его убили? — возмутился я не на шутку — Мы так не договаривались.
— Я был готов убить его сразу, — ответил Ганеф. — Только боялся повредить брильянты. Откуда я мог знать, где они у него хранятся?
— Вы все испортили. В моей стране еще существуют законы.
— Ваша страна так же обанкротилась, как и моя, поэтому зря вы печетесь о соблюдении законов, — заявил Ганеф. — Я всю свою жизнь охранял законы и вот до чего докатился. Давайте лучше покончим с остальным и поедем дальше.
— То есть как с остальным? — возразил я, заняв позицию позади машины. — Вы взяли свою часть?
— Верно, взял, — ответил Ганеф. — И у меня нет желания таскаться с тяжестями, даже если это золото. Но согласитесь, не могу же я расходовать брильянты. Мы должны хотя бы доллары поделить между собой.
Тут он попробовал сунуться в кузов, но я его одернул, держа в руке «вальтер»:
— Марш отсюда, пока не поздно!
Но тут этот подонок выстрелил сквозь стекло машины и попал мне прямо в руку, в которой был пистолет. Пистолет я, конечно, выронил, и хорошо, что выронил, потому что, как раз когда я нагнулся его поднять, Ганеф выпустил в мою сторону весь магазин.
Я лежал затаившись возле машины, держа оружие в левой руке — не знаю, как вы владеете левой, а я даже в носу не способен ею поковырять, не то что попасть во что-нибудь с расстояния, — и только я собрался было выглянуть из-под «опеля», чтобы установить, где Ганеф, как над мотором заполыхало пламя. Этот негодяй решил сжечь машину, а заодно и меня и, прежде чем исчезнуть, что-то сыпанул в нее, так что мне пришлось отползти в ближайший кустарник и затаиться в укрытии.
«Опель», не успев разгореться, тут же погас: бензина в нем не было, — так что я в конце концов вылез из своего убежища к возвратился к месту происшествия, чтобы убедиться, что этот подлец исчез бесследно вместе с чемоданчиком, хотя до этого с таким презрением относился к тяжелому багажу. Наспех перевязав руку, я в последний раз осмотрел все, что было в машине, взял на память две-три безделушки и пошел к шоссе, надеясь, что появится военный грузовик.
Грузовик действительно появился, но только под вечер — в те времена в горной местности движение на дорогах было не столь оживленным.
Меня доставили в Фельдкирх, но что пользы? Я потерял слишком много времени, и Ганефа наверняка уже и след простыл. И потом, что я мог сделать, когда у меня была ранена рука? Вы скажете, мне ничего не мешало выдать его властям. Совершенно верно, и власти вполне могли застукать его где-нибудь, прежде чем он успел перейти границу. Все бы вытрясли из него: и золото, и брильянты, — а под конец и пулю, наверно, всадили бы ему. Но что я выиграл бы от всего этого?
Я человек не мстительный, поверьте, Лоран. Справедлив — да, справедлив, это безусловно. Но только не мстительный. Так что я решил приберечь это дело в своем личном архиве, чтобы при благоприятных условиях предъявить иск. Ясно, не правда ли?»
Бруннер проводит рукой по бритому темени, как бы проверяя, не слишком ли разгорячилась его голова от прилива воспоминаний. Потом рука опускается и исчезает во внутреннем кармане пиджака. Бруннер вынимает бумажник и роется в нем, затем кладет передо мной на стол три крохотных снимка. Это контактные копии малоформатных кадров, но, несмотря на миниатюрность фотографии, я отчетливо различаю изображения: одна и та же сцена, снятая с различных позиций, — распростершийся на земле Горанов.
— Это лишь отдельные образцы большой серии снимков, — не без гордости поясняет Бруннер. — Я сделал их своей камерой, прежде чем покинуть то место. У меня сохранились еще кое-какие вещи, взятые на память, — вещественные доказательства, как сказал бы законник. Но из всей коллекции важнее всего паспорт.
— Какой паспорт?
— Паспорт Горанофа. Или, если угодно, паспорт Ганефа, украшенный фотографией Горанофа.
— Наверно, довольно грубая подделка, раз это сработано там, на месте.
— Вовсе не такая грубая, — качает головой немец. — Ведь документы были заготовлены еще в полиции руками самого Ганефа, снимки он тоже сумел точно подогнать, и сухую печать поставил в одном и том же месте, так что простой заменой фотографии одна личность подменилась другой. Надо полагать, его собственное удостоверение причиняло ему до этого немало неудобств.
— Очевидно.
— Итак, Ганеф мертв для человечества, а истинный Ганеф, хорошо экипированный движимым имуществом убитого, начинает новую жизнь под чужой личиной.
— Именно так и происходит.
— Да. И довольно долго: целых три десятилетия.
В сущности, Лоран, он прожил свою жизнь и ничего не потерял. Убийца скостил ему лишь последние годы, которые тот наверняка коротал бы в болезнях и старческой немощи. Один я остался внакладе. Как я ни разыскивал этого негодяя все тридцать лет, но напасть на его след не сумел. И если его все же удалось обнаружить, то чисто случайно. Судьбе было угодно, чтобы мы свиделись в Мюнхене по прошествии тридцати лет. Сбылась моя надежда, настало время предъявить ему иск.
Настало время и для очередной кружки пива — Бруннер то и дело посматривает в сторону бара, уже освещенного лампами холодного дневного света, и тихо бормочет:
— Пожалуй, я бы выпил еще кружечку… Подав знак кельнеру, я гляжу в окно. На улице совсем стемнело, и, сидя у самого окна, мы можем привлечь внимание какого-нибудь любопытного прохожего. Поняв мой взгляд, немец машинально дергает занавеску.
— А что вы нам предложите на ужин, дорогой? — спрашивает он у гарсона, когда тот приносит пиво.
Оказывается, к ужину здесь могут предложить прорву блюд. Меня уже начинает мутить от этих стареющих людей, для которых вкусная еда становится главным, если не единственным земным наслаждением. Но дело требует жертв.
— Так вот, ходил я за ним по пятам, — продолжает немец свой рассказ, когда кельнер удаляется. — И однажды вечером застукал его здесь. Другой, может, не стал бы так делать, но я сделал. Позвонил, а когда он открыл, я сказал ему самым естественным тоном. «Здорово, Ганеф. Я — Бруннер. Не знаю, помните ли вы меня…» Оказалось, помнит, потому что попытался хлопнуть дверью у меня перед носом, но я поставил на порог ботинок и поспешил предупредить его: «Без глупостей, Ганеф. От объяснения вам в любом случае не уйти. Так что пользуйтесь возможностью объясниться один на один, чтоб не пришлось этим заниматься в полиции». Объяснение состоялось в тот же вечер. И копии документов, которые я принес с собой, пригодились.
— Для вас эта встреча могла закончиться скверно, — говорю я. — Ганеф наверняка был не один.
— Знаю. Не учите меня. И не воображайте, что я сунулся бы туда без всяких предохранительных мер. Оригиналы оставались в надежных руках, и Ганеф не дурак, он отлично понимал: стоит ему крикнуть «помогите!» — и все тут же обрушится на его голову. Так что ему оставалось одно — принять мои условия.
— А именно?
— О, это уже дела сугубо личного характера, Лоран. И должен еще раз вам заметить, ваше любопытство не знает границ. Вам стоит подумать о личной безопасности. Впрочем, нетрудно догадаться, что имеется в виду частичное возмещение ущерба наличными. И чтобы не быть несправедливым к покойнику, я должен признать: выплата была произведена точно в назначенный час. Сумма довольно внушительная, но возмещение есть возмещение. И хотя это не было оговорено заранее, я рассматривал эту сумму всего лишь как первый взнос. Взнос, который должен был пойти на оплату виллы и на покрытие долгов. А обеспечение старости? А содержание машины? А содержание Флоры? Субъекты вроде вас не прочь при случае и раздеть ее, а вот одевать приходится старому болвану Максу Бруннеру…
Эту тираду, исполненную легкой горечи, прерывает появление на столе рыбы. И очень вовремя — чтобы несколько рассеять меланхолию немца и напомнить ему, что в этом грешном мире все еще существуют маленькие радости даже для стареющих мужчин. Подавив свою горечь несколькими солидными кусками белого, еще дымящегося мяса, он охлаждает их бокалом рейнского вина, затем продолжает в той же последовательности набивать свою утробу и наливаться живительной влагой и лишь после того, как с некоторым удивлением обнаруживает, что тарелка перед ним уже пуста, откидывается могучими плечами на спинку кресла и возвращается к прерванному разговору:
— Так что имелся в виду только первый взнос, Лоран. Но такая досада: он оказался и последним. Я бы простил этому типу ликвидацию Горанофа, это их дело. Я даже простил бы ему то, что он прострелил мне руку. Но улизнуть у меня из-под носа и переселиться на тот свет, когда я едва-едва приноровился доить его, — нет, дорогой, такого я ему никогда не прощу!
— Тут виноват не только он, — пробую я оправдать покойника.
— Естественно. Но дело не меняется. Все было продумано до последней детали, в том числе и наблюдение, осуществлявшееся Флорой, чтобы этот ловкач не выкинул какой-нибудь номер или не исчез в неизвестном направлении. А он все-таки исчез. Нет, этого я никогда не прощу ему!
Бруннер поднимает фужер и, словно для успокоения, делает длинный глоток. Потом вытирает салфеткой свою огромную хищную пасть и изрекает:
— Однако брильянты все еще здесь. Но где именно? И ответа на этот вопрос я жду от вас, Лоран. И хотя я не люблю повторяться, я все же хочу еще раз вас предупредить: если вам вздумается повернуть дело так, чтобы я остался в дураках, вы неизбежно натолкнетесь на один из этих смертоносных кулаков.
— А брильянты я вам не обещал, — пробую я внести ясность в наши отношения.
— Я и не говорил, что жду брильянты именно от вас. Мне нужны сведения. Те, какими вы располагаете в данный момент. И те, до которых доберетесь потом, — теперь я не сомневаюсь, ваш хитрый нос неизбежно все вынюхает. Главное — не забывайте, что вы заключили соглашение и что Бруннер в вопросах соглашений беспощадно строг.
— Не беспокойтесь: я вам уже сказал, мне ваши камни ни к чему.
— А теперь о тайнике, — говорит Бруннер.
— Это сейф в холле Горанофа. И находится он в стене над комодом, за большой картиной.
— Помилуйте, ну какой же это тайник, раз каждый дурак без труда может его нащупать!
— Мало нащупать, надо еще и отпереть.
— Очевидно, кто-нибудь и с этим уже справился.
— Не допускаю. Замок у сейфа очень солидный и чертовски сложный. И заметьте, Бруннер: люди, которые могли бы иметь доступ к тайнику — Пенеф и Виолета, — не располагали ключом и не рискнули обратиться к какому-либо технику, да и времени у них для этого не было. А человек, владеющий ключом, пока еще не добрался до тайника.
— Кто он, этот человек?
— Зовут его Кениг. Он объявился на торгах и предложил за виллу фантастическую сумму. Вам это что-нибудь говорит?
— Об этом я слышал, — кивает Бруннер. — А каким образом ключ оказался у Кенига?
— Тем же, каким мог оказаться и у вас, если бы вы самолично убили Горанофа, а затем обшарили его карманы.
— Вы хотите сказать, что Ганефа убрал Кениг?
— На ваше счастье, не лично он, а его люди. Мне кажется, если бы он сам совершил убийство, у него хватило бы ума отыскать замок к найденному ключу. А у тех болванов не хватило сообразительности для столь простого дела, да и указаний таких не было. Они исполнили, что им было велено, и смылись.
— А убийство Пенефа?
— Все то же задание: только убрать. И если, кроме всего прочего, предполагалось сделать обыск — на сей раз не хватило времени: по данным полиции, Пенеф был ликвидирован всего за несколько минут до возвращения Виолеты. Не исключено даже, что, едва всадив нож в спину, убийца уже слышал у входа голоса Виолеты и вашей Флоры. И поспешил ретироваться через заднюю дверь.
— И вы допускаете, что, пока мы тут разглагольствуем, брильянты лежат себе в тайнике, на вилле Горанофа? — восклицает заметно возбужденный Бруннер.
— Ничего я не допускаю. Я просто говорю то, что мне известно и о чем можно догадываться. — И чтобы он раньше времени не вешал нос, я добавляю: — Там они или где-то в другом месте, но брильянты еще не найдены. Иначе все вокруг сразу бы успокоилось.
— И вашей Розмари, наверно, давно бы след простыл, — добавляет немец, глядя на меня прищуренными глазами. — Она ведь тоже не ради чистого воздуха поселилась в таком месте, правда же?
— Очевидно… — отвечаю я небрежно.
— Послушайте, Лоран! — говорит Бруннер, оскаливаясь. — Помните о нашем соглашении: ничего, кроме сведений, мне от вас не нужно? Как видите, я достаточно скромен. Однако это не означает, что вам позволено замалчивать те или иные вещи по своему усмотрению…
— Оставьте ее в покое, — бросаю я все так же небрежно. — Розмари — пешка, не представляющая никакой опасности. Секретарша Тео Грабера, ювелира, которому Гораноф продал один-единственный брильянт — вероятно, чтобы выплатить вам скромное возмещение. Грабер подослал ее сюда, чтоб она следила за тем, как обстоит дело с брильянтами, которые он, очевидно, горит желанием приобрести как можно дешевле.
— Вот это уже более конкретный разговор, — бормочет Бруннер. — Впрочем, все эти подробности для меня не новость. Я спросил только для того, чтобы вас проверить.
Я смотрю на него с укором. Потом меня вдруг осеняет:
— А вам не приходила в голову мысль, что камень, проданный Граберу, был не первый, а последний из той коллекции? И что на протяжении тридцати лет у него были все возможности распродать их по одному?
Бруннер смотрит на меня настороженно. Потом вдруг начинает хохотать хриплым смехом.
— Какой вздор, Лоран! Вы, я вижу, понятия не имеете о стоимости этих брильянтов. Трезвенник Ганеф и за сто лет не смог бы растранжирить такое богатство. Вздор!
— Я бы охотно подвез вас до центра, — тихо говорит Бруннер, когда мы возвращаемся с другого берега. — Но Берн — город маленький, и лучше нам не появляться вместе на виду у всех.
— Совершенно верно, — киваю я. — Мне лучше подняться на лифте.
— На лифте? Так ведь он еще полон неприятных воспоминаний.
— Если только воспоминаний, бояться нечего, — отвечаю.
Мы расстаемся.
Итак, ядрышко уже извлечено, хотя извлекать пришлось постепенно, крошку за крошкой, размышляю я, пока допотопное подъемное сооружение возносит меня в верхний город. История кое-как сложилась, хотя сборку ее приходилось производить то с начала, то с хвоста, словом, несколько не в том порядке, как дети выкладывают кубики, пока в итоге не получается подобие петуха или собаки. Образ собаки у меня уже вполне сложился, весь целиком, хотя собаку тем временем постигла собачья смерть.
Однако это всего лишь история. История, проливающая свет на некоторые особенности нынешней обстановки, но все же история. Гибель Ганева ставит точку на его собственных заботах, но не на моих. Потому что если историю кое-как удалось сколотить, то досье все еще разорвано на части. И только одна часть находится в моих руках, точнее, у меня под пяткой.
Выхожу из лифта. На Соборной площади пусто. Ближайшим переулком иду на главную улицу, и десять минут спустя я уже у своей машины, на Беренплац. Лишь теперь, когда трубный голос немца больше не звучит у меня в ушах и мысли мои поулеглись, я чувствую, что башка моя препротивно ноет и уже основательно побаливает. Пора наконец возвращаться в свой тихий дом, стоящий в тихом уголке, и забыться в тихом благостном сне.
Проезжаю мимо парламента в сторону моста. Светящийся циферблат «вольво» информирует меня, что сейчас только половина одиннадцатого, а улицы давно опустели, словно уже глубокая ночь. Выезжаю на Кирхенфельдбрюке, и взгляд мой улавливает позади какой-то мигающий свет — должно быть, это светит фара мотоцикла, свернувшего на мост, потому что машины сзади я не вижу. И только посередине этого длинного моста я соображаю, что к чему. Мне преграждают путь две бетонные красно-белые пирамиды, какие обычно расставляют на дороге, когда ремонтируют проезжую часть. Но никакого ремонта нет, а пирамиды, вероятно, только что поставлены: мигающий свет фары послужил сигналом к тому, чтобы эти тумбы выкатили на полотно дороги. Словом, я угодил в тщательно устроенную ловушку. Ничего не скажешь, все получилось именно так, как предвидел противник.
Однако, чтобы это предвидеть, не требуется бог знает какой проницательности. Кирхенфельдбрюке — единственный мост, по которому можно попасть на Тунштрассе, если не ехать кружным путем, и я, как все прочие жители Остринга, неизменно возвращаюсь по этому мосту, так что было вполне логично, затаившись, просто ждать меня здесь, вместо того чтобы гоняться за мною по городу и караулить повсюду. Важно другое — зачем я им понадобился. Только сейчас не время для раздумий.
Сделав вынужденную остановку, я собираюсь рвануть задним ходом в обратном направлении, но тут двое каких-то субъектов выкатывают позади машины еще две пирамиды. Ни с места. К тому же эти двое держат наготове пистолеты. И мост достаточно хорошо освещен, чтобы видеть глушители на стволах. Раз уж пистолет снабжен глушителем, вероятность его применения намного возрастает. Движение по мосту в двух направлениях разделяет высокий стальной барьер — всякая возможность маневрировать исключена Ни с места. Тем более что из-за барьера выскакивают еще двое и замирают перед машиной. И эти с пистолетами, стволы которых подозрительно удлинены.
Должен признать, они выбрали самое подходящее место, чтобы всадить в меня пулю. А я помог им тем, что заявился в самый удобный час. Мост отчаянно пуст. Несколько приглушенных выстрелов — и Пьер Лоран готов. Но это еще полбеды. Скверно то, что вместе с Лораном уйдет в небытие и Боев. И сбросят меня в пропасть с шестидесятиметровой высоты моста мертвым или все еще живым — это деталь, которая даже следственную полицию едва ли заинтересует.
Двое, стоящие перед фарами машины, мне хорошо знакомы по недавней встрече в лифте. И этот, справа, в шоколадном костюме, уже успевший очиститься от пыли, небрежно делает мне знак пистолетом: «Вылезай!»
Покорно открыв дверцу, я делаю вид, что собираюсь вылезать из машины, но вместо этого быстрым движением бросаю одну из голубеньких капсулок, которые я на всякий случай таскаю с собой. И без промедления бросаю вторую, но уже в обратном направлении, за багажник машины. Не ждите взрывов и грохота. Лишь два ослепительных шара возникают, как огненный вихрь, и тут же гаснут. Однако вместе с ними угасают и незнакомые типы.
Медлить нельзя Световые вспышки такой адской силы на середине главного моста не могут остаться незамеченными даже в спящем городе, даже если этот город — Берн, а дело происходит глубокой ночью, то есть в десять тридцать вечера. Выйдя из машины, мигом сдвигаю в сторонку одну пирамиду, затем другую, тело одного, затем другого, снова сажусь за руль и даю полный газ. Едва я успеваю съехать на Тунштрассе, как позади раздается вой полицейской сирены.
Не удивлюсь, если такой же вой появится и впереди. Поэтому я сворачиваю в первый попавшийся глухой переулок и, прибегая к досадным, но необходимым обходным маневрам, еду к своему спокойному дому.
Дом и в самом деле спокойный. И на редкость спокойный город. Однако спокойствие его уже становится зловещим.
8
— О, ваше объяснение с Флорой было довольно пылким, — как бы невзначай роняет Розмари, внимательно посмотрев на мое лицо.
— Ошибаетесь, — отвечаю ей. — Это не любовные контузии. — Опустившись в любимое кресло, я мечтательно вздыхаю. — Как бы мне хотелось, дорогая моя, по-настоящему рассчитывать на вас.
— Я полагаю, вы вполне можете на меня рассчитывать.
— Даже могу надеяться на чашку кофе?
— Мошенник, — бормочет Розмари, но все же неохотно встает. — Раз вам так хочется провести бессонную ночь…
Но отослать ее на кухню — всего лишь кратковременная отсрочка. Чуть позже Розмари вместе с кофе предлагает мне очередной вопрос:
— Теперь вы, надеюсь, скажете, что все это означает?
— Нападение. — Мне не терпится пропустить глоток животворной влаги.
— Со стороны кого?
— Понятия не имею, — отвечаю я почти чистосердечно, закуривая сигарету.
— И с какой целью?
— Мне кажется, о цели красноречиво говорят последствия.
— По-вашему, они хотели вас убить?
— Вероятно.
— Может быть, с целью ограбления?
— Одно связано с другим. Особенно если они втемяшили себе в голову, что мои карманы до отказа набиты брильянтами.
— Значит, вы считаете, нападение связано с тем, что происходит здесь вокруг?
— А с чем же еще? Мы, как-никак, находимся в Берне, а не в Чикаго.
— Вы уже начинаете цитировать Флору… до такой степени она вас охмурила, — не может не съязвить Розмари. Однако, не дождавшись ответа, переходит к более серьезным вещам: — Пьер, мне страшно.
— Если страшно, сматывайте удочки. Проще простого. Грабер, надо полагать, хранит ваше место.
Она молчит, как бы взвешивая мое предложение, потом заявляет уже иным тоном:
— Я не собираюсь сматывать удочки! И не отступлю перед этими…
— Перед кем?
— Да перед этими, что на вас напали… Впрочем, сколько их было?
— Целая ватага. Сперва было двое, потом стало четверо. И если бы я не усмирил их, они, наверно, так и продолжали бы удваиваться.
— Сколько бы их ни было, отступать я не намерена! — повторяет Розмари.
Мне по душе такие решительные создания. Даже если они иного пола.
Уже на следующий день слова подкрепляются делом моя квартирантка уведомляет меня, что после обеда Виолета приглашает нас на чашку чая.
— Подобные визиты на виду у всех соседей меня особенно не радуют, — кисло замечаю я. — Стоит ли так оголяться перед возможными наблюдателями?
— А почему бы и нет? — вызывающе возражает Розмари, словно передо мной не секретарша Грабера, а чемпионка по стриптизу. — Законы этой страны запрещают бандитские нападения, а не чай в полдник.
— О, законы!..
Естественно, вопреки моим лицемерным возражениям сразу после пяти мы располагаемся в знакомом мрачном холле, который теперь уже не кажется столь мрачным: здесь появились еще две настольные лампы с розовыми абажурами. Виолета в скромном батистовом платьице, таком же розовом, как абажуры, да еще в крохотный голубенький цветочек. Чтобы не разносить чай и лакомства каждому в отдельности, мы сидим за столом и мирно беседуем обо всем и ни о чем, как того требуют правила хорошего тона.
Так продолжалось до тех пор, пока Розмари не брякнула ни с того ни с сего:
— А вчера на нашего дорогого Пьера дважды напали бандиты, представляете?
— О! — восклицает Виолета, разинув рот от изумления. — Неужели правда?
— И дело не в том, что ему навешали фонарей, — продолжает моя квартирантка с той небрежностью, какая появляется, когда мы говорим о чужой беде. — Нас интересует, что за этим кроется. — Она переводит озабоченный взгляд на хозяйку и, понизив голос, добавляет: — Потому что, милая, нападения были совершены непосредственно после того, как вы с Пьером разговаривали в лесу!
— О, неужели? — снова восклицает Виолета, будучи, видимо, не в состоянии придумать что-нибудь другое. — Но мы же ни о чем таком не говорили, что…
— Не сомневаюсь, — спешит согласиться Розмари. — Но, как видно, те господа иного мнения…
— Какие господа? И что вам в конце концов от меня нужно? — вопрошает хозяйка, явно расстроенная.
— Может, лучше прекратим этот неприятный разговор и выберем тему полегче? — спрашиваю я.
— Но она же должна быть в курсе, Пьер! — возражает моя приятельница.
— В курсе чего? — обращается к ней не на шутку встревоженная Виолета.
— Того, что им не терпится как можно скорее убрать всех, кто вас окружает… всех, кто способен вас защитить. Зарезав этого милого Горанофа, расправившись с Пенефом, они способны завтра сделать то же самое с Пьером…
— Мерси, — киваю Розмари. — Вы меня просто окрыляете.
— Но это же правда, дорогой… И вчерашние покушения красноречиво подтверждают мои слова. А потом — чему удивляться? — наступит и моя очередь. Они хотят оставить вас в одиночестве, милое дитя, в полном одиночестве, а тогда уже заняться и вами…
— Но что им все-таки от меня нужно? — недоумевает милое дитя, которое, как я уже отмечал, едва ли моложе моей квартирантки.
— Вам лучше знать, — отвечает Розмари.
— Ничего я не знаю, уверяю вас!
— В таком, случае давайте опираться на предположения, — пожимает плечами моя приятельница. — Что может привлекать этих алчных типов, кроме ценностей — ну, скажем, золота или брильянтов… Да, если они и в самом деле учуяли брильянты… Тут, среди соседей, вроде бы поговаривали об этом, помните, Пьер?
— Да вроде ничего такого не было. — Я стараюсь дать понять Розмари, что она действует слишком грубо.
— Брильянты?.. Не припоминаю, чтобы отец когда-нибудь говорил о брильянтах.
— Имея брильянты, он мог и не говорить о них, — терпеливо, будто ребенку, объясняет моя квартирантка. — И потом, вы с ним так редко виделись… Вы же сами говорили, что виделись с ним редко? Следовательно, у вас не было возможности толком поговорить.
— Верно, — кивает Виолета. А потом задумчиво повторяет, как бы про себя: — Брильянты…
— Брильянты, — говорит ей Розмари. — А может, и кое-что другое в этом же роде.
— Вы давно лишились матери? — пробую я переменить тему, пока моя приятельница в своем нахальстве не предложила тут же артельно приступить к поискам.
— О, я почти не помню ее. Насколько я знаю, мы жили с ней в Базеле, а отец приезжал к нам очень редко. Потом, когда мне было всего три года, мать умерла, так по крайней мере рассказывал отец, но в дальнейшем, со слов женщины, которая меня растила, я поняла, что мать куда-то уехала… Ей, должно быть, надоело сидеть дома одной и напрасно ждать отца…
— Это еще не основание бросить ребенка на произвол судьбы, милая моя, — изрекает Розмари, будучи не в состоянии воздержаться от вынесения приговора.
— Я тоже так считаю, но она, видно, была другого мнения, — неуверенно замечает Виолета, будто речь идет всего лишь о вкусах. — А потом началась пора пансионов. Пансион, пансион, вплоть до окончания университета…
— Вероятно, ваши воспоминания о той поре не очень-то приятны, — говорю я, лишь бы не молчать.
— Почему? Зависит от обстоятельств. О некоторых вещах у меня остались неплохие воспоминания. О некоторых, не о всех.
— А разве вы не могли жить вместе с отцом? — продолжает Розмари.
— Он всегда твердил, что было бы неудобно… Обещал объяснить со временем — несколько позже, может быть. Сказать по правде, я и сама не жаждала жить с ним. Он был очень замкнутый и какой-то чужой. К тому же я привыкла к пансионам. Человек ко всему привыкает.
— У вас действительно было безрадостное детство, дорогое дитя! — сочувственно вздыхает Розмари. — Так рано лишиться матери… И при таком отце… А теперь еще эти брильянты!
Розмари, очевидно, норовит вернуться к прежней теме, и я напрасно пытаюсь внушить ей, чтобы она замолчала, — эта хитрюга нарочно избегает смотреть в мою сторону, и мне остается сидеть в качестве беспомощного свидетеля и слушать ее глупости.
— Простите, милая, нет ли у вас выпить чего-нибудь холодненького? — вдруг спрашивает моя квартирантка с присущей ей непринужденностью. — Честно говоря, я что-то перегрелась от чая в эту теплынь.
— Ну разумеется, — с готовностью поднимается Виолета. — Что бы вы предпочли, кока-колу или минеральную воду?
— О, не беспокойтесь, я сама принесу, — вскакивает Розмари, — развлекайте вашего кавалера, а я могу и сама…
Предельно ясно, что она горит желанием осмотреть хотя бы коридор и кухню, воображая, что ей тут же удастся засечь какой-нибудь загадочный тайник или что-либо другое, могущее заменить его. Что касается холла, то, надо полагать, она его тщательно обследовала еще при первом посещении и наверняка не один раз отсылала хозяйку на кухню под всякими предлогами, чтоб иметь возможность заглянуть во все щели.
Виолета охотно предоставляет ей хозяйничать на кухне и снова усаживается на место. Но не успела Розмари выйти, как Виолета наклоняется над столом и шепчет мне:
— Я бы хотела с вами встретиться… Наедине.
— Когда и где? — коротко спрашиваю я, учитывая проворство моей подружки.
— Завтра в пять, в лесу… где вчера встречались…
Какая наивность!
— Только не там. Я предлагаю кафе «Меркурий», на первом этаже, на главной улице, словом, найдете.
— Найду, — кивает Виолета, как послушная школьница.
— Да обратите внимание, чтобы за вами никто не следил, — предупреждаю я, хотя понимаю, что, будут за нею следить, нет ли, ей, при ее простодушии, этого все равно не заметить.
Тем не менее она снова кивает, чтобы показать, что ей понятна вся серьезность положения. Розмари задерживается сверх всякой меры. Небось что-то обнаружила, заслуживающее внимания, какую-нибудь отдушину для выхода испарений или коробку с электрооборудованием. В конце концов она все же появляется, неся с триумфальным видом бутылку минеральной воды и стакан. Боюсь, она уже забыла, зачем принесла все это.
«Меркурий». Пять часов. Время, когда бабушки, пардон — пожилые дамы, приходят сюда полдничать: попить чайку и съесть по обычаю огромный кусок шоколадного торта со сливками, с целой горой сливок, и до того великолепно взбитых — не сливки, а мечта, трепет эфира, юношеская фантазия.
Вообще бабушек, пардон — пожилых дам, здесь вокруг такое изобилие, как будто жизнь со всеми ее удовольствиями предназначена только им одним, тогда как удел молодых трудиться в конторах, у электрических касс — словом, аккуратно обслуживать широкие массы бабушек. Они наполняют кафе, магазины, улицы, и, конечно, в первую очередь главную улицу, которая из края в край пестрит бабушками. Но какими бабушками! У них изысканные прически бледно-сиреневых, бледно-голубых и даже бледно-зеленых тонов. Они щеголяют в эфирных платьях самой веселой расцветки, в модных туфлях на тех самых уродливых каблуках, с зонтиками, с сумочками крокодиловой кожи. Однако самая существенная часть туалета этой фауны, конечно же, шляпы. Утратив возможность подчеркивать другие части тела, старушки все свое внимание сосредоточивают на голове и в особенности на венчающей ее шляпе. Тут вы встретите шляпы из самых разных материалов, всевозможных расцветок, размеров и форм: похожие на кошелки, птичьи гнезда» сковороды и, конечно же, на кастрюли, глубокие и достаточно вместительные.
Ровно в пять я появляюсь в просторном зале «Меркурия» и с уверенностью неопытного пловца или сомнамбулы погружаюсь в море шляп, колышущихся над столиками. Шляпы делают легкое вращательное движение в мою сторону, потому что — забыл сказать — они очень любопытны. Затем, найдя, что я слишком молод, а может быть, слишком стар и вообще не представляю никакого интереса с их точки зрения, шляпы снова плавно описывают полукружие, возвращаются на исходные позиции и сосредоточиваются на шоколадных тортах и сливках.
К счастью, мне все же удается найти свободный столик, я усаживаюсь и незаметно озираюсь вокруг. Оказывается, я единственный мужчина во всем зале, и это меня успокаивает. Хотя не исключено, что в наши дни западные разведки распространили свои щупальца и в безмятежный мир бабушек. А что может быть опаснее бабушки-шпиона, так глубоко нахлобучившей кастрюлю на голову, что глаз нельзя увидеть, а уж понять, что там у нее в мыслях, и не надейся.
Несколько минут спустя в зал входит наконец молодое существо — Виолета (шляпы снова совершают вращательное движение, смотрят оценивающе, после чего возвращаются на исходные позиции). Я встаю, слегка поднимаю руку. Молодая женщина улавливает мой жест и направляется в мою сторону.
— Мне показалось, какой-то господин увязался за мной, — шепчет она мне, слегка запыхавшись. — Но я кое-как ускользнула от него. Вошла в «Леб» и скрылась в толпе.
— Очень возможно, что это был незнакомый обожатель, — говорю я, предлагая ей стул.
— О мосье Лоран, — отвечает она сконфуженно, — я шла сюда, чтобы поговорить о серьезных вещах.
Подходит официантка в платье до пупа — теперь в таких коротких платьях щеголяют только официантки, если не принимать в расчет периодические капризы Розмари, — я заказываю неизбежный чай с неизбежным тортом и, когда лакомства появляются на столе, произношу:
— Чем могу быть полезен?
— Я сама не знаю, — отвечает Виолета. — Я хочу сказать: особенно ничем. Мне просто хотелось с кем-нибудь поговорить совершенно свободно, немного разобраться в этой путанице, а у меня нет ни одного человека, на которого я могла бы рассчитывать, и даже эта ваша Розмари, вы меня извините, может, она и неплохая девушка, порой проявляет такое любопытство, что… В общем, вы один внушаете мне доверие — именно тем, что у вас нет этого любопытства, — и произвели на меня хорошее впечатление еще в тот день, там, в лесу… И насколько я разбираюсь в людях, вы, мне кажется, не такой, как другие, все вынюхивают да выстукивают, будто в этой вилле спрятаны…
— Брильянты.
— Да, брильянты или бог знает какие сокровища.
— Откровенность за откровенность, — киваю я. — Брильянты и в самом деле существуют, мадемуазель Виолета.
Она смотрит на меня недоверчиво.
— Вы уверены?
— Вполне.
— Тогда где же они находятся?
— Вероятно, где-то на вилле. В каком-то тайнике.
— Единственный тайник, известный мне, — сейф. Я о нем знаю от отца.
— Значит, они в сейфе.
— Сейф пустой.
— У вас есть ключ от него?
— Да, конечно, отец оставил его у меня, когда приезжал в Лозанну.
— Тогда где-то в другом месте. Может, в подвале.
— Эта вилла не имеет подвала. Подвал есть в моей вилле, в Лозанне. Но если вы полагаете, что я не знаю, что хранится в моей собственной вилле…
— Значит, вы до сих пор жили там?
— Не совсем. Я большей частью жила у своей подруги. Мой дом расположен как-то особняком, и, честно говоря, мне страшно оставаться там одной, особенно по вечерам. Поэтому я живу в квартире моей подруги по пансиону. Там я прописана, туда мне поступает корреспонденция — насколько женщина вроде меня может получать какую-то корреспонденцию.
— И все-таки брильянты существуют, — повторяю я, чтоб отвлечь ее от ненужных мне подробностей. — И только этим можно объяснить возню, которая наблюдается вокруг вас и вашего дома. Не говоря об убийствах…
— О да, прошу вас, не надо говорить об убийствах.
— Согласен. Поговорим о более чистых и невинных вещах. А существует ли что-либо более чистое и невинное, чем роскошный брильянт?
— Может быть, и нет. Вам виднее. Должна признаться, драгоценные камни меня совершенно не интересуют. И если эти брильянты не легенда, а реальность, и если когда-нибудь они попадут в мои руки, можете не сомневаться, я тут же продам их первому попавшемуся ювелиру.
— А зачем? Вы нуждаетесь в деньгах?
— Вовсе нет, по крайней мере если речь идет о моих собственных потребностях. Отец обо мне хорошо позаботился, обеспечив мне пожизненную ренту. Но если бы у меня была большая сумма денег, по-настоящему большая сумма, я построила бы в Лозанне, на берегу озера, светлый и солнечный детский дом. Я даже место уже подобрала — большущий парк с полянами и высокими деревьями. Вы не ошиблись: в этих пансионах у меня было невеселое детство, и притом, заметьте, в довольно дорогих пансионах. А каково живется детям бедняков? Мой дом, если я его когда-либо построю, будет только для бедных детей.
— Мечта у вас благородная, — признаю я. — Но, вынашивая такую красивую мечту, вы, вероятно, возлагали надежды на что-то определенное?
— Вы угадали. — На ее лице появляется едва заметная улыбка. — Но раз уж мы заговорили о мечтах, как бы поступили вы лично, если бы вам досталась горсть брильянтов?
— У меня к камням нет никакого интереса.
— Ну а к деньгам, которые можно за них получить?
— Тоже.
— Значит, если бы они вам достались, вы просто выбросили бы их?
— Нет, конечно. Но я с удовольствием уступил бы их тому, у кого на них больше прав, чем у меня. — Однако, поймав ее взгляд, ее детски недоверчивый взгляд, я спешу добавить: — Я понимаю, это может показаться невероятным, но я сказал правду. Это вовсе не означает, что я совершенно бескорыстен. И если наш разговор будет вестись искренне, как он и начался, я, пожалуй, мог бы довериться вам и сказать, в чем состоят мои интересы.
Она снова смотрит на меня, но теперь недоверие в ее взгляде начинает исчезать. И, как бы желая оправдать мои ожидания, она произносит с неподдельной простотой:
— Я знаю об этих брильянтах, мосье Лоран. И не из сплетен, а от моего отца. Именно на них я возлагала свои надежды, о которых вы только что упоминали. Еще несколько лет назад, когда я услышала о камнях, я решила придумать что-нибудь, что придало бы моей жизни какой-то смысл.
— Ваше намерение достаточно благородно, и в этом ваше преимущество перед остальными претендентами, — признаю я.
— По-моему, мое преимущество гарантируется законом о наследовании, — усмехается Виолета.
— В определенном смысле — да, а в определенном — нет, — не слишком внятно комментирую я. — Не знаю, что вам рассказывал отец, но история этих брильянтов не так уж проста.
— Отец не вдавался в подробности. Он просто сказал мне однажды, что когда-нибудь мне достанется в наследство коробочка с камнями, которая искупит полное одиночество, на которое я была обречена… Бедный папа. Он воображал, что для меня оно было сплошным страданием…
— Неужто одиночество вас не гнетет?
— Нисколько. Если мне что-то внушает страх, так это общение с людьми, но вовсе не одиночество. А судить обо мне по моей кажущейся болтливости не стоит, вы можете прийти к ошибочному заключению. Я ужасно необщительна, мосье Лоран.
— Но ведь человек нуждается в общении.
— Я тоже. Но лишь с детьми. И если я добиваюсь принадлежащего мне по закону, то вовсе не для того, чтобы копить капитал в банке. Только, судя по вашим намекам, мое право на эти камни не так уж бесспорно, как утверждал отец…
— Я этого не говорил.
— Не надо меня успокаивать. Я хочу слышать всю правду. И если брильянты действительно мне не принадлежат — можете быть уверены, я не стану на них посягать, если даже вы положите их вот здесь, передо мной, на этом столе.
— К сожалению, я не в состоянии этого сделать. А рот открыть вам всю правду могу. Речь идет о десяти брильянтах исключительной ценности, один из которых, самый маленький, ваш отец продал, это было довольно давно, так что теперь их девять. Когда-то они принадлежали одному греческому миллионеру, но нацисты ограбили его, а потом продали награбленное вашему отцу, который, разумеется, мог и не знать о происхождении камней…
— И все-таки они краденые…
— Что ж, верно. Но бывшего владельца давно нет в живых, а наследники тоже отсутствуют — значит, никакого законного претендента не существует, не говоря уже о том, что вся эта история имеет немалую давность.
— И все-таки они краденые… — повторяет девушка как бы про себя.
— Однако ваш отец их не украл. И, по-видимому, он заплатил за них довольно солидную сумму.
— Действительно… — снова произносит она как бы про себя. — Может, вы и правы. И все же, должна признаться, после вашего рассказа эти брильянты внезапно померкли в моих глазах…
«Точь-в-точь как белый сапфир Розмари», — мелькает у меня в уме.
— Раз вы решили употребить их на такое благо родное дело, они никоим образом не должны меркнуть в ваших глазах, — твердо говорю я. — Разве будет лучше, если они попадут в руки мошенников и стяжателей?
— Хорошо, если так, — отвечает она все еще с ноткой неуверенности в голосе. Потом возвращается к прежней теме: — А в чем состоят ваши интересы?
— Поскольку я уже проникся доверием к вам и поскольку вы болгарка, я вам отвечу прямо…
— О, болгарка! Сильно сказано, — замечает она, и на лице ее появляется анемичная улыбка. — Никогда в жизни не видела Болгарию.
— А вам не хотелось бы ее увидеть?
— Зачем? Меня с этой страной ничто не связывает. Да и путешествовать я не любительница. Каждое путешествие приносит разочарование. Как и новое знакомство. Как любая перемена. Издали все кажется лучше. И этот мир лучше, когда на него глядишь из окна своей комнаты, из «окна» телевизора. Реальность всегда уродливей, чем ее изображение. В реальной жизни нам вечно досаждают неудобства: жара или холод, дурные запахи или назойливые мухи, вынужденная усталость и чрезмерная потливость… — Она замолкает. Потом опять спохватывается: — Вы что-то начали было рассказывать…
— Да, о моих собственных интересах. Один человек — скажу прямо, бывший полицейский — оставил в свое время вашему отцу на хранение кое-какие списки. Отец ваш взял их просто так, чтобы оказать услугу своему старому знакомому. Только знакомый давно умер, а списки все еще существуют, и если бы они попали в чьи-то грязные руки, то могли бы причинить немало неприятностей людям, имена которых в них фигурируют.
— Вы хотите сказать, что именно эти бумаги вам нужны…
— Именно. Только я понятия не имею, где они находятся, и, так как вам они совсем ни к чему, как, впрочем, и любому другому, кроме какого-нибудь злоумышленника, я бы просил вас в случае, если вы их найдете…
— Зачем мне их искать? — останавливает меня Виолета самым обычным тоном. — Я знаю, где они находятся. Если, конечно, это то самое, что вы ищете: тоненькие узкие полоски бумаги, на которых значатся разные болгарские фамилии.
— Должно быть, это они и есть, — киваю я, стараясь в свою очередь, чтобы мои слова тоже звучали как можно более обычно.
— Вы можете получить их завтра же. Они в банковском сейфе моего отца. Но, уверяю вас, в этом сейфе нет ничего другого, кроме никому не нужных старых бумаг.
— Ничто другое меня не интересует, — бормочу я. — Тогда давайте завтра же подъедем к банку, — предлагает она, явно довольная, что может порадовать меня тем, что для нее самой не представляет никакой ценности.
— Чудесно. Только надо сделать так, чтобы люди, не в меру любопытные по отношению к вам, этого не заметили. Банк, сейф… Этого им вполне достаточно, чтобы вспомнить про брильянты.
Она молча кивает. Потом вдруг ей приходит поистине гениальная идея. Она лезет в сумочку и подает мне маленький секретный ключ.
— В таком случае поезжайте вы один. Вот вам ключ. Только запомните шифр: «Зебра». В этом банке вместо цифрового шифра применяется буквенный.
Поблагодарив, я беру ключ и с безразличным видом сую его в карман, все еще не в состоянии поверить в случившееся. Потребовалось провести столько сложных комбинаций, потратить столько времени на подслушивание и выжидание, столько раз идти на риск и вступать в отчаянные схватки, чтобы в один прекрасный момент в каком-то кафе, где безраздельно властвуют шляпы бабушек, какое-то невинное существо небрежно сунуло руку в сумочку и вручило тебе ключ от секретного архива.
Этой хрупкой женщине и невдомек, что хранящиеся в сейфе жалкие бумажки стоят дороже всех брильянтов, так как с ними связано спокойствие миллионов людей и даже целой страны. Но какое ей дело до этой страны, если она знает о ней только понаслышке и даже не испытывает желания видеть ее.
— Я вполне понимаю, это не бог весть какая услуга, — улавливаю, как во сне, голос Виолеты. — Но мне все же кажется, пусть не ради услуги, а просто из дружеских чувств, и вы когда-нибудь проявите отзывчивость.
— Целиком рассчитывайте на меня, — говорю я. — Волосок не упадет с вашей головы.
Затем подзываю полуголую официантку, чтобы расплатиться.
Забыл сказать, что сегодня пятница. И, как обычно в этот день и в этот час, я нахожусь на террасе, в двух шагах от рокового Кирхенфельдбрюке, который чуть было не добавил к своим многочисленным историческим достопримечательностям еще одну: мог стать лобным местом для вашего преданного… впрочем, стоит ли упоминать имена.
День заметно увеличился, даже очень заметно — уже начался июнь, — и в эту пору еще совсем светло, а мне не терпится бросить взгляд через парапет, чтобы увидеть на нижней площадке Бояна, замаскировавшегося под хиппи. В этот предвечерний час по пятницам на террасе, как обычно, пусто, если не считать одного-единственного пожилого горожанина, лениво прогуливающегося под деревьями. Только он в самый неподходящий момент, как назло, проходит в двух шагах от меня, и, чтобы не пропустить передачи, мне приходится отойти от своего обычного места у парапета и сесть на ближайшую скамейку.
Авторучка предупреждающе щелкает, и я слышу голос. Но в чем дело? Это не голос Бояна.
— Вашему другу нездоровится, он не может прийти, — хрипит незнакомый голос в приемнике. — Он, весь избитый, лежит у входа в лифт, в нижнем городе…
— Принято, — говорю в ответ и с облегчением устанавливаю, что пожилой человек удалился в сторону моста. — Мне нужно передать нечто очень важное.
При этом я несколькими прыжками приближаюсь к парапету. Внизу, там, где должен находиться Боян, сидит худой, невысокого роста мужчина, чья фигура мне смутно знакома.
Не знаю, к месту ли сейчас подобные рассуждения, но я должен отметить, что в нашем поведении существуют стереотипы и порой выбранные нами действия, какими бы разумными они ни казались с практической точки зрения, представляют опасность именно тем, что являются стереотипами. Поэтому, прежде чем поступить именно так, а не иначе, постарайся хорошенько взвесить, не на это ли действие рассчитывает противник, не предусмотрел ли он твой следующий шаг в своем плане.
Так чего же противник ждет от меня в данном случае? Что я опрометью помчусь к лифту, чтобы наверняка угодить в ловушку? Или кинусь на этого, что внизу, чтобы довольствоваться тем же результатом? Разве не кажутся одинаково рискованными оба эти действия, если оценивать их с профессиональной точки зрения? Скажи, разве они не одинаково глупы с точки зрения профессионала, мысленно обращаюсь я к Любо. Только Любо молчит и задумчиво смотрит вниз, где должен был бы находиться Боян. Я бы тоже молчал, будь я на его месте, если бы это касалось моего сына. И хотя это касается не моего сына, у меня нет больше сил бездействовать и рассуждать про себя, да еще с профессиональной точки зрения. При мысли о том, что из-за меня они могут разделаться с сыном точно так же, как в свое время разделались с отцом, я готов волком выть. Но так как от этого проку будет мало, я бросаюсь с площадки — с трехметровой высоты обрушиваюсь на того, что сидит внизу.
В первый момент у меня ощущение, что я раздавил его собой, как гнилое яблоко, но потом оказывается, это не совсем так. И чтобы предотвратить возможные и совсем неуместные в данный момент безумства с его стороны, я с размаху даю ему кулаком по роже. По этой смуглой большеглазой роже с какими-то женственными чертами. Тим или Том? Я вечно их путаю.
— Кто тебя послал? — спрашиваю вполголоса, схватив метиса за горло.
— Не могу сказать, — хрипит он.
— Тогда околевай. Здесь же. Сию же минуту. И для пущей убедительности чуть покрепче сжимаю его тонкую шею. Большие глаза Тима или Тома делаются еще больше и выкатываются до такой степени, что кажется — вот-вот выскочат из орбит. Я расслабляю руки, чтобы он мог говорить, и снова:
— Кто тебя послал?
— Хозяин.
— Ральф Бэнтон?
Метис утвердительно сводит свои тяжелые веки.
— Где Боян?
— Понятия не имею. Я никогда его не видел. Я сказал то, что мне велели говорить, — бормочет Том или Тим уже более охотно, смирившись с мыслью, что мокрому дождь не страшен.
— А где должен находиться человек, которому ты передаешь?
— Понятия не имею, — повторяет он. — Сказали, метрах в двухстах в окружности. Велели передать то, что было сказано.
— Вот видишь? — чудится мне, будто я слышу наконец голос Любо. — Парень ни слова не проронил. Просто его выследили и установили, когда и откуда он выходит на связь. А потом накрыли и отняли аппаратик. Но парень ни слава не проронил.
— Помолчи пока, — прошу его. — Не мешай мне. А об этом мы в другой раз потолкуем.
Но я и сам доволен, что Боян не проговорился. И что рефлекс меня не обманул. Если бы я подался к лифту — обманулся бы. Человек, которого я все еще держу за горло, продолжает испуганно таращиться. Немного расслабляю клещи, чтобы он мог дышать. Сейчас он должен дышать. Притом как можно глубже. Потому что, держа метиса одной рукой за шею, другой я прижимаю к его губам ампулы с усыпляющим средством. Затем оттаскиваю его под ближайший куст и быстро направляюсь к Беренплац.
Минут через десять останавливаю «вольво» в двух шагах от террасы, выждав удобный момент, хватаю в охапку все еще пребывающего в сладком наркотическом трансе Тима или Тома и, особенно не церемонясь, заталкиваю его в багажник. Спасибо, что прислали мне этого метиса, довольно худого и легкого, с таким нетрудно справиться, а что бы я стал делать, если бы это был тот детина в шоколадном костюме? Благо, таких молодчиков заметно поубавилось, особенно после вчерашнего матча. Но чересчур радоваться не следует: в ближайшее время могут прислать пополнение.
Итак, Ральф Бэнтон. Мой тихий и добропорядочный сосед. Мой привычный партнер по сонным картежам. Настало, значит, время перейти к несколько иной игре. И теперь уже с раскрытыми картами.
Подъехав снова к главной улице, я останавливаю машину у первой попавшейся телефонной будки. Набираю номер и жду, пока знакомый голос задаст знакомый вопрос.
— Это Лоран, дорогой друг, — отвечаю.
— А, Лоран! Только что собирался вам позвонить. Что вы скажете относительно партии в бридж?
— Чудесная идея, хотя и не совсем ко времени. Я бы предпочел непродолжительный разговор один на один.
— Так в чем же дело, для вас я готов на все, — мягко отзывается Ральф.
— Только сперва вы должны передать мне того парня, которого вы ни за что ни про что избили. В противном случае мне придется заняться вашим Тимом или Томом, а пока он задыхается у меня в багажнике.
В трубке слышен короткий смешок американца. — Что ж, выходит, я добрее вас. Ваш человек находится в моем гараже, а не в багажнике. И никто его не избивал. Приходите и забирайте его, если угодно. Но разумеется, не забудьте вернуть мне слугу. Должен признаться, без него я как без рук.
Повесив трубку, я кидаюсь в машину. Но еду не к Кирхенфельдбрюке, а к соседнему мосту, хотя я не допускаю, что противник настолько туп, чтобы дважды применять один и тот же прием. Стремясь полностью убедиться, что я избавлен от нежелательной компании, я какое-то время петляю по городским улицам, затем останавливаюсь в каком-то проулке, иду в другой, нахожу нужный дом и при помощи лифта — мне уже становится не по себе от лифтов — поднимаюсь на самый верхний этаж.
— Ты что, с ума сошел! — с содроганием шепчет Борислав, увидев меня на пороге.
— Стараюсь не дойти до этого, — тихо отвечаю я, вталкивая его внутрь и захлопывая за собою дверь. — Дай чего-нибудь выпить!
Он ведет меня в уютный холл, более или менее похожий на мой, только без обоев успокаивающе-зеленого цвета, ставит на стол бутылку виски и идет за необходимыми подсобными средствами.
— Оставь, — говорю. — Безо льда обойдемся. Некогда.
Плеснув себе микстуры, залпом выпиваю ее и говорю:
— Боян провалился. Еду на выручку. Встреча через полчаса в вилле Ральфа Бэнтона. Вероятно, все нити в руках у него, поэтому он до сих пор оставался в тени.
Чтобы не сидеть без дела, наливаю себе еще виски и продолжаю:
— И еще одно. Вот тебе ключ. Шифр — «Зебра». Сейф, принадлежащий Ганеву или, если угодно, его дочке, — в Кантональном банке. В сейфе хранится вторая часть досье: имена. Ты ее изымаешь — завтра, рано утром, — и отправляешь по назначению. Кроме того, мне нужна справка относительно одной виллы в Лозанне. Числится она, вероятно, за Горановым или за его дочерью. Отыщи строительную фирму и еще одну, — при этих словах я делаю многозначительный жест, — если такая существует. Если да — найди человека, способного справиться с делом. — Выпив упомянутую добавку, я бросаю для пущей ясности: — Бояна ты, разумеется, возвращаешь! Ну, пока, я исчезаю!
Борислав и рта не раскрывает — и так все ясно. Хотя по лицу его видно, что после столь продолжительной разлуки ему хотелось бы по-дружески поговорить, единственное, что он произносит, имеет сугубо деловой характер:
— Значит, комбинация с машиной не меняется?
— Остается прежней: порядок улиц соответствует порядку дней.
Пожав ему руку, я отечески хлопаю его по плечу, хотя мы почти одного возраста, а ростом он даже чуток выше, всего на несколько сантиметров — вот чудесный партнер для Флоры, надо будет как-нибудь сказать ему об этом, — и пулей вылетаю на улицу.
— Приведите парня! — бросает Ральф шоферу. Возле меня стоит его камердинер, ни жив ни мертв.
— А вы ступайте прочь! — приказывает ему хозяин. Затем любезно обращается ко мне: — Садитесь, Лоран. Что будете пить?
— То же, что и вы, Бэнтон. И по возможности из той же бутылки.
— Какой это бич в наше время… — меланхолично бормочет американец, направляясь к сервировочному столику.
— Что именно?
— Мнительность.
— Обычная предосторожность, дорогой, не более. И мне кажется, вполне естественная после того, как вчера в обеденную пору ваши люди попытались — в какой-то мере им это удалось — избить меня, вечером хотели совершить на меня покушение, а сегодня похитили моего молодого друга.
— Неизбежные служебные ситуации, Лоран. Вы прекрасно понимаете, что не я их придумал. Я всего лишь служащий. Такой же, как вы. Безликое звено в системе. Не имеющее к тому же права на дружеские чувства.
Он говорит тихо, своим обычным голосом, полным апатии, едва ли способным выразить что-либо другое, Кроме холодности и равнодушия. Так же как и его карие, исполненные меланхолии глаза с их до странности отсутствующим взглядом, как бы спрятанным в полумраке ресниц, и ленивые движения, какими он наливает в рюмки «кальвадос».
— Ваше здоровье, Лоран?
Я охотно сказал бы ему кое-что по части здоровья, но тут шофер приводит Бояна. К счастью, он цел и невредим, следов телесных повреждений не видно. Парень бросает в мою сторону взгляд, в котором и преданность и чувство вины. Затем опускает глаза. Мне хочется сказать что-нибудь, чтобы хоть немного приободрить его, но я чувствую, как у меня сжалось горло. Он был так доволен, что на него возложили такую серьезную задачу, так счастлив, что ему оказали доверие, и вот на тебе — провал, что называется, с первого шага. Хочется дать ему понять, что он должен уметь мириться с огорчениями, иначе победы ему не видать, что такое с каждым может случиться, что дело, в общем, поправимое. Но как это сделать в вилле ЦРУ, в присутствии человека из ЦРУ, который флегматично наблюдает за нами со стороны?..
— Ладно, иди, — тихо говорю я. — Возвращайся домой и не переживай.
«Возвращайся домой» — значит возвращайся на родину, и Боян прекрасно это понимает, так же как то, что возвращается он не победителем. Он смотрит на меня еще раз, посрамленный и расстроенный, и только кивает головой.
— Не переживай, — повторяю я, чтобы взбодрить его немного. — Все обошлось.
И поднимаю на прощание руку, а он идет к двери медленно и вяло, как может идти побежденный.
— Ваши люди чувствительны, — констатирует Бэнтон, когда мы остаемся одни.
— А ваши нет?
— Нет, конечно. Им неведомы болезненные переживания. Возможно, тут есть определенный плюс. Наше ремесло не для сентиментальных.
Не вижу надобности возражать. Американец тоже молчит, и я пользуюсь паузой, чтобы еще раз обдумать следующий ход. Рискованный ход. С другой стороны — не такой уж рискованный. Две части досье, включая самую существенную, уже обеспечены для Центра. Боян отправится восвояси. Борислав вне подозрений. Единственный залог в этой игре при раскрытых картах — моя собственная персона. А когда рискуешь лишь собой, все проще. Иначе у тебя такое чувство, будто ты играешь по большой на казенные деньги.
Американец продолжает стоять, видимо не желая попусту мять свой костюм цвета зернистой икры, и, небрежно опершись на камин, терпеливо ждет. Он хорошо понимает, что я пожаловал к нему не только ради того, чтобы обменяться пленными, но старается дать мне понять, что спешить ему некуда. И я не спешу. Особенно пока мы находимся здесь, в этом здании, оснащенном ЦРУ. Я хочу сказать, снабженном подслушивающей аппаратурой.
— Не знаю, должен ли я благодарить вас за случившееся, или сейчас светским этикетом можно пренебречь, — тихо говорю я, вставая.
Во взгляде Бэнтона еле заметная тень удивления, и, поймав его, я делаю красноречивый жест в сторону двери, давайте, мол, выйдем Тень удивления в его карих глазах сменяется подобием насмешки, однако он кивает в знак согласия, и мы вместе идем к выходу.
— Надеюсь, вы не собираетесь выкинуть какой-нибудь глупый трюк, — как бы нехотя роняет американец, когда мы ступаем на асфальтовую аллею.
— Будьте спокойны, — отвечаю. — В таких делах вы монополисты. Мне просто хотелось удалиться от аппаратуры, которая, наверно, вас подслушивает. Потому что, если я не ошибаюсь, у вас это система: каждый подслушивает каждого.
— О нашей системе не беспокойтесь. Сейчас дело не в ней. Не верю, чтобы мы с вами заговорили о чем-нибудь таком, что не должно стать достоянием третьих лиц.
— Ошибаетесь, Бэнтон. И вы убедитесь в этом через несколько минут. В течение короткой прогулки по лесу. Если только вы не боитесь темноты.
Он не склонен отвечать на мое замечание, и мы медленно поднимаемся по аллее вверх. Конечно, тут не так темно, чтобы по спине бегали мурашки, — люминесцентные лампы, хотя интервалы между ними весьма значительны, довольно хорошо освещают наш путь.
— Вы счастливый человек, Лоран, — вдруг изрекает американец негромко.
— Это мне и другие говорили, но, к сожалению, без всяких оснований.
— Ваше счастье в том, что я вас учуял слишком поздно… Эти женщины отвлекли мое внимание, и я слишком поздно вас засек. Иначе вы уже давно были бы вне игры.
— А какая вам была бы выгода от этого? Только и всего, что лишили бы себя возможности сыграть партию в бридж, испортили бы наши милые вечера и не услышали бы предстоящего разговора. — И, понизив голос, продолжаю: — Я хочу обратиться к вам с одним предложением, Бэнтон. Но, прежде чем это сделать, я должен знать, что вас интересует — брильянты или досье?..
— Полный набор, — отвечает Ральф так же тихо и без малейшего промедления, словно давно ждал этого вопроса.
— Если бы я располагал полным набором, меня бы уже не было тут и разговор наш не состоялся бы. Да вам он и ни к чему, полный набор. Вам нужны камни.
— Лично мне — да! — подтверждает американец. — Но у меня есть начальство.
— Видите ли, Бэнтон, вы профессионал, и вам должно быть, ясно, что теперь, когда мы узнали, что к чему, досье особой ценности не представляют.
— Мне лично ясно. Но у меня есть начальство.
— Да перестаньте вы тыкать мне в нос своим начальством, — бормочу я с ноткой раздражения.
— Вы тоже профессионал, а, выходит, не понимаете простых вещей, — спокойно произносит мой собеседник. — После того как этот небольшой, но прекрасно организованный информационный центр зашатался до самого основания из-за необдуманных действий Горанофа, после того как Пенеф в свою очередь потерпел провал, после того как стало ясно, что самые различные силы из самых различных побуждений проникли в еще вчера хорошо законспирированный сектор, мое начальство, вполне естественно, настаивает на том, чтобы я хоть чем-то реабилитировал себя по службе. И для этой реабилитации мне потребуетесь вы. Вы лично, а не какая-нибудь мелкая сошка вроде этого вашего хиппи. И так как вы ничем другим не располагаете, вам придется заплатить своей жизнью.
Эти слова, хоть произнесенные без дешевой устрашающей интонации, звучат достаточно серьезно, но я пока не знаю, насколько они серьезны на самом деле и в какой мере Ральф старается — как и положено в начале всякого торга — внушить мне, чтобы я не слишком подчеркивал собственную ценность: чего, дескать, тебе куражиться, раз ты стоишь на пороге смерти.
Мы поднялись на самый верх пологого возвышения, по одну сторону которого, в низине, мирно спал район вилл, с множеством фонарей, отбрасывающих яркие косые лучи на густую листву деревьев, а по другую — темнел лес, освещенная просека которого тянется, словно глухой и пустынный коридор. Медленно шествуем по этому коридору до первой скамейки, той самой, на которой я как-то застал Виолету с плюшевым медвежонком на коленях.
— Мы можем сесть, — предлагаю я.
Ральф подозрительно смотрит на скамейку, брезгливо ощупывает пальцами сиденье, потом с трудом выдавливает:
— Почему бы и нет! Садитесь.
Я сажусь, а он продолжает торчать возле скамейки, боясь испачкать свой великолепный костюм цвета зернистой икры.
— Вы отлично понимаете, Бэнтон, что, отправив на тот свет одного или двоих вроде меня, вы себя ни в какой мере не реабилитируете. И как человек разумный, видимо, не сомневаетесь в том, что всякая показная реабилитация — пустое дело, а единственное, что достойно внимания, — это прибыль.
— Странный человек. Разве вы не слышали: у меня есть начальство. А вы знаете, что в такой системе, как наша, от этого зависит все.
— Ничего не зависит. Вы забираете брильянты и исчезаете.
— Не говорите глупостей, — отвечает он. Поставив на скамейку свой безупречно черный ботинок, он всматривается в него и вдруг, подняв на меня глаза, спрашивает:
— А у вас есть брильянты?
— Пока нет.
Американец смеется своим веселым смехом.
— Я так и предполагал.
— Не торопитесь предполагать. Уверен, что в самое ближайшее время я их непременно заполучу. И только для того, чтобы иметь удовольствие предложить их вам.
— Вероятно, это то же самое, что вы предложили Пенефу.
— Пенефу я ничего не предлагал.
— Неправда. Впрочем, это не имеет значения… И каким же образом вы собираетесь заполучить брильянты?
— Самым обыкновенным: забравшись в тайник.
— Надеюсь, это не тот тайник, где уже шарили все, кому не лень…
— Нет, конечно. Я не имею в виду сейф в холле Горанофа.
— А что вы имеете в виду?
— Нечто такое, о чем никто не подозревает. Никто, даже дочка Горанофа, которую ваш Кениг без конца осаждает своими хитроумными вопросами. Но согласитесь, открыть вам тайник — все равно что отдать вам брильянты. Да, я готов вам их отдать. Но не за гвозди Вам — брильянты, мне — досье.
— Это исключено, — вертит головой Бэнтон. — Мне — полный набор, а вам остальное. — И, желая внести ясность, он красноречивым жестом подносит руку к виску, как бы делая выстрел.
В общем, переговоры начинаются туго, и каждый предъявляет максимальные претензии, что совершенно естественно, потому что при таких сделках всегда надо драться за максимум, чтобы вырвать у партнера хоть что-то Наконец, устав от бесплодных пререканий, американец благоволит стать обеими ногами на твердую почву.
— Послушайте, Лоран: даже если вы действительно предложите мне эти воображаемые брильянты и я соглашусь ответить взаимностью, вам от этого радости мало — по той простой причине, что досье у меня нет.
— Вы хотите сказать, полного досье, — поправляю я его.
Он смотрит на меня несколько настороженно и кивает.
— Значит, вы в курсе…
— Абсолютно. Могу даже доверительно сообщить вам, что одна часть бумаг уже в моих руках, правда, в виде фотокопий. — И так как он продолжает сверлить меня взглядом, я спешу добавить: — Только не надо терять голову. Я не настолько глуп, чтобы носить их с собой. Но у вас хранятся остальные две части.
— Возможно, — уклончиво отвечает Ральф. — Но лично я располагаю только одной.
— Именами?
— Нет, сведениями о выполняемой работе.
— Это почти что ничего… — бормочу я.
— Это — все, — красноречиво разводит руки американец. — Только имейте в виду, я пока вовсе не собираюсь предлагать вам эти материалы.
— Вы хотите сказать, что готовы вечно трястись над ничего не стоящими бумажками? И не склонны их поменять на сокровище в миллионы долларов? Да вы просто не сознаете, что говорите, Бэнтон.
— Возможно, я и согласился бы на обмен, — продолжает мой собеседник. — Но при условии: за мои негативы вы отдаете ваши негативы плюс брильянты.
— Это уже непомерная жадность, дорогой!
— Вовсе нет. Просто я соглашаюсь на ваши условия. Негативы, которые вы можете мне передать, — копия. Верно, мои — тоже копия. Но вам ведь решительно все равно, копия или нет. А я, имея на руках два фрагмента, могу хоть отчасти умилостивить начальство.
— Нет, вы и впрямь ненасытный человек, — произношу я с оттенком горестного примирения.
— Я великодушен, Лоран. Иначе в это время вам бы уже делали вскрытие. Вчера вы нанесли побои двум моим людям, четверо других лечатся в больнице от тяжелых ожогов. Ваше сегодняшнее издевательство над Томом не в счет. За любое из этих безумств вам полагается пуля. А вместо этого, как вы видели, я деликатнейшим образом освободил вашего мальчишку и дошел даже до того в своем мягкосердечии, что торчу вот здесь в лесу и беседую с вами. Нет, мое великодушие действительно выходит за рамки здравого смысла. Но что поделаешь — характер.
— Я так растроган, Бэнтон, что готов уступить. Ладно, вы даете мне негативы в качестве скромного задатка, и будем считать, что мы договорились.
— Никаких задатков, — качает головой американец. — Вы получите копии в тот самый момент, когда я получу брильянты. — Он снова смотрит на меня, но теперь его взгляд приобрел свою обычную сонливость. — Тем не менее в этой сделке задаток наличествует. И это — вы. Не воображайте, что хоть в какой-то мере можете рассчитывать на бегство. Или на какие-нибудь безумства. С этого вечера на вас наложен карантин, Лоран. И хотя вы, возможно, не замечаете этого, но карантин и в данный момент имеет место.
Я не стану озираться — я почти уверен, что где-то рядом его верный Тим или кто-либо еще затаился с пистолетом в руке, заранее снабженным глушителем, или зажал в кулаке один из тех ножей, какие так часто в последнее время вонзаются в спины моих соседей.
— Как вам угодно, Бэнтон, — примирительно говорю я. — Только не забывайте того, о чем мы уже, кажется, договорились: чтобы наложить руку на брильянты, мы должны попасть в тайник. А чтобы я мог скорее до него добраться, не создавайте мне помех. Налагайте карантин, но не чините препятствий и не втравливайте меня в состязания по боксу. Вы, конечно, вряд ли сможете отказаться от подобных старомодных приемов, так как они — ваша вторая натура, но, ради бога, не обременяйте меня этим хотя бы ближайшие несколько дней.
— Я человек покладистый, — неохотно признает Ральф, как будто с сожалением обнаруживая свою ахиллесову пяту. — Я особенно не жажду, чтобы вам расквасили физиономию. Но это зависит и от вас. Придерживайтесь правил, чтобы никто не чинил вам препятствий. — Он нажимает на кнопку своих кварцевых часов и говорит: — Испортили мне вечер своим торгом. А ведь могли составить хорошую предпраздничную партию с теми двумя гадюками.
— О, «гадюки»! Вы слишком несправедливы к слабым женщинам.
— У вас есть основания щадить их, — соглашается американец. — Если бы не они, если бы не их дикие выходки, вы давно бы числились в графе покойников.
— Не огорчайтесь, — советую я, вставая. — Всему свое время. Всему и всем.
И мы медленно шествуем обратно, в наш тихий мирный квартал, где, может быть, сейчас эти женщины видят прекрасные и страшные сны, полные сияющих брильянтов и жутких кошмаров.
9
Розмари не спится. Она сидит на диване, на своем обычном месте, в своей обычной позе, скрестив голые ноги, и ее лицо с напряженным выражением обращено к двери, откуда появляюсь я.
— О Пьер! Как вы меня напугали!
— Не ждали?
— Весь вечер только тем и занимаюсь. И дико нервничаю. Мне все казалось, на вас снова напали… и, может быть, я вас больше не увижу.
Пять или шесть недокуренных сигарет, лежащих в пепельнице, подтверждают ее слова. Обычно она выкуривает такое количество за день.
— Зря вы беспокоитесь, милая. Каждый вечер покушения не совершают. Даже в нашем мирном Берне.
— Вы, Пьер, единственный человек, в ком я могу найти опору! Эта жалкая Виолета оказалась неблагодарной…
Я предупреждающе вскидываю руку, предлагая ей сменить пластинку, и без всякой связи спрашиваю:
— А как там ваши друзья импрессионисты? По-прежнему схватывают мгновения, или как это у них называется? Неуловимое и вечно переменчивое…
— В последнее время перемен хватает и тут, вокруг нас, — отвечает Розмари. — Жаль только, что все они не слишком приятны.
— Мы сами виноваты: не умеем радоваться жизни, — глубокомысленно замечаю я. — А что, если нам на днях прогуляться в Женеву?
Она смотрит на меня удивленно, пытаясь расшифровать мой настойчивый взгляд, и отвечает:
— Почему бы нет? Хоть с папашей повидаюсь. С «папашей Грабером», уточняю я мысленно и ухожу на кухню. Однако Розмари следует за мной, и, чувствуя, что ей не терпится сказать мне о чем-то, я, миновав кухню, выхожу через заднюю дверь в сад, заговорщически кивнув Розмари.
— Что-то вы сегодня так странно себя ведете? — спрашивает Розмари, понизив голос. — И что означает эта ваша мимика? Неужели думаете, нас подслушивают?
— Уверен.
— И с каких пор?
— Вероятно, со дня смерти Пенефа. Положение заметно ухудшилось.
— А чем вызвана ваша поездка в Женеву?
— Не могу сказать, пока не выяснится одно важное обстоятельство.
— Опять я должна сходить с ума…
— Зачем? Давайте лучше полакомимся яичницей с ветчиной.
Отъезд происходит только в среду, рано утром, потому что лишь во вторник вечером я нахожу в тайнике «вольво» лаконичное указание Борислава, и мне приходится битых два часа кружить по городу, пока я получаю наконец возможность оторваться от очередного прилипалы. Бэнтон сдержал слово: никто меня не трогает, но зато слежка не прекращается. Мне удается увернуться из-под наблюдения всего на несколько минут, потом снова, вполне сознательно, я суюсь в поле зрения моего «опекуна», чтобы не вызывать лишних подозрений.
Согласно народному поверью, среда тоже плохой день — по тем соображениям, что находится как раз посередине недели. Но если обращать внимание на поверья, то понедельник еще хуже, не говоря уже о вторнике, дурная слава которого не нуждается в комментариях, а равным образом и о четверге, в особенности же о зловещей пятнице, так что невольно отдаешь предпочтение субботе и воскресенью, но это выходные дни.
Примирившись с нерадостным прогнозом, связанным со средой, я предлагаю Розмари отправиться на ее машине. Конечно, ее красный «фольксваген» очень бросается в глаза, однако, может быть, именно это заставит преследователей поверить в мои добрые намерения. Надеяться на то, что тебе удастся раствориться в транспортном потоке в такой багровой машине — все равно что пытаться спрятать верблюда в стае гусей.
— Ваш «вольво» нуждается в ремонте? — спрашивает моя приятельница, пока я протираю переднее стекло «фольксвагена».
— Вовсе нет. Я даже боюсь, что в мое отсутствие его снабдили какой-нибудь лишней деталью.
— А где гарантия, что и мою букашку не удостоили того же внимания?
— Гарантии нет. Но кажется, в последнее время кое-кто перестал обращать на вас внимание, милая. Боюсь, и на Флору тоже.
— В том числе и вы? — восклицает она с притворным удивлением.
— Вы прекрасно знаете: мой интерес напрочь привязан к одному-единственному объекту. Я не импрессионист.
Утро выдалось солнечное и обещает теплый день, что очень хорошо, а может, и не так уж хорошо — все будет зависеть от температуры, Я предоставляю Розмари вести «фольксваген», в конце концов, это ее машина, а не моя, но все же предупреждаю ее, чтобы без нужды не превышала скорость и вообще не создавала впечатления, будто мы стараемся убежать от чего-то.
Это «что-то» — его я достаточно отчетливо вижу в зеркале над ветровым стеклом — всего лишь черный «ситроен», элегантный, как лаковый башмачок, с показным безразличием движущийся за нами на некотором расстоянии.
— Это вас раздражает?.. — тихо спрашивает Розмари, тоже заметившая черную машину.
— Первое время. Пока привыкаешь. А потом входит в привычку, и испытываешь обиду, если позади никого нет: словно тобой пренебрегли.
— Создается впечатление, что вы давно к этому привыкли.
— Не могу припомнить, с какого именно числа.
— Я вообще ничего не знаю о вашем прошлом, Пьер. В тот вечер, когда я вас так ждала, мне вдруг пришло в голову, что если вы не вернетесь, то так и уйдете из моей жизни, не успев ничего о себе рассказать. Действительно странно: живешь с человеком долгие месяцы под одной крышей, спишь в одной постели и решительно ничего не знаешь о нем, о его прошлом, о детстве…
— Что вам рассказывать о моем детстве, когда его у меня не было, — отвечаю я небрежно. — Я подкидыш, выросший в приюте. Не то что вы — из зажиточной семьи.
— О, зажиточная семья! — с усмешкой бросает она. — Это все видимость, созданная стараниями Грабера. Зажиточная семья!..
Она нервно сигналит, чтобы забравшийся в левый ряд грузовик принял вправо. Потом сигналит снова и снова, пока тяжелая машина не спеша освобождает наконец проезд.
— Верно, квартал, в котором мы жили, был богатый, но мы богатыми никогда не были, отец сумел обзавестись маленькой чердачной квартирой с помощью своего шефа, владевшего восьмикомнатными апартаментами на втором этаже. Но за свою чердачную квартиру мы должны были как-то расплачиваться, и эта забота съедала все мысли и средства моего отца. К каким только хитроумным ходам он не прибегал: брал ссуду в одном банке, чтобы погасить в другом, оплачивал одну закладную, чтобы тут же связать себя другой. — Она на время замолкает, вперив взгляд в летящую навстречу асфальтовую ленту, потом произносит: — В сущности, зачем я рассказываю все это…
— Если я недостоин вашего доверия, можете не рассказывать.
— Что за глупости! Просто не хочется вам досаждать. Печальная история. Эти операции стали для моего отца делом жизни, а под конец он великодушно передал эстафету мне. Все это, говорил он, мы делаем для тебя, квартиренка останется тебе, и ты должна помнить: родители пожертвовали всем, чтобы у тебя была крыша над головой, много ли таких, которые могут похвалиться, что имеют собственную крышу над головой! Эта крыша досталась ему по милости его шефа, но услуги, оказываемые нам богачами, обычно стоят очень дорого! Вот и эта услуга поработила отца на всю жизнь; бедняга надеялся стать главным кассиром, и тогда все уладится, однако он так им и не стал до самой пенсии. А когда вышел на пенсию, операции по оплате квартиры легли на его плечи еще большим бременем, заботы и вечное напряжение до такой степени истощили его, что пневмония за два дня унесла беднягу в могилу.
Слушая историю Розмари, и впрямь весьма прозаическую, я рассеянно наблюдаю пролетающий мимо пейзаж, тоже весьма прозаичный, не имеющий ничего общего с открытками для туристов: голые холмы, в лоскутья искромсанные ржавыми изгородями, разрытые участки земли, на которых желтые экскаваторы черпают красноватую глину, скучные серые постройки и слепые боковые стены заводских зданий. В Швейцарии, как и во многих других местах, будничная реальность имеет мало общего с поэтическими представлениями, как не без оснований отметила простодушная Виолета.
— За эту крышу над головой, — слышится голос Розмари, — мне и самой пришлось расплачиваться, причем с самого детства. В классе, где я училась, были дети одних богачей, и они относились ко мне весьма пренебрежительно. Конечно, никому из них не приходило в голову пригласить меня в гости, но я от этого особенно не страдала. Меня больше донимало другое.
Хоть они относились ко мне пренебрежительно, но все же замечали, как я одета, а на мне всегда было все самое дешевенькое, что продавалось в магазинах «Мигро», тогда как все остальные дети одевались у «Бон Жени», поэтому меня они прозвали мисс Мигро, и я часто плакала от унижения — наедине, конечно, — но, когда жаловалась матери, что меня обзывают «мисс Мигро», и просила перевести меня в другую школу, мать говорила, что это для меня хорошая наука, чтобы я всегда помнила, где мое место, а отец гнул свое — какая польза, что ты пойдешь к беднякам, если человек может чему-то поучиться, то не у бедняков, а у богатых людей, а мать ему в ответ: ты уж лучше помалкивай, всю жизнь работаешь на богачей, и единственное, чему ты у них научился, — это считать их деньги.
— Не надо так сильно жать на газ, сбросьте немного скорость, — говорю я, заметив, что стрелка дрожит на ста тридцати и те, сзади, начинают нервничать и тоже жмут вовсю.
— Верно, я увлеклась, — тихо отвечает Розмари и отпускает педаль. — Стоит мне разволноваться — и я несусь как угорелая…
— Значит, не перевели вас в другую школу?
— Нет. Но однажды в нашем классе появилась новая девочка, она тоже была не из богатых, хотя одевалась не у «Мигро», и мы с ней постепенно подружились. Возможно, «подружились» — слишком сильно сказано, потому что она была очень неразговорчива, держалась замкнуто, но иногда мы с ней гуляли вместе и часто ходили в картинную галерею «Пти пале» — ее отец служил там администратором, — и для меня был настоящий праздник бродить по этим светлым и тихим залам и рассматривать выставленные там прекрасные картины, ведь в те годы я не была избалована, у нас дома даже телевизора не было — отец все экономил, чтобы платить по закладным, — да и в кино я бывала, только когда нас водили всем классом Полин, знакомая с сокровищами галереи, рассказывала мне о некоторых, про то, как Зевс явился к Данае в виде золотого дождя, да про то, как Сусанну подстерегали сладострастные старцы, но больше всего меня привлекали те картины, которые не нуждались в пояснениях, особенно пейзажи, и особенно полотна импрессионистов — может быть, своими странными красками, потому что от этих красок самое обыденное становилось каким-то праздничным, — и я могла до самозабвения любоваться какой-нибудь рекой, лесом, небом, мысленно уносилась в дальние дали, испытывала чувство покоя и умиротворения — знаете, словно лежишь в высокой траве и ласковый ветерок тихо веет, а ты всматриваешься в облачно-солнечные просторы неба.
Впереди, по правую сторону, маячили бензоколонка и ярко-желтый навес придорожного кафе.
— Я бы выпила кофе, — говорит Розмари, сбавляя скорость.
— Неплохая идея, — киваю я и все же посматриваю на часы: немногим больше девяти, времени у нас достаточно.
Мы садимся за столик на террасе. Место открытое, и никому не придет в голову, что тут замышляется нечто большее, нежели мирный завтрак. Вероятно, того же мнения и те, что в «ситроене», паркующемся за бензоколонкой.
— Значит, с тех пор вы посвятили себя искусству? — возобновляю я разговор, когда нам приносят кофе со сливками и рогалики.
— Да, но это было всего лишь детское увлечение, не имевшее никаких последствий, — уточняет Розмари, помешивая кофе. — Иногда Полин давала мне с собой какой-нибудь альбом своего отца, и дома, рассматривая его, я постепенно узнавала историю каждого из этих художников, меня до слез растрогала печальная судьба Ван Гога, и Гогена, и бедного Сислея, и я все больше мечтала заняться делом, которому посвятил себя отец Полин, а так как Полин мне говорила, что для этого надо знать историю искусства, я постепенно свыклась с мыслью, что мой путь окончательно определился — я стану искусствоведом. Только когда пришло время получать диплом об окончании гимназии и я поделилась своей мечтой с отцом, он заявил, что это чистое ребячество, что у него нет никаких средств содержать меня долгие годы, пока я буду учиться в университете, что закладные душат его как никогда и остается единственный выход — я должна поступить на курсы секретарш, по возможности скорее окончить их, чтобы как-то оплатить эту крышу над моей головой, под которой мне предстоит жить всю жизнь.
Она кладет на стол ложечку, сообразив наконец, что увлеклась, подливает сливок в кофе и погружает в него кончик рогалика. Затем откусывает его и отпивает кофе.
— Но вы же понимаете, Пьер, человеку нелегко расстаться со своей мечтой, особенно если это мечта его юности, самая заветная. Я сказала отцу, что буду самостоятельно добывать себе средства, буду учиться и работать одновременно, а он мне в ответ: что ж, дело твое, иди учись, раз тебе так хочется, а тем временем мы с матерью будем торговать цветами на улице, чтобы платить по закладным. Он был уже в предпенсионном возрасте, и рассчитывать на его повышение не имело смысла, дело и вправду могло дойти до торговли цветами, и, представив себе, как они с матерью стоят, словно нищие, где-нибудь на углу рю Монблан, я чуть с ума не сошла, мне пришлось отказаться от мысли об университете и поступить на курсы машинописи и стенографии. Этим и кончилась сказка.
— Первая сказка, — уточняю я — Чтобы началась вторая.
— Какая «вторая»? — спрашивает Розмари.
— Да эта, про драгоценные камни.
— Верно. Возможно, вы шутите, но так сложилось, что красота вечно искушает меня. Камни восхищали меня, когда я стала работать в фирме… Эти кусочки затвердевшего света… самые чистые цвета и самые звучные… Но что вам рассказывать о красоте, если вы к ней не имеете никакого отношения, если для вас она не существует даже в денежном измерении? Тогда-то я узнала не только как делаются камни, но и как делаются деньги. Бразильский бедняк лишает земные недра тысячелетних кристаллов, а его грабит владелец шахты, которого в свою очередь грабит скупщик, сам он становится жертвой фирмача, фирмач не остается в долгу перед оптовиком, оптовик перед ювелиром, а главный потерпевший этой цепной реакции, конечно, покупатель — он покрывает все расходы.
— Разделение вины…
— Да, и такое разделение, что виновных не остается. Каждый грабит сообразно своему положению, грабит как может, и в этом проявляется жизнь общества, его дыхание, кровообращение, и я не могу понять, какой нам с вами резон провозглашать себя единственно честными людьми в этом мире всеобщего грабежа. Лично я на такую честь не претендую.
— Я вас прекрасно понимаю, — вторгаюсь я в ее монолог. — Но вы тоже должны меня понять: когда мы приедем в Женеву, мне понадобится во что бы то ни стало ускользнуть от этих, что позади нас, чтобы сделать одно важное дело…
— Какое дело? — подозрительно спрашивает Розмари.
— Одно дело, непосредственно связанное с вашим интересом к камням. Мне кажется, я нащупал путь к месту, где таятся брильянты.
— О Пьер!..
Она пытливо смотрит на меня своими темными глазами, и в их выражении надежда явно превозмогает недоверие.
— Вот видите, я ничего от вас не скрываю. Будь у меня желание что-то скрыть от вас, я бы мог поехать в Женеву один.
— Я вам верю… Мне бы хотелось вам верить…
— В таком случае вы остановите машину перед домом Грабера и подскажете, как мне пройти по дворам.
— Но ведь это означает, что я расконспирирую себя…
— С этим вы давно справились, — успокаиваю я ее.
— Думаете, что кто-то…
— Не думаю, а знаю. И не «кто-то», а Ральф Бэнтон.
— Ральф Бэнтон? Не может быть!
— Вы однажды сказали, что в тихом омуте…
— Я имела в виду совсем другое, — торопится она возразить.
— Что именно?
— То, что он извращенный тип. И посещает проституток у вокзала… Что иметь дело с порядочными женщинами едва ли способен.
— Может, ему просто не удается узреть тонкую разницу между теми и другими.
— Циник! — выстреливает она.
Проезжаем Лозанну, хотя в последнее время Лозанна все больше привлекает мое любопытство, и к одиннадцати мы в Женеве. Розмари едет медленно, в строгом соответствии с инструкцией, и дает полную возможность «ситроену» следовать за нами. Когда мы сворачиваем на небольшую улицу, где находится предприятие Грабера, «ситроен» останавливается в самом начале ее, чтобы не уткнуться нам прямо в хвост. Когда мы с Розмари входим в парадную дверь, она поднимается по лестнице наверх, а я незаметно пробираюсь к черному ходу и через двор попадаю в соседний проулок.
Чтобы нарваться на мою дорогую Флору.
— Предатель! — бросает она ледяным тоном.
— Любезности потом, — тихо говорю я. — У тебя есть машина?
И за могучим корпусом немки тотчас замечаю стоящий напротив «опель».
— Бежим, — предлагаю я и тороплюсь к машине.
— Куда? А Бруннер? — спрашивает Флора, но покорно следует за мной, быть может, опасаясь, что я ускользну от нее.
— Бруннер, видимо, караулит с фасадной стороны, — говорю я и готовлюсь занять место водителя.
— Да, он там, в кафе, — вносит ясность Флора и каким-то чудом успевает опередить меня.
— Раз так, езжай на Лозанну.
— А чего это ты мною командуешь? — недоумевает она, пуская двигатель. — Разве я могу так оставить Бруннера?
— Бруннер не ребенок. Если мы пойдем его искать, все пропало. С той стороны люди Бэнтона.
Она резко трогается с места, молча выезжает на набережную, сворачивает на мост Монблан и только после этого спрашивает: — Люди Бэнтона?
— Да, твоего милого Бэнтона, которого ты пыталась охмурить.
— Стараться охмурить кого бы то ни было не в моем характере, Пьер, — с достоинством возражает Флора. — Мужчины и без того постоянно липнут ко мне.
— Только Бэнтон почему-то к тебе ляпнуть не стал, а прилип ко мне.
— Это человек Кенига, не так ли?
— Наоборот, если ты хочешь знать.
— Тогда как ты весь к услугам Грабера и Розмари.
— Я давно оказываю услуги Розмари, но только как хозяин. Неужто не видишь, что она мне нужна в качестве ширмы? А представилась возможность уйти черным ходом — и я тут же ее оставил.
— Слежу за вами с самого Берна.
— Ну раз больше делать нечего…
Миновав мост, она сворачивает направо и едет по набережной.
— А сейчас, милая, покрепче жми на железку своей нежной ножкой.
— Пьер, ты же знаешь, я терпеть не могу, когда мною командуют, — ворчит она, но повинуется.
Машина стремительно несется по бульвару, достаточно свободному в этот час, потом сворачивает влево, и несколько минут спустя мы на шоссе, ведущем в Лозанну.
— А что, собственно, нам делать в Лозанне?
— То, что я обещал тебе и Бруннеру.
— Разве брильянты в Лозанне?
— Брильянты не в Лозанне, но путь к ним ведет через Лозанну.
— Я не люблю пустой болтовни, ты это знаешь. Говори ясно, мой мальчик.
— Яснее уже некуда. Я должен встретиться с одним человеком и получить от него кое-какие сведения. Сведения неполные, однако в сочетании с другими картина предстанет полной.
— Какие еще сведения? Что ты мне морочишь голову? — восклицает обычно спокойная Флора, мои туманные намеки выводят ее из себя.
Ужасная женщина. И причиняет мне сейчас столько неудобств. Но как я мог предвидеть эту встречу? Раз уж нарвался, деваться некуда. Придется весь день таскать ее с собой. Кроме… Чего?
— Чутье подсказывает мне, что в какой-то момент ближайших суток я смогу изречь магическую фразу «Сезам, откройся!», — пробую я успокоить Флору. — Тогда-то ты поймешь, что не зря я морочил тебе голову.
— Имей в виду, ты можешь изрекать, что тебе заблагорассудится, но только в моем присутствии, — предупреждает Флора. — Отныне мы неразлучны.
— Ну-ка повтори эти слова, мое солнышко! Мне почудилось, будто я слышу райскую музыку.
— Не распускай слюни, Пьер! Имей в виду, я говорю на полном серьезе.
У меня нет оснований сомневаться. Я обвожу унылым взглядом уже знакомый пейзаж — берега голубого Женевского озера, в последнее время заметно помутневшего, зеленые парки, среди которых ютятся белые виллы и светлое небо, — но на душе от этого светлее не становится.
— У тебя, дорогая, слишком коммерческий взгляд на жизнь. До такой степени коммерческий, что, когда я говорю «любовь», ты подразумеваешь «деньги».
Но Флору, как видно, нисколько не обижают мои слова. Напротив.
— Самое главное в этом мире, мой мальчик, — уметь делать деньги. Но к этому надо добавить: для всякого дела нужен инструмент. Для этого — тоже.
— Видимо, ты и меня рассматриваешь как инструмент.
— Почему бы нет? Лишь бы годился…
— Если меня не обманывает зрение, природа довольно щедро одарила тебя… инструментом.
— Двумя, — уточняет она. — Но второй не из разряда телесных атрибутов, и он гораздо важнее — это разум, мой мальчик. А то, что ты имеешь в виду, ценится только в публичных домах.
— Почему? Недавно я читал, в Америке какая-то феноменальная женщина ежедневно получает десятки писем с предложениями вступить в брак. Верно, она сантиметров на двадцать выше тебя да и весом килограммов на сто превзошла, но и тобой грех пренебречь. Вероятно, мужчины при виде тебя просто обалдевают.
— Я же тебе говорила! Липнут как мухи. Несмотря на твои гнусные намеки. Обалдевают, это правда. Но им лишь бы разок поужинать со мной наедине, и больше чем на простенький браслетик в две тысячи их не хватает. Мне, чтобы заработать две тысячи, проще раздеться в каком-нибудь притоне в Сан-Паулу. Ты, пожалуйста, не путай меня с любой другой женщиной.
— Ладно, — говорю. — Не будем пока о твоей фигуре и о твоих габаритах. Обратимся к интеллекту. Разве тебе есть на что жаловаться?
— Отнюдь, но меня заботит другое. Чтобы делать деньги, надо иметь еще один инструмент…
— Опять же деньги.
— Именно. Нужен капитал.
— Держу пари, что в эту минуту в маленькой старой Европе двести — триста фирм на грани банкротства, хотя, когда они начинали, и деньги были у них немалые, и мараковали они, должно быть, неплохо.
— Раз они на грани банкротства, значит, чего-то им определенно недоставало, — невозмутимо возражает Флора. — И скорее всего именно сообразительности. Каждый дурак, способный копить и наживать, воображает, будто у него ума палата.
— Если под словом «интеллект» ты подразумеваешь свет гениальности…
— Моя соседка фрау Пульфер, — говорит Флора, не обращая внимания на чушь, которую я несу, — нажила состояние на мизерном наследстве в двадцать тысяч плюс сообразительность. Могу запросто это подтвердить, потому что не так уж давно заправляла в одной из ее лавчонок.
— Лавчонок по продаже чего?
— Не брильянтов. И не парижских туалетов. А самых банальных вещей: трубок, зажигалок, пепельниц, сигарет…
— Что можно выгадать на пачке сигарет?
— Мелочь, конечно. Но если ты за день сбываешь тысячи пачек… Когда трубка стоимостью в пятьсот марок приносит тебе двести марок чистой прибыли и если ты имеешь понятие, где открыть лавчонку и как ее обставить…
— Это и есть твоя мечта?
— Торговать табаком? Ты опять путаешь меня с кем-то, Пьер. То я для тебя американский феномен, то фрау Пульфер.
— Вот там, сразу за перекрестком, небольшая развилка, — говорю я. — Свернешь направо и остановишься.
— Мы же едем в Лозанну?
— Свернешь направо и остановишься, — повторяю я.
— Ага, поняла! Ну и хитрец…
Мои наблюдения в зеркало заднего вида пока ничего особенного не дали, однако немудрено и ошибиться, особенно если у того, кто тащится следом, чуть больше интеллекта, как выражается Флора. Так что невредно пропустить идущий за нами поток машин — а вдруг кто-нибудь от самой Женевы нас сопровождает.
Мы остановились на небольшом проселке, скрытом тенистыми деревьями. Заметить нас с шоссе не так просто, зато мы можем преспокойно вести наблюдение. И хотя мы успели выкурить по сигарете, ничего подозрительного на шоссе я не обнаружил.
— Выруливай, — говорю. — И остановись где-нибудь у вокзала. Да по возможности не на виду у всего города.
— Видали, как он мною командует! — бормочет Флора, изумленная моим нахальством.
Однако выруливает на шоссе и десять минут спустя останавливается — в строгом соответствии с указаниями — на глухой улочке позади вокзала.
Мы входим в отель «Терминюс».
— Господин и госпожа Лоран, — сообщаю человеку за окошком регистратуры.
Человек разглядывает нас с видимым интересом, в особенности, конечно, Флору.
— На сколько дней?
— О, только на один вечер, — торопится предупредить моя дама, хотя ее информация в корне неверна: мы и до вечера не собираемся оставаться.
Человек подает мне ключ, велит слуге проводить нас и сам все так же взглядом провожает Флору до лифта.
Пока моя временная супруга освежается под душем, я делаю два телефонных звонка, стараясь не перекрывать своим голосом шум льющейся из крана воды. Сперва я звоню в авиакомпанию и прошу связать меня с господином Спрингом. Опять неосторожность с моей стороны, но, когда до финиша осталось не так много, а обстоятельства складываются не лучшим образом, осторожничать не приходится.
— Я бы хотел спросить… — говорю в трубку.
— Да?
Смысл вопросительной интонации вполне ясен, по крайней мере для меня: Борислав сумел все же отправить в Центр вынутые из кассеты досье. Торжествующе вешаю трубку — прервали, дескать, окаянные.
— Кому ты звонишь, мой мальчик? — Флора высовывает из ванной мокрое лицо.
— Пытаюсь связаться с тем человеком, помнишь, я тебе говорил…
Она не возражает, но на всякий случай забывает закрыть дверь. Важнейшая часть операции закончена. Теперь можно отдохнуть. И продолжать без того гнетущего чувства, будто играешь на средства, взятые из государственной казны.
Набираю другой номер. Флора, конечно, закрыла кран, чтобы лучше слышать.
— Мосье Арон?.. Это Лоран, вы, должно быть, слышали обо мне… Да-да, было бы очень приятно. Где бы вы предложили встретиться? Словом, где можно хорошо поесть? Я, признаться, плохо знаю ваш город… Да, да… Чудесно!.. Ровно в час…
— Надо было ему сказать, что приедешь с женой, — напоминает Флора.
— Он заметит тебя и без предупреждения. Но боюсь, твой приход может все испортить…
Какое-то время мы спорим: Флора горит желанием присутствовать на предстоящей встрече, однако мысль, что ее любопытство может погубить все дело, смиряет ее.
— Хорошо, мой мальчик, — уступает она в конце концов. — Послушаюсь тебя и на этот раз, хоть я терпеть не могу, когда мною командуют. Но не воображай, что я предоставляю тебе полную свободу. Я буду в том же зале, только за другим столом. И постарайся распрощаться с этим Ароном внутри помещения, потому что на улице тебя будет ждать твоя крошка Флора. Надеюсь, ты запомнил: отныне мы неразлучны!
Ужасная женщина.
В ресторан «Два голубя» мы с Флорой входим вместе, но она располагается за отдельным столиком возле окна, что побуждает меня занять место в противоположном углу. Народу здесь немного: сегодня рабочий день, да и цены тут дай бог.
Моя дама бросает на меня взгляд, полный укоризны, а я прикидываюсь рассеянным и время от времени посматриваю на входную дверь. Дистанция между нашими столиками, видно, не нравится Флоре. Пускай. Не хватало еще, чтоб она сидела где-нибудь поблизости и подслушивала.
Но вот в зале появляется седой человечек в сером костюме, он озирается по сторонам — вероятно, пытается кого-то найти. Я решаюсь помочь ему и, приподнявшись, взглядом приглашаю к себе.
— Мосье Арон?
— Мосье Лоран?
Предоставляю гостю самому ознакомиться с меню. Для мосье Арона это, вероятно, необычный случай — прийти в такой ресторан и иметь возможность удовлетворить свои гастрономические вожделения. Стоит ли уточнять, что они сосредоточены на самых дорогих блюдах, но тут уж я достаточно натренирован — школа моего Бенато.
Пока гость изучает меню, я окидываю беглым взглядом его самого. Многолетний канцелярский труд сделал этого человека немного сутулым. Большой горбатый нос свисает вниз, как будто все годы вместе с хозяином усердно всматривался в бумаги. Маленькие влажные глаза вооружены очками с толстенными стеклами, которые он снимает только затем, чтобы заменить другими, для дальнего расстояния. В ходе обеда я имею удовольствие убедиться, что его постоянное внимание к оптике не ограничивается сменой очков, а сказывается еще и в том, что он постоянно двигает их то вперед, то назад, по широкой переносице, весьма удобной для таких операций.
Серый костюм гостя выглядит в общем прилично, однако, если посмотреть более придирчиво, нетрудно заметить, что он уже на грани приличия: все «невралгические точки» — локти, спина и, вероятно, другие места — достаточно потерты. Подобные следы заметного упадка видны на сорочке, вышедшем из моды галстуке и ботинках. Но если у вас закрадывается мысль, что приметы обветшалости свойственны также и психике мосье Арона, то вы будете неприятно удивлены: он нисколько не утратил своих духовных способностей, особенно ту из них, которую принято считать самой необходимой, — сообразительность. В этом я убеждаюсь с первых же слов, когда метрдотель удаляется, чтобы сделать необходимые распоряжения.
— Ваш друг довольно подробно разъяснил мне, куда направлены ваши интересы, — говорит мосье Арон, совершенно сознательно переступая досадное предисловие вроде: «Нравится ли вам наш город?» да «Какое впечатление произвел на вас кафедральный собор?»
— Я очень рад. Это позволит нам сэкономить время.
— Не знаю… Не уверен… — осторожно возражает гость. — Должен вам сказать, у меня возникли некоторые сомнения. Я имею в виду профессиональную тайну и прочее. Мы люди старого поколения, мосье Лоран…
— Именно это внушает мне доверие, — спешу я пощекотать его самолюбие. — Старое поколение не то что новое.
Но щекотка, как видно, не оказывает желаемого действия.
— Приятно слышать. Однако, может быть, именно этим и вызваны мои сомнения.
— Что вас так смущает? — стараюсь его подбодрить. — Вам скоро на пенсию.
— Да. Это еще одно основание проявлять осмотрительность.
Как бы в подтверждение сказанного он сменяет очки для чтения другими, позволяющими видеть дальше, только взгляд его обращен не на меня, а скользит мимо, туда, где сидит Флора. Словом, Сусанна и сладострастные старцы, как говорит моя квартирантка.
— Ничто ей не грозит, вашей пенсии, — продолжаю я успокаивать гостя. — В лучшем случае что-нибудь прибавится к ней.
— Что-нибудь… — недоверчиво вздыхает мосье Арон и снова предельно сосредоточивается. — Это ваше «что-нибудь» мне ничего не говорит. Люди моего поколения привыкли выражаться более определенно.
— Надеюсь, единица с тремя нулями звучит достаточно определенно?
— Да, но и весьма обескураживающе. Как вам известно, единица — самая маленькая из всех возможных цифр.
— А нули позади нее…
— Нули есть нули, без них, конечно, не обойтись.
Он, вероятно, собирается выдать еще какое-нибудь оскорбление в адрес единицы, но в этот момент кельнер приносит для мосье Арона черную икру, а мне — заурядные ломтики копченого окорока, потому что, если один из команды идет на безоглядное расточительство, другому приходится балансировать на грани скупости.
Пока мы расправляемся с закуской, кельнер снова начинает суетиться возле нашего стола, вооруженный всякими спиртовками и сковородками, чтобы закончить у нас на глазах сложное приготовление основного блюда. Блюдо это, говоря между нами, кусок обычной телятины, приправленный какими-то там изысканными соусами, а в качестве гарнира кладут грибы, мелкие кусочки мяса и не помню что еще — и все это только для того, чтобы пришлепнуть к простому блюду какое-нибудь диковинное название и заломить невероятную цену.
Наконец кельнер подносит нам в строгом соответствии с ритуалом фирменную достопримечательность и прохаживается в сторонке, что позволяет мне вернуться к прерванной беседе.
— А могу ли я знать, как вы сами представляете интересующую нас цифру?
Гость методично дожевывает ломтик филе, добавляет для вкуса грибочек, отпивает «бордо» девятьсот пятьдесят какого-то там года и лишь после этого отвечает:
— Я ее представляю как нечто действительно способное толкнуть разумного человека на риск…
— Но тут вообще нет риска.
— Вы так считаете? — укоризненно качает головой мосье Арон. — Для вас, молодых, существует лишь один риск — тюрьма. А запятнанное достоинство? А попранная честь?
Раз в ход пошли такие громкие слова, значит, цена будет изрядная. Дети и те знают, что честь и достоинство дешево не продаются.
Пускай, думаю, гость сперва насытится как следует да выпьет еще два-три бокала вина, может, тогда станет сговорчивей. Старик действительно оживляется, но причина не столько во мне, сколько во Флоре, а та, как бы почувствовав, что на нее обращают внимание, вызывающе закинула ногу на ногу, оголив свои импозантные бедра, и с равнодушным видом курит ту вкусную сигарету, которая венчает обед и с которой так приятно кофейничать.
— Мне кажется, эту молодую даму я вижу впервые… — бормочет мосье Арон, меняя, уж не знаю в который раз, свои очки.
Он произносит эту фразу таким тоном, словно является завсегдатаем «Двух голубей» и со всеми здешними посетителями на короткой ноге. Я не считаю нужным отвечать, поскольку я здесь человек случайный и у меня, естественно, нет оснований быть знакомым с дамой.
— Я так и не услышал от вас, как вы сами представляете себе цифру, — пробую напомнить ему во время кофе.
— Мое представление, мосье Лоран, основательно тяготеет к семерке. Говорят, будто семь — еврейское число, но никуда не денешься: я еврей по отцу, так что для меня это число в какой-то мере вопрос национальной гордости.
— Если не ошибаюсь, в Библии нередко встречается и цифра три, — пытаюсь я возразить.
Однако он решительно качает головой: в Библии, как и в любой большой книге, могут встречаться самые различные цифры, однако всему миру известно, что истинно еврейское число — семь, и не случайно поэтому он не обращается к числу девять, которое тоже почитается в Священном писании.
Наконец после долгих дружеских пререканий мы останавливаемся на числе довольно-таки безличном, но удобном для нас обоих — пять.
— Вы только не забывайте, что в цифру пять входит и ключ, — спешу я предупредить собеседника.
— Ключ? Какой ключ? — удивляется мосье Арон и даже приподнимает очки, чтобы получше разглядеть меня и убедиться, что собеседника не хватил солнечный удар. Он так удивляется, как будто все это время мы толковали не о сооружениях с замками и ключами, а об охране окружающей среды.
— Ключ от сейфа, — наивно поясняю я.
Мосье Арон не склонен скрывать, что мои слова звучат действительно наивно, потому что к сейфу имеет отношение совсем другая фирма, где у него есть один знакомый, правда, человек исключительно трудный, и потом, дело это очень старое, и поиски дубликата будут сопряжены с немалыми трудностями, а раз так, то о пятерке не может быть и речи, и даже кабалистическое число семь довольно мизерно, так что нам следует прямо и решительно переходить к девятке.
Флора издали следит за нашим оживленным разговором, она уже сама не своя от этого оживления и от того, что мы, очевидно, буксуем на месте; при иных обстоятельствах я, наверное, пригласил бы ее к нам, чтобы старик мог увидеть ее поближе и размяк малость, но в данный момент я даже думать об этом не решаюсь: это означало бы впустить волка в кошару.
Наконец-то после долгого торга мы сошлись на компромиссном решении, которое, как и следовало ожидать, выражается именно семеркой — это еврейское число, после того как на него было израсходовано столько слюны, мы обнимаем с чувством облегчения.
Оказывается, вопреки невероятным трудностям, с которыми связаны поиски ключа, он может быть доставлен уже во второй половине дня, самое позднее — к шести часам вечера. Я даже подозреваю, что он и сейчас находится в одном из карманов гостя, и если мосье Арон не пожелал его вытащить, то лишь с единственной целью — вытрясти из меня дополнительно пару тысчонок.
— Достоинство тайника, — начинает наконец старик выкладывать свою информацию, — состоит в том, что он не фигурирует в первоначальном плане постройки и, следовательно, не может быть обнаружен при рассмотрении плана. Имейте в виду, господин, это железобетонный бункер, врытый глубоко в землю и непосредственно примыкающий к зданию. Этот бункер — плод горячего воображения бывшего владельца дома и стоил ему немалых денег. Хозяин, как видно, опасался, что даже нейтральная Швейцария может стать жертвой бомбардировок — сооружение относится именно к периоду войны. Несколько лет спустя новый владелец, мосье Гораноф, решает использовать убежище для других целей, и работа по его реконструкции была возложена на нашу фирму. Должен вам сказать без всякого пристрастия, выполнена она была поистине образцово, уж я в этом разбираюсь. Монолитная железобетонная стена между бункером и подвалом — поначалу непроницаемая — приобрела способность перемещаться по невидимым рельсам и приводиться в действие нажатием на кнопку. Вы скажете: а где же кнопка? Для кнопки тоже сумели найти кардинальное решение: она спрятана в одном из кранов парового отопления. Удалив ручку крана, нажимаешь на кнопку, покоящуюся внутри, и готово — тяжелая массивная стена, словно по мановению волшебной палочки, сдвигается в сторону, и перед тобой открывается внутреннее помещение бункера. Гениально, не правда ли?
— А сейф?
— О, сейф никакой загадки не представляет, если у тебя в кармане ключ. Но весь вопрос в том, как добраться до сейфа или, если угодно, как оградить его от посторонних. Именно этот вопрос наша фирма решила самым кардинальным образом!
Мосье Арон смотрит на меня с видом победителя, как будто все то, о чем он рассказал, — его личная заслуга. Потом его взгляд, скользнув через мое плечо, снижается, чтобы опуститься, вероятно, на объемистые бедра Флоры. Но очень скоро он опускается еще ниже, возвращается к нашему столу, мосье Арон даже очки спешно меняет, потому что, несмотря на близорукость, он видит какие-то оранжевые листочки, сложенные вдвое и каким-то таинственным образом оказавшиеся возле его руки. Мосье Арон не такой неопытный человек, чтобы считать их, хотя это не мешает ему тут же безошибочно определить:
— Думаю, здесь три пятьсот.
— Совершенно точно.
— Значит, вы должны восполнить недостающее, чтобы стало пять.
— Однако без ключа ваши сведения не стоят ломаного гроша.
— А чего стоил бы какой-то голый ключ без моих сведений? — И, заметив мое мучительное колебание, он вносит ясность: — Ключ при всех обстоятельствах ваш.
— Ладно, — вздыхаю я и достаю банкноты, которые приготовил заранее. Но, прежде чем сунуть их ему под руку, я требую: — Укажите точно место и время встречи.
— Удобнее всего у меня дома. В шесть.
— Раньше никак нельзя?
— Ну, на пятнадцать минут раньше. Дело в том, что в пять я ухожу с работы.
Я сую ему деньги и одновременно беру его визитную карточку с адресом. Опасаюсь только, что при всем моем старании сделать это незаметно мой жест не ускользнул от внимания Флоры.
— Итак, без пятнадцати шесть я у вас, — повторяю я во избежание возможных недоразумений. — И если в момент расставания вы услышите от меня что-нибудь еще, то имейте в виду, что это я так, для отвода глаз.
— Я кое-что понимаю в этих вещах, — с достоинством кивает мосье Арон.
Я расплачиваюсь, затем мы с гостем по старому мужскому обычаю заходим на минутку в туалет. Мне представляется удобный случай прочитать визитную карточку; запомнив адрес, я рву ее в клочки и спускаю воду. С такой женщиной никогда не знаешь, что тебя…
Когда мы выходим на улицу, дама, сидевшая за дальним столиком, по странному совпадению тоже выходит следом за нами, сопровождаемая двумя стариками британского вида. Ох эти старцы. И эта Сусанна.
— Итак, в пять часов перед «Контис», — доверительно, но вполне отчетливо произношу я.
— Да, перед «Контис»! — негромко отвечает мосье Арон, бросая в мою сторону заговорщический взгляд.
— Ты мне скажешь в конце концов, что это за тип? — нетерпеливо спрашивает Флора, как только мы трогаемся в сторону отеля.
— Не обременяй себя пустяками, — внушаю я ей. — Какая тебе разница, кто он, лишь бы дело шло на лад.
— В таком случае я пойду за ним и сама до всего докопаюсь. Он так пялил на меня глаза, что достаточно одного моего слова…
Не закончив, она круто поворачивает в обратную сторону, и я нисколько не сомневаюсь, что при ее нахальстве ей ничего не стоит увязаться за ним.
— Довольно ребячеств, — рычу я и хватаю ее за руку. — Ты же сама слышала — зовут его Арон, он служит в «Нидегер и Пробст».
— А зачем он тебе понадобился? — продолжает она расспрашивать, неохотно идя со мной.
— Чтобы заполучить ключ, понимаешь, ключом он должен меня снабдить! Теперь ты удовлетворена?
— А где замок? — настаивает на своем эта невозможная женщина.
— Выяснится после обеда. Необходимые сведения плюс ключ — в этом и состоит значение сделки.
— И все это время вы говорили только о ключе? — любопытствует Флора.
— Ключ стоит денег, милая. И немалых денег.
— Видела, как ты сунул что-то в его рукав. Не слепая.
Мы идем молча, потом она снова спрашивает.
— Но все же ты должен знать хотя бы приблизительно, где находится замок… В вилле Горанофа или еще где?
— Естественно, в вилле Горанофа.
— А зачем он заказывал это устройство аж в Лозанне?
— Затем, что, наверно, имел в виду людей вроде нас с тобой. И хотел всячески затруднить их задачу. Можешь мне поверить, я потратил немало времени, чтоб нащупать этого Арона.
Наконец мы возвращаемся в отель. Сняв пиджак, я вытягиваюсь на широченной супружеской кровати, просто так, чтобы немного расслабить мышцы, и на всякий случай незаметно сую под подушку маленький лечебный препарат. Флора тоже собирается малость отдохнуть и, чтобы не измять свое чудесное летнее платье, которое так подчеркивает ее могучие формы, предусмотрительно снимает его, стоя перед зеркалом.
— При виде этого прозрачного белья у меня создается впечатление, что ты собралась не в деловую поездку, а на стриптиз, — отваживаюсь заметить ей.
— Деловая женщина всегда должна быть готова к стриптизу, дорогой мой. Не исключено ведь, что он может оказаться и принудительным, — спокойно отвечает Флора.
— Принудительным? В твоем случае? Не смеши меня.
Не считая нужным отвечать мне, она продолжает вертеться перед зеркалом — вероятно, не столько осматривая себя, сколько давая мне возможность полюбоваться ею. Что я и делаю, чтобы не обидеть ее.
Затем она идет ко мне походкой соблазнительницы из старых фильмов, останавливается и говорит:
— Ты бы разделся, чтобы не измять брюки. Я подчиняюсь, и все с той же целью — чтобы ее не обидеть. Потом, как-то непроизвольно, создается ситуация, которую иные целомудренные авторы обозначают одним или несколькими рядами точек. И мы расслабляемся, чтоб чуток подремать, ведь до пяти еще далеко, да и «Контис» где-то совсем рядом. У меня, разумеется, нет ни малейшего намерения вздремнуть, и нервы мои слишком напряжены, так что я просто слежу, когда моя «супруга» заснет наконец, но она никак не засыпает, ворочается с боку на бок, и я с трепетом ожидаю, что в один прекрасный миг кровать под нами рухнет, сокрушенная беспокойной красавицей.
— Ты уже потратил на эту операцию столько денег, Пьер… — слышится сонный голос Флоры.
— Что верно, то верно, — бормочу в ответ.
— …И потерял столько времени…
— Что верно, то верно, — повторяю я.
— …с единственной целью — чтобы меня осчастливить, не правда ли, мой мальчик?
— Грубовато работаешь, милая. Ты прекрасно знаешь, это не единственная цель. Но я действительно смогу тебя осчастливить. И в силу простого обстоятельства.
— Какого именно? — спрашивает она, но сонливость ее уже рассеялась.
— Там, где находится то, что ты ищешь, лежит и нечто другое, интересующее меня. Предельно просто, верно?
— А что это такое — «нечто другое», Пьер?
— Бумаги, документы — словом, ерунда, не стоящая выеденного яйца.
— И ты готов пожертвовать брильянтами ради ерунды?
— Именно: готов. Как бы невероятно это тебе ни казалось. Неужто ты не допускаешь, что есть вещи важнее денег?
— Нет. Не могу я допустить подобной глупости, — сознается она. Но вот ее голос снова делается сонным: — Впрочем, все зависит от точки зрения. Ты, наверно, из тех, кто, уйдя с головой в политику, бросают бомбы и стреляются…
Чтобы она могла спокойно уснуть, я не отвечаю на ее слова и мысленно сосредоточиваюсь на том, что меня ждет. Попросту совещаюсь сам с собой, чтобы стала ясней перспектива. Не знаю, как долго длится совещание, но у меня такое чувство, что Флора уже совсем притихла, и я осторожно просовываю руку под подушку, чтобы добраться до лечебного препарата. Должно быть, ампулка закатилась слишком далеко, раз я не могу нашарить ее рукой. И когда мне кажется, что она уже где-то совсем рядом, надо мной неожиданно нависают пышные груди Флоры.
— Ты спишь, мой мальчик?
Эти слова и эти груди — последнее, что я слышал и видел, прежде чем погрузиться в неясный и странный наркотический сон.
Просыпаюсь я с острой головной болью и отвратительной горечью во рту. Однако мне не сразу удается сообразить, что я проснулся, потому что в голове все еще витают бессвязные образы, и я даже не в состоянии понять, как и почему я оказался в этой незнакомой квартире. Потом наконец я догадываюсь, что это, должно быть, отель «Терминюс», и я вижу над своим лицом покачивающиеся пышные груди Флоры и слышу ее заботливый голос: «Ты спишь, мой мальчик?»
Усыпила меня моим же собственным снадобьем, кобра этакая. Заметила в зеркале, как я прячу ампулку, и, пока я раздевался, метнула ее под свою подушку.
Еще не до конца разобравшись, что и как было, я вскакиваю с постели. Вскакиваю, чтобы снова свалиться: жутко кружится голова, тошнит. Только сейчас не время падать в обморок. Снова пытаюсь встать, на сей раз медленно и осторожно. Смотрю на часы, оставленные на столе: семь минут шестого. Слава богу. Неуверенными шагами иду в ванную и становлюсь под душ.
Немного погодя я уже чувствую, что воскресение наступило. Я мигом одеваюсь, и мне удается установить по некоторым пустяковым признакам: мои карманы тщательно обшарены. Никакой пропажи не обнаруживаю но карманы обшарены. Видимо, искала визитную карточку мосье Арона.
Я выхожу из отеля и иду по адресу, отпечатавшемуся в моей памяти. Хорошо по крайней мере, что эти наркотики не вытравляют то, что запечатлелось в мозгу, напротив — одним неприятным воспоминанием становится больше.
Кривая улочка, ведущая в верхние кварталы города, кажется безобразно крутой, но, хотя без пятнадцати шесть еще далеко не наступило, я набираю предельную скорость, потому что при создавшейся ситуации с такой женщиной, как Флора, нельзя быть уверенным ни в чем.
— Вы чуть поторопились. Я только что с работы, — с ноткой усталости замечает мосье Арон, открывая дверь своей скромной квартиры.
Как известно, при деловых встречах слишком ранний приход такое же выражение неучтивости, как опоздание. Правда, в данный момент меня заботит не столько учтивость, сколько ключ.
— Надеюсь, он у вас? — спрашиваю я, ощущая, как в груди шалит усталое сердце.
Вместо ответа хозяин вытаскивает из жилетного кармана упомянутый предмет, с виду довольно солидный и весьма сложной конфигурации.
— Надеюсь, это тот самый? — снова спрашиваю я, протягивая руку.
Мосье Арон деликатным жестом отстраняет ее и говорит с достоинством:
— Не забывайте, господин, что я принадлежу к старому поколению.
Хорошо, если обычаи старого поколения оказали тут свое влияние. В подобных сделках, при всех и всяких предосторожностях, иной раз приходится действовать вслепую.
— Если я не ошибаюсь, между полученной суммой и магическим числом существует некоторый разрыв, и его полагается заполнить, — намекает мне хозяин, продолжая держать ключ на почтительном расстоянии от моей нетерпеливой руки.
Флора запросто могла устроить мне наиподлейшую пакость, вытащив из кармана деньги. И тогда этот расчетливый человек ни за что на свете не расстался бы со своим ключом. Но ей это не пришло в голову, да и не могла она решиться на такой шаг.
Выложив банкноты, чтоб заполнить существующий разрыв, я беру взамен секретный инструмент и, пожелав мосье Арону доброго здоровья и спокойной старости, ухожу.
Без восьми шесть.
Хотя еще только без восьми шесть, на улице уже остановился черный «опель» Флоры, и она вот-вот вылупится из его черной скорлупы.
— Зря выходишь, милая, — предупреждаю ее. — Поедем дальше.
— А, ты здесь, мой мальчик… — приветливо, насколько ей это удается, роняет она и возвращается на место. — Никак не могла предположить, что ты так скоро проснешься. Так сладко уснул.
— Первым делом давай в отель, надо расплатиться, — велю я, усаживаясь в машину.
— Нельзя ли несколько другим тоном? Ты ведь знаешь, я терпеть не могу, когда мною командуют.
— Я бы тебе еще не так и не то сказал, дорогая. Но пользуйся моим великодушием.
— Великодушием? Ха-ха… — Ее резкий хрипловатый смех звучит недолго. — Ты, возможно, не догадываешься, что тебе досталась та самая доза, которую ты приготовил для меня. А помнишь, как однажды ты меня вынудил принять подобную пакость?..
— Не знаю, о чем ты говоришь.
— Бедняжка!.. Такое унижение пришлось вынести и такую боль в голове…
— Понятия не имею, о чем речь.
Однако Флора не склонна продолжать объяснения и включает скорость.
Остановившись возле отеля и оплатив номер, мы едем в Берн. Знакомый и не слишком экзотичный пейзаж. Теперь, когда напряжение миновало, снова разбаливается голова. Так что я молчу и даже пытаюсь немного подремать, хотя попробуй подремать, сидя рядом с такой женщиной.
— Здорово же ты меня подсидел с этими пятью часами и «Контисом»… — слышится ее голос. Поскольку я молчу, она не унимается: — Наверное, ты и сейчас не представляешь, о чем идет речь?
— Очень смутно, — признаюсь я. — От двойной дозы я совсем выбился из колеи.
— До такой степени, что оставил меня в дураках. Почему мне раньше не пришло в голову узнать его адрес в «Нидегер и Пробст»? Показала бы тебе заднее место…
— Было бы на что посмотреть, — бормочу в ответ. — Хоть ты и кичишься своим интеллектом, должен заметить, это место у тебя куда более развито, нежели мозг.
— Сообрази я хоть немного раньше… — продолжает сетовать Флора, не слушая меня.
— И чего бы ты добилась? Выбросила бы две тысчонки — все Твои женские прелести не заменят мосье Арону эту сумму, — выбросила бы две тысчонки за ключ, который тебе совершенно ни к чему. Я полагал, ты чуточку умней, но, выходит, ошибся.
— Напрасно ты так думаешь. Будь в моих руках ключ, я бы сама могла вести игру! — возражает она. — Мой ключ, твой замок, но я бы сама стала вертеть делами.
— Тебе никогда не придется вести игру, дорогая. Это не бридж и не торговля трубками. И хотя ты не любишь, чтобы тобой командовали, в твоих интересах не лезть на рожон, а слушаться меня, если ты действительно намерена добраться до брильянтов.
Несмотря на одолевающую меня дремоту, мой голос звучит довольно внушительно, и спутница какое-то время размышляет над только что сказанным.
— Хорошо, Пьер, но имей в виду: если ты дерзнешь поставить мне подножку у финиша, я тебя убью!
— Нечего меня пугать, — с трудом бормочу я, так как меня окончательно разморило. — Я же знаю, что ты этого не сделаешь. Ты питаешь ко мне слабость.
— В самом деле, едва ли я отважусь на такое, — признается она. — Нет, у твоей Флоры не хватит сил тебя убить… — И, чтобы окончательно успокоить меня, добавляет: — Бруннер тебя убьет.
10
Флора высадила меня у кафе близ Ост-ринга и дальше поехала одна. В смысле конспирации наше расставание не имеет особого значения, но сейчас мне не хватает только скандала Розмари.
Не столько отдохнув, сколько одурев от дорожной дремоты, я иду к вилле, но при первом же повороте вижу зеленый «бьюик» американца, стоящий у аллеи.
— Прямо здесь вас пристукнуть, Лоран, или для вас предпочтительней, чтобы казнь была совершена в более укромном месте? — любезно спрашивает Ральф, высовывая голову наружу.
Безвкусная идея относительно того, чтоб меня пристукнуть, похоже, становится все более популярной.
— Не забывайте, между нами существует соглашение, — напоминаю я.
— Только вы нарушили его.
— Вы плохо информированы. Я просто съездил с Розмари к ее Граберу…
— Знаю.
— И пока я ждал ее внизу, в холле, на меня вдруг налетела Флора. Налетела, словно тайфун, и унесла меня…
— И в течение всего дня швыряла вас туда-сюда, словно беспомощный лист, сорванный с дерева…
— Ну, не совсем беспомощный. Мне кажется, я кое-что сумел сделать. А что касается Флоры, то это правда, в течение всего дня так и не смог от нее избавиться.
— И это мне известно, — кивает Бэнтон. — Я видел, как вы вылезали из ее машины. Что же вам удалось сделать?
— Прямо здесь, посреди дороги, будем продолжать разговор? — спрашиваю я с нескрываемым упреком, не мысля дальнейшего существования без чашки кофе.
Американец вылезает из «бьюика», и мы идем в ближайшее кафе, гордость этого района. Здесь и в самом деле очень уютно, но мы располагаемся снаружи, на террасе, откуда можно наблюдать шумный бульвар с идущими от центра и уходящими обратно трамваями, а повыше — зеленые холмы, на которых ютятся виллы.
— Пожалуй, уже этой ночью мы сможем закончить операцию и поставить точку на нашей сделке, — говорю я, допивая вторую чашку кофе.
— Как понять это ваше «пожалуй»? — поднимает Ральф свои меланхоличные глаза.
— Я хочу сказать, если эти женщины не будут чудить.
— Зависит от нас. Если мы им не позволим чудить, они не будут. Скажите сперва, что вы намерены делать. А уж потом будем составлять план.
— А по-моему, будет лучше, если мы составим партию в бридж, — как бы в шутку говорю я. И в общих чертах излагаю свой проект. Ральф молча слушает, должно быть, лихорадочно соображает, не таится ли в этом проекте какое-нибудь местечко, на котором он может поскользнуться. Потом заявляет:
— Я согласен. И нечего зря время терять. Через полчаса приходите вы с Розмари, а о Флоре я сам позабочусь.
— Наконец-то! — восклицает моя квартирантка, когда я вхожу в наш холл с обоями, успокаивающими нервы.
— Вам бы не мешало приготовиться, милая. Через полчаса нас ждет Бэнтон.
— Зачем? Чтобы нас ликвидировать?
— Пока что в программе отсутствует такой пункт. Скорее всего, нас ждет обычный бридж.
Розмари встает со своего любимого места на диване, где весь вечер, наверное, сходила с ума, но, прежде чем отправиться в спальню, все же спрашивает:
— А вы справились со своим делом?
— Думаю, что да. Хотя и не совсем.
— Почему не совсем?
— Потому что столкнулся с Флорой.
— Столкновение произошло случайно или по предварительной договоренности? — мерит меня взглядом Розмари.
— Ни то ни другое: она выслеживала нас, значит — не случайно. Но мы с нею об этом не договаривались, как вы себе вообразили с вашей невероятной мнительностью.
— Эта женщина просто бесит меня своим нахальством!
— Ревнуйте, — подогреваю я ее. — Мне это доставляет удовольствие.
— Ревновать?.. Единственное, чего я боюсь, — это как бы она в последний момент не увела брильянты.
— Едва ли это возможно. Конечно, я не пророк, но едва ли. Мне кажется, шансы преимущественно на вашей стороне.
— Шансы — это одно, а конечный результат — другое. Вы знаете, что у меня вся надежда на вас.
— Знаю, знаю. Но вы все же поторапливайтесь. И когда она приступает за дверью к сложной процедуре одевания, я спрашиваю:
— А как там ваша подруга Виолета?
— Нет ее. Исчезла, — слышится из соседней комнаты голос Розмари.
— То есть как исчезла?
— Да вот, когда я к трем часам вернулась домой, схожу-ка, думаю, проведаю ее, хотя она того не стоит. Оказывается, ее нет. Соседи говорят, будто она еще рано утром укатила куда-то на своем «рено».
Иду на кухню и выглядываю в окно. В соседней вилле темно. Обстоятельство, не предусмотренное в моем плане. Будем надеяться, что это несущественно.
Полчаса спустя Тим или Том вводит нас в покои американца. Хотя одного из них я не так давно дубасил, но по-прежнему не могу их различить. В холле вместе с хозяином нас встречает и Флора.
— О дорогая, это прелестное платьице делает вас совсем эфирной, — восклицает она при виде Розмари.
Что на их змеином языке означает «драной кошкой».
— А ваш строгий костюм удивительно подчеркивает достоинства вашей фигуры.
Что на том же змеином языке означает «вашу непомерную тучность».
Делая вид, что не слышит, Флора обращается ко мне:
— Пьер, мой мальчик, я вас так давно не видела…
«Целый час», — мысленно отвечаю я.
— Пожалуй, нам не стоит терять время, — произносит Ральф и, покинув кресло, направляется к уже приготовленному игральному столу.
Мы следуем его примеру; игра сразу входит в привычный спокойный ритм и развивается в традиционном направлении — я проигрываю. Но и американец тоже проигрывает — быть может, в силу того, что голова его слишком занята другими мыслями, а может, просто потому, что он подыгрывает мне, сидя напротив меня.
— Ничего, зато нам в любви повезет, — успокаивает он себя со свойственным ему остроумием патриархальных времен, отчего на лицах у обеих дам одновременно появляются иронические полуусмешки.
В это время входит Тим или Том и докладывает, что кто-то спрашивает по телефону мосье Лорана.
— Кто это может быть? — Я стараюсь придать себе озадаченный вид, поскольку неожиданный звонок предусмотрен моим планом.
— В самом деле, кто бы это мог быть? — явно тревожится Ральф, бросив в мою сторону подозрительный взгляд.
Встав из-за стола, я иду по коридору к двери кабинета и слышу позади ожидаемую реплику американца:
— Минуточку, я сейчас!..
Американец должен выступать в роли человека, терзаемого недоверием.
Итак, забыв о телефоне, мы выходим через заднюю дверь на улицу и торопимся к стоящей в отдалении машине Бэнтона. Садимся рядом, за рулем Ральф, он трогается, стараясь особенно не газовать. Тиму или Тому поручено некоторое время спустя сказать дамам, что меня спешно вызвал какой-то мосье Бенато и что хозяин, со свойственной ему мнительностью, решил сопроводить меня.
Отныне ситуацию в вилле Бэнтона целиком будут определять дамы. Пока у них не иссякнет терпение ждать, им будет казаться, что они в гостях, но, как только захотят уйти, им станет ясно, что они пленницы. Как мне доказывал Бэнтон, Том или Тим при всей их хрупкости не такие уж беспомощные.
— Виолета исчезла еще с утра, — сообщаю я, когда мы проезжаем мимо виллы Горанова.
— Какое это имеет значение?
— Никакого, если она при своей наивности не встрянет…
— Если встрянет, шуганем, — небрежно роняет Бэнтон.
Выезжаем на шоссе, идущее к Лозанне, и стремительно мчим в унылом свете люминесцента, от которого человека охватывает мировая скорбь. И молчим, потому что все, что мы могли сказать друг другу, уже сказано. Движение в эту пору небольшое, и светлая лента шоссе стремительно летит навстречу между плотными стенами мрака. В какой-то момент позади «бьюика», на почтительном расстоянии, обнаруживаются мощные фары, и это дает мне повод нарушить тишину:
— Надеюсь, за нами не тащится хвостом ваш сегодняшний «ситроен» или что-нибудь другое в этом роде?..
— Я же вас заверил, что ничего такого не будет, — сухо возражает Бэнтон.
— Потому что стоит только вмешаться кому-то постороннему, и вся операция полетит к чертям.
— Вы начинаете повторяться, дорогой, — замечает американец. Но и он тоже повторяется, спрашивая недоверчиво: — А где гарантия, что вы не завлечете меня в ловушку?
— Не становитесь смешным. Какая ловушка? Здесь, в этой стране, скорее я в ваших руках, чем вы в моих.
Фары позади постепенно к нам приближаются, и наконец машина выходит вперед. Неизвестный нам «мерседес» с неизвестной женщиной за рулем. Женщина пожилая, не то что «наши». Видимо, Ральф сознательно сбавил скорость, чтобы пропустить эту машину.
— Вы мне так и не сказали, до какого места мы едем, — подает голос американец спустя какое-то время.
— Вам это ни к чему. Иначе у вас мог бы появиться соблазн направить туда кого-нибудь из своих людей и этим все испортить.
— Мне в голову не приходила подобная мысль, — врет он самым беззастенчивым образом. — Я не настолько беззащитен, чтобы нуждаться в охране.
— Верю. Но если бы и не верил, ваш оттопырившийся справа пиджак запросто убедил бы меня, что я не прав. Впрочем, вы, по-моему, совершенно напрасно обременили себя этим утюгом.
— Возможно, — отвечает Ральф. — В сущности, моя работа — проверять бумаги и считать банкноты, а не стрелять.
— Очевидно, вы говорите лишь о своей воображаемой работе в банке?
— В банке, в другом ли месте, но моя работа сугубо канцелярская. Однако, прежде чем стать канцеляристом, я испробовал и многое другое. Так что не путайте меня с Кенигом: вы рискуете ошибиться.
— Мне в голову не приходила подобная мысль, — уверяю его в свою очередь. — Напротив, я рассчитываю на ваш профессионализм. Потому что, если вы профессионал, едва ли вы станете делать глупости, на которые способен иной любитель, — глупости, которые могут все испортить.
Конечно, я далек от того, чтобы слепо доверяться американцу. Мне даже думается, что «бьюик» оснащен микроаппаратурой, посылающей в эфир свои «пиу-пиу» и направляющей на расстоянии вслед за нами какой-нибудь «ситроен». И ничего удивительного, если те, в «ситроене», поддерживают связь с оставшимися в вилле — к примеру, с Тимом или Томом, готовыми при необходимости подослать подкрепление. Но если верить в искренность Ральфа нельзя, то сомневаться в его корыстолюбии не приходится. А это значит, что по крайней мере в момент совершения сделки у нас не должно быть свидетелей. Чтобы все получилось как надо, у начальства Бэнтона не должно возникать никаких сомнений.
Начиная с этого момента, риск, конечно, возрастает. Бэнтону ничего не стоит отпустить меня на все четыре стороны: я исчезаю с документами, не имеющими особого значения, и оставляю его в покое. Но на такое великодушие с его стороны рассчитывать не приходится. Трудно себе представить и другое — что у него хватит глупости передать меня в руки своего начальства. Он просто-напросто ликвидирует меня, чтобы раз и навсегда избавиться от свидетеля.
— Так в котором часу ваши люди должны вступить в действие? — спрашиваю, лишь бы не молчать.
— Вы становитесь просто невыносимым, Лоран, — тихо отвечает Бэнтон.
— Я ведь говорил: в считанные секунды тайник нам не открыть. И нам с вами будет одинаково неудобно, если ваши люди раньше времени начнут совать нос…
— Вы становитесь просто невыносимым, — повторяет американец. — Можете быть уверены, никто не станет совать свой нос, и никто не сможет нам помешать.
Остальную часть пути едем молча. Только при въезде в Лозанну Ральф спрашивает:
— Теперь куда?
— К вокзалу.
— Если вы сразу назовете адрес, мне будет легче ориентироваться.
— Я не могу назвать вам то, чего сам не знаю. У меня есть только зрительные представления, где это может быть.
В действительности все наоборот: у меня нет никаких зрительных представлений, но я довольно точно ориентировал себя по карте. У вокзала я говорю ему:
— Сворачивайте вниз, проезжайте под мостом, затем опять вправо.
И лишь после правого поворота я даю следующее указание, потом — следующее. И так далее. Я сознательно усложняю маршрут, даже рискуя заблудиться. Наконец «бьюик» втискивается в узкий проход между каким-то высоким зданием и каменной оградой.
— Это здесь? — подозрительно спрашивает Ральф.
— В двух шагах отсюда, — успокаиваю я его. Дальше мы идем пешком, и мои «два шага» несколько растянулись.
— Вы меня разыгрываете, дорогой, — не выдерживает Ральф.
— Какой мне резон вас разыгрывать? Хотя я тоже имею право на какие-то предохранительные меры. Кому охота умирать в мои годы?
Наконец подходим к небольшой массивной постройке, не очень выделяющейся среди деревьев, на пологом склоне, спускающемся к озеру.
— Вот здесь, — сообщаю я.
— Вы и в самом деле разыграли меня. На машине мы могли подъехать в считанные секунды.
— Обойдем здание с этой стороны, — предлагаю я, не слушая его.
Оказывается, помещение у входа освещено.
— Видали? — удивляется Бэнтон, глядя на светящиеся окна.
— Говорил же я, что Виолета способна выкинуть какой-нибудь фортель!
— Тем хуже для нее, — бросает мой спутник и направляется к двери.
— Постойте, так не годится, — останавливаю я его. — Уж не собираетесь ли вы с нею разделаться?
— Зачем? Скрутим ее, сунем что-нибудь в рот.
— Оставьте ваши бандитские приемы. Я сам все сделаю. Прибегнуть к сильным средствам никогда не поздно.
— Ладно, Лоран, действуйте, — неохотно уступает Ральф.
Я жму на кнопку звонка достаточно сильно, чтобы разбудить хозяйку, если она уснула. Немного погодя изнутри доносится голос Виолеты, слишком слабый, чтобы можно было что-то понять. Надавливаю на ручку, дверь открывается. Справа в коридоре вторая дверь, ведущая в освещенное помещение, гостеприимно распахнута, и мы входим в комнату.
Виолета лежит на диване под пестрым одеялом, она встречает нас анемичной улыбкой:
— А, мосье Лоран!
Затем ее взгляд останавливается на американце, и улыбка сменяется недоумением.
— Наш сосед, господин Бэнтон, — спешу его представить. — Он меня привез на своей машине. — И добавляю: — Вы нас напугали, Виолета. Мы уже кинулись вас разыскивать в полицейских участках. Раздобыли ваш здешний адрес. Подумали было, что с вами бог знает что случилось…
— Случилось, — кивает девушка. Она резким движением отбрасывает одеяло, и мы видим, что ее нога в гипсе.
— Что произошло?.. Как?.. — изумляюсь я. Она смотрит на меня страдальческим взглядом и, не обращая внимания на Ральфа, начинает устало объяснять:
— Сегодня утром меня чуть было не раздавили в моей собственной машине. И столкновение было не случайным. Я на все махнула рукой, только бы меня оставили в покое.
— Кто именно?
— Не знаю… Все…
— И вы здесь лежите в полном одиночестве? — пробую переменить тему после неловкого молчания.
— Вовсе нет. Обо мне заботится моя подруга, я говорила вам о ней. Она живет рядом. — Тут Виолета вспоминает об обязанностях хозяйки: — Садитесь! Я не в состоянии вас угостить, но вы можете сами за собой поухаживать. Бутылки в гостиной…
— Не беспокойтесь, — говорю я, садясь. Ральф продолжает стоять у двери, чтобы пощадить свой костюм хоть после того, как столько времени мял его в машине. Он многозначительно посматривает в мою сторону — мол, до каких пор будем терять время. Я и сам не склонен медлить: каждая потерянная минута приближает момент вероятного вторжения сюда людей Бэнтона — им придется основательно попотеть, пока они отыщут это место, но в конце концов они его все же найдут.
— Господин Бэнтон прослышал, что вы собираетесь продать эту виллу и оставить себе ту, что в Берне, — пробую я закинуть удочку.
— Возможно… — невнятно отвечает Виолета. — Я еще окончательно не решила, но может быть…
— Он привез меня, чтобы, воспользовавшись случаем, хотя бы бегло осмотреть дом. Ведь мы не предполагали, что застанем вас в таком состоянии.
— Да бог с вами… — роняет хозяйка. — Я, как видите, еще не на смертном одре. И если у господина Бэнтона есть желание… Жаль, что я не могу его сопровождать.
— Не беспокойтесь, мадемуазель, — нарушает молчание Бэнтон. — Нам хотелось бы получить какое-то представление… Я не хотел бы вам досаждать.
— Чем вы мне досаждаете? Боюсь только, комнаты далеко не в образцовом состоянии, но если вы хотите бегло осмотреть…
Мы выходим в коридор, минуем две другие комнаты и попадаем в служебное помещение. Дверь в подвал открыта, и мы обнаруживаем идущую вниз бетонную лестницу. Я нащупываю выключатель. Хорошо, если там есть свет. В этих старых подвалах не всегда догадываются ввернуть лампочку. К счастью, тут все нормально. Спустившись вниз, мы оказываемся в просторном бетонном помещении, совершенно пустом, если не считать отопительного устройства в одном углу. Интересующая нас стена, вероятно, напротив. Гладкая железобетонная стена, на которой сохранились следы опалубки — никаких тебе ниш, только в одном нижнем углу сквозь узкое отверстие пропущены две трубы, снабженные кранами.
Отвинтив круглую ручку одного из кранов, я сую в образовавшееся отверстие авторучку. Ничего. Отвинчиваю другую и повторяю операцию. Раздается слабый щелчок, и бетонная стена медленно и бесшумно отодвигается в сторону, открывая вход в бункер.
Мы входим. Ральф нащупывает выключатель, и помещение заполняется тусклым красноватым светом — чересчур слабая лампочка. Свет хотя и тусклый, но его вполне достаточно, чтобы в глубине бункера разглядеть внушительную стальную дверь сейфа, встроенного в стену.
Я с интересом наблюдаю краешком глаза за поведением американца. Характер тут сказывается или выучка, но лицо его сохраняет совершенно спокойное выражение.
— Давайте ключ, Лоран.
— Сперва негативы, Бэнтон.
Он запускает в карман руку, достает миниатюрную кассетку и подает мне.
— Надеюсь, здесь засняты не старые газеты…
— Можете проверить.
Я проверяю с помощью увеличительного устройства, потом прячу негативы и достаю ключ.
— Вместе с копиями, — напоминает Бэнтон. Передаю и копии.
Американец идет в глубь бункера и, заметив, что я следую за ним по пятам, предупреждает:
— Смотреть можете, но руками не трогать. Сунув ключ в замок, он дважды поворачивает его и без особых затруднений открывает тяжелую дверь. Внутренность сейфа достаточно освещена, чтобы мы могли увидеть стоящие там два небольших чемоданчика. На каждой полке по чемоданчику, и ничего больше.
В этот момент я слышу какое-то едва уловимое щелканье позади нас. Оборачиваюсь и глазам своим не верю: бетонная стена медленно возвращается на исходную позицию, и мы оказываемся заживо погребенными. Перед тем как ей окончательно закрыться, я вижу в просвете худенькую фигуру беспомощной Виолеты, прочно стоящей на обеих ногах, без малейших следов гипсовой повязки. Взгляд американца тоже обращен в ту сторону. У нас на глазах бетонный бункер неожиданно превратился в нашу гробницу.
Я приближаюсь к злополучной стене. Не затем, конечно, чтобы отодвинуть ее руками, а в надежде найти какой-нибудь рычаг, который, возможно, позволил бы изнутри привести ее в действие. Увы, ничего подобного я не нахожу. Манипулировать можно лишь с внешней стороны.
— Это вы виноваты, Лоран, — бормочет американец, бессильно прислонясь к стене и не считаясь с тем, что она вся покрыта толстым слоем пыли. — Если бы мы связали ее покрепче и сунули в ее лживый рот какую-нибудь тряпку, мы бы теперь не знали забот.
Он замолкает, сознавая всю бессмысленность своих упреков, и теперь уже без всякого желания снова возвращается к стальной кассе.
— Давайте хоть посмотрим, что там в них. Тем более что времени у нас много. Вполне достаточно. Пока не кончится кислород и пока мы не подохнем тут от удушья.
Ральф вытаскивает один из чемоданчиков, ставит на бетонный пол и открывает. Я не приближаюсь, поскольку и отсюда нетрудно разглядеть содержимое: разные изделия из золота, золотые украшения, монеты — словом, вещи, какие каждый обыватель обычно хранит в самом укромном месте, только тут их много, очень много.
Наскоро порывшись в этой сокровищнице, американец приходит к заключению:
— Брильянтов нет…
— Неужто вам этого мало?
— В данный момент в создавшейся ситуации этого мне больше чем достаточно, — отвечает Ральф. — Но брильянтов нет…
Он небрежно отодвигает ногой чемоданчик и вытаскивает другой. Та же картина: безделушки из желтого металла, от которого так мало проку, но который люди привыкли считать таким драгоценным. Плюс несколько дорогих украшений в бархатных и кожаных коробочках. Но в одной из них не просто украшения.
— Брильянты!..
Голос американца полон меланхолии — мне кажется, он предпочел бы вовсе не находить их. Потому что теперь, когда он их нашел, ловушка, в которой мы оказались, вероятно, представляется ему еще более чудовищной и зловещей.
Я подхожу ближе: надо бы и мне взглянуть на эти пресловутые брильянты. Тем более что, как говорит Ральф, времени у нас много. Более чем достаточно.
Камни лежат на темном бархате и, хотя освещение плохое, при малейшем движении искрятся всеми цветами радуги.
— Они и в самом деле исключительные, — констатирует Бэнтон.
Закрыв коробочку, он порывается сунуть ее в карман, обнаруживая этим жестом древний рефлекс собственника. Но потом все же небрежно бросает ее обратно в чемоданчик.
— Как, по-вашему, какой толщины может быть этот бетон? — спрашивает он, осматривая стены.
— Не менее одного метра. А потолок наверняка около двух. Передвижная стена, конечно, намного тоньше — какие-то полметра, сущий пустяк.
— Словом, ори, пока не лопнешь, и никто тебя не услышит, — обобщает Ральф.
— А кто бы обратил внимание на ваш ор? Милосердная Виолета, запершая нас, чтобы мы тут сгнили и чтобы потом свободно распорядиться наследством? Или ваши люди, которые — прошу прощения, Бэнтон, — до такой степени глупы, что, увидев пустой подвал, тут же уедут, довольные своей наблюдательностью.
— Оставим это. Скажите лучше, на сколько времени нам хватит воздуха?
Он снова осматривает оценивающим взглядом помещение. Бункер напоминает комнату размером примерно четыре на четыре. Для убежища вполне достаточно, но если судить о нем как о резервуаре воздуха, то это, конечно, мизер. Во-первых, высота потолка — метра два, не более. Во-вторых, это помещение, вероятно, очень давно не открывалось, воздух застоялся, и если в нем все же есть немного кислорода, то лишь благодаря тому, что непродолжительное время стена была отодвинута. Если кислород и проник сюда, то в плачевно малой дозе.
— Проблемы удушья меня никогда не занимали, — признаюсь я. — Но, учитывая жалкую кубатуру этой дыры и тот факт, что в воздухе и сейчас кислород почти отсутствует, нетрудно предсказать, что уже через несколько часов мы будем дышать окисью углерода собственного производства. Так что и за остальным дело не станет.
Ральф стоит, опершись спиной о стену, больше не заботясь о том, что испачкает костюм, и вдруг начинает медленно сползать на пол. Первое время мне кажется, что он поддался малодушию. По крайней мере до тех пор, пока я не услышал его смех. Совсем негромкий и невеселый смех, но от этого смеха у него трясутся плечи, и сдержать его он не в состоянии. Наконец взрывы мрачного веселья становятся все более редкими и к Ральфу возвращается дар речи:
— Ха-ха… Вы только подумайте, Лоран… Я побывал в Гвинее и Гватемале, в Панаме и Конго. Я побывал там, где стреляют из-за угла, убивают не моргнув глазом… Верно, стрельба — не моя стихия, я уже говорил… Моя специальность — проверять и оплачивать счета, но я столько раз рисковал собственной шкурой и был на волосок от смерти… и всякий раз мне удавалось уцелеть. Да, после всех испытаний я уцелел, чтобы оказаться здесь, в этом городе… Ха-ха… чтобы какая-то дурочка, жалкая гимназистка из числа этих, недоразвитых, ха-ха, порешила меня…
Он замолкает, словно его вконец истощил приступ странного веселья, от которого мурашки бегут по коже, и постепенно к нему возвращается привычная флегматичность.
— Все же не так уж плохо умереть в двух шагах от этих брильянтов, — бросаю я.
— Брильянты исключительные!.. — машинально произносит Бэнтон.
— Чистый углерод, — добавляю я.
— Мы с вами тоже не что иное, как набор химических элементов, — замечает американец. — Все зависит в конечном счете от структуры и соотношения.
— Чистый углевод, — повторяю.
— Пусть будет так. Но за этим углеродом скрываются горы долларов.
— А как бы вы их использовали?
— Откуда я знаю? Как-нибудь использовал бы, будь у меня возможность унести ноги и скрыться в неизвестном направлении. Но я профессионал и прекрасно понимаю, что это невозможно, а если бы даже оказалось возможным, то пришлось бы до конца своих дней жить в непрестанном страхе — нет, помилуй бог. Такова система, Лоран. Однажды попав в нее, выйти не пытайся.
— Тогда зачем они вам, эти камни?
— Просто так: поместить в сейф в каком-нибудь банке. Все-таки какая-то гарантия…
— Гарантия чего?
— Да отстаньте вы с вашими вопросами, — бормочет Ральф. — Надоели вы мне.
— Надо же находить способ убить время, Бэнтон. Если мы сможем убить время, все окажется легче…
— Я не против. Убивайте. Только не так. Не этими идиотскими вопросами. Попробуйте ходить на руках. Или свистеть — меня это будет меньше нервировать. Или спойте что-нибудь…
— А ведь иные в этот час поют… И играют… Оркестр в «Мокамбо» еще не выбился из сил…
— Да, играют, и поют, и наливаются шампанским, распутничают, занимаются групповым сексом, обжираются мясом, заливая его бургундским. Треплются о том, где лучше провести отпуск, на Багамских островах или на Бермудах… — неторопливо излагает он, как бы припоминая, чем еще могут заниматься люди. — А вот грязную работу предоставляют Бэнтону и ему подобным, и то, что Бэнтона этой ночью заметут либо он сам задохнется в каком-то подвале в собственных испарениях… никакого значения не имеет, это заранее предусмотрено, как неизбежная утруска, словом, это в порядке вещей, об этом даже не принято думать…
Он замолкает, словно желая перевести дух, и я тоже пытаюсь перевести дух — мне не хватает воздуха, или я воображаю, что не хватает. Я чувствую, как в голове снова начинается та отвратительная боль, с которой я проснулся под вечер в отеле «Терминюс».
Под вечер в отеле «Терминюс» — сейчас все это мне кажется чем-то очень далеким, почти забытым, чем-то из Ветхого завета… И Флора, и мосье Арон…
Проходит время. Может, час, а может, больше. Не желаю смотреть на часы. К чему на них смотреть, когда знаешь, что тебе больше нечего ждать, кроме… И мы молчим, каждый расслабился, каждый занят своими мыслями или пытается прогнать их.
— Вот почему мне бы хотелось унести ноги и исчезнуть, если бы мог, — слышится снова тихий голос Ральфа, совсем тихий, потому что Ральф, в сущности, говорит сам себе, а не мне. — Это было бы наиболее логичным. Меня ведь всю жизнь этому учили, это было стимулом: преуспевать, двигаться вперед. Ради чего? Чтобы иметь большее жалованье, больше денег. А раз так, раз ты нащупал наконец эти деньги, целые горы денег, почему не набить ими до отказа мешок и не податься куда заблагорассудится…
— И все-таки вы бы этого не сделали, — встреваю я совершенно машинально, так как мне уже не хочется разговаривать, не хочется ничего.
— Ну конечно, потому что существует и другое: воспитание, дрессировка. Мне все время внушали, что наша разведка — это величайшее установление, вам тоже, наверно, говорили что-нибудь в этом роде. Мне доказывали, что деньги — великое благо, и я поверил. Вам говорили, что брильянты — это всего лишь чистый углерод, и вы поверили. С чего же вы взяли, что вы выше меня, если вы такая же обезьяна, как и я?
— Однако совсем не безразлично, во что человек поверил, — возражаю я равнодушно.
— Абсолютно безразлично… Все — чистейшая ложь. Или, если угодно, удобная ложь. А что из того, что одна из них поменьше, а другая побольше? Я — один. Так же как и вы. Каждый из нас сам по себе… Каждый из нас, жалкий идиот, поверил, что это не так, ему это вдолбили с корыстной целью…
Он прекращает рассуждения, а может, продолжает, но только про себя, для него это все равно, поскольку — хотя и упоминает мое имя — обращается он все время к себе. Если бы он провел день, как я, с мучительной головной болью, если бы какая-нибудь Флора раздавила ему в рот ампулку жидкого газа, у него наверняка пропало бы желание рассуждать, как оно пропало у меня, и единственное, что я стараюсь сейчас делать, — это не думать о том, что мне уже не хватает воздуха; от такого ощущения немудрено, если начнешь царапать ногтями стену, царапать себе грудь и вообще царапаться.
— И все из-за женщин… — слышу после продолжительного молчания голос Ральфа. — В своих устремлениях женщина — необузданное существо, предсказать ее поступки невозможно.
— Так же как и поступки мужчины, — произношу я, едва слыша собственный голос.
— Вовсе нет. У мужчины есть какая-то система. А раз есть система, ее можно расшифровать… Тут себя чувствуешь уверенней: есть система, есть за что уцепиться. Другое дело женщина… Вы сами как-то сказали, что Флора налетела на вас, как тайфун. А ведь это истинная правда: женщины — это стихия, ураган. И не случайно тайфуны всегда носят женские имена: Клео, Фифи, Флора… Ох, эта мне Флора!.. Тайфуны с ласковыми именами… Налетают и все опрокидывают вверх дном…
— Вы уверены? Мы с Розмари жили довольно спокойно… по крайней мере до определенного времени.
— Вполне естественно. В центре урагана погода всегда спокойная. Безоблачная и тихая. Зато попробуйте стать на его пути… Знаю я, что это такое — ураганы. Рассказывал же: Гватемала.
— Может быть, вам хорошо знакомы ураганы, но у меня создается впечатление, что женщин вы не знаете, — замечаю я опять же после долгого перерыва — Ральф, наверно, уже успел забыть, о чем шла речь.
— И женщин знаю, — нудит американец, как свойственно пьяному или засыпающему человеку. — Потому я с ними и не якшаюсь, если вы это имеете в виду… Никогда не якшаюсь. Просто прихожу и плачу… и ухожу с облегчением и с тем чувством отвращения, которое позволяет не думать о них какое-то время…
Он умолкает, совсем замерев там, у стены, куда сполз в тихом истерическом смехе, давно это было, прошли часы, а может, и годы. Потом, по прошествии еще нескольких часов или лет, мучительно изрекает:
— Женщины хороши только на страницах журналов, Лоран… Журналов для подрастающих онанистов… Тех журналов, где можно увидеть множество проституток после режиссуры опытного порнографа… А в обыденной жизни их амбиции и страсти… Нет, не говорите мне… Тайфуны с ласковыми именами…
Затем опять, после того как миновали часы или минуты, я слышу его голос, какой-то очень далекий:
— Впрочем, вы с полным основанием выгораживаете их… этих женщин. Не будь их… я бы вас давно вынюхал и обезвредил.
— Каким образом? — спрашиваю я, еле разжимая зубы.
— Самым радикальным… Я вас уважаю, Лоран… самым радикальным. По отношению к человеку вашего ранга… полумеры оскорбительны…
И мы продолжаем отдавать концы, каждый у подножия своей стены, каждый на своем лобном месте.
— И вот на тебе… взаимно обезвредили друг друга… в этом бункере… в этой нашей общей гробнице… И вам, должно быть, противно, что приходится умирать рядом с таким… как я.
— Почему? На поле боя враги часто погибают рядом…
— Да, верно… погибают рядом… Но хоронить их вместе не хоронят… А нам выпало остаться в братской могиле… в братской могиле шпионов…
В сущности, именно тут твое место, говорю я, правда не вслух, потому что у меня нет сил говорить вслух. В этом бункере времен войны. В бункере, который сохранился, хотя война уже далеко позади… В сущности, нам обоим здесь место, оставшимся от войны, для которых война никогда не кончалась… И нечему тут удивляться, что мы оказались вместе, Ральф… И нечего прикидываться дураком… потому что ты прекрасно знаешь, что она совсем иная, эта наша война, не похожая на ту, с окопами и огневыми позициями… это совсем другая война, и каждый находится в тылу противника, и у каждого в тылу имеется свой противник… и пока она продолжается, нам придется иметь дело друг с другом, нам или другим таким, как мы… потому что противник без противника немыслим… потому что мы порождаем друг друга, и, не будь одного, пропала бы нужда в другом, мы соприкасаемся друг с другом, как день и ночь, как свет и мрак…
Свет, да… Только он уже заметно слабее… Он исчезает. Наверно, спускаются сумерки. И я удивляюсь, до каких же пор нам сидеть в этом мраке, неужели никто не догадается включить свет.
Мы с Бориславом притихли каждый в своем кресле под зеленым фикусом, верхушка которого уже касается потолка этого кабинета. На диване, разумеется, восседает мой бывший начальник, в моем представлении он всегда был немного педант, так же как он всегда придерживался мнения, что я немного авантюрист. А вот у генерала другая особенность, он не любитель официальных заседаний. Вот и сейчас он меряет неторопливыми шагами ковер и задумчиво останавливается то здесь, то там.
— Это не первый случай, — сухо произносит мой бывший начальник, так как ему первому предоставлено слово. — Боев с задачей справится, и неплохо, преодолеет все трудные этапы, и наконец, когда пора поставить точку, он, вместо того чтобы поставить точку, обязательно полезет в западню… Это не первый случай…
— В западню угодить немудрено, — проявляет нетерпение Борислав. — Если бы в жизни все было как на бумаге, этого бы, конечно, не случилось…
— Как бывает в жизни, не вы один знаете, — спокойно отвечает мой бывший начальник. — Мы тоже выросли не в канцеляриях… Хорошо начертанный на бумаге план можно так же хорошо выполнить. Особенно если этим займется такой опытный работник, как Боев. Если, конечно, вовремя сумеет подавить в себе склонность к авантюризму…
— Какой еще авантюризм? — снова вторгается Борислав вопреки установленному порядку. — Разве это авантюризм?
— Ты пока помолчи, — тихо говорит генерал. — Не прерывай человека.
— Пускай, — произносит мой бывший начальник. — Меня это не смущает. Только ему надо быть более объективным. — Он окидывает моего друга острым холодным взглядом и продолжает: — А как иначе назвать весь этот торг с американцем? И зачем, собственно, он ему понадобился, этот торг? Чего ради ему надо было соваться в этот бункер?
— Разве не ясно: чтобы пополнить досье. Чтобы добраться до последнего недостающего куска, — отвечает Борислав.
— Данные, содержащиеся в этом куске, не настолько важны, чтобы ставить на карту свою жизнь. Их можно было получить и в ходе следствия.
— Да, но, возможно, не все, а сколько маеты, сколько времени потратили бы!
— Но не рисковать жизнью, — спокойно возражает бывший шеф.
— В конце концов он рисковал собственной жизнью… — кипятится Борислав, проглотив конец фразы. Я знаю, что он хотел сказать: «…а не вашей».
— Наша жизнь принадлежит не только нам, — сухо поясняет бывший шеф.
— Верно, — соглашается Борислав. — Но что поделаешь: есть люди, которые привыкли доводить дело до конца, выполнять задачу полностью, до последней точки» даже если это связано с риском не вернуться.
— Не вернуться — значит не до конца выполнить задачу, — возражает мой бывший шеф. — Или выполнить, заплатив слишком дорогую цену.
Я внимательно слушаю их, скрючившись в кресле. У меня такое чувство, что они начинают повторяться — это нередко случается, когда возникает спор, хотя генерал не без оснований считает, что истина рождается в споре. Я внимательно слушаю их, и порой мне становится как-то не по себе и я прихожу в недоумение. В самом деле, раз речь идет обо мне, то, может, имеет смысл и у меня спросить, как я сам смотрю на вещи, а не продолжать разговор так, словно меня здесь нет?
— Ты и впрямь немного пристрастен, Борислав, — отзывается наконец генерал. — Нельзя закрывать глаза на то, что последнего куска досье у нас до сих пор нет. Нет у нас его, хотя и заплатили мы за него слишком дорого… — Он замолкает, потом говорит с каким-то упреком в голосе, но упрекает он вроде бы не Борислава, а самого себя: — Пристрастен ты, браток… и я тебя понимаю… Мы потеряли опытного работника… и товарища…
И только теперь я начинаю соображать, почему мне не дают слова — потому что я умер.
Темнеет все больше и больше, уже почти ничего не видно. Но это не черная пелена ночи, а беспокойный сумрак неясных сновидений. И, как всегда в такие моменты, я вижу Любо, который идет с беспечным видом своей неторопливой походкой, слегка припадая на одну ногу.
В те времена, когда мы с ним преследовали в пограничье бандитов среди голых каменистых холмов, Любо тяжело ранили, и хотя ему удалось выжить, он с тех пор прихрамывает, едва заметно, но все же прихрамывает, и это стало его неотъемлемой чертой. Он даже во сне является мне чуть прихрамывая, хотя было бы логично предположить, что призрак не обязательно должен строго копировать человека — он может передвигаться, не припадая на одну ногу.
Он подходит ко мне, останавливается, но на меня не смотрит, словно это явка и мы делаем вид, что совсем не знаем друг друга, а оказались рядом по чистой случайности.
— Своему бывшему начальнику ты можешь говорить все что угодно, браток, но только не мне, — бормочет Любо, почти повернувшись ко мне спиной. — Я-то знаю, зачем ты сунулся на виллу американца, знаю и то, как ты очутился в бункере. На виллу ты полез только ради того, чтобы выручить моего мальчишку.
— Не болтай глупости, — говорю. — Ты же знаешь, я выполнял задачу.
— Расскажи это кому-нибудь другому, только не мне, я как-никак сам тебя учил этому ремеслу и знаю все твои повадки. И нечего мне толковать, зачем ты это сделал.
— Но, выручив Бояна, я тут же мог отправиться восвояси.
— В том-то и дело, что не мог. И ты это прекрасно понимал. У тебя была возможность ретироваться, показав им нос, но чуть раньше, когда стало ясно, что Боян провалился. И если взглянуть на это с профессиональной точки зрения, ты обязан был так поступить. Вместо того чтобы прыгать с террасы, ты должен был немедленно исчезнуть, предоставив Бориславу выручать парня. Его, наверно, все-таки отпустили бы. Зачем они стали бы с ним связываться? Ты им был нужен, ты!..
— Глупости ты говоришь, — отвечаю я, не глядя на Любо, как будто у нас явка. — Разве мог я махнуть рукой на третью часть досье?
— Третья часть!.. Велика важность! Ты соблазнился третьей частью уже после того, как пришел к мысли, что тебе все равно деваться некуда. Тебе было ясно, что ты приглянулся им в качестве искупительной жертвы и что после провала Бояна, говоря строго профессионально, тебе там больше нечего было делать и ты должен был молниеносно исчезнуть. А вместо этого ты сам полез волку в пасть. Чтобы выручить моего парня.
— Да перестань наконец болтать всякую чепуху… Строго профессионально, с профессиональной точки зрения… В конце концов будем мы поступать строго профессионально, нет ли, но рано или поздно мы все равно все к тебе придем, ты ведь знаешь… Так что нечего раньше времени меня отпевать…
И чтобы помешать ему меня отпевать и заставить его убраться, я открываю глаза. Открываю мучительно, с большим трудом и пытаюсь сосредоточиться на чем-нибудь реальном, пока я все еще здесь, среди этой реальности, и вперяю взгляд в серую пустыню бетонного потолка с неровными следами опалубки. Но, как будто сообразив, что я хочу уцепиться за него, уцепиться за что-либо прочное, потолок вдруг начинает вращаться надо мной, этот самый бетонный потолок с отпечатками тесин и с тускло горящей лампочкой. Вращается медленно, но непрерывно, вращение длится так долго, что меня начинает мутить, и я снова пытаюсь уцепиться за него, чтоб не рухнуть куда-нибудь в сторону или даже на этот вращающийся потолок… «Закрой глаза! Закрой глаза!» — говорит мне чей-то голос, и я закрываю, но под веками мельтешат полосы яркого света, словно раскаленная добела проволока, а в голове стучит невыносимая боль, стучит не молотком, а вроде бы долотом. Я поворачиваюсь в сторону, но и тут меня сетью опутывает раскаленная добела проволока, поворачиваюсь в другую сторону — то же самое, я уже опутан со всех сторон и чувствую, как эта огненная сеть меня душит, душит, и, боясь задохнуться совсем, я снова открываю глаза, но надо мной темно, вокруг меня всюду темно, и в черном мраке плывут темно-багровые пятна, а среди них, где-то вдали, словно одинокая звезда, смутно мерцает кружочек от лампочки.
«Надо малость расшевелиться… — слышится голос. — Ты должен встать и рассеять тьму. Она внизу, у самого пола. Ты должен подняться…»
Я пытаюсь подняться, опираясь спиной о стену, но тут же снова сползаю вниз. Я делаю новую попытку. Мрак несколько рассеивается. Ночь превращается в сумерки. Бэнтон, сидящий у противоположной стены, вынимает пистолет… Совсем нечем будет дышать… Я уже достаточно прочно стою на ногах, чтобы подойти к нему, и… падаю. Встаю на колени, силюсь снова выплыть из мрака и опять падаю, уже возле Ральфа. Вырываю у него пистолет без всякого труда. Он едва удерживал его в руке.
— Верни его мне, — произносит он чуть слышно. — Не могу больше… задыхаюсь…
— Совсем нечем будет дышать…
— Отдай…
— Не отдам…
И мы замираем оба, вконец обессилев. Он — на своем лобном месте, а я — в углу, возле передвижной стены. И снова сгущается мрак. Этот пятнистый мрак. Черные и темно-багровые пятна. «Вот и все», — слышится голос. Я смотрю вверх. Одинокая звезда погасла. Полнейший мрак. Значит, действительно все. Наконец-то. Столько раз приходилось думать о смерти. И как тут не думать, если она ходит мимо тебя. Как тут не думать, если ты знаешь, что в один прекрасный день она неизбежно остановится возле тебя. Одни считают, что смерть страшна. Для других — это отдохновение. Словно непробудный сон после трудного дня. Настало время тебе самому увидеть, как оно там, у Любо, по ту сторону жизни.
11
Смерть опять прошла стороной. Невероятно, но факт. Только в этот раз задержалась поблизости дольше обычного и заглянула мне в глаза. И, подумав немного, дала отсрочку.
В двух шагах от меня, в углу, незаметно образовался просвет, совсем узкий, но его оказалось вполне достаточно, чтобы я ощутил в помещении, насыщенном окисью углерода, дуновение жизни. Здесь темно, однако это не загробный мрак, а обычный: старая лампочка не привыкла к длительному употреблению и просто-напросто перегорела.
Я ощущаю в себе способность двигаться. Ползком, конечно. Подбираюсь ближе к щели и замираю. Хочется вдыхать струящийся сквозь нее воздух полной грудью, но я замираю.
Как долго я остаюсь в таком состоянии, сказать трудно. В этом бетонном гробу я утратил всякое представление о времени. Погребенных оно не интересует. Но вот я вдруг чувствую, что просвет становится шире. Стена бесшумно отодвинулась, чтобы открыть свободный доступ воздуху и свету. Она проследовала всего в нескольких сантиметрах от меня. Достаточно одного рывка, и я на той стороне, вне зоны удушья и смерти. Но поспешные движения рискованны. И я жду, затаив дыхание.
В образовавшемся проеме появляется что-то живое. И на освещенную часть бетонного пола ложится большая тень. Тень женщины. Она начинает перемещаться. Женщина осторожно входит в бункер, и режущий луч карманного фонаря полосует открытую кассу — она пустая, — спускается ниже, на чемоданчики, и задерживается на них…
Вот он, наиболее подходящий момент. Я быстро на четвереньках выбираюсь наружу, достигаю кранов и нажимаю на первый. Там, в бункере, у меня было достаточно времени, чтобы сообразить: раз второй открывает, то первый, по всей вероятности, служит для закрывания. Стена и в самом деле бесшумно перемещается, и просвет исчезает.
Теперь можно перевести дух. И попытаться встать на ноги. Это удается не сразу, однако скорее, чем я ожидал. Подышав полной грудью всего несколько минут, я окончательно оживаю. Очищается кровь, и мысли делаются яснее. Мысли о тех, что в бункере. А также о тех, которые, несомненно, караулят меня снаружи.
Я стою, все еще опираясь о стену, и шевелю ногами. Сперва одной, затем другой. Проверяю, насколько они способны слушаться и держать меня. Сперва одну, затем другую. Потом делаю первые шаги. Не блестяще получается, но падать не падаю. Надо выждать еще немного, пока кровообращение сделает свое дело. А теперь мне пора приниматься за мое.
Итак, эти двое. Слегка нажимаю на рычажок второго крана, и снова образуется щель — узкая, сантиметров десять: я поторопился отпустить рычажок.
— Пьер, это ты, мой мальчик? — слышится голос Флоры, мигом приникшей к щели.
Она прекрасно видит, что это я, и вопрос ее рассчитан лишь на то, чтобы восстановить атмосферу интимности, что может служить хорошим началом взаимопонимания.
— Да, милая. Ну как там, внутри? Обнаружила сокровища? Убедилась, что я слов на ветер не бросаю?
— Я никогда не сомневалась в этом, мой мальчик. Только перестань валять дурака. Нажми-ка покрепче на рычажок вон того, второго крана и дай нам выйти.
— А, ты насчет стены? Это и есть та самая стена, которая нам с тобой мерещилась. «Сезам, откройся!» Разве не помнишь? Вот она и открылась.
— Только потом снова закрылась, — напоминает Флора.
— Верно, чтобы не было сквозняка…
— Вы не способны на такую пакость, Лоран! Это уже не Флора, это немощный голос Ральфа, бессильный и апатичный голос, который, кажется, целую вечность зудел у меня в ушах, зудел, зудел… до умопомрачения. Фраза доходит откуда-то снизу, как будто из-под земли, Флора отстраняет свою массивную ногу, и я вижу бледное лицо американца — он все же дополз сюда, к просвету, как умирающий от жажды доползает до спасительной лужи.
— Вы не способны на такую пакость, верно… после того как мы вместе провели эти кошмарные часы…
— А окажись вы здесь, вы выпустили бы меня?
— Вероятно… Не знаю… — бормочет Бэнтон. — Во всяком случае, если бы вы не отняли у меня пистолет и будь у меня силы, я бы сейчас всадил в вас пулю, чтобы вы не торчали так вот и не злорадствовали…
— Я вовсе не злорадствую, Бэнтон. Просто у меня работа. И чтобы выполнить ее, мне необходимо уцелеть. Так что первым делом бросайте-ка мне сюда негативы, которые вынудили меня отдать вам.
— Из-за каких-то паршивых негативов разыгрывать такую комедию? — пренебрежительно изрекает американец.
И несколько секунд спустя миниатюрная кассета катится к моим ногам. Подняв ее, вношу ясность:
— Да, из-за негативов. Не из-за брильянтов. Насчет брильянтов вы там разбирайтесь с Флорой. Она женщина сговорчивая…
— Пьер, ну хватит болтать, мой мальчик, — напоминает о себе сговорчивая женщина. — Нажимай-ка лучше вон на тот рычажок. А то я уже сварилась в этой дыре.
— Я в ней варился гораздо дольше, милая. И этой отдушины не было. А остался жив-здоров, как видишь. Так что ничего не случится, если потерпишь маленько.
— Лоран, вы не способны на такую пакость… — подает голос Ральф у подножия величественной дамы.
— Нет, конечно. Я вас оставлю распечатанными. И через непродолжительное время пришлю кого-нибудь, чтобы выпустил вас на чистый воздух. Но только не сразу, а немного погодя, когда я смогу в достаточной мере удалиться от выстрелов ваших людей, Бэнтон.
— Пьер! — умоляюще восклицает Флора.
— Лоран… — слышится голос и американца.
Но я уже устремляюсь на свет божий, правда, не так быстро, как хотелось бы. Осторожно преодолеваю лестницу, затем так же осторожно пробираюсь по коридору. Открываю одну за другой двери — кухни, холла, столовой. Везде пусто.
Однако в комнате, что у самого выхода, не пусто. На своем прежнем месте лежит Виолета. В гипсе. И хорошо упакована. Еще одной повязкой ее, вероятно, снабдила Флора. Видать, пустила в ход все подручные средства, и прежде всего шнуры от штор. А в довершение основательно запечатала жертве рот кружевной скатертью тончайшей работы.
Я распутываю скатерть и вынимаю изо рта Виолеты платок. Она несколько раз жадно вдыхает большие порции воздуха — хорошо знакомый мне рефлекс — и только после этого произносит слабым, беспомощным голоском:
— Какая ужасная женщина!.. Вконец извела меня, грозилась задушить и вынудила-таки сказать, где что находится, а после этого — видите, что сделала, — оставила меня, словно вязанку дров…
— Действительно ужасная женщина, — соглашаюсь я. — Однако она просто ангел по сравнению с вами.
— Но у меня не было иного выхода, господин Лоран! — произносит с подкупающей наивностью это милое существо. — Что я могла сделать голыми руками, когда меня осаждали со всех сторон все эти люди…
— А как вы догадались, что осада переместится именно сюда?
— Да очень просто: Кениг уже начал было у меня выспрашивать… А позавчера эта ваша приятельница, Розмари, с присущим ей нахальством приезжала сюда, в Лозанну, к моей подруге, чтобы узнать, где мой дом… Та, разумеется, не настолько наивна и не стала ей объяснять, но когда кто-то вроде Розмари пускается в расспросы, то узнать адрес не такое хитрое дело… Да и вы при встрече со мной там, в «Меркурии», клонили к этому. Я стала лихорадочно соображать, что вас так тянет сюда… и где может находиться то, что вас привлекает. Я сама толком не знала, где что спрятано… Поэтому решила перебраться снова сюда…
— И на всякий случай загипсовать ногу…
— А что особенного? Чем ты беззащитней в глазах окружающих, тем меньше опасность, что на тебя поднимут руку.
— Это вполне логично, — признаю я. — Так же как то, что вы заперли нас в той дыре, чтобы сгноить…
— А что мне было делать, попав в такое безвыходное положение?..
— Вы чересчур хитры, милое дитя. А чересчур хитрые в конце концов остаются с носом, просто от избытка хитрости…
И поворачиваю к выходу.
— Неужели вы так меня оставите?
— Да. И только из милосердия. Потому что в таком положении вы кажетесь особенно беззащитной. И у вас не появится соблазна сунуться туда, где вас мигом растерзают как пить дать.
Пока шла эта беседа, я успел, посматривая в окна, изучить окружающую обстановку. На небольшой поляне между домом и деревьями пусто. В стороне от поляны виден «опель» Флоры — тоже пустой. Так что, выбираясь из дома, я настроен воспользоваться этой свободной машиной, взять напрокат, конечно. Не успел я и два шага ступить, как чья-то могучая рука хватает меня за шиворот, а другая уже готова превратить в фарш мою руку.
— Смываетесь, да? — слышу позади хриплый голос. Оказывается, это Бруннер.
— Вы угадали, — спокойно говорю я. — Мне это начинает надоедать. И не старайтесь изувечить мне руку, умоляю. Это совсем не на пользу нам обоим.
— Особенно вам… — рычит немец. Однако он заметно расслабляет свои клещи, видимо, обезоруженный моей выдержкой.
— Я вас отпущу, Лоран. Вы же знаете, лично против вас я ничего не имею. Но сперва я должен сделать обыск. Поднимите руки вверх и не шевелитесь.
Я повинуюсь и, пока он меня ощупывает, поясняю:
— Если вы ищете брильянты, то, уверяю вас, у меня их нет. В данный момент они, вероятно, в руках вашей приятельницы. Я сдержал слово, Бруннер.
— Я готов заплакать от умиления, Лоран. Не опускайте руки, — снова рычит немец и после беглой проверки начинает обшаривать меня основательно.
— Только ради бога не трогайте моих кассеток…
— Больно они нужны мне, ваши кассетки…
— Что касается пистолета, то я готов уступить его вам. Он, правда, принадлежит Бэнтону, но сейчас и вам вполне может пригодиться.
— Пожалуй, — соглашается немец, пряча пистолет в карман.
Тем временем физико-химические реакции в его ленивом мозгу позволяют ему усвоить значение только что услышанного.
— Бэнтон! Где он?
— Там, в подвале, вместе с Флорой. Но бояться нечего: сейчас он вам не наставит рога. Что касается брильянтов…
— Хватит болтать! — нервничает Бруннер. — Говорите, Лоран, брильянты в самом деле там? Да или нет?
— Вы что, глухой? Вроде бы ясно сказано: и брильянты там, и Флора там, и Бэнтон там!
Мое раздражение, так же как и содержимое моих карманов, побуждает немца действовать, и он, показав мне спину, кидается к дому. А я, как нетрудно предположить, — к «опелю», но — какое разочарование! — ключи отсутствуют. Пресловутая немецкая сообразительность!
Мое приближение к машине не лишено, однако, смысла: мне удается спрятаться за нею на две-три секунды, пока на поляну выскочит другой автомобиль. На сей раз «ситроен». И кажется, достаточно знакомый.
Двое приехавших выскакивают из машины и тоже сломя голову несутся к дому. Насколько мне удалось рассмотреть, один из них Кениг, а другой — Тим или Том, нет, пожалуй, Тим — он вел машину. Еще годик-другой, и я начну свободно их различать, этих метисов.
Направляюсь к «ситроену» в надежде на то, что метисы не столь аккуратны, как немцы, но тут откуда ни возьмись на меня набрасывается из-за деревьев пленительная Розмари, запыхавшаяся, измочаленная.
— О Пьер! Вы всегда появляетесь очень кстати. Куда девались эти двое?
— А что у вас с ними общего?
— Они все время за мною гнались, и все-таки я сумела ускользнуть от них.
— А теперь, выходит, они от вас ускользнули. И всего на минуту вас опередили. Хочу сказать, в длительной погоне за брильянтами.
— Где они, брильянты? — спрашивает Розмари, лихорадочно хватая меня за руку.
— Там, в подвале. Но я вам не советую туда соваться. Не исключено, что с минуты на минуту начнут греметь победные залпы.
Как бы в подтверждение моих слов от цоколя дома доносится глухой выстрел. Потом еще два — один за другим. Потом еще.
Но эта сумасшедшая, вместо того чтобы прийти в растерянность, в свою очередь бросается к дому.
Безумцы.
Делать тут больше нечего. Одно меня заботит — что предпочесть: «ситроен» или пурпурный «фольксваген» Розмари, который обнаруживаю за кустарником.
Розмари как-никак моя приятельница. Столь продолжительное сожительство… И почти безоблачное. Пока оно длилось, я узнал так много полезного об импрессионистах, о благородных камнях, о том, что человек по природе своей эгоист. К тому же «ситроен» помощней, а меня воспитывали в духе известного изречения: «Берегите время».
Сев на могучего коня современной французской техники, я пришпориваю его, и он с яростным ревом мчит меня в сторону Берна. Тихого, сонного Берна, жить в котором одно удовольствие… А быть может, и умереть. Как говаривал Бруннер: «Умереть в Берне!..» И все же у меня иной девиз: умереть всегда успеешь.
— И долго еще ты будешь так вот нестись сломя голову? — спрашивает Борислав, который то дремлет рядом со мной, то болтает о том о сем.
— Сломя голову не шибко понесешься, — отвечаю.
— Лично я не прочь позавтракать. И выпить две-три чашки кофе.
Похоже, я действительно увлекся, совсем как милая Розмари: чем сильней меня донимают всякие мысли, Тем крепче я нажимаю на газ. А ведь уже целый час, как мы в Австрии. И вообще нет оснований нестись сломя голову.
Шоссе извивается среди роскошных альпийских пейзажей. Вот они наконец, эти роскошные пейзажи, знакомые нам по цветным открыткам. Высокие заснеженные пики, застывшие на фоне голубого неба. А под ними — плавные изгибы хребтов, поросших хвойными лесами. А еще ниже — изумрудные пастбища.
Если же сделать еще один-единственный шаг, отделяющий великое от смешного, то мне придется добавить: а еще ниже средь этой необъятности, по узкой и серой полоске ползет черная машина — куда он так торопится, этот махонький жучок? — а в машине, покачиваясь, едут двое. Тот, что дремлет, — Борислав. А другой… Ну, так уж и быть — ваш покорный слуга Эмиль Боев.
— Эмиль, — снова подает голос проснувшийся Борислав. — Если ты не остановишь машину у первого попавшегося заведения, может прохудиться радиатор.
С худым радиатором в эту июньскую теплынь далеко не уедешь, к тому же скоро десять, а в такое время даже последние бездельники успели позавтракать, а о порядочных людях и говорить не приходится.
Еще два изгиба шоссе, и перед нами возникает упомянутое заведение: кокетливый ресторанчик с террасой, примостившийся на взгорке, у самой дороги, текущей в темной зелени хвои.
— Здесь тебе нравится? — спрашиваю, сбавляя скорость.
— Не все ли равно, где завтракать! Отпуск нам здесь не проводить. Останавливайся, и дело с концом!
Останавливаюсь. «Вольво» оставляю на обочине шоссе, так как не вижу другого места, куда бы можно было приткнуться, поднимаемся по лестнице на террасу и садимся за столик в тени сосен. Борислав заказывает завтрак, а я — газеты, и немного погодя каждого занимает свое: меня в основном пресса и кофе, а моего друга — сдоба и конфитюр.
— Что там пишут о твоей истории? — спрашивает Борислав, продолжая жевать.
— Чего только не пишут: «Лозанна: в подвале сводят счеты… тремя пулями убит метис, личность не установлена… рядом еще два трупа: Макс Бруннер и Отто Кениг… Владелицу виллы нашли в комнате связанной… Ведется следствие…»
Откладываю в сторону утренние газеты, чтобы еще раз проверить качество австрийского кофе, сравнив его со швейцарским. Затем снова обращаюсь к прессе — этому могучему средству массовой информации.
— Но это еще не все, — продолжаю информировать друга, вчитываясь в последнюю полосу газеты. — «Вооруженное нападение в Женеве: американский подданный Ральф Бэнтон ворвался, вероятно, с целью ограбления, в контору ювелира Тео Грабера» и так далее и тому подобное. «Грабер ранен двумя выстрелами… доставлен в больницу в тяжелом состоянии… Ральф Бэнтон задержан. Ведется следствие».
— Ну как, достаточно? — спрашиваю у Борислава, имея в виду газетную хронику.
— То есть как достаточно? Сейчас еще закажем, — отвечает он, занятый в основном завтраком.
Не успела удалиться от нас русоволосая официантка в тирольском костюмчике, как со стороны лестницы доносится звонкий и приветливый голос:
— О Пьер! Я не сомневалась, что вы здесь! Видела внизу вашу машину.
— Я здесь и всегда к вашим услугам, дорогая, — галантно говорю в ответ, вставая, чтобы дать стул моей бывшей квартирантке и соблюсти полагающуюся церемонию — представить ее Бориславу.
Гостья садится, а мой спутник подает знак, чтобы принесли еще один кофе, после чего Розмари получает наконец возможность излить чувства, накопившиеся в ее груди:
— О Пьер! Что это был за кошмар! Они стреляли друг в друга, как дикие звери, в том подвале…
— Дикие звери не стреляют, дорогая, — спешу ей заметить. — Они несколько сдержанней в этом отношении, чем люди. — И добавляю: — Я все же надеюсь, что вы предусмотрительно дождались, пока канонада закончится…
— Естественно… Не стану же я соваться под пули. Но все было настолько ужасно!.. Эта кровь…
— Да, — сочувственно вставляю я. — Без крови дело не обходится. Кровь и брильянты! Ну и как же все-таки кончилась эта история с брильянтами?
— В мою пользу, естественно, — отвечает Розмари с достоинством. — Потом поясняет, уже поскромней: — Хотя и не совсем…
— А именно?
— Когда эти дикари наконец поубивали друг друга…
Она замолкает, так как к столу приближается русоволосая австриячка с громадным подносом. Розмари явно не в силах продолжать свой рассказ, она, очевидно, изголодалась не меньше Борислава, и ей необходимо что-то пожевать и глотнуть кофе с молоком. Лишь после этого она снова обретает способность говорить:
— Как только закончилась стрельба и рассеялся дым, я, конечно, кидаюсь вниз, чтобы поглядеть, что же произошло, и обнаруживаю это убежище. Флора настаивает, чтобы я немедленно выпустила их, и старательно мне объясняет, что и как нужно сделать, но я не с последним дождиком родилась на свет, как вы любите говорить, поэтому я велю сперва подать мне брильянты, а тогда уже поговорим об остальном. Она, естественно — вы же знаете мерзопакостный характер этой немки, — и слышать не желает о такой сделке и принимается нахальнейшим образом врать, будто там вообще не оказалось никаких брильянтов, она, видите ли, готова передать мне какой-то там чемоданчик с ценностями — больно мне нужен ее чемоданчик, стала бы я столько месяцев торчать в этом скучном Берне ради какого-то чемоданчика. Раз такое дело, я предъявляю ей ультиматум: или сию же минуту мне будут переданы все десять брильянтов, и ни одним меньше, или я жму до предела на рычажок — и вечная память! Ну и конечно, при всем ее мерзком характере она вынуждена уступить, а чтоб ей не морочил голову Бэнтон, мне пришлось передать ей пистолет — конечно, так, чтобы она в меня не пальнула. А сама сижу на корточках возле кранов и жду, пока появится коробочка, которая вам, наверно, хорошо знакома, — как две капли воды похожая на ту, вашу, с фальшивыми брильянтами. Я внимательно проверяю содержимое коробочки и убеждаюсь, что у меня в руках не подделка, а настоящие брильянты, и только после этого предпринимаю следующий шаг.
— Плотно задвигаете стену…
— Нет, Пьер! У меня мелькнула такая мысль, но вы же знаете меня, сентиментальную утку, да еще глупую фантазерку, — стоило мне вообразить, каково им будет, чтобы я тут же отказалась от своего намерения.
— Естественно… — замечает Борислав после того, как ему удается окончательно утолить голод.
— Естественно? — вскидывается Розмари и смотрит на него своими темными глазами. — Естественно, конечно. Однако, будь на моем месте эта Флора, можете не сомневаться, все бы сложилось немножко иначе и не так естественно.
Она на время замолкает, чтобы допить кофе и закурить сигарету, которую ей галантно подносит Борислав. Я щелкаю зажигалкой, и Розмари продолжает:
— Я, конечно, не стала сразу их выпускать. Сперва надо было разделаться с той паршивой лицемеркой, которая лежала связанной там, наверху. Я ее не застрелила, и тут вы тоже скажете «естественно», а между тем было бы вполне естественно застрелить ее, чтобы навеки заткнулась. Но я женщина слабая, Пьер. Настолько слабая, что мне никогда бы не добраться до этих брильянтов, если бы не вы, Лоран.
— Я на благодарность не рассчитываю.
— Вы ее не заслуживаете, милый! — сражает меня Розмари. — Эти брильянты вы с одинаковой щедростью сулили всем: и мне, и Флоре, и Бэнтону, и Виолете, кому угодно.
— Что я могу поделать, такой у меня характер. Люблю доставлять радость людям. Страсть как люблю. Что же касается брильянтов — я имею в виду не пустые обещания, а именно брильянты, — то их я с самого начала предназначал вам… Во имя нашей общей слабости к импрессионистам… И нашей старой дружбы…
— Я совсем не уверена, что это так, хотя мне хотелось бы в это верить, — выражает она некоторое сомнение. — Но вопреки всему я вам благодарна: обнаружили брильянты вы, и достались они мне… — После этих слов Розмари, вероятно, вспоминает что-то не очень приятное и, помолчав немного, делает небольшое уточнение: — Достались мне все, кроме двух.
— Почему кроме двух?
— А все из-за этой паршивки Виолеты! Будь это Флора, она бы, наверно, ничего ей не дала, но я со своей мягкотелостью все-таки подарила ей два…
— Этим вы проявили великодушие не только к ней, но и к бедным детям, — вставляю я для ясности. — Почему к бедным детям? — удивляется Розмари.
— Она доверительно сказала мне, что если получит брильянты, то непременно построит детский дом на берегу озера.
— Детский дом? — презрительно смотрит на меня Розмари. — Никак не ожидала, что вы такой наивный при вашей мнительности. У этой хилой и подлой лесбийки есть другая голубая мечта. Это Эмма Фрай, ее приятельница по пансиону, вы, наверно, слышали про эти пансионы для молодых девиц, вернее сказать, для молодых лесбиек. Это Эмма Фрай, да будет вам известно, никакая не мечта, а всего лишь порочная до мозга костей кукла из Лозанны — я об этом узнала в ту ужасную ночь, когда мне пришлось тащиться за Виолетой до самой Лозанны и караулить ее в машине до утра, пока эти две мерзавки забавлялись в доме, а бедняга Пенеф, не подозревая о моем присутствии, тоже выслеживал ее в ста метрах от дома. Так что ей понадобились денежки не на детский дом, а на то, чтоб ублажать эту развратницу, с которой нашу целомудренную лесбийку еще со студенческих лет связывают брачные узы, а Эмма вертит ею как хочет, и, если бы Виолета действительно сумела прибрать к рукам брильянты, она наверняка положила бы их к ногам своей возлюбленной, конечно, не все сразу — она не настолько глупа, — а по частям, чтобы не порывать связь с этой извращенной куклой. — Розмари замолкает на минуту, как бы для того, чтобы преодолеть подступившее чувство отвращения. Потом продолжает: — И вопреки всему мне пришлось, как видите, подарить ей целых два брильянта, из-за которых я столько раз рисковала своей шкурой.
— Подарила ей ее собственные брильянты, — уточняю я. — И разумеется, те, что поменьше.
— А вы бы хотели, чтоб я ей отдала большие? И потом, с какой стати «собственные»? Брильянты краденые, и я ей со всей прямотой об этом заявила; а она в ответ: «Знаю, что краденые, но это мне не помешает выдать вас полиции», так что в конце концов пришлось швырнуть ей хоть что-нибудь, чтоб она заткнулась.
— И вы ее развязали…
— Я не настолько глупа. Сунула камни ей под матрац и пошла вниз освобождать тех. С пистолетом в руке, конечно. И хорошо, что у нас с Флорой были пистолеты, потому что Бэнтон до того осатанел, что готов был на все, но мы ему здорово вправили мозги, особенно Флора — я еще удивляюсь, как это она не продырявила башку этому американцу, — и мы отчалили вдвоем, я с брильянтами, а Флора с этими двумя чемоданчиками, которые, надо полагать, тоже кое-чего стоят.
— И у нее так и не появилось соблазна разрядить в вас пистолет?
— А зачем ей рисковать? Я ведь тоже могла это сделать. И потом, мне кажется, что она уже примирилась. Ее потрясла смерть Бруннера. Мы как-никак женщины, Пьер! Мы не такое зверье, как мужчины.
— Знаю, знаю, — киваю я. — Вы так чувствительны, в вас столько нежности. Тайфуны с ласковыми именами.
В сущности, в этой истории все они, и женщины и мужчины, оказались во власти одного и того же тайфуна — тайфуна алчности, он оторвал их от твердой почвы, заставил забыть обо всем остальном. Необузданная страсть к созвездию брильянтов первой величины ослепила их настолько, что для них больше не существовало ни былых связей, ни привязанностей. Что касается женщин, этих тайфунов с ласковыми именами, то, я не отрицаю, их шальные порывы в какой-то мере были мне на пользу. Может быть, благодаря тому, что я не женоненавистник.
При этих мыслях я перевожу взгляд на Розмари и спрашиваю:
— А как ваш Грабер? Вы навестили его в больнице?
— Почему в больнице?
— А где же еще? На кладбище ему пока рано. И чтобы дать ей понять, что к чему, предлагаю ей газету.
— Ах, этот негодяй! — возмущается она, не дочитав до конца.
— Кого из двух вы имеете в виду?
— Бэнтона, конечно. Грабер, может быть, тоже не ангел, но никогда бы не выстрелил в живого человека.
— А кто стреляет в мертвецов? В сущности, вы должны быть довольны. И благодарить Бэнтона.
— Вы циник, Пьер. — Это я уже слышал от вас.
— Довольна или недовольна, но, должна признаться, я испытываю чувство облегчения. Грабер никогда бы не простил мне…
— А теперь куда? — спрашиваю.
— Если вы хотите знать куда, поедемте со мной. Конечно, вы человек довольно скучный… Но где их взять, интересных? Хотя, я знаю, со мной вы не поедете. Так что незачем говорить вам «куда». Да и не все ли вам равно?
— Все равно, — признаю. — Просто мне хотелось знать, как начнется наконец триумфальное восхождение к вершине счастья.
— Счастья? Вы знаете, что я человек не претенциозный. Но и дожидаться старости в заботах о закладных на том чердаке у меня тоже нет никакого желания.
Она и в самом деле мало похожа на человека, сияющего от счастья. Обычное дело: достигнутая мечта неожиданно утрачивает свой блеск, даже такая, брильянтовая. Наступают будни. И с течением времени становится все более реальным риск, что какой-нибудь мошенник не сегодня-завтра освободит тебя от бремени легко нажитого богатства.
Взглянув на часы, Розмари объявляет, что ей пора. Мы встаем, чтобы проститься, и, подавая мне руку, моя бывшая квартирантка говорит:
— Ну, Пьер… Мы, наверно, больше не увидимся…
— Наверно… — машинально повторяю я за ней.
— Поцелуйте же меня!
Мне неудобно перед Бориславом и еще более неудобно стоять как истукан, после того как мы столько времени провели вместе в том зеленом холле, на той глухой вилле, в том бесславном квартале.
Целуя ее, я чувствую на своем лице ее руку, которая как будто пытается удержать меня еще хотя бы на один миг.
Наконец Розмари уходит, но, прежде чем спуститься по лестнице, снова оборачивается и машет мне рукой.
— Какая женщина! — слышится голос Борислава. Да, действительно. Хотя что, в сущности, я мог бы о ней сказать? Движешься среди призраков без всякой уверенности, что тебе удалось до конца сорвать их покровы. Призрачные вещи, призрачные события, а главное — призрачные люди. Глядишь на нее и вроде бы убеждаешься: «Да, это именно то», но потом неожиданно что-то происходит, и ты решаешь, что вовсе не «то», а не знаю что, пока позднее не уяснишь, что это вовсе не «не знаю что» — совсем как те деревянные матрешки: вскрываешь одну, а в ней оказывается другая, а в другой — третья. Только у матрешек всегда есть предел — после четвертой или пятой доходишь до последней. А с иного человека сколько ни снимаешь призрачные покровы, никогда не можешь быть до конца уверен, что тебе удалось постичь его истинную суть.
Борислав до такой степени очарован видом моей приятельницы и ее импульсивным нравом, что заказывает еще по чашке кофе — по последней, и мы уже допиваем его, этот последний кофе, когда на террасе внезапно появляется новое действующее лицо, точнее, еще одна дама, царственная и величавая, как альпийский массив.
— А, Пьер, вот ты где, мой мальчик! Я по машине догадалась, что ты должен быть где-то тут, — спокойно произносит Флора, словно мы повстречались на асфальтовой аллее близ Остринга.
Я встаю, представляю их друг другу и усаживаю гостью.
— Вы уже позавтракали, — устанавливает она. — Я бы тоже не прочь немного закусить…
Белокурая австриячка принимает заказ, который по своему ассортименту мало напоминает завтрак и не уступит иному обеду. Затем, самодовольно приосанившись, чтобы Борислав мог по достоинству оценить ее могучий бюст. Флора оборачивается в мою сторону и грозит мне пальцем:
— Благодари бога, что я питаю к тебе слабость. Иначе ты заслуживаешь не знаю какой кары… За то, что запер меня с ним там, в бункере…
— Если только это ты имеешь в виду, то, по-моему, ты должна меня благодарить, дорогая Флора. Это был единственный способ защитить тебя от пуль и спасти от удушья.
— Лжец! — Она опять грозит мне. — Откуда ты мог знать, что начнется стрельба?
— Зато я отлично знал, что люди Бэнтона где-то рядом. Бэнтон не тот человек, чтобы отправляться со мной в полную неизвестность без должного сопровождения.
— Глупости. Люди Бэнтона приехали на хвосте у этой дуры Розмари.
— А как они оказались у нее на хвосте?
— О, это целая история. И не заставляй меня ее рассказывать, прежде чем я поем. Просто подыхаю с голоду.
Официантка ставит на стол поднос, загруженный до предела: кроме масла, конфитюра и булочек, неизбежных компонентов гостиничного завтрака, здесь вареные яйца, копченый окорок и огромный кус шоколадного торта.
Так что мы с Бориславом выпиваем очередной кофе, не знаю уже который, а тем временем Флора опустошает тарелки. И лишь когда дело доходит до торта, у немки возобновляется желание продолжать беседу.
— И то, что вы, Пьер, оставили нас с этими выродками Тимом и Томом, тоже вас не красит!..
— Не моя это затея. Так случилось по настоянию Бэнтона.
— Мы догадывались. Пакостная затея. И Бэнтон получил по заслугам. Читали? Он задержан…
— Знаю. Но вас не смогли задержать…
— А кто нас мог задержать? — смотрит она на меня с недовольным видом.
— Да те двое: Тим и Том.
— А, те двое! Чего о них толковать. Первое время мы с Розмари вообще не понимали, что происходит. Подумали, что ваш компаньон действительно вызвал вас по какому-то спешному делу и Бэнтон решил вас сопровождать. Потом у меня возникает подозрение, что тут кроется подвох. «Плакали наши брильянты. Пьер знает, где искать тайник, а Бэнтон небось что-то посулил Пьеру. Так что теперь они действуют заодно, а мы сидим здесь, как последние дуры». «Откуда вам известно, что Пьер знает, где искать тайник?» — спрашивает Розмари. «Мне, — говорю, — достаточно сегодняшних наблюдений, и, если вы полагаете, что мы провели день в любовных утехах, вы глубоко ошибаетесь». «В таком случае давайте устроим проверку, — предлагает Розмари, — они, скорее всего, в Лозанне, в доме этой лисы Виолеты». «Но как его найти, этот дом?» — говорю я. «Если вы не знаете, то другие знают, — заявляет Розмари, — только где гарантия, что вы не оставите меня в дураках?» «Ну, милая, — говорю, — нам сейчас не до этого, мы с вами бедные женщины и должны всячески помогать друг другу». «Звучит неплохо, — говорит Розмари, — но где гарантия?» Наконец мне удается убедить эту упрямую бабу, что, пока мы тут торгуемся, уведут наши брильянты, и мы решаем на свой страх и риск отправиться вам вдогонку. Но не тут-то было: только теперь до нас доходит, что мы с нею пленницы этих двух дегенератов — Тима и Тома. Я, как вы знаете, не из робких, особенно когда имею дело с такими пигмеями, и без лишних проволочек даю им понять, что в наш век равноправия женщины тоже чего-то стоят, но, хотя в руках у меня увесистый стул, пользы мало: эти кретинчики, оказывается, обучены всяким там каратэ и дзюдо, — короче говоря, наш бунт кончается тем, что нас крепко-накрепко привязывают к креслам, а каких синяков они нам насажали — я бы вам их показала, только приличие не позволяет.
— Стоит ли о таких пустяках говорить? — бросаю я.
— Не стоит, конечно. Вы же знаете, я не настолько впечатлительна, как эта драная кошка, ваша Розмари, но факт остается фактом: мы, бедные невольницы, обречены на полное бездействие, а тем временем вы там, в Лозанне…
— Мы там, в Лозанне, оказались более несчастными невольниками, чем вы. До того несчастными, что уже были готовы проститься с белым светом.
— Верно. И кто вас спас? Я. Только не слышала, чтобы кто-нибудь сказал мне спасибо за это…
— Если я этого не сказал, то только потому, что слова не способны выразить мои чувства, дорогая…
— Да-да, я знаю, ты щедр на пустые слова… Но вернемся к существу вопроса. В тот самый момент, когда мы были в полном отчаянии, в холл через террасу внезапно вламывается мой Макс. У меня не было сомнения, что Макс, которого мы так бессовестно бросили в Женеве, рано или поздно наведается ко мне, и я оставила у себя в квартире записочку, что нахожусь у Бэнтона. Не знаю, стоит ли описывать само сражение, тем более что я, будучи привязанной к креслу, могла наблюдать его лишь частично, зато я имела счастье видеть самый конец, когда эти лилипуты с их японской хваткой были загнаны в угол и у Бруннера в руках превратились в мокрые тряпки, а в довершение он прикрутил обоих к креслам, в которых мы томились, чтобы у них было время получше переварить все случившееся. А после этого Бруннер занялся вашей Розмари, стал вышибать из нее сведения насчет виллы в Лозанне, и, не вмешайся я — зачем, говорю, ты так круто, Макс, она, как-никак женщина, к тому же неглупая, сама все скажет, — он бы ее всю изувечил. В конце концов Розмари раскололась-таки, выдала адрес, но взялась настаивать, чтобы мы ехали все вместе, и тут уж я не выдержала — хотя, как вам хорошо известно, мой мальчик, я не из говорливых — и давай втолковывать вашей приятельнице, что жизнь, выпавшая на нашу долю, — это не что иное, как бег наперегонки, каждый бежит сам по себе, на свой страх и риск, собственными ножками, и, если тебе так хочется присутствовать на этом празднике, садись в свою красненькую скорлупку и с богом. Ведь это же поистине благородный жест с моей стороны, за который до сих пор мне и спасибо никто не сказал, хотя мне он обошелся не так дешево — девять колоссальных брильянтов, — но, раз тебе суждено совершить глупость, за нее, само собою, приходится платить. Но в тот момент мне думалось, что я ничем не рискую, рядом со мной мой Макс, и я была уверена, что он не даст меня в обиду, мне и в голову не могло прийти, что через несколько часов какой-то жалкий пигмей по имени Тим или Том разрядит в грудь Макса свой пистолет, а ведь именно так и случилось, и мне пришлось кончать со всем вот этими руками…
— Но не голыми руками, был и пистолет?
Она смотрит на меня пронзительным взглядом, и ее роскошные голубые глаза вдруг становятся серыми.
— Ты что, виделся с Розмари?
— Где я мог с нею видеться?
— Я невольно об этом подумала, потому что у меня действительно был пистолет. Только уже было поздно. Бруннер тоже был убит.
— Что-то я не замечаю, чтоб ты была в трауре, дорогая. А черное было бы тебе к лицу. И ты бы в нем казалась стройней.
— Пора тебе понять, мой мальчик, что стройностью я не дорожу, как твоя Розмари, напротив. В этом мире еще не перевелись мужчины с нормальным вкусом.
— Значит, упустила брильянты… — обобщаю я. — Мне стоило такого труда обеспечить их тебе, а ты под конец упустила их.
— Этого бы не случилось, если бы в тот день, прежде чем уехать из Лозанны, мы завернули ненадолго к Виолете. Но я не знала, где ее вилла. А ты знал, и ключ был у тебя в кармане, но меня ты туда не повез.
— А знаешь, чем бы это кончилось, если бы мы туда заехали? Мы до сих пор лежали бы там с тобой вдвоем, в том бункере, и никто не смог бы нас вызволить, потому что никто, кроме меня, и не подозревал о существовании этого бункера. И если я говорю: «До сих пор лежали бы с тобой вдвоем», то тебе, должно быть, ясно, что не в любовных объятиях, а в холодных и мерзких — в объятиях смерти.
— В самом деле… Эта гадюка Виолета уже была начеку… Мне и в голову не пришло…
— Но ты, дорогая, по крайней мере те чемоданчики сумела обследовать? Там было немало дельных вещиц…
— Чего их обследовать. Унесла целиком, и теперь они лежат в банковском сейфе на мое имя. Конечно, это не брильянты. Но я не жадна. Если у тебя есть интеллект, можно прожить и без брильянтов. В них нуждаются только такие легкомысленные особы, как твоя Розмари. Найдет себе вертопраха вроде тебя, не знающего цены деньгам, и быстро спустит свои камушки. А у меня другие планы…
— По торговой части… — догадываюсь я. — Фрау Пульфер…
— С фрау Пульфер у меня нет ничего общего, мой мальчик. Розничная торговля меня не прельщает.
— Понимаю. Ты откроешь отель.
— Отель — это неплохо, — кивает Флора. — Но он медленно окупается. Нет, лучше я открою шикарный ресторан в каком-нибудь шикарном месте…
— А меня не возьмешь в компаньоны?
— И не подумаю.
— Но ведь должность домашнего пса еще не занята?
— Да, но мне бы не хотелось одновременно заводить и домашнюю змею. У тебя, мой мальчик, характер не дай бог. Не говоря уже о том, что ты любишь вести двойную игру, и командовать ты не прочь…
— Не подозревал, что ты такого мнения обо мне, — сокрушенно говорю я.
— В сущности, я бы могла тебя взять, если бы ты не был замешан во всяких опасных делах, связанных с политикой. Сам замешан, значит, и я могу оказаться замешанной. Нет, Пьер! Деньги я люблю, но и покой мне дорог.
— Ясно: тебе нужен муж.
— Если мне понадобится муж, без труда найду. Хотя и рост и вес у меня не такие, как у твоего американского феномена. Верно, число мужчин с нормальным вкусом катастрофически падает, но я не теряю надежды, мой мальчик.
— Раз только за этим столиком их двое…
— Приятно слышать, — восклицает она таким тоном, словно другого и не ожидала. — Но мне, пожалуй, пора.
Я провожаю ее до лестницы и стоически выношу ее дружеское рукопожатие.
— Если когда-нибудь судьба забросит тебя в мой ресторан — где он будет, я пока не знаю, — можешь не сомневаться, обед тебе поднесут за счет фирмы, — обещает она. Сделав несколько шагов, Флора оборачивается и добавляет, чтобы я не слишком обольщался: — Первый обед!
Я иду на место, чтобы расплатиться.
— Какая женщина! — произносит Борислав с оттенком восхищения.
— Женщина что надо, — соглашаюсь я. И вот мы снова летим по серой ленте шоссе, извивающейся среди изумрудных холмов. Только теперь уже за рулем Борислав, что дает мне наконец возможность призвать в союзники сон, в котором, как известно, иные склонны видеть младшего брата смерти. Но с младшим братом общаться не опасно, гораздо страшней объятия его старшей сестрицы.
— До чего же надоело слушать эти ваши истории, — откровенно заявляет Борислав. — Брильянты, брильянты…
— А каково мне?
— И что в них особенного, в этих брильянтах? — продолжает рассуждать мой друг.
— В том-то и дело, что ничего особенного. Чистый углерод.




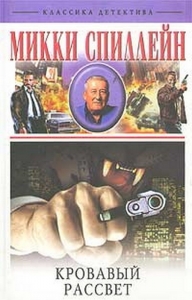
Комментарии к книге «Тайфуны с ласковыми именами», Богомил Райнов
Всего 0 комментариев