Евгений Воеводин Эдуард Талунтис ТВЕРДЫЙ СПЛАВ Повесть
Художник Ю. Г. МАКАРОВ
1
В тот день Пылаев возвращался домой пешком, отпустив машину. Мела пурга. Откуда-то сбоку на фонари налетали миллиарды снежинок. Они вырывались из темноты, мелькали, исчезали, и Пылаеву представилось, что вот точно так же мошкара летит на свет лампы и падает, обжигая крылышки.
Внизу, в парадном, Пылаев долго сбивал с шинели снег, стряхивал его с ушанки, ощущая морозную свежесть, занесенную им сюда, на теплую лестницу. На втором этаже он позвонил и вскоре услышал привычный ему лязг непокорной задвижки.
Двери открыла жена, наспех поцеловала его, бросила второпях:
— У меня пироги подгорают… Подарок на диване, а со стола ничего не хватай, пожалуйста. — И убежала в кухню.
— Вот всегда так, — засмеялся Пылаев. — В свой день рождения хожу голодный. Кого вы тут наприглашали без меня?
Он знал примерно, кто должен быть. Еще неделю назад мать позвонила Павлу Федоровичу: ее дружба с нынешним начальником Пылаева, генералом Черкашиным, была старинная. Генерал, конечно, придет, он любит бывать у них. Любит посидеть на диване рядом с матерью и — в который раз! — перелистать альбом с уже потускневшими от времени фотографиями. Вот он и Пылаев-старший, в островерхих буденовках, с тяжелыми маузерами на поясах; вот они же — в комнате за столом склонились над бумагами: снимок сделан в Петроградской ЧК.
Это была их молодость, и они могли вспоминать ее без конца, всякий раз находя в памяти что-то новое, не стершееся с годами.
Здесь, дома, генерал звал его, Пылаева, просто Сережкой. Это не мешало ему быть к подполковнику Пылаеву очень требовательным на службе. И Пылаев отлично понимал, откуда идет эта требовательность. Просто Черкашин, который любил повторять: «Мы с твоим отцом горы ворочали», — хотел, чтобы подполковник был не хуже погибшего в 1923 году Пылаева-отца.
Приедет сегодня и капитан Шилков. Будет долго смущаться в непривычной для него обстановке, потом обязательно заведет с Черкашиным разговор издалека — нельзя ли снова перевести его в помощники к Пылаеву, а потом будет петь негромким и очень приятным голосом. И наверное Черкашин снова скажет: «Женить надо соловья», а Шилков опять смутится и вспыхнет.
Придут родные. Обязательно будут три друга еще школьных лет. Они появятся, как появлялись в детстве, все вместе, со своими обычными в таких случаях шутками — «расти большой», «слушайся маму», «носи калоши»… И, конечно, придумают что-нибудь вроде той бутылки вина с натянутой на горлышко соской.
Пылаев с улыбкой представлял себе все это и прислушивался к шуму, доносившемуся из кухни. Там гремела посуда и слышно было, как мать, Нина Георгиевна, все ахала: «Опять забыли нарезать хлеб… Господи, уже девять!.. Леночка, иди одевайся, сейчас придут… Хотя нет, давай открывать консервы».
Гости стали собираться к половине десятого, и когда зазвонил телефон, за шумом звонок услышали не сразу. Трубку взяла мать.
— Павел? Ну что же ты не идешь — все уже остыло… Что? Хорошо, сейчас передам. — Она позвала из соседней комнаты Пылаева.
Звонил генерал Черкашин. Он поздравил Пылаева, шутливо пожелал «расти большим и умным», а потом сказал, что прийти сегодня он никак не сможет. Пылаев не стал расспрашивать: не может — значит дела. А когда Черкашин суховато сказал в трубку: «Товарищ подполковник, машину за вами я уже послал», — Пылаев понял, что эти дела относятся и к нему.
Через минуту Пылаев был уже в шинели и ушанке; гости гурьбой вышли проводить его на площадку и в один голос уверяли, что с места не сойдут до его возвращения.
По дороге на аэродром Пылаев с большим трудом подавлял возбуждение, которое охватывало его всякий раз, когда он приступал к новому делу, зная, что от того, как быстро он сможет завершить следствие, зависит очень многое…
Пурга хотя и затихала понемногу, но все еще мела. Реже и реже становились порывы ветра, но нечего было надеяться на то, чтобы вылететь сейчас. В уютном кабинете начальника аэропорта Пылаев с досадой смотрел в окно, в непроглядную темень, проклиная пургу. Он перевел взгляд на сидевшего рядом пожилого пилота. Но опытный летчик отрицательно покачал головой: немало повидал он на своем веку всякой непогоды и знал, когда можно поднимать самолет.
Они все-таки вылетели в эту ночь. И только тогда, когда внизу расплылись и исчезли огни пригорода, когда Пылаева окружила глухая, непроницаемая темнота, ему стало легче.
Он мысленно возвращался к недавней беседе с Черкашиным. Генерал коротко рассказал ему, что произошло: в районе Сухого Лога, возле восьмой заставы, обнаружен нарушитель границы. Нарушитель стал уходить и был ранен, по-видимому смертельно… Данных о нем пока никаких нет, их надо получить — вот и все, что мог сказать Пылаеву генерал Черкашин.
* * *
Начальник заставы капитан Савельев не ожидал, что следователь приедет так быстро. Хорошо еще, что все время держали чайник горячим и теперь можно было предложить подполковнику чаю. Однако Пылаев от чая отказался и сразу же спросил, где раненый.
— Он умер, — нахмурившись, ответил Савельев. — С полчаса назад, не приходя в сознание. Операция не помогла.
Хотя Пылаев мог это предполагать, но тем не менее он все-таки надеялся, что удастся допросить раненого: это значительно облегчило бы его задачу.
— Ну, а вы-то чего расстроились? — сказал Пылаев, заметив, что Савельев чувствует себя виноватым. — Ваши пограничники отлично стреляют, не пропустили нарушителя, а это, в конце концов, главное. Давайте-ка пить чай — вы, кажется, собирались угощать меня?..
— Да, но… Я же знаю, как он был нужен… живой.
Пылаев растирал озябшие пальцы и молча разглядывал вещи, разложенные на савельевском столе, — пистолет, паспорт, какую-то бумажку с карандашной записью, раскрытый портсигар и красный спичечный коробок с изображением белого голубя — такие коробки появились совсем недавно. Тут же лежала другая коробка, вернее футляр, обтянутый мягкой кожей. Пылаев спросил:
— Ампулы?
— Да, яд.
Подполковнику принесли горячий чай, и он, присев к столу, начал пить его мелкими глотками, обжигаясь, и все продолжал издали посматривать на вещи, найденные у нарушителя.
Когда-то в детстве мать приучала его к терпению. Как бы ни хотелось ему в те годы делать все сразу, единым махом, Нина Георгиевна всегда останавливала его и напоминала о том, что в спешке обязательно получится что-нибудь да не так… Мало-помалу он привык к этой неторопливости, даже медлительности, — научился сдерживаться, хотя часто и потом у него, человека взрослого, закипало в душе острое, как в детстве, желание делать все с налета.
И теперь, за стаканом чая, он снова сдерживался, зная уже по долгому опыту, что первый осмотр вещей может дать многое для размышлений и выводов. Он глядел на пистолет — обыкновенный советский «ТТ» выпуска 1942 года; иностранные разведки не любят компрометировать себя. В портсигаре лежали папиросы «Беломорканал». Больше всего ему хотелось прочитать записку, но издали невозможно было разобрать, что там написано.
Чай был допит, от второго стакана Пылаев отказался. Он взял со стола паспорт и записку. Савельев, не желая мешать ему, отошел и сел на диван.
Подполковник раскрыл паспорт.
С фотографии на него глядело чуть вытянутое, ничем не приметное лицо, разве что только в краешках губ лежали твердые, волевые складки. «Степанов Иван Дмитриевич, год рождения 1909, город Калуга, русский…» На второй странице штамп прописки в том городе, откуда только что приехал Пылаев: Морской проспект, 18, квартира 21. На первый взгляд трудно, даже невозможно было определить, подделка ли это, да Пылаев и не торопился: выяснится позже, в лаборатории.
Записка его заинтересовала. Торопливо, неровно, будто ее автор боялся, что ему помешают, в ней было написано:
«Родные мои! Скоро мы увидимся, я жив! Вам все расскажет податель этой записки — мой друг по долгим годам скитаний. Но главное — я скоро увижу вас. О нас уже знают и собираются, как я слышал, вызволять… Скоро, скоро мы снова будем вместе. Все эти годы я только и жил надеждой на встречу с вами. Целую вас крепко, дорогие мои. Владимир».
Пылаев взял в руки портсигар. Массивный серебряный портсигар с золотой монограммой на крышке — хитроумно переплетенные инициалы «ВТ». Подполковник взглянул на пробу: рядом с цифрой «84» была отштампована крохотная античная головка, еле различимая глазом, и тут же стояла фамилия владельца фирмы: «П. Чуксановъ».
Савельев, видя, что подполковник особенно внимательно осматривает портсигар, приподнялся.
— Там инициалы — «ВТ». Возможно, Владимир Т. и есть автор записки?
— Почему? — живо возразил Пылаев. — Почему вы так думаете? — повторил он. — Портсигар дореволюционный, вполне мог попасть за границу к какому-нибудь Бениамину или Бобу — ведь наше «в» читается как «б» в языках с латинским алфавитом.
Савельев молчал, раздумывая над возражением Пылаева. А тот уже перешел к осмотру пистолета и обоймы, в которой недоставало трех патронов: значит, нарушитель все же успел выстрелить три раза. Спички в коробке были обычные, но все равно их вместе с папиросами подвергнут в лаборатории тщательному анализу. Яд в ампулах — тоже. Положив на стол кожаный футляр с ампулами, Пылаев прошелся по комнате и, еще раз взглянув на разложенные вещи, сказал:
— Маловато…
Несмотря на то что подполковнику Пылаеву приходилось решать порой очень трудные задачи, вести и выяснять крайне запутанные дела, которые поначалу, казалось, не давали и малейших надежд на успех, — несмотря на все это, он скорее почувствовал, чем понял, что это дело, пожалуй, одно из самых трудных. Разговор с пограничником, ранившим нарушителя, ничего не прибавил к тому, что Пылаев уже знал.
— Гляжу — удирает, а здесь еще пурга. Уйдет, думаю, и следа не оставит… Ну, я и… — рассказывал с лукавой усмешкой бойкий ярославский паренек.
Потом Пылаев попросил Савельева распорядиться, чтобы аккуратно запаковали всю одежду нарушителя. А все остальное он сам осторожно уложил в чемодан. Было шесть часов — раннее утро. Значит, домой он сможет попасть только к полудню, да и то если пурга утихнет совсем. Летчику незачем снова рисковать, раз уже нет спешки.
Успокоившись окончательно, Пылаев почувствовал, что устал. Он отвык от бессонных ночей — генерал запретил всем сотрудникам ночную работу, за исключением особых случаев.
Надо было сообщить обо всем Черкашину, и Пылаев, взяв трубку, вызвал комендатуру: оттуда была связь с городом по ВЧ.
2
Ася иной раз остро тосковала по дому. Особенно вечерами. Ложась спать и закрывая глаза, она ясно видела родной город. Ей вспоминались улицы, взбегающие на холмы — недавно застроенные окраины… В памяти ясно вставало багровое, в полнеба, зарево, полыхающее над городом в те часы, когда на комбинате давали очередную плавку. Огромные домны, ровные ряды серебристых пузатых кауперов, дымки, висящие над трубами, — все, все вспоминалось ей с такой отчетливостью, будто она видела это только что наяву и стоит открыть глаза, как появится перед ней с детства знакомый и милый сердцу облик Магнитки.
Но приходил день, начинались занятия в институте, подготовка к семинарам, затем прогулки с институтскими друзьями, кино — и тоска эта забывалась. Матери Ася писала подробные и спокойные письма: зря она тревожится, здесь очень хорошо.
Ася писала ей обо всем. И о том, как ранним утром они, студенты, штурмуют автобусы, идущие к центру, и о том, как кормят в студенческой столовой, и о новом спектакле. Но больше всего — о друзьях, о занятиях, наконец о том, что денег ей хватает, пусть мама не беспокоится.
Тем не менее два раза в месяц мать присылала по почте переводы. Ася понимала: конечно, маме тоже тоскливо одной и, наверное, только на работе она забывает временами о дочке. Иной раз Асе какими-то короткими и несвязными обрывками, когда самого себя видишь словно бы со стороны, припоминалось детство.
… Незадолго до войны сталевар-новатор Дробышев получил новую квартиру. Ася вспоминала, как отец впервые повел ее туда: в пустых еще комнатах гулко раздавались голоса и шаги, а главное — было просторно, и Ася даже жалела, что квартиру заставили мебелью, когда они переехали…
Как-то раз, уже на новой квартире, она проснулась ночью и услышала, что в кухне журчит вода и кто-то фыркает, плещется, отдувается.
Ася слезла с кровати и босиком прошла по коридору. Посреди кухни стоял отец и вытирал полотенцем лицо. Увидев удивленную Асю, стоящую в одной рубашонке, он схватил ее на руки:
— Ты что, Асёнка?
— А я услышала и пошла. Ты чего моешься? Сейчас ночь ведь…
Отец, прижимая ее к себе, тихо рассмеялся:
— Глупышка ты, Асёнка. Я устал и пошел мыться, вот и все.
Он принес ее в комнату, уложил в кровать, укутал одеялом и сам присел рядом. Внизу, на улице, изредка проходили машины, и по потолку из одного угла в другой проплывали желтые полосы света от их фар.
— А зачем ты ночью работаешь? — спросила Ася.
— Зачем? Да вот, понимаешь… Как ты думаешь, железо крепкое?
— Да.
— А сталь? Вот тот брусок, что у меня на столе лежит?
— Да.
— Ну, а я хочу такую варить сталь, чтоб самые крепкие и самые сильные машины из нее делать. Поняла?
— Поняла, — вздохнула Ася, натягивая одеяло на подбородок. Ей хотелось спать, и когда отец снова тихонько рассмеялся — «Ничего ты не поняла…», — она уже закрыла глаза.
А утром они отправились на вокзал. На перроне он обнял ее, потом маму и долго махал рукой с подножки вагона.
Так он и ушел из ее жизни в тот июньский день за неделю до войны. Собственно говоря, что с ним случилось, она и мать так и не знают до сих пор. Об этом не знал никто, к кому бы они ни обращались, и тем не менее было ясно одно — он погиб: город, куда он приехал за несколько дней до войны, был превращен в руины и захвачен гитлеровцами в последних числах июня…
* * *
Ася много занималась. Шла зимняя сессия, и до экзамена по сопротивлению материалов оставалось два дня. Этого было необычайно мало, если учесть, что еще с первого курса студентов предупреждали: «Сопромат — наука самая серьезная. Если сдашь экзамен, можешь считать себя инженером». С утра до вечера Ася сидела с подругами над учебниками и конспектами, в который уже раз просматривая выученные формулы. Временами кто-нибудь из девушек поднимал голову и с тоской говорил:
— Графическое построение по Роберту Ланду — ничего не понимаю.
Или:
— Ой, девочки, еще упругие деформации остались. Может, не попадется мне это, а?
Утром и вечером в дверь просовывалась голова Саньки Бессмертного, секретаря курсового бюро. Он спрашивал свое обычное: «Зубрите? Ну, ни пуха вам…» — и исчезал, провожаемый ответными шутками, пожеланиями «…ни пера тебе» и смехом.
Наконец Ася просто не выдержала «великого сидения» и, наскоро дочитав главу из учебника, вышла на улицу. Ей надо было зайти на почту еще вчера она получила вторичное извещение на перевод от мамы.
На свежем морозном воздухе у нее слегка закружилась голова. Этой ночью мела пурга, и теперь на солнце чистый снег вспыхивал, искрился, и хотелось, как в детстве, схватить его полной пригоршней и поднести к разгоряченному лицу. Ася шла по проспекту, щурясь от этого яркого снега, и смотрела, как неуклюжие с виду, тяжелые машины сгребают его широкими совками.
На почте к окошечку с надписью «Выдача переводов и ценных писем» стояла большая очередь. Ася вздохнула: времени и так-то в обрез. Но хочешь не хочешь, а пришлось стать в очередь за высоким мужчиной в тяжелой старомодной шубе и меховой шапке. Девушка, выдававшая переводы, работала медленно, кто-то из очереди недовольно сказал:
— Молодая, а такая медлительная.
Высокий мужчина сразу ответил:
— Так ведь дело-то у нее денежное, а деньги счет любят.
Едва ли кого утешила эта поговорка. У Аси тоже терпение кончалось, она уже подумывала, не прийти ли сюда завтра.
Наконец подал свой паспорт и квитанцию высокий мужчина. Опираясь локтями о барьер, он глядел, как девушка сверяет фамилию, пишет… Потом она спросила:
— Как ваша фамилия?
— Дробышев, — ответил высокий. — Там же написано.
— Сергей Игнатьевич?
— Да-да.
Ася вздрогнула, почувствовав, как вся кровь отхлынула от лица, как ослабели колени, а к горлу подступил клубок. Она глядела на этого мужчину — и ничего не понимала.
Незнакомец даже отдаленно не напоминал отца.
Отец был синеглазый, как и Ася, с тонкими чертами лица, а этот Сергей Игнатьевич — полный, и лицо у него крупное, в тяжелых резких складках, дородное, самодовольное.
Дробышеву вернули паспорт вместе с деньгами. Не считая их, распахнув пальто, незнакомец начал засовывать купюры во внутренний карман пиджака и только тут заметил взгляд Аси — удивленный, растерянный и испытующий сразу. Ее сзади подталкивали. «Ну что же вы, теперь ваша очередь», — но Ася ничего не слышала: она была словно оглушена.
Уже потом, на улице, успокоившись окончательно, она не могла понять, зачем тогда вышла из очереди и остановила незнакомого Дробышева у выхода:
— Простите… вы — Сергей Игнатьевич… Дробышев?
— Да.
На Асю смотрели чужие, холодные глаза, но она все-таки решилась спросить еще:
— Вы никогда не бывали в Магнитогорске?
Дробышев, казалось, заинтересовался: брови у него дрогнули и поползли вверх.
— Нет, не был. А, собственно, почему вы меня об этом спрашиваете?
— Простите, я… Моя фамилия — Дробышева, а мой отец — Сергей Игнатьевич. И я… — Она совсем запуталась, только теперь сообразив, что поставила себя и его в глупое положение, и, покраснев, снова сказала: — Простите.
Дробышев улыбнулся:
— Нет, милая девушка, я не причастен к вашему появлению на свет.
Кивнув ей и любезно улыбнувшись еще раз, он пошел к выходу.
«Дура, дура, какая дура! — твердила Ася всю дорогу до общежития. — Так, ни с того ни с сего, подойти к человеку… Ах, как все нехорошо получилось!». Настроение было вконец испорчено, она не замечала вокруг ничего: ни снега, ни смешных воробьев, деловито шныряющих по мостовой, ни прохожих. В общежитии, поспешно раскрыв учебник и спрятав за ним лицо, Ася напрасно перечитывала по нескольку раз одну и ту же страницу: смысл до нее не доходил.
…Отец уехал на металлургический завод в другой город, и туда же, кажется, должен был приехать один инженер — его фамилии Ася не знала, — который вместе с отцом разработал состав твердого сплава: им оставалось только провести испытания на заводе.
Что было потом? Потом получили письмо. Папа писал: «Опыты нам пришлось временно прекратить: война все перевернула. Нас хотят отправить на Урал, но ты сама понимаешь, что я в тыл не собираюсь». Мать не плакала, но поседела за те годы…
Ася решила, что не будет писать матери об этой встрече, что надо взять себя в руки, но противный клубок вновь подступил к горлу, и, уронив голову на книжки, девушка тихо заплакала.
В это время в дверь просунулась голова Саньки Бессмертного. Он раньше других заметил, что Ася плачет, и, присвистнув, вошел в комнату.
— Насколько я понимаю, разрыв дипломатических отношений с таблицей экваториальных моментов инерции? Вот чудачка, чего же плакать-то? Хочешь — объясню?
Девушки уже столпились возле Аси, чья-то рука ласково гладила ее по волосам. Никто не понимал, что с ней случилось: только что все было хорошо, и вдруг — нате вам!
— Ася, что ты?
— Да так… — Она вытерла глаза. — Просто так.
— Случилось у тебя что-нибудь?
— Да нет же. Ничего не случилось.
Все ждали, что Бессмертный пустит в ход свою любимую поговорку: «Каждая девушка — небольшой слезоточивый агрегат». Но сейчас ему было не до шуток. Ася, не сдержавшись, заплакала громче и, не стесняясь больше своих слез, сквозь всхлипывания повторяла: «Я… думала… это он… Господи, как глупо…»
И она рассказала подругам все. Бессмертный, хмуро глядевший в окно, вдруг повернулся, подошел к ней и, положив свою руку ей на плечо, тихо сказал:
— Успокойся, Ася. Я понимаю, у меня у самого батька погиб на войне. Что ж тут поделаешь… И занимайся спокойно все-таки. Или, может, пойдем прогуляемся, а?
Они вышли на улицу. Уже стояли сизые ранние сумерки, но фонари еще не зажглись. Медленно они прошли по набережной, молча постояли у моста, следя, как над рекой, не покорной морозу, поднимается пар. Потом они пошли дальше, мимо сада с белыми, заиндевевшими деревьями. Бессмертный спросил:
— Говоришь, отец у тебя пропал без вести?
— Да. В сорок первом.
У одного из зданий на широком проспекте Бессмертный остановился, раздумывая над чем-то. Наконец он взял Асю под руку.
— Видишь ли, Асенька… Как бы это тебе сказать… Странное какое-то… совпадение. Ты не обижайся на меня… Хотя чего же тут обижаться, собственно?.. Сейчас ты пройди туда и все расскажи.
— Куда? — не поняла Ася.
— Да вот в этот дом. Спросишь, как пройти к следователю. А я подожду тебя здесь.
Ася кивнула. С минуту она стояла, рассматривая широкие, ярко освещенные окна, а потом, взглянув на Бессмертного, словно выдохнула:
— Да, я пойду…
Он остался на тротуаре и смотрел, как Ася перебежала улицу, задержалась у высоких дверей и, наконец, открыла их…
* * *
Перелистывая страницы показаний, которые были ему вчера переданы начальником отдела, Шилков недоумевал. Собственно, недоумевал он не потому, что дело казалось нестоящим (в конце концов бывают же совпадения), а потому, что из-за нестоящего, по-видимому, дела генерал отсрочил давно обещанный ему перевод обратно к Пылаеву.
На пяти страницах показаний А. С. Дробышевой не было пока ничего такого, что могло бы оправдать и объяснить это решение Черкашина. Девушка, конечно, правильно сделала, что пришла и рассказала об этой встрече, но, вернее всего, второй Сергей Игнатьевич Дробышев давным-давно живет в этом городе вместе с потомством и родичами… Это было нетрудно проверить: Шилков снял трубку и позвонил в адресный стол.
Когда ему ответили, что Сергей Игнатьевич Дробышев в городе не проживает, он все же не удивился: Дробышев мог оказаться в городе проездом. Капитан снова снял трубку и продиктовал запрос в Москву, в центральный адресный стол. Теперь надо было ждать и разве что зайти на почту, узнать, откуда пришел перевод Дробышеву.
В дверь постучали, и вошел подполковник Пылаев, как всегда чуть нахмуренный. Шилков обрадовался: за последнее время они виделись редко; даже позавчера, когда подполковник праздновал день своего рождения, поговорить не удалось. Пылаев поздоровался с капитаном, и Шилков, по каким-то ему самому неясным признакам, угадал, что его бывший начальник пришел неспроста.
— Новое дело? — спросил Пылаев, кивая на папку в руках Шилкова.
— Да.
— Жаль. Я хотел просить генерала, чтобы вас скорее перевели ко мне. У меня тоже новое дело и…
Он не договорил. Да и можно было не договаривать: Шилков и так понял, что дело это, видимо, трудное, иначе подполковнику не понадобился бы в помощники второй следователь. Шилков поспешно сказал:
— Мое может оказаться и пустяком, это выяснится через час. Так что, глядишь…
— А что у вас там?
Шилков рассказал ему, о чем вчера сообщила Дробышева. Выслушав капитана, Пылаев задумался, потирая пальцем висок.
— Да, черт его знает что это такое — полный тезка и однофамилец или что-нибудь другое, — сказал он вставая. — Во всяком случае, зайдите, когда выяснится.
Через час капитан зашел в кабинет Пылаева, держа в руках маленький листок бумаги.
— Ну что? — живо спросил его Пылаев. — На щите, со щитом?
— Сергей Игнатьевич Дробышев в Советском Союзе не проживает, — ответил Шилков. — А деньги пришли ему из Москвы, до востребования. Адрес отправителя — тоже До востребования.
Пылаев пробежал глазами строки телеграммы из центрального адресного стола и покачал головой:
— Тут, я думаю, тебе самому нужен помощник. Садись, будем думать вместе, у меня есть полчаса времени. Ясно одно: тебе придется ехать в Нейск, туда, куда в сорок первом уехал Дробышев.
— Да, я и сам уже думал об этом, — согласился Шилков.
3
Трамвай повез Пылаева на другой конец города. Справа от трамвайной линии высились дома, построенные незадолго До войны, а слева лежала снежная целина, уходящая к самому заливу. Когда-то в детские годы Пылаев бывал тут часто. На берегу, у самой воды, лежали тогда старые, рассохшиеся баржи, баркасы, шхуны, отслужившие свой срок. Здесь, среди полусгнивших досок, мачт и листов ржавого железа, мальчишки устраивали баталии. Он обычно возвращался домой в таком истерзанном виде, что можно было подумать, будто он побывал у настоящих пиратов. Теперь же знаменитый Васька-Корсар — вовсе не корсар, а Василий Тихонович, доктор биологических наук, Петька-Шкипер на самом деле водит большие океанские пароходы, а вот он, Сережка — Гроза Пяти Морей, не имеет к морю никакого отношения. И на берегу нет больше останков морских судов. Там, где прежде были загородные свалки да пустыри, выросли дома. В газетах недавно опубликованы снимки — проект Морского проспекта. Здесь года через два-три будет «второй город».
Но Пылаев приехал сюда не за тем, чтобы посмотреть на памятные и дорогие сердцу места или представить себе, каким станет Морской проспект. На работе, в столе, у него лежал паспорт, найденный у нарушителя границы: «Степанов Иван Дмитриевич… Морской проспект, 18, кв. 21». Паспорт был поддельный, это в лаборатории определили быстро. Однако Пылаева удивляло другое: Иван Дмитриевич Степанов действительно жил на Морском проспекте, 18, в квартире 21. Анкетные сведения о нем Пылаеву были уже известны.
Подполковник знал, что Степанов работает на авторемонтном заводе, инженер, демобилизовался из армии в 1946 году, приехал из Берлина на свою старую квартиру. Степанов — коммунист, член партии с 1939 года.
Он нарочно приехал в седьмом часу, когда Степанов должен был вернуться с работы. Пылаев не ошибся: управдом, отправившись к Степанову, застал его дома и вскоре вместе с ним вернулся в контору.
Еще утром, узнав, что Иван Дмитриевич Степанов проживает в городе, подполковник понял: как это всегда бывает, иностранная разведка использовала подлинные данные для фальшивого паспорта. Оставалось узнать, каким образом эти сведения о Степанове попали в разведку, — вот об этом он и должен был расспросить самого Степанова.
Перед Пылаевым сидел немолодой, седеющий мужчина. Он только что вернулся с завода, и Пылаев, прежде чем начать разговор, извинился, что не дал ему отдохнуть. Но Степанов предупреждающе поднял руку:
— Да чепуха, товарищ подполковник: дело прежде всего. Однако…
— У меня к вам один вопрос, — сказал Пылаев, — причем от вашего ответа… от точности вашего ответа зависит многое.
— Я слушаю вас.
— Там, в Германии, вы давали кому-нибудь свой адрес — Морская, 18, квартира 21?
— Конечно, давал, — улыбнулся Степанов. — Пожалуй, человек шесть однополчан мне до сих пор пишут.
Пылаев поморщился: не так он задал вопрос, поэтому и Степанов понял его неверно.
— Нет, я имею в виду местное население. Были ли у вас знакомые немцы, квартирный хозяин например, кому бы вы давали свой адрес?
Теперь Степанов задумался. Подполковник молчал; он знал, как трудно бывает припоминать мелочи.
— Нет, — сказал он наконец. — Квартирного хозяина у меня не было вообще, я жил в батальоне. Знакомые немцы? Были, конечно, были… Все время приходилось встречаться с представителями демократических организаций. С Гансом Крейгером я подружился: инженер, очень умный и славный человек. Но я уехал из Германии, не повидав его, и адреса не оставил.
— Этот Ганс Крейгер… — начал было Пылаев, но Степанов опередил его:
— Коммунист. Крейгер был десять лет в подполье, его знают все. Я понимаю, что-то произошло, иначе вы не пришли бы сюда, однако я, кажется, мало чем могу вам помочь… Хотя…
Он осекся, словно его кто-то незаметно толкнул в бок, и поглядел Пылаеву в глаза.
— Один раз я давал адрес… Да, да, я это помню, но… Дело это было… хозяйственное.
— А именно? — спросил Пылаев.
— Пройдемте ко мне, — предложил Степанов. — Я вам кое-что покажу.
Они поднялись по лестнице и вошли в просторную, неуютную, холостяцкую комнату. Первое, что бросилось Пылаеву в глаза, были книги. Сотни книг стояли на полках, занявших всю стену, они были сложены пачками в углу, лежали на столе. Слева — диван, покрытый потертым ковром, два кресла — возле окна и возле стола, ящичек с картотекой на маленьком круглом столике, рядом пепельница, битком набитая окурками, и пустой стакан в подстаканнике. Над столиком висело несколько фотографий красивой круглолицей женщины. Пылаев не стал спрашивать, кто это: война окончилась недавно, жилье у Степанова явно холостяцкое — мало ли что могло случиться у него в жизни. Незачем бередить старые раны.
Степанов открывал один ящик стола за другим, поднимал вороха бумаг, чертежей, книги и ворчал:
— Ведь только неделю назад видел. Куда она могла завалиться?
Наконец он нашел и протянул Пылаеву коробку. Пылаев открыл крышку: это была электрическая бритва, очень изящная, но, по-видимому, уже сломанная, иначе хозяину незачем было бы запихивать ее в самый дальний угол.
Степанов тем временем снова начал рыться в ящиках и вскоре протянул Пылаеву голубой конверт. Подполковник ждал: ни эта бритва, ни конверт пока еще ничего не говорили ему.
— Посмотрите письмо, — кивнул на конверт Степанов.
Письмо было написано по-немецки на пишущей машинке. Запинаясь на трудных словах, Пылаев прочитал, что фирма «PN и К°» давно прекратила выпуск электробритв и выражает сожаление по поводу поломки бритвы «герра Степанова». На конверте стоял адрес: «Морская, 18, кв. 21».
Пылаеву стало ясно, о чем хотел рассказать Степанов.
— Ну да, — словно бы согласившись с ним, сказал Степанов. — Еще когда перед демобилизацией я покупал эту бритву, я оставил в магазине свой домашний адрес. К бритве полагаются запасные части, а их тогда в магазине не было. Вот поэтому меня и спросили, куда их выслать.
— Этот магазин был в нашей зоне?
— Нет. Но ведь мы ходили по всему Берлину.
— И это все? Вы точно помните, что больше никому не давали своего адреса?
— Да, точно.
Пылаеву оставалось одно: распрощаться с хозяином и уйти. Помогая Пылаеву снять с вешалки пальто, Степанов сказал:
— Мы получаем на заводе зарубежные издания, я просматриваю их. «PN и К°» была ведь крупной стальной фирмой, а после войны, когда им запретили изготовлять пушки, они начали делать гребные валы, компрессоры и мелкие бытовые вещи. Но недавно я тут прочитал, что фирма получила большой заказ на броневую сталь.
— Это я знаю, — улыбнувшись, ответил ему Пылаев. — Крупная фирма. Только сейчас она в руках американцев.
Он пожал Степанову руку и вышел на улицу. Что ж, Степанов рассказал ему все, что мог, но какая же связь между бритвой, «PN и К°», пересылкой шпиона через границу, этой запиской от Владимира, портсигаром с инициалами «ВТ» и, наконец, с ядом, который, как выяснилось при исследовании, приводит к смерти, похожей на смерть от паралича сердца? Такой связи Пылаев еще не видел.
* * *
Ася Дробышева получила повестку зайти к следователю, когда последний, самый трудный экзамен — по сопромату — был сдан. Но хотя профессор поставил ей «хорошо», она все же была недовольна. А Бессмертный получил «удовлетворительно» и ходил гоголем. «Свалил все-таки! — радовался он. — Ну, теперь я могу считать себя без пяти минут академиком».
Ася ждала в вестибюле, пока ей выпишут пропуск, потом поднялась на четвертый этаж, нашла нужную комнату, постучала и, услышав громкое «да-да, войдите», открыла дверь. Навстречу ей поднялся незнакомый офицер — не тот, который несколько дней назад записывал ее показания.
— Товарищ Шилков? — спросила Ася, назвав указанную в пропуске фамилию.
— Да, товарищ Дробышева. Проходите, садитесь…
Когда Ася села и повернула лицо к свету, Шилков не поверил самому себе. Ну да, конечно, это была она, он мог бы узнать ее среди ста тысяч, эту девушку.
…Это было давно, еще осенью. Он возвращался на автобусе из-за города. Ему хотелось спать, и он на самом деле задремал, хотя автобус трясло, а он вдобавок сидел сзади, где трясет особенно сильно.
На одной из остановок в автобус вошла девушка в вязаной красной кофте. Она стала возле Шилкова. В автобусе было просторно, но Шилков поднялся и предложил ей свое место. Девушка поблагодарила и отказалась. Впрочем, когда капитан повторил свое предложение, она, не раздумывая больше, уселась и достала из сумочки книжку. Шилков стоял рядом и глядел на спокойное лицо, тонкий нос, на удивительно красивые, чуть раскосые глаза с пушистыми ресницами и темные брови — они придавали ее лицу то ли удивленное, то ли радостное выражение… Раз или два девушка оторвалась от книги, и они встретились взглядами. Но Шилков делал вид, что ничто на свете, кроме берез, мелькающих за окном, его не интересует.
На конечной остановке она вышла из автобуса и свернула в какой-то переулок, а Шилков, давно пропустивший свою остановку, выругал себя за легкомыслие и поехал обратно. Потом он часто ее вспоминал.
И вот сейчас, когда эта девушка сидела перед ним, он поначалу растерялся, а потом, справившись с нахлынувшим на него волнением, заметил, что она тоже смотрит на него пристально, будто пытается что-то вспомнить — и не может.
Шилков попросил еще раз рассказать все то, что он уже знал из ее показаний. Его интересовали сейчас подробности. Как была фамилия того инженера, с которым Дробышев работал над составом нового твердого сплава? Знает ли эту фамилию ее мать? Вряд ли? И где, в каком городе, жил этот инженер, она тоже не припомнит? Все равно — придется узнать у матери.
Они говорили около часа. Когда Шилков поблагодарил ее и подписал пропуск, Ася сказала:
— Простите меня, товарищ Шилков, но, по-моему, я где-то видела вас.
— Видели, — согласился Шилков.
— А вот где — не могу вспомнить.
— Девичья память, — пошутил он. — Хотя, собственно говоря, разве вспомнишь всех, с кем встречаешься на улице?.. — Он чуть не сказал «в автобусе», но вовремя спохватился.
Дробышева ушла. Он снова раскрыл лежащую на столе папку, пробежал первые строчки показаний и поймал себя на том, что думает о постороннем. Он досадливо поморщился: что за черт, какое-то мальчишество, а самому все-таки двадцать семь лет. Не знал он, конечно, что и Ася долго вспоминала и наконец-то вечером вспомнила, где она видела этого высокого мужчину. Он только был тогда в штатском, поэтому, верно, она и не узнала его сразу.
Вечером за ней зашел в общежитие и буквально вытащил ее в театр Борис Похвиснев. Ей не хотелось идти, но он упросил ее… Борис ей не очень нравился, она мало знала его, этого красивого самоуверенного юношу. Они познакомились на институтском вечере, и потом все девушки наперебой уверяли Асю, что Борис влюблен в нее по уши.
«Значит, его фамилия — Шилков», — неожиданно подумала Ася в антракте.
* * *
Жизнь капитана Шилкова сложилась нелегко. Восемнадцати лет — возраст, когда только начинают любить и понимать жизнь, — его призвали в армию, и он ушел из своего родного села Большие Броды, не предполагая, что больше ему никогда не доведется увидеть родной дом, мать, могилу отца, убитого в тридцатом году кулаками. Трудными были фронтовые дороги — думать о себе было некогда. Однажды ему показалось, что он полюбил санитарку Валю, но она погибла в одном из боев, и ничего, кроме горечи, злобы на гитлеровцев да острого желания расплатиться сполна и за эту смерть, у Шилкова не осталось.
До Берлина он не дошел: ему раздробило кисть левой руки, и День победы он встретил слушателем следственной школы, куда его, молодого коммуниста, направил политотдел.
И вот уже несколько лет, закончив школу, он работает в этом городе, снимает комнату у старушки — преподавательницы пения — за полтораста рублей в месяц, иной раз пьет с ней вечером чай с вареньем и с удовольствием слушает ее рассказы о Шаляпине и Собинове: когда-то старушка пела в хоре Мариинского театра и была ученицей «самого Милия Алексеевича Балакирева».
— Не понимаю я вас, молодежь, — говорила она. — Разве мы в свое время не работали? А ведь умели веселиться. А вы? На работу — к девяти, с работы — после девяти…
— После двадцати одного, — отшучивался Шилков.
— Вот именно, даже время называете как-то не по-человечески. Вы и девушкам свидания так назначать будете: «Жду вас в двадцать ноль-ноль»? Ничего, что я беспартийная, я понимаю — у вас особая работа. Но никогда я не поверю, чтобы от вас требовали такой… такого… как бы это сказать… пуританизма, что ли?
Шилков смеялся, говорил, что ему интереснее всего с ней, с хозяйкой, а старуха нападала снова:
— Если хотите знать, вы тюлень. И не женитесь никогда — ваша жена будет несчастным человеком.
Пейте лучше чай, я приготовила для вас брусничное варенье.
Сама того не желая, она больно задевала его. Ей и в голову не приходило, что часто после таких разговоров ее постоялец долго не мог уснуть, выкуривая одну папиросу за другой.
Шилков думал о том, что так продолжаться не может, что надо изменить образ жизни — сходить в театр, что ли, или заглянуть хоть раз во Дворец культуры на танцы. Но с утра начинались дела, и он забывал о театре, Дворце культуры и о своем одиночестве. Были у него в городе знакомые — люди, с которыми его когда-то столкнули дела и к которым он искренне привязался. Но по-настоящему он был все-таки привязан только к семье Пылаевых.
Впервые он появился в доме Пылаевых после того, как вместе с Сергеем Андреевичем участвовал в одной из операций. Тогда, вместо того чтобы отпереть дверь, человек, к которому они пришли, начал стрелять. Пули буравили дверь. Шилков, услышав последний, восьмой выстрел, понял, что шпиону понадобится несколько секунд на то, чтобы зарядить пистолет новой обоймой. Он высадил дверь плечом и сам упал, не рассчитав силы удара. Это его спасло: по нему стреляли в упор, трудно было промахнуться с двух метров, и одна пуля чиркнула его по плечу.
Рана Шилкова оказалась пустяковой, но когда ему сделали перевязку, Пылаев заставил его сесть в машину и повез к себе, хотя Шилков требовал, чтобы его отвезли домой, и клялся честно лежать в кровати. Две недели Шилков прожил у подполковника.
Пожалуй, за многие годы он впервые по-настоящему почувствовал, что такое семья. И всякий раз, бывая потом у Пылаевых, он неизменно уносил с собой часть того ровного душевного тепла, которым эта семья щедро делилась с ним.
И сейчас, собираясь в командировку, Шил-ков непременно хотел забежать к Пылаевым: что говорить, ему будет не хватать их там, в Нейске.
Он зашел к ним вечером в субботу; поезд уходил наутро. Но, войдя в прихожую, он понял, что пришел не вовремя, хотя все и обрадовались его приходу.
— Мы — в театр, — объявил ему Пылаев. — Как ты насчет развлечений?
Вопрос был задан лукаво: Пылаев отлично знал, что его бывший помощник в лучшем случае ходит в кино.
— Ну, конечно, он пойдет с нами, — заявила Нина Георгиевна. — Билет купим с рук — авось, какой-нибудь влюбленный поссорится со своей подругой и билет достанется нам.
— Идем, — решил Пылаев. — И никаких разговоров, товарищ капитан. Раз мой домашний генералитет решил — надо выполнять.
По дороге в театр женщины — мать и жена Пылаева — посмеивались над смущенным Шилковым:
— А вы бы хоть спросили, куда мы вас ведем…
— В театр, — уныло отвечал Шилков под дружный смех Пылаевых.
Вдруг Нина Георгиевна сказала серьезно:
— А я вот иду и волнуюсь. Сегодня Луизу Миллер играет моя ученица, Татаринова; господи, ведь давно ли девчонкой она была!
Она рассказала, что в четвертом классе нынешняя артистка была сорванцом, да таким, что и мальчишки не могли угнаться за ней по части всяких выдумок. Это надо было уметь — провести под партами «канатную дорогу» из ниток и на уроке пересылать с первых рядов на «Камчатку» записки.
— Иду и волнуюсь. А чего — и сама не знаю.
Сидя в ложе, вдали от Пылаевых, Шилков смотрел на людей, на ровные ряды партера, на галерку, уже до отказа забитую молодежью. И неожиданно для себя почувствовал, что в этой непривычной обстановке ему хорошо и покойно.
Актриса Татаринова, игравшая Луизу, не произвела на него поначалу впечатления — просто очень миловидная, скромная девушка вышла на сцену и говорила обычным, каким-то «домашним» голосом. И когда зал шумно аплодировал ей, Шилков понял, что он, конечно, мало разбирается в искусстве.
В антракте он встретился с Пылаевыми.
Все пошли в буфет, сели за столик: женщины потребовали лимонаду, мужчины — пива.
Капитан огляделся и вздрогнул: в буфет вошла Ася с высоким красивым юношей. Пылаев заметил, что Шилкову не по себе, и проследил его взгляд. Он увидел, как юноша пододвинул спутнице стул и жестом завсегдатая подозвал официанта. Девушка Пылаеву понравилась, молодой человек — не очень. Он недолюбливал красивых мужчин.
Ася увидела Шилкова в следующем антракте и, кивнув ему, отошла от своего спутника.
— Здравствуйте, товарищ Шилков. Простите меня еще раз, но… я хотела бы знать… понадобилось ли вам то, что я рассказала?
— Ну, — засмеялся Шилков, — сейчас я никак вам этого не смогу сказать. Я понимаю, вас интересует другое — судьба отца. Будем надеяться, мы что-нибудь выясним. Но, простите, вас ждут…
— Ничего, — махнула рукой Ася, едва заметно поморщившись, и тут же улыбнулась. — А знаете, я ведь вспомнила, где видела вас: в автобусе, по дороге из Солнечногорска.
Молодой человек подошел к ним и, щелкнув каблуками, наклонил голову. Шилков взглянул на него и протянул Асе руку.
— А вот теперь уже меня ждут, — сказал он.
Пылаевы в один голос спросили Шилкова, кто эта славная девушка, с которой он только что разговаривал. Шилков ответил «знакомая», и никто, казалось ему, так и не понял, почему он улыбнулся при этом.
Но они поняли всё, да и нетрудно было понять, что творилось в его душе, — для этого вовсе не надо быть следователем.
Домой он вернулся в первом часу. Хозяйка ждала его, и когда он лукаво спросил, не знает ли она, где он был, старушка всплеснула руками:
— Батюшки, неужели сагитировала?
Лежа на диване, Шилков долго не мог уснуть, курил, припоминая историю с Дробышевой. Он думал о том, как начнет следствие в Нейске, потом мысленно снова вернулся к Асе.
— Вот дурень, — неожиданно громко сказал он и, рассмеявшись, погасил свет…
4
Шилков уже привык к тому, что в его работе нет, да и не может быть таких случаев, когда, словно по волшебству, по заветному слову «сезам, отворись», тайное станет явным и нужные для следствия сведения поплывут к нему сами.
Когда поезд подходил к перрону в Нейске, Шилков стоял в тамбуре и с нетерпением ожидал, когда, наконец, он сможет оставить чемодан в гостинице и сразу же отправиться на комбинат.
Но в гостиницу он все-таки пошел пешком, чтобы ознакомиться с городом. Еще несколько лет назад все газеты и журналы страны обошли страшные снимки руин этого города. Когда наши войска освободили Нейск, в городе не осталось ни одного целого здания — все было уничтожено огнем и взрывчаткой.
А вот, смотри ты, — много ли прошло лет, а будто бы и не было здесь развалин. Правда, казалось, что город еще очень молод: вон стоит огромный, просторный Дом металлурга, а перед ним в колдобине буксует грузовик, и шофер, высунувшись из кабины, отчаянно кроет «этих строителей». Чудак-человек, и Москва ведь не сразу строилась! Дальше, за жилыми домами, хорошо видны домны нового комбината… Нет, Шилков не жалел, что пошел пешком: возможно, какому-нибудь любителю архитектуры ничего не приглянулось бы здесь. А Шилкову город пришелся по душе — ему всегда нравились большие стройки.
В тот же день Шилков пошел на комбинат. У начальника отдела кадров было полно народу и так накурено, что даже у Шилкова, ярого курильщика, перехватило дыхание. Пришлось ждать, когда народ разойдется и хоть немного затихнут бесконечные телефонные звонки.
Шилков сидел и слушал, как начальник отдела кадров куда-то звонил и не то убеждал, не то просил, а то и слезно молил «устроить на жилье небольшую группу» комсомольцев-строителей, прибывших сегодня, — всего каких-нибудь пятьсот человек…
Наконец народ мало-помалу разошелся, — они остались вдвоем. Начальник отдела кадров открыл форточку, крикнул за дверь «меня нет» и сел напротив Шилкова, устало проведя рукой по лицу.
— Задержал я вас, да сами понимаете… Так я слушаю вас.
— Вы давно здесь работаете?
— Два года.
— Мне нужны люди, которые работали на комбинате до войны. Инженеры-сталелитейщики, сталевары — словом, все, кто имел отношение к литейному производству. Есть у вас такие?
Тот задумался. Потом вышел в соседнюю комнату и вернулся с небольшой бумажкой.
— Вот список заводских старожилов. Только сталелитейщиков и инженеров здесь как будто нет. Ведь как оно было: город оккупировали в первые же дни войны. Кое-кто, семьи в основном, конечно, успели выехать, ну, а остальные подались к партизанам. Полторы тысячи рабочих здесь же, на комбинате, полегло — комбинат восемь суток держался. Война всех раскидала… Нет, это я точно знаю, что старожилов-литейщиков вы не найдете.
И все же Шилков пошел к тем людям, которые значились в списке. Он разыскивал их на строительных площадках, на обогатительной фабрике, в бухгалтерии. Уборщица, чье имя тоже было в списке, ответила ему:
— Нет, милый, не помню. Как ты говоришь? Дробышев? Дробинин у нас был, сторож на складе, погиб тогда, царствие ему небесное… Разве всех упомнишь?
Шилков вернулся в отдел кадров под вечер и, усталый, опустился в кресло, вытянув натруженные ноги.
— Кто был директором комбината, когда началась война? — спросил он.
— Казанцев. Думаете найти прежнее руководство? — Начальник отдела кадров грустно качнул головой. — Видали на площадке обелиск? Это в их память: вместе с рабочими погибли при обороне. Я Казанцева еще на Запорожстали знал, редкий был человек…
Шилков не чувствовал, пожалуй, ни досады, ни разочарования от того, что день у него прошел впустую. Возможно, на какую-то секунду и у него мелькнула мысль о том, что поиски здесь будут напрасными, — действительно, вон как раскидала людей война.
Но прежде чем уйти с комбината, он попросил передать в Министерство черной металлургии запрос: не сообщат ли, вместе с каким инженером магнитогорский сталевар Дробышев разрабатывал новый сплав, который должны были испытывать в Нейске перед войной. Впрочем, для него это была побочная линия розыска, и он не надеялся на положительный ответ. Мало ли было в ту пору, как и сейчас, новаторов, разве найдешь сразу в бумагах министерства нужную справку.
Когда поздно вечером он лег, блаженно вытянувшись и закинув руки за голову, то впервые вспомнил Асю. Славная девушка! «Я хотела бы знать… понадобилось ли вам то, что я рассказала?» Молодой человек, что был с ней в театре, похож на какого-то киноактера; по-видимому, тоже студент. Мысли спутались, и он сам не заметил, как уснул, а проснулся часов в шесть, совсем бодрый, будто бы и не было вчера утомительного, трудного дня.
Сегодня ему предстояли новые встречи. В городе жили участники обороны комбината и бойцы нейского партизанского отряда. Фотография Дробышева, которую он получил у Аси, лежала в бумажнике. Возможно, кто-нибудь и опознает его, хотя на это тоже трудно рассчитывать: все-таки — фотография, да и годы прошли, годы, многое стирающие в человеческой памяти.
К двум часам дня он уже успел встретиться и поговорить со многими из тех, кто был в списке. Нет, они не знают этого человека, никогда не видели его. К комбинату все эти люди — учителя, торговые служащие, работники других предприятий — до войны никакого отношения не имели. Просто довелось драться на территории комбината, а потом уходить в леса вместе с рабочими.
Шилков готов был признать неудачу, когда один из бывших партизан посоветовал ему:
— А вы попробуйте проехать к начальнику нейского отряда. Это недалеко, километров шестьдесят отсюда. Районный центр Быльевск, а он — секретарь райкома.
— А разве ваш начальник отряда не был работником комбината?
— Нет. Мы влились в отряд Стрешнева. Право, поезжайте, может он что-нибудь знает. Память у него молодая…
Вечером Шилков уже сидел в вагоне пригородного поезда, где остро пахло карболкой и углем от раскаленной печурки. Мало-помалу вагон заполнился; несколько человек, по виду железнодорожники, уселись в соседнем отделении друг против друга и, положив на колени чемодан, высыпали домино. Им — что: они до своей станции будут резаться в «козла», с грохотом, лихо вколачивая костяшки в этот видавший виды чемодан. Шилков пожалел, что не взял с собой книги: ехать ему предстояло часа три, не меньше, а потом от станции добираться до райцентра на попутных машинах.
В отделение вошел и, спросив, свободно ли, сел напротив Шилкова старик в старомодной смушковой шапке и бекеше. Шилков взглянул на него с любопытством. У старика были седые, растущие книзу «запорожские» усы, и капитан вспомнил гоголевское: «Славная бекеша у Ивана Ивановича! Отличнейшая! А какие смушки! Фу ты пропасть, какие смушки! Сизые с морозом!» Старик степенно расстегнул крючки, распахнул бекешу, снял и повесил шапку. На его пиджаке Шилков увидел орденскую планку — два ордена Ленина — и взглянул на «запорожца» уже иначе, пытаясь отгадать, кто он такой.
Они разговорились — Шилков поинтересовался, как лучше и быстрей добраться до Быльевска.
— А вы в Быльевск? — Старик оглядел его демисезонное драповое пальто, свитер, выглядывающий из-под пиджака, и качнул головой: — Что же вы, батенька, оделись так легкомысленно? В кузове грузовика ветер свирепый, да и ночью ехать-то придется.
— Да так вот, не учел…
Потом старик спросил, по какому делу он едет туда, и Шилков ответил уклончиво: к Стрешневу.
— К Стрешневу? Хороший человек, — задумчиво сказал старик. — Я его еще с партизанских лет знаю…
— Так, значит, вы партизанили с ним? — удивленно и обрадованно воскликнул Шилков. — А я ведь к нему по этому делу еду…
— По какому делу? — недоверчиво косясь на Шилкова, спросил старик.
— Словом, материал один собираю… о партизанах.
Старик закивал головой, будто поняв, наконец, кто его попутчик, и, улыбнувшись, довольно погладил усы.
— Так вы бы так сразу и сказали. Вы, значит, писатель? Мне говорили — должен приехать писатель.
Шилков промолчал; он не стал разубеждать старика. А тот уже протягивал ему руку:
— Ну, давайте тогда знакомиться: Кареев, директор Быльевской школы. Будет охота — заходите ко мне: у меня любопытнейшие материалы о партизанах есть.
— Спасибо. — Шилкову хотелось сразу же, вот здесь, расспросить его, но он сдержался.
— Стрешнев в одну ночь поседел, когда отряд Гаврилова разгромили каратели, — неожиданно сказал Кареев. — Отряд к нам шел — и не дошел. Пятьдесят человек, все рабочие — замечательные люди. А Гаврилов, мой ученик, — закадычный друг Стрешнева. Ну, Стрешнев и поседел, как узнал про это. Вот времечко-то было…
— Да, тяжелое время, — согласился Шилков. — Но отряд-то у вас был боевой, я тут встречался в городе с бывшими партизанами. В основном — рабочие комбината, да?
— Много было рабочих, — кивнул Кареев.
— Даже один уралец был, — небрежно сказал Шилков. — Уральский сталевар.
— Это кто же?
— Дробышев. Ну, высокий такой, здоровый… Да вот у меня даже его фотография есть.
Он протянул Карееву фотографию, тот долго вглядывался в нее, далеко отодвигая от себя, и, наконец, вернул Шилкову.
— Что-то вы путаете, молодой человек. Я в отряде каждого знал, до последнего кашевара. Путаете! У нас такого не было.
Шилков, пожав плечами, положил фотографию обратно в бумажник.
— Что ж, может, и путаю. Мне сказали, что он пошел к партизанам.
Кареев ответил тихо:
— Так, может, — не дошел? Гавриловский отряд, например, целиком погиб, ни один человек к нам не прорвался…
Шилков верил этому старику-учителю, верил его памяти, зная, что в те годы каждый человек был на глазах и трудно было забыть такого видного и, надо полагать, своеобразного человека, как Дробышев. Поэтому он согласился — да, действительно, мог не дойти.
Полузакрыв глаза, Шилков думал о том, все ли доступные сейчас средства розыска использованы и нельзя ли предпринять еще что-либо. Ну хорошо: на городском почтамте, там, откуда он приехал в Нейск, установлен надзор за переводами на имя Дробышева. Что ж, если такой перевод придет и мнимый Дробышев явится за ним, он будет задержан. Но Шилков заранее и с уверенностью мог сказать, что никакого перевода больше не будет и мнимый Дробышев, раз уж его знает дочь настоящего Дробышева, попытается переменить паспорт. Быть может, даже переедет в другой город.
Изменит внешность — усы отпустит или бороду. Нет, все, что сделано до сих пор, — только «профилактическая» мера, не больше.
У него не было никаких сомнений в том, что человек, которого он ищет, неспроста присвоил себе паспорт и имя Дробышева. Паспорт? Шилков снова подумал: откуда у него, в таком случае, мог очутиться паспорт Асиного отца? Если это не поддельный, то он мог попасть в руки врагов только вместе с Дробышевым, живым или мертвым.
Кареев рассказал ему о погибшем отряде — может ли случиться так, что Дробышев был именно там? Может. И ведь никого не увидишь из этого отряда — погибли все. В таком случае, ничего найти не удастся.
Последнее письмо жене Дробышев написал в конце июня.
— Вы не помните, когда погиб отряд Гаврилова? — опросил Шилков.
Кареев в это время рассказывал, как в лесу была устроена школа для партизанских ребят. Он удивленно взглянул на Шилкова: вопрос был задан неожиданно.
— Тридцатого июня, — ответил он. — Мы, когда пришли туда, увидели только стреляные гильзы да головешки от костра. По-видимому, на них нагрянули внезапно…
* * *
Секретарь райкома принял Шилкова сразу и, узнав, по какому делу и откуда он прибыл, даже присвистнул от удивления: «издалека же вы!» Нет, он тоже не знал этого человека, не видел его никогда. «Что же делать? — подумал Шилков. — Садиться в поезд и ехать обратно в Нейск? А там что?» Ну, положим, он может раскопать каких-нибудь старожилов, которые сдавали комнаты или знали людей, сдававших комнаты приезжим.
— Единственное, что я вам еще могу посоветовать, — берите машину и поезжайте по селам. В пяти или шести из них — я вам дам адреса — живут бывшие связные. Вот в колхозе «Партизан» Наташа Гуро, например. Она бывала в разных отрядах, ходила и к Ковпаку и к Медведеву — как знать, может быть видела там этого человека.
— Спасибо, — ответил Шилков. — У меня еще один вопрос к вам…
Он поглядел на седые волосы Стрешнева и спросил нерешительно:
— Гаврилов… ваш друг… работал на комбинате?
— Да. — Стрешнев вопросительно взглянул на капитана.
— Трагедия отряда вам известна во всех подробностях?
— Более или менее. В одной из деревень рассказывали, что в лесу — а где точно, неизвестно — эсэсовцы зарыли несколько десятков трупов. Правда, и эсэсовцев вернулось назад меньше, чем уходило, но…
— А вы часто виделись с Гавриловым до войны? Скажем, когда виделись в последний раз?
— Перед самой войной. Я как раз был в городе — ну, конечно, жил у него…
— Вот почему я вас об этом спрашиваю, — мягко перебил Стрешнева Шилков. — Не говорил ли он вам, что у них на комбинате проводят опытное литье двое приезжих металлургов: один сталевар, магнитогорец, а другой — инженер, откуда он, точно не знаю.
Стрешнев покачал головой:
— Нет, что-то не помню.
Собственно говоря, Шилков и не ждал иного ответа…
* * *
Сани мчались по улице, взметывая серебряную снежную пыль. За первой упряжкой мчалась вторая; в санях стоял, широко расставив ноги, баянист и громко пел:
Мой миленок — что теленок, Только разница одна: Мой миленок ходит в баню, А теленок — никогда.Шофер, привезший Шилкова в «Партизан», проводив сани восхищенным взглядом, вдруг воскликнул:
— А ведь свадьба. Ей-богу — свадьба! Ну, значит, застряли мы с вами.
Разыскать председателя колхоза оказалось делом вовсе не легким. Свадьбу справляли на широкую ногу, столы были накрыты в двух домах, и председатель, как сказали Шилкову, сидит сейчас либо у жениха либо у невесты.
— Уже под мухой, наверно, — доверительно высказал догадку шофер, и по тому, как это было сказано, Шилков без труда понял, что шоферу самому дóсмерти хочется отдохнуть, повеселиться на свадьбе и выпить за здоровье молодых.
Однако задерживаться Шилков не намеревался. «Найду Гуро, покажу ей фотографию; не узнает — поедем дальше», — думал он.
Когда они разыскали председателя колхоза, тот и впрямь был слегка под хмельком, но сразу же посерьезнел и извинился:
— Сами понимаете, товарищ, — свадьба. Прошу и вас к столу.
— Нет, нет, спасибо. Мне надо только поговорить с товарищем Гуро. Наталья Владимировна — так, кажется, ее зовут?
— С Гуро? А у нас нет такой, — улыбнулся председатель и тут же с шуткой пояснил: — Была до вчерашнего дня, а сегодня — уже Кривцова. Вон сани едут — сейчас позовем.
Возница так резко остановил лошадей, что сидевший рядом с ним парень под общий хохот вывалился в сугроб. На него из саней попрыгали остальные — и пошла куча-мала. Потом все поднялись и побежали в дом. «Наташа! Гуро!» — позвал председатель.
Бежавшая впереди женщина обернулась. Увидев рядом с председателем незнакомого человека, Гуро — уже степенно — подошла к ним.
— Я вас на несколько минут оторву, — сказал Шилков, протягивая ей удостоверение.
— Ой, да пройдемте тогда в хату, — заволновалась Наташа. — Чего же нам на морозе-то стоять.
Сзади них перешептывались: кто такой, да откуда, да зачем?
Они прошли в светлую, чисто вымытую комнату, полы которой ходуном ходили от топота пляшущих за стеной. Оттуда слышались переборы гитары, лихой перепляс и высокие голоса девушек.
— Вот я к вам по какому делу, — снова доставая из бумажника фотографию, сказал Шилков. — Посмотрите, не знали ли вы этого человека?
Наташа взяла фотографию.
С минуту она вглядывалась в нее, а потом, подняв на Шилкова глубокие черные глаза, тихо сказала:
— Знаю.
— Что? — переспросил Шилков, думая, что ослышался.
— Я говорю: знаю, — снова повторила девушка. — Я его видела… дайте вспомнить, когда…
Она села, подперев кулаком голову и держа перед собой фотографию Дробышева. Шил-ков видел: она волнуется. Наконец Наташа положила фотографию на стол и прикрыла глаза руками:
— Он… Я так виновата перед ним… так виновата!..
— Вы? В чем?..
Наташа, не говоря ни слова, выбежала из комнаты. Шилков немного растерялся: так все было неожиданно. И это «знаю», и это «виновата перед ним», и этот уход. Он подошел к открытым дверям; голоса, смех и песни за стеной стали тише. Дверь в соседнюю комнату была открыта. И Шилков увидел, что Наташа — как была, в тулупе и шерстяном платке — стоит возле пузатого комода, и оттуда летит на кровать накрахмаленное белье, полотенца, простыни…
— Вот. — Она протянула Шилкову какую-то бумажку. — Он не успел…
Шилков, еще ничего не понимая, вернулся в комнату. В руках у него была записка, сложенная в несколько раз. Он развернул ее, и неровные карандашные строчки так и запрыгали у него перед глазами:
«Милые мои Оленька и Асёнка! Знаю, что вы волнуетесь за меня. Не надо. Вот получил, кажется, хоть какую ни на есть, а возможность написать вам. Идем к партизанам, будем бить врага, пока живы, в его тылу. Как вы там, родные мои? Очень, конечно, хочется мне быть с вами, но пока… Пока что впереди трудные времена. Буду драться до конца — за вас, за всех…
Оленька, очень тебя прошу, напиши родителям Трояновского, что он жив, здоров и тоже идет со мной. Он поотстал сейчас, но ждать, когда он подойдет, не могу. Спешу, торопят… Родители его живут в К.
Вот ведь что наделали, проклятые. Ну, да ничего, все еще вернется, и снова…»
Письмо не было окончено, без подписи.
— Откуда это у вас? — спросил Шилков.
Рассказ девушки был сбивчив. В ту пору еще девчонка, она ходила в лес с корзинкой: будто бы за ягодами, а на самом деле — к партизанам, связной.
Где-то в лесу они случайно встретились — связная и человек пятьдесят усталых, изможденных людей.
Тогда-то и подошел к ней этот, синеглазый.
— Слушай, милая… Я напишу тут письмишко. Будет возможность — перешли, нет — так нет…
— А какая же у меня возможность? — ответила Наташа. — Нынче у нас почта, сами знаете…
— Это-то верно, но… Мало ли что со мной случится. Вот я и решил со всяким встречным письма отсылать. Авось, одно да дойдет.
Тут же, на пеньке, он начал писать. Наташа торопила его: «Скорей, дяденька, мне бежать надо». Он не окончил письма — треснули где-то впереди выстрелы, он бросил карандаш, крикнул адрес и убежал со своей винтовкой. Какой там адрес! Она забыла его, продираясь через кусты, успев только сунуть письмо за пазуху: не бросать же его на пеньке…
— Когда это было? — снова спросил Шилков; волнение девушки передалось и ему, он сейчас жадно ловил каждое слово.
— Не помню, — ответила она. — Дней так десять, наверное, войны прошло.
Шилкову было ясно, что девушка видела отряд в тот самый день, когда эсэсовцы напали на измотанных, обессилевших, по-видимому плохо вооруженных людей. Сама она ушла и долго-долго слышала выстрелы: там били пулеметы, рвались гранаты… И кто был тот синеглазый, как звали его, кому он писал — так и не узнала она и не знает до сих пор.
Было ясно Шилкову и другое: это — последний след, больше он ничего не найдет. То, что было сейчас у него в руках, то, что рассказала Наташа, подтверждало правильность гипотезы: Дробышев погиб, его документы попали в руки разведки — стало быть, нужно искать человека, который разгуливает сейчас с документами Дробышева…
Гости затихли за стеной, в сенях кто-то шушукался, кто-то тревожно спрашивал: «Что там случилось?» А Шилков перечитывал эту записку и думал, думал… Он не слышал, как Наташа пригласила его пройти к столу, отдохнуть с дороги, повеселиться. Потом он словно бы опомнился:
— Спасибо большое, Наташа, я должен ехать. Да, простите меня, пожалуйста: я ведь поздравить вас забыл.
— Ну что вы! — вспыхнула девушка, смущенно опустив глаза.
Уже в вагоне Шилков снова достал письмо Дробышева. В голове складывалось донесение, его надо передать сегодня же по ВЧ.
Трояновский, о котором упоминает Дробышев, — по-видимому, его товарищ. Он жил в К., откуда приехал в Нейск Шилков. Может быть, родителям Трояновского известна судьба сына и следует через них попытаться узнать что-либо еще о Дробышеве?
5
Донесение Шилкова из Нейска было для Пылаева неожиданностью. Пылаев поначалу бегло просмотрел запись, потом внимательно перечитал несколько строк, подчеркнутых коричневым карандашом: только что донесение читал Черкашин, это были его пометки.
«…В отряде Дробышев находился с неким Трояновским, надо полагать — инженером из К. В письме содержится просьба Дробышева написать его родным…» Фамилия Трояновского и название города были подчеркнуты генералом дважды, а на полях было размашисто написано: «Проверить».
Пылаев взял со стола разграфленные листы бумаги. По его срочному требованию работники адресного стола гормилиции пять дней собирали все сведения о Владимирах с фамилиями на букву Т, жителях этого города, погибших или пропавших без вести в первый год войны. Сейчас Пылаев пробегал глазами фамилии: «Тихомиров… Тишкин… Томчин… Топлеников… Трахтенберг… Треногов…» Он пропускал эти фамилии, лихорадочно прочитывал страницу за страницей: «Третьяков… Троицкий… Трошин…» И вот, наконец, Трояновский.
Здесь было все, что в милиции могли узнать о Владимире Викторовиче Трояновском из бумаг, хранившихся в архиве. Год рождения 1911, по образованию — инженер-металлург, место жительства — улица Звезды, 18, квартира 3. По справкам из домоуправления, пропал без вести в 1941 году; официальных сведений нет.
Как всегда в таких случаях, Пылаев спорил с самим собой. Почему ты думаешь, что от имени Владимира Трояновского, а не Владимира Тихомирова, скажем, или Трошина, или Трахтенберга шел иностранный разведчик — тот самый, которого убили на границе? Только лишь потому, что одна фамилия из списка совпала с фамилией в донесении Шилкова? Чепуха! Нечего сомневаться, это тот самый Трояновский, который был с Дробышевым: инженер-металлург. Это может заинтересовать только Шилкова.
И все же подполковнику все больше хотелось познакомиться с семьей Трояновского и включиться в розыски Дробышева. Подсознательно, быть может, он связал бритву фирмы «PN и К°» с профессией Трояновского. Никаких промежуточных звеньев, просто — две крайние точки, не находящиеся между собой в логической связи. Но Пылаев приходил к выводу, что они все-таки могут быть связаны. А коль это так, надо действительно начинать с Трояновского.
Пылаев позвонил в адресный стол и попросил позвать к телефону начальника: надо было узнать, живет ли в городе еще кто-нибудь из Трояновских и не переменили ли они адрес.
Его просьбу выполнили быстро. Через несколько минут Пылаев уже знал, что Виктор Платонович Трояновский живет там же, на улице Звезды, 18, в квартире 3, а на вопрос Пылаева, кто он по профессии, ответили: металлург, доктор технических наук, профессор. Пылаев даже присвистнул: и здесь — металлург!
Но прежде чем пойти к Трояновскому, Пылаев зашел к Черкашину. Тот был чем-то недоволен, куда-то звонил, кого-то отчитывал и только кивнул подполковнику на кресло: сядь, подожди. Бросив трубку на рычаг, он еще долго думал о чем-то своем, морща и потирая лоб, а потом спросил:
— Ну, что у вас?
Затем он снова морщил лоб, молчал, хмурился и, наконец, сказал:
— Как же вы можете еще сомневаться в том, идти вам к Трояновскому или не идти? Плохо знаете людей, товарищ подполковник. О Трояновском-то, во всяком случае, можно было бы хоть слышать. Крупный ученый, работает в НИИ, сейчас ведет одну секретную тему. Уже одно это должно настораживать.
Пылаев вышел от генерала, раздосадованный замечанием, хотя понимал, что генерал был прав: он, Пылаев, впервые услышал, что есть такой крупный ученый — Трояновский.
* * *
Трояновский выздоравливал медленно. Теряя терпение, почтенный доктор наук, как школьник, стряхивал потихоньку от домработницы Глаши градусник, сбивая «излишки температуры». И хотя врач запретил ему выходить на работу еще дней шесть, Трояновский убеждал отпустить его в институт.
— Я ведь поеду на машине туда и обратно. Надену эту куртку. Ну хорошо, надену еще свитер.
— Виктор Платонович, вы же должны понимать…
— У меня пять дней нормальная температура, спросите у Глаши, — упрямо твердил он врачу. — Я здоровый человек.
Вечерами, когда его заходил проведать сосед, сталелитейщик Максимов, профессор жаловался:
— Это какой-то деспотизм! Врач — деспот, даже Глаша деспот… Глаша, вы слышите?
Глуховатая домработница выходила из кухни и спрашивала, к общему удовольствию: «Какой диспут? Мне некогда — картошка жарится».
К вечеру профессор начинал нервничать. Обычно ему в это время звонили из института и сообщали, как идут исследования. Очень уж некстати он заболел — когда все, казалось бы, уже подходило к концу и твердый сплав становился явью. Он нетерпеливо ждал звонка, сам каждый раз брал трубку, но чаще всего это звонили знакомые, справлялись, как здоровье. На звонок инженера завода Льва Петровича Савченко он просто прорычал в трубку:
— Здоров, здоров, что вы волнуетесь?.. Вы бы зашли лучше, Левушка, да помогли бы мне вырваться в институт.
Но и Савченко не хотел ему в этом помочь, а в прихожей он еще шепнул Глаше:
— Не выпускайте его никуда. По-моему, Виктор Платонович просто храбрится.
Трояновский играл с Савченко в шахматы, ворчал, проигрывая, поглядывал на молчащий телефон и, не выдержав, сам звонил в институт.
— Что вы так нервничаете, Виктор Платонович? Нельзя так, право же, — говорил Савченко.
— И вы туда же: «нельзя, нельзя!» — набрасывался на него Трояновский. — У меня там все к концу идет, а я тут… дебюты разыгрываю… А ведь знаете, Левушка, действительно все идет к концу.
— Закон диалектики, — улыбался Савченко уголками рта.
Оставшись один, профессор задумался.
Да, кончается долголетний труд — труд, начатый еще покойным сыном. Здесь, на массивном столе мореного дуба, стоит фотография Володи.
Да, он мог бы стать большим ученым…
Всякий раз, вспоминая Володю, Трояновский чувствовал, как тупая, гнетущая боль заполняет всю грудь, ему трудно становилось дышать. Но затем приходила одна ясная, светлая мысль: «Это был мой сын. Это мы его вырастили таким…» Прикрыв глаза, он четко — будто бы он сам, а не Лев Петрович Савченко был свидетелем гибели Владимира — видел одну картину: Володя сжигает все бумаги, рядом с ним его друзья — они отстреливаются, а те все идут, идут…
Нет, об этом не надо думать — не надо думать о смерти жены и гибели сына. Лучше — о другом. Не сегодня-завтра в индукционной электропечи будет вариться сплав тверже стали, но легкий, как алюминий. Трояновский не скрывал от себя, что это его последняя крупная работа…
Звонок в прихожей оторвал его от раздумий. Он услышал, как зашаркала по коридору Глаша («Наверно, вечерняя почта»), и, отодвинув журналы, лежавшие перед ним на столе, открыл пишущую машинку: нужно было написать письмо в Нейск: местная газета просила статью о кислородном дутье при плавке…
— Виктор Платонович, к вам, — приоткрывая дверь, негромко сказала Глаша.
— Ко мне? — Трояновский невольно дотронулся до небритого, заросшего седой щетиной подбородка: — Пусть проходят, кто там?
Высокий мужчина в темном костюме был не знаком Трояновскому. Профессор недоуменно разглядывал его открытое, спокойное лицо, внимательные глаза, волосы, тронутые кое-где ранней сединой, и напрасно напрягал память; нет, раньше они не встречались.
— Простите…
— Моя фамилия Пылаев, — ответил тот. — Это вы меня простите, профессор: я знал, что вы нездоровы. Но дело у меня, к сожалению, срочное. Вот…
Он протянул Трояновскому плотную книжечку в ярко-красном переплете — свое удостоверение, и Трояновский, мельком взглянув, удивленно поднял лохматые брови:
— Так. Чем могу служить? Да садитесь, садитесь, пожалуйста.
— Разговор у нас долгий, Виктор Платонович и, пожалуй, трудный для вас… к сожалению. Вы, видимо, понимаете, что меня привело к вам следствие.
— Да, да… Я слушаю вас, товарищ Пылаев.
Но Пылаеву было нелегко начать этот разговор. Он продумал его заранее во всех подробностях, до мелочей: профессор болен, одна неосторожная фраза может разволновать его.
— Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно, Виктор Платонович. Речь идет о том, что мы ищем одного… врага. И найти его мы можем с вашей помощью. Для этого мне необходимо узнать кое-что… о вашем сыне.
Трояновский вздрогнул и побледнел.
— О моем сыне?.. Он погиб в 1941 году.
Пылаев кивнул и перевел взгляд на большую фотографию, стоящую на столе. Владимир был похож на отца: то же чуть удлиненное лицо, упрямые складки возле губ.
— Откуда вы знаете, что он погиб?
— Как «откуда»? Об этом все знают… — Трояновский отвернулся и добавил жестко: — Я не знаю случаев, когда человек выживал бы, получив в голову очередь из автомата.
Пылаев промолчал. Странно: Трояновский знает даже такие подробности, а между тем в донесении Шилкова из Нейска говорится, что никто из отряда не спасся, погибли все.
— Вам… кто-нибудь об этом рассказывал? — спросил, наконец, Пылаев.
Трояновский ответил: да. Да, рассказывали. Ему словно бы не хотелось отвечать, и Пылаев понимал его. Видимо, профессор не мог понять — в чем же дело, почему чекист так настойчиво, хотя и мягко, расспрашивает о сыне И Трояновский ответил вопросом на вопрос:
— Скажите, мой сын…
Пылаев посмотрел старику в глаза, и тот ответил таким же прямым, испытующим взглядом.
— Нет, — сказал Пылаев. — Скорее всего ваш сын действительно… погиб, и погиб геройски. Однако следствие привело меня именно к вам, и, я повторяю, мне все-таки надо узнать многое. Кто же вам рассказывал о его… гибели?
Трояновский, казалось, немного успокоился. Вот что он затем рассказал Пылаеву.
В 1943 году, примерно в августе, на квартиру к профессору пришел не знакомый ему человек. Он не сказал ни слова и только протянул тетрадь в кожаном переплете: это был дневник Владимира, в котором он записывал свои наблюдения за ходом исследований нового сплава.
Трояновский провел его в кабинет, усадил в кресло и, шагая по комнате с тетрадью в руке, повторял: «Боже мой… боже мой… Но откуда это у вас?» Человек не мог отвечать, в глазах у него стояли слезы, он судорожно глотал слюну: волновался он не меньше самого Трояновского.
— Я инженер, работал в Нейске… Потом — война… Мы дрались — рабочие несколько дней держали комбинат. Потом ушли в лес. Он начал жечь на костре все бумаги, мы ему помогали и отстреливались. Но было уже поздно. Я не успел сжечь эту тетрадь. В костер бросили гранату, я отскочил за деревья. Потом я увидел, как падает Владимир: в него стреляли из автомата в упор… Я выстрелил в эсэсовца и побежал в лес… До сих пор не знаю, как мне удалось тогда спастись… Я опомнился — в кармане эта тетрадка.
Этого человека зовут Лев Петрович Савченко, сейчас он работает инженером здесь, на металлургическом заводе.
Пылаев осторожно перебил Трояновского:
— Значит, он разыскал вас и вернул тетрадь сына?
— Да. До этого он работал где-то на Урале. Ему удалось перейти линию фронта, он был ранен… И приехал сюда уже с Урала.
Пылаев поблагодарил его, раздумывая над тем, как приступить ко второй части этого разговора — второй и самой для него важной.
Наконец он спросил:
— Стало быть, эта тетрадь — единственное, что осталось?
— Да.
— А не принадлежала ли вашему сыну вот эта вещь?
Он вынул из нагрудного кармана массивный серебряный портсигар с монограммой «ВТ» и протянул Трояновскому. Старик взял его и вдруг вскочил, стиснул портсигар дрожащими, побелевшими от усилия пальцами.
— Боже мой!.. Володя… Это… это мой… мой подарок…
Он задыхался. Пылаев, встревоженный, потянулся было к стоящему на столе графину, но Трояновский остановил его:
— Ничего, ничего… Это сейчас пройдет… Простите меня, пожалуйста… Сейчас, сейчас… Вот так, все и прошло. Да, это его портсигар.
Пылаев облегченно вздохнул, откидываясь на спинку кресла. Ему казалось, что его до сих пор тоже что-то душило, а теперь отлегло от сердца. Значит, именно сюда, к Трояновскому, шел шпион, убитый на границе. Что это? Удача? Счастливое стечение обстоятельств? Пылаев мельком подумал об этом. Нет, просто правильно избранный путь. В конце концов он рано или поздно пришел бы к Трояновскому, его имя значилось в том списке, который подготовили в милиции.
Оставалось последнее, но не главное: узнать, Владимир ли писал эту записку или нет. Уходя от Трояновского, Пылаев унес с собой несколько писем Владимира: опытные специалисты быстро определят, его ли это почерк.
Но прежде чем уйти от Трояновского, Пылаев долго еще разговаривал с ним о Владимире, и профессор уже охотно рассказывал о работе сына над новым твердым сплавом, о его дружбе с уральским металлургом — дай бог памяти, как его фамилия?.. Пылаев подсказал: «Дробышев», и профессор удивился:
— И это вы знаете? Но в чем же тогда дело?
Подполковник ответил уклончиво:
— Мало ли плохих людей еще живет на белом свете…
Трояновский проводил Пылаева до дверей и, пожимая на прощание руку, тихо сказал:
— Я никому, разумеется, ничего не скажу. Но после того как вы кончите следствие, я могу рассчитывать…
— Портсигар? — догадался Пылаев. — Ну, конечно, мы вернем его вам.
Вечером Пылаев позвонил генералу домой. К телефону подошел Тимошка и пискливым голоском сказал: «Алё! Тимоша слушает». Пылаев засмеялся:
— Здравствуй, Тимоша. Это дядя Пылаев говорит — узнаешь? Ну, тот самый, который тебе корабли из бумаги делал. А дедушка дома?
Тимошка что-то долго соображал, пыхтел и, наконец, снова пропищал:
— Дома. Сам телевизор смотрит, а мне не дает и спать прогоняет, а там… а там инте-ре-есно…
Но Черкашин уже отнял у Тимошки трубку, и Пылаев услышал его смех: «Ах ты болтунишка…»
— Я слушаю, — сказал Черкашин.
— Товарищ генерал, это подполковник Пылаев говорит.
— Да, да…
— Так вот… Начало удачное.
— Подтвердилось?
— Да.
Черкашин снова засмеялся, и Пылаев не понял: то ли Тимошка выкинул там какую-нибудь смешную штуку, то ли это был удовлетворенный смех оттого, что в следствии наступил перелом.
— Приезжай сейчас ко мне, — переходя на «ты», попросил Черкашин. — Посидим, побалакаем. А то тут мои женщины заставляют меня «Кармен» по телевизору слушать, а я не хочу. Карменсите годиков этак за шестьдесят, дамочка в три обхвата — не очаровывает…
6
Доклад Пылаева на «оперативке» генерал отложил до приезда Шилкова. И как ни рвался Пылаев «в бой», как ни хотелось ему продолжить следствие, ему приходилось сдерживаться и ждать Шилкова еще два дня. Приказ Черкашина был ясен: не спешить, обмозговать все получше, с тем чтобы выступить на «оперативке» со сложившимися — пусть и предварительными — выводами. Впрочем, Пылаев, подчинившись приказу, признался себе, что так разумнее, спешка здесь ни к чему. Он еще раз обозлился на свой характер, на это нет-нет, да и прорывавшееся нетерпение… Спешить сейчас действительно нельзя; можно спугнуть врага, если это он попал в орбиту следствия. Пылаеву оставалось одно — размышлять. За раздумьями не так медленно тянулось время. Пылаев досадливо морщился: ах, Шилков, Шилков, не может лететь в самолете — чекист, а не выносит высоты.
Весь выходной он просидел дома и был рад, что жена уехала с утра за город кататься на лыжах, а у матери нашлась обычная «сотня дел», и она тоже ушла, оставив подробную записку, в какой кастрюльке щи, где лежат котлеты и как сварить кисель из порошка. Пылаев попробовал было сварить кисель, но у него получилась какая-то странная жидкость, скорее напоминающая слабый раствор марганцовки. Он усмехнулся: «Нет, этой науки вовек не постичь. Пойду лучше работать…»
Все, что удалось узнать, он теперь последовательно перебирал, сопоставлял, сравнивал, искал связь между событиями. Мысленно он возвращался к той минуте, когда увидел на столе начальника погранзаставы паспорт, портсигар, пистолет, ампулы с ядом, записку. Потом он оказывался в комнате демобилизованного офицера, оглядывал неуютное холостяцкое жилье, книги, фотографию красивой женщины, сломанную электрическую бритву фирмы «PN и К°». Затем он снова вспоминал скучные сведения: «Владимир Викторович Трояновский, инженер-металлург, год рождения 1911. Официальных документов о гибели нет».
Итак, ясно пока одно: враг шел к Трояновскому, шел его шантажировать. Зачем — тоже вроде бы ясно: работа профессора — секретная; новый сплав, как утверждают ученые, должен найти самое широкое применение в оборонной промышленности. Но не мог же враг идти только к профессору. У него не было с собой ни рации, ни кодов: значит — здесь может быть кто-то, у кого есть и то и другое, припрятанное про запас. Да и должен же был шпион у кого-то жить в конце концов, с кем-то работать, потому что слишком уж слабенькое было у него «оснащение»: он шел налегке. Обычно так идут только тогда, когда есть хорошие явки, связи.
Да, скорее всего, что так. Почему шпион должен был рассчитывать на легкий успех при вербовке Трояновского? Ничего подобного, он и не рассчитывал на это. Смешно было бы думать, что видный советский ученый так просто попадет в руки иностранной разведки. Конечно, шпион рассчитывал либо на долгую осаду, либо…
В коричневом кожаном футляре был яд. «Джентльмены удачи» не брезгуют никакими средствами. И яд-то какой: его не найдешь в организме отравленного, а сама смерть от него точно напоминает смерть от инфаркта. Трояновский стар, и если яд предназначался ему, если бы врагам удалось пустить его в ход, следствие запуталось бы надолго.
Враг подбирался к открытию Трояновского — это безусловно. Но шпион погиб. Значит ли это, что за секретом твердого сплава больше никто не охотится? Вот главное, о чем надо сказать на «оперативке».
Пылаев, обдумывая все это, ловил себя на том, что постоянно возвращается к стальной компании «PN и К°» и невольно пытается перекинуть от нее мостик к работе Трояновского. Там — могучая фирма, изготовлявшая во время войны пушки для гитлеровской армии, а здесь — научно-исследовательский институт, секретная работа профессора Трояновского, металл, который не мог не привлечь внимания иностранной разведки.
Вот еще одна связь: Владимир Трояновский — Дробышев настоящий — Дробышев мнимый, появившийся несколько лет спустя после гибели Асиного отца. Безусловно, след, по которому идет он, Пылаев, скрещивается с розысками Шилкова. Что ж, это даже хорошо: вот наконец-то им снова придется работать вместе.
И все-таки это были только отдельные, пока еще разрозненные факты, а Пылаев любил систему. Всякий раз, ведя следствие, он пытался с самого начала представить себе все дело целиком, создать рабочую гипотезу, которая бы объединяла факты. Так и сейчас: он шаг за шагом восстанавливал события, с тем чтобы из этих разрозненных фактов создать общую картину.
Предположим, что в 1941 году погибли инженер Владимир Трояновский и сталевар Дробышев. В руки врагу попали их документы, а все, что касалось твердого сплава, удалось уничтожить. Только чудом спасшийся их товарищ принес тетрадку — записи Трояновского, по которым ничего не восстановишь, ничего не узнаешь.
Проходит много лет. Отцу Трояновского удается заново создать то, чего не удалось сделать сыну. И тогда одна иностранная разведка — будем пока так именовать ее — посылает своего агента со специальной целью: раздобыть секрет. Пока в рассуждениях вроде бы нет никаких пробелов.
Но тут же Пылаев спросил самого себя: а откуда же там знали, что работа Трояновского подходит к концу? Ведь не может же быть простым совпадением во времени окончание секретных исследований и засылка шпиона? Значит… Значит, кто-то есть в институте, кто знает о ходе исследований? И это подтверждало его мысль, что шпион шел к кому-то из своих. Стало быть, плохо засекретили работу Трояновского, оставили какую-то лазейку.
Еще накануне по приказу Черкашина двое сотрудников побывали в институте, проверили сейф, где лежат все расчеты, и систему охраны. Генералу они смогли сообщить одно: ничего подозрительного не обнаружено. У сейфа только один ключ, он выдается охраной лишь Трояновскому и из стен института не выносится. Каждый вечер сейф опечатывается дежурным.
Мысль Пылаева словно бы наталкивалась на какую-то стенку, за которую он уже не мог заглянуть. Кто такой, откуда он взялся, этот липовый Дробышев? Какую роль он играет — быть может, служит по другому паспорту в институте? А почему бы и не так: агент с документами Дробышева пришел к Трояновскому, отрекомендовался другом сына… Хотя нет, Трояновский рассказал бы об этом, а он во время беседы даже забыл фамилию Дробышева: пришлось напоминать. Стало быть, отпадает…
Савченко? Он не имеет к институту никакого отношения, работает на заводе по своей довоенной специальности. А двое наших сотрудников, что ходили вчера в институт, зашли в отдел кадров завода и просмотрели его документы: все в порядке. Надо встретиться с Савченко, пусть расскажет подробней о гибели Владимира Трояновского…
К вечеру Пылаев почувствовал, что устал. И когда вернулась жена — раскрасневшаяся на морозе, тоже усталая, но веселая, — он искренне пожалел о том, что не поехал с ней, а просидел вот так, сыч-сычом, в комнате, синей от табачного дыма.
* * *
Шилков приехал на работу прямо с вокзала, даже не заходя домой. Он чувствовал, что его здесь ждут, и не ошибся: дежурный, здороваясь с ним, сказал:
— Подполковник Пылаев раза четыре спрашивал о тебе.
То, что он услышал от Пылаева на «оперативке», было для него неожиданностью. Потом, уже в кабинете Пылаева, он честно признался:
— А знаете, я был уверен, что эта моя поездка какая-то… пустопорожняя.
Пылаев позвонил домой и сказал матери, что придет ужинать вместе с Шилковым. Капитан удивленно взглянул на него:
— Нам же работать надо. Вы же сами говорили… — пробовал возразить он.
Пылаев засмеялся:
— А мы и будем работать. Нина Георгиевна тебе сначала уши надерет, что ни разу вести о себе не дал, потом поужинаем и — работать. — Он помрачнел: — Ох, товарищ капитан, туговато нам с тобой придется теперь…
Вечером, в гостях у Пылаева, капитан припомнил все то, о чем говорилось на «оперативке», и, постукивая карандашом по столу, задумчиво сказал:
— А знаете что, товарищ подполковник: не нравится мне этот инженер Савченко. Уж очень случайно все…
— Что случайно?
— Видите ли, в Нейске считают, что из отряда Гаврилова никто не спасся. А тут…
— Этого совершенно недостаточно, чтобы заподозрить человека, — возразил Пылаев.
— Вы посылали запросы?
— Да. До войны работал в Нейске, во время войны, до сорок третьего года, — на Уральском комбинате, потом приехал сюда. Коммунист с сорокового года. Женат, жена — актриса, кстати уже знакомая вам, — помните Луизу в «Коварстве и любви»?
Шилков кивнул: этот спектакль ему хорошо запомнился. А Пылаев сел на диван и, блаженно вытянув ноги, продолжал:
— Так что ваши подозрения необоснованны. И поэтому оставим вообще всяческие подозрения — это не метод работы. С инженером Савченко надо встретиться, и сделаете это вы. Завтра же. А я познакомлюсь с институтом. Да, еще о Савченко. Предположим, он — шпион. Он приносит Трояновскому тетрадь сына. Понятно, что он будет рваться в институт, в сотрудники к профессору, едва узнав, что тот работает в секретной лаборатории. А все получается наоборот: Трояновский ведь уговаривал Савченко идти к нему, но тот, как говорится, отбрыкивался руками-ногами, справедливо возражая, что он — практик. Вы, может быть, знаете, как неохотно подчас идут производственники в научно-исследовательские институты?
— Почему?
Пылаев потер указательным и большим пальцами, будто покрошил невидимый хлеб невидимым курам: жест, который Шилков сразу же понял, — понял и засмеялся: «Это вы о „прогрессивках“? Да вы все знаете до тонкостей!» Пылаев качнул головой: «До тонкостей нам обоим еще далеко».
Они засиделись за полночь, и когда Шилков спохватился, что его хозяйка-старушка, должно быть, уже давным-давно спит, было два часа ночи.
— Оставайся ночевать у меня, сейчас постелю на диване, — сказал Пылаев тоном, не допускающим возражений.
Но улеглись они не сразу. За окном полыхал голубовато-зеленый свет электросварки: рабочие ремонтировали пустые в этот ночной час трамвайные пути. Изредка проходила по улице машина, и тогда окна желтели. А Пылаев и Шилков продолжали обсуждать до мелочей предстоящие им встречи и разговоры.
— Ну, все, — поднялся, наконец, Пылаев. — Хватит на сегодня. Спи. И пусть тебе приснится… она.
— Кто «она»? — смутился Шилков.
— Брось хитрить, я уже знаю, — шутливо погрозил ему пальцем Пылаев.
— Да откуда вы знаете?..
Шилков и не заметил, как выдал себя. Спроси он: что вы знаете? — и Пылаев, который не знал ровным счетом ничего, отделался бы какой-нибудь шуткой. Уходя и прикрывая за собой дверь, Пылаев сказал шепотом:
— Эх ты, конспиратор!
* * *
Иногда по вечерам в квартире Трояновского разворачивались настоящие баталии. Приходил сосед и давнишний друг профессора — сталевар Максимов. Глаша в эти вечера допоздна варила крепкий кофе: старики за спорами выпивали кофейник, а то и два… Наутро Глаша, по пути в магазин, обязательно останавливалась поговорить с дворничихой и рассказывала, что «наши совсем с ума посходили», что «в кабинете не продохнуть» — так накурили и что Максимов все-таки зря спорит с «моим»: «мой-то, надо понимать, побашковитее будет».
Споры у них шли, как правило, вокруг преимуществ и недостатков основной или кислой футеровки, схватывались они и по поводу раскисления шлака. Максимов, ухватив карандаш коротенькими темными пальцами, неловко выводил на бумаге формулы. И, если Глаша пыталась помешать им, намекнуть, что час уже поздний, что Трояновскому вредно сидеть в этаком табачном дымище, Максимов яростно кричал глуховатой домработнице:
— А ты, мамаша, иди… Сталь варить — не кофей. Иди, иди с богом, со Христом…
А недавно Максимов пришел к Трояновскому не спорить. Он принес своему ученому другу несколько листков бумаги, на которых его корявым почерком — почерком поздно научившегося грамоте человека — были выведены расчеты скоростной плавки и кое-как набросана схема завалки шихты. Трояновский, беспрестанно поправляя очки, вглядывался в формулы, что-то бурчал себе под нос, разводил руками:
— Все верно. Золотая у тебя голова, Степан! Только… недолго тебе, брат ты мой, на своей печи сидеть: будешь варить мой сплав, я уже договорился с кем надо.
— Без меня договорился? Женил, значит?
— Каюсь, женил. И тебя и Льва Петровича.
Максимов, шевеля обожженными бровями, проворчал, уже успокаиваясь:
— А, ну тогда ничего. Если со Львом Петровичем — тогда можно. Честно говоря, ведь с самого начала это его думка была — об увеличении веса шихты на скоростной.
* * *
С утра в литейном цехе собралось много народу, здесь стоял сдержанный гул голосов, и казалось, что только два человека совершенно спокойны. Савченко сам обошел и проверил опоки, заглянул в ковш — нет ли трещин или мусора, а то пропадет вся плавка.
Когда Максимов поднял над головой руку в толстой асбестовой рукавице, наступила тишина: сейчас дадут металл. Замер и Савченко. Но в это время кто-то тронул его за рукав и проговорил почему-то шепотом:
— Вас в партком. Просили срочно.
— Что там еще? — нахмурился Савченко. — Секретарь здесь, кто же вызывает?
— Не знаю, военный какой-то.
— Сейчас, — отмахнулся Савченко. — Передайте, пусть подождет.
В партком он вошел, вытирая платком красное, потное лицо и щуря глаза: после ярко-белой струи расплавленного металла все вокруг сейчас показалось тусклым и бесцветным. Он не сразу разглядел, что за военный поднялся ему навстречу, и не сразу расслышал, что тот говорит.
— Немного не вовремя вы приехали, — извиняясь за то, что Шилкову пришлось ждать, сказал Савченко. — Тут у нас событие, можно, сказать.
— Да, мне говорили… Но с плавкой все в порядке?
— Вроде бы в порядке, только вот мокрый совсем. Жарища там у нас… Так я вас слушаю, товарищ капитан.
И Шилков, как это было продумано заранее, сказал, в упор глядя на Савченко:
— Нас интересует все, что касается разгрома рабочего отряда и, в частности, гибели инженера Трояновского и сталевара Дробышева. Вы ведь были в этом отряде?
Савченко, все еще щурясь, в последний раз вытер лоб и, скомкав платок, сунул его в карман.
— Ну, об этом я могу рассказать много.
Все, что услышал от него Шилков, уже было известно ему. Они сидели вдвоем в большом кабинете секретаря парткома, им никто не мешал, и Шилков решил, что он не уйдет отсюда, пока не узнает от Савченко всех, даже самых мельчайших, подробностей.
— А девочку вы помните? — спросил он. — Она шла с отрядом.
— Нет, — качнул головой Савченко. — Девочка с отрядом не шла, мы ее встретили уже в лесу, и пробыла она у нас, ну, от силы минут двадцать. Кажется, Дробышев начал писать какое-то письмо… Потом немцы… Я, когда увидел, что все кончено, побежал в ту же сторону, куда ушла эта девочка…
— Хорошо, — сказал Шилков. — Но почему вы ничего не сообщили впоследствии семье Дробышевых о его гибели?
— Между прочим, я не знаю — погиб он или нет. Вот гибель Трояновского я видел.
Шилков, который рассчитывал получить от Савченко новые подробности, вышел из заводоуправления разочарованным. В сущности, все, что было у него сейчас записано в блокноте, только повторяло уже известное — да иначе не могло и быть: ведь профессор рассказывал Пылаеву о гибели сына тоже со слов инженера Савченко.
Одно обстоятельство убедило Шилкова, что Савченко действительно был в отряде: он помнил девочку, Наташу Гуро, и даже то, что Дробышев хотел передать с ней какое-то письмо. Что же, Шилков не удивился, что память Савченко сохранила такие, казалось бы, мелочи.
В тяжелые минуты, когда кругом смерть, и мелочи запоминаются. Ведь помнит же Шилков — и, наверно, не забудет никогда в жизни, — как на фронте он упал рядом с комбатом и, когда очнулся, услышал тихое тиканье: комбат был мертв, а часы у него шли… Мелочь, пустяк. В памяти стерлись куда более значительные события, а это — осталось.
Шилков дошел до набережной. На середине реки чернели большие, незамерзшие полыньи, над ними поднимался пар. Люди шли по льду на противоположный берег, обходя страшные места, и Шилкову подумалось: зачем они идут через лед, какое ухарство! Мост ведь рядом.
Люди перешли реку и поднялись на набережную неподалеку от Шилкова. Это были студенты — смеющиеся, веселые, и все с чемоданчиками вместо портфелей: такая уж нынче была у студентов мода. «Там же Институт стали… — внезапно догадался Шилков. — Общежитие… и…»
Он сам спустился на лед и, скользя коваными каблуками, быстро пошел по проторенной тропке на другой берег. Дойдя до середины реки, он усмехнулся: «Какое ухарство… Мост ведь рядом…»
Против высокого серого здания, выходящего окнами на реку, он остановился. В институте, надо полагать, кончились лекции, и теперь все время хлопали двери, выпуская студентов. Шилков стоял напротив дверей и, закуривая, исподлобья поглядывал на выходящих. Незнакомые люди шли и шли, перекидываясь шутками. Неподалеку затеяли игру в снежки, и один крепкий снежок ударился в стенку возле Шилкова, рассыпался, оставив большую белую отметину.
«Зачем я сюда пришел? В конце концов этого просто нельзя делать… Я — следователь, она — свидетельница. Я не имею права…»
Он уже повернулся, чтобы уйти, когда к подъезду лихо подкатила машина кофейного цвета. Шилков мельком успел разглядеть сидевшего за рулем: его лицо показалось капитану знакомым; долго вспоминать не пришлось — этого молодого человека он видел с Асей там, в театре…
«Тем более, — думал Шилков, ища глазами автобусную остановку. — Черт знает что это такое: кажется, вам давно не восемнадцать лет, товарищ капитан».
7
В последних числах февраля погода вдруг переменилась. Сразу раскисли, стали серыми сугробы, наваленные вдоль улиц, закапало с крыш, и словно пахнуло весной, оттаявшей землей, свежей весенней влагой. Ночами немного подмораживало, но с утра опять задувал теплый ветер, и на домах выступала ровная изморозь. Ребятишки по дороге в школу непременно прикладывали к стенам руки, и теперь на домах рядами тянулись четкие, будто нарисованные, отпечатки детских ладошек.
Нечего было и думать о том, чтобы в такую погоду вести девочку в зоопарк. Савченко даже обрадовался: сегодня, в воскресенье, можно наконец-то как следует отдохнуть, выспаться за все эти дни. Сквозь сон он слышал, как осторожно закрылась дверь: жена повезла дочку на весь день к бабушке…
Когда он проснулся, Мария была уже дома. Она сидела возле зеркала и внимательно разглядывала себя.
Сквозь полузакрытые веки Савченко тоже внимательно наблюдал за женой. Сегодня у нее трудный день — премьера, она играет в «Грозе» Катерину. Приятно видеть афиши, расклеенные по всему городу: «А. Н. Островский. „Гроза“. Драма в пяти действиях», и пониже имен заслуженных артистов и лауреатов — скромное: «Катерина, жена его — арт. М. Татаринова». Мария, конечно, волнуется: не очень-то легко играть эту роль, особенно после того как большинство местных театралов видело Катерину — Тарасову.
Завтра на завод он придет совершенно разбитый: режиссер потащит всех после премьеры к себе, и хорошо, если можно будет соснуть часика три-четыре до работы.
Савченко, наблюдая, как меняется лицо жены, становясь то грустным, то будто бы озаряясь каким-то ясным внутренним светом, неожиданно подумал: «Когда ее принимали в партию, она сказала: „Я оправдаю ваше доверие“. Представляю, как это было сказано — как в плохой современной пьесе на производственную тему».
Впрочем, иронизируя так про себя, он и любовался женой, ее скромной, спокойной, удивительно русской красотой, и был доволен, что она — его жена; ему было приятно, когда на улице оборачивались мужчины, чтобы посмотреть на нее. Мелкое тщеславие? Савченко тихонько рассмеялся, и Мария обернулась:
— Ты проснулся? Ну и соня!
Она сразу же начала говорить ему, что волнуется страшно, что ей кажется — она сегодня провалится: не хватит чувства. Она ходила по комнате, легко дотрагивалась руками до вещей и словно бы разговаривала сама с собой:
— …Катерина — бунтовщица, глубоко несчастная женщина. Может быть, актриса сама должна страдать? У нее у самой должно быть глубокое горе — и тогда образ будет правдоподобнее? Помнишь, Мольер умирал на сцене, а публика была в восторге, ей казалось, что это бесподобная игра… А я? Сейчас мы с Анюткой ехали в трамвае, вдруг она меня спрашивает: «У тебя выходной завтра? Значит, завтра все не артистки?» В трамвае смеялись, а я сидела почему-то счастливая. Ну разве можно с таким настроением играть Катерину!
Савченко, закуривая, стряхнул искру с пододеяльника.
— Давай поссоримся, — шутливо предложил он. — Или представь себе, что муж у тебя — мерзавец, сукин сын, пьяница и бабник Разозлись на меня.
Мария подбежала к нему и, наклонившись, крепко прижалась щекой к сбившимся теплым волосам.
— Ну что ты! Ты у меня хороший… Только работаешь много. Грустный какой-то стал, Что с тобой? Раньше ты был… другим каким-то.
— Я просто устал, — ответил Савченко. — Думаешь, легко мне далась эта скоростная плавка? Вот тебе содружество в понимании отдельных мыслящих единиц: после первой отливки все поздравляли этого старика Максимова, а я стоял в сторонке — и хоть бы кто-нибудь мне слово сказал. Так у нас и рождаются новаторы… На чужом горбе в рай въезжают. А потом…
Мария медленно поднялась и села в кресло, сцепив пальцы. Она глядела уже задумчиво, всю ее веселость как рукой сняло.
— Что «потом»? — спросила она.
— Да так. Вызвал меня тут… один товарищ. Интересовался подробностями разгрома отряда — помнишь, я рассказывал тебе. Мне этот разговор не понравился: будто бы я виноват, что спасся…
— Это у тебя нервы расходились, — успокаивающе ответила Мария. — Летом поедем куда-нибудь отдыхать. Ладно? Ну, ты вставай, а я побегу в театр — не могу сидеть дома…
Савченко закрыл за ней дверь и лег снова. Он долго лежал так, закинув руки за голову и глядя прямо перед собой на стенку, потом протянул руку и снял с телефона трубку. Ему ответили не сразу. «Спит еще, что ли?» — подумал он. Но в это время в трубке раздался знакомый голос, и Савченко назвал себя.
— Вы, наверно, спали, Борис, я разбудил вас?
— Нет, нет, что вы… Тут у меня с утра дела великие.
— Дела? В выходной?
— Да, понимаете… Совсем как в поговорке: хочешь неприятностей — купи машину.
Надо крыло менять, вот только что приходили тут двое халтуряг — торговались.
— У вас же новая машина!
— Барахло, а не машина. Я тут ходил… в публбибл, смотрел журнальчики — вот где машинки отрывают: класс!
— Куда-куда вы ходили? — не понял Савченко, хотя он уже разбирался в своеобразных словечках своего знакомого.
— В публбибл… Ну, в публичную библиотеку. А у вас как делишки?
— Да вроде бы… на всю железку, — в тон ему ответил Савченко.
— А у меня что-то муторно на душе, — пожаловался тот. — Со своей чувихой… ну, с этой, из Института стали, поругался в дым. К тому же центов нет, халтуряги за ремонт кусок рвут.
— Бедняга, — посочувствовал Савченко. — Как же вы дальше будете устраивать свои сердечные дела?
— Здесь будьте спокойны. Моя Жаннет споет мне еще «Бессаме мучо». — Он засмеялся. — Сегодня у нас премьерка? Встретимся на выпивке, а?
На том разговор и кончился. Савченко, вешая трубку, усмехнулся: содержательный разговор. Он припоминал все, что ему было известно об этом человеке — Борисе Похвисневе.
Чем больше Савченко приглядывался к этому красивому, элегантному, самоуверенному до развязности парню, тем яснее ему становилось, каким путем тот идет.
Мария постоянно возмущалась этим знакомством:
— Ну что ты нашел в этом стиляге? Мне противно с ним даже разговаривать: какой-то угорь, а не человек.
Савченко смеялся:
— Да я ж его в друзья не собираюсь брать. Просто интересно, откуда берутся такие.
— Пустышка самая настоящая… И еще манера противная — все время какой-то мячик пальцами жмет. Ходит и жмет, везде и всюду. Глупо…
— Он спортсмен, этим шариком бицепсы наращивает. Нет, это как раз хорошо, это мне в нем нравится. Ведь Похвиснев неплохо прыгает, бегает. Люблю сильных. Посмотри, какая у него ловкая фигура.
— Он весь… грязный какой-то. И Васильеву я не понимаю — как ей мог понравиться такой.
Васильева была актрисой того же театра: вздорная женщина, разошлась с мужем — тот не мог ей дать «красивой жизни». Это ее называл сейчас Похвиснев «моя Жаннет».
* * *
Три дня назад «моя Жаннет» — артистка Васильева — сошла с трамвая в конце Морского проспекта и торопливо зашагала к дому № 18. Так же быстро поднялась она на третий этаж и привычно нажала три раза кнопку звонка. Казалось, женщина нервничает: она сняла перчатки и засунула их в сумочку, потом вынула и положила в карман. Но когда открылась дверь, она сказала весело:
— Ваня? Принимаешь гостей?
Мужчина, открывший ей, молча отступил в коридор. Васильева увидела его побледневшее, растерянное лицо и сказала со смешком:
— Не бойся, никаких эмоций не будет. Просто я пришла проведать тебя и наш скворечник.
— Я… очень рад видеть тебя.
Он помог ей снять пальто. Женщина расправила складки платья, провела рукой по волосам и, потянувшись, поцеловала Степанова, оставив на его щеке след губной помады.
— Вот так… Почему же ты меня не целуешь?
— Ты сказала — никаких эмоций не будет, — ответил Степанов. — Проходи в комнату и прости — у меня не прибрано.
Это была та комната, в которой еще недавно побывал подполковник Пылаев. Точно так же, как и тогда, пачками были сложены на полу книги — множество книг. Пепельница была полна окурков, и стакан чаю стоял на столе, заваленном бумагами. И так же с фотографии глядела, улыбаясь, красивая женщина.
Жаннет окинула комнату быстрым взглядом и, бросив сумочку на диван, молитвенно сложила руки:
— Боже мой, какой разгром! Ты не убирал здесь, наверно, целый год. Разве у тебя не бывают… гости?
— Нет, — ответил Степанов. — Как-то все некогда.
— Так было всегда, — тихо сказала Васильева. — Тебе всегда было некогда. Ты, значит, не изменился…
Она переходила от одной своей фотографии к другой, вглядываясь в них, и вдруг рассмеялась. Степанов смотрел на нее издали и не понял, почему она смеется.
— Какая я была девчонка, — сказала она наконец. — Просто не верится, что это — я.
— Ты очень изменилась, Жанна.
Это был разговор полунамеками, понятный только им одним. Степанов до сих пор не мог опомниться после того дня, когда он нашел комнату пустой, а на столе — записку: «Не надо пытаться вернуть меня. Я любила тебя, а сейчас не люблю. Ты — хороший человек, но я была девочкой, когда думала, что любить можно только один раз в жизни и только одного человека. Надеюсь, ты понимаешь, о ком я говорю?»
Сейчас Степанов видел, что она утомлена, постарела, но упорно пытается скрыть это под маской беззаботной веселости. И хотя она была по-прежнему красива, эта красота уже не обманывала его — красота, к которой приложили руку парикмахер, портной, косметичка.
И все-таки он не понимал, зачем она пришла. Не затем же, в самом деле, чтобы увидеть, как он живет?
— Знаешь, я попрошу прийти к тебе одну женщину, домработницу моих знакомых: пусть приберет, а?
— Спасибо, но я думаю… лучше не надо… Я сам… — забормотал, смутившись, Степанов. — Вот в воскресенье возьмусь и все приберу.
Ему, когда он увидел жену, поначалу показалось, что она вернулась обратно. Сейчас он видел, что ошибся. Но зачем она все-таки пришла?
Очевидно, ей надоело ходить по комнате: она села и, улыбаясь, стала разглядывать Степанова. Она заметила, что тот похудел: наверно, обедает кое-как, в заводской столовой. У рубашки чистый, но мятый воротничок: мужчине трудно научиться гладить.
— Ты работаешь все там же, на авторемонтном?
— Да.
— И в должности не повысился?
Степанов молча пожал плечами. Васильева в этом не изменилась. Она всегда любила повторять: «Таким, как ты, нужна карьера. Я хочу, чтоб ты рос: сначала завод, потом главк, потом министерство. Нам хорошо будет в Москве. Там неважно с жильем, но ответработникам дают квартиры». Он не стал ни директором завода, ни начальником главка, ни министром; у него была одна комната в шестнадцать метров, тысяча двести пятьдесят рублей зарплаты да триста-четыреста премиальных за квартал, а это Васильеву не устраивало.
— Я согрею чай. Хочешь? У меня есть варенье.
Васильева снова рассмеялась:
— Чай — слишком крепкий напиток, Ваня. Нам надо было бы выпить с тобой, но… Ты же не пьешь по-прежнему? Не обижайся, но от таких мужчин, как ты, пахнет парным молоком.
Степанов опять промолчал. Он не знал, о чем ему сейчас говорить, как держать себя. Жаловаться на судьбу? Говорить, что он все-таки любит ее и все простит, если она вернется? Этого он не хотел и не мог сказать. Что ж, пусть разговор идет так, как и начался, — пустой и бессодержательный, еще одно — не ахти какое серьезное — испытание нервов.
О том, зачем она пришла, Степанов узнал минут через десять. Васильева, взглянув на свои маленькие золотые часики, заторопилась:
— Я ведь на секундочку к тебе заехала… Да, кстати, очень тебя прошу…
— О чем же?
— Понимаешь… Словом, одному нашему артисту надо починить машину, крыло там какое-то поменять. Ты не можешь помочь… частным образом? Он хорошо заплатит рабочим.
— Не знаю, Жанна…
— Ну, я тебя очень прошу.
И она быстро вынула из сумочки записную книжку, вырвала листок и написала адрес.
— Вот, Ванюша, голубчик, сделай это… хотя бы ради меня. Ради прошлого. Ладно?
* * *
В воскресенье двое рабочих пришли по указанному адресу. Старому авторемонтнику Козинову и его напарнику не очень хотелось идти, но Ивану Дмитриевичу они не могли отказать.
Двери им открыл молодой человек в полосатой сине-белой пижаме и, увидев незнакомых людей, растерянно отступил в коридор:
— Вы… к кому?
— Мы от Степанова.
— От какого Степанова?
— От Ивана Дмитрича. Это у вас машину надо ремонтировать?
— A-а, машину! — Молодой человек словно бы стряхнул с себя испуг. — Постойте-ка здесь, я сейчас оденусь и выйду.
Козинов с напарником остались на площадке. Козинов хмурился:
— Видал, брат, птица? Знаешь что, пойдем-ка отсюда. Не люблю, когда рабочего человека боятся в дом впустить. Пойдем.
Напарник мялся, очевидно что-то собираясь сказать, но так и не решался.
— Ты чего мнешься? — удивленно спросил его Козинов.
— Понимаешь, дядя Матвей… Костюм я себе сшить хотел, а четырех сотен не хватает.
Козинов задумался. Что ж, парнишка прав, получает он еще немного. Пусть подзаработает.
Молодой человек вышел к ним и, вертя на пальце ключ, первым начал спускаться по лестнице. Они пошли за ним. Во дворе, возле сложенного из шлакобетонных кирпичей гаража, молодой человек остановился, открыл тяжелый замок и, войдя внутрь гаража, зажег свет.
— Вот она. Посмотрите, и давайте договоримся.
Спереди у машины было немного помято левое крыло — вмятина была настолько невелика, что рабочие ее отыскали не сразу.
— Нам сказали, что вы хотите все крыло менять?
— Да.
— Зачем? Мы выгнем вмятину, покроем заново лаком — и все. А крыло менять, — знаете, дело долгое, да и…
— Я же плачу, — сказал хозяин машины.
— Крыло частным путем не достать, — спокойно ответил Козинов. По скулам под смуглой кожей у него ходили тяжелые желваки.
— Подумаешь — не достать! Неужели вы не можете у себя…
— Украсть?
— Зачем украсть? Мало ли путей… Можно и договориться.
— Ладно, — решил Козинов, словно не желая дальше спорить.
Они договорились о цене, о том, что через два дня придут менять крыло, и, наконец, очутившись на улице, Козинов крепко выругался:
— Видал? Не знал, должно быть, Иван Дмитрич, к какому заказчику посылал…
— А он и говорил, что не знает… Откуда вы крыло возьмете?
Старик не ответил. Скользя по мостовой, он быстро пошел к трамвайной остановке. В трамвае старик все время молчал, занятый своими мыслями. Напарник осторожно тронул его за рукав:
— Дядя Матвей, мы куда?
— В автоинспекцию, дурень. Ты что, сам не видишь? Вмятина там — всего-ничего, а ему таких денег не жалко, новое крыло хочет ставить.
— Ну и что?
— Что? — Козинов шептал ему в самое ухо: — А то, что понимать надо: боится он этой самой вмятины, вот что. Скрыть хочет.
…Они подошли к зданию, где возле дверей была надпись: «МВД СССР. Городская милиция. Автоинспекция». Милиционер, дежуривший внизу, показал им, как пройти к оперативному уполномоченному ГАИ.
— Спросите капитана Фролова! — крикнул он им вслед.
Это было в воскресенье днем.
8
В это воскресенье Шилков проснулся рано, за окном едва начинало светлеть. Проснулся — и первым делом повернулся к календарю, словно для того, чтобы убедиться, что действительно уже воскресенье. Шилков быстро вскочил и раз десять присел, вытягивая перед собой руки и сводя их к груди. Потом натянул лыжные брюки, которые заменяли ему домашний костюм, и с чайником побежал в кухню. У себя в комнате Шилков принялся за уборку: отнес и вытряхнул полную пепельницу окурков; плеская из графина, смочил пол в своей комнате и тщательно подмел его изрядно вытертой щеткой, затем старой майкой смахнул с подоконника недельную пыль. Потом он достал свой выходной штатский костюм, повертел его на вешалке, критически осматривая. Из кителя Шилков переложил в карманы костюма расческу, деньги, ручку, затем достал билеты в театр и поглядел на них, раздумывая.
— Константин Алексеевич, а чайник-то ваш уже выкипел! И когда это я вас приучу к порядку? — сказала за дверью хозяйка.
— Ох, забыл! Сейчас, сейчас, мне бриться надо.
Хозяйка громко постучала и приоткрыла дверь. В руках у нее был чайник.
— Нате!.. Что же это вы, изменили своему правилу в парикмахерской бриться?
— Да, сегодня решил сам. Знаете, волосы у меня на подбородке вкривь и вкось растут. Никогда в парикмахерской чисто не выбривают; встал с кресла — хоть снова садись. А у самого, надеюсь, лучше выйдет.
Старушка лукаво прищурила глаза, удивленно покачала головой и ничего не сказала. Да и что было говорить: если молодой человек начинает так заботиться о своем подбородке — ясно, в чем тут дело. Она достаточно пожила на свете, чтобы понять, почему ее постоялец решил бриться сам.
А Шилков, действительно, брился особенно тщательно. Он быстро водил бритвой по подбородку, потом гладил ладонью и снова водил сверху вниз и снизу вверх.
Он, вероятно, долго мучился бы перед зеркалом, если бы не взглянул на часы и не увидел, что уже четверть десятого. Тогда он заторопился, хотел было бежать мыть прибор, но махнул рукой: «А-а, ладно, потом!»
По улице Шилков шел широким, быстрым шагом, то и дело поскальзываясь на обледенелом тротуаре. И только свернув за угол, он подумал: «Может, неудобно сейчас звонить? Наверное, она еще спит. Но нет, надо, а то уйдет еще куда-нибудь».
У будки телефона-автомата никого не было. На его просьбу вызвать Асю Дробышеву кто-то недовольно ответил, что не успел начаться день, а в общежитие уже звонят. Но Ася откликнулась быстро, и Шилков успокоился: значит, она уже встала.
— Это я, Шилков. Извините, что беспокою… Да, да, спасибо, и вас также — с добрым утром… Я вот зачем. Хочу пригласить вас в театр. Не просто так, а это нужно. По делу. Вы не против?
Шилков выпалил сразу все, что приготовил сказать. Получилось так потому, что он все-таки боялся: вдруг она занята или не захочет… Ася засмеялась тихо и как-то хорошо. Но ответила насмешливо:
— А вы разве просто так, без дела, не захотели бы пригласить меня?
Шилков растерялся:
— Я… не думал… Вообще, театр… наверное, у вас… — Он чувствовал, что скажет сейчас какую-нибудь явную нелепицу или глупость. — Так вы, значит, можете? Ну и хорошо! Мне зайти за вами, или мы где-нибудь встретимся? Конечно, мне нетрудно! Так я буду у вас ровно в девятнадцать… ровно в половине восьмого… До свиданья!
Шилков повторил это «до свиданья» несколько раз, хотя трубка уже была повешена. Между двумя этими словами он делал большую паузу, словно впервые постигая их смысл, и потому придирчиво проверял их на слух.
День тянулся мучительно долго, но Шилкову не хотелось ни читать, ни гулять. Пылаев, расставаясь с ним в субботу, сказал:
— Завтра по-настоящему отдыхайте. Делайте, что душе захочется. И не вздумайте опять заниматься домыслами, а то угораздит вас еще звонить мне. Ясно? Вечером в театр сходите. О пьесе я в понедельник первым делом спрошу.
Шилкову на самом деле о работе думалось меньше всего. Он попросту ни о чем не думал, а мысль о театре отгонял. Пусть все идет своим чередом, еще размечтаешься понапрасну. Может, Ася вовсе не потому согласилась идти, что он ее пригласил, а просто ей захотелось в театр, давно не была, билеты трудно достать… Шилков ходил по комнате, курил, останавливался, садился на стул, потом лениво раздумывал о том, что надо будет соорудить полки для книг и вешалку перевесить. Хозяйка звала его обедать — она такой суп с клецками сварила! Но Шилков отказался. В столовую он тоже не пошел, а пообедал, разогрев баночку фасоли со смальцем.
У общежития института Шилков был в начале восьмого. В вестибюль с шутками и смехом входили студенты. Шилкову казалось, что на него, постороннего здесь человека, все оглядываются, и он еще больше смущался от этого. Он хотел было пойти в магазин, позвонить оттуда и сказать Асе, что будет ждать ее на улице.
Сквозь застекленную дверь были видны часы, стрелки показывали уже половину восьмого. Тогда Шилков понял, что медлить нельзя. В конце концов он должен быть уверенным и спокойным: «Ведь мы же по делу идем в театр. Что же это я…»
Дежурный комендант, выписав пропуск, сказал, не поднимая глаз, как найти студентку Дробышеву. На четвертый этаж Шилков поднялся бегом, подражая студентам.
Асю он увидел с порога — она стояла у зеркала, напротив двери, и причесывалась. Она улыбнулась ему в зеркале и с той же улыбкой повернулась к нему:
— Вы уже? Я еще не совсем готова…
— Да… я опоздал на три… (нет, на две минуты… Но это ничего?
Шилков все еще стоял в дверях, не зная, проходить ли ему дальше, где снять галоши. Ася заметила его взгляд и сказала:
— У нас все снимают галоши у двери. Видите, наслежено? Это наши ребята заходили… Присядьте сюда, я сейчас…
И, может, оттого, что Ася тоже смутилась, когда он вошел, но все-таки овладела собой и вот продолжает причесываться, или оттого, что в комнате они были одни и Шилков не ощущал на себе любопытных взглядов, он вдруг почувствовал себя своим человеком здесь, в Асиной комнате. Он уже с нескрываемым любопытством оглядел комнату, рассмотрел картину в простенке. Потом Шилков опять поймал в зеркале лукавую и озорную усмешку девушки и в ответ тоже улыбнулся.
— Ася, вы одевайтесь потеплей, особенно ноги. Подморозило сильно. А туфли я понесу, ладно?
— Ладно… Только у меня сумки нет.
— Так мы в газету их… Вот в эту, вчерашнюю, можно?
Им обоим стало как-то особенно легко и хорошо. Ася все-таки до этой минуты не могла отделаться (да и не стремилась к этому) от мысли, что Шилков — «чекист, человек, в какой-то степени окруженный тайной, занятый чрезвычайно важными делами». А Шилков боялся самого слова «ухаживание» и не хотел, чтобы о нем можно было подумать как, о «женихе». И оба обрадовались, что между ними могут быть очень дружеские, очень простые отношения, ни к чему, собственно, не обязывающие.
Они вышли на улицу, и Шилков шутливо оттопырил согнутую в локте руку. Ася взяла его под руку, и оба засмеялись, глядя друг другу в лицо. Шли они легко, шли так, словно были знакомы очень давно и не было ни мимолетной встречи в автобусе, ни короткого разговора в буфете театра, а была долгая веселая дружба.
В театр они поспели к третьему звонку. Билетерши поторапливали опаздывающих. Как только Шилков и Ася нашли свои места, свет погас.
Едва поднявшийся занавес замер высоко над сценой, в зале раздались аплодисменты. Приветствовали работу художника и осветителей. Шилкову тоже вначале показалось, что перед ним не сцена, а распахнулось огромное окно на Волгу, в этот настоящий сад, где продолжают разговор трое несколько старомодных мужчин. Со сцены повеяло в зал прохладой, и впечатление было такое, что где-то там, за кустами и деревьями, действительно течет большая река.
Ася поежилась. Шилков тихо спросил:
— Холодно?
— Нет, что вы! В театре со мной всегда так.
Будто сама играю, вот и волнуюсь не меньше актеров. Смешно, да?
Шилков промолчал и только улыбнулся — улыбнулся и словам Аси и потому, что на сцене появилась Татаринова: он ее узнал сразу. Ему самому хотелось оценить игру этой талантливой актрисы, и он стал следить за каждым ее движением, за мимикой, отмечая про себя: «Да, это так, пожалуй, похоже, так бывает… и это тоже…» Но потом, забыв обо всем, он просто смотрел и переживал то, как любит и страдает Катерина, уже не думая, что играет ее Татаринова и что о ней говорят как о большом таланте…
Когда в зале вспыхнул свет, Шилков встал. Ася все еще смотрела на сцену, и глаза ее блестели.
Шилков всматривался в публику, разыскивая того, кто ему был нужен. «Он наверняка сидит где-то близко к сцене», — соображал Шилков.
Но сначала Шилков увидел молодого человека, который прошлый раз был с Асей. Шилков наклонился к девушке:
— А ваш знакомый здесь. Смотрите, он мимо нас пройдет.
Ася посмотрела, куда показал Шилков. На ее лице появилась досадливая усмешка:
— А, этот стиляга…
— Зачем же так? Он вам не нравится?
Тут Шилков увидел, что молодой человек не один. Он что-то рассказывал, видимо очень смешное, инженеру Савченко. Шилков побледнел: сейчас произойдет очень для него важное… или ничего не произойдет.
Шилков поднялся и, будто только сейчас случайно заметил их, поздоровался. Молодой человек с явным любопытством посмотрел через плечо на Шилкова. То, что он увидел с ним Асю, видимо его удивило мало. Он только слегка пожал плечами и с наигранной небрежностью сказал:
— Ах, вы не один! И даже с моей знакомой…
Ася подошла к ним. Шилков сделал жест в сторону Савченко:
— Познакомьтесь, инженер…
Савченко кивнул головой:
— Мы уже знакомы. Ася, не так ли?
— Да, я помню тот неудачный вечер, когда вы спешили домой. Вас жена не сильно ругала?
— Ну что вы! Она каждый вечер поздно приходит — я же не сержусь.
Когда началось второе действие, Шилков все еще думал о том, что опыт не удался. Стало быть, его предположение, не Савченко ли получал на почте деньги по паспорту Дробышева, оказалось неверным.
Ася снова, не отрываясь, смотрела на сцену, и Шилков был рад этому: она не заметит, что он уже не следит за действием, а, уставившись в одну точку, напряженно думает.
Несмотря на положительное в основном впечатление, которое сложилось у Шилкова от беседы с Савченко на заводе, он все-таки испытывал пока что необъяснимую неприязнь к инженеру. Ему почему-то хотелось тогда, во время разговора, уловить в рассказе Савченко какое-либо несоответствие, какую-нибудь фальшь. Он понимал, что так нельзя, что ему обязательно надо освободиться от этого предубеждения. Но он ничего не смог с собой поделать.
Удивляло, как Савченко говорил о разыгравшейся в лесу трагедии. Восстанавливая это в памяти, сопоставляя с тем, что говорил Пылаев после встречи с профессором Трояновским, Шилков по-настоящему насторожился. Вчера он попросил Пылаева снова рассказать о беседе с Трояновским. Подполковник рассмеялся. «Ох, до чего же ты дотошный! Я уже и забыл, наверное, все подробности», — но все же стал вспоминать слова профессора:
— В 1943 году, примерно в августе, ко мне домой пришел человек…
— Нет, нет, не то. Помните, вы передавали рассказ профессора о гибели его сына? Мне бы хотелось услышать, как он об этом говорил…
— Это, капитан, труднее вспомнить… Вот так, кажется: «Владимир Викторович шел с нами». Это, конечно, слова Савченко. Профессору они, вероятно, так целиком и запали в память. Что дальше? Да! «Нас настигли эсэсовцы». Не ручаюсь за точность, но примерно…
— А потом: «Он начал жечь все бумаги»?
— Кажется, так. А что?
— И еще: «Но было уже поздно. Я не успел сжечь эту тетрадь…»?
— Да, да, что-то в этом роде. Я теперь сам припоминаю. Именно так. А вы откуда знаете, как говорил профессор?
— Товарищ подполковник, во-первых, вы на «оперативке» докладывали. Тогда вы все помнили лучше. Во-вторых, я беседовал с Савченко. Он мне повторил все слово в слово. Теперь меня это заинтересовало…
— Что именно? Совпадение?
— Да, слишком все сходится: даже слова одни и те же.
Пылаев задумался. Шилков исподлобья смотрел на него.
— Действительно, интересно. Думаешь, заученный рассказ?
— Не то чтобы заученный… Но, сами понимаете, странно… Как думаете: профессор его словами говорил?
— Трояновский, конечно, переживает, когда вспоминает, волнуется. Но здесь… здесь, по-моему, он говорил языком Савченко. Это бывает. Запал человеку рассказ, потряс его душу, и человек уже передает его потом дословно. Впрочем, Трояновский может нам помочь… Но лучше не надо. Лишний раз заводить с профессором разговор о сыне — это жестоко. Не надо, капитан.
— Я об этом и не помышляю. Но проверить бы хотелось… Может быть, прав я…
— Хорошо, предположим, что ты прав. Ну и что? Разве это поможет делу?
— Но мы тогда Савченко из виду не выпустим.
— А вы и сейчас его не выпускайте, — посоветовал Пылаев. — Подозревать не надо, но и терять из виду, забывать о нем не следует.
Вот тогда и мелькнула у Шилкова нелепая — он это понял сейчас — мысль: а что если Савченко и есть тот мнимый Дробышев, которого Ася видела на почте? Пылаев криво усмехнулся:
— Фантазер ты, капитан, не в обиду тебе будет сказано. Смешно, ей-богу. Не станет этот «Дробышев» ходить у нас под носом! Встреча с Асей его напугала, конечно. Он, безусловно, подумал, что она была у нас. Если это разведчик — он уже далеко или сменил и внешность и фамилию. А Савченко… что Савченко? Он ведь давно на заводе.
— Все-таки я хочу познакомить инженера с девушкой.
Пылаев лукаво подмигнул. Шилков покраснел и горячо заспорил:
— Да нет же! Вы не подумайте! Просто неплохо бы…
Пылаев уже хохотал: капитан так и не понял, одобряет он его предложение или нет. Это было вчера…
…И вот сегодня в театре опыт Шилкову не удался. С Асей, оказывается, Савченко знаком, и никакого Дробышева она в нем не признала. Да, не туда ты пошел, капитан, «загнул», мягко выражаясь.
Шилков сидел и злился на себя. Он не заметил, как кончилось второе действие, и очнулся только тогда, когда снова вспыхнул свет. Он видел, что Савченко и молодой его приятель опять поднялись и направились к выходу. Они обязательно пройдут мимо. Шилков наклонился к Асе:
— Может быть, вы хотите подойти к ним?
— Нет. Пойдемте лучше в фойе. Там макеты декораций. Хотите посмотреть?
— Конечно, Ася…
А Савченко, выходя из зала, говорил в это время:
— Борис, здорово все-таки моя-то играет, а?
— Класс! — чмокнул губами Похвиснев.
— Я и не думал, когда женился, что у нее такой талант. Это, веришь ли, меня самого поражает.
— Эх, мне бы!..
— Что тебе? Нос не дорос! Ты за девчонками все бегаешь, стиляешь. Это, брат, не то. Искусство надо любить. Женщина — это тоже искусство, ее понимать надо… Да, знаешь ли, сходим-ка за кулисы.
Но когда они прошли за кулисы, уже прозвучал второй звонок. Савченко хотел вернуться в зал, но Борис тянул его за руку: «Пойдем, время есть, еще успеем». Третий звонок застал их у выхода на сцену. Артисты ждали поднятия занавеса, но Татариновой среди них не было. Борис спохватился:
— Я и забыл, что жене твоей еще нескоро выходить. Она у себя, пошли.
Дверь уборной Татариновой им открыла Жаннет. Савченко спросил:
— Мария здесь?
— Да, да, проходите, — кокетливо пригласила Васильева. Она уже заметила за спиной Савченко молодого человека. — А, злополучный лихач! Вы еще…
Похвиснев мгновенно изменился в лице. Испуганным жестом он поднес палец к губам. Жаннет на секунду замолчала, но потом продолжала тем же тоном:
— Я рада вас видеть. Вы не приходили и не звонили. И мне стало скучно.
Хотя Борис быстро справился с испугом и пауза в словах Васильевой была очень короткой, Савченко заметил все. Но он как ни в чем не бывало разговаривал с женой:
— Напрасно ты волновалась. Твоя Катерина, пожалуй, запомнится так же, как Катерина Тарасовой. Я горжусь тобой, дорогая… Но нам, кажется, пора. Да и вам, Жаннет, тоже скоро выходить.
В коридоре Жаннет насмешливо помахала Похвисневу вслед. Савченко не особенно спешил за приятелем, хотя тот, остановившись в конце коридора, ждал его. Савченко крикнул: «Иди, я сейчас!» — и взял актрису под руку:
— Мне хочется вас кое о чем спросить. Можно к вам?
— О, пожалуйста. Но мне скоро…
— Я только на минутку.
В артистической уборной Савченко плотно прикрыл за собой дверь и повернул ключ. Когда он обернулся, Жаннет увидела его лицо, серьезное и холодное.
— Жаннет, скажите, что вы знаете о Борисе? Почему вы назвали его лихачом? Чего он боится, что скрывает? Скорей!
— Почему… вы… так? Зачем? Я не хочу, чтобы… Я ничего не знаю!
— Знаете! Вы с ним встречаетесь. Я не шучу. Мне нужно, понятно?
— Лева, что за тон? Как вам не стыдно!
— Жаннет, я спрашиваю совершенно серьезно. Все, что вы мне скажете, останется между нами. Но я должен узнать, что он за человек. Вы же понимаете — я инженер, на ответственной работе. Меня ничто не должно компрометировать. А я чувствую, что Борис что-то скрывает.
— Вам кажется. Борис хороший человек. Ну, бывают ошибки, молодость…
— Жаннет, не уходите от ответа. Я все равно узнаю, но тогда… Ну?
— Пустите! Мне на сцену пора!
— Пока вы не скажете, я не пущу вас.
Жаннет испуганно смотрела на Савченко.
— Лева, я не могу! Это ужасно… ваш вопрос. Спросите у него самого!..
— Нет! Мне скажете вы! Или…
— Господи… — Она поднесла пальцы к вискам. — Ну хорошо… Хотя… Лева, зачем это?
— Жаннет, я уже сказал, зачем. Повторяю, я никому не скажу. Ну же!
— Ой, уже зовут! Не держите меня за руки! Мне пора! Что вы делаете? Оставьте!
Актриса суетливо приводила себя в порядок. Савченко не отходил от нее.
— Ладно. Слушайте. Но поклянитесь…
— Да, да, клянусь. Скорей!
— Мы с ним ездили за город… Нет, я не могу. Это страшно!.. На обратном пути Борис сшиб женщину. Она шла по шоссе. И на повороте… Я не успела опомниться. Борис перепугался, и мы даже не остановились…
— Кто-нибудь видел машину?
— Нет же, на шоссе никого не было. Потом мы свернули, потом еще раз… Вернулись в город поздно, совсем другой дорогой.
— Никто не спрашивал Бориса?
— Нет, уже много дней прошло… Мне кажется… Я спрашивала его: все обошлось.
Савченко криво усмехнулся:
— Вот и все. А вы боялись говорить. Конечно, я буду молчать, даже Борису не скажу, что я знаю. Не волнуйтесь, Жаннет. Наверное, все кончилось благополучно… Ну, идите. Желаю вам успеха… Варвара. Пойду к вашему Кудряшу, а то он бог знает что подумает о нас с вами.
И Савченко выпустил Жаннет из уборной.
…Когда спектакль окончился, Шилков с Асей спустились вниз и стали в конец длинной очереди в гардероб. Стояли долго. И Шилков волновался, что Ася замерзнет в холодном коридоре. Он шутливо предлагал ей побегать, всерьез хотел пойти вперед и попросить кого-нибудь взять их номерок. Ася смеялась, притопывала на месте, и вдвоем, среди незнакомых людей, им было хорошо и весело.
Но когда, видимо разыскивая Савченко, по коридору прошел в шубе и пыжиковой шапке Борис Похвиснев, Ася замолчала и отвернулась. Шилков не хотел ни о чем спрашивать, но Ася сама заговорила:
— Какой неприятный этот Борис. Скользкий какой-то, неестественный…
— Вы давно с ним знакомы?
— Не очень.
— А с Савченко? Вот с этим инженером?
— Его фамилия Савченко? Я и не знала… С ним — его зовут Львом Петровичем — меня познакомил Борис в Доме искусств. Один раз только его и видела, да вот сегодня…
— Они что — большие друзья?
— Не думаю. Савченко смеется над ним и даже, по-моему, презирает. Борис жаловался… Не знаю, почему они сегодня вместе.
— С Борисом вы поссорились?
Ася опустила голову, теребя поясок платья:
— Гадкий он… Мне вспоминать неприятно… Не надо…
* * *
Выходя из театра, Борис Похвиснев, запахивая шубу, спросил:
— Где же наши дамы? Все, наверное, уж в ресторане за столом сидят, а мы еще валандаемся…
Но Савченко спросил, в свою очередь:
— Ну что, друг, ваша студентка тю-тю? Теперь другому отдана?
Борис презрительно поморщился:
— Подумаешь, сокровище! Строит из себя недотрогу… Нам таких не надо, списываем таких по акту, как говорят в аптеке. Жаннет — это антик!.. Где они?
Савченко не унимался:
— Конечно! Глупая девчонка. Возни только много, а удовольствия мало… Но, знаешь, она — ничего! Что-то в ней есть азиатское… Глаза особенно. Она не монголка?
Но Похвиснев не замечал издевки. Он выжидающе поглядывал на двери и отвечал механически:
— Да нет, куда там! Русская… И фамилия у нее русская — Дробышева… А ну ее, серенькая студентка…
Савченко быстро переспросил:
— Как ты сказал? Как фамилия?
— Дробышева, говорю… Куда же дамы делись?.. Ах, вот они, наконец!
Борис бросился навстречу Татариновой и Васильевой, затем подозвал такси. Он открыл заднюю дверцу, пропустил Жаннет, затем, извинившись, втиснулся сам:
— Я — между дамами, как верный паж! Садитесь, Мария… В ресторан «Националь»!
Савченко сел рядом с шофером и всю дорогу молчал, хотя сзади много шутили и хохотали.
9
В понедельник, выйдя после смены из ворот завода, инженер Савченко сел на обычный — «свой» — номер трамвая. Пропустив остановку, на которой он всегда выходил, Савченко уже в пустом вагоне доехал до кольца и там пересел на другой трамвай. Трамвай тащился очень медленно, и можно было подумать, что нетерпеливо поглядывавший на часы Савченко решил поэтому вскоре выйти и взять такси. Шоферу он назвал улицу в заречной части города.
Здесь, на малолюдном бульваре, он прошел немного вперед, потом свернул в темный переулок. На заснеженный тротуар отбрасывало неяркий свет морозное окно керосиновой лавки. Савченко спустился в подвальчик и, сонно прикрывая глаза, начал крутить диск телефона-автомата. Когда на его звонок откликнулись, Савченко пьяным голосом спросил:
— Ты, да? Ты? Знаешь, ты — гад! Кто говорит? Это я говорю! Вот!.. Видеть тебя не хочу! Восемь рублей должен, да? Отдавай, мне опохмелиться надо. Курить нечего. Вот, Кондратьев, черт тебя дери…
Ровно в восемь часов Савченко шел по Кондратьевскому переулку. Возле магазина «Папиросы — табаки» он задержался. Магазин был уже закрыт, и продавщица, придерживая дверь, выпускала покупателей. Савченко попросил впустить его, но продавщица была непреклонна.
К ним подошел высокий мужчина, тоже начал было упрашивать продавщицу, но потом зло сказал:
— A-а, все равно не пустит, уперлась… Но что же мы курить будем?
И они ушли вместе, два человека, опоздавших купить папиросы.
Немного спустя высокий коротко спросил:
— Зачем я вам понадобился?
Савченко ответил скороговоркой:
— Учтите, в городе учится дочка Дробышева, это опасно, возможна встреча.
Высокий ответил спокойно:
— Знаю. Встреча была. Но — все нормально. Расскажите, как идет подготовка.
— Этот фотограф почти наш. Ловкий парень, спортсмен. Сделать все ему будет нетрудно. Надо переходить к прямой обработке. Ваше мнение?
«Дробышев» откликнулся не сразу: видимо, он обдумывал все очень тщательно. Наконец он сказал:
— Я возьму парня на себя. Детали вы нашли, мне все ясно. Что ж, здесь, пожалуй, выйдет. Вам лучше быть в стороне. Так ему нужно крыло на машину? Ладно…
У тротуара остановился автобус и, затормозив, проехал вперед, скользя по обледенелой мостовой. Высокий побежал и успел вскочить на ступеньку. На Савченко он и не оглянулся.
* * *
Несколько дней спустя внештатный художник одного издательства Чердынцев на только что купленном по случаю подержанном «оппеле» въехал во двор дома № 16, что на улице Красина. Заперев дверцы, он вернулся в подворотню, почитал вывешенный там список жильцов и вышел на улицу — выпить на углу в ларьке подогретого пива. Минут через пять он снова был во дворе и спрашивал проходившего паренька:
— Скажи, друг, чей это гараж? Понимаешь, кончился вдруг бензин…
Паренек запрокинул голову.
— А вон там живут. Похвиснев — хозяин гаража. Вот по этой лестнице на четвертый этаж шагайте.
На звонок вышел сам Борис. Он недоверчиво оглядел незнакомого высокого мужчину и вопросительно поднял брови. Чердынцев объяснил:
— Вы уж меня извините. Заехал к приятелю, а его дома не оказалось. Собрался уезжать, гляжу — бензин на исходе. Хорошо, подсказали мне, что тут владелец автомашины живет… Так мне бензинчику, самую малость, до дому только. Я, конечно, заплачу, сам понимаю.
Борис Похвиснев нерешительно держался за ручку двери, мялся и не знал, под каким предлогом отказать. Ему не внушал доверия этот неожиданно появившийся человек: может, он из милиции, хочет ненароком заглянуть… Лоб Бориса мгновенно покрылся испариной. И все-таки он не знал, что сказать. А Чердынцев продолжал уговаривать:
— Ну что вы, право! Не хотите коллегу выручить? Это же бесчеловечно! Вот, скажем, с вами бы случилось — я дал бы без разговоров. Хоть ночью поднимите. Честное слово. Надо, товарищ, выручить!
Борис, прикрыв, наконец, дверь, пошел за ключом. Спускаясь по лестнице, он обдумывал, как бы сделать, чтобы этот высокий не видел его машины. Во дворе, бегло взглянув на «оппель», он буркнул:
— Подождите здесь, я сейчас бачок вынесу.
Он открыл дверь и проскользнул внутрь гаража. Но Чердынцев не стал дожидаться его во дворе. Просунув голову в гараж, он обшарил помещение быстрым, косым взглядом, затем вошел и прикрыл за собой дверь.
— A-а, вот у вас какая машина! Ничего, прямо скажем. Да, чувствуется фирма…
Борис в испуге стоял с бачком в руке, не двигаясь с места. Немного оправившись, он толкнул дверь и кивнул: пойдемте, мол. Но Чердынцев не обращал на него внимания и оглядывал автомашину уже с другой стороны, постукивая ногой по баллонам.
— А как на ходу? Сколько можно выжать? Горючего много берет?
Он спрашивал, как страстный болельщик, для которого в это время ничего больше не существует на свете. Похвиснев волей-неволей вынужден был отвечать — он так и стоял с бачком в руке.
Чердынцев уже заметил легкую царапину и вмятину на крыле. Он погладил царапину, потом достал платок и потер. Этого ему показалось мало. Тогда Чердынцев подышал на царапину и опять потер пальцем. Наконец он поднял глаза на Бориса и посмотрел на него, слегка прищурившись. Борис не выдержал, по его лицу пробежала едва уловимая судорога. Но Чердынцев все-таки заметил эту болезненную гримасу и усмехнулся про себя. Все так же не отводя прищуренного взгляда, он нарочито медленно спросил:
— Где это вам так не повезло, а?
Борис был бледен и прятал глаза.
Чердынцев, заложив руки в карманы и покачиваясь на длинных ногах, сам подсказал ответ:
— Наверное, когда в гараж загоняли, да?
— Да, да, вы понимаете, не рассчитал и чиркнул по кирпичному углу. — Борис, поставив, наконец, бачок, стал объяснять, как он якобы загонял машину.
Он объяснял подробно, оживляясь еще больше от того, что высокий слушал его внимательно, и под конец, уже не смущаясь, размахивал руками, демонстрируя, как он выворачивал руль. Чердынцев наклонился над стенкой:
— Вот здесь примерно, да?
— Именно здесь и поцарапал. Царапина длиннее была, если бы я не остановился и не занес передок уже руками.
Чердынцев выпрямился, погладил подбородок:
— Ну что ж, очень хорошо. Все верно. Так, так…
Он повернулся к Борису и слегка подмигнул ему правым глазом. Достав папиросы, он угостил молодого человека, затянулся сам. Помолчали. Борис успокоился. Чердынцев спичкой чистил толстый отросший ноготь. Но неожиданно Похвиснев увидел его колючий, темный взгляд исподлобья, когда художник сказал тихо и оттого особенно внятно:
— Я понимаю, это все для ГАИ… Ну, а на самом деле?
Борис, вспыхнув, опешил:
— Вы что — не верите мне? Да я…
Чердынцев почти беззвучно рассмеялся.
— Знаете ли, честно говоря, мне очень нравится то, что вы сами уже поверили в придуманное. Нет, нет, это хорошо. Это получится искренне, в милиции могут поверить. Поэтому разубеждать вас не буду, пока все достоверно. Только… дайте что-нибудь потяжелее. Ах, вот ключ.
Художник взял ключ, прикинул на глаз расстояние и несколько раз ударил по кирпичному углу. Он даже полюбовался своей работой.
— Вот так. Видите — на стене ведь тоже должна быть хотя бы царапина. Вы же здесь задели?
Похвиснев стоял, не шелохнувшись, безучастно глядя на Чердынцева. Художник вытер подобранной ветошью запачканные руки и внимательно, словно впервые, оглядел Бориса с ног до головы.
— Ага, молодой человек, дело, как я вижу, серьезное. Так, так… Человечка кокнули, да? Слегка его толкнули, а он моментально богу душу отдал? Нехорошо, друг! Как это в заповеди говорится — «не убий»? Да-а… Народишко нынче слабый пошел, пальцем-мизинцем на тот свет отправить можно.
Чердынцев как-то особенно пренебрежительно махнул рукой и сплюнул.
— В общем, дрянь-народ, слезы не стоит… Что, женщина была? Да отвечайте же! Я уже сказал, что не из милиции пришел… Ну?
Борис, все еще в смятении от того, что кому-то достаточно было лишь одного беглого взгляда, чтобы догадаться обо всем, отвечал односложно:
— Да… Женщина…
Чердынцев задумался, старательно затаптывая окурок каблуком.
— А в общем, чепуха. Нечего расстраиваться. Насчет ГАИ я пошутил, конечно; кто вас будет вызывать? Этак им нужно опросить всех владельцев машин и шоферов — сами понимаете, невозможно. Небось, все шито-крыто?
Наконец-то убеждаясь, что этот человек — не из милиции, Борис заговорил откровенно, но потому еще тише:
— Нет, никто не видел. Но в машине-то я был не один.
— Что за баба? — быстро спросил Чердынцев.
— Да так, влюбленная кошка. За нее я не беспокоюсь, могила.
— Еще кто?
— Больше никого, это точно. Ну, я, по правде, перепугался. Крыло задумал менять. Рабочих тут пригласил. Только они не появляются что-то, уж три дня прошло…
— Так, так… Это хуже. Они не могли подумать?
Борис опять побледнел, и в его глазах снова промелькнула растерянность.
— Что?… Нет, нет… Не может быть…
— Ну, вы на это «не может быть» бросьте надеяться! Я вот сразу понял. — Чердынцев усмехнулся. — Конспиратор еще…
— Но ведь зачем им? — уже горячо защищался Борис.
— Что — зачем? А так. Народ теперь такой — ему ничего не стоит пойти и накапать. Бдительность проявить, как теперь говорят. Счастье ваше, что я подвернулся. Я-то уж не выдам. Так, значит, крыло хотели менять? Что ж, это дело… Помочь вам, что ли?
Борис оживился. Он порывисто, словно ища спасения, подвинулся к Чердынцеву:
— Если можете! Прошу вас.
Чердынцев снова раскурил папиросу. Он вдруг стал каким-то вялым и, казалось, равнодушным.
— Трудное дело… Откуда крыло взять?
— Сделайте! Умоляю вас — спасите! Век буду благодарен, денег сколько смогу достану…
— Нет, деньгами мне не нужно.
— Тогда — что угодно! Только скажите… Уж будьте добры…
Чердынцев запахнул пальто и открыл дверь гаража.
— Ладно, подумаю. Если что — к вечеру приеду. Будем живы — расквитаемся… А бензинчику налейте все же. Для начала. — И он пошел к своей машине.
* * *
Среди множества дел, мелких, но отнимавших немало времени, убийство пожилой колхозницы неизвестным шофером не выходило из головы у капитана госавтоинспекции Фролова. Колесил ли он на мотоцикле по своему участку, проверял ли документы и путевые листы, догонял ли автомашину, превысившую дозволенную скорость, — всюду ему думалось: «Не та ли машина?… Не тот ли шофер?».
И хотя этим делом занимался не он, а работники уголовного розыска, мысль о негодяе-шофере, неотступная, жгучая, все время преследовала его.
Дело, однако, вперед не двигалось. У работников угрозыска не было никаких данных, никакой, хотя бы самой малой зацепки. Известен день, примерно определено время, когда была сбита женщина. А дальше? Пустынное в поздний час шоссе. Никто ничего не видел и не слышал. Когда нашли женщину, сразу же опросили всех постовых при въезде в город. В те часы прошла только колонна военных грузовиков да рейсовый автобус. Из военных шоферов никто не мог быть преступником: свидетелей много, — или другие шоферы, или пассажиры автобуса услышали бы крик, удар. Вероятно, это была одиночная машина.
Убитая лежала у самого кювета, в сугробе, — вот почему ее заметили не сразу. Тщательное расследование на месте показало, что ее ударила машина, которая шла в город. Вот и все, что было известно.
В воскресенье Фролов дежурил в инспекции. Пришли двое рабочих, рассказали о странном, на их взгляд, заказчике — царапина на крыле машины еле заметна, а просит сменить все крыло. Видимо, боится он этой царапины. «Может быть, мелочь, но… вы уж, товарищ начальник, на нас не сердитесь. Может, зря у вас время отнимаем, однако… Сами смотрите, что к чему, а только крыло менять мы не будем».
Фролов поблагодарил посетителей, записал суть дела и адреса рабочих в блокнот. Через несколько минут его вызвали на место происшествия: на обледенелом шоссе перевернулась «легковушка», подвыпивший шофер не удержал руль… А потом два дня Фролов опять пропадал на своем участке.
Только в среду Фролов, вернувшись в ГАИ, раскрыл блокнот. Запись ему показалась не стоящей внимания. Царапина — ну и что? У «единоличников» это не редкость. Вот замена крыла… Любит, значит, владелец «блатом» пользоваться: нашел же вот ремонтников. Может, и бензин у него «левый»? Посмотреть на него, что ли? Что за человек?
Фролов подумал, подумал и попросил секретаршу вызвать гражданина Похвиснева с принадлежащей ему машиной за номером 4178 в автоинспекцию на завтра к 11 часам утра.
Похвиснев оказался высоким и сутуловатым молодым человеком с крохотными усиками. Может быть, его делали выше ростом и сутулым узкие брюки и мешковатый пиджак в клеточку. Впрочем, разглядывать Похвиснева пристально показалось Фролову неудобным. Он на минуту задумался: «О чем спрашивать?» — и начал осторожно:
— Давно приобрели машину?
— Я не приобретал, это трофейная.
— Вы были на фронте?
— Нет… Зачем вы об этом спрашиваете? Ведь все у вас записано при регистрации.
— Да, да… Верно, я просмотрел это место… Когда вы получили права? Ага, вот. Вам бы через месяц их подтвердить, товарищ Похвиснев.
— Пожалуйста, хоть сегодня.
— Сегодня не надо, лучше в срок. Для каких нужд используете машину?
— Для личных. — Похвиснев впервые посмотрел на Фролова. В голосе у него прозвучало удивление, глаза были темными и неподвижными.
— А именно?
— Езжу к знакомым, катаюсь по городу, иногда и за городом.
Фролов как бы притаился перед прыжком: «спросить?». Сдержаться ему стоило немалых усилий: «Что это даст? Если это и он — отговорится, конечно…» И он продолжал:
— Бензина хватает?
— Да, вполне. Беру талоны.
— Ну хорошо. Давайте посмотрим машину. Она у вас на улице? Загоните, пожалуйста, во двор.
Машина уже урчала в подворотне. Похвиснев уверенно, почти не сбавляя скорости, въехал во двор.
Фролов поднял руку, делая знак остановиться.
— А машину вы, кажется, любите, — улыбаясь, сказал он.
Похвиснев вылез и хлопнул дверцей.
— Да, стараюсь. Блеск! — Он провел перчаткой по капоту.
— Тормоза как? Держат?
— Не жалуюсь. Хотите убедиться? — Похвиснев уже чувствовал себя хозяином положения.
— Зачем? Я вроде видел сейчас.
Фролов подумал: «Левое крыло он хотел менять. Интересно, что за царапина и вмятина». Он начал обходить машину справа, внимательно ее осматривая. Похвиснев шел рядом с ним, спокойно протирая стекла. Вот и крыло. Фролов скользнул по нему быстрым взглядом, но ничего не заметил. Он прищурился и еще раз, уже медленно, словно любуясь своим отражением, поискал глазами. Нет, ни царапины, ни вмятины не было.
— Ну, будем считать, что у вас все в порядке. — Фролов протянул Похвисневу руку. — Можете ехать. А через месяц — прошу права подтвердить. Всего хорошего!
«Вот пока и все», — сказал себе Фролов, когда машина Похвиснева выехала из подворотни. «Что узнал? Нуль целых, нуль десятых. Хотя… десятых не нуль, кое-что есть. Человек он не тот, чтобы ему верить. А что делать? Не спрашивать же его, в самом деле, где он был в позапрошлое воскресенье. Накричит на меня, нажалуется — и будет прав. Что я ему — допрос буду устраивать? Основания где?».
Фролов ходил из угла в угол и тихонько чертыхался. «Крыло он успел поменять — это факт. Хоть и чисто сделано, а все же на обратной стороне грязи нет, как на другом. Нет, друг, меня не проведешь, сам стреляный… Кто же ему, интересно, менял? Рабочие? Пришли, сказали, а потом все же поменяли? Ну и ребята! Надо у них спросить…»
10
Что же оставалось делать Шилкову, после того как его планы, на которые в глубине души он возлагал столько надежд, попросту говоря, провалились? Только пойти и рассказать обо всем подполковнику Пылаеву, заранее зная, что тот не просто будет недоволен — наверняка скажет что-нибудь резкое, такое, от чего Шилков покраснеет и выругает себя в душе.
Предположения сбылись. Пылаев, выслушав помощника, долго молчал, и молчание было томительным. Шилков начал краснеть еще до того, как подполковник тихо спросил:
— Значит, все, чему учили, — побоку? И — да здравствует интуиция? Что вы молчите?..
— Я думал, такая проверка не помешает. Тем более, что вас я поставил в известность.
Но Пылаев не сдержался:
— Не помешает? Простите меня, но вы сейчас рассуждаете, как приготовишка, а не как чекист. Да ведь если Савченко хоть в чем-нибудь виноват — думаете, он не заметит этого вашего внимания? Неужели нельзя было показать на него Дробышевой издалека — и все?
Шилков промолчал, подумав: «Значит, Пылаев сам допускает мысль, что Савченко может быть виноватым в чем-то?» Неожиданно замолчал и Пылаев; он сказал сейчас лишнее и догадался, что внимательный Шилков не пропустил его слова…
Что ж, и у него не лежит к Савченко душа. Вовсе не потому, конечно, что тот чудом спасся при разгроме партизанского отряда, хотя он, подполковник Пылаев, не очень-то верит в чудеса.
Чтобы зря не ориентировать Шилкова на след, быть может ложный, Пылаев сам занимался Савченко. То, что ему удавалось узнать, он терпеливо обдумывал, мучительно стараясь найти в фактах хотя бы единственную деталь, которая убедила бы его: да, Савченко не тот, за кого себя выдает.
Это ощущение — что Савченко все-таки человек с «двойным дном» — возникло у подполковника не случайно. Одно обстоятельство, о котором он никому еще не говорил, даже генералу Черкашину, насторожило его. Собственно говоря, эта небольшая подробность всплыла как раз во время следствия и не была ни случайной, ни неожиданной.
Пылаев сидел у Трояновского и — в который раз! — перелистывал тетрадь в синем клеенчатом переплете, ту самую, которую удалось спасти Савченко. Она была знакома Пылаеву до мелочей: эти вкривь и вкось написанные формулы, торопливо набросанные чертежи, зачеркнутые и вновь восстановленные пометки… И в середине тетрадки — вырванные, видно, наспех листки с остатками каких-то записей на линии обрыва. Почти в конце тетради, возле одной из формул, стоял крючок, и на поля была вынесена пометка: «См. стр. 28». Как раз эта страница и была вырвана.
Трояновский не мог объяснить, что было там, на уничтоженных страницах.
— Я сам долго думал об этом. Судя по сноске — ничего необычного, может быть что-то не относящееся к сплаву. Скорей всего — какая-нибудь находка в технологии: у Володи была эта манера — вносить в свои записи все, что только приходило в голову. В этом смысле он был очень неорганизованный человек.
Понятно, что отправлять тетрадку на специальную экспертизу было незачем: уж если Трояновский не мог разобраться, тут никакая экспертиза не поможет.
На следующий день Пылаев отправился на завод. Главный инженер завода, давнишний его товарищ еще со студенческих лет, удивился, увидев подполковника:
— Ну, только ты способен на такое! Мы уж с тобой… Постой, постой… Ну да, года три не виделись. Не мог позвонить?..
Пылаев рассмеялся:
— Так ведь и у тебя есть мой телефон.
Они посидели, поговорили о том, что Пылаев начал полнеть, даже утренняя зарядка не помогает, что хорошо бы встретиться как-нибудь под выходной всем вместе, с женами, но разговор быстро иссяк: главный инженер понимал, что Пылаев пришел к нему не за тем, чтобы просто повидаться. Он так и спросил об этом, со своей обычной грубоватой простотой:
— Формальности соблюдены? Обо всем поговорили? Ну, что теперь у тебя?
Пылаеву была знакома эта манера, многим она казалась неприятной. Но он любил товарища за прямоту и знал, что лучше говорить с ним открыто. Он так и сказал ему:
— Меня интересует Савченко. Понятно, что это не праздное любопытство, но об этом знаем только ты и я… ну, и еще те, кому положено.
Инженер кивнул:
— Что конкретно тебя интересует?
— Да все. Встречался ли ты с ним в бытовой обстановке? Как он на производстве? Как держится, что говорит… Словом, все, что можешь рассказать. И вот еще что. Мы с тобой коммунисты, стало быть будем говорить откровенно. Мне нужно знать твое мнение — такое, какое оно есть, без всяких натяжек и «случаев».
— Ну, — нахмурился тот, — этого ты мог бы и не говорить мне.
— А ты не обижайся, — спокойно заметил Пылаев. — Сам знаешь, ведь и так бывает: придешь к человеку, попросишь его рассказать о другом, так он такого нагородит — черт ногу сломит. Еще бы! Раз госбезопасность интересуется — значит, дело нечисто…
— И это знаю, — все еще хмурился главный инженер. — Только ничего плохого о Савченко ты от меня не услышишь. Дружить, правда, мне с ним некогда, водку я с ним раза два пил на каких-то юбилеях. А люди говорят: хороший человек, опытный инженер. Да то, что он опытный инженер, — это я сам знаю. Читал про метод Максимова?
Пылаев с трудом припомнил газетную статью, не так давно попавшуюся ему на глаза, вернее не самую статью, а большой портрет сталевара в асбестовых рукавицах и очках, поднятых на кепку. О чем там шла речь — он, разумеется, уже не помнил и спросил сейчас:
— А что за метод?
— Да это тебя вряд ли заинтересует.
Есть у нас тут один беспокойный старик — Максимов. Все время ищет. Ну, и задумал одно дело. Начал искать, как ускорить плавку за счет понижения индуктивности дросселя. Сколько он бился над этим — бог один ведает! Старик гордый: ни к кому не обращался, стеснялся, надо полагать… Савченко как-то заметил, что тот берет в библиотеке книги по электротехнике. Ну, разговорились, и дело пошло. Да что я это говорю — все равно ведь не поймешь.
— Почему? Ты очень популярно объясняешь. Значит, Максимов ускорил плавку при помощи Савченко, а метод назван методом Максимова? А БРИЗ как — только ему одному свидетельство выдал?..
— Ну, это бывает. Максимов протестовал, я протестовал, а директор наш иначе рассудил: надо выдвигать своих, рабочих-изобретателей. Я говорю: это липа, — но один в поле не воин. Когда-нибудь партия поправит таких фокусников. Савченко — тот человек скромный, он удовольствовался премией и никакого шума не поднимал из-за того, что его даже не упоминали, когда говорили о методе Максимова. Ну, а старик к нему домой извиняться ходил…
Пылаев слушал его рассеянно. Все это было не то. Впрочем, ничего, видимо, он и не мог узнать сейчас, кроме общих слов: опытный инженер, хороший человек… Внезапно он подумал: а сам Максимов? Может быть, он поможет, подскажет — ведь работает он вместе с Савченко и знает о нем, должно быть, куда больше.
Он встал, протягивая руку:
— Спасибо. Только, прости уж меня, плохо ты свои кадры знаешь.
Главный инженер вскинулся:
— А что ты думаешь — я всем в душу влезать должен? Нет уж, увольте, у меня годовой план… Он у меня вон где сидит! — Он хлопнул себя по шее и так же быстро, как рассердился, повеселел: — Некогда мне, Сергей. А вот с тобой вечер провести найду время. Ну, позвонишь? Или опять исчезнешь?
Пылаев не ответил, прощаясь. У самых дверей главный инженер тихо спросил его:
— Слушай, а почему тебя Савченко интересует? Что-нибудь случилось? Я как-то раз видел его анкету: находился на оккупированной территории.
— Так он ведь в партизанском отряде был, — уклончиво ответил Пылаев.
Он спустился по лестнице, вышел на широкий заводской двор и медленно направился к длинному кирпичному зданию в его глубине. «Зря не спросил, в какой смене работает Максимов, его может и не оказаться… И Савченко… Не надо, чтобы он видел меня».
В отделе кадров, куда он пришел, так и не добравшись до сталелитейного цеха, ему дали адрес Максимова. Пылаев, пробежав записанный на бумажке адрес, удивился: Максимов оказался соседом профессора Трояновского! Впрочем, чему удивляться: дом — заводской.
* * *
Максимов сам открыл дверь. Поверх очков в жестяной оправе на Пылаева глядели по-стариковски недоверчивые глаза. Он посторонился, пропуская гостя. Когда Пылаев предъявил ему свое удостоверение, старик понимающе кивнул и, закрыв дверь на все задвижки, пригласил пройти «в комнаты».
Дома никого не было, и они могли разговаривать свободно. Впрочем, Пылаев сразу предупредил старика, что разговор у них недолгий, много времени он не отнимет. Максимов замахал руками: да что вы, сколько угодно!
Пылаев начал издалека. Правда, он почувствовал себя сразу совсем легко и свободно с этим старым рабочим, но как бы ему ни хотелось спросить его обо всем прямо, — все-таки надо было начинать именно так.
Максимов охотно отвечал на все вопросы, связанные с производством, и Пылаев знал, что он тщетно пытается догадаться, куда клонится разговор. Подполковник, про себя улыбаясь, все спрашивал и спрашивал его: о новых методах завалки шихты, о заправке футеровки — обо всем, что не имело пока никакого касательства к следствию. Потом, будто вскользь, он упомянул о «методе Максимова» — и старик неожиданно рассердился.
Он сдвинул брови так, что они сошлись на переносице и мохнатыми кустиками прикрыли глаза. Бесцветные старческие губы под рыжими щетинистыми усами поджались; по их краям появились то ли злые, то ли презрительные морщины. Наконец он усмехнулся:
— Обидели меня с этим методом… И меня и инженера Савченко, есть у нас такой. Понимаете, я ведь человек рабочий, я за всю свою жизнь никому копейки не был должен, а тут получилось — целую половину работы украл. Вот как получилось, товарищ следователь. В обком партии пошел — успокаивают, руку жмут. Я в ЦК написал — вот ответа жду. Нельзя так людей обижать.
— Но ведь вы сами в основном до всего добрались?
— Ну да — сам! Я бы еще год пыхтел, что твой самовар. Нет, без Савченко я как без головы был… Правда, мы и до войны о том же подумывали. Был у нас такой инженер — Владимир Викторович Трояновский, погиб в войну… Вот с ним и подумывали, да так ничего и не придумали, а потом — война… Савченко — тот закончил за него.
— И быстро помог?
— Да как тебе сказать? — Старик, сам того не замечая, перешел на «ты». — В общем-то быстро. Я даже удивился — до чего башковитый мужик; у Трояновского-то, видать, просто времени было мало…
В прихожей резко прозвенели два длинных звонка, и Максимов встрепенулся:
— Эх, помешали. Ну, да я попрошу его позже зайти… Вы погодите.
Шаркая домашними туфлями, он пошел открывать, но Пылаев остановил его:
— Это не профессор Трояновский?
Максимов удивленно поглядел на него:
— Да, это он так звонит. А вы откуда знаете?
— Пусть идет, он нам не помешает.
Ничего не понимающий Максимов вышел и через минуту вернулся, пропуская в комнату Трояновского. Тот был в теплой меховой куртке-безрукавке и нес под мышкой шахматную доску, повторяя на ходу:
— Я тебе, старый, сегодня такой дебютик покажу — ахнешь!
Увидев Пылаева, он поначалу оторопел, а потом, спохватившись, быстро подошел к нему:
— Вы здесь? Вы…
— Да. Вот сидели, разговаривали.
— Так я, быть может…
— Нет, что вы, — засмеялся Пылаев. — Я как раз к вам собирался зайти. Дело у меня и к вам есть.
Трояновский оглянулся на Максимова, и тот, поняв, засуетился и сделал вид, что ему срочно надо на кухню:
— Вы тут посидите, а я пойду ребятам ужин разогревать.
Пылаев был благодарен ему. Внимательно поглядев на Трояновского, он заметил, что тот снова нервничает, глубже запахивая «меховушку».
— Вот о чем я хотел просить вас, профессор… — в раздумье проговорил Пылаев. — Закажите мне с утра пропуск в вашу лабораторию.
— Вы хотите побеседовать с моими сотрудниками?
— Нет. Я хочу проверить, как охраняется ваша работа.
* * *
Обо всем этом Пылаев еще не рассказывал никому. Мимолетное упоминание Максимова о том, что над новым методом скоростной плавки он думал еще до войны с Владимиром Трояновским, а затем ему неожиданно быстро помог Савченко, насторожило Пылаева.
Может быть, на вырванных страницах были заметки Владимира Трояновского, касающиеся ускорения плавки? Предположим, что Савченко вырвал эти страницы из дневника. Тогда он мог именно так, неожиданно быстро, помочь Максимову. Но почему не сделал он этого раньше? Чтобы не быть на виду? Чепуха. Враг обычно делает все, чтобы заслужить доверие, выдвинуться: он будет изобретать, совершенствовать, произносить речи, по-деловому критиковать недостатки. Не было повода? Тоже неверно: для изобретательства всегда есть повод — повышение производительности на предприятии. Значит, предположение, что Савченко просто-напросто присвоил себе чужое открытие, — неверно. Он давно уже пустил бы его в ход.
И все-таки что же за человек Савченко? Ну, предположим, он скромен. Ему неловко было протестовать против того, что метод назвали методом Максимова. Враг бы на месте Савченко протестовал. Может быть, и нет. Почему? Из желания остаться в тени?
Пылаев так и не нашел ответа… Ну что ж, начнем с другого.
Он вызвал к себе капитана и приказал ему:
— Надо проверить систему охраны работы Трояновского. Установить за сейфом, где хранятся все формулы, особый надзор; проведите сигнализацию. Я думаю, это не лишняя мера предосторожности.
Он замолчал. Потом, мельком взглянув на своего помощника, увидел, что тот не уходит, словно хочет спросить о чем-то еще, но не решается.
— У вас есть вопросы?
— Да, товарищ подполковник… Не поздно ли мы взялись за охрану работы Трояновского?
Пылаев улыбнулся: в этих словах была скрытая, но все-таки критика в его адрес. Ему нравилось, когда Шилков начинал возражать: так легче работалось. Кто это из древних сказал — «в спорах рождается истина»?..
— Пока, по-моему, не поздно… Тем более, что я в институте был, с системой охраны знакомился и, кажется, ничего не нашел, что противоречило бы нашим указаниям на этот счет. Но, видишь ли, в чем дело… Давай называть вещи своими именами: наше следствие зашло в тупик. Многое мне не нравится, о многом я думал, но… Ведь ничего же пока не нашли, верней никого… Поэтому попробуем начать с сейфа.
Шилков, подчиняясь жесту подполковника, сел и, по обычной своей привычке, начал вертеть в руках спичечный коробок. Пылаев колебался недолго — он рассказал Шилкову обо всех своих сомнениях.
— Ну, так давайте тогда работать по двум линиям: одна — сейф, к которому могут прийти, другая — Савченко.
— А если первая линия не приведет ни к чему, то есть никто не попытается проникнуть в сейф, а вторая окажется ложной — что тогда?
— Сейф — заманчивая добыча, — ответил Шилков. — А что касается Савченко, то… Ложные линии — это ведь наши «издержки производства».
— Кстати, спички здесь не при чем, — заметил Пылаев, кивнув на полуразломанный коробок в руках Шилкова.
Тот, смутившись, бросил его в пепельницу. Что за манера ломать коробки! И Пылаеву захотелось подойти к Шилкову, шутливо ткнуть его в бок и сказать что-нибудь веселое.
Но он тут же отбросил это мимолетное желание и, отвернувшись, повторил уже уверенно, словно бы признавался самому себе:
— Да, пока — тупик… Очень плохо, что Савченко знает, что мы ведем следствие… Очень плохо.
— Но ведь иначе было нельзя…
— Вы думаете? — усмехнулся Пылаев. — Пора, дорогой мой, признавать свои ошибки. Я мог ограничиться рассказом Трояновского и не посылать вас к Савченко. Это моя первая ошибка… Вторая — знакомство Савченко с Дробышевой. А в результате… Вот результата-то как раз и нет!
11
Трояновский был еще слаб, временами у него вдруг начинала кружиться голова, мучительно сжималось сердце и немела левая рука.
Быть может, он опешил с окончанием работы потому, что, как он говорил, пенсия была ему обеспечена, а «больше ничего и не надо». Как-то раз он полусерьезно признался Максимову:
— Ну, скоро я, кажется, начну марки собирать.
— Что так? — полюбопытствовал тот.
— Так ведь дело-то это стариковское…
— Интеллигенция! — так же шутливо буркнул Максимов. — Сердце кольнуло — и на пенсию!
Шутки шутками, а здоровье у Трояновского не улучшалось. Как-то раз он сидел в своем кабинете, в институте, и, закрыв двери на ключ, просматривал отчет ассистента о последних опытах. Внезапно все — и окно, и стол, и бумаги — поплыло у него перед глазами, и он, чувствуя, что теряет сознание, все-таки встал и шагнул к двери. Дойти до дверей и открыть их ему не удалось; он тяжело опустился на диван и очнулся только в санчасти института: первое, что он увидел, было встревоженное лицо врача.
— Лежите, лежите, — торопливо сказал врач, увидев, что Трояновский пришел в себя.
— Там… на столе… — прошептал Трояновский. — Надо убрать.
— Хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Все в порядке.
Позже Трояновскому рассказали, что лаборанты несколько раз приходили, стучали в дверь и уходили, решив, что Трояновского в кабинете нет. Сколько времени он пролежал без сознания — сказать трудно. В семь часов к коменданту вошел инженер Савченко и сказал, что Трояновский заперся в кабинете и на стук не отвечает: не случилось ли чего-нибудь? Он заглянул в замочную скважину: с той стороны в дверях торчал ключ.
Двери пришлось ломать. Когда в кабинет вошло сразу человек десять, комендант прежде всего собрал на столе все бумаги, а затем («Хоть и неловко это, но надо!») вынул из кармана профессора ключи от сейфа.
Комендант — в прошлом сам чекист — зорко наблюдал за помещениями «трояновцев». На днях подполковник Пылаев буквально замучил его своими вопросами. Они обходили лаборатории ночью, и Пылаева интересовало все: и как выдаются ключи, и как опечатываются лаборатории на выходной день, и как часто охрана делает обход, и как охраняется сейф Сейф опечатывался каждый вечер в присутствии Трояновского; тут же профессор отдавал ключи коменданту. Надо сказать, что старика раздражала эта ежедневная процедура, он ворчал, брюзжал, но комендант, разводя руками, неизменно отвечал:
— Инструкция. Ничего не попишешь.
Пылаев попросил коменданта сообщать ему обо всем, что касается лабораторий Трояновского. Однако теперь, озабоченный болезнью профессора и починкой дверей, комендант не сообщил ему ничего: да и что было рассказывать? Ведь болезнь, если на то пошло, входит в компетенцию органов здравоохранения… И о том, что Трояновскому на работе стало плохо, Пылаев узнал только через два дня, да и то комендант, которому он позвонил, сказал об этом поначалу вскользь. Пылаев поблагодарил и повесил трубку.
Комендант был немало удивлен, когда полчаса спустя подполковник вошел к нему и, пожав руку, сердито сказал:
— Не очень-то четко вы выполняете мою просьбу.
— Простите, не понимаю…
— Как все это произошло? Вам пришлось ломать дверь, в кабинет вошли посторонние люди. Что вы предприняли?
Комендант густо покраснел («Не доверяет он мне, что ли?») и подробно рассказал о том, как он взял со стола бумаги, а затем вынул ключи из кармана Трояновского.
— Значит, ни до бумаг никто не дотрагивался, ни до ключей? — спросил Пылаев.
— Да, я ручаюсь за это.
— Хорошо. А как узнали, что с профессором плохо?
Комендант так же подробно рассказал, что к нему прибежал инженер с завода — Савченко, — бледный, запыхавшийся, и сообщил, что Трояновский не отзывается, а ключ торчит в дверях изнутри.
Комендант не заметил, что, услышав эту фамилию, Пылаев насторожился.
— Значит, Савченко заглянул в скважину, догадался, что дело неладно, и — к вам?
— Да.
— Как попал он в институт? У него постоянный пропуск?
— Нет. Разовый. Это можно проверить.
Комендант взял пачку разовых пропусков, выданных посетителям за последние дни, и быстро отыскал пропуск Савченко.
— Вот. Заказан самим профессором: в эти часы он обычно консультирует заводских инженеров…
Пылаев, рассматривая пропуск, перебил его:
— Когда, точно, к вам пришел Савченко — не помните?
— Очень хорошо помню, — живо ответил комендант. — Как раз по радио передавали точное время. Я еще взглянул на свои часы. А Савченко вошел минуты в три-четыре восьмого.
— Пропуск помечен 18.56. Значит, он был в институте семь-восемь минут.
— Да.
Пылаев поднялся и кивнул коменданту: пойдемте.
Они подошли к проходной, и Пылаев, взглянув на свои часы, повернул обратно. Он вошел в институт, поднялся на третий этаж и остановился возле двери в кабинет Трояновского, на обивке которой выделялась свежая коленкоровая заплата.
«Так, — думал Пылаев. — Две минуты. Сколько он стоял здесь? Ну, минуту от силы стоял и стучал. Потом заглянул в скважину, увидел ключ… Три минуты». Он быстро зашагал в глубь коридора, спустился по одной лестнице, поднялся затем по другой на несколько ступенек и, очутившись в узеньком коридорчике, обернулся. Рядом стоял запыхавшийся комендант. У Пылаева гулко колотилось сердце.
— Запыхались? — спросил он.
— Да. Сколько?
Пылаев не ответил. Весь путь занял у него пять минут. Впрочем; этот опыт ничего не дал ему. В конце концов две-три минуты Савченко мог потерять где-нибудь по дороге до дверей профессорского кабинета: поговорить в коридоре с кем-нибудь из знакомых или просто идти медленней, чем шел Пылаев, или постоять возле дверей больше одной минуты. Пылаев, однако, не жалел, что проверил эти минуты; что ж, даже если он идет сейчас по ложному следу, это необходимо.
— Замок в дверях, конечно, новый поставили? — спросил он.
— Да. Тот начисто сломали.
— А ключ? Старый ключ — где он?
Комендант полез в стол, долго бренчал там какими-то железками, выкладывая на стол стамески, молотки, клещи, и, наконец, вынул ключ с металлической биркой. Пылаев, повертев его в руках, опустил в карман.
Прощаясь, он задержался в дверях:
— Я к вам пришлю одного… человека. Специалиста. Пусть проведет от сейфа сигнализацию. И вот еще что: придет к вам один молодой человек — капитан госбезопасности. Инструкции получите у него.
Комендант смотрел на осунувшееся, какое-то посеревшее лицо подполковника: «Ой, брат, худо тебе приходится, если за несколько дней тебя так скрутило…».
* * *
Комендант зря поручился в том, что он первым вошел в кабинет Трояновского, первым взял со стола бумаги и вынул из кармана профессора ключи. Его все-таки опередили.
В этот вечер, поднимаясь по лестнице, Савченко с горечью раздумывал о том, что задача, поставленная перед ним еще несколько лет назад, выполнена только наполовину.
Шагая по пустому коридору, он усмехнулся про себя: «Инженер-производственник в после-рабочее время идет консультироваться к известному ученому. Так сказать, трогательное единение науки и практики».
Он постучал. Молчание было ему ответом. Тогда он нагнулся и заглянул в скважину: ключ. Трояновский жаловался ему на свое здоровье, старик стал совсем плох за последнее время…
Отправляясь к Трояновскому, Савченко всегда брал с собой два предмета: небольшие плоскогубцы с автоматическим зажимом и такие же небольшие лабораторные щипцы, по форме напоминающие «уистити»[1]. Всякий раз, идя по каким-нибудь делам в институт, Савченко мечтал о Случае, о том самом единственном и неповторимом Случае, который может подвернуться ему. Несколько месяцев он ждал его. Он ощупывал в кармане щипцы; они жгли руку. Он знал наизусть систему сейфа и не знал только системы ключа, но черт с ними, с ключами: сейф можно попытаться открыть и так, он не раз проделывал это там, в Терпе, в отделе разведки…
Судьба, казалось, улыбнулась ему. Пусто было в коридоре, только вдоль стены медленно шла рыжая ленивая кошка.
Савченко разнервничался позже — когда вбежал в комендантскую. Только тогда у него начали трястись колени и пальцы; к неуемной, неприятной дрожи прибавилась еще и тошнота, он почувствовал во рту неприятную густую слизь.
Главное было, однако, сделано. Щипцами он ухватил в скважине выступ ключа и повернул его. Дверь открылась. Трояновский лежал на ковре возле дивана, головой прислонившись к валику.
Вынуть у него из кармана ключ от сейфа было делом секундным. Ни воска, ни пластилина у Савченко с собой не оказалось — трудно было предвидеть такую удачу.
Он беспомощно оглянулся. Замазка на окнах? Нет, окна не были замазаны: здесь топили жарко.
Савченко с ключом в руках метнулся к цветочному горшку. На столе профессора стоял клей — из земли с клеем можно сделать массу… Нет, нельзя: мало времени. Да и оставлять следов тоже нельзя: ясно, что любой, даже самый неопытный следователь увидит, что кто-то расковырял землю.
Какие-то несколько секунд Савченко стоял, разглядывая ключ и чувствуя, что тупеет: выхода он не видел, снять слепок оказывалось делом невозможным. «Неужели так? — лихорадочно думал он. — С таким трудом… и все впустую…».
Он замер, когда в коридоре послышались и снова затихли чьи-то шаги. Потом тоскливо, будто попав в западню, он осмотрел комнату…
На столе стоял стакан недопитого чая. Тут же, на блюдце, лежал бутерброд с бужениной.
Савченко схватил кусок хлеба, дрожащими руками вырвал мякиш, смял его и притиснул к нему ключ…
* * *
Савченко не любил загадок, с которыми время от времени ему приходилось сталкиваться в жизни. Еще меньше он любил людей, в которых не умел разбираться сразу же или почти сразу: таких он побаивался и сторонился.
Однако хотя ему было и неприятно иметь дело с грузным, медлительным Тотером, — что делать! Начальник второго отдела «Абвера» штандартенфюрер Брох (ныне, надо полагать, покойный), прощаясь там, в Нейске, с Савченко, сказал ему:
— Мы редко создаем людям такую обстановку. Не жалейте времени на то, чтобы войти в полное доверие. Год — так год. Впрочем, за это время мы рассчитываем уже захватить Россию, но… Агент найдет вас сам. И — никаких самостоятельных вербовок, никаких посторонних акций. Ваше дело — только сплав… Да не бледнейте вы: у вас, с точки зрения Советов, биография, как у ангела!
Тотер-Чердынцев разыскал его через восемь месяцев: подошел к нему на улице и шепнул два слова: «Твердый сплав». Савченко вздрогнул, увидев его лицо: равнодушное, даже, пожалуй, туповатое, с таким же равнодушным и туповатым выражением бесцветных глаз.
С тех пор «Чердынцев-Дробышев-Тотер» не переставал пугать его именно тем, что Савченко ничего не знал о нем. Тотер был словно из другого мира — существо без имени и биографии, без прошлого и будущего. Как-то раз, в одну из встреч, Савченко не выдержал и спросил его:
— Вы — немец?
Тотер посмотрел на него равнодушным взглядом и, медленно разжимая плотные бескровные губы, ответил:
— Это неважно.
— Но «тотер»…
Еле уловимая усмешка тронула его губы, но глаза! Эти глаза, казалось, были искусственными, из стекла, они ничего не выражали: ни улыбки, ни раздражения, ни презрения.
— Слишком много вопросов, — наконец сказал он.
Савченко, растерявшись, только и мог выговорить:
— Да, но… «тотер» по-немецки, кажется…
— …мертвец, — подсказал агент. — Не правда ли?
— Да-да, странная кличка…
Тотер еще раз поглядел на него и снова усмехнулся уголками губ.
Больше Савченко не пытался ни о чем расспрашивать его. Это было, по-видимому, бесполезно. И Савченко оставалось грустно подшутить над самим собой: «Ну, так я не Эдип!..»
Чувствуя, что Тотер постоянно и умело следит за ним, Савченко тем не менее удивлялся: почему он не торопится? Савченко удивлялся всю войну, удивлялся первые годы после войны. «Может быть, все кончено?». Как-то раз он высказал эту мысль, стараясь придать ей шутливую форму:
— Кажется, мы перешли на курортное положение. Только нет калькулятора.
Тотер понял, кого подразумевал Савченко под калькулятором: германскую разведку.
Прежде чем ответить, он долго думал, жевал губами, будто решал невесть какую сложную проблему — говорить или нет.
— Вы газеты читаете? — спросил он наконец.
— Безусловно…
Тотер будто не расслышал его:
— Так вы, видимо, должны знать, что ветер дует в том же направлении.
— Но калькулятор…
— Другой. Ничего необычного.
— Да, это я подозревал… А если такой… человек, как я, откажется работать на нового… калькулятора — что тогда?
Теперь ответа не последовало. Но по тому, как молчал Тотер, Савченко понял, что опять попал со своим вопросом в трудное положение, и торопливо поправился:
— Я это говорю безотносительно к чему-либо. Вы меня не торопите, и создается впечатление, что…
Они были в запущенном, глухом пригородном парке. Узенькими тропинками они выбрались к пруду, затянутому зеленой ряской, и Тотер, сев к воде спиной, указал Савченко на ствол поваленной ветлы: садитесь.
Они помолчали.
— Вот что, — тихо сказал Тотер. — Я вижу, вы сильно отстали. К сожалению, в мои обязанности входит растолковывать непонятливым сотрудникам элементарные вещи…
Словно бы утомленный такой длинной фразой, он долго и нудно жевал травинку, сплевывая на землю.
— Начнем с того, что на первых порах мы просчитались. Трояновский занимается своим сплавом четыре года — явление немыслимое для Советов. Но Советы оказались здесь умнее нас. Они не торопили Трояновского. Они — с дальним прицелом: сплав будет им нужен и через пять лет. А нам он нужен сегодня, сейчас, — потому что если у нас его не будет… Вы понимаете?
— Конечно. Но «PN и К°»…
— Бросьте… И знайте, что деньги идут к нам от фирмы.
— Но фирма делает теперь компрессоры?
— Чепуха. Вы не ребенок. «PN и К°» сумеет в один день переключиться на выпуск пушек и танков.
Он снова замолчал, словно досадуя на себя за этот многословный разговор. А Савченко уходил, унося в душе все то же ощущение страха перед этим человеком, который держал в своих руках его судьбу, его жизнь. «Все-таки ничего не узнал о нем. Даже — где живет».
Только один раз он увидел в неподвижных, мертвых глазах Тотера что-то похожее на беспокойство. Это произошло тогда, когда он рассказал ему о Дробышевой. Но тут же это выражение исчезло; Тотер только буркнул ему:
— Ну так что же?
Грузный, неповоротливый, он лениво оглядел Савченко, и тот поежился: «Действительно, как мертвец, — никаких ощущений».
Сейчас, после того как ему удалось снять отпечаток ключа, он снова встретился с Тотером. На этот раз встреча произошла в магазине: Савченко покупал на ужин сыр. Потом они стояли в какой-то подворотне, и Тотер, осторожно взяв у Савченко небольшой сверток, положил его в карман.
— Случайность. Если и дальше вы будете работать так, я не надеюсь на успех. Когда начнется заводская плавка?
— Право, не знаю, — пробормотал Савченко. — Но скоро. Трояновский проговорился. Я тут навещал его — он так и сказал: «Скоро будем трудиться вместе». Задавать вопросы я не счел возможным.
— План дальнейших ваших действий таков, — жестко проговорил Тотер: — Старика — убрать. Формулы сплава не фотографировать, а взять с собой. Или… уничтожить. У них не должно быть такого металла.
Савченко кивнул: конечно, все это и так ясно. А Тотер продолжал своим тихим, нудным, как зубная боль, голосом:
— С этим мальчишкой из фотолаборатории не встречайтесь. Хотя бы пока. Так будет лучше.
12
Больше недели Фролов не вспоминал о Похвисневе. Опять он целыми днями пропадал в своем районе, инспектировал разъездные посты ГАИ.
Но мало-мальски освободившись, Фролов вызвал к себе обоих рабочих-авторемонтников. Поговорил с ними по душам. Рабочие заверили, что не они сменили крыло похвисневской машины. Нет, они больше к нему и глаз не казали. Да и неоткуда им крыло взять. Но он же обязательно хотел менять…
Фролов поинтересовался, кто им указал адрес Похвиснева, кто их туда направил.
— Так это наш инженер, Иван Дмитриевич, очень просил. Ради него только и пошли. Мне-то не очень хотелось, а вот дружку на костюм не хватало. — Тот, кто был постарше, укоризненно качнул седоватой головой в сторону товарища.
— А инженер что: знаком с Похвисневым?
— Говорил — незнаком… Попросил — и все. А что, натворил этот прыщавый чего-нибудь, да?
— Да нет, просто так… Спасибо вам, товарищи!
* * *
Инженер Степанов сначала не понял вопроса:
— Какая машина?
Усталый, видимо порядком измотанный, он ладонью потер лоб и недовольным тоном — вот, мол, отрывают меня по пустякам — сказал:
— Вспоминаю, кажется… Ну да, это моя жена просила. Бывшая, простите, жена, — поправился он, чуть помолчав. — Я уж и забыл о просьбе.
— Она, значит, знает Похвиснева?
— Наверное, знает. Я ведь ее жизнью теперь не интересуюсь. С кем она там, где — мне все равно. А тут вот пришла и попросила.
— Как она рекомендовала Похвиснева?
— Да никак. Сказала, что это их артист. Артист так артист. Мне все равно.
Фролов вертел и так и этак — как бы это подступиться к актрисе Васильевой, к Похвисневу, ко всей этой чем-то притягивающей его истории. Инженер, однако, ничего больше не мог сказать. На том они и расстались.
Что ж, Васильеву вызвать? А что если все это он затеял зря, только потратит время? Много ли даст разговор с Васильевой? Наверняка скажет она, что Похвиснев — это ее знакомый, поклонник таланта и так далее. Артистом она назвала его для мужа, конечно… Впрочем, чего она стеснялась? Муж-то давно уже не муж… «Эх, была не была, потрачу еще день на эту Васильеву! Может, отвяжусь от этого дела».
Но официально вызвать Васильеву к себе ему не хотелось. Тут надо было подойти иначе. Ее поклонником, что ли, прикинуться? Надо хоть посмотреть, в каких ролях она выступает.
Фролов отправился в библиотеку полистать театральный справочник-программу. А через полчаса он звонил, плотно прижимая трубку к уху и улыбаясь неожиданной мысли:
— Пожарную инспекцию мне… Алло, Ершов, это ты? Слушай, вы давно проверяли всякие там ваши огнетушители в Драматическом? Давно, да? Не хочешь ли на днях — ну, скажем, завтра — туда сходить? Ну, пусть в другой день, все равно. Мне зачем? Надо. В артистку одну влюбился. Вот и хорошо. Созвонимся еще. Пока.
* * *
Через два дня, прежде чем отправиться в театр, Фролов зашел в следственный отдел угрозыска — узнать, подвинулись ли дела с расследованием убийства колхозницы.
Один из сотрудников отдела, знакомый Фролова еще по военным годам, только досадливо махнул рукой: ничего нового нет. Услышав, что Фролов заинтересовался с виду очень обыкновенным событием, сотрудник оживился:
— Ну, ну, расскажи подробней.
И когда Фролов все рассказал, сотрудник, попросив его обождать, вышел к начальнику отдела, потом вернулся, возбужденно походил по комнате и предложил:
— Давай попробуем вместе. Ты покажи мне эту машину. У меня есть гипсовые слепки от шин — сняли со следа.
— Это еще не улика, — качнул головой Фролов. — Идти к этому парню со слепками нельзя: вроде обыска получается. И ни один прокурор не даст на это санкции. Потом, будь уверен: если уж он крыло сменил, то скаты наверняка у него стоят новые.
Фролов посоветовался с ним насчет театра, и тот согласился:
— Только потом позвони.
* * *
В театр Фролов поехал на своей машине, переодевшись в штатское.
Вместе с инспектором пожарного надзора ходил по театру, снимал со стен огнетушители, и пока тот менял стеклянные баллоны, с любопытством осматривал составленные одна к другой декорации, небрежно сваленный реквизит. Он был за кулисами впервые, и ему казалось удивительным, что вот эти пыльные, не очень-то чистые ковры, скатерти, покрывала, сделанные из дешевой ткани, зрителям могут казаться яркими, богатыми, необычайно красивыми. Так же и декорации: на сцене создают впечатление настоящего леса, старинного, чуть замшелого замка, а вблизи это просто кое-как наляпанные пятнами краски, наспех сколоченные доски и фанера. И запах за кулисами тоже свой, собственный, — запах пыли, лежалой материи, духов, соснового дерева.
А когда стали собираться актеры на дневную репетицию, они тоже удивили Фролова своей будничностью и деловитостью. Они пришли на работу, трудиться, так же как трудятся везде, и это угадывалось в их разговорах, простых, вовсе не возвышенных, в шутках, коротких спорах по поводу каких-то мизансцен и ремарок.
Когда суетливый толстенький режиссер скрылся, наконец, на сцене и оттуда донеслись его энергичные хлопки в ладоши и не раз повторенное «начали», Фролов покинул инспектора и на цыпочках вошел в зал. Сцена была ярко освещена, в зале царил знакомый Фролову полумрак. Он прошел вперед и сел. Никто на него не обратил внимания.
Репетиция началась. На сцене кто-то говорил, страстно доказывая свою правоту, а другие сидели на простых стульях в неудобных почему-то позах. Фролов догадался, что действие происходит в кабинете с мягкими, удобными креслами и актеры приняли соответствующие обстановке позы.
Но не это занимало Фролова. Ему нужна была Васильева. Он держал на коленях театральную иллюстрированную программу. Васильева была изображена в ней в роли Варвары, рядом с Кудряшом.
Но на сцене он не мог пока отыскать ее. Лишь после того как со стула-кресла поднялась смущенная девушка и, запинаясь, начала тихо о чем-то рассказывать, Фролов поглядел на нее, потом на Варвару и догадался — это она, Васильева.
Девушка мало напоминала Варвару, без косы, в темном узком платье. Фролов отметил про себя: «Здорово все-таки. Один и тот же человек — а не узнаешь. Что и говорить — искусство!»
И Фролов зааплодировал, когда действие кончилось и суетливый режиссер выбежал на сцену. В пустом зале его хлопки оказались неожиданно громкими. Режиссер, недоумевая, посмотрел в темноту, пожал плечами и раскинул руки, требуя внимания. Однако Фролов успел подойти к барьеру и кинуть под ноги Васильевой сделанный им, пока он сидел в зале, бумажный цветок — не то ромашку, не то розу. Васильева подняла цветок и шутливо раскланялась.
Фролов «случайно» столкнулся с ней у выхода и предупредительно открыл перед актрисой тяжелые двери.
— А, это вы! — улыбнулась она. — Сегодня я получила первые цветы за этот спектакль.
Бог его знает, за кого Васильева приняла Фролова. Может быть, за работника управления культуры, члена реперткома, приемочной комиссии. Как бы там ни было, Фролов, заметив, что сегодня она играла очень хорошо, долго тряс актрисе руку, а потом словно бы вспомнил:
— Погода мерзкая, хотите — я вас подвезу на машине?
И вот он везет актрису домой; та согласилась сразу («Все равно хотела взять такси»).
Фролов вел машину с нарочитой небрежностью, которую так ненавидел у шоферов, лихо объезжал постовых милиционеров, а завидев работника ГАИ, иронически усмехнулся и притормозил.
— Что, побаиваетесь? — заметила Васильева.
— Да уж… лучше не встречаться.
— Друзья народа, — улыбнулась актриса.
Фролов не сразу понял. Васильева пояснила: — У меня есть один знакомый, у него машина, так он называет ГАИ «друзьями народа». В шутку, конечно.
Фролов засмеялся, стараясь смеяться как можно искренней над этой издевкой.
— Да, — поддержал он так удачно начатый разговор. — Трудно нам стало. Чуть что не так — прокалывают талон, а потом поди докажи, что ты не верблюд.
— Но вы хорошо ведете машину.
— Если зайца бить, так он и спички зажигать будет.
Теперь засмеялась Васильева. А Фролов уже «вошел во вкус» и всячески ругал милицейское начальство, которое ввело такие правила, что просто хоть продавай машину.
— Ну, — возразила Васильева, — во многом они, пожалуй, все-таки правы. От быстрой езды всяко бывает… наверное.
От Фролова не ускользнула эта поправка — «наверное», неожиданно испуганно прозвучавшая после слов, сказанных убежденным тоном. Но он сделал вид, что не расслышал, обгоняя автобус, — словно был поглощен тем, чтобы автобус не прижал его к сугробам, сдвинутым на середину улицы.
Когда этот автобус остался позади, Фролов опять недовольно заметил, что из города надо убрать все дизели: только коптят и трещат вовсю. И без всякого перехода сказал, будто только сейчас вспомнил:
— Между прочим, в позапрошлое воскресенье я вас, кажется, видел в Знаменском. Вы выходили как раз из такого автобуса.
Знаменское, пригородное село, находилось далеко от места, где слупилось убийство. Васильева ответила:
— Нет, в позапрошлое воскресенье я ездила с приятелем к подруге… здесь, в городе.
Последние слова прозвучали опять как бы поправкой. Но теперь Фролов уловил в ее голосе, пожалуй, даже какой-то испуг. Васильева явно подчеркивала: и «к подруге», и «здесь», и «в городе». Так без нужды подробно объясняют, когда хотят что-то скрыть. Но и сейчас Фролов сделал вид, что ровным счетом ничего не заметил; он почувствовал, что Васильева смотрит на него испытующе.
Они простились у дома актрисы, и Фролов с отвратительной самому себе развязностью пошутил, что, наверно, ее, Васильевой, приятель не приревнует, если увидит, как она подъехала на чужой машине. Та что-то ответила — кажется, кокетливо поблагодарила, — Фролов уже не слышал ее слов.
Ясно одно: Васильева запнулась не зря. Неужели она спохватилась, чтобы не выболтать лишнего о позапрошлом воскресенье? Если так — возможно, это Похвиснев…
* * *
В институт, где работал Похвиснев, Фролов пошел не случайно. Вызывать Похвиснева в ГАИ и расспрашивать не имело смысла — это ровным счетом ничего не даст. Справиться в доме у жильцов? Слишком рискованно, да и, может быть, бесполезно. Оставалось пойти к нему на работу.
Фролов вспомнил, что Похвиснев работает в фотолаборатории. Ну, а Васильева, хорошенькая женщина, да еще актриса, наверно любит фотографироваться. Что если Похвиснев берет с собой на дальние прогулки фотоаппарат? Дальше: навряд ли Похвиснев станет заниматься всяким там проявлением и печатанием дома. Зачем это делать дома, если у него в институте есть фотолаборатория? Конечно, он там все и делает. Значит, надо сходить туда.
В институт Фролов пришел во второй половине дня. Вахтер долго не понимал его:
— Пропустить? А вы к кому? На вас пропуск есть?
Фролов перебирал в уме, какие могут быть должности в институте, а потом нашелся:
— Я к коменданту хочу пройти.
— К коменданту? Тогда позвоните ему по местному телефону, пусть пропуск выпишет.
Комендант тоже вначале спрашивал: зачем? откуда? Он попросил подождать минутку, и Фролов остался ждать, не выпуская молчавшей трубки.
Комендант сам спустился к Фролову и, ни о чем не спрашивая, нарочно повел его в комнату, где в это время находился Пылаев, — коменданту не хотелось разговаривать с посетителем с глазу на глаз. Фролов, кивнув незнакомому офицеру, повернулся к коменданту:
— Я из госавтоинспекции. Вот мое удостоверение. Но… мне бы хотелось поговорить с вами наедине.
Комендант опять-таки вопросительно посмотрел на Пылаева, и тот, не выдержав, рассмеялся. Но тут же он сообразил, что ставит капитана милиции в неловкое положение, и ободряюще сказал:
— Говорите при мне. При мне можно.
Фролов еще раз оглядел обоих, на секунду растерялся, а потом заговорил, ни к кому из них прямо не обращаясь:
— Мне необходимо осмотреть фотолабораторию института. Меня интересуют снимки сотрудника института Похвиснева. Это, конечно, не обыск. Но этим самым вы можете помочь госавтоинспекции расследовать крупное преступление.
Пылаев встал. Его лицо, до сих пор оживленное, мгновенно приняло холодное выражение.
— Вы говорите, снимки Похвиснева? Я понимаю, это служебная тайна, но… вы не могли бы немножко разъяснить?
Фролов почувствовал, что опрашивают его не зря, и он уже собирался ответить, но незнакомец сделал знак: обождите.
— Нельзя ли Похвиснева куда-нибудь вызвать из лаборатории? — спросил Пылаев коменданта.
— Хорошо… Сейчас придумаю… Ключи от лаборатории вам занести?
Когда комендант вышел, Пылаев показал Фролову свое удостоверение:
— Я из госбезопасности…
— Да? — Это у Фролова прозвучало как-то чрезвычайно по-детски, и он смутился. А он-то не решался говорить при этом человеке!
— Дело, товарищ подполковник, вот в чем: мне нужно выяснить, где Похвиснев провел один-единственный день. Может быть, он в тот день фотографировал; если так, то это мне крайне поможет.
Пылаев понимающе кивнул головой:
— Ну, предположим, это так. А если нет?
— Нет — так нет. На нет и суда нет, товарищ подполковник.
Комендант вернулся и передал Пылаеву ключ.
— Можно идти. Мы с Похвисневым за пленкой спустимся. Вы позвоните в кладовую, когда отпустить его…
В лаборатории было душно, над столом горела яркая лампа. Пылаев вошел первым и сразу взялся за ручку шкафчика, висевшего на стене.
— Думаю, пленку он здесь держит. А бумага у него в ящике… Так и есть.
Пылаев взял завернутый в черную бумагу цилиндрик. Развернув его, он поднял пленку к свету и просмотрел.
— Нет, одни чертежи…
Для Пылаева фотолаборатория была новым, еще не обследованным участком. Взглянув на первую пленку, он сразу понял, как много о работе института можно узнать из этих кадриков. Правда, выносить их нельзя, пленка учитывается, фотокопии делаются по точному списку, но… Нет, этот участок явно выпущен из поля зрения. Это, конечно, ошибка, ее надо немедленно исправить.
Фролов не просматривал те пленки, которые Пылаев откладывал в шкафчик. Пылаев пока что не дал ему ни одной. Но вот он протянул моментально свернувшийся рулон.
— Тут, кажется, что-то есть.
Нет, это было не то, что искал Фролов. Правда, Васильеву он узнал на нескольких снимках. Но она была снята на сцене, в роли. Такие же кадры встретились еще на восьми пленках, которые Пылаев показал Фролову. Фролов напряженно ждал, но Пылаев закрыл шкафчик.
— Всё. Ну, что? Не нашел?
— Да, нет ничего интересного.
— Подождите, не опешите. Наверное, еще где-нибудь есть пленки.
Они заглянули в ящики. Фролов подумал: «Можем засветить бумагу… A-а, ладно, надо же посмотреть везде». Но они так и не нашли больше пленок. Вдруг Фролов обратил внимание на несколько мокрых снимков, лежащих в оцинкованном баке. Туда бежала из крана струйка воды.
— Товарищ подполковник, видите — свежие отпечатки? С какого же негатива они сделаны?
— Как это мы с вами раньше не догадались? Вон в увеличителе пленка заложена.
Он выдвинул рамку.
— Да, вот тут опять для вас. Ну-ка!
Фролов медленно двигал пленку перед глазами.
Вот Васильева в профиль. Портрет. Она в меховой шапочке. Видно, на улице снято. Еще она… Ага, машина на дороге у заснеженных сосен. Где это они могли быть? Не поймешь… Вот еще. Васильева варежкой сбрасывает снег с какого-то камня. Камень-то вроде видел где-то. Подожди, подожди… Ведь это тот камень, возле чайной, что на развилке. Вернее не камень, а что-то вроде памятника или знака, сложенного из нескольких камней. Он такой пирамидкой сложен. Ну да, он. Значит, Похвиснев с актрисой были на Северном шоссе? Может, они и в чайную заходили?
— Удача?
— Не совсем еще. Но, кажется, кое-что нашлось… Спасибо, товарищ подполковник.
— Да вроде не за что. Взаимообразно. Я милицию тоже теперь кое за что поблагодарить должен.
— Все равно — большое спасибо… А кому нужно звонить?
— Не беспокойтесь, я сейчас сам позвоню. До свидания.
Пылаев пожал руку Фролову и пошел по коридору.
* * *
Остервенелый ветер бросал в лицо колкие крупинки снега. Фролов гнал мотоцикл на предельной скорости, почти навалившись грудью на руль. И все-таки эта сумасшедшая езда по скользкому шоссе не мешала ему размышлять: «Кажется, я эту чайную знаю. В феврале, в сильный мороз, я заезжал туда погреться. Там еще официантка на десятиклассницу похожа — косичка, локотки острые… Но надо убедиться. Да и расспросить не мешает… Ах, Похвиснев, неужели это ты? Сколько же нервов я из-за тебя испортил!»
Через час Фролов остановил машину возле голубого здания чайной. Он не спеша слез с седла, спрятал ключ и поднялся по ступенькам. Из открывшейся двери на него пахнуло теплом и вкусным, домовитым запахом.
— Здравствуйте, хозяева!
— С добрым утром, товарищ начальник! Чего так рано? — Буфетчица узнала Фролова.
— Все по службе, дорогая. Чем угощать будете?
Фролов подошел ближе к стеклянной витрине.
— Хорошо, я чаю выпью. И вот конфет этих.
— А покрепче чего не желаете?
— Нельзя. Я на службе. Знаете, что такое служба? То-то… А вы со мной за компанию?
— Люся! Вера! Идите, будем с товарищем капитаном чай пить. Мы же еще не завтракали.
Девушки-официантки показались в дверях… Та, что была похожа на десятиклассницу, улыбнулась Фролову и спросила у буфетчицы:
— Анастасия Семеновна, может мы самоварчик принесем? Как раз закипел…
Вчетвером они пили чай со свежими ватрушками.
— Зачем вы к нам наведались? — полюбопытствовала буфетчица.
— Да так, ехал мимо. Дай, думаю, зайду, больно тут симпатичные люди работают.
— Будто все уж и симпатичные? — спросила буфетчица. — Признавайтесь лучше, какая вам из наших девушек нравится.
— Все нравятся. Садитесь в мотоцикл: кто поместится — всех увезу.
Хлебнув горячего чаю, Фролов перевел дух и потом, посерьезнев, сказал:
— Откровенно сказать, я к вам, конечно, не случайно приехал. Вы хорошо помните воскресенье, что было в начале месяца? Позапрошлое воскресенье.
Анастасия Семеновна задумалась, поставила блюдце на стол.
— Не очень-то. Ну-ка, девушки, помогите.
Люся-«десятиклассница» переспросила:
— Позапрошлое? Я, кажется, помню. Ко мне ведь как раз Василий приехал. Днем зашел, а потом дома ждал. Год не виделись, с тех пор как его в армию взяли…
Фролов похлопал ладонью по столу.
— Вот-вот… Значит, помните? А не заходили ли к вам в чайную тогда двое — он и она? Он одет так: пальто светлое, широкое, с поясом, кепка каракулевая, ботинки на толстой подошве. У него еще усики маленькие, щеточкой. Ну, а она — губы такие яркие, волосы крашеные. Оба приехали в машине. А?
Люся покусывала губу:
— Нет, за мои столики такие, кажется, не садились…
— Вера, а ты что скажешь?
— Он еще с фотоаппаратом был, — напомнил Фролов.
— С фотоаппаратом? — Вера обрадовалась. — Так бы и сказали. Да, да, были такие. Тоже чай пили. Сто пятьдесят вишневки взяли. У меня где-то в блокноте и запись даже есть.
— А я машину их помню, — добавила Анастасия Семеновна. — Я как раз на крыльцо вышла скатерть стряхнуть, а они тогда около дома фотографировались. Она, женщина эта, у камня стояла…
— Куда они поехали? — Фролов уже не сомневался, что это был Похвиснев.
— Как — куда? В город поехали… Еще стаканчик, товарищ начальник?
— Спасибо, не могу… Еще один вопрос: на следующий день на шоссе, в двадцати километрах, нашли колхозницу. Помните?
— Степановну из «Красной зари»? — ахнула буфетчица. — А как же! Теперь уж и я все вспомнила. Были такие, были!
Больше Фролов спрашивать ни о чем не стал. Все ясно. Значит, не зря Похвиснев менял крыло, не случайно Васильева специально Подчеркнула, что в то воскресенье она была «у подруги, здесь, в городе». А то, что посты при въезде в город их машины не видели, — так это дело простое: дать круг и вернуться с другой стороны.
* * *
Пока оформили документы и получили разрешение на арест, прошло два дня. Поздним вечером на третий день Фролов вместе со следователем, управдомом и милиционером позвонил у дверей квартиры Похвиснева. Им открыла немолодая женщина, видимо мать:
— Боря со вчерашнего дня не появлялся. Я так волнуюсь!
Фролов и следователь отпустили управдома и поехали в институт. Вахтер подозрительно посмотрел на них, но когда следователь показал ему удостоверение, понимающе кивнул: «К коменданту? Проходите. Велено пропускать из милиции…».
Комендант, которому следователь протянул ордер, долго вчитывался в строчки, а потом, сдвинув на лоб очки, сказал с усмешкой:
— Опоздали, товарищ дорогой.
— Как «опоздал»? Он что — уволился?
— Да, вот именно… Взяли его вчера.
— Кто взял?
— Госбезопасность. А больше я вам, простите, ничего не могу сказать.
13
После того страшного дня, когда Бориса Похвиснева вызвали в госавтоинспекцию, его жизнь, казалось, снова вернулась в обычную колею. Получив повестку, Борис почувствовал, как у него неприятно задрожали пальцы, и он сам себе сказал: «Все!..» Но его визит в инспекцию, к капитану Фролову, кончился благополучно, и Борис воспрянул духом.
Похвиснев принадлежал к числу людей, которые считают, что они родились только для радостей и удовольствий. Еще в раннем детстве родители внушили ему: он самый талантливый, красивый и обаятельный. Его зачислили не в обычную школу, а в школу-десятилетку при Академической капелле. Но учиться он не хотел и с первого класса чаще всего получал двойки. Отец приходил в школу, просил, требовал, настаивал, чтобы его сына не исключали, воспитывали, лелеяли. «У Бори гениальные музыкальные способности, абсолютный слух. Поэтому он плохо успевает по общим предметам. А то, что по гармонии и пению у него двойки, — так это ничего, пройдет. Он сейчас еще стесняется своего таланта, ему неловко выделяться».
Все-таки мальчика исключили из шестого класса. На семейном совете было решено, что у Бори расшатана нервная система, ему необходимо отдохнуть. В течение года Боря отдыхал, был в санатории, ездил к дяде в Баку. Осенью он, неожиданно для самого себя, оказался учеником восьмого класса — дядя все устроил.
Но и здесь он скоро «прославился»: приносил в класс кошек, отнюдь не по-детски интересовался девочками, старому преподавателю однажды в запале пригрозил ножом. На этот раз в школе он проучился в общей сложности двадцать три дня.
Однако через год, после очередного «восстановления расшатанной нервной системы», Похвиснев опять съездил на месяц к дяде и вернулся оттуда с аттестатом зрелости. Теперь он поступил в педагогический институт. Впрочем, в аудитории его видели редко, и с третьего курса он был исключен.
Освободившись от обременительных обязанностей студента, Борис Похвиснев целиком отдался, как он пояснил родителям, «воспитанию вкуса». Он сшил себе светло-серый в крупную клетку длинный пиджак, узкие темно-голубые брюки. Прическа у него тоже стала необычной: сзади — волосы до воротника, спереди — «канзасский кок». Вечерами Борис пропадал на центральной улице города. Если мать спрашивала, где он был, Борис отвечал: «Стилял на Броде». Мать ничего не понимала, но все равно умилялась — Боря стал таким интересным, он, наверное, вскружил не одну девичью голову.
В самом деле, у Бориса Похвиснева было много знакомых — молодых людей в таких же пиджаках и брюках, девиц в коротких юбках с разрезами и прической «под мальчика». Компания была веселой, часто устраивались вечеринки на дому и в ресторанах.
И все-таки Борис был недоволен: правда, отец — известный адвокат — не скупился, отдавал сыну чуть ли не половину своей зарплаты, но молодому человеку денег явно не хватало. Хотелось «шикнуть», прокатить друзей за город на такси, накупить продававшихся из-под полы пластинок, вроде «Скелет в гробу», «Череп в дымоходе» — пластинок редких, дорогих, каждая по пятьдесят рублей.
Отец всеми силами пытался создать сыну «счастливую юность». С трудом, через знакомых, он достал ему автомашину. А месяц спустя Борис решил добывать деньги фотографией и попросил купить ему фотоаппарат.
Он часами прохаживался по улицам, ловил тех, кто хотел запечатлеть себя на фоне достопримечательностей города. И деньги, те лишние, свободные деньги, о которых мечтал Борис, появились.
Теперь сложившийся круг знакомых его уже не удовлетворял. Хотелось большего. И Борис зачастил в театр.
Ходил он туда не ради искусства. Спектакли его не интересовали. Борис высматривал актрису.
Выбор свой он остановил на Васильевой — стройная фигурка, приятное личико. Он ожидал борьбы и готовился к ней, а вышло все иначе — вначале смущенное почитание, потом поездки от театра до дома актрисы в его машине, затем свободный вход в театральную уборную, и, наконец, он стал самым близким другом.
Однажды в театре, за кулисами, Борис был представлен актрисе Татариновой и ее мужу. Через некоторое время, услышав жалобы Бориса на то, что милиция докучает ему как человеку, не занимающемуся общественно-полезным трудом, Савченко предложил устроить его в институт фотолаборантом. Узнав, что работы там немного, Борис согласился.
…Недавно Борису казалось, что его спокойная жизнь под угрозой. Но теперь, когда беда пронеслась, он был готов смеяться над милицией — он так ловко ее провел! Какое это счастье, что подвернулся добрый, отзывчивый художник Чердынцев! Бывает же так — словно кто-то узнал о горе Бориса и послал ему на помощь волшебника.
В тот день, когда они познакомились, Чердынцев снова пришел, уже поздно вечером. В машине он привез крыло, сверкавшее точно таким же кофейным лаком. И Борис удивился тому, как художник быстро достал это крыло, да еще так точно подобрал цвет.
Работали они в гараже, вернее работал Чердынцев, а Борис только смотрел. Он попробовал было взяться за крыло, но художник его отстранил:
— Нет, знаете ли, не люблю помощников. Привык все делать сам, еще с детства. Да и профессия у меня тоже индивидуальная. Терпеть не могу, если кто-нибудь из-за моего плеча смотрит, что я рисую.
Чердынцев, как заправский слесарь, поплевывал на руки, сопел, прилаживая крыло. Кончик языка у него быстро передвигался, смачивая сухие губы. Борис подумал: «Он помогает себе языком, наверное» — и рассмеялся. Чердынцев зло повернул голову:
— Чему смеетесь? Что взрослый человек на вас трудится, да? Зря, скажу я…
Борис оборвал смех. И все-таки ему было весело. Он уже представлял себе, как будет выглядеть машина после этого скорого и, безусловно, умелого ремонта.
Как он рассчитывал, так и случилось. Хотя вызов в автоинспекцию напугал было его, но зато потом, когда все сошло гладко, Борис совершенно успокоился. И когда в тот же день после разговора в ГАИ к нему домой снова пришел Чердынцев, Борис обрадовался ему. Посмеиваясь, он передал своему случайному другу разговор с Фроловым. Чердынцев тоже улыбнулся, правда не очень охотно.
— Обошел, значит, вокруг? А не придрался?
— Нет, что вы! Машинка ведь как стеклышко.
— А ничего такого не заметили — может, посмотрел на то место, где была вмятина, приглядывался?
— Да нет же! Так просто все и обошлось. Конечно, вызвали не зря, но к чему можно придраться? Все чисто, не подкопаешься.
Чердынцев задумался, стряхивая пепел. Борис вдруг догадался, что товарищ, наверное…
— Так сколько я вам должен?
Чердынцев все еще молчал. Борис поморщился: «прикидывает, сколько содрать». Но он решил согласиться на любую сумму — в конце концов ему сохранена если не жизнь, то свобода. Однако Чердынцев неожиданно спросил о другом:
— Уходя из института, вы вешаете в проходной номерок?
— Да, а что? — не понял Борис.
— Вот вам ваш номер. — Художник подал Похвисневу алюминиевый кружок.
Борис удивленно уставился на Чердынцева: это был его номер — тридцать шестой.
— Почему у вас мой номерок? Ведь я его повесил.
Тогда Чердынцев заговорил тихо и размеренно:
— Совершенно верно… Теперь слушайте. Я беру с вас плату: ведь каждый труд должен вознаграждаться. Денег, как я уже говорил, мне не нужно. Ясно? Вы сделаете для меня то, о чем я вас попрошу. Вот смотрите. Завтра… или нет — послезавтра вы, уходя из института, повесите на доску два номерка — этот и тот, что висит там сейчас. Затем вы вернетесь обратно. Предлог меня не интересует, придумайте сами. Вот еще вам два ключа: от кабинета, где стоит сейф с расчетами, и от самого сейфа.
У Похвиснева отвисла челюсть. Он шумно сглотнул набежавшую слюну:
— Зачем это?
— Надо. Для меня!
— Но меня поймают… Я не могу, не буду…
— Будете. Или вы хотите, чтобы я пошел в ГАИ и все рассказал? Я тоже думаю, что не хотите. Поэтому слушайте… Из сейфа возьмите все расчеты и формулы выплавки твердого сплава. Они лежат отдельно, в верхнем ящике. Все это отдадите мне. Я сам приду за ними.
Борис ошалело молчал, все еще плохо соображая, что же все-таки от него требуется. Чердынцев видел его замешательство, но продолжал инструктировать спокойным и не допускающим возражения тоном:
— Теперь — как вам уйти незаметно? Я думаю, так…
Борис уже слушал внимательно: он вдруг сообразил, что его «приятель» таков, что дважды повторять не будет. А от того, правильно ли он поймет и крепко ли запомнит его слова, зависит жизнь Бориса. Жизнь? Он похолодел. Да, его жизнь снова в опасности, все снова круто повернулось, и сейчас еще неизвестно, чем кончится. Борис соображал: отказаться? Пойти и сказать о том, что его толкают на преступление? Но… но этот «художник» в первую же минуту ареста донесет на него. Еще хуже, если «художника» не успеют арестовать и он убежит. Чердынцев достанет его, Бориса, где угодно — выследит и прикончит где-нибудь на дороге.
Где же выход, где спасенье? Боря, Боря… А что же говорит Чердынцев? Он гарантирует безопасность, обещает, что убежать наверняка удастся и следов не останется. Но делать все надо быстрее — иначе могут появиться препятствия. Скорее, скорее!
Тихий разговор в комнате Бориса длился еще полчаса. Борис был серьезен и деловит, насколько он вообще мог быть серьезным и деловитым. Он сдался. О том, что он предает родину, страну, в которой родился и вырос, он не думал.
Чердынцев, спускаясь по лестнице, беззвучно засмеялся: «Попался, цыпленок! Боится, но сделает все, что нужно. Дрожащими от страха руками откроет сейф. Вот так и надо — пусть дрожащими, но чужими руками залезть в сейф. Ха-ха-ха! Великолепно!».
Уже дома, лежа на кровати лицом к стене, он снова беззвучно рассмеялся, представив, что испытывает сейчас Похвиснев. Так, с полуоткрытым ртом, оскаленным улыбкой, он и заснул.
* * *
Ветер нес с темной реки холодный и острый запах подтаявшего снега и льда. Шилков зябко передернул плечами, и все же он был доволен тем, что пошел в институт пешком: эти влажные, еще робкие вздохи весны освежали и бодрили его. И хорошо будет, если эта упругость в мышцах и ясность в голове не покинут его во время дежурства.
На аллейке, ведущей к институту, тоже было сыро. С деревьев падали капли, и скамейки были пусты. Только на одной из них, в самом конце аллеи, Шилков заметил парочку. Юноша держал в ладонях девичьи руки, сосредоточенно дул на них и даже не посмотрел на прохожего. А девушка смеялась, поджимая ноги в маленьких суконных ботиках.
Только что он прошел мимо общежития, где живет Ася. Прошел, подавив желание остановиться, отыскать ее окно. И вот уже перед ним здание научно-исследовательского института, потухшее, нежилое. Он войдет туда, и все весеннее, отвлекающее останется позади.
Шилков прислушался к тишине, царившей в институте, и окликнул вахтера:
— Все ушли?
— Все, кажись. Раз номерки висят — значит, все. — Вахтер поглубже засунул руки в карманы галифе, вытянул под столом ноги и протяжно зевнул, — У нас порядок строгий!
Утром предъявил пропуск — снимай железку, иди к себе, вечером предъявил — вешай обратно. Все видно. Этот самый номерок — что замок какой: не отопрешь, чтобы не заметили.
Вахтер, видимо, намеревался еще долго разглагольствовать насчет номерков. Шилков усмехнулся и пошел в комендантскую. Там его ожидал оперативный работник, лейтенант. Шилков скинул пальто.
— Я проверил. Вроде ушли все. Ну, иди и ты, смена твоя кончилась. Маленьким спать пора.
Мызников был года на два моложе его, и Шилков иногда подтрунивал над ним.
— Иди, иди. Только на ночь мороженого не ешь: гланды распухнут.
Мызников хотел что-то сказать, но только отмахнулся, вздохнул и ушел. На работе он всегда был замкнут, сосредоточен и к шуткам относился предосудительно, считая, что к добру они не приведут.
В комендантскую был выведен световой сигнал от сейфа — лампочка загорится, если в скважину замка вставить ключ или даже просто прикоснуться к сейфу. Лампочка стояла на столе, ее красный свет должен сразу ударить в глаза.
Когда за Мызниковым тихо закрылась дверь, Шилков, повернув голову, улыбнулся ему вслед. Но затем улыбка мгновенно исчезла: на столе горела лампочка… Шилков мотнул головой: не мерещится ли ему? И все-таки рука сама привычным движением пальцев уже расстегнула кобуру и сжала пистолет.
Стремительно открыв дверь, он побежал по темному коридору. Носком нажал на дверь кабинета, где стоял сейф. Дверь не поддавалась. Шилков наклонился к скважине и, понимая, что совершенно бесшумно замок не открыть, с силой вставил ключ, резко повернул его и толкнул дверь.
Человека он увидел в темноте не сразу — тот, видимо, стоял перед сейфом. Но потом человек отскочил в сторону. Вот он мелькнул на фоне окна. Шилков крикнул:
— Стой! Руки вверх!
Человек прыгнул на подоконник, рванул приоткрытую раму. Шилков, подбегая, еще раз крикнул: «Стой!» — и выстрелил. Но темная фигура уже скользнула за окно и исчезла.
«Готов?» Шилков тоже вскочил на подоконник и глянул вниз. Странно: звук падения оттуда донесся слабый, словно кто-то спрыгнул всего-навсего со стула. «Прыгать? Третий этаж, внизу — обледенелая дорожка…». Об подоконник что-то мягко ударилось, звякнуло железо. Шилков пошарил рукой, нащупал плоский крюк, зацепленный сбоку за подоконник. К крюку был привязан резиновый канат. «A-а, амортизатор! Спрыгнул и отпустил…»
— Стой! — кто-то крикнул в дверях. Шилков узнал голос Мызникова.
— Мызников, оставайся здесь! — И, сжимая обеими руками конец каната, Шилков прыгнул вниз.
На высоте трех метров Шилков почувствовал, что резина натянулась до предела. Тогда он, повиснув на выпрямленных руках, с силой оттолкнулся ногой от стены и разжал пальцы. Упал он в снег, в сугроб у дорожки.
Быстро вскочив, Шилков побежал по аллейке. Человек был от него в ста метрах. На бегу, подняв пистолет вверх, Шилков снова выстрелил. Преступник метнулся в боковую аллею.
«Придется по нему стрелять», — замедляя бег, подумал Шилков. Он уже ловил на мушку спину беглеца, как вдруг увидел, что кто-то бросился наперерез преступнику.
Вот оба упали, затем кто-то из них вскочил, свернул с аллейки на белое снежное поле.
Возле упавшего уже стояла девушка и помогала ему подняться. Шилков вспомнил: «А, это та парочка! Молодцы — ведь посторонние совсем, а не испугались…» Он перемахнул через сугроб и несколькими прыжками настиг беглеца.
Но едва он успел схватить рукой меховой воротник, как преступник обернулся и ударил его в правое плечо. Шилков упал. И сразу же черная перчатка мазнула его по лицу, что-то с невероятной силой толкнуло в висок. Шилков потерял сознание…
Пустынная улица внезапно ожила. Со всех сторон по заснеженному полю бежали люди, между ними металась одинокая фигура беглеца. Но вот кольцо людей сжалось, на снегу завертелся клубок, кто-то пронзительно, надрывно закричал. Потом клубок распался, и плотная группа людей, выйдя на аллею, медленно направилась к зданию института.
* * *
Подполковник прежде всего предложил арестованному сесть и пододвинул ему стакан с водой. Похвиснев как-то сразу постарел, лицо приобрело серый матовый цвет, губы непрерывно тряслись.
После вступительных вопросов — имя, фамилия, год рождения, специальность — Пылаев задумался. Как вести допрос? Арестованный глубоко потрясен — об этом говорит весь его вид. Все-таки надо учесть его состояние. Пылаев поднялся и прошелся по кабинету.
— Вы понимаете, что совершили тягчайшее государственное преступление?
Похвиснев ответил очень тихо и покорно:
— Да, понимаю.
— Вы знали, что в сейфе хранятся секретные документы и что брать их разрешается только определенным лицам?
— Знал.
— Значит, вы шли на преступление сознательно?
— Да.
Пылаев остановился перед арестованным, строго посмотрел на него.
— Что вы хотели взять из сейфа?
— Бумаги, различные документы.
— Вам было известно их содержание?
— Нет, этого я не знал.
— Откуда вы взяли ключ?
— Мне его дал один человек.
— Он вам знаком?
— Нет, я его видел два раза. Я не знаю даже, как его зовут.
— Кто вас снабдил оружием и приспособлением?
— Он же.
— И ему вы должны были передать похищенные документы? Когда?
— Не знаю, когда. Он сам обещал меня найти.
Пылаев сел за стол, приготовился записывать.
— Теперь расскажите подробнее, как все было.
Похвиснев тяжело, протяжно вздохнул и, делая паузы, начал рассказывать. Он говорил о том, что несколько дней назад сидел в ресторане и его соседом по столу оказался вежливый, располагающий к себе человек. Похвиснев пожаловался, что запутался в долгах и не знает, как найти выход. Собеседник вместе с ним поохал, пожалел Похвиснева, а потом сказал, что постарается помочь, то-есть найти нетрудную и хорошо оплачиваемую работу.
Пылаев прервал рассказ:
— У вас много долгов? Кому вы должны?
— Я сейчас не могу всех вспомнить…
— Ну хорошо. Дальше, пожалуйста.
— Через два дня он позвонил мне по телефону, напомнил о встрече в ресторане. Мы встретились на улице. И тут он попросил достать из сейфа документы. Я, товарищ подполковник, не хотел красть, я ему твердо заявил: «Нет, не буду!». Но он так просил, умолял даже, что я согласился. Правда, он обещал за это хорошо заплатить.
Пылаев усмехнулся одними губами и, записав это место, поставил против него маленькую «птичку»: «Наивно!» Похвиснев, видимо, заметил это, но Пылаев кивнул — продолжайте.
— Вот, собственно, и все.
— Как это «все»? А то, что вы бежали, когда вас застали на месте преступления? Пытались освободиться от преследования, не остановились даже перед… убийством?..
— Это все вам известно, наверное, — опустив голову, почти шепотом произнес Похвиснев.
— Хорошо. Значит, вы утверждаете, что содержания документов вы не знали. Цели человека, который просил вас похитить документы, вам тоже были неведомы, и сам человек вам не был знаком?
— Да, это так. Я ничего не знал.
— То есть, вы хотите сказать, что это была просто кража?
— Да.
Пылаев опять возвращался к началу допроса, расспрашивал о таинственном соседе за столиком, допытывался, зачем ему нужна была документация, грозил ли он чем-нибудь Похвисневу. Но арестованный или не мог, или не хотел что-либо добавить к ранее сказанному. Пылаев протянул Похвисневу протокол допроса, фотолаборант прочел и расписался. Конвоир увел арестованного. Посмотрев ему вслед, Пылаев понял, что Похвиснев начал потихоньку приходить в себя — он уже не так горбился и двигался живее.
…Размышления подполковника сводились к следующему: возможно, что все произошло так, как показал Похвиснев, — вербовщик ему неизвестен, место и время следующей встречи для передачи похищенных документов не обусловлено. Что же тогда? Тогда снова тупик. Похвиснев — это ерунда, подставное лицо. Его, безусловно, осудят, но дальше что? Как найти тех, кто направил Похвиснева, вручил ему ключ и оружие?
С этой неотступной мыслью Пылаев пришел на работу утром следующего дня. В десятом часу зазвонил телефон. Говорил капитан Фролов.
14
Итак, в деле Похвиснева наметился поворот.
Правда, Пылаев вначале отнесся к доводам Фролова несколько скептически:
— Почему же вы все-таки предполагаете, что убийцей был Похвиснев? Только потому, что он проезжал в тот день по Северному шоссе и почему-то скрывает это? Согласитесь, для обвинения маловато.
Не спорю, Похвиснева следовало задержать, и прокурор мог дать на это разрешение. Но что же дальше? Предположим даже, преступник во всем сознается — как известно, этою еще недостаточно. Вы предложили бы уличную операцию — выезд с преступником на место, где совершено преступление? Да, конечно, если он в присутствии понятых расскажет, как все случилось, это будет серьезной уликой. А свидетели? Они ведь тоже нужны. Васильева? Подождите. Она ездила с ним? Она была в машине? И она видела, как машина сбила женщину? Так это другое дело.
— Товарищ капитан, вы сейчас не заняты? Поедемте вместе к Васильевой. Как раз время — в полдень она, наверное, еще дома.
…Действительно, актриса была дома. Видимо, она только недавно встала: в кухне кипел чайник, и на середину комнаты была сметена кучка мусора. Пылаев и Фролов извинились за неожиданный приход.
— Нет, что вы! Это я сама виновата, что поздно встаю, — жеманно улыбнулась Васильева и пригласила их сесть на диван возле окна.
Вспомнив и узнав Фролова, она шутливо обратилась к нему:
— Надеюсь, что вы еще не расстались со своей машиной?
Но Пылаев не дал Фролову ответить и начал прямо, без обиняков:
— Мы пришли, чтобы расспросить вас о Похвисневе. Вы хорошо с ним знакомы? — И он протянул актрисе свое удостоверение.
Васильева взглянула, повела бровями, словно бы недоумевая.
— Ах, вот что? Но мы с ним не виделись в последние дни. Он вдруг перестал приходить в театр, — пытаясь скрыть растерянность, начала она.
— Это неважно. Нас интересуют не последние дни, а гораздо больший срок. Чем он живет?
— Гм-м… Где-то, кажется, работает. Иногда приходит ко мне… Должна сказать, что он за мной ухаживает. Но ведь он холост, а я давно не живу со своим мужем. Так что…
— Нет, я не о том. У него есть долги, он нуждается в деньгах? — спросил Пылаев.
— Что вы, я никогда не задавала ему таких вопросов!
— Ну, а ваше мнение?
— Не думаю. Я этого ни разу не чувствовала.
Пылаев, попросив разрешения, закурил. К Васильевой обратился Фролов:
— Вы знаете, что у него есть автомашина?
— Конечно. Он изредка катал меня по городу.
— А за город вы тоже ездили? — продолжал он.
Васильева заметно насторожилась — это не ускользнуло от Пылаева и Фролова. Она ответила не сразу:
— Но это очень редко. Обычно летом, в хорошую погоду.
— Хорошая погода бывает не только летом, — рассмеялся Фролов.
— Уж не хотите ли вы пригласить меня на прогулку? — кокетливо заметила Васильева, пытаясь отделаться шуткой.
Но Пылаев нахмурился и подчеркнуто серьезно сказал:
— Мне хочется, чтобы вы рассказали нам о Похвисневе. Это не личный интерес, это государственное дело. Так вот… вы теперь, зимой, за город с ним не ездили? Прошу говорить правду.
Васильева нерешительно ответила:
— Нет, что-то не помню.
— И в воскресенье, в начале прошлого месяца, тоже не ездили?
— Да нет же…
— А вы как следует подумайте. Не торопитесь.
Актриса сморщила лоб, потерла его ладонью.
— Это было так давно. Столько событий! Премьера, новая роль…
— А чем в то воскресенье был занят ваш знакомый?
— Простите, я не обязана этого знать! — вспылила Васильева. — Что это — допрос?
— Прошу вас, подумайте получше. — Фролов предпочел уклониться от прямого ответа. Он не сводил с Васильевой взгляда. — Вы ездили с Похвисневым в то воскресенье за город.
Васильева медленно откинулась на спинку кресла. Прошло несколько минут, но Фролов не дождался ответа. Тогда он продолжал:
— Вы ужинали в тот день в сельской чайной и поехали в город по Северному шоссе.
Актриса закрыла лицо руками и спросила:
— Вы арестовали Бориса? Вы подозреваете его… — Она замолчала, словно не решаясь закончить фразу.
— В убийстве? — подсказал Фролов. — Да, я этого не хочу скрывать. Я уверен, что ваш знакомый сбил на шоссе женщину. И рядом с ним в машине сидели вы. Это так.
Васильева молчала. Фролов наклонился к ней.
— Не упрямьтесь. Вы и так виноваты в том, что пытались скрыть преступление. Не стоит усугублять свою вину.
Васильева вздрогнула, отняв от лица руки:
— Скажите, разве та женщина умерла?
— Да, она умерла… Но ее можно было спасти, если бы вы отвезли ее в больницу.
— Как это ужасно! А он… он обманул меня! Борис на другой день сказал, что узнавал, справлялся. Женщина, сказал он, жива, у нее перелом руки. Он просил никому не говорить…
И, постепенно приходя в себя, Васильева рассказала все. Как гнал Похвиснев машину по обледеневшему шоссе, как из-за поворота показалась женщина и он не мог свернуть в сторону, как они потом петляли, заметая следы. Она очень испугалась тогда за Бориса.
Рядом с Фроловым и Пылаевым теперь сидела словно другая женщина — поникшая, съежившаяся, подавленная. Пылаев нарушил тягостное молчание:
— Никто, кроме вас, не знал об убийстве?
Васильева покачала головой. По ее щеке медленно скатилась слеза. Смотрела она в какую-то одну точку и, казалось, едва расслышала вопрос. Пылаев снова спросил ее о том же.
— Нет, я никому не рассказывала. Только вам.
— Жанна Петровна, а сам Похвиснев — он тоже никому не мог рассказать?
— Нет, не мог. Мне так кажется. Он все время напоминал мне, чтобы я молчала. Борис страшно боялся, что кто-нибудь узнает…
— Значит, вы утверждаете, что никогда никому не говорили о преступлении Похвиснева? Вспомните, пожалуйста. Может, случайно, а?
Васильева будто поняла, наконец, о чем ее спрашивают:
— Говорила ли? Да, говорила. Мужу актрисы Татариновой.
— Когда это произошло?
— Я уже точно не помню… Хотя, подождите, сейчас… Да, это было в день премьеры. Они, Лева и Борис, прошли к нам за кулисы… Знаете, это меня поразило. Лева, возвращаясь в зал, вдруг вошел в мою уборную и стал выпытывать, что натворил Борис. Я не хотела говорить, я опаздывала, но он не отпустил меня, пока я не сказала, что мы сшибли машиной женщину.
— А потом что?
— Вот и все. Я сказала, и он ушел.
Фролов поднялся и потянулся к пепельнице, чтобы бросить окурок. Пылаев тоже встал.
— Спасибо, товарищ Васильева… Нам пора, — обратился он уже к Фролову.
Капитан кивнул.
— Попрошу вас познакомиться с этой бумагой, — сухо сказал он Васильевой. — Подписка о невыезде. Прочтите и распишитесь. Нам придется еще встретиться. Понимаю, как вам трудно, но…
Фролов попробовал улыбнуться на прощанье, но улыбка вышла кривой, невеселой.
* * *
Раненое плечо было туго забинтовано, и Шилков часто сгибал и разгибал пальцы, чтобы рука не занемела. Когда он пробовал повернуться на бок, в плече остро кололо и на лбу выступала испарина.
Но больше всего Шилков страдал от безделья. Лежал он в отдельной палате — поместили его сюда сразу, как привезли, еще в беспамятстве, и так и не перевели в общую. Разговаривать было не с кем. Лечащий врач оказался человеком замкнутым и, даже ощупывая плечо, не спрашивал, как обычно: «больно? не больно?» Сестра, правда, была хохотушкой, но норовила поскорее убежать к соседям, видимо, там кто-то из больных интересовал ее больше.
Читать Шилкову не разрешали. Писать — тоже. Он только продиктовал коротенькую записку хозяйке квартиры, сообщил, что уехал в командировку и скоро приедет. Единственное, что оставалось, — это слушать радио.
И Шилков часами слушал музыку, лекции, литературные передачи, даже уроки гимнастики.
Он как раз слушал радио, когда за матовой стеклянной дверью раздался знакомый голос:
— Здесь, да?
Пылаев был в белом халате и оттого показался Шилкову ниже ростом. В руке подполковник держал «авоську» с какими-то пакетиками, и вид у него был смешной. Шилков улыбнулся, подумав, что Пылаев вовсе не был похож сейчас на подполковника и что, конечно, снабдила его этой «авоськой» Нина Георгиевна. Шилков хотел приподняться, но Пылаев испуганно зашептал:
— Ты лежи, я найду, где присесть.
Он пододвинул к кровати стул и сел, натягивая на колени халат. Сестра сложила пакетики в тумбочку и вышла.
— Ну, как ты здесь? Не обижают?
— Не-ет. Скучаю, правда.
— Брось ты мне эти жалобы. За свое здоровье ты знаешь как сейчас отвечаешь? То-то… Кормят ничего? Я даже не знаю, чего мои прислали тут…
Шилков лукаво усмехнулся: знаю я тебя, Сергей Андреевич. Небось, сам смотрел, что женщины заворачивают, советы давал да напоследок в магазин бегал. Не обманешь! Но уличать подполковника Шилков не стал.
— Это все ерунда, Сергей Андреевич. Лучше вы объясните, что со мной тогда сталось. Я ведь словно в яму какую провалился.
— Ты о чем это? Вот выздоровеешь — тогда скажу. — Но, оглянувшись на дверь, он все-таки добавил: — Обыкновенное дело. Кожаная перчатка, к пальцам выведены обнаженные провода. В кармане батарея и катушка-усилитель. Коснулся он твоей щеки — ну, тебя и ударил сильный разряд. Немудрено сознание потерять. А в плечо простым ножом стукнул… Знаешь ли, кто это был?
— Разглядеть-то мне не удалось. Но…
— В том-то и дело, что «но»… — Пылаев говорил уже почти шепотом: — Похвиснев, фотолаборант.
— Похвиснев? — Шилков удивленно открыл рот. — Но…
— Что «но»? Я с этим «но» уже второй день бегаю, — вдруг передразнил его Пылаев. Он, забывшись, достал портсигар, размял папиросу, потом, опомнившись, сунул ее обратно. — Ясно, что он не по своей инициативе пошел на такое дело.
Пылаев говорил так, словно они находились сейчас в служебном кабинете и Шилков был здоров.
— Но Похвиснев с кем-то виделся? Ну так, значит, надо…
— Надо-то надо, да как? Похвиснев не знает, с кем, и где, и когда он должен был встретиться. Впрочем, он, может быть, еще далеко не все сказал. Но… ты знаешь, у меня мыслишка одна есть. А что — если тут замешан…
— Савченко? — выпалил Шилков.
— Да, он…
И Пылаев коротко рассказал о беседе с Васильевой. Когда он кончил, оба помолчали раздумывая.
— К Савченко ведет еще один след, — сказал Пылаев. — Кто мог достать слепок с ключа? Только тот, кто вхож к Трояновскому. Перебрал я примерно всех — и снова столкнулся с Савченко…
Дверь в палату открылась, и Пылаев замолчал. Сестра подала Шилкову конверт и укоризненно взглянула на подполковника:
— До чего же несознательный народ. Стоит мне задержаться, как вы готовы здесь весь день просидеть. Время посещения вышло!
— Да, да, верно. — Пылаев встал.
— Ведь, наверное, сами хотите, чтобы ваш друг скорее поправился, а сидите…
— Ничего, это тоже помогает — когда товарищ приходит. Да и вы, кажется, сейчас ему замечательное лекарство принесли! — Пылаев подмигнул Шилкову: — От нее? — и перевел глаза на конверт.
Шилков покраснел.
— Читай, читай. А я пойду. И в самом деле — засиделся.
— Сергей Андреевич, когда же еще?
— Заскочу как-нибудь. Ты свое дело делай — поправляйся. Нам еще с тобой придется поработать.
По дороге на службу Пылаев всячески «честил» себя: вот, угораздило его столько наговорить Шилкову, парень теперь будет тоже беспокоиться. Чего доброго, рана нескоро заживет, ведь недаром говорят, что главное — нервная система. Эх, начальник, не сумел сдержать себя! Зачем-то о Савченко сказал…
На «оперативке» у генерала Черкашина было решено разрешить Трояновскому приступить к выплавке твердого сплава в заводских условиях, чекистам начать интенсивные поиски вербовщика, за Савченко установить наблюдение. Вернувшись к себе, Пылаев вызвал на допрос Похвиснева, обвинявшегося теперь еще и в убийстве.
15
Для инженера Савченко эти последние дни были полны тревоги. Он старался быть прежним: приветливым, деловым и скромным на работе и, что плохо удавалось, — ласковым и внимательным дома, потому что его вторая жизнь была как никогда деятельной и беспокойной.
Савченко быстро понял, что самый легкий путь к секрету твердого сплава оказался и самым неудачным. Стоило Савченко позвонить родителям Бориса, как он по плачущему голосу его матери — «Бори нет дома» — сразу догадался, что Похвиснев долго не придет домой, если вообще-то придет. На вопрос матери: «А кто спрашивает?» — он не ответил, просто повесил трубку.
За себя Савченко был спокоен. Похвиснев никак не мог заподозрить, что его «друг» связан с «добрым художником», толкнувшим фотолаборанта на роковой шаг. Нет, он, Савченко, в полной безопасности, он опять-таки в тени.
Вот Чердынцев оказался в незавидном положении. Как бы осторожно он ни провел вербовку, все-таки след был оставлен: внешние приметы, специальность художника, наконец личная машина, зарегистрированная в ГАИ. Все это, считал Савченко, давало чекистам немало нитей.
Вместе с тем он чувствовал, что «твердый сплав» с каждым днем окружает все более плотная стена защиты. Он уже давно понял, что работники государственной безопасности догадываются о том, что к сплаву проявляется большой интерес со стороны иностранной разведки. Случай в институте окончательно убедил их в этом.
Однако Савченко не считал свое дело проигранным. Пусть Похвиснев не сумел выполнить задание — это, может быть, даже к лучшему. Они сейчас будут заняты институтом. А Савченко опять остался в стороне от всей этой опасной истории.
Трояновский закончил исследования в лаборатории. Теперь настало время от теории и опытов переходить к производству. Часть литейного цеха завода стала называться экспериментальной, здесь будут проводить первые плавки.
Надо было спешить. Именно теперь, когда сплав только еще рождался, следовало нанести удар, окончательный и молниеносный.
Несмотря на опасность, Савченко решил встретиться с Тотером. Утром, еще до работы, он позвонил ему из автомата, сказал о том, что им необходимо увидеться сегодня же, и попросил захватить с собой две пачки сигарет.
В этот день Савченко отпросился у начальника цеха с работы на полчаса раньше.
— Хочу хоккей посмотреть. Обидно, если билет пропадет.
Савченко и в самом деле поехал на стадион. Он прыгал с трамвая на трамвай, соскакивал и бежал на автобус, успевая последним вскочить в уже закрывавшиеся двери. Только перед самым стадионом инженер успокоился и одну остановку прошел пешком.
У ворот стояла толпа болельщиков, которым не удалось купить в кассе билет. Они спрашивали обычное: «Нет лишнего?..» К Савченко тоже кинулось несколько человек, но он, не отвечая, проталкивался к турникету, и уже у самого контроля кто-то похлопал Савченко по плечу:
— Товарищ, может у вас еще один найдется?
Савченко скользнул взглядом по говорившему, посмотрел на часы и незаметно огляделся.
— Да, пожалуй, жена не придет.
Сзади уже толкали, недовольно кричали:
— Чего вы, гражданин, застряли, проходите, не задерживайте!
Савченко успел положить в чью-то руку билет и заспешил к трибунам.
Рядом с Савченко кто-то грузно опустился на свободное место. Но инженер не посмотрел на соседа: он знал, что это Чердынцев, и, как и все остальные на стадионе, пристально следил за хоккеистами — игра с первых секунд пошла в стремительном темпе.
Особенно рьяные болельщики свистели, кричали, подбадривали «своих» игроков. Савченко тоже, засунув в рот пальцы, оглушительно свистнул и выкрикнул только что услышанное имя. Ветер мел мелкую поземку, стучали клюшки, скрежетал лед. Оба вратаря присели в воротах, словно нахохлившиеся хищные птицы, расставив неуклюжие руки.
Вдруг зрители все как один поднялись со своих мест. Оглушительный крик прокатился по трибунам и унесся в темную даль. Гол!
Савченко неистовствовал. Он вскакивал, что-то кричал, сорвав с головы шапку, садился, толкал обоих соседей локтями. Казалось, Савченко сейчас прыгнет вниз и сам начнет гонять, подкидывать этот маленький мяч. И никто, конечно, в суматохе не заметил, как сосед Савченко справа именно в этот момент положил ему в карман два небольших пакета, завернутых в черную бумагу.
В перерыве, как водится, зрители взволнованно обсуждали игру, спорили, перечисляли шансы команд на выигрыш.
Савченко и Чердынцев тоже горячились и спорили, доказывая свою правоту. Вокруг них образовалась небольшая толпа. Опытные завсегдатаи посмеивались — эти двое говорят об игре вовсе не спортивным языком; видно, они в хоккее разбираются плохо.
А Савченко и Чердынцев думали об игре меньше всего. Рассуждая и даже втягивая в свой спор окружающих, они говорили совсем о другом, употребляя своеобразный код. Савченко сказал, что Похвиснев, видимо, арестован («Вот у меня один друг есть, Борис, он заболел, — так он бы точно рассудил, правильный это удар или нет»). Чердынцев ответил, что он уже об этом знает. Хорошо, что Савченко сегодня позвонил: ночью он уезжает, надо менять город, а то Похвиснев может кое-что выболтать. Савченко, стало быть, остается один. Пусть действует по своему усмотрению, «сигареты» он ему передал. Через некоторое время Чердынцев сам его найдет.
Когда состязание окончилось, Савченко поднялся и стал пробираться к выходу. Вдруг его что-то кольнуло. Какой-то гражданин, как ему показалось, пристально посмотрел на него, потом на Чердынцева и снова на него. На его лице не было следов пережитого волнения, он глядел спокойно и даже равнодушно. У Савченко мгновенно похолодело где-то в животе. Он согнулся, втиснулся в толпу и, ужом проскальзывая между людьми, сперва вбежал на самый верх амфитеатра, а оттуда засеменил по лестнице вниз…
Отдышавшись на площадке трамвая, Савченко стал соображать спокойнее: «Меня видели с Тотером. Кто из нас привел за собой чекиста — неважно. Факт, что меня видели с ним. Значит, если Чердынцев уже известен контрразведчикам и оставлен пока на свободе в виде „живца“, то я… тоже попался. Вся эта комедия, разыгранная нами, чекиста не обманет. Страшно, если Чердынцев попадет к ним живым… Да… остается… остается… только одно. Это меня спасет хотя бы на время».
* * *
— Итак, вы утверждаете, что фамилия того, кто передал вам ключи от кабинета и сейфа, снабдил оружием и, главное, дал задание выкрасть документы, вам неизвестна? — Пылаев смотрел на Похвиснева с нескрываемой иронией. — Согласитесь, молодой человек, что я не имею оснований вам верить. На первых допросах вы скрывали, что вас завербовали, угрожая сообщить о совершенном вами убийстве. Выдумали историю с большими долгами и так далее. Я понимаю: вам не хотелось, чтобы к этому обвинению прибавилось еще убийство. Вы надеялись, что совершенное вами государственное преступление будет принято за простую кражу. Не вышло, правда?
Похвиснев молчал, пытаясь сохранить самообладание, но растерянный взгляд выдавал его. Он был похож на зверька, еще очень молодого, но уже зубастого.
— Наконец, вы сказали, что вербовщик был владельцем автомашины, что он сам пришел к вам. Внешность его вы описали, назвали предполагаемую специальность, но где он работает — вы не знаете. Теперь же, может быть, вы вспомните если не номер машины, то хотя бы ее марку, приметы, особенности?
Похвиснев потер колено и устало сказал:
— Машина «оппель», маленькая, вроде «москвича». Подержанная. Номера я не помню.
Пылаев набросал несколько слов. Зазвонил внутренний телефон. Говорил дежурный. В бюро пропусков пришел один гражданин, инженер металлургического завода, по фамилии Савченко. Очень хочет пройти к Шилкову, но, сами понимаете… Так, может, к вам?
Пылаев ответил «да» и осекся: от удивления он чуть не переспросил фамилию. Положив трубку, он секунду молчал, потом сказал Похвисневу:
— Вы еще на досуге подумайте. Это очень важно. А сейчас идите… Товарищ сержант, проводите арестованного.
Савченко вошел в кабинет быстрыми шагами и сразу же взволнованно заговорил:
— Я, товарищ подполковник, хотел пройти к капитану Шилкову — мы с ним немного знакомы. Но его нет… Разрешите?
— Да, да, пожалуйста, я вас слушаю.
— Дело у меня к вам чрезвычайное и, надо сказать, отвратительное. Я сейчас был на стадионе, смотрел хоккей. Рядом со мной оказался человек вполне обыкновенной наружности. Сначала он заговорил со мной об игре, затем сказал мне, что знает меня, что я инженер, работаю на металлургическом заводе. А после этого предложил мне совершить на моем заводе диверсию. Я обомлел. Он тут же добавил, что кое-что про меня знает, в частности — что я недостойно вел себя во время войны…
Пылаев вопросительно повел бровями.
— Да, я должен признаться в своем проступке. Во время войны я был в партизанском отряде. И вот в одном из боев, когда нас крепко прижали, я бежал из отряда. Сознаюсь, струсил. Каюсь, но не скрываю от вас своего позора. Что поделаешь? Факт есть факт — струсил. Но вину свою я потом искупил, честно работал в тылу… Так вот, он припугнул меня этим. Я сделал вид, что согласился. И тогда он передал мне вот это.
Савченко положил перед Пылаевым черный пакет. Подполковник взял, прикинул на вес и стал разворачивать бумагу.
— Я не смотрел, что в пакете. Но он сказал, что это сильное взрывчатое вещество… Я, товарищ подполковник, решил разузнать, кто он, где живет. Я сказал, что хотел бы услышать подробнее, куда класть пакет, что взрывать. Тогда он ответил, что ночью он уезжает, и дал телефон 4-52-10.
— Ничего, я выясню… Вы говорите, попросил взорвать… А что?
— Мы еще не договорились.
— Что он обещал за это?
— Деньги, конечно.
— Когда же он обещал заплатить?
— После взрыва.
— Ну что ж… Если вы нам понадобитесь, попрошу явиться. Хорошо?.. Спасибо. Желаю вам всего наилучшего.
Савченко крепко сжал и потряс руку подполковника, повторяя:
— Я очень рад помочь вам. Буду счастлив, если действительно помогу обезвредить врага.
Когда дверь за ним захлопнулась, Пылаев усмехнулся и взял папиросу.
Затем он позвонил генералу и попросил разрешения срочно к нему прийти.
После короткого разговора с Черкашиным было решено произвести обыск в квартире, где находился указанный Савченко телефон, и, если удастся, арестовать владельца. Увидев взрывчатку и познакомившись с записью рассказа Савченко, прокурор дал на это санкцию. Пылаев рассуждал так: если Савченко сказал правду, что, впрочем, мало вероятно, то неизвестного вербовщика необходимо сейчас же арестовать, тем более что ночью он собирается скрыться. Если же это только маневр инженера, то… обыск и арест опять-таки необходимы. Почему? Во-первых, шпион уезжает. Во-вторых, если его оставить на свободе и держать под надзором, то все равно он вряд ли куда-нибудь приведет — ведь Савченко не зря ставит его под удар, — видимо, вербовщик уже выдохся, какой-либо ценности для разведки не представляет. На допросе же он может дать ценные показания. Что же касается Савченко, он по-прежнему остается за Мызниковым.
…Машина, тихо урча, мчалась по вечернему городу и вскоре остановилась у трехэтажного дома. Пылаев напомнил товарищам:
— Брать надо осторожно. Сходите за дворником, он будет звонить.
Дверь долго не открывалась. Наконец звякнула цепочка, и глуховатый голос спросил:
— Кого надо?
— Тимофея Александровича.
— Пожалуйста, он, кажется, дома.
Женщина отперла дверь и, не обращая внимания на вошедших, скрылась в своей комнате. Дворник прошел в коридор и ткнул пальцем: «Здесь». Пылаев постучал. За дверью было тихо. Пылаев постучал вторично, а потом кивнул дворнику — входите!
Хозяин комнаты полулежал на диване возле настольной лампы и читал газету. Он взглянул на дворника и протянул:
— A-а, Сидорыч, зачем пожало…
Тут человек увидел, что дворник не один. Он вскочил и, бросив газету, громко спросил:
— Вы — кто?
Пылаев протянул ему ордер; одновременно схватив его за руку, скользнувшую в задний карман брюк. Человек кинулся под ноги подполковнику. Пылаев рванул его за воротник. Но было уже поздно. Человек успел сунуть конец воротника рубашки себе в рот и сжать зубы. Слабо треснуло стекло, тело судорожно вздрогнуло и обмякло.
Пылаев потряс за плечо бездыханное тело и выпрямился:
— Все. Отравился. Вот этого я и боялся… Ну что ж, приступим к обыску.
Обыск кое-что дал. В тайнике за батареей парового отопления нашли много взрывчатки, замаскированной под куски каменного угля, кирпич и даже под коробки с пельменями, несколько паспортов на разные фамилии. В кармане пиджака, висевшего на стуле, лежали паспорт на имя Чердынцева, договор с издательством на иллюстрирование небольшой детской книжки, железнодорожный билет до Москвы — поезд действительно отходил через четыре часа.
Пылаев внимательно осмотрел труп, потом заглянул в шкаф, отыскал пальто. Подозвав одного из сотрудников, он приказал:
— Поезжайте в общежитие института. Привезите сюда студентку Асю Дробышеву.
Присев на стул, Пылаев перебрал все, что было найдено при обыске, задумался. Да, совершенно ясно, кем был хозяин комнаты. И машина «оппель» — его, вот водительские права, паспорт автомобиля. Это он вербовал Похвиснева. Но что же дальше? Дальше идти опять некуда. Да, Савченко, ты как будто бы ловко сыграл. Ты, конечно, знал, что этот живым не дастся. Знал, что ничего компрометирующего тебя мы здесь не найдем. И ты надеялся, что мы поверим тебе. Но Шилков давно тебе не верил. Это ты навел Чердынцева на Похвиснева. Что ж, поборемся…
Асю подполковник встретил в коридоре. Он положил ей руки на плечи и тихо, словно извиняясь, сказал:
— Мне неприятно, что пришлось звать вас сюда. Но это необходимо.
Ася осторожно вошла в комнату. Она невольно отшатнулась: на диване лежал труп с посиневшим лицом и открытыми глазами. Пылаев встал рядом.
— Вы посмотрите получше. Мне кажется, что вы уже однажды его видели.
Ася не узнавала. Тогда Пылаев показал на раскрытый шкаф.
— Он был в этом пальто?..
Ася вскрикнула, зажала рот и через секунду сказала:
— Да, это он.
— Он носил фамилию Дробышева, Сергея Игнатьевича. Но у него были еще и другие фамилии. Это враг, Ася.
— А как же отец мой? — чуть слышно спросила девушка.
— Я многого не знаю, Ася. Но обещаю вам: если узнаю, то все расскажу вам о вашем отце. Или я, или Шилков, — тихо ответил подполковник.
16
…Подполковник Пылаев дорого бы дал, чтобы узнать сейчас истину о событиях почти десятилетней давности.
Тогда Савченко, в ту пору молодой инженер, был командирован в одно из прибалтийских государств — принимать станки для Нейского комбината. Между тем из Москвы на запрос в главк пришел ответ, что дело инженера Савченко, работавшего на Нейском комбинате, неполно «в связи с эвакуацией главка в 1941 году». Пылаев прочел ответ и усмехнулся: «Дипломатично, нечего сказать! Растеряли документы, а выражаются куда как деликатно: „неполно в связи…“».
По странному совпадению, пропали именно те бумаги, в которых содержались сведения о работе Савченко за границей и о том, что он вообще был за рубежом.
А история заграничной поездки Савченко была такова.
В 1938 году он вместе с группой советских специалистов приехал в Терп. «Нордшталь» — крупная местная фирма — только недавно завязала деловые отношения с советским Наркомтяжмашем, и первые партии станков, уже подготовленные для отправки в СССР, стояли в испытательных цехах.
Савченко ехал за границу с чувством почти благоговейным. Однако это приходилось скрывать: его спутники, казалось, ничего подобного не испытывали.
Делегации не повезло. В Терпе проходила конференция промышленников, и все номера в гостинице были забиты ими, а также газетчиками, секретаршами и телохранителями. Хозяин гостиницы, разводя руками, вежливо говорил, что не может предоставить «дорогим советским гостям» ни одного номера. Но жить все-таки где-то надо было, и вся группа пошла в полицию.
Полицейкомиссар принял их сразу. Он посочувствовал им и тут же весело предложил:
— А вы обратитесь к администрации «Нордшталь». Или, еще лучше, прямо к работникам завода: они вам помогут найти пансионы. Правда, удобства не те, но…
Пришлось воспользоваться этим советом — другого выхода не было. К вечеру без жилья оставался один Савченко, и вся делегация с ног сбилась, разыскивая ему квартиру. Наконец в цехе к руководителю делегации подошел сухопарый красивый старик и, поклонившись, сказал по-английски:
— Я слышал, вам нужно снять одну комнату?
— Да, да!
— У меня комната есть. После работы можно посмотреть. Я из Англии, работаю здесь наладчиком. Вам будет у меня очень спокойно.
Руководитель обрадовался: лучшего не придумаешь. Он поглядел на огромные мозолистые руки старого рабочего, на его приятное, чисто выбритое лицо и кивнул: хорошо, квартирант сегодня придет. Про себя он подумал: «Старик, определенно, нуждается… Просто очень хорошо, что мы сможем ему помочь».
Так Савченко поселился у Катлей.
Катли жили скромно, в двух опрятных, но скудно меблированных комнатах. Жена хозяина — милая и когда-то, по-видимому, очень красивая женщина — приняла Савченко приветливо. Но все-таки он мечтал о другом: пожить в гостинице с телефоном, радиоприемником, ванной, встречаться с хорошенькими женщинами в уютных холлах. Оставшись один, он с неудовольствием осмотрел свою комнатенку и разочарованно подумал:
— Вот тебе и заграница!..
Первые дни прошли как обычно: с утра он был на заводе или ездил в порт, в таможню… Вечером все гуляли по городу. Город был древний, недавно ему исполнилось семьсот лет, и все в нем хранило следы средневековья — и эти нависшие над городом замшелые башни, где селились голуби, и готические шпили соборов, и невысокие, с острыми крышами, особняки.
Вскоре прогулки прекратились: на заводе уставали так, что впору было только добраться до дому и соснуть часок-другой.
Как-то раз, вернувшись домой, он увидел счастливую фру Катль. В квартире все было вверх дном, в прихожей стояли нераскрытые чемоданы, а из кухни доносились какие-то вкусные запахи.
— О, господин Савченко! У нас большая радость: приехала из Лейпцига наша Сьюзен. Идемте, идемте, я вас познакомлю.
Савченко пошел за фру Катль с бьющимся сердцем: он видел Сьюзен на фотографии, она казалась необычайно красивой.
И Сьюзен действительно была очень хороша собой. В легком спортивном костюме, тоненькая, изящная, она кокетливо протянула руку Савченко и сказала по-русски:
— Здравствуйте, господин Савченко…
— Вы знаете русский язык? — спросил Савченко, ругая себя за то, что смутился.
— О, да… Плохо еще, но знаю. Я учусь на отделении русской филологии. Очень люблю вашего Пушкина. Вы помните: «И сердце вновь болит и любит оттого, что не любить оно не может»? Это — гениально.
Сьюзен говорила без умолку о том, что она очень рада: теперь они будут разговаривать только по-русски, а это для нее отличная практика. А Савченко глядел на ее светлые пушистые волосы, на тонкий нос, пушистые же, загнутые кверху ресницы и чувствовал, что теряет голову.
Все кончилось неожиданно.
В выходной день они остались дома вдвоем: Савченко и Сьюзен. Они сидели в комнате Савченко и как ни в чем не бывало болтали обо всем, что придет в голову. Внезапно Сьюзен, поднявшись, подошла к нему, обняла, крепко прижалась губами к его губам, взлохматила ему рукой волосы. Савченко поначалу растерялся. Но едва он, в свою очередь, захотел ее обнять, как девушка, схватившись за сердце, упала на ковер.
— Сьюзен! — Савченко, нагнувшись, приподнял ее.
Но девушка не отвечала. Очевидно, ей стало плохо — и Савченко в полной растерянности выскочил на лестницу, сбежал вниз, забыв, что он не дома и не знает, где ему искать врача.
На улице он подбежал к полицейскому. Тот недолго слушал его, подошел к висящему на стене телефону и куда-то позвонил. Через пятнадцать минут Сьюзен увезли в карете, и Савченко остался один, мучительно раздумывая над тем, что же произошло.
А вечером его вызвали на Вильгельмплац…
Уже знакомый ему полицейкомиссар встретил Савченко подчеркнуто сухо. Он предложил ему сесть и, раскрыв папку, спросил:
— Как вы могли пренебречь гостеприимством нашей страны и ее людей, господин Савченко?
— Простите, я не понимаю вас… — пробормотал тот.
— Не понимаете? А вы понимаете, что ваше покушение на девичью честь Сьюзен Катль карается по закону?
— Это неправда! — Савченко растерянно глядел на комиссара. — Я не виноват.
— Ах, так! Но вот показания Сьюзен Катль, а вот выводы медицинской экспертизы. Кстати, полицейский, к которому вы обратились, сообщил, что вы были взлохмачены, в растерзанном виде. Это понятно: ведь Сьюзен Катль сопротивлялась…
Савченко, подавленный этим потоком лжи, не знал, что ему говорить. А комиссар протянул ему фотографию.
Она была сделана, очевидно, из окна противоположного дома. Савченко увидел себя целующимся с Сьюзен, причем ясно было видно, как она вцепилась ему одной рукой в волосы, а другой держит, отводя в сторону, его руку…
— Ну как? — усмехнувшись, спросил комиссар. — Любой ребенок поймет, в чем тут дело, не так ли? Но я помогу вам выпутаться из всей этой истории.
…Савченко не сказал никому из своих товарищей о том, что произошло с ним. Сьюзен не появлялась, она уехала в горы.
Через четыре дня Савченко вновь встретился с полицейкомиссаром. Тот, пожав руку инженеру, весело сказал:
— Вот и все. Мы уговорили Сьюзен не поднимать шума.
— Спасибо большое, — пробормотал Савченко.
— Но, — перебил его комиссар, — я надеюсь, что господин Савченко не окажется неблагодарным? Мне нужен сущий пустяк: расскажите нам о своем отце.
Савченко вздрогнул. То, что он скрывал многие годы, оказывается, здесь известно! Откуда? Что знает этот полицейкомиссар?
— Я отказался от своего отца. Мне о нем почти ничего неизвестно.
— Вы не знали, что он был крупным промышленником? А потом министром у Колчака? И в 1930 году вы не скрывали его у себя в студенческом общежитии под видом дальнего родственника?
Савченко молчал. Комиссар убеждающе положил свою ладонь ему на руку и посоветовал:
— Не надо волноваться. Незадолго до смерти ваш отец успел передать за границу списки активных антибольшевиков, а в них было и ваше имя. Отец верил в вас.
Савченко поднял на комиссара темные, но уже спокойные глаза:
— Я уже все понял, господин комиссар.
Тот пододвинул ему листок бумаги с отпечатанным на машинке текстом, и Савченко, просмотрев его, расписался…
Он получил сразу много денег. Несмотря на то, что Сьюзен была замешана в эту историю и Савченко поначалу возненавидел ее, — они скоро помирились. Сьюзен, очаровательно улыбаясь, сказала ему:
— Ты мне очень нравишься. Мне жалко тебя терять — ты скоро уедешь. Но, мальчик, я всегда буду ждать тебя.
Он был покорен.
Как-то вечером, не постучавшись, вошел Катль. Он резко повернулся к Савченко и сказал на чистейшем русском языке:
— Сегодня у нас будет первое занятие. Преподавать вам буду я. Кстати, познакомимся. Моя фамилия — Дорн. Доктор Дорн. Я сотрудник отдела «Остен» германского генштаба… И, поверьте мне, я счастлив встретиться с вами. Мы возлагаем на вас большие надежды, Савченко. Такой конспирации, как ваша, позавидует любой агент. Вы — клад. Мне приказано подготовить вас к большим делам, учтите это. Вы входите в нашу систему разведчиков дальнего — как знать, быть может, очень дальнего — прицела…
17
О том, что плавка состоится завтра, Савченко узнал от самого Трояновского. Они встретились в коридоре заводоуправления, и профессор полуобнял Савченко за плечи:
— Завтра, дорогой мой, завтра. Лаборанты уже колдуют в вашей адовой кухне. Ну, пан или пропал… Я потребовал от директора, чтобы вел плавку Максимов, а вы возглавили весь процесс. Он не возражает…
Савченко заторопился в цех. Вторая смена уже была на местах. Однако Савченко распорядился остановить одну печь:
— Надо ее приготовить. Давай-ка, Воробьев, обследуй старушку. Особенно внимательно последи за заправкой футеровки и завалкой шихты. Ну, да сам знаешь…
У Савченко не было свободной минуты. То он сидел у главного технолога, то мчался в отдел главного механика, то в лабораторию, то к пульту управления… Но где бы он ни был, им владела одна только мысль: патрон в печь! А там видно будет. Чердынцев не сказал ему ничего о силе взрыва. Но, надо полагать, дело будет нешуточное. Главное — плавка и Трояновский, а формулы придется, по-видимому, еще добывать. Где? Конечно, не в лаборатории. Когда он заскочил туда, со стула навстречу ему поднялся молодой человек с погонами лейтенанта госбезопасности и вежливо сказал, что сюда посторонним вход запрещен. Конечно, уже сегодня на заводе полно чекистов, а что будет завтра? Савченко, представляя себе это, поежился.
Уже к вечеру Савченко не находил себе места. Он не мог приблизиться к печи так, чтобы его не заметили. Все, что он мог, — это только постоять рядом с ней, перекинуться несколькими словами с рабочими. Кинуть патрон в шихту, когда завтра начнут загружать печь? Нет, патрон сразу увидят, и хорошо, если не заметят, кто это сделал. Кроме того, поди узнай, какая это шихта, в ту ли она пойдет печь. Лейтенант, которого Савченко видел в лаборатории, все время крутится теперь в цехе. Савченко растерялся.
Но вечером, выходя из цеха (просто невозможно было оставаться там дольше), он столкнулся с расстроенным Трояновским. Старик шел, низко нахлобучив на глаза островерхую каракулевую шапку, и зло стучал толстой палкой об асфальт. Видно было по всему — что-то случилось. Савченко взял его под руку:
— Что с вами?
— Бдительность! — воскликнул Трояновский. — Вам известно это слово?
— Вполне, — ответил Савченко. — Встречается в каждом словаре русского языка.
— Вот именно. Есть еще другое русское слово: время. Так вот, мне не удалось доказать, что время дорого.
— Что же все-таки вас расстроило? — ничего не понимал пока Савченко.
— Да то, что плавку отложили, — вот что.
Савченко ахнул:
— Почему?
— Вы, наверно, заметили, как охраняется моя работа? Совершенно неожиданно позвонили откуда следует и попросили перенести плавку. Три человека проверяют сейчас всю шихту, которую приготовили лаборанты. Один бог ведает, что они там ищут.
Савченко побледнел. Хорошо, что раздосадованный профессор не заметил, как изменилось лицо Савченко. Инженер спросил его, стараясь казаться как можно более равнодушным:
— Когда же теперь? Все так ждали…
— Я не знаю — когда! — почти выкрикнул Трояновский. — Теперь меня это не касается. Вот-с, молодой человек.
— Ну, профессор, — с улыбкой возразил Савченко. — Столько лет!.. Я, конечно, понимаю ваше нетерпение, но… Нынче, мне кажется, день-другой уже роли не играет.
Трояновский, покосившись на спутника, освободил свою руку:
— Вот как? Не играет, вы говорите? А мне, молодой человек, уже восьмой десяток пошел, между прочим, уже восьмой десяток, да-с!
Он быстро засеменил к поджидавшей его машине. А Савченко, оставшись один, опять подумал, что подбросить патрон в шихту невозможно, что чекисты вообще могут предложить провести плавку в другой печи. Савченко почти физически чувствовал, как чья-то сильная рука путала все его карты, замыслы.
* * *
Все ближе и глубже знакомясь с тем, что было сделано лабораторией профессора Трояновского, Пылаев яснее осознавал значение этой работы. Он понимал, что иностранная разведка не остановится ни перед чем и попытается, если уж не овладеть монопольно секретом сплава, то хотя бы раскрыть его или, по крайней мере, сорвать намеченные институтом планы. Можно с уверенностью сказать, что сфотографировать документацию ей не удалось: Похвиснев был арестован вовремя. Что еще предпримет враг? Взрыв лаборатории? Вряд ли это возможно. Покушение на Трояновского или его ближайших сотрудников? Пылаев приказал организовать их охрану: теперь, куда бы они ни шли, чтобы ни делали, оперативные работники незримо присутствовали рядом.
Окидывая мысленным взглядом всю систему охраны, все принятые меры, Пылаев возвращался к плавке. Он нарочно попросил Трояновского отсрочить ее: пришлось, правда, выдержать целую бурю, но это все-таки лучше, чем ставить под удар крупное государственное дело. Неясность положения должна заставить врага сделать решительный шаг и таким образом как-то выдать себя.
Однако и долго оттягивать плавку было нельзя. Пылаев решил поговорить с Трояновским по душам: пусть старик не нервничает и проводит плавку завтра, в воскресенье. Удобный день: Савченко на заводе не будет.
* * *
Плавка прошла удачно, и Трояновский был счастлив. Он держал в руках брусок металла — не очень тяжелый, словно таящий в себе тепло печи, — вертел его, подносил к глазам, гладил, словно не в силах еще поверить, что долгий труд окончен.
Сотрудники центральной лаборатории, конечно, радовались не меньше, но его радость была особенной, выстраданной. Домой он вернулся почти разбитый: стариковское сердце не выдерживало волнений. Глаше пришлось вызвать врача.
О том, что плавка состоялась, Савченко узнал на следующий день, и не злоба, не досада вспыхнули в нем, а страх. Пожалуй, теперь уж сомнений не оставалось — его «опекают». То, что плавку провели без него, тогда как Трояновский так настойчиво говорил о его непременном участии, было тому доказательством. Он растерялся. Формулы были закрыты сейчас для кого бы то ни было, наивно предполагать, что к ним может пробраться человек со стороны, хотя бы и сотрудник института. Единственный человек, который может достать формулы, — Трояновский. Но бессмысленно даже думать об этом.
Сейчас Савченко чувствовал себя и одиноким и беззащитным. Бежать? Граница недалеко, но если за ним следят, это безумие. Да и с чем он придет — он, отлично законспирированный агент, не оправдавший надежд? В разведке не любят таких сотрудников: от них избавляются просто.
Савченко старался взять себя в руки, не нервничать и взвесить все трезво. Ну хорошо: Тотера, по всей видимости, нет. Как он предполагал, «художник» живым не сдался. Значит, нет и ниточки, следа, ведущего к нему, Савченко: мертвые не говорят.
Дальше. Если бы чекисты знали что-нибудь определенное, они бы его арестовали: так спокойней. Раздумывая, Савченко приходил к выводу: нет, я в тени, меня обвинить не в чем.
Тогда он успокоился. Со временем удастся достать образец сплава для анализа, и пусть Запад этим и ограничится. В конце концов поймут же там, что агент — человек, а не иголка, и не может он пролезть в замочную скважину сейфа.
18
Весна, весна!.. Еле уловимые приметы ее угадывались во всем. Люди, выходя на улицу, с улыбкой подставляли лицо теплому, пахнущему талым снегом ветру. Пожалуй, только работники пылаевской группы не радовались весне: время шло, истекал срок следствия, предусмотренный кодексом, — а в руках следователей еще не было того, что они искали.
Черкашин был недоволен затяжкой расследования. Пылаева он вызывал часто, чаще, чем обычно, и тот всякий раз шел к нему так, будто его ожидали бог весть какие неприятности.
По особых неприятностей не было. Генерал просил его рассказывать — что нового, а потом шагал по кабинету: так легче думалось.
Как-то раз Пылаев предложил арестовать Савченко и вести открытое следствие. Генерал, круто повернувшись, остановился перед ним:
— Легкого пути ищете? А потом — кто вам разрешит арестовать его? У вас нет улик. Так что отпадает… Какие дополнительные меры приняты вами по наблюдению?
Пылаев нехотя перечислял: в соседней квартире поселился сотрудник, следит за теми, кто приходит к Савченко. Постоянное наблюдение ведут сотрудники оперативного отдела. Генерал ходил, слушал, кивал и ни к чему не мог придраться…
* * *
Савченко продолжал жить ровной, размеренной жизнью. Сейчас, с гибелью Тотера, оборвалась единственная нить, связывавшая его с другим миром. Рано или поздно, разумеется, эта нить будет восстановлена, к нему придут; не такие нынче времена, чтобы разведка легко разбрасывалась своей агентурой. Но только это случится позже, когда все успокоится.
Но связь пришла скоро и совсем неожиданно. В выходной день он гулял с дочкой, заходил в магазины, накупил ей игрушек. Они уже шли домой, когда с ними поравнялся высокий сухощавый мужчина. Он скользнул взглядом по Савченко и, поглядев на него еще раз, уже внимательнее, воскликнул:
— Господи, неужели это ты!
Затем он, широко и счастливо улыбаясь, обнял Савченко. Легким шелестом прозвучали слова:
— Твердый сплав. Константин Лаврентьевич. Из Нейска…
Савченко, чуть отстранившись, еще несколько секунд вглядывался в лицо незнакомца, а потом нерешительно спросил:
— Костя?
— Ну да! Не узнал сразу, а?
Они хлопали друг друга по спинам, ощупывали один другого, и Костя без умолку говорил, что он искал Савченко, но ему сказали, что того видели в последний раз в рабочем отряде, в Нейске.
— Я уже думал: тебя нет в живых. Ты что ж, с рабочим отрядом отступал?
— Нет, ушел в партизаны… Да это долгая история…
— Потом, потом, — замахал руками Костя. — А это, конечно, наследница? А ну-ка, покажись, дочка. Ох, какая она у тебя!
Константин Лаврентьевич, взяв Савченко под руку, пошел с ним, сияя от счастья. Каждый понимал — встретились старые, много лет не видевшиеся друзья. И теперь, по дороге к дому Савченко, Константин Лаврентьевич без умолку рассказывал о том, что работает он сейчас в Уфе, на одном из заводов, сюда приехал с профсоюзной делегацией — обмениваться опытом. Он говорил только о себе, упомянул вскользь свою фамилию — Королев и вспомнил какие-то подробности их совместной работы в Нейске, когда он, Королев, был диспетчером. У Савченко он не спрашивал ничего, и тот догадался, что Королев узнал о нем все, а сейчас, на всякий случай, сообщает сведения о себе — все-таки «друзья» еще с довоенных лет.
На лестнице Савченко шепнул Королеву: никаких деловых разговоров, возможно подслушивание, слежка. Тот кивнул и спросил: «Где Тотер?»
— Провалился. Я успел уйти. Кажется, вне подозрений. У вас все чисто?
— Все. Потом…
На лестничной площадке Королев уже басил:
— А ну, открывай, показывай свои хоромы… Погоди, а в магазин-то мы не зашли! Полагалось бы по такому случаю…
— У меня есть, — поворачивая ключ, ответил Савченко. — Настоящий ереванский, жена с гастролей привезла еще прошлым летом…
* * *
Пылаев читал донесение одного из оперативных работников и пытался представить себе — что это? Действительно ли встреча двух старых друзей или тонко разыгранная сценка?
Часу в седьмом в кабинете Пылаева зазвонил телефон:
— Товарищ подполковник? Это Мызников говорит. Поехали на машине втроем: он, гость и девочка. Кажется, в сторону Северного шоссе.
— Хорошо, — ответил Пылаев.
Он тут же набрал другой номер: в ОРУДе машина Савченко была на учете, сейчас Пылаев только сообщил, чтобы посты усилили наблюдение на пригородных шоссе.
— Видишь, что получается, — сказал он Шилкову. — Все мило и мирно: друзья встретились, выпили, поехали кататься, взяли с собой малыша. Все хорошо! А ведь только в машине они гарантированы от того, что их могут услышать. Да, много бы я отдал, чтобы быть сейчас там…
— Но девочка…
— Пустое. Они найдут способ отвлечь ребенка. Одна шоколадка — и ей будет ровным счетом все равно, о чем шепчутся взрослые.
Шилков промолчал. Конечно, никто не будет спорить с тем, что враг хитер. Но неужели нельзя за длинный ряд долгих — очень долгих недель уличить по сути дела уже обнаруженного врага, схватить его? Может быть, они просто чего-то не додумали?
— Что невесел? — пошутил Пылаев.
— Да так. Все ли мы сделали, товарищ подполковник?
— Нет, не все.
Шилков оживился:
— Я тоже так думаю.
— Вот и позвони домой Трояновскому и узнай, как старик себя чувствует. Он будет очень доволен. Любит поговорить. Кстати, проверь, как охраняется его квартира. Сейчас нельзя ручаться ни за что. И, возможно… — он не договорил.
Шилков видел перед собой прежнего Пылаева, веселого, с лукавой усмешкой, — такого, каким Шилков не видел его давно и каким он бывал всегда, когда дело шло хорошо.
— Вы что-нибудь знаете, товарищ подполковник?
— Что-нибудь да знаю, — ответил тот. — Таблицу умножения например, грамматику… Тебя еще знаю.
— Нет, я серьезно.
Пылаев, все еще продолжая посмеиваться, положил локти на стол и перегнулся к помощнику:
— Будто бы ты сам не знаешь того же, что знаю я.
— Но этого еще мало!
Подполковник взглянул на часы:
— Недолго ждать, увидим. Ты понимаешь — сейчас это и для него решающие часы.
* * *
Еще вчера в своем «BMW» Савченко рассказал Королеву все, кроме того, что он сам выдал Тотера.
— Откуда же вы знаете, что он провалился? — спросил Королев, косясь на заднее сиденье, где спала девочка.
— Он назначил мне встречу и не пришел. Он должен был передать мне все для взрыва. Не пришел он и потом…
Королев долго молчал, и Савченко начал злиться: время дорого, не могут же они кататься так до бесконечности и мозолить глаза ОРУДу. Их тут на каждом шагу, как грибов после дождя, понаставлено.
— Вот что, — тихо сказал Королев. — Давайте обсудим все до мелочей. Вы попали в поле розыска. Скажу вам больше: мне в Уфе тоже делать нечего, нас там прижали, за последнее время — два провала. Хорошо еще, не я вербовал… Сейчас нас, разведчиков, вызывают в Гамбург — поедем вместе.
— На «BMW»? — усмехнулся Савченко. — В какую сторону прикажете ехать?
— Не паясничайте, Савченко, сейчас не до шуток. Не сегодня-завтра вы сможете оказаться в таком месте, откуда путь один — на тот свет. Надеюсь, вы туда не очень торопитесь.
Савченко думал: этот Королев так напуган чем-то, что готов, наверно, вплавь добираться до Гамбурга. Что же произошло? Почему он так торопится удрать? И надо ли бежать с ним — конечно, в том случае, если он предложит реальный план.
— Через границу идти — бессмыслица, — заметил он.
— А мы и не пойдем через границу. Есть более… современные способы. Но один я ничего сделать не смогу. Вы сможете достать образец сплава?
— Образцы охраняются… Требуется время.
— Вам это даст толику денег. Потом придется перебираться обратно. Надеюсь, вы это понимаете?
Савченко кивнул. Его раздражала королёвская манера разговора: точно так же, с чувством явного превосходства, с ним разговаривал Тотер. По всей видимости, Королев — тоже немец: у них есть эта черта — смотреть на других свысока, Хотя чего теперь-то важничать — не они теперь хозяева: за «PN и К°» Савченко видел другую силу, тщетно пока пытаясь представить себе, какие они, те люди.
Словно издалека доносился голос Королева:
— Сейчас другие времена… От нас требуется иное, чем во время войны. Мы становимся разведчиками мирных лет, а это значит, что методы меняются. Вы в общем-то верно угадали дух времени: сверхосторожность. Мы еще пригодимся, когда начнется война. Но тогда мы будем действовать иначе. У наших нынешних хозяев размах куда больший, чем у второго отдела генштаба.
Савченко все кивал, удивляясь одному: этой разговорчивости. Какого дьявола понадобилось Королеву читать политграмоту? Что он, Савченко, газет не видит в конце концов? А Королев продолжал все так же ровно и тихо:
— Перед агентурой будут в скором времени поставлены необычайно серьезные задания. Мы должны будем ослабить эту страну так, что она рассыплется от первого же удара. Наш шеф говорил, что Россия перед третьей мировой войной должна быть похожа на стол, который источен жучком. С виду вроде бы крепкий, а толкнуть — и он рассыплется в труху… Вы пройдете в Мюнхене соответствующую политическую подготовку, и многое для вас станет более ясным.
Он сообщил Савченко о своем проекте, и тот пришел в восторг. В самом деле — как просто! Закупить в аэрофлоте билеты на самолет для делегации, а сесть вдвоем! Он не сомневался в том, что под дулами двух пистолетов летчики повернут и поведут самолет хоть на Северный полюс. Оставалось одно: в ближайшие же дни добыть образец сплава…
Когда Савченко увидел, что возле обочины шоссе стоит, подняв руку, офицер-орудовец, он невольно вздрогнул. Ему показалось, что вот сейчас все кончится, и не будет завтрашнего дня, когда он сможет вздохнуть свободно, впервые за много лет почувствовать себя вне опасности.
Но орудовец нагнулся к нему и, заглядывая в глубь машины, принюхался: не пахнет ли спиртным, — потом посмотрел права и, козырнув, отступил обратно, к обочине.
— Я думал — придется стрелять, — вытаскивая руку из-за борта пальто, выдохнул Королев. — Но он, кажется, всего-навсего милиционер.
Но они не видели, что, подойдя к столбику, спрятанному в кустарнике, сотрудник ГАИ Фролов вынул из кармана трубку, размотал шнур и вставил вилку в розетку.
— Коммутатор госбезопасности… Двадцать седьмой. Товарищ подполковник? Фролов говорит. Да, все в порядке, поехали обратно. Нет, скорость нормальная, но лица взволнованные. Второй держал руку за отворотом пальто, пока я проверял права…
* * *
Поздно ночью Савченко вышел из гостиницы от Королева. Мучительные раздумья о том, как достать образец сплава, кончились: Королев внезапно предложил другой план, опять удививший Савченко своей простотой.
Образец доставать не надо. Пройдет немного времени, новый сплав широко пойдет в производство, и тем легче будет достать образец. Ну, месяц, два, три — и в лабораториях на Западе такие образцы появятся. Так даже лучше: не надо рисковать хорошим агентом (Савченко при этих словах внутренне содрогнулся: как примут меня там — ведь по сути ничего не сделано! Может, не бежать? Нет, бежать обязательно, конспирация уже нарушена…).
— Значит — надо попробовать сделать то, с чего и предполагалось начать операцию: завербовать Трояновского.
Савченко сначала замахал руками:
— Что вы! Этот человек нам не по зубам.
Королев усмехнулся:
— Надо достать записку от его сына. Мы ему предложим выбор — формулы или жизнь сына.
— Глупости. — Савченко уныло отвернулся. — Покойники записок, по-моему, не пишут.
— За них пишут другие, — пожал плечами Королев. — У вас есть хоть несколько строчек, написанных рукой младшего Трояновского?
Он был немногословен теперь. В квартиру они войдут после предварительной подготовки. Нельзя, чтобы в это время там были посторонние, — это важно, так как, возможно, беседа будет шумной. Потом — если старик не согласится, его надо убрать. Все это — за час, ну, от силы полтора до вылета. Билеты на самолет заказаны и будут у них завтра.
…Савченко не ходил теперь на завод — взял отпуск. Когда сотрудники отдела сообщили об этом Пылаеву, тот задумался: зачем ему это?
Теперь подполковник почти не выходил из своего кабинета. На столе перед ним лежала бумага, и на ней росла колонка записей — донесения о том, что делают Королев и Савченко.
А они вроде бы не делали ничего лишнего. Королев с утра был на заводах со своей делегацией, а вечером гулял по городу.
Королев, правда, явно сбивал со следа. Он пересаживался с одного автобусного маршрута на другой, делал вид, что собирается сесть в трамвай, — и оставался на остановке, колесил по городу на такси. Два раза ему удавалось уйти из-под наблюдения, но ненадолго.
Пылаев, изучая донесения, все больше и больше убеждался в том, что все это — старые и давно изученные уловки.
Но вот еще одно донесение… Шилков сообщает, что Королев зашел в магазин медицинских товаров и купил фонендоскоп. Зачем ему понадобился этот фонендоскоп? А хотя, быть может, для жены: в сведениях, присланных из Уфы, говорилось, что он женат на враче заводской поликлиники. Утром Пылаев из дому позвонил в управление и передал дежурному: «Буду у профессора Трояновского. Его телефон 2-41-78. Жду донесений».
…Трояновский спал. Подполковник, укоризненно показав Глаше на телефон, снял с дивана несколько подушек и «закутал» ими аппарат. Потом на цыпочках он вышел в кухню и, повинуясь Глаше, сел на табурет.
Далекий звонок словно бы подбросил его: звонил телефон, закрытый подушками. Осторожно Пылаев вошел в комнату; Трояновский не проснулся. Подполковник снял трубку и опросил почти шепотом:
— Кого вам?
— Товарищ Пылаев? Говорит Громов.
— Я слушаю.
— Только что звонили с вашего объекта. Возле него появился первый.
— Пусть следят, — прошептал в трубку Пылаев. Так, это уже определеннее: «наш объект» — дом профессора Трояновского, «первый» — Савченко.
Значит, хорошо работают ребята, выделенные на охрану Трояновского. Видимо, Шилков сейчас с ними, мерзнет в какой-нибудь подворотне…
* * *
Королев и Савченко, прежде чем приступить к делу, тщательно выверяли «подходы» — то есть изучали, нет ли западни около дома Трояновского.
Мысль войти к Трояновскому под видом врача пришла Королеву не случайно. В самом деле — как удобно получается: он входит к больному, и пока идет процедура осмотра — выясняется обстановка. Савченко приходит на несколько минут позже. Если почему-либо неудобно будет начать разговор с Трояновским — они уйдут; у Глаши это не вызовет подозрений. В самом деле, какие подозрения — врач пришел к больному, и тут же — старый знакомый, пришел проведать.
Но когда настало время идти, Королев занервничал. Черт его знает, что это за старик. Если поверить Савченко — профессор сам отлит из этого твердого сплава. Королев, проживший в России немало времени, хорошо знал такую породу людей. Там, в Уфе, двое квалифицированных агентов провалились на вербовке: сопляки, мальчишки, любители выпить и пошуметь оказались хитрее воспитанников Орденбургской школы[2]…
В подъезд он вошел, держа руку в кармане, спустив предохранитель пистолета. На лестнице никого не было. Он позвонил у дверей Трояновского и поглядел на часы: до отлета оставалось час пятнадцать минут; Савченко придет через десять минут. За ним никто не следил, это точно: Королев, прежде чем идти сюда, пустил в ход все меры предосторожности. Он пробегал через дворы, стоял за выступами стен, за поленницей, чтобы столкнуться с чекистами лицом к лицу, — но никаких чекистов не было. Он успокоился окончательно…
За дверью раздались старческие, шаркающие шаги; Глаша спросила: «Кто там?» — и Королев ответил, стараясь говорить как можно деловитее: «Из районной поликлиники».
Войдя в прихожую, он сразу же закрыл дверь: не стоит ли за ней кто-нибудь?
— Как чувствует себя больной?
— Что?
Пришлось спрашивать громче. Домработница замахала руками:
— Да неважно, неважно. Динама у него, говорит, ослабела.
Королев улыбнулся — вежливо, как и полагается врачу. К Трояновскому он вошел, на ходу доставая из кармана фонендоскоп.
— Здравствуйте.
— Добрый день. Но… Обычно была врач… женщина…
— Да, да. Она захворала сама — грипп, знаете ли. Когда она вас смотрела? Кажется, позавчера?
— Да.
— Она была недовольна вами.
Королев придвинул к дивану, на котором лежал Трояновский, свой стул и сел, опустив руку в карман: он успел переложить пистолет в пиджак еще там, на лестничной площадке. Внезапно он спохватился: «Простите, одну минутку, совсем забыл…»
Он вскочил и, быстро подойдя к портьере на Дверях, отделяющих кабинет от столовой, рывком откинул ее и заглянул в соседнюю комнату. Пусто.
— Простите, мне почему-то казалось, что телефон у вас там. Обычно телефон не держат в одной комнате с больным. Разрешите позвонить?
— Да, да, пожалуйста.
Королев набрал номер и досадливо поморщился: занято. За эти минуты он прислушивался, не подошел ли кто-нибудь к дверям. Нет, все было тихо в квартире. Глаша на кухне что-то жарила: пахло топленым маслом. В ванне заурчала вода… Королев, снова сел рядом с диваном, скомкал фонендоскоп и сунул его в карман:
— Ну-с, а теперь поговорим о деле. Для начала, профессор, уговор — не волноваться и в обморок не падать. Вот письмо от вашего сына. Он жив, здоров, и его счастье зависит от вас…
* * *
Сутки назад, придя к Трояновскому, подполковник Пылаев не предполагал, что развязка, к которой он упорно шел, наступит так быстро. После сообщения Громова Пылаев, подумав, позвонил в управление:
— Снять группу охраны. Всю группу давайте на квартиру. И Шилкова обязательно.
Профессор не понимал — что же произошло. В квартире было пятеро чекистов, они тихо сидели в соседней комнате, выходили на цыпочках покурить на кухню. Трояновский убеждал Пылаева: места в квартире много, пусть люди поспят. Пылаев только улыбнулся ему одними глазами: нельзя.
— Со мной что-нибудь должно произойти? — спросил Трояновский.
— С вами — нет.
— Больше вы ничего и не скажете, — шутливо согласился профессор. — Поэтому давайте-ка играть в шахматы…
Прошли сутки. И вот — этот звонок в прихожей.
Все места были уже заранее распределены. Комната, где лежал профессор, имела две двери — в коридор и в столовую. В самой комнате, между стеллажом и кафельной печкой, был неширокий простенок, закрытый спинкой вольтеровского кресла: это место выбрал себе Пылаев. Оно было и наиболее опасно: в случае чего, он появлялся раньше других, и если Королев выстрелит — с трех метров промахнуться трудно.
…Звонок раскидал всех по местам. И когда Пылаев, подняв на уровень груди пистолет, замер и услышал незнакомый голос, он понял, что сегодня все должно кончиться.
Все случилось так быстро, что потом Пылаев так и не мог вспомнить деталей — как же это произошло. На Королева навалилось трое. Сильный человек, он, пожалуй, долго бы сопротивлялся, но когда щелкнули наручники, сообразил, что теперь уже все кончено.
В свалке пострадал маленький Мызников: шпион оттолкнул его так, что, падая, Мызников разбил себе подбородок о ножку стола.
Савченко взяли уже совсем спокойно, едва тот вошел. Он даже не сделал движения, чтобы защититься. А торжествующий Шилков, вытащив у него из кармана пистолет, подбросил его несколько раз на ладони и с нескрываемым ехидством спросил:
— Это, по-видимому, зажигалка? Или подарок больному учителю — профессору Трояновскому, а? Что же вы сейчас молчите, Савченко? Вы всегда были словоохотливы.
— Я скажу… все, — глухо ответил Савченко.
19
Пылаев напомнил Савченко, что только искренние показания могут облегчить его участь. Савченко судорожно глотнул и поспешно ответил: да, да, я знаю. Но вел он себя все-таки странно, и Пылаев догадался: хочет выяснить, что известно чекистам. Что ж, поборемся и теперь, благо время есть…
Савченко рассказал, что, судя по всему, Тотер все-таки передал одному из своих об удачной, на его взгляд, вербовке. Ничем иным нельзя объяснить такое быстрое появление связного. Да, он, Савченко, испугался: ему пригрозили смертью, если он не согласится бежать за границу. Пылаев терпеливо записывал все это, давал подписывать Савченко, и тот, прочитывая протокол, торопливо добавлял:
— Я прошу учесть: я не сопротивлялся. Честное слово, я даже не умею стрелять… Я говорю вам сейчас правду — именно потому, что от нее зависит моя жизнь.
Пылаев записал и это. Внезапно он почувствовал страшную усталость. Казалось, что глаза ему засыпали колючим сухим песком, так что до воспаленных век больно было дотронуться. Он нажал кнопку и вызвал часового:
— Уведите арестованного.
Оставшись один, он долго сидел, положив голову на ладонь, и чувствовал, как на виске под кожей гулко пульсирует кровь. Показания он отложил в сторону: к ним незачем возвращаться, все это вранье, и, кажется, врать Савченко будет довольно долго.
Телефонный звонок прозвучал где-то далеко-далеко. Пылаев нехотя снял трубку: звонила Лена, беспокоилась, почему он задерживается. Он улыбнулся — пожаловались вместе с матерью Черкашину, тот «дал команду» напоминать Пылаеву о том, что он нездоров, всякий раз, когда тот будет засиживаться на работе. Черкашин сказал так: «Если долго сидишь — значит, плохо работаешь».
Тут же Пылаев позвонил ему. Генерал, впрочем, был у себя и, услышав, что подполковник уже встречался с «объектом», приказал зайти. «Домой поедем вместе», — сказал он.
Войдя в кабинет, Пылаев молча протянул ему листки протокола. Черкашин долго и аккуратно надевал очки, пододвигал удобнее лампу и, начав читать, ругнулся:
— Ах, как складно брешет, сукин сын! Ведь это все брехня, ты как думаешь?
— Брехня, — согласился Пылаев улыбаясь.
— Ну, а если так, то и читать нечего. — Черкашин бросил листки на стол. — Что же ты можешь ему предъявить? Рассказывай.
Пылаев задумался. Перед ним прошли все дни следствия, начиная от той самой минуты, когда на дальней заставе он впервые взял в руки портсигар с монограммой «ВТ», записку, паспорт… И до этого дня, когда он увидел Савченко у себя в кабинете, — не прежнего, собранного и самоуверенного, а какого-то сразу обмякшего и повторяющего уныло: «Я говорю вам правду — именно потому, что от нее зависит моя жизнь».
— Что я могу ему предъявить? Шпионаж и диверсию. Кстати, лаборанты доказывают, что царапины на ключе от кабинета Трояновского сделаны в одном направлении — такие получаются от «уистити». Значит, все-таки он снял слепок с ключа от сейфа, а потом, снова закрыв дверь, побежал к коменданту… Да, все, что было неясно, встало на свое место. Главное, мне совершенно ясен его метод: он — шпион-одиночка, связанный только с таким же, как он, агентом. Такая система обеспечила ему неплохую конспирацию. Посмотрите: улики ведут к нему, ведут — и обрываются. Кто мог узнать о случае с Похвисневым? Только он. А как хитро сделано: он передает все сведения другому, тот вербует. Похвиснев вовсе не догадывается о том, что Савченко, его приятель, сыграл здесь первую роль.
Черкашин перебил его:
— Погоди, погоди… Это все детали, это ты все прокурору будешь говорить. А вот тебе придется писать докладную в Москву. У тебя есть общая схема — кто, откуда, связи, принадлежность?
Пылаев кивнул. Но ответил он не сразу, и то вопросом на вопрос:
— Вы помните, я вам говорил об электрических бритвах фирмы «PN и К°»? Фирма, имеющая агентуру, — не новость. А деньги, связи — от ее хозяев. «PN и К°» опять перешла на выпуск пушек, и делается это, надо полагать, не на оккупационные марки. Подробности даст допрос.
* * *
Теперь Пылаев и Шилков могли работать спокойно, — иными словами, не спешить ни с допросами, ни с выводами. Улики против Королева и Савченко были настолько вескими, что задержанных можно было отправлять под суд немедленно. Однако Пылаев любил во всем «докапываться до корешка» и теперь, допрашивая арестованных, сличая показания, записывал вопросы, которые надо будет задать при следующей встрече, и снова сличал протоколы.
Как он и предполагал, Савченко не мог долго изворачиваться и лгать. О себе он рассказал все — начиная с того самого момента, когда его вызвали в полицейский участок на Вильгельмплац… И тем не менее Пылаев видел, что новые показания Савченко хоть и отличаются от прежних, но все-таки таят в себе какую-то недоговоренность. По его мнению, Савченко пытался создать наиболее удобную для себя версию случившегося.
Эта версия была куда как нехитра: да, меня завербовали. Работать я не хотел. После того как пришлось сообщить германской разведке об испытании твердого сплава на Нейском комбинате, действительно решил начать новую жизнь, Переехал на Урал. Там нашли все-таки связные и велели перебираться сюда, поближе к Трояновскому.
Получалось, что Савченко играл пассивную роль. Что ж, это был верный расчет: меньше ответственности. Но именно потому Пылаев ему не верил.
Королев — тот просто отказался отвечать. Это было для Пылаева симптоматично. «Хорошо законспирирован, — думал он. — Не боится. Но и это до поры до времени».
— У вас почти нет материала против меня, — нагло утверждал Королев.
— Покушение на жизнь профессора Трояновского, политический шантаж, незаконное хранение оружия уже доказаны, кажется?
— Вам этого мало. Вас интересуют мои связи, прошлое, агентурная сеть. Без этого вы меня не отправите к господу богу.
Действительно, чекистам нужно было знать все это, и дело Королева было передано на расследование уфимским товарищам.
Пылаев и Шилков испытывали теперь примерно одно и то же чувство: гора с плеч… В самом деле, первые два дня Пылаев просто не верил самому себе, что главная часть следствия уже позади и что он может по-прежнему сдерживать себя, когда захочется поторопиться без особой надобности. Но и торопиться ему не хотелось. Разглядывая сидящих перед ним людей, он с удовольствием отмечал, что нервы у него не напряжены, хотя приходится внимательно следить за каждым словом — своим и чужим.
Шилков — тот, попросту говоря, цвел. В шесть часов вечера его уже в управлении не было; перед этим он заходил к Пылаеву, прощался с ним и на вопрос «где вас, в случае чего, искать?» бормотал что-то невразумительное. Пылаеву нравилось это смущение, и он не мог удержаться от того, чтобы не пошутить:
— В ЦПКиО? Это на крайней аллее, наверно? Я знаю, там обычно безлюдно.
— Товарищ подполковник! — взывал Шилков.
— Неужели ошибся? Прости, дорогой: буду искать в последнем ряду кинотеатра «Арс».
Шилков уходил, улыбаясь, а Пылаев глядел в окно и видел, как он переходит улицу и встает в очередь на автобусной остановке. Хорошая эта штука — молодость!
И все-таки один раз Пылаев взволновался — взволновался так, что, вернувшись домой, долго не мог успокоиться: пришлось выйти и прогуляться по вечерним, сырым улицам.
У Савченко был обыск. Оперативные работники вместе с Пылаевым приехали ранним утром. Вместе с понятыми — управдомом и дворником — они поднялись к дверям савченковской квартиры, и Пылаев позвонил.
— Кто там? — спросил за дверью мелодичный, знакомый Пылаеву голос.
— Откройте, пожалуйста, — попросил управдом.
Там, за дверью, лязгнула задвижка, и Татаринова, в пестром халатике — надо полагать, разбуженная звонком, — полуиспуганно, полувопросительно взглянула на подполковника.
— Вы… к нам?
— Да. Гражданка Татаринова? Разрешите…
Еще ничего не понимая, актриса пропустила чекистов в переднюю. Смущенные управдом и дворник, переминаясь, остались стоять на площадке.
— Заходите, заходите, — пригласил их Пылаев.
Он протянул Татариновой ордер на обыск. Женщина взяла его в руки, прочитала и побледнела.
— Что… что он сделал? Я только сегодня вернулась…
Пылаев кивнул: потом. Бледная, с твердо сжатыми губами, Татаринова открыла перед чекистами дверь в комнату. Пылаев и Татаринова остались в прихожей.
Подполковник осторожно подвел женщину к небольшому диванчику; она села.
— К сожалению, я не могу рассказать вам многого. Но главное то, что ваш муж… чужой человек. Вот этим-то и вызван наш приход. Скажите, вы сами… никогда ничего не замечали?
Она словно не слышала вопроса. Сдвинув брови, она смотрела прямо в глаза Пылаеву, и он выдержал этот скорбный и вместе с тем испытующий взгляд.
— Вы убеждены, что он… враг? — тихо спросила она. — Есть ли у вас доказательства его вины? Мы прожили много лет, и я всегда знала, чем он занимается.
— Значит, не всегда, — мягко ответил Пылаев. — И мы ведь тоже многого не знали о нем… до последнего времени.
— Но что, что? — в отчаянии снова спросила женщина. Она поднесла руки к голове, и Пылаев ласковым движением отвел их.
— Этого я не могу вам оказать… Я очень уважаю вас, Мария Сергеевна, но… Сами понимаете, отвечать на ваши вопросы я не имею права…
Он не договорил: в прихожую вошел смущенный Мызников и, нагнувшись, прошептал на ухо Пылаеву несколько слов. Пылаев нахмурился:
— Нет, нет, ни в коем случае… И — абсолютно тихо.
Мызников ушел. И если до сих пор оттуда, из первой комнаты, доносился шум передвигаемой мебели, то теперь все стихло. Татаринова сидела, словно прислушиваясь к тому, что делается там. Вдруг она встала; Пылаев поднялся за ней. Женщина быстро вошла в спальню, где бесшумно двигались чекисты. Нагнувшись над детской кроваткой, она взяла на руки спящую девочку и, указав глазами на матрац, сказала:
— Ищите и здесь.
— Может быть… — шепотом начал Мызников.
— Ищите… — повторила Татаринова.
Теперь перед Пылаевым стояла не ошеломленная, не растерянная, а волевая и спокойная женщина. Только, быть может, она была бледнее обычного, да на девочку она глядела как-то особенно — с затаенной в глубине глаз грустью. Пылаев понял ее.
— Славная у вас дочка… Но вырастет — и не надо ей ничего знать об отце. Пусть будет счастлива.
— Да, — выдохнула Татаринова. — Она ничего не будет знать о нем… Хотя это так… трудно.
…Первая удача выпала на долю Мызникова. В печке, между приготовленными к растопке поленьями, среди пустых пачек от «Беломора», окурков и лучин, он нашел несколько листков скомканной бумаги. На листках были написаны какие-то неоконченные фразы, отдельные буквы. Мызников показал находку Пылаеву.
— Это кто-то другой писал, не Савченко. Смотрите, чернила зеленые, от авторучки. А вот, — Мызников подошел к письменному столу, — клякса на чистом листе.
Пылаев наклонился, рассмотрел кляксу, и интерес его исчез. Он уже почти не слушал Мызникова, продолжавшего говорить:
— Ясно, что этот «кто-то» тряхнул перо, а потом пробовал, как оно пишет. Фразы эти… что они обозначают? «В сельскохозяйственной артели имени Буденного идет подготовка…»
Пылаев нехотя взял листок у Мызникова.
— Чего вы вцепились в эту бумагу? Это Королев писал, у него авторучка с зелеными чернилами.
— Так и я об этом. — Мызников смутился, но быстро нашелся: — А вот откуда Королев списывал эту фразу. — И Мызников торжествующе взял со стола газету.
Но Пылаев опять его уже не слушал. Он сосредоточенно рассматривал листки, вглядываясь то в один, то в другой. Фразы повторялись, но буквы были написаны по-разному. Где он видел уже и этот почерк и этот цвет чернил?
Пылаев повернулся к Татариновой:
— Скажите, это вы приготовились топить печку?
— Нет, я еще не успела. — Татаринова смотрела на спящую дочку и, не поднимая головы, добавила: — Это он приготовил.
Пылаев кивнул и, обращаясь к Мызникову, показал ему один из листков:
— Надо найти бумаги с таким почерком. Один-два листка. Чернила могут быть другие, а может и карандаш…
Пылаев нервничал. Ему хотелось как можно скорее найти подтверждение только что возникшей догадки. И он тоже стал снимать с полок книги, перелистывать их, рыться в письменном столе, перебирая бумаги.
Прошло два часа. Наконец кто-то протянул Пылаеву инструкцию по эксплуатации радиоприемника. Пылаев раскрыл брошюру — там лежал тетрадный листок в клеточку, исписанный формулами.
— Где это было?
— Под приемником.
Пылаев посмотрел на листки долгим, словно остановившимся взглядом, потом сказал очень тихо:
— Ну, вот и все, товарищи…
* * *
Пылаев вызвал Шилкова после обеда. На столе перед ним лежали два листка в клетку и заключение экспертизы. Пылаев зябко потирал руки, будто только что долго стоял на холодном ветру.
— Вот, смотри. Этот листок с формулами Савченко вырвал, а потом использовал на заводе — помнишь его рацпредложение? Здесь расчеты Трояновского, его мысли. Посмотри теперь, капитан, на другой листок. Повнимательней посмотри.
Шилков подвинул к себе бумагу и наклонился, опираясь на руки. На листе было написано:
«Дорогой отец! Я уже не участвую в войне, я нахожусь в плену. Пользуюсь случаем, чтобы сообщить тебе об этом. Береги секрет твердого сплава. Не верь, что наша страна победит. К тебе придет мой друг Савченко, доверься ему, он передаст сплав тому, кто по достоинству оценит это открытие. Владимир».
Шилков почувствовал, что бледнеет. Он еще раз прочитал написанное и задумался.
— Значит, Трояновский попал в плен. И там был Савченко… Товарищ подполковник! А Савченко, стало быть, если он видел его смерть…
— Да, это тоже верно. Савченко был там. И если…
— Но в конце записки…
— Это нам все разъяснила экспертиза. Записку писал кто-то другой, примерно в сорок первом году. Это не Трояновский назвал Савченко другом. Молодой ученый написал бы совершенно иное.
— Почему же Савченко не отдал записку профессору?
— Вот об этом мы сейчас и спросим у Савченко. — Подполковник сложил листки и нажал кнопку.
Савченко вошел в кабинет, приветливо улыбаясь; весь его вид говорил, что теперь, мол, все уже известно, он откровенно рассказал о себе и ответит на любой вопрос с удовольствием. Подполковник снова зябко потер руки.
— Я хочу задать вам несколько вопросов.
— Пожалуйста.
— Почему вы не сразу пришли к профессору Трояновскому, после того как спаслись при разгроме партизанского отряда?
— Я уже говорил, что попал на Урал, где работал на заводе…
— Предположим. Теперь… Вам знакома, вероятно, эта бумага? — Подполковник протянул Савченко листок с формулами.
Савченко смотрел на формулы так, словно видел их впервые. Потом он, видимо, сообразил, что это глупо, и скривил губы в заискивающей и в то же время испуганной улыбке.
— Я вырвал этот листок из тетради. Это я подтверждаю. Знаете, мне очень хотелось сделать что-нибудь полезное на заводе, как-то немного выделиться. Но ведь мой поступок не так страшен?
И здесь, видимо, Савченко сообразил, что на столе перед подполковником лежит и другой листок. Тот самый листок, которого он боялся смертельно, который был у него спрятан в совершенно недоступном месте. Он вытащил его по настоянию Королева, когда тот потребовал образец почерка. Савченко приподнялся с кресла и, прижимая руки к груди, судорожным взглядом зашарил по столу. Подполковник молча показал ему рукой, чтобы он снова сел. Потом Пылаев опросил:
— Так где вы были перед тем, как прийти к профессору?
— Я понимаю, бессмысленно утаивать от вас и эту страницу моей биографии. Хорошо… Я тоже оказался там, в плену. И Владимир Трояновский на всякий случай дал мне записку…
— Подождите, Савченко. Не спешите. И думайте, когда говорите. Напоминаю вам, что в лаборатории у нас работают опытные люди.
Арестованный замолчал. Несколько минут в кабинете стояла тишина. Наконец Савченко разжал губы, облизал их, словно они нестерпимо горели, и сказал очень тихо:
— Теперь я скажу все, всю правду… Пока дела на фронте шли с успехом для немецкой армии, незачем было рисковать. Профессор мог попасть к нам, так же как и сын. Лишь после Сталинграда стало ясно, что так не случится. Но сфабрикованная для меня записка уже устарела. Теперь Королев попытался подделать другую, но… Остальное вам известно.
Пылаев не изменился в лице, только глаза его слегка прищурились.
— Да, теперь похоже, что вы говорите правду. Но должен вам напомнить, что теперь ваше признание уже не является добровольным, оно вынужденное, сделано под тяжестью улик.
Пылаев достал из стола пачку папирос, предложил Шилкову и долго ждал, когда у капитана зажжется дрожащая спичка. Он отобрал у Шилкова коробок, но и у него самого сломалось несколько спичек, пока, наконец, не вспыхнул на конце одной из них желтый мигающий огонек.
Эпилог
Уже знакомым путем Шилков дошел до дверей института и остановился. Ася была сейчас там, за одним из десятков или сотен окон этого огромного серого здания. Шилков припомнил, как он стоял здесь зимой, сам не зная, зачем он пришел, и ругательски ругал себя за этот приход…
Долетающий с моря легкий ветерок шелестел в верхушках деревьев, буйно разросшихся вдоль набережной. По реке, зеленой, как бутылочное стекло, шли буксиры. Они тянули в верховья тяжелые, неповоротливые баржи, и волна, доходя до парапета, рассыпалась миллионами легких брызг и глохла, замирала возле камней. Рыбаки-любители на набережной застыли возле своих «донок», вздрагивая всякий раз, когда звякнет колокольчик. Нет, это не рыба — это только волна тронула леску…
Теперь все было иначе. Сейчас он не испытывал того странного ощущения, которое появилось у него тогда: злой досады на самого себя и боязни показаться навязчивым. Сейчас он должен был встретиться с Асей, чтобы сказать ей все, потому что иначе он не мог поступить. Сказать ей, что он любит ее, что он сейчас — как водолаз, которому не хватает воздуха. Что будет, если она не ответит ему? Шилков старался об этом не думать.
Он просто хотел сказать ей, что любит, — об остальном же он не думал. Он хотел, чтобы Ася знала это, — и все…
По расписанию, висящему в вестибюле, он нашел номер аудитории, в которой Ася сдавала экзамен. Потом он поднялся на четвертый этаж и еще издали увидел ее в коридоре. Ася о чем-то оживленно разговаривала с ребятами, и Шилков догадался: «Сдала. Рассказывает». До него донесся нетерпеливый голос одного из студентов:
— Ну, а он что?
Ася сдвинула брови, насупилась и, явно подражая экзаменатору, грозно сказала:
— Могли бы и лучше, уважаемая. Но — отменно, однако.
Все рассмеялись. Случайно повернув голову, Ася увидела Шилкова и замерла. Они долго смотрели друг на друга. Ася первая шагнула ему навстречу:
— Это вы!
— Да. Вас можно поздравить?..
Шилков говорил это механически, как во сне, не замечая, что на него уставились десятки любопытных глаз. Он видел только Асю, ее лицо, и оно заслонило сейчас все вокруг.
Потом они шли по набережной, и Шилков осторожно взял девушку под руку.
— Ася!
— Что?
Шилков слова не мог выговорить сейчас. Девушка словно бы не замечала его смущения и ничем не хотела помочь ему. Полно, она сама ждала, что он заговорит; Шилков видел — она только кажется спокойной.
Так они дошли до сквера.
— Сядем, — предложила Ася. — Только подумать: я — на третьем курсе!
— Совсем большая, — только для того чтобы не молчать, сказал Шилков.
— Да. И завтра уеду — в Магнитку, к маме. Знаете как я люблю ее!
— Магнитку?
— И Магнитку и маму… Как ваше плечо? Совсем зажило?
Шилкову понятно было, почему она перескакивает в разговоре с одного на другое. Но когда она сказала: «завтра уеду» — у него словно все оборвалось. «Два месяца!..»
Он поднялся со скамейки, будто девушке надо было ехать уже сейчас.
— Я вас провожу… И когда вы вернетесь, я… Я расскажу вам, что…
Слова застревали у него в пересохшем горле, и он чувствовал, что ему и впрямь, как водолазу, трудно дышать.
— …что я люблю тебя, Ася…
Они были одни возле скамейки; неподалеку сидел и дремал какой-то старичок, разомлевший от жары, да дети, пыхтя, что-то мастерили из песка.
Ася опустила голову. Густая прядь волос закрыла ей пол-лица, и Шилков видел только темную бровь и дрожащие ресницы. Она молчала, но Шилкову сразу стало легче. Он даже нетерпеливо тронул ее за локоть, не дожидаясь, что она ответит ему, — жест, означавший: вот и все; мы можем идти; не надо ни о чем думать; я сказал — и я уже счастлив.
Но девушка не шевелилась. Она глядела себе под ноги, и Шилкову показалось, что он ослышался, когда она тихо ответила ему:
— Я знала… Мне было трудно… трудно так редко видеть тебя.
* * *
…Часа за два до отхода поезда они были в том же самом скверике, сидели на той же самой скамейке, что и вчера, и Ася опросила его:
— Ты мне ничего не можешь рассказать? Если не можешь — не надо, я ведь знаю — у тебя такая работа. Но отец…
Шилков нахмурился.
В памяти снова всплыли недавние дни; с какой-то фотографической отчетливостью припомнился человек с искаженным лицом, нож, тускло блеснувший в темноте, потом нарастающий звон в отяжелевшей разом голове.
Что он мог рассказать ей? Мало, очень мало — обо всем остальном он не смел и словом обмолвиться. Да, впрочем, Асю и не интересовало все остальное: она хотела знать об отце — и она имела право на это…
* * *
…Все уже было позади: разрушенные корпуса комбината, искореженное железо, дымящиеся груды камня и металла. Люди собирались у прокатного цеха. Даже в ночной темноте они безошибочно находили то место — большой двор, вокруг которого все было взорвано, мертво.
Не слышно было слов: люди говорили сдавленным шепотом, тяжело переводя дыхание. Кто-то застонал, привалившись спиной к бетонной глыбе. Но когда взвилась и осветила все кругом ракета — стих шепот и стон оборвался.
Там, в каких-нибудь пятистах метрах от цеха, — и люди знали это — залегли гитлеровцы. Рабочему отряду было приказано отходить. Когда мастер-сталелитейщик Гаврилов, возглавивший отряд, пересчитал в темноте людей, он понял, что больше ничего и не остается, как отходить.
Где-то наверху словно мяукнула кошка. Мина хлопнула внутри цеха, за ней начали рваться другие. А потом небо будто сошло с ума: мины рвались не переставая, и люди втискивались в каждую щель, прятались в развалинах, в еще горячих печах… Наконец обстрел прекратился, и тогда наступила непривычная, словно звенящая тишина…
Гаврилов негромко сказал: «Пошли».
…Руины комбината остались далеко. Кругом стоял лес, спокойный, величавый в своем спокойствии, весь наполненный густым, смолистым запахом хвои.
Дробышев шел, придерживая одной рукой раненого бойца. Идти было трудно: раненый то и дело спотыкался, тяжело волочил ноги, и, казалось, еще несколько шагов — и он повалится на мох. Но он все-таки шел, все-таки передвигал ноги — бледный, с плотно сжатыми, бескровными губами. Потом он остановился, прислонившись к сосне.
— Больше не могу… Гранаты… Оставь меня.
— Неужели ты думаешь… Садись на спину!
— Нет.
Сзади подошел Трояновский. Ни слова не говоря, он подхватил раненого и взвалил его на себя. Дробышев удивился: он и не предполагал в своем друге такой силы — научный работник, интеллигент, в очках! Дробышев подумал: это опасность сделала его сильным. Конечно, далеко он раненого не унесет, но в мирное время он и на это не был бы способен.
Они несли раненого по очереди и вечером, когда подошли к привалу, валились с ног от усталости. Уж на что Дробышев считался человеком выносливым (все-таки сталевар!) — но и он, опустив раненого, почувствовал, как у него мелко дрожат колени, а в глазах вспыхивают и крутятся какие-то оранжевые круги.
Выставив охранение, все заснули. Заснул и Дробышев, раскинув на земле могучие, черные от грязи руки. Но Трояновский не мог уснуть. Широко раскрыв близорукие глаза, он вглядывался в кустарник, подступающий к лужайке, в дальний, открывающийся за полем лесок.
О том, что спрятано у него под рубашкой, знали в отряде двое: Дробышев и Гаврилов. И все-таки он не мог уснуть: пачка скомканных бумаг, почему-то необычайно жестких, словно жгла его. Как это нелепо получилось! Комендант оказался трусом — сбежал, закинув куда-то ключи от сейфа. Пришлось взламывать этот огромный железный ящик: тащить из сварочного цеха два тяжелых баллона и резать металл. Дробышев еще пошутил тогда:
— Хорошо, что этот шкафчик не из нашего сплава, а то провозились бы…
Они и так провозились долго. Когда Трояновский сунул всю документацию себе за пазуху, пять танков с белыми крестами на броне, развернувшись, били прямой наводкой по заводоуправлению.
Он так и не заснул на этом привале, да и на следующем тоже… Раненый, которого теперь несли другие, начал бредить, выкрикивая что-то неясное, а потом забывался. На следующий день он умер, и Трояновский, уже успевший повидать смерть, был потрясен. Как это просто — и вместе с тем нелепо: еще вчера был живой человек, полный сил, каких-то надежд, мыслей, а сейчас его нет… Временами ему казалось, что все это — сон, тяжелый, как в детстве, и стоит только очень захотеть, убедить себя, что можно проснуться, — и проснешься… Но тут же он стискивал зубы.
На одном из привалов он подошел к Гаврилову.
— Слушайте, все мои… материалы надо сжечь. В конце концов это может стоить дорого.
Гаврилов поглядел на него исподлобья и вдруг неожиданно усмехнулся:
— Сжечь? Как вы это легко… Сжечь! Значит, вы не верите, что мы выйдем. А я вот — верю. И до тех пор, пока не увижу, что положение безнадежно, запрещаю вам даже вынимать эти… материалы.
Трояновский возмутился:
— Как это — запрещаете! В конце концов это не ваша работа, а моя… ну, наша с Дробышевым.
— Это наша работа, — тихо сказал ему Гаврилов. — Всех нас. И моя в том числе. Вы же неглупый человек… Я понимаю, вы боитесь, чтобы это не попало в их руки. Не бойтесь, не попадет.
На третий день на их стоянку наткнулась девочка. Маленькая, курносая, в цветном платочке на голове, она была словно из сказки, эта Наташа. Поначалу она перепугалась: что за люди, откуда? Дробышев успокоил ее: свои, и упросил (если случится оказия) отправить письмо. Он тут же начал писать его, пристроившись возле пенька.
(«Это письмо не дошло до вас, Ася. Девочка забыла адрес. Но это письмо я тебе покажу после».)
Вдруг грохнули выстрелы. Гаврилов, чертыхнувшись, сунул зажженную спичку в вязанку хвороста и, схватив винтовку, бросился к кустарнику. Пулеметная очередь прошла над головой Трояновского. Он, растерявшись, не сразу услышал, что ему крикнул Гаврилов. И только когда сильные руки Дробышева пригнули его к земле, он понял, почему начальник отряда сначала разжег костер…
Бой длился недолго — да это и не было боем. Люди в куцых серо-зеленых мундирах выскочили на поляну в тот момент, когда Трояновский, разрывая рубашку, вытаскивал из-за пазухи последнюю оставшуюся там тетрадь в клеенчатом переплете. Она только упала на огонь: ударом сапога рослый солдат вышвырнул ее и тут же упал, скорчившись, на землю.
Отстреливаться и уходить было уже поздно. Трояновскому крутили руки. Дробышев («Он был очень сильный человек, твой отец!») сдавил одного солдата так, что тот, протяжно закричав, обмяк, словно тряпичная кукла. Дробышев не отпустил его, даже когда страшный удар автоматом по голове сбил его с ног.
Он очнулся уже связанным и прямо перед собой увидел какое-то знакомое лицо. «Кто это? Кто-нибудь из отряда?..» Человек улыбнулся ему, и Дробышев вспомнил эту улыбку: Савченко, сменный мастер сталелитейного цеха. Как он попал сюда?
— Ну как — отошел, уральский медведь? — шутливо спросил он у Дробышева.
Шутка была добродушной, но Дробышев не ответил на нее. Рук он не чувствовал: они затекли, перекрученные веревкой.
— Развяжите, — тихо сказал он.
— Пожалуйста, — ответил Савченко. — Эй, кто здесь есть?
Дробышев понял все.
Потом он стоял перед столом, за которым сидели двое — Савченко и тонкий, как лоза, эсэсовец. Савченко что-то говорил ему по-немецки; Дробышев языка не знал и уловил только «герр штандартенфюрер». По тому, с каким почтением говорил Савченко, можно было догадаться: этот офицер — не какая-нибудь мелочь.
— Итак, — сказал вдруг по-русски эсэсовец, — вы — Дробышев? О, не надо отрицать так сразу: господин Савченко вас знает, да и вот ваши документы. Сталевар из Магнитогорска, прибывший в Нейск производить опыты по новому сплаву совместно с ученым-металлургом Владимиром Трояновским. Так, кажется?
Дробышев молчал.
— Вы напрасно заняли в отношении нас такую непримиримую позицию, — тихо и убеждающе сказал эсэсовец. — Владимир Трояновский сделал из своего положения правильные выводы. Он согласился ехать в Германию. Вы слышали когда-нибудь о такой фирме — «PN и К°»? Она умеет менять сталь на золото.
Молчание Дробышева словно бы не трогало его. Он даже сел поудобнее, явно собираясь продолжить этот разговор.
— Что вас держит? Честь, совесть? Это химера, и от нее надо освобождаться. Семья? Наша разведка доставит вашу семью с луны, а не только из Магнитогорска. Кажется, мы даем вам все. Или…
— Что «или»? — не утерпел Дробышев.
Штандартенфюрер оживился:
— О, я не собираюсь вас запугивать, не поймите меня неверно. Но у нас, немцев, есть правило: если человек не полезен нам хотя бы на пять процентов, мы пускаем в ход оружие. Но, я надеюсь…
Дробышев ответил ему резко:
— Напрасно надеетесь.
…Когда его унесли («Савченко присутствовал при этом, Ася; он видел, как расправлялись с твоим отцом»), в кабинет ввели Трояновского. Он рассеянно подносил руку к виску — хотел поправить очки, но очков не было. С ним обращались любезнее, пригласили сесть на стул, и он сел. Ему сказали, что Дробышев дал согласие ехать в Германию.
Рука Трояновского, которой он схватился за стул, прилипла к дереву, и он, поднеся ее к глазам, увидел сгустки крови: это были следы расправы с Дробышевым. Он побледнел: ему стало нехорошо при виде крови, и эсэсовец заметил это. Словно издалека донеслись до Трояновского его слова:
— Вы свободный человек. Партийная принадлежность? Чепуха. Вы — интеллигент, должны понять, что партии создаются и распускаются. А люди — у них одна жизнь, и ее надо прожить до конца. Другой не будет… Вы не можете себе представить, что мы дадим вам! В конце концов это имеет смысл, а? Тем более что ваша тетрадь уцелела.
Он вынул из ящика тетрадь в клеенчатом переплете и перелистал несколько страниц. Трояновский усмехнулся.
— Ну, — сказал он, — из этой тетради вашим ученым ничего не узнать. Неужели вы думаете, что мы преподнесем вам патент или хотя бы документацию на блюдце с каемочкой? Ошибаетесь.
— Я все-таки верю в ваш здравый смысл.
В разговор вступил до сих пор молчавший Савченко. Трояновский поначалу не заметил его. Савченко подошел к нему и, положив свою руку ему на плечо, сказал:
— Слушайте, Владимир Викторович. Я такой же инженер, как и вы, и такой же русский человек. Но я увидел: один в поле не воин. Наша Россия одна против всего мира. Вы ведь изучали диалектику: новое побеждает старое, но не всегда… Есть и отходы назад, есть и поражения.
В комнате наступила долгая, томительная пауза. Трояновский сидел, нагнув голову и морща лоб, словно что-то мучительно припоминая. Штандартенфюрер перегнул вперед свое тонкое, гибкое тело; ноздри у него вздрагивали от напряжения.
Наконец Трояновский медленно поднялся. В тишине звонко прозвучала пощечина: Савченко отскочил.
— Вот тебе… от русского человека, — задыхаясь, сказал Трояновский. — Больше вы от меня не услышите ни слова.
…Их увели в лес ночью, через три дня. До рассвета они простояли, привязанные к березам. А утром рота эсэсовцев тренировалась в стрельбе, и вскоре, скошенные пулеметным огнем, рухнули эти березы…
Но за ними плотной стеной поднимался лес, шумел по ветру и тянулся в необозримые русские дали…
1955-56 гг.
Примечания
1
«Уистити» — инструмент, при помощи которого открываются двери, запертые с обратной стороны.
(обратно)2
Высшая школа гитлеровской разведки «Орденбург ан Крессингзее» в Померании. Ее слушатели при наступлении советских войск бежали на Запад, к американцам.
(обратно)
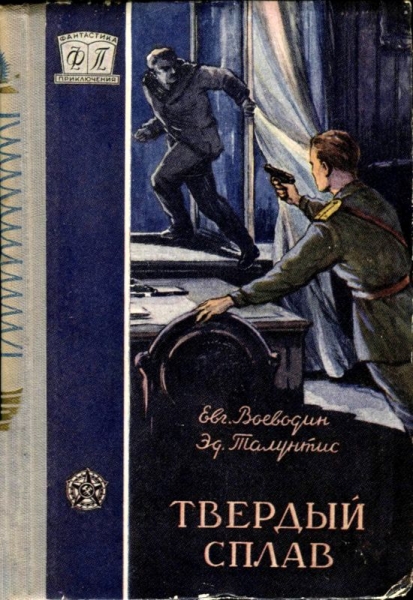


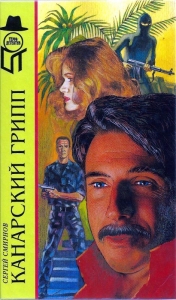
Комментарии к книге «Твердый сплав», Евгений Всеволодович Воеводин
Всего 0 комментариев