Николай Шпанов Заговорщики. Преступление
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
…говорят, Америка ведущая страна.
Безусловно, но только в каком отношении?
По количеству преступлений!
Теодор Драйзер1
Было десять минут седьмого, когда негры–рассыльные обошли служебные комнаты Белого дома.
— Он ушел!
Это лаконическое сообщение означало, что президент покинул свой кабинет и кресло на колесах перенесло его на личную половину Белого дома. Вероятно, время, оставшееся до обеда, Рузвельт проведет с сыновьями в бассейне для плавания. Будет плавать, возмещая вынужденную неподвижность на земле. Он держится на воде, как рыба, и наверняка станет шалить, окуная в воду кого‑нибудь из сыновей или подвернувшегося под веселую руку гостя. Отдохнув после обеда, он засядет за свою коллекцию марок или займется распаковкой прибывшей сегодня из Англии посылки с новыми моделями кораблей.
Впрочем, мало кого из чиновников интересовало времяпровождение президента. Услышав знакомый возглас рассыльного, каждый опешил сложить папки и поскорее покинуть стены Белого дома.
С уходом президента деловая жизнь в Белом доме прекращалась.
Она не замирала только в том крыле, где были расположены кабинеты ближайших сотрудников Рузвельта — адъютантов и советников.
В одном из этих кабинетов советник президента Гарри Гопкинс продолжал начавшийся часа два тому назад разговор с главным адвокатом Джона Рокфеллера Младшего. Адвокат был сухощавый сорокапятилетний мужчина с хищным лицом. Такое выражение на лицах американских дельцов вырабатывается годами беспощадной биржевой войны, волчьими законами "делового мира", крючкотворством многолетних тяжб.
Тщательно подвитые, торчащие кверху усы а ля Вильгельм II придавали адвокату еще более неприветливый, заносчивый вид.
Звали этого человека Дин Гудерхем Ачес.
Хотя мистер Ачес и назывался адвокатом Рокфеллера, но по характеру деятельности и широте предоставленных ему полномочий правильнее было бы именовать его министром иностранных дел и юстиции нефтяного короля Соединенных Штатов. Дин Ачес нередко представлял своего патрона, являясь подчас чем‑то вроде его второго "я". Это происходило в тех случаях, когда нужно было провести какое‑нибудь особенно сложное и грязное дело.
Бывали у Рокфеллера и такие дела, от которых больше пахло кровью, чем нефтью. Обильно разбавленное кровью южноамериканцев, арабов или малайцев "черное золото" нефтяного монарха стало бы багровым, если бы не тонкий адвокатский фильтр. Кровь и грязь оседали в душе Ачеса.
Дин Ачес представлял особу своего доверителя и там, где нужно было найти обходные, неофициальные пути для переговоров с высокопоставленными чиновниками правительственного аппарата, министрами или конгрессменами. Наконец, Ачес служил связующим звеном между мистером Рокфеллером и ближайшим окружением президента. Такая связь нередко оказывалась нужной для того, чтобы договориться с Белым домом о политическом курсе или об отдельных мероприятиях правительства Штатов, затрагивающих интересы монополистической группы Рокфеллера.
Дом Морганов, приведший к власти Франклина Рузвельта, мог послать доверенного прямо в Белый дом и в форме деликатнейшего совета продиктовать свою непреклонную волю. Ванденгейм, хотя и не был в числе официальных друзей и сторонников Рузвельта и даже состоял в рядах соперничающей с демократами республиканской партии, но он просто, без церемоний ломился к тому из советников президента, который казался ему подходящим для проведения той или иной комбинации. Положение же Рокфеллера не позволяло ему ни того, ни другого. Он не мог опуститься до разговоров с каким‑нибудь советником или даже подчас министром. Он не мог и прямо прийти к президенту, рискуя не найти удовлетворительного решения интересовавших его вопросов. Такой исход встречи означал бы войну. А война далеко не всегда была выгоднейшим способом достижения цели.
Нынешняя ситуация была особенно трудной. Предстоявшие в будущем году президентские выборы совпали с большими осложнениями в Европе и в Азии. Необходимо было заблаговременно поставить все точки над "и", обусловить такой внешнеполитический курс Штатов, при котором интересы Рокфеллера не могли бы потерпеть ущерба от политики правительства, ведущейся в угоду интересам Моргана.
Гопкинс предпочел бы избежать и этого разговора, и свидания с Ачесом вообще. Но, учитывая интересы Рузвельта, он не мог позволить себе отклонить настойчивое требование Ачеса встретиться и притом безотлагательно.
С первых же слов Ачеса Гопкинс понял, что тот явился не для прощупывания почвы, а ради того, чтобы при его, Гопкинса, посредстве довести до сведения Рузвельта условия, на которых нефть, уран и стратегическое сырье Рокфеллера готовы не противопоставлять себя банкам и промышленности Моргана в борьбе за создание мировой империи США. А только под таким знаменем мог прийти к власти новый президент. Если Франклин Рузвельт способен впредь согласовать противоречивые интересы Рокфеллера и Моргана на пути к этой общей цели, не исключено, что он пройдет на третий срок своего президентства. То, что подобное третье избрание противоречит всем традициям Штатов, не играет никакой роли. Для хозяев страны существует одна традиция — их выгода.
Беседа велась без свидетелей. Дин Ачес не стеснялся циничной ясности мыслей и слов.
- …Рузвельт не имеет права допускать, чтобы Морган ставил под угрозу миллиарды, вложенные Рокфеллером в Германию, — говорил Ачес. — Вы обязаны убедить президента: эти миллиарды — вожжи, при помощи которых Америка управляет колесницей Гитлера!
— Не Америка управляет Гитлером, а Рокфеллер, — возразил Гопкинс. — Это не одно и то же.
— По–вашему, конечно, синонимом Америки является Морган?
— Я не адвокат Моргана.
— Но любой уличный мальчишка знает, при помощи чьих денег вы пришли в Белый дом.
— Я никому не стоил ни цента.
— Не наивничайте.
— Вы называете наивностью нежелание дать Рокфеллеру бесконтрольное право командовать Гитлером? По–вашему, пусть лопает Польшу, пусть лопает Россию, пусть лопает всех, кого хочет слопать…
При последних словах Гопкинса Ачес сердито крикнул, перебив его:
— Да, да, да! Пусть лопает все, что не станет ему поперек глотки. Лишь бы не поперхнулся и только бы от этого была польза нашему делу.
— Какие там "наши" дела!
— Мы с вами не дети, Гарри. Я битых два часа пытаюсь вам втолковать с цифрами в руках, что преуспеяние Рокфеллера — преуспеяние Штатов.
— Право Рокфеллера пустить ко дну всех других — в этом вы видите главную пользу Штатов? — спокойно возразил Гопкинс. — ФДР не мальчик. Он отлично понимает, что в наше время игра на внутренних противоречиях опасна, она просто преступна. Можете сколько угодно грызться, но там, где дело выходит за пределы Штатов, итти нужно вместе.
— Может быть, именно поэтому Морган и толкает Гитлера на Ближний Восток? По–вашему, предлагать Гитлеру британскую нефть — это честная игра? — Тут Ачес внезапно умолк и рассмеялся. — Умоляю вас, не стройте такой мины. Я не из тех пижонов, Гарри, которые способны принять вашу наивность за чистую монету. Мы ведь знаем все: вы продаете Моргану Рур. На выполнение этой задачи вы поставили весь государственный департамент. Не пройдет! Если хотите честной игры, не держите кулак за пазухой. Руки на стол, господа!
— Отлично! — воскликнул Гопкинс и тут же поморщился от боли, которую причинил ему этот резкий возглас. — Руки на стол! Это наш принцип. Попробуйте же втолковать своему боссу: теперь дело идет об обеспечении подобающего места и ведущей роли во всем мире для Штатов, для Штатов, а не для одного вашего хозяина, понимаете? Вот о чем идет речь, а не о каких‑то провинциальных интригах в Венецуэле; действовать нужно только осмотрительно, согласованно, взвесив все "за" и "против", не бросаться в авантюры очертя голову и не ставить себя в зависимое положение к такому разбойнику, как Гитлер.
— Что из этого следует?
— А то, что ваш хозяин должен умерить свои авансы нацистской шайке… Понимаете?
— Потому что Морган считает себя главным ее покровителем? — с усмешкой проговорил Ачес. — Каштаны Моргана — ему одному?.. Так, так…
— Ну его к дьяволу, Моргана! — огрызнулся Гопкинс. — Вы два часа препираетесь со мной, как старая прачка. Будьте же мужчиной: речь идет о чем‑то неизмеримо большем, чем нефтяные источники всего мира.
— Что может быть важнее недр: нефть, сырье, уран…
— Уран? — Гопкинс подозрительно покосился на собеседника.
— Лечение рака и все такое… Мы друзья человечества, а не враги его, — не растерявшись, ответил адвокат.
Но Гопкинса не легко было провести. Он не верил в филантропию Рокфеллера. Если Рокфеллер заинтересовался ураном, значит, пронюхал кое‑что о деле, которое Гопкинс считал своим собственным секретом. Но Гарри понимал, что расспрашивать Ачеса бесполезно. Лучше пропустить это сейчас мимо ушей. Еще будет время выяснить, как могло попасть в лапы Рокфеллера дело, о котором знали только двое–трое ученых да сам Гарри. Он вернулся к прерванному разговору.
— Послушайте, Дин, если вы поймете, что Морган и другие имеют право на свою долю в Европе, то ваши интересы там тоже только расширятся. Одно цепляется за другое.
— В том смысле, что Морган пытается выкинуть нас с поля банковской деятельности в Европе? Да тут все цепляются друг за друга.
— Я хочу сказать: мы не можем позволить втянуть нас теперь в войну в Европе только потому, что это угодно Рокфеллеру.
— Мы же не мешаем развязывать войну, где кому вздумается, так пусть и "другие" нам не мешают.
— Мало не мешать, Дин, — злясь, но не теряя выдержки, проговорил Гопкинс. — Необходимо действовать вместе. Понимаете: сообща… Честное слово, можно подумать, что вы даже в школе никогда не участвовали в драке заодно с другими.
— Я действительно предпочитал драться в одиночку.
— Ну, теперь другие времена. Этак многого не добьешься.
— Мы никогда не отказывались от разумных планов, готовы действовать сообща, — тоном примирения проговорил Ачес, но тут же поспешно прибавил: — Если нас не пытаются оставить в дураках.
— Ну, Дин, с такими малыми, как вы, Рокфеллер, кажется, может не бояться, а?
Гопкинс, в волнении ходивший по кабинету, устало опустился в кресло.
— Поскольку речь идет не о какой‑нибудь южноамериканской республичке, а о мире, Дин, о целом мире, то нельзя лезть в это дело очертя голову. Только овладев всем, вы сможете поделить между собою и все сокровища. Иначе рискуете остаться и без мира и без его сокровищ. Понимаете?
— Я‑то все понимаю, но мне сдается, что не все понимаете вы, Гарри.
— Например?
— Вы не понимаете, что не выборы президента, а ситуация в Европе — вот главное на сегодня.
— В этом мы сходимся. Я только не соглашусь с тем, что одно не связано с другим. На чорта вам будет выгодная ситуация в Европе, над созданием которой мы столько потеем, если в Штатах не станет умного человека, способного ее использовать. А такой человек у нас один.
— Мы бросили бы свою гирю на его чашу, если бы были уверены…
Ачес, не договорив, вопросительно уставился на Гопкинса. Тот неохотно спросил:
— Вы хотите, чтобы я поговорил с ним?
— Да.
— Поговорю.
— Не откладывая.
— Да.
— И откровенно.
— Он чертовски щепетилен.
— Нам миндальничать некогда.
— Грубостью у него можно провалить все дело.
— Тогда мы будем знать, что делать.
— Пояснее, Дин.
— Мы бросим гирю на другую чашу выборных весов.
— При нынешнем настроении американцев это не решит дела в вашу пользу. Американцы за Рузвельта.
— Тогда напомните ему, что американские президенты не бессмертны! — угрожающе выпалил Ачес.
Гопкинс приподнялся было в кресле с гневно сжатыми кулаками, но тут же в бессилии упал обратно. Задыхаясь, проговорил:
— Ваше счастье, что мы одни…
— Я же адвокат, Гарри, — с недоброй усмешкой заметил Ачес.
— Ваше счастье…
— Хорошо, можете не напоминать об этом ФДР, достаточно того, что вы будете помнить о судьбе Гоу. — И прежде чем успел прийти в себя ошеломленный Гопкинс, Ачес поспешно предложил: — Вернемся к делу?
Гопкинс пробормотал что‑то невнятное.
— Вы должны сказать президенту, — продолжал Ачес, — что, по нашему мнению, главенство в мире обеспечено той державе, которая господствует в Тихом океане.
— Это ему понравится.
— Тем скорее он поймет, что все разговоры о независимости Филиппин нужно оставить. То–есть болтать‑то можно что угодно, но мысль о самостоятельности островов — бред. Филиппины — ключ. Владея им, мы владеем Тихим океаном. Океан требует флота. Мы за флот.
— Это ему тоже понравится.
— Тем лучше. Мы за то, чтобы корабли понесли американский флаг туда, где сейчас полощутся вылинявшие тряпки святого Георга.
— И это ему понравится, — монотонно ответил Гопкинс.
— Тем лучше. С американским флагом укрепятся и американские порядки. От этого не станет хуже и вашему Моргану. Дальше: океан — путь на Восток, Восток — это Китай.
— И Япония, — поправил Гопкинс.
— О джапах — отдельно. Сначала Китай: дать там по рукам англичанам.
— Хозяин будет в восторге.
— Тем лучше. Англичанам должны дать тумака джапы.
Гопкинс рассмеялся.
— Для этого джапам понадобится усиление армии и флота. Усиление армии — стратегическое сырье. Стратегическое сырье — Рокфеллер. Готовый флот требует нефти. Нефть — тоже Рокфеллер…
— Мы с вами — не дети, Гарри. В конце концов мы готовы со своей стороны сделать все, чтобы запах нефти не казался вам таким отвратительным. Мы ценим ваш ум, вашу энергию, ваши связи…
— Оставьте в покое мой ум и мои связи, — раздраженно произнес Гопкинс. — Они уже оплачиваются.
— Морганом?
— Нет, президентом.
— За счет Моргана.
— Нет, за счет федерального казначейства.
— Значит, и за наш счет.
— Безусловно.
— Вы циник, Гарри. Тем лучше: мы можем повысить ставку. Это не значит, что вы должны отказаться от денег Моргана, то–есть я хотел сказать: от денег казначейства.
— К делу, Дин!
— Я хотел бы, чтобы за те деньги, которые вам платит федеральное казначейство из нашей доли налогов, вы внушили Тридцать второму…
— Я не гипнотизер.
— Тогда просто расскажите ему: чем дальше джапы влезут в Китай, тем лучше. Двоякая выгода, Гарри: слабеет Китай, слабеет и Япония.
— И усиливаются позиции России в Азии.
— Ни в коем случае! До этого дело не должно дойти. Чтобы этого не случилось, ослабленным Японии и Китаю понадобится доппинг. Доппинг — это…
— Опять сырье и нефть Рокфеллера.
— И кредиты банков Моргана.
— Разумно.
— Если в Китае произойдет что‑нибудь подобное инциденту с "Пенеем", надо еще раз проглотить пилюлю, хотя она и довольно горькая.
— Это не понравится хозяину.
— Тем хуже! В большой игре не стоит обращать внимания на булавочные уколы.
— Президент заботится о достоинстве звезд и полос.
— Значит, ему должно понравиться: пусть японцы потопят сегодня еще пять американских "Пенеев", чтобы укрепить нашу возможность завтра пустить ко дну весь японский флот.
Гопкинс в сомнении покачал головой:
— ФДР может ответить: я хочу потопить японский флот, не потеряв ни одной канонерской лодки.
— А вы скажете ему, что в наших интересах потерять пять, десять, даже пятьдесят канонерок. Чем больше, тем лучше… для Моргана.
— А для вас?
— Мы большие альтруисты, Гарри.
— Вам прямая дорога в монахи, Дин.
— Я и то собираюсь.
— Как было бы хорошо!
— Вам?
— Я был бы избавлен от разговоров с вами.
— В сутане иезуита я допек бы вас вдвойне. Сейчас я дьявольски сдержан… Но вернемся к делу. По японским следам мы должны пробраться в Синьцзян и Индонезию…
— Уже и в Индонезию? — с деланым удивлением спросил Гопкинс.
— Рано или поздно джапы должны разинуть на нее пасть. Пусть разевают. Потом придем туда мы.
— Что там есть, кроме нефти?
— Все, что нужно нам и Моргану.
— Дальше.
— Упаси бог Тридцать второго повторять ошибки его предшественников. Тафт и Теодор Рузвельт были крикливыми крохоборами. Они наделали кучу ошибок. Нам приходится их исправлять. В наше время требовать часть — значит не получить ничего. "Требуйте все, чтобы получить что‑нибудь", — сказал Христос.
Гопкинс покачал головой:
— Если бы Иисус был жив, он привлек бы вас за клевету.
Ачес со смехом ответил:
— Не беда. Всякий американский судья оправдал бы нас: это единственно здравая позиция. Изречение должно войти в американское издание евангелия.
— Ладно, сойдемся на том, что "формула Христа" не противоречит нашим интересам, — согласился Гопкинс.
— Тем лучше… Было бы опасно повторить ошибку Вильсона в отношении России. Нужно не приглашать батальон гангстеров к участию в дележе России, а взять ее себе целиком — вот единственно здравая и приемлемая для нас схема.
— А как же Гитлер?
— Взломщик! — безапелляционно заявил Ачес. — Тип для грязной работы. Повесим, как только откроет нам ворота России.
— Это едва ли понравится хозяину.
— То, что Гитлер прикончит Россию, или то, что мы его повесим? — спросил Ачес.
Гопкинс уклонился от прямого ответа. Только сказал:
— ФДР не выносит ефрейтора и боится коммунистов.
Ачес поднялся с кресла.
— Мы можем быть уверены, что эти предварительные соображения будут переданы ФДР?
— Да.
Голос адвоката сделался вкрадчивым:
— Гарри, дружище, а вы не могли бы устроить мне свидание с ним, чтобы я сам мог внести полную ясность?
Гопкинс демонстративно смерил Ачеса взглядом с ног до головы и с наслаждением проговорил:
— Не выйдет! ФДР дьявольски чистоплотен. — Заметив, как густо покраснел Ачес и задрожали кончики его усов, Гопкинс смягчил тон: — Если вас не устраивает откровенность, могу привести вполне официальную причину отказа: на–днях мы отправляемся в небольшую предвыборную экскурсию на юго–запад. Оттуда прямо в Уорм–Спрингс. Вот!.. Вы не обиделись, Дин?
Ачес презрительно выпятил губы.
— Дорогой Гарри, на вас?..
И, не прощаясь, вышел из комнаты.
2
Пятна последнего снега еще смутно белели кое–где у корней деревьев. Пар от просыхающей земли заволакивал лес прозрачной дымкой. Было знобко Руппу казалось, что Клара иногда вздрагивает, и ему было неловко, — будто в этом был виноват он. А, пожалуй, Рупп и был немного виноват: кто же, как не он, затеял эту беседу с функционерами–подпольщиками? Кто дал ему право пригласить сюда вдову Франца? Разве сам он не мог провести это собрание? Ему казалось, что передача директивы, пришедшей из тюрьмы, от самого Тельмана, — такое многозначительное событие! Хотелось, чтобы товарищи услышали слова вождя из уст старого партийца — Клары, лично знавшей Тельмана. Она работала с ним, наконец, она была вдовой и сподвижницей такого человека, как Франц Лемке…
Все, что говорила Клара, звучало особенно многозначительно. Молодежь, — а все пятеро пришедших на беседу в лесу были молоды, — слушала, затаив дыхание.
Рупп уже был знаком с директивой Тельмана. Он больше смотрел на Клару, чем слушал ее. Вглядывался в ее исхудавшее лицо и думал о Лемке. С сыновней нежностью мысленно гладил ее уже совсем–совсем седые волосы.
Клара говорила негромко. Так, чтобы только было слышно пяти близко подсевшим к ней товарищам.
Подробно обрисовав политическое положение, создавшееся внутри Германии и за ее пределами в результате гитлеровской политики развязывания войны, Клара решила перейти к теме, ради которой они тут и сошлись, — к разъяснению лаконичной записки, полученной от Тельмана подпольем компартии.
— Товарищ Эрнст Тельман, — проговорила она, и при этих словах все пятеро ее слушателей поднялись и сняли фуражки. Клара тоже встала и, прикрыв рукою задрожавшие веки, несколько мгновений помолчала. — Товарищ Тельман, — продолжала она, — вынужден быть лаконичным. В своей записке он говорит: "Политическое положение угрожающе для германского народа, для будущего Германии. Нужна мобилизация сил партии на разъяснение немцам необходимости всеми средствами бороться с агрессией Гитлера. Эта агрессия приведет к потере Германией национальной самостоятельности. За спиною Гитлера стоят иностранные подстрекатели. Гитлер действует на американские деньги. Внимание в сторону Америки. Проработайте статью Сталина "К международному положению", примерно 24–25–й годы. Сделайте выводы. Очень важно. Да здравствует германский народ! Слава нашей партии! Тельман".
Волнение, охватившее Клару при чтении этой уже знакомой записки, заставило ее снова сделать паузу.
— Товарищи, вы получили от него, — Клара указала на Руппа, не называя его по имени, — текст статьи, о которой идет речь, и наш комментарий. Вчитайтесь внимательно. Нет лучшего учителя, чем история. Нет лучших уроков для народа, чем анализ истории, даваемый Лениным и Сталиным… Быть может, надолго, на срок, который мы едва можем охватить взглядом, немецкому народу дан последний шанс прийти в себя, отогнать от себя кровавый туман фашистской лжи, сделать последнее большое усилие, чтобы свернуть с пути, на который его влекут безумцы и палачи, — с пути к плахе на путь к свободе и прогрессу…
Сумерки сгущались. Тени деревьев уже не рассекали полосами влажную землю. Сумрак скомкал все силуэты. Рупп тревожно озирался. Тихонько, так, чтобы не помешать Кларе, он поднялся и пошел на опушку. Трудно было предположить, что полиция может пронюхать о собрании, но осторожность оставалась осторожностью: Рупп решил оставаться на опушке, пока не закончится беседа. Ему не был слышен голос Клары. Поэтому он не мог понять, почему она говорит так долго. А Клара с увлечением рассказывала молодым товарищам о том, что они должны разъяснить каждому немцу. Она говорила, что гитлеризм превосходит своей звериной дикостью и средневековой жестокостью все виды реакции, какие знала до тех пор история Германии. Но появление гитлеризма вовсе не было необъяснимым наваждением, плодом внезапного затмения сознания целого народа, околдованного кликушеством какого‑то маниака. Фашизм никогда не смог бы достичь такой власти в Германии, если бы не пришел в результате длинной цепи побед реакции над умом и волей немецкого народа.
Реакция брала верх над революцией во все решающие моменты германской истории. Революционный подъем народа ни разу не дал решающей победы. Всякий раз народ подпадал под влияние реакции и шел к катастрофе. Теперь, на великом историческом распутье, немецкий народ должен окинуть трезвым взглядом весь пройденный путь и понять всю гибельность своих ошибок. Немцы должны отказаться от ведущих в тупик философских абстракций Канта и Гегеля. Нужно понять, что вся философия была поставлена с головы на ноги гигантами революционной мысли Марксом и Энгельсом. Это они создали немецкую революционную философию, они начали борьбу за революционно–демократическое объединение германской нации, за освобождение трудящихся от невыносимого гнета эксплуатации. Всякий немец должен отдать себе отчет в величайших революционных заслугах Маркса и Энгельса. Они начали борьбу за истинную свободу Германии, за прогресс и культуру немецкого народа, за создание подлинно народной Германии в лучшем смысле этого слова; они были зачинателями революционной борьбы за уничтожение "германской империи прусской нации".
Реакционные традиции немецкого общества не могли не оказать пагубного воздействия и на рабочий класс Германии. От Лассаля ведет свою родословную пресловутый немецкий "национальный социализм". Немецкие реформисты не случайно ухватились за Лассаля и сделали его своим идеологом.
Правые социал–демократы Германии повинны в том, что германскому империализму долго удавалось разыгрывать из себя невинного простачка — прямодушного, честного и трудолюбивого, якобы по вине империалистов других наций оказавшегося обделенным при разделе мира. Это правые социал–демократы повинны в том, что немецкий народ принимал за чистую монету шовинистическую пропаганду империалистов, выступавших в тоге борцов за права обделенного историей германского народа. Ни история, ни народ Германии были тут ни при чем. Речь шла о немецких капиталистах, опоздавших к дележу. Обманом и силой, при помощи правых социал–демократов — изменников делу рабочего класса, германским империалистам удалось погнать немецкий народ на бойню войны 1914–1918 годов. Они рассчитывали вырвать кусок из пасти французского, британского и американского империализма. Эта попытка окончилась для них провалом. Были пролиты реки крови, были пущены на ветер миллиарды марок, а своей цели империалисты не добились. Но немецкий народ мог бы использовать это крушение реакции для завоевания себе свободы, для нанесения германскому империализму смертельного удара и для его уничтожения. Однако и на этот раз немецкие социал–предатели сыграли позорную и трагическую роль в судьбе Германии. Они помогли реакции снова взять судьбу страны и народа в свои руки. При попустительстве и при помощи все тех же социал–демократов буржуазия смогла призвать себе на помощь фашизм.
— Из материалов, которые вы сегодня получили, — сказала Клара, — вы увидите, что фашизм не только военно–техническая категория. Фашизм — это боевая организация буржуазии, опирающаяся на активную поддержку социал–предателей. По существу, правые лидеры социал–демократии представляют собою умеренное крыло фашизма. Нет основания предположить, что фашизм добьется решающего успеха без активной поддержки социал–демократии. Эти организации не отрицают, а дополняют друг друга. Фашизм есть не оформленный, но фактически существующий и действующий политический блок этих двух организаций, возникший в обстановке послевоенного кризиса капитализма. Этот блок рассчитан на борьбу с пролетарской революцией. Буржуазия не может удержаться у власти без наличия такого блока. Поэтому…
Клара не успела досказать. Из темноты вынырнул Рупп:
— Полицейская цепь движется от деревни!..
Его слова услышали все, но никто не шевельнулся. Клара спокойно проговорила:
— Ну что же, товарищи, расстанемся до следующего раза. Повторяю: долг коммунистов — объяснить народу, что война с Советским Союзом, которую стремятся развязать гитлеровцы, антинародная война… Расходитесь по одному. Если кто‑нибудь увидит, что ему не избежать встречи с полицией, уничтожьте материал… До свидания, товарищи.
— А… вы? — спросил кто‑то из товарищей.
Клара улыбнулась:
— Я тут как дома. Это мой район… Идите.
Товарищи быстро исчезли в сумраке леса. Один Рупп стоял в нерешительности.
— Не теряй времени, — ласково сказала Клара.
— Да, конечно… — без всякой уверенности, но стараясь казаться спокойным, ответил Рупп. — Куда я должен итти?
— Ты не знаешь дороги? — В ее голосе прозвучало беспокойство.
— Я впервые в этой местности. Только покажите мне направление.
Клара вместо ответа жестом приказала ему следовать за собою и быстро зашагала по лесу как человек, хорошо знающий местность. Но ее учащенное дыхание, голос, немного дрожащий, когда она задавала Руппу вопросы, — всё говорило об ее волнении. Такой Рупп видел ее впервые. И снова в нем поднялось сознание виновности в том, что она здесь, что она вынуждена теперь бежать от полиции да вдобавок еще спасать его. Ему было невыносимо стыдно. Он не мог решить, что лучше: оставаться с нею, чтобы защитить в случае надобности, или уйти. Если бы он только знал, что так будет лучше, он готов был тотчас же отстать, броситься в сторону, в темную чащу. Но тут же он понял, что это еще больше затруднит Клару — она ни за что не бросит его. И он послушно шел за нею, едва различая в темноте ее седую голову. А Клара двигалась все быстрей и, наконец, побежала.
Деревья становились реже. В просвете мелькнул огонек. Клара остановилась, тяжело переводя дыхание.
— Ты останешься здесь… — Она сделала несколько шагов в одну сторону, в другую, что‑то разыскивая. — Ложись в эту яму. Тут тебя не найдут. Никуда не двигайся. К тебе придут… Пароль: "Ты немец, Франц?" Твой отзыв: "Как и всякий другой".
Рупп почувствовал на своих щеках прикосновение ее дрожащих ладоней. Они были большие, загрубевшие от работы, но такие ласковые и теплые.
Клара нагнула его голову и поцеловала в лоб.
Прежде чем Рупп опомнился, ее шаги уже замерли на опушке. Он сделал было шаг вслед, хотел во что бы то ни стало увидеть хотя бы ее тень, но тьма леса была непроницаема. Он остановился. Ощупью нашел укрытие, о котором говорила Клара. Это была довольно глубокая яма, по бокам которой торчали корни деревьев, Рупп залез в нее. Сырая земля, осыпавшись с края, попала за воротник куртки.
Рупп не сразу почувствовал, как холодна земля, однако чем дальше, тем крепче его пробирал озноб. Вокруг было подавляюще тихо. Лишь где‑то далеко раздавался лай. Но это был не озлобленный рык полицейской овчарки, а мирный брех деревенской собаки.
Рупп с трудом заставлял себя подчиниться стоявшим в ушах словам Клары: "Никуда не двигайся…" Ослушался ли бы он, если бы это сказал ему Лемке? Никогда! Значит, и сейчас он должен был сидеть тут, хотя зубы его временами непроизвольно отбивали дробь от пробиравшегося в кости озноба.
Рупп пробовал заснуть, но это не удавалось. Земля казалась ледяной. Сырость пропитала всю одежду.
Чтобы заставить себя забыть о холоде, Рупп перебирал в памяти слова последней записки Тельмана, думал о нем, о тюрьме, о тяжелой участи, выпавшей на долю вождя…
Рупп поглядывал на небо, пытаясь по звездам определить томительно медленное движение времени. Но он был плохим астрономом — звезды ему ничего не говорили. Гораздо больше сказал крик петуха, послышавшийся с той же стороны, откуда брехала собака. Рупп решил, что там расположена деревня или, по крайней мере, ферма.
Между тем время все‑таки двигалось вместе со звездами. И Руппу показалось, что его прошло бесконечно много, когда неподалеку раздался, наконец, шум шагов. Так как голова Руппа находилась ниже уровня земли, то шаги показались ему более громкими, чем были на самом деле. Первым движением Руппа было выскочить из ямы и бежать. Но приказ Клары стоял в ушах: "Никуда не двигайся…"
По мере приближения шаги делались не громче, а все менее слышными. Но они безусловно приближались. Наконец замерли совсем близко. Некоторое время длилось настороженное молчание, потом послышалось совсем тихое:
— Ты здесь?
Рупп удивился: девичий голос! Он хотел было откликнуться, но вспомнил о пароле и промолчал. Между тем после короткого молчания девушка проговорила снова:
— Откликнись! — И уже с раздражением: — Отзовись же, Франц! Немец ты или нет?
Пересиливая сопротивление застывших губ, Рупп проговорил:
— Как и всякий другой.
Чужим показался ему и собственный голос и эти слова, похожие на шамканье старика.
Тень склонилась над ямой и закрыла весь мир.
— Продрог? — с непонятной Руппу веселостью спросила девушка. — Держи!
Он машинально протянул руки и принял небольшую корзинку.
— Ну‑ка, подвинься.
Девушка скользнула в яму. Привыкшие к темноте глаза Руппа видели, как проворные руки пришелицы ловко распаковали корзинку. Через минуту к его застывшим ладоням прикоснулся горячий металл стаканчика.
— Пей!
Первый глоток молока, как пламенем, обжег горло Руппа. Но он с жадностью сделал второй и третий. Закоченевшие пальцы крепко сжимали стаканчик.
— Вот хлеб, — приветливо сказала девушка. Но Рупп, казалось, не слышал. Он глотал горячее молоко и, как на чудо, смотрел на девушку.
А она спокойно уселась, поджав ноги, и смотрела, как он пьет. Потом неторопливо, по–хозяйски завинтила пустой термос и поставила его в угол ямы.
Рупп, кажется, только тогда до конца понял, как он прозяб, когда выпил молока. Он все еще не в силах был шевельнуть ни ногой, ни рукой.
Повидимому, девушка поняла его состояние. Она участливо спросила:
— Очень озяб?
Рупп кивнул головой и тут же увидел, что она расстегивает пальто. Вообразив, что девушка хочет отдать ему свою одежду, он предупреждающе вытянул руки.
Но она и не думала снимать пальто. Расстегнув все пуговицы, она вплотную придвинулась к Руппу и обвила его полами пальто.
Заметив его испуганное, отстраняющееся движение, шепнула:
— Погоди… Я согрею тебя.
Тепло ее тела обессилило Руппа. Его руки сами обвились вокруг ее стана. Он приник к ней, прижавшись щекою к ее теплой щеке. У самого уха он услышал тихий смех. Этот звук показался Руппу таким ласковым, и тепло ее тела было таким родным, что он закрыл глаза и без сопротивления отдался наслаждению мгновенно надвинувшегося сна.
Когда Рупп открыл глаза, было уже светло. У самого уха слышалось спокойное дыхание, и в поле зрения был кусочек румяной щеки, светлый завиток волос…
Рупп замер в благоговейном страхе. Он боялся пошевелиться, боялся дышать. Руки девушки были попрежнему сомкнуты на его плечах и крепко держали полы пальто. А он страшился разжать затекшие пальцы своих рук, лежавших на ее поясе.
Но его удивленное восхищение длилось недолго. Девушка тоже открыла глаза. Ему показалось, что она изумленно смотрит на него, словно не понимая, что произошло. Потом, вспомнив все, беззаботно рассмеялась и стала спокойно собирать рассыпавшуюся косу. Просто спросила:
— Согрелся?
Он не нашел ответа. Молча смотрел на нее.
— Видно, еще не отошел, — с улыбкой сказала она, и только сейчас он отдал себе отчет в том, что она белокура, что у нее большой сочный рот, что вокруг ее несколько вздернутого носика рассыпаны мелкие–мелкие веснушки. Только сейчас Рупп разобрал, что у нее смеющиеся голубые глаза.
Девушка поднялась, деловито застегнула пальто и одним сильным движением выскочила из ямы.
Нагнувшись над ее краем, показала рукою на тянувшуюся в глубь леса прогалину, объяснила, как следует итти, чтобы не наткнуться на фермы, где может оказаться полиция. Потом снова улыбнулась широкой приветливой улыбкой.
— Прощай.
— Разве мы никогда не увидимся?
— Где же?
— Как тебя зовут?
— Густа…
— Густа… — повторил Рупп.
— А тебя Франц?
После секунды колебания он твердо ответил:
— Франц.
— Что ж, — она посмотрела в сторону, — может быть, и увидимся. На работе… Подай мне корзинку.
Рупп поймал руку Густы и прижался к ней губами. Девушка испуганно отдернула руку.
— И тебе не стыдно?
— Нет, — твердо ответил он. — Ты очень хороший товарищ, Густа.
Она с минуту колебалась, словно собираясь что‑то сказать, но, видимо, раздумала и быстро пошла прочь.
Он смотрел ей вслед. На губах его осталось ощущение шероховатого прикосновения обветренной кожи девичьей руки.
Рука Густы была такая же загрубевшая, как у Клары, но от нее совсем иначе пахло… Совсем иначе…
3
Оторвав взгляд от окна, Рузвельт отыскал на странице место, где остановился, и стал читать дальше:
"…Я бы хотел от имени народов Соединенных Штатов выразить искреннее сочувствие русскому народу, в особенности теперь, когда Германия ринула свои вооруженные силы в глубь страны… Хотя правительство Соединенных Штатов, к сожалению, не в состоянии оказать России ту непосредственную поддержку, которую оно желало бы оказать, я хотел бы уверить русский народ… что правительство Соединенных Штатов использует все возможности обеспечить России снова полный суверенитет и полное восстановление ее великой роли в жизни Европы и современного человечества…"
Рузвельт отлично знал, что в словах этих не было ни на иоту искреннего сочувствия борьбе, которую вел русский народ, не было ни подлинного доброжелательства, ни хотя бы простого примирения с тем, что произошло в России. Это была игра, которую старался вести тогдашний президент Штатов, профессор Принстонского университета, сын попа и сам душою всего лишь причетник. Большевики свели на–нет всю работу государственного департамента, добившегося того, что правительство Керенского стало, по существу, компрадором российской формации, готовым продать страну американским бизнесменам. Заслуга американских дипломатов и разведчиков в том и заключалась, что они сделали Америку монопольным покупателем России из первых рук. Если бы не большевики, Америка, наверно, была бы полным хозяином недр, железных дорог и всей промышленности России. Российская колония, думалось Вильсону, стала бы рассадником американского влияния на величайшем материке Старого Света. Сухорукий недоносок Керенский не сумел использовать пятимиллиардный поток американского золота, чтобы справиться с революцией. Напрасно Фрэнсис тратил слова и деньги. Ни кликуша Керенский, ни кабинетный писака Милюков, ни слизняк Церетели не сумели обмануть народы России. И пожали то, что должны были пожать: революция уничтожила их самих. Позвав на помощь себе Корнилова, Керенский тут же перепугался. Его ужаснул призрак русского бонапартизма, потому что адвокатик сам мечтал о лаврах узурпатора. Когда великолепные американские планы потерпели крушение из‑за этой шайки политической мелкоты, что оставалось Вильсону? Только лавировать. И, вероятно, всякий другой американский президент, будучи на его месте, отправил бы съезду Советов такое же послание…
Рузвельт задумался и, опустив книгу, стал машинально разглядывать плафон на потолке. Его мысли текли вспять, — к тому времени, когда Вудро Вильсон писал эти строки Четвертому съезду Советов России. Допустим, что через два года после того, как были написаны эти слова, в кресле президента Штатов оказался бы не Гардинг, а снова сам автор этих строк, допустим, что вице–президентом был бы не Кулидж, а он, Франклин Делано Рузвельт. Ведь старый проповедник пытался же протащить его на это место в двадцатом году?..
Произошла ли бы тогда интервенция в Сибири и на севере России?.. Пожалуй… произошла бы…
Во имя чего это было сделано?.. Взять свою часть в России?..
"Часть"! Теперь считают, что в этом был величайший промах. От этой ориентации и произошли все ошибки. Мизерный масштаб экспедиции Гревса, привлечение к участию в деле джапов и, как результат, провал всего предприятия. Гревс был прав, не желая таскать каштаны для других.
Или допустим еще одну возможность: президентом был бы он, Рузвельт. Что тогда? Оказались бы Соединенные Штаты столь же яростным и последовательным противником Советов? Ведь никаким скребком не вычистишь из истории того, что именно Соединенные Штаты последними установили отношения с СССР. Еще одна непоправимая ошибка! Россия — это сила. Нельзя оставаться зрителем ее развития. Нужно бороться с нею, уничтожить ее или, если нельзя уничтожить, то… ее хотя бы временно своим другом.
С улыбкой, в которой нельзя было прочесть ответа на этот вопрос, поставленный самому себе, Рузвельт отогнул страницу с посланием Вильсона и внимательно прочитал то, что было на следующей:
"Съезд выражает свою признательность американскому народу и в первую голову трудящимся и эксплуатируемым классам Северной Америки Соединенных Штатов по поводу выражения президентом Вильсоном своего сочувствия русскому народу через Съезд Советов в те дни, когда Советская Социалистическая Республика России переживает тяжелые испытания.
Российская Социалистическая Советская Федеративная Республика пользуется обращением к ней президента Вильсона, чтобы выразить всем народам, гибнущим и страдающим от ужасов империалистической войны, свое горячее сочувствие и твердую уверенность, что недалеко то счастливое время, когда трудящиеся массы всех буржуазных стран свергнут иго капитала и установят социалистическое устройство общества, единственно способное обеспечить прочный и справедливый мир, а равно культуру и благосостояние всех трудящихся".
Через голову Вильсона Ленин протянул руку всем американцам. И по чьей вине? По вине самого же Вильсона!.. Еще одна ошибка старого проповедника.
Когда это было?
Двадцать один год тому назад!
Как много и как бесконечно мало изменилось с тех пор!
Боже милосердный, как много камней преткновения на его пути.
Как примирить непримиримое — интересы Моргана с интересами Рокфеллера? Как поделить между ними мир, когда каждый хочет захватить его целиком?..
Если представить себе, что вот завтра Гитлер, безнаказанно проглотив Чехословакию, вторгается в Польшу, и подступает к границам Советов, что же тогда — гневно крикнуть на весь мир: Соединенные Штаты не допустят, чтобы этот разбойник без предела усиливал свое варварское государство? Послать Сталину такое же письмо, какое послал Ленину Вильсон?.. Что толку? Кто поверит его словам? Да если бы даже и поверили, нельзя предоставить русским до конца бороться один на один с фашистской машиной войны, которую сами они, американцы, так последовательно толкают на восток. Если в этом единоборстве Гитлер возьмет верх, Германия окажется бесконтрольным распорядителем Европы со всеми ее рынками, со всеми капиталовложениями Моргана в ее хозяйство. И Гитлер, нет сомнения, на этом не остановится. Он будет итти дальше и дальше на восток, пока не встретится где‑нибудь на Урале или возле Байкала с японцами. Тогда прощай для Америки китайский рынок, прощай вся юго–восточная Азия и, может быть, все острова Тихого океана! А что будет тогда с Ближним Востоком, с его нефтью?.. Прав был вчера Гарри, снова и снова напоминая о том, что забыть о нефти — значит провалить все дело.
Кое‑кто твердят, будто Америке нет никакого дела до Ближнего Востока, что ей с избытком хватает для бизнеса и надолго хватит своей собственной нефти. Морган и компания никак не желают взять в толк, что интересы Америки требуют расширения нефтяной базы. Для большой политики, которую ведет он, Рузвельт, мало знать, что запас нефти в Соединенных Штатах велик. Нужно иметь ее под рукой во всех концах света — в Техасе и в Мексике, в Ираке и в Польше, в Персии и в Индонезии. Моргановцы не хотят думать о том, что они будут делать со своими долларами без нефти и без недр Рокфеллера, когда придет срок Соединенным Штатам брать в руки вожжи мировой политики. Такое время придет, оно не может не прийти, должно прийти! Это будет спор с Англией и с Японией за пересмотр карты мира. А может быть, с той и другой сразу?.. Оставить к тому времени источники Ирана и Ирака в руках этих англичан? Отдать источники Голландской Индии джапам?..
По какому пути пойдет Индия, если японцы выкинут оттуда англичан? А Африка? Что делать с Африкой… Или, может быть, кто‑нибудь попытается уверить его, будто американцам нет дела ни до Африки, ни до Азии? Что же, найдутся и такие, которые всерьез начнут толковать о том, что на дорогах истории достаточно места, что Штаты могут двигаться вперед, не столкнувшись ни с кем…
Нет, он не может равнодушно смотреть, как Гитлер разевает рот на весь мир. Как можно не понимать: руками этого типа господа из Сити готовятся выбить из седла американских предпринимателей. Но не для того он, Рузвельт, намерен в третий раз сесть в президентское кресло, чтобы позволить кому бы то ни было отодвинуть Штаты на задний план.
Пес, который лает, когда в пасти у него кость, не умен. Грызть кости следует молча… Гитлер жаден и глуп. Он рычит, давясь пищей. Он очертя голову лезет в драку из‑за любого куска тухлятины…
Мерзость!
Гарри, к сожалению, тоже не совсем понимает, как опасен Гитлер. Если этот взбесившийся пес получит все чего добивается, с ним не будет сладу. Его следует держать на цепи и на голодном пайке. Быть может, ради этого придется пойти на временный союз с Россией, если… если она согласится на это.
Рузвельт окончательно отложил книгу и посмотрел на указатель скорости. Поезд делал не более пятидесяти — пятидесяти пяти километров в час. Рузвельт любил ездить медленно. Лежа на диване своего салона, он с интересом следил за видами, пробегавшими за толстыми, в три дюйма, стеклами вагона.
Президент прекрасно знал свою страну. Он мог без путеводителя с точностью сказать, где в любой данный момент находится поезд. Он мог с сотней подробностей, которых нельзя было найти ни в учебниках географии, ни в истории, рассказать, что и когда произошло в любом из пунктов. Он любил часами с оживлением, даже несколько хвастливо, рассказывать это своим спутникам. Те, кто часто с ним ездил, поневоле приобщались к знанию исторической географии Америки.
В салоне никого, кроме Рузвельта, не было. Считалось, что в этот час он спит, выполняя строжайший наказ своего врача Макинтайра. Рузвельт полулежал с выражением полного удовлетворения на лице: одиночество не было слишком частым уделом президента.
Следуя извивам железной дороги, луч солнца медленно переползал вдоль темных, мореного дуба, панелей стены. Иногда он исчезал вовсе, перехваченный высоким краем выемки или стеною леса, пробегавшего за окном.
В президентском вагоне поезда было тихо. Стук колес на стыках мягко доносился сквозь толстые стальные плиты пола, утяжеленного еще листами свинца. Эта комбинация стали и свинца должна была, по мысли конструкторов, сообщить полу не только непробиваемость на случай покушения при помощи бомбы, но и придать вагону столь большой вес, что взрыв не должен был бы его перевернуть. Вагон просто осел бы на полотно. Впрочем, единственным практическим результатом этих инженерных выдумок, который пока ощущали пассажиры вагона, было то, что толстый пол отлично поглощал звуки, а тяжесть придавала вагону плавный ход. На ходу можно было писать без помех.
Поезд прогрохотал по небольшому мосту. Перед взором Рузвельта поплыли крыши большой фермы, одиноко стоящей на высоком берегу ручья. Он отлично помнил эту красиво расположенную ферму. Ее голубые крыши всегда были для него живым напоминанием благополучия, о котором так жадно мечтает американский земледелец.
Он, Рузвельт, не раз уже обещал сделать эту мечту реальностью. Но несколько миллионов полуголодных фермеров попрежнему быстро катились к полному разорению. Они разорялись под непосильным гнетом налогов и спекулятивной политики крупных земельных компаний, действовавших заодно с монополистами по скупке сельскохозяйственных продуктов.
Рузвельт знал, что подобная политика стягивает горло американского фермера, как мертвая петля палача. Он прекрасно знал, что эта политика монополий пополняет армию безработных, и без того достигшую опять страшной цифры в восемнадцать миллионов человек. И, что скрывать, он знал, какую ужасную взрывную силу таит в себе такая армия. Только последние глупцы могли не видеть, что еще в 1933 году американский народ был на грани восстания. Еще немного, и фермеры пустились бы в атаку. Если бы тогда нашлись люди, способные объединить озлобленных фермеров с миллионами доведенных до отчаяния безработных!.. Удар тридцати миллионов человек, ведомых таким полководцем, как голод… Брр!.. И сейчас еще становится не по себе…
Но что же навело его на эти невеселые воспоминания?.. Ах да, богатая ферма с голубыми крышами!
Рузвельт сделал усилие, чтобы приподняться. Ему хотелось еще раз взглянуть на убегавшие крыши. Вот они, там, вправо!.. Но почему они так потускнели? Почему крест–накрест забиты окна и что означает этот повалившийся забор? Что это за обгорелые столбы на месте загона для скота? Неужели цепкая лапа кризиса схватила за горло даже таких крепких хозяев?..
Что же скажет он сегодня фермерам в Улиссвилле?
Кстати об Улиссвилле: если голубые крыши, значит скоро эта станция.
Рузвельт нажал кнопку звонка.
— Артур, — сказал он вошедшему Приттмену, — я должен сесть у окна.
Камердинер молча помог ему подняться на шинах протеза. Это была мучительная операция. Те несколько шагов, что отделяли диван от окна, стоили Рузвельту огромного напряжения — лоб его покрылся крупными каплями пота.
— Ничего, ничего, Артур, — немного задыхаясь, пробормотал он. — Все в порядке… Идите…
Приттмен послушно удалился. Он знал, что президент ни за что не позволит фермерам, перед которыми ему предстояло выступить с речью, заметить, что перед ними, по существу говоря, совершенный калека. В любых обстоятельствах посторонние могли видеть президента только сидящим. Если же он стоял, им предоставлялось смотреть на его массивный корпус, с формами, развитыми, как у атлета, либо на его большую голову, с высоты которой навстречу им всегда светилась приветливая улыбка сильного главы Штатов. Ноги Рузвельта в таких случаях бывали закрыты. Даже если ему нужно было встать в присутствии посторонних, его очень ловко, всего на один момент, прикрывали слуги или агенты личной охраны. Никому из непосвященных не дано было видеть нечеловеческого усилия, которое невольно отражалось на лице президента, когда нужно было поднять тяжелое тело на шины, заменявшие ему безжизненные ноги.
Несколько минут Рузвельт неподвижно сидел у окна. Сквозь толстые стекла зеленоватого цвета все окружающее приобретало несколько более блеклые тона. В первое время, когда охрана прикрыла президенту вид на мир этими пуленепроницаемыми стеклами, его раздражало то, что сквозь них не видно ярких красок, которые он любил. Но со временем он привык к этой стеклянной броне, как и к остальным неудобствам жизни президента.
В салон вошел Гопкинс. Рузвельт встретил его оживленным возгласом:
— Смотрите, смотрите, Гарри!
И показал на высившийся у подножия холма огромный транспарант с изображением красного чудовища, держащего в клешнях ленту с надписью: "Омары Кинлея".
Тысячи подобных реклам мелькали вдоль полотна железной дороги. Гопкинс не мог понять, почему именно этот аляповатый щит с багровым чудищем привел президента в такой восторг.
— Если бы вы знали, Гарри, — оживленно пояснил Рузвельт, — какое чертовски забавное воспоминание молодости связано у меня с омарами!
— Я ем омаров только с соусом Фалька, — ответил Гопкинс унылым тоном человека, которому из‑за отсутствия доброй половины желудка самая мысль об еде не доставляла ничего, кроме неприятности.
— Перестаньте! — воскликнул Рузвельт. — Фальк самый отвратительный обманщик, который когда‑либо занимался соусами. Он готовит их из дешевых отходов.
— Кто вам сказал?
— Против Фалька уже несколько раз пытались возбудить преследование: он отравляет миллионы людей. Но всякий раз этот негодяй ускользает. И не могу понять, каким образом? — Рузвельт развел руками.
— Так я вам скажу: вероятно, всякий раз, когда Фальк должен попасть под суд, в его компании прибавляется еще один акционер — судья, который прекращает дело.
— Если бы это было так просто… — недоверчиво произнес Рузвельт.
— Не воображаете ли вы, что это слишком сложно? — желчно сказал Гопкинс. — Но чорт бы его побрал! Неужели я должен отказаться и от омаров?
— Мясо омаров очень полезно, — наставительно возразил Рузвельт. — Когда я собирался открывать ресторанную линию…
— Вы опять выдумываете.
— Ничуть не бывало. Сейчас расскажу. Но сначала о соусах. Боюсь, что ваше пристрастие к дрянной приправе вынудит хирургов к повторной операции.
— Станут они напрасно терять время! — с напускной небрежностью сказал Гопкинс. — Разве только какая‑нибудь старая дева, одна на все Штаты, теперь не знает, что борьба с раком — пустое занятие.
— Ну, уж непременно рак! — В тоне Рузвельта звучало ободрение, хотя он отлично знал, как называется болезнь Гопкинса.
Сам тяжело больной, ясно сознающий свою неизлечимость, Рузвельт не мог свыкнуться с мыслью, что смерть сторожит его ближайшего помощника, ставшего еще нужнее после смерти Гоу. Гарри дьявольски работоспособен, его связи обширны. Он, как хороший лоцман, помогает Рузвельту вести корабль сквозь пенистые буруны политики между банковской Сциллой Моргана и нефтяной Харибдой Рокфеллера… Да, Гарри незаменимый помощник.
Рузвельт отлично знал, что говорят и даже чего не говорят вслух, а только думают об его советнике. Злые языки приклеили Гопкинсу ярлык "помеси Макиавелли и Распутина из Айовы". Его считают злым гением Белого дома, закулисным интриганом. Все это знал президент. Но зато он знал и то, что Гарри — это человек, с которым он может работать спокойно. Наконец, Рузвельт был уверен: в любой момент можно вместо себя подставить Гопкинса под удары политических противников. Всякое поношение отскочит от Гарри, как старинное каменное ядро от брони из лучшей современной стали.
Откуда, как пришла эта дружба двух людей, столь мало похожих друг на друга? Рузвельт был аристократ, в том смысле, как об этом принято говорить в его круге. Он всегда с гордостью произносил имена своих предков, высадившихся с "Майского цветка". Он знал, что его считают "тонко воспитанным человеком общества", и не без кокетства носил репутацию всеобщего очарователя. Как он мог сойтись с этим социалистом–ренегатом, сыном шорника, резким, подчас нарочито неучтивым Гопкинсом? Гарри был способен, забросив все дела, вдруг превратиться в оголтелого гуляку и в наказание за это надолго слечь в постель. Почему потомственный миллионер так доверился человеку, не обладавшему сколько‑нибудь значительными собственными средствами, но с легкою душой разбрасывавшему чужие миллиарды?
Все это считалось психологической загадкой для журналистов и досадным парадоксом, хотя никакой загадки тут не было: Гопкинс был фанатически предан Рузвельту, он был "его человеком".
Когда Гопкинс, заговорив о соусах, невольно напомнил Рузвельту о своей смертельной болезни, чувство беспокойства всплыло у Рузвельта со всею силой. Президент ласково притянул Гарри к себе за рукав. Но Гопкинс махнул рукой, словно говоря: "Буду ли я есть соус Фалька или какого‑нибудь другого жулика — все равно смерть".
Рузвельт с возмущением воскликнул:
— Гарри, дорогой, поймите: вы мне нужны! Мне и Штатам. Не зря же толкуют, что вы мой "личный министр иностранных дел"!
Гопкинс криво улыбнулся.
— Если вопрос стоит так серьезно, то я готов переменить поставщика соусов.
— Запрещаю вам покупать их у кого бы то ни было, слышите? Моя собственная кухня будет поставлять вам приправы к еде. Макинтайр составит рецепты и…
Гопкинс перебил:
— Тогда уж и изготовление этих снадобий поручите Фоксу.
— Блестящая мысль, Гарри! Из того, что Фокс фармацевт, вовсе не следует, что он не может приготовить вам отличный соус для омаров. Кстати, я едва не забыл об омарах.
Зная, что сейчас Рузвельт ударится в воспоминания, Гопкинс болезненно поморщился. Ему жгла руки папка с бумагами, которую он держал за спиной. Необходимо было подсказать президенту кое‑что очень важное. Дело не терпело отлагательства, а воспоминания Рузвельта — это на добрых полчаса.
— Вы отчаянный прозаик, Гарри. Если бы нас не сближало то, что мы оба безнадежные калеки…
— Надеюсь, не только это…
— Но и это не последнее в нашей совместной скачке, старина! Хотя не менее важно то, что у нас чертовски разные натуры: вы способны думать об омарах только как о кусках пищи красного цвета, немного пахнущих морем и падалью, для меня омар — целое приключение. Это было лет двадцать тому назад, может быть, немного меньше. Мне пришла идея ускорить доставку даров моря из Новой Англии на Средний Запад, перевозя их в экспрессах. Этого еще никто не пробовал. Я стал размышлять над тем, какой продукт смог бы выдержать высокий тариф такой перевозки.
— По–моему, устрицы…
— Нет, омары! Вот что показалось мне подходящим товаром. Перевозка в холодильнике экспресса не могла сделать их слишком дорогими для любителей деликатесов в Сен–Луи. В течение года дело шло так, что я подумывал уже о расширении ассортимента, когда случилось несчастие… вот это… — Рузвельт указал на свои ноги. — Пришлось бросить все на компаньона.
— Кого именно? — быстро, хотя и совершенно машинально спросил Гопкинс.
— Не все ли равно? — неопределенно ответил Рузвельт. — Когда я пришел в себя от удара настолько, что вспомнил об этих омарах и справился о деле, оказалось, что оно с треском вылетело в трубу.
— Как и большинство ваших дел, — скептически заметил Гопкинс.
— Да… Компаньона осенила великолепная идея: "Если арендовать целую полосу берега в бухте и огородить ее так, чтобы омары не могли уходить в море, то они начнут размножаться и скоро заполнят всю бухту. Это будут наши собственные омары, совсем пол руками". Увы, в его плане оказался один маленький просчет: чтобы размножаться, омары должны уходить в море… Так лопнуло это дело…
Рассказывая, Рузвельт, мечтательно смотрел в окно, весь отдаваясь воспоминаниям:
— Потом мне еще раз пришла блестящая мысль, связанная с гастрономией. Я заметил, что по Албани пост–род происходит усиленное движение автомобилей, и подумал: было бы неплохо создать вдоль этой дороги цепь ресторанов. Они снабжались бы готовыми блюдами из одной центральной кухни. Я даже составил меню: холодное мясо, сандвичи, несколько сортов салатов, пиво, эль и, может быть, еще чай в термосах. Горячий — только чай, остальное в холодном виде. Такое дело могло бы отлично пойти. Но, чорт побери, я никогда не мог забыть печальной истории с омарами и так и не решился приняться за свои рестораны…
— Рестораны не для вас, патрон, — желчно проговорил Гопкинс, — а вот что касается омаров, то просто удивительно, что вы, уделяющий столько внимания улучшению условий человеческого существования, не подумали об условиях, определяющих возможность размножения или вымирания омаров.
— Что общего между омарами и людьми?
— Те и другие поедают падаль, те и другие созданы богом на потребу нам.
— Я лучшего мнения и о боге и о людях, Гарри.
— Тем более достойно сожаления, что вы не занялись вопросом регулирования их размножения.
— Должен сознаться, Гарри, я никогда всерьез не интересовался этими делами.
— А стоило бы.
— Не стану спорить, но, на мой взгляд, это чересчур большой и сложный вопрос, чтобы заниматься им между прочим. А на серьезное изучение у меня нет времени.
— Для нас с вами он стоит в одном единственном аспекте: что делать с людьми, когда их станет еще больше? Впрочем, мы не знаем, что с ними делать уже сейчас! — сердито проговорил Гопкинс. — По–моему, вопрос не так уж сложен, как хотят его представить всякие шарлатаны от науки: людей на свете должно быть как раз столько, сколько нужно.
— Нужно для кого? — прищурившись, спросил Рузвельт.
Гопкинс прищурился, копируя собеседника:
— Для нас с вами! — И пожал плечами.
— Ручаюсь вам, Гарри, мальтузианство — бред кретина, забывшего лучшее, что господь–бог вложил в нашу душу: любовь к ближнему.
— Что касается меня, — желчно сказал Гопкинс, — то я люблю ближнего только до тех пор, пока получаю от него какую‑нибудь пользу. А я не думаю, чтобы увеличение народонаселения, хотя бы у нас в Штатах, способствовало моей или вашей пользе.
— Это отвратительно, Гарри, то, что вы говорите! — крикнул Рузвельт. — У вас немыслимая каша в голове… вы ничего не понимаете в этом. Хорошо, что ни вы, ни я не успеем засесть за мемуары.
— За меня не ручайтесь…
— Не обольщайтесь надеждой, что я оставлю вам время на это старческое копание в отбросах своего прошлого.
— Только потому, что мне не дано дожить до старости, только поэтому.
— Вовсе нет, — запротестовал Рузвельт. — Я не позволю ни себе, ни вам тратить время на стариковские жалобы, пока один из нас способен на большее.
Гопкинс отлично понимал, что хочет сказать Рузвельт, но ему доставляло удовольствие строить гримасу недоумения. Он любил поднимать подобные темы и часто спорил с президентом. Эрудированные доводы образованного и дальновидного Рузвельта частенько бывали Гопкинсу очень кстати, когда ему самому доводилось отстаивать точку зрения президента перед его противниками. Эти доводы особенно были нужны Гопкинсу потому, что он не находил их у себя.
Гопкинс не был простаком. К тому же, будучи помощником такого изощренного политика, как Рузвельт, он не мог относиться к противникам так легкомысленно, как относился кое‑кто из его друзей, в особенности все эти оголтелые ребята из шайки Ванденгейма. Гопкинс смотрел на коммунизм, как на серьезное явление в жизни общества. Он отдавал должное русским, проводившим учение Маркса и Ленина в жизнь с завидной последовательностью. Но он, разумеется, не соглашался с тем, что позиция его общественной системы — капитализма — могли быть сданы этому враждебному его миру мировоззрению.
Вот тут‑то ему недоставало теоретических знаний, а Рузвельт прибегал иногда к мыслям таких, казалось бы, далеких миру президента философов, как Ленин и Сталин. При грандиозном размахе их философских построений, при невиданной смелости социальных и экономических решений, предлагаемых человечеству, они никогда не отрывались от реальности.
Нет, Гопкинс не был философом. Единственными уроками философии, которые он признавал, были беседы с Рузвельтом. Но и здесь он частенько проявлял такую же несговорчивость, как сегодня:
— Не понимаю, что глупого в рассуждениях Мальтуса? Но допустим, что попытка избавиться от перепроизводства рабочих рук — действительно чепуха. Тогда нужно сократить производство машин–производителей.
— Одна глупость страшнее другой, — воскликнул Рузвельт.
— Не понимаю, что тут глупого, — сказал Гопкинс, — если вместо одного давильного автомата я посажу в сарай сотню парней. Все они будут заняты, все будут получать кусок хлеба, а я буду иметь те же пятьсот кастрюль в день, которые штампует автомат.
В глазах Рузвельта мелькнула нескрываемая насмешка. Когда Гопкинс умолк, он сказал:
— Значит, когда эти сто парней родят еще сто, вы должны будете дать им в руки вместо медного молотка деревянный или просто берцовую кость съеденного ими вола, чтобы работа у них шла медленней. А когда у той второй сотни родятся еще сто сыновей, вы заставите их выгибать кастрюли голыми пальцами, а закраины для донышка делать зубами?
— Это уже абсурд!
— А не абсурд предполагать, что три доллара, которые вы даете сегодня мастеру при автомате, можно разделить на сто парней, а потом на двести, а потом…
— Вы сегодня поднимаете меня на смех.
— Это все‑таки лучше, чем если бы вас подняли на смех Тафт или Уилки.
— Одно другого стоит, — кисло протянул Гопкинс. — Но в заключение я вам все‑таки скажу, что сколько бы вы ни занимались вашей филантропией, вы не спасете от катастрофы ни Америку, ни тем более человечество. — Гопкинс подумал и очень сосредоточенно продолжал: — Я настаиваю: перспектива должна быть! — Он убеждающе потряс в воздухе кулаком. — Поймите же, патрон, она должна быть тем лучшей, чем меньше людей будет на земле. Ведь чем скорее они размножаются, тем больше возникает противоречий, тем сгущеннее атмосфера, тем страшнее смотреть в будущее.
— Вы пессимист, Гарри…
— Ничуть! Мне просто хочется думать логически: а к чему же мы придем, когда их будет вдвое, втрое больше? Это же чорт знает что!.. Кошмар какой‑то!..
Рузвельт остановил его движением руки.
— Вы недурной делец, во всяком случае, с моей точки зрения, — прибавил он с улыбкой, — но ни к чорту негодный философ, Гарри… — Он пристально посмотрел в глаза собеседнику. — Говорите прямо: вам хочется уничтожить половину человечества?..
4
Рузвельт был человеком, не способным положить на стол даже локти. Он был из тех, кто в нормальных условиях избегал говорить неприятности. Во всех случаях и при любых обстоятельствах он стремился приобретать политических друзей, а не врагов. Вместе с тем он понимал, что в сношениях с противниками, будь то внутри Штатов или за их пределами, — особенно, если эти противники более слабы, — нужно разговаривать подчас просто грубо. Поэтому Рузвельту нужен был кто‑нибудь, кто мог за него класть на стол ноги на всяких совещаниях внутри Америки и на международных конференциях и говорить с послами языком рынка. Таким человеком и был Гарри Гопкинс.
Гопкинс понимал: вопрос, только что заданный ему Рузвельтом, не риторический прием. Но Гарри достаточно хорошо изучил президента, чтобы знать, что в разговоре с ним далеко не всегда следует называть вещи своими именами. Нужно предоставить ему возможность обратиться к избирателям с высокочеловечными декларациями, обещать мир всему миру, обещать людям счастливое будущее. А когда дойдет до дела, он, Гопкинс, найдет людей, руками которых можно делать любую грязную работу.
Не всегда можно было прочесть мнение президента в его взгляде. Сейчас, например, Гопкинс не мог понять: действительно ли Рузвельт осудил его, или это опять только манера всегда оставаться в глазах людей чистоплотным.
"Вам хочется уничтожить половину человечества?.."
Что ему ответить?..
Гопкинс негромко произнес:
— Я этого не сказал, но…
— Но подумали! А мне не хочется, чтобы мой лучший друг строил из себя какого‑то каннибала, считающего, что только война может нам помочь выйти из тупика.
— Значит, тупик вы все‑таки признаете! — торжествующе воскликнул Гопкинс, поймавший Рузвельта на слове, которое у того еще ни разу до сих пор не вырывалось. Но президент мгновенно отпарировал:
— Не тот термин, — сказал он, — я имел в виду политический кризис и только…
— Ну, так попробуйте вытащить мир из этого "кризиса", избежав войны. Буду рад выслушать хорошую лекцию по этому поводу.
— К сожалению, Гарри, — и лицо Рузвельта сделалось задумчивым, — я теперь все чаще обращаюсь к русской литературе, когда мне приходится разбираться в сложностях, до которых докатилось человечество. На этот раз я передам вам мысль одного русского публициста, с которым сам познакомился недавно. Но тем свежее у меня в памяти его мысль: некий джентльмен сомневается в дальнейшей судьбе цивилизации человечества только потому, что животный страх за собственные преимущества, присвоенные за счет других людей, он переносит на общество в целом. Он думает: "Так как с прогрессом общества будут уменьшаться мои сословные преимущества, обществу в целом будет хуже. А когда меня вовсе лишат привилегий, общество окажется на грани гибели…" — Рузвельт вопросительно посмотрел на Гопкинса. — Вы поняли, Гарри?.. Не кажется ли мне, что, когда меня лишат Гайд–парка, человечество останется без крова?..
— Я далек от таких аберраций, — с цинической откровенностью проговорил Гопкинс. — Меня беспокоит судьба этого поезда, — он выразительно обвел вокруг себя рукою, — а вовсе не то, что находится там, — и он с презрением ткнул пальцем в окно вагона, на видневшиеся за толстым стеклом домики фермеров.
— Тогда, мой друг, — с ласковой наставительностью проговорил Рузвельт, — вы должны прежде всего выкинуть из головы глупости, которые в ней сидят. Мальтус не подходит. Массам людей он гадок. Это не философия, а грубый обман. На него нельзя поддеть человечество. Только трусы, потерявшие голову, могут полагаться на подобные средства борьбы с разумными требованиями простого человека. Запомните, Гарри: животный страх перед массой не делает дураков умными — они остаются дураками. Пойдемте своей дорогой. Если мы не сумеем завоевать любовь американцев — конец! — Он погрозил Гопкинсу пальцем. — Запомните, Гарри: сознательный гнев масс — это революция. — С этими словами он отвернулся было к окошку, но тут же снова подался всем корпусом к Гопкинсу. — Этого вы не записывайте в своем дневнике… А теперь, что вы там мне приготовили? — И протянул руку к папке, которую держал Гопкинс.
Гопкинс молча подал лист, лежавший первым.
Взгляд Рузвельта быстро пробежал по строкам расшифрованной депеши.
"24 марта 1939
Американский посол в Лондоне
Кэннеди
Государственному секретарю США
Хэллу
Лорд Галифакс считает, что Польша имеет большую ценность для западных держав, чем Россия. По его сведениям, русская авиация весьма слаба, устарела, оснащена самолетами малого радиуса действия; армия невелика, ее промышленная база не готова…"
По мере того как Рузвельт читал, все более глубокая морщина прорезала его лоб. Закончив чтение, он еще несколько мгновений держал бумагу в руке.
Словно нехотя вернул ее Гопкинсу:
— Что говорит Хэлл?
— Что Галифакс высказался в пользу того, чтобы провести перед Германией черту и заявить: "Если Гитлер перейдет эту черту — война".
— Пусть заявляет… — неопределенно ответил Рузвельт, не поворачивая головы. И помолчав: — Уж не хочет ли Галифакс, чтобы мы присоединились к этому заявлению?
Гопкинс пожал плечами.
— Я их понимаю, — задумчиво проговорил президент. — Чемберлену и Даладье есть из‑за чего рвать на себе волосы: Чехословакия — в брюхе Гитлера, а он пока и не думает двигаться дальше на восток…
— На Россию?
— Я сказал: на восток, — с ударением повторил Рузвельт и после минутной задумчивости продолжал: — Вот когда я много дал бы, чтобы с точностью знать: действительно ли так слаба Россия или это обычный просчет англичан?
— Не всегда же они ошибаются.
— Это становится их традицией. Вспомните, как в тридцать седьмом их пресса из кожи вон лезла, чтобы доказать слабость Китая, его неспособность сопротивляться нападению японцев.
— Это понятно. Англичанам чертовски хотелось толкнуть джапов в Китай назло нам.
— Но вспомните, что они пророчили: капитуляцию Китая через два месяца. А что вышло?.. Джапы увязли там так, что не могут вытащить ноги. Не получится ли того же с Германией?..
— Мы могли бы помочь ей так же, как помогали Японии, — ответил Гопкинс, но Рузвельт резко оборвал его:
— Я не хочу слушать такие разговоры, Гарри! Слышите, не хочу!
— Так или иначе, Хэлл готов поддержать стратегию англичан и французов.
Рузвельт ничего не ответил. Гопкинс продолжал:
— Их идея заключается в том, чтобы поместить Россию… вне запретной черты Галифакса.
Рузвельт снова ничего не ответил.
Гопкинс знал эту манеру президента: делать вид, будто не слышит того, по поводу чего не хочет высказывать свое мнение. Поэтому Гопкинс договорил:
— Они полагают, что при таких условиях Гитлер нападет на Советский Союз.
Рузвельт действительно не хотел отвечать. Ему нечего было ответить. Ведь именно этот вопрос он поставил перед собою не дальше получаса назад, читая послание Вильсона. Вот судьба: ответ потребовался гораздо быстрее, чем он предполагал. И вовсе не в теоретическом плане. От того, что он скажет Хэллу, зависело, быть может, куда и когда двинется Гитлер…
Близкие к Рузвельту люди знали, что, называя сам себя якобы в шутку величайшим притворщиком среди всех президентов Штатов, он говорил сущую правду, тем самым стараясь скрыть ее от людей.
Он как‑то сказал: "Если хотите, чтобы люди не знали ваших истинных намерений, откровенно скажите, что собираетесь сделать. Они тут же начнут ломать себе голову над совершенно противоположными предположениями". Однако сам Рузвельт ни разу не последовал этому правилу, и тем не менее никто и никогда не знал того, что он думает. Президент действительно был великим мастером притворства.
Почти невзначай, словно она не имела никакого отношения к делу, прозвучала его просьба, обращенная к Гопкинсу:
— Дайте‑ка мне вон тот бювар, Гарри. Это мои предвыборные выступления. Я хочу тут кое‑что просмотреть перед встречей с фермерами Улиссвилля.
Поняв, что президент хочет остаться один, Гопкинс повернулся к выходу, но Рузвельт остановил его:
— Дуглас отдохнул?
— Макарчер не из тех, кого утомляют перелеты. Он давно сидит у меня в ожидании вашего вызова.
— Пусть заглянет, когда поезд отойдет от Улиссвилля. Да и сами заходите — послушаем, что творится на Филиппинах. Теперь это имеет не последнее значение, а будет иметь вдесятеро большее.
— Вы знаете мое отношение к этому делу, патрон.
— Знаю, дружище, но вы должны понять: именно обещанная филиппинцам независимость…
Гопкинс быстро и решительно перебил:
— На этот раз нам, видимо, придется выполнить обещание.
— Через семь лет, Гарри. — И Рузвельт многозначительно повторил: — Только через семь лет!
— Если это не покажется вам парадоксом, то я бы сказал: именно это меня и пугает — слишком большой срок.
Рузвельт покачал головой.
— Едва ли достаточный для того, чтобы бедняги научились управлять своими островами.
— И более чем достаточный для того, чтобы Макарчер успел забыть о том, что он американский генерал.
— Дуглас не из тех, кто способен это забыть. И кроме того, у него будет достаточно забот на десять лет вперед и после того, как "его" республика получит от нас независимость. Составленный им десятилетний план укрепления обороны Филиппин поглотит его с головой.
Гопкинс недоверчиво фыркнул:
— Меня поражает, патрон: вы, такой реальный в делах, становитесь совершенным фантазером, стоит вам послушать Макарчера.
— Своею ненасытной жаждой конкистадора новейшей формации он мог бы заразить даже и вас.
— Сомневаюсь… Начнем с того, что меня нельзя убедить, будто Япония предоставит нам этот десятилетний срок для укрепления Филиппин.
— Тем хуже для Японии, Гарри, могу вас уверить, — не терпящим возражений тоном произнес Рузвельт.
Но Гопкинс в сомнении покачал головой:
— И все‑таки… Я опасаюсь…
— Пока я президент…
— Я ничего и никого не боюсь, пока вы тут, — Гопкинс ударил по спинке кресла, в котором сидел Рузвельт, и повторил: — Пока тут сидите вы.
Веселые искры забегали в глазах Рузвельта. Поймав руку Гопкинса, он сжал ее так крепко, что тот поморщился.
— То же могу сказать и я: что может быть мне страшно, пока тут, — Рузвельт шутливо, подражая Гопкинсу, ударил по подлокотнику своего кресла, — стоите вы, Гарри! А что касается Дугласа — вы просто недостаточно хорошо его знаете.
— Кто‑то говорил мне об усмирении…
— Перестаньте перетряхивать это грязное белье! — И Рузвельт с миной отвращения замахал обеими руками. — Короче говоря, я не боюсь, что Макарчер променяет президента Рузвельта на президента Квесона.
— Но может променять его на президента Макарчера.
— Если бы он и был способен на такую идиотскую попытку, она не привела бы его никуда, кроме осины. Его линчевали бы филиппинцы. Не думаю, чтобы им пришелся по вкусу президент–янки. Нет, этого я не думаю, Гарри. — По мере того как Рузвельт говорил, тон его из шутливого делался все более серьезным и с лица сбегали следы обычной приветливости. Но тут он ненадолго умолк и, снова согнав с лица выражение озабоченности, прежним, непринужденным тоном сказал: — Кстати, Гарри, когда увидите нашего "фельдмаршала", скажите ему, чтобы не показывался в окнах вагона. Пусть не ходит и в вагон–ресторан. Я не хочу, чтобы об его присутствии пронюхала пресса. А в ресторане, говорят, всегда полно этих бездельников–корреспондентов.
— Где же им еще ловить новости, если вы уже второй день не собираете пресс–конференций.
— Подождут!
При этих словах он жестом отпустил Гопкинса и принялся перелистывать вшитые в бювар бумаги. Отыскав стенограмму своего недавнего заявления, сделанного журналистам в Гайд–парке, он остановился на словах:
"…Заявление о включении США в Англо–французский фронт против Гитлера представляет собою на сто процентов ложное измышление хроникеров…"
Да, именно это было им сказано. Что же это такое — дань предвыборной агитации или искреннее заявление создателя первой в истории Штатов настоящей двухпартийной политики?
Двухпартийная политика! Пресловутые "лагери" не менее пресловутых "республиканцев" и "демократов".
Даже наедине с самим собою Рузвельт не стал бы называть вещи своими именами. Хотя и он сам, как и всякий мало–мальски ориентированный в американской политической жизни человек, отлично понимал, что дело вовсе не в этих двух организациях, имевших мало общего с обычным понятием политической партии. Двумя чудовищами, под знаком смертельной борьбы которых проходила вся политическая и экономическая жизнь Америки, были банковско–промышленная группа Моргана, с одной стороны, и нефтесырьевая группа Рокфеллера — с другой. Сочетание политики этих монополистических гигантов и следовало бы, собственно говоря, именовать двухпартийной политикой. До Франклина Рузвельта такое сочетание плохо удавалось американским президентам. Ставленники группы Моргана падали жертвами интриг мощного выборного аппарата рокфеллеровских "политических боссов". Ставленников Рокфеллера нокаутировал аппарат Моргана. Для народа это носило название борьбы демократов с республиканцами. Но ни один американец с конца девятнадцатого столетия уже не мог дать ясного ответа на вопрос, чем отличаются республиканцы от демократов. Зато всякий отчетливо знал, что между ними общего: та и другая "партия" была орудием политики решающих монополистических групп…
Рузвельт знал, что его заявление журналистам произвело сенсацию далеко за пределами Америки. Через некоторое время государственный департамент дал знать в Европу, что в случае конфликта из‑за Чехословакии Франция не должна рассчитывать ни на поставки американских военных материалов, ни на кредиты из США. И в прямой связи с его заявлением находилось то, что было провозглашено в комиссии сената по иностранным делам: "Сенат США не поставит на голосование никакого договора, никакой резолюции, никаких мер, определяющих вступление США в войну за границей, так же, как никаких соглашений, никаких совместных действий с любым иностранным правительством, которые имели бы целью войну за границей". А это тоже имело большой резонанс в Европе.
Больше того! С санкции президента, в угоду изоляционистам, которых накануне выборной кампании нужно было умилостивить, Хэлл сообщил Франции, что если разразится война в Европе, французы не получат от Америки больше ни одного самолета, даже из числа уже заказанных французским правительством и даже из тех, что уже готовы для него…
Да, именно так обстояло дело с Чехословакией!
А как будет с Польшей?
Если Гитлер действительно проглотит и Польшу, то неужели он, Рузвельт, и на этот раз получит послание, подобное тому, которое прислал после Мюнхена английский король? С идиотской торжественностью, на которую способны одни английские дипломаты, посол Великобритании вручил ему тогда это письмо. Рузвельт помнит его почти дословно — так оно было неожиданно и так не соответствовало политическому моменту:
"Считаю обязанностью сказать вам, как я приветствую ваше вмешательство в последний кризис.
Георг".
Последний кризис!..
По лицу Рузвельта пробежала горькая усмешка: поистине глупость не мешает им совершать подлости, а подлость — быть дураками!
Он захлопнул бювар и отбросил в сторону: политика!
За окном промелькнули первые фермы окрестностей Улиссвилля. Влево, на холме, прямо против просеки, сбегавшей к его подошве, среди могучих сосен, был виден белый дом с колоннами. Большой красивый дом старинной усадьбы. Если бы Рузвельт не был в салоне один, он непременно рассказал бы интересную историю о том, как в этом доме, наследственном гнезде таких же американских аристократов–первопришельцев, какими были Рузвельты, генерал Улисс Грант подписал приказ о большом наступлении на южан во время гражданской войны 1861–1865 годов. Наступление шло вдоль той вон долины. Теперь там виднеются лишь прозаические оцинкованные крыши станционных построек Улиссвилля.
Рузвельт мог бы рассказывать долго. Он помнил такие подробности, словно сам присутствовал при подписании этого приказа среди офицеров–северян, или, может быть, в качестве близкого друга хозяина дома.
Он и вправду представлял себе все это очень ясно. Так может представлять себе события только человек, влюбленный в историю своей страны. Если говорить откровенно, ему нередко досаждала мысль о том, что у его родины нет большого прошлого. История Штатов еще слишком коротка, чтобы называться "историей" в буквальном смысле этого слова. Самое дрянное из бесчисленных немецких княжеств начинает свои летописи на несколько столетий раньше, чем на свет появилось государство Соединенных Штатов Америки.
Но чем меньше прошлого было у Штатов, тем больше хотелось Рузвельту, чтобы оно было значительным. А уж если нельзя было преклоняться перед величием прошлого Штатов, то Рузвельт жил мечтою о будущем расширении их могущества далеко за пределы, ограничивавшие горизонты таких людей, как Грант и Линкольн. Если бы только они могли себе тогда представить всю силу, которую таит доктрина Монро! Если бы только кто‑нибудь знал, как он, Франклин Рузвельт, благодарен этому вирджинскому эсквайру! Мысль Джеймса Монро в хороших руках может стать орудием перестройки всей политики Штатов. Быть может, даже перестройка мира пойдет под новым, еще не всеми угадываемым, но неизбежным, как судьба, водительством Америки. Нужно добиться от каждого американца, кто бы он ни был — простой фермер или сенатор, нового понимания принципов внешней политики Штатов. Нельзя вести старую политику, достигнув нынешней мощи Соединенных Штатов. Нужно осторожно, но уверенно поставить на повестку дня вопрос о том, что Британская империя одряхлела и изжила себя. В ее выродившемся организме уже нет сил, необходимых для сдерживания центробежного стремления ее составных частей. Тем более нет у нее возможностей создать центростремительные силы, необходимые для превращения этого рыхлого кома в монолит. А не создав его, не пройдешь сквозь приближающиеся бури. В Европе поднимается фашистская Германия. Куда она устремится? Если трезво смотреть на вещи, то при всем отвращении к этому гитлеровско–генеральскому гнезду нельзя иметь ничего против того, чтобы немцы дали хорошего тумака Джону Булю. Это было бы на пользу Америке. Никогда не будет поздно бросить спасательный круг англичанам. За этот круг они заплатят хорошими кусками своей империи. Но захочет ли усилившаяся Германия разговаривать с Америкой, как равный с равным? Не страшно ли ее усиление для самой Америки? Да, всякий дрессировщик знает, что зверь становится опасен с того дня, как ему дадут отведать теплой крови. Тогда он может броситься и на хозяина. Значит?.. Значит, нужно вести дела так, чтобы нацистский тигр всегда смотрел в руки укротителя. Перед зверем всегда должен быть выбор: кусок мяса или факел в морду!.. Такое положение можно сбалансировать. Разумеется, здесь есть свои трудности. Взять хотя бы проклятых джапов! Тройственный союз Германия — Япония — Италия в Штатах все еще легкомысленно принимают лишь за объединение противников Коминтерна. А это опасная комбинация, если дать ей волю. Рузвельт готов поставить сто против одного, что до этой "оси" додумались не в Берлине. Тут пахнет азиатскими мозгами. А может быть, плесенью Темзы?..
Тут мысль Рузвельта обратилась к России.
Россия! Опыт России — самый опасный из всего, что когда‑либо противостояло капитализму. Это уже не идея, не философские постулаты кабинетных социалистов. Это осязаемая реальность нового мира.
Что можно было этому противопоставить? Только стремительное развитие самых далеко идущих обещаний рузвельтовского "Нового курса". Но все это уже всем надоело. "Новый курс" — это опять‑таки барыш для Моргана и Рокфеллера. Хорошо, что простой американец еще на что‑то рассчитывает, он готов голосовать за Рузвельта и в третий раз, потому что ненавидит политиков — гангстеров и возлагает надежды на зачинателя "Нового курса"…
Ничего дурного не было в том, что демагоги–противники подняли крик, будто Рузвельт ведет Америку к социализму. Ничего дурного не было бы в том, если бы массы поняли это буквально. Нельзя недооценивать очарования слова "социализм" для простого народа. Но очень печально, что даже в Вашингтоне нашлись глупцы, принявшие политические маневры президента за измену классу, который господь–бог поставил во главе угла американского дома. Глупцы! Он же старается для спасения их всех от пропасти, к которой они несутся неудержимым галопом, своей ненасытной жадностью разжигая в массах ненависть к существующему порядку вещей…
Рузвельту кажется, что ему удалось бы без больших потерь справиться со всем, что противостоит его классу. Не страшны Германия и Англия, пожалуй, даже Япония… С нею можно будет временно сладить, пока не будет покончено с остальными, или, наоборот, покончить с нею первой руками остальных. Если посол Грю не совершенный дурак и будет выполнять инструкции Вашингтона, Япония не бросится на Штаты. Хэлл достаточно ясно инструктировал Грю: США рекомендуют японцам получить все, что они хотят и могут взять, повернув свою экспансию на северо–запад. США не станут защищать там ничего, за что империя Ямато сочла бы нужным сражаться. Пусть она ограничится в Китае тем, что приобрела. Пусть оставит в покое остальное и обратит свое воинственное внимание туда, где естественные ресурсы дадут ей ничуть не меньше, чем в Китае. Правда, Грю ни разу не услышал от Вашингтона слова "Россия", но ведь на то он и дипломат, чтобы понимать написанное между строк. А если он и не поймет — поймут сами японцы. У них есть там кое‑кто поумнее Грю…
"Россия!.."
Видит бог, Рузвельт никогда не произносил этого вслух!..
Рузвельт вспомнил о проплывшем на вершине холма белом доме, о генерале Гранте… Вот о чем он поговорит с фермерами Улиссвилля: величие родины, могущество Штатов! В создании такого могущества должен принять участие каждый американец, которому не может не быть дорога истерия его родины.
Рузвельт любил выступать перед избирателями. В особенности, когда был уверен в расположении аудитории. А у него не было сомнений в добром отношении фермеров. Предстоящая встреча была ему приятна. Но с мыслью об Улиссвилле всплыло и воспоминание о том, что именно там в его поезд должен сесть Джон Ванденгейм. Рузвельт не любил этого грубого дельца, не признававшего околичностей там, где дело шло о наживе.
Рузвельт охотно уклонился бы от свидания с Джоном, если бы эта встреча не сулила возможности сгладить углы в отношениях с рокфеллеровцами. Джон — это добрая половина Рокфеллера. Значит, нужно испить чашу, если господь–бог не сделает так, чтобы Ванденгейм опоздал к приходу поезда. Что касается Рузвельта, то он, со своей стороны, сделал все возможное, чтобы Джон опоздал: попасть в Улиссвилль к заданному часу было делом нелегким.
Рузвельт взглянул на часы и нажал кнопку звонка.
— Приготовимся к митингу, Артур, — сказал он бесшумно появившемуся в дверях камердинеру.
5
Взгляд Ванденгейма упал на ветку деревца, робко просунувшуюся сквозь проволочную решетку станционной ограды. Большие тусклоголубые глаза Джона, на белках которых год от года появлялось все больше багровых прожилок, несколько мгновений недоуменно глядели на одинокую ветку. Можно было подумать, будто ее появление здесь было чем‑то примечательным.
Джон подошел к ограде так медленно и настороженно, что, казалось, даже каждый его шаг был выражением удивления. Всякий, кто хорошо знал Джона и наблюдал его в течение многих лет, как это делал Фостер Доллас, с уверенностью сказал бы, что, повидимому, в этой маленькой ветке нашлось что‑то, что подействовало на сознание Ванденгейма сильнее обычных явлений, в кругу которых он вращался.
Железо и нефть, акции и шеры, контокорренто и онколь, конкуренты и дочерние предприятия, старшие и младшие партнеры, курсы, кризисы, демпинги — на малейшее изменение в любом из этих понятий мозг Джона реагировал с чуткостью тончайшего барометра. Он молниеносно высчитывал, как самый совершенный арифмометр, сопоставлял, наносил удары или санировал. Он давно уже перестал волноваться, взвешивая шансы прибылей и убытков. Нюхом, выработанным полувековой звериной борьбой с себе подобными, он определял завтрашнюю обстановку на бирже и, пользуясь мощью своих финансовых резервов, пытался изменить ее в свою пользу.
Волчий инстинкт потомственного разбойника Джон принимал за способность к расчету. Джон счел бы сумасшедшим того, кто попытался бы открыть ему глаза на истину и сказать, что все происходящее в его жизни в действительности является не чем иным, как погоней за добычей.
Джон полагал, что эта деятельность направлена к упрочению на веки веков его господства на бирже, в промышленности, в банках; его права повелевать миллионами людей, его права обращать их жизнь в существование, предназначенное для расширения без конца и предела его финансово–промышленной державы.
Собственно говоря, спорить тут не приходилось. Джон действительно был распорядителем судьбы миллионов людей, добывавших для него права и преимущества, людей, создававших для него положение короля банков и копей, железных дорог и стальной промышленности, повелителя прессы. Ну, с чем тут было спорить? Какой американец не знал, что законы американского образа жизни ограничивают волю Джона не больше, чем парии ограничивают самодержавие индийского набоба. Не стоило спорить и с тем, что Джон Третий обладал личным богатством неизмеримо большим, нежели национальное достояние иного государства.
Все это было именно так, как представлял себе сам Джон, как представляли себе все волки его стаи.
Одно было совсем иначе, но это одно определяло сущность всего остального: самый факт подобного существования являлся отнюдь не плодом какого‑то выдуманного самими ванденгеймами вечного божественного права, а лишь последствием бесправия, созданного экономикой, поставленной на голову. Нынешнее состояние общественного строя, солью которого мнили себя ванденгеймы, можно было бы сравнить с огарком свечи. Ее пламя последними рывками тянулось к потолку. Чем сильнее оно вспыхивало, тем меньше оставалось стеарина в свече, тем ближе был ее конец. Вот–вот погаснет обугленный, отвратительно чадящий фитиль — последнее воспоминание о некогда гордой, увитой золотыми нитями свадебной свече капитализма.
Правда, сам Ванденгейм и другие подобные ему короли нефти и железа, повелители банков и биржи, судорожно цеплялись за прогнившие балки шатающегося здания. Они еще пытались подпереть обваливающуюся крышу миллионами трепещущих человеческих тел, приносимых в жертву богу капитала в страданиях и ужасе истребительных войн. Но какое влияние на ход жизни могли оказать эти их усилия? Разве и до них жрецы Кали и Минотавра не нагромождали гекатомбы тел в судорожном стремлении удержать власть над остававшимися в живых?
Жертвы демпинга, тысячи банкротов, армии безработных и полчища голодных фермерских детей, чьи отцы производили хлеб для того, чтобы потом его сжигали в топках паровозов, чьи отцы снимали урожаи кофе, чтобы его топили в океане, чьи отцы взращивали виноград, чтобы его скармливали свиньям, — вот кто стоял по одну сторону водораздела американской жизни. Банки и заводы ванденгеймов, их виллы и яхты, любовницы и скаковые лошади, полиция и законы — по другую.
Но все эти противоречия не могли вызвать у Джона того удивления, какое его взгляд выражал сейчас, когда Джон медленно, будто в нерешительности, приближался к станционной решетке. Что удивительного могло быть в тонкой веточке деревца, просунувшейся между ржавыми проволоками ограды? Она наивно тянулась навстречу тяжело шагавшему большому мужчине с красным лицом. Жидкие клочья седых волос неряшливо торчали из‑под шляпы Джона, большие хрящеватые уши светились на солнце, как прозрачно–желтые морские раковины.
Не каждую ли весну тянулась эта ветка к солнцу? Из года в год все выше и выше карабкалась она от одной клетки изгороди к другой, вопреки проволоке, преграждавшей ей путь, вопреки ножницам садовника, отсекавшим новые побеги. Была ли эта ветка доказательством того, что законы развития слепы и стремление этой ветки пробиться сквозь изгородь не что иное, как простая случайность? Или, наоборот, именно потому, что ножницы пресекали ее путь, эта ветка от года к году ухолила все выше, тянулась туда, где ничто не мешало ей развиваться? Она будет цвести, зеленеть и превратится в большой крепкий сук, от которого пойдут новые, молодые, такие же робкие сначала, как она сама, побеги…
Впрочем, все это пустяки. Какое значение может иметь эта глупая ветка? Чем она могла остановить на себе взгляд Джона? Едва распустившимися нежно–зелеными листочками?.. Или, может быть, его привлекли вон те кончики листков, едва–едва начинающие высовываться из лопнувших почек? Чепуха! Разве в зимних садах его вилл не собрано все самое ароматное и самое зеленое, что может дать растительность земного шара?.. Однако, позвольте… когда же он последний раз видел эту зелень?..
Джон сдвинул шляпу на затылок, словно ее прикосновение ко лбу мешало вспомнить не только то, когда он видел зелень, но даже то, когда он в последний раз заходил в какой‑нибудь из своих зимних садов. Вот в чем разгадка! Эти жалкие листки возбудили в нем интерес, потому что он отвык от зелени; уж бог весть сколько времени он вообще не видел ничего, кроме стен своих кабинетов.
Джон шагнул к изгороди и потянул к себе ветвь, покрытую липкими листками. В безотчетном желании уничтожать раздражавшую его молодую зелень Джон охотно сгреб бы своею большой пятерней все эти ветки. Но проволочная сетка ограды мешала ему. Он сунул несколько пальцев в ячейку забора — ими невозможно было захватить ничего, кроме той единственной ветки, что просунулась между проволоками. Он несколько мгновений смотрел на нее, его ноздри раздувались, он старался втянуть в себя запах дерева, напоминавший что‑то далекое.
Нет, он положительно не мог себе представить, что ему напоминает этот удивительный запах листьев!
Джон оборвал один маленький нежный листочек, растер его в пальцах и поднес их к носу; потом сделал то же самое с надувшейся, готовой лопнуть почкой.
Можно было подумать, что острый, горьковатый запах весны поразил его: вся его фигура в течение некоторого времени выражала полнейшее недоумение. Затем он сгреб в кулак всю ветку и рывком обломил ее у самой ограды. Помахивая ею у лица, как курильщик сигарой, в задумчивости зашагал по платформе.
Фостер Доллас, сидевший, сгорбившись, на станционной скамейке, исподлобья следил за патроном. Сегодня все представлялось ему нелепым. И то, что Джон, обычно такой собранный, казался растерянным, и то, что они с Джоном топтались тут, на этой маленькой станции. Точного времени прибытия президентского поезда не мог указать ни один железнодорожник. Все знали, что Рузвельт любил ездить не спеша. Он имел обыкновение останавливаться, где ему заблагорассудится, нарушая расписания, составленные администрацией Белого дома и службой охраны.
Вот уже час, как по всем расчетам поезд должен был подойти к этой маленькой станции, а его не было еще даже на перегоне.
И почему Рузвельт назначил свидание Ванденгейму именно здесь, где не было не только приличной гостиницы, но даже сколько‑нибудь сносного бара? Улиссвилль! Откуда берутся такие названия на карте Штатов? И кто он был, этот Улисс, — англичанин или француз, король или простой фермер? Вся история давно смешалась в памяти Фостера в какое‑то мутное месиво, не имевшее никакого отношения к жизни… Улисс?! Ни один американец не носил такого имени.
И вот на станции, посвященной памяти какого то Улисса, должен остановиться поезд президента Соединенных Штатов. Зачем? Кто мог собраться тут для его встречи? Те несколько сотен фермеров, что толпятся за оградой? И к чему негры там, где президент собирается говорить с белыми?..
Нелепо, все нелепо…
Даже то, что Ванденгейм, всегда такой властный и нетерпеливый, сегодня без конца шагает по платформе. Точно он постовой полисмен, а не один из тех, кто оплачивает избрание президентов, не один из тех, от кого зависит то, что будет с Рузвельтом через год: останется ли тот президентом Штатов или обратится в обыкновенного больного детским параличом богача, разводящего кактусы в Гайд–парке или занимающегося филантропией на своих Уорм–Спрингс.
Когда Ванденгейм поравнялся со скамейкой Долласа, тот подвинулся, освобождая место. Но Ванденгейм встал перед Долласом, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Там его пальцы продолжали нервно терзать остатки сорванной ветки.
— Как вы думаете, Фосс, кому это нужно, чтобы мы с пеленок до самой смерти непрестанно стремились что‑то понять в происходящем? Едва ли господь–бог создал нас только для того, чтобы мы ломали себе голову над всякой чепухой.
— О чем вы, Джон?
Доллас снова похлопал по доске скамьи, как бы желая сказать: если уж философствовать, то сидя. Ванденгейм грузно опустился на скамью.
— Я хочу знать, — сказал он, — стоит ли тратить хоть один цент на то, чтобы философы изобретали все новые системы, одна глупее другой. Ведь если мы заранее уславливаемся, что приемлемой будет только та философия, которая исходит из положения незыблемости существующего порядка, то за каким чортом тратить силы?
— А как же вы заставите человечество поверить тому, что именно так было, есть и будет?
— Что было, мало меня трогает. Что есть, то есть. Меня не терзает и грядущее в веках — чорт с ними, с веками. Что будет на моем веку — вот единственное, о чем стоит думать!
— Я тоже не имею в виду то время, когда вместо нас землю заселят муравьи.
— Да, я где‑то слышал об этом: человечество отыграло свою партию. Оно должно уступить место разумным насекомым. Они призваны освоить землю. Но на кой чорт муравьям то, что я создал? Значит, глупость эти их насекомые!
— Муравьи — глупость, но не глупость мозги и души людей. В сей юдоли им необходимо утешение.
— Из вас вышел бы неплохой священник, Фосс.
— Бог даст, когда‑нибудь, когда вам больше ничего не будет от меня нужно…
— Пойдете в монастырь?
— В этом нет ничего смешного, Джон, — обиженно пробормотал Доллас. — Я всегда был добрым католиком.
Тут раздались удары сигнального колокола, и чей‑то звонкий голос прозвучал на всю платформу:
— Поезд президента!
6
Поезду президента оставалось уже немного пробежать до Улиссвилля, когда Гопкинс, вернувшись в свое купе, застал там Дугласа Макарчера, в недалеком прошлом генерала американской армии, а ныне филиппинского фельдмаршала. Макарчер был в штатском. Заутюженные концы брюк торчали вверх, как форштевни утопающих кораблей. Яркий галстук в полосах, делавших его похожим на американский флаг, резко выделялся на белизне рубашки.
Макарчер был франтом. Недаром за ним утвердилась кличка "армейского денди". Он отличался манерой держаться вызывающе, говорить с подчиненными пренебрежительно, со штатскими заносчиво, с начальниками и равными тоном такой уверенности, что ни у кого нехватало решимости с ним спорить.
По внешности ему нельзя было дать его пятидесяти девяти лет. Энергичные черты сухого, видимо, хорошо массируемого и всегда до глянца выбритого лица; горбатый с большими нервными крыльями хрящеватый нос, хищно загнутый книзу; большой рот с плотно сжатыми, не толстыми, но и не сухими губами. Над узким высоким лбом виднелось несколько жидких прядей седеющих волос, тщательно расчесанных так, чтобы скрыть лысину. Такова была наружность этого филиппинского фельдмаршала, тайно прибывшего для доклада президенту.
В руках Макарчера был журнал. Он листал его. Но делал он это совершенно машинально. Его взгляд не отмечал при этом даже заголовков. Мысли генерала были далеко. Мысли досадные, беспокойные, совсем не свойственные этому человеку — всегда такому спокойному в силу гипертрофированной уверенности в себе. Но на этот раз, перед свиданием с президентом, когда Макарчер должен был доложить о положении на Тихом океане, всегда бывшем предметом пристального внимания Рузвельта, у генерала остался один вопрос, не решенный даже для самого себя. Дуглас Макарчер сидел в Маниле, чтобы следить за всем, что делается в юго–западной части Тихого океана. Пользуясь положением Филиппин и прикрываясь мифом, будто США не имеют своей военной разведки; используя также то, что филиппинцы легко ассимилировались там, где американец всегда оставался белой вороной, — в Китае, в Индонезии и, наконец, в Японии, — Макарчер наладил шпионаж. Лично руководя разведкой, он был уверен, что она даст свои плоды в день, когда совершится неизбежное: когда зарево войны загорится, наконец, над водами Тихого океана.
Недавно агентура почти одновременно по японскому и маньчжурскому каналам принесла Макарчеру из ряда вон выходящее известие. Оно было так удивительно, что пришлось произвести двойную проверку, прежде чем признать его достоверность. Оно говорило о том, что уже в течение нескольких лет (не менее чем с 1936 года, а по непроверенным данным даже с 1934) в пункте, именуемом Пинфань, в двадцати километрах от центра японской диверсионно–разведывательной деятельности в Маньчжурии — Харбина, функционирует секретное учреждение под начальством врача–бактериолога Исии Сиро. Там производится изучение техники и практики бактериологической войны, изготовление средств такой войны и испытание этих средств на живых объектах — людях и животных. Пока в числе средств, испытываемых японцами, разведка установила носителя сапа, сибирской язвы, ящура и еще какой‑то болезни скота, а для людей — бактерии брюшного тифа, дизентерии и блох, зараженных чумой. Судя по сведениям, можно было предположить, что распространению чумы в тылу противника японцы придают особое значение. Они поспешно налаживают массовое изготовление блошиного "препарата". Средством распространения инфекции чумы должны явиться специальные фарфоровые авиационные бомбы. Брюшной тиф и дизентерию понесут своим течением реки, идущие к врагу. Заразить скот можно засылкой через границу больных экземпляров животных.
Когда эти сведения подтвердились, Макарчер серьезно задумался: что делать с открытием? Он слишком хорошо знал постановку дела в американском военном ведомстве: стоит передать сообщение в Вашингтон, и через несколько недель им будут владеть все разведки мира, обладающие средствами, чтобы перекупить секрет у чиновников Пентагона. А было ли это в интересах Макарчера, в интересах дяди Сэма?.. Если взглянуть на вещи здраво, то местоположение института Исии показывало, что бактериологическое нападение японцев нацелено прежде всего на Китай и на Советский Союз. Значит, разоблачение военно–бактериологических замыслов японцев было бы сейчас равносильно усилению позиций русских на их восточной границе. А американские политики предпочитают, полагал Макарчер, чтобы тогда, когда перед Красной Армией появятся танки Гитлера, восточная граница Советов оказалась под непрерывной угрозой, а может быть, и просто–напросто подверглась бы нападению японцев.
Но, с другой стороны, не была исключена угроза бактериологического нападения японцев на Соединенные Штаты. Где гарантия, что разведка Макарчера не прозевала сейчас или не прозевает в будущем перенесения филиалов господина Исии на острова Тихого океана с целью воздушной заброски этих прелестей в Штаты? А разве исключена возможность в одну неделю оборудовать любую авиаматку так, что она сумеет при помощи своих самолетов превратить все побережье Штатов в район повальной чумы или чего‑нибудь в этом роде?.. Вообще, при коварстве японцев, от них можно ждать любой гадости.
Если смотреть на вещи с этой невеселой стороны, то едва ли можно найти оправдание тому, чтобы скрывать открытие от высшего командования американской армии…
Так выглядело дело с позиций, которые можно назвать служебными. Но, кроме этих позиций, к размышлениям над которыми его обязывали погоны генерала американской армии, хотя временно и снятые, у Макарчера была и другая точка зрения. Она имела мало общего с его официальным положением американского генерала и филиппинского фельдмаршала. Источником этой частной точки зрения являлась прочная личная связь Макарчера с деловыми кругами Штатов, доставшаяся ему в наследство от покойной первой жены — Луизы Кромвель, падчерицы миллионера Стотсбери. Теперь, когда приподнялась завеса над страшной "тайной Исии", генерал Макарчер не мог не подумать о том, какое влияние ее разоблачение могло бы оказать на дела коммерсанта Макарчера. Интересы этого дельца являлись интересами компаний, в которые были вложены его средства. Было совершенно естественно для такого человека, как Макарчер, что, служа на Филиппинах, он много средств вложил в филиппинские дела. А, в свою очередь, эти дела, как правило, были наполовину японскими делами.
Если считать японо–американскую войну неизбежностью, то, пожалуй, разумно было теперь же открыть "дело Исии". Это нанесло бы удар военным приготовлениям японцев, способствовало бы оттяжке войны. У Макарчера было бы время вытащить хвост из филиппинских дел. Но… была ли предстоящая японо–американская война непременным условием гибели его капиталов, вложенных в японские дела? Разве война между генералом Макарчером и японскими генералами означала бы войну между дельцом Макарчером и японскими дельцами? Разве нельзя было бы и с японцами достичь такой же договоренности, какой достигли некоторые американские компании с немцами — о сохранении деловых связей на случай войны и о сбережении до послевоенных дней всех прибылей, причитающихся обеим сторонам от сделок военного времени? Японцы достаточно деловые люди. С ними можно договориться. Обладание "тайной Исии" намного повысило бы удельный вес Макарчера в сделках с ними. Пригрозив им разоблачением этой тайны, можно было бы добиться сговорчивости, о какой не может мечтать ни один другой американец…
Все это Макарчер многократно и тщательно обдумывал еще у себя, в апартаментах пятого этажа отеля "Манила". Оттуда открывается великолепная панорама на простор манильской бухты и на ее "Гибралтар" — укрепленный Коррехидор. Любуясь ими, Макарчер имел время сопоставить все "за" и "против": сказать или не сказать, разоблачить или скрыть?.. Или, быть может, только подождать, посмотреть, что будет?..
Многие ли американцы держат в руках такие ключи, какие бог вложил ему: "тайна Исии" и пушки Коррехидора!.. "Тайна Исии" и капиталы Луизы Кромвель!..
Зачем размахивать такими ключами на показ всем дурням, когда можно подержать их пока в кармане?..
Вылетая из Манилы, Макарчер решил ничего не говорить никому, пока не побеседует с президентом. Рузвельт должен сам решить этот вопрос. Но по мере того, как время от времени, под ровный гул моторов, к Макарчеру возвращалась мысль об этом деле, уверенность в том, что президент примет правильное решение, делалась все меньше. Что, если Рузвельт возьмет да и использует это открытие для какого‑нибудь широкого политического жеста, хотя бы для утверждения своей репутации сторонника мира? Нельзя ведь не считаться с тем, что Штаты накануне президентских выборов. Рузвельту придется бросить на чашу выборных весов очень многое. Не так‑то легко ему одержать верх над шайкой чересчур жадных дельцов, которым Тридцать второй стоит поперек горла… И разумно ли с точки зрения Макарчера–политика давать лишний козырь в руки президента, связанного с Морганом, когда сам генерал тесно связан деловыми нитями с Рокфеллером? Ведь Тихий океан и его острова — это прежде всего нефть, недра… Быть может, правильнее будет сказать об этом деле президенту после выборов?.. А если президентом будет тогда уже не Рузвельт?.. Ну, что же, все зависит от того, кто займет его место. Быть может, создастся такая ситуация, что Макарчеру придется и промолчать… А время?.. Кому дано знать, когда и в каком направлении джапы нанесут свой первый удар?..
Так на кого же работает время?.. Имеет ли Макарчер право молчать?..
Положительно ему осточертели эти японские блохи. Пусть будет как будет. Сегодня он увидит президента и…
Макарчер ударил себя журналом по колену, потому что не мог сказать, что же последует за этим "и": "он скажет Рузвельту" или "он не скажет"?..
При появлении Гопкинса Макарчер отбросил журнал и вопросительно посмотрел на вошедшего.
— Он скоро примет вас, — негромко проговорил Гопкинс и с болезненной гримасой опустился в кресло.
Бывая у Рузвельта, Гопкинс всегда крепился, разыгрывал если не вполне здорового человека, то во всяком случае не настолько больного, чтобы каждое лишнее движение доставляло ему страдание. Но, оставаясь без свидетелей или с людьми, которых не считал нужным стесняться, он переставал скрывать боли, непрестанно терзавшие его желудок.
По звонку Гопкинса вошел слуга, неся уже приготовленный резиновый мешок со льдом. Гопкинс откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. После довольно долгого молчания, Гопкинс, не поднимая век, спросил:
— Слушайте, Мак… ведь это вы разогнали ветеранов в Вашингтоне, и я слышал, вам удалось купить их вожака… Кажется, его звали Уотерс?
— Это было несложно, — без смущения ответил Макарчер. — Они подыхали от голода. За возможность кормить своих щенят этот Уотерс дал покончить с пресловутым походом ветеранов ценою некоторых потерь с их стороны.
— А с вашей?
— Не помню.
— Трудно себе представить, чтобы вы, Мак, могли что‑нибудь забыть, — с недоверием сказал Гопкинс. — При вашей слоновой памяти.
— Я могу наизусть повторить вам любую главу Цезаря или свой доклад министерству, сделанный десять лет назад, но расходовать память на чужие дела… — Макарчер пренебрежительно пожал плечами.
— Разве дело с Уотерсом не было вашим делом?
— Финансовой стороной его ведала секретная служба.
Гопкинс лениво поднял руку в протестующем жесте:
— Я имел в виду потери в людях.
— О, я думал, вас интересуют доллары!.. Нет, людей я не потерял. Кажется, нескольким солдатам набили шишки камнями — вот и все.
— Кто навел вас тогда на мысль сговориться с их предводителем? Ведь раньше вы никогда не занимались усмирением голодных.
— Лично я — никогда. Но первыми звуками, какие я запомнил в моей жизни, были сигналы горна. Вы забыли; я родился в форте Литл–Рок. Лучший военно–политический урок для меня заключался в том, что некий капитан филиппинской армии повстанцев по имени Мануэль Квесон отдал свою саблю не кому‑либо иному, а моему отцу генералу Артуру Макарчеру. А теперь этот самый мистер Квесон — президент Филиппин.
— Вы полагаете, что Уотерс тоже сделал карьеру, после того как продал вам ветеранов?
— Чорт его знает! Возможно, что и он председательствует в каком‑нибудь профсоюзе, не знаю. Это меня не занимает.
— Расскажите‑ка, что творится у вас там, на островах? — спросил Гопкинс с интересом, который на этот раз был неподдельным. — У каждого государства есть своя ахиллесова пята, и стоит мне задуматься о Филиппинах, как начинает казаться, что наша ахиллесова пята именно там, на этих островах.
— У себя в Маниле я этого не ощущаю, — с уверенностью заявил Макарчер.
— Забыли, как происходило их присоединение к Штатам?
— Я знаю об этом не столько по учебнику истории, сколько по рассказам отца, — тоном, в котором звучало откровенное презрение к официальной американской версии, произнес Макарчер.
Это не смутило Гопкинса.
— Я говорю именно об этой — не канонической, а фактической стороне дела. Мне всегда мерещится смута на ваших островах. Число филиппинцев, которые думают, что счастье их страны вовсе не в том, чтобы быть нашей колонией, с каждым годом не уменьшается, а увеличивается. Не верно?
— Может быть, и верно, если не рассматривать факты с надлежащих позиций.
Гопкинс вопросительно посмотрел на генерала:
— Какие же позиции вы называете надлежащими?
— Мои, — твердо произнес Макарчер, но тут же поспешно добавил: — Американские. Меня не беспокоит то, что происходит внутри этого островного котла. У меня хватит сил завинтить его крышку.
— Знаете: "Самая непрочная власть та, которая думает, что может держаться на острие штыка".
— И тем не менее я вынужден повторить слова покойного отца, ставшие для меня заповедью: "Филиппинцы нуждаются в военном режиме, приколотом к их спинам американским штыком".
Гопкинс покачал головой:
— Времена изменились, Мак… К тому же приближаются выборы. Не завидую президенту, который вслух повторил бы сентенцию вашего отца.
— Как известно, — с усмешкою проговорил Макарчер, — президент Мак–Кинли тоже чурался подобных слов, как чорт ладана. Тем не менее именно этому "антиимпериалисту" принадлежит замечательная речь. Вспомните‑ка… — И Макарчер со свойственной ему точностью памяти, так, словно читал по открытой книге, воспроизвел достопамятную речь Мак–Кинли в конгрессе. Президент США утверждал, что он не мог принять никакого решения относительно Филиппин, пока на него не снизошло просветление "свыше":
"Я каждый вечер до самой полуночи расхаживал по Белому дому и не стыжусь признаться вам, джентльмены, что не раз опускался на колени и молил всемогущего бога о просветлении и руководстве. В одну ночь мне пришли в голову следующие мысли — я сам не знаю как:
1. Мы не можем возвратить Филиппинские острова Испании — это было бы трусливым и бесчестным поступком.
2 Мы не можем передать Филиппины Франции или Германии, нашим торговым соперникам на Востоке, — это была бы плохая и невыгодная для нас экономическая политика.
3. Мы не можем предоставить филиппинцев самим себе, так как они не подготовлены для самоуправления и самостоятельность Филиппин привела бы вскоре к такой анархии и к таким злоупотреблениям, которые были бы хуже испанской войны.
4. Для нас не остается ничего иного, как взять все Филиппинские острова, воспитать, поднять и цивилизовать филиппинцев и привить им христианские идеалы, ибо они наши собратья по человечеству, за которых также умер Христос.
После этого я лег в постель и заснул крепким сном".
Закончив цитировать, Макарчер громко рассмеялся, но, внезапно оборвав смех, наставительно произнес:
— Мало кто у нас помнит ночь на четвертое февраля тысяча восемьсот девяносто восьмого года под Манилой… Советую вам припомнить это событие и быть уверенным: если нужно, такая ночь повторится в тысяча девятьсот сорок шестом году. Это может вам гарантировать высшее командование Филиппин…
Он вынул необыкновенно длинную папиросу и стал неспеша ее раскуривать, словно ни секунды не сомневался в том, что собеседник будет терпеливо ждать, пока он не заговорит снова.
И, как это ни странно было для Гопкинса с его нетерпением и нетерпимостью, с его привычкой не считаться ни с кем, кроме Рузвельта, Гарри действительно ждал.
Макарчер заговорил, но речь его на этот раз была краткой.
— Вот, собственно говоря, и вся суть вопроса о так называемой "независимости" Филиппин.
Он умолк и затянулся с таким видом, как будто разговор был окончен. В действительности его разбирало любопытство узнать, что ответил бы на его последние слова президент. Никто не мог бы этого сказать лучше Гопкинса. Но Макарчер не задал прямого вопроса. А Гопкинс не проявил никакого желания говорить. Он полулежал со льдом на животе и казался равнодушным ко всему на свете.
Подумав, Макарчер сказал:
— Знаете, какую трудно поправимую ошибку совершили тогда наши?
— В чем? — не открывая глаз и еле шевельнув губами, спросил Гопкинс.
— В деле с Филиппинами.
Гопкинс подождал с минуту.
— Ну?..
— Не сунули себе в карман Формозу вместе с Филиппинами.
Гопкинс приподнял веки и удивленно посмотрел на генерала.
— Филиппины — это Филиппины, а Формоза…
Он пожал плечами и снова опустил веки.
Макарчер зло засмеялся:
— Мы напрасно позволили джапам проглотить этот кусок.
— Когда‑нибудь он застрянет у них в горле.
— Чорта с два!
— Рано или поздно китайцы отберут его обратно.
— Только для того… чтобы он стал нашим.
— Опасные идеи, Мак…
— Формоза должна стать американским Сингапуром. Она даст нам в руки ключи Китая. Мы никогда, слышите, Гарри, никогда не сможем помириться с этой ошибкой! Рано или поздно мы должны будем ее исправить… хотя бы руками китайцев.
— Не понял.
— Пусть это будет началом: "Формоза для формозцев!" Прогнать оттуда джапов…
— Чтобы сесть самим?
— Непременно. Держа в руках Формозу, мы всегда будем хозяевами юга Китая.
— В этом есть что‑то здравое, — пробормотал Гопкинс. — Но из‑за Формозы мы не стали бы воевать с джапами.
— Не мы. Пусть воюют китайцы… А там… — Макарчер выпустил тонкую струйку дыма, послав ее к самому потолку купе. — Там… — Он покосился на Гопкинса и как бы вскользь проговорил: — Если бы это дело поручили мне…
— Вы втянули бы нас чорт знает в какую передрягу, — раздраженным тоном проворчал Гопкинс. — Перестаньте, Мак. Мы никогда на это не пойдем, прежде чем будет решен главный вопрос на Тихом океане — мы или японцы?
— А тогда?
— Ну, тогда все будет выглядеть совсем иначе. Тогда мы, вероятно, охотно развяжем вам руки.
— Если же дела пойдут так, как вы думаете…
— Я ничего не думаю, Мак, решительно ничего!
Макарчер усмехнулся:
— Хорошо. Если дела пойдут так, как думаю я, первым шагом будет Формоза…
— История пойдет закономерно, — задумчиво проговорил Гопкинс, — мы должны оказаться воспреемниками всего, что вывалится из рук Англии и Японии, вообще всех.
— Тогда мы возьмем себе Сингапур и Гонконг. Быть может, речь пойдет об Австралии и Новой Зеландии. Когда развалится Британская империя, а она развалится как дважды два, мы поможем ей в этом. Самостоятельное существование Австралии и Новой Зеландии — абсурд. Обеспечить им место в мире сможем только мы, американцы. Мы знаем, что нам нужно на Тихом океане. Эта вода будет нашей водой, Гарри, только нашей. Мы никого не пустим туда, после того как к чортовой матери разгромим японцев… и англичан.
— Вон как! — иронически проговорил Гопкинс.
Макарчер утвердительно кивнул головой, выпуская струю дыма, потом грубо повторил:
— К чортовой матери! Мы будем полными дураками, если не сумеем подготовить этот разгром, доведя джапов до полусумасшествия войной в Китае. Понимаете, Гарри, мы поможем китайцам до тех пор кусать японцев, пока у тех не появится пена у рта. Я готов собственными руками стрелять в дураков, которые еще пытаются пищать, будто Япония не главная наша беда. Да, правда, где‑то там, в далекой перспективе, я вижу дело поважнее, покрупнее, чем драка с Японией, — я имею в виду ликвидацию красной опасности в корне, раз и навсегда. Но все это потом. Сначала Япония, и еще раз Япония. Китайцы должны вымотать ей кишки. А она китайцам. Угроза овладения Азией проклятыми островитянами должна быть предотвращена раз и навсегда. Англия — это тоже не так сложно. Азия должна быть нашей. Но только очень близорукие люди могут думать, что нашей задачей является полное уничтожение Японии. Понимаете?
— Пока не очень, — меланхолически ответил Гопкинс.
— Жаль. Это так просто: Япония должна стать нашим опорным пунктом для разгрома Советов.
— Не слишком ли много разгромов и не слишком ли много баз, а?
— Ровно столько, сколько нужно, чтобы получить то, что мы хотим. Мы никогда не займем принадлежащего нам места, если вздумаем месить тесто своими руками. Японские офицеры и унтер–офицеры составят костяк той многомиллионной китайской армии, которая одна только и сможет занять позиции по нашей границе с Советами.
Гопкинс рассмеялся и тотчас сделал болезненную гримасу:
— Милый Дуглас, вы что‑то напутали: у нас нет ни одной мили общей границы с русскими!
— А будет десять тысяч! — теряя равновесие, крикнул Макарчер. — Вся китайско–советская граница, вся китайско–монгольская граница.
— Э, да вы, оказывается, самый отчаянный мечтатель, какого я видел! — насмешливо проговорил Гопкинс. — Не знал за вами такой черты.
— К сожалению, Гарри, вы мало меня знаете.
— Вы полагаете?
— А нам нужно понять друг друга. — Макарчер склонился к Гопкинсу, продолжавшему полулежать с закрытыми глазами, и насколько мог дружески проговорил: — Вдвоем мы могли бы доказать хозяину…
И, не договорив, стал ждать, что скажет Гопкинс. Но тот хранил молчание.
Макарчер внимательно вглядывался в подергивающееся судорогой боли лицо Гопкинса. Можно было подумать, что генерал взвешивает: стоит ли говорить с этим полутрупом, который не сегодня–завтра уйдет в лучший мир и перестанет быть вторым "я" президента?
Поезд остановился.
Макарчер прочел название станции:
— Улиссвилль.
— Не подходите к окну, — поспешно сказал Гопкинс. — Вас могут увидеть журналисты.
— А–а, — протянул Макарчер. — Хозяин будет говорить?
— Положение с фермерами паршиво, а выборы на носу.
— Он опять выставит свою кандидатуру? — спросил Макарчер.
— Пока ни в коем случае!
— А как же с переизбранием?.. Нужно же, чтобы американцы знали, что могут голосовать и за него.
— Своевременно узнают. Может быть, в последний момент.
— Почему не теперь? Ведь остальные кандидаты уже объявлены.
— Формально выставить свою кандидатуру значило бы для ФДР превратиться из президента в кандидаты! Это только помешало бы его работе.
— Значит, в последний момент? — в сомнении спросил Макарчер.
— И безусловно будет избран, — уверенно ответил Гопкинс. — Никто не может предложить американцам ничего более реального.
— Чем обещания Рузвельта?
— Зависит от того, как обещать. И кроме того, никто не может обвинить нас в том, что если бы не сопротивление дураков, мы успели бы многое выполнить… из того, что обещали.
— Посоветуйте хозяину на этот раз поднажать на морскую программу.
— Об этом его просить не приходится.
— Морские дрожжи все еще бродят?
— Он попрежнему держит под подушкой Мехена.
— Избиратель не может не понимать, что строительство хорошей серии больших кораблей — хлеб для сотен тысяч безработных.
— Но, увы, и налогоплательщик понимает, что этот хлеб будет куплен за его счет, — со вздохом сказал Гопкинс. — А кроме того, средний американец знает, что судостроительные компании нахапают в сто раз больше, чем достанется тем, кто будет своими руками строить корабли. Народ умнеет не по дням, а по часам. Тут вам не Филиппины, Мак.
— Не воображайте, что у нас там одни идиоты. Квесону приходится довольно туго.
— И если бы не ваши штыки?..
Макарчер ответил неопределенным пожатием плеч.
Гопкинс спросил:
— А как у вас работает Айк?
Казалось, вопрос удивил Макарчера. После некоторого молчания он, в свою очередь, спросил:
— Вы имеете в виду Эйзенхаммера?
— Да.
Собеседники не могли пожаловаться на простодушие, но в этот момент оба они мысленно бранили себя. Гопкинс был недоволен тем, что у него вырвался этот вопрос, совершенно некстати выдавший генералу его, Гопкинса, интерес к подполковнику Эйзенхаммеру — военному советнику филиппинского "фельдмаршала". Макарчер же досадовал на себя: только сейчас ему пришло в голову то, о чем он должен был давно догадываться: ведь Дуайт Эйзенхаммер, которого он сам сделал на Филиппинах из капитана полковником, был человеком президента, посланным в Манилу для того, чтобы Рузвельт мог знать каждый шаг его, Макарчера.
Это внезапное открытие неприятно поразило генерала Эйзенхаммер был в курсе многих его дел. Не мог ли он разнюхать кое‑что и о "тайне Исии"? Если так, то значит тайна вовсе уже и не тайна для ФДР. Какие выводы нужно из этого сделать?.. Сказать или не сказать?..
Макарчер решил прощупать Гопкинса.
— Может быть… — начал было он, но вдруг умолк, прислушавшись к происходящему на платформе Улиссвилля.
Чем дальше он слушал, тем озабоченней становилось выражение его лица. Глубокая морщина прорезала его лоб сверху донизу.
— Что за чертовщина! — сердито проворчал он, сделав было движение к окну. Но Гопкинс испуганно удержал его.
— Не лезьте на передний план!
— Вы только послушайте! — с возмущением воскликнул Макарчер, жестом предлагая Гопкинсу соблюдать тишину.
7
С платформы, где происходил митинг фермеров перед президентским вагоном, до Макарчера отчетливо доносились чьи‑то слова:
- …Мы, люди американского захолустья, чрезвычайно тронуты, мистер президент, тем, что вы заглянули сюда. Вы рассказали нам о сыне нашего народа — генерале Улиссе Гранте. Многие из стоящих здесь ничего о нем не знали…
Рузвельт благодушно перебил оратора:
— Это следует отнести к их плохой памяти: нет такого учебника истории, где не говорилось бы о генерале и президенте Штатов — Улиссе Гранте.
Кто‑то на платформе вздохнул так громко, что было слышно в купе Гопкинса. Над толпою пронесся смешок.
— Если бы вы знали, мистер президент, сколько из стоящих здесь ребят забыли, каким концом карандаша следует водить по бумаге. — Толпа подтвердила эти слова одобрительным гулом. — Нам был очень интересен и полезен ваш рассказ, мистер президент. — Макарчеру почудилось в тоне оратора злая ирония. Генерал с трудом заставлял себя, не двигаясь, сидеть в кресле. — Отныне мы будем гордиться тем, что живем в местах, где сражался такой американец, как Грант. Тут проливали кровь наши предки за честь и свободу Штатов, за конституцию Вашингтона и Линкольна, за лучшее будущее для своих детей и для детей своих врагов — южан.
— Это вы очень хорошо сказали, мой дорогой друг, — послышался одобрительный голос Рузвельта. — Очень хорошо! Именно так оно и было: кровь солдат Гранта лилась за счастье не только для Севера, но и для Юга. За счастье всех американцев, без различия их происхождения и цвета кожи. Это была великая битва за дело демократии и прогресса.
Рузвельт умолк, очевидно вызывая оратора на продолжение речи.
— Мы хотим вам верить, мистер президент, как, вероятно, верили солдаты Гранту, что дерутся за свою свободу и свободу братьев негров, за дело демократии и прогресса. Но…
— Зачем он дает говорить этому нахалу? — возмущенным шопотом спросил Макарчер. — "Мы хотим вам верить"! Если хозяин не одернет его, я сам…
— Сидите смирно, Дуглас! — спокойно отрезал Гопкинс. — Хозяин знает, что делает.
Оратор на платформе продолжал:
- …но нам хочется знать, почему дети этих героев и мы, дети их детей, не имеем теперь ни демократии, ни хоть какого‑нибудь прогресса в нашей жизни?
— Разве мы не имеем всего, что гарантировала нам конституция? — спросил Рузвельт.
— О ком вы говорите, мистер президент, — о вас или о нас?
— Разве не все мы, сыны своей страны, равны перед конституцией и богом? — спросил Рузвельт.
Теперь голос оратора, отвечавшего ему, прозвучал почти нескрываемой насмешкой:
— Нам хотелось бы, мистер президент, рассудить свои дела без участия бога.
— Вы атеист?
Последовал твердый ответ:
— Да, сэр.
— Думаете ли вы, что это хорошо?
— Да, сэр.
— И не боитесь, что когда‑нибудь раскаетесь в своем неверии?
— Нет, сэр.
— Быть может… на смертном одре?
— Нет, сэр.
— Уж не солдат ли вы… судя по ответам? — весело спросил Рузвельт с очевидным намерением переменить тему.
— Солдат, сэр.
— Быть может, даже ветеран войны в Европе?
— Даже двух войн в Европе, сэр, — весело, в тон президенту ответил его собеседник.
— Была только одна мировая война.
— Ее назвали мировой потому, что в ней участвовало несколько государств Европы и Америки?
— Разумеется.
— Так не является ли мировой войной и та война, что идет сейчас в Испании при участии людей со всех концов мира?..
Макарчер негромко свистнул:
— Так вот он из каких!
Между тем Рузвельт недовольно сказал:
— Соединенные Штаты в этой войне не участвуют.
— Когда я воевал в Испании, мне казалось другое.
— Вот как?.. А в чем же вы видели участие Штатов?
— В американском пособничестве Франко.
— Я вас не понимаю, друг мой! — драматически воскликнул Рузвельт.
— А между тем это так просто, мистер президент. Разве не правительство США наложило эмбарго на вывоз оружия в республиканскую Испанию?
— Было бы несправедливо давать оружие республиканцам и не давать националистам.
— Какой же Франко националист? Он просто изменник и мятежник, сэр.
— Готов с вами согласиться, — мягко сказал Рузвельт, — и от души сожалею, что вы потерпели неудачу в борьбе против него.
— Дрались‑то мы не так уж плохо, да очень трудно было драться голыми руками против пулеметов и пушек. Кстати говоря: против американских пулеметов и пушек… Мы там не раз спрашивали себя: "Как же это так? На вывоз оружия в Испанию на пожен запрет, а американские пулеметы — вот они, стреляют по нашей добровольческой бригаде Линкольна". Спасибо товарищам, которые были в курсе дела. Они объяснили: на вывоз оружия в Германию и Италию эмбарго не наложено. А оттуда прямая дорога к Франко.
Толпа, повидимому, стояла недвижима и молчалива — был слышен малейший шорох на платформе. Потом раздался негромкий голос Рузвельта:
— Это новость для меня, то, что вы говорите… Очень сожалею, что я не знал об этом раньше… Но нет сомнения: бог покарает тех, кто использовал наше доверие и обманным образом снабжал Франко оружием. Да, я верю: их преступление будет наказано господом, — с пафосом произнес Рузвельт.
— Откровенно говоря, мы не очень в этом уверены.
Хорошо тренированный голос Рузвельта задрожал, как у трагика на сцене:
— Вы не вериге в высшую справедливость?
— У бедных людей нет времени на слишком частое общение с небом, сэр.
— А разве есть что‑либо более важное и отрадное в жизни, чем обращение к богу?.. Мне странно и… страшно это слышать от американца.
В голосе президента прозвучал такой укор, что толпа реагировала одобрительным рокотом, особенно с той стороны, где теснились женщины.
Макарчер с иронической улыбкой посмотрел на Гопкинса, но тот, казалось, проявлял очень мало интереса к происходившему. Макарчеру даже показалось, что Гопкинс дремлет. Во всяком случае, веки его были опущены и руки в сонной неподвижности лежали скрещенными на мешке со льдом. Макарчера рассердило это равнодушие. Чтобы нарушить покой Гопкинса, он спросил:
— Как это вам удалось: наложив эмбарго на вывоз оружия к республиканцам, не запретить давать его противной стороне?
Гопкинс поднял веки и несколько мгновений непонимающе смотрел на генерала. Тому пришлось повторить вопрос.
— Мы здесь совершенно ни при чем, — нехотя ответил Гопкинс.
— Тем не менее это факт: наше оружие и боеприпасы поступают к Франко.
— Видите ли, друг мой, — все с прежней неохотой проговорил Гопкинс, — коммунисты действительно поставили этот вопрос. Они даже пытались поднять публичный скандал, требовали наложения эмбарго на вывоз оружия в Германию и Италию на том основании, что эти страны держат свои войска на Пиренейском полуострове. Но хозяин спросил тогда Хэлла: есть ли основания считать Германию и Италию находящимися в состоянии войны с Испанией? Хэлл запросил Риббентропа и Чиано: полагают ли они, что их страны находятся в войне с Испанской республикой? Те ответили отрицательно. Хэлл и решил, что наложение запрета на немецкие и итальянские заказы было бы преждевременным. А кому немцы перепродавали наше оружие — какое нам до этого дело?..
— Верное решение, — безапелляционно заявил Макарчер и снова сосредоточил внимание на том, что происходило на платформе.
Тон оппонента Рузвельта повышался с каждым новым словом:
- …Мы имеем право знать, почему нам так трудно зарабатывать свой кусок хлеба? Почему миллионы наших братьев, белых и черных, на фермах и в городах, слоняются в тщетных поисках работы?
— А разве Новый курс не сократил числа безработных почти вдвое? — возразил Рузвельт. — Разве доход рабочего класса Соединенных Штатов не увеличился по крайней мере на семьдесят миллионов долларов в день? Это не пустяки, мой друг.
Рузвельт произнес это так мягко, почти ласково, что сочувствие толпы, как думал Макарчер, должно было вот–вот склониться на сторону президента, но тут его оппонент воскликнул:
— Семьдесят миллионов, говорите вы? Хорошая цифра, мистер президент! Если не считать того, что ценности, производимые людьми, которым бросили семьдесят миллионов, стоят по крайней мере семьсот. А в чьи карманы идут остальные шестьсот тридцать миллионов?
— Полагаю, мой друг, — мягко возразил Рузвельт, — что присутствующих больше интересует вопрос о продуктах сельского хозяйства, чем заработок городских рабочих.
— Хорошо, мистер президент, — произнес оратор. — Поговорим о сельском хозяйстве. Почему эти фермеры получают за свой хлеб ровно десятую долю того, что он стоит на рынке? Почему девять десятых идут в карманы хлебных монополий? Почему за счет хлеба, которого нехватает детям фермеров, господа с хлебной биржи делают себе золотые ванны, вставляют бриллианты в каблуки своих дам? Почему при малейшей попытке самих фермеров организоваться, чтобы продать взращенный их руками хлеб по мало–мальски сносной цене, земельные компании тотчас лишают их земли, скупщики сбивают цены и хлеб сжигают в топках паровозов? Говорят, что Штатами правят шестьдесят богатейших семейств Америки. Правда ли это, сэр?
— Предвыборный прием, дружище, — сказал Рузвельт и рассмеялся. Но на этот раз в его смехе не было обычной непринужденности. — Каждый американец знает, что страною управляет правительство, ответственное перед конгрессом, избранным свободным голосованием.
— Мы не против свободного голосования, мистер президент. Но нам не нравится то, что в каждом штате делают политические боссы. Мы просили бы вас прихлопнуть эту лавочку, сэр. Пожалуй, достаточно того, что мы знаем о Томе Пендергасте. Так кажется нам, простым американцам. Вы — наш президент, которого мы все очень уважаем, не правда ли, друзья?
Повидимому при этих словах оратор обернулся к толпе, так как послышались одобрительные возгласы:
— Уважаем! Конечно, уважаем! Да здравствует Рузвельт!
Оратор с деланым добродушием продолжал:
— Вы, как самый уважаемый из президентов, каких знала Америка в нашем веке, разумеется, не меньше нас заинтересованы в том, чтобы в стране был порядок. За какую же программу мы должны голосовать в наступающей кампании, когда вы или другой претендент выставит свою кандидатуру на пост нашего президента?
Воцарилось краткое молчание. Потом послышался спокойный и снова, как всегда, приветливый голос Рузвельта.
— Наверно, есть еще вопросы, интересующие вас? Говорите же. Я сразу отвечу на все.
Раздалось одновременно несколько голосов. Потом заговорил кто‑то один. Потом опять сразу несколько человек. Это было так не похоже на обычные встречи Рузвельта с избирателями, что даже Гопкинс беспокойно заерзал в кресле.
Дверь купе приотворилась, и запыхавшаяся секретарша президента передала Гопкинсу записку. Тот быстро развернул ее и пробежал наспех набросанную рукою Рузвельта строчку: "Придумайте повод для отправления поезда". Было очевидно, что Рузвельт хочет покончить с неудачным митингом без необходимости отвечать на посыпавшиеся со всех сторон вопросы раздраженных фермеров.
Гопкинс отбросил пузырь со льдом и выбежал из купе. Макарчер осторожно приблизился к окну и, прикрывшись краем шторы, посмотрел на платформу. Впереди всех фермеров стоял человек, чья речь привела генерала в такое раздражение. Приглядевшись к нему, Макарчер нахмурился, лицо его отразило напряжение памяти. Наконец он с облегчением свистнул и пробормотал: "Я знаю этого парня. Это он пытался тогда помешать моему сговору с Уотерсом, а потом, когда мы того все‑таки купили, этот парень, говорят, и изобличил его… Коммунист… коммунист…" Макарчер старательно тер лоб, силясь вспомнить имя оратора. Потом быстро набросал на полях журнала: "Во что бы то ни стало узнайте имя парня в рубашке с синими клетками. Мак" — и, вызвав звонком слугу, послал журнал Гопкинсу.
Через две–три минуты Макарчер услышал, как Рузвельт дружески проговорил:
— Сейчас я отвечу на ваши вопросы, мистер… мистер…
— Стил, мистер президент, — охотно ответил оратор. — Айк Стил.
— Вы, я вижу, не из здешних мест, Айк?
— Да, я тут не всегда живу, сэр, это верно.
— Мастеровой, приехали с тракторами? — дружески продолжал Рузвельт.
— С сельскохозяйственными машинами, сэр, — ответил Стил.
— Прекрасное дело, дружище Айк… Надеюсь, что еще застану вас здесь на обратном пути, и чувствую, что мы станем друзьями.
В этот момент из соседнего окна вагона высунулся Гопкинс.
— Сдается мне, что на ваши вопросы мог бы прекрасно ответить наш общий друг, — ваш и мой, — мистер Браудер, — крикнул он Стилу.
Тот помедлил с ответом.
— Я не могу верить Браудеру, если его хвалите вы, сэр.
Гопкинс рассмеялся его словам:
— Вы что‑то имеете против него, мистер Айк!
Стил нахмурился.
— Он чересчур охотно и слишком ловко оправдывает все, что вы делаете, сэр. В особенности против нас, коммунистов… — закончил Стил.
Неожиданно, без всякого предупреждения или сигнала, вагон президента поплыл мимо удивленных фермеров.
Гопкинс крикнул фермерам:
— Президент желает вам всего хорошего…
Вслед поезду раздалось несколько жидких хлопков.
У окошка вагона сидел Рузвельт и пытался взглядом отыскать на удаляющейся платформе фигуру Стила. У президента был вид до крайности удивленного человека.
— Они вели себя так, словно здесь каждый день бывают президенты, — раздраженно сказал Гопкинс.
Рузвельт не обернулся.
Через несколько минут он задумчиво проговорил:
— Мне кажется, что почва уходит из‑под нас, как люк из‑под ног приговоренного.
Гопкинс подошел обеспокоенный. Рузвельт редко говорил таким тоном. Гопкинс стоял перед ним с таким же ошеломленным выражением, с каким сам Рузвельт за несколько минут до того смотрел на Стила.
— Кто укажет мне способ остановить время?..
Гопкинсу показалось, что президент разговаривает с самим собой. В больших, обычно таких веселых глазах Рузвельта отражалось настоящее отчаяние. Гопкинс смотрел на это лицо, с каждой секундой делавшееся старше на целое десятилетие. Гопкинсу стало страшно. Ступая на цыпочках, он попятился к двери.
8
Ванденгейм не заметил, как, отхлебывая маленькими глотками, опустошил третий стаканчик крепкого коктейля. Он только обратил внимание на то, что стаканчик Рузвельта оставался нетронутым. Разговаривая, президент медленно, словно машинально, помешивал свой коктейль соломинкой.
Президент говорил о пустяках. Он отлично знал, что эти пустяки не только не интересны посетителю, но выводят его из себя. Не давая Ванденгейму заговорить, он настойчиво, не торопясь, рассказывал длинную историю о том, как с детства мечтал поохотиться на перепелов и как ему все не удавалось осуществить свое желание, пока, наконец, он не решился отбросить все дела и уехать на охоту. И именно тут появились первые симптомы тяжелой болезни, навсегда лишившей его возможности помышлять об охоте.
— Это было бы неплохою темой для карикатуристов республиканской прессы: президент, пытающийся гоняться за перепелами в кресле на колесах…
Рузвельт собирался перейти к следующему рассказу, но тут Ванденгейм понял, что единственная цель этих рассказов — оттянуть разговор. А ради этого разговора он проделал молниеносный перелет к Улиссвиллю. Джону стало ясно, почему свидание было назначено в таком захолустье и почему было указано такое время свидания, что не опоздать к нему можно было только ценою ночного полета. И теперь еще эти рассказы о перепелах! Все стало ясно Ванденгейму: Рузвельт хотел избежать свидания и разговора с ним.
Стоило Джону сделать это открытие, как все его благие намерения — держаться так, как подобало в обществе президента, чтобы мирно уладить претензии, накопившиеся у Джона и его единомышленников к правительству и к демократической партии, — все улетучилось. Джон намеренно не пошел на свидание с вице–президентом Уилки, не стал разговаривать ни с одним министром–республиканцем. Он хотел найти общий язык с президентом–демократом. Джону казалось, что здравый смысл дельца вынуждает его в предстоящих выборах дать в избирательный фонд Рузвельта вдесятеро больше, чем он мог бы бросить на избрание любого другого кандидата–республиканца. Джону казалось, что он понял, наконец, истинный смысл политики Франклина Рузвельта и разгадал этого человека, который хочет базироваться не только на поддержке Моргана, но ищет возможности опереться и на другую базу — на Рокфеллера и на него, Джона.
Так почему же Рузвельт не хочет поговорить с Ванденгеймом откровенно? Не может же он не понимать, что, явившись инициатором и творцом двуединой политики руководящих партий Америки, он тем самым более чем когда‑либо поставил вопрос о своем переизбрании на третий срок в зависимость от республиканцев. Что за странную игру ведет Рузвельт, отделываясь пустяками от разговора с таким республиканцем, как он, Джон Ванденгейм?
Джон решил итти напролом. Один за другим задавал он Рузвельту вопросы, игравшие такую большую роль не только для него, Джона, но и для всех, чьи интересы завязались в плотный узел вокруг современного положения в Европе.
Однако всякий раз, когда Джон пытался прямо поставить вопрос, Рузвельт ускользал от ответа. Невозможно было понять, согласен ли он с интерпретацией, которую дает его словам Ванденгейм, или протестует против нее.
Стоило Джону немного отвлечься, поддавшись на предложение приготовить новый стаканчик коктейля, как нить разговора оказалась им упущенной. Ею снова овладел Рузвельт. И на этот раз уже не выпускал ее, не давал Ванденгейму возможности вставить ни одного слова. Тому оставалось только пить свой коктейль. Джон делал это с мрачностью, обличавшей его недовольство. Но оно не оказывало на хозяина ни малейшего действия: речь снова шла о перепелах.
Рузвельт с таким видом поглядывал на проносившиеся за окнами вагона поля, словно именно оттуда, сквозь шум колес, до него доносился свист перепелов, навевавший охотничьи воспоминания.
Ванденгейм опустошил стакан и, не ожидая приглашения, наполнил его чистым джином. Ему хотелось залить овладевавший им гнев. Но чем больше он пил, чем сильнее багровело его лицо и наливались кровью глаза, тем веселее звучал голос президента.
Рузвельта заставило умолкнуть лишь появление Макинтайра.
Врач вошел без стука, как свой человек. Не обращая внимания на Ванденгейма, он почтительно, но одновременно очень внушительно заявил:
— Ванна, сэр!
Рузвельт развел руки, как бы взывая к сочувствию Ванденгейма.
— Видите, Джон!.. Однако недопустимо, чтобы мы расстались, не поговорив откровенно. Я хочу знать, что вы думаете, и вы должны знать, что я думаю… — Рузвельт потянулся к телефону, и Ванденгейм решил, что ему придется подождать в каком‑нибудь купе, пока закончится ванна президента. Но то, что он услышал, заставило его сердито сдвинуть брови и сжать подлокотники в усилии сдержать готовое вырваться наружу бешенство. Президент предложил Гопкинсу зайти за Ванденгеймом и продолжить с ним разговор… вместо самого Рузвельта.
— Все, что вам скажет Гарри, сказал бы вам я, и все, что хотел бы сказать вам я, скажет Гарри, — бросив трубку, обратился Рузвельт к Ванденгейму и радушно протянул Джону руку.
Джон мрачно шагал по коридору вагона следом за понуро волочащим ноги Гопкинсом.
"Что же, — думал Джон, — и этот будет кормить меня сказками о перепелах? К чорту! Гопкинс не президент. Ему‑то я уж выложу все, что думаю о подобном способе вести дела".
Он вошел в купе Гопкинса, готовый вступить в сражение с этой гримасничающей от боли тенью президента. Джон не питал никаких иллюзий насчет приема, который может ему оказать Гопкинс — откровенный и непримиримый враг всех противников Рузвельта. Однако то, что произошло в первые же минуты этой встречи, резко изменило все течение разговора. Гопкинс сразу же сказал Ванденгейму, что осведомлен о цели его приезда и готов помочь в любом деле, которое пойдет на пользу Америке и ее президенту. При этих словах он наполнил до краев два больших бокала и с видом завзятого кутилы чокнулся с Джоном.
Хотя Джон был уверен, что Гопкинс не может знать ни намерений, ни мыслей, с которыми Джон пришел сюда, он с готовностью поднял свой бокал. Что же, может быть, это и хорошо, что, прежде чем поставить точки над "и" с самим президентом, он потолкует с его вторым "я".
Джон решил начать с вопросов, от которых с такой ловкостью ускользал Рузвельт.
— Известно ли президенту, что не только американские вложения в Германии почти удвоились за последнее десятилетие? Немецкие промышленники охотно идут на переплетение их интересов с нашими и за пределами Германии.
Гопкинс ответил на наивность наивностью:
— О каких отраслях хозяйства вы говорите?
— Нефть, химия, недра…
Гопкинс согласно кивнул головой:
— Кое‑что мы об этом слышали. Нам кажется, что в наших интересах всячески поощрять деловые связи Штатов с Европой. Только… — он на мгновение умолк, испытующе посмотрев в глаза собеседнику, — мы не знаем, что вы будете делать с этими связями и со своими вложениями, если Гитлер зайдет дальше, чем мы предполагаем, — возьмет да и бросится на нас?
Ванденгейм пренебрежительно махнул рукой:
— Он никогда не пойдет на это первым.
— Но на это могут пойти его союзники — японцы. Тогда Гитлер будет автоматически втянут в войну с нами.
— Этого не будет! — энергично воскликнул Джон. — Мы сумеем удержать его от подобной глупости, а японцев удерживайте вы.
Наступила пауза. Гопкинс молчал. Нельзя было понять, одобряет он подобную мысль или осуждает.
"Чорт возьми, кажется и этот намерен играть со мною в прятки?" — подумал Ванденгейм и безапелляционно заявил:
— Все, что я знаю о намерениях нацистов, а я знаю о них вполне достаточно, позволяет мне утверждать: Гитлер бросится на Россию. Это цель всех его приготовлений. А раз так, мы можем спать спокойно.
— Сталин не из тех, кто позволит Гитлеру легко сорвать плод, — возразил Гопкинс.
— Тем лучше, — радостно воскликнул Ванденгейм. — Значит, военная конъюнктура — на десять лет…
Гопкинс нервно повел плечами, почти тем же движением, как это делал президент, и проговорил тоном проповедника:
— Не стройте из себя вандала, Джон. Мне не хочется верить, что американец способен желать войны… Война не то средство, которым мы хотели бы решать наши споры. Война — это кровь, это гибель миллионов людей.
— Это не наши, а их споры; не наша, а их кровь — там, в Европе, — махнул рукой Ванденгейм. — Какое нам с вами дело?! Пусть они истребляют друг друга. Нам от этого хуже не будет…
— А если водоворот втянет и нас?
— От нас зависит, дать себя втянуть в войну или нет.
— Вы говорите о возможности войны так, словно дело идет о том, будет ли лето достаточно теплым, чтобы поехать на купанья, — негромко, но внушительно произнес Гопкинс. — Хорошо, что наша беседа происходит без записи и свидетелей, а то нам жарко пришлось бы на ближайшей пресс–конференции.
Мысль о том, что их разговор действительно не стенографируется и, по существу говоря, можно говорить о чем угодно, подбодрила Ванденгейма. Уж не для того ли Гопкинс и напомнил об этом, чтобы вызвать его на откровенность?
Джон заговорил о том, что ему казалось самым важным:
— Что бы вы сказали, если бы я с полной серьезностью предложил проект слияния наших партий? К чему эта игра, отнимающая столько времени и средств у всех нас? А я, мне кажется, нашел бы средства осуществить такой проект.
Гопкинс посмотрел на него так, словно перед ним сидел сумасшедший.
— Вы… серьезно? — И в ответ на утвердительный кивок Ванденгейма: — Воображаете, что мы можем позволить себе такую роскошь? — На лице Гопкинса отразилось смешение гнева и крайнего отчаяния. Ванденгейм в испуге даже отстранился от Гопкинса, но тот без стеснения потянул его к себе за рукав пиджака.
— К чорту дурацкие фантазии, Джон! Осуществить такое слияние значило бы ввести в действие против нас все скрытые силы протеста. Те силы, которые сейчас идут по одному из этих русел, — он поочередно ткнул пальцем в грудь Ванденгейма и себя. — Мир между нами значил бы открытую войну против всех нас… Запомните хорошенько то, что я вам сейчас скажу: боритесь с нами, боритесь так яростно, как только можете! Но упаси вас бог свалить хозяина. Он или революция — таков выбор для нас всех. Поняли?
Ванденгейм не принадлежал к числу людей, легко теряющихся, но сейчас он сидел с таким видом, словно из‑под него вытаскивают стул.
— Валите на нас, что угодно, — продолжал между тем Гопкинс. — Слава богу, что вы обладаете средствами для этого. Что будет со всеми нами, если вместо вас этим делом займутся те, кто кричал сегодня с платформы: "Отлайте нам то, что произвели наши руки!" Представьте себе, что мы отдали бы им то, что создано ими. Что останется тогда вам?
Лицо Ванденгейма налилось кровью. Забыв, что он разговаривает не с Долласом, а с советником президента, он зарычал:
— К чертям эти глупости, Гарри! Посадить мне на шею десятки, сотни тысяч паразитов?! Я делаю доллары не для того, чтобы затыкать ими глотки рабочих. Я не хочу, чтобы из‑за вашей филантропии сотни тысяч, миллионы бездельников разевали рты на мой хлеб. Да, у меня миллионы. Да, у меня миллиарды! Да, я богат. Но какой чорт вам сказал, что я не смогу стать еще богаче, если не буду кормить нахлебников, которые сегодня в Улиссвилле требовали вашей проклятой справедливости.
В течение этой речи Гопкинс успел совершенно успокоиться. Его черты приобрели выражение расчетливой деловитости и официальной сдержанности. Теперь он смотрел на беснующегося собеседника с выражением снисхождения. Как только ему удалось вставить реплику, Гопкинс проговорил тоном доброго учителя, поучающего не в меру расходившегося ученика.
— Неужели вы не понимаете? Когда я говорю "Рузвельт или революция", я ни на иоту не изменяю тому, что говорил вам прежде. Американский народ дошел до той грани, когда ему нельзя не дать хотя бы суррогата справедливости, о котором так любит болтать наш общий друг Синклер. Будьте умницей, Джон, приберите к рукам искусство, займитесь философией…
— Меня тошнит от философии!
Но Гопкинс только рассмеялся в ответ и, не меняя тона, продолжал поучать:
— Можете не любить ее, но найдите средства еще и еще раз доказывать ста сорока миллионам простых американцев, что великая справедливость вовсе не в том, чтобы у вас не было золотых ванн, а в том, чтобы эти простые американцы имели эмалированные или хотя бы цинковые ванны.
Глаза Гопкинса делались все более злыми. Он поднял пустой бокал, постучал его краем по бутылке и, прищурившись, прислушался к тонкому долгому звуку, издаваемому хрусталем. Не глядя на собеседника, медленно процедил сквозь зубы:
— И их женам пока вовсе не нужны каблуки с бриллиантами. Дайте им цветные стеклышки. Иначе у вас отберут ваши бриллианты. Поняли?
— Я хочу, чтобы их было не сто сорок миллионов, а по крайней мере вдвое меньше. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы двигать мою машину… ни одним человеком больше.
— Это утопия, Джон. Глупейшая утопия, которая когда‑либо владела человеческими умами.
— А война! При нынешних средствах истребления мы можем перемолоть миллионы, десятки миллионов ненужных нам людей.
Черты Гопкинса застыли. Он проговорил:
— Не то, Джон, не то! Это не к лицу тому, кто хочет говорить об овладении всем миром. Имейте в виду, что только в том случае, если массы будут верить хозяевам, верить вам и бояться вас, вам удастся поднять их на действия, необходимые для распространения вашей власти. Всякая масса, в том числе и американская, пойдет за вами, если будет уверена, что действует во имя цивилизации, во имя той самой справедливости, которой она так яростно добивается для себя самой… — Гопкинс задумался, потом продолжал: — Никогда не забывайте, Джон, что массе нужны идеалы. — При этих словах Гопкинс положил руку на плечо собеседника. — Помните мои слова, Джои: если Советам удастся осуществить еще хотя бы две своих пятилетки, — а это им, повидимому, удастся, — они будут продолжать такими же темпами улучшать положение масс в своей стране. Если нам, при нашей системе, не удастся продвинуть жизнь вперед, то не найдется таких говорунов ни в нашей партии, ни в вашей, которые сумели бы отговорить американцев испробовать у себя то, что так здорово получается у русских… В этом все дело.
— Вы считаете, что в нашем распоряжении всего десять лет…
— Вы понимаете все чересчур буквально. — Гопкинс посмотрел на часы и спросил, словно невзначай: — Вы здорово завязли в Германии?
Ванденгейм был уверен, что Гопкинс знает все не хуже его самого, но с деланой откровенностью выложил:
— От вас никаких секретов, Гарри: моя группа имеет там около четырех миллиардов прямых вложений и… и интересы еще кое в каких делах… миллиардов на шесть.
— Значит… десять?
— Примерно…
— А Рокфеллер и другие?
— Раза в полтора–два больше…
— А немцы — у нас?
— Только интересы, никаких вложений.
— Умно играют… Не боитесь? — с усмешкой спросил Гопкинс.
Вместо ответа Ванденгейм поднял большой красный кулак и крепко сжал его. Он как бы говорил: "Вот они где".
Однако, поглядев в глаза собеседнику, он понял, что тот не принадлежит к числу людей, которые легко верят на слово. А Джону хотелось, чтобы Гопкинс верил. Не только тому, что Джон говорил сейчас здесь, а поверил бы накрепко, навсегда тому, что Джон хочет итти вместе с ними, если… ему отведут в этом походе надлежащее место. Он хотел быть тут, в этом штабе, откуда Америка будет править миром.
Совсем близко придвинувшись к Гопкинсу и дыша ему в ухо, заговорил негромко, будто доверяя ему самое сокровенное:
— Не в немцах дело, Гарри. Они нам не страшны. Пусть бы завтра, сегодня ночью, через час они затеяли войну со всей Европой — мы ничего не теряем. Да что я говорю — с Европой, — пусть воюют со всем миром!..
Гопкинс проговорил, не отнимая от губ бокала с вином:
— Может быть, вы ничего не имеете против того, чтобы они воевали и с нами?
При этом бесцветные глаза Гопкинса следили за каждой чертой собеседника, за малейшим движением его лица.
Ванденгейм не стал объяснять Гопкинсу сложный механизм секретных договоров, делавших обе стороны — американскую и немецкую — равными участниками в прибылях промышленников обеих стран при любой военной ситуации. Ванденгейм был уверен, что Гопкинс отлично знает, в чем дело. Джон полагал, что не может быть такого положения, чтобы самые архисекретные сделки капиталистов оставались тайной для Белого дома. Его обитатели сами являются ведь не последними участниками предприятий, заинтересованных в этих сделках.
— Гораздо больше Германии меня беспокоит Россия, — сказал Джон. — Да, да, я говорю именно то, что хочу сказать: Россия!
— Надеюсь, там‑то у вас нет вложений? — спросил Гопкинс.
— Если бы вы были дельцом, то не стали бы спрашивать, — сердито проговорил Ванденгейм. — Я сказал бы: есть, и дьявольски большие.
— Вкладывать деньги в Россию! — Гопкинс всплеснул руками.
Ванденгейм с досадою отмахнулся:
— Дела давно минувших дней… Тогда все были уверены, что большевики не продержатся и пяти лет… Бакинская нефть, разведки на Алтае…
Гопкинс рассмеялся:
— Значит, одна бумага! А я думал, серьезно.
— Что может быть серьезней такой бумаги, Гарри?
— Скупили‑то все наверняка по центу за доллар.
— Иногда и дешевле, — не без хвастовства заявил Ванденгейм.
— Тогда беда еще не так велика…
— А вы представляете себе, какие возможности мы теряем в России? Об этом стоит подумать, Гарри. Очень стоит…
Джон долго еще говорил о выгодах, которые американский капитал мог бы извлечь из России, но нельзя было понять, слушает ли его Гопкинс. Держа недопитый бокал против лица, тот клевал носом. Он оживился только тогда, когда Ванденгейм заговорил о Китае, и окончательно пришел в себя, когда дело дошло до Японии.
— Неужели вы не считаете сколько‑нибудь целесообразным поощрить Японию к движению на северо–запад? — говорил Ванденгейм.
Гопкинс ответил неопределенно:
— Это дело Грю.
— Чем ближе джапы подберутся к границам Советов…
— Вы, видно, забыли о договоре взаимной помощи, фактически о союзном договоре между Советами и Монголией.
— Те же Советы…
— Тем хуже… Попытки Японии проникнуть в СССР этим путем, а заметим в скобках: это самая прямая дорога к Транссибирской магистрали, — подобная попытка вызвала бы яростную реакцию Москвы.
— Значит, драка? — восторженно крикнул Ванденгейм. — Разве это не то самое, к чему мы стремимся?
Гопкинс перебил:
— Вы говорите так, словно упрочение Японии вам чертовски наруку.
— Что угодно, только не упрочение Советов.
— А кто вам сказал, что из такого поединка победителями непременно вышли бы джапы?
— При нашей‑то поддержке?!
На столе загудел сигнал телефона. Гопкинс потянулся за трубкой. Выслушав, не торопясь, опустил ее на рычаг и обернулся к гостю:
— Президент вызывает меня. — И только насладившись видом обиженно вытянувшейся физиономии Ванденгейма, добавил: — И вас тоже.
9
Рузвельт окинул обоих внимательным взглядом и, лукаво подмигнув Гопкинсу, сказал:
— Не больше одной бутылки, а?.. Нет, Гарри, так не годится. Не только вашими омарами, но и выпивкой будет распоряжаться Макинтайр. — Он обернулся к Ванденгейму: — Когда Гарри выпивает больше бутылки, я не отвечаю ни за одно его слово. Баста! Считайте, что ничего от нас не слышали. Пока меня тут мучил врач, я кое‑что приготовил для вас.
Рузвельт потянулся к лежавшей на столе книге, обернутой в кожаную суперобложку.
Гопкинс засмеялся и в тон Рузвельту бросил:
— Это, — Гопкинс поднял со стола книгу и показал Ванденгейму те места, где светлая кожа футляра потемнела от частых прикосновений, — наше евангелие, Джон. Хотите вы или не хотите, но вам придется выслушать несколько изречений.
Рузвельт с напускным гневом взял из рук Гопкинса книгу и раздельно прочел:
— "У Вильгельма одна мысль — иметь флот, который был бы больше и сильнее английского, но это поистине чистое сумасшествие, и он увидит, как это невозможно и ненужно".
И пояснил Ванденгейму:
— Это писала жена императора Вильгельма второго, Виктория, своей матери, английской королеве Виктории… По–вашему, это верно? Будто мечтать о флоте более могущественном, чем британский, — пустое занятие?
Не понимая, к чему клонит президент, Ванденгейм осторожно промолчал.
Тогда Рузвельт сказал:
— Купите эту книгу, — он показал титульный лист: "Капитан Альфред Тайер Мехен. Влияние морской силы на историю". — Прочтите ее внимательно. Вы поймете, почему мне так чертовски хочется, чтобы вы приложили свои силы к флоту. Там найдут себе сбыт и сталь и нефть, Джон. Я попросил бы моих друзей в правительстве, чтобы они создали наиболее благоприятные условия для приложения вашей энергии в судостроении. Я имею в виду военное судостроение. Надо строить авианосцы, то, чего не было во времена Мехена. Понимаете, боевой флот и авиация сразу. Штаты должны иметь самый большой авианосный флот. Мне кажется, Джон, что это должно решать. Тот, кто будет владеть воздухом над головою вражеского флота, будет хозяином океанов. Это так, поверьте мне. — Рузвельт, насколько позволяла его относительная подвижность, нагнулся к Ванденгейму и продолжал, понизив голос: — Вы хотите, Джон, чтобы дела Америки и ваши шли так, как вам хочется? Тогда займитесь этим делом. Если конгресс не будет упрямиться, как строптивый мул, и утвердит морскую программу, нам с вами не придется больше слышать таких глупых разговоров, как нынче в Улиссвилле. У всех будет работа. Вся Америка поплывет сразу по двум океанам, — и он раскинул руки широким движением, словно желал раздвинуть стены салона, стоящие на пути к его мечте.
— Вся Америка? — переспросил Ванденгейм. — Опять вся? И там, в этом лучшем будущем на двух или на четырех океанах, мне будут твердить о необходимости содержать миллион "простых людей", будут болтать о справедливости?! Нет, я хочу другого будущего, мистер президент, совсем другого!
— Я знаю, чего вы хотите, — не давая ему договорить, перебил Рузвельт, — знаю вашу натуру — рвать налево и направо, рвать, пока есть зубы, не заботясь о том, что будет завтра. Так не годится, Джон. Думайте о будущем, поймите же, чорт побери, иначе нас сбросят за борт на пути к любому будущему.
— Не хочу, не буду, — упрямо бормотал Ванденгейм, с трудом заставляя себя вдуматься в то, что говорил президент. — Не хочу никому отдавать даже часть того, что принадлежит мне целиком. Не желаю, чтобы в мою ванну лез всякий сброд, которому, для того чтобы выкупаться, достаточно сбросить остатки дырявых штанов…
Рузвельт поднял руки, словно прося пощады, и воскликнул:
— Стоп, Джон! Оказывается, мы с вами хотим одного и того же. А вы и не заметили?.. Но как итти к нашей общей цели? Ваш путь — это гибель. Я ищу другого пути. Справедливость, о которой я толкую, в том и заключается, чтобы каждый получил положенное ему от бога, чтобы никто не имел права сказать, будто среди бела дня у него отнимают принадлежащее ему. Отдайте не половину, а одну десятую того, что человек создал, но так, чтобы он поверил, понимаете, Джон, поверил в справедливость дележа, и все будет в порядке. — Рузвельт саркастически улыбнулся и, помолчав, сказал: — Поверьте мне, Джон, только полные дураки могли стрелять мне в спину из‑за того, что им не нравится эта формула.
Не выдержав взгляда президента, Джон опустил глаза и через силу ответил:
- …Я рад, что в вас тогда не попали.
Рузвельт рассмеялся:
— Могу вас уверить, Джон: я рад этому не меньше вашего. И не только потому, что остаться в живых всегда приятней, чем стать трупом, но и потому, что смерть мэра Чикаго — это только потеря хорошего малого. Вместо него другой будет с таким же успехом давать банкеты избирателям и боксерам. А попади преступник в меня, вы лишились бы неплохого адвоката. Постарайтесь уверить в этом кого следует.
И без того багровое лицо Джона налилось кровью до синевы.
— Что вы имеете в виду, сэр?!
— В вашей власти сделать так, чтобы ваши деньги больше не тратились на дела, могущие обратиться против вашего же кармана. Надеюсь, что рано или поздно мне удастся убедить вас в необходимости дать Америке ту меру справедливости, которая оказала бы действие бочки масла, вылитого на поверхность волнующегося моря.
— В конце концов, — примирительно заявил Джон, — я не против этого. Но пусть елей льют попы. Они получают достаточно за то, чтобы делать свое дело.
— Церковь — величайший из институтов, Джон, — тоном глубочайшего уважения произнес Рузвельт. — Заботьтесь о церкви, и она позаботится о вас. — Он наставительно поднял палец: — Почему на протяжении двух тысячелетий, пережив десятки империй, существует это учреждение? Спросите себя об этом, и вы поймете: люди хотят справедливости. Тот, кто обещает им ее — полубог, а кто сумеет их уверить в том, что он им ее дал, — сам господь–бог.
— Так дайте же им эту вашу справедливость: пусть размножаются, но не мешают размножаться моим долларам. Пусть едят овсянку с салом, но не суют нос ко мне на кухню и не лезут в мою постель, чтобы посмотреть, что я жру, на чем и с кем сплю!
Прошло около часа. Мечтательно полуприкрыв глаза и глядя поверх головы Ванденгейма на стену, где висела большая многоцветная карта мира, Рузвельт говорил медленно, словно думая вслух.
Ванденгейм слушал внимательно. Временами он ловил себя даже на том, что его рот сам собою приоткрывается от удивления. Трудно верилось тому, что все это говорил Тридцать второй, Рузвельт, "социальный ренегат"!.. Или он играет с Джоном?.. Нет, нет, так не шутят! Это разговор мужчин!
Воодушевившись, Джон с жаром воскликнул:
— Тогда мы поднимем желтых против России. Китай, Японию, Индию! Мы натравим их на русских, взбудораживших всю Азию. — И, задохнувшись от волнения, прохрипел под конец: — "Азия для нас!" А там увидим… — И он потянул из кармана платок, чтобы отереть вспотевший лоб.
Рузвельт смотрел на него с разочарованием, близким к жалости: с этим человеком было бесполезно толковать. Он понимал все, как взбесившийся пес: рычать и хватать, хватать, хватать…
Но, сделав над собою усилие, Рузвельт все же терпеливо продолжал:
— Нет, Джон… не то, совсем не то… Я не понимаю такой ненависти… Но я хочу сказать: революция не знает ни белых, ни желтых. Для нее существуют угнетенные и угнетатели. Вот — лагери… Коммунизм не знает разницы рас. Коммунистическая Россия белых вместе с коммунистическим Китаем желтых и с черной Африкой впридачу могли бы, отлично понимая друг друга, наступить на горло и капиталистической Америке белых и полуфеодальной Японии желтых. Вот что страшно, Джон: единая коммунистическая Евразия против Штатов… они раздавили бы нас…
— Вы… боитесь? — с удивлением спросил Ванденгейм.
Рузвельт отрицательно покачал головой.
— Это так… мысли вслух… Впрочем, что я вам тут рассказываю. Сейчас я покажу вам, Джон, куда вы должны устремить свое внимание. — Он взял со стола линейку и провел по карте. Конец линейки остановился на голубых просторах Тихого океана. — Вот дорога на Восток, Джон. Чертовски широкая дорога.
— На дороге нужны станции. — Джон улыбнулся, впервые за весь день. — Хотя бы для заправки баков и чтобы капитан мог пропустить стаканчик–другой.
— Дайте Америке флот — будут и станции. Так много станций, как только может понадобиться. Если бы во времена Мехена существовали самолеты, он наверняка учел бы и этот фактор. Но мы сделаем это за него. Арнольд недаром ест свой хлеб… Смотрите, Джон, — линейка плавным движением обошла Филиппины. — Если нам удастся убедить филиппинцев в том, что мы, как добрый сосед…
— Довольно дальний сосед, — скептически заметил Гопкинс и пальцем провел по направлению от США к островам, которых все еще касалась линейка президента.
— Но и довольно сильный, — подмигнул ему Рузвельт. — Если Макарчеру удастся доделать то, что он делает, мы уже через десять лет будем иметь на этом голубом пространстве такую опорную точку, что… — Рузвельт воинственно взмахнул линейкой и, не договорив, с треском швырнул ее на стол. — Вот куда вам нужно итти, Джон. Оттуда рукой подать до юго–восточной Азии, оттуда вы сможете перешагнуть в Китай, а через несколько лет, быть может, и в Японию.
Он нажал звонок и бросил вошедшей секретарше:
— Попросите Макарчера!
Потом взял со стола одну из бутылок и, повернув ее этикеткой к гостю, спросил:
— Что предпочитаете?
— Если позволите, я сам, — ответил Ванденгейм и без стеснения взял другую бутылку.
Он, не торопясь, наливал себе джин, когда дверь отворилась и в салон вошел Макарчер.
Не выпуская из рук бутылки, Ванденгейм с интересом разглядывал генерала, пока тот здоровался с президентом. Джон не спеша поставил бутылку, вынул изо рта сигару и дружески, словно был с ним знаком, кивнул Макарчеру.
Рузвельт поднял свой все еще полный стаканчик и, глядя на Макарчера, сказал:
— За вас, Мак. За ваше дело!
— За наше дело, президент, — по–военному четко ответил Макарчер, впившись в лицо Рузвельта прищуренными глазами.
Через несколько минут Рузвельт снова поднял стакан — все тот же недопитый стакан своего коктейля, — протянув его в сторону Ванденгейма, проговорил:
— За наших друзей…
— Это за вас, Джон, — с усмешкой пояснил Гопкинс.
Когда заметно захмелевший Ванденгейм, наконец, понял, что ему пора уходить, и когда дверь затворилась, скрыв его широкую спину, Рузвельт, задумчиво глядя ему вслед, проговорил:
— Хотел бы я знать, что им от меня нужно? — И тут же, сделав такое движение рукой, будто отгонял неприятные мысли, весело крикнул Гопкинсу: — Как вы думаете, Гарри, не показать ли нам Дугласу какой‑нибудь хороший фильм, а?.. Давайте смотреть "Королеву Христину". Не протестуете, друзья? Не беда, что фильм стар. Мы увидим очаровательнейшую из королев.
Гопкинс стал поудобнее устраиваться в кресле, чтобы соснуть, пока будет итти трижды виденная им картина. Макарчер молчал. Ему было решительно все равно: покажут ли матч бокса, ограбление с убийством или любовную комедию.
Рузвельт между тем продолжал, поглядывая на генерала:
— Я вам особенно советую, Мак, последить за судьбою испанского посла… Назидательная история о том, к чему могут привести иностранца вредные реминисценции бонапартизма. Даже если им покровительствует такое очаровательное существо, как эта королева… к тому же имейте в виду, не осталось ни таких королев, ни… — он не договорил и, рассмеявшись, повернулся всем корпусом к Макарчеру. — Разве только если нарядить в женское платье вашего Квесона, а вам поручить роль испанского посла.
Макарчер не понял намека. Рузвельт с силой опустил ему руку на плечо.
Свет в салоне погас. По экрану на великолепном галопе неслась амазонка…
Рузвельт вдруг почувствовал около уха чье‑то дыхание и расслышал осторожный шопот:
— Мне нужно сказать вам несколько слов.
Он узнал голос Макарчера и полуобернулся:
— Потом, потом… — Президент с досадою отмахнулся от угрожавшего ему делового разговора. Его внимание было снова целиком поглощено экраном.
Но по мере того как бежал фильм, двигались по экрану тени вельмож, заговорщиков, крутились снежные вихри метели и стучали копыта коней, мысли президента уносились все дальше и дальше от Швеции, от красавицы королевы, от ушедшей во тьму истории и неизвестно зачем воскрешенной Парамоунтом повести о нелепой любви. Перед мысленным взором Рузвельта появлялись другие тени, другие заговорщики, другие вельможи и монархи. Короли нефти и железа, банков и железных дорог. Заговорщики прятали за пазуху не наивные кинжалы, а пачки акций и автоматы. Их страшный хоровод плясал на экране, как мрачные кони Апокалипсиса, несущиеся навстречу Рузвельту, чтобы растоптать его, смять, уничтожить. Изъязвленная маска Рокфеллера Старшего высилась над плечами Ламонта. Бесконечные толпы гангстеров с факелами и в масках бродили по закоулкам Белого дома…
Рузвельт нервно повел плечами и закрыл рукою глаза.
Тени Моргана и Рокфеллера!.. Приближающиеся выборы… Необеспеченность переизбрания на третий срок, если он не станет кандидатом того и другого… Провал означал бы, что на мостик взойдет новый капитан. Какой‑нибудь полубезумный, ничего не понимающий в навигации Дьюи. Даже если допустить, что Дьюи удастся удержать в повиновении матросов, что офицеры не будут выброшены за борт, что груз золота останется в трюмах корабля, какой во всем этом будет прок, когда вон там, впереди, пенистые буруны у рифов? Корабль Штатов стремительно несется в этот кипящий водоворот. Один неверный поворот руля и…
Ладонь президента была прижата к плотно закрытым глазам. Но даже сквозь сжатые веки ослепительно сверкала пена бурунов вокруг рифов… Смертельная угроза кораблекрушения!..
Сеанс окончился. Президент вяло протянул руку Макарчеру и остался наедине с Гопкинсом.
Оба долго молчали.
Наконец Гопкинс не выдержал:
— Что сказал вам по секрету от меня Мак?
Несколько мгновений Рузвельт смотрел на него с недоумением. Потом неохотно проговорил:
— Да, он что‑то хотел мне сказать, но… повидимому, так же забыл об этом, как я…
Гопкинсу очень хотелось поймать взгляд президента, но глаза Рузвельта были полузакрыты, голова устало откинута на спинку кресла.
Гопкинс на цыпочках покинул купе.
10
Поезд президента грохотал по рельсам далеко от Улиссвилля, когда негр Абрахам Джойс остановился у остатков изгороди, окаймлявшей когда‑то крайний участок, из тех, что причислялись к Улиссвиллю.
Была безлунная ночь, и в темноте не сразу можно было заметить, что Джойс не один. Мэй остановилась рядом с ним.
— Дальше не пойдешь? — спросил Джойс.
— Не пойду.
Она произнесла это негромко. Так, словно боялась быть услышанной кем‑либо, кроме Джойса. Хотя можно было с уверенностью сказать, что в такое время и в этом заброшенном месте нет никого, кто мог бы ее услышать, кроме спутника. Она прибавила еще несколько слов, которые с трудом разобрал даже Джойс: что‑то о грозящей ему большой опасности.
— Пустяки, — сказал он, — все это совершенные пустяки.
— Нет, не пустяки, — упрямо сказала она.
— А я говорю, пустяки… Мы выберемся из этого.
— "Пустяки"! — повторила она несколько громче прежнего, передразнивая Джойса. — Если бы все это было так просто, как ты говоришь, то ты не ездил бы теперь на тракторе, а… — едва уловимая серая полоса ее просторного рукава описала в темноте широкую кривую, как безнадежный взмах крыла, которому не суждено было никуда подняться.
— Лучше на тракторе, чем под трактором, — пошутил Джойс.
— Но лучше на самолете, чем на тракторе, — в тон ему ответила она.
— Жизнь была бы чертовски проста, если бы человек всегда мог заниматься лучшим из того, что он умеет делать, — нравоучительно проговорил Джойс. И, подумав, прибавил: — Эдаких счастливчиков не так уж много на свете… — В темноте очень громко прозвучал его глубокий вздох. — Конечно, ты права: авиатор должен летать или хотя бы работать на аэродроме, а не таскать трактором плуги.
— И вообще напрасно ты сюда приехал, — сердито сказала она, — здесь места не для негров.
— А ты можешь мне показать в Штатах места для негров? — насмешливо спросил он. — И разве я мог отстать от всей компании?
— Иногда нужно выбирать: компания или жизнь, — жестко произнесла Мэй.
По ее тону Джойс понял, что ей хотелось, чтобы эти слова прозвучали как можно более жестко, и улыбнулся: из ее намерения ничего не получилось. Мэй выговаривала английские слова с той своеобразной мягкой певучестью, которая свойственна выговору китайцев. Он с усмешкой подумал, что в ее устах даже брань звучит, вероятно, как объяснение в любви. Между тем она тем же тоном продолжала:
— Да, нужно выбирать!
Джойс стоял молча, хотя ему хотелось сказать, что там, откуда он приехал, в Испании, в интернациональной бригаде, такой вопрос не вставал никогда. Оба они — Айк Стил и он, Джойс, — были авиационными людьми, но оба они сражались там в пехоте только из‑за того, что у республики не было самолетов. Честное слово, если бы кому‑нибудь пришло в голову поставить перед любым из них вопрос: жизнь или компания пехотинцев, бок о бок с которыми они прошли весь путь от Мадрида до французской границы, ни один из них не усомнился бы в выборе. Для чего же другого они приехали туда, как не ради того, чтобы их жизнь стала частицею жизни этой компании, а жизнь компании стала их собственной? Право, как странно говорит Мэй: выбирать между компанией и жизнью. Что же, он должен был бросить их одних — больного Айка и этого маленького итальянца Тони, приставшего к нам в тот день, когда убили певицу?.. Странная постановка вопроса — компания или жизнь… Очень странная…
Приглядевшейся к темноте Мэй было видно, как Джойс повел в ее сторону белками глаз.
Она положила руку на широкое плечо негра и прижалась лицом к его груди. Он погладил ее по волосам, и Мэй, как всегда, очень ясно почувствовала, как велика его рука.
— Не ходи туда, — сказала Мэй.
Отняла голову от его груди и молча покачала ею. Задумчиво проговорила:
— Если бы ты был около самолетов, я могла бы улететь отсюда… вместе с тобой. Мы оба нашли бы работу. Ведь нужны же где‑нибудь фельдшерицы… Но на тракторе никуда не уедешь.
— А необходимо уехать?
— Скоро они узнают о том, кто вы и зачем приехали… — Она опять грустно покачала головой.
— Не узнают, — ответил Джойс. — А если и пронюхают…
При этих словах Мэй в испуге отпрянула от него.
— Что будет с тобой!
Он попрежнему озорно сказал:
— Пусть попробуют… Со мною Стил и Тони…
— Стил белый, они побоятся разделаться с белым, а ты… как будто не знаешь сам… А твой Тони! — с презрением процедила она сквозь зубы. — Подвязать фартук — и будет настоящая баба.
Джойс рассмеялся так громко, что через несколько мгновений эхо вернуло этот смех с противоположной стороны оврага, где начинался невидимый сейчас сосновый лес.
— Тише, — сказала Мэй, — я вовсе не хочу, чтобы тебя убили.
— Идем со мной. Сейчас, — решительно проговорил Джойс и потянул ее за руку.
Она вырвалась.
— Поговори со Стилом. Вам нужно отсюда уходить, пока вокруг ничего не знают… — Она на минуту замялась, потом закончила: — И мне тоже будет очень худо, если они узнают, что я… с тобой…
— Слава богу, ты же не белая. Они не станут вешать негра из‑за китаянки.
— О, Хамми! Ты их еще не знаешь.
Джойс ясно представил себе, как при этих словах она безнадежно махнула рукой. Ему хотелось сказать что‑нибудь такое, чтобы убедить ее: не будет ничего дурного, если здешние люди узнают, что они коммунисты.
— Ты же слышал, как Стил спорил сегодня с президентом, — сказала Мэй. — Что теперь о нем думают?
— Люди должны знать, что есть еще на свете кое‑кто, от кого можно услышать правду.
— Ты глупый, — сказала она с нежностью, сквозь которую слышалась жалость к большому черному любимому человеку. — Ужасно… ужасно глупый… — И вдруг с беспокойством: — Уходите, уходите отсюда как можно скорей. Сегодняшний митинг не приведет к добру. Уж я‑то знаю здешний народ… — И, наконец, голосом, полным страха: — Клан все знает, у него везде свои люди… Верь мне, Хамми, и там, и в вашем сарае наверняка есть их уши…
— Уж это ты брось! — беспечно сказал он.
— Я знаю, что говорю… Мама говорила мне…
Он со смехом перебил ее:
— Твоя мать очень хорошая женщина, но что может знать простая старуха.
— Но ведь она же служит у Миллса! — убеждающе проговорила Мэй и повторила: — Я знаю, что говорю.
Джойс протянул руку и крепко взял Мэй повыше локтя. Она сразу подалась к нему вся. Он охватил ее за плечи и прижал к себе.
— Может быть, ты даже знаешь, кто?
Она рванулась, пытаясь освободиться из его объятий, но он еще крепче сжал руки. Все ее тело напряглось, потом обмякло. Будто она сдалась, потеряв надежду освободиться.
— Ну, кто? — повторил он.
Мэй почудилась в его голосе такая сухая нотка, какой не приходилось в нем слышать. Она подняла глаза, тщетно пытаясь разглядеть во тьме выражение лица Джойса. И ей вдруг стало так страшно, как не было еще никогда с начала их близости.
Мэй еще никогда так ясно не сознавала, что происходящее вокруг очень страшно. Только в эту минуту, когда перед нею так четко встали, с одной стороны, она и он, с другой — кто‑то из сидевших сейчас в сарае, она до конца ощутила, до холода в спине, до иголочек в концах пальцев, что это значит… Она была тогда еще совсем маленькой девочкой, всего год или два тому назад приехавшей с матерью из Китая… Да, да, это было именно тогда, когда мать поступила в стряпухи на ферму Миллса… Ночь, черная, как сегодня, факелы, много пылающих факелов. В их свете белые капюшоны казались алыми, словно пропитанными кровью. Ни одной капли крови не было пролито в ту ночь — негр даже не пытался защищаться. Через пять минут после того, как они подошли к его дому, он уже висел на сосне за своим собственным сараем… Она отчетливо помнила каждую мелочь! Цвета и звуки жили в ее памяти так, как если бы все случилось сегодня… Она могла бы слово в слово повторить все, что кричала тогда девушка, цеплявшаяся за негра, когда его волокли к сосне. Мэй могла бы с точностью описать каждую черточку на лице негра и его возлюбленной, когда люди в капюшонах схватились за веревку. Мэй чересчур ясно представляла себе всю эту картину, чтобы оставаться спокойной сейчас, хотя руки Джойса были такими сильными и так крепко и уверенно держали ее. Ужас, объявший ее при этом воспоминании, сковал язык и не давал ей ответить на вопрос, настойчиво повторявшийся в темноте:
— Кто?
А Джойс не знал, что ему думать. В последний раз повторил:
— Кто?!
Не получив ответа, он разжал объятие. И тотчас почувствовал, как Мэй выскользнула. Топот ее тяжелых башмаков по плотной глине тропинки удалялся.
И почему‑то именно сейчас, когда она ушла, он с особенной ясностью представил себе ее всю — с головы до ног. Ему хотелось броситься за нею вдогонку, схватить и унести ее отсюда. Но он стиснул кулаки и не сделал ни шагу. Только закрыл глаза, чтобы вызвать в сознании еще более яркий образ Мэй: она стояла перед ним, и ее темные карие глаза улыбались сквозь узкий разрез век, и между ними, чуть–чуть повыше переносицы, чернела родинка. Совсем такое же маленькое пятнышко, как нарочно делают себе на лбу женщины в Индии…
Джойс разжал кулаки и поднес к лицу руку, словно на ладони мог сохраниться след от прикосновения к иссиня–черным гладким волосам Мэй…
Несколько времени он еще стоял, прислушиваясь к ее шагам. То, что она не ответила, убедительнее всего говорило ему: она боится того, кто сидит сейчас в сарае и вместе с другими, незаметный предатель, слушает Стила…
Джойс провел широкой ладонью по лицу, отгоняя ненужные мысли: что из того, что какой‑то куклуксклановец знает Стила или его, Абрахама Джойса, коммуниста, как и Стил, правда, не умеющего так складно говорить, но в случае надобности способного постоять за свои взгляды и разъяснить народу, что к чему? Что тут такого? Разве конституция Штатов не предоставляет им право говорить то, что они думают? Ведь компартия не в подполье, ведь тут не Германия! Они говорят и будут говорить то, что считают нужным сказать народу, — правду… Джойс очень жалеет о том, что тоже не выступил сегодня на платформе Улиссвилля. Он сказал бы президенту все, что думает о войне северян "за демократию и справедливость". Зачем болтают, будто они воевали за освобождение негров, за уничтожение позорного рабства в Штатах. Разве сами северяне не были согласны сохранить рабство для черных в тех штатах, где оно уже существовало? Если бы южные плантаторы были посговорчивей, негров и сейчас пороли бы и вешали среди дня, под защитой закона. Не были бы нужны белые маски. Господа из Вашингтона не делали бы вида, будто им ничего неизвестно о ночных расправах над черными…
Джойс шел по тропинке, которую скорее угадывал среди поля, чем видел. Его шаги были, как всегда, широки и уверенны. Он даже, сам того не замечая, что‑то насвистывал себе под нос. Словно и не было у него в голове таких невеселых мыслей, словно запах взрыхленной земли, далекий шум леса и робкое стрекотанье первых кузнечиков в пробивавшейся кое–где траве — это было все, чем он сейчас жил…
Вдруг Джойс остановился и прислушался. Вокруг попрежнему царила почти полная тишина еще не проснувшейся весенней природы. Но Джойс прислушивался не к тому, что было вне его, а к собственной мысли. Он поймал эту мысль, взвесил и печально покачал головой. Да, пожалуй, Мэй права: конституция ни при чем. Тот куклуксклановец, что сидит сейчас в сарае, знает, что делает. Этим негодяям важно убедиться, что и Стил и он действительно коммунисты. Это должно быть им особенно ясно после сегодняшнего митинга. Ведь когда Гопкинс будто в шутку отослал Стила к Браудеру, он знал, что делает, очень хорошо знал. Это был сигнал всем, у кого есть охота разобраться: а не коммунист ли перед вами? Да, конечно, так оно и есть. Тот шпион, что слушает сейчас Стила в сарае, хочет только убедиться в правоте Гопкинса и донести своим: коммунисты ведут у нас агитацию, они хотят привлечь фермеров на свою сторону. Мэй права: повесят его, Джойса, или нет — второй вопрос, но обнаружь они связь между ним и батраками — они не преминут использовать это по–своему. Негр–коммунист, пойманный на таком деле, — отличный материал для этих разбойников…
Джойс потоптался на месте.
Вот жалость действительно, что он не может сунуть Мэй в самолет и отправить ее куда‑нибудь подальше до тех пор, пока они со Стилом не закончат здесь свое дело — открыть людям глаза на истинное положение вещей в стране, объяснить им причины их собственных бедствий… Неужели же ему придется сниматься отсюда, не закончив работу, и оставить Стила одного?.. Ах, чорт возьми, а как же быть с Мэй? Значит, поставить точку на этом "личном" деле?.. Не так все это просто!.. Нужно посоветоваться со Стилом…
Тропинка привела его к полуразрушенному сараю, предоставленному местным фермерским кооперативом "Козий брод" под жилье бригаде рабочих, прибывших с сельскохозяйственными машинами. Этот сарай был последним строением, еще кое‑как сохранившимся на участке, откуда в прошлом году съехал разоренный хозяин.
Несмотря на то, что Джойс вошел в сарай из полных потемок, ему не пришлось щуриться от света. Под дырявой крышей едва мигал мутный глазок фонаря "летучая мышь". Электрические провода, некогда тянувшиеся сюда от фермы, давно исчезли. Вероятно, их срезал сам хозяин, чтобы увязать остатки скарба, которым пренебрег аукционист, распродавший все остальное за долги земельной компании.
В сарае было с десяток людей или немного больше. Кто примостился на обрубке дерева, кто просто на корточках на земляном полу. В середине, там, куда падал свет от фонаря, на высоком ящике сидел Стил. Он вслух читал газету. По заголовкам Джойс сразу узнал "Дейли уоркер".
При появлении Джойса несколько лиц повернулось к нему. Он внимательно вгляделся в них: "Кто?" Но все они показались ему такими изможденными, усталыми, что стало стыдно своих подозрений. "Не они!"
Он прислонился к притолоке и стал вместе с остальными слушать Стила.
— Когда Стил окончил чтение, кто‑то из сидевших спросил:
— А не знаешь ли ты, механик, чем кончилось дело с Чехословакией? По газетам ничего толком не поймешь: то ли пустили волка в овчарню и на том дело кончилось, то ли самого волка признали овцой и ждут, когда он полезет на следующий двор?
Старый фермер, сидевший прямо напротив Джойса, теребя свою клочковатую бороду, уныло проговорил:
— Какое нам дело до чехов и Гитлера? У нас своих дел до чорта! Поговорим о своих делах…
Но молодой задорный голос того, что говорил раньше, перебил:
— Нет, папаша! Чешские дела — наши дела… Сегодня Гитлер у них, завтра — у нас. Да у нас и самих этого добра уже до дьявола. Вот поэтому нужно посмотреть: есть на них хоть какая‑нибудь управа или им только коврики раскладывай. — И поворачиваясь к Стилу: — Нет, механик, обязательно расскажи нам про это дело.
Но Стил не стал ничего рассказывать. Он повернул страницу газеты и громко прочел самоуверенную похвальбу нацистского правительства, которой звучала германская нота об учреждении протектората над Чехословакией. Сделав паузу, он еще раз раздельно и громко прочел ответ советского правительства, заканчивавшийся резким отказом признать притязания гитлеровцев:
"…Ввиду изложенного Советское правительство не может признать включение в состав Германской империи Чехии, а в той или иной форме также Словакии, правомерным и отвечающим общепризнанным нормам международного права и справедливости и принципу самоопределения народов.
По мнению Советского правительства действия Германского правительства не только не устраняют какой‑либо опасности всеобщему миру, а, наоборот, создали и усилили такую опасность, нарушили политическую устойчивость в Средней Европе, увеличили элементы еще ранее созданного в Европе состояния тревоги и нанесли новый удар чувству безопасности народов…"
Стил не спеша сложил газету.
— Вот и все…
— Действительно толковый ответ, — ни к кому не обращаясь задумчиво проговорил молодой фермер, но резкий голос перебил:
— А ты, механик, прочел бы нам ответ нашего, американского правительства…
Джойс, быстро оглянувшись на этот голос, узнал фермера Миллса. Это был небольшой коренастый человек с загорелым лицом, обросшим рыжеватою с проседью бородой, такою же круглой, как борода на портретах генерала Гранта.
— А ну, читай, — строго, почти угрожающе повторил Миллс, но молодой возразил:
— Хватит. Можно подумать, что мы его не знаем.
— Да у меня его и нет, — примирительно заметил Стил и хлопнул ладонью по газете: — Здесь он не напечатан…
Миллс вызывающе вздернул бороду. Все приняли это за сигнал к молчанию и ждали, пока он выбивал трубку о край ящика, на котором сидел Стил. Но Миллс так больше ничего и не сказал.
Тогда опять спросил молодой:
— Послушай‑ка, Стил, а ты правду сказал нынче утром, будто сражался в Испании?
Стил молча показал парню на стоявшего у двери Джойса.
— Спроси у него, — сказал Стил.
— И ты? — негромко воскликнул парень. Джойс кивнул головой. — Какие вы ребята!.. — Парень помолчал, в восхищении поглядывая то на того, то на другого, потом сказал: — Говорят, будто англичане действительно заставили добровольцев из интернациональных бригад покинуть Испанию.
Стил утвердительно кивнул головой.
— Как же вы, ребята?.. — В голосе парня прозвучала такая досада, что, казалось, дай ему в руки винтовку, и он сейчас же поехал бы занять место этих двух. — Значит, там не осталось американцев?
— Никаких иностранцев на этой стороне… А на той — итальянцы и немцы, — пояснил Стил.
— Плохо… очень плохо, — сказал парень. — Нельзя было вам уезжать.
— Нельзя было не уехать, — возразил Стил. — Иначе дело грозило разгореться в такую войну…
— Все равно, пускай любая война, — горячо воскликнул парень, — но нельзя же было предавать испанцев! Знаешь, какие это ребята?
— Уж я‑то знаю, — с усмешкой сказал Стил.
— А что же у них теперь?
— Теперь? — Стил помедлил с ответом… — Теперь вот так: у республиканцев сто тысяч бойцов, у Франко — триста; у республики — триста пушек, у Франко — три тысячи; танков пятьдесят против пяти сот; самолетов едва ли сотня против тысячи… Вот какие там дела.
— Нельзя так, нельзя! — повторял парень, стиснув голову кулаками.
Джойс проговорил:
— И среди сотен тысяч винтовок, среди трехсот орудий и среди самолетов Франко немало таких, на которых стоит клеймо: "Сделано в США"…
Эта фраза как бы поставила точку. Воцарилось долгое молчание.
Из потемок дальнего угла вышел на свет низкорослый чернявый человек с лицом измятым, точно резиновый мяч, из которого выпустили воздух. С его коротких рук свисали непомерно длинные рукава комбинезона. Он протер глаза — большие темные глаза южанина, окруженные болезненной одутловатостью век. Не всякий, кто помнил день приезда певицы Тересы Сахары в окопы интернациональной бригады, узнал бы в этом желтом человеке веселого бойца–итальянца, вставшего к микрофону, когда фашистский снаряд заставил навсегда умолкнуть отважную испанку. Это был Антонио Спинелли — певец–антифашист, солдат и изгнанник.
Антонио приветливо кивнул Джойсу и вытащил из‑за угла сарая банджо. Может быть, это было то самое банджо, что видело окопы Каса дель Кампо, что с боями прошло развалины Университетского городка; то самое банджо, звуки которого разносились над каменными хижинами Бриуэги, чьи струны пели победу под небом Гвадалахары и звучали у французской границы, заставляя грустно качать головами черноглазых сынов Сенегала… Быть может.
Антонио через головы сидящих протянул банджо Джойсу:
— Спой нам, Хамми…
Все обернулись к негру. А он, машинально, беря инструмент, вглядывался в лица сидящих: "Кто?"
— "Джо Хилла", Хамми, — услышал Джойс и не спеша провел пальцами по струнам. А в голове занозою сидело: "Кто?"
Он пел почти машинально:
Вчера я видел странный сон:
Пришел ко мне Джо Хилл.
Как прежде, был веселый он,
Как прежде, полный сил…
Бас Джойса глухо звучал под дырявой крышей сарая.
Он пропел последний куплет:
Джо Хилл ответил: "Слух пустой,
Нельзя меня убить.
В сердцах рабочих — я живой,
Я вечно буду жить!"
Наступила тишина. Она держалась долго. Слушатели вопросительно смотрели на певца. А он пристально вглядывался в их лица.
Кто‑то сказал:
— Спой нам еще, негр.
Джойс узнал голос Миллса. Обернулся и посмотрел ему в лицо.
Несколько мгновений их скрещенные взгляды, словно сцепившись, не могли разойтись.
Джойс отложил банджо и отрицательно покачал головой.
— Нужно спеть, — просто сказал Антонио и протянул руку к инструменту. — Гитара, конечно, удобней, но… я тоже научился играть на этом…
Он провел по струнам и простуженным тенором запел:
Гранаты рвали нас на куски,
Мы в руках винтовки сжимали.
Мы крепили своими телами Мадрид,
Мы Аргандский мост защищали…
Антонио еще пел, когда Миллс поднялся и, ни с кем не прощаясь, пошел к выходу.
Джойс смотрел в его широкую спину, обтянутую кожей старой куртки, и думал: "Кто?"
Из едва светящихся в ночи ворот сарая в черную прохладную ночь вырвалась песня. Лучистые слова итальянского говора мягко стлались над свежераспаханной американской землей. Они летели вслед быстро шагавшему прочь коренастому человеку с круглой седеющей бородой, делавшей его похожим на генерала Гранта. В темноте едва заметно маячила вытертая добела спина кожаной куртки.
Джойс вышел на порог и посмотрел в непроглядную темень американской ночи:
"Кто?"
11
Ванденгейм проснулся в дрянном отеле того маленького миссурийского городка, где он ночью сошел с поезда президента, пока меняли паровоз.
Некоторое время Джон лежал с открытыми глазами, стараясь собрать мысли. Он долго не мог понять, почему у него такое ощущение, словно кто‑то перечил ему, раздражал его в течение всей ночи. Наконец понял, что это ощущение было вызвано неудовлетворенностью, которую оставило бесполезное свидание с президентом.
А может быть, Джон преувеличивает? Что‑то из этого свидания все‑таки получилось. Разве Рузвельт не предложил ему принять участие в создании военного флота?.. Отличное дело, чорт возьми! Рузвельт сказал: "Тут вы найдете применение и железу, и нефти, и своим способностям". Строить нужно авианосцы — самое наступательное оружие Штатов. Кажется, так… Но, чорт побери, Джон дорого дал бы за то, чтобы знать, какую цель преследовал Рузвельт, делая ему такое предложение. Не имел же он, в самом деле, в виду интересы Джона.
Джон позвонил с намерением заказать кофе, но вместо прислуги в комнату вошел Фостер Доллас.
— Уже? — удивленно спросил Джон.
— Получив вашу телеграмму, достал самолет, — сказал Фостер таким тоном, словно хозяин позвал его в соседнюю комнату, а не вытащил из постели среди ночи и заставил совершить перелет из Улиссвилля.
Фостер вопросительно уставился на Джона, но тот был занят разглядыванием собственной челюсти, вынутой из стакана, стоявшего на ночном столике.
— Выкиньте к чорту эту древность, Джон, — пренебрежительно проговорил Фостер. — Теперь делают замечательные штуки, которых не замечаешь во рту. — И словно в доказательство Фостер оскалил два ряда белых зубов. Даже постучал по ним ногтем, чтобы подчеркнуть их великолепие и прочность.
Но Джон не повел в его сторону глазом и мрачно проговорил:
— Даже каторжник, говорят, привыкает к своим кандалам… Я уж как‑нибудь доживу свой век с этой штукой… — Отерев рукавом пижамы зажатый в пальцах ряд искусственных желтых зубов, похожих на волчьи клыки, Джон ловко заправил их в рот.
Эта операция на минуту поглотила внимание Долласа. Потом, хлопнув себя по лбу, он сказал:
— Внизу же вас ждет сенатор Фрумэн…
— Что ему нужно?
— Он… прилетел со мной… — стараясь выдержать небрежность тона, как если бы такой приезд сенатора был чем‑то само собою разумеющимся, сказал Доллас.
— Пошлите его к чорту! — отрезал Джон.
— Он хочет вас видеть, — увещевающе сказал Доллас.
— Меня здесь нет.
— Но я уже сказал, что вы тут.
— Вы ошиблись.
— Джон!
Ванденгейм привстал в постели и посмотрел на Долласа вытаращенными глазами:
— Тогда идите и целуйтесь с этим пендергастовским ублюдком, поняли?.. Мне с ним говорить не о чем… — И Джон решительно махнул рукой, отсылая Фостера. — К чорту и вас вместе с вашим Фрумэном.
Но Долласа, видимо, нисколько не обескураживало обращение шефа. Он нетерпеливо выждал, пока Ванденгейм снова уляжется, и сказал тоном величайшей конфиденциальности:
— Говорят… — и тут же умолк.
Несколько мгновений Джон ждал продолжения, потом нехотя буркнул:
— Ну, ладно, выкладывайте, что еще говорят?
— Говорят, Фрумэн будет иметь прямое отношение к военной промышленности…
— Глупости! — решительно заявил Ванденгейм. — За душой у него нет и сотой доли того, что нужно, чтобы играть там хоть какую‑нибудь роль… Разве только он займется изготовлением детских ружей под елку.
— Вы не так меня поняли, Джон, — виновато произнес Доллас: — Фрумэн будет иметь отношение к сенатской комиссии по проверке деятельности военных промышленников. Знаете… — он повертел пальцами в воздухе, — в связи с этой историей о злоупотреблениях при поставках на армию… Может быть, даже президент сделает Фрумэна председателем этой комиссии…
— Рузвельт назначит Фрумэна?
— А что ж тут такого?
— Вы, как всегда, все выдумали? — И Ванденгейм уставился на своего поверенного так, что тот съежился.
— Убей меня бог, — проговорил Доллас, — мне говорил это сам Леги.
На этот раз Ванденгейм так стремительно поднялся в постели, словно помолодел на сорок лет. В один миг сброшенная пижама полетела в угол через голову Долласа.
— Какого чорта вы никогда не говорите всего сразу? — сердито кричал Ванденгейм. — Военная промышленность как раз та область, в которой нам недостает своего сенатора.
— Леги говорит, что Фрумэна выдвигает сам президент…
При этих словах пальцы Ванденгейма, возившиеся с завязками пижамных штанов, вдруг замерли, потом рванули шнурок так, что он лопнул. Джон свистнул, как обыкновенный бродяга.
— Нужно разобраться в этом вашем Фрумэне… Он может оказаться попросту шпиком Рузвельта. Мне уже не раз подбрасывали молодцов, чтобы сунуть нос в дела, куда я никогда никого не пускал и пускать не намерен… Тащите сюда этого парня, а сами — к телефону! Звоните Джеймсу Пендергасту: пусть скажет, в какой мере можно доверять этому сенатору, чорт бы его драл!.. В общем, конечно, это правильная идея: во главе сенатской комиссии должен стоять наш парень… — И вдруг, воззрившись на Долласа, свирепо рявкнул: — Где же ваш Фрумэн? Может быть, вы боитесь нарушить его утренний завтрак? Так скажите этой дохлой сове, что теперь не до завтраков: скоро Европа потребует от нас столько оружия, сколько мы не производили никогда. Слышите, Фосс: никогда… По ту сторону океана предстоит переломать кости нескольким десяткам миллионов человек! Этого не сделаешь голыми руками!
Лицо Фостера приняло плотоядное выражение. Адвокат потер вспотевшие руки.
— Ничего необычайного, Джонни. На бойнях в Чикаго такая цифра не испугала бы никого…
Одно мгновение Джон смотрел на него, переваривая смысл сказанного. Потом с брезгливостью посторонился.
— Вы тупое животное, Фосс… Настоящее животное, — проговорил он. — Люди не быки. Их нельзя миллионами загонять под нож мясника. Тут нужны более совершенные, более дорогие и, к счастью, более прибыльные средства уничтожения. Нужна большая техника, Фосс. Да, да, самая совершенная техника, потому что люди сопротивляются, когда их гонят на убой. Они не хотят умирать, они сами стараются убивать тех, кого мы посылаем для их уничтожения. В этом есть, разумеется, и своя хорошая сторона, Фосс.
— Америка, к сожалению, еще ни с кем не воюет…
— Не воюет, так будет воевать, — решительно отрезал Джон. — Рано или поздно это придет. Должно прийти по логике вещей. Если мы не ввяжемся в то, что уже началось в Европе, то непременно столкнемся с Японией. — Он потер лоб, чтобы поймать ускользнувшую было мысль. — Я хотел сказать, что в обоих случаях понадобится гигантская техника уничтожения. Мы предоставим ее всякому, кто хочет заняться уничтожением друг друга. Какой‑то советский дипломат, тот, что говорил на всех этих конференциях в Лиге наций, изобрел формулу "неделимости мира". Я противопоставляю ей свою формулу — "неделимость войны". Где бы ни шла война, Фосс, — это наша война. Где бы ни уничтожали лишние рты — пулеметы работают на нас. Не только потому, что в большинстве случаев это наши пулеметы, за которые нам заплачено золотом, а и потому, что каждый уничтоженный человек — это списанный со счетов потенциальный протестант против существующего порядка. Будь то индиец или негр, испанец или китаец — все равно: революция — везде революция. Ее отблески не могут быть не видны американцам. А им нужно предоставлять совсем другие зрелища. Покажите им девчонок, задирающих ноги. Вот что им нужно для успокоения волнений. Туда и направьте поток их темперамента.
Фостер умоляюще сложил руки:
— Джонни, вас ждет сенатор!
— Пусть ждет, — огрызнулся Ванденгейм. — Не он дает нам жизнь, а мы ему. Завтра я заплачу Пендергасту на сто тысяч больше, и он перестанет быть "потомственным демократом". Вместо Фрумэна Джеймс пошлет в сенат того, кто нужен мне… Я говорю вам о деле, Фосс, а вы перебиваете меня всякими пустяками. — Джон сердито сморщился. — Вот и сбили с мысли. Чорт с ним!.. В общем вы должны понять, наше внимание должно быть теперь направлено на военную промышленность. Пусть это будет судостроение для Штатов. Не возражаю. Я готов принять в этом участие, если мне обещают настоящий бизнес. Но Европе нужны теперь не корабли. Запомните, Фосс: Европе нужны не корабли. Мы должны дать ей все виды оружия, каких она потребует. Все равно, кто: немцы или французы, испанцы или турки — давайте им оружие в любом количестве. Нужно подготовить их к драке так, чтобы, раз начавшись, она не затухла уже, пока не перебьют половину людей в этой гнилой дыре — Европе…
— Слава господу, генерал Франко успешно… — начал было Доллас, но Ванденгейм отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и продолжал:
— Если пожар затихает, в него льют керосин.
— При условии, что дом хорошо застрахован… — усмехнулся Доллас.
— Наше дело застраховано, как никакое другое. Кто бы ни взял там верх, в выигрыше будем мы. А что касается вашего Франко, то он просто вонючий клоп!.. Годами копается там, где следовало все покончить в два месяца. А вы заставили меня открыть кредит его комиссионерам. Еще одна ошибка вам на счет.
— Этот кредит будет оплачен с хорошими процентами, Джон.
Фостер выпрямился и даже гордо выпятил петушиную грудь.
— Он банкрот! — крикнул Ванденгейм. — Если англичане не дадут ему денег, он полный банкрот.
— Мы получим с него натурой. Мы получим недра Испании, ее промышленность… — торопливо забормотал Даллас.
Ванденгейм подошел к столу и быстро набросал несколько слов в блокноте, чтобы не забыть телеграфировать Маргрет Крейфильд: необходимо было серьезно нажать на этого дурака, ее мужа, чтобы поскорее кончали с Испанией. И в Париж Боннэ: пусть приканчивают республику за Пиренеями… Но это вовсе не значит, что наступит мир и дела военной промышленности не пойдут. Об этом должен позаботиться любой кандидат в президенты, когда подходит срок новых выборов… Посмотрим, посмотрим, на кого мы поставим миллионы долларов… Макарчер очень понравился Джону. Если бы все, кого воспитывают в Вест–Пойнте, выходили с такими кулаками, то можно было бы сказать, что тамошние профессора не даром жрут хлеб. И планы у этого парня настоящие: Китай — цель, ради которой стоит немного повозиться. Кто‑кто, а уж Джон‑то знает, сколько военных материалов поглощает война с таким народом. В прошлом году из двухсот пятидесяти миллионов долларов экспорта в Японию добрая половина попала ему в карман за военные материалы, проданные Хирохито. Тридцать девятый год обещает быть не хуже. А если новая компания для скупки стального лома будет хорошо работать, то Джон отправит джапам еще и этого хлама миллионов на сорок. Однако помогать только джапам было бы неумно. Предоставленный собственным силам, Чан Кай–ши мог бы быстро капитулировать. Тогда прощай длинная война, прощай экспорт военных материалов на Дальний Восток, прощай жирный бизнес. При умелом ведении дела американцы всегда смогут регулировать ход японской войны в Китае. Для этого в их руках две гири: нефть и металл. Перекладывая их с японской чаши весов на китайскую, можно держать стрелку в должном положении… И вышибить к дьяволу этих самодовольных тупиц — англичан! Ах, господи, если бы у всех были такие головы, как у этого Макарчера…
Тут Ванденгейм, казалось, забыл обо всем окружающем: и о том, что разгуливает перед Долласом в одних трусах, тряся обвисшими складками волосатых ног, и о том, что где‑то за дверью с нетерпением топчется сенатор Фрумэн, и о том, что он сам только что, и уже не один раз, давал Фостеру приказание ввести этого Фрумэна. Мысли Джона летели вслед кораблям, которые будут построены на его верфях. Они поплывут по водам Тихого, а может быть, и не только Тихого океана. Их трюмы будут набиты хорошо вышколенными парнями Макарчера… Рузвельт говорил: Филиппины!.. Разве в одних Филиппинах дело? Разве Филиппины не больше, чем кусочек твердой земли, в которую дядя Сэм может упереться ногой, чтобы покрепче ухватить за горло Джона Буля?
В голове Джона быстрой чередой проходили мысли, которые казались ему философскими. Он думал о том, что при желании большая часть тех планов, которые рождались у него в связи с разговорами Рузвельта и Макарчера и которые, если выражаться высоким стилем, можно было назвать планами завоевания мира, были чертовски заманчивыми. Надо бы заставить так называемых ученых хорошенько подумать над способами бесшумного и невидимого вторжения на любую территорию, в пределы любого государства. Разве нельзя было бы, скажем, напустить на японцев холеру или что‑нибудь в этом роде в таких масштабах, чтобы они перемерли там в один–два года?.. Наверно, можно… Или отравить воздух во всем Китае?.. Или, наконец, запустить хорошую чуму в Россию? Наверно, это возможно… Да, но какой толк был бы в такого рода победе? Прежде всего набили бы себе карман какие‑нибудь немецкие компании — немцы мастаки по изготовлению подобных штук. А ему, Джону, и вообще американцам достались бы пустыни, зараженные всякой нечистью, с горами трупов… А если поставить необходимую промышленность у себя, скажем, тут, в Штатах, производить холерную бациллу в надлежащих масштабах?.. Пожалуй, это тоже не дало бы большого эффекта. Наверняка настолько дешевое дело, что на нем не сделаешь бизнеса… Нужно будет поговорить об этом со специалистами… Непременно нужно поговорить…
Мысли Джона вернулись к сегодняшнему дню. В конце концов, дела идут не так уж плохо. Если Франко оказался не факелом, сунутым в пороховую бочку Европы, а головешкой, тлеющей в луже крови, то Геринг был дельцом похлеще. Толстяк полностью выполнил свои обязательства — не дал ефрейтору остановиться на пороге Чехии. Нужно, чтобы "наци № 2" и теперь не дал барабанщику остыть. Гитлер не должен остановиться. На восток, на восток! С грохотом и с музыкой, с битьем посуды — на восток!..
Совершенно неожиданно для Далласа Ванденгейм весело воскликнул:
— Для такого бизнеса нам понадобятся не только свои сенаторы. Придется подумать о своем президенте, вполне своем парне. Что это вы уставились на меня, как на жирафа? Так оно и будет: свой президент! Не знаю, кто: Рузвельт или кто‑нибудь другой… Но обязательно отличная голова! Президент, а не какой‑нибудь паршивый сенатор. Кстати о сенаторах… Где же ваш?..
— Фрумэн, — подсказал Доллас и повторил: — Его зовут Гарри Фрумэн!
Игривым пинком ниже спины Джон выставил адвоката из комнаты.
Через несколько минут раздался осторожный стук в дверь. Ванденгейм сделал вид, будто не слышит его, а может быть, и действительно не слышал, занятый завязыванием галстука. Прошло несколько секунд. Стук повторился чуть–чуть более настойчиво. Ванденгейм прорычал что‑то нечленораздельное. Это было больше похоже на неприветливое ворчание ленивого пса, нежели на приглашение. Но дверь порывисто отворилась, и в комнату стремительно вошел сухопарый человек среднего роста. У него было старообразное лицо совы. Особенность этого лица заключалась в том, что каждая из его черт в отдельности могла показаться самой заметной, главенствующей, а все лицо в целом, наоборот, производило впечатление необыкновенно мелкое, ординарное. Нос был большой, горбатый, с крупными крыльями и сильно открытыми ноздрями. Рот необычайно широкий, поражавший асимметричностью губ. В то время как верхняя губа была очень тонкой, нижняя брюзгливо отвисала. А вместе они производили впечатление рта злобной старой девы. Широко расставленные маленькие глазки проныры были окружены частой сеткой тонких морщин, происходивших от чересчур частых, хотя и тщетных попыток придать лицу выражение приветливости.
Вот и теперь эти глазки были сощурены и как будто радостно блестели, хотя, вопреки им, все лицо выражало только хитрую угодливость.
Синий галстук с большими красными горошинами был повязан аккуратной бабочкой. Яркий костюм в крупную елку был тщательно разутюжен — будто прямо с магазинной витрины. Все придавало вошедшему сходство с коммивояжером средней руки.
В каждом его движении, нервозно–быстром, сквозило желание придать своему появлению вид независимости. Но сумрачный взгляд Ванденгейма приковал его к порогу и заставил сделать несколько растерянно–суетливых движений без всякой цели. Наконец из‑за спины гостя появилась рыжая голова Долласа.
— Сенатор Гарри Фрумэн, сэр, — провозгласил адвокат с торжественностью театрального лакея.
Ванденгейм еще несколько мгновений бесцеремонно разглядывал фигуру топтавшегося на месте Фрумэна. Только тогда, когда его пальцы покончили с завязыванием галстука, Джон без всякой приветливости бросил:
— Ну… что вы там застряли, Гарри?
Фрумэн засеменил к Ванденгейму. Из растянутого в улыбке широкого рта с треском и стремительностью пулеметной очереди посыпались слова…
12
Август рекомендовал брату ехать через Лозанну, но Гаусс отверг этот маршрут. Правда, он никогда не видел Фирвальдштетского озера и, вероятно, никогда уже не увидит, но теперь ему было не до прославленных ландшафтов Швейцарии.
Несколько лет тому назад Гаусс, наверно, и не подумал бы ехать на свидание с кардиналом, хотя бы и столь симпатичным ему, как бывший папский нунций в Германии Эудженио Пачелли. Переговоры в Эйнзидельне отлично провел бы Александер. Но времена переменились: Гаусс не доверял больше никому. Он желал собственными ушами слышать, что намерен ему сообщить Пачелли, и хотел сам произнести то, что следовало сказать кардиналу. Трудные времена! Гаусс уже не знает, с кем можно говорить, не опасаясь, что все станет известно Гитлеру или, по крайней мере, Герингу. С круговой порукой генералов покончено. Это доказал "ночной инцидент". Он, Гаусс, до сих пор не может забыть об этом. Позор! Никто, кроме своих, не мог выдать Гитлеру замыслов генеральского кружка. Впрочем… у ночного эпизода была и положительная сторона: Гаусс убедился в том, что гестапо вовсе не так всеведуще, как хочет казаться. Если бы Гиммлеру или Гейдриху стало известно то, что обсуждал Гаусс со штатскими членами его кружка Шахтом, Гизевиусом, Герделером, — никто не остался бы в живых… А случай перед Мюнхеном! Если бы не приезд Чемберлена, Гитлер давно перестал бы быть Гитлером.
Пожалуй, в сентябрьской неудаче виноват Гальдер. Он тогда уже поверил Гитлеру, будто существует неписаное соглашение с западными державами, предоставляющее Германии свободу действий на востоке. Ход англо–франко–советских переговоров в Москве и англо–германских переговоров в Лондоне доказывает, что такая возможность возникла только теперь. Вместе с англо–французами или без них, война на востоке — неизбежность. К этому ведут дело правящие круги не только Европы, но и Америки.
Нужно быть такой лисой, как Шахт, чтобы публично заявлять, будто Германия согласна всерьез обсуждать рузвельтовский план разоружения сейчас, когда все заводы страны работают на полную мощность, чтобы подготовить армию к походу на Польшу! Если бы все это не было так грустно… Да, именно грустно. Ведь всякому ясно: когда подталкиваемая со всех сторон Германия бросится на восток, сами же англичане и американцы вцепятся ей в спину. А в рейхсканцелярии этого не понимают… Ефрейтор просил немецкий народ о доверии и всемогущего о помощи в тот момент, когда Гинденбург совершал свою последнюю и самую роковую ошибку, назначая этого кретина канцлером. С тех пор утекло много воды. Барабанщик больше не просит. Он просто хватает деньги, людей, пушки. Он вооружен инстинктивной хитростью громилы. Он сумел устроиться так, что любое его требование удовлетворяется, любое решение скрепляется подписями министров. Гаусс отлично помнит, как когда‑то, в минуту откровенности, Геринг заявил: "Я часто собираюсь высказать фюреру кое‑что, но стоит мне очутиться перед ним, как я молчу". Впрочем, что касается "наци № 2", то эта робость, вероятно, объясняется страхом особого рода. Гитлер многих держит в руках угрозой пустить в ход секретные досье гестапо. Сам фюрер любит оставаться в стороне. Под сладенькие разговоры об его доброте он пишет Гиммлеру приказы убить того или другого. Гиммлер недаром клялся, что на каждого "израсходованного" у него есть "оправдательный документ". Гитлер не знает личных привязанностей. Родственные связи не имеют для него ни малейшего значения. Человек без всяких корней в прошлом, он не стремится приобрести их на будущее. Гаусс помнит одного из немногих, кому фюрер при всех говорил "ты", — это был Эрнст Рем. И именно Рема Гитлер заставил захлебнуться в собственной крови.
Почти все, что Гитлер хотел сохранить в тайне, ему удавалось скрыть не только от народа, но даже от своих сообщников. Ни один человек во всем аппарате нацистской партии и в министерствах не имел права знать больше, чем было предписано приказом № 1. Это создавало вокруг Гитлера атмосферу, в которой он один мог выносить решения, один был высшим судьей.
Гаусс удивился: как это ему до сих пор не приходило в голову! Разыгрывая яростного противника Гитлера, Шахт выполнял его малейшее желание. Это было большим, чем маскировка. Когда Шахт говорил правду — клянясь в ненависти к Гитлеру или возглашая: "В факте оздоровления немецкого хозяйства нет никакого финансового чуда. Существует лишь чудо пробуждения немецкого национального сознания и немецкой дисциплины, и мы обязаны этим чудом нашему фюреру Гитлеру"?.. Когда Шахт лгал?
Уж не разыгрывал ли Гаусс дурака, вступая в "заговор" с такими, как финансовый спаситель фюрера Шахт, как начальник гитлеровской контрразведки Канарис, как осуществитель самых тайных связей гитлеровской секретной службы с заграницей Гизевиус?..
Гаусс в страхе сжал виски: что, если все его заговоры и секретные совещания были пляской смерти, которой дирижировал сам Гитлер?
Для Гитлера у "заговорщика" Шахта всегда находились деньги, несмотря на то, что это было связано с опасностью полного обесценения марки. Шахт почти не скрывал, что источником так называемой стабилизации валюты в Германии является не столько Рейхсбанк, сколько мошна американских миллиардеров. Шахт не стеснялся иногда и открыто призывать американцев вмешаться в финансовые дела Европы. Это он советовал Фуллеру, личному представителю Рузвельта, прислать в Европу не кого иного, как американского банкира Фрезера, тесно связанного с банковскими кругами Англии и Франции. Дельцы с того берега канала, так же как с западной стороны линии Мажино, не упускали случая через Шахта выгодно вложить капитал в военные дела Германии. Они верили Шахту, что каждый посеянный в Германии пфенниг взойдет долларом. Гаусс понимал, что в действительности означает поездка Шахта в Америку "для чтения лекций по экономике". Гаусс знал, что, отправляясь "для лечения" в Швейцарию, Шахт проводит время в базельском кабинете Монтегю Нормана, директора банка Международных расчетов… И все для кого? Для фюрера, для фюрера…
Чорт возьми, нужно быть старым ослом: конспирировать с человеком, каждый шаг которого направлен на укрепление диктатуры Гитлера! Вот так ефрейтор и берет в руки всех, кого хочет. Попробуй Гаусс теперь не подписать любой приказ, какой ему подсунут!..
Круг, в котором вращался Гаусс, был ограничен коротким словом "война". Оно определяло мышление и поведение подавляющего большинства таких, как он, немецких генералов. Но при всей узости шор, из‑за которых Гаусс смотрел на мир, он принадлежал к числу немногих, стремившихся отдать себе отчет в причинах и следствиях своих поступков. Это стремление и привело его в свое время к протесту против легкомысленного кликушества Гитлера. Гаусс повторял: "Не трогайте Россию!" Он не походил на генералов типа Браухича, Кейтеля и Йодля, потакавших любому прожектерству фюрера. Гаусс не мог заставить себя не думать о том, что произойдет, если в ход пойдет "Белый план" нападения на Польшу. Россия не может не понять, что Польша — не цель, а только этап. Польша связана с Францией договором, Англия дала Польше гарантии. Беда, если Англия хоть раз откажется от своей традиции изменять союзникам! А что, если двойная игра англо–французов в Москве имеет целью не обман русских, а обман немцев? Значит — второй фронт на западе! Что станется тогда с Германией? Гитлер и вся его шайка бормочут, будто игра идет в Москве, а серьезный разговор — между Лондоном и Берлином. А где гарантия, что не наоборот? На Вильгельмштрассе убеждены, что ради разгрома коммунистической России Лондон примирится с соперничеством возрождающейся Германии. Разумеется, если Лондон пойдет на это, Гаусс возражать не станет. Тогда и он, пожалуй, скажет: покончим с Польшей, но так, чтобы никто не успел опомниться, — одним ударом! Именно это и должен был бы быть тот самый "блиц", которым бредит гитлеровское окружение. Вследствие своей полной военной неграмотности они убеждены, что пресловутый "блицкриг" — изобретение их фюрера. Им не дано знать, что идея "блица" восходит к первым годам существования прусского генерального штаба. Они не могут понять, что "молниеносное наступление" Карла фон Клаузевица — вот зародыш их "изобретения". Они не в состоянии уяснить себе, что шлиффеновские "Канны" — элемент того же самого блица. Гипертрофировавшиеся в головах Бернгарди и Гаусгофера, оснащенные моторами XX века, эти "идеи" и стали тем "блицем", который представляется сейчас Гитлеру новым способом покорения мира…
Очень жаль, что примиренчество Чемберлена и Даладье лишило германскую армию удобного случая проверить в Чехии технические средства "блица". Может быть, с Польшей дело пойдет удачней. Если бы Гитлер не был так патологически самонадеян и завистлив, в Польше удалось бы испытать уже и новое оружие, известное посвященным под названием "фау", но, увы, Гитлер приказал Браухичу прекратить работы в этой области только из‑за того, что на них не было испрошено его согласие. Дело перешло в руки штатских промышленников…
Может показаться странным, что для консультации по такому вопросу, как предстоящая война, Гаусс отправился в столь мирную обитель, как монастырь. Но на это у него были свои соображения. К тем дням, когда совершалась поездка, ни для кого уже не было тайной, чем закончится борьба в кардинальской коллегии Рима. Выборы преемника умершему Пию XI должны были привести на папский престол статс–секретаря Ватикана кардинала Пачелли. Победа эта была обеспечена потому, что Пачелли был кандидатом обоих фашистских диктаторов и американских католиков, возглавляемых архиепископом Спеллманом. Властный, хитрый и беспринципный политик, Пачелли уже в течение десятилетия был хозяином Ватикана и диктовал там свою волю, как полновластный самодержец. Комедия конклава не сможет ввести в заблуждение никого из посвященных. Глава кардинальской коллегии Пиньятелли ди Бельмонте напрасно будет бормотать о божественном вдохновении, которым католические иерархи станут руководствоваться при избрании нового папы. Члены святой троицы, которой молились кардиналы, сидели в Нью–Йорке, Берлине и Риме.
Гаусс считал счастливым совпадением то, что будущий папа провел двенадцать лет в Германии. Пачелли приобрел там прочные связи среди аристократии, в промышленных кругах и у военных, стал ярым германофилом и сторонником нацизма. Гаусс намеревался использовать последнюю возможность увидеть завтрашнего папу в частной обстановке. Таким местом был монастырь Эйнзидельн — излюбленное место отдыха Пачелли. Кардинал прибыл туда инкогнито, чтобы провести там два–три дня перед тем, как навсегда распрощается с монастырем. Нужно было быть Августом Гауссом, чтобы не только узнать об этой поездке, но и получить согласие Пачелли на секретное свидание с генералом.
С трудом отогнав одолевавшие его невеселые мысли, Гаусс попробовал читать, но книга валилась из рук. Швейцарские горы проносились мимо окон вагона, скрытые покровом ночи. На выбор оставалась бессонница или снотворное. От веронала утром голова была бы как набитая ватой, Гаусс предпочитал поворочаться некоторое время с боку на бок…
К утру поезд взобрался, наконец, на плато Зиль, и невыспавшийся Гаусс вышел на платформу маленького вокзала городка Эйнзидельн. Внимание генерала привлекло то странное обстоятельство, что на вокзале вокруг него звучала почти одна только немецкая речь. Тяжелый выговор швабов мешался с сочным говором саксонцев. Тут же, перебивая друг друга, препиралась с монахом целая группа баварцев. Гаусс приостановился, с удивлением наблюдая, как все эти люди с боя брали места в автобусах, чтобы поскорее попасть в монастырь. Гаусс, разумеется, слышал о почитаемом его единоверцами монастыре, основанном десять веков назад раскаявшимся в преступлениях швабским графом. Но Гауссу никогда не приходило в голову, что в XX веке в центре цивилизованной Европы, на месте грязной пещеры графа–убийцы, может оказаться что‑либо подобное зрелищу, которое предстало его глазам. Все эти богомольцы приехали из его собственной страны. Они не были ни темными пастухами каких‑нибудь далеких пустынь, облеченными в тряпье и шкуры, ни паломниками, путешествовавшими за зелеными чалмами. Это не были вдовы, полировавшие своими коленями плиты Лорето, Лурда или Острой Брамы. Нет, вокруг Гаусса шныряли упитанные саксонские бюргеры, краснолицые мюнхенские пивовары, бородатые крестьяне из Шварцвальда — трезвые, расчетливые я скептические в своей повседневной жизни. Но, проникнув в ворота монастыря, они устремлялись к мраморному алтарю с глазами огнепоклонников.
В темной глубине часовни мистически светилась искусно озаренная электричеством деревянная статуя богоматери, с ног до головы увешанная приношениями богомольцев. Гаусс давно не испытывал такого гадливого удивления, как в этот день. Он спросил встретившего его брата Августа:
— И так всегда?
— Двести тысяч богомольцев в год. Не меньше двадцати миллионов франков дохода. — Август криво усмехнулся. — А ты сомневался в могуществе церкви!
Чтобы не привлечь внимания какого‑нибудь не в меру любопытного — за американские, английские или французские деньги — монаха, свидание Гаусса с Пачелли должно было состояться поздним вечером, когда уляжется жизнь в монастыре. Таким образом, весь день был в распоряжении генерала.
Проспав часа два в отведенной ему комнате личных покоев настоятеля, Гаусс с удовольствием отметил, что усталость и дурное настроение исчезли. Они уступили место давно забытой бодрости, вызванной, повидимому, живительным воздухом гор. Генерал вышел в монастырский парк. Было приятно, что это можно сделать, минуя двор, заполненный богомольцами.
Мысль Гаусса не сразу освоилась с тем, что глухая каменная стена, отделяющая монастырский двор и общежитие от половины настоятеля, вовсе не означает, что в Эйнзидельне существуют два мира. Шум и давка по одну сторону стены и чинная тишина и покой по другую; там киоски с горами оловянных крестиков, с дешевыми картинками святых, с четками, ладанками и бутафорское сияние лампочек вокруг раскрашенных деревянных идолов, здесь нарядные покои, украшенные произведениями живописи и скульптуры, с достаточным количеством наготы; там смрад пота, суета шныряющих в толпе монахов, смахивающих на биржевых маклеров, тут запах натертых паркетов и больших букетов роз из монастырских теплиц, изредка бесшумно проплывающая фигура в сутане. Трудно было поверить, что это не две чуждые друг другу жизни, что, разделенные стеной, эти половины живут одна для другой и одна другою.
Гаусс гулял долго и с удовольствием. После прогулки позавтракал. И завтракал тоже не спеша, с аппетитом.
Прохаживаясь по галлерее, он вглядывался в развешанные там полотна. Отдавая должное старым мастерам, он все же отказывался от них и мысленно прикидывал, кого из молодых присоединил бы к своей коллекции. В маленькой гостиной, похожей на дамский будуар, долго стоял перед картиной Мане. Он знал ее по каталогам. Помнил название: "У отца Латюеля". С жадной завистью вглядывался в ищущие ответа женщины глаза молодого человека. Подошел к "Обнаженной женщине" Ренуара. Но что‑то поразило его в этом полотне. Отошел, поглядел с одной стороны, с другой. Положительно, в картине было что‑то неуловимо чуждое кисти Ренуара. Пользуясь моноклем, как лупой, долго разглядывал подпись художника. Картина была подписана, как подлинник. Между тем Гаусс хорошо помнил: полотно находится в каком‑то из известных мировых хранилищ, кажется, в Париже. А может быть, в Москве.
И вдруг понял: перед ним беззастенчивые подделки!..
Под влиянием этого неожиданного открытия он поглядел вокруг себя совершенно новыми глазами. Быть может, все остальное, что тут есть, — такая же бутафория, как поддельный Ренуар и Мане?.. Разбойники на крестах и пьяные рыцари, мадонны и блудницы, младенцы в яслях и трактирные сцены — все грубая фальсификация. Даже бродящие тут монахи только прикрытые сутанами дельцы и политики. И тишина настоятельских комнат — только покой, ограждающий бесшумность происходящих тут интриг?..
Гаусс окинул взглядом стены: если бог ему поможет, когда‑нибудь он, Гаусс, доберется до подлинников и в Париже и в Москве. Вот тогда уж ни настоящему Мане, ни Ренуару не миновать стен его берлинской квартиры!
Он в задумчивости прошел в библиотеку. Запах кожаных переплетов и старой бумаги смешивался с ароматом сирени, пурпурными гроздьями прильнувшей к решетке отворенного окна. Гаусс прошелся взглядом по многочисленным корешкам книг. Творения отцов церкви чередовались с антикатолическими памфлетами. Рядом с сафьяном и пергаментом бесчисленных изданий священного писания топорщились вороха современных журналов. Гаусс взял первую попавшуюся брошюру из свежей кучи, еще не расставленной по полкам, — "Правда о папах". Раскрыл наугад первые страницы и, заинтересованный, опустился в кресло у окна — поближе к свету и сирени.
"…Вся история папства — цепь раздоров, междоусобиц и позорнейших преступлений против нравственности и самых элементарных понятий о достоинстве человека.
Происходивший в 1870 году так называемый Ватиканский собор, стремясь поднять упавший престиж первосвященников, лишенных итальянцами светской власти, провозгласил догматом веры непогрешимость пап. Что бы они не заявили "экс катедра", то–есть с амвона, любая глупость, которую они написали бы в своих энцикликах и буллах, признавалась законом для всякого католика. Услужливый собор поставил тогдашнего папу Пия IX и всех его преемников в положение нарушителей постановлений более ранних соборов, провозгласивших: "За всякое введение нового догмата в христианское вероисповедание — анафема". Следовательно, и сам первый "непогрешимый" и дальнейшие "непогрешимые", включая нынешнего Пия XI, должны были бы быть отлучены от церкви и преданы анафеме на веки вечные.
Этого, разумеется, не произошло, не происходит и не произойдет. "Непогрешимость" нужна папам как средство держать в руках приверженцев римской церкви и именем бога совершать любое преступление, какое им понадобится для проведения их политики. Противников "непогрешимости", имевшихся и имеющихся в числе самих католиков, некий профессор богословия в Майнце, иезуит Эберман, сразил совершенно беспримерным доводом: "Непогрешимым может быть и совершенно невежественный папа, ибо бог указал некогда людям истинный путь через прорекшую ослицу". Сравнение не очень лестное для претендентов на мировое господство, но Рим доволен им.
Непогрешимые частенько взбирались на престол святого Петра такими путями, что первое местечко в "Аду" Данте досталось им по праву. Перечислить все случаи убийств пап своими соперниками и убийств папами своих соперников совершенно невозможно — им нет числа. Но вот интересные примеры благочестивой жизни непогрешимых: папа Сергий II начал свою папскую карьеру тем, что приказал задушить двух своих предшественников, насильно свергнутых с престола святого Петра, и объявил это преступление "акцией милосердия", избавляющей несчастных от пожизненных страданий в темнице.
Папа Иоанн XII не ладил с императором Оттоном III. Тот решил посадить на папский престол своего человека. Выбор пал на его учителя Герберта. Уговор состоялся. И вот Иоанна выволакивают из постели, отрезают ему нос, язык, уши, вырывают глаза и в таком виде, на показ народу, протаскивают по улицам святого города. После этого Герберт влезает на трон и, наименовавшись Сильвестром II, преспокойно и безгрешно правит римской курией.
Папы никогда не отличались мягким нравом. Дамас I с толпой своих приверженцев ворвался однажды в церковь святой Марии и убил 160 сторонников Урсина, с которым враждовал из‑за римской кафедры. Вигилий VI убил мальчика, отказавшегося удовлетворить его низменные наклонности. Анастасий предоставил управление церковью двум римским куртизанкам. А папа Агафон умер от дурной болезни. О "понтификате", то–есть святом правлении папы Александра IV (Борджиа), неудобно даже говорить на страницах печати — это было сплошное издевательство над понятиями "вера", "церковь", "нравственность".
Этот список можно было бы продолжать бесконечно, но мы ограничимся еще только одним примером садического безумия Стефана VI, ненавидевшего своего предшественника папу Формозу. Через девять месяцев после смерти Формозы Стефан решил произвести публичный суд над трупом ненавистного предшественника. Был созван торжественный собор в составе самых выдающихся духовных лиц Рима. Уже разложившийся труп Формозы извлекли из могилы, облачили в папские одежды и водрузили на трон в зале соборных совещаний. Страшное зловоние исходи по от бывшего непогрешимого, но Стефан никому не позволил покинуть зал. Мертвецу был назначен адвокат, и представитель папы предъявил свои обвинения в том, что Формоза незаконно влез на престол, по праву долженствовавший давно уже достаться Стефану. Разгневанный молчанием трупа, Стефан сам вмешался в дело и закричал:
— Как смел ты, нечестивец, из низкого честолюбия захватить папский престол, будучи всего лишь епископом Портуса?
Молчал труп, молчал и его дрожащий от страха адвокат. Он не решался привести в оправдание своего подзащитного довод о том, что сам Стефан оказался на этом месте тоже незаконно. По приказу Стефана суд вынес Формозе осуждение и лишил его достоинства римского первосвященника. С разваливавшегося на глазах присутствующих трупа сорвали папское облачение и отрубили ему пальцы правой руки, которыми он когда‑то благословлял народ и которыми, кстати говоря, посвятил в епископы самого Стефана. Стефан ногами вытолкал останки из зала и приказал бросить их в Тибр.
Вскоре после того сам Стефан был растерзан ненавидевшим его народом.
О том, что сами папы никогда не питали особенного почтения к знаку своего папского достоинства — ключам святого Петра, можно судить по выходке Юлия II, человека весьма воинственного, ведшего непрерывные войны за создание сильного папского государства. Однажды, когда ему не повезло в бранных делах, он в гневе швырнул свои первосвященнические ключи в Тибр и, опоясавшись мечом, воскликнул:
— Если ключи бессильны, пусть защитит нас меч!
С тех пор меч, как атрибут власти и орудие ее расширения, не дает папам спать. "Полнота папской власти" — своего рода фетиш, который руководит всею политикой Ватикана на протяжении веков. Многие века высшим законом ("супрема лекс") Ватикана и его руководителей является политика. Агрессия Ватикана является всеобщей, направленной против всей вселенной. Многим, даже католикам, разговоры о претензии пап на мировое господство кажутся фантазией, выдумкой антипапистов. Но всякий римский богослов отлично знает, что юрисдикция папы по отношению ко всем живущим на земле — самый практический, никогда не глохнущий вопрос политики римского католицизма, доминанта своеобразного, очень агрессивного империализма римской церкви.
Один доктор богословия приводит случай, когда он был свидетелем диспута, на котором римские богословы совершенно серьезно обсуждали вопрос: "Подлежат ли марсиане, если на Марсе есть люди, юрисдикции римского папы?" Вопрос, разумеется, был решен положительно, ибо, мол, еще в XIV веке папой Бонифацием VIII установлен догмат: "Для спасения является абсолютно необходимой вера в то, что каждое человеческое существо подлежит юрисдикции римского архиерея".
Папская "полнота власти" и непогрешимость для того и придуманы, чтобы всю агрессивную политику Ватикана представить святой.
Нынешний папа, мракобес и темнейший реакционер, в своей энциклике "Квадрогезимо анно" заявил, что задачей папской церкви является "проповедовать, преподавать, настаивать" на примате папской власти, чтобы этот закон, нравится он или не нравится, сохранять". Этой своей энцикликой, являющейся образцом реакционно–агрессивного мракобесия, непогрешимый Пий XI пытался убедить, что‑де сам господь–бог "предает на безоговорочное наше наивысшее судебное решение и общественный строй и самую экономическую жизнь".
Поскольку речь уже зашла об экономике, не лишне будет привести интересные высказывания наиболее вероятного преемника Пия XI, его статс–секретаря кардинала Пачелли: "Слепа вера в способность мирового рынка сбалансировать экономику, а также вера в государство социального обеспечения, которое при всех жизненных обстоятельствах должно обеспечить всем своим гражданам право на получение необходимого. Это оказывается неосуществимым… Тот, кто желает дальнейшего развития социальной политики в этом направлении, наталкивается на ограничения там, где возникает опасность, что рабочий класс может… отнять, главным образом на крупных предприятиях, средства производства у частных владельцев (как у отдельных лиц, так и у объединенных) и передать их под ответственность безыменного коллектива… Социалистическое мышление вполне приспособилось бы к такому положению, но такое положение вызвало бы тревогу у тех, кто знает, какое большое значение имеет частная собственность для поощрения инициативы и определения ответственности в экономических вопросах… Торговец нуждается в свободе и деловой активности как внутри, так и за пределами границ своей страны… Свобода торговли, а также свободное общение людей и обращение товаров отвечают христианским концепциям социальной экономики, тогда как принципы государственной монополии внешней и внутренней торговли противоречат этим концепциям, ибо "торговля — это прежде всего частная деятельность человеческой личности, дающая ей первый толчок и зажигающая духовный огонь и страсть в том, кто предается этой деятельности. Папа призвал торговые палаты лелеять "высокий идеал торговца", так как этот идеал "носит на себе религиозный отпечаток".
На первый взгляд может показаться, что папа занимается пустяками: что такое все эти разговоры с торгашами и о торгашах? В действительности же непогрешимый походя вещает католикам и всему аппарату католической церкви свою волю, являющуюся для них законом. Благодаря "непогрешимости" его автора этот закон не подлежит ни критике, ни оспариванию. Как следствие этой ловко придуманной непогрешимости папы, как логический вывод из нее, непогрешимыми являются и все исполнители его воли, так как их ведет непогрешимый. Уже на самом Ватиканском соборе, где провозглашался этот удивительный догмат, 88 прелатов высказалось против него, а 62 лишь за условное его признание. Тем не менее догмат был провозглашен благодаря ловкой политике иезуитов, сумевших протащить решение.
Нет необходимости повторять все, что уже широко известно о собственной очень широкой предпринимательской деятельности ватиканских отцов, являющихся участниками многочисленнейших коммерческих дел во всем мире, владельцами банков и целых концернов, стоит упомянуть о купленных "святым престолом" боливийских оловянных рудниках с тысячами рабов–пеонов, о нефтяных источниках в Мексике, о расширении в самом Риме и других городах сети публичных домов, принадлежащих "Управлению имуществ святого престола".
Маститый богослов, профессор Деллингер писал: "Как христианин, как богослов, как историк и как гражданин, я не могу понять догмата непогрешимости. Как христианин потому, что этот догмат не совместим с духом евангельских изречений Христа и апостолов; как богослов потому, что он состоит в непримиримом противоречии со всем истинным преданием церкви; как историк потому, что я знаю — стремление осуществить (выражающуюся в этом догмате) теорию мирового господства обольет Европу потоками крови, опустошит страны и разрушит здание церкви…"
История не замедлила подтвердить слова Деллингера. Тотчас же за провозглашением этого догмата Ватикан пустился в плавание по мутным водам большой европейской политики. Он принял самое деятельное, самое активное, хотя и строго тайное участие в подготовке и развязывании первой мировой войны. По свидетельству Отто Беккера, иезуитские круги вели подпольную работу для создания, в противовес союзу Германии с архикатолической Австро–Венгрией, франко–русского союза. Ватикану была необходима общеевропейская война как путь к восстановлению светской власти пап. Папский нунций в Вене кардинал Галимберти говорил, что папа Лев XIII все более склоняется к тому, что наместничество святого Петра может быть восстановлено в "своих правах" (то–есть в светской власти) только в результате всеобщей войны. Поэтому, когда при содействии Ватикана был создан франко–русский союз, римская курия благословила Австрию на конфликт с Сербией, означавший всеевропейскую войну.
Не повторил ли бы теперь католический богослов кардинал Бароний свои некогда сказанные слова: "Никогда раздоры, гражданские войны, преследования, гонения на еретиков и схизматиков не причиняли столько страданий церкви, как при чудовищах, которые овладели троном Христа путем симонии и убийств. Лагеранский дворец сделали "мерзким кабаком".
Вот документально установленные преступления пап в период подготовки второй мировой войны:
Приход к власти Муссолини. "Се человек, дарованный нам провидением!"
Приход к власти Гитлера. По прямому указанию Ватикана католическая партия центра в Германии, руководимая Каасом, Брюнингом и Папеном, самораспустилась и открыла дорогу Гитлеру. Пий XI первым подписал с Гитлером подготовленный и проведенный в жизнь кардиналом Эудженио Пачелли конкордат, оказавший фюреру огромную моральную поддержку.
Вторжение Муссолини в Абиссинию. "Цивилизаторская миссия высокой человечности".
Ремилитаризация Германии. Реоккупация Рейнланда, захват Саара, отпадение Хорватии от Югославии, Салазар в Португалии, Франко в Испании, аншлюсе Австрии, Мюнхен…"
Гаусс давно ни во что не верил. Ни богословием, ни историей церкви он никогда не интересовался. Он не строил иллюзий и насчет более чем реальной земной политики церкви. То, что он читал сейчас, одновременно удивляло и пугало его:
"…Агентура Ватикана рыщет повсюду от Гибралтара до Токио. Памятуя, что некогда папа Марцеллин приносил языческие жертвы Юпитеру и воскурял благовония перед всеми богами Олимпа, лишь бы добиться своего, Пий XI готов признать, что синтоистское обожествление Хирохито ничуть не противоречит христианству.
Папы молились за мир в 1914 году, толкая Австро–Венгрию, с одной, и Францию, с другой стороны, в первую мировую войну. Они молились за католическую Австрию и продиктовали ей аншлюсе; они молились перед Мюнхеном, подстрекая Гитлера к нападению на Чехословакию. Посылая апостольское благословение Польше, они, вероятно, не задумываясь, бросят ее под ноги Гитлеру в уплату за поход против СССР. А там придет очередь Франций…
Папам нужны деньги, очень много денег. Все годится — доллары и лиры, франки, марки и песеты. По свидетельству одного итальянского банкира, половина итальянской экономики контролируется сейчас Ватиканом. Из 630 миллиардов лир общенациональных вкладов в 40 католических и 100 "народных" банках 400 миллиардов лежит на текущем счету непогрешимого. Но даже самые осведомленные журналисты не могут сказать, сколько же миллиардов долларов лежит у святейшего в банках Америки, сколько вложено в дела группы Моргана.
Без всякого риска ошибиться можно сказать: заведение на Ватиканском холме — самый богатый концерн мира. Но дело, разумеется, не только в том, что его кредиты на антисоветскую пропаганду, на борьбу с демократией, на подрыв деятельности прогрессивных организаций во всем мире практически почти неисчерпаемы. На этот раз и сами непогрешимые действительно уподобляются стаду ослиц, полагая, будто нынешняя политическая ситуация схожа с теми, в которых Рим уже не раз пытался поправить свои расстроенные идеолого–политические дела. Это уже достаточно широко известно: папизм стремится к развязыванию второй мировой войны, чтобы еще раз попытаться осуществить свою навязчивую идею крестового похода против Советов и о мировом господстве. Непогрешимый спит и видит, как бы привести всех людей на земле, а если они есть на Марсе, то и там, в повиновение кресту, как символу отказа от социального прогресса и возвращения к рабской покорности немногим избранным господом–богом финансовым и промышленным магнатам для руководства человеческим стадом.
С этой целью так же настойчиво, как когда‑то его предшественники работали над созданием союзов, обеспечивавших возникновение первой мировой войны, — так Пий XI со своим статс–секретарем работает теперь над укреплением возникшего недавно фашистского "стального блока".
Во Франции делаются усилия для привода к власти католических разбойников из шайки Лаваля–Петэна.
На подмогу закоснелым в сообщничестве с Гитлером папским кардиналам в Германию посланы подкрепления в мантиях епископов и сутанах простых монахов. Их обязанностью, по наставлению папы, является развязывание войны с Россией во что бы то ни стало. Один из них открыто заявил: "Его святейшество папа сказал, что было бы ложной сентиментальностью и ложной гуманностью думать, будто нужно переносить любую несправедливость из страха перед войной. Если, по мнению святого отца, сказал он, ведение войны может быть не только правом, но и обязанностью какого‑либо государства, то это означает, что пропаганда за неограниченное и абсолютное запрещение орудий войны не согласуется с христианским учением. Когда закон бога находится под угрозой и совершаются атаки на самые его основы, то народы не только имеют перед богом право, но и обязаны восстановить силой оружия попранное право и порядок".
Как ни удивителен для непосвященных назревающий брак "неземного" Ватикана с самой земной державой — США, — он будет заключен. Его инициаторами являются кардинал Пачелли и "черный папа" — генерал ордена иезуитов кардинал Ледоховский. Брак этот вовсе не будет заключен только для невинного взаимопроникновения: вера в Америку — деньги в Ватикан. Целью задуманного брака является борьба с опаснейшим врагом капитализма и папского мракобесия — коммунизмом. Втирая народам очки своими лицемерными разговорами о мире, "жених и невеста" стремятся к одному — к войне.
…Доводы их каннибальски незамысловаты и рассчитаны на психологию не позже средневековой: бог завещал людям страдание. Богатство, счастье, мир он посылает им лишь в качестве искушения и в наказание. Тем, кто живет в счастье, довольстве и мире, уготована на том свете сковорода дьявола. Такова печальная участь всяких морганов, рокфеллеров и иже с ними. Поэтому лучше не подражать тем, кто хорошо живет, и довольствоваться жизнью похуже. "Блаженны страждущие", — страданий, побольше страданий, и вам уготовано царствие небесное! А счастье и деньги отдайте нам. "Блаженны алчущие" — поменьше ешьте, побольше оставляйте нам! Побольше страданий неразумным, жаждущим счастья, убивайте стремящихся к миру, калечьте, морите их голодом!
Одно из важнейших положений папистских изуверов заключается в том, что делать людей достойными награды на небесах насильно, даже когда они ее вовсе не хотят, то–есть доставлять им страдания, заставлять их голодать и умирать в мучениях на войне, — священное право непогрешимого. Так же, как он некогда торговал индульгенциями, Ватикан уже продает это право Гитлеру и Муссолини. Но дураки на свете переводятся. Рассчитывать на то, что люди добровольно согласятся, чтобы непогрешимый повел их на новую бойню, — серьезный просчет. Пример воинственного Юлия II, швырнувшего в Тибр никчемные ключи от рая и взявшего в руки меч, — плохой пример. Народы полагают, что вместе с ключами папе следует выкинуть в Тибр и меч.
Когда‑то Пий XI изрек, что, если того потребуют интересы католической церкви, он готов заключить союз с самим дьяволом. Все говорит за то, что этот тайный договор давно заключен. Поможет ли он союзникам — дьяволу и папе?.."
Где‑то совсем близко послышался легкий шорох шагов. Гаусс быстро захлопнул брошюру и поспешно сунул ее в кипу газет на столе.
Мягко ступая, мягче, чем умел ходить Александер, в библиотеку вошел худой человек в шелковой сутане кардинала. Гаусс не без удивления увидел перед собою того же Пачелли, какого встречал лет пятнадцать назад. В шестьдесят четыре года — ни единого седого волоска, все тот же пронизывающий взгляд карих глаз, та же энергичная складка вокруг тонких губ и та же нервная сильная рука, не спеша поднявшаяся для благословения над головой склонившегося генерала.
Генерал с разочарованием видел, что разговор, искусно направляемый кардиналом, вертится вокруг общих мест. Гаусс вслушивался во вкрадчивые интонации бархатного голоса кардинала. Он больше удивлялся чистоте, с которой итальянец владеет немецким языком, чем вдумывался в смысл витиеватых фраз. Но вот он услышал и что‑то интересное:
- …Святейший престол против растлевающей свободы совести, печати, союзов и собраний. Эти‑то свободы и являются способами распространения идей, не совместимых с догматами святой церкви. Будьте бдительны! Даже в такой момент, как переживаемый нами период торжества порядка в большей части мира, опасно почивать на лаврах. Нельзя позволить противникам порядка, установленного богом, вновь захватить то, что было отвоевано с такими усилиями.
— Людям нашего воспитания трудно примириться с грубостью ефрейторов, усевшихся в диктаторское кресло, — без обиняков заявил Гаусс.
— Сын мой, церковь явилась одной из первых жертв грубости "ефрейтора", и тем не менее… — Пачелли сделал многозначительную паузу, — святейший престол был первым государством, поддержавшим фюрера. Необходимы терпение и вера в провидение. И руками неразумных оно может творить благо. Божественная миссия борьбы с заразой коммунизма возложена всевышним на Германию. Не нам противиться воле господней. Да свершится то, что должно свершиться. По святому писанию "проклят тот, кто верит в людей". Запомните это, сын мой, и не придавайте слишком большого значения тому, как выглядит меч, разящий врагов церкви. Лишь бы он был достаточно остр и тяжел.
— В этом‑то вы можете не сомневаться.
Пачелли ласково улыбнулся:
— Мне приятно слышать это именно от вас, генерал. К тем людям, с которыми нам предстоит бороться…
— Я плохо понимаю иносказания, отец мой.
— К проповедникам и последователям осужденных церковью идей социализма и коммунизма нельзя применять слова нашего божественного учителя: "Прости им, ибо не ведают, что творят". — Голос Пачелли утратил бархатистость. В нем зазвучала ненависть: — Они ведают, что творят! Мы повелеваем вести борьбу против них с тою же беспощадностью, с какою святая инквизиция вела ее против еретиков в средние века.
Но Пачелли тут же вернулся к прежнему мягкому, умиротворяющему тону, хотя смысл того, что он говорил, вовсе не был мирным. Он говорил о средствах, какими должна быть выполнена миссия борьбы с коммунизмом.
Его осведомленность в чисто военных вопросах поразила Гаусса. Никакие достижения современной техники истребления не прошли мимо внимания кардинала.
Гаусс счел уместным заметить:
— Средства, предоставляемые нам наукой, могли бы быть усилены во сто раз, если бы фюрер не помешал работе над одним очень интересным видом вооружения.
— Что‑нибудь новое? — с интересом спросил Пачелли.
— Я не считаю нужным скрывать от вас, речь идет об оружии, которое мы называем "фау"…
Лицо кардинала отразило полное удовлетворение.
— Не скрою: нам известно об этом оружии. — Пораженный Гаусс молча кивнул головой, а Пачелли продолжал: — Пусть вас не смущает то, что дело перешло к лицам, не носящим военного мундира. Оно в надежных руках. Вы поступили бы вполне разумно, если бы передали эту работу иностранцам… У Германии нехватит средств для доведения этих дорогих работ до конца.
— Нет, отец мой! — воскликнул генерал. — Такие дела мы будем доделывать сами, хотя бы пришлось для этого ходить босыми…
— А я хотел помочь вам заинтересовать в этом "фау" американцев.
— Нет, нет!
Кардинал укоризненно покачал головой:
— Можно подумать, что вы забыли о конечной цели, которой все это предназначено. Законы, породившие силу, способную обрушить на голову врага "фау", являются выражением вечного божественного акта. В этом доказательство нерушимого единства всемирного порядка, за который мы с вами боремся… Противиться этому бессмысленно. И не все ли равно, кто применит эти силы природы для низвержения врагов апостольской церкви и порядка — вы или американцы?..
— Не поднимайте этой темы, отец мой, — решительно возразил Гаусс. — Мы никому не отдадим оружие, которое провидение вложило в руки нам. Нам, а не американцам!
— Помните, сын мой: только католическая церковь в состоянии решить, кто стремится к порядку и кто способствует его разрушению. Горе тем, кого она назовет врагами.
— Почти по этому поводу я и хотел бы посоветоваться с вами… Польша всегда была верной дочерью церкви?
— Святейший престол всегда лелеял ее, называя в пример другим любимейшей дшерью, — проворковал Пачелли.
— Нам необходимо знать, что сказали бы вы миру, тремстам восьмидесяти миллионам католиков, если бы… — Гаусс не сразу решился выговорить: — если бы завтра Гитлер решил убрать Польшу со своего пути?
Пачелли наклонился над столом и посмотрел в глаза генералу:
— Вы спрашиваете об этом как католик?
— Нет, как немецкий генерал, — прямо ответил Гаусс.
Пачелли придвинулся еще ближе.
— Спрашиваете меня, как скромного служителя церкви?
— Скорее, как человека, могущего ответить от имени Ватикана.
Пачелли молчал, не отрывая пристального взгляда от лица генерала. Наконец, понизив голос почти до шопота, произнес:
— Вы мысленно клянетесь мне, что сказанное умрет в этой комнате! Коль скоро к победе над Россией господу–богу угодно было бы пройти по телам всех трехсот восьмидесяти миллионов верных сынов католической церкви, мы не имели бы права сказать ничего иного, как только: "Да будет так".
— Значит, немцы могут?..
Пачелли резко откинулся в кресло и повелительно проговорил:
— Прошу, ваше превосходительство, не задавать подобного вопроса.
Наступило неловкое молчание.
— Нас беспокоит возможность выступления Франции, связанной с Польшей договором и известными обязательствами в отношении России, — сказал Гаусс.
— Обязательства в отношении России будут аннулированы, — с уверенностью проговорил Пачелли. — Что же касается остального, наш нунций в Берлине, монсеньор Орсениго, будет держать вас в курсе дела. Могу уверить ваше превосходительство, что церковь приложит все усилия, чтобы ни один верующий француз не поднял оружие в защиту России.
— Нас не так беспокоит Франция в целом, как несколько отдельных французов.
— Большинство из тех, кого вы имеете в виду — верные сыны католической церкви, — угадав мысль Гаусса, ответил Пачелли. — Мы всегда имеем возможность дать свой отеческий совет маршалу Петэну, генералу Вейгану и таким людям, как Лаваль и другие. За Францию можете быть спокойны. Даже если бы ей пришлось формально выступить, она не будет стоять на пути фюрера в достижении нашей общей цели.
— Вы очень успокоили меня, отец мой.
— Церковь не всегда будет в состоянии выбирать деликатные способы помочь вашему делу. Цель — уничтожение русского коммунизма — оправдывает средства, которые вам, может быть, придется применить. — На прощание, уже стоя, Пачелли сказал: — Быть может, в Берлин приедет из Львова митрополит Андрей или его доверенное лицо. Мне очень хочется, чтобы они встретили там полное понимание.
— Митрополит Андрей? — недоумевая, спросил Гаусс.
— Граф Андрей Шептицкий — человек, которому провидение судило выполнить апостольскую миссию на востоке. Его трудами будет обращено в истинную веру все то, что уцелеет от России.
— Мы не оставим ему большого пополнения для рядов верующих, — с усмешкой ответил Гаусс.
— Не об этом вам нужно заботиться. Крест — оружие Рима. Германия пусть будет мечом католической церкви. — И, сотворив крестное знамение, как бы благословляя этот воображаемый меч, Пачелли добавил: — И да будет этот меч беспощаден!
13
— Что говорил вам Альба? — спросил Бен, вспомнив, что после чая Маргрет оставалась наедине с испанцем.
— Альба?.. — удивленно переспросила она. И почти про себя: — Действительно… что говорил мне Альба?..
При этом в памяти Маргрет отчетливо встала обстановка комнаты, в которой она довольно долго просидела с герцогом. Но вот странно: она не могла припомнить ни одного слова из того, что говорилось. Вероятно, это произошло из‑за того, что все ее внимание было сосредоточено на фантастически великолепном подсвечнике, скорее даже паникадиле, стоявшем у стены. Это было сооружение не меньше чем в рост человека — старинная кованая штука на четырех ножках. Ножки были так причудливы, что Маргрет не смогла бы даже воспроизвести изгибов, хотя смотрела на них бог знает сколько времени. А этот изумительный чеканный круг наверху! Он подобен старинному поясу средневековой инфанты! И пять… нет, кажется, шесть… нет, пожалуй, все‑таки пять пятисвечников в виде корон, с шестой, словно цветок возвышающейся над ними в центре! Лишь в старой Испании могли создать такую прелесть. Как только кончится эта суматоха в Испании, Маргрет непременно поедет туда. Она сама отыщет все, что нужно для испанской комнаты Грейт–Корта. Теперь уже нельзя будет не обставить ее самым лучшим из всего испанского: вырвалось же у нее хвастливое замечание, что, пожалуй, даже Альбы уже не имеют того, что есть у нее. А ведь по сути‑то у нее почти ничего и нет — так, кое–какая дребедень, не идущая в счет по сравнению с виденным у герцога в его "посольстве" в Лондоне. Какие шелка, какая парча, какой корд на стульях! Можно себе представить, что за чудеса собраны во дворце Альбы в Испании!.. Боже мой, и подумать, что с победой республики все это могло оказаться в руках каких‑нибудь шахтеров или неграмотных пастухов!..
От таких мыслей ее оторвал повторный вопрос Бена:
— Не говорил ли вам Альба, что пора покончить с Испанской республикой, что от вмешательства Англии только и зависит теперь, сколько недель продержутся там красные?
Вот! Теперь Маргрет вспомнила все.
— Совершенно верно! Он говорил это. Но, мне помнится, речь шла не о неделях, а о днях. Судьба республики сочтена. Вступление Франко в Мадрид — вопрос дней… — Усилием воли заставляя себя сосредоточиться на разговоре и не позволяя себе снова соскользнуть к воспоминаниям о мучившем ее видении прекрасного подсвечника, она неохотно цедила: — Альба говорил, что признание их режима Францией — только половина дела. Нужно, чтобы британское правительство огласило и наше признание его шефа, тем более, что, по его словам, такое решение уже принято вами…
— Все будет в должный момент…
— Не перебивайте меня. Вы же хотели знать, что сказал Альба, — лениво ответила Маргрет.
— Да, да, прошу вас, — поспешно спохватился Бен. Маргрет замолчит, и тогда он не узнает чего‑нибудь важного, что посол Франко хотел ему передать через жену. Не мог же испанец поставить его в ложное положение личным сообщением. Как‑никак, ведь Бен все еще председатель комитета по невмешательству в дела Испании, а Альба посол Франко, лишь фактически и тайно, но еще не формально признанного Англией. — Прошу вас, продолжайте, дорогая, — просительно проговорил Бен.
— Он говорил… что Петэн обещал Франко помощь… — Она потерла пальцем висок, чтобы отогнать одолевавший ее сон. — Кажется, он говорил еще что‑то о продовольствии… Ах да, Петэн обещал Франко, что республиканцы не получат ни грамма продовольствия. — Маргрет подняла на Бена глаза, с ресниц которых успела снять краску. На него смотрели теперь два мутных старушечьих глаза, холодных и злых. Перед ними все еще стояло великолепное паникадило Альбы, а вовсе не зрелище умирающих испанских детей. Она лениво протянула: — Мне кажется, они этого заслужили… не нужно было бунтовать. Дядя Джон Ванденгейм говорит…
— Не напоминайте мне об этом грубияне… — сердито сказал Бен.
— Это брат моей матери, Бен! — Она строго поджала тонкие губы. С них тоже была уже снята помада. Они были вялые, синеватые. Тысяча поперечных морщинок делала их похожими на съежившихся червей. — К тому же, — прибавила Маргрет, — от дяди Джона зависит, вылетите вы в трубу с вашими угольными копями или нет. Я давно советовала вам понять: он не только брат моей матери, но и настоящий деловой человек Американского, а не вашего стиля. Кстати… — тут она вдруг остановилась, словно утеряв мысль, но тотчас же со злою усмешкой поправилась: — Впрочем, это покажется вам, вероятно, уж не так кстати: один американец… военный… говорил мне, что Англия не только утратила все преимущества своего островного положения, а это островное положение из преимущества стало ее слабым местом…
— Не понимаю, о чем и к чему все это? — с раздражением прервал ее Бен. — Вероятно, опять какая‑нибудь гнусность американцев. За последнее время это стало любимым развлечением его супруги: напоминать ему то, о чем когда‑то она пыталась так старательно забыть, — что она американка. К тому же это были не какие‑нибудь дружеские воспоминания, а почти всегда шпильки. Эдакая длиннющая бабья шпилька, которую Маргрет старалась запустить в какое‑нибудь из самых больных его мест — либо в пристрастие к свиньям, либо в любовь к былой роли Англии.
Так оно и было.
— Этот американский джентльмен, очень сведущий джентльмен, — подчеркнула Маргрет, — сказал, что ни один умный противник не станет в наше время пытаться вторгнуться в Англию своими сухопутными силами. Даже если бы ему удалось подавить или вовсе уничтожить британский флот…
— На свете не существует государств, которые могли бы не только уничтожить, но хотя бы временно подавить флот Англии. Он первобытный кретин, этот ваш "американский джентльмен"… Понимаете, кретин! — выходя из себя, крикнул Бен. — Я не хочу слушать эту чепуху… Не хочу!
— А я хочу досказать, — настойчиво проговорила она, угрожающе приподнимаясь в кресле. — Независимо от судьбы английского флота, никто не станет вторгаться в Англию с суши. Так сказал этот джентльмен. Он утверждает, что Англия будет попросту стерта с лица островов воздушными бомбардировками. Понимаете: стерта!.. А потом — все остальное.
Бену показалось, что жена произнесла последние фразы с удовольствием, во всяком случае со всем злорадством, на какое стала способна в последнее время. Несколько мгновений он молча взирал на нее, потом схватил свой снятый было халат и поспешно удалился из спальни.
Мысли его путались. Он, правда, всегда предпочитал свиноводство военным вопросам, но из этого не следовало, что его можно заставлять выслушивать подобную чепуху. Англия всегда была Англией и, хвала господу, всегда ею будет!..
Постояв несколько мгновений за крепко захлопнутой дверью спальни, он немного успокоился и нерешительно двинулся в темноту коридора.
Всю жизнь прожив в этом доме, Бен никогда не мог запомнить, где расположены выключатели. Он вечно включал не те лампы, какие были нужны. Ощупью пробравшись по коридору, он стал медленно спускаться по лестнице, ведя рукой по стене. Мысли, такие же мрачные, как окружавшая темнота, медленно текли в его голове Бен охотно посоветовался бы сейчас с кем‑нибудь, чтобы понять, действительно ли настал момент, когда можно, не рискуя ни престижем Англии, ни собственным добрым именем, покончить с этим проклятым невмешательством. Пора заняться своими запушенными шахтами, вернуться к свиньям, которых он вот уже два или три месяца видел лишь урывками.
При воспоминании о свиньях Бен приостановился посреди лестницы. Жизнь перестала казаться ему такой беспросветно мрачной: раз где‑то впереди маячила возможность отдаться любимым свиньям, дела еще не так плохи…
В тот самый час на противоположном конце Европы произошло нечто, хотя и вовсе не отмеченное в анналах истории, но имеющее непосредственное отношение к историческим событиям, являвшимся предметом тягостных размышлений лорда Крейфильда.
Это случилось там, где в солнечный день с берега Европы можно невооруженным глазом рассмотреть белые дома Сеуты и Танжера, а за ними лиловый силуэт Атласа. Это произошло вблизи того куска испанской земли, который Англия временно заняла два с половиной века тому назад, во время войны за испанское наследство, да так и "забыла" вернуть хозяевам. Событие имело место у пункта, название которого многие, по старой памяти, употребляют иногда для определения могущества Британской империи наравне с Сингапуром и Мальтой. Короче говоря, это случилось у Гибралтара.
В течение двух с половиной веков британский империализм тратил все новые и новые миллионы фунтов стерлингов на реконструкцию одного из двух Столбов Геркулеса. Англия пыталась удержать то, что время и прогресс упрямо списывали со счетов островной империи, — стратегическое значение Гибралтара. Когда‑то, может быть, еще в конце прошлого столетия, семьдесят пещер, вырытых, выдолбленных, выгрызенных упрямыми зубами в скале Гибралтара, и семьсот пушечных жерл, глядящих со скалы на пролив, могли считаться непреодолимой преградой для флота. Но в XX веке даже испанские фашисты стали называть эти пушечные стволы "зубами старухи".
В один из вечеров начала марта 1939 года сигнальная пушка гибралтарской крепости ударила, как всегда, ровно в 20. 00. С этой минуты вход в порт и выход из него был закрыт. Задвинулась решетка железных ворот, соединяющих крепость с материком. Тем не менее на гибралтарский рейд, являющийся частью просторной Алхесирасской бухты, вошел "корабль его величества" крейсер "Дидона". "Дидона" был типичным британским крейсером. Он в меру устарел, был в меру тихоходен, вооружен в меру старыми шестидюймовыми пушками Армстронга. Они стреляли порохами, воспламенение которых в погребах "Ляйона" было причиной гибели половины его команды в битве при Скагерраке.
Как всякий британский корабль, "Дидона" была снабжена комфортабельными каютами для офицеров и отвратительными кубриками для команды. Одним словом, это был как раз один из многочисленных кораблей, составлявших становой хребет британского боевого флота, один из тех кораблей, пушки которого, как торчащие вперед клыки старого бульдога, предназначались главным образом для того, чтобы устрашать слабонервных пиэтетом черного галстука и трех полосок на матросском воротнике. "Дидона" не столько воевала, сколько стационировала в колониях, где обнаруживались признаки волнений. Она с торжественностью королевских похорон возила в Лондон индийских князей на поклон к "императору Индии" и в обмен доставляла индусам английских вице–королей и шпионов.
Прогромыхав по клюзам якорными канатами, "Дидона" замерла на внешнем рейде. Она не зашла за мол, а остановилась на той стороне Алхесирасской бухты, что омывает подножие скалы Гибралтара. Эта скала нависла над морем подобно огромному хищному зверю, намеревающемуся вот–вот совершить прыжок в Африку. Если судить по размерам зверя и по выступающим на его боках мощным складкам каменных мускулов, прыжок через пролив, казалось, не представлял бы для него труда.
На берегу "Черного материка" до сих пор гнездятся измельчавшие потомки некогда грозных испанских конкистадоров, а не коммивояжеры ненасытного британского империализма. Это было так — вопреки пушечным стволам Гибралтара, обращенным жерлами на юг, вопреки линкорам, крейсерам и эсминцам, денно и нощно коптящим густосинее африкано–европейское небо. Да, вопреки всей этой до пышности демонстративной мощи жадного британского зверя, его каменный хвост был тут накрепко прикован к Европе. И как ни противно это было "британскому духу", перед глазами английских офицеров, бездельничающих на высоком плато Юроп–Пойнта, простиралась опаляемая лучами солнца беспредельная лилово–желтая панорама африканских областей, населенных черными людьми, которых эксплуатировали не англичане, земель, недра которых расхищались не англичанами, где "европейскую цивилизацию" и "свет веры христовой" насаждали не английские штыки. Это казалось английским офицерам просто скандальным, отвратительным. Но это было так.
Было бы ошибкой думать, будто британский империализм смирился с таким положением и больше не претендует, чтобы Гибралтар выполнял какую‑либо иную роль, кроме заржавевшего ключа шатающихся ворот Средиземноморья. Цвета испанских Бурбонов стали торговым флагом нескольких темных старых домов, стоящих вовсе не в Мадриде, а в сердце Лондона — в Сити. Одного из задач "флота его величества" короля Англии стала защита английских фунтов, вложенных в недра, в промышленность и в банки иберийских полуколоний Сити — Испании и Португалии.
Прошло довольно много времени после того, как якоря "Дидоны" легли на грунт. Сонно улеглась вода, взволнованная винтами крейсера. На корабле воцарилась тишина.
Мягко ступая резиновыми подошвами по дереву надраенной палубы, к шестивесельному катеру № 3, покоившемуся в рострах, подошел офицер. Он с усилием отогнул на носу катера край брезента и заклеил дощечку, где было выведено слово "Дидона", полоской с названием одного из коммерческих кораблей, стоявших в ту ночь на рейде. Офицер проделал это со сноровкой, свидетельствовавшей о том, что заниматься этим ему было не впервой.
Через несколько минут под умелыми руками матросов катер бесшумно опустился на воду. Кроме команды, в него сошел человек в штатском. Боцман посветил фонарем на кормовую банку, чтобы показать пассажиру его место. В луче света можно было узнать Уинфреда Роу.
Роу тяжело опустился на свое место на корме, рядом с рулевым. Он был целиком поглощен своими мыслями, связанными с этой неожиданной для него поездкой в Испанию: когда он был уже совсем готов отправиться в Советский Союз, вместе с "первым вариантом военной миссии" (так называл эту группу шеф), все вдруг изменилось — Роу получил неотложное поручение в Испанию.
— Вы там уже бывали и знакомы со всей этой публикой, — сказал шеф. — Даю вам возможность еще разок прокатиться туда. Довольны?
Да, в тот момент Роу был доволен: разве плохо отделаться от поездки в страну, которой он боялся как огня? Испания — совсем другое дело.
Правда, вскоре ощущение удовольствия пропало. Роу узнал, что сможет пробыть в Испании ровно столько, сколько понадобится на выполнение поручения, — ни одного часа больше. Это значило, что его личные дела, которые он снова наладил было с Грили, так и останутся незавершенными. Все надежды, которые он возлагал на победу Франко, рассыпались.
Мягкое покачивание катера и ритмичный стук уключин навели его на воспоминания. А в воспоминаниях Роу было мало веселого. То, что Уинфред Роу был сотрудником британской секретной службы, отнюдь не следует приписывать "призванию" или каким‑либо его высоким личным качествам. В его характере никогда не было отмечено специфических черт, о которых любят писать, как о свойствах, определяющих пригодность к службе тайного агента. В юности Уинни не обладал ни сильной волей, ни способностью к изворотливости в трудных обстоятельствах. У него не было и выдающегося личного мужества или инициативы, которые выдвинули бы его из ряда обыкновенных людей, в изобилии топчущихся на тротуарах всех английских городов. Напротив, в те времена Уинн отличался скорее некоторой мягкостью. Он был флегматиком. Он даже не давал себе труда заботиться о карьере, которая в его годы составляет заботу каждого англичанина его круга. Можно с уверенностью сказать: если бы не воля отца, Уинн никогда и не очутился бы на службе разведки, которая, если верить обильной литературе, создаваемой по прямому заказу самой же разведки, отбирает из среды англичан "лучшее, что может дать нация".
Настойчивое желание Роу–отца видеть Уинни на этой службе было продиктовано тем, что именно там два поколения Роу закладывали основание материальному благосостоянию своего ничем не замечательного рода. Ни Роу–дед, ни Роу–отец не видели в профессии разведчика ничего романтического. Для них ничто не отличало ее от любой другой службы британской короны. Они были прозаическими чиновниками от шпионажа. Сотни и тысячи роу до них, при них и после них так же прозаично подвизались на службе разведки в английской метрополии, в ее многочисленных колониях и за рубежами империи. Настойчивость, проявленная Роу–отцом в определении Уинна на ту же службу, где он сам провел около полувека, была продиктована соображениями весьма практического свойства: мистеру Роу–старшему хотелось отойти в лучший мир в уверенности, что дедовский дом на Кинг–стрите не только не пойдет с молотка после его смерти, но, бог даст, будет заменен более обширным на Парк Лейн.
Если бы не отцовская настойчивость, Уинфред Роу и по сей день предавался бы приятному ничегонеделанию в обществе сверстников или соревновался бы со своими друзьями в собирании какой‑нибудь дряни. Еще в колледже он питал пристрастие к пуговицам и считался знатоком этого предмета. Но оказалось, что такого рода страсть требует расходов, непосильных отпрыску фамилии Роу. Он с выгодою продал свое собрание пуговиц и отказался от мысли достичь чего‑либо и среде коллекционеров.
Однако с переходом на службу в разведку перед Роу снова встала перспектива заняться коллекционированием. В этом учреждении считалось весьма похвальным собирать что‑нибудь, что могло служить благовидным предлогом для проникновения в такие места, где пребывание простого туриста–бездельника показалось бы подозрительным. Можно было собирать черепки тибетской посуды, японские гребни или русские вышивки. Можно было для вида заниматься археологией, антропологией, фольклором — чем угодно. Роу обошел этот наскучивший ему предмет тем, что объявил о своем желании стать журналистом. Он как можно дольше учился этому делу. Потом по протекции собственного отца получил первое оперативное поручение в Испанию. С тех пор за Пиренеями не происходило ни одной смены режима, ни одного крупного политического убийства, которые не застали бы Роу на полуострове. В одних он бывал тайным участником и казначеем Интеллидженс сервис. За другими только наблюдал, как око шефа. Здесь, в Испании, утвердилась карьера Роу, и здесь же он сформировался как секретный агент. Следующим театром его деятельности стала Германия. Там он провел немало темных дел.
С тех пор прошло много лет. Выгоды службы в разведке оказались сильно преувеличенными. Дом на Кинг–стрите Уинн продал сразу же, как умер отец. Нового на Парк Лейн так и не купил, да и не собирался покупать. Он был известен как старый холостяк, как отставной капитан Роу, занимающийся журналистикой…
Роу давно опротивело все на свете, но он напрасно напрягал мозг в поисках выхода из‑под воли своего деспотичного шефа. Устав службы предлагал на выбор беспрекословное подчинение или смерть. Роу знал, что это не пустая формула. За нею стояла такая реальность, какою была мотоциклетная авария "сержанта Шоу", как "попавший под автобус" священник Леслей, как… бррр, стоит ли их вспоминать!.. Роу не нравилась эта половина дилеммы. Оставалось подчинение. Поэтому он и сидел теперь рядом с незнакомым боцманом, равнодушно везшим его к поблескивавшему огнями испанскому берегу. Когда‑то Роу бывал в знаменитом алхесирасском отеле "Ренья Кристина". Там с февраля по апрель любили проводить время его более счастливые сверстники, обладавшие возможностью ничего не делать и выбирать для каждого сезона тот уголок земного шара, где было лучше всего. Сейчас был именно март, но Роу знал, что его везут вовсе не к спускающимся прямо к морю садам "Королевы Христины". Сойдя на берег, он скромно поплетется на поиски третьесортной гостинички "Золотой якорь". Никому не бросаясь в глаза, он под видом мелкого дельца должен встретиться с человеком, который будет ему сопутствовать в дальнейшем путешествии до осажденного франкистами Мадрида.
Роу обрадовался, когда оказалось, что его провожатым будет монах. В нынешних обстоятельствах сутана — наиболее подходящий наряд для проводника по Испании.
Роу знал, что, высадив его у Гибралтара, "Дидона" останется там недолго. Она перейдет в Валенсию и будет ждать его возвращения на борт вместе с бывшим начальником генерального штаба, а ныне командующим мадридским фронтом республиканских войск полковником Касадо. Дважды "переменив лицо", Роу должен был появиться в республиканском тылу в качестве члена парламента и прогрессивного журналиста по имени Эдуард Грили. Документы Грили считались "свободными". По сведениям прессы, Эдуард Грили исчез без вести при перелете из Англии в Испанию. По данным Интеллидженс сервис, он был расстрелян франкистами вследствие провокации одного из секретных агентов французского Второго бюро. Копия донесения этого агента о расстреле Грили имелась в распоряжении британской разведки. Документы Неда вполне устраивали Роу.
На первый взгляд казалось гораздо более простым, если полковник Касадо нужен англичанам, переправить его через фронт к Франко. Отсюда было бы нетрудно вывезти даже слона. Но сложность заключалась в том, что момент для бегства Касадо еще не настал. Он еще числился на службе республики. Имя его значилось в списках офицеров, которых Франко обещал повесить, как только они попадут ему в лапы.
Между тем Касадо был ценным английским агентом, и хозяева хотели застраховать его от непоправимых случайностей.
Задача Роу считалась ответственной.
У англичан были причины не открывать генералу Франко того, что Касадо организовал хунту изменников в тылу республики по их поручению. Английская служба считала, что Касадо еще может ей пригодиться в будущем.
Роу не интересовался, была ли то пустая угроза Франко или он действительно намерен был повесить Касадо. Для Роу это был лишь один из пунктов инструкции, полученной от шефа: "беречь Касадо!" Остальное его не касалось.
14
После памятного ночного инцидента Гаусс не мог отказываться от предложенной ему казенной квартиры. Пришлось переехать. Правда, Гаусс не до конца покинул свое обиталище на Маргаретенштрассе: там осталась вся обстановка и, главное, остались на стенах любимые французские полотна.
Это создавало заметную брешь в личной жизни Гаусса. Когда ему хотелось взглянуть на картины, посидеть перед ними, нужно было ехать "домой". И тем не менее он не хотел переносить их в казенное жилище. Он думал, что необходимость бывать на Маргаретенштрассе не позволит ему забыть старое отцовское гнездо. А гнездо это было, пожалуй, единственной его личной привязанностью в жизни. Конечно, после французских картин. Хотя, может быть, и сама‑то французская живопись стала ему так мила отчасти потому, что составляла неотъемлемую принадлежность этого гнезда. Ведь с тех пор, как он помнил себя, стояли у него в памяти и самые старые из этих полотен. Они висели тогда повсюду: в отцовской приемной, в гостиной матери, в столовой и даже в зале, между портретами полководцев. Отец привез много картин из похода во Францию. Покойник не слишком разбирался в живописи, большую часть его добычи Гауссу пришлось попросту убрать.
Иногда Гауссу казалось, что в его страсти есть что‑то неестественное: он, кому надлежит называть себя "железным представителем железного народа", питает любовь не к "здоровому немецкому искусству", а к этой чертовски талантливой французской живописи! Не является ли это неосознанным следствием какого‑нибудь еще никем не открытого процесса преемственности душевного богатства наций и поколений? Не вывези его отец, капитан Фридрих фон Гаусс, кучу картин из французских замков и не узнай об этом кадет Вернер фон Гаусс, возможно, он никогда и не заинтересовался бы галльским искусством. Никто никогда не вставил бы в "инструкцию для германских войск, действующих на территориях противника" параграфа об отборе трофейного фонда произведений живописи. И тогда в будущей, уже, вероятно, совсем недалекой войне какой‑нибудь Шверер или Пруст, ворвавшись в картинную галлерею Лувра, приказал бы сжечь ее богатства из желания доказать свое право победителя творить все, что ему вздумается… Когда‑нибудь потомки нынешних немцев (когда они из коричневых тварей снова превратятся в полноценных людей) оценят Гаусса, одним лишь параграфом инструкции сохранившего сокровища живописи для хранилищ Великой Германии. А впрочем… Впрочем, Гаусс вовсе не был уверен в том, что победители будут нуждаться в каком бы то ни было искусстве. Что это будет за "искусство победителей" — искусство больших идей, которые станут править миром, или эклектическое месиво из всего, что окажется в трофейном фонде? Гаусс не мог даже приближенно ответить на этот вопрос.
Да и стоило ли ломать голову над такого рода идеями? Идеи в нынешней Германии! Существуют ли они тут вообще? Есть ли, например, хоть какие‑нибудь идеи у Гитлера? Конечно, никаких! Думает ли он хоть когда‑нибудь о развитии германского народа, об его счастье, об улучшении государственной машины? Разумеется, нет! Люди не интересуют этого ублюдка. Немцы для него только материал, при помощи которого он намерен достичь власти над миром. Кто‑то говорил Гауссу, что в узком кругу Гитлер и не называет немецкий народ иначе, как "стадо баранов, недостойных его великих идей". Фюрер уверяет, будто ради счастья немцев готов уничтожить весь мир. Но если какой‑нибудь немец решался отказаться от предложенного "счастья", Гитлер рубил ему голову. О каких уж тут идеях, о каком искусстве стоило толковать?.. Все — немыслимая чепуха и неразбериха…
Новая квартира Гаусса имела еще одно существенное неудобство: она была расположена далеко от Тиргартена. А Гаусс привык в течение многих лет совершать там свою предобеденную прогулку. Он изучил там каждую дорожку. В этом Тиргартене остались и все старые привязанности Гаусса — старый фриц с палкой короля–капрала, и королева Луиза, и все короли и курфюрсты, мимо которых он проходил, чтобы еще и еще разок взглянуть в лицо прошлому Пруссии…
Вблизи новой квартиры не было никакого парка. А ехать куда‑нибудь на автомобиле, чтобы там пройтись пешком, — это казалось Гауссу глупым.
И вот он стал играть на биллиарде. Сначала это показалось ему бессмысленным топтаньем на месте. Но когда он с карандашом в руках высчитал, что за полчаса успевает пройти вокруг биллиардного стола по крайней мере два километра, "топтанье" приобрело смысл. Если к тому же, независимо от погоды, летом и зимою играть при растворенных окнах, все будет в отличном порядке.
Он несколько раз сыграл с партнером: один или два раза с адъютантом, потом с камердинером. Но их угодливо–постные физиономии портили ему настроение. Он решил играть один. Не все ли равно, добиваешься ты наибольшего числа карамболей в присутствии какого‑то дурака или в одиночестве?! Один на один с кием — даже приятнее.
С тех пор ежедневно в один и тот же час в биллиардной раздавался сухой стук сталкивающихся шаров и щелканье счетчиков, на которых Гаусс методически отмечал карамболи — свои и своего воображаемого противника.
Это бывали полчаса приятного одиночества, кусочек личной жизни. В ней не было места соглядатаям, даже лакеям — бесплатному приложению Гиммлера к казенной квартире. Гаусс мог сколько угодно обдумывать удар. Он смешно наклонял голову, прищуривался, даже приседал у биллиарда, соображая, в каком направлении покатится шар при том или ином угле рикошета. Иногда Гаусс так увлекался, что расстегивал мундир.
Однажды стоявшие в углу биллиардной большие часы своим громким боем испортили ему удар. Он приказал убрать их. С тех пор в комнате не было слышно даже ударов маятника — ничего, кроме щелканья шаров и позвякивания генеральских шпор, то размеренно редкого, когда Гаусс в задумчивости переходил от борта к борту, то поспешного, когда он торопливо шагал к удачно ставшему шару, на ходу примериваясь к удару.
Длинная тень генерала, изломанная панелью или спинкой дивана, привидением металась по стенам…
Сегодня, увлекшись серией удавшихся ему сложных карамболей, Гаусс забыл о том, что к обеду приглашен генерал Шверер. Это было не свидание друзей, а лишь исполнение служебной обязанности: он не мог сказать Герингу "нет", когда тот попросил поговорить со Шверером в частной обстановке Геринг надеялся, что таким путем он избавится от ушей Гиммлера, рассованных по всем углам военных учреждений и штабов Берлина. Он так и сказал:
— Найдется же, чорт возьми, хоть одна комната в вашем доме, где вы действительно можете поговорить с глазу на глаз.
— С глазу на глаз?.. Разумеется, — ответил Гаусс. — Но "с уха на ухо"… не ручаюсь.
И он выразительно приподнял угловатые плечи с тугим плетением генеральских погон. Геринг рассмеялся.
Все не нравилось Швереру в этом неожиданном приглашении. Даже то, что Гаусс с не свойственной ему поспешностью приставил кий к биллиардному столу и пошел навстречу гостю. Шверер не любил любезностей Гаусса. Правда, Гаусс давно уже примирился с поворотом в карьере Шверера и больше не позволял себе иронии, которую прежде частенько пускал в ход при встречах со "старой пиголицей", но это заставляло Шверера только еще больше настораживаться. Сам он тоже не отказывался от надежды когда‑нибудь взять реванш и поиздеваться над Гауссом.
Эти мысли быстро пробегали в мозгу Шверера, пока он маленькими шажками преодолевал широкое пространство паркета между дверью и биллиардным столом, из‑за которого вышел Гаусс. И еще не успев ответить на приветствие хозяина, Шверер подумал: "Готов поклясться: он приготовил мне какую‑то пакость".
— Рад видеть… Прекрасно выглядите…
С этими словами Гаусс даже, кажется, дотронулся до ручки кресла, делая вид, будто хочет подвинуть его гостю.
"Положительно, гадость", — еще раз подумал Шверер и аккуратно уселся как раз в середине между высокими боковинками большого кожаного кресла.
Даже то, что Гаусс предложил ему именно это огромное кресло, а не обыкновенный стул, на котором не был бы так заметен маленький рост гостя, показалось Швереру не случайностью.
"Пакостник", — окончательно решил он про себя.
Лакей поставил на столик поднос с бутылками. Шверер подозрительно покосился на этикетки: Гаусс окончательно офранцузился!
— Перед обедом?.. — предложил Гаусс.
Шверер, презрительно выпятив губы, почти грубо отрезал:
— Не признаю… этих, — он сделал вид, будто у него ускользнуло французское слово, — этих… "апперитивов".
— Тогда рюмку русской водки, а?
— Это другое дело, — согласился Шверер, но губа его продолжала обиженно торчать вперед.
Отпивая маленькими глоточками обжигающую влагу, Шверер ждал, что хозяин скажет, наконец, за каким чортом понадобилась вся эта комедия с "частным" приглашением.
Но хозяин издевательски медленно прихлебывал свой подогретый "Сен–Рафаэль", чмокал губами, смотрел вино на свет, — одним словом, старался показать, что смакование напитка — все, чем он сейчас занят. Хотя в действительности Гаусс думал сейчас вовсе не о вине, а просто пытался представить себе физиономию, какую состроит Шверер, когда узнает цель приглашения. Подождать с этим до обеда или сразу же испортить "старой пиголице" аппетит?..
Наконец он поставил опустошенную рюмку. Тон его утратил всякую любезность:
— Учитывая ваш опыт пребывания в Китае, рейхсмаршал приказал передать вам поручение…
"Положительно пакостник, — еще раз мысленно выругался Шверер. — Я же знал: пакость". Но черты его оставались неподвижными. Синеватое морщинистое веко медленно опустилось за стеклышком монокля и придало лицу выражение высокомерного спокойствия.
А Гаусс, глядя на это веко, думал: "Настоящая пиголица. Сейчас я посажу его на вертел".
— По данным, совершенно доверительно полученным господином рейхсмаршалом от японского посла, — сухо сказал он, — японцы ведут секретные работы по созданию и испытанию совершенно нового вида оружия. Господин рейхсмаршал согласовал с японцами вопрос о посылке на Дальний Восток нашего доверенного и вполне компетентного офицера…
"Какого чорта он тычет мне все время этого рейхсмаршала? — подумал Шверер. — Он же отлично знает, что у меня нет ни одного лишнего офицера… Впрочем, почему не подсунуть им Отто?" При этой мысли в нем загорелся некоторый интерес к делу.
— Единственный офицер, которого… — начал было он, но Гаусс бесцеремонно досказал за него:
- …который мог бы выполнить поручение господина Геринга, — вы сами. — И, наслаждаясь выражением удивления на востроносой физиономии Шверера, закончил: — Именно это рейхсмаршал и имел в виду.
Воспоминание о неудаче в Китае вызвало у Шверера отвратительную оскомину. Снова ехать туда и, быть может, опять оказаться в дураках?.. "Пакостник, настоящий пакостник!! Сумел‑таки подсунуть Герингу именно меня". И хотя он знал, что спорить с Герингом бесполезно, решил все же сделать попытку сопротивления.
— По поручению самого фюрера, — начал он внушительно, — генерал–полковник Кейтель возложил на меня некоторые специальные задачи в переработке "Белого плана".
Но Гаусс отрезал ему и этот путь:
— Вопрос о поездке согласован с фюрером. Что касается "Белого плана", то ко времени его осуществления вы будете уже здесь.
— Да, — обиженно сказал Шверер, — повторится то же, что тогда с Австрией: меня услали в Китай, и все сделалось без меня.
— Вы примете участие в польском походе, — заверил Гаусс. — Новый вид оружия, над которым работают японцы, может понадобиться в самом недалеком будущем… Представьте себе, что вопрос с Польшей решится не так просто, как австрийский и чешский, представьте себе, что в дело вступит Россия…
При слове "Россия" Шверер выпрямился и пристально посмотрел в лицо Гаусса: пустая болтовня или?..
— В таком случае нас живейшим образом будет интересовать, чем могут угрожать Советам японцы на Дальнем Востоке, что это за новое оружие, какова его эффективность, каковы перспективы, — продолжал Гаусс. — Быть может, необходимо наше участие в развертывании производства, быть может, требуется вмешательство наших ученых… — Он подумал и прибавил: — И не только в интересах японцев, а и в наших собственных.
Не скрывая более интереса, Шверер спросил:
— Что за оружие?
Гаусс несколько замялся. Геринг предупредил его: никто не должен знать подробностей этого дела здесь, в Германии. Нужна величайшая секретность. Два–три человека — вот все, кто знает тайну японцев. Ну что же, Геринг и он — двое, пусть Шверер будет третьим.
— Ни один из участников вашей группы, которая отправится на Восток под видом коммерсантов, не будет, — Гаусс угрожающе нажал на это слово, — не будет знать, о чем идет речь. Но от вас я не вижу смысла скрывать: вы увидите опыты японского полковника медицинской службы господина Исии Сиро. Дело идет о бактериологической войне.
— Мы сами можем… — начал было Шверер, но Гаусс опять не дал ему договорить:
— Конечно, можем, но какие осложнения могут быть с этим связаны! Нужно посмотреть, не справятся ли с этим японцы своими силами. В Харбине вы будете гостем начальника военной миссии, генерал–майора Накамуры.
Шверер забыл о своем нерасположении к Гауссу, забыл о том, что самая эта поездка была, вероятно, придумана Гауссом как очередная пакость. Он вскочил и в волнении пробежался по комнате, стараясь собраться с мыслями.
— Давно ли японцы этим занимаются, чего достигли, что могут нам показать?
Гаусс сделал брезгливое движение руками, словно смахивая с ладоней что‑то нечистое:
— Блохи, зараженные чумой, и еще что‑то в этом же роде…
Шверер смотрел на него неприязненно: речь идет о таких интересных и важных вещах, а этот долговязый гусак не дал себе труда даже запомнить!
Шверер вздернул узкие плечи и поймал выпавший из глаза монокль:
— У них есть опыт?
— Институт, куда вы едете, работает года три.
Шверер водворил монокль на место и потер руки:
— Интересно… очччень интересно!..
15
Ночью матрац клали на кровать, стоявшую под окном, чтобы раненому было легче дышать в струе воздуха, попадавшей снаружи. Днем снова перекладывали на пол, в темный угол подвала, чтобы раненого не было видно с улицы.
Если поблизости не оказывалось никого из посвященных, кого можно было бы кликнуть на подмогу, старик перетаскивал генерала своими силами. Иногда на помощь ему приходил маленький сын парикмахера–соседа. Но мальчик редко сидел дома. Торчать в подвале, когда весь Мадрид воюет?! Для мальчиков было много дела на фронте: подносить патроны и воду бойцам, помогать относить раненых в безопасное место, своими быстрыми ногами заменять стоящие без бензина мотоциклы связистов, — о, дела было сколько угодно! И какого дела!..
Старик был в подвале днем и ночью — всегда, когда ни позвал бы Матраи. Старик так сжился с раненым, что ему казалось, они уже никогда не расстанутся.
По словам женщин, принесших раненого генерала из боя, его уже трижды дырявили осколки франкистских снарядов и пули фашистов. И всякий раз он, с еще не зажившею раной, возвращался в бой. И вот четвертая, тяжелая рана. А ведь послушать его бред — только одно и бормочут запекшиеся губы: "Вперед, ан аван, аванти" — и что‑то еще на языках, которых не понимал старый испанец.
Вперед?.. Странна природа человека!..
"Из чего, матерь божья, сделано тело этого человека? — думал старик. — Не из железа ли?.. А уж сердце‑то, наверно, стальное — из лучшей стали. Такую когда‑то ковали в Толедо". Хотел бы он знать, как ковано это сердце — в пламени ли великой ненависти или в светлом огне любви, не измеримой мерами земными?..
"Несть бо любви велия, нежели жизнь свою отдать за други своя", — вспомнились ему слова отца Педро.
Монах время от времени появлялся в квартале с требником и дароносицей. Он давал отпущение умирающим. Не позвать ли его и сюда — пусть поговорит с раненым. Старик послушал бы и узнал, наконец, кто прав — отец ли Педро и вся святая церковь или вот этот счастливый своими ранами страдалец, смеющийся над богом и проклинающий церковь со всеми монахами.
Когда Матраи стало полегче и ему захотелось поговорить, старик предложил позвать отца Педро, но раненый пригрозил ему:
— Если эта ворона узнает, что я тут, — нам с тобой не жить.
— Не клевещи, безумец! — в страхе зашептал старик. — Я брил лучших тореро Испании, таких, под ноги которым красавицы бросали свои мантильи. И я видел: они склоняли колена перед святыми отцами. Они все верили в бога.
Матраи смотрел на бормочущего старика, как на страшную загадку. Напрасно пытался он разгадать ее вот уже почти два месяца, что лежит в этом подвале. Быть отцом Луиса Санчеса и учиться мудрости у тореадоров! Самоотверженно ухаживать за ним, республиканским бойцом, революционером и коммунистом, с риском для жизни охранять тайну его убежища от фашистской сволочи и мечтать о том, чтобы привести сюда отвратительного монаха, который, вне всякого сомнения, тотчас донес бы пятой колонне и о раненом и о самом парикмахере…
Раненый с трудом переменил положение в постели, чтобы дать отдохнуть спине, на которой приходилось лежать почти все время. В руке старика он увидел газету:
— Что у тебя, Мануэль?
— "Мундо обреро".
— Покажи.
Старик развернул перед больным измятый лист. Тот пробежал глазами одну за другой обе полосы газеты, и взгляд его вспыхнул:
— Держи же, держи так! — Он старался уловить строки, прыгавшие в дрожащих руках старика. — Смотри‑ка, Мануэль! Смотри, где думают о нас: "Испанский народ и борющиеся товарищи! Мы, компартия Китая, антияпонская народная Красная армия и советы, рассматриваем войну, которую ведет испанское республиканское правительство, как самую священную войну во всем мире…"
Глаза раненого с жадностью впивались в строки:
— "Мы убеждены, что борьба китайского народа неотделима от вашей борьбы в Испании. Коммунистическая партия Китая своей борьбой против японского фашизма хочет воодушевить вас и помочь вам… Мы воодушевлены вашей защитой Мадрида… Многие товарищи, находящиеся в рядах китайской Красной армии, также хотели бы отправиться в Испанию… Угнетенные народы всего мира выражают вам свою солидарность и беспредельную дружбу…" Смотри, Мануэль, тут подписано "Мао Цзе–дун". Ты понимаешь, что это значит, Мануэль?!. Держи же ближе — я хочу видеть каждое слово!
— Нет, я уберу. Тебе не нужно волноваться.
— Дай сюда!.. Смотри на картинку: это китайский дом в пятнадцати тысячах километров отсюда.
— Слишком много, — качая головою, сказал старик, — я не могу этого сосчитать…
— На другом конце земли, там, где восходит солнце. И вот дом с драконами над дверью, а над драконами, видишь: "Salutamos les puebles bravissimos de la Espana". Они дерутся там за Испанию, так же как Испания дралась за них. Твой отец Педро вместе с Франко воображают, что стоит им задушить нас тут — и все кончено. Нет, старик! Чтобы задушить нас, они должны дотянуться и туда, за пятнадцать тысяч километров. Потому что мы там, как китайцы тут. Понимаешь?.. Не убирай этот лист…
— Ты все равно не можешь читать — у меня дрожат руки.
— Если Франко придет сюда, я поеду туда.
— За пятнадцать тысяч километров?.. Ты будешь ехать целый год.
— Они должны победить… И я хотел бы это видеть…
— Лежи же тихо, а то я унесу газету. Опять откроются раны.
Несмотря на еженощные визиты врача, раны Матраи заживали плохо. Раненому иногда казалось, что выздоровление идет так медленно потому, что приходится каждый день проделывать это мучительное путешествие от окна в глубь подвала и обратно.
А оставаться у окна днем было невозможно. Даже по улицам Пуэнте Ваекас все смелее шныряли подозрительные личности. Они заглядывали в окна, вынюхивали у дверей в поисках раненых бойцов республиканской армии, которых рабочие прятали по своим квартирам. Все говорило о том, что пятая колонна подымет голову. Попы в церквах изменили тон своих проповедей. Они призывали к свержению республики. Многие иностранные миссии — британская и американская и даже финская и греческая — укрывали заговорщиков. Всякий желающий принять участие в мятеже против республики мог получить оружие в британском и американском посольствах.
В таких условиях "интеровцу", да еще коммунисту, не сумевшему эвакуироваться с добровольцами из‑за тяжелых ран, угрожала смерть от руки заговорщиков. Вот почему Матраи приходилось дышать плесенью в дальнем углу подвала. Впрочем, и тогда, когда он лежал на постели под крошечным окошком, ему не удавалось набрать в легкие кислорода: его уже почти не осталось в Мадриде. Жители давно дышали кисловато–горьким смрадом пожарищ. Пожары возникали каждый день в десятках мест, куда падали бомбы фашистских "Юнкерсов" и "Капрони". Нехватало ни рук, ни воды, чтобы бороться с огнем. Он истреблял жилища, музеи, больницы, переполненные ранеными мадридцами.
Когда раздавался сигнал воздушной тревоги, старый парикмахер приваливал к дыре окна мешок с песком. В подвале становилось еще более душно. Легким раненого нехватало воздуха, на лбу набухала синяя жила, и кровь начинала пульсировать так, что, казалось, вот–вот она прорвет нежную ткань подживающих ран.
Но что значили эти страдания по сравнению с теми, какие причиняли известия, приходившие из мира, оставшегося по ту сторону сырых стен подвала! Вспомнить хотя бы то, что Матраи узнавал в последние две недели из обрывков газет:
В Англии "Тайме" еще замаскированно, а "Дейли мейл" уже совершенно открыто призывали правительства "великих держав" заставить Испанскую республику прекратить сопротивление.
Швейцария тоже признала Франко.
Признала его и Польша.
"Каудильо" обнаглел уже до того, что не пожелал принять Берара с "миссией Боннэ" и препоручил это своему министру иностранных дел Хордане.
Около двухсот тысяч беженцев — испанские женщины и дети — ждали у французской границы разрешения переступить ее, чтобы спастись от террора Франко. А Берар от имени Франции дал обещание Хордане, что Франция не только не впустит к себе этих несчастных, но заставит вернуться в Испанию и тех, кого приютила раньше.
Сердце раненого разрывалось, когда он читал все это. Страдания народа, который он полюбил, как родной, были во сто крат страшнее его собственных. Если бы он мог выйти отсюда, вернуться на фронт!
На какой фронт?..
Борьба в Каталонии была закончена.
Листеру, Модесто и Галосу с трудом удалось вернуться в Испанию, чтобы принять участие в боях за Мадрид. Мадрид — это уже все, что осталось у республики: ее кровоточащее, мужественное сердце.
Модесто!.. Листер!.. Быть с ними!
Была невыносима мысль, что и среди испанцев, назвавших себя республиканцами, находились способные сложить оружие. Первого марта президент Асанья покинул Испанию, и через день Париж подписал с Франко позорное соглашение о недопущении деятельности испанских республиканцев на территории Третьей республики. И это Франция! Торез, Кашен, Дюкло, найдите же слова, найдите средства сломить продажных правителей безумной Франции!
Кулаки раненого сжимались в бессильном гневе.
Петэн назначен послом Франции при фашистском правительстве Франко. Французский маршал приветствовал испанского разбойника, как "солдат солдата".
В этот день старый цирюльник возвратился с бесплодной вылазки за хлебом.
— Пора уходить…
Нет, раненый не думал об этом. Его мысли были заняты словами Петэна, сказанными генералу Франко:
"Обещаю вам: через французскую границу Республика не получит ни одного патрона, ни грамма хлеба, хотя бы это угрожало смертью всему ее населению. Ружья без патронов не стреляют, солдаты без хлеба валятся с ног. А когда солдаты узнают, что их дети и жены умирают с голода, они поднимают бунт и уходят по домам…"
Старый шакал знает, что такое война! Он понял, что нужно сделать для подрыва боеспособности армии. Но он ошибся на этот раз: солдаты республики были солдатами революции.
— Пора, — в беспокойстве повторял старик, но Матраи только скрежетал зубами от ненависти и досады:
— Если бы я мог быть там!..
— Еще будешь, если спасешься теперь.
— Товарищи знают, они придут, если будет нужно.
— А если… — старик напрасно пытался найти слова, которые не оскорбили бы слух генерала, хотя оба они отлично знали: там, впереди, где идет последний бой за Мадрид, теперь не до них.
— Тогда… значит, именно так и нужно, — твердо отвечал раненый.
Старик опустился на порог и, покачиваясь из стороны в сторону, сжимал кулаками голову. Его тусклые глаза наполнялись слезами. Слезы текли по морщинам, но старик не замечал, что плачет. Его взгляд был устремлен на лежащего в постели раненого. Старику было хорошо видно худое лицо — такое бледное, что оно казалось синеватым. Ему были видны беспорядочные клочья бороды. Между бородой и бровями, как две светлые звезды, блестели голубые глаза, ясные и добрые. Старик смотрел в них и думал о том, что, вероятно, все‑таки отец Педро не прав: не может быть грешником человек с такими глазами. Пусть он безбожник, пусть он…
Отвечая мыслям старика, раненый сказал:
— Если у палача нехватит для нас веревки, твой Педро предложит ему свой поясной шнурок… "Побольше страданий здесь, ради вечного блаженства там", — так сказал бы твой отец Педро.
— Так сказал бог, — послышалось по ту сторону порога.
Старик испуганно отпрянул. Перешагнув через его протянутые ноги, в подвал вошел монах.
— Отец Педро!
16
События в Испании развивались с быстротой, казавшейся катастрофической. Еще две недели тому назад поведение полковника Сехизмундо Касадо ни у кого не вызывало подозрений. То, что он взял тогда из 4–го анархистского корпуса батальон автоматчиков для охраны своего особняка, казалось естественным. И то, что он завел специальные пропуска для входа в дом, где находился его штаб, что он объявил этот штаб на особом положении, более строгом, чем все остальные военные учреждения республики, и даже, наконец, то, что он взял под контроль всю телефонную и телеграфную связь между Мадридом и фронтом, выглядело, как вполне законные меры предосторожности нового командующего Мадридским фронтом. Но так было вначале. Потом Касадо пустил в ход такие полицейские меры против всяких признаков свободы, что у многих возникло подозрение.
"Измена!"
Этот шопот окружал теперь особняк полковника.
Те, кто близко знал полковника, начавшего свою "республиканскую" карьеру с должности начальника личного конвоя президента Асаньи, в сомнении покачивали головами. Кое‑кто слышал, будто на пирушках, оставшись в окружении офицеров бывшей королевской армии, Касадо поворачивал портрет президента лицом к стене. Кое‑кто помнил анекдоты о левых деятелях республики, пущенные в обращение полковником.
Наконец Касадо во всеуслышание заявил, что считает правительство республики несуществующим. Он согласился с бежавшим во Францию начальником генерального штаба республики генералом Рохо в том, что гражданское правительство республики должно быть низложено и заменено "военной хунтой". Хунта нашла бы путь договориться с генералом Франко о "почетном мире".
Наконец стало известно, что образована и эта изменническая "хунта национальной обороны". Достаточно было услышать имена ее членов, чтобы понять смысл случившегося: это была уже открытая измена и контрреволюция.
Ничего иного нельзя было и ждать от социал–предателя "профессора" Хулиана Бестейро и выпестованного баскским миллионером Эчевариата прислужником испанских капиталистов — Прието.
Прокламации хунты гласили, что переговоры с Франко идут успешно и сулят бескровное окончание войны.
Артиллерия касадистов начала обстрел Мадрида. Снаряды падали даже в те районы, которые до сих пор не обстреливались. Авиация касадистов подвергла бомбардировке как войска, оставшиеся верными республике, так и самый Мадрид. Город стал ареной ожесточенных уличных боев. Стреляли везде. Днем и ночью. Мужественных мадридцев поддержали несколько батальонов 7–й дивизии, подоспевшие с фронта. Разбитые на две колонны республиканцы постепенно отвоевывали город от изменников. Но самым страшным было то, что фронт, противостоявший натиску франкистов, перестал быть монолитным. Касадо взорвал его. Изменнику удалось повести за собой несколько неустойчивых дивизий и 4–й корпус анархистов. Он двинул их на Мадрид, намереваясь подавить сопротивление частей, верных республике, руководимых Мадридским обкомом испанской компартии. Целью Касадо была сдача Мадрида генералу Франко. Таков был приказ, полученный от англичан.
Мадрид держался. В сердцах его защитников горел огонь борьбы. Диегес, Асканьо и другие коммунисты были душою обороны. Пятая колонна была частью уничтожена, частью попряталась. Нужно было захватить министерство финансов. В его прочных каменных подвалах скрывался со своим штабом предатель Касадо. И тут в игру была брошена еще одна карта врагов республики — генерал Миаха. Это был человек, сумевший втереться в доверие масс.
Появление Миаха в Мадриде в эти критические минуты было встречено с радостью. Ни у кого не шевельнулось подозрение, что этот двоедушный старый кадровик появился тут вовсе не для того, чтобы спасти республику, и не для того, чтобы умереть вместе с ее защитниками. Никто не знал, что генерал Миаха продался врагам республики. Если Касадо был картой английских шулеров, то Миаха оказался старой, потрепанной картой французов. Он появился в Мадриде для того, чтобы расколоть единство его защитников, чтобы взорвать фронт, уже готовый сомкнуться над головой предателя Касадо.
Это был последний удар в спину республики.
4–й корпус анархистов Киприано Мера, подтянутый касадистами с фронта, начал наступление на Мадрид — последнюю цитадель Испанской республики…
Из‑под сводов метро они вышли так, как если бы его тоннель всегда кончался тут широким выходом на поверхность. Тоннель глядел на свет черным зевом, над которым паутиной свисала арматура бетонного перекрытия и оборванные концы кабелей. Эти кабели торчали во все стороны, как перебитые жилы и нервы изуродованного города.
Выбраться из котлована, в котором они очутились, не стоило большого труда: на вздыбленных взрывом рельсах подземки, как на мосту, лежала целая секция квартирной перегородки. На ней еще уцелели обои и обрывок того, что недавно было ковром.
То прижимаясь к стенам полуразрушенных домов, то совершая короткие перебежки и снова застывая при звуке приближающегося снаряда, все трое пробирались по загроможденным развалинами закоулками Пуэнте Ваекас. Нед Грили и Гемфри Нокс были в штатском. Но ни покроя их костюмов, ни цвета уже нельзя было различить под густым слоем известковой пыли и копоти. Луис Санчес был одет в "моно" — серый комбинезон бойца республиканской армии. Он не выпускал из рук карабина. На поясе у Санчеса виднелась затертая кобура пистолета и гранаты. Он двигался уверенней остальных. Он знал в этом рабочем предместье каждый камень, хотя снаряды превратили переулки в каменный хаос. Здесь Санчес родился, здесь рос, сюда возвращался каждую ночь из депо, когда был еще машинистом, а не бойцом республики.
Сквозь широкие проломы было видно все, что творилось внутри домов. Достаточно было Санчесу увидеть вон ту похожую на старую телегу кровать тетки Асенсии, чтобы безошибочно повернуть здесь налево. За углом Санчес непременно увидит сейчас слесарню старого Витторино с его гордостью — поворотными тисками. Вот, так и есть! Верстак, правда, исчез, наверно употребили на топку, но тиски валяются. Теперь остается несколько шагов до следующего поворота, а там второй вход налево — подвал отца, если… если только от него еще что‑нибудь осталось…
Санчес остановился, чтобы подождать спутников. Англичане отстали. Нед заметно прихрамывал. Правда, он мужественно скрывал боль в ушибленной ноге, но все же поспеть за другими не мог. Иногда Нокс протягивал ему руку, но тут же отводил ее под укоризненным взглядом летчика.
Санчес стоял, прижавшись спиною к остаткам каменной стены, и пытался по каким‑нибудь побочным признакам определить, что ждет его за поворотом. Он попробовал было крикнуть, но понял, что не в силах перекричать шум борющегося города. Стук то и дело падавших камней, шорох оползающих стен, похожий на шум, издаваемый прибрежной галькой, когда с нее сбегает вал прибоя, удары осколков по ставням лавок и разрывы, разрывы, разрывы…
Нед подошел и прислонился к стене рядом с Санчесом. Нокс достал пачку сигарет.
Курили медленно, чтобы дать передышку Неду.
Нокс спросил Санчеса:
— А ты уверен, что генерал там?
Санчес молча пожал плечами: откуда он мог знать? Он был тут в последний раз две недели назад. Тогда и переулок был еще переулком. И дома в нем были похожи на дома. Отвечая больше своим собственным мыслям, чем Ноксу, он еще раз повел плечами.
— Иначе зачем мы здесь? — сказал Нокс. — Не каждый день удается теперь получить автомобиль.
Нед усмехнулся:
— Если бы они знали, кого мы собираемся на нем вывезти!
Санчес не понимал того, что они говорили.
— Пойдем?
И хотя с акцентом, от которого не может отделаться ни один англичанин ни в одном языке, но довольно чисто Нед ответил по–испански:
— Пойдем.
Санчес скинул карабин с ремня и побежал вдоль стены. Через несколько мгновений его серый "моно" слился с облаком пыли, поднятой упавшей трубой. Было только видно, что Санчес завернул за ближайший угол. Нед, прихрамывая, побежал следом. За ним не спеша, широкими шагами двинулся Нокс…
Мануэль скорее умер бы, чем решился нарушить приказ своего духовника и войти в подвал, где тот беседовал с раненым. Старик сидел на каменных ступенях, подперев голову кулаками, и смотрел на проходивших мимо подвала людей. Это были последние жители Пуэнте Ваекас. Они покидали свое предместье. Когда придет Франко, за ними начнется охота. Им уже обещали: это будет такая охота, какой они не видывали со времен Торквемады.
Люди шли, нагруженные тем, что могли взять с собою. Старики и мальчики несли узлы, завязанные в пестрые платки. Руки женщин были заняты грудными детьми. Иногда грудных несли девочки, а матери, тяжело волоча ноги, тащили больных.
У испанцев, покидавших свои дома, не было детских колясочек, в которых через год миллионы французов повезут свои чемоданы из Парижа. Обитатели Пуэнте Ваекас были слишком бедны для такой роскоши. В лучшие времена, когда им случалось переезжать из одного подвала в другой, они занимали у знакомого землекопа тачку. В ней умещался их скарб. Но теперь у них не было даже тачек. Да и кто повез бы эти тяжелые тачки? Ведь все мужчины на фронте!
Старый Мануэль сидел на пороге своего подвала, уронив голову на колени, и следил за вереницей ног в деревянных башмаках или вовсе без башмаков, ступавших по острым обломкам того, что еще вчера было их жилищем. Морщины старика делались все глубже. Глаза его, устремленные на беглецов, становились все мутней и мутней. Он сидел неподвижно. И можно было подумать, что он уже умер от горя. Лишь иногда он отрицательно покачивал головой в ответ на крики женщин, звавших его с собой.
— Уходи, Мануэль! Франко не погладит тебя по головке, хотя ты и брил когда‑то знатных сеньоров, — сказал, остановившись подле него, старик, такой же ветхий, как он сам.
— Иди, а то отстанешь от своих, — сказал Мануэль, но когда слесарь Витторино сделал уже шаг прочь, вдруг остановил его: — Погоди‑ка! — Порывшись за пазухой, он протянул несколько серебряных монет: — Тебе пригодятся.
— Что ты!
— Мне‑то они уже, наверно, не понадобятся. — И с усмешкой, вдруг искривившей все морщины на его лице, добавил: — Веревку‑то Франко наверняка дает бесплатно…
Смех причинил Матраи боль. Но он заставил себя засмеяться. Это был самый короткий ответ, который он мог дать монаху.
— Даже если бы вы обещали мне не вечное спасение, а только спасение от лап Франко, я и то послал бы вас ко всем чертям, — с трудом выговорил Матраи.
— Вы и сами не понимаете, как близко подошли к сути дела, — без тени раздражения ответил священник и небрежно сунул за пазуху требник и дароносицу, которую до того держал на коленях, как святыню. Он действовал, как артист, роль которого была сыграна и который торопится освободиться от надоевшей бутафории.
По лицу монаха пробежала усмешка. Она так противоречила аскетической строгости его черт, за минуту до того словно окаменевших во вдохновенном созерцании всевышнего, что Матраи почудилось, будто перед ним появился другой человек. Генерал не был таким уж новичком в общении с католическими священниками. Венгр по происхождению, сын католиков, он знал цену сутане иезуита.
Продолжая улыбаться, словно он сообщал нечто необыкновенно приятное, Педро проговорил:
— Мы можем быть откровенны. Я потому, что уверен: вы уже никогда и никому не сможете передать того, что услышите… Вы потому, что когда стоишь перед виселицей, терять уже нечего… По милости всевышнего, можно только неожиданно обрести… Это подвиг, когда от жертвы польза другим, и бессмыслица, когда — никому. А в данном случае… — Педро развел руками и замер, как ворон, распустивший крылья. — Не лучше ли сохранить жизнь, если есть возможность? Милосердие божие не знает границ… Если бы вы согласились посмотреть на вещи трезво, отбросив коммунистические иллюзии…
— Вам лучше уйти, — негромко сказал Матраи.
— Я должен дать вам представление о солидности гарантий, которые вы можете получить…
— Уйдите!..
— Бог и церковь дают не только тем, кто просит. Кроме жизни, мы гарантируем вам такое обеспечение, о каком не мог бы мечтать ни один генерал вашей республики. Взамен мы потребовали бы от вас одного…
Он запнулся, так как в этот момент его глаза встретились со взглядом Матраи.
Острая боль в легком мешала Матраи крикнуть. Он задыхался и смог только еще раз прошептать:
— Уходите!..
Но иезуит не унимался:
— Вас смущают условности. Стоит ли думать о них на пороге такого решения: жизнь или… — Он поднял взгляд к потолку. — Не спорю, по ту сторону вы обретете вечность, но я не позавидую такой вечности. Подумайте о муках, ожидающих вас, — вечных муках, генерал… А если вы сделаете правильный выбор, святая церковь отпустит вам все грехи, вы насладитесь жизнью в этом мире и вечным блаженством там. Это мы вам гарантируем так же, как выплату по чеку на любой банк мира.
Раненый потянулся к глиняной кружке, из которой поил его старый цирюльник. Напрягши силы, он поднял ее и швырнул в монаха. Это было так неожиданно, что Педро едва успел отскочить. Бледный от гнева, он поднял распятие, висевшее на четках, и, отмахиваясь им от раненого, как от привидения, провизжал:
— Будь проклят!.. Будь проклят!..
При этом, словно боясь, что раненый поднимется с постели и ударит его, он пятился к двери, пока не нащупал ее свободной рукой. Но дверь за его спиною распахнулась, и он во весь рост растянулся поперек порога. В подвал вбежали Санчес и Нокс.
Санчес схватил иезуита под руки и поволок из подвала. Нокс взглянул на искаженное гневом лицо Матраи, шептавшего:
— Жаль, что мы не расстреливаем попов, хотя девять из десяти заслуживают этого!..
Санчес вытолкнул Педро на улицу.
— Убирайся! Уходи!
Иезуит привычно–театральным движением поднял руку, громко проклял дом старого Мануэля со всеми его обитателями и побежал прочь.
Санчес насмешливо крикнул ему вслед:
— Пригнитесь, а то ненароком снаряд, освященный самим папой, отправит вас в царствие небесное!
Священник приостановился и крикнул визгливо, как старуха на рынке:
— Господь знает, кого поразить своим гневом! Он сметет вас всех одним ударом… Слышите, всех!
Санчес уже не слышал, что выкрикивали еще двигавшиеся губы Педро. Все заглушил близкий разрыв снаряда. Санчес видел, как покачнулась стена, под которой стоял монах, как по ней побежала трещина, как эта трещина делалась шире.
Педро бросился прочь от падающей стены. Из‑за пазухи у него выпала дароносица и исчезла под сыплющимися сверху кирпичами. В тот же миг стена рухнула, словно спеша настичь убегающего иезуита. Серая сутана смешалась с серыми камнями. Все заволокло облако известковой пыли. Санчес прыгнул в подвал и захлопнул за собою дверь.
Когда затих грохот обрушившейся стены и можно было расслышать человеческий голос, Санчес вытянулся перед Матраи и отдал честь:
— Генерал, мне приказали привести к вам этих людей. Мне сказали, что они увезут вас.
Нокс склонился над постелью:
— Вы, конечно, не помните меня: я пришел к вам в бригаду в ту ночь, когда вас ранило осколком фашистской авиабомбы.
Матраи вгляделся в лицо Нокса:
— Я никогда не забуду тех, кто пришел сражаться вместе с нами… Вы — англичанин… Вашего летчика расстреляли итальянцы…
— Вот он, — Нокс потянул за руку Неда. — Его недострелили. — И рассмеялся: — Крепкие кости. Теперь ему удалось бежать из франкистского плена. У нас есть автомобиль. Мы доставим вас в Валенсию.
Взгляд Матраи обратился к Мануэлю. Все поняли.
— Постараемся поместиться… — неопределенно сказал Нед.
— Нет! — старик покачал головой. — Я тут родился, тут и умру… Поезжайте!
17
Все случилось именно так или почти так, как предсказывала Мэй. В одну из ночей, когда вся бригада — Стил, Тони и Джойс — спокойно спала в своем сарае, старая постройка вдруг загорелась одновременно с четырех углов. Джойс сразу понял, что случилось.
— Ку–клукс–клан!
Сознание Стила обожгла мысль: "Автомобиль!" Дряхлый шевролетик, на котором все трое приехали сюда, стоял под навесом вместе с трактором и сельскохозяйственными машинами шагах в пятидесяти от сарая, где жили механики. Спасение сейчас зависело от того, удастся ли им добраться до навеса, прежде нем пламя осветит всю окрестность. Свет даст возможность бандитам, залегшим, вероятно, вокруг усадьбы на расстоянии прямого выстрела, сделать свое дело.
Все трое были солдатами. Бои на улицах испанских городов в дыму и пламени пожаров, на пустынных горных плато Гвадаррамы и в садах Каса дель Кампо дали им опыт, которого не было у куклуксклановцев. Те привыкли нападать на беззащитных негров или на одинокие фермы коммунистов, бессильных сопротивляться многочисленным шайкам фашистов.
Две короткие перебежки в полной тишине — и все трое были под навесом. Это было проделано так стремительно, что даже Тони не успел задохнуться, только неистово заколотилось его больное сердце. Дребезжа всеми гайками, шевролет рванулся с места. Вслед беглецам щелкнуло несколько растерянных выстрелов. Прошло не меньше двух–трех минут, пока Миллс понял, что произошло, и его банда устремилась в погоню на двух автомобилях. Но в свете их фар беглецов уже не было. Только вдали мелькал красный задний фонарик шевроле, который Стил впопыхах не догадался разбить.
Проселок спускался в глубокую выемку к ручью.
— Сейчас я врежусь в перила моста, и мы подожжем автомобиль, — сказал Стил.
— Жалко, — плачущим голосом пролепетал Тони.
— Оттуда с полмили до станции. Иначе они нас накроют.
— Мне не добежать, — сказал Тони.
— Значит, тебя повесят, — ответил Стил.
У Стила не было времени для раздумья. Впереди белел уже новый деревянный настил моста.
— Держись! — крикнул Стил.
Все трое едва не вылетели из автомобиля, ударившегося радиатором в перила. Одно из передних колес повисло в воздухе. Клочок бумаги, сунутый под бак, спичка — и все трое пустились бежать на высокий берег. Тони упал, задыхаясь. Джойс и Стил подхватили его под руки и потащили в гору. Ветви деревьев били их по лицам. Тело Тони проделывало борозду в примятых кустах. Но, так или иначе, они были уже на станции.
— Сколько у нас денег? — спросил Стил.
Джойс запустил руку в карман и подал Стилу все, что там было. Тони сидел на земле, привалясь к стене и откинув голову. Дыхание у него вырывалось со свистом.
При свете станционного фонаря Стил расправил несколько смятых долларовых бумажек.
— Хватит.
И уверенно направился к стоявшему на пути товарному составу. Джойс взвалил на спину безвольное тело Тони и зашагал через рельсы следом за Стилом.
Трясясь в порожнем вагоне из‑под угля, они неслись к Нью–Йорку. Тони спал в уголке, подобрав под себя короткие ноги.
Джойса вдруг словно кто‑то толкнул в бок. Он сел, опираясь ладонями в пол, коловшийся крошками каменного угля, и вгляделся в темное пространство вагона. Не видя Стила, озабоченно проговорил:
— А ты уверен, что именно так и нужно: уехать?
— Спи, Хамми…
— Нет, ты скажи: уверен?
— Уверен, только отстань.
— Я вернулся в Штаты не для того, чтобы бежать при первой стычке с этим сбродом… Тут мы должны продолжать то, что начали в Испании.
— Мы так и сделаем, Хамми… Спи…
— Я не хочу уезжать.
Стилу очень хотелось спать, но он терпеливо сказал:
— Видишь ли, Хамми, из меня сделали не только механика, но и солдата. Мне кажется, что лучше приложить уменье солдата там, где в нем нуждаются, чем ходить тут в поисках работы. Ты же видишь: к самолетам нас уже не допускают — мы торчим на тракторах. А теперь хозяева Миллса позаботятся о том, чтобы нас внесли в черный список, — не подпустят и к тракторам. Так чего же тут искать?.. Голодной смерти?
— Мы же можем явиться в исполнительный комитет партии и сказать: "Дайте нам такое поручение, чтобы…"
Стил не дал ему договорить:
— Туда‑то мне и не хочется итти.
— Я тебя не понял, — удивленно проговорил негр. — Мы можем пойти прямо к товарищу Браудеру.
— Именно к Браудеру‑то я и не пойду.
— Не морочь мне голову, Айк, — рассердился Джойс. — Что ты мне морочишь голову!
— Мне не нравится Браудер.
— Ты рехнулся, Айк!
— К сожалению, нет. Слышишь, Хамми: я говорю "к сожалению". Потому что это действительно отчаянно плохо — то, в чем я уверен насчет Браудера.
В вагоне воцарилось молчание.
Свет уже пробивался в откинутый железный люк, когда Джойс разбудил Стила:
— Что же мы должны сделать?
— Ехать туда, где мы нужны.
— В Китай?
Три дня ушло на отыскание в Нью–Йорке китайского генерала Фан Юй–тана. И вот все трое сидели в его приемной. Собственно говоря, это была всего лишь прихожая номера, занимаемого китайским генералом в одном из нью–йоркских отелей. Отель был второклассный, номер не слишком роскошный, прихожая крошечная.
К друзьям вышел секретарь генерала — маленький плотный китаец с широким, чисто выбритым лицом, главной деталью которого были большие очки в черепаховой оправе. Сделав рукою движение, адресовавшее его слова всем троим он сказал, что целью прибытия его превосходительства генерала Фана в Соединенные Штаты вовсе не является вербовка специалистов в китайскую армию. Тем не менее его превосходительство генерал Фан, в виде исключения, рассмотрел предложение господ Стила, Джойса и Спинелли. Его превосходительство генерал Фан полагает, что дело может быть решено в общих интересах, поскольку оно касается авиационных специалистов мистера Стила и мистера Джойса.
— Разумеется, — тихо сказал секретарь, — его превосходительство генерал Фан не сможет дать господам Стилу и Джойсу того положения, которое у маршала Чан Кай–ши занимает их соотечественник — мистер Джеймс Дулитль. Они не будут советниками его превосходительства генерала Фана по вопросам авиации, как мистер Дулитль у маршала Чан Кай–ши. Мистер Стил и мистер Джойс будут только техническими специалистами.
Китаец улыбнулся и вопросительно посмотрел на обоих. Тот и другой ответили молчаливыми кивками согласия.
— Что же касается мистера Спинелли, — продолжал секретарь, — то его превосходительство генерал Фан не пони мает, в каком направлении могло бы быть использовано музыкальное дарование мистера Антонио Спинелли в Китае. Его превосходительство генерал Фан особенно подчеркивает, что он не представляет в Штатах ни национального китайского правительства, возглавляемого его высокопревосходительством маршалом Чан Кай–ши, ни правительства особого района, возглавляемого господином председателем Мао Цзе–дуном. Его превосходительство генерал Фан является в Соединенных Штатах совершенно частным лицом, представляющим лишь некоторые прогрессивные круги. Его превосходительство генерал Фан полагает, что мог бы в порядке совершенно частной услуги предложить господам Стилу и Джойсу сопутствовать ему в обратной поездке в Китай. Его превосходительство генерал Фан намерен совершить это путешествие через Европу и Советский Союз. Необходима уверенность, что ни японцы, ни их китайские приспешники, ни некоторые другие тайные и явные пособники китайской реакции и японского империализма не помешают его превосходительству генералу Фану достичь в Китае пункта, который являлся целью его путешествия — ставки Восьмой армии, находящейся под командованием его превосходительства генерала Чжу Дэ. Его превосходительство генерал Фан полагает, что именно там господа Стил и Джойс смогут применить свои знания в области авиационной техники с тою пользой для обеих сторон, о которой говорится в их прекрасной записке. Далее его превосходительство генерал Фан считает необходимым предупредить господ Стила и Джойса, что не может подписать с ними никакого контракта. Он от всего сердца благодарит мистера Стила и мистера Джойса, но не может обещать им достойного вознаграждения за их прекрасное намерение быть полезными военной авиации Китая. Его превосходительство генерал Фан обещает лишь, что все путевые издержки господ Стила и Джойса от Нью–Йорка до цели будут взяты им на себя в пределах необходимости, достойной прекрасного поступка господ Стила и Джойса…
При последних словах китаец любезно улыбнулся и склонил голову.
Совершенно ошеломленный его тирадой Тони стоял как окаменевший. Тони даже прижал к груди измятую шляпу. Он не слишком хорошо понял то, что относилось к нему самому. Язык китайца очень мало был похож на тот, которым его научили объясняться тут, в Америке: китаец говорил на прекрасном английском языке.
Когда китаец окончил речь, Стил обернулся к Тони:
— Ты понял?
Тони отрицательно мотнул головой.
Стил в двух словах объяснил создавшееся положение. Он спросил Джойса:
— Как быть?
— Мы не можем оставить Тони, — ответил негр.
Тони сказал:
— Если генерал Фан возьмет меня хотя бы в качестве повара, я согласен.
— Зачем ему повар? — удивленно спросил Джойс.
— Никто во всем Китае не сумеет ему приготовить макароны так, как я!
18
До последнего времени валенсийское шоссе оставалось единственной нитью, связывавшей истекавшую кровью столицу свободной Испании с морем, то–есть с миром. Но вследствие измены касадистов и это шоссе оказалось под вражеским контролем. Касадо блокировал защитников Мадрида. Его старания были направлены к тому, чтобы не выпустить из окружения ни одного коммуниста и дать возможность Франко захватить костяк армии республики.
Матраи уложили в маленький старый автомобильчик.
Посмотрев на него, Санчес в сомнении покачал головой.
— На этой машине вы не доедете до Валенсии, — сказал он.
— Важно это! — ответил Нед, потрепав английский флажок, прикрепленный к крылу автомобиля.
— И это не спасет вас, если изменники обнаружат генерала, — возразил испанец. — Ехать на Хетафе нельзя. Нужно выбраться на Алькала‑де–Энарес, оттуда повернуть на Арганду, а может быть, и еще дальше обогнуть патрули касадистов.
— Говорят, что нужно так или иначе добраться до Таранкона. Там наши, — сказал Нокс.
— Да… Но пока вы попадете в Таранкон…
— Выхода нет — едем на Энарес, — решительно заявил Нед. Он протянул руку Санчесу: — Быть может, все‑таки… поедете с нами?
— Я вернусь в свой батальон.
— Вы, может быть, его уже и не найдете.
— Любой батальон республики — мой, — ответил испанец.
— Я буду гордиться тем, что знал вас… — сказал Нед. — Передайте товарищам, что многие англичане будут продолжать борьбу за ваше дело у себя в Англии.
— Они проиграли битву там так же, как мы проиграли ее здесь, — с грустной улыбкой сказал Санчес.
— Если будет нужно, мы снова придем сюда.
— Кто знает: придете вы сюда или мы туда?
Глядя вслед удаляющемуся автомобилю, Санчес держал в руке смятый берет, потом повернулся и, закинув за спину винтовку, широким солдатским шагом пошел к дымящемуся Мадриду.
Чем дальше ехали англичане, тем запруженнее становилось шоссе. С выходом на главную валенсийскую дорогу двигаться удавалось только обочиной. Поток людей стремился на восток. Они шли пешком, одни налегке, другие нагруженные скарбом. Одни надеялись покинуть Испанию, чтобы избежать террора франкистов. Другие не хотели верить в поражение и думали, что в Валенсии они снова получат оружие, чтобы драться за республику. Но ни те, ни другие не хотели оставаться на месте. Ни те, ни другие не хотели оставаться во власти Франко, ходить по одной с ним земле, дышать одним воздухом.
Прошло не меньше суток, пока Неду и его спутникам удалось добраться до Валенсии. Улицы города были тоже забиты клокочущим потоком беженцев. Масса людей заполняла набережные в тщетной надежде, что какой‑нибудь из многочисленных пароходов, стоящих в порту, приблизится к дебаркадерам, чтобы принять эмигрантов. Но вместо того английские, французские и американские капитаны отводили свои пароходы все дальше от берега. Нед стоял в оцепенении: десятки тысяч молчаливых людей на набережной — с одной стороны, и десятки пароходов под флагами "великих демократий" — с другой. Это было нечто большее, чем мог понять Нед.
Вдали виднелся силуэт военного корабля. Нед без труда узнал от окружающих, что это британский крейсер "Дидона".
Вскоре от борта крейсера отделился моторный катер и направился к берегу. Он несколько раз проплыл взад и вперед мимо причала. Можно было подумать, что офицер отыскивает место, где можно пристать без риска быть раздавленным толпой, с ненавистью смотревшей на английский флаг. Наконец, не найдя безопасного места, офицер поднялся на корме катера и приложил ко рту мегафон.
— Мистер Грили! — крикнул он. — Мы ищем мистера Эдуарда Грили!..
Нед поднял руку и помахал шляпой. "Неужели старина Бен?!" — удивленно подумал он.
Катер приблизился:
— Мистер Грили?
Нед вынул паспорт и, не задумываясь, с размаху бросил его офицеру.
— Эти дикари не утопят катер, если я пристану, чтобы принять вас и вашего спутника? — с издевкой спросил офицер.
Нед повернулся к толпе. Он объяснил, что английские моряки хотят принять генерала Матраи на борт своего крейсера. Толпа ответила радостным криком:
— Да здравствуют английские моряки!
В это время Нед с разочарованием заметил, что ни он сам не сможет добраться до того места, где стоят носилки Матраи, ни их нельзя поднести к берегу. Чтобы очистить проход в плотной массе людей, первым рядам пришлось бы броситься в воду. Но прежде чем он сообразил, что можно сделать, носилки с раненым генералом поднялись над толпой. Передаваемые с рук на руки, носилки медленно двигались над многотысячной толпой испанцев. Руки мужчин тянулись к беретам и солдатским пилоткам. Женщины снимали платки и высоко держали их, так что ткань грустно колыхалась на слабом ветру, как прощальные флаги.
Когда носилки спустили в катер, Матраи попросил посадить его. Ни единым звуком не выдал он страшной боли в спине. Только еще большая бледность залила исхудалое лицо. Одну минуту он сидел с закрытыми глазами. Потом обвел взглядом толпу:
— Товарищи… братья… мы еще свидимся… мы будем драться… мы победим… — слабым голосом проговорил он и без сил упал на носилки. Но его слова, подхваченные передними рядами, как шопот ветра, из уст в уста облетели толпу.
Матрос поднял багор и оттолкнул катер от стенки. Над притихшей пристанью раздался чей‑то негромкий голос:
Фронтовые товарищи, пойте все,
Пусть другие песни молчат…
Мы песнь о харамском фронте споем,
Где погиб не один наш брат.
К одинокому певцу тотчас присоединились несколько голосов:
Гранаты рвали нас на куски,
Мы в руках винтовки сжимали.
Мы крепили своими телами Мадрид,
Мы Аргандский мост защищали.
Многие тысячи бойцов: крестьяне, рабочие, мужчины и женщины, пришедшие сюда из охваченного огненным кольцом сердца республики, посылали прощальный привет генералу.
А теперь в долине, вдоль наших траншей,
Ковер расстилается алый.
Над могилами красные маки цветут,
Где так много достойных пало…
На берегу не было больше никого, кто не присоединился бы к песне. Она неслась вдоль берега в подступившие к морю горы:
Но позднее и всюду, и всегда,
Где б семья ни сошлась трудовая,
Будет песня о харамской битве греметь,
На борьбу сердца поднимая.
Катер приближался к "Дидоне". Сквозь стук мотора до сидевших в катере все слабее доносилось:
И когда наш час желанный придет
И побьем мы всю вражью свору,
Люди мира придут на харамский фронт,
Как в февральскую пору…
Когда Нед со спутниками поднялся на борт крейсера, выяснилось, что он вовсе не тот Эдуард Грили, которого высадили в Гибралтаре. И Матраи не был тем пассажиром, ради которого корабль его величества "Дидона" совершил плавание из Портсмута к берегам Пиренейского полуострова.
Заработало радио. Командиру крейсера было приказано следовать в Гандию.
Туда же, таясь от глаз испанцев, помчался роллс–ройс британского посольства.
В ночь с 18 на 19 марта моторный катер "Дидоны" подобрал Роу на берегу близ Гандии Роу сопровождал маленький смуглый человек лет пятидесяти. Широкий, с чужого плеча штатский костюм мало подходил к его военной выправке. Это был изменник полковник Касадо.
На рассвете "Дидона" подняла якорь. Скоро испанский берег скрылся из глаз стоявшего возле иллюминатора Неда.
— Вот и всё, — проговорил он, не оборачиваясь.
Из глубины каюты послышался слабый голос Матраи:
— Ты его больше не видишь?
— Нет.
Матраи отвернулся к переборке.
После минутного молчания он спросил:
— А ты не думаешь, что эти господа выкинут меня за борт, как только узнают, кто я такой?
— Над нами витает дух моего великого брата Бена, — с шутливой торжественностью провозгласил Нед. — До Англии‑то нас наверняка довезут.
— Ну, а там есть советский посол. Значит, все в порядке.
— Безусловно, все в наилучшем порядке.
В тот же день, 19 марта 1939 года, при гробовом молчании народа, сопровождаемый немецким и итальянским генералами и окруженный эскортом из мавров, на Пуэрта дель Соль въехал агент британской секретной службы, немецкий резидент, эмиссар американо–англо–германо–французских капиталистов на Иберийском полуострове Франсиско Франко и Багамонде.
Залитая кровью народа, закрылась еще одна страница истории борьбы вольнолюбивых испанцев за свободу и счастливое будущее своей прекрасной отчизны.
Но на этой перевернутой странице не окончилась история испанской революции… Борьба продолжалась…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Союз с коммунизмом означает
жизнь, борьба с ним означает смерть.
Мао Цзе–дун1
Разгуливая по Генуе, Стил и Джойс томились ничегонеделанием. Тони с ними не было. Его взял с собою Фан Юй–тан, чтобы не пользоваться наемными гидами и переводчиками на пути к Риму. В Риме у генерала были дела. А Тони был готов на все, только бы попасть в Китай. Там он рассчитывал отделаться от своих обязанностей генеральского повара и стать тем, чем должен быть всякий честный человек в подобных обстоятельствах, — солдатом армии Чжу Дэ. Он завидовал своим друзьям. Их функции были ясны уже сейчас: ознакомление авиационных механиков китайской армии с захваченными у японцев американскими самолетами и моторами. А Тони ничего не смыслил в механике. Он мог надеяться только на свое горло, на умение держать винтовку да на собственный энтузиазм. Хотя маленький секретарь Фан Юй–тана и заявил, что 8–я армия не нуждается в подобной помощи, но Тони был уверен: еще одна пара рук, умеющих обращаться с пулеметом, никогда не будет лишней.
А пока, освобожденный от необходимости угощать генерала макаронами, Тони ревностно выполнял обязанности гида. То он тащил грузного китайца на развалины бань Каракаллы, то пытался подавить его зрелищем замшелых остатков Колизея:
— Здесь происходило безобразие, которое пытаются изобразить писатели многих наций. С того вон края выходили на арену гладиаторы. Вон там была расположена ложа императора. Девяносто тысяч глоток вопили "добей его!" или требовали пощады какому‑нибудь германцу или галлу. От одного движения пальца потерявшего человеческий облик кретина–императора зависела жизнь человека, а то и целой толпы людей.
— Как это от движения пальца? — спросил Фан Юй–тан.
— Вот так, — воскликнул Тони, движением коротенькой руки пытаясь изобразить то, что происходило в императорской ложе две тысячи лет назад.
Под конец прогулки они взобрались на холм, с которого открывался вид на Рим. Генерал взглядом отыскал в море грязных крыш золотую махину купола святого Петра.
— А мы могли бы побывать в Ватикане? — спросил он, смеясь. — Когда‑то я был католиком.
— Нет ничего проще, — ответил Тони.
Фан Юй–тан водрузил шляпу на свою большую крутолобую голову, покрытую коротко остриженной щетиной волос, и направился в гостиницу, чтобы переодеться к визиту в Ватикан. Но вдруг по дороге генерал потребовал, чтобы Тони свел его на Виа дельи Орсини. Эта "виа" оказалась темным узким проулком с невзрачными серыми домами в три этажа. Среди этих домов Фану понадобилось отыскать мало чем отличающийся от них палаццо Педиконе. Остановившись перед его мрачным фасадом, Фан Юй–тан полушопотом проговорил:
— Второго марта тысяча восемьсот семьдесят шестого года здесь родилось дитя, нареченное Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли… Блаженно чрево, носившее тебя!
Китаец сощурил маленькие глазки и с недоверчивой улыбкой еще раз оглядел мрачное здание.
— Так рассеиваются вредные иллюзии, — сказал он.
Еще задолго до того, как белая "фумата" взлетела над трубою Сикстинской капеллы и прежде чем старейший из кардиналов конклава осчастливил собравшихся на площади традиционным возгласом: "Nuncio vobis gaudium magnum: habemus papam!" и огласил имя избранника — высокопреосвященнейшего и достопочтеннейшего господина кардинала Эудженио Пачелли; за много недель и даже месяцев до того, как кардинал–коронатор подал высокопреосвященнейшему и достопочтеннейшему венец с формулой двадцативековой давности: "Прими трехвенечную тиару и знай, что ты отец князей и королей, владыка мира на земле, наместник господа нашего Иисуса Христа, коему честь и слава мира без конца"; задолго до этого помпезного представления, разыгранного актерами в пурпурных и лиловых мантиях, сам Пачелли и все, кому следовало знать, знали: он уже девять лет хозяйствует в папском Риме и хозяином его останется.
Когда Эудженио Пачелли, он же Пий XII, переселился из покоев папского статс–секретаря в покои самого "отца князей и королей", в распорядке ватиканской жизни ничего не изменилось.
В тот памятный для Фан Юй–тана день 1939 года, когда он должен был предстать перед новым папой, жизнь его святейшества началась так же, как начиналась всегда. В восемь часов камерарий Джованни Стефанори на цыпочках вошел в опочивальню, где под парчевым пологом стоит большая медная кровать наместника Петра, и раздернул оконную штору. Через пять минут святейший уже с удовольствием плескался в ванне, оборудованной по последнему слову банной техники. Еще через десять минут Стефанори подал святейшему шерстяные кальсоны и приступил к его туалету. Все делалось быстро под ловкими руками камерария, пока дело не дошло до бритья. Эту операцию Пий привык совершать сам. Он пользовался электрической бритвой. Папа любил этот прибор. Он тщательно следил за тем, чтобы появляющиеся на рынке новые модели электрических бритв не миновали его. Новый папа вообще любил новинки техники в личном быту: диктофоны и смесители воздуха, холодильники и радио — все, что делало более сносной жизнь в древних стенах Ватикана.
Пока Пий привычной скороговоркой шептал молитвы в маленькой капелле, примыкающей к спальне, в столовой накрывался завтрак. Много ездивший по свету Пачелли пристрастился к испанской кухне и пользовался только ею. Но как это ни смешно, испанские блюда готовили ему немки, — несколько дебелых баварских монахинь, вывезенных им из нунциатуры в Германии.
Пий уселся в столовой за резной ореховый стол. Над его головой, между двумя буфетами, стоящими у противоположных стен, с писком запорхали две канарейки — любимицы святейшего. Их всегда выпускали из клеток на то время, пока папа ел. Напротив папского прибора им ставились два блюдечка с зерном.
К концу завтрака канареек опять заманивали в клетки.
Пий любил поиграть с птицами. Просунув длинный палец между прутиками клетки, он посюсюкал тонкими губами:
— Тю–тю–тю… Мы сегодня в хорошем настроении?.. Тю–тю–тю…
Испуганные птицы, забившись в угол клетки, часто мигали, их желтые перышки испуганно дыбились.
Апостольскому любителю птах не приходило в голову, что в этот же миг в северной половине Европы Гитлер пытается просунуть корявый палец с обгрызанным ногтем в такую же клетку и, вытянув губы, сюсюкает:
— Сисси сегодня хорошо спала?.. Тю–тю–тю…
…Лифт спустил святейшего из третьего этажа во второй. Там, в так называемой библиотеке, протекали следующие часы папского дня за докладами кардиналов — префектов конгрегации. По статс–секретариату доклад делал кардинал Мальоне, хотя фактически Пий сохранял руководство иностранными делами в своих руках. Наступали такие времена, когда этот департамент апостольской канцелярии приобретал главенствующее значение в политике Ватикана. Нужно было до конца достроить здание фашистско–католической империи мира, основание которой он сам заложил при Пие XI. Италия Муссолини, Германия Гитлера и Фаульгабера, Австрия Инитцера, Испания Франко и Гомы, Португалия Салазара и Церейры, Венгрия Хорти и Миндсенти — вот первые камни этого здания в Европе. Пришло время вплотную заняться Францией. Максим Вейган и Петэн с его долговязым протеже де Голлем были надежными проводниками его политики в Третьей республике, под наблюдением кардиналов Сюара и Валери.
Затем на очереди была непокорная Чехия. Рим выполнил свои обязательства: чехи стали подданными рейха. Пора и Гитлеру выполнить свои обещания. Да, теперь, когда на папском троне сидел он, Евгений Пачелли, Гитлеру следовало перестать ломаться. Он должен был помочь святому престолу справиться с толпою чехов, до сих пор не могущих забыть своего Гуса…
При этой мысли Пий потянулся к диктофону и нажал кнопку пуска.
— Дать Гитлеру мысль о низвержении памятников Яну Гусу и сожжении его деревянных статуй. Непокорность славянского духа поддерживается славою гуситов, — быстро проговорил он по–итальянски и движением пальца остановил жужжание аппарата.
Мысль плавно потекла дальше: Польша. Предстоит еще немало повозиться, чтобы заставить поляков примириться с предстоящим покорением Гитлеру. Начнется хныканье оравы польских епископов о том, что Речь Посполита всегда была верной и любимейшей дщерью Рима. Придется, вероятно, окончательно развязать руки примасу Польши кардиналу Хлонду, чтобы он мог справиться с поляками.
Пий усмехнулся: кто‑то из немецких военных говорил ему еще в Германии, что страшнее командира роты — ее фельдфебель, выслужившийся из самих же солдат. Вероятно, это так везде: если хочешь найти управу на массу — ищи ренегата. Хлонд давно уже забыл о том, что он поляк, и готов на все по приказу Рима. А в случае колебаний ему поможет Стефан Сапега. У этого рука не дрогнет, даже если бы ему пришлось занести ее не только над Краковом, а и над всей Польшей. А занести ее, вероятно, придется. Любимейшая дщерь Рима должна пасть жертвой на алтарь великого плана сокрушения коммунизма. Без Гитлера этот план не осуществишь, а Гитлер жаждет крови. Так пусть же прольется кровь любимейшей… Нунцию в Варшаве кардиналу Кортези придется поработать — он там немного ожирел, в этой чересчур католической Польше…
Но что они, все эти козявки, на западной границе главного супостата католицизма — России? Россия — вот то страшное, что стоит перед взорами, как вечная угроза.
Пий отчетливо помнил каждую строчку им самим отредактированной энциклики предшественника "Дивини редемпторис". В ней он своею рукой осудил атеистический коммунизм. Но разве с большевистской угрозой можно бороться энцикликами? Проклятия в наш век мало на кого действуют. Нужны средства вроде тех, что сумели пустить в ход Муссолини и Гитлер. Трижды благословенны эти ниспосланные богом чудовища! Их лапами будут очищены от скверны авгиевы конюшни мира. Ради вечной славы и величия единой, пречистой, светлой невесты Христовой — святой католической церкви!
Что же, еще несколько шагов, и барьер на западных рубежах Европы будет закрыт достаточно плотно. Настанет время активно действовать Шептицкому.
Этот умен! Ох, как умен, милейший граф Андрей!
Руки его ловки и могут делать святое дело, не страшась разоблачений. Кому придет теперь на ум попрекнуть его авторством: "Украинский национализм должен приготовиться к борьбе с коммунизмом всеми средствами, не исключая массового физического уничтожения, если даже при этом должны пасть жертвой миллионы людей"?..
У кого так хороша память, чтобы связать этот приказ, достойный Торквемады, с ясным образом апостола Рима на Востоке? А если и найдутся такие памятливцы, то осмелятся ли они напомнить об этом? УНДО и ОУН знают свое дело.
Шептицкий — вот кто замкнет последнее звено цепи, выковываемой Римом для охвата России с запада. Замкнет барьер и начнет наступление на Украину. На всю Украину. Без нее не мыслится план похода на коммунизм.
Но Запад — только Запад. Остается еще Восток. Там потеряно много времени. За несколько веков общения с Китаем и Японией католицизм не сумел создать там ничего схожего с его западной цитаделью. А в последнее столетие растерял почти все собранное иезуитами за два предыдущих века ловкой работы. Может ли итти в счет договоренность, которой он сам, еще будучи статс–секретарем, добился с Токио? И в Токио ли дело? Япония и без понуканий Рима готова в любой момент броситься на Россию. Совсем иное дело Китай. Там мало поймать в сети кучку правителей, готовых за пригоршню золотых и мешок посулов продать страну и народ. Этим сговорчивым правителям противостоят несколько сот миллионов китайцев. Два лагеря. Два мира чуждых, а подчас и враждебных один другому. Душа простого китайца рвется к свободе. Ей милы лозунги, которыми живет нынешняя Россия. Придется приложить еще уйму усилий, чтобы столкнуть с места эту лавину. И кто знает, в какую сторону она покатится, будучи сдвинута? Один толковый епископ на страну с 450 миллионами населения! Слов нет, Томас Тьен верный человек, но он пока единственный китаец, которому можно дать красную шапку. Американцы, правда, толкуют, будто Рим может положиться на них, что их католические миссии в Китае — опора Ватикана, но Пию что‑то не очень нравятся эти слишком расторопные миссионеры американской выучки. Невозможно понять, чьими посланцами эти господа в действительности являются — Рима или Вашингтона? Правда, Спеллман — вполне солидная фигура, но Пию не по душе тон, взятый этим боровом в сношениях с апостольской канцелярией. Оказывается, вредно, когда даже кардинал чересчур отчетливо чувствует, что за спиною у него золото не римского происхождения. Такой может и вовсе отбиться от рук. Позволь ему сунуть нос в Китай, и он перестанет разбирать, что кесарю, что богу, — все полетит в широкий карман Моргана. А с Моргана хватит и того, что Рим хранит у него свои вклады и доверяет ему управление нефтяными и селитровыми делами церкви по ту сторону Атлантики. В Китай эту компанию пускать опасно. Вернее всего было бы послать туда своего, итальянского иезуита. Но американцы тут же завопят: почему итальянский, а не американский? А почему, действительно, не американский?.. Разве Ледоховский не забыл, что он поляк? Он одинаково крепко держит в руках всех иезуитов — без различия национальности и положений, без скидок на происхождение и возраст. Прекрасный, отличный генерал ордена? Такому, как Ледоховский, не жалко и уступить прозвище "черного папы". Из его рук никогда не выпадет однажды попавшее в них: ни человеческая душа, ни тайна, ни обол. И при всем том — знает свое место, прекрасно воспитан, тонкий политик и твердый администратор. Что ж, быть может, так и нужно сделать: поставить китайские дела в первый пункт новой программы наступления, которую Пий готовит для иезуитов. У них достаточно опыта и в работе там, на Дальнем Востоке. Сколько веков они уже осваивают те края… Если снять с них запрет и разрешить немного покривить душой, они способны сделать католиками и буддистов, и конфуцианцев, и магометан. Иезуиты сумеют не привести их в противоречие ни с Буддой, ни с пророком, и святую мессу будут служить в храме Конфуция…
Пий улыбнулся: он любил эту гибкую и твердую, как лучшая сталь, "роту Христову". Он охотно теперь же поставил бы ее с метлою загонять китайцев в овчарню Христа… Единственное "но" — времена сильно изменились: пошли итальянца или американца примасом Китая — и кто знает, что из этого выйдет… Могут и не принять. Или, приняв, окружат воистину Китайской стеной молчаливого протеста. Как бы не пришлось назначить там примаса из китайцев… Но как приняла бы такой ход Америка, что сказал бы Спеллман?..
Тут Пий вспомнил, что, кажется, на сегодня он назначил аудиенцию генералу из китайских католиков. Сам бог привел этого китайца в Рим. С ним можно будет договориться о том, чтобы направить силы католицизма в Китае на борьбу с бурно развивающимся движением Мао Цзе–дуна.
Пий коснулся звонка и приказал вошедшему камерарию пригласить кардинала Мальоне.
На разговор с Мальоне о китайских делах ушел остаток времени до обеда.
Фан Юй–тан не был новичком на всякого рода приемах, но на этот раз он волновался. Хотя он давно перестал считать себя верующим, сегодняшнее представление духовному отцу всех католиков значило для него довольно много. Не меньше, чем любое из деловых свиданий, которые он имел в течение своего путешествия по Америке и Европе. Там он тоже говорил об очень важных делах, но говорил с людьми, которых считал равными себе, а иногда и стоящими ниже. Они были политическими деятелями — и он был политический деятель; они были генералами — и он был генералом с неизмеримо большей властью над жизнью и смертью своих солдат, чем любой из них; они были дельцами, но и он был дельцом.
Кое‑кто пытался смотреть на него сверху вниз, но он игнорировал это. Не он добивался прав для китайцев в Америке, а американцы выклянчивали для себя привилегии в его провинциях; не он нуждался в их солдатах для проведения своих политических планов, а его солдаты были нужны им, чтобы свести счеты с японцами или с коммунистами; не он предлагал им свое оружие, а они навязывали ему устаревшее барахло в обмен на недра Китая; наконец, не он был таким глупцом, чтобы ссужать их займами, — они совали ему доллары в надежде получить с него волчьи проценты, которых он никогда не сумеет заплатить. Пусть они больше смыслили в тонкостях мировой политики — в дураках оставался не он. Пусть они презирали его, подписывая чеки в раззолоченных кабинетах своих банков, — по чекам платили их кассиры!
Совсем другое дело предстоящий разговор с владыкой католического мира. Уже самый церемониал представления, который Фан Юй–тан изучил по врученной ему печатной инструкции, поверг его в некоторое недоумение. Он был убежденным республиканцем, но, воспитанный в китайском уважении к церемониалу, не мог не отдать должного тонко разработанной программе: "Божественная власть над живущими принадлежит папе". Мысль о том, что сам Фан чего‑то стоит, должна была быть оставлена за порогом тронной залы отца католиков. Если пилигрим не должен был ползти к трону на коленях от самой двери залы, то только потому, что это чрезвычайно замедлило бы прием сотен людей, являвшихся целовать туфлю святейшего, и свело бы на нет рентабельность предприятия.
Вероятно, величие выработанного веками и тонко продуманного психологического эффекта оказало бы свое действие и на ум Фан Юй–тана, если бы не крошечная деталь, в один миг разбившая все хитросплетения монахов. С грубостью, граничившей с пошлостью, она швырнула китайца с небес экстаза на жесткую землю прозрения.
Когда генерал уже почти закончил переодевание к предстоящему приему, в отель явился итальянец, визитная карточка которого "Бенедетто Сора" ничего не сказала ни самому Фан Юй–тану, ни его секретарю. Вызвали Тони, уныло ожидавшего момента, когда он сдаст, наконец, генерала шоферу.
Увидев перед собою итальянца, Сора утратил самоуверенность, с которой было начал наступать на маленького генеральского секретаря. На вопрос Тони он вынул другую карточку: "Бенедетто Мария Джузеппе Сора, поставщик апостольского двора".
— Но что нужно этому поставщику апостолов? — как всегда невозмутимо и вежливо спросил секретарь. — Его превосходительство генерал Фан — не херувим и не духовная особа, ему не нужно ни церковной утвари, ни духовных одеяний.
— Не то, совсем не то! — воскликнул синьор Сора. — Я хочу вам сказать, что никто, кроме меня, во всем христианском мире не выделывает вещей, имеющих такие референции от его святейшества папы, никто, кроме меня, во всей Италии не сможет дать вам…
Тони нетерпеливо перебил:
— Нельзя ли покороче: что вы предлагаете?
— Кальсоны, синьор! — с гордостью воскликнул Сора. — Такие же шерстяные кальсоны, какие носит сам святой отец!..
Фан Юй–тан, конечно, никогда не воображал, будто папа римский настолько свят, что не нуждается в кальсонах, но почему‑то этот эпизод испортил ему настроение, невольно подчинившееся пиетету папского имени и программе аудиенций. Торжественность испарилась, как дым. Фан понял, что ему предстоит очень важное свидание, но свидание не с живым богом, а с человеком, так же нуждающимся в шерстяных кальсонах, как он сам, Фан Юй–тан, в крещении нареченный Евгением. Евгений Фан, пусть так, если это будет привычней для святейшего.
Фан больше не испытывал волнения, проходя одну за другою каменные арки ватиканских ворот; в приемную дворца он входил, как в одну из многих других приемных дельцов, которые ему пришлось миновать на пути от лагеря Чан Кай–ши к лагерю народа, куда он хотел вернуться после долгих странствий и заблуждений: имея седую голову, нужно было подумать о том, чтобы найти последнюю правду, ту единственную правду, с которой человек может спокойно отойти в вечность.
Когда Фана оставили одного в приемной, он преспокойно уселся в кресло и принялся листать выданную ему памятку для посетителей. Тут он с точностью, подведенной, как в бухгалтерской книге, ощутил мощность папского аппарата, обозначенную такими сухими, но так много говорящими цифрами. То, что он увидел, было похоже на таблицы процентных уплат и погашений займов, которые ему навязывали в американских банках. Он останавливался на каждой цифре, оценивая ее реальное значение: "количество церквей (вероисповеданий, сект и т. п.), подчиненных святому престолу во всем мире, — 1865; патриархатов — 10; митрополитанских архиепархий — 333; архиепархий, входящих в митрополии, — 36; епархий — 964; аббатств и прелатур — 54; апостолических викариатов — 322; апостолических префектур — 133; самоуправляющихся миссий — 13. Кроме того, имеется 4 титулярных патриарха и 750 титулярных епископов… Конгрегация пропаганды веры святого престола насчитывает в своих миссиях 84 тысячи человек, из них священников около 25 тысяч. Наибольшее количество католических миссий сосредоточено в Китае: 4500 священников и 1200 мирян–служащих".
Ну что же, арифметика достаточно внушительная. Но если он договорится с папой, и она может измениться: он, Фан Юй–тан, отдаст приказ по своей армии об обязательном крещении солдат и офицеров. Впрочем, насчет офицеров нужно еще подумать. А вот солдатам он пообещает за это прибавку рисового пайка. Вопрос о том, что он сам получит взамен этого от святейшего?..
В приемной появился монсиньор Доменико Тардини и сообщил, что общий церемониал для приема Фан Юй–тана отменен. Святейший отец даст его превосходительству частную аудиенцию в обстановке, которой удостаиваются лишь самые редкие, самые почетные гости апостольского двора. Фан Юй–тан не выразил ни смущения, ни радости: ему было уже безразлично, где будут происходить переговоры о сделке с Ватиканом. Он шел переваливаясь, как гусак, за степенно вышагивающим впереди него "секретарем по чрезвычайным делам". Фану пришла мысль, что чем больше он приближается к святейшему, тем быстрее улетучиваются остатки его веры.
Фан и Тардини медленно миновали залы, переходы дворца и длиннейшую галлерею, покрытую росписью. Она показалась китайцу не столь божественной, сколь фривольной: потолок и стены были усеяны фигурами обнаженных мужчин и женщин. Наконец перед ним бесшумно распахнулась широкая, кованная золотыми украшениями дверь. Генерал увидел великолепный сад. Сквозь пальмы светился золотом купол святого Петра. Сад казался висящим в воздухе, с его террас открывался вид на весь Рим.
Среди почти тропической роскоши сада темная фигура вдали, одиноко двигавшаяся по аллее, показалась Фан Юй–тану неправдоподобно постной. При виде ее Тардини поспешно отвел китайца в боковую аллею. Там они обогнали прогуливавшегося Пия и вышли ему навстречу.
После церемонии благословения и нескольких вопросов о здоровье, путешествии и о том, как понравилась Фану Италия и Рим, заданных через Тардини, Пий с улыбкой обратился прямо к генералу на английском языке:
— Полагаете ли вы, что нам понадобится переводчик?
Услышав отрицательный ответ китайца, папа сделал знак и Тардини удалился.
Фан Юй–тан даже несколько испугался такой интимности: с глазу на глаз не заключишь сделки, от которой потом нельзя было бы отпереться. Но тут же, подумав, решил: если сделка выгодна для обеих сторон, то не нужны ни письменные договоры, ни свидетели. Если сделка не выгодна, то чем заставишь контрагента выполнять ее, когда он заартачится? Тем более, когда речь идет о таком контрагенте, как этот худой старик с пронизывающими глазами и таким проникновенно ласковым голосом, что руки наивных людей, вероятно, сами поднимаются, чтобы сложиться для молитвы.
Фан сказал папе, что, побывав в Штатах, убедился в лживости и нечестности американцев в отношении Китая. Он заявил Пию, что пресловутая политика открытых дверей, провозглашаемая Штатами, — не что иное, как самый легкий способ изгнать с китайского рынка своих соперников — японцев и англичан. Принципиального отличия между американской политикой открытых дверей и экспансией Англии, а пожалуй, даже и откровенной агрессией японцев нет. Все дело в методологии, а цель одна: закабаление Китая, превращение его в рынок для своих товаров и в резерв живой силы для будущего замышляемого генерального наступления на коммунизм, на Россию.
- …Если мы на минуту отрешимся от показной фразеология американских правителей и прислушаемся к тому, что говорят практические политики Штатов, их дельцы и генералы, все станет на свои места. Американцы не думают о помощи Китаю против Японии. — Фан на секунду умолк и, потупившись, закончил: — Они дают Японии все, что ей нужно, стремясь затянуть войну, стоящую нам сотен тысяч, миллионов человеческих жизней…
При этих словах китайца Пий поднял взгляд к небу и тихо произнес:
— Мы будем молиться о страдальцах. Да примет их господь в свои объятия, и ангелы божьи да утешат их.
Фая подумал, что было бы гораздо больше пользы, если бы папа попросту приказал кардиналу Спеллману воздействовать на американских католиков, чтобы те прекратили поставки военных материалов японцам. Цифры, способные убедить самого недоверчивого слушателя, быстрой чередой замелькали в мозгу китайца. Не давая папе перебить или остановить себя, генерал заговорил с поспешностью:
— Из нескольких бесед в Америке я понял, что снабжение Японии военными материалами и стратегическим сырьем из Америки происходит по двум причинам, которые кажутся американцам достаточно основательными и ясными: во–первых, они считают, что прекращение такого снабжения способствовало бы сближению Японии с Англией. Американцы ни за что этого не допустят. Они считают, что сближение Японии с Англией означало бы безусловное усиление японской агрессивности по отношению к Соединенным Штатам. Второй причиной, толкающей американцев на оказание японцам военной помощи в борьбе с Китаем, является надежда, что, преодолев наше сопротивление и поставив себе на службу правительство Чан Кай–ши, японцы смогут повернуть Китай на запад. А ни для кого не секрет: американцы хотели бы, чтобы японцы осуществили, наконец, то, что им так долго не удается, — большую войну с Советским Союзом.
Пий исподлобья посмотрел на китайца:
— Тяжкое обвинение возводите вы, сын мой, на своих американских братьев во Христе. Уверены ли вы в том, что говорите?
— Не только в этом, святой отец! Я уверен и в том, что совершенно так же рассуждают и англичане. Они тоже оказывают помощь Японии ради того, чтобы не дать ей пасть в объятия Америки и чтобы помочь ей обратить свое оружие против Советского Союза.
— Вы рассуждаете так, словно ни у Америки, ни у Англии, ни у их японских и китайских друзей нет более насущных задач, чем нападение на Россию.
— Конечно, есть, отец мой! Есть! Такой насущной задачей является ликвидация освободительного движения в Китае, физическое уничтожение коммунистов и прежде всего их вождей — Мао Цзе–дуна, Чжу Дэ, Чжоу Энь–лая и других.
— Вы… коммунист, сын мой? — И взгляд папы впился в лицо китайца.
— Нет, отец мой.
— Почему же вы так близко принимаете к сердцу беды этих безбожников, отвергнутых церковью и властями земными, установленными господом–богом?
— Потому, что святая католическая церковь учила меня быть справедливым и милосердным, отец мой, — не сморгнув, отпарировал Фан Юй–тан.
— Прекрасные чувства, — сухо ответил Пий. — Но расточать их попустому не следует. Бывают обстоятельства, при которых и вся наша святая церковь и ее отдельные сыны должны проявлять твердость в отношении грешников. Лучше временные страдания на земле, чем вечные муки за гробом.
— Китайский народ достаточно страдал, чтобы получить хоть немного счастья и на земле, отец мой.
— Хорошо, оставим это… — уклончиво ответил Пий. — Чего вы просите?
— Я прошу, отец мой, чтобы вы выслушали меня до конца. Только об этом.
— Говорите…
— Я хочу, ваше святейшество, привести вам слова господина Стимсона, бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов. Он сказал не так давно: "В настоящее время японский агрессор получает поддержку со стороны США и Британской империи. Однако мы не просто помогаем Японии. Наша помощь настолько эффективна, что без нее японская агрессия была бы немыслима и прекратилась бы очень скоро". Вероятно, мистер Стимсон имел в виду, что если бы, скажем, не тридцать пять миллионов баррелей американской нефти, посланные в Японию в тридцать седьмом году, то японский флот замер бы, остановились бы и танки. Если бы не два миллиона тонн американского железного лома, ввезенные в том же году для нужд японской промышленности, она не смогла бы послать своей армии в Китае ни одного снаряда. Если бы не американские станки и машины, проданные Японии на сумму в сто пятьдесят миллионов долларов в том же тридцать седьмом году, военное производство японцев сократилось бы наполовину. Вот что хотел, вероятно, сказать мистер Стимсон. А в тридцать восьмом году американцы оборудовали в Японии авиационный завод Кавасаки; в тридцать девятом году в Японию прибыли американские специалисты самолетостроительных фирм "Локхид" и "Дуглас", чтобы помочь японцам наладить массовое производство боевых машин. Склады Квантунской армии в Дайрене и Порт–Артуре ломятся от американских военных материалов…
По мере того как говорил китаец, выражение лица Пия делалось все более холодным. Воспользовавшись моментом, когда Фан умолк, чтобы набрать воздуха для следующей тирады, папа строго сказал:
— Я не разбираюсь в таких вещах, сын мой. Это не дело церкви.
Фан понял, что план–максимум, родившийся у него при взгляде на величественный купол собора святого Петра, — вмешательством Ватикана хоть немного обуздать американских пособников Японии, — химера. Оставалось сделать попытку осуществить план–минимум. Здесь Пий уже не сможет ответить Фану, будто ничего не понимает в подобных делах. Это были его собственные католические дела: бесчисленные католические миссии в Китае превратились в гнезда американо–англо–японского шпионажа. Миссионеры были не только разведчиками, они вели широчайшие коммерческие операции, выбивая почву из‑под ног китайской торговли, они ввозили тысячи тонн контрабанды и прежде всего опиум. Они торговали всем, чем только можно было торговать в дезорганизованной, порабощенной иностранным капиталом и японской военщиной стране. Они грабили китайский народ, расхищая природные богатства Китая и беспощадно эксплуатируя полурабский труд людей.
Фан говорил в той мере горячо, в какой способен говорить китаец. На этот раз папа слушал его с интересом. Но едва ли его обмануло притворство генерала, когда Фан в заключение своей речи прочувствованным голосом произнес:
— За вашу помощь, святой отец, я обещаю привести к вам сорок–пятьдесят миллионов новых католиков.
Что‑то похожее на огонек усмешки промелькнуло в черных глазах Пия, когда он спросил:
— Вы искренно верите тому, что можно привести в лоно святой церкви и миллионы китайцев, сражающихся под безбожными знаменами коммунистов? Вы верите такой возможности?
Фан ответил неопределенно:
— Это зависит от многих обстоятельств. И прежде всего, ваше святейшество, от вашего собственного отношения к этим людям. Они очень хорошие люди.
— Хорошо, сын мой, — спокойно сказал Пий, — я распоряжусь, чтобы единственным орденом, который должен вести миссионерскую работу в Китае, было "Общество Иисуса".
— Ах, отец мой, — воскликнул Фан, — я был бы счастлив, если бы это не были иезуиты!
Пий сделал вид, что хочет улыбнуться.
— "Выбирайте между иезуитами и социализмом!" — сказал когда‑то Тьер.
— Они называют себя миссионерами, а на деле являются комиссионерами… американских фирм.
— Ваши слова печалят меня, — Пий покачал головой. — Я поручу конгрегации пропаганды веры проверить состав миссий… Вы не знакомы с кардиналом Фумазони–Бионди?
— Не имел счастья… — сумрачно пробормотал Фан Юй–тан, поняв, что сказал лишнее.
— Я попрошу отца Фумазони, — вкрадчиво проговорил Пий, — посетить вас и выяснить детально, какие миссии, каких людей вы имели в виду… — И, подумав немного, продолжал: — Мне хотелось спросить: кого бы вы считали достойным стать кардиналом из числа китайских священнослужителей нашей веры?.. Что бы вы сказали о преподобном Томасе Тьене?
Фан вскинул взгляд на папу:
— Тьен — американский человек!
— Ах, вот как! — ответил Пий. И подумав: — В данное время вы являетесь формально подданным китайского государства, возглавляемого генералиссимусом Чан Кай–ши?
Фан Юй–тану почудилась в вопросе какая‑то каверза. Он не сразу ответил:
— Когда‑то я клялся в верности гоминдану…
— Если эта клятва связывает вас, мы освободим вас от нее, как и от всяких обязательств перед властями земными — в настоящем и в будущем… Это развяжет вам руки, сын мой.
— Я клялся служить гоминдану, отец мой, — повторил Фан. — Но от прежнего гоминдана, партии великого Сун Ят–сена, ничего не осталось. Так что… я не считаю себя больше связанным…
Пий поднялся со скамьи. Аудиенция была окончена.
Фан Юй–тан склонил голову. Папа выпростал руку из‑под накидки, и Фану предстала белизна его одеяний — такая светлая, такая не вяжущаяся ни с этой черной мантией, ни с мрачным, нахмуренным лицом Пия. Фан Юй–тан прикоснулся губами к узкой, но крепкой руке папы и стал пятиться в боковую аллейку.
Брови папы были нахмурены, он говорил, не глядя на кардиналов. Каждый должен был угадывать, к кому из них относятся его слова, произносимые все тем же, раз навсегда для всех обстоятельств усвоенным вкрадчивым голосом. По мере того как инструкции, относящиеся к кому‑либо из них, заканчивались, папа едва заметным кивком головы отпускал его и приступал к наставлению следующего.
Монсеньор Винченцо–Бианки–Канлиэзи, управляющий апостольской канцелярией, уже удалился, чтобы заготовить рескрипт о пожаловании генералу Евгению Фану ордена святого Григория Великого третьего класса за гражданские и военные заслуги перед святым престолом и католической церковью.
Вторым был отпущен монсеньор Доменико Тардини — секретарь конгрегации чрезвычайных дел. Его скромная задача заключалась в том, чтобы пересказать статс–секретарю, кардиналу Мальоне, содержание беседы папы с китайцем, которую монсеньор Тардини слушал из‑за кустов. Мальоне предстояло принять срочные меры к тому, чтобы отменить все займы, выданные Фану американцами, задержать транспорты закупленного им оружия и открыть государственному департаменту США истинные намерения Фан Юй–тана в отношении американцев в Китае.
В небольшом кабинете Пия остался секретарь священной инквизиции кардинал Франческо Сельваджиани. Он стоял поодаль от письменного стола, сложивши руки на животе и привычными пальцами машинально перебирая четки. Лицо его при этом ничего не выражало. Вероятно, вот так же, по привычке двигая челюстями, американский клерк жует резинку, далекий мыслями от надоевшей ему работы. Только тогда, когда дверь затворилась за Тардини и Пий молчаливым движением подбородка указал старику на кресло напротив себя, тот уселся и сунул четки в широкий карман сутаны. Несколько минут в комнате царило молчание. Наконец Пий бросил:
— Что нам с ним делать?
Пристально глядя в лицо папы, старый кардинал пытался отгадать его намерения, чтобы не попасть в просак со своим предложением.
— Он может принести очень большой вред, — сумрачно пояснил Пий.
Опытному старику стали ясны намерения папы.
— Если вашему святейшеству будет угодно предоставить это дело мне?..
Пий посмотрел вопросительно.
— На том самом пароходе, на котором он намерен ехать в Советский Союз, отправится до Стамбула один из людей конгрегации пропаганды, — пояснил кардинал и сквозь зубы добавил: — Советский теплоход "Максим Горький"…
При этом имени брови Пия сошлись еще больше. Он ни словом, ни движением не дал понять Сальваджиани, угадал ли до конца смысл его предложения.
Сальваджиани сказал:
— Надежный человек — священник Аугусто Гаусс, немец.
Кардинал знал, что святейший любит немцев.
Наморщенные брови папы действительно разошлись, и одна из складок над переносицей исчезла. Он слегка кивнул головой:
— Знаю…
— Ему будет поручено…
Пий прервал его легким движением пальца, как если бы ему досаждали дальнейшие подробности. Сальваджиани тотчас умолк. Через минуту он покинул папский кабинет. Ни тот, ни другой ни разу не произнесли имени Фана.
Через два дня в генуэзском порту одновременно с генералом Фан Юй–таном и его спутниками на борт советского теплохода "Максим Горький" взошел Август Гаусс. Он наблюдал за тем, как шла погрузка нескольких небольших ящиков с порученными ему кинолентами. Третьему помощнику капитана теплохода, молодому красавцу южного типа, Август вкрадчиво сказал:
— Я буду весьма признателен сеньору, если мои ящики будут погружены в трюм. Этот груз боится сырости.
2
Через два месяца происшествие на "Горьком" вспоминалось Стилу и Джойсу, как кинофильм.
В Пирее вся кают–компания "Горького" была опечалена тем, что веселый католический патер, взошедший на борт теплохода еще в Генуе, опоздал к отходу. Капитан задержал на полчаса отплытие, в надежде, что отец Август подоспеет, но тот не появился. Радиорубка "Горького" уже в море приняла радиограмму:
"Мой груз сдайте в Стамбуле точка.
Господь да пребудет с вами в долгом плавании точка.
Преподобный Август".
Радиограмма тронула всех. Даже молодой помощник капитана с восточной наружностью удовлетворенно улыбнулся, слушая депешу. Он, правда, не верил ни в бога, ни в его служителей, но оценил бы доброе слово, даже если бы оно исходило от сатаны.
Пассажиры немного посмеялись над милой наивностью священника, которому пустяковый переход Пирей–Одесса представлялся "долгим плаванием".
Никто не подозревал о сокровенном смысле, вложенном отцом Августом в эти, отнюдь не случайные, слова. Путешествие, в которое он собирался отправить Фан Юй–тана и его спутников, действительно обещало быть долгим: с выходом в Эгейское море должен был прийти в действие зажигательный снаряд, вложенный в коробки с фильмами для пропаганды веры Христовой. Пожар, возникший в трюме, обещал привести к катастрофе теплохода. Правда, в открытом море это грозило гибелью и всем пассажирам, но такие мелочи не тревожили отца Августа. Приказ святейшего отца гласил, что его превосходительство генерал Фан Юй–тан должен как можно скорее и независимо от его личного желания предстать перед святым Петром. То, что китайцу предстояло именно сгореть, было, по мнению Августа, великой милостью провидения. Сквозь пламя Фан войдет в царствие небесное, очищенный от земной скверны, и ангельское сияние мученика будет вечно сиять вокруг его генеральской головы.
Всего этого, разумеется, не мог знать молодой помощник капитана. Но он не напрасно плавал уже несколько лет на зарубежных линиях советского торгового флота и не напрасно был не каким‑нибудь, а именно советским помощником на советском теплоходе. Эта обстоятельства обусловили то, что не все произошло так, как предполагал отец Август. Помощник капитана еще в Генуе при погрузке "Горького" рассудил, что если, попав на советский теплоход, католический монах просит спрятать груз поглубже в трюм, значит в этом грузе заключено нечто боящееся глаза советских людей.
Помощник вежливо козырнул отцу Августу и отдал команду:
— В трюм номер два, поглубже… Вира!
Лебедка загрохотала. Ящики с надписями "Порт назначения Стамбул" быстро поднимались на стреле. Потом так же быстро стали опускаться. Отец Август, удовлетворенный, отправился в свою каюту.
Но ящик не был уложен под другие грузы. Он остался на виду. И когда пришла неожиданная телеграмма монаха, помощник капитана пробормотал:
— Знаем мы этих воронов!.. Тут что‑нибудь не так.
Он приказал вытащить груз на палубу и держать на глазах вахтенного.
Была глубокая ночь. Теплоход "Горький" спокойно резал воды Эгейского моря на пути к Дарданеллам, когда с бака вдруг повалил густой дым, потом ярко вспыхнули коробки с картинами святейшей конгрегации пропаганды веры, загорелись доски одного ящика.
Понадобилось несколько минут на то, чтобы покончить с этим несостоявшимся пожаром теплохода "Горький".
Утром помощник капитана сделал пассажирам доклад о современных способах пропаганды католицизма.
Единственной жертвой замысла отца Августа явился Тони Спинелли. Итальянец хотел сохранить доказательства преступления своего соотечественника папы. Он самоотверженно пытался погасить один из ящиков. Но доказательств он так и не сохранил, а получил столь тяжелые ожоги, что пришлось оставить его в одесском госпитале. Стил и Джойс отправились в Китай без приятеля.
С тех пор прошло больше полутора месяцев. Маленький секретарь Фан Юй–тана по поручению генерала связал Стила и Джойса с командиром одного из отрядов китайской Народной армии, которого звали Фу Би–чен. И вот уже две недели как они носили на груди большие значки воинов 8–й армии.
Победа была тем более радостной, что явилась совершенной неожиданностью. Один японец догорал на земле — это Джойс видел собственными глазами. Другой, дымя простреленным мотором, улепетывал в тщетной надежде перетянуть линию фронта. Это Джойс тоже видел совершенно отчетливо. Но он готов был клятвенно заверить, что японскому летчику не удастся уйти к своим: из его мотора уже било пламя.
Эта победа была одержана над двумя японскими самолетами на дряхлом японском же разведчике, доставшемся отряду в виде трофея нивесть когда. Стил потому и разрешил Джойсу отправиться в этот полет, что совершенно не был уверен в надежности мотора. Этика отношений, установившихся между летчиком–китайцем и двумя американскими механиками, говорила, что механику — хозяину машины — следует своею собственной головой гарантировать жизнь летчика в первом полете отремонтированной машины. Было совершенной случайностью, что из пробного этот полет превратился в боевой.
Японцы появились неожиданно. Переключившись с обязанности механика на роль пулеметчика, Джойс отлично справился с делом. Победа была налицо, хотя Чэну впервые пришлось вести воздушный бой на разведчике.
Ложкой дегтя в радости, заливавшей существо Джойса, было то, что, едва убедившись в результатах своего огня, он был вынужден прибегнуть к парашюту: подоспевший третий японец очередью в упор начисто срезал разведчику оперение. Искусство Чэна было бессильно справиться с самолётом, лишившимся управления.
Джойс покинул самолет на секунду раньше Чэна. Он видел, как парашют китайца раскачивается несколькими метрами выше его собственного. Ветер относил их обоих к большому гаолянному полю.
Тем временем третий японец практиковался в меткости стрельбы по медленно опускающимся парашютистам. Он успел сделать два захода. Джойс потянул за левые стропы, чтобы ускорить свое падение. Парашют совершил быстрое скольжение. По расчетам негра, высокий гаолян должен был амортизировать удар.
Над самой землей Джойс огляделся, надеясь увидеть Чэна, но того уже не было в воздухе. В то же мгновение большое тело негра прочесало в зарослях гаоляна борозду, по которой свободно могла бы проехать пушка. После получасовых поисков Джойс нашел Чэна в гаоляне. Летчик сидел скорчившись. Голова его была опущен" на грудь так, как будто он что‑то внимательно рассматривал у себя на животе.
— Эй, Чэнни, что ты там так внимательно разглядываешь? Просто удивительно, что этот имперский снайпер не сделал из нас решето…
Чэн не поднял головы. Он оставался все в той же позе, с рукою, прижатой к плечу. Из‑под пальцев сочилась кровь.
Механик поднял голову летчика и потрепал его по щекам, чтобы привести в чувство. Осмотрев рану, Джойс ободряюще сказал:
— Пустяки, старичок. На твою долю пришлась бронебойка. Ей просто нечего было делать в таком материале. Стоило бы тебе ошибиться и подставить плечо под выстрел этой обезьяны десятой долей секунды раньше или позже, и ты получил бы зажигательную или разрывную… Эффект был бы другой… Можешь встать?
Чэн уцепился здоровой рукой за негра. Так они шли некоторое время, но Джойс решил, что это чересчур медленно, и попросту поднял маленького китайца на руки.
Когда голова летчика в бессилии опускалась на плечо негра, Джойс начинал подпевать:
Кэйзи Джонс слетает в ад, как мячик,
Кэйзи Джонса черти ждут во мгле…
И теперь швыряет серу в пламя
Он за то, что делал на земле…
И ласково приговаривал:
— Ну, ну, старичок, больше бодрости. Мы еще полетаем.
Солнце стояло уже высоко, когда они добрались до расположения отряда Фу.
Теперь времени у Джойса было сколько угодно — сбитый разведчик был единственным самолетом, приданным отряду Фу. Впредь до получения новой материальной части Джойс стал безработным. А материальную часть можно было ждать только с той стороны — от противника.
Негр сидел перед фанзой и хмуро рассматривал неказистую обстановку вокруг штаба Фу.
Прошло едва две недели с тех пор, как Джойс со Стилом присоединились к его отряду. Сначала предполагалось, что они пробудут здесь всего несколько дней, пока не откроется возможность пробраться к главным силам Чжу Дэ. Но такая возможность все не открывалась. Отряд Фу Би–чена действовал отдельно от главных сил 8–й армии. Стил и Джойс успели отремонтировать доставшийся отряду трофей — старый японский разведчик, и этот разведчик закончил свою короткую летную жизнь.
За это время Стил и Джойс так сжились с отрядом, словно проделали с ним весь тяжелый поход 8–й армии. За две недели Джойс вдоволь насмотрелся на разрушения и опустошения, сопутствовавшие отступлению противника. Но всякий раз, глядя на окружавшее его, он воспринимал это с новой болью. Горе и нищета, до которых довела китайцев продажная шайка чанкайшистских управителей, были безмерны. Это было неизмеримо хуже того, что Джойсу приходилось видеть на другом полюсе самоотверженной борьбы народов за лучшую жизнь — в Испании. Джойс с возмущением думал о равнодушии, с которым мир взирал на море крови, льющейся в Китае. Чем больше негр уяснял себе политику некоторых держав, в особенности Англии и США, в китайских делах, тем больше убеждался в их вероломстве и в духе ненасытного стяжательства, руководившем каждым их действием. Даже "акты помощи", вроде присылки врачей и медсестер и кое–каких медикаментов, диктовались только желанием не дать угаснуть войне.
Джойс был далек от мысли обвинять в такой низости самих врачей и сестер, приезжавших в Китай. Эти люди совершали тяжелые переходы, подвергали свои жизни опасности со стороны мстительных японцев. Те, кто работал в госпиталях и в полевых отрядах, бывали подчас настоящими героями, они были полны самоотвержения и доброжелательства к китайским товарищам. В большинстве своем то были настоящие сыны своего народа — простые американцы. И они не были виноваты: американские генералы и коммерсанты делали свою подлую политику за их спиной.
Но Джойс не всегда мог преодолеть в себе чувство настороженности, сталкиваясь тут со своими соотечественниками. Особенную неприязнь вызывали в нем появлявшиеся время от времени американские миссионеры. Никакие рассуждения не могли заставить его отказаться от уверенности: это враги. Джойс слишком хорошо знал роль католического духовенства в судьбе Испанской республики, за которую и он пролил частицу своей крови…
Взгляд Джойса скользнул по громоздившимся там и сям кучам глины, перемешанной с соломой, с обломками досок, с черепками посуды и грязным тряпьем. Еще совсем недавно эти кучи, пахнущие дымом и черемшой, были человеческим жильем. Но японцы разрушали мирные деревни с таким ожесточением, будто это были укрепленные форты неприятеля.
За кучами бывших фанз почти до самого горизонта простирались поля. В полях беспорядочными клиньями разных форм и размеров колосились потравленные хлеба. Подернутый радужными переливами бирюзовой зелени, волновался ячмень. Он был низкоросл и редок, как вылезшие волосы старика. Левее, где плотной стеной высились заросли гаоляна, были войска гоминдана. Правее, примерно на том же расстоянии, должны были стоять японцы. Между японцами и отрядом Фу Би–чена протянулось большое болото. Оно прикрывало японцев от прямого удара Фу. Толковали, будто в этом болоте есть сухой проход, позволяющий пересечь его в направлении видневшейся верхушки ветряной мельницы. Существовала ли в действительности такая тропа, карта сказать не могла. Единственно точные данные в таких обстоятельствах могли бы дать местные жители. Но тут их не было. Все живое бежало, узнав о приближении отступающих японцев. Немногим меньше японцев население боялось и войск гоминдана. Народ плохо верил тому, что Чан Кай–ши способен честно выполнять соглашение с компартией Китая о действиях против японцев. Народ слишком хорошо знал и самого старого разбойника и тех, кто его окружал. Нравы пресловутых "четырех семейств" не были секретом для простых китайских людей.
В том положении, в каком Фу оказался со своим отрядом, можно было только гадать. Если войска гоминдановского генерала Янь Ши–фана, войдя в контакт с отрядом Фу, будут действовать, как предписывает соглашение, японцев можно будет зажать в клещи. Ни одному из врагов не удалось бы тогда уйти из мешка, задуманного Фу Би–ченом. В известном смысле это могло бы быть прекрасным завершением длительного и мучительного похода отряда. Но… в том‑то и беда, что Янь Ши–фану нельзя было верить.
Размышления Джойса были прерваны появлением Фу Би–чена и Стала.
3
Фу Би–чен был худой цзянсиец, измученный лихорадкой. Когда‑то он учился в Йеле, но уже почти забыл, что намеревался посвятить жизнь написанию истории иностранных вторжений в Китай. Взявшись за военное дело как за временную необходимость, вызванную жизнью, вроде хозяина дома, который берется тушить пожар, вовсе не собираясь становиться пожарным, Фу в конце концов стал больше военным, чем историком. Вот уже двенадцать лет как он занимался военным делом.
Прочнее других событий из истории у него в памяти держались подробности тех эпизодов антикитайской борьбы иностранцев, участниками которых были американцы. Возможно, потому, что сам он провел в Америке достаточно времени, чтобы понять лживость деклараций о свободе и демократии, прикрывавших политику Соединенных Штатов. Фу Би–чен прекрасно помнил и не раз повторял своим соотечественникам имя Фредерика Таунсенда Уорда из Салема, чью могилу американские коммерсанты сделали впоследствии местом поклонения. Фу Би–чен рассказывал о том, как американские торговцы Шанхая собирали средства на формирование шайки этого Уорда, намеревавшегося "показать тайпинам, что такое настоящие американские парни". Фу Би–чен собрал в свое время достаточно подробностей о подлой роли, какую сыграли корабли военно–морского флота США в событиях, приведших к заключению злополучного тяньцзинского договора. Фу Би–чен рассказывал, как американские корабли "Портсмут" и "Левант", прикрываясь правом нейтралов плавать по реке Кантон, закрытой китайцами для вторжения англичан, подвергли бомбардировке китайские укрепления и разгромили их без всякого к тому повода со стороны китайцев, ради прямого содействия своим "белым братьям". Фу Би–чен отыскал в истории данные, разоблачающие провокационные действия американского коммодора Тэтнолла под Дагу, приведшие к высадке американцев в Тяньцзине и к созданию там американской концессии.
А услуги Уорда китайскому императорскому командованию? Не он ли возглавил солдат императора, чтобы вместе с английскими солдатами генерала Стэнли и французскими матросами адмирала Портэ отбить у тайпинов Шанхай?
Наконец, подробнее всего и, пожалуй, с наибольшим жаром Фу Би–чен упоминал о событии, заставившем его бросить университет и устремиться на родину, чтобы стать простым солдатом Мао Цзе–дуна. Это были события 1927 года. Полиция французской концессии в Шанхае повела секретные переговоры с Чан–Кай–ши и с главарем шанхайских торговцев опиумом, известным гангстером Ду Юэ–шэном. Заговорщики хотели разоружить рабочих, державших в своих руках китайскую часть города. Шанхайские компрадоры — купцы и банкиры — обещали Чан Кай–ши и Ду Юэ–шэну финансовую поддержку. Ду Юэ–шэн поставил условием своего участия в преступлении, чтобы его вооруженная банда численностью в пять тысяч человек была пропущена через территорию иностранного сеттльмента, традиционно недоступную вооруженным китайцам. В то время председателем совета сеттльмента был американец Стерлинг Фессенден. Именно он и проголосовал обеими руками за беспрецедентный пропуск разбойников через запретную территорию сеттльмента и за провоз вооружения и амуниции "усмирителей". Ночью банды Ду Юэ–шэна и Чан Кай–ши проникли в тыл рабочим. В течение нескольких часов они вырезали тысячи мирных жителей. Одновременно Чан Кай–ши пустил в ход свои вооруженные отряды и в других частях страны. Там также убивали десятки тысяч рабочих и крестьян, вылавливали неугодных ему руководителей китайской интеллигенции и коммунистов. Его банды предательским ударом разоружили "ненадежные" войсковые части. Повсеместная резня должна была убедить революционные элементы Китая в том, что их роль окончена. Чан Кай–ши намеревался поставить точку в развитии китайской революции.
В те дни Фу Би–чен следом за тревожными сообщениями прессы, о событиях на его родине прочел:
"…либо национальная буржуазия разобьет пролетариат, вступит в сделку с империализмом и вместе с ним пойдет в поход против революции для того, чтобы кончить ее установлением господства капитализма;
либо пролетариат ототрет в сторону национальную буржуазию, упрочит свою гегемонию и поведет за собой миллионные массы трудящихся в городе и деревне для того, чтобы преодолеть сопротивление национальной буржуазии, добиться полной победы буржуазно–демократической революции и постепенно перевести ее потом на рельсы социалистической революции со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Одно из двух".
Молодой историк много думал над этим. Ему показалось, что прямым ответом на все его сомнения являются слова: "…кто хочет уничтожить феодальные пережитки в Китае, тот должен обязательно поднять руку против империализма и империалистических групп в Китае", и "…буржуазно–демократическая революция в Китае является вместе с тем революцией антиимпериалистической… нынешняя революция в Китае является соединением двух потоков революционного движения — движения против феодальных пережитков и движения против империализма".
Проанализировав прочитанное, Фу Би–чен увидел смысл шанхайских событий так, как если бы ему прочли о них целый курс лекций. Он понял, что отошел в прошлое тот этап революции, когда буржуазии было по пути с рабочим классом и крестьянством. Их пути разошлись. Буржуазия испугалась размаха революционного движения народа. Она предпочла пойти против народа своей страны — с китайскими феодалами и иноземными империалистами.
Фу Би–чен пришел к окончательному решению: время для занятий историей придет, когда революционный лагерь победит отечественных феодалов, компрадоров–предателей и иностранных империалистов, засевших в Китае, как в своей вотчине. Битва за эту победу и должна стать последней главой истории книги, которую собирался писать Фу Би–чен. Фу Би–чен без колебаний согласился занять скромное положение ученика авиационной школы. Когда курс школы был окончен, пилот Фу Би–чен пересек океан, преодолел пустыни и горы, чтобы явиться к Мао Цзе–дуну.
— Моя жизнь в вашем распоряжении.
К удивлению Фу Би–чена, в тот первый вечер его знакомства с вождем разговор шел не о военных делах и не о событиях китайской революции. Мао Цзе–дун половину вечера расспрашивал Фу Би–чена о постановке в Штатах университетского образования и исторических исследований. Вторую половину вечера, вернее сказать, ночи, беседа шла о предметах очень мирных и очень далеких от событий, окружавших собеседников: о философии и теории познания, о Спинозе, Канте, Гегеле, Руссо. Председатель партии говорил о Гете с таким живым интересом, как если бы в стихах веймарского поэта рассказывалось о том, как добыть свободу китайскому народу. Фу Би–чен был повергнут в полное изумление, когда услышал, как легко и свободно Мао Цзе–дун говорит об Аристотеле и Платоне, которых сам Фу знал только по именам: в Америке он никогда их не читал и даже не видел их переводов. Когда же Мао Цзе–дун заговорил о таких сокровищах мировой литературы, как творения Толстого и Пушкина, Фу Би–чен слушал это, как открытие: ни одного из этих произведений он не знал. Единственный момент, когда он думал, что что‑то знает, наступил, когда председатель, протянув гостю томик Лонгфелло, попросил его прочитать что‑нибудь из "Песни о Гайавате".
— К сожалению, она не переведена на китайский.
Читая, Фу Би–чен искоса поглядывал на председателя и видел, что тому доставляет удовольствие музыкальное созвучие рифмы. Фу Би–чен перевел стихи.
— Очень хорошее звучание стихов, — сказал Мао Цзе–дун после некоторого молчания. — Но нет ничего удивительного, что, не достигнув понимания духа других наций, американцы возвратились к бездне зла и темноты. Пройдет время, и человек будет вспоминать о наших днях, как о пропасти, отделявшей его от счастья, которое принес с собою коммунизм… — Мао Цзе–дун взглянул на часы, показывавшие уже далеко за полночь. — Вам пора отдохнуть, а мне заняться делами… Завтра мы поговорим с вами уже не о прошлом, а о путях прекрасного будущего. Их открывает нам учение Маркса и Ленина. Мы с вами подумаем над указаниями, которые дает трудовому народу всех стран Сталин… Я никогда не видел этого человека и не говорил с ним, это свидание — мечта, которую я надеюсь когда‑нибудь осуществить, но каждое слово Сталина проникает мне в мозг и в сердце, как вещее слово самой истории… — Он задумчиво повторил: — Завтра мы поговорил с вами об этом…
На прощание Фу Би–чен спросил:
— Полагаете ли вы, председатель, что я смогу принести пользу делу освобождения моего народа? — И, чуть запнувшись, прибавил: — Под вашим руководством, председатель…
Уже много позже он понял, что последние слова были лишними: Мао Цзе–дун был лишен всякого честолюбия. Он никогда не придавал своему участию в революции значения исключительности, хотя оно и было огромно.
В ответ на слова Фу Би–чена он улыбнулся и сказал:
— Не я буду определять правильность или ошибочность вашего поведения в революции, а то, поймете ли вы сами, чего от вас ждет наш народ и единственная партия, которая ведет его к действительному освобождению, — наша, коммунистическая партия.
— Но вы — руководитель партии! — воскликнул Фу Би–чен.
— Допустим, что так… — сказал Мао Цзе–дун. — Но Центральный Комитет — вот линза, в которой собирается свет коллективного разума и энергии партии. Очень важно, чтобы вы поняли: только в луче коллективного разума партии вы можете отыскать правильный путь в беспредельных просторах и в сложном лабиринте истории. Вспомните Чэн Ду–сю — вот пример того, к чему приводит отрыв от разума и воли партии. Это политическая смерть. Скатившись в объятия троцкистов, Чэн Ду–сю неизбежно стал таким же предателем дела революции и освобождения своего народа, как сам Троцкий.
— Это я уже понял, — несмело проговорил Фу Би–чен.
— И еще многое должны будете понять… Чтобы найти правильный путь на нынешнем этапе нашей революции, вам следует близко, очень близко познакомиться с путями нашего крестьянства. Крестьянское движение в наше время приобретает в нашей стране небывалые размеры и огромное значение. Это будет подъем миллионов и миллионов крестьян. Я убежден: они разорвут все связывающие их путы и устремятся на путь освобождения. Родившись в Хунани, это движение уже охватило Хубэй, Цзяньси, Фуцзян, весь Китай. Под нашим руководством. И в этом сила нашей партии. И если вы, товарищ Фу Би–чен, хотите оставаться верным сыном своего народа…
— Клянусь вам… — начал было Фу Би–чен, но тотчас смолк, так как Мао Цзе–дун продолжал:
— Нет, не клясться, а понять… понять на данном этапе китайского крестьянина, — мягко проговорил Мао. — Понять, что иной путь, кроме пути коммунистической партии, в крестьянском вопросе — ошибка, — вот что вам нужно. Если вы хотите итти с нами, то должны приготовиться к величайшим испытаниям. Они будут долгими. Многим они покажутся лишенными надежды. Но мы не боимся их, потому что видим победу. Безусловную и окончательную победу.
— Я с вами, я с вами! — воскликнул Фу Би–чен и тут же смущенно добавил: — Если только не может помешать то, что я еще не так хорошо знаком с партийной наукой, чтобы сказать: "Я марксист, я ленинец". Теперь я вижу, что занимался в Америке совсем не тем, чем следовало.
— Вы не правы, — спокойно возразил Мао Цзе–дун. — Ваши знания нам пригодятся. Именно теперь вы сможете взглянуть на них с позиций марксизма и разоблачить то, что является в них ложным и враждебным — Мао Цзе–дун протянул Фу Би–чену руку: — Идите же отдыхать, завтра мы продолжим беседу.
Но на следующий день Фу Би–чену уже не удалось ни услышать Мао Цзе–дуна, ни повидать его Фу Би–чена пригласил к себе Пын Де–хуай и дал ему первое задание. К удивлению Фу Би–чена, это задание не имело ничего общего с авиацией. Но на выполнение его Фу Би–чен должен был отправиться немедленно.
Через полчаса Фу Би–чен был уже в пути к первой ступени в лестнице испытаний, приведших его к тому, над чем он думал сейчас: как покончить с последней колонной японцев, стоявшей на его пути к соединению с главными силами Чжу Дэ. За время, что Фу Би–чен двигался по этой длинной лестнице, разрозненные отряды успели слиться в единую могучую Красную армию Китая. Она успела совершить свой легендарный двенадцатитысячекилометровый поход через весь Китай. Потом Красная армия Китая превратилась в 8–ю и новую 4–ю народно–революционные армии. За эти годы Фу Би–чен почти забыл, что учился летать, — он стал ветераном пехоты. Никогда и никому он не выдавал чувств, которые вспыхивали в нем иногда при виде самолета. Но на данном этапе военной истории Свободного Китая пехотные командиры были нужнее летчиков, и Фу Би–чен только изредка тешил себя надеждой, что когда‑нибудь это положение изменится…
Фу Би–чен знал, что разбить стоявшую перед ним колонну японцев и соединиться с Чжу Дэ — значит преодолеть еще одну очень важную ступень к окончательной победе над силами врагов. Теперь‑то уж он знал, что означают для Китая сказанные в Москве слова:
"Характерно, что перед началом вторжения Японии в Северный Китай все влиятельные французские и английские газеты громогласно кричали о слабости Китая, об его неспособности сопротивляться, о том, что Япония с ее армией могла бы в два–три месяца покорить Китай. Потом европейско–американские политики стали выжидать и наблюдать. А потом, когда Япония развернула военные действия, уступили ей Шанхай, сердце иностранного капитала в Китае, уступили Кантон, очаг монопольного английского влияния в Южном Китае, уступили Хайнань, дали окружить Гонконг. Не правда ли, все это очень похоже на поощрение агрессора: дескать, влезай дальше в войну, а там посмотрим".
Фу Би–чен на себе и на своих людях испытал уже, что означает это "посмотрим". Но чем больше он это испытывал, тем тверже становилась его уверенность в победе и над японцами, которых поощряли к агрессии, и над теми, кто намеревался "посмотреть".
4
Из шалаша санитарной части вышел Чэн. Рука летчика покоилась в повязке, в расстегнутом вороте куртки белели бинты, но недавняя бледность уже исчезла с его лица. Увидев командира, он улыбнулся.
— Как дела? — спросил Фу Би–чен.
— Прекрасно, — ответил Чэн, — через два дня буду, как новый. Кости не задеты, пустяшная царапина. Одним словом, все очень хорошо.
Сидевшие на обгорелом бревне Стил и Джойс подвинулись, чтобы дать место раненому.
Мимо них два солдата провели высокого сутулого человека в рваном ватнике.
— Пленный? — спросил Чэн.
— Перебежчик, — ответил Фу Би–чен.
Как и всякий другой в отряде, Чэн радовался каждому новому человеку, приходившему с той стороны. Перебежчик — это новые сведения о враге, возможность разобраться в местности, установить связь с главными силами. Чэн живо спросил:
— Что‑нибудь новое?
Некоторое время Фу Би–чен молча смотрел на окурок, зажатый в кончиках его тонких, желтых от лихорадки пальцев, с необыкновенно узкими, как у женщины, миндалевидными ногтями. Потом нехотя ответил:
— Болтает о своей ненависти к японцам. А спросишь про дорогу на мельницу — мнется и путает.
— Здешний? — спросил Чэн.
— Мельник.
Пока они сидели, взгляд Фу Би–чена время от времени обращался к болоту. Словно особенная, притягательная сила таилась в большом буро–зеленом пространстве, тянувшемся к горизонту. Чэн понимал, что так же, как у него самого, у командира засела мысль о загадочной тропе и о холме с мельницей в конце ее, господствующем над местностью. Оттуда японцы просматривали и тропу, и все болото, и свои фланги, уходившие в поля гаоляна.
Окружить японцев Фу Би–чен не мог. Для такой операция отряд его был чересчур малочисленным. Положиться на то, что один из флангов возьмут на себя гоминдановцы, значило рисковать всем делом. Если они изменят, японцы смогут бросить все свои силы против Фу Би–чена.
Для неожиданного удара оставалась тропа. Но нечего было и думать соваться на нее до тех пор, пока над местностью господствует мельница. А без снарядов единственная батарея Фу Би–чена была бессильна сбить мельницу.
У китайцев не было снарядов, а японцы не испытывали в них никакого недостатка. Через строго определенные промежутки времени они обстреливали расположение отряда Фу Би–чена. Роща у деревни перестала служить маскировкой. Деревья были частью просто повалены снарядами, а частью так ощипаны осколками, что голые ветви торчали во все стороны, никого и ничего не укрывая. Об этом можно было судить по тому, что иногда японцы открывали огонь даже по одиночной арбе, пробиравшейся из тыла к позиции отряда, и даже по отдельному верховому.
Вскоре после прибытия высокого пленного японцы начали обычный предобеденный обстрел.
Фу Би–чен и все сидевшие с ним спустились в блиндаж, накрытый легким накатом. Там царили полумрак и тишина. Особенная боевая тишина. Чем дольше тянулся обстрел, тем органичней сливались эти звуки с тишиной и, наконец, начинали восприниматься как нечто идущее от нее самой. Дребезжанье консервной банки, из которой Фу Би–чен пил чай, казалось Джойсу громче, нежели грохот канонады.
Прислушавшись к нескольким разрывам, Джойс со смехом крикнул:
— Они не могут к нам пристреляться, а палят уже несколько дней!
— Они не хотят нас спугивать, — спокойно возразил Фу Би–чен. — Поверьте: на случай надобности у них пристреляно каждое дерево. Педантичностью они похожи на немцев.
— Можно подумать, что Сект был советником у них, а не у Чан Кай–ши, — сказал Чэн.
— Не поручусь за то, что у них и сейчас нет там немцев, — сказал Стил.
Фу Би–чен покачал головой:
— Японцы сами могли бы кое–чему научить немцев.
— И, насколько нам известно, немцы продолжают кое‑что делать у бумажных тигров, — заметил Чэн.
— Ну, это не могло бы им помешать работать и у японцев, — заявил Джойс.
Выцедив из банки последние капли чая, Фу Би–чен с укоризною проговорил:
— Вы не очень хорошего мнения о людях.
— Если американцы могут продавать оружие обеим сторонам, то почему немцы не могут быть советниками у двух сторон?
— Снаряды и люди — не одно и то же, — сказал Фу Би–чен.
— Не вижу разницы, когда дело идет о янки, — сказал летчик.
— Чэн прав, — поддержал его Джойс. — Для всей этой сволочи бизнес остается бизнесом, даже когда он у порядочных людей называется разбоем. Вы думаете их смутила бы необходимость сражаться против кого угодно, лишь бы им хорошо платили?! Нуждайся мы в инструкторах и имей мы деньги для их оплаты — они пошли бы и к нам.
— Немцы? — спросил Стил.
— И немцы и янки, — сказал Джойс.
— Разумеется, ты прав, — согласился Стил. — Но иногда хочется думать, что наш народ не зря провозгласил билль о правах.
— К чорту абстракции, Айк! — сердито сказал Джойс. — Раньше за тобою не водилось такого греха.
— Когда уезжаешь с родины, — медленно, с оттенком грусти проговорил Стил, — все, что осталось там, начинает казаться немного лучше…
— Веревка, приготовленная Миллсом, не кажется мне отсюда шелковым галстуком…
Стил поморщился: негр был прав.
Джойс принялся старательно скручивать папиросу. Но бумага не слушалась его пальцев. Провозившись несколько времени, негр с досадой отшвырнул бумагу вместе с табаком.
— Передайте мне чай, ребята, — сказал он и налил себе в ту же банку, из которой только что пил Фу Би–чен, так как второй в блиндаже не было.
— Нужно все‑таки покончить с этой мельницей, командир, — сказал он Фу Би–чену.
Тот ответил молчаливым кивком.
— Иначе они рано или поздно покончат с нами.
Командир снова кивнул головой.
— Если у них будет этот наблюдательный пункт, — заметил Стил.
— Его у них не будет, — тихо, но очень уверенно проговорил Фу Би–чен.
Все вопросительно на него уставились.
— У вас нет ни одного снаряда, чтобы дотянуться до мельницы, — сказал Чэн.
— Но у меня есть руки, — и Фу Би–чен протянул над столом узкие кисти рук с длинными, тонкими, как у женщины, пальцами.
Стил покачал головой:
— Оружие не из сильных.
— Самое сильное на свете, — спокойно возразил Фу Би–чен.
Обстрел окончился. Все вернулись в штабную фанзу.
Чэн достал здоровой рукой часы и показал их Фу Би–чену:
— Мельника до сих пор нет.
— Его допрашивают в трибунале.
Джойс усмехнулся:
— Небось, чувствует, что его голова болтается на ниточке…
Командир строго посмотрел на него.
— Почему? Если он хороший человек…
— А если нет?
— Все равно его сначала приведут ко мне. — И Фу Би–чен вытянул руку, чтобы посмотреть на часы. — Минут через десять он будет здесь.
Хотя это было сказано без всякого нажима, все поняли, что так оно и будет: железные порядки, введенные командиром отряда, знали не только те, кто прошел с ним все двадцать тысяч ли похода.
Циновка над входом шевельнулась.
— Я доставил арестованного, командир, — проговорил солдат, просовывая голову в фанзу.
Движением руки командир отпустил конвойного и внимательно всмотрелся в перебежчика. Это был высокий шансиец с рябым длинным лицом. Повидимому, ему было жарко — ватная куртка была распахнута на груди. Куртка эта была необыкновенно стара и совершенно изорвана. Из многочисленных прорех клочьями торчала грязная вата. Мельник был так зловеще худ, что его лопатки выпирали даже из‑под ватника.
Мельник настороженно, исподлобья оглядел сидящих. Глаза его были полуприкрыты воспаленными красными веками. Все лицо казалось неопрятным и колючим, как старая щетка. Почти черная от загара шея была похожа на свилеватое полено, побывавшее в огне. Кадык выдавался острым сучком.
Говорил мельник то неохотно, робко, то вдруг начинал торопиться, точно боясь, что ему не дадут досказать. При этом кадык его под распахнутым воротом ватника ходил быстро–быстро.
— Зачем вы пришли к нам? — спросил Фу Би–чен.
Не поднимая глаз, мельник негромко ответил:
— Если вы не верите мне, прикажите убить меня.
— Зачем же мне убивать вас?
— Все генералы убивают нас.
— Вы же знаете — тут ваши друзья.
Напрасно подождав ответа, Фу Би–чен спросил:
— Ведь вы пришли к нам как друг, не правда ли?
Мельник молча обернулся спиною к сидящим. Все увидели, что руки его связаны у локтей.
Фу Би–чен перегнулся через стол и разрезал веревку.
В фанзе долго царило молчание. Наконец Фу Би–чен поднял взгляд на мельника:
— Ну?
— Что же мне сказать человеку, который и так знает все?
— Вы не у японцев. Говорите, что есть на сердце.
— Не выжжено ли из сердца бедняка все, чем живет человек?
— Разве нет у вас дома, где согревается самое холодное сердце?
— Дом мой — там! — мельник махнул рукой в пространство.
— Но в доме есть жена, разделяющая труд и горе бедного человека, — ласково проговорил Фу Би–чен.
— Да… в доме бедняка есть жена.
— И в доме есть дитя — надежда опустошенной души, — уверенно сказал Фу Би–чен.
Рябое лицо мельника впервые осветилось слабой улыбкой.
— Скоро два года как жена родила мне девочку — нежный цветок большой радости… — Мельник посмотрел на пальцы своих босых ног и проговорил почти про себя: — Она лепечет "мяу–мяу".
— Мяу–мяу?
— Мельница давно стоит. То, что собирают бедняки, они могут истолочь и в маленькой ступе…
— Ну, ну…
— Мы с женою работаем в поле. Дитя остается в доме с котенком. От зверя наш цветок и научился своему первому слову: мяу–мяу…
Голова мельника упала на грудь, и улыбка сбежала с его лица. Оно снова стало темным и сухим, как кусок обгоревшего дерева.
Фу Би–чен подвинул мельнику табак. Шансиец не шевельнулся. Фу Би–чен вынул свою трубку и протянул ему.
Мельник опустился на корточки перед ящиком, служившим Фу Би–чену столом, и стал набивать трубку.
— Мяу–мяу! — повторил Фу Би–чен и улыбнулся. — Сердце ваше полно, как весенняя река. Разве вы пришли сюда не для того, чтобы защищать эту полноводную радость?
— Так говорят все генералы, господин, — со вздохом ответил мельник.
— Я не господин, а друг ваш и товарищ.
Ничего не ответив, мельник затянулся трубкой.
Фу Би–чен дал ему сделать несколько затяжек, потом спросил:
— Вам знакомы эти места?
— Вы сами знаете больше, чем спрашиваете.
— Вы исходили тут каждую тропку?
— Исходил, господин.
— Называйте меня "товарищ".
— Хорошо, госп…
Фу Би–чен подошел к выходу и откинул цыновку.
— Идемте!
Оставшимся в фанзе было видно, как командир подвел мельника к стоявшей под пригорком стереотрубе.
Фу Би–чен взял мельника за плечо и пригнул к окуляру.
— Видите дом?
— Да… товарищ.
— В нем и остался ваш маленький цветок радости.
Мельник подался вперед всем тощим длинным телом так, что едва не свалил трубу. Долго смотрел, потом в нерешительности сказал:
— Если вы говорите, значит так.
— А разве это не ваша фанза?
— Не знаю…
— Это не дом возле мельницы? — терпеливо спросил Фу Би–чен.
Мельник бросил еще взгляд в стереотрубу.
— Не знаю…
— Не узнаете своего дома? На вашей мельнице — японский наблюдатель.
— Может быть…
— Вы не знаете?
— Не знаю…
Чэну, внимательно следившему за разговором, было ясно: перебежчик лжет. Летчик уже пришел к выводу, что это вовсе не перебежчик, а японский лазутчик. Он подослан, чтобы узнать намерения Фу Би–чена. Величайшей ошибкой со стороны командира было бы заговорить о тропе. Но именно тут Фу Би–чен и сказал:
— Здесь есть тропа, по которой можно подойти к мельнице.
"Теперь, если он убежит, японцы будут знать, что мы намерены воспользоваться тропой", — подумал Чэн и почти с ненавистью посмотрел на мельника. Если бы не дисциплина, он выхватил бы пистолет и уложил бы долговязого парня на месте. Но Чэн сидел неподвижно и молчал. А Фу Би–чен, словно смеясь над его сомнениями, говорил:
— Этой тропой можно подойти к мельнице так, что японцы не заметят?
Мельник несколько мгновений смотрел в сторону.
— Не знаю…
Фу Би–чен пожал плечами.
— Жаль… Знай вы тропу, мы выбили бы отсюда японцев… — И после некоторого раздумья прибавил: — Так приказал Чжу Дэ.
Мельник подался всем корпусом к Фу Би–чену:
— Чжу Дэ?!
— Чжу Дэ.
Казалось, мельник не верил своим ушам:
— "Один из четырех"?
— А разве есть еще один такой спутник у Мао Цзе–дуна?
Мельник вскочил:
— Мао Цзе–дун? Если бы я мог верить своим ушам!..
Фу Би–чен отвернулся с напускным равнодушием. Мельник просительно сложил руки:
— Как отличить тех, кому можно верить, от тех, кого надо бояться?
Все с тем же равнодушием Фу Би–чен пожал плечами, а мельник умоляюще воскликнул:
— Я хочу верить, но… нас научили бояться…
— И "Чжу Мао"? — Фу Би–чен укоризненно покачал головой. — И этих львов храбрости и правды?
— Только не их!
— Вы хотите, чтобы ваш цветок никогда больше не увидел лица японского солдата?
— О–о!
— Вы хотите, чтобы ни один разбойник никогда не подошел к вашим дверям?
— Товарищ!
— Тогда верьте мне: я человек "Чжу Мао".
Мельник покачал головой и словно про себя пробормотал:
— Лица японцев похожи на морды бешеных собак.
— Вы их боитесь?
— Стоит ли бояться смерти?
— Смерть? Каждый убитый японец — победа над смертью.
— Я хотел бы быть солдатом Чжу Дэ, чтобы прогнать смерть с полей, где растет цветок моей жизни. — Мельник скрестил руки на груди и нараспев произнес: — Ростом Чжу Дэ выше деревьев. Он всех умнее, сильней и смелей. Он прост и добр. Он видит все на сто ли вокруг. Он угадывает мысли врагов. Он может наслать на них дым и ветер…
— Откуда вы знаете?
— Когда он бодрствует, народ ждет его приказов. Когда он говорит, его слушает весь Китай. Когда он спит, народ охраняет его сон… — Он помолчал и закончил как песню: — Его армия в ста сражениях побеждает сто раз… Я хочу быть солдатом Чжу Дэ!
— Путь к нему прям, — проговорил Фу Би–чен. — Он ведет по тропе, на ту сторону болота.
— Если бы я мог верить…
— Тропа нужна вам так же, как мне. Подумайте… — С этими словами Фу Би–чен вошел в фанзу и опустил за собою цыновку. Мельник остался один в сгустившейся тьме ночи. Из фанзы его не было видно. Чэн подошел к цыновке и отогнул ее край, но Фу Би–чен остановил его повелительным жестом.
— Мне он совсем не нравится, — тихо сказал Чэн.
Фу Би–чен неопределенно пожал плечами.
В фанзе царило молчание.
Первым опять заговорил летчик.
— Он знает тропу… я уверен.
— Я тоже, — сказал командир.
— Так отправьте же его в трибунал!
Стил произнес по–английски:
— Этот тип и мне не нравится.
— Едва ли он, переходя к нам, рассчитывал на то, что придется всем по сердцу, — сказал Фу Би–чен.
— В трибунале разобрались бы, не подослан ли он японцами. Если так, унция свинца — и все, — сказал Стил.
— А тропа? — спросил Фу Би–чен.
— Быть может, можно найти другого человека? — предложил Джойс.
— Как хорошо, что вы все только авиаторы, — иронически сказал Фу Би–чен.
— Бросьте философию, Фу, — раздраженно проговорил Стил. — Нам нужна тропа. Пусть этот парень поворачивается и идет вперед. Я готов итти за ним с пистолетом. Посмотрим, поведет он нас или нет.
Мельник стоял по другую сторону цыновки. Опершись одной рукой о притолоку, он прислушивался к голосам, раздававшимся в фанзе. По его лицу никто не мог бы сказать, понимает ли он то, что говорится там по–английски. Когда умолк голос Стила, мельник приподнял цыновку. Вытянувшись, по–солдатски прижал руки к бедрам и обратился к Фу Би–чену:
— Я хочу вам много сказать.
— Говорите.
Шансиец посмотрел на Стила.
— Не при этом человеке.
— Он не понимает по–китайски.
— Вы не можете этого знать.
Это были первые слова, произнесенные мельником тоном полной уверенности.
Когда командир перевел его слова американцу, тот молча поднялся и вышел из фанзы.
Мельник посмотрел в глаза Фу Би–чену.
— Я скажу, зачем меня прислали.
— Кто прислал? — удивленно спросил командир.
— Японцы.
При этих словах из темного угла вынырнул Чэн.
— Я говорил вам!
Движением руки Фу Би–чен заставил его замолчать. Летчик нехотя опустился на кан.
— Зачем же они вас прислали? — спросил Фу Би–чен таким тоном, как будто все это было самым обыкновенным делом.
— Чтобы я показал вам дорогу к мельнице, но не той тропой, о которой вы спрашиваете, — о ней японцы ничего не знают, — а по краю болота.
— Зачем же вы повели бы нас по краю болота?
— Чтобы вы попали в ловушку… чтобы японцы могли уничтожить ваш отряд.
— Покажите, где проходит вторая дорога.
Фу Би–чен поспешно вышел из фанзы, сопровождаемый мельником. Следом за ними, вынув пистолет, вышел Чэн. Рядом тяжело шагал Джойс.
Через несколько минут они вернулись в фанзу.
— Теперь я буду вашим солдатом. У меня есть все, что нужно солдату: ненависть в груди, отвага в сердце и преданность в мыслях, — высокопарно проговорил мельник.
— Солдату необходимо еще ружье, — ответил Фу Би–чен.
— Вы дадите мне ружье. — Теперь тон мельника стал уверенным, как у человека знающего себе цену.
— Хорошо, возьми, — проговорил Фу Би–чен, как будто тут же протягивая мельнику ружье.
Тот удивленно огляделся:
— Где?
— Там, — и Фу Би–чен махнул рукой по направлению к двери, — на мельнице.
— На мельнице нет оружия, — обиженно произнес шансиец.
— Оно есть там у японцев.
Мельник рассмеялся:
— Я понял!
Фу Би–чен спросил:
— Когда вы должны были провести нас по боковой дороге в ловушку японцев?
— Завтра, к часу, когда зайдет луна.
Фу Би–чен не надолго задумался.
— Идите отдыхайте. Я распоряжусь: вам дадут рису.
— Я возьму его с собой… Цветок голоден.
— Для цветка дадут отдельно. Поешьте и ложитесь.
Едва мельник успел выйти, как Чэн поспешно сказал:
— Позвольте мне лечь рядом с ним.
Фу Би–чен отрицательно покачал головой:
— Если бы вы не были ранены, для вас нашлось бы совсем другое дело.
— Пусть мысль о моей ране не мешает вам отдать боевой приказ, — возразил Чэн. — Я так же здоров, как был вчера.
Фу подождал, пока в фанзу вернулся Стил, и обвел троих авиаторов взглядом своих добрых, покрасневших от лихорадки глаз.
— В моем отряде вы единственные люди, знающие, что такое машина… Никто из вас никогда не имел дела с броневым автомобилем?
Джойс и Стил одновременно вскочили с кана.
— Остальное понятно, командир, — проговорил Стил и, кивнув Джойсу, направился к выходу.
— Вы думаете, что его можно починить? — крикнул ему вслед Фу Би–чен.
Стил только махнул рукой и вместе с Джойсом выбежал прочь.
Через полчаса Джойс вернулся в фанзу.
— Эта старая японская телега почти исправна, — возбужденно доложил он. — Кое–какие пустяки мы починим в течение одного–двух часов.
— Как хорошо, что мы не бросили этот трофей, — радостно произнес Фу Би–чен. — А сколько усилий стоило притащить его сюда… Когда он может быть готов?
Джойс глянул на часы.
— К полуночи, командир.
— Значит, через час после полуночи мы выступаем.
5
Когда Чэн вернулся в фанзу, там опять сидел мельник. Несмотря на то, что Фу Би–чен, повидимому, проникся полным доверием к этому человеку, Чэну не хотелось говорить при нем о предстоящей операции.
— Говорите, Чэн, не бойтесь: это верный человек, — сказал Фу Би–чен.
Чэну хотелось спросить: "Откуда вы это знаете?!". Он сухо доложил о близкой готовности машины и спросил:
— Тропа достаточно широка для броневика?
— И достаточно тверда.
— Но мне говорили, что там есть и ложные тропы, ведущие в трясину.
— Я все знаю, Чэн, — строго сказал командир. В тоне его летчику послышалось: "Довольно сомнений! Пора приниматься за дело, чем бы оно нам ни грозило".
Фу Би–чен спросил шансийца:
— Сколько японцев на мельнице?
— Много.
С таким видом, что можно было подумать, будто этот ответ его удовлетворил, командир снова спросил:
— А офицеров?
Мельник закинул голову. Его острый кадык выдался вперед огромной шишкой.
— О, много!
— Много офицеров? — переспросил Фу Би–чен.
— Почти одни офицеры. Солдаты только так, для охраны.
Утратив обычное спокойствие, Фу Би–чен даже приподнялся на кане: если это верно, значит на мельнице расположен не только наблюдательный пункт японцев, а и их штаб. Он переглянулся с летчиком. Тот едва заметным кивком показал, что понял мысль командира.
— Там только японцы?
— Китайцев я не видел, — сказал мельник.
— А… других иностранцев?
Мельник пренебрежительно махнул рукой:
— Какой‑то маленький старикашка.
— Кто такой?
— Откуда мне знать?
— И больше никого?
— Никого.
— Идите. Я позову вас.
— Когда?
Фу Би–чен строго взглянул на него:
— Солдат не спрашивает.
— Значит, я уже солдат?!
— Идите.
Глядя вслед удаляющемуся шансийцу, Фу Би–чен задумчиво проговорил:
— Если бы вы знали, Чэн, как мне нехватает самолета. Одного–единственного самолета… Ни один японец не ушел бы из‑под удара.
Чэн охотно верил, что самолет был бы очень уместен в такого рода операции: они могли бы связаться с главными силами и сообща нанести удар противнику. Но зачем было думать о самолете, когда его не было, и летчик спросил:
— Вы не намерены привлечь к участию в операции силы Янь Ши–фана?
— Мы будем действовать одни.
— Чего вы ждете от моего броневика?
— Обойдется без вас. Вы больны и вы не можете итти в бой.
— Я пойду, хотя бы мне пришлось бежать рядом с автомобилем, — твердо проговорил Чэн. — Ваши указания, командир?..
Фу Би–чен стал быстро набрасывать карандашом контур болота и расположение троп, как ему объяснил мельник.
— Вот направление вашего движения в голове колонны. Дойдя до края тропы, вот здесь, ждете моей ракеты.
— Вы не идете с нами? — удивленно вырвалось у Чэна.
— Я иду по обходной тропе, где японцы готовят засаду. Задача: зажечь мельницу и, если удастся, захватить тех, кто там сидит. Я должен отвлечь противника на себя, чтобы дать вам возможность уничтожить наблюдательный пункт…
Пока Чэн был у командира, Стил и Джойс при свете костра работали над приведением в порядок машины. Она была в хорошем состоянии, и было странно, что японцы бросили ее в грязи, не подорвав. Это можно было объяснить только поспешностью их отступления.
Стил, обтирая масло с рук, посмотрел на небо. За низко бежавшими облаками не светилось ни единой звездочки.
— Погодка подходящая, — сказал Джойс.
— Чтобы влипнуть в ловушку.
Подошедший Чэн поддержал Стила:
— У нас проводник вполне подходящий для прогулки в ад.
— Пустяки, — сказал Джойс, — мы возьмем джапов за глотку.
— Наша задача только поджечь мельницу и захватить тех, кто там сидит.
— Значит, мы подожжем мельницу и захватим тех, кто там сидит, — ответил негр. — Я еще никогда не чувствовал себя так в своей тарелке, хотя занимаюсь вовсе не своим делом.
В темноте послышались шаги. Чэн различил высокого солдата. У него были широкие плечи и длинное лицо. Он взял под козырек и представился Чэну как командир группы, которая пойдет с броневиком. Из‑за его спины показалась сутулая фигура мельника.
Через полчаса броневик медленно обогнул холм и двинулся к болоту. На его капоте сидел мельник и движениями руки указывал Стилу путь. Джойс поместился у пушки. Чэн стоял в командирском люке. За погромыхивающим на ухабах броневиком почти бегом следовал отряд солдат.
Дымка тумана в низине казалась черной. Приближаясь к ней, Стил невольно придержал машину. Мельник соскочил с капота и побежал вперед. Стил думал только о том, чтобы не потерять в тумане его едва заметный силуэт и не свернуть с тропы в топь.
Броневик потряхивало на кочках. Чэн придерживал здоровой рукой раненую, чтобы умерить боль от толчков.
— Эй, Хамми, — послышался голос Стила, — ты там держишься за свой пугач?
— Ты только не утопи нас, а уж моя стрелялка свое дело сделает.
Чэн приказал замолчать. Он боялся, что, отвлеченный разговором, он может не уследить за бежавшим перед машиной мельником. Теперь летчик перестал поддерживать больную руку, так как правая была занята пистолетом, который Чэн собирался, не раздумывая, разрядить в спину мельника, как только поймет, что тот завел их в трясину.
Джойс напрасно пытался разглядеть в смотровую щель фигуру мельника — ее не было видно. "Интересно, видит ли его Чэн?" — подумал он.
6
Шверер был зол на всех и вся. Он злился на Геринга, которому взбрело на ум заниматься бактериологией. Это, разумеется, чрезвычайно интересное и полезное дело, но Шверер боялся, что оно так же останется втуне, как боевые газы. Ведь их так и не удалось полностью использовать в прошлой войне. Шверер добивался тогда разрешения у императорской ставки пустить в ход все запасы, какие у него были. Но, боясь репрессий, Вильгельм ограничился полумерой: газами отравили несколько десятков тысяч русских и этим ограничились. Влияния на ход восточной кампании газы не оказали. А сколько надежд Шверер возлагал тогда на это новое оружие, против которого у русских не было принято почти никаких действительных мер!
Шверер злился на Гаусса, в который уже раз подкладывавшего ему свинью. То одно поручение, то другое. Даже недавняя командировка в Чехословакию оказалась мало похожей на почетную миссию завоевателя Праги. Задним числом до Шверера доходили отвратительные слухи, будто бы его предназначали в жертвы провокации. Ее удалось предотвратить только благодаря вмешательству совершенно случайного человека, чуть ли не его бывшего шофера. Как его звали?.. Да, как его, в самом деле, звали? Не Курц ли?
Но воспоминание о Лемке было тут же заслонено раздражением против Гаусса — виновника второй поездки Шверера в Китай.
Неприязнь Шверера распространилась и на генерала Накамура, втянувшего его в детальное изучение вопроса о бактериологическом оружии японцев. Швереру показалось недостаточным то, что он видел на опытном полигоне, где с самолетов метали недавно изобретенные доктором Исии фарфоровые бомбы в привязанных к железным столбам людей. Бомбы были наполнены зараженными чумою блохами. Экспериментаторов интересовало, как велико поле, покрываемое паразитами при падении бомбы. Для этого в разные дни людей привязывали к столбам на различном расстоянии друг от друга. Это были главным образом пленные китайцы. После каждой такой бомбардировки поверхность полигона заливалась горючей смесью и сжигалось все, что на ней было, во избежание распространения страшной заразы, Шверер видел, как после установления числа паразитов, пришедшихся на долю привязанного к столбу китайца, его тоже обливали керосином и он сгорал вместе с опытным инвентарем. Для следующего опыта оставались только врытые в землю обрезки рельсов.
Швереру не верилось, что легочная чума так эффективна, как уверяли японцы. Специально для него был проведен эксперимент, когда подопытного человека не сожгли, а со всеми предосторожностями сохранили для дальнейших наблюдений. Наряженный в непроницаемый резиновый костюм и маску, Шверер имел возможность воочию убедиться в том, как скоро зараженный умер. Швереру бросилось в глаза, что, умирая, больной находился в полном сознании и понимал, что с ним происходит. Это его несколько беспокоило.
— А не боитесь ли вы, — спросил он Накамуру, что зараженные солдаты противника, сознавая свою обреченность и исполненные ненависти к виновникам своей гибели, будут способны произвести ошеломляющие атаки? Это имело бы вдвойне страшные последствия для вас, генерал.
Накамура улыбнулся и проговорил, сопровождая каждую фразу вежливым шипением:
— Мы все учитываем. Бомбы должны бросаться только в глубоком тылу противника, куда мы не можем рассчитывать попасть.
— Значит, объектом нападения при помощи чумных блох всегда будут служит мирные жители, а не войска? — с разочарованием спросил Шверер.
— Не всегда… Я имел удовольствие докладывать вам об авиационных бомбах. Но как раз сейчас мы намерены произвести испытание некоторого подобия ручных гранат. Они будут пригодны на участках, поспешно оставляемых нашими войсками и переходящих в руки врага.
— Условием применения такого снаряда должна быть уверенность, что ваши войска быстро оторвутся от войск противника и что данные войска противника нигде больше не войдут в соприкосновение с вашими, — глубокомысленно проговорил Шверер. — Боюсь, что в Европе это оружие неприменимо. Наши пространства ничтожны по сравнению с театром, на котором оперируете вы. У нас инфекция непременно оказалась бы занесенной на нашу собственную территорию.
— Это очень печально, экселенц, — тоном самого искреннего огорчения сказал японец. — Но арсенал бактериологических средств отнюдь не ограничивается чумой. Можно подумать о других средствах, столь же действительных, но не столь молниеносных и не в такой мере опасных для собственных войск. А кроме того, осмелюсь напомнить вашему превосходительству: вы едва ли ограничились бы воздействием только на войска русских. Разве вас не интересуют такие глубокие тылы, как Заволжье, Урал, Сибирь, — все те районы, которые будут служить Красной Армии резервом людского материала и источниками ее материального снабжения?
— А можно ли приготовить такое количество блох, чтобы усеять ими Сибирь? — с оживлением спросил Шверер.
Накамура издал только протяжное:
— О–о-о!
По его мнению, это должно было означать, что возможности производства вполне достаточны для самых широких замыслов.
Через несколько дней военный летчик ротмистр фон Кольбе повел в воздух самолет, в котором сидел сам Шверер. Японец–бомбардир управлял сбрасыванием бомб, начиненных бактериями тифа и холеры. Шверер, впервые находившийся на борту военного самолета, с интересом наблюдал разрывы и поражался декоративной красоте черных клубков, возникавших на месте падения снарядов, хотя в действительности эти разрывы не имели ничего общего с разрывами боевых авиабомб — они содержали заряд, достаточный лишь для разрушения оболочки и разбрасывания состава с бактериями. Шверер вылез из самолета приятно возбужденный.
С того дня прошло довольно много времени, и настроение у Шверера успело сильно испортиться. Он был зол на весь мир, включая самого себя. Он раскаивался в том, что дал увезти себя на фронт. Участок считался безнадежным — со дня на день японские войска должны были его покинуть, чтобы успеть выйти из окружения, методически замыкаемого китайцами. Перед уходом предполагалось заразить чумой какую‑нибудь наступающую часть противника, которая, по данным разведки, была лишена механизированных средств передвижения и не могла бы помешать японцам оторваться от преследования.
Все здесь было совсем не похоже на его представления о войне. Все двигалось и казалось более чем ненадежным. Правда, с фронта японскую часть прикрывало обширное болото, но Шверер чересчур много наслышался о котлах, которые китайская 8–я армия повсеместно устраивала японцам. Он очень ясно представлял себе, как подвижные китайские части, отлично знакомые с местностью, охватывают японцев и, прижав их к непроходимому болоту, поголовно уничтожают. Вместе с японцами попадает в этот котел и он…
Ко всему, местопребывание группы Исии на какой‑то полузаброшенной мельнице оказалось лишенным самых элементарных удобств. Все вокруг провоняло крысами. При каждом неосторожном движении с полов и стен поднимались тучи серой, затхлой муки. Начищенные, как зеркало, сапоги Шверера стали похожи на полотняные. Мука забиралась в нос, и Шверер уже несколько раз чихнул. Нет, положительно такая война не нравилась Швереру, и он с нетерпением ждал, когда японцы начнут действовать. Сообщение о том, что операция отложена до следующей ночи, привело Шверера в уныние. Провести в таких условиях ночь и весь завтрашний день? За одно это можно было бы возненавидеть Гаусса!
Во сне Шверер видел долговязую фигуру своего врага в штатском, с зонтиком и в галошах…
7
Потерять из поля зрения силуэт мельника — это была катастрофа. Чэн ясно представлял себе, как мельник сломя голову бежит к японскому штабу, как предупреждает о приближении отряда по тропе, о движении Фу Би–чена в обход японского фланга. Он уже ясно видел всю картину провала операции. И в этом не был виноват никто, кроме него, Чэна. Не стоять тут, изображая из себя командира, а итти рядом с мельником, не спускать с него мушки пистолета — вот что он должен был делать!
Он с досадой сказал Стилу:
— Стой! Я потерял проводника.
Чэн соскочил на землю. Вылез и Джойс. Едва он сделал два шага, как сразу попал в топь.
Чэн услышал смех Джойса.
— Чему вы? — с раздражением спросил Чэн.
— Действительно, прекрасный проводник…
Чэн стиснул зубы.
Подошли солдаты во главе с высоким командиром. Повидимому, они сразу поняли, что произошло, но никто не издал ни звука. Молчал командир, молчали Чэн и Джойс. И вдруг в тишине безветреной ночи все ясно услышали шелест раздвигаемой жесткой травы. Звук быстро приближался. Чэн выхватил пистолет, но в тот же миг высокие стебли перед его лицом покачнулись и на него надвинулась темная фигура человека. Это был мельник.
Чэн навел пистолет на перебежчика, но мельник смело отстранил оружие.
— Японцы близко, — сказал он. — Хорошо, что вы остановились, ваша машина слишком шумит.
— Он хочет заставить нас бросить броневик и попасться японцам с голыми руками, — по–английски сказал Стил, высунувшись из дверцы.
Мельник, настороженно прислушивавшийся к звукам незнакомых слов, одно мгновение помолчал, потом решительно заявил:
— Ее нужно толкать руками… Иначе японцы услышат.
— Это пахнет правдой, — сказал Джойс. — Если мы хотим подойти к ним неожиданно, придется протолкнуть броневик на руках. — И, обращаясь к мельнику, спросил: — Далеко до них?
Чэн перевел ответ:
— С половину ли.
Стил осторожно притворил дверцу и взялся за руль. Джойс и Чэн вместе с остальными принялись толкать броневик.
В тишине слышалось тяжелое дыхание людей, да изредка раздавалось чмоканье чьей‑нибудь ноги, попавшей в трясину. Тумана больше не было, но впереди, там, где возвышалась полоса берега, казалось еще темней, чем на болоте. Продвинувшись шагов на сто, люди в изнеможении остановились. Только высокий командир готов был еще напирать и напирать. У Чэна до слез болела рана, но он первым взялся снова за потеплевшую от многих рук сталь брони. Машина двинулась дальше. Теперь мельник шел медленно, шаг за шагом нащупывая тропу.
Когда Чэн оглянулся, ему показалось, что полоска горизонта стала чуть–чуть светлей, чем окружающая их тьма: неужели рассвет?.. Он пригляделся к циферблату: до назначенного удара осталось не больше четверти часа. Шопотом приказал подналечь. Машина покатилась быстрей, люди почти бежали. Некоторые выбились из сил и отстали. Можно было подумать, что броневик двигают только высокий командир и Джойс — такими большими казались они.
Наконец мельник остановился.
— Вот видишь?
Чэн посмотрел в направлении его вытянутой руки и различил контуры мельницы. До нее осталось не больше полутораста–двухсот шагов. Можно было только удивляться тому, что японцев не потревожило приближение отряда. Повидимому, они чувствовали себя со стороны болота в полной безопасности. "Или притаились", — мелькнула мысль у Чэна, и в этот миг он увидел, что мельник пригнулся и побежал к берегу. Прежде чем Чэн успел выхватить пистолет, фигура проводника растворилась на фоне холма.
Далеко направо к небу взвилась красная ракета Фу Би–чена.
Сон Шверера был недолог. Несмотря на шелковое белье, на все антипаразитные средства, которые были пущены в ход, чтобы предохранить его от насекомых, он все же проснулся от ощущения, что кто‑то щекочет его одновременно в разных местах тела. Чесались спина и грудь, руки, ноги, живот. Проснувшись, он тотчас вскочил и с трудом отогнал мысль, что усыпан чумными блохами, вырвавшимися из какой‑нибудь японской гранаты. Наскоро одевшись и бормоча себе под нос все бранные слова, какие знал, он вышел из каморки. Резкий свет ручного фонаря еще ярче, чем прежде, обнаружил все убожество обстановки, в которой Шверер вынужден был проводить время вдали от дома, от привычных удобств, от родных.
При мысли о родных, он вспомнил об Отто и даже приостановился от удивления: куда он мог деваться? Ведь постель его была пуста. Неужели и тут он нашел объект для шалости? Неужели сорванца не угомонили ночи, проведенные в кабаках Харбина?
В нижнем этаже мельницы Шверер увидел свет. Накамура стоял спиною к двери и, заглядывая через плечо сидящего за столом Исии, читал иероглифы, которые быстро выводила рука врача. По мере чтения выражение лица японского генерала делалось все более довольным.
В донесении, которое писал полковник Исии Сиро, говорилось, что план предстоящей операции был составлен под общим наблюдением и руководством его превосходительства начальника императорской военной миссии в Харбине генерал–майора Накамуры. Накамура с удовлетворением подумал, что в штабе квантунской армии завтра же узнают об обещании гоминдановского генерала Янь Ши–фана, стоящего за южным концом болота, не мешать операции, задуманной Накамурой. Далее в донесении сообщалось, что через сутки после того, как тут произойдет небольшое, разыгранное лишь для вида сражение с Янь Ши–фаном, войска красных будут заражены чумой. Болезнь эта станет распространяться с такой молниеносной быстротой, что в неделю и от всей армии Янь Ши–фана не останется ни одного солдата.
Накамура удовлетворенно втянул сквозь зубы воздух.
— Командующему армией будет приятно читать такое прекрасное донесение, — сказал он.
Изобразив последний иероглиф и поставив под ним свою именную печать, Исии вежливо предложил.
— Быть может, и вам, тёсё какко, угодно поставить изображение вашего высокого имени рядом с моею скромной печатью?
Накамура уклонился от такой чести: еще никто не знает, как будет осуществлен прекрасный план. Нет смысла ставить свою печать раньше времени. Пока за все отвечает Исии, так пусть и отвечает. Вот если все пройдет хорошо — другое дело.
За спинами японцев неожиданно послышалось громкое чиханье Шверера. Оба испуганно обернулись. Увидев немца, Накамура расплылся в угодливой улыбке.
— Уверены ли вы в том, что человек, посланный к китайцам, чтобы заманить их, не выдаст ваших намерений, экселенц? — спросил Шверер.
Шверер сам не знал, как пришла ему эта мысль, но стоило ее высказать, как она показалась вполне основательной.
— Мы оставили у себя в руках залог его верности, — ответил Накамура.
— Пфа! Верность китайца! — Шверер пренебрежительно фыркнул.
— Жена и дочь…
— А…
Это было единственным звуком, который успел издать Шверер. Гром пушечного выстрела заполнил помещение. Посыпались стекла и глина разбитой снарядом стены. Тотчас же послышалась трескотня винтовочных выстрелов и второй удар пушки.
Все трое, сталкиваясь друг с другом, бросились к выходу.
Выскочив на двор, Шверер услышал гулкое таканье тяжелого японского пулемета… второго… третьего. В темноте сверкали короткие блески выстрелов: одни Шверер видел сзади, другие били как бы ему в лицо. Третий раз ударила пушка. Следом за разрывом снаряда яркое пламя полыхнуло в деревянной надстройке мельницы.
Шверер побежал прочь, выкрикивая:
— Отто!.. Отто!..
Перебежав двор, Шверер увидел фанзу. Первым движением было скрыться за ее стенами, но он тут же сообразил, что глинобитные стены строения не защита. Он огляделся, ища какого‑нибудь укрытия, и тут увидел Отто, выбежавшего из этой фанзы.
— Скорей, скорей отсюда! — крикнул ему Шверер. — Первое же попадание в склад бактериологических гранат…
Отто стоял, прислонившись к стене фанзы.
— Скорее же, скорее! — бормотал Шверер, пытаясь оттащить сына от стены.
Отто посмотрел отцу в лицо, будто только сейчас узнал его.
— Да, да, скорее отсюда… сейчас…
Отто, не оборачиваясь, побежал к сараям, за которыми стояли автомобили. Шверер бросился было за ним, но в этот миг за его спиною сверкнуло пламя — такое яркое, что стала видна каждая соломинка на крыше фанзы. Страшный грохот потряс воздух, и Швереру показалось, что на него обрушился весь мир…
Гранаты!
Это была единственная мысль, которая успела прийти Швереру, когда он, отброшенный взрывом, покатился по склону холма…
Шверер пришел в себя в автомобиле, мчавшемся по степи. Первое, что увидел Шверер, были несущиеся по сторонам в ослепительном свете фар высокие стебли гаоляна. Они мелькали так быстро, что у Шверера закружилась голова. Он снова закрыл глаза. И вдруг вспомнил: чумные гранаты! И тотчас же почувствовал, что под бельем у него что‑то копошится, ползает… Блохи!.. Он застонал от ужаса и принялся срывать с себя одежду, белье. Отто пытался удержать его, хватал за руки, но генерал, скрежеща зубами, с пеною у рта рвал и рвал на себе все, пока не почувствовал, что холодный ветер, бьющий навстречу мчавшейся машине, не ударяет его по голому телу… Тогда он сразу обмяк и, заплакав гнусавым старческим плачем, упал на сиденье…
Было уже совсем светло, когда Фу Би–чен, Стил и Джойс сошлись у фанзы за тем местом, где раньше была мельница. Последним подошел Чэн. Тыча дулом пистолета в спину плетущегося перед ним японца, летчик заставил его приблизиться к командиру. На японце были погоны врача. Он что‑то бормотал и заискивающе улыбался. Фу Би–чен, научившийся за время войны японским словам, необходимым в походе, не мог понять, что говорил японец. А тот с досадой повторял все одно и то же. Он хотел объяснить китайцам, что они могут не бояться заразы: жаркое пламя сгоревшей мельницы уничтожило и опасные гранаты и зараженных блох; китайцы могли не бояться.
Японец растягивал большой губастый рот в угодливой улыбке.
Фу Би–чен подошел к фанзе мельника, не тронутой пожаром, и заглянул в черный квадрат входа. Когда глаза его привыкли к полутьме, он увидел ребенка, ворочавшегося на куче ветоши.
Это была девочка с личиком, покрытым густым слоем пыли и копоти. Она спала в обнимку с котенком, и только когда луч солнца, скользнувший в крошечное оконце, упал ей на глаза, девочка недовольно сморщилась и закрыла глаза кулачками.
Фу Би–чен поднял ребенка. Уцепившийся было за нее котенок упал и жалобно замяукал. Девочка тотчас очнулась и, потянувшись к котенку, издала тот же звук:
— Мяу–мяу…
Фу Би–чен оглядел внутренность фанзы, и стоявшие снаружи услышали его крик:
— Скорее сюда… Японца, врача!..
Они вбежали в фанзу. Фу Би–чен молча показал в дальний угол. На полу лежала мертвая женщина в растерзанной одежде.
Японец опустился на колени возле женщины. Через минуту он показал на два входных отверстия пуль.
Чэн вышел из фанзы. Следом за ним Фу Би–чен с ребенком на руках.
— А мельник? — спросил он.
— Я видел его тело под холмом, — ответил Джойс.
— Вероятно, первая же японская очередь… — объяснил Стил.
Фу Би–чен взял на руки девочку.
— Нежный цветок его души…
— Я думал, что знаю нашего китайского крестьянина, — задумчиво проговорил летчик Чэн. — Но если бы кто‑нибудь рассказал мне случай с мельником… — Не договорив, он отвернулся.
— Двенадцать лет назад, когда я только вернулся на родину, — сказал Фу Би–чен, — председатель Мао Цзе–дун объяснил мне: "Вам необходимо постичь душу китайского крестьянина, — сказал он. — Поднимутся миллионы и миллионы…" — Фу Би–чен поднял ребенка. — Миллионы нежнейших цветов взойдут над землею Китая… Пусть японский врач осмотрит тело мельника, — быть может, он еще не умер… Мне очень хотелось видеть счастье в его глазах.
8
Через два дня после разгрома группы генерала Накамуры, отряд вышел на соединение с главными силами Чжу Дэ. А еще через день к месту встречи прибыл главком. Солдаты Фу Би–чена выстроились в две длинные шеренги. На них были покрытые заплатами, но чисто выстиранные курточки и кепи, настолько выгоревшие под палящими лучами солнца и так омытые дождями, что от их первоначальной окраски не осталось и следа. Впервые после двух лет разлуки люди Фу Би–чена увидели Чжу Дэ. Генерал неторопливо приближался к строю. Он был одет в такую же выгоревшую одежду, как солдаты, такой же загорелый, как они, с таким же простым и суровым лицом крестьянина, какие были у большинства солдат.
Приняв рапорт Фу Би–чена, Чжу Дэ снял кепи и поздоровался с отрядом. Он поздравил солдат с победой и сказал короткую речь о значении боев этого трудного, но чрезвычайно важного этапа освободительной войны; сказал о том, как высоко 8–я армия несет знамя борьбы и как ее ценит народ, плотью от плоти которого она является.
— Вот почему, — сказал Чжу Дэ, — народ любит вас. Смеясь, народ говорит: "Восьмая армия — совсем не то, что грабители гоминдановцы. В обычные дни мы ее и не видим. А вот стоит прийти противнику — Восьмая армия тут как тут. Она появляется как из‑под земли". Некоторые части противника, которые уже давно воюют с вами, бойцами Восьмой армии, приходя на новое место, прежде всего осведомляются у населения: есть ли тут "восьмерка". Если люди говорят им "да", лица врагов темнеют. Если враг терпит поражение и от других частей китайской армии, он все равно уверяет, что был разбит Восьмой армией. Такова ваша слава! — Чжу Дэ оглядел ряды бойцов. — Поддерживайте вашу славу, храните ее, как святыню, и донесите до дня окончательной победы над врагом; помните слова нашей песни: "Только вперед, никогда назад, мы на грани жизни и смерти". Я знаю, вы хорошо помните наше правило: "Ты наступаешь — я отступаю; ты отступаешь — я преследую; ты останавливаешься — я тревожу; ты устал — я бью". Враг устает все больше и больше, в то время как мы набираемся сил. Придет время, когда он устанет настолько, что мы добьем его… Если наша армия может тесно сотрудничать с народом, то враг будет разбит и уничтожен до последнего солдата. В это я верю, глядя на вас…
На дальнем левом фланге строя Чжу Дэ увидел трех отдельно стоящих людей. Один из них был китаец, второй — белый и третий — негр.
— Кто такие? — спросил Чжу Дэ у Фу Би–чена.
— Авиаторы.
— О, у вас есть даже своя авиация?
— Был один трофейный самолет, но сгорел… Эти люди не мои люди, они пробирались к вам.
Чжу Дэ попрощался с солдатами и двинулся к левому флангу. Солдаты запели:
Слава армии восьмой -
Тверже стой,
народный строй!
Слава смелому Чжу Дэ,
Путь к победе
с ним везде…
Чжу Дэ остановился, с улыбкой слушая песню. Когда солдаты кончили петь, он поклонился им и надел кепи.
Чэн перевел главкому рассказ Стила и Джойса об их путешествии в Китай. Генерал дружески пожал руки механиков и Чэна и, грустно покачав головой, сказал:
— Беда в одном — у нас почти нет боевой авиации, нехватает самолетов.
Заметив разочарование на лице Стила, тут же весело заявил:
— Это не должно вас огорчать: у нас нет самолетов, но они у нас, несомненно, будут. Может быть, еще не так скоро, но, конечно, в достаточном количестве. Мы в этом уверены.
— Вы сделали заказ за границей? — спросил Джойс.
— На заказы за рубежом у нас нет золота. Мы получим свои самолеты тут, в нашей собственной стране.
— Ваша промышленность…
Но генерал не дал ему договорить:
— К сожалению, у нас нет и авиационной промышленности. Но у нас есть враг, которого мы будем бить тем сильнее, чем дальше пойдет дело. Мы будем получать нашу технику из его рук. Если мы будем бить японцев, у нас будут японские самолеты.
Конец разговора произошел уже в землянке Фу Би–чена, где Чжу Дэ пил чай с командирами.
— Когда вы попадете в наш тыл, то увидите, что мы с большим усердием готовим кадры, в том числе летчиков. На инструкторско–преподавательскую работу мы бросили самых лучших, самых опытных командиров. Школам мы отдаем самые лучшие самолеты из тех, что попадают нам в руки. Вы, может быть, скажете: "А не лучше ли использовать эти самолеты, этих опытных летчиков на войне, чтобы драться с вражеской авиацией?" Разумеется, это было бы прекрасно. Это очень помогло бы нам сегодня. Но мы должны думать не только о "сегодня", а и о "завтра". Завтра авиация будет нам еще нужнее, чем сегодня. И так как именно завтра мы рассчитываем иметь много самолетов, то и готовим для них летчиков сегодня… Поэтому, мистер Стил и мистер Джойс, если вы ничего не имеете против, мы используем ваши знания сначала в школе командиров. А потом, когда у нас сформируется боевая авиация, вы сможете поработать и в ней. Мы с радостью примем вашу братскую помощь. — Пожав обоим механикам руки, генерал сказал Чэну: — А вам приказываю немедленно отправиться в школу в качестве инструктора воздушного боя, поскольку вы истребитель. Вы, говорят, учились летать у американцев? Тем легче будет вам обучать наших людей летать и на американских самолетах, если они попадут нам в руки.
Чэн так поспешно вытянулся, чтобы отдать честь, что причинил боль своей раненой руке. Пробежавшая по лицу летчика судорога боли выдала его генералу. Когда Чжу Дэ узнал, что летчик ранен, он приказал немедленно отправить его в лазарет.
— Пользуйтесь случаем, товарищ Чэн, — добродушно сказал он, — хорошие госпитали — не такие частые гости в Восьмой армии. А тут к нам, по счастливой случайности, приблудился иностранный санитарный отряд. Сомневаюсь, чтобы католические организации Америки, отправлявшие врачей в Китай, предназначали их таким безбожникам, как коммунисты, но раз уж врачи попали к нам — пользуйтесь. Уверен, что не сегодня–завтра, как только католики в Соединенных Штатах узнают, что американские врачи лечат раненых бойцов Восьмой армии, госпиталь тотчас отзовут или прикажут ему перекочевать к гоминдановским генералам, которые за любую подачку готовы признать не только бога, а и самого дьявола. — Тут Чжу Дэ обернулся к Стилу: — Кстати говоря, о католиках: когда вы вернетесь в Соединенные Штаты…
— Боюсь, что это случится не очень скоро.
— А я надеюсь, что это может произойти скорее, чем вы думаете. Так я говорю: когда вы туда вернетесь, спросите у американских католиков: почему они так много говорят о дьяволе, сеющем зло во всем мире, и о том, что все люди должны с этим дьяволом бороться, а сами ничего не делают для этой борьбы? Почему они предоставляют бороться с этим всемирным дьяволом там, безбожникам Китая, Испании и других стран, где происходит борьба со всеми видами фашизма? Ведь имя дьявола — фашизм! Почему американские католики, так же как и все другие американцы, ничего не сделали, чтобы предотвратить победу фашизма в Испании? Почему они позволили немецкому фашизму захватить Чехословакию? Почему американцы, называющие себя демократами, решительно ничего не сделали для действительной помощи нам, китайским демократам, в борьбе с японской разновидностью фашизма? Ведь мы вели с ним борьбу не на жизнь, а на смерть, и тогда, когда была полная возможность спасения Испанской республики. Ведь мы знаем, что во всей Америке и в Европе нарастало народное движение против политики умиротворения, которую проводили не только Чемберлен и Даладье, а и правители Америки. Мы же знаем, что в то время, как простой народ в Англии и в Соединенных Штатах бойкотировал японские товары, чтобы показать свою солидарность с нами, чтобы не давать ни одного цента японским милитаристам, правительство этих стран посылало в Японию металл для пушек и снарядов. Тут, на далеком востоке материка, происходило совершенно то же, что и на его крайнем западе. Эта политика официального невмешательства и неофициальной помощи империалистам дорого обошлась миру. Она была причиной не только того, что Китай потерял часть своей территории, но и причиной разрушения единства нашего народа. Пусть правители Америки сопоставят даты некоторых событий на западе и на востоке материка. Японцы захватили последний большой порт Китая Кантон сразу после Мюнхена потому, что поняли: британский империализм не окажет японскому никакого сопротивления, как он не оказал его империализму германскому. Да что там Кантон! Японцы не постеснялись нарушить границы даже такой "жемчужины британской короны", как Гонконг! Американцы называют себя поборниками прогресса и демократии. Так пусть они придут в Китай и посмотрят, как бюро гоминдановских чиновников, генералов и купцов кишат нацистскими и фашистскими дипломатами и корреспондентами. Эти люди шепчут на ухо китайцам: "За Испанией и Чехословакией наступит очередь Франции и Англии. Германский вермахт покончит и с ними. Тогда никто и ничто не помешает ему в движении на восток: СССР будет уничтожен, Япония будет поставлена на колени. Только не идите ни на какие уступки китайскому народу. Душите в нем все прогрессивное. Убивайте демократов, уничтожайте коммунистов". И тут же за спиною дураков и преступников шептуны суют нож в руки Японии. Они хотят, чтобы японцы перерезали горло Китаю… Почему американцы не видят всего этого? Почему они не хотят этого видеть?..
Стил и Джойс поняли, что согласие Чжу Дэ принять их на службу — акт большой дружбы. В их помощи китайская авиация, конечно, не нуждается. Если народ Китая одержит победу над отечественной и иноземной реакцией, то не с помощью иностранцев…
Вернувшись из полевого госпиталя, Чэн хотел сказать механикам, как искусна милая китайская фельдшерица по имени Мэй и как мила ее родинка над переносицей, но его перебили, не дали ему говорить, а через день Чэн забыл имя Мэй. Когда, шагая по пыльной дороге в школу, чтобы скоротать время, он стал все‑таки рассказывать своим друзьям о приеме в госпитале, то просто назвал ее милой китаянкой:
— Если бы вы видели, ребята, какая она красивая и какая у нее родинка на лбу!
Перед Джойсом тотчас возник образ покинутой в Штатах Мэй, с которой он не успел проститься перед отъездом и которая теперь, наверно, его забыла. Джойс хотел расспросить Чэна о китайской фельдшерице с родинкой, но тут в разговор вмешался Стил:
— А вы знаете, ребята, — вдруг вспомнил он, — мне сказали, что наш бывший командир Фу Би–чен — летчик.
— Нет, — резко запротестовал Чэн, — на мой взгляд, не летчик тот, кто столько лет не держался за штурвал. Он погиб для авиации.
Стил пристально посмотрел в глаза китайцу.
— В Испании я знавал художников, становившихся слесарями, и слесарей, рисовавших плакаты. Я видел летчиков в пехоте и артиллеристов в коннице. Партия знает, что нужно делать человеку.
— И все‑таки… — упрямо начал было Чэн, но Джойс перебил:
— Перестаньте спорить, лучше передайте мне с повозки мое банджо.
Через минуту послышался его бас:
Битвы, которые нас не сгибали!
Битвы, длившиеся годами!
Битвы, в которых мы были сильнее стали,
Потому что вы стояли за нами,
Наш дорогой, наш самый дорогой товарищ -
Сталин!..
Арбы попутного обоза громыхали по каменистой шансийской дороге рядом с пешеходами. Сквозь стук колес не до всех сразу ясно донеслась песня негра. Но, по мере того как напев доходил, все новые и новые голоса присоединялись к певцу.
К звездам, глядевшим с черного неба на беспредельные просторы китайской земли, взлетала песня, сопровождаемая непривычным аккомпанементом банджо, английские слова мешались с китайскими, но мотив был один:
Сталин,
Мы вас никогда не видали,
Но вы нам роднее любого на свете.
Пусть нас разделяют безбрежные дала,
Мы самые близкие ваши соседи…
9
В последнее время в отношениях лорда и леди Крейфильд установилось странное противоречие: она протестовала против всего, что предлагал Бен, он отвергал все планы Маргрет. В их совместной жизни никогда еще не было дней, до такой степени переполненных тревожными мыслями и проектами, имевшими целью спасти трещавшее здание безмятежной уверенности в незыблемости их благополучия. Со времени последней большой забастовки горняков все пошло как под гору. Бен, увлеченный своими свиньями, запустил дела. Времени, свободного от занятия фермой, едва хватало на то, чтобы кое‑как стравляться с несложными обязанностями в кабинете министров. Маргрет потерпела большие убытки в биржевой игре. Монти окончательно отошел в сторону и вел свои дела независимо от брата и его жены.
Маргрет искала помощи у дяди Джона. Ванденгейм прислал ей в качестве советника своего лондонского поверенного. Через него Маргрет, спекулируя на тревоге, нависшей над Восточной Европой, приобрела контрольный пакет акций нефтяного синдиката "Карпаты".
Политический кризис стремительно развивался. Все яснее становилось, что это не просто бум, созданный прожженными политиками ради ловли рыбки в мутной воде. Пахло порохом и кровью. Маргрет беспокоилась. Необходимо было знать, не находятся ли карпатские источники в полосе возможных военных действий. Если так, ее бумаги могут оказаться обесцененными и она — банкрот. И наоборот, если война не может коснуться этих предприятий, каждый баррель нефти, источаемый для нее карпатской землей, несет двойную и тройную прибыль. Одним словом, Маргрет хотела знать, продавать американо–польские бумаги или покупать новые.
Ей пришло в голову, что верным советчиком в этом деле мог быть Черчилль. Но открыть ему причину своего интереса к польской проблеме она не решалась. Хотя было известно, что деловые интересы Черчилля сосредоточены в золотой и химической промышленности, но кто мог с уверенностью сказать, что бульдог не занимается и нефтью? Трудно себе представить, чтобы, ведая в свое время делами флота и заморской торговлей, Уинстон остался в стороне от нефтяных интересов Англии. Открыть ему свое беспокойство — значило сказать: "Не хотите ли по дешевке скупить мои бумаги, сыграв на понижение "Карпат"?" Нет, Маргрет вовсе не так полагалась на дружбу, чтобы доверить ей биржевые дела!
— Вы должны поехать к Уинстону, — заявила она Бену.
— Все, что вас интересует, я могу узнать и без Уинстона.
— Вы поедете к Уинстону!
— Уж лучше я поговорю с премьером, — пробормотал Бен, которому не хотелось ехать к бывшему приятелю.
— Премьер! — презрительно заявила Маргрет. — Ваш премьер!.. — И она прибавила такое словечко, что Бен зажал уши. — С таким же успехом я могла советоваться с моим попугаем.
Она настояла на том, что Бен поедет к Черчиллю и, не выдавая тому истинной цели визита, выяснит его оценку политической ситуации.
На следующий день Бен, ворча, влез в автомобиль и велел везти себя в Чартуэл. Не доезжая полумили, он вылез из машины и, несмотря на начавшийся дождь, пешком отправился в имение, намереваясь сослаться на испортившийся автомобиль. Понурый вид Бена и забрызганные ботинки могли служить подтверждением этому.
Бен застал хозяина в дальнем углу сада. Черчилль стоял на стремянке у неоконченной стены небольшой кирпичной постройки. Он бережно, высунув кончик языка, накладывал кирпичи. Время от времени, отстранившись, насколько позволяла лестница, и прищурившись, он любовался плодами своей работы. На нем было поношенное пальто, прикрытое спереди широким парусиновым фартуком. С полей шляпы на вытертый бархат воротника падали капли дождевой воды.
Повидимому, Черчилль не слышал шагов Бена. Он продолжал безмятежно заниматься своим делом, пока Бен его не окликнул. Черчилль глянул вниз, и Бену послышалось, что у хозяина вырвалось нечто похожее на проклятие. А вслух Черчилль проговорил:
— О, Бен, старина! Чертовски здорово, что вы появились! Не считайте невежливостью то, что я не послал вам поздравительной телеграммы: стоило прожить на свете шестьдесят пять лет, чтобы увидеть вас вице–премьером, хотя бы и в кабинете мистера Чемберлена–младшего.
Чувство юмора отсутствовало в характере Бена. Поэтому он почти всегда и почти все принимал за чистую монету. Но на этот раз в тоне Черчилля сквозила такая нескрываемая ирония, что она дошла даже до неповоротливого сознания Бена.
— Каждый имеет право на те убеждения, какие у него есть, — проворчал он.
— А если у него нет никаких? — раздалось с лестницы, и большая цементная клякса упала Бену на носок ботинка. — Это, разумеется, относится не к нам с вами: каждый из нас лишь по одному разу изменил своей партии.
Болтая, Черчилль медленно спускался с лестницы. Он переступал одной ногой со ступеньки на ступеньку, как делают маленькие дети. Лестница скрипела и гнулась под тяжестью его тучного тела.
Очутившись рядом с гостем, Черчилль отвязал фартук и, аккуратно сложив его, повесил на нижнюю ступеньку.
— Вот, — сказал он, указывая на незаконченную кирпичную стену, — осталось еще немного. Когда будет готова кухня, мы с миссис Черчилль будем иметь угол на черные дни, надвигающиеся на Англию по милости вашего кабинета.
Бен в замешательстве топтался у подножья стены. Не зря он так сопротивлялся этой поездке! Что мог он ответить в защиту своего незадачливого правительства? Действия кабинета были цепью неудач и унижений, невиданных в истории Англии. Усилия премьера, направленные к умиротворению агрессора, только разжигали аппетит Гитлера. "Фюрер" убеждался в том, что Англия ему мешать не будет, что она занята внутренними неурядицами в связи с обостряющимся рабочим вопросом, борьбой с надвигающимся кризисом, дипломатической войной с Италией за уплывающее господство в Средиземноморье.
Англия была растеряна, если понимать под Англией кучку дельцов, известную на данном отрезке истории под именем кабинета. Эта группа подписывала международные соглашения, выступала с декларациями, пыталась опровергать в парламенте всплывавшие на поверхность разоблачения, отвергала протесты, боролась с забастовками, совершала все глупости и преступления, носившие официальное название "политики правительства его величества". В действительности это была политика людей, стремящихся всеми силами за счет других народов и собственного английского народа удержать свои позиции в новом переделе мира.
Зная, что договоры подписывались, декларации произносились, глупости и преступления совершались именем Англии и от имени англичан, можно было бы подумать, что Британские острова населены одними выжившими из ума старцами и патологически глупыми недоносками. Так ясно сквозило в каждом действии британского кабинета намерение ввергнуть страну в пучину войны. Но происходящее было подтверждением того, что не существует правила без исключений. Поговорка "каждый народ имеет правительство, какого он достоин", не подходила к случаю. Сорок шесть миллионов англичан были достойны лучших министров. Очень немногие из этих сорока шести миллионов поставили бы свою подпись на документах, определявших внутреннюю и внешнюю политику империи. Согласие на захват Абиссинии итальянским фашизмом, потворство итало–германской интервенции в Испании и аншлюссу Австрии, продажа Гитлеру Чехословакии — все это было не чем иным, как самоубийственным участием в первом акте трагедии, которой суждено будет получить наименование второй мировой войны. На Дальнем Востоке Япония продолжала выбивать из‑под Англии одну подпорку за другой. Лондонский кабинет терпел оскорбления и удары от японцев в надежде, что все‑таки удастся толкнуть их на СССР и США. Соединенные Штаты Америки, делавшие вид, будто они кровно заинтересованы в сохранении мира, продолжали втихомолку подталкивать японцев к дальнейшему наступлению. Так же как в свое время только усилиями США была спасена от краха развалившаяся машина германского империализма, так и теперь, лишь благодаря американскому металлу, американской нефти, американским моторам, американскому золоту, японский империализм мог продолжать свою континентальную авантюру в Азии.
Были такие люди в Англии, которые позволили убаюкать себя болтовней Чемберлена, будто мир спасен. Но те, кто не хотел сознательно закрывать глаза на происходящее, знали, что уже второй год идет новая империалистическая война, разыгравшаяся на громадной территории, от Шанхая до Гибралтара, и захватившая более пятисот миллионов человек населения, что насильственно перекраивается карта Европы, Африки, Азии, что потрясена в корне вся система послевоенного, так называемого мирного режима.
Чем дальше шло дело, тем настойчивее простой англичанин заявлял: спасение мира — в союзе с Советской Россией! Черчилль, неизмеримо более ловкий политик, чем Чемберлен, улавливал настроения английского общества. С обычным для него коварством матерого двурушника Черчилль подхватил это требование народа и использовал его как оружие для борьбы с кабинетом. Становясь в позу ярого критика действий премьера, он тоже "разоблачал" бездарных министров.
— С одной стороны, — говорил он, — отвергнутая политика президента Рузвельта стабилизировать положение в Европе или добиться перелома вмешательством Соединенных Штатов; с другой — пренебрежительное невнимание к несомненному желанию Советской России примкнуть к западным державам и пойти на все для спасения Чехословакии; сброшенные со счетов тридцать пять чешских дивизий против еще незрелой германской армии в тот момент, когда Великобритания могла предоставить для укрепления фронта во Франции только две дивизии, — все это пущено на ветер… Теперь же, когда все эти преимущества и богатства растрачены и выброшены, Великобритания, ведя за руку Францию, выступает с гарантией целостности Польши, которая всего за шесть месяцев до этого с жадностью гиены приняла участие в грабеже и уничтожении чехословацкого государства. Имело смысл бороться за Чехословакию в тысяча девятьсот тридцать восьмом году, когда германская армия едва могла выставить на западном фронте полдесятка обученных дивизий и когда французы с их шестьюдесятью или семьюдесятью дивизиями наверняка могли форсировать Рейн или вступить в Рур. Но это было сочтено нецелесообразным, поспешным, не отвечающим современному мышлению и морали. Теперь же, по крайней мере, два западных демократических государства заявили о своей готовности рискнуть жизнью во имя целостности Польши. Чтобы найти параллель этому внезапному превращению шестилетней политики широко афишируемого умиротворения в готовность принять неминуемую войну на гораздо худших условиях и в максимальном масштабе, придется, пожалуй, прочесать вдоль и поперек всю историю, которая, как говорят нам, есть главным образом история преступлений, безумств и бедствий человечества. Да и как могли бы мы защитить Польшу и выполнить свои гарантии? Только объявив войну Германии и напав на более сильные укрепления и более мощную германскую армию, чем те, перед которыми мы отступили в сентябре тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Вот вехи на пути к катастрофе!.. — С пафосом возмущенного правдолюбца Черчилль заявлял: — Средства организации сопротивления агрессии в Восточной Европе почти исчерпаны. Венгрия — в немецком лагере. Польша в стороне от чехов и не желает сотрудничать с Румынией. Ни Польша, ни Румыния не согласны на выступление русских против Германии через их территорию. — И зная, чем он может вернуть себе растраченную популярность, он, наконец, восклицал: — Ключ к великому союзу — договоренность с Россией!
Старый ненавистник Советского Союза знал, что делает: требование ориентироваться на Советский Союз звучало как голос разума и прогресса рядом с тупым бормотаньем премьера: "Я должен признаться в глубоком недоверии к России. Я вообще не верю в ее способность вести эффективное наступление даже при желании".
Черчилль бил на популярность СССР в Англии и тем самым вырывал стул из‑под премьера.
Черчилль понимал, что нельзя скрывать от англичан единственный путь спасения Англии — заключение пакта с Советским Союзом. Давно уже мозг Черчилля, изощренный в политических каверзах против Советской России, не работал с такой интенсивностью, как в те сложные дни. Всё новые комбинации, одна коварнее другой, заставляли его дрожать от нетерпения поскорее ухватиться за руль государственного корабля Англии. Он не уставал живописать в парламенте и в печати военную неподготовленность империи и мрачные перспективы поражения. Делая вид, будто стремится к разоблачению неразумной политики Чемберлена, старый волк добивался совсем другого: он хотел запугать англичан. Чем меньше голосов будет раздаваться в Англии за союз с Советами, за обуздание Гитлера, тем лучше. Мысль о возможности сотрудничества с советским государством, которое он ненавидел всем своим существом, борьбе с которым посвятил половину жизни, ужасала Черчилля. Он хотел видеть Россию изолированной, одинокой, предоставленной самой себе в предстоящей неизбежной борьбе с фашизмом. Исподтишка помочь немцам, если дела их пойдут плохо в единоборстве с Россией, — это он мог. Но помогать России?.. Никогда. Не ради того он прожил долгую жизнь, чтобы собственными руками разрушить все, что сделал для уничтожения коммунизма.
Однако опыт подсказывал Черчиллю, что не всегда все выходит так, как хочется. Не исключена была возможность, что договор Англии и Франции с Россией подписать все же придется. Ну что же, Черчилль был готов и к этому. Тогда он станет ярым сторонником союза с Россией. Он постарается убедить весь мир, что война уже невозможна. Но тайный аппарат Британской империи будет пущен в ход, чтобы доказать немцам обратное. Гитлер узнает, что пакт с Россией — фикция, что Англия никогда не вынет меча из ножен, что нацистам открыт путь на восток. С точки зрения Черчилля, вторая комбинация — соглашение с СССР — была в сложившихся условиях лучше открытого разрыва с ним. Она повлекла бы за собой усыпление бдительности англичан, а быть может, и русских. Спокойно отдавшись хозяйственным заботам, русские были бы застигнуты нападением Гитлера врасплох…
Как совместить уклонение от договорных обязательств перед Россией с честью Англии?.. При этом вопросе Черчилль мог только мысленно улыбнуться: а чем была вся многовековая политика создания империи? Удержать от исполнения обязательств Францию? Над этим не стоило задумываться: пример Мюнхена был более чем ярким…
В своем уединении, будучи "не у дел", Черчилль внимательно следил за каждым шагом кабинета и знал, что бесполезно растолковывать Чемберлену и Галифаксу выгоду придуманной им, Черчиллем, позиции. Да и вовсе не в интересах Черчилля было давать им умные советы. Англия — Англией, но нельзя забывать и о самом себе. "Пусть англичане позовут своего Уинстона, — с нежностью думал о самом себе Черчилль, — машина завертится в нужную сторону. А пока?.. Пока разоблачать, разоблачать и еще раз разоблачать бездарность правительства!"
В том, что группы Черчилля и Чемберлена называли своими "программами", было не больше разницы, чем в программах американских республиканцев и демократов. Те и другие представляли не только один и тот же правящий класс Англии, но и защищали его интересы одними и теми же средствами. Разногласия между ними были лишь отражением борьбы за власть конкурирующих между собой банковских или промышленных групп. Всякий политикан, вышибленный из насиженного министерского кресла очередной сменой кабинета, хватался за любую возможность подставить ножку своему сопернику. Чемберлен и Галифакс были соперниками Черчилля и Идена. Черчилль и Иден до боли в скулах готовы были "бороться за правду", пока это шло во вред группе Чемберлена, но не во вред им самим.
Идея Черчилля использовать гитлеровскую Германию в качестве ударной силы для сокрушения Советской России вовсе не была новостью. Она была лишь запоздалым повторением обанкротившегося плана Джозефа Чемберлена. Он тоже пробовал втравить императорскую Германию в войну с тогдашней Россией, поймав немцев на приманку "пантевтонской программы". Англия еще в начале XX века рассчитывала, ослабив сразу обе эти державы, захватить положение гегемона в делах Европы.
С тех пор многое изменилось. Англия была не та, Россия была не та, Европа тоже была не та. Капитализм был смертельно ранен. Тем ревностнее пытались старцы с Даунинг–стрит втравить Германию в войну с СССР, пользуясь тем, что Гитлер и его хозяева сами лезли в драку, хотели ее. В голове Черчилля ворочались тайные планы привлечения "к делу" и Соединенных Штатов. Точно так же эти планы вынашивались некогда Джозефом Чемберленом. Тому тоже мерещилось, что, временно поделив главенство над миром с Америкой, Англия сумеет в конце концов выбить из седла и своего заокеанского партнера. Но осуществление этих планов, как известно, не удалось Англии даже того периода. А тогда, ее империя находилась в зените своего могущества. Тем более бредовыми выглядели такие проекты сейчас, когда Англия тянулась к вожделенному плоду дрожащими руками стареющего скопидома.
Удивительно бывает в жизни человека, когда он один не видит своей обреченности. В стремлении схватить непосильное он растрачивает и то, что у него есть. Так же удивительно это было и с целой страной: правители Англии не понимали, что максимумом их стремлений может быть удержание минимума.
Жадность толкала английских правителей на один неверный шаг за другим. Это было плодом такого же ослепления, какое привело к крушению германскую империю Гогенцоллернов. Германия Вильгельма рвалась к недостижимому в значительно более молодом возрасте. То была эпоха капитализма, только что достигшего высшей и последней стадии своего развития — империализма. Борьба, затеянная германским империализмом, привела к трагической и для него самого развязке. Мечты о мировом господстве рассеялись, как дым. Британская империя тогда устояла, хотя ее силы и были подорваны.
Век капитализма шел к концу, но Черчилль этого не понимал. Он не хотел примириться с неизбежным. Он вообразил, что в компании с такими же, как он сам, живыми анахронизмами еще можно спасти идущий ко дну корабль капитализма. По его мнению, для спасения капитализма достаточно было сокрушить родившееся и исторически закономерно развивающееся социалистическое советское государство.
Чтобы взяться за осуществление своих планов, Черчиллю нужно было добиться власти. Ему нужно было свалить кабинет Чемберлена, прежде чем тот окончательно развалил империю. Черчилль с напряженным вниманием следил за развитием событий. Старые связи в правительственном аппарате и в разведке позволяли ему подчас знать то, что скрывали от премьера. Чемберлену не приходило в голову, что решения Гитлера и Муссолини были приняты раньше, чем он совершил свои позорные паломничества в Годесберг, в Мюнхен, в Рим. А Черчиллю уже была известна оценка, которую осмеливались давать англичанам даже такие презренные разбойники, как Муссолини и Чиано. Черчилль скрежетал зубами от бессильной злобы, когда читал в донесениях британских разведчиков:
"Обсуждая результаты визита Чемберлена, дуче сказал:
— Переговоры с англичанами не имеют уже никакого значения. Эти люди сделаны из другого теста, нежели Фрэнсис Дрейк и прочие блистательные авантюристы, создавшие Британскую империю. Теперь это всего лишь усталые дети длинной линии богачей.
Чиано ответил:
— Англичане стараются отступать как можно медленнее, но они не хотят и не будут сражаться. Переговоры с ними действительно можно считать законченными. Я уже телефонировал Риббентропу и сообщил ему о полнейшем фиаско, которое постигло миссию англичан".
Или:
"Чиано доложил дуче о том, что британский посол в Риме лорд Перт представил на одобрение Италии проект речи, которую Чемберлен намерен произнести в палате общин.
— Он не возражает, если вы внесете свои поправки, — заметил Чиано.
— В общем сносно! — сказал Муссолини, просмотрев план речи. — Но дело, разумеется, не в этой болтовне старого осла, а в том, что впервые в истории Британской империи ее премьер представляет на одобрение иностранного правительства плач своего выступления. Плохое предзнаменование для англичан.
— Но отличное для нас, — ответил Чиано.
Муссолини рассмеялся:
— Нужно быть полным идиотом, чтобы не понимать: дело идет к тому, что мы выпихнем их из Средиземного моря. Тогда их империи конец.
— На месте их распавшегося Вавилона появится Великая Римская империя Муссолини. И мир прославит вас, как нового Цезаря.
Дуче:
— Могу себе представить физиономию этой толстой свиньи — Черчилля, когда он узнает, что я визировал речь главы британского правительства…"
— Да, мой старый друг, — ворчливо проговорил Черчилль, обращаясь к понуро стоявшему под дождем Бену. — Корабль мира получил слишком большие пробоины, чтобы удержаться на воде… Идемте. Надеюсь, что в доме еще найдется чашка горячего чаю… Брр, чертовски неподходящая погода для войны.
И он зашлепал по мокрой траве в направлении дома.
— А знаете, что на–днях заявил премьер? — несколько оживившись, спросил Бен и дружески взял Черчилля под руку. — "Шансы Черчилля на вступление в правительство улучшаются по мере того, как война становится все более вероятной".
После мучительно длинного предисловия Бен выложил Черчиллю то, ради чего явился в Чартуэл.
— Дорогой Бен, — глубокомысленно ответил Черчилль, — я польщен вашей уверенностью, что до сих пор "указания для генералов должен составлять юнкер", но сначала ответьте на вопрос: что думают о ситуации ваши горняки?
— Мои горняки! — в отчаянии воскликнул Бен. — Какой это беспокойный народ — английские горняки! Если бы покойный лорд Крейфильд знал, как они будут себя вести в наше время, то ликвидировал бы все свои шахты. Он оставил бы мне наличные деньги или, во всяком случае, что‑нибудь не связанное с так называемым рабочим вопросом. — Забыв наставления Маргрет, Бен продолжал: — Если бы вы знали, милый Уинстон, как мы завидуем вам…
Черчилль насторожился:
— Вот уж не предполагал, что в положении отставного боцмана я могу служить предметом зависти.
— Для меня и даже для леди Крейфильд!
— Зависть вице–премьера!
— Перестаньте шутить, Уинстон. Вы навсегда избавлены от хлопот, причиняемых рабочими, вы живете в уверенности, что никакие забастовки не могут превратить ваши золотые бумаги в мусор.
— Откуда такая уверенность, Бен?
— Забастовки кафров?.. Рабочий вопрос в Африке?
— Вы сильно отстаете от жизни, Бен. — Черчилль сердито толкнул ногою дверь. — Кажется, даже каннибалы знают уже, что такое тред–юнионы.
— В колониях можно применять совсем другие способы ликвидации конфликтов с рабочими, чем здесь у нас, — плаксиво проговорил Бен. — Нефтяные дела куда спокойнее угольных. Вся нефть — за пределами Англии.
— Все имеет свои теневые стороны, — неопределенно ответил Черчилль, отряхивая дождевую воду со шляпы. — Раздевайтесь, Бен, вероятно, нам дадут чаю… Вот тоже "дела вне Англии" — чай.
— Нет, китайцы — это уже не африканские дикари. Они хотят, чтобы их интересы принимались в расчет…
— Безумные времена, Бенджамен, совершенно безумные! — иронически заметил Черчилль.
— Говоря откровенно, я возлагаю большие надежды на Гитлера, — понижая голос, сказал Бен. — Этот сумеет навести порядок и в Европе и в колониях, которые придется ему дать.
Черчилль нервно откусил конец сигары и исподлобья, как готовящийся к удару бык, уставился на Бена:
— Придется дать?
Бен на минуту смешался: уж не проговорился ли он?.. А впрочем, если он хочет обеспечить себе место в кабинете Черчилля, когда тот придет к власти (Бен был уверен, что рано или поздно это случится), то можно и выдать ему один–другой секрет Чемберлена. Поэтому он спокойно договорил:
— Помните разговоры о встрече Галифакса с Гитлером? Это не сплетни: встреча была. Многозначительная встреча! В ответ на жалобы фюрера, будто консерваторы занимают абсолютно отрицательную позицию в вопросе о возвращении немцам колоний, Галифакс сказал, что правительство его величества вовсе не отказывается серьезно обсудить это дело с Германией. Позднее, через Гендерсона, он еще раз дал ясно понять Гитлеру, что глобус может быть поделен между двумя великими мировыми империями…
Хотя Черчиллю через собственные каналы было известно содержание двух бесед с Гитлером, о которых говорил Бен, он с напускным интересом спросил:
— Просто так: поделить и все? Без всяких искупительных услуг со стороны фюрера?
Бен приблизил губы к мясистому красному уху Черчилля:
— Германия должна раз и навсегда покончить с коммунизмом… Разумеется, не только внутри Германии, а и там, в России.
— Уничтожить красную Россию?
— Никто не стал бы этому мешать, но на этом пути мы встретим одну почти непреодолимую трудность.
— Большевики говорят, что непреодолимых трудностей не бывает.
— Дело в том, — понижая голос, сказал Бен, — что Гитлер не желает бросаться на Советский Союз, не имея за плечами формального союза с нами и с Францией или хотя бы только с нами.
Черчилль недовольно выпятил нижнюю губу:
— Подумаешь, препятствие!.. Правительство его величества имеет достаточный опыт, чтобы найти выход из такого положения: не всякий союз заключается для того, чтобы выполняться.
— Но скандал в случае огласки, Уинстон?! В свете наших нынешних переговоров с Москвой даже моя сегодняшняя нескромность могла бы стоить мне очень дорого.
— Поста вице–премьера? — со смехом спросил Черчилль. — Не очень большая беда, Бен. Зато вы обеспечили бы себе такой же пост в значительно более почетном кабинете…
Он замолк, взвешивая мелькнувшую мысль: не попытаться ли получить через этого олуха подлинники секретных записей? Тогда он имел бы в руках оружие, которым можно припереть к стене и Галифакса и самого Чемберлена. Да что там "припереть к стене"! Он мог бы свалить их замертво! А как важно было бы знать в точности слова Гитлера для дальнейших сношений с ним, когда он, Черчилль, возьмет дело в свои руки. Весьма возможно, что эти переговоры придется закончить за спиною русских, если московский пакт почему‑либо будет все же заключен.
— Послушайте, Бен… — вкрадчиво проговорил Черчилль. — Вы верите в мою дружбу?
После некоторого колебания Бен не очень твердо сказал:
— Я уже не раз доказал…
Испугавшись очередной тирады, Черчилль нетерпеливо перебил:
— К делу, Бен: мне нужны эти записи!
Бен испуганно откинулся к спинке кресла.
— Прочесть? — заикаясь, пробормотал он.
— Разумеется! — воскликнул Черчилль, прикидывая в уме, сколько времени понадобилось бы на то, чтобы сфотографировать документы. — На каких‑нибудь два часа, Бен… Всего на два часа!
Бен тоже рассчитывал: что может ему дать такая услуга в будущем и чем она грозит в настоящем?..
— Два… часа?.. — в сомнении проговорил он. И тут же вспомнил, что должен в обмен на это обещание привезти хотя бы ответ для Маргрет. — А как насчет польского вопроса?
Отдавшись своим мыслям, Черчилль не сразу вспомнил, при чем тут Польша.
— Ах да, Польша!.. Гитлер доведет дело до конца. Так же, как довел его до конца с Австрией, с Чехословакией, как доведет с Данцигом.
— Значит… война? — в испуге спросил Бен.
— Не знаю… Но даже если война?
— А наши гарантии Польше?
— Ах, милый Бен… — Черчилль сделал нетерпеливое движение. — Англичане всегда были хозяевами своего слова: тот, кто его дал, вправе взять его обратно…
— Вы хотите сказать, что… Германия в три дня покончила бы и с Польшей?
— Если мы ничего не будем иметь против.
— Я вас понял, Уинстон.
— Вы еще в колледже отличались понятливостью, милый старый дружище Бенджамен. Если господь–бог судил мне стать когда‑нибудь премьером этой страны, чтобы спасти ее от гибели, вы обещаете мне занять пост вице–премьера…
Конец фразы он досказал мысленно: "В каждом кабинете должен быть свой дурак". Но лорд Крейфильд важно ответил:
— Подумаю о вашем предложении, милый Уинстон… — И мечтательно добавил: — Ах, колледж, колледж! Какие были времена!
Бен еще несколько раз пытался вернуть разговор к интересовавшему его вопросу о Польше, о возможных размерах конфликта и об угрозе нефтяным источникам, интересовавшим Маргрет. Но Черчилль ловко избегал ответа. Бен понял, что получит ответ лишь в обмен на записи разговоров Галифакса и Гендерсона с Гитлером. Он решил, что в конце концов Уинстон не чужой человек — можно показать ему записи.
С этим Бен и уехал.
Однако, несмотря на все старания, ему так и не удалось вынести документ из канцелярии премьера. Еще раз внимательно прочесть запись — вот все, что он смог сделать.
Как многие недалекие люди, Бен обладал отличной механической памятью. Неспособный самостоятельно проанализировать многозначительный разговор министра иностранных дел с Гитлером, Бен мог с фотографической точностью запомнить диалог. Явившись на лондонскую квартиру Черчилля, он предложил пересказать ему содержание берлинских бесед в обмен на точный и ясный ответ: что делать с американо–польскими бумагами.
— Милый Уинстон, — сказал Бен, — если Маргрет узнает, что я выдал вам ее тайну, мне не сдобровать.
Это не было рисовкой ни перед Черчиллем, ни перед самим собой. Из двух тайн, которые он привез Черчиллю, его несравнимо больше беспокоила судьба той, хранить которую велела Маргрет. По мере того как ухудшались его денежные дела, Бен чувствовал все большую зависимость от жены. Он старался не думать о том, что власть Маргрет — это власть ее дяди Джона Бену был противен развязный шумный американец и его доллары, грубо вторгавшиеся в чинную жизнь Грейт–Корта. Даже перед самим собою Бен делал вид, будто все это его не касается, и только под нажимом жены соглашался иногда поговорить о денежных делах.
Но с Черчиллем такая наивная игра была бесполезна. Не Бену было надуть старого пройдоху. Черчилль сразу понял, что в обмен на хороший совет в личных делах лорд–свиновод, не задумываясь, выдаст ему государственную тайну Англии. Гражданская совесть — не жена, она не будет мучить лорда Крейфильда.
Сделка состоялась быстро и к обоюдному удовольствию, хотя ни тот, ни другой ни разу не назвали вещи своими именами. Они оба были джентльменами и умели не ставить собеседника в ложное положение.
С такой легкостью, будто речь шла о салонной сплетне, Бен выкладывал то, что должно было оставаться величайшей тайной от человечества:
— Галифакс заявил фюреру, что его заслуги признаются в Англии. Если английское общественное мнение и занимает иногда критическую позицию по отношению к известным германским проблемам, то это объясняется тем, что в Англии не полностью осведомлены о мотивах и обстановке германских мероприятий. — Бен не заметил, что в этом месте Черчилль криво усмехнулся. Он беззаботно продолжал: — Члены правительства его величества проникнуты сознанием, что в результате уничтожения коммунизма в своей стране фюрер преградил заразе путь в Западную Европу. Поэтому Германия по праву может считаться бастионом Европы против большевизма…
— Очень жаль, — сказал Черчилль. — Министр слишком откровенен с этим выскочкой. Гитлер не должен знать, как высоко мы ценим его антикоммунистическую деятельность. Иначе он положит ноги на стол.
— Я не отвечаю за слова лорда Галифакса, Уинстон, — со скукою в голосе заявил Бен. — Я передаю вам содержание документа.
— Никогда не забуду этой услуги, дорогой Бенджамен… Продолжайте, прошу вас.
И Черчилль на цыпочках, чтобы не мешать Бену, подошел к курительному столику.
— После того как германо–английское сближение, сказал фюреру Галифакс, подготовит почву, четыре великие державы должны совместно создать основу, на которой может быть установлен продолжительный мир в Европе. Далеко идущее сближение может быть достигнуто только тогда, когда все стороны станут исходить из одинаковых предпосылок и будет достигнуто единство взглядов.
— Галифакс не говорил, что он имеет в виду под "далеко идущим сближением"? — спросил Черчилль.
— Если я правильно понял, он хотел сказать Гитлеру, что мы готовы даже на…
Бен запнулся. Только тут на память ему пришло предостережение, которое сделал Галифакс, когда рассказал о своей встрече с Гитлером: это большой секрет. Немцы боятся, что американцы взорвут марку, если узнают, что рейхсканцлер шушукается с Лондоном.
Бен вопросительно посмотрел на собеседника. Ссутулившийся, с большой головой, втянутой в высоко поднятые плечи, с огромной нижней губой, отвисшей чуть ли не до тройного подбородка, Черчилль уставился на гостя крошечными злыми глазками, прикрытыми тяжелыми мешками одутловатых век. Бен понял, что сопротивляться этому взгляду удава не в его силах, и, словно бросаясь головой в воду, договорил:
- …Вплоть до согласия не мешать Гитлеру на западе. Гитлер может разделаться с Францией, если это является его условием похода на восток. Галифакс сказал мне: в том, что Гитлер оккупировал бы Францию, есть большой плюс для нас. Блокада Германии стала бы полной. Французам была бы отрезана возможность использовать свой флаг для снабжения немцев за нашей спиной.
Черчилль сделал размашистое движение рукой, в которой держал сигару. Струя дыма прочертила в воздухе след, как от совершившего мертвую петлю самолета.
— В том, что говорит долговязый дурень, есть доля правды… — проворчал он. — Вернемся к их беседе.
— Галифакс сказал Гитлеру, — уныло продолжал Бен, — что англичане являются реалистами. Они убеждены, что ошибки Версаля должны быть исправлены. Английская сторона не считает, что статус–кво должно оставаться в силе.
— Это порадовало фюрера? — спросил Черчилль.
— Еще бы! Он ответил, что возможности разрешения международных проблем будут найдены, если поумнеют политические партии или в Англии будут введены государственные формы, не позволяющие партиям оказывать влияние на правительство.
— У него осталось мышление ефрейтора. Этот дурак, видимо, полагает, что англичане принимают Мосли всерьез! И что мы готовы отдать власть ему и его прощелыгам.
— Повидимому, — ответил Бен. — Но Галифакс сказал ему, что существующие в Англии формы правления не изменятся сразу. Из этого, однако, не следует, что влияние политических партий могло вынудить правительство его величества упустить какие‑либо возможности сближения с Германией. Тут же Галифакс дал ему понять, что наше правительство не отказывается и от обсуждения колониального вопроса.
— Глупо! — сердито отрезал Черчилль. — С цепной собакой не обсуждают вопроса о том, какую кость ей бросить… Нельзя упускать возможности держать этого разбойника на привязи. Иначе он бросится на нас.
— Галифакс это понимает.
— К сожалению, он частенько выбалтывает свои мысли. А в отношениях с такими типами, как Гитлер, это самое страшное.
— На этот раз министр дал только понять, что мы не закрываем глаза на необходимость значительных изменений в Европе.
— Ефрейтор наверняка уцепился за эту фразу?
— Да, он тут же заявил: следует наверстать то, что было упущено в прошлом из‑за ненужной верности договорам.
— Нашел кого учить!
— Фюрер сказал еще, что два столь реалистических народа, как германский и английский, не должны поддаваться влиянию страха перед катастрофой.
— Ему‑то хорошо! — с нескрываемой завистью проговорил Черчилль. — Он зажал своих в кулак. А попробовал бы он "удержать от страха" наших милых соотечественников!
— Под катастрофой Гитлер разумел большевизм, — пояснил Бен.
— Разве вы не понимаете, что англичанина нужно еще суметь убедить в том, что большевизм действительно катастрофа для нас.
— Для нас или для Англии? — наивно спросил Бен.
— Англия — это мы! — отрезал Черчилль. — Дальше!
— Это главное из того, что Галифакс сказал Гитлеру.
— А Гендерсон?
— Гендерсон был еще конкретней. Он сразу же заявил Гитлеру, что дело идет не о торговой сделке, а о широком политическом соглашении, о попытке установить сердечную дружбу с Германией. Он указал, что, по нашему мнению, данный момент является подходящим для такой попытки.
— Да, если только Гитлер не верит в серьезность наших переговоров в Москве.
— Едва ли он верит в них.
— Почему? — с напускной наивностью спросил Черчилль.
— Ему уже дано понять, что цель московских переговоров — прикрытие от глаз общественности того, что происходит в Лондоне.
— Глупо!
— М–м-м… — Бен не нашелся, что ответить: одним из инициаторов этого сообщения Гитлеру был он сам. Он поспешил сказать: — Гендерсон сказал фюреру, что премьер взял в свои руки руководство английским народом, вместо того чтобы итти у него на поводу.
Эти слова вызвали оживление Черчилля. Вот, наконец, та бомба которой можно взорвать кабинет Чемберлена.
Между тем Бен продолжал:
— Гендерсон сказал еще, что, по его мнению, наш премьер выказал беспримерное мужество, когда сорвал маски с таких интернациональных лозунгов, как коллективная безопасность…
— Это пришлось Гитлеру по вкусу!
— "Не надо было впускать Советскую Россию в Европу, — сказал он Гендерсону. — Если стоит говорить об объединении Европы, то без России".
— Что ответил посол?
— Он указал Гитлеру на глобус и жестом как бы поделил его пополам.
— Не многовато ли для такого ублюдка, как фюрер?
— Обещать не значит дать.
Бен считал, что сказал вполне достаточно для оплаты совета, обещанного Черчиллем. Хозяин не стал спорить. Он красноречиво описал политическую перспективу. Бен слушал со вниманием, чтобы не пропустить то главное, что нужно передать Маргрет. Но все, что говорил Черчилль, выглядело важным, и вместе с тем Бен не мог уловить ничего, что прояснило бы вопрос, интересующий леди Крейфильд. Он покинул дом Черчилля с еще большим туманом в голове, чем прежде.
После его ухода Черчилль долго расхаживал по кабинету, дымя сигарой. Потом вынул из письменного стола толстую тетрадь дневника и отыскал свою прошлогоднюю запись о беседе с гитлеровским гаулейтером Данцига Ферстером, посетившим его частным образом на этой самой квартире в Лондоне.
Черчиллю вспомнилось, как он в те дни яростно нападал в парламенте и в многочисленных статьях на позицию Чемберлена и Даладье. Он для виду настаивал тогда на защите Чехословакии, являвшейся пробным камнем в попытке Гитлера открыто, вооруженной рукой перекроить карту Европы.
Черчилль с недоброй усмешкой перечитал свои собственные слова:
"Я заверил Ферстера, что Англия и Франция приложат все усилия, чтобы уговорить пражское правительство…"
Да, Чемберлен и Даладье уговорили Прагу капитулировать.
Черчилль вспоминал, как Советский Союз стремился предотвратить вторжение Гитлера в Чехословакию, как Франция открытой изменой союзническим обязательствам в отношении Праги свела на–нет все усилия СССР. Он крепче закусил сигару при мысли о роли, сыгранной тогда Чемберленом. Взгляд его быстро скользил по строкам дневника.
"Я ответил Ферстеру, что, по моему мнению, было бы вполне возможно включить в общеевропейское соглашение пункт, обязывающий Англию и Францию прийти Германии на помощь всеми силами… Я не являюсь противником мощи Германии. Большинство англичан желает, чтобы Германия заняла свое место в качестве одной из двух или трех руководящих держав мира…
Ферстер ответил мне, что не видит никакого реального основания для конфликта между Англией и Германией, — если бы только Англия и Германия договорились друг с другом, они могли бы поделить между собою весь мир…"
Эту последнюю фразу немца переводчик счел тогда за лучшее не переводить. Но Черчилль понял ее и без переводчика.
Черчилль продолжал рассеянно перелистывать дневник, выхватывая взглядом отдельные фразы. Несколько задержался на странице:
"Вчера один друг доставил мне копию совершенно секретного донесения польского посла в Париже Лукасевича об его беседе с Боннэ. Есть кое‑что заслуживающее внимания:
"…Министр Боннэ пространно начал говорить об отношении к Советской России. Он сказал: франко–советский пакт является очень условным, и французское правительство не стремится опираться на него. Он будет играть роль и иметь значение только в связи с тем, как Франция будет воспринимать колебания Польши. Боннэ откровенно заявил, что был бы особенно доволен, если бы он мог, в результате выяснения вопроса о сотрудничестве с Польшей, заявить Советам, что Франция не нуждается в их помощи… Во время беседы Боннэ напомнил о поддержке, которую Франция имеет не только со стороны Англии, но и со стороны Соединенных Штатов Америки…" У Лукасевича написано: "Посол Буллит говорил мне, что министр Боннэ в разговоре с ним заявил, что не допускает мысли о том, что Соединенные Штаты могут не поддержать английский и французский демарш в Берлине, и получил в ответ от посла Буллита: "Это так…"
Черчилль захлопнул тетрадь.
"Господь да поможет мне завершить дело всей моей жизни, — произнес он про себя. — Пусть всевышний уничтожит Россию руками Гитлера прежде, чем я уничтожу их всех".
Тут Черчилль вспомнил, как Бен проговорился насчет того, что Гитлер не решается ринуться в войну против России, не имея в кармане союзнического договора с Англией. Это было серьезное препятствие. Воспоминание о нем едва сразу же не погасило хорошего настроения Черчилля. Бен, конечно, прав. Вовсе не свои слова он произносил, когда высказывал опасения скандала на весь свет в случае обнаружения эдакого договорчика с Гитлером. Такой бум взорвал бы кабинет, как бомба.
А нет никакого сомнения, что при малейшей попытке Англии увильнуть от исполнения подобного соглашения Гитлер начал бы шантажировать британское правительство оглаской документа перед общественным мнением мира. Подобный прощелыга не остановится перед приведением своей угрозы в исполнение.
При этой мысли Черчилль даже привскочил и стал нервно потирать ладони, как бы торопя и без того стремительно мчавшиеся мысли. Его изощренный в политической игре мозг рождал одну комбинацию за другой… Почему бы не взорвать правительство Чемберлена, подтолкнув его на заключение пакта с Гитлером? Тогда, придя к власти на место Чемберлена, он, Черчилль, мог бы сразу обрести ореол народного героя — стоило бы только порвать чемберлено–гитлеровское соглашение. Но…
Всяких "но" оказалось все же чересчур много. К своему крайнему огорчению, Черчилль понял: на подобный пакт в нынешней обстановке не пошел бы даже такой полный невежда, как, скажем, лорд Крейфильд. О Чемберлене нечего было и говорить: его на такой мякине не проведешь, как бы самому Чемберлену ни была мила подобная перспектива… Нет, из этого ничего не может получиться… Прекрасный, но бесплодный зигзаг мысли… Фантазия!.. Химера!
— Очень жаль! — произнес он вслух и с кряхтеньем стал освобождать свое грузное тело из тисков кресла.
10
Ответ, привезенный Беном от Черчилля, не удовлетворил Маргрет, а только еще больше напугал ее. Тогда Бен сделал попытку решить задачу собственными силами. Однако ему скоро надоело копаться в бумагах Форейн офиса Махнув на все рукой, вице–премьер стал искать утешения у своих свиней.
Не один Бен был бессилен предугадать события, определявшие в те роковые дни ход мировой истории. Решающими были политические переговоры в Москве. Они велись между советским правительством, с одной стороны, и представителями Англии и Франции — с другой. От имени Англии эти переговоры направлялись людьми, бок о бок с которыми жил и работал Бен. Сплетая сеть диверсии против Советского Союза, они сами не могли предсказать исхода опасной игры. У дипломатов эта игра нашла название "канализации германской агрессии на восток". Авторы губительного для народов проекта производили этот выдуманный ими глупый термин от слова "канал", но история, наверно, сочтет более уместным производить его от слова "каналья". В качестве главных каналий она пригвоздит к позорному столбу Чемберлена с его министрами и Черчилля с его шайкой закулисных режиссеров кровавой драмы. Знай они заранее, что эта драка будет стоить человечеству миллионов жизней, они все равно не прекратили бы своих интриг.
Вокруг этих главных постановщиков, как рой трупных мух, жужжали мелкие политические гангстеры с Кэ д'Орсэ. Придет время, и они окажутся под стеклянным колпаком истории. Особое место там будет отведено отвратительным маскам, которые пришлет из‑за океана американский народ. К ним прикрепят ярлыки с точным пересчетом принадлежавших им долларов на море человеческой крови, пролитой ими ради прибылей, во имя власти двух тысяч паразитов, присосавшихся к двум миллиардам людей, которые боролись за право отбросить в прошлое закон власти человека над человеком. Рядом с Черчиллями, чемберленами, галифаксами и другими, рядом с даладье, лавалями, петэнами, рейно, рядом с ископаемыми вроде гитлеров, муссолини, франко и всяких пиев будут красоваться маски "Джонов третьих", "гарри первых" и прочих типов из той же породы. Это будет, когда свершится справедливый суд истории…
Но в 1939 году мало кто из будущих экспонатов думал о таком суде. Они мечтали о лаврах и прибылях, о власти над людьми, над территориями, над событиями, которыми хотели повелевать.
В 1939 году в Вашингтоне и Нью–Йорке, в Лондоне и Париже, в Берлине и Риме происходила преступная пляска с факелами на бочках с порохом. Миллионы людей с затаенным дыханием следили за этой пляской. Миллионы простых людей отдавали себе отчет в том, что ждет человечество, если упадет хотя бы одна искра от столкнувшихся в пляске факелов. Миллионы людей в ужасе отворачивались от вздымающихся на горизонте волн крови и зарева пожарищ. Доносившийся из Москвы гневный голос разума: "Затопите же пороховые погреба вместе с преступными поджигателями, прежде чем мир взлетит на воздух", доходили до сердец народов, но руки их оставались скованными. Пляска продолжалась.
Человечество шаг за шагом приближалось к катастрофе…
Об этом не думали те, для кого катастрофа означала бизнес. Они знали, как превращать человеческую кровь в золото, они молились божеству наживы и власти. Они еще властвовали и влекли народ на бойню. Их час еще не настал.
Они хранили в тайне свои преступные комбинации. Народы знали только одну сторону политики — ту, которая делалась открыто, во имя мира, во имя спасения человечества. Такая политика делалась в Москве. Другая политика, делавшаяся в столицах буржуазных государств, оставалась скрытой.
События развивались так:
Москва. ТАСС. "Советское Правительство выдвинуло предложение о созыве совещания представителей наиболее заинтересованных государств, а именно: Великобритании, Франции, Румынии, Польши, Турции и СССР. Такое совещание, по мнению Советского Правительства, давало бы наибольшие возможности для выяснения действительного положения и определения позиций всех его участников. Британское правительство, однако, нашло это предложение преждевременным".
Лондон. Из секретного политического донесения германского посла в Лондоне фон Дирксена министерству иностранных дел, Берлин: "В Англии у власти находится кабинет Чемберлена — Галифакса, первым и важнейшим пунктом программы которых была и осталась политика соглашения с тоталитарными государствами. После нескольких месяцев более спокойного развития Чемберлен вместе с Галифаксом будут иметь как решимость, так и обеспеченность с точки зрения внутренней политики, чтобы взяться за последнюю и наиболее важную задачу английской политики: за достижение соглашения с Германией".
Москва. "Известия": "15 июня Народный комиссар Иностранных Дел В. М. Молотов принял английского посла г. Сиидса, французского посла г. Наджиара и директора Центрального департамента Министерства Иностранных Дел Великобритании г. Стрэнга… Беседа продолжалась более двух часов… В. М.Молотову были вручены тексты англо–французских формулировок по вопросам переговоров".
Лондон. Из письма германского поверенного в делах в Лондоне Кордта послу Дирксену, вызванному в Германию: "…Чемберлен приложит все усилия, чтобы достигнуть соглашения с нами, даже если британское общественное мнение и будет чинить ему все мыслимые затруднения… Взрыв негодования в общественном мнении столь же мало удержал бы его от преследования цели, как мало удержало бы это его отца 39 лет назад".
Москва. "Известия": "16 июня В. М. Молотовым были вновь приняты английский посол г. Сиидс, французский посол г. Наджиар и директор Центрального департамента Министерства Иностранных Дел Великобритании г. Стрэнг. Беседа длилась около часа".
Лондон. Из донесения германского посла в Лондоне фон Дирксена министерству иностранных дел в Берлине: "Отношение англичан к комплексу мыслей, определяемых словом "война", различно. Незначительная часть английской общественности реагирует с истерическим воодушевлением; эти люди требуют польской и русской помощи и этим ослабляют тактическую позицию британского правительства в переговорах с Россией… Внутри кабинета и узкого, но влиятельного круга политических деятелей появляется стремление перейти к конструктивной политике в отношении Германии. И как бы ни были сильны противодействующие влияния, стремящиеся убить в зародыше это нежное растение, — личность Чемберлена служит определенной гарантией…"
Москва. "Известия": "Вчера В. М. Молотовым были приняты английский посол г. Сиидс, французский посол г. Наджиар и г. Стрэнг, которыми были переданы "новые" англо–французские предложения, повторяющие прежние предложения Англии и Франции. В кругах Наркоминдела отмечают, что "новые" англо–французские предложения не представляют какого‑либо прогресса по сравнению с предыдущими предложениями".
Лондон. Из совершенно секретной записи германского посла в Лондоне фон Дирксена, относящейся к встречам советника Чемберлена Горация Вильсона с германским уполномоченным Вольтатом и из "обзорной записки" фон Дирксена:
"Хадсон высказал мнение, что в мире существуют еще три большие области, в которых Германия и Англия могли бы найти широкие возможности приложения своих сил, а именно: английская империя, Китай и Россия.
Сэр Гораций Вильсон подготовил документ, в котором была изложена детально разработанная широкая программа. Он определенно сказал Вольтату, что заключение пакта о ненападении дало бы Англии возможность освободиться от обязательств в отношении Польши… Затем должен быть заключен договор о невмешательстве, который служил бы до некоторой степени маскировкой для разграничения сфер интересов великих держав…
Основная мысль этих предложений, как объяснил сэр Гораций Вильсон, заключалась в том, чтобы поднять и разрешить вопросы столь крупного значения, что вошедшие в тупик восточно–европейские вопросы, как данцигский и польский, отодвинулись бы на задний план…
На вопрос г. Вольтата, согласится ли английское правительство в надлежащем случае на постановку с германской стороны, кроме вышеупомянутых проблем, еще и других вопросов, Вильсон ответил утвердительно: "Фюреру нужно лишь взять лист чистой бумаги и перечислить на нем интересующие его вопросы: английское правительство было бы готово обсудить их".
Значение предложений Вильсона было доказано тем, что Вильсон предложил Вольтату получить личное подтверждение их от Чемберлена, кабинет которого находится недалеко от кабинета Вильсона".
Москва. "Известия": "Вчера В. М. Молотовым были приняты английский посол г. Сиидс, французский посол г. Наджиар и г. Стрэнг, которым В. М. Молотов передал ответ Советского Правительства на последние предложения Англии и Франции".
Берлин. Из запроса германского министра иностранных дел Риббентропа послу в Лондоне фон Дирксену: "Вольтат по своем возвращении в Берлин доложил о беседе с сэром Горацием Вильсоном… Эти предложения рассматриваются, повидимому, английской стороной как официальный зондаж.
Лондон. Ответ германского посла в Лондоне фон Дирксена германскому министерству иностранных дел, Берлин: "Несмотря на то, что беседа в политическом отношении не была углублена, мое впечатление таково, что в форме хозяйственно–политических вопросов нам хотели предложить широкую конструктивную программу".
Москва. "Известия": "1 июля В. М. Молотовым были приняты английский посол г. Сиидс, французский посол г. Наджиар и г. Стрэнг, которые передали В. М. Молотову новые англо–французские предложения. Беседа продолжалась полтора часа".
Лондон. Из записи советника германского посольства в Лондоне г. Кордта об его беседе с лейбористским политиком Чарльзом Роденом Бакстоном:
"Меня посетил для беседы бывший депутат лейбористской партии г. Чарльз Роден Бакстон, брат известного пэра–лейбориста Ноэля Бакстона. Г–н Роден Бакстон имеет особое бюро в палате общин и дает заключения по политическим вопросам для лейбористской партии. Он заявил, что публичное обсуждение способов сохранения мира в настоящее время не может привести к цели… Поэтому необходимо возвратиться к своего рода тайной дипломатии. Руководящие круги Германии и Великобритании должны попытаться путем переговоров, с исключением всякого участия общественного мнения, найти путь к выходу… Великобритания изъявит готовность заключить с Германией соглашение о разграничении сфер интересов. Под разграничением сфер интересов он понимает, с одной стороны, невмешательство других держав в эти сферы интересов и, с другой стороны, признание законного права за благоприятствуемой великой державой препятствовать государствам, расположенным в сфере ее интересов, вести враждебную ей политику. Конкретно это означало бы:
1. Германия обещает не вмешиваться в дела Британской империи.
2. Великобритания обещает полностью уважать германские сферы интересов в Восточной и Юго–Восточной Европе. Следствием этого был бы отказ Великобритании от гарантий, предоставленных ею некоторым государствам в германской сфере интересов. Далее Великобритания обещает действовать в том направлении, чтобы Франция расторгла союз с Советским Союзом и отказалась бы ото всех своих связей в Юго–Восточной Европе.
3. Великобритания обещает прекратить ведущиеся в настоящее время переговоры о заключении пакта с Советским Союзом.
…В заключение я спросил г. Родена Бакстона, делился ли он своими мыслями с членами британского правительства. Г–н Роден Бакстон уклонился от прямого ответа. Но мне кажется, что из его витиеватых объяснений можно сделать вывод, что подобные мысли свойственны сэру Горацию Вильсону, а следовательно, и премьер–министру Чемберлену.
Москва. "Известия": "3 июля В. М. Молотовым были приняты английский посол г. Сиидс, французский посол г. Наджиар и г. Стрэнг. В. М.Молотов передал ответ Советского Правительства на последние англо–французские предложения. Беседа продолжалась свыше часа".
Лондон. Из совершенно секретного политического донесения германского посла в Лондоне фон Дирксена министерству иностранных дел, Берлин:
"…сэр Гораций Вильсон сказал, что англо–германское соглашение, включающее отказ от нападения на третьи державы, начисто освободило бы британское правительство от принятых им на себя в настоящее время гарантийных обязательств в отношении Польши, Турции и т. д…
Соглашение о невмешательстве: с английской стороны готовы будут сделать заявление о невмешательстве по отношению к Велико–Германии. Оно распространяется в частности и на данцигский вопрос.
Сэр Гораций Вильсон остановился на том, что вступление в конфиденциальные переговоры с германским правительством связано для Чемберлена с большим риском. Если о них что‑либо станет известно, то произойдет грандиозный скандал, и Чемберлен, вероятно, будет вынужден уйти в отставку… Хотя и возможно прийти к такому соглашению, но для этого требуется применить все мастерство лиц, участвующих в переговорах с английской стороны, для того чтобы не провалить все дело. На настоящей стадии требуется прежде всего сохранять строжайшую тайну.
На мой вопрос, каков был бы предварительный вклад с английской стороны, для того чтобы был оправдан предварительный вклад с германской стороны, сэр Гораций Вильсон ответил, что британское правительство ведь уже проявило свою добрую волю и свою инициативу тем, что оно обсудило все пункты с г. Вольтатом и тем самым осведомило германское правительство о своей готовности к переговорам.
В Лондоне преобладает впечатление, что возникшие за последние месяцы связи с другими государствами являются лишь резервным средством для подлинного примирения с Германией. Эти связи отпадут, как только будет достигнута единственно важная и достойная усилий цель — соглашение с Германией".
Москва. "Известия": "8 июля В. М. Молотовым были приняты английский посол г. Сиидс, французский посол г. Наджиар и г. Стрэнг. Беседа продолжалась около двух часов".
Гредицберг. Из обзорной записки германского посла в Лондоне фон Дирксена: "О данцигском кризисе. Питаемый различными источниками, хлынул в английскую печать поток сообщений о сосредоточенных в Данциге армейских корпусах, о введенной туда тяжелой артиллерии, о сооружении укреплений и т. д. Эта кампания достигла своего кульминационного пункта в первые дни июля. В конце недели сообщения "Юнайтед пресс" из Варшавы о данцигско–польском кризисе, ультиматуме и т. д. вызвали в Лондоне настоящую панику и кризисное настроение. Создатели паники были скоро выявлены посольством — это были американские круги, работавшие через американское посольство в Варшаве. Впервые со всей отчетливостью проявилась заинтересованность Рузвельта в обострении положения или войне для того, чтобы сначала добиться изменения закона о нейтралитете, а затем, чтобы, благодаря войне, быть вновь избранным".
Москва. "9, 17, 23, 27 июля В. М. Молотов принимал для переговоров английского посла Сиидса, французского посла Наджиара и Стрэнга".
2 августа ТАСС опубликовал сообщение: "В своей речи в палате общин 31 июля с. г. парламентский заместитель министра иностранных дел г. Батлер сказал, как передает печать, что английское правительство принимает все меры к ускорению ликвидации существующих разногласий между СССР и Англией, главным из которых является вопрос о том, должны ли мы посягать на независимость балтийских государств или нет. Я согласен, сказал г. Батлер, что мы не должны этого делать, и именно в этом разногласии кроются главные причины затяжки переговоров.
ТАСС уполномочен заявить, что если г. Батлер действительно сказал вышеупомянутое, то он допустил искажение позиции Советского Правительства. На самом деле разногласия состоят не в том, чтобы посягать или не посягать на независимость балтийских стран, ибо обе стороны стоят за гарантию этой независимости, а в том, чтобы в формуле о "косвенной агрессии" не оставить никакой лазейки для агрессора, покушающегося на независимость балтийских стран. Одна из причин затяжки переговоров состоит в том, что английская формула оставляет такую лазейку для агрессора".
Лондон. Из донесения германского посла в Лондоне фон Дирксена министерству иностранных дел. Берлин, 1.VIII.1939 г.: "К продолжению переговоров о пакте с Россией, несмотря на посылку военной миссии, — или, вернее, благодаря этому, — здесь относятся скептически. Об этом свидетельствует состав английской миссии: адмирал, до настоящего времени комендант Портсмута, практически находится в отставке и никогда не состоял в штабе адмиралтейства; генерал — точно так же простой строевой офицер; генерал авиации — выдающийся летчик и преподаватель летного искусства, но не стратег. Это свидетельствует о том, что военная миссия скорее имеет своей задачей установить боеспособность Советской Армии, чем заключить оперативные соглашения".
Москва. Утром 11 августа в Москву прибыла из Ленинграда английская и французская военные миссии, возглавляемые адмиралом Драке и генералом Думанк.
После этого одно за другим в Москве публикуются опровержения по поводу инсинуаций, распространяемых буржуазной и в особенности польской печатью, о причинах затруднений в англо–франко–советских переговорах. На мысль об истинном происхождении этих измышлений наводит донесение Дирксена о провокационной деятельности американцев в Варшаве, стремящихся в интересах Германии помешать участию Польши в разрешении тупика, в который зашли московские переговоры. Наряду с тем, что англо–американо–французы толкали немцев на восток, инспирация такой позиции Польши была равносильна принесению ее в жертву агрессору в уплату за "восточный поход".
27 августа 1939 года об этом было ясно сказано на страницах всех советских газет. Они опубликовали интервью с маршалом Ворошиловым, возглавлявшим советскую военную миссию для переговоров с англо–французскими военными миссиями: "…Советская военная миссия считала, что СССР, не имеющий общей границы с агрессором, может оказать помощь Франции, Англии, Польше лишь при условии пропуска его войск через польскую территорию, ибо не существует других путей для того, чтобы советским войскам войти в соприкосновение с войсками агрессора. Подобно тому как английские и американские войска в прошлой мировой войне не могли бы принять участия в военном сотрудничестве с вооруженными силами Франции, если бы не имели возможности оперировать на территории Франции, так и Советские вооруженные силы не могли бы принять участия в военном сотрудничестве с вооруженными силами Франции и Англии, если они не будут пропущены на территорию Польши.
Несмотря на всю очевидность правильности такой позиции, французская и английская военные миссии не согласились с такой позицией советской миссии, а польское правительство открыто заявило, что оно не нуждается и не примет военной помощи от СССР.
Это обстоятельство сделало невозможным военное сотрудничество СССР и этих стран.
В этом основа разногласий. На этом и прервались переговоры…
…Не потому прервались военные переговоры с Англией и Францией, что СССР заключил пакт о ненападении с Германией, а наоборот, СССР заключил пакт о ненападении с Германией в результате, между прочим, того обстоятельства, что военные переговоры с Англией и Францией зашли в тупик в силу непреодолимых разногласий".
Так закончилась одна из позорнейших глав истории внешней политики американо–англо–французских поджигателей войны.
Далеко не все люди давали себе ясный отчет в том, что произошло. Многие, притом из совершенно различных кругов европейского и американского общества, задавали себе вопрос: "Что означает заявление Молотова о том, что Советский Союз готов заключить договор о ненападении с любым государством, которое это предложит?"
Бесполезно было растолковывать буржуазным политикам, что в основе подобного заявления советского правительства лежала неуклонная воля советских народов к миру, железная последовательность мирной политики коммунистической партии и советского правительства. Какой бы острой ни была политическая обстановка, как бы ни был накален воздух вследствие интриг и происков врагов мира и демократии, советское правительство не намеревалось изменять своей внешнеполитической линии — мир, мир, еще раз мир!
В эти дни, узнав о заключении советско–германского договора о ненападении, Рупп Вирт, крайне взволнованный, отыскал Клару:
— Что это такое?.. Я ничего не понимаю!.. Союзники уверяют, будто СССР предпочел пакт о ненападении с Гитлером заключению союза с западными державами.
Клара покачала головой.
— Ты должен читать это так: Советский Союз действительно предпочел пакт о ненападении с немецкими империалистами незаключению оборонительного союза с обманувшими его французскими и английскими империалистами. Спорить с правильностью такой позиции нельзя. Это было бы противно здравому смыслу, логике, стремлению спасти человечество в целом и свой собственный народ от пролития крови. Должны ли русские коммунисты позволить иностранным буржуазным интриганам втянуть советский народ в войну с Германией и Японией, как того очень хочется и англичанам, и французам, и американцам? Нет и нет! — воскликнула Клара и, стараясь быть точной, процитировала: — "Это не значит, что мы должны обязательно идти при такой обстановке на активное выступление против кого‑нибудь. Это неверно. Если у кого‑нибудь такая нотка проскальзывает — то это неправильно. Наше знамя остается по–старому знаменем мира. Но если война начнется, то нам не придется сидеть сложа руки, — нам придется выступить, но выступить последними. И мы выступим для того, чтобы бросить решающую гирю на чашку весов, гирю, которая могла бы перевесить…" Слышишь, Рупп: "Наше знамя остается по–старому знаменем мира", и "мы выступим для того, чтобы бросить решающую гирю…". Сталин сказал это пятнадцать лет тому назад, но слова его сохранили всю остроту, всю свою справедливость для наших дней. Подумай над ними, хорошенько подумай, друг мой…
— Наше знамя остается по–старому знаменем мира… — задумчиво повторил Рупп. — Это нужно до конца понять, когда вокруг только и слышишь слово "война".
— Но понять необходимо, — сказала Клара, — и тогда ты еще раз оценишь все величие идей, под знаменем которых мы с тобой боремся.
11
Известие о заключении пакта о ненападении между Советским Союзом и Германией ошеломило и Джона Ванденгейма. В первый момент это произвело на нею такое впечатление, как если бы верный, хорошо выдрессированный пес — Гитлер — отказался броситься на того, кого ему указал хозяин. Но уже в следующую минуту Джон забыл и о Гитлере и о Геринге, который клялся Джону и в собственной верности и в безусловной покорности фюрера. Ванденгейм забыл даже о Шахте, приставленном к хозяевам Третьей империи для наблюдения, чтобы они не наделали глупостей. Джона подавляла мысль о том, что советско–германский пакт — это крушение всех расчетов, построенных на войне в Европе. Это снижение деловой конъюнктуры; это падение бумаг военной промышленности, в которую вложены миллионы Ванденгейма не только в Европе, но и тут, у себя, в Штатах. Это… это…
Чем дальше, тем страшнее наливалась кровью его шея, затылок, лицо. Глядя на то, как Джон неподвижно сидел за столом, ухватившись за трубку телефона, можно было подумать, что его уже хватил удар. Только брови, все больше сдвигавшиеся у переносицы, да свист тяжелого дыхания говорили о том, что он еще жив. Джон задыхался от злобы: позволить так обернуться московским переговорам англо–французов с Советами! Сталин разгадал игру, затеянную для успокоения России перед нападением Гитлера.
Ванденгейм напрасно искал какого‑то ясного и быстрого, как удар молнии, решения. Оно должно было все изменить, вернуть события в предназначенное им русло, спасти положение. Но решения не было.
Завтра же… Кой чорт завтра?! Сегодня, сейчас, сию минуту затрезвонят телефоны. Меллоны, дюпоны, рокфеллеры, вся свора их доверенных и директоров набросятся на него с истерическими вопросами, с упреками, с воплями и угрозами. Д'Арси Купер за свою мировую монополию на мыло и маргарин способен убить родного отца! Джемс Муни навалится на Джона всею тяжестью "Дженерал моторе". Хорошо еще, что Форд повел свои дела с Гитлером помимо Джона. Зато у остальных нечего просить пощады. Они будут пытаться за его счет спасти свое. Ведь ему доверили ведение дел с Германией, он отвечал за этих проклятых псов — Гитлера, Геринга. Недосмотрел? Они вырвались из рук, натворили у него за спиной чорт знает что? Так вот же!..
Джон рванул телефонную трубку:
— Берлин!.. Шахта!..
Туманные иносказания Шахта не успокоили Джона. Через два дня теплоход "Президент Линкольн" принял на борт Джона с Фостером и целую ораву экспертов, секретарей, стенографов и шифровальщиков.
Это было дурной шуткой судьбы: самая нечестная миссия, какую Соединенные Штаты когда‑либо посылали к берегам своей бабушки — Европы, плыла на корабле, носившем имя одного из самых честных людей американской истории. Но едва ли кто‑нибудь из окружавших Джона людей размышлял на столь отвлеченные темы, как честность, история и доброе имя Штатов. Все их помыслы и усилия были направлены к тому, чтобы помочь Ванденгейму выполнить миссию, возложенную на него американским воинствующим монополистическим капиталом. Джону и его доверителям война нужна была так же, как дождь нужен хлебопашцу, солнце — живому организму. Только горами трупов можно было запрудить надвигавшийся на них страшный водопад кризиса. Производство трупов означало уничтожение танков, пушек, снарядов, колбасы, сапог, кораблей, солдатских курток, мыла, бинтов, медикаментов, машин, домов, целых городов, целых стран — всего, что можно было производить и продавать, продавать…
Война была для Ванденгеймов магическим колесом, способным не только удержать на ходу, но и безмерно ускорить движение промышленности, спасти конъюнктуру, предотвратить катастрофу. Так же смотрели на вещи магнаты германской промышленности, производители пушек во Франции и английские торговцы лиддитом и линкорами. Уничтожать, чтобы строить; производить, чтобы уничтожать. Такова была единственная система, при которой они все могли удержаться на вершине жизни. Даром провидения были такие разбойники, как Гитлер и Муссолини; посланцем бога был новый папа — Пий XII, готовивший гвозди, чтобы распять двести миллионов советских людей.
Политико–стратегическая цель развязывания германской агрессии выражалась в коротком, но ясном кличе: "Война сверхприбыли!"
Джону, метавшемуся по каюте "Президента Линкольна", каждый потерянный день и час казались уже катастрофой. Он жалел о том, что плыл, а не летел в Европу. Дорогие часы и минуты перемалывались винтами "Линкольна". Движение корабля казалось Джону ходом черепахи.
По радио, с океана, были назначены в Европе все совещания, определены места и часы сбора, вызваны и инструктированы участники. Пожалуй, только один человек, которого Джону необходимо было увидеть, не был уведомлен ни о месте, ни о времени встречи. Это был группенфюрер СС Вильгельм фон Кроне. Джон должен был увидеть его первым, и наедине. Он должен был узнать все, что Кроне выведал о планах нацистов, о намерениях Геринга. Нужно было понять, почему толстый жадюга, с такою ловкостью вымогающий подачки, не хочет или не может выполнить свои обязательства.
Но увидеться с Кроне Джону не удалось ни в день высадки в Гамбурге, ни по приезде в Берлин. Боясь провала, Кроне ограничился тем, что доставил Джону документ, который должен был объяснить все. Это была фотокопия стенограммы секретного совещания Гитлера с другими главарями нацистской шайки. Вооружившись лупой, Джон прочел:
"Гитлер. Риббентроп, сообщите заинтересованным державам: я не настолько безумен, чтобы желать войны. Я — за мир. Обязательства, которые мы подписываем, всегда исполняются. Того, что мы не надеемся выполнить, мы никогда не подпишем. Германский народ желает жить в мире со всеми. Мы убеждены, что в наших отношениях с Францией такая договоренность возможна, если правительства проявят подлинную дальновидность в подходе к касающимся их проблемам. Вы меня поняли, Риббентроп?
Риббентроп. О да, мой фюрер.
Гитлер. Даже Советской России вы можете еще раз повторить, что имперское правительство будет соблюдать букву и дух своих соглашений с нею. Добавьте: рейхсканцлер уверен, что именно нынешняя Германия и только она в состоянии проводить такую положительную политику в отношении Советского Союза. Только наше государство не питает никаких враждебных чувств к чужим политическим системам, каковы бы они ни были. Вы меня поняли, Риббентроп?
Риббентроп. О да, мой фюрер!
Гитлер. Мы не намерены нарушать права какой‑нибудь нации, и мы не желаем ни урезать жизненные возможности какого‑либо народа, ни порабощать, угнетать или подчинять его. Мы не признаем больше принципа германизации. Нам чуждо умонастроение последнего столетия, считавшего возможным превратить поляков и французов в немцев. Окружающие нас нации мы рассматриваем как существующие факты. Немецкий народ хочет существовать точно так же, как хочет существовать французский народ и как хочет существовать польский народ. Германия готова принять участие в любом самом торжественном и длительном пакте о ненападении, так как Германия не думает ни о каком нападении, а думает лишь о своей безопасности. Вы поняли меня, Риббентроп?
Риббентроп. Да, мой фюрер.
Гитлер. Вы вечно вставляете в ноты что‑нибудь свое, но на этот раз это вам не удастся: я сам проверю каждую депешу, которую вы будете отправлять нашим послам. Понимаете?
Риббентроп. Да, мой фюрер.
Гитлер. Вы должны теперь без конца твердить: Германия склоняется к миру, но не из слабости или страха. Она стоит за мир именно в силу национал–социалистской концепции народа и государства. Мы не намерены никому навязывать то, что им чуждо: немецкий характер, немецкий язык, немецкую культуру. Вам все ясно, Риббентроп?
Риббентроп. Да, мой фюрер.
Гитлер. Повторите им всем в десятый раз: в Европе мы не имеем больше никаких территориальных притязаний. Польша и Германия должны оставить мысль о войне не только на десять лет, но на сто, а вернее — навсегда. Германия не нападет на Польшу. Германия уладит все вопросы с Польшей полюбовно, не исключая вопроса о коридоре. Так же, как Германия надеется, что Польша не намерена захватывать у нее Восточную Пруссию, остаток Силезии. Я вполне могу сказать, что с тех пор, как Лига наций окончательно отказалась от последовательно проводимых ею попыток нарушить порядок в Данциге и назначила новым комиссаром выдающегося своими моральными качествами человека, это наиболее опасное для европейского мира место полностью утратило характер угрожающий… Европа и весь мир должны поверить: тот, кто будет разжигать войну, может желать только хаоса. Наша национал–социалистская наука видит в каждой войне, которая ведется для подчинения себе других народов, ту причину, которая неминуемо ослабит победителя и превратит его в побежденного.
Риббентроп. Да!
Гитлер. Что "да"?
Риббентроп. Я все понял, мой фюрер…"
Джон в бешенстве отшвырнул стенограмму.
— Проклятые кретины!..
Жесткие листки глянцевитой фотографической бумаги рассыпались по ковру. Некоторое время Джон тупо глядел на них. Потом сообразил, что их оставить тут нельзя. Найди их кто‑нибудь — это дорого обойдется Кроне. Он с кряхтением ползал по ковру, собирая листки. Это подействовало на него успокаивающе. Он расправил их и стал читать дальше: чашу глупости Гитлера нужно испить до конца. Что бы ни болтал этот идиот, Ванденгейму следовало это знать. Нужно действовать с открытыми глазами… Но уж он покажет Гитлеру миролюбие! Он попомнит ему нежелание воевать с Польшей! Он заставит паршивого ефрейторишку и всех его подручных плакать кровавыми слезами над стенограммой об уважении прав России.
Джон с такой злобой поправил съехавшие было очки, что стало больно переносице.
Он выругался и, с размаху погрузившись в кресло, возобновил чтение:
"Гитлер. Доверяйте вашей интуиции, вашему инстинкту, всему, чему хотите, только не вашим знаниям. Запомните это раз навсегда. Откажитесь от всяких сложностей, от всяких доктрин. Специалисты погружены в свои теории, как пауки в паутину. Они не способны выткать ничего более путного. Просто приказывайте им, и тогда они создадут проекты, пригодные для дела. Специалисты всегда могут изменить точку зрения в соответствии с вашим желанием. Малообразованный, по физически здоровый человек полезнее для общества, чем умственно развитой человек. Наш дух должен научиться маршировать, а это значит: германские силы должны итти в ногу. Вымаршированные мысли — лучшие мысли. В них бьется священный германский дух, дух столетий, дух тысячелетий…"
Ванденгейм потер лоб, силясь понять то, что читал.
"Геббельс. Германский дух — основа. Мы должны бороться за его укрепление. Вся наша система воспитания, в сущности говоря, должна корениться на трех понятиях: раса, оружие, вождь. Основное — внедрение расового сознания в нашего человека.
Гесс. Восприимчивость массы очень ограничена, круг ее пониманий узок, зато забывчивость очень велика.
Геббельс. Искусство заключается в том, что я непрерывно доказываю свою правоту, а вовсе не в том, чтобы искать объективную истину и доктринерски излагать ее. Не правда ли, мой фюрер?
Гитлер. Гуманизм, культура, международное право — все пустые слова.
Геббельс. Прекрасно, мой фюрер! Исторические слова!
Розенберг. Человек был внутренне искалечен, потому что в минуту слабости, в трудные минуты его судьбы, ему в соблазнительном виде представляли чуждый ему сам по себе мотив: гуманность, общечеловеческая культура…
Гиммлер. Человечество может управляться лишь путем применения страха".
Ванденгейм щелкнул ногтем по листу:
— В этом есть уже смысл, хотя это и не имеет отношения к делу… Впрочем, посмотрим, что они лопочут дальше.
"Фрик. Если мой фюрер позволит?..
Гитлер. Говорите.
Фрик. Современная гуманность и попечительство о больном, слабом и неполноценном индивидууме отражаются на народе, как величайшее бедствие. Помощь слабому — жестокость. Она ведет его к гибели. А мы не можем толкать к гибели наш собственный народ. В свете грядущих испытаний мы должны пересмотреть всю систему воспитания, социального обеспечения и здравоохранения. Нужно сделать жизнь германца суровой.
Гиммлер. Доктору Фрику, повидимому, еще не ясно: у нас нет времени на то, чтобы что‑то пересматривать и перестраивать. Мы должны попросту перестать сентиментальничать. Массам нужен кнут, а не социальное обеспечение.
Геринг. Мне нужны люди с крепкими кулаками, которых не останавливают ни слабые нервы, ни принципы, когда нужно укокошить того, кого я им укажу.
Гиммлер. Совершенно с тобой согласен.
Гитлер. Что скажет наш дорогой Розенберг?
Гесс. Розенберг должен иметь в виду, что внедрение национальной идеи в широкие слои нашего населения возможно лишь в том случае, если рядом с положительной борьбой за душу народа мы проведем полное искоренение интернациональных отравителей его.
Дарре. Господин формирует не только животное, но и подвластного ему человека не каким‑то там образованием и тому подобным, а дрессировкой.
Гитлер. Мне кажется, я предоставил слово нашему Розенбергу.
Розенберг. Уничтожение польского государства является целью Германии. Германии так же незачем церемониться с поляками, как она не церемонится с чехами. Пространство — это борьба насмерть со славянством".
— Боже правый! — удивленно воскликнул Ванденгейм. — Решительно никакой логики. Но, кажется, этот малый подошел к цели.
После некоторого колебания Джон вызвал Долласа и по мере того, как сам прочитывал листки, передавал их адвокату.
Оба американца с удивлением увидели, что содержание второй части стенограммы резко противоположно тому, что говорилось в начале совещания. Камертоном к неожиданному повороту в речах гитлеровцев послужило столь же краткое, сколь неожиданное заявление Геринга:
"Геринг. Теперь мы начинаем свою историю Европы. Она не будет написана чернилами. Наши чернила — кровь.
Геббельс. Ты прав, Герман: война самая простая форма уничтожения жизни.
Борман. И единственно верная.
Розенберг. Естественный закон предписывает борьбу за существование. Для Германии смысл этого закона в немедленной войне за пространство. Германская нация не может отказаться от национального империализма. Он является ее жизненным законом. А национальный империализм — это кровь. Геббельс должен втолковать немцам, что ошибочно рассматривать войну, как уничтожение. Война способствует расцвету всех материальных и интеллектуальных сил германской эпохи. Война — явление созидательное. Разрушая, она создает. Война — вечный омолаживатель. Германский народ не должен видеть ее разрушительной стороны. Сталь и кровь — это баня, очищающая народ для новых идеалов. Каждый немец должен знать — война не является чем‑то преступным, она вовсе не является грехом против человечества и гуманности. Когда начнут грохотать гранаты, сердце немца должно лопаться от восторга. Немцы должны знать, что значит маршировать, когда их ведет Гитлер.
Геббельс. Когда головы поляков, русских, французов и англичан будут покрывать землю, как снег зимой, немец будет молиться, чтобы погода подольше оставалась такой.
Гитлер. И тем не менее французы должны верить, что мы пришли к ним как борцы за справедливый мир, за общественный порядок и за вечный мир. Все поняли меня?
Геббельс. Да, мой фюрер.
Гитлер. Мы должны неустанно пропагандировать мысль, что вина лежит всецело и исключительно на противниках. Делайте это, даже если вам самому будет казаться, что дело обстоит наоборот. Народ вовсе не состоит из людей, всегда способных рассуждать здраво. Чем меньше так называемого научного балласта в нашей пропаганде, чем больше она обращается к элементарным, пусть даже низким чувствам толпы, тем больше будет успех нашего слова и нашего дела. Лучше германская ложь, чем так называемая общечеловеческая правда. Нужно монтировать факты, приспособляя их к нашим надобностям. Путем неустанной пропаганды можно заставить народ верить во что угодно. Посмотрите на попов — они делают это достаточно ловко. И их мы тоже должны поставить себе на службу. Это относится к доктору Геббельсу.
Геббельс. Да, мой фюрер.
Гитлер. Я благодарю судьбу за то, что она лишила меня научного образования. Я свободен от многочисленных предрассудков. Я сужу обо всем бесстрастно и холодно. Мы живем в конце эпохи разума. Суверенитет разума является патологической деградацией нормальной жизни. Сознание — это еврейское изобретение. Ни в области морали, ни в области науки никакой правды не существует. Только в экзальтации чувств и в действии можно приблизиться к тайне мира. Нет правды, все позволено. Каждое дело имеет свой смысл, даже преступление. Мы должны быть жестоки со спокойной совестью: время прекрасных чувств прошло. Я провожу политику силы, не беспокоясь о мнимом кодексе чести и мешающем мне милосердии. Кто нас не любит, тот должен нас, по крайней мере, бояться, чтобы не поднять на нас руку. Это относится к вам, доктор Гиммлер!
Гиммлер. Да, мой фюрер.
Гитлер. Есть еще время, чтобы устроить германскому народу подлинную кровавую баню. Небольшую — на несколько недель. Для этого годится Польша. И своих людей полезно пугать время от времени. Повернемся же лицом к Польше…"
Дойдя до этого места, Ванденгейм беспокойно заерзал в кресле и потер ладонью вспотевшую лысину: разбойники приближаются к сути дела!.. Ну, Джон, старина, шайка, кажется, совсем не так плоха, как ты подумал, а?.. Этот ублюдок Гитлер хитрее, чем кажется.
"Гитлер. Масса подобна животному, которое следует своим инстинктам. Она не хочет ни логики, ни рассудка. Восприимчивость масс к внешним явлениям очень упрощена. Их возмущает только то, чего они не могут понять, — так сделайте же войну понятной им, понятной и желанной, как хороший обед. Я не ради того довел немцев до фанатизма, чтобы они лезли под перины; я экзальтировал немецкий народ для того, чтобы сделать его орудием своей политики. Дело Геббельса — раздуть в нем этот огонь. Дело Гиммлера — держать его в руках. Дело Розенберга — вдохнуть в него тысячелетний дух германца. Дело моих генералов — использовать солдата так, как того требуют интересы нашей Германии. Я поворачиваю генералов лицом к Польше. Довольно разговоров с поляками — я назначаю срок их уничтожения… Впрочем, об этом отдельно. Всем вам незачем его знать… Если французы на свое горе вмешаются в наш спор с Польшей — им конец!
Мы уничтожим Францию, так же как уничтожим Польшу… Смотрите на карту! Я хочу показать всем, как это будет, в конечном счете, выглядеть: нужно создать блок государств, ради формирования которого Германия начала войну 1914 года. В центре арийского гнезда — большое германское государство. Чехия, Моравия, Австрия — нераздельная часть империи. Вокруг — система мелких государств. Такова будущая основа Велико–Германии. Польша превращается в чисто географическое понятие и отделяется от моря. Выходы к морю — прерогатива германцев. Венгрия, Сербия, Кроация, уменьшенная Румыния, отделенная от России Украина, целый ряд раздробленных южнорусских областей и государств — таково лицо нашей будущей империи.
Несколько слов о России. Это важно. Предел нашего движения — линия А–А. Я имею в виду Архангельск и Астрахань. Гадельн, проведите здесь линию. Жирнее, чтобы все видели! Эту карту сохраните, как реликвию для германского народа. Итак: небольшое Московское государство, отрезанное от моря на севере и юге. Волга — его восточная граница. Вокруг него несколько генерал–губернаторств. Между Волгой и Уралом? Розенберг, что там?
Розенберг. Приуральские степи, мой фюрер.
Гитлер. Ах, я не о том… Урал — наша восточная кузница. Дальше — Сибирское царство под совместным протекторатом Германии и Японии. Из этих подвластных ей областей Великая Германия будет черпать питание и соки для своего могущества. С северо–востока ее прикроет щит Финляндии, на юго–востоке бастион Кавказских гор защитит нашу нефть и минералы. Все это будет сцементировано германской армией, германской экономикой, германской денежной системой и нашей, германской внешней политикой. Таково начало. Потом мне придется дать германскому народу попробовать кнута, чтобы поднять его для нового похода и сделать способным раздавить Францию. Мы охотно пойдем на любые жертвы, если они помогут нам уничтожить французскую гегемонию в Европе. Сегодня все страны, которые не примирились с французским господством на любом из континентов — в Европе, в Африке, в Азии, — наши естественные союзники. Мы сумеем найти общий язык с любой из этих стран. Временно мы пойдем на любые уступки, чтобы добиться конечного разгрома по очереди всех наших врагов. Только тогда, когда это будет отчетливо понято каждым немцем, — так, чтобы импульсы народа не вырождались в пассивное сопротивление, а толкали к окончательному и решительному разгрому Франции, — только тогда мы успокоимся. Голландия и Бельгия — составные части той же задачи. За ними следуют Скандинавские страны. Все они будут включены в состав империи. Мы первым долгом осуществим вторжение в Швецию. Мы не можем оставить ее ни под русским, ни под английским влиянием. К тому же нам очень нужна шведская руда. Мы ее никому не отдадим, даже самим шведам. И, наконец, захват Америки и остальных континентов.
(Общие крики: "Хайль Гитлер!")
Гитлер. Я гарантирую вам, господа, что в желаемый момент я по–своему переделаю всю Америку…"
Ванденгейм сдернул с носа очки и крикнул Долласу:
— Эй, Фосс! Сейчас вы получите от меня нечто, что заставит вас подпрыгнуть на стуле. Нет, нет, погодите, я сам еще не дочитал:
"Гитлер. Америка уже сейчас является нашей лучшей поддержкой, несмотря на то, что ее руководители отлично понимают, что собственными руками создают наше могущество. Они помогают нам создать Германию как первую европейскую державу и как конкурента Америки на тот день, когда мы дадим англичанам под зад во всей их империи, загоним их на острова и заставим там защищаться от эскадр Геринга.
Гесс. Браво, Герман!..
Гитлер. Америка будет нашей лучшей поддержкой в тот день, когда мы сделаем прыжок из Европы к заморским пространствам. У нас в руках все средства разбудить американский народ, как только это нам понадобится. Я должен вам сказать, господа, что было бы недостойной нас ошибкой в этой огромной борьбе цепляться за обветшалые фетиши национальных атрибутов. Мне совершенно безразлично, как будет для начала называться та коалиция, которая поведет наш дух к господству над миром: немецкой или готтентотской. Пусть она даже называется американской. Мне все равно. Для конечного результата, для истории это не имеет значения. Дух коалиции будет нашим, германским духом, национал–социалистским. Мне важно, что США как система, где еще гнездятся какие‑то отвратительные остатки демократического разложения, будут принуждены капитулировать. Полно и окончательно. В Америке уже есть люди, способные помочь нам в этом — чистокровные янки национал–социалистской формации. Это будет капитуляция духа Линкольна и Рузвельта перед духом национал–социализма. Мы деморализуем американцев так же, как деморализовали французов и англичан. Мы сделаем их неспособными сопротивляться нашему духовному вторжению. А за вторжением нашего духа туда придут и наши парашютисты. Мексика? Это страна, которая нуждается в том, чтобы ею руководили компетентные люди, страна, которая лопнет при теперешних хозяевах. Германия станет великой и могущественной, когда окончательно овладеет мексиканскими шахтами и нефтью. Меня не удовлетворяет то, что происходит сейчас: мы держим куски мексиканской земли, мы выкачиваем из ее недр немного нефти с позволения американцев. Я хочу, чтобы американцы спрашивали у меня разрешения на каждый баррель мексиканской нефти!.. Если есть еще континент, где демократия является заразой и средством самоубийства, — это Южная Америка. Ну, если будет нужно, мы подождем еще несколько лет, а потом поможем им освободиться от этой заразы. Наша молодежь должна изучить методы колонизации. Это дело не делается корректными чиновниками и педантичными губернаторами. Нам нужны для этого бесстрашные молодые люди. Слышите, Бальдур?
Бальдур фон Ширах. Хайль Гитлер!
Гитлер. В Бразилии мы будем иметь новую Германию. В конце концов мы имеем право на этот континент, где Фуггеры, Вельсеры и другие немецкие колонисты…
Геббельс. Мой фюрер, Фуггеры были евреи.
Гитлер. Молчите, Юпп! Если я говорю, что Фуггеры были немцами, значит они были арийцами! Наш долг — не отдать никому то, что принадлежит нам по праву на всем земном шаре. (Продолжительное молчание.) Вы сбили меня, Геббельс. Вы бессовестный демагог! Вы всегда мешаете мне… Прошу всех гражданских господ удалиться. Остаются только военные и Геббельс… И вы, Риббентроп.
Риббентроп. Да, мой фюрер.
Гитлер. Я готов подписать все, что предложат западные державы. Я сделаю любые уступки на бумаге, чтобы иметь свободные руки для продолжения моей политики. Я гарантирую все границы Европы. Я заключу пакты о ненападении со всеми странами мира. Было бы с моей стороны ребячеством не пользоваться этими средствами на том основании, что я должен буду нарушить свои обязательства. Нет такого самого торжественного пакта, который рано или поздно не был бы растоптан или не превратился бы в пустышку. Щепетильный человек, который считает себя обязанным консультироваться с совестью, прежде чем поставить свою подпись, просто дурак. Ему не следует заниматься политикой. Почему и противнику не предоставить возможность подписывать бумажки и обеспечивать себе воображаемую выгоду этих соглашений, если противник заявляет, что он удовлетворен, и воображает, что эти соглашения помогут ему прожить хоть один лишний час по сравнению с тем, что мы ему определили… Безусловно, я подпишу любую бумажку. Это не помешает мне в любой момент действовать так, как я буду считать нужным. Кровь сильнее бумажек. Геринг прав: что написано чернилами, может быть зачеркнуто кровью. Воображают, что я буду надевать перчатки, чтобы рассчитаться с моими врагами? Нет, мы не имеем возможности быть гуманными! В этой борьбе покатится много голов. Так постараемся, чтобы это не были наши головы!
Риббентроп. Мой фюрер, пришло время: я должен дать ответ президенту Рузвельту на его послания.
Гитлер. Ваш ответ нужен ему, как… как…
Риббентроп. Я вполне понял вас, мой фюрер, но…
Гитлер. Что еще?
Риббентроп. Проблема очень усложнится, если мы будем раздражать Америку. Это произведет дурное впечатление не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире.
Гитлер. Что вы понимаете во мнении мира?
Геббельс. Мой фюрер, не считаете ли вы полезным, чтобы Риббентроп пояснил присутствующим всю ситуацию? О каких посланиях Рузвельта идет речь?
Гитлер. Риббентроп, объясните господам.
Риббентроп. Несколько дней тому назад…
Гитлер. Даты!
Риббентроп. 24 августа президент Рузвельт обратился к фюреру и одновременно к президенту Польской республики.
Гитлер. Какой президент, какая республика?
Риббентроп. Я поясню, мой фюрер: Польская рес…
Гитлер. Фикция!
Риббентроп. Я понял вас, мой фюрер… Повторяю. 24 августа господин Рузвельт писал фюреру: "В своем письме от 24 апреля я утверждал, что во власти руководителей великих народов освободить свои народы от несчастий. Но если немедленно не будут предприняты меры и усилия с полным чувством доброй воли со всех сторон, для того чтобы найти мирное и удачное решение существующих противоречий, кризис, который стоял перед миром, должен был бы иначе окончиться катастрофой. Сегодня эта катастрофа кажется очень близкой…"
Гитлер. Вы намерены прочесть нам полное собрание болтовни паралитика?
Риббентроп. Прошу прощения, мой фюрер.
Гитлер. Дайте краткое объяснение.
Риббентроп. Понимаю, мой фюрер… Господин Рузвельт пишет, что война, нависшая над миром, сулит якобы неисчислимые страдания народам. Он призывает фюрера и Польшу… Извините, он просит фюрера по–добрососедски разрешить с Польшей разногласия, возникшие из‑за Данцига и по другим причинам. Не получив от нас ответа на это послание, Рузвельт 25 августа пишет снова: поляки будто бы желают урегулировать все вопросы на основах, предложенных президентом Соединенных Штатов. Он просит фюрера: "Мы надеемся, что нации даже и теперь могут создать основы для мирных и счастливых взаимоотношений, если вы и германское правительство согласитесь на мирные методы разрешения вопросов, принятых польским правительством".
Гитлер. Не слышу вашей точки зрения.
Риббентроп. Мой фюрер, у меня…
Геббельс. У него нет точки зрения!
(Смех присутствующих.)
Гитлер. Доктор Геббельс!
Геббельс. Прошу прощения, мой фюрер.
Гитлер. Я сам поясню… 24 августа я дал армии приказ вступить в Польшу, но тут пришло известие: англичане заключили с Польшей соглашение о взаимной помощи. 26 августа они опубликовали объединенное англо–польское коммюнике о том, что будут помогать друг другу, если одна из стран подвергнется нападению. В таких условиях я счел нужным задержать исполнение приказа, данного армии. Мы должны были предпринять меры для того, чтобы удержать Англию и Францию от формального объявления войны. 28 августа Гендерсон сообщил нам, что наши разногласия с Польшей должны быть урегулированы мирным путем. Уже на следующий день я ответил британскому послу, что мы готовы на переговоры с Польшей. Условием я поставил: возвращение нам Данцига и Польского коридора.
Геринг. Это минимум!
Гитлер. Заключение договора между Англией и Польшей позволило нам утверждать, что поляки нарушили договор с нами, заключенный в 1934 году. Мы уже имели возможность убедить общественное мнение, что против нас заключен заговор, что мы вынуждены защищаться. Если вы примете во внимание, что, не полагаясь на дипломатические каналы, я непрерывно поддерживал неофициальный контакт с Галифаксом, то увидите, что я действовал с открытыми глазами: английское правительство не хотело воевать с нами. Если бы оно имело шансы удержаться у власти, мы были бы в полной безопасности. Даже если разнузданная английская демократия могла оказать давление на правительство в смысле принуждения его к войне, мы тоже рисковали лишь формальным актом о состоянии войны, без каких‑либо реальных военных последствий в виде наступления, блокады и тому подобного. Что касается Франции, то тут у меня есть особые соображения. О них я пока не хочу говорить… Это позже… У кого‑нибудь есть вопросы?
Риббентроп. Поляки предпринимают один демарш за другим, в Лондоне и Париже. Это вынуждает Понсэ и Гендерсона тревожить нас запросами.
Гитлер. Скажите им, что в стремлении к мирному урегулированию я даю полякам еще двадцать четыре часа на размышление. Если в течение этого срока они не пришлют в Берлин своих представителей для переговоров, я применю силу… Слышите: я выступлю! Мое терпение лопается, я не могу больше ждать!.. Двадцать четыре часа!
Риббентроп. Я слышу, мой фюрер.
Гитлер. Но не натворите глупостей. Не вздумайте послать им это приглашение сейчас же. Повремените.
Риббентроп. Быть может, разрешите сообщить о нашем предложении Гендерсону?.. Он вполне благожелательный человек.
Гитлер. Но только устно. Никаких документов.
Риббентроп. Разумеется, мой фюрер.
Геринг. Прочтите Гендерсону свое предложение по–немецки. Половины он не поймет.
Гитлер. Никаких документов! Поляки не должны иметь официального предложения по крайней мере в течение двадцати трех часов из названного мною срока.
Геринг. Да, мы не знаем, как далеко может зайти трусость Бека. Они могут проделать то же самое, что Чемберлен и Гаха. Тогда — прощай всякий предлог для нападения.
Геббельс. Ну, если с теми же результатами — еще не такая большая беда.
Геринг. Ты ничего не понимаешь, Юпп! Ничего!.. Нам нужно вторжение и ничего другого. Никаких зон! Никаких ограничений!
Гитлер. И никаких отсрочек! Я не могу больше ждать. Я уже сказал… Двадцать четыре часа… Через двадцать три часа вы сделаете Варшаве свое предложение. Все. Если они не пришлют своих представителей для переговоров…
Риббентроп. В течение оставшегося им часа они могут по телеграфу уполномочить Липского.
Гитлер. Никаких телеграфов, никаких Липских! Мы должны видеть у себя в Берлине польских уполномоченных. Мы должны видеть подписи на их полномочиях. Ничего другого! Если этого не будет, мы объявим всему миру, что поляки не идут на переговоры, что они срывают наши мирные усилия. Вы все усвоили?
Риббентроп. Да, мой фюрер.
Гитлер. Можете итти. Остаются господа генералы и вы, Гиммлер. Стенографов убрать! Видеман, вы ведете запись. Один экземпляр, только для меня".
Ванденгейм повертел в руках последний листок стенограммы. Было досадно, что конец совещания остался от него скрытым, хотя вторая половина стенограммы и заставила его успокоиться.
— Что скажете, Фосс?
— Геринг не даром ест американский хлеб.
— Он набивает себе брюхо не хлебом, а долларами.
— Китайские мандарины умирали от одного золотого шарика, а этого не берут тонны золота.
— Не каркайте, Фосс. Дай бог здоровья этому борову. С такой командой можно делать дело.
— Если судить по этим листкам…
Джон перебил:
— Листки нужно сжечь.
— Жалко: отличный материал.
— Для тех, кто захочет повесить наших информаторов.
— Вы не разрешили бы мне скопировать все это?
— За каким чортом?
— Тут есть много такого на чем нашим людям нужно учиться. Гитлер довольно верно сказал: ему нет никакого дела до того, как будут себя называть будущие властители вселенной — немцами или американцами: важно, что они будут национал–социалистами.
— Вы бредите, Фосс!.. Честное слово!.. Я старый республиканец.
— Надеюсь, Джон.
— Так какого же дьявола?..
— Но на вас нужно будет кому‑то работать. Для этого тезисы фюрера и кое–кого из его команды могут пригодиться.
— Копируйте. Но запомните: ни один листок, ни одна буква…
— Вы меня учите, Джон?
— Давайте выпьем, Фосс, а?
— Вам вредно, Джон. Лучше сходите в церковь и помолитесь за то, чтобы господь–бог сохранил здоровье и жизнь фюреру.
— Вы в ладу с богом — вы и молитесь. А мне кажется как только Гитлер сделает все, что следует, в Европе, его нужно будет посадить в клетку. Эта собака хочет работать не только на охотника, а и на себя.
— Хуже! Она из тех, что может впиться в глотку хозяину.
— Вы повторяетесь, Фосс. Я уже слышал это от вас когда‑то.
Встреча Ванденгейма с Герингом состоялась в ту же ночь. Осторожность Геринга лишила историю возможности знать, что говорилось на этом свидании. Самое тщательное исследование личного архива "наци № 2" не обнаружило ни стенограммы, ни адъютантской записи, ни каких‑либо пометок в дневнике рейхсмаршала. Даже нередко выручавшие историка записи Гиммлера, сделанные по агентурным данным или по пленкам звукозаписывающих аппаратов, не могли тут прийти на помощь: Геринг предусмотрел все. Повидимому, он и его американский партнер одинаково боялись гласности.
И все же, не зная слов, которыми они обменивались, мы можем догадаться, о чем шла беседа. Это можно было себе представить по нескольким фразам, которыми Геринг и Ванденгейм обменялись на прощание в присутствии ожидавшего в приемной Кроне.
Выходя из кабинета, Джон фамильярно держал фельдмаршала за локоть. Багровое лицо американца не часто выражало такое удовлетворение, как в тот момент.
— Бог да поможет вам, мой старый друг, — растроганно произнес он, обращаясь к Герингу. — Идите без страха. Пусть Польша будет вашим первым шагом в великом восточном походе для спасения человечества от призрака большевизма. Жаль, что вы не решаетесь сразу схватить за горло и русских. Чего вы боитесь?
— Англия, Англия! — проговорил Геринг.
— Об этом позаботимся мы, — с уверенностью ответил Ванденгейм. — Вас не должно беспокоить, даже если англичане заставят Чемберлена объявить вам настоящую войну.
Геринг был не в силах скрыть овладевший им ужас:
— Настоящая война?!
— Мы постараемся сделать ее не очень настоящей… Но будем надеяться на всевышнего, да вразумит он неразумных. Англичанам незачем путаться в это дело.
— Да, оно им не по силам.
— Совершенно верно, друг мой. Ударьте по Франции, это устрашит и Англию. Я верю: мы выйдем победителями.
Геринг рассмеялся:
— Вы или мы?
— Ах вы, мой толстенький плутишка! — с нежностью воскликнул Джон и дружески хлопнул Геринга по спине.
Геринг ответил натянутой улыбкой.
Ответа на свой вопрос он не получил.
12
Профессия полотера стала в Германии дефицитной. Гитлеровское правительство намеренно доводило до разорения мелких торговцев и ремесленников. Ради освобождения рабочей силы для военной промышленности оно добралось даже до таких одиночек, как полотеры. Им запретили самостоятельно брать работу и приписали их к рекомендательным конторам. Так полотеры стали собственностью владельцев этих контор, подобно тому, как промышленные рабочие уже были собственностью фабрикантов, сельские батраки — рабами помещиков. Следующей стадией было прочесывание полотерского цеха с целью выявления тех, кто раньше имел какую‑нибудь индустриальную специальность. Таких забрали на военные заводы, не считаясь ни с их желанием, ни с состоянием здоровья. Ян Бойс уцелел только потому, что был однорук.
Из‑за кризиса с рабочей силой владелец вновь открывшейся в Ганновере полотерной конторы "Блеск" с трудом набрал несколько инвалидов, кое‑как справлявшихся с требованиями клиентов. Было достойно удивления, что он сумел раздобыть себе людей даже в других городах. Например, в Берлине он взял Яна Бойса взаймы у прежнего владельца. Контракт был подписан и зарегистрирован в Бюро труда. Старый владелец Бойса и новый положили в карманы по копии договора, пожали друг другу руки и расстались. Бойса не приглашали к участию в торге. Закон этого не требовал. Только явившись следующим утром в контору, он узнал, что должен отправиться в Ганновер.
Кто‑то из товарищей Бойса посоветовал ему опротестовать сделку: закон о прикреплении к предприятию не распространялся на инвалидов. Но другой только махнул рукой:
— Протестовать?.. Ты наивен, дружище. Они тотчас отыщут параграф о том, что отказавшийся от поручения увольняется… за решетку.
— Это верно, — согласился первый. — Пожалуй, лучше ехать. В конце концов не все ли равно — Берлин или Ганновер.
— Что ж, один из вас безусловно прав, — уклончиво ответил Бойс. — Нужно подумать.
На следующее утро он сказал:
— Пожалуй, я поеду… Не все ли равно — Берлин или Ганновер.
— Вот именно, когда ты и там и тут все равно что раб, — прошептали товарищи.
— Поеду, — с видом покорности повторил Бойс и пошел укладывать чемодан. Однако ни этим товарищам, ни кому‑либо иному он не признался, что прошедшая ночь понадобилась ему вовсе не для размышлений, а для того, чтобы побывать в своей подпольной ячейке и получить ясный приказ партии: "Ехать".
Через день Бойс вышел из подъезда ганноверского вокзала и поплелся по нужному адресу.
Дощечка с надписью "Контора "Блеск" выглядела вполне прилично. Крытое бронзой стекло блестело, как настоящая медь. Дверь тоже была достаточно представительной, лестница чистой. Привычный глаз Бойса охватил все эти детали, пока он поднимался на несколько ступеней.
На звонок ему отворил человек, при виде которого Бойс замер на пороге: это был Трейчке. Да, да, адвокат Алоиз Трейчке! За то короткое мгновение, что Бойс стоял словно окаменевший, Трейчке успел обменяться с ним взглядом, и полотер, насколько мог, спокойно проговорил:
— Мне нужен господин Гинце, владелец конторы "Блеск".
— Это я.
Трейчке посмотрел записку прежнего владельца, поданную Бойсом, и сказал сидевшей в конторе девице:
— Пришлите этого человека вечером ко мне для пробной работы.
— До вечера он мог бы выполнить еще два–три заказа, — проскрипела девица.
— За него заплачены слишком большие деньги, чтобы посылать его случайным клиентам. Он будет работать в лучших домах Ганновера, — резко ответил Трейчке. — Но сначала я должен убедиться в том, что он оправдывает рекомендацию, полученную из Берлина.
— Если он хороший работник, мы сможем удовлетворить претензию господина советника по уголовным делам Опица, — сказала девица. — Ни один из наших людей не понравился советнику.
— У Опица достаточный резерв рабочей силы: он мог бы найти полотера среди арестантов, — ответил Трейчке.
— Господин советник говорит, что запах тюрьмы, исходящий от арестантов, ничем нельзя отмыть. А супруга советника не выносит этого запаха.
Девица выписала Бойсу справку на получение продовольственных карточек и молчаливым движением руки отослала его прочь.
До вечера Бойс не находил себе места. Он ходил по улицам Ганновера так, словно они были усыпаны горячими углями. Встреча с Трейчке была не только неожиданной, она была многозначительной. Прежде всего она служила Бойсу сигналом, что нарушенная было подпольная работа снова начинается. Кроме того, она свидетельствовала о том, что отнюдь не все, кого подпольщики, оставшиеся на свободе, считали потерянными, погибли. Если жив и снова действует Трейчке, значит он не один. Значит, целы и другие товарищи. "Предприниматель Гинце!" Это хорошо, очень хорошо! Значит, не утрачены возможности конспирации, не потеряны связи, сохранены или наново добыты материальные средства для работы в подполье!
Едва дождавшись назначенного часа, Бойс позвонил у двери с карточкой "Генрих Гинце". Эта дверь выглядела уже не так импозантно, как дубовые створки конторы, да и район был далек от представительности. Все говорило о том, что партийные деньги берегутся там, где дело идет о личных удобствах подпольщиков.
Их встреча была молчаливой. Трейчке знаком показал Бойсу, что не следует говорить лишнего, а вслух произнес:
— Сейчас вы под моим наблюдением натрете полы… в одном месте. Это будет вашим экзаменом.
— Слушаю, господин Гинце, — нарочито громко и отчетливо ответил Бойс и даже по–солдатски щелкнул каблуками.
— Вижу, вы старый служака.
— Искренно сожалею о том, что инвалидность мешает мне и теперь дать в зубы кому следует.
— Не все потеряно, — утешил Трейчке. — Вы можете принести народу пользу и в тылу.
— Рад стараться, господин Гинце! — так же лихо крикнул Бойс.
Только когда они очутились на улице, Трейчке сказал:
— Я поторопился с вашей переброской сюда.
— Берлинский хозяин не пускал?
Трейчке из‑под полей шляпы испытующе посмотрел на Бойса: действительно ли тот не знает, что и берлинский владелец полотерной конторы был законспирированный подпольщик, руководитель узла связи? Или Бойс только маскируется?
— Необходимо установить связь с тюрьмой. — Трейчке быстро огляделся вокруг, хотя на улице их некому было слышать, и, понизив голос, проговорил: — Здесь Тельман.
Бойсу пришлось взять себя в руки, чтобы при этом известии не остановиться, не вскрикнуть. Целая буря чувств поднялась в его душе. Если сопоставить то, что сказал Трейчке, со слухом о гибели Тельмана от рук палачей, нынешняя новость — большая радость.
Пока Тельман жив, пока партийное подполье сохраняет с ним связь, надежда не потеряна. Это все‑таки радость: пленник, но живой, в цепях, но не утративший надежды…
Они пришли в безлюдный танцевальный зал, и Бойс принялся за работу. Трейчке ушел и вернулся через час, делая вид, будто с интересом наблюдает за тем, как из‑под щетки Бойса появляется блестящая поверхность пола. Когда пот начинал капать со лба полотера, он присаживался на диванчик у стены и начинал разговор вполголоса. Бойс узнал, что политический кризис нарастал с огромной быстротой. За кулисами событий чувствовалась злая воля, затягивавшая мир паутиной интриг, тайных переговоров и дипломатических диверсий.
Бойс давно не читал подпольной "Роте фане", а в нацистских газетах нельзя было почерпнуть ни слова правды. Он внимательно слушал слова Трейчке о том, что, по мнению многих товарищей, политика Гитлера должна со дня на день разразиться трагедией всеевропейского, а может быть, и мирового масштаба. Правилен был анализ политического положения, данный Тельманом в одной из его записок, нелегально доставленной из тюрьмы: "Война близка. Маневры гитлеровского правительства не могут ввести в заблуждение на этот счет. На мой взгляд, все идет к тому, что катастрофа вскоре разразится". Так же могло ежеминутно стать трагической действительностью и то, что Тельман сообщил недавно о своих подозрениях "Гитлер готовится к последнему из своих преступлений — к нападению на Советский Союз". Тельман указывал товарищам, оставшимся на воле, на необходимость приложить все усилия к тому, чтобы раскрыть немецкому народу глаза: это новое преступление уготовляет германскому народу и всем народам Европы ужасную участь. Правда, из лаконического, поневоле, анализа Тельмана явствовало, что нападение на СССР было бы верным шагом Гитлера к самоуничтожению и, в конечном счете, сулило освобождение немецкого народа от фашизма, но вместе с тем такое нападение было бы чревато небывалыми страданиями народа. Тельман верил в свой народ, он верил в его здравый смысл, в его душу, в его волю к борьбе за свободу. Тельман призывал товарищей, не считаясь ни с какими трудностями, не щадя своих жизней, бороться за предотвращение всеобщей бойни и за освобождение немецкого народа от гитлеризма силами самих немцев. К сожалению, легкие победы фашистских палачей над Абиссинией, Испанией, Австрией, Чехословакией делали большинство немцев глухими к правде.
— Наци не доверяют администрации тюрем, куда перевозят Тельмана, — сказал Трейчке. — Они прислали сюда, в Ганновер, советника по уголовным делам Опица с целой командой надзирателей. Режим содержания Тельмана исключительно строг. Тем не менее мы должны восстановить прерванную связь с ним.
Трейчке переждал, пока хозяин танцовального зала осматривал часть пола, натертую Бойсом.
— Первоклассная работа, не правда ли? — спросил Трейчке. — Даже жалко топтать такое зеркало, а?
— Если мне будут платить, я могу подложить им под копыта настоящие зеркала, — ответил хозяин, равнодушно глядя, как выбивающийся из сил Бойс шаркает суконкой по паркету. — А в общем, можете посылать мне этого полотера…
Когда он ушел, Трейчке продолжал:
— К сожалению, вам придется работать у этого прохвоста — здесь удобная явка. Кроме того, вы будете натирать у Опица. Он должен быть вами доволен. В его квартире вы встретите вахмистра Ведера. Он исполняет там обязанности писаря. В отделение тюрьмы, где содержится Тельман, Ведер доступа не имеет, но там есть наш человек…
Так же как сегодня Бойс с трудом дождался вечера, так назавтра он едва вытерпел, чтобы не явиться в контору с рассветом. Отворял он дверь в уверенности, что сейчас увидит противную конторщицу, но перед ним стоял Трейчке. Пользуясь тем, что они были в конторе одни, Трейчке торопливо сунул в руку Бойсу маленькую тетрадку курительной бумаги и, назвав адрес Опица, приказал:
— Сейчас же туда… Не забудьте: вахмистр Освальд Ведер. Дело, выходящее из ряда вон.
Не проронив ни слова, Бойс повернулся, и неутомимые ноги понесли его по улицам Ганновера.
13
Ночные приглашения в имперскую канцелярию всегда заставляли Гаусса нервничать. Он приписывал это своему нерасположению к Гитлеру и настороженности, которой требовали совещания с ближайшими военными советниками фюрера — Кейтелем и Йодлем. Гаусс не отдавал себе отчета в том, что подсознательной причиной его нервозности бывал в действительности простой страх. Мысль о том, что Шахт, и Гальдер, и Гизевиус, и другие постоянно общаются с Гитлером, вовсе не должна была находиться на поверхности сознания, чтобы боязнь провала не исчезала. Ну, а если все они, при всей их фронде, только провокаторы, подосланные к нему Гитлером?.. Тогда этот страх был еще более законным гостем в душе генерала.
Гаусс знал, что поводом для сегодняшнего вызова к Гитлеру являлись, вероятно, польские события. Но на какой‑то миг рука его крепче, чем нужно, сжала телефонную трубку. Он волновался, и это было ему противно. Тем не менее, когда он входил в зал заседаний, походка его была тверда, голова высоко поднята и монокль, как всегда, крепко держался в глазу: не показывать же ефрейтору, что каждый приход сюда — борьба с нервами.
Гитлер, Йодль и Кейтель склонились над столом у окна с разложенными на нем картами генерального штаба. Гаусс покосился на жирные синие стрелы, оставляемые на карте толстым карандашом Гитлера. От стола слышались только хриплые возгласы:
— Атакуете так!.. Так!.. Так!.. Через неделю от Варшавы не оставим камня на камне…
Да, дело шло о нападении на Польшу. Теперь Гаусс ничего не имел против этой темы. Былые сомнения и страхи отпали. Пачелли уже полгода сидел на папском престоле. Судя по ходу дел в Европе, он немало сделал, чтобы реализовать обещания, данные Гауссу.
Из Франции приходили вести самые утешительные для деятелей гитлеровской Германии: министерские кризисы следовали один за другим; профашистские и просто фашистские организации распоясывались все больше; аппарат власти съедала коррупция; планы перевооружения французской армии современной техникой не выполнялись. Все планы французского генерального штаба основывались на стратегии пассивной обороны. Слова "линия Мажино" выражали смысл всей французской политики. "Линия Мажино" — таков был лозунг, с которым депутаты–предатели произносили в палате речи по конспектам, написанным в Берлине. "Линия Мажино" — это был предлог, под которым сенат отвергал кредиты на оборону. "Линия Мажино" — с этими словами американские шептуны и немецкие шпионы шныряли по всей Франции, демобилизуя ее дух сопротивления надвигающейся катастрофе войны.
"Мы отсидимся за линией Мажино" — этого не говорил в те дни только простой народ Франции. Против этой позорной концепции капитулянтов протестовали только патриоты, готовые драться с иноземным фашизмом и с французскими кагулярами в любом месте. Этого не писали только газеты, которые не удавалось купить ни германо–англо–американским поджигателям войны, ни могильщикам Франции. Во главе борцов за мир, за достоинство Франции, за спасение миллионов простых французов от кровавой бани выступала "Юманите".
Хотя все это представлялось Гауссу в ином свете, но вывод он мог сделать правильный: правительство Третьей республики не отражает взглядов Франции, оно неспособно оказать сколько‑нибудь действительного сопротивления Германии даже в том случае, если Франция будет вовлечена в круг военных действий. Вступление Франции в войну из‑за Польши становилось все сомнительней. Александер в изобилии доставлял сведения о бесчисленных совещаниях в Париже и Лондоне, о частных беседах, письмах и документах, общим лейтмотивом которых было желание найти путь к соглашению за счет поворота воинственных устремлений Гитлера на восток. Ни для Гаусса, ни для кого‑либо другого в его мире не было тайной, что под словом "восток" разумелась Советская Россия. Разгром России как источника коммунистических идей, уничтожение советского государства как основы социалистического переустройства мира — такова была широкая стратегическая программа великих держав Запада.
В создавшейся международной обстановке Гаусс ничего не имел против ускорения событий. Еще более оптимистично были настроены все те, кого Гаусс увидел сегодня у Гитлера. О Кейтеле, Йодле, Гальдере не стоило и говорить — эти с закрытыми глазами голосовали за любые самые авантюристические планы фюрера. Но достаточно было взглянуть на готовую лопнуть от самодовольства усатую физиономию Пруста, чтобы не задаваться вопросом и об его отношении к "Белому плану" нападения на Польшу.
Только Шверер сидел нахохлившись, как захваченная морозом птица, зябко потирая руки. Китайские приключения Шверера окончились не только сильнейшим воспалением легких, схваченным в ночь бегства с мельницы. В Берлине поговаривали, будто из этой операции Шверера вывезли нагишом, завернутым в японскую солдатскую шинель. Мало того, долгое время Шверер находился в состоянии, близком к безумию. Его преследовала мания заражения чумой. Самое‑то воспаление легких Шверер считал легочной чумой и ежеминутно ждал смерти. Врачи с трудом вернули его к пониманию действительности.
"Паршивый вид", — подумал Гаусс, глядя на Шверера, старательно отводившего взгляд от своего недруга. В мозгу Шверера саднила мысль: "Опять этот пакостник на моем пути. Он и сюда явился, вероятно, для того, чтобы подложить мне свинью…"
— Фюрер просит занять места, — раздался голос адъютанта, и совещание началось.
Кроме военных, здесь были Гиммлер, Гейдрих, Кальтенбруннер. "Вся шайка", — подумал Гаусс и уставился в лежавшие перед ним бумаги. Глухой и хриплый долетал до нею голос Гитлера:
- …Эти причины заставили меня отложить на несколько дней вторжение в Польшу. Но я не меняю решения: вторжение состоится. Польша не только плацдарм, необходимый мне для дальнейшего наступления на восток. Военный разгром Польши — обеспечение нашего тыла в западной операции. Генерал Гаусс, — при этих словах Гаусс поднял глаза от стола и встретился с мрачно–насмешливым взглядом Гитлера, — вы можете быть покойны: войны на два фронта не произойдет. — Тембр голоса Гитлера еще понизился. В нем зазвучали угрожающие нотки: — Слышите, не произойдет! Я предусмотрел все!.. Наши руки будут развязаны!.. Пространства Польши прикроют Германию от удара русских!..
Гаусс отвел взгляд от Гитлера. Он знал: теперь последуют хвастливые выкрики, пока не будет израсходован заряд истерической энергии.
Прошло несколько минут, хрип на конце стола закончился.
После длинной паузы, протекшей в полной тишине, Гитлер продолжал:
— Прежде чем мы поговорим о "Белом плане", я хочу спросить гроссадмирала Редера, выполнена ли моя директива УСК?
— Не называю точек, известных фюреру, но докладываю: три дивизии подводных лодок и два дивизиона подводных заградителей стоят наготове. — Редер говорил, игнорируя всех присутствующих. Он презирал сухопутных генералов ничуть не меньше, чем штатских. Он обращался к одному Гитлеру. — Адмирал Дениц ожидает только моего приказа — и эти корабли блокируют восточное побережье Англии, выход из канала будет минирован. Специальное соединение во главе с самыми надежными командирами направится для операций на атлантических коммуникациях Англии и Франции.
Гитлер со вниманием прислушивался к монотонному голосу Редера. Когда адмирал умолк, он сказал:
— На время наших операций в Польше флот должен изолировать ее от всякой помощи извне, в особенности со стороны Англии.
— За это я ручаюсь, — самоуверенно проговорил Редер.
— Поручаю вам Вестерплятте. Честь овладения им будет принадлежать флоту.
— Флот благодарит вас, мой фюрер.
— Можете снести этот мыс с карты. Утопите его.
— В счастливую минуту победы флот будет приветствовать своего фюрера!
Гитлер уже не слушал адмирала. Ни на кого не глядя, он постукивал карандашом по стопке лежавших перед ним бумаг. Казалось, он и вовсе забыл о совещании, о сидевших перед ним генералах, как вдруг заговорил так, будто ни на минуту и не умолкал. При этом голос его звучал все громче.
— Путем для нашего воздействия на Англию попрежнему остается воздух. С этой стороны уязвимость Англии нисколько не уменьшилась. Производственная мощь английской авиационной промышленности выросла, однако противовоздушная оборона отстает от наших возможностей нападения. На море Англия не получила никаких существенных подкреплений. Пройдет много времени, прежде чем корабли, находящиеся в постройке, вступят в строй. Введение воинской повинности дало Англии ничтожный контингент призывных — какие‑то шестьдесят тысяч солдат! Если Англия будет держать внутри страны мало–мальски значительное число войска, — а, угрожая вторжением, мы заставим ее это сделать, — то во Францию она пошлет всего две пехотных дивизии и одну бронетанковую дивизию. Не больше. Можно ли серьезно говорить об этом, как о помощи Франции? Англия сможет снарядить для войны на континенте несколько бомбардировочных эскадрилий из устарелых самолетов, но мы не позволим ей оторвать от метрополии ни одного современного истребителя. Посылая в воздух свое старье, английское командование собственными руками уничтожит свои лучшие кадры.
Геринг без стеснения вставил:
— Мы ему поможем!
Гитлер недовольно замолчал, но лишь на мгновение. Не взглянув в сторону Геринга, продолжал:
— Когда начнется война, наша авиация атакует Англию, ее жизненные центры, Лондон… Теперь о Франции: как только с Польшей будет покончено, — а это не должно занять больше двух недель, — мы будем в состоянии сосредоточить на западной границе столько дивизий, сколько нам понадобится, чтобы не позволить французам сделать ни шагу. Они довольно быстро убедятся в том, что не в силах взломать укрепления на итальянской границе и тем более линию Зигфрида. Могу вас уверить: они будут отсиживаться за линией Мажино. Могу вас порадовать еще тем, что дуче дал мне слово: при любых испытаниях он будет рядом со мной. Все властно повелевает мне обратить взоры на восток и покончить с Польшей. Тут мы не ставим себе целью достижение каких‑либо определенных рубежей: чем дальше и чем скорее, тем лучше. Основная задача всех родов войск — уничтожение живой силы противника. Уничтожать поляков в максимально возможном числе! Никаких капитуляций! Ни пленных, ни раненых! Только убитый поляк никогда снова не поднимется на нас. Операция должна быть проведена молниеносно, в соответствии с сезоном. Задержка может быть чревата печальной затяжкой всего дела. Это скажется на всех других планах нашего наступления на западе и востоке. Я сам дам пропагандистский повод к войне. Неважно, будет ли он убедительным или нет. Победителя не станут потом спрашивать, говорил он правду или нет. Начиная войну, говорят о победе, а не о правде.
После некоторой паузы Гитлер обратился к сидевшему рядом с ним Йодлю:
— Напомните господам основные пункты второго раздела "Белого плана".
— Кто мог их забыть?.. — начал было Геринг, но Гитлер сердито перебил:
— Я хочу еще раз, перед лицом истории, которая смотрит на нас, услышать от каждого, что он сделал во исполнение моей директивы, во исполнение воли Германии!.. И вы, Геринг, тоже!.. Йодль, второй раздел!
Уже приготовившийся Йодль тотчас начал:
— Во втором разделе документа "Белый план", датированного третьим апреля сего тысяча девятьсот тридцать девятого года, подписанном генерал–полковником Гальдером и контрассигнованном начальником штаба ОКВ генерал–полковником Кейтелем, говорится: "Фюрер дал следующие директивы по "Белому плану": Первое. Все приготовления должны проводиться таким образом, чтобы начать операции с первого сентября сего тысяча девятьсот тридцать девятого года.
— Генеральный штаб! — ни к кому не обращаясь и делая вид, будто с интересом ждет ответа, выкрикнул Гитлер.
Гальдер поднялся, как подкинутый пружиной:
— Исполнено.
Гитлер молчаливым кивком головы приказал Йодлю продолжать.
— Верховное командование вооруженных сил, — читал тот, — должно разработать точный календарный план осуществления "Белого плана" и синхронизировать действия трех родов войск.
Гитлер снова выкрикнул:
— ОКВ?
Кейтель поднялся с несколько меньшей поспешностью, чем Гальдер:
— Исполнено.
— Третий пункт? — спросил Гитлер.
Не глядя в бумагу, Йодль доложил:
— Все разработки по третьему пункту поступили вовремя.
Гитлер медленно обвел своим свинцово–тяжелым взглядом присутствующих и остановился на угодливо настороженном лице Функа.
— Как дела?
Функ заговорил так торопливо, что Гаусс с трудом следил за ним.
— Сообщение, сделанное мне фельдмаршалом Герингом, о том, что вы, мой фюрер, вчера одобрили мероприятия, предпринятые мною для финансирования войны и регулирования заработной платы и цен, а также мероприятия, обеспечивающие нас на случай чрезвычайных обстоятельств и жертв, делают меня глубоко счастливым.
С этими словами Функ сделал поклон в сторону неподвижно сидевшего и смотревшего ему в лицо Гитлера. Гитлер не сделал ни малейшего движения в ответ. Напряженное выражение его лица не изменилось. Но, повидимому, это не смутило Функа. Он с прежней бойкостью продолжал:
— Рад сообщить вам, мой фюрер, и всем вам, господа, — последовали два поклона: один — почтительный — в сторону Гитлера, другой — короткий — сидевшим, как каменные изваяния, генералам. — Я добился уже определенных результатов за последние несколько месяцев в своих усилиях сделать Рейхсбанк внутри страны абсолютно прочным, а со стороны заграницы абсолютно неуязвимым. Если даже произойдут серьезные события на международном денежном рынке и в области кредита, то это не сможет оказать на нас влияния.
Гитлер остановил его движением руки:
— Можете ли вы с полным сознанием ответственности поручиться мне, что тяжелая индустрия не испытывает трудностей ни с кредитом, ни с наличностью? Можете ли вы мне гарантировать, что интересы фюреров германской промышленности будут надежно защищены и они смогут целиком отдать свои помыслы развитию производства? Заботиться о их вложениях, охранять их и гарантировать прибыль — вот ваше дело.
— Гарантирую, мой фюрер.
— Вы поставили об этом в известность руководителей германской промышленности?
— Да, мой фюрер.
— Их интересы — мои интересы. Мое дело — их дело.
— Понимаю, мой фюрер. — Голос Функа сделался вкрадчивым. — Я незаметно превратил в золото вклады Рейхсбанка. Кроме того, я провел приготовления с целью беспощадного сокращения всех потребностей, не имеющих жизненного значения, а также всех общественных расходов, которые не имеют военного значения.
— Не стесняйтесь завинчивать пресс, — проговорил Гитлер. — Пусть немцы подтягивают пояса. С полным брюхом хуже работается. Страх голода должен держать рабочего в повиновении хозяину. Поскорее приканчивайте мелкую промышленность и ремесленников. Они ничем не могут быть нам полезны, когда речь идет о постройке танков и производстве пушек. Пусть нужда гонит их на военные заводы. Там нужны руки. Того, кто не знает ремесла, мы поставим в ряды пехоты. Когда я посылаю на смерть десять миллионов лучших немецких юношей, а не намерен миндальничать со всякой дрянью. Гоните их в армию и к Круппу! Железной метлой нужды! Слышите, Функ?!
— Я считаю это своим долгом, мой фюрер. Как генеральный уполномоченный в области экономики, назначенный вами, мой фюрер, я торжественно обещаю вам, мой фюрер, выполнить долг до конца. Хайль Гитлер!
Гаусс презрительно покосился в сторону суетливого министра. Он не любил этого преемника Шахта.
Снова наступило молчание; снова Гитлер обводил взглядом лица сидящих. На этот раз он ткнул пальцем в сторону Гиммлера:
— Что вами сделано в связи с предстоящими операциями?
Гиммлер отвечал не вставая:
— Мне, как рейхсфюреру СС, вы поручили окончательно возвратить в состав империи всех лиц немецкой национальности и расовых немцев, проживающих в иностранных государствах. Все меры приняты. Всякий немец, проживающий на иностранной территории, которого мы не сочли нужным использовать там, обязан немедля вернуться в пределы отечества. Многие уже здесь. Другие возвращаются. Уклоняющиеся, которых мы обнаружим на занимаемых нами территориях, как Польша и другие, составят пополнение для исправительных лагерей, наравне с коренным населением оккупируемых стран и областей.
— А нарушители нашего приказа в странах, еще не ставших частями империи или объектом ее интересов? Ну, скажем, в Южной Америке? — спросил Гитлер.
— Они и там жестоко пожалеют о своем непослушании вам, мой фюрер.
— Никакого миндальничанья, надеюсь?
Лицо Гиммлера оставалось равнодушно–спокойным, когда он ответил:
— Все, как вы приказали, мой фюрер.
— А коренное население областей, которые мы займем? Как дела с ним?
— Все готово для того, чтобы оно ни на минуту не могло выйти из повиновения империи и ее органам.
Гитлер, не оборачиваясь, бросил через плечо:
— Видеман!
— Мой фюрер!
— Директива?
— Здесь, мой фюрер. — И стоявший за спиною Гитлера Видеман громко начал читать по листу: — "Директива номер один для ведения войны…"
Гитлер сердито прервал его:
— Я сам.
Видеман подал ему бумагу. Гитлер отодвинул ее перед собой почти на вытянутую руку и, приняв театрально–торжественную позу, оглядел присутствующих.
— Директива номер один для ведения войны… — начал он и сделал паузу. Гауссу показалось, что Гитлер посмотрел на Шверера, потом на него. Гаусс тут же поймал на себе и ощупывающий его колючий взгляд Шверера.
Шверер действительно исподтишка, так, чтобы это не бросилось в глаза остальным, уже несколько раз оглядывал Гаусса. В голове старика гвоздило: "Что, если он опять подложил мне какую‑нибудь пакость, как с Чехословакией?.. Польский поход по праву принадлежит мне…"
- …Теперь, когда положение на восточной границе стало невыносимым для Германии, я намерен добиться решения силой.
Гитлер приостановился, как бы ожидая ответа на это вступление, быть может, даже надеясь на возражение или хотя бы только недовольное выражение чьего‑либо лица. Это дало бы ему возможность не сдерживать рвавшуюся наружу истерику. Глаза его мутнели и наливались кровью, голос делался все глуше.
— Второе: нападение на Польшу должно быть проведено в соответствии с приготовлениями, сделанными по "Белому плану". Оперативные цели, намеченные для отдельных соединений, остаются неизменными. Дата атаки — первое сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года. Время атаки — четыре часа сорок пять минут. Это же время распространяется на операцию флота против Гдыни, в Данцигском заливе и против моста в Диршау.
Он начал читать так громко, словно находился на площади. Это был уже почти крик, резонировавший под потолком зала, у мраморных стен, заполнявший все пространство. Гауссу чудилось, что весь мир заполнен хриплыми воплями истерика. Что скрывать, он и сам ждал этой минуты, как ждали ее коллеги–генералы. Эта минута могла бы быть самой радостной со времени поражения в первой мировой войне. Но радость была отравлена досадой на то, что голос ефрейтора так безобразно груб; на то, что в нем слышен акцент иноземного выходца, что все они — генералы германской армии — сидят, как мальчишки, и только слушают, не смея поднять лиц… Этот паршивый коротышка уже заранее присваивал себе грядущую славу неодержанных побед…
Гитлер рычал:
— Весьма важно, чтобы ответственность за начало враждебных операций на западе была возложена на Францию и Англию. Сначала на западе должны быть проведены только операции местного значения, против незначительных нарушений наших границ. Германская сухопутная граница на западе не должна быть пересечена ни в одном пункте без моего ведома…
"Повторение истории с Рейнской зоной, — подумал Гаусс. — Хорошо, если все обойдется такою же комедией со стороны французов и англичан, как тогда…"
— То же самое относится к операциям на море, — продолжал Гитлер. — А также к операциям, которые могут быть и должны быть ограничены исключительно охраной границ против вражеских атак…
Казалось, Гитлер не мог справиться с хрипом, заглушавшим его голос. Он задыхался от собственного крика.
Гаусс мельком взглянул на Редера. По мере того как Гитлер выкрикивал приказания, лицо адмирала вытягивалось. Гаусс мысленно усмехнулся: "А, ты ждал, что тебе позволят делать что угодно?.. Придется равняться на нас, мой милый… На нас!" Гаусс не любил Редера, как не любил моряков вообще. Он не верил в мощь германского надводного флота. Он считал ее дутой, а весь флот таким же неосновательно чванным, как фигуру гроссадмирала. Гаусс делал исключение только для подводного флота. Подлодки играли важную роль во всех планах, направленных против Англии. Подводные разбойники умели делать свое дело!
Но вдруг голос Гитлера упал. Он бормотал себе под нос что‑то неразборчивое и скоро умолк совсем. В огромном зале наступила тишина. Никто не решался заговорить: не было известно, закончил ли Гитлер свою речь. А прерывать его ни у кого не было охоты. Как часто в таких случаях, храбрецом оказался Геринг.
— Быть может, мой фюрер, перейдем в ваш кабинет? — спросил он. — Гиммлер должен сказать нам несколько слов о последних приготовлениях.
— Сначала ты скажешь, что намерен делать с Варшавой? — ехидно заметил Гиммлер.
Гаусс понял, что Гиммлеру не хочется итти в кабинет и он тянет, выигрывая время. Гитлер вялым кивком в сторону Геринга дал понять, что согласен с Гиммлером.
— Буду краток, — заявил Геринг. — Никакие силы не помешают моим бомбардировщикам превратить Варшаву в кучу камней, если она не сдастся по первому приказу победителей.
— А если сдастся? — спросил Гиммлер.
— Не беда! — ответил Геринг. — Мои летчики сделают свое дело, прежде чем поляки успеют поднять белый флаг. Урок Польше должен быть уроком для всей Европы.
— Жаль… очень жаль… — негромко проворчал Гитлер, но в мгновенно воцарившейся тишине все хорошо расслышали: — Я сожалею, что это только Варшава, а не Москва… Очень сожалею…
С этими словами он устало поднялся и, словно через силу волоча свои огромные ступни, поплелся к дверям кабинета.
Геринг назвал тех, кто должен последовать за Гитлером.
Гаусс не торопился вставать. Он аккуратно собрал свои расчеты, которыми никто так и не поинтересовался, сложил их в портфель и последним вошел в кабинет. Все сидели уже вокруг стола. Гаусс опустился в кресло подальше от фюрера.
— Риббентроп, — ворчливо проговорил Гитлер, — прочтите то место из записки Дирксена… вы знаете…
Риббентроп покорно, хотя и с видимой неохотой, начал читать:
— Из записки нашего посла в Лондоне о предполагаемой позиции Англии в случае германо–польского конфликта: "На основании предшествующего изложения психологических моментов, влияющих на отношение Англии к комплексу германо–польских проблем, может быть поставлен вопрос: какую предположительно позицию займет Англия в германо–польском конфликте? На этот вопрос нельзя ответить ни "да", ни "нет". Надлежит исследовать каждый отдельный случай, чтобы получить ясное представление о позиции Англии…" Я пропускаю случаи, не относящиеся к нынешней ситуации, и перехожу к последнему, — сказал Риббентроп. — "Если бы мы сумели инсценировать провокацию с польской стороны, например обстрел немецкой деревни по приказу какого‑нибудь польского командира батареи или бомбежку немецкого селения польскими летчиками, то решающее значение при определении позиции Англии имели бы ясность и бесспорность умело организованной провокации…"
Заметив, что Гитлер хочет говорить, Риббентроп остановился.
— Хотя господин Дирксен и глуп, я высоко оцениваю это сообщение, — сказал Гитлер. — Оно проникнуто пониманием национал–социалистского духа борьбы и реалистической политики Германии. Я приказал генерал–полковнику Кейтелю организовать в ночь на первое сентября секретную операцию на польской границе. Генерал Кейтель, доложите господам, что сделано.
На этот раз голос Кейтеля звучал не так фельдфебельски бодро, как всегда:
— Операция была мною возложена на генерала Александера. Взвод наших людей, переодетых в форму польской армии, с польским легким вооружением — винтовками, ручными пулеметами и гранатами — должен был быть переброшен на польскую сторону с наступлением темноты. Под покровом темноты взвод во главе с надежным офицером следует вдоль границы. Если нужно, он бесшумно снимает мешающие ему посты польской пограничной стражи. Ночью взвод атакует нашу пограничную охрану, уничтожает заставу номер пятьсот шестьдесят девять и врывается в город Глейвиц. Охрану глейвицкой радиостанции взвод подвергает расстрелу. Подготовленный к тому времени в Глейвице работник Александера выступает по глейвицкому передатчику с призывом к немцам восстать против фюрера и империи. Подоспевающие немецкие части вступают в бой за радиостанцию. Взвод с боем отступает к польской границе. Он истребляется нашими войсками или берется в плен и расстреливается.
— Отлично! — с возбуждением воскликнул Гитлер.
— Однако… — с ударением проговорил Кейтель, — обратившись к рейхсфюреру СС доктору Гиммлеру за необходимым польским обмундированием, оружием и автомобилями, мы получили отказ.
— Как? — угрожающе спросил Гитлер.
— Нам отказали, — обиженно повторил Кейтель.
Гитлер обернулся в сторону Гиммлера. Но прежде чем он успел что‑либо сказать, Гиммлер поспешно заговорил:
— Мой фюрер, не хотите же вы, чтобы этот "взвод" провалил великое дело, которое вы так мудро задумали и начали с таким искусством? — Гиммлер насмешливо повторил, глядя на Кейтеля: — "Взвод"! Здесь нужен не взвод солдат, не "надежный" офицер, а люди, для которых риск был бы искуплением их вины, смерть была бы благодеянием.
— Опять ваши уголовники? — с неприязнью спросил Кейтель. — Мы не можем послать с ними ни одного офицера.
— А им и не нужны ваши офицеры, — отпарировал Гиммлер. — Им нужны мои тюремщики, господин генерал–полковник, а не генштабисты.
— И вы воображаете, что, вернувшись из операции, эта банда будет хранить молчание?
— Мне важно, чтобы они захотели пойти в операцию, а это они захотят. Я обещаю им свободу и денежное вознаграждение. А о том, будут ли они болтать после операции, позвольте позаботиться нам. Если угодно фюреру, Гейдрих доложит подробности.
Гейдрих не ждал разрешения Гитлера.
— Болтать им не придется: те из группы, кто не будет перебит в перестрелке, должны быть в тот же день расстреляны службой безопасности. Кальтенбруннер уже получил распоряжения.
— Все готово, — лаконически проскрипел Кальтенбруннер.
— Вот! — сказал Гиммлер, с торжеством посмотрев на Кейтеля.
Тот пожал плечами, как бы желая сказать: "Подумаешь, новость! Мы тоже расстреляли бы всех своих". А вслух проговорил:
— Кто поручится, что ваша банда не разбежится, едва переступив границу?
— Во–первых, — резко заявил Гейдрих, — они знают, что мы их выловим и четвертуем. А за выполнение задачи им обещана свобода и награда. Во–вторых… они не знают того, что сделанная каждому из них прививка якобы против столбняка в течение двадцати четырех часов…
— Так что у них просто не будет времени болтать, — мимоходом заметил Гиммлер.
— Мне это нравится, — задумчиво проговорил Гитлер. — Благодарю вас, доктор Гиммлер. Но… я хочу, чтобы ОКВ было все же в курсе всего этого дела. Офицер ОКВ должен присутствовать в Глейвице и, может быть, даже руководить операцией по окружению и уничтожению группы Кальтенбруннера.
Гаусс понял: Гитлер хочет перестраховаться. Он знает, что армия боится службы безопасности, и потому ненавидит ее людей. Уж армейцы‑то не выпустят ни одного диверсанта, если сказать солдатам, что это люди Кальтенбруннера. Перестреляют, как куропаток. Ход понравился Гауссу.
Гитлер остановил взгляд на Шверере. У старика защемило под ложечкой. "Я так и знал, — подумал он. — Опять проделка Гаусса: сейчас меня сунут в эту кашу". Гитлер действительно проговорил:
— Заветной мечтой генерала Шверера был восточный поход. Я предоставлю ему честь начать это дело… Генерал Шверер! — Шверер нехотя приподнялся в кресле. — Германия возлагает на вас уничтожение особой группы Кальтенбруннера. Преследуя беглецов в польских мундирах, вы первым ступите на землю Польши.
— Благодарю вас, мой фюрер, — вяло проговорил Шверер. Ему при этом казалось, что он чувствует на своем затылке насмешливый взгляд Гаусса. Однако, едва опустившись в кресло, он забыл обо всем, кроме бередившего мозг вопроса: "Уж не понадобилось ли им опять подставить меня под выстрел какого‑нибудь гиммлеровского уголовника, наряженного в польский мундир, чтобы иметь еще один предлог для наступления?.."
Холодные мурашки бежали по спине старика. Он не слышал больше того, что говорилось за столом.
Но на этот раз он ошибался: план захвата глейвицкой радиостанции был для Гаусса такой же новостью, как для Шверера.
Заседание окончилось. Гитлер, как всегда, неожиданно замолчав на полуслове, сорвался с места и исчез, прикрываемый адъютантами.
Его спина уже скрылась за дверью, а Гаусс все смотрел на тяжелые дубовые створки.
14
Опускаясь по служебной лестнице, план провокации на польской границе докатился до командира 17–го отряда службы безопасности хауптштурмфюрера СС Эрнста Шверера.
Эрнст ничего не имел против этого поручения. Он не раз проводил подобные операции на своей немецкой земле против рабочих, коммунистов, вообще антифашистов. Он с удовольствием вспоминал о своем участии в захвате Австрии, о провокации, которую ему удалось организовать в Чехии вместе с белочулочниками Хенлейна. Тогда его подчиненные убили восемнадцать чехов и нескольких "красных" немцев.
Но на этот раз ему стало не по себе сразу же, как только бригаденфюрер изложил задание. Эрнсту претила не провокация, как таковая, — он с удовольствием вырежет заставу и пустит в расход несколько штафирок на радиостанции, хотя бы они и были немцы. Смущало другое: обстановка, в которой бригаденфюрер посвятил его в суть этого дела. Уж очень не в нравах СД была любезность бригаденфюрера, чересчур необычны были посулы наград и повышение сразу в чин оберштурмбаннфюрера, минуя четыре кубика штурмбаннфюрера. Все было подозрительно. Даже то, что люди Эрнста должны были выполнять главным образом функция конвойных при команде уголовных арестантов, которые составят основную силу диверсионной партии. Зачем уголовники? Как будто эсесовцы не доказали своей готовности и способности совершить любое уголовное преступление! Эрнст смотрел на хорошо знакомый шрам в виде полумесяца, красневший на щеке бригаденфюрера, и старался уловить в словах начальника ту действительную угрозу благополучию и жизни его, Эрнста, которую он, как животное, инстинктивно уже разгадал.
Однако Служба безопасности была Службой безопасности. То, что Гейдрих и Кальтенбруннер хотели сохранить в тайне даже от своих сотрудников, во многих случаях тайной и оставалось. Бригаденфюрер открыл Эрнсту, что уголовники, которые уцелеют в перестрелке, должны быть уничтожены немедленно по окончании операции. Эрнст охотно взял и это дело на себя. Но бригаденфюрер ничего не сказал Эрнсту о смертельности прививок, предназначенных всем участникам "дела".
— Им всем будет сделан укол. Предохранение от столбняка и вместе с тем что‑то возбуждающее, для храбрости, — непринужденно проговорил бригаденфюрер в заключение беседы.
— Моим парням не нужно ничего возбуждающего, — ответил Эрнст. — Они и так справятся с делом.
— Нет, нет! — запротестовал начальник. — Все получат свою порцию. И вы должны показать пример остальным.
Эрнст не стал спорить. Но заранее решил, что постарается уклониться от каких бы то ни было вспрыскиваний — будь то состав "бодрости", "успокоения" или чего другого. Полбутылки коньяку — вот все, что ему нужно.
Ценою примитивной хитрости ему удалось подставить под шприц своего помощника по операции — здоровенного детину хауптшаррфюрера Мюллера. Тот получил два укола.
Вечером Эрнст с удовольствием оглядел себя в зеркало: лихо сдвинутая на ухо конфедератка польского пограничника и хорошо пригнанный мундир с массой серебра показались ему куда более элегантными, чем погребальный наряд гестапо. Жаль, что не удастся в таком виде показаться какой‑нибудь берлинской девчонке!
От пограничной комендатуры, где происходило переодевание, отряд двинулся к границе. Под командой Эрнста находились эсесовские головорезы, привыкшие к ночным вылазкам на польскую сторону. Так как они не были посвящены в то, чем эта вылазка отличается от прежних, то уверенность в безнаказанности и благополучном возвращении придавала им смелости. Уголовники, составлявшие основное ядро отряда, знали еще меньше. Но они были готовы на все за обещанную свободу. Хауптшаррфюрер Мюллер был, кроме Эрнста, единственным, кто знал цель экспедиции — нападение на немецкую радиостанцию в Глейвице.
Сидя рядом с Эрнстом в кабине грузовика, Мюллер молчал. Его ум не был приспособлен к какому‑либо анализу полученных приказаний, а нервы он имел такие, какие и должен иметь разбойник. Они не приходили в возбуждение от того, что Мюллеру предстояло вырезать несколько польских и немецких пограничников и поставить к стенке инженерчиков какой‑то радиостанции. Вероятно, это какие‑нибудь красные, раз уж начальство решило с ними покончить. А до того, что на этот раз до них добираются таким кружным путем, Мюллеру не было дела.
Единственным человеком, чувствовавшим себя не в своей тарелке, был Эрнст. Тело его время от времени покрывалось гусиной шкурой, и противный холодок пробегал по спине. Он поймал себя на том, что нервно повел лопатками. Но чорт побери, Мюллеру вовсе незачем видеть его волнение! На тот случай, если подчиненный все же заметил его судорожное движение, Эрнст пробормотал:
— Не выношу сырости…
Но Мюллер промолчал и на этот раз. Переживания спутника его не интересовали.
У скрещения двух заброшенных дорог грузовики высадили команду и повернули обратно.
Когда затих шум удаляющихся автомобилей, Эрнст услышал шлепанье своих людей по грязной дороге. Он приказал сойти на траву обочины. Стало почти тихо. В окружающей темноте Эрнсту чудилось, что он остался один во всем мире. Впрочем, это ощущение быстро исчезло: будь он один — он нашел бы местечко посуше, завернулся бы в плащ и дождался бы солнца. А там со светом пробрался бы обратно к своим, придумав какую‑нибудь причину, помешавшую выполнению задания. Но тут его окружали эсесовцы. Эрнст мог с уверенностью сказать, что кто‑нибудь из них, может быть здоровяк Мюллер, приставлен для наблюдения за своим начальником. Такова была в Службе безопасности система круговой слежки начальников за подчиненными, подчиненных за начальниками.
Значит, оставался только путь вперед, туда, где пролегает всегда немного таинственная линия границы.
Кто‑то из его людей заговорил. Эрнст резко остановился и в бешенстве обернулся, пытаясь разглядеть в темноте виновника. Но тут же послышалось негромкое рычание Мюллера. Потом Эрнст по звуку определил крепкий удар, и все снова стихло.
По мере того как глаза Эрнста привыкали к темноте и стали различать едва намеченные силуэты, ему начало казаться, что его люди также видны и подкарауливающим их пограничникам по обеим сторонам границы.
Эрнст приказал приготовиться к снятию польских постов. Собственный шопот показался ему едва ли не криком, способным разбудить всю пограничную стражу в округе.
Эрнст был рад начавшемуся дождю: его пелена увеличит невидимость отряда, а шум капель по листве заглушит шаги.
Но мелкий дождь тут же прекратился, едва смочив одежду. Только глина стала еще более скользкой, чем прежде. Эрнст то и дело хватался за ветви деревьев, чтобы удержаться на разъезжающихся ногах. Эта неустойчивость заставляла напрягаться все тело, нервы еще больше натягивались. От каждого прикосновения ветки Эрнст испуганно втягивал голову в плечи. Он все чаще останавливался. Спутники натыкались на него и шопотом ругались, не узнавая начальника или делая вид, будто не узнают. В других обстоятельствах это обошлось бы им дорого, но тут Эрнст предпочитал молчать. Не только потому, что малейший шум казался ему риском навлечь на себя огонь с обеих сторон границы, но и оттого, что он начинал побаиваться своих уголовников. Он понимал, что они ненавидят его, пожалуй, даже больше, чем тех поляков, на которых он должен был их натравить.
По учащенному дыханию людей, по злому шопоту Эрнст угадывал, что его тревожность передается им. Он заранее представлял себе, как эсесовцам придется подталкивать уголовников штыками в спину, чтобы заставить итти вперед.
Но Эрнст меньше всего думал сейчас о судьбе подчиненных, об исполнении задачи. Его занимал исход дела для него самого.
Следовало прежде всего не держаться первых рядов. И Эрнст стал мало–помалу, незаметно для других, отставать. Но едва две–три тени обогнали его, как он почувствовал ткнувший его в спину тяжелый кулачище Мюллера. Ничего не оставалось, как прибавить шагу. Он с ненавистью представил себе маленькую головку Мюллера, его бычью шею, тяжелый взгляд до бессмысленности тупых глаз… Брр!..
С этого момента Эрнст думал о своих людях уже не как о помощниках в выполнении трудного поручения, а единственно как о банде, посланной для того, чтобы помешать ему повернуть обратно. Они не позволили бы ему удрать, даже если бы он решился на это. Они, и прежде всего Мюллер, схватили бы его и притащили к бригаденфюреру. Эрнст вспомнил, как багровеет иногда шрам на щеке начальника… О дальнейшем не хотелось и думать. Тошнотный комок подкатывал к горлу.
Да, путь открыт только в одну сторону — туда. Но уж он‑то примет все меры к тому, чтобы вернуться живым…
Настало время рассыпаться и залечь перед последним броском. Сейчас они очутятся среди чащи, в которой притаились польские пограничники.
Теперь Эрнст ненавидел этих поляков так, как может ненавидеть человек, сознающий их превосходство над собой.
Эти польские солдаты, наверно, верили в то, что делают святое дело первой шеренги — они стерегут польскую границу от нацизма. Они, наверно, любят свою Польшу и готовы зубами драться за ее неприкосновенность. Эти простые ребята, загнанные в лес дисциплиной полковничьего государства, едва ли понимали, что их родина давно продана, обречена на муки своими же, польскими предателями–министрами, иноземными политиками и всем черным воинством католической церкви. Эти парни, наверно, и не подозревали, что кровь, которую они готовы были пролить за свою дорогую мать Польшу, — первая жертва в огромной и темной игре политических разбойников. Имена этих разбойников представлялись им, вероятно, некоей абстракцией. Что такое для них какие‑нибудь чемберлены и галифаксы, боннэ и петэны, морганы и рокфеллеры? Только заграничная разновидность собственных беков и смиглых — бар, захвативших право играть судьбою страны.
Простые польские парни, облаченные в солдатские мундиры, отчетливо сознавали одно: им доверена граница. За нею притаился многовековый враг славянской Польши — тевтонский милитаризм. Это солдаты знали. Они уже видели этот милитаризм в действии. Сожженные деревни, истерзанные бабы, повешенные старики и детские трупы на дорогах — это было уже двадцать пять лет назад, когда вильгельмовские полки топтали польскую землю.
Баре нарочно не пускали простых польских парней дальше второго класса приходской школы, чтобы те не могли ни в чем разобраться, чтобы верили, будто действительно сторожат свою Польшу и чтобы безропотно отдавали за нее жизнь…
Польские пограничники сжимали карабины; они зорко вглядывались в темноту из‑под огромных козырьков своих угловатых фуражек. Но зачем были им карабины, к чему была бдительность, когда из лесу на слабо освещенную прогалину вышли солдаты в своих же польских мундирах, в конфедератках? Эти нивесть откуда взявшиеся солдаты знали пароль. И только в тот последний миг, когда штыки нежданных пришельцев во вспугнутом молчании леса пронзали тела застигнутых врасплох пограничников, простые польские парни поняли: это тевтоны в польских мундирах.
Но было поздно: часовые были сняты, пост окружен и вырезан, прежде чем подхорунжий успел повернуть ручку старенького телефона. Отряд Эрнста мог поворачивать обратно, в сторону своей границы, не боясь огня в спину.
На какой‑то короткий промежуток времени Эрнст почувствовал облегчение, пока не понял, что казавшееся самым трудным — снятие польских постов — лишь незначительная часть поручения. Самое страшное было впереди. Что, если число немецких постов на границе не уменьшено, как обещал бригаденфюрер? Что, если немецкие посты откроют огонь не холостыми патронами? Что тогда… Повернуть? Но куда? В Польшу, на растерзание разозленным польским пограничникам?..
Эрнст только сейчас до конца понял, как ловко его втянули в эту авантюру. В такой просак он не попадал еще никогда: куда ни сунься, всюду враги. Сначала сзади немцы — впереди поляки. Теперь позади поляки — впереди немцы.
Но делать нечего, пора было двигаться обратно к своей границе, пока поляки с соседних постов ничего не заметили. Вот тут‑то и пригодилась полбутылка коньяку, захваченная с собою Эрнстом. Он выпил бы ее всю, если бы не жадный взгляд Мюллера. Чтобы задобрить верзилу, Эрнст отдал ему половину.
Эрнст приказал пересчитать людей и двинулся в путь. Шли в таком же молчании, как сюда. Но было вдвое страшнее. Неподалеку от Эрнста слышалось сопенье Мюллера. На то, чтобы отстать, отбиться от цепи, не было надежды.
По расчетам Эрнста до немецких линий оставалось уже совсем немного, когда по лесу вдруг прокатилось: трах–тара–рах–тах–тах… Эхо неслось, комкая тишину и расшвыривая лесные шорохи, сорвалось в лощину и, разорванное на куски, исчезло где‑то на польской стороне.
Сделав вид, будто споткнулся, Эрнст бросился на землю. Он все падал и падал, а земля, казалось, уходила из‑под него.
Так катился он по косогору, пока не оказался в воде.
Цепляясь за скользкий глинистый берег, стукаясь коленями о камни, он судорожно карабкался вверх, пораженный смертельным страхом. Выбравшись на берег ручья, он жадно прижался к земле. Тяжело дыша, прислушивался, не повторятся ли раскаты того, что он принял за пулеметную очередь, но что в действительности было лишь одиночным выстрелом в лесу.
Отвратительная мелкая дрожь проникла во все суставы и лишила Эрнста способности двигаться. Он бы лежал и лежал, если бы новый приступ ужаса не заставил его метнуться от раздавшегося поблизости хруста ветвей.
— Господин оберштурмбаннфюрер! — тихонько окликнул Мюллер.
Эрнст понял, что скрываться бесполезно:
— Ох, боже мой… — со стоном прохныкал он.
— Ну, какого дьявола? — сразу утратив всю вежливость, прорычал Мюллер.
— Кажется, я вывихнул ногу… — еще жалобнее прошептал Эрнст.
— Вылезайте, пока нас не накрыли!
— Не могу сделать ни шагу. — Эрнст готов был заплакать. Ему уже казалось, что он действительно вывихнул ногу: лодыжка по–настоящему болела. — Честное слово, я останусь без ноги… Я чувствую, как она распухает.
— Еще десяток метров, и мы сойдемся со своими, — хмуро ответил Мюллер.
Эрнст закрыл глаза: опять лес, опять ползанье в темноте, опять грохот пулемета? Он окончательно решился.
— Не ждите меня, Мюллер. — Шопот стал трагическим. — Бросьте меня здесь на произвол судьбы…
И тут Эрнст впервые понял, как действует рычание Мюллера на подвластных ему людей. Хауптшаррфюрер без церемоний схватил его за плечо и проговорил сквозь зубы:
— Довольно валять дурака!
— Это же я, Шверер!
— Вставайте, а не то… — угрожающе проговорил эсесовец и так тряхнул своего начальника, что у того ляскнули зубы.
— Вы с ума сошли! — крикнул Эрнст. — Вы что, не узнаете меня, что ли?
— Не беспокойтесь: я сразу узнал вас… Пошли!
— Но я же не могу встать.
— Нет, этим вы не отделаетесь! — И лапа Мюллера впилась в плечо Эрнста.
— Ну, погодите, — прошептал Эрнст, — только бы мне остаться в живых… Уж я покажу вам!
— Там будет видно…
Стараясь быть внушительным, Эрнст прикрикнул:
— Убирайтесь и пришлите сюда двоих, чтобы донесли меня.
— У меня другой приказ, — проговорил Мюллер, и Эрнсту показалось, что он вытаскивает из кобуры пистолет.
— Вы ответите за все это! — пробормотал Эрнст, делая вид, будто ему трудно подняться. Но сильная рука Мюллера потянула его вверх, и Эрнст сразу оказался на ногах. Опираясь на руку Мюллера и прихрамывая, он потащился за эсесовцами. Голова его была теперь занята одним: Мюллер должен быть уничтожен первым!
— Из‑за вас могло сорваться все дело, — мрачно проговорил Мюллер, но в его тоне Эрнст уловил нотку примирения. Однако это не изменило хода его мыслей: "Он должен быть уничтожен первым".
Мюллер насмешливо спросил:
— Ну, может быть, теперь вы перестанете хромать?
— Да, мне значительно лучше… Видимо, нужно было немного размять ногу. — И Эрнст оттолкнул руку хауптшаррфюрера. — Где люди?
— Там, — Мюллер махнул в темноту. — До наших постое рукой подать.
— Людей в цепь! Гранаты к бою! — приказал Эрнст.
— Слушаю, — обычным тоном исполнительного служаки ответил Мюллер, но не ушел.
— Марш!.. Или, может быть, вы трусите? — спросил Эрнст.
Мюллер исчез. Через несколько минут Эрнст услышал хруст веток, приглушенные голоса, передающие команду. Отряд двинулся вперед. Эрнст бежал, пригнувшись к земле и зажав в руке парабеллум. Его мысль попрежнему была направлена к одному: "Чтобы спастись самому, нужно уничтожить Мюллера". В потемках он пытался отыскать взглядом большую тень Мюллера.
Генерал Шверер и Отто с вечера 30 августа расположились в гостинице Киферштедтеля, к западу от Глейвица. Шверер полагал, что тут он будет в полной безопасности и сможет в течение нескольких минут достичь города, как только прибудет донесение о том, что провокационная радиопередача закончена и расположенные в засаде войска уничтожили или переловили диверсантов.
Под утро Шверера разбудил отдаленный треск перестрелки в стороне Глейвица. Старик приказал Отто включить приемник. Оба с интересом прослушали передачу, призывающую немцев восстать против Гитлера. Пока, по донесению офицера связи, в Глейвице происходили окружение и расстрел диверсантов, Шверер успел напиться кофе. Он допивал вторую чашку, когда доложили, что все закончено и два сумевших убежать от расстрела диверсанта будут вот–вот изловлены. Он сел в автомобиль и отправился в город, намереваясь убедиться в уничтожении всей группы.
Шверер с презрением смотрел на перепуганных жителей Глейвица, жавшихся к стенам домов. Кое‑кто поспешно укладывал в автомобили чемоданы, воображая, что уже началась война. Эсесовцы стаскивали с перебитых уголовников и с охранников Эрнста польские мундиры и выбрасывали их на улицу. Эти мундиры должны были убедить обитателей Глейвица в том, что нападение было совершено поляками.
Шверер лично пересчитал мундиры. Нехватало трех.
— Скольких ловят? — спросил он Отто.
— Двоих, экселенц.
— Скажи, что если в течение часа, мне не доставят и третьего, я прикажу расстрелять офицера, которому поручено окружение.
— Слушаю, экселенц.
— Иди!
Он в нетерпении мерил мелкими семенящими шажками кабинет директора радиостанции, где не осталось ни одного стекла от первой же гранаты. Прошло по крайней мере полчаса, пока дежуривший у телефона Отто доложил:
— Двое бежавших пойманы.
— Расстрелять! — коротко бросил Шверер. Но тут ему пришла мысль допросить этих уцелевших, куда мог деваться третий пропавший. — Сначала дать их сюда, — приказал он. — Всем покинуть комнату.
Прошло несколько минут. На железной лестнице послышался топот нескольких пар подкованных сапог. Дверь отворилась, и в комнату втолкнули двух связанных по рукам людей в изорванных польских мундирах. Шверер почувствовал, как кровь отливает у него от головы: один из двух "поляков" был Эрнст.
Старик пытался дрожащими руками удержаться за поплывший от него стол…
В тот же вечер, 31 августа 1939 года, Эрнст сидел в кабинете бригаденфюрера. Сам бригаденфюрер беспокойно расхаживал по комнате, слушая подробный рассказ Эрнста об операции на границе.
Иногда, проходя мимо Эрнста, он исподлобья взглядывал в лицо новоиспеченному оберштурмбаннфюреру. Его поражало спокойное и даже, сказал бы он нахальное выражение лица этого малого. Просто удивительно: пробыв почти целый день на свободе, Эрнст не мог не узнать, что все меры к уничтожению диверсионной группы были приняты заранее и проведены в жизнь без всяких исключений, Эрнст должен был понять, что если бы не совпадение, по которому именно его отцу было поручено дело, сам он, Эрнст, едва ли сидел бы теперь здесь и с эдаким спокойствием покуривал папиросу. Бригаденфюрер был уверен, что как только он доложит об этом неприятном осложнении Кальтенбруннеру, а тот, в свою очередь, Гейдриху или Гиммлеру, часы Эрнста будут сочтены. Оставить его в живых — значило рисковать разоблачением всей провокации, ведущей к таким крупным последствиям, как вторжение в Польшу, как война… Чорт возьми, чем же объяснить это удивительное спокойствие парня? Неужели он не понимает, что сосет одну из последних папирос в своей жизни?
А Эрнст был действительно удивительно спокоен. Через несколько минут, когда он закончил свой рассказ, причина этого спокойствия стала ясна и бригаденфюреру:
— Прежде чем явиться к вам с этим докладом, — проговорил Эрнст, и в голосе его прозвучало даже что‑то вроде хорошо сознаваемого превосходства над начальником, — я сделал то же самое, что некогда проделал наш бывший коллега Карл Эрнст…
Бригаденфюрер перестал ходить по комнате и удивленно уставился на Эрнста.
— Я заготовил несколько писем, — продолжал тот. — В них точно описано все дело. Некоторые из этих писем уже в руках моих друзей в различных пунктах Германии.
При этих словах бригаденфюрер не мог подавить вздоха облегчения, но Эрнст насмешливо предостерег его:
— Вы полагаете, что это не так уж сложно: вытянуть из меня имена друзей! Я был бы идиотом, если бы второй половины писем не переправил за границу. Туда вам не дотянуться. Если со мною что‑нибудь случится, весь мир узнает о сегодняшнем происшествии. Так и доложите, кому следует. Полагаю, что после этого вся Служба безопасности получит приказ охранять меня, как коронованную особу…
Эрнст бесцеремонно потянулся в кресле.
Бригаденфюрер в остолбенении стоял напротив него. Шрам, до того едва заметный, багровым полумесяцем перерезал теперь его щеку.
— Однако!.. — медленно проговорил он, стараясь подавить приступ бешенства. — Вы далеко пойдете. — И тут же с неподдельным интересом спросил: — Но как же прививка? Почему она не подействовала?
— Прививка "бодрости"? — насмешливо спросил Эрнст. — Мой шприц пришелся на долю хауптшаррфюрера Мюллера.
— Каким образом?!
— Это уж мое дело… Важно то, что этот второй шприц избавил меня от необходимости собственноручно пристрелить этого труса. Он подох прежде, чем мы добрались до радиостанции.
Еще несколько мгновений бригаденфюрер рассматривал физиономию Эрнста, выражение лица которого делалось все более наглым. По мере того как бригаденфюрер глядел, к нему возвращалось спокойствие. Шрам на щеке делался все менее заметным.
Наконец эсесовец неопределенно проговорил:
— Что ж… может быть, такие‑то нам и нужны…
— Я тоже так думаю, — с усмешкой согласился Эрнст.
15
— Крауш, в канцелярию!.. — послышалось на тюремной галлерее, когда сутулый, тощий, как скелет, заключенный, устало волоча ноги, брел с вымытой парашей в руках.
Крауш поставил парашу, вытянул руки по швам и обернулся к надзирателю.
— Живо посудину на место и марш в канцелярию! — последовал приказ.
Арестант молча поднял парашу и понес в камеру.
Прислонившись спиною к поручням галлереи, надзиратель проводил его скучающим взглядом. Через минуту Крауш так же медленно, как делал все, проплелся мимо него обратно к выходу.
— Если письмо от милой, расскажешь мне, с кем она живет, — насмешливо бросил надзиратель вслед старику.
Крауш, не сморгнув, повернулся и, опять исправно взяв руки по швам, пробормотал:
— Непременно, господин вахмистр.
Арестант Карл Крауш, бывший социал–демократ, сидел по приговору суда города Любека. В приговоре значилось, что он получил свои шесть лет за отказ предъявить документы по требованию наружной полиции и за избиение в пивной "Брауне хютте" инспектора государственной тайной полиции.
Крауш ни на суде не протестовал против жестокости приговора, ни впоследствии никому не жаловался. Старик был доволен тем, что в судебном деле не значилось главное, в чем гитлеровцы могли бы его обвинить: способствование побегу из‑под надзора любекской полиции функционера коммунистической партии Германии Франца Лемке. Такое обвинение обошлось бы Краушу значительно дороже, чем несколько лет тюрьмы.
Смирением и исполнительностью Крауш старался заслужить расположение тюремного начальства. Его постоянно снедал страх, как бы ему не прибавили срок. Он был стар и знал, что в таком случае еще меньше останется шансов увидеться с семьей, о которой он не переставал мучительно думать каждую минуту своего пребывания в стенах тюрьмы.
Недавно Крауш получил приказ исполнять обязанности кальфактора в "строгом" отделении тюрьмы.
Никто из заключенных ганноверской тюрьмы не знал, что одна из камер "строгого" отделения подверглась недавно переделке: была навешена вторая, дополнительная, стальная дверь, половина окна была забетонирована, и наружный щит окошка удлинили так, что стал невидим даже тот клочок неба, который видели арестанты в других камерах. В этом каменном мешке появился заключенный, чье имя не было сообщено даже надзирателям. Понадобилось время, чтобы они опознали в нем Эрнста Тельмана.
Уборка камеры Тельмана тоже была возложена на молчаливого Крауша.
Войдя в канцелярию тюрьмы, Крауш не сразу узнал сидевшего за столом, спиною к свету, человека. Он не мог различить черт его лица. Ясно виднелись только хорошо освещенные погоны вахмистра.
Крауш вытянулся у двери и отрапортовал о своем прибытии.
Вахмистр продолжал писать.
Теперь, когда глаза Крауша привыкли к царившей в канцелярии полутьме, он узнал Освальда Ведера. Арестанты редко видели этого человека. Он с ними почти не соприкасался. Так же, впрочем, как и с большинством надзирателей. Ведер выполнял обязанности писаря у советника по уголовным делам Опица, о котором тюремная молва разнесла самые мрачные слухи.
Советник тоже не соприкасался ни с кем из населения тюрьмы. Очень ограниченный круг лиц знал, что его обязанностью является наблюдение за арестантом, чье имя старались сохранить в тайне, — за Эрнстом Тельманом.
Такой робкий человек, как Крауш, должен был бы испытать страх и по крайней мере любопытство по поводу вызова к писарю страшного Опица. Но на лице старика появилось только выражение напряженного внимания, словно он боялся в полутьме пропустить малейшее движение вахмистра.
Наконец Ведер оторвался от толстой шнуровой книги.
— Распишись! — приказал он, не глядя на арестанта, и подвинул книгу к краю стола. — Не забудь: сегодня тридцать первое августа тысяча девятьсот тридцать девятого года.
Когда Крауш дрожащими от непривычки пальцами вывел свое имя, Ведер протянул ему распечатанную пачку табаку.
— Курительная бумага внутри, — хмуро проговорил он и, словно боясь соприкоснуться с пальцами арестанта, отдернул руку, едва Крауш взял пачку.
Нелегко сохранить способность спать, если тебя в течение семи лет одиночного заключения лишают возможности работать, двигаться, даже разговаривать хотя бы с самим собой. Тем не менее бессонница редко мучила Тельмана. Так же как он заставил себя каждое утро делать гимнастику, несмотря на отекшее от дурной пищи и болезни тело, так же как он вынуждал себя часами ходить по камере — три шага туда, три обратно, чтобы сохранить подвижность, так же как он ни на минуту не терял способности трезво оценивать все, что происходило в мире, далеко за стенами его одиночки, точно так Тельман силою своей железной воли заставлял себя спать. Это было необходимо для сохранения организму сопротивляемости, для сохранения воли и способности мыслить.
И вот сегодня сон вдруг не пришел. Тельман лежал, повернувшись лицом к стене. Такую шершавую серую поверхность он видел перед собой уже семь лет. Гитлер перебрасывал его из города в город, из тюрьмы в тюрьму, из камеры в камеру, но это мало что меняло в обстановке, окружающей Тельмана: те же серые стены, те же решетки на крошечных окнах, тот же яркий свет электрической лампочки днем и ночью, тот же промозглый холод и безмолвие могилы. Даже у приставленного к нему судебно–полицейского чина те же стеклянные глаза палача и тонкие губы садиста, хотя раньше этот чин назывался Гирингом, теперь называется Опицем и неизвестно как будет называться через несколько лет.
Несколько лет?!
Еще несколько лет?!
А дальше?..
Чем кончится эта глава немецкой истории?
Как ни трудно следить за жизнью из этой камеры, Тельман отдает себе отчет в происходящем. Самое главное: он знает анализ событий, данный Сталиным. Сопоставляя этот анализ с известиями, так мужественно доставляемыми товарищами с воли, Тельман может разобраться в происходящем на его несчастной родине. Да, как ни противно всему образу его мышления это жалкое слово, он вынужден его употребить. Несчастная страна, несчастный народ!.. Разве не величайшее несчастье попасть в плен кучке негодяев, с жестокостью кретинов осуществляющих предначертания закулисных хозяев положения? Даже отсюда, из тюремной камеры, видно, что, по существу, нацисты выполняют ту же историческую задачу врагов германского народа, какую когда‑то выполняли социал–демократы. Больше пятнадцати лет тому назад товарищ Сталин назвал Вельса приказчиком Моргана и победу социал–демократов на выборах в рейхстаг победой группы Моргана. Тельману кажется, что было бы справедливо назвать теперь победу Гитлера победой объединенных сил Моргана, Рокфеллера и Круппа. Интересно было бы узнать суждение по этому поводу товарища Сталина… Это чрезвычайно важно для определения дальнейшего поведения немецких коммунистов. Даже лишенная всякой массовой базы, загнанная в глубочайшее подполье, КПГ не должна, не имеет права складывать оружие. Кровь Шеера, Лютгенса, Андре, Фишера и, может быть, в скором времени его собственная кровь будет цементом, на котором должно держаться единство боевого авангарда немецкого народа. Пусть этот авангард стал малочисленным — знамя партии попрежнему чисто, и товарищи попрежнему высоко несут его…
Трудно, очень трудно следить из тюрьмы за соблюдением условий успеха работы КПГ, названных когда‑то Сталиным. Но Тельман всем сердцем верит: и в глубоком подполье партия продолжает рассматривать себя как высшую форму классового объединения немецкого пролетариата. Товарищи знают: они должны бороться во имя того, чтобы взять на себя руководство жизнью родного народа. Рано или поздно немецкий народ должен сбросить черное иго своих и иноземных фашистов. Не может не сбросить. Краткие известия, приходящие с воли, говорят Тельману, что, ведя тяжелую практическую борьбу, товарищи не забывают об овладении революционной теорией марксизма. Они правильно анализируют редкие лаконические советы Тельмана и неоценимую помощь Сталина. Их лозунги всегда конкретны, их задачи — задачи сегодняшнего дня. Отзвуки, проникающие даже в стены тюрьмы, подтверждают, что боевые лозунги партии всегда соответствуют насущнейшим потребностям масс, проверены в горниле мыслей и чаяний народа. Как бы ни был страшен террор нацизма, как бы ни была дорога цена, которою приходится платить за малейшее проявление протеста против режима Гитлера, дух сопротивления не умирает в немецком народе. Об этом свидетельствует непрестанно растущее население тюрем и концлагерей.
Тельман с радостью отмечал, что при всей высокой принципиальной непримиримости его товарищей по ЦК они проявляют достаточную гибкость в формах борьбы с фашизмом. Они не доктринерствуют, протягивают руку всякому, кто хочет бороться с тиранией. К сожалению, он ничего не слышит здесь о критике, но он не винит товарищей в том, что они не занимаются сейчас публичными дискуссиями. Это могло бы повлечь опасные провокации и провалы подполья. А внутри организации товарищи чистят свои ряды, они зорко следят за ошибками друг друга. Это Тельман заметил по нескольким признакам. Правда, признаки более чем лаконичны, но он хорошо знает своих боевых друзей, ему не нужно разъяснять их намеки. Да, да, он хорошо их знает… Может быть, правда, кроме тех, кто вошел в ЦК уже в последнее время вместо павших на посту. Но это ничего. Он уверен: лучшие из лучших, передовые из передовых ведут партию.
Он так же уверен в этом, как и в том, что, несмотря на гибкость, проявляемую по тактическим соображениям в сотрудничестве со всеми антифашистскими элементами страны, партия беспощадно выбрасывает из своих рядов всех, кто недостоин носить высокое звание солдата пролетарской революции — коммуниста. В этом отношении он не боится за дисциплину, которую он оставил партии как одно из своих лучших творений. Он не боится, что хотя бы одно слово, произнесенное ее вождями, хотя бы одно обещание, данное народу, останется словом и обещанием, — все станет делом, все претворится в победу. Лишь бы немцы не забывали, что там, на востоке, в родной каждому коммунисту и каждому пролетарию Москве, бьется сердце революции. Немцы, помните: русские, русские и еще раз русские — вот ваши лучшие друзья! Какие бы усилия ни прилагали враги, чтобы посеять рознь между этими народами, коммунисты должны показать: идя об руку с русским рабочим классом, немецкий рабочий класс может не бояться ничего и никого. Победа будет за ним… Да, это очень важно… Именно об этом он и должен написать товарищам в ближайшей же записке на волю…
Мало–помалу сон смежил веки. Но и сон Тельмана был сегодня необычно тревожен. Первый же слабый шорох пробудившейся тюрьмы заставил его очнуться. И больше он уже не мог заставить себя уснуть. Вероятно, поэтому он чувствовал утомление с самого утра. С особенной остротой давала себя знать боль в пораженном свищом кишечнике. Тельман через силу сделал гимнастику. Его едва не стошнило от нескольких глотков тепловатой бурой жидкости, которая называлась тут утренним кофе. И тем не менее он, как всегда, приветливым кивком встретил вошедшего за парашей кальфактора Крауша.
Разговаривать с заключенными камер, которые он убирал, Краушу запрещалось под угрозою карцера и наручников. Поэтому, положив на стол полученную от Ведера пачку табаку, он вытащил из нее маленькую тетрадку грубой курительной бумаги и только глазами указал на нее Тельману. Тельман понимающе опустил веки. Это было все.
Зная, что за ним неотступно наблюдают в глазок двери, Тельман преодолевал нетерпение. По крайней мере час или полтора не притрагивался к бумаге. Только по прошествии этого времени он свернул папиросу. Как бы невзначай, от нечего делать разглядывая тетрадку, отсчитал тринадцатый листочек. Несколько раз выпустил на него дым. На листке все яснее проступали мелкие, едва различимые простым глазом буквы: Г…и…т…л…е…р… н…а…п…а…л…
Терпеливо, не подавая виду, что он что‑то видит, Тельман, наконец, прочел: "Гитлер напал на Польшу…"
В раздутых нездоровой полнотой пальцах не было признаков дрожи, когда Тельман свернул из этого листка следующую папироску и зажег ее. Курил медленно, словно бы мысленно следя за тем, как одна за другою вместе с дымом исчезают буквы: Г…и…т…л…е…р… н…а…п…
Папироса еще тлела, когда отворилась дверь камеры и на пороге показался Опиц в сопровождении двух надзирателей.
Советник впервые пришел к Тельману днем. Он придирчиво осмотрел все углы камеры и задержал взгляд на дымящейся папиросе заключенного. Тельману показалось даже, что советник следит за тем, как от нее лениво отделяется струйка дыма. Дым поднимался медленно, словно ему было трудно взвиться в спертом воздухе камеры, унося к потолку не в меру тяжкие слова: "Гитлер напал на…"
Опиц сделал знак надзирателям удалиться и остался с глазу на глаз с узником. Еще некоторое время длилось молчание. Тельман сделал несколько столь глубоких затяжек, что закружилась голова. Зато он был уверен, что весь проявленный на бумаге текст сгорел.
— Ну–с, теперь мы сможем, наконец, объявить, что покончили с коммунизмом, — сказал Опиц и сделал многозначительную паузу. — Войска фюрера вторглись в Польшу. — Опиц, прищурившись, посмотрел на Тельмана, спокойно прижимавшего пальцем окурок к краю таза. Повидимому, советник ждал проявления волнения. Не заметив никаких его признаков, злобно проговорил: — Через месяц он будет в России. Коммунистической Москвы больше не будет на карте! Слышите: это конец большевиков.
Тельман ненавидел бледную физиономию Опица. Он ненавидел весь родивший советника режим. Ненавидел Гитлера. Но напряжением воли он заставил себя ничем, решительно ничем не проявить владевших им чувств, не издал ни звука.
— Что вы на это скажете? — издевательски спросил Опиц.
И только тут Тельман не мог удержаться от удовольствия сказать то, что думал. Он надеялся, что сказанное послужит немецкому народу вехой на пути к пониманию правды. И, как только мог громко, ответил:
— Я скажу: это конец!
— Ага! — торжествующе воскликнул Опиц.
— Я скажу, — спокойно повторил Тельман: — Сталин свернет шею Гитлеру.
Несколько мгновений советник смотрел на Тельмана испуганно–ненавидящими глазами. Потом в бешенстве толкнул дверь ногою и выбежал вон. Послышался звон замка. В камере воцарилась тишина могилы.
Тельман с благодарностью посмотрел на крошечный черный окурок, приставший к краю таза. Благодаря товарищам со общение Опица не застало его врасплох. Теперь вся тюрьма, а за нею и вся Германия будут знать, что думает об этой войне коммунист Эрнст Тельман…
Эта мысль не успела оформиться до конца, когда снова послышался лязг затворов. Вошел надзиратель.
— Руки! — лаконически скомандовал он и привычным движением замкнул на запястьях Тельмана строгие наручники.
16
Несмотря на жестокий террор, царивший внутри аппарата нацистской партии, Гитлер и Геринг боялись, что никакие приказы не помешают Гиммлеру расправиться с Тельманом так, как тот считал нужным. А Гиммлер принадлежал к клике нацистов, полагавшей, что беречь Тельмана незачем, что узник не может пригодиться ни для каких обменных или заложнических комбинаций. Высказывавшуюся Герингом надежду на то, что имя Тельмана, пока он жив, можно использовать для провокационных фальшивок, Гиммлер тоже находил глупостью. Однажды он заявил:
— Только тот, чей мозг утратил ясность под влиянием злоупотребления наркотиками или попросту заплыл жиром, может воображать, будто удастся выжать из Тельмана подпись под каким‑нибудь документом или толкнуть его на нужное нам заявление. Незачем беречь этого опасного коммуниста. Самое правильное — покончить с ним. А что касается использования его имени для дел, рассчитанных на доверчивых людей, то это мы можем делать независимо от того, жив Тельман или мертв. Мы не обязаны давать объявление об его смерти в "Ангриффе". От нас зависит считать его живым или мертвым.
Враждебные отношения между Гиммлером и Герингом были широко известны. Геринг никогда не мог простить Гиммлеру, что тот вырвал у него из рук имперскую гестапо и завладел всеми ее секретами, в том числе и секретами самого Геринга. Поэтому, стоило Герингу узнать о заявлении Гиммлера, как он категорически отказался передать заключенного в распоряжение своего соперника. Он сам хотел распоряжаться жизнью Тельмана. Гитлер согласился с его соображениями: пока нельзя убивать вождя коммунистов. В тюрьме он не опасен, а весть об убийстве может прогреметь, как набат, даже в задавленной полицейским террором Германии. Кроме того, никогда и никто не может знать вперед, что случится. Астрологи, с которыми советовался Гитлер, не могли ответить ему на вопрос о роли Тельмана в его собственной судьбе. Осторожнее было держать закованного Тельмана в запасе: а вдруг…
Эти трусливые соображения "наци № 1", подкрепляемые сомнениями "наци № 2", и заставили их изъять Тельмана из ведения имперской тайной полиции Гиммлера и передать в ведение прусской тайной полиции, еще подчиненной Герингу. Советник по уголовным делам Опиц, приставленный к Тельману, должен был не только наблюдать за тем, чтобы узник не сбежал, чтобы режим его ни на минуту не смягчался, чтобы не могла продолжаться связь Тельмана с коммунистическим подпольем, но также и за тем, чтобы, упаси бог, Гиммлер не вырвал Тельмана из рук Геринга.
Поэтому господин советник по уголовным делам имел право во всех случаях, казавшихся ему экстраординарными, делать доклад непосредственно Герингу. Неоднократно он так и поступал. Но на этот раз, напрасно проворочавшись ночь в постели, Опиц не нашел формы, в какой можно было бы доложить рейхсмаршалу о заявлении Тельмана в день первого сентября. Опии даже мысленно не мог себе представить, как его язык выговорит страшные слова: "Свернет шею Гитлеру…" У Опица самого начинало ломить позвонки при одной мысли о впечатлении, какое эти слова могли бы возыметь на его начальников. Такой доклад мог вызвать бурю не на голову Тельмана — тому что? — а на его собственную, Опица, бедную голову. Легко оказать: "Свернет шею Гитлеру…"
Дьявольским соблазном мельтешила где‑то в черепе мыслишка: не умолчать ли вообще? В конце концов не обязан же Опиц докладывать обо всем, что Тельману вздумается сказать! Но тут же всплывал страх: слова заключенного, который молчит триста шестьдесят четыре дня в году из трехсот шестидесяти пяти, не могут остаться тайной. Рано или поздно молва вынесет их за стены тюрьмы. Даже бетон имеет, повидимому, поры. Если не какой‑нибудь выползший на свободу арестант разгласит это, то может проболтаться и надзиратель. А достаточно сказать в Германии что‑нибудь в присутствии двух человек, чтобы быть уверенным: гестапо будет это знать. Система третьего уха — надежная система. Из троих собравшихся один непременно осведомитель. Значит?.. Значит, непременно потянут и самого Опица: "Ага! Вы кое‑что скрываете!.. Прекрасно…"
Если до сих пор ненависть Опица к Тельману была плодом служебного рвения и преданности фюреру, то теперь к ней примешался личный мотив. Советник скрежетал зубами при мысли о виновнике его терзаний и молил всевышнего о том, чтобы, наконец, с него, Опица, сняли обязанность оберегать Тельмана от лап Гиммлера. Вот тогда бы он показал всем, на что еще способен советник по уголовным делам прусской тайной полиции. О, он нашел бы способ расквитаться за свои кошмары!..
Но этой обязанности с него не только не снимали, а наоборот, сразу же после начала военных действий в Польше пришло секретное напоминание о том, что ему, Опицу, надлежит удвоить бдительность по обеим линиям: коммунисты могут сделать попытку связаться с Тельманом — раз; разные иностранные разведки, враждебные фюреру, могут использовать обстоятельства военного времени, чтобы причинить фюреру хлопоты в международном аспекте, — два. Провокационное убийство Тельмана было бы крупной неприятностью, оно вызвало бы ненужную в данный момент реакцию в общественности Англии и Франции, отношения с которыми и без того находят я на краю разрыва.
Все это привело, наконец, Опица к решению немедленно доложить о мучившем его вызывающем признании Тельмана. Однако решиться на передачу таких слов Герингу он все же не мог. Он избрал для разговора человека, который, по его данным, был достаточно близок с Герингом, чтобы спокойно сказать тому все, что угодно, и, с другой стороны, отличался большой гибкостью и понятливостью, чтобы не поставить Опицу в вину произнесение вслух страшных слов о фюрере. Группенфюрер СС Вильгельм фон Кроне наверняка не выпучит глаз, не заорет на Опица: "Болван, вы должны были тут же застрелить его за подобные слова… Эй, кто‑нибудь! Арестовать бывшего советника Опица!.."
Именно к Кроне Опиц и явился с докладом. Но, к его ужасу и удивлению, все произошло совсем не так, как представлял себе советник. Правда, Кроне не только не орал, он даже не повысил голоса, но то, что он сказал, было страшнее крика.
— Вы плохой национал–социалист, — спокойно заявил Кроне, прищурившись и глядя на бледного Опица. — Что сделал бы на вашем месте я, да и всякий честный национал–социалист?..
— Инструкция, господин группенфюрер…
— Ах, инструкция! — Кроне криво усмехнулся. — А кроме инструкции, вы уже ничего не желаете знать?.. Подобное заявление заключенного, — я не решаюсь повторить его, — не заставило ваше сердце запылать гневом, ваш мозг остался холодным, когда оскорбили вашего фюрера, ваша рука не выхватила пистолета и не всадила в оскорбителя все восемь пуль… О чем это свидетельствует, господин советник?.. — Голос Кроне оставался все таким же спокойным. Лицо не выражало ни малейшего порицания или поощрения. Прищуренные глаза были холодны. — О том, что для вас служебная инструкция сильнее любви к фюреру. О том, что национал–социалистский дух подавлен в вас соображениями служебной повседневности… — Кроне повернул лежавшую перед ним желтую папку, так что собеседнику стала видна обложка: "Личное дело советника по уголовным делам Опица", и начал листать вшитые в папку листки. Опиц не видел этих листков. Он только слышал их зловещее шуршание. От каждой перевернутой страницы он вздрагивал так, точно это был звук ножа гильотины, которым проводили по точильному камню.
Кроне закрыл папку.
— Оказывается, вы достались нам от гнилого режима Веймарской республики, — сказал он.
В тоне группенфюрера Опицу почудилось разочарование, и он поспешно произнес:
— Но, господин группенфюрер, я никогда не скрывал того, что начал службу в полиции при докторе Носке… В деле должно быть сказано, что я и тогда отличался непримиримостью к коммунистам. Благоволите взглянуть на характеристику моего поведения во время подавления кильского восстания моряков под руководством министра Носке, благоволите ознакомиться с моей характеристикой, относящейся к делу Розы Люксембург…
— Мы судим наших людей не по их услугам прежнему режиму…
— Но ведь залогом успеха нашего обожаемого фюрера была именно наша преданность его делу еще в те времена.
— В те времена, в те времена!.. Нас больше интересует ваша преданность в эти времена. А тут‑то вы и провалились.
Бледный узкий лоб советника покрылся испариной.
— Господин группенфюрер!.. — Дрожащие губы советника не могли справиться со словами оправдания. Он бессильно умолк.
С неторопливостью удава, уверенного в том, что кролик — его, Кроне проговорил:
— Я все доложу господину рейхсмаршалу. — И еще раз подчеркнул: — Все!
Опиц с трудом поднялся на подгибающихся ногах.
— Я полностью сознаю свою вину. Я действительно должен был своими руками задушить Тельмана… Хайль Гитлер!
— Я вам никогда этого не говорил, — поспешно ответил Кроне. — У вас есть инструкция. В ней сказано, что вы должны делать.
Опиц смотрел на Кроне испуганно вытаращенными глазами. В них уже не было никаких следов мысли, только страх растерянного животного. Он не помнил ни того, как выбрался из кабинета Кроне, ни того, как очутился в своей квартире при ганноверской тюрьме. Все, что осталось в его воспаленном мозгу, — ненависть к Тельману, во сто крат более страшная, чем прежде. Кроне мог быть теперь уверен: если Тельман и не будет попросту убит, то режим, который создаст ему советник, доканает его не хуже пули.
Тем временем сообщение Опица пошло своим чередом. Кроне передал его Герингу. Геринг выслушал молча. Даже Кроне не уловил на оплывшем лице рейхсмаршала выражения, которое позволило бы сделать какие‑нибудь выводы. Все свое удовольствие от услышанного Геринг вылил в зверином хохоте, которым разразился после ухода Кроне. Он несколько раз повторил про себя:
— Свернет шею… Ха–ха–ха!.. Крррах!.. Свернет шею?.. Я был бы непрочь присутствовать при таком зрелище, если бы оно не означало, что захрустят и мои собственные позвонки…
При этом внезапном прозрении он оборвал смех и тупо уставился в темный угол кабинета. Оттуда ползли угрожающие тени. Понадобилась понюшка кокаина, чтобы привести нервы в равновесие.
При первом же удобном случае Геринг с удовольствием рассказал Гитлеру о заявлении Тельмана. Но тут же пожалел о том, что сделал это без свидетелей. Был упущен хороший случай показать всем, как мелок их фюрер, какой он отвратительный, подлый трус, насколько сам он, Герман Геринг, выше, пригоднее для роли "наци № 1", чем этот зарвавшийся шизофреник.
Выслушав Геринга, Гитлер несколько мгновений смотрел на него молча, переваривая мысль. Потом вдруг слезы часто закапали на лежавшие на столе бумаги.
"Тихий кретин!" — подумал Геринг, но тут же, словно прочитав эту мысль, Гитлер разразился таким бурным, истерическим рыданием, что даже привыкший к его выходкам Геринг беспокойно заерзал в кресле.
Гитлер ревел, как бык, мечась по кабинету. Стучал кулаками по стене. Кричал и кричал, глотая рыдания. Потом, внезапно остановившись перед Герингом, так рванул на себе воротник, что запонка отлетела далеко в сторону, галстук повис на боку.
— Эту шею!.. Эту шею!.. — бессмысленно бормотал он. — Это вы, вы втянули меня в польскую авантюру. Вы толкаете меня в пасть большевикам!.. Я знаю, я все знаю! Воображаете, будто ваши любимые американцы придут сюда и посадят вас вот в это кресло вместо меня!.. Не смотрите на меня, как глупый бык! Вы и есть тупое, самое глупое животное, какое я встречал на своем веку. Вы не будете фюрером! Слышите: не будете!.. Я повешу вас первым, потому что знаю: вы только и ждете, когда повесят меня!.. Вот за эту шею, за эту шею… Вы подлец, Геринг… Самый глупый подлец около меня… Но вы не увидите, как мне свернут шею. Слышите: не увидите! Раньше я сверну ее вам… Вы никогда не будете фюрером, никогда…
Геринг молча поднялся и, гневно топоча, побежал к двери. В мозгу его бешено билась одна–единственная мысль:
"Увидим… Увидим!.."
Ненавистью к сопернику он сознательно старался заглушить в себе страх перед угрозой Тельмана. Истерика Гитлера заразила его. Вид шеи фюрера, перевитой надувшимися жилами, вызвал в его мозгу чересчур яркое представление о том, что сначала показалось ему чем‑то вроде веселой шутки: хруст собственных шейных позвонков в случае провала начатой большой игры… Нет! Нет! Все, что угодно, только не это! Американцы должны помочь ему выбраться живым, хотя бы ему одному. И помогут, безусловно помогут. Он достаточно много дня них сделал. И сделает еще больше… Все, что угодно… Хотя бы от этого затрещали шейные позвонки всех немцев… Только не это, только не это!..
Держась рукою за жирные складки собственной шеи, он упал на подушки автомобиля.
Только не это!.. Он не пророк, не пророк, этот Тельман! Откуда он может знать?!.
Пальцы Геринга судорожно шарили по жилетным карманам в поисках коробочки с кокаином.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Буржуазия ведет себя, как обнаглевший
и потерявший голову хищник,
она делает глупость за глупостью,
обостряя положение, ускоряя свою гибель.
Ленин1
По сложности и значительности политических событий 1939 год был выдающимся. Его начало обнадежило фашистских агрессоров и стоявших за их спиною поджигателей войны. Ликвидация чехословацкого государства и образование вместо него плацдарма для развертывания немецко–фашистских армий вблизи границ Советского Союза; удушение Испанской республики; создание вместо нее франкистской станции для снабжения германо–итальянской военной машины американскими военными материалами, стратегическим сырьем и нефтепродуктами на случай большой войны; разгром Польши, — все это окрыляло заговорщиков против мира, прибившихся в министерских и банковских кабинетах Лондона, Парижа, Вашингтона, Нью–Йорка.
Но дед Мороз не принес этим господам под елку главного подарка, которого они ждали, — смертельной схватки фашизма с советским народом. Одно за другим приходили разочарования. Попытка произвести нажим на Советский Союз путем военной диверсии на Дальнем Востоке стоила жизни сотне тысяч японских солдат. "Инцидент" на берегах Халхин–Гола показал, что Советский Союз зорко следит за происками заговорщиков. Ни вторгнуться в пределы Монгольской народной республики, ни, тем более, перерезать Сибирскую железнодорожную магистраль или выйти через Монголию в тыл Китайской народной армии японцам не удалось.
Следующим разочарованием, еще более тяжким для политических интриганов, оказалась дальновидность советского правительства, проявленная в московских переговорах. Согласие СССР на предложение Германии о заключении пакта ненападения свело на нет все усилия англо–французов изолировать Советский Союз и оставить его у барьера один на один с гитлеровской агрессией. Правда, загрустившие было заговорщики воспрянули духом, когда их усилия "канализировать" гитлеровскую агрессию на восток увенчались видимым успехом: Гитлер вторгся в Польшу. Нацистская армия стремительно двинулась к границам Советского Союза. Брошенная на произвол судьбы Польша должна была сыграть роль жертвы, принесенной Гитлеру в оплату его "военных усилий". Разбойничий налет на Польшу, получивший у придворных историков Гитлера наименование "польского похода", должен был, по мысли подстрекателей этого преступления, явиться прелюдией к развязке — нападению на СССР. Сапоги гитлеровских солдат безжалостно топтали польскую землю. Руины польских городов, пепелища деревень, задымленные стены Варшавы — вот все, что через две недели осталось от Польши как государственного организма. Проданный фашизму министрами–изменниками, покинутый "великими гарантами" — Англией и Францией, польский народ платил своей кровью по счету нацистского агрессора его тайным американо–англо–французским подстрекателям и сообщникам.
Степень осведомленности американской, британской и французской разведок о гитлеровских планах разбойничьего налета на Польшу имеет историческое значение как важная черта в характеристике морального облика буржуазных режимов этих стран. Кроне не напрасно был своим человеком у Геринга: американцы знали больше, чем хотели показать. Как ни плохо работало французское Второе бюро, но и у него были данные, вполне достаточные для суждения о серьезности удара, нависшего над Польшей. Англичане же были осведомлены лучше французов.
По своим последствиям для всего хода мировой истории имело, конечно, большое значение то, как нацистская военная машина раздавила Польшу, но еще большее то, почему ей не удалось, прорезав Западную Украину и Западную Белоруссию, подойти вплотную к границам Советского Союза.
По "Белому плану" армии вторжения состояли из 47 пехотных и 9 бронетанковых дивизий. 3–я армия численностью в 8 дивизий наступала из Восточной Пруссии на юг — в направлении Варшавы и Белостока. 4–я армия, в 12 дивизий, двигаясь из Померании, должна была смять польский заслон в Данцигском коридоре и тоже прорваться к Варшаве берегами Вислы. Главный удар возлагался на самую сильную 10–ю армию в составе 17 дивизий, двигавшуюся прямо на Варшаву. Ее левый фланг прикрывался неподвижной 8–й армией в составе 7 дивизий. На юге 14–я армия численностью в 14 дивизий под командованием генерал–полковника Гаусса занимала важнейший промышленный район на запад от Кракова. Двигаясь через Львов, она вторгалась в Западную Украину и поворачивала на север на соединение с частями 3–й армии, замыкая, таким образом, огромный котел и отрезая полякам пути отхода на юг — к Карпатам и к Румынии. В этом котле и должна была быть перемолота живая сила польской армии.
Чтобы обезопасить наступающие армии от ударов польской авиации, полторы тысячи немецко–фашистских самолетов должны были атаковать польские аэродромы на рассвете 1 сентября, прежде чем хоть один поляк сумеет подняться в воздух. С уцелевшими от этой неожиданной атаки польскими самолетами борется нацистская истребительная авиация, добивая их в воздухе и на земле. Остальные силы люфтваффе, численностью не менее тысячи самолетов, наносят удары по польским коммуникациям и поддерживают свои войска на поле боя. Особо выделенные воздушные соединения резерва Геринга занимаются бомбардировкой Варшавы и других жизненных центров страны, чтобы вызвать панику среди мирного населения и дезорганизовать аппарат управления страной. С момента полной ликвидации польских воздушных сил на земле и в воздухе в действие вступают фашистские части, сформированные из устаревших машин всех типов. Они бомбят и обстреливают из пулеметов населенные пункты — города, и деревни, и шоссейные дороги с потоками беженцев.
Этому до наглости самонадеянному, разбойничьему плану с польской стороны ничего не было противопоставлено. Никаких ясных планов кампании не было ни у польского командования, ни у правительства, державшего страну я армию в полном неведении о внешнеполитической обстановке и о положении Польши.
Происходило это в значительной мере потому, что армией руководили авантюристы–пилсудчики, старые агенты немцев. Ведущая клика так называемых "старых пилсудчиков" включала в себя наиболее реакционные фашистские элементы. Но и в среде пилсудчиков не было ни единства взглядов, ни взаимоуважения. Взявшие было одно время верх взгляды французского генерального штаба (благодаря тому, что основные офицерские кадры создаваемой армии учились во французской академии) вскоре потерпели крах. Виновниками были сами французы. Они пытались использовать свое влияние в Польше для захвата поставок на польскую армию, для овладения ключевыми позициями польского хозяйства. Общественное мнение еще не окончательно фашизированной армии быстро разоблачило корни французских симпатий и военных "услуг" Вейгана. Отказавшись от корыстной помощи Франции, польский генералитет метнулся к дружбе с еще более опасным "благодетелем" — Гитлером. Наследники Пилсудского не хотели считаться с заведомой агрессивностью гитлеровской Германии. Они наивно полагали, что, выслуживаясь перед Гитлером, можно направить его захватнические аппетиты в сторону Прибалтики, Чехословакии, а быть может, послужить ему в "походе на Москву". Так началась серия всяческих "услуг" и одолжений, оказываемых немцам в обмен на пустые обещания. Ворота Польши были распахнуты для проникновения гитлеровского влияния на всю политическую жизнь страны и армии, для бредовых идей расизма, оголтелого национализма и антисемитизма. Пошли "охоты" нацистских вельмож. Геринг повадился в Беловежскую пущу стрелять заповедных зубров. Начались идеологические и краеведческие визиты многочисленных немецких разведчиков. Формировались отряды фашистского хулиганья. Национальные противоречия искусственно обострялись.
Плачевные результаты предательства, совершенного "полковниками" в отношении братской Чехии, не привели в себя правящую верхушку. Только часть армейского командования поняла, что совершилось непоправимое: спокойная ранее граница со Словакией превратилась теперь в ворота для проникновения с юга все того же злого западного соседа — Гитлера. Общая длина германо–польской границы увеличилась на пятьсот километров. Перед армией встала тяжкая задача: растянуть и без того недостаточные силы на две тысячи километров вместо прежних тысячи пятисот. На каждую дивизию падало теперь семьдесят километров обороны. Это было бы непосильно и для первоклассной современной армии.
Гитлеровцы не хуже самих хорохорившихся "полковников" понимали безнадежность военного положения Польши. Тон их становился все более хозяйским. Этот тон отрезвил многих поляков. Даже кое‑кто из заносчивых, лишенных политической дальновидности министров, и те стали понимать, что безграничное потакание прогитлеровским элементам в правительстве и стране ведет к катастрофе Речи Посполитой. Снова началась полоса англо–французской ориентации. Наиболее разумные элементы склонялись к тому, что единственным действительным средством обуздания Гитлера было бы искренное сближение с СССР. Но, поддерживаемые американским посольством в Варшаве, английский и французский послы сделали все от них зависящее, чтобы заставить поляков уклониться от военной помощи против агрессора, предлагаемой Советским Союзом. Взамен они предложили свои собственные гарантии, хотя заранее знали, что эти гарантии не будут осуществлены и Польша будет покинута на произвол судьбы.
Тем временем нацисты не теряли времени. Купленные ими темные элементы проникали во все поры общественной жизни Польши, пробирались в правительственный аппарат, в армию. Продажная государственная администрация разваливалась. Армейское командование, офицерство, даже солдатскую массу раздирала искусственно раздуваемая национальная распря. Несмотря на непосредственную близость войны, требовавшую объединения всех патриотически настроенных элементов страны и армии, польские расисты требовали удаления из армии евреев и украинцев. Учинялись демонстрации националистов, организовывались убийства антифашистски настроенных людей. Правительство не принимало никаких мер против преступников. Главнокомандующий Рыдз–Смиглый не пользовался в армии авторитетом. Солдаты ему не верили, офицерство не уважало его. В военной среде не существовало ни дружбы, ни доверия. Солдаты боялись офицеров и ненавидели их. Офицеры опасались друг друга и завидовали чиновникам военного министерства, богатевшим на взятках с поставщиков интендантства и на солдатских кормовых деньгах. Благодаря фашистским порядкам народ не имел представления о том, что интендантские запасы не обеспечивают армии ни сапог, ни шинелей, ни тем более питания даже на первый день мобилизации. Сама армия, включая командующих округами, не знала, что новобранцы, которые пополнят ее ряды накануне войны или в ее первый день, останутся без винтовок и патронов, без ручных гранат. Никто не понимал, куда ушли миллиардные кредиты на вооружение, контролируемые только маршалом. Инженерная служба армии непозволительно отставала. Она не знала других средств борьбы с танками, кроме бутылок с бензином. Бронесил фактически не существовало. Кадровый генеральский состав, имевший хотя бы устаревший опыт прошлой мировой войны, замещался молодыми генералами–политиками, не нюхавшими пороха. Их единственной заслугой являлось то, что они были "пилсудчиками". Это не только обескровливало штабы и командование частей, но и создавало невыносимые отношения между обиженными и выскочками.
Наконец, что самое важное, польский народ, любивший свою многострадальную отчизну, утратил уважение и любовь к мундиру. Связи народа с армией были нарушены. Армия перестала быть частью нации там, где проходила грань, резко разобщающая солдатскую массу от фанфаронов в офицерских мундирах. Солдатская масса не хотела и не могла понять корней националистической пропаганды. Польский крестьянин издавна жил бок о бок с украинцем и белорусом. Он не видел в них ни врагов, ни людей низшей расы. Польский рабочий не мог итти по следам антисемитствующих молодчиков, так же как он не мог стать врагом украинца или белоруса.
В довершение дезорганизации, сознательно вносимой в армию врагами Польши и ее тупыми и корыстными правителями, армия была далека от мысли о возможности войны с Германией. Вся политическая служба работала на то, чтобы насторожить армию против воображаемой опасности с востока. Эта подрывная деятельность зашла очень далеко. Она дала ужасные плоды: вдоль польско–советской границы выросли линии оборонительных сооружений, а единственно опасная западная граница оставалась незащищенной. На польско–немецкой границе не было ни одного сапера даже тогда, когда, начиная с марта 1939 года, всем стало ясно, что нападение Гитлера на Польшу только вопрос времени.
Спор о том, можно ли при угрожающей протяженности фронта и слабости польских сил отказаться от устаревшей доктрины позиционной войны в пользу войны маневренной, в пользу возможности действовать сосредоточенными силами в надлежащем месте и в надлежащее время, — этот удивительный спор не был еще окончен к 30 августа. А 1 сентября стало поздно спорить о чем бы то ни было: немецко–фашистские войска вторглись в Польшу.
Поспешная мобилизация, несмотря на энтузиазм, с каким польский народ шел защищать свою родину от нацизма, провалилась. Людей, являвшихся на сборные пункты, приходилось отпускать обратно. Их не во что было одеть, для них не было оружия, их не на чем было перевезти к линии фронта. Наконец, их нечем было накормить. А шептуны и прямые агенты врага, вскормленные предательским правительством, продолжали подрывную работу. Война уже шла, а желтые листки, вроде фашистской "Самообороны", призывали к погромам и уничтожению евреев, к недопущению украинцев в ряды армии, к борьбе не с немцами, а "с внутренним врагом, скрывающимся на фабриках и заводах Лодзи и Варшавы, с красными, засевшими в деревнях восточных кресов…"
С таким‑то "противником" встретились гитлеровские армии вторжения. Девяти бронетанковым дивизиям Гудериана противостояли двенадцать бригад польской кавалерии. Их пики и сабли не могли остановить бронированных машин. Девятьсот польских самолетов первой линии были предательски уничтожены на их аэродромах, прежде чем раздалась боевая тревога. Через два дня ни один польский самолет уже не поднимался в воздух. Люфтваффе занялась войной с польской пехотой и с мирным населением. За неделю германская армия, не встречавшая серьезного сопротивления, продвинулась в глубь Польши. Остатки польских войск, вытянутых тонкой линией вдоль границы, были отброшены к востоку. Удержавшаяся на месте Познанская группа была обойдена и отрезана от своих. 10–я германская армия, вклинившись в линию обороны польской Лодзинской группы, разрезала ее надвое. Одна часть поляков стала отступать к северу, другая к югу. В образовавшийся промежуток ринулись гитлеровские танки. Силами двух дивизий они спешили к Варшаве. Туда же рвалась 4–я немецкая армия вдоль берегов форсированной ею Вислы. На первый взгляд могло показаться, что не существует силы, способной противостоять натиску бронированного кулака нацистов. Но в действительности там, где фашисты наталкивались на организованное сопротивление, они тотчас останавливались. Так было на северном участке фронта, где застряла немецко–фашистская 3–я армия.
Тем временем Гаусс со своими четырнадцатью дивизиями методически продвигался к реке Сад, имея первой, главной целью украинский Львов как отправную точку для дальнейшего движения на восток. По пути ему удалось во взаимодействии с соседней группой Пруста окружить и до последнего человека уничтожить четыре польские дивизии, искавшие спасения в отходе к Радому.
10–я немецко–фашистская армия остановилась у Варшавы. Столица Польши, покинутая правительством и командованием, брошенная на произвол судьбы, оказала неожиданное для немцев упорное сопротивление. Вырвавшаяся вперед бронетанковая дивизия 10–й армии немцев не могла пробиться к городу, защищаемому самоорганизовавшимся населением и остатками воинских частей, стянувшихся со всех сторон к символу польской независимости — красавице Варшаве. Понадобилось окружение города с севера подоспевшими частями 3–й германской армии, чтобы замкнуть кольцо осады. В этом кольце силами танковых соединений, авиации и артиллерии фашистов беспощадно уничтожалось все живое, что еще способно было сопротивляться.
Но, вопреки ожиданиям Гитлера и его генералов, даже подавляющее превосходство техники и несоизмеримое численное преимущество фашистов перед поляками оказалось недостаточным, чтобы считать задачу решенной. Там, где машинам и жестокости противостояли патриотизм, мужество и организованность защитников, пасовали и техника и нахальства. Как только к отрезанной с севера и юга Познанской группе поляков присоединились остатки разбитых Лодзинской и Торунской группировок и в познанском мешке образовалась сила в двенадцать дивизий, немцы споткнулись. Во фланг их наступающей на варшавском направлении 10–й армии ударили познанцы. В битву оказалась вовлеченной вся 8–я армия немцев и часть 4–й, оперировавшей на севере. В течение десяти дней поляки яростно сопротивлялись. Кровь поляков и немцев десять дней обагряла воду Бзуры. Понадобилось привлечение новых немецко–фашистских сил, чтобы стереть с лица земли эти двенадцать дивизий. Сломить их упорство так и не удалось: они дрались за свою Польшу!
Борьба остатков польской конницы под Кутно и защита Вестерплятте от соединенных сил немецко–фашистской армии и флота должны были показать всему миру, что может сделать мужество солдат, защищающих свою землю, даже если ею управляют министры–изменники.
В те дни генерал Гаусс испытал неприятное разочарование. Его дивизии, приблизившиеся к самым воротам Львова, вдруг остановились. Население незащищенного города не пожелало принять, победителей. Дороги оказались перерытыми глубокими рвами, город опоясали наскоро сооруженные укрепления. В этих окопах рядом с касками немногочисленных солдат виднелись шляпы и кепи горожан. Это было до смешного нелепо. Гаусс мог ждать чего угодно, но не того, что его моторизованные части будут остановлены сборищем штатских. Это не укладывалось в представления Гаусса о войне.
Получив такое донесение, Гаусс 16 сентября приехал на место и предложил командующему обороной Львова немедленно сдаться. Он не собирался мириться с тем, что "какие‑то украинцы" желают урезать размер жертвы, предназначенной Германии в оплату ее похода на восток.
Но исторические решения, принятые в ту ночь, с 16 на 17 сентября 1939 года, в Московском Кремле, изменили весь ход событий, спланированный заговорщиками против мира. 17 сентября эфир принес заговорщикам убийственное для них известие. Великим разочарованием для них были услышанные всем миром по радио слова Молотова:
"…События, вызванные польско–германской войной, показали внутреннюю несостоятельность и явную недееспособность польского государства. Польские правящие круги обанкротились… Никто не знает о местопребывании польского правительства. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Польское государство и его правительство фактически перестали существовать….В Польше создалось положение, требующее со стороны Советского правительства особой заботы в отношении безопасности своего государства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство до последнего времени оставалось нейтральным. Но оно в силу указанных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создавшемуся положению.
От Советского правительства нельзя также требовать безразличного отношения к судьбе единокровных украинцев и белорусов, проживающих в Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям–украинцам и братьям–белорусам, населяющим Польшу.
Ввиду всего этого… Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии…"
18 сентября телеграф подтвердил, что Красная Армия вступила в пределы оторванных от Советской Украины и Советской Белоруссии областей Западной Украины и Западной Белоруссии и преградила немецко–фашистским войскам дальнейший путь к востоку.
Вместо штатских шляп и кепи горожан Львова против подтягивавшихся войск Гаусса оказались каски красноармейцев. Одна немецкая дивизия, сунувшаяся нахально дальше дозволенной линии, была разбита вдребезги в ночном бою. Гаусс понял, что еще один такой случай — и начнется война с Россией, то–есть произойдет то, чего он страшился больше всего: война на два фронта. Он послал парламентеров к старшему командиру советских войск. Для переговоров с этими парламентерами выехали два советских майора. Гаусс в полной растерянности расхаживал по комнатам помещичьего "палаца" близ Янува, служившего пристанищем его штабу. Он ждал инструкций гитлеровской ставки, стараясь предугадать их содержание. Перспектива борьбы с Красной Армией повергала его в ужас.
В эти часы ожидания приказов из Берлина Гаусс не в первый раз ставил перед собою вопрос: как могло случиться, что он, генерал–полковник Гаусс, за спиной которого были традиции и опыт многих поколений военных, член сильнейшей в Германии военной касты, мечется тут в ожидании решения какого‑то жалкого ублюдка, чья военная карьера закончилась на нашивке ефрейтора? Почему этот недоучившийся фантазер нагло отвергает мнения генералов и фельдмаршалов? Какою страшною силой он подчинил себе генералитет? Что дает ему силу принимать политические решения огромной важности, зависящие от обстоятельств чисто военного характера? Почему этот кретин смеет и может отдавать приказы армиям в сотни дивизий?
Все это было и оставалось для Гаусса путаницей противоречий, над которой он не только много думал, но которую уже пытался однажды разрубить подобно гордиеву узлу. Тогда попытка окончилась провалом. Но означает ли это, что он не должен повторить подобную попытку? Не предоставит ли военная обстановка условий более подходящих, чем мирное время для того, чтобы отделаться от Гитлера? Не наделает ли этот дилетант роковых ошибок, не подпишет ли он сам себе смертного приговора?.. Разве нет уже налицо крупнейшей политической ошибки Гитлера, которая может повлечь за собою непоправимую военную катастрофу? Англия и Франция объявили же войну Германии. Можно ли верить тому, что война на западе — простая формальность, которую английскому и французскому правительствам необходимо было соблюсти перед лицом своей общественности? А если дело там под нажимом народов пойдет всерьез? А если, в добавление ко всему, завяжется еще драка с русскими вот здесь, под Львовом? Ведь тогда действительно сбудутся все самые мрачные предсказания… Чорт возьми, нельзя забывать, что войны ведутся людьми. Нельзя предаваться иллюзии, будто, заранее обеспечив себе превосходство в танках и самолетах, тем самым обеспечивают и верную победу. Уроки первой мировой войны достаточно наглядно опровергают такое заблуждение. В каждой войне есть победитель, но ведь есть и побежденный. Быть слепо уверенным в том, что стать побежденным может только противник, значит быть кретином…
…Наконец прибыл приказ: отходить, в бой с советскими войсками не вступать Гаусс вздохнул с облегчением. Этот приказ вскоре стал известен в Париже и Лондоне, и это была далеко не последняя неприятность для англо–французских заговорщиков против мира.
2
— Трум–туру–рум–тум–тум… Трум–туру–руммм…
Жизнь прекрасна! Снова Берлин, снова своя прекрасная квартира, свои старые испанцы!
— Трум–туру–рум…
Винер, приплясывая, переходил из комнаты в комнату, с наслаждением втягивая широкими раздувающимися ноздрями немного затхлый воздух комнат, долго стоявших запертыми.
К чорту провинциальную Чехию! Все, что можно было извлечь из комбинации с Вацлавскими заводами, извлечено. Это — прошлое. С тех пор как стало широко известно, что Винеру удалось привлечь Ванденгейма к участию в делах фирмы "Винер", отношение к нему, как ее главе, не только в деловых кругах, но и в военном министерстве резко изменилось. Не он посылал теперь розы Эмме Шверер, а сам Шверер привез Гертруде в день ее рождения огромную корзину орхидей. Винер испытывал злорадное удовлетворение при мысли, что такая корзина должна была обойтись старому филину по крайней мере в сто марок!
— Трум–туру…
Жизнь прекрасна! Пусть Гитлер и его генералы называют польский поход "контратакой" или как им угодно еще, — первый же день этой войны показал, что значит военная конъюнктура на полном ходу: самолеты, самолеты и еще раз самолеты!
— Трум–туру–рум…
Ах, если бы сбросить с плеч хотя бы десяток лет! Можно было бы по–настоящему использовать то, что Гертруда уехала в Карлсбад. Аста не помеха. Девчонка сама воспринимает возвращение в Берлин, как праздник.
Конечно, было бы интересно взглянуть, как работают в Польше его самолеты, но на это ушли бы как раз те несколько дней, которыми он располагает для развлечения, пока нет жены. Поэтому вчера на приглашение старого Шверера сопутствовать ему в экскурсии на север Польши Винер ответил предложением послать туда Эгона Шверера. Пока главный конструктор будет любоваться работой своих произведений, Винер полюбуется здесь, в Берлине, кое–чем другим.
— Кое–чем другим, кое–чем другим!..
Вследствие столь игривого настроения патрона, с которым становилось все труднее спорить с тех пор, как он почувствовал за своей спиною руку американцев, Эгону и пришлось прямо из Чехии лететь в район Данцига и Гдыни. Там работало соединение, вооруженное его новым пикирующим бомбардировщиком. Быть может, Эгон и попытался бы уклониться от претившей ему поездки, если бы не должен был встретиться в Польше с генералом Шверером. Так как у Эгона окончательно созрело решение не возвращаться в Германию, он не видел другой возможности повидать отца. Особенно, если учесть, что в его планы входило покинуть Вацлавские заводы и вообще авиационную промышленность. Получить на это согласие не только Винера, но и нацистских бонз, конечно, нечего было и думать. Уйти из‑под их власти можно было, только переехав в какую‑нибудь другую страну. Сначала у Эгона был план переселения в Швейцарию. Но, судя по всему, там он не был бы в безопасности от мстительной нацистской полиции. Его не оставили бы в покое с военно–техническими секретами. Снова началась бы погоня, какую он уже испытал когда‑то в Любеке. Поэтому он остановился на Норвегии — тихой, нейтральной стране с патриархальной жизнью, далекой от бурь нынешней европейской политики.
Эгон прилетел в Польшу уже с твердым решением: повидавшись с отцом, бежать в Швецию и дальше в Норвегию. Он уже отправил туда Эльзу под предлогом увеселительной поездки по фиордам.
Самолет Эгона приземлился близ Цоппота — курорта неподалеку от Гданьска. Офицер отца уже ждал его, чтобы проводить до Гдыни.
Генерал Шверер и еще несколько офицеров, окруженные толпой иностранных корреспондентов, расположились в самом центре Гдыни, на Звездной горе, увенчанной огромным каменным крестом. Отсюда они наблюдали бой, происходивший в нескольких километрах к северу. От грохота башенных орудий "Шлезвиг–Гольштейна", громившего с моря позиции поляков, за спиною Эгона осыпалась потрескавшаяся штукатурка креста.
С трех сторон поляки были стиснуты плотным кольцом немецко–фашистских войск. С четвертой путь к отступлению им отрезало море. Со стороны нацистов действовало все: тяжелая и легкая артиллерия, минометы, автоматы, танки и самолеты. Поляки отбивались винтовками и пулеметами. Две зенитные пушки они пытались противопоставить нескольким десяткам танков, прямою наводкой громившим доты, прикрывавшие порт. За сплошным ревом нацистской артиллерии слабый огонь поляков даже не был слышен. Но они ожесточенно защищали каждый дом, отстреливались из‑за каждого куста. С холма были хорошо видны здания офицерской школы и радиостанции, превращенные поляками в узлы обороны.
Огонь фашистских орудий поднимал столбы пыли вокруг этих двух точек сопротивления. Поляки не отступали. Каждое окно развалин, каждая куча кирпича встречала атакующих ружейным и пулеметным огнем. После трех бесплодных попыток взять штурмом здание школы нацистская пехота откатилась.
Эгону было отвратительно избиение упорно защищающихся, но заведомо обреченных на смерть поляков. Он покинул бы холм, если бы в небе не появились гитлеровские самолеты. Это были его пикировщики. Эгон заставил себя взять бинокль. У него на глазах бомбардировщики один за другим делали заход над домом школы. Даже здесь, где стояли наблюдающие, воздух дрожал от взрывов. Столбы пламени взвивались над остатками обрушившихся стен. Бинокль дрожал в руке Эгона.
Нацистская пехота пошла в новую атаку. Из заваленных горящими обломками подвалов навстречу ей сверкали выстрелы поляков. Гитлеровцы остановились, стали в четвертый раз отходить и побежали.
Новая волна бомбардировщиков появилась над морем огня. Эгон не мог больше смотреть. Это опять были его машины. Порождение его мозга, творение его рук!
С ощущением тошноты, подступающей к горлу, Эгон стал спускаться с холма. На полдороге он вспомнил, что не попрощался с отцом. Оглянулся и увидел генерала: Шверер сидел на складном стуле, наклонившись вперед, и, не отрывая бинокля от глаз, жадно смотрел на избиение поляков. Вся поза старика, выражение лица — все говорило о том, что зрелище доставляет ему величайшее удовольствие. Ошеломленный Эгон долго смотрел на хищную фигурку генерала.
Чувство отвращения смешивалось у него с желанием подняться обратно на холм, взять отца и увести прочь, подальше от людей, любующихся избиением почти беззащитных поляков. Но навстречу этому желанию в душе поднялось чувство острого стыда: чем хуже было пассивное любование картиной истребления поляков, чем его собственное активное участие в этом кровавом спектакле? Да, теперь он брезгливо отворачивался от дела рук своих. А о чем он думал, когда создавал эти бомбардировщики, когда продумывал каждую их деталь, когда вынашивал формулы, обеспечивающие возможность сеять огонь и смерть с крыльев, украшенных отвратительным черным крючком фашистской свастики? Разве он давным–давно не знал, к чему ведут его расчеты, разве он совершенно трезво не оценил свое благополучие в те тысячи человеческих тел, что корчатся теперь под развалинами Гдыни, в десятки и сотни тысяч жизней, что еще будут истреблены его самолетами? Разве он не обменял кровь этих людей на свой покой?.. Значит, ему было мало разумом понять, к чему ведет его соучастие в преступлениях Гитлера, ему было недостаточно картины пресловутого "аншлюсса", мало пылающих ненавистью глаз чехов? Понадобилось своими руками ощупать тела убитых поляков почувствовать жар пожарищ, чтобы до конца понять.
Внутренне содрогаясь, загораживаясь рукою от встречных, Эгон плелся по склону с холма, представлявшегося ему голгофою. Там вместе с Польшей распинали и его собственную душу.
Через день, разбитый физически и морально подавленный, как никогда в жизни, он вылез из самолета на аэродроме норвежского города Ставангера.
У Эгона не было никакого багажа, но он шел, едва передвигая ноги. Вокруг него царила тишина мирного провинциального города, но он не чувствовал покоя. Близ него не было ничего, что напоминало бы гитлеровский рейх, но Эгон не сознавал свободы.
Он шел, окруженный грохотом разрывающихся бомб пикировщиков, опаляемый огнем пожаров, душимый смрадом разлагающихся тел. Он шел, вытянув руки, чтобы очистить себе путь среди обступивших его смертных теней австрийцев, чехов, поляков…
— Эльза!..
Она нашла его в приемном покое городской больницы.
В виде особой любезности для перевозки больного иностранца в маленькую гостиницу, где остановилась Эльза, врач разрешил воспользоваться больничной каретой. Это был неуклюжий старый экипаж, выкрашенный в черную краску и запряженный парою понурых лошадей. Когда Эгон его увидел, он с кривой усмешкою спросил:
— Карета палача?.. Или уже катафалк?..
И бессмысленно рассмеялся.
Врач посоветовал Эльзе купить в аптеке, по дороге, снотворного.
— Это стоит каких‑нибудь двадцать ёре, — сказал он, заметив смущение Эльзы.
3
Едва успев наступить, новый 1940 год уже нес заговорщикам против мира новые разочарования. Генерал Вейган, приготовивший было 150–тысячную армию к наступлению из Сирии на Баку, как только экспедиционные корпуса англичан и французов помогут финнам перейти в наступление на севере, и заявивший, что в июне 1940 года он начнет бомбардировку бакинских промыслов, кусал себе ногти. Напрасно нажим великих держав на Швецию и Норвегию обеспечил проход в Финляндию англо–французских войск, напрасно гитлеровские полки готовились к посадке на суда, чтобы подпереть отступающих финнов и бок о бок с англо–французами ударить на русских. Напрасно! Вместо финского Петербурга на карте появился советский Выборг. Пакты СССР о взаимопомощи с Латвией, Эстонией и Литвой и последующее воссоединение этих республик в Советском Союзе окончательно закрыли перед носом агрессоров балтийские ворота на восток.
Все провалилось. Рушились планы немедленного сокрушения советского государства.
Взоры англо–французских заговорщиков рыскали по карте мира в поисках кусков, которыми можно было бы заткнуть пасть взбесившегося гитлеровского пса, продолжавшего получать бодрящую струю золота и нефти из‑за океана.
Общий кризис капитализма углублялся все больше. Неустойчивое равновесие в мире империализма снова было непоправимо нарушено. С силою взрыва обнажились все скрытые противоречия между главными империалистическими державами. Это и определило то, что пожар второй мировой войны, уже несколько лет бушевавший в разных концах земли за стыдливыми покровами всяких дипломатических формул, вырвался наружу и его пламя поползло по Европе. Оно подбиралось уже к берлогам самих поджигателей. В стороне пока еще оставались только главные заговорщики против мира, отгороженные от очагов кровавой борьбы тысячемильными пространствами двух океанов. Эти рассчитывали отсидеться и от пожара войны и от гнева распинаемых ими народов.
Впрочем, отсидеться надеялись не только американские подстрекатели. Такие же намерения были у их английских и французских пособников. Находясь в "состоянии войны" с Германией, они и не думали использовать то, что гитлеровская военная машина была занята польским походом, и нанести ей удар на западе. Ведя на западном фронте "странную войну", то–есть, попросту говоря, сидя сложа руки, они дали Гитлеру возможность подготовиться к большой войне. Они надеялись, что, собравшись с силами, он, наконец, ударит на восток. Но и эти расчеты провалились. Козни заговорщиков обратились против них самих. Вырвавшийся из повиновения ефрейтор бросился не на восток, где ему грозило поражение, а на запад, где все было подготовлено для его легкой победы.
В течение нескольких месяцев до того Гитлер имел возможность держать на западном театре какие‑нибудь двадцать четыре дивизии. Против него бездействовали сначала семьдесят, а потом и сто двадцать французских и четыре, а потом десять английских дивизий. Северный фланг союзников прикрывался двадцатью четырьмя бельгийскими и десятью голландскими дивизиями. До начала своих активных действий в мае 1940 года гитлеровский штаб не держал на западе бронетанковых частей, всецело полагаясь на неподвижность трех тысяч французских танков. По свидетельству начальника гитлеровского генерального штаба генерала Гальдера, нацистские силы на западе в то время представляли собою не больше чем "легкий заслон, пригодный разве для сбора таможенных пошлин".
О слабости немцев знали штабы союзников, но у французских генералов были свои расчеты. Проникнутые в своем большинстве идеологией фашизма, они давно уже стремились доказать, что демократический режим непригоден для ведения войны. Они пропагандировали мысль, будто республиканские порядки убили во французах патриотизм и способность чувствовать себя воинами. Они утверждали, будто "проникновение политики" в армию нанесло удар моральному состоянию солдатской массы, помешало военному обучению и внесло в войска дух поражения. Они шумели о "виновности" во всем этом коммунистической партии Франции. Заместитель начальника генерального штаба генерал Жеродиа дошел до того, что разослал командующим военными округами Франции документ, полученный от маршала Петэна и содержащий указания о действиях, какие надлежит предпринять против "мятежа", якобы задуманного "коммунистическими элементами" армии против своих офицеров. На самом деле тут шла речь об искоренении в армии патриотических элементов и воспитании ее в фашистском духе, в духе поражения.
Всячески демонстрируя взаимную враждебность, Петэн и Вейган совместными усилиями вели французскую армию к разгрому. Они не только разлагали ее морально, но боролись и против усиления ее технического оснащения. Еще будучи военным министром, Петэн прямо воспротивился продолжению линии Мажино на север — мере, которая могла бы усилить оборону Франции в случае вторжения Гитлера через Бельгию и Голландию. Со стороны Петэна это было открытым предательством интересов Франции.
Не лучше обстояло дело и с военной доктриной. Все высшие военные руководители Франции были участниками войны 1914–1918 годов. Вейган, предшествовавший Гамелену на посту главнокомандующего, и сам Гамелен были приверженцами устаревшей доктрины времен первой мировой войны. Маршал Петэн, генералиссимус 1918 года, кумир и высший авторитет в среде французского офицерства, будучи вице–председателем Высшего военного совета и военным министром, не мог выйти из‑под гипноза того способа ведения войны, который применялся под Верденом. А этим способом была позиционная война. В ней движение войсковых масс в бою измерялось метрами, плодами наступления бывала в лучшем случае линия окопов или какой‑нибудь узел местного значения. Ни масштабы свалившейся на них войны, ни требования быстрого и решительного маневра на широком оперативном пространстве не были понятны Петэну и его единомышленникам. Воспитанные в косности французские генералы прививали эту косность и офицерскому корпусу. Из решительных людей действия, какими должны быть военные руководители, они превратились в чиновников, старающихся не иметь собственного мнения. А уж если мнение необходимо было высказать, то оно должно было укладываться в прочно устоявшиеся рамки рутины. Соображения карьеры и личного благополучия заставляли их больше смотреть в рот начальству, чем размышлять.
Все это самым пагубным образом сказалось и на развитии двух важных видов оружия, рожденных первой мировой войной, — авиации и танков. Французская боевая авиация находилась во власти офицеров–белоручек. Это была армейская аристократия, перекочевавшая на самолет с вышедшего в отставку коня. Служба в авиации стала спортом. Летчики готовились к индивидуальным подвигам, не имея никакого представления о действиях авиационных масс. Они охотно служили в истребительных частях, но пренебрегали бомбардировочными и разведывательными частями. Эту черную работу они предоставляли унтер–офицерам. О взаимодействии с другими родами оружия, о действиях над полем боя французские летчики не имели представления.
Еще хуже обстояло дело в танковых войсках. Офицеры других родов оружия смотрели на танкистов сверху вниз, как на "механиков". Танкисты были плебеями армии. Они не были подготовлены к самостоятельным действиям. Танки считались вспомогательным средством пехоты, неспособным решать задачи даже самого скромного тактического характера. Концепция пассивной обороны, как ржавчина, глубоко проела сознание французских полководцев. Они даже танк стали рассматривать как оружие оборонительное.
Не увеличится ли эффективность танка, говорили они, "рассматриваемого ныне исключительно как инструмент наступления и прорыва фронтов, если использовать его для обороны? Танк должен быть использован для контрударов по противнику, дезорганизованному самым фактом своего наступления". Эта формула о дезорганизующей роли наступления обнажает зародыш поражения, таившийся в системе мышления французских военачальников. По мнению военных авторитетов Франции, современная оборона стала столь мощной, что наступающий должен обладать огромным превосходством, чтобы решиться на атаку. Они полагали, что атакующий должен иметь втрое больше пехоты, в шесть раз больше артиллерии и в двенадцать раз больше боеприпасов, чтобы надеяться сломить оборону. Все это давало им повод утверждать, будто Франция, как вооруженная нация, не должна начинать кампанию со стратегического наступления. Такое наступление, говорили они, означало бы зависимость судьбы всей страны от случая: "Современным условием "эффективного прикрытия" служит создание непрерывного фронта, использующего фортификационные сооружения". Отсюда: линия Мажино, линия Мажино и еще раз линия Мажино! Немногим смельчакам, напоминавшим о том, что лучшим видом обороны является наступление, приводили опыт войны 1914 — 1918 годов. По утверждению петэновцев, с ростом мощи артиллерии положение атакующего ухудшалось во много раз по сравнению с положением обороняющегося.
Но главное было даже не в этом. Главное было в том, что правители боялись народа. Народ был обманут. Всю силу ударов правящие верхи направили на коммунистов, патриотов. Пакт с СССР был фактически разорван. Гитлеровские агенты рыскали по всей Франции, сидели в правительстве, в палате депутатов, в сенате, заправляли многими отделами генерального штаба. Предателей возглавляли поклонники нацистского диктатора Петэн и Вейган. Они убеждали французов в невозможности борьбы с гитлеровской военной машиной.
4
Свет, проникавший сквозь опушенную желтую штору окна, придавал всей комнате радостный, солнечный вид. За другим, отворенным, окном слышался слабый шум дождя по листве деревьев.
Висевший в комнате сладковатый запах постепенно уступал место влажной свежести, веявшей из парка.
Рузвельт принюхался с недовольным видом. Это не были духи Элеоноры… Неужели запах остался после Спеллмана? Рузвельт не удивился бы тому, что душится какой‑нибудь изысканный итальянец, вроде посетившего его в прошлом году кардинала Пачелли. Но это казалось нелепым в приложении к маленькому, толстому Спеллману, лоснившемуся с головы до пят, как хорошо отмытый боров. Архиепископ нью–йоркский, как заправский гонщик, ездил на автомобиле, учился управлять самолетом, плавал, катался верхом. Вероятно, он только не боксировал, чтобы не искушать паству. Казалось, духи — не его стиль.
Да, положительно странно, что Рузвельт, обычно такой наблюдательный и уже не в первый раз принимавший Спеллмана, раньше не замечал привычки кардинала душиться. Впрочем, прежние приемы происходили в Белом доме. А там все так пропахло затхлостью архивов и вирджинским табаком прежних президентов, что немудрено было бы не уловить и более резкий аромат, чем витавший теперь в кабинете Рузвельта.
Частный и притом совершенно доверительный прием кардинала в Гайд–парке состоялся впервые. На таком свидании, подальше от любопытных глаз, настоял Гопкинс. Правда, Рузвельт и сам склонялся к мысли, что нужно найти путь к обходу сопротивления, которое евангелическое большинство Америки оказывало установлению прямой связи с Ватиканом. Такая связь была необходима. Следовало использовать влияние католической столицы на Италию и Испанию. Эти страны должны были войти в "нейтральный блок". Рузвельт замыслил создать его еще в начале войны в Европе, но не мог найти способ установить связь с Ватиканом, роль которого в этом деле ему казалась очень существенной. С одной стороны лицо, которое осуществляло бы такую связь, должно было быть достаточно аккредитованным, чтобы внушить к себе доверие папского двора, с другой — не должно было быть прямо связано с государственным департаментом. Посылка американского посла в Ватикан противоречила бы конституции Штатов.
Выход предложил Гопкинс: направить в Ватикан личного представителя президента.
Вопрос согласовали с Ватиканом через Спеллмана, который и явился сегодня к Рузвельту, чтобы предложить кандидатуру на новый пост. В первый момент Рузвельта ошеломило имя Тэйлора. Но, поразмыслив, он оценил тонкость замысла: протестант по вероисповеданию, Майрон Тэйлор не мог вызвать у американцев такого раздражения в качестве посланца в столицу католицизма, какое вызвал бы правоверный католик. К тому же Тэйлор располагал широкими деловыми связями с правящими кругами Италии и был не последним человеком в группе Моргана. Попросту говоря, он был человеком Моргана.
Рузвельт ответил согласием обдумать эту кандидатуру, но высказал это таким тоном, что Спеллман понял: дело сделано. Единственным условием Рузвельта было сохранение всего в строжайшей тайне до того момента, когда президент сам найдет удобным объявить об этом назначении.
Спеллман и Рузвельт договорились по всем пунктам. Разговор велся в самых дружественных тонах. Перед уходом кардиналу была даже предложена чашка чаю, несмотря на совершенно неурочный утренний час. Подчеркивая частный характер визита, супруга президента сама отправилась проводить гостя.
Рузвельт остался в кабинете один. Он полулежал на своем излюбленном красном диване. Мечтательно–задумчивый взгляд его был устремлен на картину, висевшую над книжным шкафом. Белый клипер несся по зелено–голубым волнам, окруженный облачком дымки. Паруса напружинились, выпятили грудь, кливер вздулся так, словно вот–вот оторвется от бугшприта и, опережая судно, унесется в призрачный простор океана…
Рузвельт смотрел на картину с таким интересом, будто она не была ему давным–давно знакома до мельчайших подробностей. Видит бог, как ему хотелось бы сейчас очутиться на палубе корабля, почувствовать под ногами, — именно под ногами, а не под колесами передвижного кресла, — гладкие доски палубы. И нестись, нестись в бесконечную даль!.. Море было его тайкой любовью. Стыдно было признаться, даже кому‑нибудь из сыновей, от которых у него почти не было секретов, что он всю жизнь так и промечтал о плавании в далеких морях. Приходилось довольствоваться коротенькими прогулками по реке на старом, как мир, "Потомаке" и вот этими морскими картинами на стенах кабинета.
Взгляд Рузвельта перешел было к другому полотну, но тут в поле его зрения попало кресло на колесах. Оно притаилось между письменным столом и книжным шкафом. Это было неумолимое напоминание о том, что никогда ни одно желание Рузвельта–президента, связанное с необходимостью сделать несколько шагов, не было осуществлено; никогда ни одной его мечте, связанной с тем, чтобы без чужой помощи пройти несколько футов, уже не суждено было осуществиться. Кресло стояло в углу как символ неподвижности, ниспосланной ему небом.
Было время, когда вынужденная скованность терзала Рузвельта. Потом это чувство прошло. Он привык к болезни, почти не обращал внимания на доставляемые ею помехи, стремился преодолеть их проявлением неистощимой энергии. Разве только в редкие минуты пессимизма, охватывавшего президента при неудачах, мысль о болезни возвращалась как досадное напоминание об его неполноценности.
Убеждение окружающих в том, что жизнь избаловала его успехом, что его путь был триумфом, гипнотизировала и его самого. Но в дни, когда трезвость реалиста брала верх над славословиями и самообольщением, он принимался анализировать события. Тогда окружающее представлялось ему совсем не таким радостным: силы уходят, все ускоренней делается бег жизни, ее неизбежный конец кажется несвоевременным и ненужным. Он не может сказать ни себе, ни другим, что покидает мостик, спокойный за судьбу корабля Америки…
Острый ум государственного деятеля и изворотливого политика подсказывал ему приближение политического кризиса, быть может самого большого со времен войны Севера и Юга. Размышляя над тем, что было сделано и что предстояло сделать, Рузвельт так оценивал свою задачу: Мак–Кинли, Теодор Рузвельт и Тафт пытались расставить ясные вехи на фарватере, которым должен был плыть государственный корабль Штатов. Но они наделали кучу ошибок, подчас очень трудно поправимых. Вильсон осторожно, с молитвами и оговорками, пустил корабль в большое плавание по этому дурно обставленному фарватеру. Но политический климат с тех пор сильно изменился. Для предстоящих испытаний и бурь корабль Вильсона устарел. Ему, Франклину Делано Рузвельту, предстояло одеть корабль надежной броней и вооружить современной дальнобойной артиллерией. Если предшественникам Тридцать второго рисовалась картина главенства США в западном полушарии, то ему такая концепция уже не представлялась удовлетворительной. По существу говоря, старый друг Берни Барух только пересказывал его собственные мысли, говоря недавно на банкете уолл–стритовских тузов: "Штатам нужна сильная армия и сильный флот; они должны обладать самым новым, самым совершенным оружием, способным внушить уважение всем друзьям и страх любому противнику. Это нужно не для того, чтобы ринуться теперь же в войну, исход которой был бы гадательным. Вся военная мощь Америки понадобится президенту в тот момент, когда его слово сможет стать решающим при организации мира…"
Берни молодец правильная формула! Она должна обуздать чересчур нетерпеливых. Вместе с тем она покажет изоляционистам, что правительство Рузвельта вовсе не собирается втягивать Америку в заграничные авантюры. Кстати говоря, об изоляционистах: до поры до времени не следует мешать им болтать чепуху в конгрессе.
Размышляя о трудностях и опасностях, ожидающих его теперь в крайне сложной обстановке в мире, Рузвельт вспомнил одно свое заявление о том, что всегда был противником войны и остался им. Но он поймал себя на другой мысли о том, что это чувство брезгливой неприязни к кровавым расправам было в нем эгоистично. Война представлялась ему отвратительной лишь тогда, когда она угрожала Америке. Отделенная от его материка двумя океанами, она была абстракцией. Он зорко следил за тем, чтобы раньше времени эта абстракция не стала реальностью. Дай волю военным и забиякам из прессы, они втянули бы Штаты в плохую историю! Опрометчивая политика может навязать американцам войну, прежде чем Штаты будут готовы продиктовать условия мира. Его, Рузвельта, задача в том и заключается, чтобы предоставить войну европейцам, а самому сохранить силы для водворения мира. Только такой поворот может обеспечить преимущество в опасной игре. Попробуй Штаты отказаться сейчас от нейтралитета и открыто стать на ту или другую сторону — это может привести к совершенно неожиданным последствиям. Представить себе на минуту, что, став на сторону Англии, Штаты помогают ей прикончить Гитлера, — и что же? Взбодренная победой дряхлая "владычица морей" снова окажется на пути американца всюду, куда бы он ни сунул нос. Придется начинать сызнова кропотливую борьбу за разрушение Британской империи, по всем данным, приближающуюся к крушению. Ну, а если Гитлер победит и Англия окажется на коленях?..
Как поклонник морской мощи США, Рузвельт всю жизнь искренно и глубоко ненавидел Англию. Когда‑то его мечтой было сравняться с Британией в силе торгового и военного флотов. Со временем эта мечта переросла в уверенность, что флот Штатов должен быть и будет сильнее английского. В представлении Рузвельта это означало, что на смену британской морской мировой империи придет американская империя. Он отдавал себе ясный отчет и в значении воздушных сил, как длинной руки, способной протянуться к горлу любого врага и соперника на расстояние тысяч миль, чтобы помочь недостаточно поворотливому флоту. Рузвельт был уверен, что ни одна страна в мире никогда не сможет не только перегнать, но даже отдаленно приблизиться к США в мобильности промышленности. А это означало, что ни одна страна не сможет в короткий срок построить столько самолетов, сколько построят американцы…
Но он отвлекся в сторону от основной мысли: что будет? Итак, значит, помочь Англии раздавить Гитлера не входило в интересы Штатов. Посмотрим теперь на иной вариант: Штаты бросают гирю на другую чашу весов. Сделать это было значительно проще, чем оказать помощь англичанам, — достаточно было прекратить снабжение Англии военными материалами, сырьем, продовольствием. Остальное Гитлер доделал бы сам. Что же тогда получится? Ефрейтор сотрет Англию с лица земли. Этот тип ненавидит Англию ничуть не меньше, чем Рузвельт, и, что самое забавное, по тем же соображениям. В случае своей победы Гитлер покончил бы с английской и французской конкуренцией и поставил бы всю западноевропейскую промышленность на службу своей военно–разбойничьей машине. Ничто не помешало бы ему тогда сбросить намордник американских банкиров.
Что же оставалось? Не вмешиваясь, ждать развития событий? Нет, этого нельзя себе позволить. Война, закончившаяся без миротворческого участия Америки, означала бы исключение американцев из большой игры. Положение сложное, но… терпение! Терпение и твердость!
Очень жаль, что среди американских военных мало кто понимает, как осторожно приходится маневрировать. Большинство из них, подобно шелопаю Макарчеру, спят и видят, что уже начали драку…
Все, о чем приходилось раздумывать президенту, приводило его к мысли, что в Европу необходимо послать своего доверенного: объехать столицы, повидаться с главами государств, склонить их к решениям, которые нужны Штатам. Рузвельт хотел бы послать Хэлла, но у старика нехватит сил для подобной миссии. Заменить его может, пожалуй, Уэллес. Самнер достаточно надежен, хотя его расторопность и оставляет желать большего. Можно было бы послать Гарримана — Уолл–стрит уже не раз выдвигал его на такие дела… Нет, это опасно. Называясь посланцем Рузвельта, Аверелл будет смотреть не из его рук… Гопкинс?.. Гарри нужен ему здесь… Что же, остается все‑таки Уэллес.
Рузвельт не заметил, как отворилась дверь и в кабинет вошел Приттмен. Его шаги скрадывались толстым ковром. Только когда, убирая посуду, Приттмен звякнул чашкой, Рузвельт обернулся. Президент достаточно хорошо изучил своего камердинера, чтобы безошибочно сказать: тот явился вовсе не за тем, чтобы унести никому не мешавшие чашки.
— Ну, что там, Артур? — добродушно спросил Рузвельт.
— Мистер Гопкинс, сэр.
— Ага! — Рузвельт глянул на часы: вероятно, Гопкинс торчит тут уже давным–давно. Ведь он сам просил Гарри прийти пораньше, совершенно забыв, что предстоит встреча со Спеллманом. — Так, так… — проговорил он в нерешительности. Потолковать сейчас с Гарри и потом продиктовать Грэйс намеченные письма или, наоборот, сначала отделаться от писем, чтобы потом вдоволь поболтать с Гарри?.. — А мисс Грэйс?.. — спросил он.
— Ожидает в секретарской.
— Пусть не уходит, я буду диктовать, — решил, наконец, Рузвельт. — Просите мистера Гопкинса.
Гопкинс вошел усталой походкой. Лицо его было землисто–серым, и красные глаза свидетельствовали о бессонной ночи. Рузвельт с беспокойством оглядел своего советника.
— Открыли новый бар в Поукипси? — с напускным гневом спросил он.
Гопкинс безнадежно махнул рукой: рецидив болезни грозил вот–вот опять свалить его с ног.
Рузвельт погрозил пальцем.
— Берите пример с меня: никогда ничего, кроме стаканчика "Мартини" собственного приготовления.
— Если бы я был президентом…
— К вашему счастью, вы никогда им не будете, Гарри! — перебил его Рузвельт, хотя сам усиленно рекламировал Гопкинса как самого надежного кандидата. — Я постараюсь отвести вас, так же как отвел уже чрезмерно драчливого Гарольда и старину Кордэлла.
— Я в полтора раза моложе Хэлла, — возразил Гопкинс, — и мне далеко до забияки Икеса.
— Но республиканцы наверняка сыграют на том, что с вами развелась ваша первая жена. У них это будет звучать: "Она ушла от этого типа". Правда, Кливленд устоял в свое время, несмотря на гораздо более громкий скандал в личной жизни, но теперь другие времена. А главное: здоровье, здоровье, Гарри! — Рузвельт согнул правую руку в локте. — Вот какие бицепсы нужно иметь, чтобы заниматься черной работой президента… Ничего, не смущайтесь, щупайте, пожалуйста, — и он пошевелил надувшимся мускулом. — Америке нужен президент моего веса, дружище. Никак не меньше.
— А Уоллес, Макнатт, Мэрфи?.. Их вес вас не смущает?
— Никто не станет заниматься ими всерьез, — ответил Рузвельт. — Если хотите знать, настоящим кандидатом я считаю пока одного Фарли.
— А самого себя?
— Госпожа Рузвельт категорически заявила, что это не состоится. Да я и сам вижу: еще один срок — и я разорюсь. Говорят, что и теперь уже для того, чтобы поддерживать Гайд–парк, приходится кое‑что продавать.
— Обратитесь за помощью ко мне, — шутливо проговорил Гопкинс.
— Вы думаете, что на фоне потраченных вашим управлением девяти миллиардов миллион, который мне сейчас нужен, прошел бы незамеченным?.. Нет, Гарри. Франклин Рузвельт может отдать Штатам все, что у него есть, но никогда не возьмет у них ни цента… Таким прошу вас и описать этого президента в ваших воспоминаниях.
— Вы запретили мне писать их.
— Все равно, когда меня не станет, вы будете писать. Это выгодно, Гарри: "Дневник того, кто был другом Рузвельта". Но прошу никогда не упоминать, как остро я завидовал Сталину.
— Я вообще намерен писать одну правду.
— Правда именно в том, что я вам сказал: я завидую главе государства, которому не надо думать с том, как бы не дать своей машине развалиться на ходу. Много ли таких людей во главе государств и много ли таких государств, где руководитель вместе с народом может заниматься изменением климата на радость правнукам?.. Смотрите, — Рузвельт поднял одну из газет, грудою наваленных возле дивана, — они раздумывают над тем, как изменить снежный покров, как заставить реки течь вспять, чтобы изменить природу страны.
— Ну, у нас есть дела понасущней, — пренебрежительно заметил Гопкинс.
— Вот, вот! — с энергией воскликнул Рузвельт. — Это и есть наша самая большая беда: всегда насущное, всегда только для нас самих, никогда ничего для потомков. Я уж и не говорю о том, чтобы пофантазировать лет на двадцать пять вперед, как русские.
— Далековато…
— А вот им не кажется далекой и перспектива полустолетия! С таким размахом можно кое‑что изменить на земле. Допустите на минуту, что мулы из конгресса предоставили мне полномочия…
— Кажется, вы не очень‑то заботитесь о полномочиях, — иронически заметил Гопкинс.
— Но я не люблю об этом говорить… Так представьте себе, что я получил свободу действий и могу позаботиться о Штатах в перспективе, скажем, ста лет…
— При вашем характере это было бы бог знает что.
— Вот видите, даже вам это кажется страшноватым! — Рузвельт рассмеялся с такой искренностью, что заставил улыбнуться даже Гопкинса. — А ведь только при таких условиях я мог бы застраховать и себя самого и всех вас от революции. Призрак коммунизма никогда не доплыл бы до берегов Америки.
— Вы предоставили бы ему бродить по Европе?
— Нет, мы заставили бы его там исчезнуть!
— Так зачем откладывать это на сто лет? — При этих словах, сказанных как бы в шутку, Гопкинс настороженно покосился на Рузвельта, углубленного в рассматривание какой‑то безделушки. — Разве нельзя помочь этому уже теперь? Если бы Англия и Франция во–время присоединили свои войска к финнам, то русские увязли бы в этом деле…
— У англичан и французов достаточно дела и без Финляндии. Со дня на день можно ждать, что Гитлер разделается с Францией.
— Этот вопрос можно было бы уладить.
— Не понимаю, Гарри.
— Гитлера можно было бы удержать от решительных действий, если бы союзники пошли на серьезный разговор о совместном походе против русских.
Рузвельт отложил безделушку и приподнялся на руках. Он пристально посмотрел на Гопкинса.
— Вы знаете что‑нибудь конкретное?
— Верховный совет союзников принял бы такое решение, если бы Германия согласилась не препятствовать доставке англо–французских войск к советской границе через Швецию и Норвегию, — уверенно сказал Гопкинс, все более оживляясь.
— "Принял бы, если бы согласилась бы", — с некоторым раздражением проговорил Рузвельт. — Мне не нравятся эти "бы".
— Их чересчур много?
— Они просто не в моем характере. Я предпочитаю ясность.
— Я щадил вашу щепетильность, патрон.
— Лучше пощадите мое терпение.
— Хорошо… При таком варианте наши доллары и оружие, данные финнам, не пропадут впустую. У финнов будут новые шансы на выигрыш дела.
От возбуждения, овладевшего Гопкинсом, на его мертвенно–желтых щеках появилось подобие краски.
Откинувшись на подушку, Рузвельт некоторое время молча смотрел в лицо советнику, потом проговорил:
— А вы подумали о том, что такой "вариант" был бы шагом к примирению союзников с Гитлером?
— В этом я не уверен… Война на Западе — одно, а совместные действия против России — совсем другое.
— Отвратительный цинизм! Вы допускаете положение, когда, воюя друг против друга на линии Мажино, немцы и союзники могли бы сообща сражаться на линии Маннергейма?
— Совсем не так невероятно.
— И вы допускаете, что немецкие условия перемирия, врученные Тевистоку, не привели бы к тому, что мы окажемся вне игры?.. Лучше оставить этот вопрос, пока Уэллес не привезет нам точной картины того, что там творится.
— Вы решили послать именно его?
— Он достаточно непримирим в отношении англичан, если не считать его пристрастия к английским костюмам. А из всего, что может произойти в Европе, самым неприятным было бы, если бы англичане все‑таки нашли лазейку к сговору с немцами помимо нас.
— Прежде чем восемь тысяч самолетов вашей большой программы будут стоять в строю?..
— Восемь тысяч! — насмешливо сказал Рузвельт. — На–днях я заставлю конгресс принять программу в пятьдесят тысяч самолетов! Ни одним меньше! Кстати о самолетах: что вы узнали об отношении к моей программе?
— Ни армия, ни флот не выражают восторга. Только Джордж, кажется, по достоинству оценивает это мероприятие.
— Маршалл, как начальник генерального штаба, не имеет права не понимать: нужно иметь достаточно длинные руки, чтобы дотянуться до куска, из‑за которого идет драка. — Рузвельт заметно оживился, как только разговор перешел на тему создания "большой" военной авиации. — Если нам придется рано или поздно ввязаться в дело, самые закоснелые люди поймут, что бомбардировочная авиация дальнего действия — вот оружие того, кто хочет держать ключи от политики в любом конце света… Не слышали, что болтает по этому поводу Линдберг?
— Дурак!
— Не так глуп, как подл, — с необычайной для него резкостью проговорил Рузвельт. — Я не буду удивлен, если когда‑нибудь мне представят его досье как шпиона Гитлера.
— До этого, может быть, и не дойдет, но работу Линдберг ведет безусловно отвратительную. Он, правда, перестал пока болтать об устрашающей мощи гитлеровской армии и воздушного флота Геринга, однако по поводу наших возможностей в области авиации отзывается далеко не лестно.
— Публично?
— В частном кругу.
— Это имеет свое действие?
— Чаще — да. Но нашелся человек, на которого болтовня Линдберга подействовала обратно его желанию: вместо того чтобы испугаться, этот человек решил, что можно найти надежное противоядие от устрашающих секретов, которыми Гитлер собирается шантажировать мир и нас в том числе… Этот человек говорит, что можно подумать над средством, которого испугается сам сатана, а не то что Гитлер… Мне понравился этот парень.
— Кто такой?
— Доктор Ванневар Буш из Массачузетского технологического института.
— Вечно вы откопаете какого‑нибудь фантазера.
— Я осторожно расспросил кое–кого: идея Буша — далеко не фантазия.
— Что за идея?
— Использовать новейшие открытия атомной физики для военных надобностей.
— Атомная физика? — удивленно спросил Рузвельт. — Я в этом мало понимаю.
— Я еще меньше, но Буш говорит, что расщепление атомного ядра в военных целях, над чем уже работают ядерники в Германии, Англии и у нас в Штатах, сулит огромные возможности. Можно сделать бомбу, превосходящую по разрушительной силе все, что мы способны себе представить…
— Что‑то вроде атомной бомбы?
— В этом духе… Буш объяснит вам лучше меня.
— Хорошо, приведите его ко мне… Не откладывайте этого в долгий ящик, — живо проговорил Рузвельт. — Но упаси вас бог консультироваться еще с кем бы то ни было, пока я не повидаюсь с вашим Бушем. Поняли?
— Вы, Буш и я?
— Да.
Гопкинс соединился с нью–йоркской конторой Ванденгейма, но Джона там не оказалось. Его не было и дома на Пятой авеню и вообще в Нью–Йорке. Наконец он отыскался в Брайт–Айленде.
— Послезавтра — мы в Белом доме, — сказал Гопкинс. — Тащите вашего Буша. Он будет первым, кого мы примем.
В трубке послышалось такое сопение, что можно было подумать, будто Джон задыхается, не в силах вымолвить ни слова. После нескольких междометий он, наконец, прокричал:
— Гарри… О Гарри!.. Я воздвигну вам золотой мавзолей!
— Эта мерзость понадобится вам раньше моего, — сердито ответил Гопкинс.
— Гарри, дружище, — орал Джон, — десять процентов от этого дела — и вы станете самым богатым президентом в истории Штатов!
— Вы осел, Джон! — выходя из себя, крикнул Гопкинс. — Вы совершенный осел!
И Гопкинс так повесил трубку, что металлическое кольцо вместе с куском эбонита осталось на крючке.
5
Если не считать провала военной диверсии против Ленинграда, порученной финнам, дальнейший ход событий после разгрома Польши удовлетворял Гаусса. Страх перед немедленным столкновением с Россией сковал Гитлера. Для Гаусса это было хорошим признаком. Но теперь на Гитлера напал зуд наступления на запад: покончить с Францией до весны 1940 года! К счастью, генеральный штаб все же проявлял осторожность. Заместитель начальника генерального штаба фон Штюльпнагель представил фюреру записку о невозможности немедленного наступления на Францию. Варлимонт тоже старательно собирал доказательства тому, что положение германской промышленности и экономики позволяет только думать об обороне западной границы и диктует необходимость повременить с решительным натиском. Даже Браухич, всегда бывший крайним оптимистом, и тот противился теперь крупным наступательным операциям.
А Гитлер рвал и метал. После того как Геринг передал ему содержание разговора с Ванденгеймом, фюрер горел нетерпением наброситься на Францию. Его навязчивой идеей стало подписание капитуляции Франции в Компьене. Эта мания, далекая от каких бы то ни было политических идей и военных соображений, вызывала к жизни ряд директив и приказов, последовательно опротестовывавшихся генеральным штабом из‑за полной неосуществимости.
Наконец, собрав в имперскую канцелярию всех руководящих представителей командования вермахта, всех генералов, прошедших польскую кампанию, и всех сидевших без дела на берегах Рейна, Гитлер предъявил им ультиматум: шесть недель на подготовку. Генеральное наступление на Францию начинается с обхода линии Мажино через Бельгию и район Маастрихта.
Возражать Гитлеру значило рисковать карьерой, а иногда и жизнью. Такого желания ни у кого из генералов не было. Они предпочитали молчаливым саботажем доказать ему вздорность поставленных сроков, хотя по существу плана — нарушения нейтралитета Бельгии и Голландии — возражений ни у кого не было. Это был испытанный способ осуществления старого плана Шлиффена. Если бельгийский король предпочитал, как страус, прятать голову под крыло, чтобы не замечать смертельной опасности, нависшей над его страной, — его дело. Но этим следовало воспользоваться.
Очередное совещание, на котором выяснилось, что из полуторамесячной подготовки к сокрушению Франции ничего не получается, происходило, как всегда, в рейхсканцелярии. Гитлер был особенно мрачен в тот день. Он нетерпеливо прерывал докладывавшего Йодля, злобно обрывал генералов и непрерывно писал что‑то на клочках бумаги. К концу заседания эти обрывки целой стопкой лежали перед ним. Гаусс ждал, что с минуты на минуту, пользуясь своими записями, Гитлер приступит к разгрому генералов, боявшихся приступать к разгрому Франции. Но все произошло совсем иначе. В полном молчании Гитлер бесцеремонно оглядел одного за другим генералов, сгреб в горсть свои записки и, подойдя к камину, швырнул их в огонь. Несколько листков отлетели в сторону. Гитлер молча указал на них адъютанту. Тот поспешно подобрал их и тоже кинул в камин. Гитлер стоял и наблюдал, как пламя пожирает бумагу. В огромной комнате царила тишина. Затем Гитлер повернулся спиной к собравшимся и, ни на кого не поглядев, ни с кем не простившись, вышел. Его отступление в обычном порядке прикрывали адъютанты.
За столом продолжало царить недоуменное молчание. Никто не знал: окончено совещание или Гитлер вернется? Как решен вопрос и решен ли вообще?
Генералы сидели, не глядя друг на друга. Прошло еще несколько минут. Гаусс посмотрел на каменно–неподвижное лицо Кейтеля. На нем, как и полагается, ничего нельзя было прочесть. Такими же непроницаемыми масками были и лица остальных. Гаусс отлично понимал, что под напускной бесстрастностью клокочут чувства, отнюдь не сулящие Гитлеру безмятежной уверенности в любви и преданности этих людей. Гаусс радовался этим чувствам, но и его собственное лицо не выдавало другим ни этой радости, ни надежд, которые он возлагал на их оскорбленное самолюбие, на раздражение одних, обиды других и на общее презрение генералов к непозволительно третировавшему их выскочке.
Переждав еще некоторое время, Гаусс, ни на кого не глядя, поднялся из‑за стола и неторопливо пошел к выходу. Уже когда он приближался к двери, за его спиной послышался шум отодвигаемых стульев. Но он заставил себя и тут не обернуться. Достаточно было того, что этот шум означал маленькую победу над презренным ефрейтором.
Из‑за системы работы, принятой в окружении Гитлера, с одной стороны, и вследствие взаимной настороженности, разделявшей генералов, — с другой, Гаусс не имел представления о последствиях, какие имела эта революция в стакане воды для его коллег. Сам он в следующую же ночь получил приглашение к Гитлеру. Встреча произошла с глазу на глаз.
— Вы назначаетесь командующим армейской группой "А", — без всяких предисловий, едва ответив кивком на приветствие генерала, проговорил Гитлер. — Предлагаю вам и вашему начальнику штаба…
Он сделал театральную паузу, намереваясь, повидимому, озадачить Гаусса каким‑то неожиданным именем. Но когда Гитлер выкрикнул имя генерала Манштейна, старик принял это так, словно дело шло о чем‑то вовсе его не интересующем. Хотя фон Манштейн вовсе не был тем генералом, которому Гаусс хотел бы доверить руководство своим штабом, однако спорить не стоило. Гаусс сделал вид, будто начальник штаба — лучший подарок. Манштейн был одним из быстро выдвигавшихся любимчиков фюрера.
А Гитлер с такою поспешностью, словно не хотел оставить Гауссу возможности вставить хотя бы слово, продолжал:
— Я отказываюсь от решения немедленно начать широкое наступление против Франции. — И тут же оговорился: — Пусть не думают, что меня убедили доводы узколобых специалистов из генерального штаба. Ничуть не бывало! Просто–напросто сегодня ночью мне пришло в голову новое решение, требующее времени для разработки деталей. С обходом через Бельгию я сочетаю фронтальный прорыв линии Мажино…
При этих словах Гаусс ясно представил себе хорошо знакомую картину Вердена. Гитлер с удовлетворением уловил едва приметное движение седой брови генерала и с особенным ожесточением выкрикнул:
— Довольно бабьей болтовни! Дивизией больше или меньше десятью дивизиями — разве в этом дело, когда речь идет о моих планах?! Смотрите!..
Он порывисто вскочил и подбежал к огромному столу, где под ослепительной, низко опущенной лампой зеленело поле карты.
— Вот чего они от меня хотели. — Палец Гитлера очертил широкую дугу над Бельгией и Голландией. — Охвата флангов по Шлиффену, и только! Дальше этого их фантазия не идет. А учли они, что все в быстроте? — В голосе Гитлера прорвался страх. — А что, если мы застрянем? Тогда мы между молотом и наковальней. Быстрота — вот спасение! Иначе один чорт знает, что произойдет во Франции и Англии, смогут ли там устоять нынешние правительства, не зашевелятся ли марксисты? Нет, нет, главное — быстрота.
Оглядев генерала, Гитлер с неприязнью проворчал:
— Я знаю, вы любите медлить. В мыслях, в действиях. — И внезапно переходя на крик: — Но я помогу вам понять, что такое быстрота. Вчера ночью я уже продумал средство, дающее возможность преодолеть сопротивление нашего главного врага — времени… — И как будто желая побороть атмосферу неловкости, он стал выкрикивать слова все быстрее: — Вы фетишисты: нельзя того, нельзя другого! А я говорю: "Можно все". Я уже открыл формулу опережения времени. Она доступна каждому школьнику. Завтра я продиктую ее вам, и вы станете господином будущего… Вода и воздух… Ах да, еще огонь!.. Все пустяки для девичьих загадок! Я не хочу уткнуться носом в преграды в виде рек и каналов на голландской равнине. Не хочу! Что там будут делать мои танки?
— Значение каналов как преграды сильно преувеличено голландцами, — сердито заметил Гаусс. — Толстухе Вильгельмине больше нечем защищаться, как только уверениями, будто она способна затопить всю свою страну… вероятно, слезами.
— Если это и не так, я все же считаю, что мы не должны лезть туда, где противник нас ждет. Решающий удар будет ему нанесен в месте наиболее неожиданном. Вот здесь!
Широкий ноготь Гитлера уперся в то место линии Мажино, где за нею простиралась зелено–коричневая полоса лесистых Арденн.
— Но едва ли тут существуют лучшие условия для использования танков, чем на севере, — сказал Гаусс. — Покрытые лесами холмы…
Гитлер не стал слушать.
— Внезапность удара там, где французы его ожидают меньше, чем в любом другом месте, компенсирует это неудобство. — И, помолчав, упрямо повторил: — Решающий удар будет нанесен тут. От него будет зависеть свобода действий Бока. Прорвав линию Мажино, вы стремительно движетесь к морю… Противник в клещах. Он капитулирует или уничтожается. Никаких других решений… Сегодня Манштейн прибудет в ваше распоряжение. Завтра я жду вас обоих…
В тот же вечер, встретившись с Манштейном, Гаусс понял, что не слышал от Гитлера ни одной его собственной мысли. Старику стало ясно, что ловкий генерал "из молодых", Манштейн, сумел через голову Браухича и Гальдера подсунуть Гитлеру свой авантюристический план. Манштейн не мог бы этого сделать без согласия Кейтеля и Йодля. Значит, ближайшие советники Гитлера были на стороне Манштейна. В таких условиях спорить с ним и с его планом было бесполезно. Сопротивлением Браухича и Гальдера, отстаивавших шлиффеновскую схему как основную, можно было пренебречь; к тому же здесь, на западном фронте, Гауссу не грозила встреча с Россией — это раз. Скорейшая ликвидация французской армии обеспечивала спокойный тыл Германии ко времени столкновения с Россией, неизбежность которого становилась все яснее, — это два. Все говорило за то, что Гаусс должен не только принять новое назначение, но и постараться как можно лучше и скорее выполнить предложенный ему план Манштейна, хотя бы он и был трижды авантюристичен. Три авантюры ефрейтору уже удались: Австрия, Чехия, Польша. Почему бы не удаться и четвертой?
Впрочем, скоро Гаусс понял, что ошибся в счете: ту новую военную авантюру на западе, в которой он сам должен был принять участие, следовало считать уже не четвертой, а пятой. Четвертая же прошла на глазах удивленной Европы раньше. 9 апреля мир узнал об оккупации нацистскими войсками Дании и Норвегии. Правда, еще с месяц горстка англо–французов держалась у Нарвика, но в конце концов и ее сбросили в море. Командование союзников проявляло значительно меньше рвения в этой жизненно важной для них операции, чем каких‑нибудь два месяца тому назад, когда речь шла о переброске в Скандинавию и Финляндию экспедиционных войск для борьбы с СССР на стороне Маннергейма.
Со Скандинавскими странами как с потенциальной базой для союзников было покончено.
Окончательная разработка плана Манштейна быстро продвигалась вперед. Генеральный штаб принимал теперь участие в работе оперативного отдела штаба Гаусса.
Ко времени прибытия Гаусса к своей армейской группе, то–есть к маю 1940 года, немецко–фашистские силы на западе были уже доведены до 116 пехотных и 10 танковых дивизий. Они располагались следующим образом:
Армейская группа "Б" силою 28 дивизий занимала фронт от Северного моря до Аахена. Ее целью был захват Голландии и Бельгии и вторжение во Францию на правом фланге всех сил.
Армейская группа "А" в составе 44 дивизий — на фронте от Аахена до Мозеля.
И, наконец, на левом фланге:
Армейская группа "Ц" в 17 дивизий, вдоль Рейна, от Мозеля до швейцарской границы.
Сверх этого в распоряжении Гитлера оставалось еще около 70 дивизий. Сорок из них числились в резерве главного командования. Остальные тридцать он не решался тронуть со своей восточной границы.
Со стороны союзников немецко–фашистским силам противостояли:
51 дивизия армейской группы генерала Бийота — на севере. Крайний левый фланг Бийота держали 9 английских дивизий между окончанием линии Мажино у Лонгви до бельгийской границы и позади этой границы до моря у Дюнкерка. Потенциальной поддержкой этой группировки должны были служить еще 32 голландско–бельгийские дивизии, в случае если бы немцы решили нарушить нейтралитет этих стран.
Южнее с Бийотом смыкалась группа Претала, и далее к Швейцарии тянулась группа Бессона общей численностью в 43 дивизии.
В укреплениях линии Мажино сидели еще с десяток первоочередных дивизий, изнервничавшихся и наполовину разложившихся от бездействия за восемь месяцев "странной войны".
Гауссу оставалось едва достаточно времени, чтобы разобраться в обстановке на месте и познакомиться со своими командующими. В ночь с 9 на 10 мая по приказу Гитлера немецкие войска пришли в движение одновременно по всему фронту групп "А" и "Б". Пехота, поддержанная танками и пикирующими бомбардировщиками, двинулась вперед. Голландские планы удержать нападающих затоплением страны оказались чистой фантастикой. Входившие в группу Бийота англо–французские войска, которые должны были при первых признаках наступления предупредить врага и, войдя в Бельгию, занять линию Маас — Лувен — Антверпен, опоздали.
То, на что вся логика и весь ход исторических событий указывали как на неизбежность, — гитлеровское вторжение через незащищенные маленькие страны Бельгию и Голландию — состоялось. Предательская политика французских генералов во главе с Петэном сыграла свою роковую роль.
То, что на протяжении двух десятилетий настойчиво вбивалось в головы всем французам, военным и штатским, — неприступность линии Мажино — оказалось трагическим блефом. Нацистские войска без особого труда просочились сквозь нее. Их оперативной целью был исторический Седан.
4 часа 30 минут 10 мая. Первые выстрелы пушек, первые танки, первые трупы.
Первые тревожные телеграммы с фронта не застали дома ни премьера Франции Рейно, ни министра обороны Даладье. Но бывалые курьеры кабинета министров знали, где им искать своих шефов. Пахнущие порохом и кровью листки шифровок не спеша понеслись к Елисейским полям. Несмотря на то, что вражда и соперничество двух членов кабинета зашли так далеко, что не разговаривали друг с другом не только они сами, но даже их подруги, курьеры искали министров в одном и том же месте — на Елисейских полях, в самом шикарном квартале Парижа. "Мики Маус" французского парламента, юркий, стремительный, элегантный даже в пижаме, Рейно принял драматическую телеграмму в постели своей многолетней любовницы — политической интриганки, немецкой разведчицы и фашистки графини де Порт. Вторая телеграмма, адресованная министру обороны Эдуарду Даладье, была доставлена прямо в особняк комиссионерши крупнейших капиталистических объединений Франции, итальянской шпионки и фашистки маркизы де Крюссель д'Юзе.
Острый запах пороха и крови, исходивший от каждого слова роковых телеграмм, смешался с запахом белья куртизанок.
В разных концах мира по–разному реагировали на известия о конце "странной войны", о вторжении Гитлера в нейтральные Бельгию и Голландию.
В Белом доме президент Рузвельт немедленно пригласил к себе министра финансов Моргентау и отдал приказ о секвестре всех бельгийских и голландских капиталов в Соединенных Штатах.
В Вестминстере происходили горячие дебаты о продолжительности весенних каникул палаты.
Гитлер, пританцовывая от возбуждения, тыкал корявым пальцем в клетку канарейки.
— Сисси!.. О Сисси, ты понимаешь?..
Святейший отец, подыскивая в потрепанном евангелии убедительные тексты, продиктовал кардиналу Мальоне одно за другим два послания. Одно содержало благословение католикам Франции и Бельгии, подвергшимся нападению Гитлера. Другое благословляло католиков Германии, напавших на Францию по согласованному с папой приказу того же Гитлера.
В Варшаве "генерал–губернатор Польши" Франк утвердил смертный приговор семнадцати польским патриотам, задержанным при попытке пробраться во Францию, чтобы хоть там защищать свою отчизну.
В Праге Гейдрих принял доклад о приведении в исполнение приговора над студенткой Марией Жемличковой, возложившей Первого мая красные цветы на могилу неизвестного чешского солдата.
В тюрьме Бургоса по приказу Франко были задушены сорок два коммуниста — участника войны за республику.
В такой обстановке начался марш Гаусса к морю. С каждым днем старик приходил все в большее удивление от того, с какою легкостью проходила еще одна авантюра ефрейтора. Но на этот раз сам генерал был душою одного из звеньев этой авантюры. 20 мая он увидел в бинокль темную полоску моря. К морю были прижаты отрезанные от взаимодействия с соседними войсками все десять английских и несколько французских дивизий.
Темные силуэты развалин, поднимавшихся над светлой полосою прибрежного песка, прежде назывались Дюнкерком.
Когда Гаусс опустил бинокль, те, кто хорошо его знали, были удивлены: на сухом лице генерала появилось подобие улыбки. Это было так неожиданно и столь непривычно для окружающих, что все притихли.
— Теперь мы покажем англичанам, что значит соваться в войну, — сказал Гаусс Манштейну. — Прикажите Прусту подтянуть к побережью тяжелую артиллерию. Пусть даст им как следует, пока подоспеют танки, чтобы стереть господ бриттов с лица земли. — И когда Манштейн повернулся было, чтобы итти выполнять приказание, Гаусс бросил ему вслед: — Оставьте в живых ровно столько, сколько нужно, чтобы рассказать в Англии, как это выглядит.
6
Если бы не протекция Бена, Неду ни за что не удалось бы устроиться в истребительную авиацию. Особенно после того, как медицинская комиссия обнаружила следы ранения, полученного им в Испании. Но, так или иначе, пройдя ускоренный курс переподготовки, он сидел в "Харрикейне". Эта устаревшая машина вовсе не казалась ему шедевром, но Нед смело отправлялся на ней в неравный бой с нацистскими "Мессершмиттами". А бой был, как правило, неравным, потому что, изгнанные с материка бомбардировочной авиацией фашистов, английские авиачасти вынуждены были базироваться на островные аэродромы. К французскому побережью они прилетали уже с израсходованным горючим, тогда как немцы, взлетавшие с любого аэродрома Бельгии и Голландии, являлись в бой свеженькими, с баками, полными бензина. Ни один французский самолет им уже не мешал.
Будучи рядовым летчиком, задачей которого был непосредственный бой с летчиками Гитлера, Нед не имел вполне ясного представления об общем положении на фронтах войны. Поскольку это представление формировалось под влиянием лживых сводок французского и британского генеральных штабов, оно было далеко от истины. Но, летая над береговой полосой в районе Остенде и Дюнкерка, Нед видел, что пространство, занимаемое английскими дивизиями Горта и примкнувшими к ним немногочисленными войсками французов, с каждым днем сокращается. Он видел, что черные немецкие разрывы пятнают светложелтый песок все ближе и ближе к воде. К двадцатым числам мая эти разрывы уже густо стлались за спиною английских войск.
Перед вылетом 24 мая Нед спросил своего товарища по звену:
— Ты видел расположение правого фланга Горта вчера?
— Видел.
— Ты согласишься со мною, что Горту ничего не стоило бы прорвать перемычку и прийти на помощь французам, которых гунны через день–два опрокинут в море или истребят?
— На месте Горта я поступил бы именно так, — ответил летчик. — Особенно после того, как выгрузилась наша механизированная дивизия.
— Так почему же он все отходит и отходит, словно хочет попасть в такое же положение припертого к морю, в какое уже попали французы?
— Об этом спроси Горта.
— А ты как думаешь?
Летчик пожал плечами.
— Мне кажется, единственная причина его пассивности — нежелание драться.
— Но ведь от этого зависит судьба северного крыла французов, а следовательно, судьба всей их армии, значит — судьба войны! — возбужденно воскликнул Нед.
— Ты чертовски логичен, мой мальчик, — иронически ответил летчик. — Но боюсь, что наша логика не подходит Горту. Нужно прежде всего знать, в какой мере его заботит судьба северного крыла французов, а следовательно, судьба всей их армии, значит — судьба этой войны.
— Ты говоришь ужасные вещи!
— Я раньше тебя пришел в армию и уже научился понимать генералов. А ты пока еще воображаешь, что они думают так же, как мы, маленькие люди.
— Но ведь и они прежде всего англичане!
— Совсем не такие, как мы с тобой.
— Я тебя не понимаю.
— Как бывший член палаты, ты должен был бы разбираться в этом лучше моего… К тому же, говорят, у тебя за плечами кое–какой испанский опыт.
— Он противоречит тому, что я вижу теперь.
— А мне кажется, наоборот: он дьявольски созвучен происходящему. По крайней мере, так думают наши ребята. — Летчик опасливо огляделся. — Один парень, у которого есть знакомства наверху, говорил мне: если бы наши могли теперь вытащить ноги из истории, в которую попали из‑за Польши, они охотно вернулись бы к системе невмешательства.
Команда "по самолетам" помешала Неду ответить. Он успел только крикнуть собеседнику:
— По возвращении договорим!
Однако разговору не суждено было продолжение. Не состоялось и возвращение Неда на его аэродром. В этот день с ним произошло то, что он уже не раз наблюдал со стороны и что всегда приводило его в бешенство против людей, повинных в наличии на вооружении королевских воздушных сил такого старья, как "Харрикейны". Обстрелянный Недом "Мессершмитт", развязно качнув плоскостями, словно отряхиваясь от безвредного душа английских пулеметов, легко ушел из‑под огня. Пока "Харрикейн", вибрируя на крутом вираже крыльями, с натугою дотягивал половину круга, немец описал полный вираж и вышел Неду в хвост. Короткую очередь его пушки Нед ощутил всем телом по хлестким ударам где‑то под брюхом машины. Но пока из‑под правого крыла не выплеснуло пламя и черный шлейф дыма не обвился вокруг фюзеляжа, закрывая от летчика белый свет, Нед не хотел верить тому, что это и есть конец. Хотя опыт и должен был подсказать ему, что все выглядит совершенно так, как должна выглядеть катастрофа.
Нед ощупал карабины парашюта и освободил защелку колпака. Дым сразу ворвался в фонарь. Нед плотно сжал губы, чтобы не глотнуть жаркого смрада.
В следующее мгновение воздух свистел у него в ушах, и Нед громко отсчитывал секунды.
Да, все было чертовски правильно. Так, как и должно было быть. Вплоть до того момента, как Нед почувствовал, что парашют раскрылся и началось плавное падение. С этой спасительной секунды начались и сомнения. Нед впервые воспринял море не так, как подобало англичанину, — не в качестве верного и вечного друга. Несмотря на совершенно ясный и тихий день, несмотря на то, что прибой разбегался по пляжу едва заметной кромкой седины, падение в море не сулило ничего хорошего — вокруг не было заметно ни одного спасательного катера. Косые трубы одинокого эсминца быстро исчезли на севере.
Нед был один в огромном неподвижном мире. Невесть куда девались даже окружавшие его недавно самолеты гуннов и свои собственные "Харрикейны". Оглядывая небо, Нед не видел и их. Кажется, впервые в жизни он с такой полнотой ощутил одиночество. Когда несколько темных пятен, которые он принял за большие камни, разбросанные на песке прибрежья, зашевелились, поднялись и побежали, оказавшись людьми, Нед воспринял это как настоящее чудо.
Минутой позже вся острота его чувств была направлена на то, чтобы угадать, завершится ли чудо его спуском не в воду, а на спасительный золотой песок пляжа. И когда парашют потащил его по берегу, он с невольно вырвавшимся криком вцепился в землю, словно боялся, что направление ветра изменится и, поманив его миражем спасения, утащит обратно в безнадежное море.
Сколько раз Нед слышал песни, читал стихи и романы, где говорилось, что воздух для летчика — как море для моряка, как земля для всякого другого человека. И сколько раз Нед убеждался в том, что и моряку и летчику земля так же мила, как любому человеку, рожденному не летать и не плавать, а просто ходить. Сколько раз Нед видел: благополучно вернувшись с боевого задания, летчик любовно касается пальцами земли, как величайшей святыни, означающей жизнь.
Сам он впервые с такой остротой понял всеобъемлющее значение слова "земля". Даже жесткая, беспощадно сдирающая одежду, как огнем, обжигающая тело, забивающая песком глаза, уши, рот, — это все же была она, земля.
Однако избавление от неизбежной гибели только в первые мгновения озадачивает солдата. Он очень скоро забывает о том, что казалось ему почти чудом.
Через минуту Нед, чертыхаясь, пальцами вычищал песок изо рта. Попробовал было зачерпнуть в пригоршню воды, но она, как кипятком, обожгла израненные руки. Он не спеша стащил с себя остатки изодранной в клочья одежды и вытряхнул набившийся всюду мелкий морской песок.
Натягивая обратно лохмотья, Нед заметил вынырнувшие из‑за гребня песчаного холма фигуры людей. Очевидно, эти люди его тоже заметили. Они приникли к земле, почти распластались по ней и стали приближаться ползком. Нед насчитал пятерых. Они приближались полукругом, отжимая его к воде.
Он уже различал их лица, но определить национальность не мог: одежда их была изорвана почти так же, как его собственная, и еще больше залеплена землей.
Нед сделал попытку окликнуть их. Но вместо ответа на него молча уставилось несколько винтовочных дул.
Его первым движением было повернуться и побежать. Но он вспомнил, что за спиною море.
В мозгу с поразительной отчетливостью и быстротой пронеслась картина серых гор Испании, освещенных закатом, яркая лента серпантина дороги, скала и бородатые лица итальянских солдат.
Стиснув зубы, Нед медленно поднял руки.
После каждого разрыва, осыпавшего его песком, Лоран вскакивал и отряхивался. При этом он так весело смеялся, словно это не были разрывы тяжелых фашистских снарядов. Даррак с удовольствием, смешанным с удивлением, поглядывал на товарища: то был уже не прежний Лоран, которого мог учить уму–разуму каждый сообразительный новичок, — он сам поучал теперь не только новичков. Опыт войны в Испании оказывался здесь совсем не бесполезным. Правда, в Испании интернационалистам ни разу не пришлось драться у моря, но это было уж не бог весть какой хитростью — приспособиться к укрытию в песчаном грунте. Каменистые склоны Гвадаррамы — это было потрудней! Каждый фашистский снаряд приносил там двойной ущерб: вскинутые от взрывов камни свистели ничуть не хуже осколков. И ранили они бойцов тоже достаточно основательно. А тут…
— Всю бы жизнь воевал на такой земле! — весело сказал Лоран, отряхиваясь от песка. — Нужно попадание в глаз, чтобы снаряд причинил тебе вред.
— Да, авиационные бомбы хуже, — согласился Даррак, выдувая песок из затвора винтовки.
— Один чорт, — беспечно отозвался кто‑то из бойцов. — Только песка летит на тебя вдвое больше, вот и все.
Артиллерийские снаряды и бомбы, обильно рассыпаемые немецко–фашистскими самолетами по всему побережью, действительно причиняли войскам урон значительно меньший, чем могли бы причинить в другой местности. В течение нескольких дней, что они здесь находились, солдаты 145–го стрелкового полка привыкли к обстрелу. Они больше досадовали на то, что вскидываемый разрывами песок портит им пищу, и без того более чем скудную, чем на опасность для их жизни. Дело с пищей обстояло из рук вон плохо. Скоро неделя, как немецкие мотомехвойска, как в масло, вошли в гущу армии генерала Бийота и отсекли от его главных сил четыре дивизии, занимавшие левый фланг, смыкавшийся с расположением английского экспедиционного корпуса. Три дня эти четыре дивизии тщетно пытались прорвать немецкую перемычку, чтобы соединиться со своими. В ожесточенных боях они потеряли больше половины личного состава, но все же плодом этих усилий было то, что немцы топтались на месте, не будучи в состоянии расширить свой клин.
От 145–го полка французов почти ничего не осталось. Командование полком принял на себя командир шестой роты капитан Гарро. За две недели похода он утратил всю элегантность и стал как две капли воды похож на своих солдат: исхудалый, обросший бородой, с голыми коленями, торчавшими из дыр брюк, изодранных в перебежках.
Гарро скептически оглядел нескольких солдат — все, что осталось от его роты. Оборванцы, настоящие оборванцы! Даже неловко, если французская армия будет представлена у англичан в таком виде. Но зато это лучшие люди попка. С опытом гражданской войны в Испании. На таких можно положиться. Уж если он поручит им добраться до англичан, эти доберутся. И, как это ни противно было бы узнать господам генералам, лучшими из этих лучших являются вон те двое — Даррак и Лоран. Гарро задним числом благодарен покойному полковнику за то, что тот послал ко всем чертям полевого жандарма, уже во время боев явившегося в полк с ордером на арест солдат–коммунистов. Гарро отлично помнил эту сцену.
— Я не хочу знать, коммунисты они или нет! — кричал побагровевший полковник. — Для меня они французы, явившиеся по призыву Франции защищать ее безопасность и честь. Они мои солдаты, — полковник крепко ударил себя в грудь, — мои! На груди одного из них, капрала Даррака, военная медаль. А вы хотите приравнять их к каким‑то мазурикам. Не выйдет!
Жандарм угрожающе взмахнул каким‑то листком.
— Министр внутренних дел республики мосье Сероль не позволит вам испортить эту блестящую сводку! Так или иначе мы достанем этих ваших коммунистов, будь они даже увешаны военными медалями с головы до пят! Министром внутренних дел республики мосье Серолем издан декрет о введении смертной казни для всякого, кого мы заподозрим в коммунистической пропаганде. — И многозначительно заключил: — Вам, должно быть, не известно, мой полковник, что понятие пропаганды довольно условно…
Тут голос полковника стал вдруг необычайно спокойным.
— Мне все известно, милейший, — проговорил он. — И прежде всего я знаю, что в вашем распоряжении ровно десять минут, чтобы выйти за пределы арьергардных патрулей моего полка. Если это вам не удастся, я повешу вас как агента врага, пролезшего в мой тыл с целью убийства воинов Франции.
Повидимому, жандарм отправился восвояси бегом, так как Гарро не видел его болтающимся на осине. В том, что полковник исполнил бы свою угрозу, у капитана не было ни малейших сомнений.
Когда посланец министерства внутренних дел исчез, полковник поднял оброненный им листок — тот самый, которым размахивал жандарм. Просмотрел его и с миной отвращения передал Гарро. Капитан прочел:
"Сводка министерства внутренних дел:
Мандаты коммунистических депутатов аннулированы. 300 коммунистических муниципалитетов распущены. В общей сложности 2778 коммунистических избранников лишены своих полномочий. Закрыты две ежедневные газеты: "Юманите", выходившая тиражом в 500 тысяч экземпляров, и "Се суар" с тиражом в 250 тысяч экземпляров, а также 159 других изданий коммунистической партии. Распущено 620 профсоюзов, контролировавшихся коммунистами или людьми, подозреваемыми в проведении коммунистических взглядов. Произведено 11 тысяч обысков. Отдано распоряжение о ликвидации 675 политических организаций коммунистического направления. Повсеместно организованы облавы на активистов компартии. Арестовано 3400 активистов. Большое число членов компартии и подозреваемых в пособничестве им и сочувствии им интернировано в концентрационных лагерях. Вынесено 8 тысяч судебных приговоров деятелям коммунистической партии…"
— Это во Франции… В нашей Франции!.. Не могу читать! — с возмущением воскликнул Гарро.
Полковник молча взял у него листок и швырнул в огонь…
Полковника уже не было в живых. Не было в живых и ни одного из командиров его батальонов, ни одного из командиров первых пяти рот, поочередно заступавших место командира полка. Так дошел вчера черед до Гарро.
Капитан сказал "взводу" из четырех солдат под командой капрала Даррака:
— Если мы и сегодня не войдем в соприкосновение с англичанами, фрицы перемелют нас, как кофейные зерна в мельнице.
— А вы уверены, что господа англичане хотят "соприкосновения", мой капитан? — спросил Даррак офицера с простотой, рождаемой долгим совместным пребыванием в тяжелой боевой обстановке.
— Наши союзники не могут не понимать, что к моменту, когда они начнут наступление на юг, им нужно находиться в тесном контакте с нами.
— А у вас, мой капитан, еще сохранилась надежда на то, что они предпримут такое наступление?
— От этого зависит судьба всего северного крыла наших армий.
Даррак громко вздохнул:
— Наши армии!.. Хотел бы я верить в то, что их судьба заботит англичан.
— Вы говорите о наших союзниках, капрал! — строго сказал Гарро.
— Сейчас нас никто не слышит, мой капитан. Позволю себе сказать: какие это, к дьяволу, союзники! Они же видят, что еще несколько дней — и положение станет непоправимым. Настолько непоправимым, что может стоить жизни Франции. Если англичане теперь же не используют отсутствия у немцев танков на этом участке и не ударят на юг…
— Вы слишком много понимаете для простого капрала, — перебил его Гарро. — Слишком много. И… чересчур волнуетесь, а волнение затемняет мысли.
— А вы можете не волноваться, когда речь идет о судьбе Франции, мой капитан?
Гарро молча пристально посмотрел на Даррака.
— Кажется, вы правы… От того, узнают ли англичане, что сейчас и только сейчас они должны направить удар на юг, зависит судьба нашей Франции… Они должны это понять. Если этого не могут сделать наши министры по телеграфу между Парижем и Лондоном, то сделаем мы с вами. Тут мы будем говорить с английскими солдатами, такими же, как мы с вами. Они не могут не понять нас, Даррак! Одним словом… — Капитан Гарро обернулся к яме, вырытой в песке и накрытой двумя рваными шинелями: — Лейтенант Жиро!.. Примите команду. Я ухожу на час или два.
Выползший из ямы лейтенант, такой же оборвыш, как все вокруг, удивленно уставился на Гарро.
— Мой капитан…
— Необходимо установить крепкую связь с ближайшей английской частью, — строго сказал Гарро. — Это важное, очень важное дело, Жиро. Я должен его сделать сам. — И снова обращаясь к Дарраку: — С вашими людьми мы это сделаем, капрал!.. Пошли.
Гарро, Даррак, Лоран и еще двое солдат и были теми людьми, которых часом позже увидел Нед. А еще через час все шестеро добрались до штаба английской бригады. Гарро узнал о том, что только вчера на берег выгрузилась механизированная дивизия англичан. Офицеры бригады с часу на час ждали приказа о наступлении на юг. Слабость немецкой клешни, которой Гаусс пытался расчленить силы, угрожающие правому флангу фашистов, была известна англичанам.
— Приказ о наступлении, на мой взгляд, — дело часов, — с уверенностью проговорил англичанин, командир бригады. — А о том, что гунны в этом месте и в данное время слабы, знает и наше высшее командование. Лорд Горт — решительный человек. Если он предпримет наступление, можно сказать с уверенностью: гуннам придется плохо. Клешня, которую они засунули между нами и вами, будет отрублена. Это может стать поворотным пунктом в ходе всей кампании.
— Вы совершенно правы, сэр, — сказал Гарро. — Я могу сказать своим солдатам, что наше дело в дружеских и надежных руках.
— Хорошо сделаете, — уверенно проговорил англичанин, — если сумеете передать эти ободряющие слова и остальным полкам французских дивизий, попавших в то же положение, что и мы.
Когда Гарро вышел из развалин домика, где помещался штаб бригады, глазам его представилось странное зрелище: загорелый здоровяк в форме английского сапера, полуобняв Даррака и Лорана, хлопал их по спинам так, что от их изодранных мундиров поднималась пыль. В свою очередь, эти двое молотили по спине сапера. Столпившиеся вокруг них солдаты хохотали во все горло. Французы даже приплясывали от удовольствия.
— Понимаете, мой капитан, — в восторге крикнул один из солдат, пришедших с Гарро, — этот английский парень оказался товарищем Даррака и Лорана: он тоже побывал в Испании.
Гарро подошел к саперу и протянул руку.
Увидев офицерские погоны, англичанин вытянулся.
— Капрал Нокс, сэр!
— Счастлив пожать вашу руку, капрал.
Нокс проводил французов до последнего английского поста. Расставаясь, Лоран сказал ему:
— Надеюсь, ребята, вы поторопите вашего Горта? Дело не терпит. Если еще есть время дать фашистам под зад, то скоро его не будет. Втолкуйте это вашему старику.
Нокс, быстро оглядевшись, шепнул на ухо Лорану:
— Скажи своим, чтобы они не слишком полагались на нас, товарищ. У нас ходят плохие слухи… Наши генералы ничем не отличаются от ваших. Понял?
Лоран молча кивнул головой и поспешил вдогонку за удалявшимися товарищами. Нокс долго смотрел им вслед. На обратном пути он сердито проворчал, ни к кому не обращаясь:
— Неужели никто не может втолковать им там, в Лондоне, что речь идет о крови нескольких миллионов людей, живых людей?..
— Что вы сказали, капрал? — спросил один из сопровождавших его саперов.
— Я сказал, что охотно дал бы отрубить себе руку ради того, чтобы иметь право прийти на помощь этим ребятам.
— Бедные парни, — покачав головою, пробормотал солдат. — Небось, у каждого из них…
— Помолчи в строю! — сердито оборвал его Нокс, заметив приближающегося офицера. — Словно без тебя неизвестно, что они такие же парни, как мы с тобой, и что у каждого из них есть мать и жена, как у нас с тобой.
— И что каждый из них так же, как мы с тобой, не понимает, ради чего он должен подохнуть в этом песке, — пробормотал солдат.
Нокс сделал вид, будто не слышал, и с напускным гневом прикрикнул.
— Помалкивать в строю!
А сам с удовлетворением отметил: работа начинает давать плоды. И, кажется, совсем не плохие!..
Но в этот момент в воздухе послышался характерный прерывистый вой моторов. Нокс тотчас опознал новые пикирующие бомбардировщики гуннов. Их было много. Трудно было предположить, чтобы такое количество самолетов стало охотиться за его крошечным патрулем. Неподалеку от бросившихся ничком англичан взметнулся черный султан разрыва, ослабленного действием глубокого песка.
Немцы пикировали один за другим. Нокс удивлялся все больше: столько бомб ради десятка солдат?! Но скоро он перестал удивляться: пикировщики подходили отряд за отрядом. Они бомбили патруль, полк, бригаду, все соединение, все побережье, крошечной живой частицей которого был он, капрал Нокс.
Он хорошо знал: при такой плотности бомбежки даже песок не спасет от тяжелых потерь. Налет будет стоить много английской крови. Много больше, чем стоил бы хороший рывок к югу, на разгром "клешни" Гаусса…
7
Лондон был затемнен. Автомобиль с притушенными фарами, выехав со стороны Стрэнда, нырнул под арку и остановился за углом адмиралтейства. Шеф вылез и пошел вдоль здания. Окна огромного фасада смотрели черными прямоугольниками в серую муть майской лондонской ночи. Никто не сказал бы, что за этими слепыми глазницами британского адмиралтейства, в комнатах первого этажа, оборудованных под штаб–квартиру недавнего морского министра, а ныне уже премьера Англии Уинстона Черчилля, бьется жизнь.
В то время когда шеф по–стариковски неторопливо огибал фасад, в одной из комнат премьера, погруженной в полумрак, заканчивался негромкий разговор трех мужчин. Одним из них был сам Черчилль, другим — мало известный вне ученых кругов физик, профессор Линдеман, третьим — тоже ученый, специалист по атомному ядру, профессор Блэкборн.
Всякий, кто неожиданно вошел бы в комнату и уловил тон разговора, должен был подумать, будто речь идет о самых обыденных, простых предметах. Так спокойно, не торопясь говорили все трое. Только горки пепла в двух пепельницах да плававшие под потолком клубы сизого дыма от огромной черчиллевской сигары могли навести на мысль, что эта простая с виду беседа потребовала значительного напряжения по крайней мере от двух из троих присутствующих. Пепла не было только перед Блэкборном.
Речь шла о совершенно новой проблеме, поставленной перед британскими учеными премьером от имени правительства. Черчилль не открыл физикам, что мысль о самой этой проблеме не принадлежит ему, а принесена английской секретной службой из‑за океана. По данным разведки, одно из крупнейших американских военно–промышленных объединений начало исследования в области расщепления атомного ядра, имея в виду применение энергии этого процесса с целью разрушения. У Америки еще не было никаких врагов, она ни с кем не воевала. Повидимому, президент Рузвельт проявлял тут дальновидность, корни которой уходили в одному ему известные планы. Но если Рузвельт по секрету ото всех занимался такими проблемами в предвидении возможной схватки, то Черчилль считал тем более необходимым, также в секрете, заняться ими, поскольку Англия была вынуждена драться с вызванным ею самой из ада чудовищем гитлеризма. Премьер спросил Линдемана и Блэкборна:
— Если Гитлер начнет шантажировать нас угрозой применения нового, невиданного доселе оружия, стоит нам принимать это всерьез? Считаете ли вы, что при современном состоянии физики можно угрожать нам бомбами, действие которых основано на расщеплении атомного ядра? Действительно ли так велика сила подобного процесса, что взрыв обычной бомбы или снаряда в сравнении с ним является чем‑то вроде елочной хлопушки? Верно ли, что для изготовления подобных атомных бомб требуется огромное количество урановой руды, из которой должна быть извлечена лишь микроскопически ничтожная доля, полезная для данной цели? Располагает ли Германия необходимыми запасами уранового сырья? Как велики должны быть затраты на организацию производства подобных бомб? Имеются ли в пределах нашей империи запасы урановой руды? Располагаем ли мы людьми и средствами для ведения подобных работ у себя?
Карандаш Линдемана быстро бегал по блокноту. Блэкборн снял с пальца золотой обруч кольца, надел его на карандаш и принялся вращать размеренными ударами пальца.
— Слишком много вопросов, — сказал он, когда Черчилль умолк. — Если вы способны помнить все это, лучше задавайте нам вопросы по одному.
— Идет! — ответил Черчилль. — Но сначала еще несколько слов. — И он с прежней стремительностью проговорил: — Основательно ли мнение некоторых людей, что на извлечение эффективной частицы урана потребуется несколько лет работы ученых? Верно ли, что цепной процесс может осуществиться только при концентрации большого количества добытого урана в одном месте? Нет ли опасения, что, пустив в ход этот процесс, мы утратим над ним контроль?
— И весь мир взлетит на воздух? — с улыбкой спросил Блэкборн.
— В этом роде.
— Начнем по порядку… — спокойно сказал Блэкборн и пустил кольцо вокруг карандаша вдвое быстрее.
Ответы на вопросы премьера и его новые вопросы заняли больше двух часов. Все стало более или менее ясно. Черчилль убедился в том, что может пустить в ход машину подготовки производства нового оружия. А ученые поняли, что со стороны правительства не будет задержки ни в деньгах, ни в людях.
Черчилль сказал:
— Едва ли не самое важное в этом деле — монополия. С кем бы нам ни пришлось воевать, кто бы ни стал в этой войне нашим союзником, таким оружием должны обладать мы, и только мы. Я хочу, чтобы вы, джентльмены, поняли: подобное оружие не только средство подавления противника, но в не меньшей мере и способ воздействия на союзников. Сейчас я даже не стал бы решать, что важнее и что труднее.
— В области науки нет и не может быть монополии, — ворчливо возразил Блэкборн. — Наука всегда двигалась вперед и всегда будет двигаться только благодаря обмену знаниями между народами всего мира. Нет изолированного знания. Его нельзя запатентовать.
— Но его можно скрывать.
— Чтобы топтаться на месте? — презрительно выговорил Блэкборн.
— Нет, чтобы обогнать других! О том, что немцы работают в этой области, вы знаете сами.
— И мы немало почерпнули у них, — заметил Линдеман.
— Наша разведка постарается, чтобы вы и дальше могли это делать. Но приложим же все усилия к тому, чтобы немцы не могли почерпнуть у вас ни иоты.
— Нам могло бы помочь общение с русской наукой, — сказал Линдеман.
Черчилль испуганно взмахнул рукой:
— Вы в своем уме?! Сегодня мы деремся с немцами, почем вы знаете, с кем мы будем драться завтра?
— Кажется, я вас понял, — ответил Линдеман и в раздумье закивал головой.
— Если вы хотите непременно общаться с русскими — валяйте. Но так, чтобы выудить от них все полезное, не дав им ни крупицы своего. Дезориентируйте их, путайте, мешайте им. Помните: Россия — вот наш враг номер один.
— Я вас понял, — повторил Линдеман.
— А я не понял и не желаю понимать, — резко проговорил Блэкборн. — Мы хотим победы над Гитлером и должны объединить свои усилия со всеми, кто хочет того же.
Черчилль остановился напротив Блэкборна, хмуро глядевшего на вращающееся, словно заколдовавшее его кольцо на карандаше.
Несколько мгновений премьер пытался поймать взгляд ученого. Но тот сидел насупившись, не поднимая глаз, прикрытых кустами косматых бровей.
Сдерживая раздражение, закипавшее в нем против этого не в меру спокойного и самоуверенного старика, Черчилль деланно–спокойно проговорил:
— Давайте раз и навсегда разделим функции: наука — ваша, политика — моя.
Блэкборн, попрежнему не глядя на него, проворчал:
— Я хочу знать, ради чего работаю.
— Ради спасения Англии! — внушительно проговорил Черчилль.
— Это уже цель, — согласился Блэкборн. — Если я буду в этом уверен…
— Не сегодня — завтра немцы убедят вас в этом, — сказал Черчилль.
Тут Блэкборн, кажется, впервые оторвал взгляд от колечка, чтобы вопросительно взглянуть на премьера. Но тому уже не пришлось пояснять своего загадочного заявления — телефон возвестил о прибытии нового гостя.
Черчилль поспешно проводил ученых в дверь, противоположную той, в которую через минуту, устало шаркая подошвами, вошел шеф. Черчилль пошел ему навстречу, протянув обе руки. На дряблом лице премьера появилась было радостная улыбка, но тотчас же и сбежала, едва он вгляделся в черты гостя.
— Вы не в своей тарелке? — озабоченно проговорил Черчилль.
— Если бы можно было заставить колесо жизни вращаться в обратную сторону, все пришло бы в полный порядок.
— Как часто у меня появляется подобная мысль! — с напускной грустью сказал Черчилль. — Но на мою бедную голову свалилось слишком много дел, чтобы оставить ей время для подобных пессимистических размышлений. Хорошо, что движение времени становится заметно только тогда, когда встречаешься со сверстниками.
— Вы никогда не отличались способностью говорить комплименты, сэр, — с кислой улыбкой ответил шеф.
— Но сейчас вы увидите: уже самое приглашение сюда сегодня является высшим комплиментом, какой вам может сделать премьер правительства его величества… Думаете ли вы, старина, что король поставил меня за руль для того, чтобы привести наш корабль к крушению?
Шеф сделал слабое движение протеста:
— О, сэр!
— Я того же мнения: Уинстон Черчилль мало подходит для роли факельщика империи, а?
— Странно говорить на эту тему, сэр.
— Мы вступаем в трудную полосу, старина. Чертовски сложный фарватер.
— Но руль в достаточно крепких руках, мне кажется.
Черчилль вытянул короткие руки с мясистыми, перетянутыми многочисленными складками ладонями, словно подтверждая слова собеседника.
— Плавание тоже не из легких, — сказал он.
— Да, наших начали крепко бомбить под Дюнкерком.
— Ничего, пусть побомбят, — небрежно проговорил Черчилль. — Иначе создалось бы впечатление, будто мы отлыниваем от войны.
— Потери увеличиваются с каждым днем…
— Тысячью меньше или больше — разве в этом дело, когда происходит такое… В Кале нам пришлось пожертвовать лучшими полками…
— Говорят, из Кале удалось эвакуировать едва тридцать человек из четырех тысяч?
— Этого требовал престиж Англии. Мы не можем ставить под подозрение наше желание сражаться с Гитлером.
— Донесения Гарта говорят о том, что он готов поддержать этот престиж. Его удар на юг может спасти положение…
Заметив, что Черчилль сумрачно молчит и брови его все больше хмурятся, шеф неопределенно закончил:
— Так говорят военные.
— Все это, конечно, так… — неторопливо ответил Черчилль. — Но кто поручится за то, что Франция поймет, откуда пришло спасение?.. И не кажется ли вам, что, встретив чересчур сильное сопротивление на западе, Гитлер потеряет охоту драться на востоке и что все мы завязнем в битве на годы, к удовольствию России?
— Да, обжегшись о стакан, боишься браться за кружку.
— Вот именно.
— Обжечься неприятно. Это пугает. Было бы грустно, если бы Гитлер… — мямлил шеф.
— Пожалуй, для общего дела было бы полезней, если бы его не слишком сильно пощипали во Франции, а?
— Вот именно.
— Не кажется ли вам, мой старый друг, что в данный момент это зависит от нас, а?
— Вы говорите о повороте Горта на юг, сэр?
Черчилль подошел к шефу и положил ему руку на плечо.
— Вы всегда понимали меня с полуслова, старина.
— Но не раздавят ли гунны дивизии Горта своими танками? Донесения говорят, что Гаусс поспешно вытаскивает танки из боев в центре, чтобы бросить их к Дюнкерку. Это будет кровавая баня для англичан, сэр.
— Да, мы не можем отдать наших славных ребят на истребление гуннам… Не можем. Англия никогда нам этого не простит.
— У них только два выхода: удар на юг, на соединение с французами, или…
Шеф внезапно умолк, как будто испугавшись того, что стояло за словами, которые должны были у него вылететь. Но короткие пальцы премьера ободряюще подтолкнули его в плечо.
— Ну же!..
— Или быть опрокинутыми в море… Этого Англия тоже не простила бы ни одному правительству.
Черчилль тихо рассмеялся:
— Вы упустили третий выход.
Шеф поднял на него вопросительный взгляд.
— Мы можем вытащить их из ловушки, — быстро проговорил Черчилль. — Вытащить и привезти домой.
— Вы слишком дурного мнения о гуннах, сэр, — обеспокоенно возразил шеф. — Их авиация не подпустит к берегу ни одного нашего судна, а танки тем временем превратят наши дивизии в кашу из крови и песка… Все‑таки лучший выход для Горта — удар на юг.
— А если бы немцы узнали, что мы не хотим бросать Горта на юг? Что наши мальчики покинут материк, не сделав больше ни одного выстрела?
— Покинуть Францию на произвол судьбы?
— Франция с нашей помощью — камень, которым Гитлер может подавиться. Франция без нашей помощи — кусок мяса, который может разжечь аппетит зверя и укрепить его силы для прыжка на восток.
— А если… на запад, через канал? — усмехнувшись, спросил шеф.
Черчилль отвел взгляд.
— Если бы кто‑нибудь мог об этом договориться с ними, — неопределенно проговорил он.
Шеф с усилием поднялся с кресла и, попрежнему шаркая подошвами, прошелся по кабинету. Он снял с камина маленькое бронзовое изображение якоря, повертел его в худых узловатых пальцах подагрика и, постукивая лапой якоря по мрамору каминной доски, как бы про себя проговорил:
— Англичане всегда были реалистами. Если интересы Англии требуют того, чтобы договориться… — Острая лапа маленького якоря оставляла матовые штрихи на мраморе камина, но старик продолжал все так же методически постукивать в такт медленно цедимым словам: — Англичанин всегда найдет путь, чтобы договориться как джентльмен с джентльменом.
— Ах, мой старый друг, — со вздохом опустившись в кресло и мечтательно глядя в потолок, произнес Черчилль, — если бы Гитлер поверил тому, что наша механизированная дивизия, только что высаженная у Дюнкерка, погрузится обратно на суда, не сделав ни одного выстрела; если бы он поверил тому, что Горт не начнет наступления на юго–восток, чтобы выручить левое крыло французов; если бы, наконец, этот паршивый ефрейтор поверил тому, что десять дивизий Горта покинут берега Франции!..
— Гитлер всегда представлялся мне достаточно реальным человеком, чтобы не попасться на такую удочку.
— Что вы называете удочкой, старина?
— Ваши предположения, сэр, — не без иронии произнес шеф.
Черчилль недовольно поморщился.
— Будем называть это размышлениями, если вам так удобней, сэр, — согласился шеф.
Черчилль кивнул головой. Складки оплывшего подбородка легли на оттопыренную бабочку галстука. Теперь маленькие глазки премьера были исподлобья устремлены на шефа, застывшего у камина. Тот же продолжал небрежно играть якорем. Даже нельзя было понять, слушает ли он премьера. И, в свою очередь, невозможно было понять, интересуется ли премьер тем, чтобы его слышали. Он рассеянно повторил в пространство:
— Если бы ефрейтор поверил тому, что мальчики Горта вернутся в Англию!..
— Покинув Францию на произвол судьбы? — не оборачиваясь, спросил шеф.
— На протяжении последних четырех столетий французы не слишком заботились о судьбе Англии. Если верить истории, судьба всякого народа — дело его собственных рук.
— И совести, — вставил шеф.
— И совести, — повторил Черчилль и помолчал. — Как это ни противно даже на миг и хотя бы мысленно очутиться на месте такого негодяя, как Гитлер, но я ставлю себя сейчас на его место: что пришло бы мне в голову, если бы я на его месте… да, на его месте, — подчеркнул Черчилль, — сделал допущение насчет Горта и наших ребят, которые топчутся на берегу под Дюнкерком?..
— И которых с каждым днем все крепче поджаривает авиация гуннов.
— Что пришло бы мне в голову?.. Я, вероятно, сказал бы: пусть англичане уберут с материка свои дивизии и не угрожают ими моему правому флангу. Тогда я прикажу танкам остановиться, не итти к берегу и не мешать английским мальчикам сесть на корабли, чтобы уехать домой… А после того как последний томми сел бы на корабль, англичане убрались бы восвояси, я в одну неделю покончил бы с Францией. Подкрепившись этим куском и уверенный теперь в безопасности своего тыла, хорошо защищенного морем, я без дальних размышлений повернул бы на Россию.
— Да. А в это время Черчилль… — проворчал шеф со своего места у камина.
— Черчилль никогда не бросается на тех, кто работает на него. До тех пор, пока они на него работают… счеты с Россией не снимают счетов с Германией, но Россия, Россия — это прежде всего! Гитлер должен это понять.
Некоторое время оба оставались неподвижными. В тишине большой комнаты преувеличенно громко слышались удары тяжелого маятника больших часов.
Шеф оставил якорь и устало подошел к окну. Медленно, словно действуя из последних сил, он потянул за шнурок, поднимая темную штору. Серый свет утра постепенно, как бы нехотя, проползал в комнату и шаг за шагом отвоевывал пространство у электрических ламп.
Шеф посмотрел в окно. Прямо впереди зеленели деревья Сент–Джемсского парка. Справа, у самой стены адмиралтейства, стоял одинокий автомобиль старого, давно вышедшего из моды фасона.
Шеф обернулся и поглядел на Черчилля. Профессионально точный взгляд отметил каждую морщину на измятом, сером лице премьера.
Шеф сказал Черчиллю на прощанье:
— Быть может, время действительно несется быстрее, чем хотелось бы нам обоим, но оно не оказывает губительного действия на ваш мозг, сэр: за всю сегодняшнюю встречу вы ни разу не обмолвились моим именем.
Рыхлое тело Черчилля, как потревоженная медуза, заколыхалось в кресле от сотрясавшего премьера беззвучного смеха.
— Старая привычка, старина! Если бы мы встретились не в этом доме, вы, наверняка, поступили бы так же.
— Совершенно верно, сэр.
— И откуда я могу знать, не спрятан ли у меня под креслом звукозаписывающий аппарат, любезно доставленный сюда вашей же службой.
Геморроидальное лицо шефа покрылось легкой краской.
— У вас в кабинете, сэр? — не очень уверенно запротестовал он.
— Ага! — торжествующе воскликнул премьер. — Вот вы‑то, кажется, стареете!
Старик скрипуче рассмеялся.
8
Едва ли история второй мировой войны или история дипломатических отношений за этот трагический период отразят на своих страницах то, что произошло в дни, последовавшие за ночной встречей двух старых врагов человеческого покоя и счастья.
На страницах толстых томов, которые уже написаны историками войны в буржуазной Европе и в Америке, ничего не сказано и, вероятно, никогда не будет сказано о том, что шефу потребовалось всего два дня на то, чтобы установить связь с американской секретной агентурой и получить от нее "добротную" берлинскую явку для капитана Роу. Еще через день Роу был на борту испанского парохода. Вместе с бочками оливкового масла он выгрузился в Гамбурге. Американский паспорт открыл ему двери немецкого контрольного пункта, и Роу без приключений прибыл в Берлин. Здесь ему пришлось преодолеть некоторые трудности, прежде чем удалось добраться до человека, через которого предложения Черчилля могли быть переданы Герингу. Человеком этим оказался группенфюрер СС Вильгельм фон Кроне.
Кроне молча, с мертвым лицом выслушал Роу и предложил ждать ответа в гостинице, не показываясь на улице.
— Это арест? — спросил Роу.
— Просто мера предосторожности, — сухо ответил Кроне. — Было бы совершенно лишним, если бы кто‑нибудь увидел вас в Берлине.
— Меня тут никто не знает, — попробовал солгать Роу.
Кроне насмешливо посмотрел на него и демонстративно повертел в руках американский паспорт гостя.
— Мы в этом далеко не так уверены… — и, несколько помедлив, закончил: — мистер… Роу…
Роу отпрянул от стола, развязно облокотясь о который, разговаривал с группенфюрером. После минутной растерянности он овладел собой:
— Ну что ж, открытая игра даже лучше…
— Все же боюсь, что посылка в Берлин именно вас — одна из обычных ошибок британской разведки, — с нескрываемым пренебрежением ответил Кроне.
В гостиницу Роу шел совершенно подавленный. Его бесил нелепый провал. При других обстоятельствах такая ошибка могла привести его в тюрьму. Впрочем, и теперь еще не известно, чем все это кончится. Если немцам не придутся по душе привезенные им предложения, они могут его и не выпустить обратно в Англию. Он в их руках… Да, плохо! Повидимому, немецкая разведка подтянулась. А его собственная служба дряхлеет. В прежние времена такой промах был бы немыслим. Дряхлеют волки, дряхлеет служба…
Роу не могло прийти в голову, что дело тут не только в одряхлении британской разведки и не в совершенстве немецкой разведки, попрежнему громоздившей одну ошибку на другой, и вообще не в сверхъестественной проницательности какой бы то ни было секретной службы. Все сводилось к совершенно естественному и почти неизбежному в создавшихся условиях переплетению интересов буржуазных разведок. Они совершенно закономерно шли тем же руслом, каким текла и вся политика их стран, непрерывно враждовавших между собой и столь же непрерывно стремившихся к одной общей недосягаемой цели — спасению капиталистического мира от предопределенной ему гибели. Подкапываясь одна под другую, враждуя и соперничая там, где дело шло о частностях и дележе награбленного или чаемого, разведки Германии, Англии, Франции, Америки объединялись при всякой возможности совместными усилиями нанести удар по Советскому Союзу.
Даже если бы Кроне и не был американским агентом, секретная резидентура американской разведки в Лондоне, к содействию которой прибег шеф, чтобы переправить Роу в Германию, непременно открыла бы его истинное лицо немцам, не для того, чтобы провалить Роу, а, наоборот, чтобы вверить его личность особенному попечению немецких разведчиков. Миссия Роу, имевшая в конечном счете ясно направленную антисоветскую цель, устраивала американцев не меньше, чем самих немцев. Те и другие готовы были содействовать успеху его поездки.
Однако в миссии Роу была и другая сторона, вынуждавшая американцев отнестись к его поездке с особой настороженностью, как к шагу, в известной мере направленному против интересов США. Они не могли оставаться равнодушными к попытке Черчилля завести шашни с Гитлером за спиною Америки. Это противоречило всей их политике, направленной к тому, чтобы в любой момент очутиться "наверху кучи". Сделка Англии и Германии означала бы, что вожжи мировой политики уходят из рук США, они утрачивали бы позицию высшего арбитра, диктующего свои условия мира всем участникам чужой драки. Арбитр рассчитывал оставить драчунам голодный минимум. Максимум того, из‑за чего они пускали друг другу кровь, должен был отойти к нему самому.
Такова была ситуация. Она не устраивала Черчилля как приказчика самых агрессивных кругов лондонского Сити. Он меньше всего хотел оказаться в роли бедного родственника, питающегося крохами из рук американского дядюшки. Он сам хотел взобраться на вершину кровавой кучи и оттуда диктовать миру свои условия существования. Это стремление и толкнуло его на попытку договориться с Гитлером. Не отказываясь от видимости войны, Черчилль был готов продолжить переговоры, начатые Чемберленом и Галифаксом о полюбовном дележе мира между Англией и Германией с условием, что, усилившись за счет подмятой под себя Франции, гитлеризм повернет оружие на восток, против России. Таким путем Черчилль надеялся выскочить из войны без большой потери крови. Он рассчитывал сохранить силы и даже накопить их к тому времени, когда Германия основательно завязнет в России. А тогда будет видно, что стоит дать Гитлеру за его работу палача. И стоит ли вообще что‑нибудь давать. Быть может, именно тогда придет время свести с ним решительные счеты.
Если такая комбинация пройдет, думал Черчилль, мировые позиции Британской империи будут сохранены. Все сильнее действующие в ее организме центробежные силы ослабнут. Роль младшего партнера, уготованная ей Рузвельтом, останется мечтой Белого дома.
Черчилль в беспокойстве мерил шагами свой кабинет в ожидании визита шефа.
Старик появился, наконец, — такой же желтый, вялый, усталый, как прежде. Он все так же отвратительно шаркал подошвами, с трудом передвигая ноги.
Так же, как при прошлом свидании, не было сказано ничего прямого и ясного. Но если в прошлый раз своеобразным мечтам о том, что предпринял бы при известных обстоятельствах Гитлер, предавался премьер, то теперь такие же туманные предположения слетали с тонких губ разведчика.
Разговор был недолгим. Шеф ушел. Черчилль неподвижно сидел за письменным столом. Его взгляд был устремлен в окно, за которым открывалась площадь Конной гвардии. За нею парк и дворец. Но Черчилль не видел ни площади, ни парка, ни дворца. Перед взором Черчилля было серое море, желтый песок и тысячи людей, по горло в воде спешащих сесть в лодки и катеры, чтобы попасть на суда, стоящие вне прибрежного мелководья. Люди брели, захлебываясь, борясь с волнами, падая и больше не подымаясь. На людях были изорванные и грязные кители цвета хаки, на головах их были плоские, похожие на сковороды каски. Людей были тысячи, десятки, сотни тысяч. Это были английские томми. Над их головами выли пикировщики гуннов. Бомбы одно за другим топили мелкие суда англичан. Люди десятками и сотнями, надрываясь в истерике и проклятиях, исчезали под водой. Трупы тех, что утонули вчера, и позавчера, и два и три дня назад, нынче уже всплывали. Морской прибой выбрасывал тысячами их тела на золотистый песок пляжа. Живые взбирались на мертвых, чтобы дойти до воды и попасть на корабль, либо тоже утонуть и тоже быть выброшенными волной на гребень этого страшного волнолома из человеческих тел. Вместе со смрадом разложения к небу взлетали стоны и проклятия. Больше всего было проклятий. Черчиллю казалось, что среди этих воплей он часто, очень часто слышит свое имя. Но он не верил тому, чтобы оно имело какую‑нибудь связь с проклятиями. Это было неправдоподобно. Он зажал уши толстыми пальцами и отвернулся от окна. Однако вокруг по–прежнему выли фашистские бомбы, визжали снаряды. Не было только танков Гитлера, способных в несколько часов перемолоть всю массу пока еще живых томми и не позволить ни одному из них вернуться в счастливую старую Англию. Танки были остановлены Гитлером.
Значит, все было в порядке, игра удалась. А дивизией больше или меньше — разве в этом дело?
Не выдавая своим генералам истинного смысла сложной игры, Гитлер кричал Кейтелю:
— Я не могу рисковать моими лучшими боевыми машинами ради уничтожения кучки англичан. Мы добьем их с воздуха! — Он обернулся к Герингу: — Верно?
Геринг подтвердил это молчаливым кивком головы. Он был в курсе дела. А Гитлер, которому казалось, что его генералы еще не убеждены, продолжал выкрикивать:
— Вы хотите оставить меня без танков на наиболее важных участках! Вы хотите, чтобы машины израсходовали свои ресурсы раньше, чем пистолет будет приставлен ко лбу Франции?! Я докажу вам…
Он потянулся к одному из стоявших на столе телефонов. Генералы уже знали, что сейчас он сделает вид, будто наводит необходимую ему справку, и начнет сыпать взятыми с потолка цифрами.
Кейтель сдался.
Вместо Гитлера телефонную трубку поднял полковник фон Гриффенберг. От имени фюрера он отдал приказ главному командованию сухопутных сил остановить танки Клейста на линии канала. Приказ полетел по проводам. Когда ошеломленный Гаусс выслушал приказ от Манштейна, это показалось ему настолько нелепым, что у старика даже зародилось сомнение в подлинности директивы.
— Немедленно проверьте, нет ли здесь английской провокации. Эти субъекты мастера на подобные штуки…
— Приказ выслушан мною по телефону непосредственно от полковника Гриффенберга, — ответил Манштейн.
— Весь мир будет смеяться над тем, как мы выпустили англичан из ловушки. Они остались бы там все до одного!.. Мы — посмешище для всего мира!.. Эту глупость запишут в анналах истории, — злобно цедил Гаусс.
— Приказ фюрера, экселенц, — предостерегающе заметил Манштейн.
"Приказ "ретина", — мысленно ответил Гаусс, но, вслух не проронил ни звука. Сунув монокль за борт мундира, он не спеша, прямой и спокойный, вышел из комнаты штаба.
Через полчаса Манштейн пришел к нему с предложением поехать на наблюдательный пункт.
— Стоит посмотреть, как англичане эвакуируются под выстрелами наших пушек, экселенц.
— А самолеты? — не поворачивая головы, спросил Гаусс.
— Эти тоже делают свое дело. Особенно хорошо работают новые пикировщики — одна английская лодка отправляется ко дну за другой. Если бы вы видели, сколько их там!
Гаусс не ответил. Он даже не поднял головы, делая вид, будто увлечен чтением французского романа, лежащего у него на коленях. Но все в нем кипело, и как только Манштейн ушел, генерал отбросил книгу. Старое вольтеровское кресло, выдвинутое на просторную веранду, где он собирался погреться на солнце, затрещало от непривычного нажима на подлокотники.
Старик не имел понятия о том, что "чудесное избавление англичан под Дюнкерком" — плод большой политической игры, цена, уплачиваемая Гитлером Черчиллю за право без вмешательства Англии стереть с карты Европы Францию. При мысли о том, что триста тысяч англичан уходят живыми, когда могли бы полечь под гусеницами его танков, заставляла Гаусса дрожать от злобы. Только привычная выдержка помогала ему не затопать ногами, не накричать на Манштейна, не запустить биноклем в голову адъютанта.
Быть может, утешением ему послужило бы, если бы он мог знать, что в состоянии недоумения находится и его противник — английский генерал лорд Горт. Приказ воздержаться от решительных действий, доставленный на материк герцогом Виндзорским, экс–королем Эдуардом, застал Горта в тот момент, когда шла подготовка к удару по слабой перемычке войск Гаусса, высунувшихся к побережью. Горт считал, что английские дивизии без труда прорвут эту перемычку и, уничтожив отрезанную и прижатую к морю часть немцев, легко сомкнутся с одиннадцатью дивизиями 1–й французской армии — крайним северным крылом Бийота. Горту было ясно, что такой удар мог решить битву за Фландрию, от которой, в свою очередь, зависела и судьба битвы за Францию. Горт еще не был в курсе политической игры, согласованной с фельдмаршалом Диллом и с генералами Айронсайдом и Исмеем, сидевшими в Лондоне и вместе с Черчиллем распоряжавшимися судьбой английской армии.
Разгром голландцев и позорная капитуляция бельгийского короля окончательно обнажили левый фланг союзников. Но и она не могла лишить местное англо–французское командование возможности защищать север. Однако 30 мая генерал Горт получил от Черчилля телеграмму, звучавшую похоронным колоколом по крайней мере для трех из десяти дивизий англичан, топтавшихся на побережье Дюнкерка. Горт уже знал, что эти три дивизии — жертва, приносимая британским кабинетом и прежде всего самим Черчиллем во имя прикрытия негласной сделки между Лондоном и Берлином. Этим трем дивизиям суждено было спасать "престиж" Англии так же, как за него отдали свою кровь четыре тысячи английских солдат — защитников Кале. Те и другие не подозревали, что являются невинными жертвами позорной политической игры. Река английской крови должна была преградить историкам путь к истине об измене Англии союзническим обязательствам в отношении Франции. Человечество не должно было узнать действительной роли Черчилля и его сообщников в победе Гитлера над Францией и в последующей драме Европы. Двенадцать миллионов человек заплатили во второй мировой войне своей кровью за несбывшуюся надежду британского премьера уничтожить Советскую Россию руками нацистского ефрейтора.
В ночь с 30 на 31 мая 1939 года лорд Горт дважды перечитал телеграмму Черчилля:
"Если еще будет возможность поддерживать с вами связь, мы пошлем вам приказ вернуться в Англию с офицерами по вашему выбору в тот момент, когда сочтем, что силы под вашим командованием настолько сократились, что командование может быть передано командиру корпуса. Вы должны назначить этого командира сейчас. Если связь будет прервана, вы должны вручить ему командование и вернуться, как указано выше, если ваши действительные силы в строю не будут превышать эквивалента трех дивизий. В этом деле вам не предоставляется права действовать по собственному усмотрению. С политической точки зрения это было бы ненужным триумфом для противника, если бы он захватил вас в плен, когда под вашим командованием остается лишь малочисленное войско. Избранному вами командиру корпуса должно быть приказано держать оборону совместно с французами и эвакуироваться или из Дюнкерка, или с побережья, но если, по его мнению, никакая дальнейшая организованная эвакуация не окажется возможной, равно как и не будет возможно нанести дальнейший пропорциональный ущерб противнику, этому командиру корпуса разрешается, после консультации со старшим по чину французским командиром, капитулировать официально во избежание бесполезной бойни".
Вечером 31 мая Горт передал командование генерал–майору Александеру и в ночь с 31 на 1 июня тайком от своих войск сел на корабль, увезший его в Англию.
Могло ли наступление Горта, если бы оно состоялось, изменить судьбу войны, судьбу Франции? Это более чем сомнительно. Не десяти английским дивизиям, уже деморализованным предательской линией своего высшего командования, было решать судьбы истории. Даже если на миг допустить, что действия Горта были бы решительны и успешны, они уже не могли спасти Францию. Ее судьба была предопределена изменой изнутри. Вместо нерешительного Гамелена армию возглавил изменник Вейган. Он уже произнес во всеуслышание страшные слова о том, что предпочитает Францию Гитлера Франции Тореза. Вертлявый премьер Рейно уже призвал в состав кабинета предателя Петэна. Французские гитлеровцы наносили в спину мечущегося в поисках выхода французского народа удар за ударом. Они пытались заставить французов пасть на колени перед вторгшимся врагом.
Но не подлежит сомнению, что если бы не измена Черчилля, французский народ не почувствовал бы себя покинутым союзниками на волю победителя. Он не потерял бы всякой опоры в борьбе с нашествием. Он нашел бы в себе силы дорого продать свободу и независимость отчизны. Народ не мог принять как выражение дружбы и союзнической солидарности издевательское предложение Черчилля об образовании двуединого англо–французского государства. В данных обстоятельствах это означало бы только сведение Англией вековых счетов со своей континентальной соперницей Францией и превращение ее в подневольный придаток Британской империи, в далеко не самую весомую жемчужину английской короны.
Когда премьер Рейно объявил во всеуслышание о том, что на отчаянный призыв французского правительства о помощи, обращенный к президенту Соединенных Штатов Америки, из Белого дома пришел "неудовлетворительный ответ", французы окончательно поняли: они одни. С дезорганизованной изнутри армией, с заранее разрушенной военной промышленностью, с разложенным правительственным аппаратом они были оставлены один на один против бронированной военной машины фашизма. Народ не мог знать о закулисной возне предателей в Лондоне и в Париже, но он чувствовал миллионами своих сердец, что его продали. К тому же прогрессивные силы Франции, ее патриоты были разобщены и их политические боевые организации заранее разгромлены. В стране царил хаос.
9
На узкой полосе песка, опоясывавшего море в районе Дюнкерка, беспорядок превратился бы в хаос, если бы солдаты, почувствовавшие, что они брошены командованием и что для них самоорганизация является единственным условием спасения из медленно, но верно сжимающихся клещей нацистского окружения, не проявляли величайшего мужества.
У покидавших Францию дивизий не было больше ни левого, ни правого фланга. Большая часть их стояла уже спиной к противнику, лицом к вожделенным кораблям. Корабли эти держались на взморье. Они не могли приблизиться к берегу настолько, чтобы принять людей без помощи вспомогательных мелкосидящих судов — шлюпок, катеров, яхт.
С запада уходящих англичан прикрывали три обреченные Черчиллем на уничтожение или капитуляцию свои дивизии, с юга и юго–запада — остатки двух французских дивизий, одним из полков которых командовал капитан Гарро.
Французы медленно отходили, отрывая для себя укрытия в податливом прибрежном грунте. Правда, на глубине метра солдаты уже оказывались в воде, но на такие пустяки они давно перестали обращать внимание. Франция — вот единственное, о чем они могли думать. Иссякающие боеприпасы — единственное, вокруг чего вертелись скупые разговоры. Хватит ли этих запасов до того дня и часа, когда дойдет их очередь сесть на суда? Благодаря кое‑как действовавшей еще дивизионной радиостанции солдаты знали, что Франция агонизирует. Но они не верили тому, что это навсегда. Эти простые французы не могли примириться с мыслью, что история лишает их родины. Они были частицей того двадцатичетырехмиллионного народа, который много веков строил свою страну, народа, который из века в век проливал кровь, отстаивая ее национальную независимость и величие. Они знали, что история страны творится не волей нескольких предателей, склонивших голову перед победившим фашизмом. Эту историю творили, творят и будут творить миллионы простых сердец, преданных Франции, миллионы голов, мечтающих об ее красоте и величии, миллионы рук, готовых защищать ее оружием.
Погрузиться на английские корабли, чтобы избежать унижения или плена, уехать в Англию, чтобы прийти в себя, перестроить ряды и вернуться на родину для борьбы. Может быть, тайно, ползком, но вернуться во что бы то ни стало с ножом, зажатым в зубах. И драться, драться за свою прекрасную родину! Драться, не думая о трудностях и невзгодах, о ранах и смерти. Драться во имя великой любви к слову "Франция".
Это были простые французы, верившие, что из крови, пролитой ее сынами, Франция восстанет иною, чем была до сих пор, — свободной и прекрасной матерью своего прекрасного и свободного народа.
Услышав свисток капитана, Даррак сам поднес свисток к губам и подал сигнал к перебежке. Это была последняя попытка обескровленного полка остановить движение полнокровной нацистской дивизии — одной из дивизий Гаусса, что методически сжимала кольцо вокруг погружавшихся на корабли англичан. Исполненные честности, рождаемой верой в честность других, французы дрались за каждую пядь прибрежного песка, за развалины каждого дома, чтобы обеспечить эвакуацию англичан.
Капрал Луи Даррак должен был поднять свою роту, — двадцать человек под его командой уже именовались ротой, — и выбить нацистские пулеметы из груды камней, называвшейся прежде фермой Гро. Это было необходимо, чертовски необходимо!
С такими точными интервалами, что по ним можно было вести отсчет времени, немецкие снаряды падали на полосу песка, которую предстояло пробежать солдатам Даррака. Черные облака тротилового дыма смешивались с желтой завесой поднятого взрывами песка, закрывавшей от солдат окружающий мир. Даррак с трудом отыскивал взглядом своих наскоро зарывшихся в песок солдат. Они больше походили на небольшие кучи беспорядочно набросанного голубовато–серого тряпья, чем на людей, чья воля и мускулы должны были остановить поступь тупого железноголового чудовища, именовавшего себя вермахтом.
Даррак не различал и лиц своих солдат. Это давно уже не были лица людей. Желтые маски с обострившимися чертами, обросшие беспорядочными клочьями бород, издали донельзя походили одна на другую. Даррак мог только время от времени пересчитывать своих людей взглядом. Одни из них поднимались по его свистку и падали, пробежав несколько шагов, чтобы тотчас снова подняться или не подняться уже никогда. Другие просто оставались на месте, как доказательство преданности народа Франции обязательствам, взятым на себя перед союзной Англией.
Даррак и его люди исполнили приказ Гарро. Они до ночи не давали немцам восстановить пулеметную позицию в развалинах. А ночью Даррак привел обратно восемь из двадцати своих солдат. Капитана Гарро с полком он нашел еще на километр ближе к морю.
До воды было уже рукой подать. Прибыли связные от англичан, чтобы договориться об очередности погрузки французского арьергарда на суда. Отделение английских саперов заняло интервалы в окопавшейся роте Даррака, чтобы расставить мины. У французов не было ни саперов, ни мин.
Утром при свете солнца Даррак узнал в саперном унтер–офицере Нокса. Через час они вместе — Нокс, Даррак и Лоран — отползли к берегу, держа направление на большой валун, к которому с моря приближалась весельная шлюпка. Этот валун был назначен капитаном Гарро в качестве ориентира для отхода. Сам Гарро уже не пришел к месту последнего сбора своего полка. Останки капитана солдаты зарыли в прибрежном песке. У них не нашлось камня для надгробной плиты. То, что они хотели сказать командиру, дошедшему с ними до последней пяди французской земли, было нацарапано на обломке винтовочного приклада, воткнутого цевьем в могилу Гарро. Они и не подозревали, что очень скоро эта точка станет местом нередких тайных встреч тех, кто вернется из‑за моря для борьбы против оккупантов вместе с теми, кто остался на родной земле. "У могилы капитана Гарро!" Эти слова нередко произносили потом французские патриоты, назначая явки своим друзьям. Правда, со временем имя Гарро стали опускать, для краткости говоря: "Могила капитана". Море размыло песчаный холмик, где лежал капитан, и вода унесла деревянный приклад винтовки. Но будь то обломок весла, или шест, или просто морской валун, брошенные на этом месте, — они попрежнему назывались "могилой капитана". Попрежнему рыбаки, доставлявшие связных движения сопротивления, держали курс на "могилу капитана".
Приползший вместе с Дарраком к берегу рядовой Лоран не подозревал в тот день, что и ему придется частенько слышать название этой точки и самому произнести его сотни раз. Приближаясь к берегу, он и сам еще не знал, что в последний миг, когда последняя шлюпка, пришедшая за последними французами, ткнется килем в песок и его товарищи зашлепают по воде, чтобы броситься в суденышко, сам он не двинется с места.
— Эй, Лоран, чего ты тянешь?
— Не могу, ребята.
— Чего ты не можешь?.. Тут мелко.
— Нет, не могу!
— Всего по грудь… Иди же!
— Не могу я, пойми ты, Даррак! Что мне эта Англия? Я остаюсь…
— Не глупи, Лоран!.. Ты еще понадобишься Франции.
— Вот потому я и остаюсь.
— Фрицы повесят тебя… Сегодня же к утру.
Лоран рассмеялся:
— Что я фрицам? Тут есть одна уцелевшая мельница, помнишь та, что мы прошли вчера. У мельника не осталось ни одного работника. Он берет меня. Мы уже договорились.
Даррак попробовал вглядеться в черты товарища. Но тьма помешала ему. Он постарался себе их представить и вдруг почувствовал, что это невозможно: он так давно не видел настоящего лица Лорана, так давно перед ним была испитая, исхудавшая и утомленная маска с клочьями взлохмаченной бороды, что капрал забыл настоящие черты рядового, товарищ Даррак забыл лицо товарища Лорана.
Весло гребца уже плеснуло по воде, чтобы оттолкнуть лодку от берега, когда Даррак, не в силах совладать с собою, перескочил через борт и, путаясь ногами в упругой волне, побежал к берегу.
— Что ты! — испуганно вскрикнул Лоран. — Что ты, капрал?!
Задыхаясь, Даррак проговорил:
— Лучше едем, тут будет плохо…
— Хуже, чем сейчас? — Лоран пожал плечами. — Видишь ли, капрал, я не много понимаю в политике, но когда я вижу, что союзники бросают нас на произвол судьбы, я уже не верю ни им, ни тем, кто с ними.
— Ты имеешь в виду меня, нас, тех, кто уезжает? — в испуге спросил Даррак.
— Как ты можешь думать!.. Я говорю о тех, наверху: министры и прочая шваль! За всю длинную историю соседства с Англией я что‑то не знаю случая, чтобы Францию не надули или не предали.
— Ты прав, ты прав… — торопливо проговорил Даррак.
С лодки послышался сердитый голос:
— Эй–эй, капрал!
Даррак торопливо проговорил:
— Ты трижды прав, Лоран… Но значит ли это, что сейчас не следует уйти из‑под удара немцев? Спастись, чтобы драться? — В голосе Даррака прозвучали такие нотки, словно он искал у товарища извинения тому, что покидал эту землю. — Ты помнишь, партия сказала нам: каждый коммунист должен взять в руки оружие, чтобы защищать Францию. Мне кажется, быть с армией — значит уехать туда.
— Может быть. Я хуже тебя разбираюсь в таких вещах, — проговорил Лоран. — Но мне кажется, что с тех пор, как не стало французской армии, я как коммунист свободен принимать решение, какое мне кажется лучшим. А мне сдается, что сражаться за Францию — значит быть здесь… Ты не думай, капрал, я тебя не осуждаю. Ни тебя, ни всех вас… Я хочу быть с вами. И мне кажется, мы будем вместе, това…
Конец слова остался непроизнесенным. Жесткие, потрескавшиеся губы скрипача прижались к губам Лорана.
— Мы встретимся, — сдавленным голосом проговорил Даррак.
— Здесь… На могиле капитана…
Лоран из‑под ладони старался разглядеть удаляющуюся лодку. Но ее силуэт очень быстро исчез в тумане. Лоран опустил руку и пошел в противоположную сторону от освещенных далеким пожаром развалин Дюнкерка.
10
Быть может, это прозвучит неправдоподобно, но у Фостера Долласа была мать. Мало того: Фостер был не только любимым, но и любящим сыном. Даже нежно любящим.
Трудно уложить в обычные представления о внутреннем мире человека столь противоречащие друг другу свойства души и ума, какие Фостер проявлял по разные стороны психологического порога, разгораживавшего две половины его "я", одна из которых принадлежала его матери, а другая Ванденгейму.
Если бы сам Джон нечаянно вошел в частный кабинет своего адвоката, он, наверно, застыл бы на пороге, протер глаза и, может быть, даже ущипнул себя для уверенности в том, что не спит и что человек, которого он видит, не сновидение, а реальный Фостер из плоти и крови. Впрочем, удивление овладело бы, вероятно, не только Ванденгеймом, а и человеком, способным на более тонкие чувства и даже склонным к психологическому анализу: раздвинув громоздившиеся друг на друга регистраторы и папки, Доллас поставил на стол пяльцы и склонился над вышиванием.
Подгоняемая проворными движениями поросших рыжими волосами бледных рук, игла деловито сновала вверх и вниз, протягивая сквозь туго натянутый голубой шелк розовую шелковинку. Работа подходила к концу: на фоне голубого неба, расцвеченного кудреватыми облачками, уже был вышит аккуратной гладью розовый ангелочек. Ему нехватало только руки, долженствующей соединить ангельский бюст с уже готовым венком, в котором виднелась вышитая золотыми буквами надпись: "Милой мамочке ко дню семидесятишестилетия".
В течение почти всего мая и первой половины июня знаменательного в истории человечества 1940 года адвокат Фостер Доллас ежедневно находил час времени для приготовления этого подарка. Никто и ничто не могло ему помешать излить сыновнюю нежность этим способом — несколько несовременным, но ставшим для него традиционным. Еще в детстве, когда Фостер в тайне от товарищей играл в куклы, мать научила его вышивать на пяльцах. В восемь лет он подарил ей первый плод своего искусства вышивальщика. И вот сорок четвертое доказательство его сыновней преданности скоро должно было занять место на стене вдовьей спальни миссис Доллас.
Сегодняшний день для Фостера не был отличен от всякого другого. Как ни тревожны были вести из Европы, как ни трагичны события, разыгравшиеся на обагренных кровью полях Франции, и даже сколь бы непосредственно все это ни касалось Фостера, адвоката Ванденгейма, — костлявая рука с жесткими рыжими волосками в течение часа ритмически пронизывала иглою голубой шелк. Только под конец этого часа Фостер начал между стежками вскидывать взгляд на часы: к восьми личная жизнь должна была быть закончена. Все принадлежности вышивания, как свидетельства страсти, тайной даже для брата Аллена, должны были быть спрятаны. Их место было в большом сейфе, наравне с самыми противозаконными делами конторы "Доллас и Доллас", с доказательствами самых мрачных преступлений дома Ванденгеймов. Подобные документы, способные наповал уложить самого нещепетильного дельца даже в такой нещепетильной стране, как Соединенные Штаты Америки, Фостер хранил в тайне ото всех — от самого Джона, от Аллена Долласа, решительно ото всех. Он надеялся, что когда‑нибудь бумаги послужат ему средством самого грандиозного шантажа, какой видывала секретная история американской деловой жизни — шантажа, который сделает его компаньоном Джона. Может быть, и не совсем равноправным, но во всяком случае таким, на которого нельзя кричать, нельзя топать ногами и которого нельзя третировать, как негра. Правда, Фостер не знал, когда наступит час удара, и меньше всего представлял себе, как он решится нанести удар Джону. Стоило ему от теоретических рассуждений о компрометирующей силе того или иного утаенного документа перейти к воображаемой картине битвы с Джоном, как все его тело покрывалось испариной и рыжие волосы на руках темнели от обильного пота. Единственной деталью этой воображаемой картины, с потрясающей ясностью встававшей перед умственным взором Фостера, был сам Джон. Он вздымался над Фостером, как языческий бог, яростно сопротивляющийся свержению с трона Фостер съеживался при мысли о тяжкой лапе Джона, один удар которой мог свалить его, прежде чем удастся воспользоваться хотя бы крохой из плодов победы. Образ этой лапы в литой перчатке из золота, лапы, вооруженной всей мощью административно–полицейской машины Штатов, постоянно довлел над адвокатом. Мысль о том, что он располагает оружием, способным нанести Джону чувствительный удар, не всегда приносила утешения.
Это были какие‑то странные психологические ножницы, которые не мог свести даже изощренный в крючкотворстве мозг адвоката. В его душе ненависть к Джону, питаемая из источника зависти, спорила с животным страхом.
Эти мысли никогда не покидали Долласа. Даже когда он сидел, склонившись над пяльцами, перед его взором реял не ангелочек, а угрожающая маска Джона. Розовели светящиеся, как раковины, большие уши. Фостер ненавидел эту маску, эти уши. Он ненавидел Джона. И тем не менее почти все дела, какие ему приходилось вести, были направлены на ограждение интересов Джона, на укрепление Джоновой долларовой державы.
Вот и сейчас он должен был оставить пяльцы, чтобы заняться делами Джона.
Волчья природа убийц и законы жизни внутри шайки разбойников таковы, что сильный громила не может оставаться равнодушным, когда его более слабый "младший партнер" пытается украсть у него отмычку.
Американские империалисты не могли не прийти в бешенство, узнав, что один член шайки — Черчилль — пытается за их спиною заключить сделку с другим членом шайки — Гитлером. А именно такие вести прилетели за океан. Кроне знал свое дело. Если он остерегался войти в прямой контакт с Ванденгеймом, когда тот приехал в Европу, то ничто не мешало Кроне встречаться с надежным человеком Долласа, служившим ему связью со Швейцарией, откуда секретные сообщения шифром шли в Америку по телеграфу. Когда назревала надобность в подобной встрече, Кроне покупал два билета в кинематограф и один из них посылал связному. В течение двух часов они могли шептаться о чем угодно.
Таким образом, сообщение о приезде Роу в Берлин и о результате этого визита — "чудесном избавлении под Дюнкерком" — быстро достигло Штатов и службы осведомления Ванденгейма, чьим "частным" человеком (кроме его официального положения агента американской разведки) был Мак–Кронин. Ванденгейм поручил Долласу выяснить возможные последствия хитрости Черчилля и меры, которые следует рекомендовать государственному департаменту, чтобы локализовать неприятность.
Доллас начал с Уэллеса. Хотя Уэллес уже давно вернулся из Европы, но никто лучше его не мог ориентировать Долласа в событиях. С помощником государственного секретаря, которому выплачивалась основательная тантьема из кассы Ванденгейма, Фостер мог быть откровенен и даже требователен.
В назначенное время Уэллес сидел перед Долласом. Золото Ванденгейма оказалось способно разомкнуть уста даже этого человека, чья угрюмая молчаливость вошла в поговорку: "Неразговорчив, как Самнер". Сцепивши пальцы на животе, с неподвижным лицом и не меняя интонации, Самнер Уэллес рассказывал ту часть своих впечатлений от поездки в Европу, которой не было в его отчете президенту.
— Как вы помните, — монотонно говорил Уэллес, — в публичном заявлении президента по поводу моей миссии было сказано, что я не уполномочен делать предложения или принимать обязательства от имени правительства США и что визит совершается с единственной целью осведомления президента о существующих условиях в Европе. Устная же инструкция, полученная мною перед отъездом лично от Гопкинса, вменяла мне в обязанность наблюдать за тем, чтобы интересам Штатов не угрожали какие‑нибудь предложения, возникающие в определенных кругах.
— Кого он имел в виду под "определенными кругами"? — спросил Доллас.
Ничуть не изменяя ни интонации, ни выражения лица, Уэллес ответил:
— Таких разъяснений он не дал. Впрочем, я и без него знал, что делать: нащупать эти круги и постараться обеспечить такой выход, который не повел бы к окончательному крушению империи Гитлера. Я должен был постараться сохранить ее как восточно–европейский барьер против большевизма. Преждевременное крушение германской армии было бы реальной опасностью для наших интересов в Европе.
— Очень жаль, что вы не поехали туда месяцем раньше. Быть может, тогда Финляндия не претерпела бы такого разгрома: вам удалось бы найти путь помочь ей, примирив интересы англо–французов с германскими интересами, — заметил Доллас.
— Срок моей поездки был определен заранее.
— Очень сожалею, что мы не были достаточно полно информированы обо всех обстоятельствах предстоявшей вам миссии.
В устах Долласа эта фраза прозвучала почти как выговор. Но и ее Уэллес выслушал без тени неудовольствия.
— К сожалению, мой отъезд был окружен сонмом противоречивых и подчас слишком сенсационных слухов. Считали, что с моим приездом в Европу будет связано немалое число больших политических сделок. Вашим делом было удержать прессу от излишних комментариев.
— Упрек справедлив и будет учтен, — отрывисто произнес Доллас, а Уэллес продолжал:
— Я задним числом узнал, что известие о моем путешествии вызвало немалое замешательство в Англии и Франции.
— Но, насколько я знаю, это замешательство было вызвано опасениями, противоположными тем, какие толкнули президента на посылку вас в Европу: англо–французы боялись, что вы станете добиваться заключения мира между воюющими на любых условиях.
— Немцы боялись того же. И так же неосновательно.
— Значит, пресса все‑таки сделала свое дело: общественное мнение было достаточно дезориентировано в действительных целях вашей поездки! — с удовлетворением заявил Доллас.
— В некотором смысле, — согласился Уэллес. — И тем не менее с ушатами лжи в мир просачиваются и капли правды, которую никому не следовало бы знать.
— Ложь стоит денег!
— Но правда может обойтись еще дороже… Пожалуй, единственной полезной правдой, которую разболтала пресса, были настроения нашего конгресса. Благодаря тому, что немцы узнали эти настроения, любая миротворческая миссия американца была обречена на неудачу. Немцы поняли реальное положение дел. Если бы я вздумал уговаривать их или угрожать им гневом американцев, меня подняли бы насмех…
"Молчальник Самнер" говорил и говорил. Убаюканный его монотонным голосом, Доллас слушал все менее внимательно. За годы вынужденного общения с неинтересными ему людьми он выработал в себе незаменимое умение спать с открытыми глазами. Его сознание работало при этом как фильтр, свободно пропускающий через себя все, что было лишним, и автоматически включающий слух в те моменты, когда раздавались нужные слова.
Словно издалека, не оседая в памяти, до Долласа долетал рассказ Уэллеса:
- …Чиано сказал мне: пока происходили известные московские переговоры с англичанами и французами, он дважды совещался с Гитлером и Риббентропом. Немцы уверили Чиано, что соглашение, которое они стараются заключить с Россией, является лишь уловкой, направленной к тому, чтобы помешать англо–французско–русскому сближению. При этом Чиано откровенно сознался, что и он, как многие другие, не хотел бы иметь Гитлера своим соседом. После Чиано я виделся с Муссолини. Мы явились к нему в пять часов пополудни вместе с послом Филиппсом. Меня впустили через боковой вход, которым обычно пользуется сам дуче. Я принял это как благоприятный признак. Нас подняли в небольшом, опять‑таки "личном", лифте и повели по длиннейшему коридору, увешанному картинами. В приемной нас ожидал уже Чиано. Он провел нас в зал Большого фашистского совета, напоминающий зал дожей в венецианском "палаццо дукале", — вы, наверно, помните: пышный сарай багрового цвета… В глубине, на возвышении — похожее на трон кресло дуче. Несколько ниже, вокруг подковообразного стола — кресла для членов совета. В общем какая‑то нерониада. Игра! Странно видеть все это в двадцатом веке. Но то еще не был конец. Меня провели дальше, в кабинет Муссолини. Это было нечто еще более огромное, чем зал совета. При этом, заметьте, почти никакой мебели, кроме большого стола в глубине и оставленных для нас трех стульев…
Временами, когда отдельные фразы доходили до сознания Долласа, у него мелькала мысль, что следовало бы остановить неожиданно разговорившегося "молчальника", но, сам не зная почему, он этого не делал, предоставляя Уэллесу выговориться.
— Муссолини встретил меня любезно. Но я был потрясен: передо мною был старик, наружность которого не имела ничего общего с известными публике фотографиями. Движения дуче были неуклюжи; казалось, каждый шаг давался ему с трудом. Весь он был необычайно тяжеловесен, расплывшаяся маска лица была собрана в тысячу складок. В продолжение нашей длинной беседы он сидел с закрытыми глазами. Даже когда говорил, он вскидывал на меня взгляд только тогда, когда хотел подчеркнуть какое‑нибудь свое выражение. Под рукой у него стояла чашка с каким‑то горячим питьем, которое он то и дело отхлебывал… У меня на всю жизнь останется впечатление, что я побывал в гостях у какого‑то говорящего допотопного животного. — Умолкнув не надолго, Уэллес задумался. — На мой взгляд, из всего разговора его заинтересовал только мой вопрос о том, продолжает ли он заниматься верховой ездой. Тут он открыл глаза, и в них появились признаки оживления. "Разумеется, — сказал он, — верховая езда продолжается, но я увлекся и новым видом спорта — теннисом… Прежде я думал, что это игра для девиц, но теперь убедился: она требует такого же физического напряжения, как фехтование. Не дальше как сегодня я обыграл своего инструктора со счетом шесть к двум". Должен вам сознаться, дорогой Фостер, глядя на его фигуру, на усталые движения, на седую голову, я не очень‑то верил в высокие качества его инструктора. И тут же у меня мелькнула аналогия: не есть ли вся политика дуче — игра в поддавки?..
Доллас с усилием сбросил одолевавшую его сонливость и вяло проговорил:
— Дорогой Самнер, расскажите о ваших свиданиях с немцами.
Сбитый с мысли, Уэллес молча посмотрел на адвоката, потом перевел взгляд на потолок и все так же монотонно проговорил:
— Поговорим о немцах… Перед отъездом из Штатов Леги сказал мне: "Помните, Самнер: одна из ваших важнейших задач — дать понять немцам, что Россия слабее, чем хочет казаться. Лишь бы немцы не испугались собственной великой миссии. Франция — их тыл, Чехия — арсенал, Балканы — житница, Иран — нефть. Посулите этому псу Гитлеру все сокровища запада и востока".
Доллас остановил его движением руки.
— Адмирал говорил это от имени президента?
Вопрос имел большое значение для Долласа, и Доллас не мог получить на него ответа от кого‑нибудь другого. А всякая монополия — это деньги. Поэтому Уэллес уклончиво проговорил:
— Не знаю.
11
И снова сквозь дрему с открытыми глазами до Долласа долетал заунывный голос помощника государственного секретаря. Если бы Доллас слушал внимательно, он уловил бы в этом голосе новые нотки, когда речь зашла о посещении Берлина: почтение к тайному партнеру — гитлеризму и к его главарям.
- …Время моего приема господином фон Риббентропом было назначено на полдень. Меня сопровождал в здание министерства иностранных дел начальник протокольной части господин фон Дернберг. Наш поверенный в делах Керк, который до того ни разу не был принят господином Риббентропом, по моей просьбе сопровождал меня на это свидание. У входа в здание мы миновали двух сфинксов времен Бисмарка, которые, повидимому, являлись символами тайны и загадочности, обволакивающей внешнюю политику Германии. За дверью нас встретила целая орава штурмовиков. Они шеренгами выстроились вдоль лестницы. Их морды поразили меня: воплощение грубости… Честное слово, это посещение остается самым ярким воспоминанием от всей моей поездки в Европу…
— Вы хотите завести в государственном департаменте сфинксов и такие же порядки? — спросил Доллас.
— Американцы сошли бы с ума от одного количества форм и нашивок, которые мелькали там на каждом шагу. Галунов нехватало только сфинксам! Нет, это не для нас. Однако продолжаю. Сопровождаемый переводчиком Шмидтом, господин Риббентроп встретил меня у двери своего кабинета без малейшего признака улыбки и даже без единого слова приветствия.
— Но вы‑то, надеюсь, улыбнулись ему? — спросил Доллас.
— Пожалуй, чуть–чуть… Я произнес несколько слов по–английски, так как знаю, что господин Риббентроп бегло говорит на английском языке. Ведь он не только был послом в Лондоне, но до того достаточно долго торговал там, да и у нас в Штатах винами! Однако господин Риббентроп холодно посмотрел на меня и отрывистым лаем приказал Шмидту сделать немецкий перевод моих слов. Когда мы уселись, господин министр, опять‑таки по–немецки, спросил меня, хорошо ли я доехал.
— И вы не одернули этого наглеца?
— Мне же предстояло иметь с ним дело!
— Нужно было прижать его к стене.
— Не так просто, как вам кажется… Они отбились от рук. Риббентроп потратил почти два часа, чтобы мне ответить. Он вел себя, как дельфийский оракул.
— Я вижу: вам понадобилось терпение.
— Было бы скучно передавать подробности его речи. Вначале он старался взвалить на нас вину в ухудшении американо–германских отношений. Остальная часть его излияний представляла такую удивительную смесь неосведомленности и заведомой лжи, что я не стал бы молчать и разнес бы его в пух и прах, если бы не побоялся расстроить этим предстоящее свидание с Гитлером. Коротко: "Так же, как Штаты имеют свою доктрину Монро и проводят ее в западном полушарии, так Германия имеет право на подобную доктрину в Европе, а может быть, и во всем восточном полушарии". Спорить с ним было бесполезно!..
— Разумеется, — кивнув головой, подтвердил Доллас. — Хотя мы никогда не согласимся уступить им влияние в Восточной Азии.
— Лучше показать им это на деле, когда придет время. А сейчас нужно предоставить им утешаться любыми иллюзиями, если эти иллюзии могут прибавить им бодрости.
— Верная точка зрения. Вы ведь видели Гитлера?
— В одиннадцать утра несколько облаченных в мундиры чиновников министерства иностранных дел…
— Опять мундиры?
— Мне кажется, они даже спят в своих формах! Галуны возмещают им недостаток знаний и умения вести дела… Так, я говорю: чиновники явились в отель "Адлон", чтобы отвести меня в Имперскую канцелярию — новое здание, построенное по проекту самого Гитлера. Внешне это сооружение напоминает добротно выстроенный современный завод. Мы въехали во внутренний двор, окруженный высокими стенами. Там все так же неуклюже, как огромно… Не меньше роты солдат, выстроенных во дворе, приветствовали нас. У входа меня встретил начальник личной канцелярии Гитлера господин доктор Мейснер. Это…
— Знаю, — отрезал Доллас.
— По широчайшей лестнице мы попали в галлерею, обставленную мрачными, огромными фигурами. Странное искусство страшного режима.
— Чем страшнее, тем лучше.
— Меня сопровождало по крайней мере двадцать пар всякого рода чиновников — целая процессия факельщиков.
— Надеюсь, хоронили не ваши планы?
— Нужно было водрузить хорошую плиту на могилу тех, кто думал, будто может действовать за нашей спиной… Посте нескольких минут ожидания Мейснер сообщил, что Гитлер готов меня принять. Фюрер встретил меня любезно, но эта любезность была чересчур официальной для той миссии, с которой я пришел. Скажу вам откровенно, Фостер, этот человек произвел на меня совершенно неожиданное впечатление: он мне понравился. Да, говорю вам: все в нем нравится мне.
Доллас не мог себе представить, сколько времени прошло с тех пор, как он окончательно заснул, слушая гостя. Когда адвокат пришел в себя, Уэллес рассказывал уже о встрече с Гессом:
- …Узкий и низкий лоб кретина, глубоко сидящие глаза преступника и, вероятно, крошечный мозг человекообразного. Тем не менее у меня создалось впечатление, что этот человек облечен огромной властью и оказывает большое влияние на политику Гитлера. От него я услышал ясную концепцию: чтобы обеспечить миру длительный мир, необходима решительная победа национал–социалистской Германии.
— Прежде всего на востоке, не правда ли?
— По–моему, он имел в виду Европу и мир вообще.
— Ваша задача заключалась в том, чтобы вдолбить им всем: восток, восток, еще раз восток! Вы обязаны были представить им документальные доказательства того, что Россия не так страшна, как думают. На восток!.. А там будет видно.
— Наци не такие дураки, как нам хотелось бы.
— Жаль. С дураками легче живется.
— Предполагалось, что непосредственно после беседы с Гессом я, в сопровождении доктора Шмидта, отправлюсь в Каринхалле — резиденцию Геринга в Шорфейде. Хотя это не какая‑нибудь глушь, Геринг там надежно охраняется. Въезд в его поместье тянется на много миль по дороге, рассеченной воротами на замкнутые секторы. По мере приближения к каждым таким воротам они автоматически отворялись, приводимые в действие фотоэлементом. За нашей спиной они захлопывались, и раздавался пронзительный сигнальный звонок. Где‑то подсознательно все время торчит мысль, что вы едете в гигантскую тюрьму. По сторонам главной дороги, обнесенной решеткой, бегают дикие животные вплоть до зубров, которых Геринг вывез из Беловежской пущи. Тут все рассчитано на то, чтобы подавить воображение посетителя. Вплоть до бесчисленных кубков и другой дребедени, якобы поднесенной толстяку восторженным населением в ознаменование его красоты, доброты и охотничьего искусства. Адъютанты пытались отнять у меня время на осмотр этой дурацкой коллекции. К счастью, Геринг вышел мне навстречу, разогнал толпу адъютантов, и мы остались вчетвером: нас двое, Керр и Шмидт. Если бы звон орденов и медалей хозяина не заглушал его слов, то переводчик нам и не понадобился бы…
— Надеюсь, с Герингом вы быстро договорились? — спросил Доллас.
— Он меньше других пытался уверить меня, будто Германия вынуждена защищаться. Разговор с ним носил более деловой характер. Хотя должен вам сказать: его алчность превосходит аппетиты всех остальных, вместе взятых.
— Конкретно!
Уэллес стал подробно объяснять, в чем заключались требования Геринга. Доллас теперь не только внимательно слушал, но даже делал заметки в записной книжке.
То, что говорил Уэллес, не было похоже ни на былые прогнозы прессы по поводу его поездки, ни на его собственное заявление, опубликованное ко всеобщему сведению. Больше того: нынешний рассказ помощника государственного секретаря не соответствовал и его официальному докладу, представленному президенту Штатов через государственного секретаря Хэлла. Тут не было высоких фраз о миротворческой миссии Соединенных Штатов. Речь шла о реальном соотношении сил и влияний, дающих американским дельцам возможность взобраться на гору развалин, какие будет представлять собою Европа, если удастся поддержать огонь в кузнице войны. Если ключом к решению такого рода американских проблем в Европе прежде было золото, то теперь становились сталь, каучук, нефть, стратегическое сырье. Отпускать эти "лекарства" для заболевшей психозом войны Европы в той или другой дозе, отпускать тому или другому из воюющих — вот к чему должна была теперь сводиться политика ванденгеймов и их доверенных в торговле, в промышленности, в государственном аппарате. Обманчивые посулы территориальных приобретений и удовлетворения реваншистских стремлений хищников стали средством политики монополий. Тем более, что обещать чужое было легко. Тонкий намек на то, что для здорового существования Рура нужна лотарингская руда, заставлял гореть глаза Гитлера. Пущенное вскользь замечание о том, что Средиземное море не может стать итальянским, пока ключи от него — Гибралтар и Суэц — находятся в руках "посторонних", приводило в восторг Муссолини. Одновременно с этим в Лондоне можно было шепнуть, что священным правом бриттов является "раскупорка сицилийской пробки", тормозящей заморскую торговлю Англии, а в Париже дать понять, что французам не суждено спать спокойно, пока на Рейне хозяйничает Крупп…
Когда Самнер Уэллес закончил свое сообщение и, умолкнув, сложил руки на животе, Доллас порывисто поднялся с кресла. Ни на его пронырливой физиономии, ни в движениях не осталось и следа недавно владевшей им сонливости Маленькие глазки, сузившись, блестели жадностью и энергией, руки то с силою вонзались в карманы, то теребили лацканы пиджака, пальцы непрерывно двигались, как комок свившихся красных червей. Доллас больше не садился. Он стремительно перебегал от кресла к креслу, словно не находя себе места.
Уэллес все молчал.
Наконец Доллас остановился перед помощником государственного секретаря и быстро проговорил:
— Вы все именно так и рассказали президенту?
Уэллес сделал неопределенное движение пальцами скрещенных рук.
— ФДР слишком брезгливый человек.
В тот же день, когда состоялась эта встреча, в конторе "Доллас и Доллас" перебывало немало дипломатов и конгрессменов. Сам Фостер тоже сделал немало визитов. В ход пошло все, что могло подлить масла в пожар европейской войны. Наконец он представит Ванденгейму свой отчет об европейской ситуации и предложение о мерах, какие следует принять для того, чтобы не дать выбить американцев из ведущейся в Европе большой игры.
Этот политический момент ознаменовался событием, по–своему беспримерным в истории американских монополий: на секретное совещание, не в качестве соперников, а для заключения боевого союза, сошлись представители враждующих монополистических держав Моргана и Рокфеллера. Их усилия должны были быть объединены, чтобы спасти от взаимоуничтожения основные англо–германские силы европейской реакции. Держать Черчилля как острастку для Гитлера, а Гитлера заставить сбить спесь с Черчилля, ни в коем случае не дать им сговориться между собой без помощи американцев — такова была генеральная схема. Волей–неволей в качестве первого шага к ее осуществлению приходилось признать и логически довести до конца ту пакость, которую Черчилль устроил французам, — сделать Францию колонией Гитлера. Второй шаг — крепкий удар Геринга по английскому черепу. Для этого нужно было осуществить угрозу воздушного "блица" против Англии. Избрать какой‑нибудь промышленный центр, где нет американских интересов, и превратить его в показательную кучу камней. Можно наугад ткнуть пальцем в карту: пусть будет, скажем, Ковентри. В–третьих, необходимо безотлагательно подбросить помощь англичанам, чтобы они тут же дали по рукам Гитлеру, как только он вообразил, что настал последний день Англии.
Жестоко ошибся бы человек, который вообразил бы, будто все это говорилось уполномоченными финансовых и промышленных королей Америки в сколько‑нибудь завуалированной форме. В конце концов они были среди своих. К чему были фиговые листки? Можно было резвиться нагишом, подобно первобытным дикарям, размахивая дубинами. Так они и делали. Ачес рычал на Долласа, Доллас, скалил зубы на Ачеса. Исподтишка за всем приглядывал в качестве секретного наблюдателя от сената председатель комиссии по военной промышленности Гарри Фрумэн. Потом все сошлись в круг и, отложив дубины, обменялись рукопожатиями, подписавшись под великой хартией великих американских вольностей в Европе.
На следующий день поверенные сделали доклады своим патронам. Рокфеллер, Морган, Мэллон, Дюпон и другие незримые участники сговора утвердили соглашение своих адвокатов. Судьба Франции была решена. Напрасно метался французский премьер Рейно, взывая к "милосердию демократической Америки". Напрасно Черчилль сидел, судорожно вцепившись в подлокотники, и следил по карте, как одно за другим освобождаются на французском театре немецкие механизированные соединения, как переносятся на побережье пролива аэродромы Геринга, как мчатся через Рейн немецкие составы, груженные авиабомбами. Черчилль уже понял: не его двадцати пяти эскадрильям отбиться от армад Геринга, хотя бы эти эскадрильи и были вооружены теперь "Спитфайрами" вместо окончательно одряхлевших "Харрикейнов". Остатки жидких волос шевелились на голове британского премьера при мысли о том, что, как сам он предал Францию, чтобы заткнуть глотку нацистской гиене, точно так же янки могут предать Англию, чтобы подкормить Гитлера ее костями. Все было ужасно, все выходило за пределы ясного понимания даже самых "реальных политиков", какими тщились выглядеть господа члены английского кабинета. Конец нитки, за которую можно было бы размотать клубок, находился далеко по ту сторону океана. За него было не легко ухватиться.
От имени французского правительства Рейно отправил Рузвельту телеграмму с призывом о помощи. Этот призыв он назвал "последним". Погубив Францию, шайка интриганов и предателей во главе с Рейно теперь предприняла маневр, призванный в какой‑то мере обелить ее в глазах народа. Французский премьер говорил, что если не последует немедленно самая эффективная помощь Америки, Франция падет, Франция будет растоптана, Франция перестанет существовать! Это была демагогия.
Кабинет министров не расходился в ожидании ответа. Однако этот демагогический трюк провалился.
Накануне того утра, когда каблограмма Рейно прибыла в Вашингтон, у Рузвельта болела голова. По заявлению камердинера, президент в ту ночь спал дурно, забылся только на рассвете. Его беспокоили боли в ногах.
Некоторое время адмирал Леги, явившийся с утренним докладом президенту, в задумчивости смотрел на камердинера, потом медленно повернулся и не спеша побрел прочь. Он шел по коридору, якобы от нечего делать заглядывая в еще пустые комнаты. Так дошел он до кабинета Гопкинса.
Леги отлично знал, что Гопкинс, мучимый болезнью, спит очень мало, встает рано и является на служебную половину Белого дома чуть ли не одновременно с неграми–уборщиками. Однако адмирал счел нужным состроить удивленную мину:
— Уже на ногах?
Гопкинс с кислым видом поглядел на Леги: у него сегодня особенно мучительно болел живот.
Адмирал протянул советнику телеграмму премьера Рейно. Гопкинс проглядел ее без всякого интереса и вернул, не сказав ни слова. Посмотрел на часы: стрелки показывали девять. Обычно президент уже полчаса как бодрствовал: к этому времени он мог быть в столовой. Гопкинс вопросительно посмотрел на Леги:
— Идете докладывать?
— Он еще спит.
Гопкинс нахмурился и несколько мгновений оставался в раздумье.
— Будить, пожалуй, не следует…
Это было сказано тихо и неопределенно, но Леги поспешил ответить согласным кивком головы и отправился к себе.
Прошел час. В дверь его комнаты коротко постучали, и на пороге показался Гопкинс.
— Сам велел сейчас же сообщить в Тур, что Штаты готовы утроить помощь французам.
Ошеломленный Леги отбросил карандаш.
— Вы ему все‑таки сказали! — В голосе адмирала слышался испуг, но он тут же рассмеялся и, поймав катящийся по столу карандаш, приготовился писать. — Ну же!
— Что вы намерены писать?
— Все, что угодно патрону: хотя бы об удесятерений нашей помощи Франции, но с маленькой припиской: "Однако не раньше, чем получим на это согласие конгресса…" Это спасет его от неприятностей с мулами.
Несколько мгновений Гопкинс в нерешительности смотрел на Леги.
— Но ведь это же равносильно тому, что ответа не будет…
— Диктуйте, Гарри, — с усмешкой сказал адмирал.
В окрестностях Тура наступила предвечерняя прохлада, а в городе было еще жарко. Старые каменные дома были накалены. В большом зале ратуши, с растерзанными галстуками, в одних жилетах, а кое‑кто и без жилетов, все еще сидели министры Франции. Воспаленные, сонно–равнодушные глаза, потемневшие от небритой щетины лица, пряди волос, неряшливо свисающие на потные лбы, позы — все свидетельствовало о том, что этим людям скоро будет безразлично все.
Министры ждали ответа из‑за океана. Посол "великой заокеанской демократии" не дал себе труда последовать за французским правительством в Тур Уильям Буллит остался в Париже, чтобы встретить своих немецких друзей, и прежде всего, чтобы принять неожиданно и тайно появившегося в Париже Отто Абеца. В тот вечер 13 июня 1940 года, накануне вступления в Париж немецко–фашистских войск, в малой гостиной посольского особняка Соединенных Штатов Буллит сказал мужу своей бывшей приятельницы:
— Дорогой друг, пока я представляю тут Соединенные Штаты, вы можете быть покойны, — Буллит дружески положил руку на плечо Абеца. — Никто не вытащит из‑под тюфяка умирающей Франции того, что предназначено вам… Если бы только я мог связаться с нашими друзьями в Вашингтоне…
— Что вам мешает?
— Телефонная связь с Америкой прервана.
— Я устрою вам разговор через Берлин, — после минутного колебания сказал Абец.
Действительно, оказалось достаточно нескольких слов Риббентропу, и тот обещал в ту же ночь связать Буллита с Леги.
После полуночи, когда Абец уже спал, Вашингтон вызвал Буллита по проводу через Берлин. Буллит услышал в трубке голос Леги:
— Можете информировать кого нужно: Рейно получит ответ дня через два. Примерное содержание: "Мы удвоим усилия, чтобы помочь Франции. Но для их реализации нам нужно согласие конгресса". Вы меня поняли? — спросил адмирал.
— Вполне… Не может быть никаких неожиданностей со стороны самого?
— Я беру его на себя.
— Короче говоря: положительного ответа не будет?
— Да, — решительно отрезал адмирал.
— Спасибо, Уильям! — вырвалось у Буллита.
— Не за что, Уильям. Только не теряйте времени там, а тут все будет в порядке…
Положив трубку, Буллит радостно потер руки и про себя повторил: "Ответа не будет!.."
Утром Буллит сказал Абецу:
— Я очень хотел бы, чтобы вы, не теряя времени, отправились в ставку фюрера. Вы должны передать ему, что все в порядке: Франция должна рассчитывать только на себя. Значит, руки для действий над Англией у вас развязаны. Однако, — тут Буллит заговорил шопотом, — однако из этого вовсе не следует, что обязательства относительно России снимаются с фюрера. Напротив того: уничтожение Франции и право дать хорошего тумака англичанам — только поощрение, щедрое поощрение к активности на востоке…
Буллит настолько понизил голос, что даже если бы в комнате имелись самые тонкие приборы подслушивания, они не могли бы уловить того, что слетало с уст посла заокеанской республики и было предназначено для передачи самому отвратительному тирану, какого знала Европа тех дней, — Гитлеру.
Получасом позже Абец поправил перед зеркалом наспех наклеенные черные усики, надел очки, которых никогда до того не носил, и с ужимками сценического злодея покинул посольство через черный ход. Он спешил обежать еще нескольких парижских друзей фюрера, прежде чем отправиться в его ставку с поручением Буллита. По пятам за ним следовал страшный слух: "Ответа не будет…"
"Ответа не будет… Ответа не будет!.."
Это сообщение поползло из Парижа. Оно летело по Франции, как струя отравленного ветра, проникало в города, в деревни, нагоняло бредущих по дорогам беглецов, извиваясь, ползло по рядам солдат: "Ответа не будет…"
Скоро слух достиг Англии. Он пробивался сквозь туман лондонских улиц, мутной мглой заволакивал и без того смятенные умы англичан: "Ответа не будет…"
Но еще раньше, чем это сообщение стало известно в Лондоне, оно уже значилось в разведывательных сводках германского командования. Сводки лежали уже на столе Гитлера, Геринга, Кейтеля, Гальдера, Рундштедта и Гаусса. Канцелярия Риббентропа поспешно размножала копии для руководства нацистской партии: "Ответа не будет".
Все завертелось, как в бешеной карусели.
14 июня пал Париж.
16 июня, шантажируя Францию неизбежностью разгрома, Черчилль предложил ей стать частью Британской империи.
17–го Петэн объявил по радио, что взял на себя руководство правительством.
18–го Петэн и Вейган объявили все французские города с населением более 20 тысяч душ открытыми.
19–го французский кабинет не расходился целый день в напрасном ожидании ответа Гитлера на просьбу о перемирии.
20–го Гитлер приказал французским представителям явиться для получения условий перемирия.
Берлинская "Нахтаусгабе" писала: "Время жалости прошло".
Гаусс приказал подать себе легковой автомобиль в сопровождении двух броневиков. На прощанье он сказал Манштейну:
— Через несколько дней я вернусь, хотя делать здесь больше нечего. — И несколько иронически сощурил левый глаз за стеклышком монокля. — Советую не терять времени, если не хотите опоздать со своим следующим планом.
Манштейн сухо поклонился:
— Я никогда и никуда не опаздываю, экселенц.
Гаусс сердито хлопнул дверцей, и его автомобиль умчался, вздымая клубы пыли на никем не подметаемой улице. Генерал беспокойно ерзал на просторной задней подушке. Его снедало беспокойство: поспеет ли он в Париж, прежде чем гитлеровские башибузуки разграбят его сокровища? От нервного возбуждения Гаусс машинально ощупывал засунутый в боковой карман список того, чем следовало завладеть в картинных галлереях и салонах французской столицы.
12
— Дьявольски жаркий июнь! — сказал сын президента, Франклин Рузвельт младший, и подвинул соломенный шезлонг, на котором лежал, дальше в тень.
Пятна света торопливо обегали отбрасываемую деревьями тень. Солнце заглядывало во все закоулки парка. Если бы не сильный вентилятор, то даже под большим парусиновым зонтиком, пристроенным у огромного вяза, где лежали президент с сыном, стало бы нечем дышать. Мухи назойливо гудели, не в силах преодолеть отгонявшую их струю вентилятора.
Переставив шезлонг в тень дерева, Франклин младший оказался отделенным от отца толстым стволом вяза. Пришлось поневоле повысить голос, и беседа сразу утратила интимность, которая так устраивала сына. Он приехал в Гайд–парк ради того, чтобы выведать у отца кое‑что о предстоящих изменениях в налоге на сверхприбыль и потолковать еще об одном важном деле. Будучи уже три года женат на Этель Дюпон, дочери Юджина Дюпона де Немур, Франклин постепенно переходил из лагеря отца, при всяком удобном случае прокламировавшего мир, в стан одной из самых агрессивных групп американских монополистов — военно–промышленной группы "Дюпон".
Президент не был наивным человеком и понимал, что этот брак был, вероятно, устроен Дюпонами не столько из желания породниться со старым аристократическим, по американским понятиям, родом Рузвельтов, сколько из чисто деловых соображений. Получить в семью сына президента — сделка, стоящая одной из девиц Дюпон. Рузвельт, правда, ничем и никогда не выдавая этих подозрений своему сыну, но в их отношениях поневоле исчезла былая простота. Президент любил делиться с сыновьями мыслями, любил рассказывать им свои планы, пробовать на них, как на оселке, меткие характеристики людей. Но чем крепче Дюпоны втягивали Франклина в атмосферу своей деятельности, целиком направленной ко взрыву мира только ради их, Дюпонов, выгоды, тем меньше точек соприкосновения оставалось у отца с сыном.
Опытное в делах и чуткое в личных отношениях ухо Рузвельта легко уловило тот момент, когда Франклин от пустой болтовни, служившей вступлением, перешел к вопросу о налогах. Президент не мешал сыну высказаться, но не спешил с ответом и откровенно обрадовался, когда в аллее показалась фигура его младшего сына, Эллиота.
— Видишь, отец, я обещал заехать и заехал, хотя очень тороплюсь к себе в Техас! — весело крикнул Эллиот.
— Не терпится фаршировать людям мозги?
— О, как ты можешь! Моя радиокомпания выдает слушателям только самый доброкачественный материал.
— Фарш всегда остается фаршем. Если его суть не склеить кое–какой дрянью… — Рузвельт рассмеялся и, не договорив, ласково потрепал по плечу усевшегося прямо на землю Эллиота.
Несколько минут разговор вертелся на пустяках, новостях, сплетнях. Вдруг и младший сын заговорил о налогах. Это неприятно кольнуло Рузвельта.
— Что тебя беспокоит, мальчик? — ласково, но не скрывая удивления, спросил он.
— То же, чем обеспокоен теперь каждый предприниматель: налоги, налоги! Моргентау затягивает петлю на нашей шее — на шее коммерсантов средней руки.
— Не говори глупостей, Эллиот! — раздался резкий голос Франклина. — Никто не собирается вас душить. Но жертвовать интересами крупных компаний, являющихся становым хребтом промышленности, ради того, чтобы удержать от естественного крушения кучу мелкоты, было бы преступлением.
— Мы — куча мелкоты? — спросил пораженный Эллиот.
— Там, где речь идет о гигантских задачах… — начал было Франклин, но Эллиот не дал ему договорить.
— Значит, всякий американский предприниматель, у которого меньше долларов, чем у Дюпона, и который не может покрывать свои долги такими же фиктивными комбинациями, должен погибнуть?.. Ты понимаешь, папа, что говорит Фрэнк?!
Но прежде чем Рузвельт успел вставить слово, Франклин сам ответил младшему брату:
— Милый мой, Штаты не могут и не должны, я бы даже сказал: не имеют права, ставить себя под угрозу новых экономических потрясений ради спасения армии лавочников. Штаты — великая держава, с великим будущим. Ее базисом являются и всегда останутся большие капиталы, большие дельцы, а не дырявые кошельки тех, кого ты называешь независимыми предпринимателями. В действительности эти люди только плохие дельцы, страдающие отсутствием чутья, не знающие условий рынка. Они смахивают на дурачков, ложащихся поперек рельсов в идиотской уверенности, что это остановит поезд. А поезд идет и должен итти. Он раздавит дураков. Понял?
Эллиот, не отвечая, растерянно смотрел на брата.
А Франклин в раздражении поднялся со своего шезлонга.
— Извини, папа… Ты позволишь мне зайти к тебе попозже? — И суше, чем обычно сыновья разговаривали с Рузвельтом, добавил: — Мне нужно с тобой поговорить.
Эллиот, хмурясь, смотрел вслед удалявшемуся брату.
— Из‑за чего ты так раскипятился? — спросил Рузвельт.
— А ты, папа, и не заметил, что раскипятился вовсе не я, а он.
— Вам не о чем спорить.
— Есть о чем!.. Именно тех‑то, к кому теперь принадлежит и Франклин, мы, средние предприниматели, и боимся. Они заставят вас покончить с нами.
— Что ты там болтаешь?
— Ваш новый закон им нипочем. Но нам придется так туго, так туго!..
Эллиот снизу вверх посмотрел в задумчивое лицо отца. Рузвельт прикоснулся пальцем к его лбу.
— Выкинь это из головы. Слышишь: все! Ясно, что этот новый налог, как и всякий новый налог, не всем по душе.
— Но это же смерть для многих!
— Обычно я больше, чем кто‑либо другой, забочусь о том, чтобы дать дышать и маленькой рыбе. Я всегда стремился дать мелкому предпринимателю шанс в борьбе с крупными компаниями…
— Будем откровенны, отец: только для того, чтобы дать допинга тем, кто покрупнее. А те, в свою очередь, должны были подталкивать еще более крупных. Так — до самой вершины.
— Друг мой, — уклончиво ответил Рузвельт. — я же не председатель филантропического общества содействия бакалейной торговле. Передо мной задача куда более серьезная. Хочешь, я тебе скажу?..
И вдруг умолк. Эллиот в нетерпении смотрел на него.
— Речь идет о споре за мир, понимаешь, за весь мир, мой мальчик, — продолжал Рузвельт. — Не хочешь же ты, чтобы мы полезли в такую драку, поддерживаемые только мелкими лавочниками?
— Значит, мы должны убираться с дороги? — спросил Эллиот.
— В моей жизни были такие же минуты, малыш, — ласково проговорил Рузвельт. — Когда я начал свое омаровое дело, то искренно воображал, будто спасаю Штаты. И уж во всяком случае свое собственное состояние. А позже я понял: все это пустяки. Совсем не тем нам нужно заниматься, совсем не тем… Брось‑ка ты свои радиостанции, сынок. Слава богу, в моих руках еще есть немного власти, чтобы открыть перед тобою более широкие ворота.
— Но мне нравится это дело, отец!
— Мало ли кому что нравится. Речь идет о том, чтобы положить на обе лопатки всех, кто против нас, а не о забаве. Понимаешь, нужно нокаутировать всех, кто противостоит мне, и тебе, и Франклину — всем!
— Кого ты имеешь в виду, отец?
— Попробуй разобраться сам… Если запутаешься, я помогу. Но помни: предстоит не развлечение, а чертовски серьезная драка. Драка за весь мир… Понял? — И вдруг, меняя тон: — Ты уже пил кофе?
Эллиот понял, что отец хочет остаться один.
— Хорошо, папа. Я вовсе не намерен донкихотствовать. Но боюсь, что без твоей помощи мне не удастся добиться того, что мне нужно в новой области.
— Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Только смотри, чтобы не стали болтать, будто тебе везет потому, что ты сын президента.
— Болтать не будут! — решительно заявил Эллиот. — Я не такой сосунок в делах. — И он поднялся с земли, намереваясь уйти.
— Погоди‑ка, — остановил его Рузвельт. — Дай мне этот конверт и тот вон каталог.
Эллиот подал ему конверт и толстый каталог филателии.
Выключив вентилятор, Рузвельт с нескрываемым удовольствием вскрыл толстый конверт, из которого посыпались марки, и принялся исследовать их сквозь лупу.
Через час за этим занятием его застал Гопкинс.
Рузвельт неохотно отложил лупу и таким жестом, словно его лишали большого удовольствия, сдвинул разложенные по листу картона марки.
Гопкинс сказал без предисловий:
— Вы велели, патрон, не стесняться с опустошением арсеналов…
— Да, да, — поспешно подхватил Рузвельт, — Черчиллю нужно послать все, что у нас есть лишнего.
— Ну, — Гопкинс усмехнулся, — Джордж не очень‑то уверен в том, что все это лишнее.
— А, Маршалл скопидом! Не обращайте внимания. Давайте англичанам все, что есть.
— Речь идет о полумиллионе винтовок, — продолжал Гопкинс, — восьмидесяти тысячах пулеметов, ста тридцати миллионах патронов, тысяче полевых орудий и миллионе снарядов. Там есть авиабомбы, порох и другая мелочь…
— Мы должны поддержать боевой дух англичан, — весело проговорил Рузвельт. — Для этого можно было бы и оторвать кое‑что от себя. Хотя я убежден, что Джордж преувеличивает: на нашу долю кое‑что останется.
— Мне тоже так кажется, — кивнул головой Гопкинс. — Все, что мы даем, — отчаянное старье. Главным образом из запасов прошлой войны.
— Тем более, тем более, Гарри! Отдайте все это англичанам. Они должны видеть, что мы о них заботимся, должны чувствовать нашу дружескую руку.
— Есть одно затруднение, патрон, — в сомнении проговорил Гопкинс: — правительство Штатов не имеет права продать все это иностранцам.
— Так подарим!
— Подарить мы тоже не можем… Конгресс растерзал бы нас, а республиканцы въехали бы на таком предвыборном коне в Белый дом, как к себе домой.
— Неважный каламбур, Гарри, хотя и правильный, — с видимым огорчением произнес президент. — Так что же делать? Мы же не можем подставить англичан голыми под удар Гитлера. Это имело бы трагические последствия.
— И для нас самих в первую очередь.
— Ну, о себе то я не думаю! — искренно воскликнул Рузвельт. — Нужно спасать англичан.
— Есть выход, — помедлив, как будто это только что пришло ему в голову, сказал Гопкинс.
— Ну, ну, скорее же, Гарри!
— Мы можем продать весь этот хлам любому американцу…
Рузвельт в возбуждении ударил Гопкинса по руке:
— Молодец, Гарри! Я уже понял: мы продаем американцу, 9 американец, как частное лицо, может продать кому угодно.
— Даже англичанам, — улыбнулся Гопкинс.
— Молодчина, Гарри! Давайте такого американца.
Тут Гопкинс снова сделал такой вид, будто задумался, хотя все было у него заранее продумано и решено. Имя Джона Ванденгейма вовсе не неожиданно сорвалось у него с языка.
Рузвельт не возражал. Ему было все равно. В этот момент ему и в голову не пришло, что купленное у правительства за гроши вооружение будет в тот же день по десятикратной цене продано Англии.
— Уломайте Маршалла и его чиновников не тянуть дело, — возбужденно торопил он Гопкинса. — Цена не имеет для нас значения. Пусть это будет что‑нибудь чисто символическое, скажем — миллион долларов.
— Хорошо, патрон, — безразлично ответил Гопкинс.
— Этим мы убьем сразу двух зайцев…
Рузвельт не досказал своей мысли, но Гопкинс понял и так: выборы на носу. А Ванденгейм был не последней пешкой в предвыборной игре.
В тот же день потные пальцы Долласа зафиксировали для патрона сделку на приобретенное у военного министерства США за один миллион долларов вооружение, по подсчету Долласа стоившее 37 миллионов 561 тысячу 418 долларов и 40 центов.
Вечером, в кругу семьи, собственноручно смешивая для сыновей традиционный стаканчик "Мартини", Рузвельт с воодушевлением рассказал о придуманном Гопкинсом замечательном ходе с продажей вооружения, так необходимого Англии. Увлеченный своим рассказом и взбалтыванием коктейля, Рузвельт и не заметил, как при словах о "символической" сделке с Ванденгеймом побледнел его сын Франклин.
Франклин с трудом допил "Мартини" и, сославшись на головную боль, ушел. Его распирало бессильное бешенство: как глупо было утром завести эту болтовню о налогах, вместо того чтобы прямо переговорить с отцом о деле, ради которого он сюда и приехал, — об этом самом вооружении. Напрасным оказался сигнал, полученный Дюпоном от Джорджа Маршалла, о намеченной продаже! Он, Франклин, как мальчишка, провалил первое серьезное дело, порученное ему новыми родственниками. Как мальчишка!..
Между тем его отец, Франклин Делано старший, отлично проведя ночь, проснулся все еще под впечатлением вчерашнего дела: тысяча пушек, может быть, и не бог весть какой куш, но если прибавить к ним 80 тысяч пулеметов, то не каждый день такие подарки падают в пасть Черчилля!
Поэтому, когда, как всегда, первым явился с докладом Леги, Рузвельт встретил его в самом благодушном настроении. Леги не стоило труда провести проект, который давно был им разработан вместе с морским министром Ноксом. Проект заключался в том, чтобы решительным образом использовать затруднительное положение, в котором оказалась Англия, а перехватить у нее все или хотя бы почти все морские базы в Атлантике, необходимые Соединенным Штатам для вступления в последнюю фазу начавшейся войны. Нокс и Леги предложили отдать Англии бесплатно пятьдесят эсминцев, в которых сейчас остро нуждалась островная империя для ведения борьбы с немецкими подводными лодками. В обмен на этот подарок следовало потребовать во временную, на девяносто лет, аренду куски британской территории на островах в Караибском море и на Ньюфаундленде для создания там американских военно–морских и авиационных баз, которые в первую очередь должны были обеспечить морской и воздушный мост между Штатами и Европой.
Делая свой утренний доклад президенту, Леги, опытный начальник штаба, искусно сглаживал все, что могло покоробить слух Рузвельта. Не было слов "потребовать", не было и мысли о том, чтобы "прижать" англичан, пользуясь их критическим положением. Ни звуком не упоминалось, что отдаваемые Англии пятьдесят эсминцев — старый хлам, до того заржавевший, что пушки на них перестали поворачиваться, что люки не задраивались, днища текли.
С видом старого вояки, чьи глаза увлажняются от умиления при собственных словах, Леги говорил президенту о высокой миссии наций английского языка, о руке помощи американских внуков английским дедам, о подарке в полусотню боевых кораблей да к тому же еще об обязательстве взять на себя сооружение военных баз на пустырях заброшенных тропических и арктических владений дряхлеющей милой Англии, необходимых для зашиты самой же Англии.
Со стороны Леги все было точно рассчитано Рузвельт тут же принялся с воодушевлением диктовать телеграфное послание Черчиллю:
"Бывшему морскому чину.
Рука дающего да не оскудеет!.."
И вдруг рассмеялся:
— Вы представляете себе, старина, какой шквал проклятий посыплется на мою голову, как только конгресс узнает об этой проделке, а? — Рузвельт смеялся с такой мальчишеской непосредственностью, что можно было подумать, будто речь идет о веселой шалости. — Притом я один, своей властью, не спросясь этих мулов!
Но Леги заявил с серьезным видом:
— Они легко утешатся, сэр… — И принялся один за другим загибать пальцы: — Бермуды, Багамские острова Тринидад, Британская Гвиана, Ньюфаундленд, Лабрадор, Исландия, Гренландия… Если бы к этому прибавить еще Гибралтар, Мальту, Сингапур, Гонконг… Если мы не поможем Англии и не примем того, что валится у нее из рук, Гитлер оторвет все это вместе с руками.
— Но, но, не так‑то скоро, старина! — проговорил Рузвельт. — Ему пока есть над чем танцевать.
Произнося эти слова, Рузвельт и не подозревал, как он был прав в самом буквальном смысле. В этот самый миг по другую сторону Атлантического океана, на земле, за несколько недель до того еще бывшей Францией, действительно танцовал Гитлер. Он плясал, вскидывая огромные ступни, обутые в высокие лакированные сапоги бутылками, строил гримасы и смешно взмахивал руками. Это было нечто вроде припадка безумия, овладевшего фюрером по выходе из знаменитого вагона в Компьене, где немецко–фашистское командование только что вручило французским делегатам условия перемирия, которого просило французское правительство. Это был день величайшего торжества "национального барабанщика". Он должен был дать выход владевшему им возбуждению. Так как тут не на кого было кричать, не было причин рычать и выносить смертные приговоры, то он и танцевал. Точь–в-точь, как каннибал между актом обозрения приведенных ему на съедение пленных и самой операцией заглатывания первых кусков препарированного врага.
То был час, когда солнце, поднявшись до зенита над Атлантикой, еще только заглянуло в кабинет президента Рузвельта, где он беседовал с Леги. Но над восточным полушарием оно успело уже пройти половину своего пути, и на площадку перед вагоном в Компьенском лесу, где плясал Гитлер, уже ложились длинные тени деревьев.
Исторический вагон, в котором 11 ноября 1918 года маршал Фош вручил германским представителям условия перемирия, находился теперь на том самом месте, где это произошло тогда. Большая надпись против вагона напоминала французским парламентерам о позоре, испитом здесь двадцать два года назад немецкими генералами. Ныне, возглавляемые ефрейтором, эти генералы гордо восседали в вагоне, сверкая галунами и регалиями. Французы же, потупясь, слушали тяжелые условия выпрошенного ими позорного перемирия.
А снаружи, окруженный улыбающимися Герингом, Гессом и адъютантами, выплясывал Гитлер.
Вдруг неподалеку послышался стремительно нарастающий гул автомобиля. Он смолк, как отрубленный. Через минуту на площадку выбежал Кроне в запыленном плаще, наброшенном прямо на форму СС. Геринг тотчас направился ему навстречу. Кроне склонился к уху рейхсмаршала. Тихонько разговаривая, они отошли в сторону. Никто не обратил особенного внимания на эту сцену. Но по мере того как они беседовали, короткие толстые пальцы Геринга все беспокойнее бегали по широкой груди, цепляясь за пуговицы, за шнуры аксельбантов, за побрякушки бесчисленных орденов. Лицо рейхсмаршала наливалось кровью, глаза начинали выпучиваться. Он судорожно вцепился в руку Кроне и, что‑то приказав, отпустил движением руки. После того Геринг торопливо подошел к Гитлеру и, отведя его в сторону, негромко, так, чтобы не слышали остальные, выпалил:
— Я могу начать воздушный блиц против Англии!
При этом на губах его от возбуждения появилась пена.
Теперь Гитлер, точно так же, как за минуту до того сам Геринг, выпучив глаза, смотрел на собеседника. Он с трудом выговорил:
— Вы же знаете: это означало бы войну с Америкой.
Геринг приблизил свое багровое лицо к самому лицу фюрера:
— В том‑то и дело: мы можем перемолоть Лондон в муку, и это вовсе не будет означать войны с Америкой…
Тут Гитлер проделал ногами такое же приплясывающее движение, как при выходе из вагона.
— Геринг, ваш день настал! Великий день! — крикнул он. — Германская история определила вам начать осуществление плана "Морской лев". Вы первый покажете этим проклятым английским тупицам, что их острова — вовсе и не острова. Вы превратите их паршивый Лондон в пыль, вы собьете, наконец, спесь с этих несносных золотых мешков из Сити! Вы… вы…
Задыхаясь от восторга, он напрасно пытался подобрать подходящие к случаю слова. Все казалось ему недостаточно сильным. А по мере того как он говорил, Геринг все больше багровел, весь раздувался от важности и самодовольства. Для него это был исторический момент: он поставит на колени Англию!
Геринг вскинул толстую руку с оттопыренным мизинцем, на котором темнел огромный сапфир, и выкрикнул то, что думал:
— Мой фюрер, я поставлю Англию на колени в вашу честь! Я заставлю англичан прославлять вас, стоя по щиколотку в крови! Можете считать, мой фюрер, что Англии больше нет, она не существует!
Вероятно, он еще долго выкрикивал бы эти угрозы и похвальбы, если бы между ним и Гитлером, как медленно плывущее привидение, не появилась долговязая фигура Гесса. Не глядя на Геринга, даже повернувшись к нему спиной, он спокойно и тихо проговорил:
— Мой фюрер, вы, очевидно, забыли об утреннем сообщении Абеца.
Эти слова подействовали на Гитлера, как удар дубины на разъярившегося быка. В первый момент он было совсем обмяк, даже испуганно посмотрел на Гесса. И голос его звучал далеко не так свирепо, как прежде, когда он ответил:
— Я… помню… Я все помню, Гесс. Англия никогда не была для меня самоцелью.
Однако в следующий миг он уже снова был прежним Гитлером: широкий шаг, театральные жесты, громкий хриплый голос. Отвернувшись от Геринга, он быстрыми шагами вернулся к группе генералов, к которым присоединились спустившиеся из вагона Кейтель, Браухич и Редер с толпою штабных и адъютантов.
При приближении Гитлера все смолкли. Он резко остановился и, задыхаясь от возбуждения, проговорил:
— Господа!.. Сегодня мы переступили порог история!.. Будущее Германии на тысячелетие вперед определилось в эту минуту. Я определил его!.. Кейтель!
— Мой фюрер!
— План, который я приказал вам начать разрабатывать, будет называться планом "Барбаросса"…
— Мой фюрер, — послышался тут возбужденный возглас Геринга, — мы условились называть его планом "Морской лев"!
Гитлер повел в его сторону налившимися кровью глазами:
— Молчите, Геринг, когда говорю я!.. План "Морской лев" — ваше дело. Это дело второстепенной, третьестепенной важности. Я поручаю вам его целиком: Англия должна быть потрясена, но главное не там…
— Англия будет поставлена… — начал было Геринг, но Гитлер, выходя из себя, захрипел:
— Англия! Англия!.. План "Барбаросса" — вот о чем будет теперь думать каждый немец! План "Барбаросса" — вот где судьба Германии!.. Кейтель!
— Мой фюрер!
— Ускорить разработку плана!
— Да, мой фюрер!
— Шпеер!
— Мой фюрер!
— Забудьте о том, что есть что‑нибудь, кроме плана "Барбаросса".
— Да, мой фюрер.
— План "Барбаросса" — вот где моя судьба!
В воцарившемся молчании послышался голос Гесса:
— Хайль Гитлер!
Он крикнул это так неожиданно и громко, что стоявший подле него Гаусс отшатнулся. В его мозгу пронеслась испуганная мысль: "Барбаросса"!.. Мы знаем, где мы начали, но один бог ведает, где кончим!"
В тот же день подробный отчет о том, что произошло в Компьенском лесу, был отослан Кроне — Мак–Кронином — по двум каналам. Один канал принес этот отчет Фостеру Долласу и через него Ванденгейму, другой — адмиралу Леги.
Выслушав сообщение, Ванденгейм сказал своему адвокату:
— Деньги, вложенные в этого Гитлера, не пропадут.
— Да, чертовски важный момент, — глубокомысленно согласился Доллас. — Я бы даже сказал, исторический момент!
— Но смешна эта любовь к средневековой пышности. Почему "Барбаросса"?
— Пусть хоть "Генрих Птицелов". Наплевать на обложку, лишь бы нам подходило содержание.
— Поезжайте к Леги. Он должен это знать, — приказал Ванденгейм. И крикнул вслед Долласу: — И пришлите сюда стенографа! Я продиктую поздравительную телеграмму Герингу. Мой гиппопотамчик заслужил похвалы!
Когда Доллас приехал в Вашингтон к Леги, оказалось, что адмирал уже знает все. Адвокату очень хотелось откровенно поговорить с адъютантом президента, но его стесняло присутствие сидевшего тут же Фрумэна. Однако Леги, повидимому, считал сенатора вполне своим человеком и был при нем совершенно откровенен. На вопрос Долласа, намерен ли Леги доложить об известии президенту, адмирал, подумав, ответил:
— Старик может испортить все дело: начнутся разговоры о локализации конфликта, об отвратительном лике фашизма и прочее. Пусть все идет своим чередом. Когда придут официальные сведения — другое дело. Тут хозяину откроется полная возможность проявить свою любовь к человечеству. Но тогда уже будет поздно останавливать машину. Надеюсь, что Геринг не станет терять время на размышления и поддаст жару англичанам.
— Да, этот тянуть не станет, — с уверенностью констатировал Доллас.
— И прекрасно! Узнать, что Джон Буль ползает на коленях, — лучший бальзам для патрона. Он, разумеется, произнесет несколько громких фраз и наверняка отправит по телеграфу самое трогательное послание "бывшему морскому чину", но это не имеет значения. В конце концов, Тридцать второй — трезвый политик. Уж я‑то его достаточно знаю.
— А не думаете ли вы, что, спустив бешеную собаку на Англию, мы тем самым отвлечем ее от главной цели охоты? — с опаскою спросил Доллас.
— Ничуть! — с уверенностью ответил Леги. — План "Барбаросса" — его очередная и важнейшая задача, и чем меньше мы будем мешать Гитлеру, тем скорее план будет готов. А что нам, собственно говоря, еще нужно?
— Ничего! — послышался вдруг резкий возглас из полутемного угла, где сидел Фрумэн.
Доллас успел забыть о присутствии сенатора и теперь с удивлением оглядел его маленькую фигурку и злое лицо с плотно сжатыми губами огромного рта. Большие роговые очки Фрумэна поблескивали, как глаза фантастического филина.
— Что вы хотите сказать? — спросил Доллас.
Фрумэн метнул в его сторону сердитый взгляд и выкрикнул:
— Если выяснится, что столкновение с Россией дается Гитлеру слишком легко, необходимо будет помочь России.
При этих словах сенатора Леги удивленно на него уставился. Заметив его взгляд, Фрумэн тут же крикнул с азартом:
— Но если мы увидим, что просчитались с планом "Барбаросса" и Гитлеру приходится слишком туго, мы будем обязаны помочь ему! И поможем так, чтобы у России затрещали кости! Да, да, джентльмены! Именно это я и хотел сказать.
Фрумэн поспешно поднялся и, на ходу поклонившись обоим, засеменил к выходу.
Леги подмигнул ему вслед и, когда дверь затворилась, спросил Долласа:
— Как вам нравится этот парень?
— Когда‑нибудь, когда нам понадобится президент, этот парень будет весьма кстати.

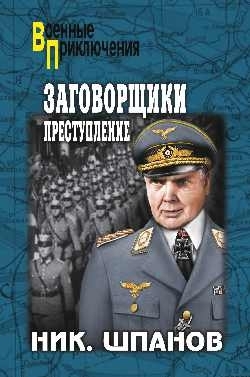


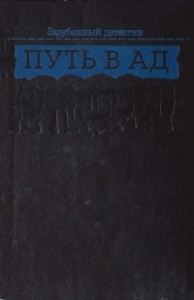
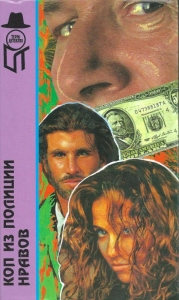



Комментарии к книге «Заговорщики. Преступление», Николай Николаевич Шпанов
Всего 0 комментариев