Александр Остапович Авдеенко Дунайские ночи
Часть первая «РУКОПОЖАТИЕ»
Летом 1956 года на столе полковника Шатрова появилась расшифрованная телеграмма периферийного управления государственной безопасности. Она оттеснила другие дела на второй план и послужила истоком многих событий ближайших недель и месяцев.
«Сегодня в местные отделения милиции, — сообщали из города Н,. — поступило несколько заявлений от граждан, ставших невольными свидетелями недостойного поведения американского дипломата Картера и его спутника — шофера. Проезжая на своей машине по шоссе Москва — Киев, Картер отклонился от обусловленного маршрута, проник в район, где проходили учения танковые подразделения, сделал ряд снимков специальными аппаратами. Потом вернулся на магистраль и продолжал с частыми остановками двигаться на юг, в сторону Киева. В тот же день, по свидетельству других граждан, Картер удостоил своего тщательно замаскированного внимания военный аэродром в районе Б., радарные установки неподалеку от Ш., мост через реку Д., завод на правом берегу.
В Киеве он остановился в гостинице «Интурист», После завтрака осматривал город, демонстративно фотографируя достопримечательности. Купался на общем пляже. Был в универмаге на углу Крещатика и улицы Ленина. Фотографировал памятник Богдану Хмельницкому. Обедал на Владимирской горке, на открытой веранде, любовался Днепром и заднепровской панорамой. В этот же день кое-где были найдены брошюры, полные клеветы на Украину, изданные в Мюнхене концерном «Свободная Европа».
Вечером посетил театр оперы и балета, яростно хлопал, купил фотоальбом исполнителей. Ужинал в городе. Много выпил. Поздно ночью, хмельной, веселый, созерцал Днепр, залитый месячным светом, и восклицал по-русски, обращаясь к случайным прохожим: «Тиха украинская ночь!… Чуден Днепр при тихой погоде!…» И еще что-то в таком же роде.
На другой день Картер посетил Софийский собор. Это произошло в тот час, когда в музее было особенно много людей. В толпе ничем особенным не выделялись два молодых парня, по виду студенты. Картер и эти «студенты» сошлись у одной из старинных фресок и обменялись паролем: «Повезло вам, украинцам! — сказал Картер. — Такие военные бури бушевали в Киеве, а шедевры старины уцелели». Помолчав несколько секунд, он добавил: «Скажите, а почему вашу молодежь интересует старина?» Один из парней ответил: «Это же наша история». Второй сейчас же потянул первого за руку и сказал: «Пойдем, Петро, а то не успеем все посмотреть!» И они отошли от Картера. Но, покидая музей, еще раз в дверях, в толкотне, встретились с ним, передали какой-то сверток. Это было сделано ловко. Личность парней выяснить не удалось. Они мгновенно исчезли. Приняли меры к их розыску».
В тот же день Шатров и его ближайший помощник капитан Гойда вылетели на запад. Билеты взяли не до Киева, где еще пребывал Картер, а до Львова.
Шатров и Гойда летели на свидание с мистером Картером. Но их встреча должна была состояться против всякого желания американского дипломата, неизвестно где, когда и при каких обстоятельствах.
Пробыв два дня в Киеве, Картер поехал дальше на Запад. Во Львове прожил сутки, знакомился с достопримечательностями города. Зафиксирована одна его встреча на Академической с Качалаем, как выяснилось позже, работником Одесского института садоводства и виноградарства. Между ними произошел короткий разговор. Через час после встречи с военным атташе, Качалай зашел на телеграф, послал телеграмму в Ужгород до востребования на имя Буквы, уведомляя адресата, что Петро вместе со своим братом Иваном выезжает на днях в Ужгород с намерением сдавать экзамен в университет. Потом Качалай забрал чемодан в гостинице и уехал на вокзал.
Картер, повстречавшись с Качалаем, утратил всякий интерес к городу: не выходил из ресторана и своего номера до самого отъезда.
Рано утром он поехал дальше.
Пока он мчался по равнинным дорогам Прикарпатья, пока взбирался по крутым зигзагам Карпат, скользким от недавнего дождя, пока спускался по головокружительным петлям вниз, в Закарпатье, — Шатров и Гойда не спеша позавтракали во Львове, потом сели в автомобиль и поехали на аэродром, откуда и вылетели в Ужгород.
Карпаты!… Сегодня они на редкость чистые. Ни тумана, ни облачка, ни марева. Нет и дыма, застилающего землю ранней весной и осенью, когда верховинцы выжигают Полонины, чтобы на будущий год лучше росла трава. Все дали приблизились. На западе польские Карпаты. На юго-западе — чехословацкие. Дальше и левее — равнина, рассеченная Тиссой. Это Венгрия. Еще левее — румынские Карпаты. Синие лесистые горы, одна другой выше. Снежные залежи на северных скатах. Мягкие прогибы между округлых вершин — ворота горных ветров. Узкие и темные расселины. Среди каменной суровости и хвойной черноты зеленеют Полонины. Оттуда, от высокогорных лугов, начинает свой путь Каменица. От перевала до Явора, сверху донизу, подобно зигзагу молнии, она рассекает Карпаты.
Шатров смотрел в окно и тихо улыбался. Сколько раз пролетал он над этим краем! Давно и навечно впечатаны в его сердце эти вершины, урочища, ущелья, виноградники и пашни, гигантские мосты, перекинутые через пропасти. Но он радовался каждый раз, когда все это возникало перед ним. Радовался и немного грустил. Все вокруг так же прекрасно, как и прежде, а он совсем седой, часто прислушивается к сердцу.
Шатров взглянул на Гойду, спросил:
— Ну, Василек, что сказал бы наш друг Серый о таком пейзаже?
— Что?… Он бы сначала пропел: «Давно мы дома не были!…» А потом сказал: «Вот она, колыбель горной и долинной красоты!…»
— Перехватил через край наш Серый, а?
— Ничего, в норме. Вы посмотрите, что делается внизу! И рай и ад вперемешку.
Игра в «Серого» была придумана ими давно, стала любимой. Голос «Серого» — это изречения мудрецов, философов, афоризмы, пословицы, загадки, собственное творчество Шатрова и Гойды.
— Идем на посадку. Ужгород! — сказал Гойда.
На земле было безветренно, знойно до духоты, пахло скошенными, чуть увядшими луговыми травами. Звенели птицы.
Закарпатская земля! Еще и еще раз она позвала к себе Шатрова и Гойду. Пограничный особенный край! Десятки и десятки тысяч закарпатцев, сбежавших в свое время от голода, нищеты, бесправия, живут в США, Канаде, Южной Америке. Многие возвращаются домой. Некоторые приезжают в гости посмотреть на родную Верховину. Но прибывают сюда и другие «земляки», использующие туристскую путевку в интересах мистера Даллеса.
Картер остановился в ужгородской гостинице «Верховина». Обедал тут же, внизу, в ресторане. Выбрал место у окна, откуда хорошо была видна оживленная торговая улица и мост через реку. Очевидно, кому-то сигнализировал.
Официант Гонтарь, убирая посуду со стола, за которым обедал американец, «прибрал» и тугую пачку долларов, положенных Картером под салфетку.
Шатров был уверен, что этим дело не ограничится. Гонтарь должен в свою очередь что-то передать хозяину.
Пока мистер Картер, пообедав, пил кофе, курил, отдыхал, Шатров работал: готовился накрыть Картера с поличным, думал о следах, оставленных военным атташе в Софийском соборе и на телеграфе, на Академической улице Львова и в ужгородском отеле «Верховина». Кто они, эти два «студента»? Куда скрылись? Откуда взялся Качалай, доцент из Одессы? Старый агент, извлеченный из-под пласта нафталина или недавно завербованный?
Официант Гонтарь… До сих пор жил скромно и тихо, ни в чем не подозревался. Расконсервирован или ускоренным методом обработан каким-нибудь заокеанским дядюшкой? Что успела сделать эта как будто бы разрозненная шайка? С кем связана? Каковы ее ближайшие намерения?
Всякая новая операция для Шатрова начиналась вот так: что? как? почему? где? когда? откуда? И смелые думы и осторожные предположения, имеющие своим истоком знание характера противника, его изобретательность.
Много лет прослужив на страже государственной безопасности, Шатров не стал самоуверенным, не вообразил себя всемогущим, обладателем универсального ключа, способного раскрывать все тайные ларчики врага. Хороший фронтовой сапер каждый день имел дело со взрывчаткой, минировал и разминировал, разгадывал сюрпризы врага, но никогда не забывал, что не имеет права ошибаться. Работа Шатрова еще сложнее и ответственнее. Жизнью рискуют, когда надо, многие патриоты. Но никто, нигде и никогда не имеет права рисковать государственной безопасностью. Действовать надо всегда безошибочно, всегда наверняка, изобретая все новые и новые способы бить всегда в цель! Упреждать! Угадывать! Ставить на дороге врага непроходимую преграду.
На другой день утром Картер, розовый от недавно принятой ванны, в свежей рубашке и светлом легком пиджаке, спустился со второго этажа и, приветливо раскланиваясь с обслуживающим персоналом гостиницы и ресторана, занял свое место с видом на оживленную торговую улицу и на мост через реку Уж.
Официант Гонтарь подал завтрак: холодную ветчину, яйца, чуть поджаренные ломтики хлеба, кофейник, фарфоровый кувшинчик со сливками. Многозначительно глядя на туго накрахмаленную салфетку, он произнес обычную фразу:
— Желаю приятного аппетита!
Картер поблагодарил, извлек из-под салфетки маленькую, аккуратно упакованную посылку.
Гонтарь еще не успел отойти от столика американца, как неизвестно откуда появились люди с непреклонно суровым выражением лиц, но безупречно вежливые.
Картер был так ошеломлен, подавлен, что и не пошевелился, не сделал никакой попытки выбросить хотя бы под стол секретные документы. Бледный до синевы, с расширенными зрачками, будто опьяненный наркотиками, он молча улыбался.
Дипломатия, ничего не поделаешь!
Улыбался и признательно-нежно тряс всем руки, когда соответствующим образом оформлялась поимка с поличным. Улыбался и тряс всем руки, когда было объявлено, что его деятельность несовместима со статусом аккредитованного дипломата, что Министерство иностранных дел СССР предложило ему покинуть пределы Советского Союза.
«Рукотрясение» — так потом назвал Гойда эту процедуру. Шатров засмеялся и сказал:
— Именно так мы и назовем операцию. Ру-ко-тря-сение! Пусть в таком наряде и гуляет по всем нашим бумагам. Не знаю, худо это или хорошо, но за свежесть ручаюсь.
Официант гостиницы «Верховина» в момент ареста раздавил ампулу с цианистым калием, доказав таким способом свою преданность Си-Ай-Эй и помешав следствию выявить сообщников, тех, кто снабдил его секретными документами.
Смерть Гонтаря несколько ободрила мистера Картера, удрученного провалом. Его уличали в том, что он в шпионских целях фотографировал военные объекты (и доказали это изъятой пленкой), в том, что встречался со своим агентом, выдал ему две тысячи долларов и получил от него при второй встрече шпионские сведения. Картеру не поставили в вину его встречу во Львове на Академической с доцентом Качалаем. О ней умолчали. Предпочел умолчать о ней и Картер, полагая, видимо, что она не была зафиксирована.
Доцент Качалай, вернувшись в Одессу, тяжело заболел.
Телеграмма до востребования на имя гражданина Буквы лежала на почтамте.
В Ужгороде, как гласила справка адресного стола, было несколько человек, носящих приметную фамилию — Буква.
Гойда под разными предлогами познакомился с ними и убедился, что они не востребуют телеграмму. К окну № 5, к барышне с соломенной челкой подойдет кто-то другой. А может, и вовсе не подойдет после того, что случилось в ресторане гостиницы «Верховина». Так или иначе Гойда должен караулить нераспечатанную телеграмму, эту, быть может, главную ниточку, с помощью которой можно добраться до важной тайны мистера Картера.
Два дня напрасно дежурил на почтамте. На третий примчался к Шатрову.
— Явилась Буква! — говорил он, сияя черными глазищами. — Пришла. Осторожненько, на цыпочках, на одних мизинчиках, ноготочках, а притопала все-таки. Как же, Иван и Петро едут!
Василь, как и многие его сверстники, живущие в Закарпатье, на этом шумном перекрестке Восточной и Центральной Европы, хорошо знал и чешский, и румынский, и мадьярский, и немецкий. От далеких, овеянных песнями и легендами дней войны осталось немало добрых следов в облике Василия Антоновича Гойды. Не на лице они, не в одежде. В душе, в работе, в его отношениях с людьми, в манере разговаривать. Да еще в глазах.
Капитан Гойда… Чекист новой формации, времен строгого соблюдения социалистической законности. В тринадцать лет был неграмотным, а теперь имеет высшее образование, в совершенстве владеет пятью языками. И рядом с ним и вокруг, в каждом отделе, во всех управлениях работают такие же, как он, воспитанники университетов: физики и математики, историки, философы, педагоги, мобилизованные партией охранять государство, его тайны, труд и покой граждан. Новое поколение чекистов.
— Ну, Васек, — спросил Шатров, — с какой буквы начинается твоя Буква? Рассказывай!
Шатров так и не привык, да и не пытался, называть Гойду ни товарищем, ни капитаном. Человеку скоро тридцать, а он все — Василек. Ничего, стерпит! Когда покроется морщинами его румяное лицо, а время посечет кудри, тогда можно и Василием Антоновичем величать.
— Сегодня на почтамте, — говорил Гойда, — гражданин Кашуба отправлял посылку в Одессу, в институт виноградарства и садоводства. Пучок виноградных лоз, чем-то зараженных. Просил срочно исследовать, сообщить…
— А это откуда тебе известно? — перебил Шатров.
— Проговорился Кашуба, в конфликт с почтовым работником вступил! Пришлось ему подчиниться правилам, вскрыть заказную бандероль, извлечь из нее письмо. «Не полагается, гражданин! Приклейте на конвертик марку и опустите в ящик». — «Нельзя, барышня! Не поймут они там, в институте, что это за лозы. Роднуша, надо посылать как есть! С письмецом, с примечанием. Ты уж, голуба, уважь, войди в положение». Не уважили… Отослал он бандероль и письмо, спрятал квитанции и к окну № 5 подошел, где хранилась корреспонденция до востребования. Я уже радовался: он, Буква!…
Кашуба вдруг оглянулся, будто кто в спину его толкнул, и сказал барышне, сидящей в окошке № 5: «Можно подписаться на журнал «Пчеловодство»?» — «Дальше, в шестом подписывают». Подписался и ушел.
— Все?… — спросил Шатров. — Кто он такой?
— Работает садовником в женском монастыре. Прибыл в Явор недавно, с берегов Дуная. Там, на Дунае, в Ангоре, тоже по виноградной части у игуменьи Филадельфии был на услужении… Вы, кажется, чем-то недовольны?
— А ты, кажется, всем доволен, готов кричать ура?
— До «ура» как до неба, но… я твердо уверен, что стал на верный след.
— Маловато оснований для такой уверенности. Ты, конечно, не согласен, будешь возражать.
— Буду!… Доцент Качалай работает в институте виноградарства и садоводства и туда же, на Дунай, летит заказная бандероль из Закарпатья. И как раз после того, когда в Ужгород прибыл мистер Картер. Это шифрованный сигнал. Вы не согласны, Никита Самойлович?
— Попробуй не согласись с тобой… Какой сигнал? О чем?
Гойда подумал и, не переводя дыхания, без точек и запятых, будто читая, проговорил:
— Американец в Ужгород прибыл благополучно. Не беспокойтесь. Все в порядке. Факт его появления в окне ресторана «Верховина» воспринимаю как приказ действовать. Из глубокого подполья вывожу на линию огня все свои силы. Немедленно следуйте моему примеру.
Шатров засмеялся.
— Не забывай, Васек, совет Серого: «кто насилует обстоятельства, того обстоятельства насилуют в свою очередь». Впрочем, чем черт не шутит. Давай, фантазируй, не стесняйся. Не забывай, что мы живем в век атомной энергии и кибернетики. Самое невероятное может оказаться вполне реальным, достоверным… У меня есть вопрос, товарищ капитан. Газеты Кашуба читает? Как он воспримет заметку о выдворении из Советского Союза мистера Картера?
— Испугается, залезет в свою монастырскую скорлупу с головой, наглухо захлопнет створки и будет ждать… у моря погоды. И дождется. Не позволят ему в такое время долго сидеть без дела.
— А на что он способен?
— Не знаю. Надо поближе к нему приглядеться.
— Что ты собираешься делать? Как попадешь в монастырь? Монахиней обернешься?
— Может быть, и так.
Оба засмеялись — они хорошо понимали сказанное и недосказанное.
Чаще всего, оставаясь вдвоем, они именно вот так легко, непринужденно, чуть подтрунивая друг над другом, обсуждали самые серьезные дела. Особенно в ту пору, когда стояли у истока операции, когда надо было гадать, определять направление поисков, перебирать различные варианты возможных и невозможных действий противника, ориентироваться по затаившимся в темноте вешкам.
Шатров давным-давно задал подобный тон, и он, слава богу, делал неплохую музыку.
Бесталанный и неуверенный в себе деляга, занимающий чужое место, обычно пыжится, изрекает пророчества, подчеркивает архиважное значение каждого своего шага и слова. Талантливые, трудолюбивые люди, как правило, непринужденны, остроумны, умеют посмеяться над ближним и дальним и себя не обходят. И оттого не впадают в зазнайство, хорошо работают.
Вернемся теперь к тому дню и часу, когда Рандольф Картер был пойман с поличным и вынужден был встретиться с полковником Шатровым. «Пойман с поличным!…» Для любого агента иностранной разведки, не защищенного дипломатическим паспортом, эти слова стали бы тягчайшим приговором, но для мистера Картера, аккредитованного дипломатического работника, они прозвучали только как скандальное разоблачение. За шумный провал он, безусловно, будет наказан «Бизоном», понижен в должности и чине.
Но что это по сравнению с перспективой предстать перед советским военным трибуналом. Пойман с поличным, но его защищает дипломатический паспорт гражданина США и международные традиции. И потому, когда его схватили за руку на месте преступления и нельзя было отпереться, он сразу же назвал себя, предъявил документы и напомнил, что его личность неприкосновенна.
ШАТРОВ И КАРТЕР
Картер откинулся на спинку кресла, положил ноги на полированный столик.
— С чего начнем? Может быть, с буддизма, а? Буддизм как нравственное начало…
— Можно и о буддизме поговорить, — сказал Шатров. — Я давно интересуюсь буддизмом.
— Вот как!… А может быть, Будду оставим в покое и возьмем за бока поэзию? Сонеты Шекспира, а?
Шатров кивнул и прочитал первый пришедший на ум сонет:
Прекрасное прекрасней во сто крат, Увенчанное правдой драгоценной. Мы в нежных розах ценим аромат, В их пурпуре живущий сокровенно.Умолк, посмотрел на Картера.
— Ну, а какие ваши любимые сонеты?
— Мои?… Я люблю все, что написал Шекспир, от первой до последней строчки.
— Может, прочтете что-нибудь?
— Нет, знаете, я с детства не способен был заучивать стихи.
Сидят друг против друга в светлой комнате с большим окном, выходящим на центральную площадь города, пьют кофе, курят, улыбаются. Ничего не поделаешь, надо быть вежливым даже теперь. Но и в рамках дипломатической уважительности можно отхлестать противника. Шатров не мог не воспользоваться случаем, не высказать американцу все, что думал о нем и о таких, как он.
И Картер охотно коротает время в разговоре с таким нежелательным, казалось бы, для него собеседником.
Самолет, на котором оскандалившийся дипломат должен быть со всеми удобствами доставлен в Москву, находится еще в воздухе, где-то между Брянском и Киевом, сделает посадку в Ужгороде часа через два-три.
— Ну, с Шекспиром разделались. Что теперь? — спросил Шатров. — Может быть, поговорим о США? Когда я был в Америке…
— Вы были в Америке?
— Давно, лет двадцать назад, сразу же после института.
— Понравилась вам страна?
— Люблю американский народ, верю в его способность рано или поздно осмыслить свое положение. И вы знаете, где я впервые поверил, что американцы способны осмыслить свою жизнь? Не там, в Штатах, а в самом центре России, в усадьбе Льва Николаевича Толстого.
— Интересно! Нельзя ли об этом подробно рассказать?
— Однажды, будучи в Ясной Поляне, я увидел портрет одного американца, подаренный им Толстому. Это был только что избранный президент США, но еще не вступивший в должность. Имея в своем распоряжении несколько свободных месяцев, он решил совершить кругосветное путешествие. Уехал из США президентом, а вернулся рядовым американцем. Вы, разумеется, помните его сенсационное отречение от Белого дома? Ум, талант, личное обаяние Льва Николаевича Толстого и долгие беседы с ним сделали свое дело. Как видите, мистер Картер, можно переубедить даже президента США. Так что я, разговаривая с вами, надеюсь, что и ваша совесть не останется глухой.
— Это было бы возможно лишь в том случае, если бы вы были Львом Толстым.
— Но и вы, мистер Картер, не будущий хозяин Белого дома.
— Мы квиты, — улыбнулся дипломат. — Поговорим об американском народе.
— Поговорим!… Недавно в одной старой книге я наткнулся на такие строки: «Народ можно только тогда побить, когда уже побиты его боги», то есть нравственные идеалы, лучшие стремления. В США нравственные идеалы уже почти побиты автомобилями, моднейшими товарами универсальных магазинов Вулворта и Мейсен, сексуальными фильмами, щекотливыми подробностями из личной жизни кинозвезд, миллиардеров, гангстеров, убийц и самоубийц, похитителей детей. Вы помните, надеюсь, знаменитые слова германского императора Фридриха II: «Если бы мои солдаты начали думать, ни один бы не остался в войске…» И вы боитесь мыслящих людей. Думающий американец откажется признавать американский образ жизни лучшим в мире.
— Одному мудрецу однажды сказали, что люди считают его дурным человеком. Старик улыбнулся и ответил: «Хорошо еще, что они не все знают про меня, они бы еще не то сказали». Я не мудрец и потому… — Картер сделал обиженное лицо. — Вы утверждаете, что американский народ — конченный, безнадежный?
— Нет! Никому еще, ни цезарям, ни императорам, ни королям, ни фюрерам, ни диктаторам, как показывает история человечества, не удавалось побить свой народ, лишить его разума, сердца и жизни. Я верю, что рано или поздно американский народ перестанет считать своими богами недвижимость, автомобиль и вещи. Я верю, что человек, потерявший себя в американском образе жизни, в недалеком будущем вновь обретет свою сущность и станет человеком.
Трудно, просто невозможно охотнику, подстрелившему редчайшего хищника, не посмотреть на его диковинное оперение, не заглянуть ему в глаза.
Во время своего путешествия по стране Картер был одет кое-как. Темные брюки, черные, не очень старательно начищенные ботинки, темная, без галстука рубашка и поверх нее выцветшая, помятая куртка из прорезиненного материала, похожая на те, что десятками тысяч выбрасываются на рынок в Праге и Варшаве, в Москве и Бухаресте, — вполне приличная, с точки зрения мистера Картера, и вместе с тем явно дорожная и не бросающаяся в глаза одежда скромного дипломата путешественника, которого легко можно принять и за инженера-отпускника, и за преподавателя, и за корреспондента какой-нибудь газеты.
Теперь, когда отпала нужда в фиговом листке, дипломат облачился в привычную для себя одежду — темно-коричневые брюки, светло-табачного цвета пиджак, белоснежная рубашка с самым модным воротником, длинный, неяркий галстук, ботинки черные и мягкие.
Всякий или почти всякий житель Запада, столкнувшись с Картером, чего доброго, примет его за джентльмена. И не мудрено промахнуться. Когда потерян истинный человеческий облик, надо прятаться под маской приличия. Приличие!… Это надежная, долговечная, всегда модная, всегда практичная, всегда доступная и многих вводящая в заблуждение маска.
Пока Шатров говорил, Картер любовался своими кольцами, поворачивая их к свету и так и этак. Золотой, широкий, без всяких украшений перстень говорил о том, что американец состоит в законном браке; другой, крупный, массивный, неофициально свидетельствовал о том, что военный атташе принадлежит к аристократической верхушке Пентагона, что закончил в свое время знаменитое училище Уэст-Пойнт, откуда вышли все бравые американские вояки.
— О чем еще поговорим? — спросил Картер.
— Хотя бы о вас. Мистер Картер, насколько мне известно, вы не миллионер, не член правления какой-нибудь акционерной компании, не владелец предприятия, не член так называемого высшего общества, хай сосайети. Обыкновенный государственный служащий.
— Да, я типичный американец. Уверяю вас, это не так уж плохо. Между прочим, Айк придерживается такого же мнения, считает себя типичным американцем, а потом уж президентом США.
— Итак, не член хай сосайети, трезвый, энергичный и как будто бы умный человек — и все-таки занимается подрывной работой, разжигает холодную войну. Почему? Вы же видите, должны видеть, что это опасно прежде всего для Америки, чревато для нее многими последствиями. Вспомните великого президента, автора «Декларации Независимости»! Полтора века тому назад он говорил: «Наше правительство никогда не имело у себя на службе ни одного шпиона». А сегодняшний президент имеет целую армию наемных шпиков и не стесняется утверждать, что каждый американец, попадающий за границу, должен, если он патриот, быть добровольным шпионом.
— Джеферсону еще нечего было защищать, а сегодняшнему президенту и нам, его современникам… мы защищаем наш американский образ жизни и дома, и в Берлине, и во Вьетнаме. Свобода неделима.
— Вы хотите сказать, образ жизни тех, кто владеет автомобильными заводами, производством атомных и водородных бомб, самолетов и кораблей, образ жизни Рокфеллеров, дюпонов, фордов, гарриманов и им подобных?
Последние фразы Шатров произнес по-английски, чем доставил удовольствие мистеру Картеру. Во всяком случае, тот щедро изобразил его на своем лице.
— Прекрасное произношение! Где и когда вы изучили английский? В Америке?
— Дома, в Донбассе.
— Да?
— Представьте, это так. И знаете, кто меня учил? Дочь гувернантки знаменитого Юза. Лет двадцать тому назад.
— Юза? — удивился Картер. — Это который же Юз?
— Тот самый. Владелец крупнейшего металлургического завода на юге России. Английский инженер. Капиталист. Концессионер. Его именем впоследствии был назван город, где я родился. Юзовка. Слыхали? Разумеется, слыхали. Вероятно, даже имели свою агентуру в Юзовке. Или пытались иметь.
— Мой друг, будьте до конца великодушны.
— Постараюсь. Не кажется ли вам, что вы, отстаивая и расхваливая американский образ жизни, принимаете ложь за истину?
— Нет, не кажется. Всему миру известно, что мы производим стали, чугуна, нефти и угля больше, чем многие страны, вместе взятые. Автомобили ползают по нашей земле, как муравьи. Американскими бетонными дорогами можно было бы опоясать весь земной шар.
— Верно, много хороших вещей делают талантливые американцы. Но почему, скажите, в вашей стране так оскорблен, унижен тот, кто трудится? Почему труд не доставляет человеку радости и счастья? Ненавидят люди свою работу и все-таки работают? Почему вы прославляете великих бизнесменов и плюете с небоскреба на рядового труженика? Почему США не вырастили своих ученых, способных расщепить атом и создать атомную бомбу? Создавал бомбу настоящий иностранный легион — немцы, датчане, англичане, норвежцы, венгры, итальянцы. Почему Америка не порадовала мир великими композиторами, балеринами, актерами, а вынуждена экспортировать Артура Рубинштейна, Тосканини, Рахманинова, Стоковского, Стравинского и многих, многих других? Почему в стране, производящей более половины промышленной продукции всего мира, имеющей высотные дворцы, сверкающие стеклом, алюминием, нержавеющей сталью, семнадцать миллионов американцев живет в непригодных для жилья домах? Как совместить небоскребы с клоакой Бауэри, Гарлемом? Трущобы Бауэри существуют в Нью-Йорке с незапамятных времен. Но вы не подсчитали, сколько здесь гибнет от холода и голода бездомных людей. Зато вы охотно подсчитываете другое. Из вашей прессы известно, что в Нью-Йорке благоденствует полмиллиона комнатных собак. Их стригут и бреют дорогие собачьи парикмахеры, их кормят в особых собачьих ресторанах. Меховщики подбирают для собачьих шуб шкурки — собольи, песцовые, норковые. В ювелирных магазинах продаются собачьи ошейники с бриллиантами. На заводах и фабриках производятся собачьи витаминные таблетки, консервы, чулки, перчатки, попоны, бубенчики, маникюрные принадлежности и даже розовая ароматная водичка для полоскания и облагораживания поганой собачьей пасти. Американцы так изобретательны, что рядом с человеческим хай сосайети создали и собачье высшее общество. Браво, свободолюбивые американцы!
Картер выкурил целую пачку сигарет, выпил несколько чашек кофе, заметно устал, но учтивая любезная улыбка все еще не сползала с его лица.
— Вы, насколько я понял, предсказываете Америке участь Римской империи, а между тем она оказывает все большее влияние на свободный мир.
— Как оказывает? Если бы не вы, мистер Картер, не такие, как вы, не ваши методы, не десятки и десятки миллионов долларов, ассигнованных конгрессом на нужды «Отдела тайных операций»…
— Извините, но…
— Хорошо, оставим эту тему, опасную для вас. Вернемся к тому, с чего начали. Вы отрицаете истину, понимая, что она есть истина. Вы ее боитесь, ненавидите, ибо она вскрывает вашу сущность, изобличает все ваши дела, все преступные замыслы ваших НАТО и СЕАТО, всю подноготную Пентагона.
— Допустим, это все так. Но что из этого следует? Люди, наделенные тяжкими пороками, понимающие, в чем истина, но отрицающие ее, заслуживают не гнева, а сострадания, ибо их совесть, так сказать, больна. В ваших словах, обращенных к американцам, нет сострадания. А ведь больную совесть нельзя вылечить ни каленым железом, ни водородной бомбой, ни межконтинентальной ракетой. Может быть, время излечит нас.
— Вот теперь вы правы! Когда-нибудь вы все-таки вылечитесь.
— Благодарю.
Картер еще раз сменил маску — серьезное задумчивое лицо стало притворно-улыбчивым, сладеньким.
— Когда вы успеваете все это делать: уличать в противозаконных действиях дипломатов, сочинять социологические рефераты из серии «битвы за умы людей», наслаждаться сонетами Шекспира?
Любезность дипломата осталась без ответа. Шатров не высказал и тысячной доли того, что ему хотелось сказать о правящей верхушке США, о ведомстве Аллена Даллеса, об этом диктаторе тайной американской дипломатии, злом гении Белого дома.
Вошел Гойда и сказал, что самолет, которым мистер Картер должен улететь в Москву, совершил посадку на Ужгородском аэродроме. Беседа была прервана.
Рукотрясение! Еще раз рукотрясение, и мистер Картер, в сопровождении компетентных лиц, отбыл в Москву. Но мы не прощаемся с ним. Оставляем его лишь на непродолжительное время.
СВЯТАЯ МАРИЯ
Гойда отправился ловить «радугу».
Давно он не был там, где бешеные потоки — Черный, Белый, Змеиный, Волчий, Медвежий — начинают свой бурный бег к Тиссе, к Каменице, Латорице. Давно не слышал он шума и грохота горных вод, не вдыхал аромата разогретой на солнце хвои смереки, не видел крапчатых спинок форели, сверкающих в прозрачных ледяных потоках. Не зря форель называют здесь радугой.
Как только Гойда облачился в старые, латаные-перелатаные суконные шаровары, в куртку, сделанную из солдатской плащ-палатки, в непромокаемые, пропитанные жиром сапоги, как вдохнул дух немудреных рыбачьих снастей — сразу забыл все самые важные дела, возложенные на него, и почувствовал себя вольным рыболовом. Не верите? И правильно. Гойда никогда и нигде не забывал, кто он. Сделал вид, что он завзятый рыболов, и только.
С удочкой на плече, с маленьким ведерком в руке, насвистывая одну из любимых песенок, шагал Гойда по сырому от вчерашнего дождя, безлюдному берегу Каменицы. Шел он по направлению к монастырской переправе.
Горные холодные воды Каменицы с приглушенным рокотом струились по широкой щели, пробитой в незапамятные времена в каменных склонах Соняшной горы. Сквозь прозрачно-синюю толщу воды виднелось дно, заваленное обомшелыми глыбами, серым шершавым плитняком и обточенной, костяной белизны галькой. Тяжелые темные карпатские кручи поднимались над долиной Каменицы.
Гойда посмотрел на колокольню, покачал головой. «Ловкачи эти черные праведники. Проповедуют царствие небесное, а сами захватывают на земле райские уголки. Санаторию или дому отдыха на этом месте красоваться, а не девичьей тюрьме».
Монастырь стоял над Каменицей, на почти отвесном сорокаметровом гранитном обрыве. Белые его стены, оцинкованная крыша, купол с золоченым крестом и колокольня резко выделялись на мрачном фоне гор.
В сером лбище обрыва вырублена узкая крутая лестница. Она начиналась у самой воды и вела вверх, к глухой, откованной из железа монастырской калитке.
У первой ступеньки лестницы покачивалась на воде узконосая легкая лодка. На ее корме сидела женщина в черном.
Гойда приложил к углам рта ладони, закричал:
— Ого-го-го-ro!… Давай!
— И-и-иду!… — сейчас же откликнулась монахиня. Голос ее, сильный, певучий, пролетел над Каменицей, отразился в прибрежных скалах и замер в дальних виноградниках.
«Это она, Мария! Ишь какая голосистая», — улыбка тронула губы Гойды. Он сел на морщинистый камень, лежащий на берегу. Взгляд его ни на одно мгновение не отрывался от реки.
Черная лодка медленно, с трудом преодолевая сильное течение, подходила к левому берегу. На корме, энергично и умело работая шестом, стояла Мария. На ней черное глухое платье, черный платок. Только лицо белеет да руки. «Молодая, красивая, — подумал Гойда, — ловкая, острая на язык, а добровольно забилась в монастырскую дыру. Такой дивчине надо не богу, не игуменье служить, а жизни. Как бы ее вытащить отсюда? Дремлет горком комсомола. А ты?… А тебе все некогда… Эх, ты! Хочешь чужими руками творить добро».
Острый просмоленный нос лодки зашуршал на прибрежной гальке. Мария сдвинула платок на затылок и, опираясь о шест, приветливо посмотрела на казнившего себя Гойду.
— День добрый, — пропела она, не желая замечать его хмурого выражения лица.
— Здравствуй, Мария. Жива? Здорова?
— Слава Иисусу, жива и здорова. А ты?
— И я, как видишь, еще не на том свете. Перетащишь на правый берег?
— Садись!
Он прыгнул в лодку. Мария уперлась шестом в каменистое дно, с силой оттолкнулась от мели. Бешеные струи Каменицы подхватили и понесли лодку. Мария несколькими толчками шеста выровняла ее и направила к монастырю.
— Где же ты так долго пропадал, Вася?
— В Москве, Ленинграде, на Кавказе. А что?
— Так… Вся полонинская рыба по тебе соскучилась: выставится из воды, очами лупае и ждет, ждет. И я… соскучилась.
Мария сдержанно засмеялась.
— А разве ты рыба?… Кто ты, Мария? — вдруг спросил Гойда. — Чем на земле держишься?
Он без улыбки, серьезно, пытливо смотрел на девушку. Пять лет прошло с тех пор, как он увидел ее во дворе яворской портнихи Марты Стефановны Лысак, а все такая же: цветущая, задорная, лукавая. И старушечий, аспидно-черный платок не затемнял веселого блеска ее глаз, чистую свежесть лица, жаркие губы. Даже под дремучим одеянием монахини, рассчитанным на то, чтобы надежно скрыть возраст, легко угадывалось сильное, ловкое тело девушки, выросшей на лесном и речном приволье.
— Кто я?… — вскинув голову, спросила Мария. — Да разве ж ты не видишь?
Она бросила лодку на произвол течения. Тоненькая, гибкая, как шест, на который опиралась, с наивным удивлением смотрела на Гойду, ждала, что он скажет, поощряла его сказать что-нибудь смелое, ласковое. Он хмурился, молчал.
— Не видишь?… Ну, если так, я сама скажу, кто я. Иди к Медвежьему потоку и жди меня. — Она опять энергично заработала шестом, выровняла ход лодки.
— Я тебя не приглашал, Мария, и не имею права ждать.
— А я не гордая, могу и без приглашения прийти.
— Но зато я гордый, Мария. Почему ты не уважаешь меня? — помолчав, спросил он с горечью.
Она покраснела до слез, искренне встревожилась.
— Что ты, Вася!… Уважаю. Очень. Больше всех на свете.
— Почему же так разговариваешь?
— Как? — Глаза ее испуганно расширились, а от щек отхлынула вишневая свежесть.
Он отвел взгляд в сторону, опустил руку в тугую, холодную воду Каменицы, сказал:
— А вот так… будто мы с тобой не старые добрые знакомые, а черт знает что… петушок и курица, будто играем, охотимся друг за другом. Мне это неприятно. Яне ожидал… не заслужил.
Мария поспешно закрыла рот ладонью, чтобы не засмеяться громко, на всю округу, не всполошить в монастыре игуменью и ее соглядатаев.
— Чего ты? Чем я тебя рассмешил?
— Ничем. Все серьезно, очень серьезно. — И она опять залилась беззвучным сдавленным смехом.
— Напрасно ты вот так, смешливая, негордая девушка. Не тот я, за кого ты меня принимаешь. — Он помолчал, подбирая слова. — Слабых и беззащитных не завоевываю и в плен не беру. — Он попытался улыбкой смягчить свой суровый приговор.
Она не обиделась, не перестала смеяться, вела себя как победительница.
— А ты попробуй раньше, Вася, какая я, слабенькая или сильная, а потом и отрекайся. Подступись, замахнись — тогда и увидишь, беззащитна ли я.
Она ближе придвинулась к нему, словно для того, чтобы ему удобнее было выполнить ее просьбу. Он поспешно, почти испуганно отодвинулся. И сейчас же ему стало неловко и стыдно. Кого и чего боится? Правду ей надо сказать — сразу отрезвеет, образумится, обретет гордость.
— Слушай, Мария.
— Слушаю, Вася! Говори, каждое твое слово в сердце ляжет.
— Так вот!… Я уважаю твое человеческое достоинство. И буду уважать. Понятно?
Членораздельно, строго и внушительно, без единой веселой искорки в глазах произнес эти слова Гойда, а она не приняла их всерьез. Смотрит на него беспутными озорными глазами, машет шестом, вся изгибается, властно гонит тяжелую лодку поперек быстрого, шумного течения Каменицы и беззаботно смеется.
— Вася, миленький, лет через сорок будешь уважать мое достоинство, а сейчас…
— Ну, знаешь, Мария…
— Знаю! Не нравлюсь я тебе, не люба. А я, дура, думала…
— И зря думала. Я тебе никаких авансов не выдавал, ничего не обещал. А потом… не все твое, что плохо лежит, не все хапай, что нравится. Такого правила я давно придерживаюсь.
— Ой, какой же ты чистенький, Вася, какой сияющий, словно младенец на чудотворной иконе!
— Ладно уж, какой есть. Поговорили, хватит! Причаливай к берегу побыстрее.
— Не бойся, не утоплю, я не мстительная.
Еще три-четыре толчка шестом — и лодка шаркнула бортом о толстые дубовые сваи монастырского причала. Гойда выпрыгнул на дощатый помост.
— Спасибо за труды.
И решительно, не оглядываясь, он зашагал по правому берегу, засыпанному сырой от ночного дождя галькой. Казалось, он уже забыл о Марии. Нет, он думал о ней. Интересно, а какая она там, в монастыре? Наверно, тихоня из тихонь, скромница, глаз от земли не отрывает.
Нет, он не должен думать о такой притворщице, вертихвостке. И встречаться с ней не должен даже вот так, случайно. Забыть ее, забыть! С сегодняшнего числа, с настоящей минуты.
Монастырь скрылся, время шло, донесся говор быстрой воды и камней, стало прохладнее, сумрачнее, однако Мария не выходила из головы. Неотступно следовала за ним. Он поднимался по тропе, пробитой на дне ущелья, и Мария незримо шагала рядом. Вдыхая утренний аромат горных трав и цветов, вспомнил запах ее волос. Взглянув на Медвежий поток, увидел в зеркальной ключевой воде ее лицо.
Остановился, встряхнул головой, усмехнулся. «Чертовщина, да и только. Эх, Василь, Василь!… Хватит кривить душой, сознавайся! Нравится дивчина?… И еще как нравится!»
В кустарнике на высоких берегах потока послышался тихий шорох.
— Вот и я!
Гойда обернулся. В двух шагах от него, на узкой тропке, стояла светловолосая верховинка в черной юбке и полотняной, расшитой бордовыми цветами кофточке. Ее руки, обнаженные до локтей, не тронутые загаром, держали легкую, из тонкого ивняка, корзину. Резкий свет утреннего солнца, пробиваясь сквозь листву, освещал ее стройную фигуру косыми дрожащими полосами, пятнал юбку, лицо, грудь, вплетался в волосы.
Прошла минута, другая, а он безмолвно смотрел на нее, удивлялся, радовался, узнавал и не узнавал Марию. Ее серые, смеющиеся, с лукавинкой глаза, ее черные, высоко взметнувшиеся брови, ее зовущие губы. Но где же ее спецодежда, ее монашеская ширма? Сбросила? Если бы навсегда! Вот так, без черной скорлупы, и должна жить. Добра дивчина!
— Чего ты на меня уставился, Вася? Не узнал?
— Трудно узнать. Ишь какая!…
— Хуже стала или лучше?
— На человека похожа.
— Только похожа? Плохо видишь, Вася. Приглядись!
— Ладно уж… Давно пригляделся.
— А может, тебе кажется, что пригляделся, а? Может, ты видишь только то, что близко, на самой поверхности лежит, а? Может, ты самого главного и не видишь?
— А что у тебя главное? — Гойда осторожно, не поворачивая головы, пытливым взглядом окинул ущелье Медвежьего потока.
— Не бойся. Никто нас тут не увидит. Тихое место, безлюдное.
— А чего мне бояться?
— Как же! Ты человек ответственный, чистый, стоишь на страже государственной безопасности, а я — мазаная-перемазаная, черная кость, огородное пугало.
Гойда нахмурился.
— Ладно, хватит тебе прибедняться! Лучше расскажи, как это ты успела в такой короткий срок переобмундироваться? Где рясу сбросила?
— В кустах. — Мария достала из корзины черную одежду, показала ее Гойде. — Вот. Влезу в нее, как с тобой расстанусь… Вася, не отворачивайся! Почему ты в глаза не смотришь?
— А зачем? Что я увижу в них интересного? Господа Бога? Мать игуменью? Свечи? Кресты?
— А ты загляни — такое увидишь… Ну! Боишься?
Он повернул к ней голову, презрительно прищурился.
— Ну, вот!…
— Лучше смотри!
Гойда не выдержал ее взгляда. Махнул рукой, отвернулся, чтобы не заметила Мария, как обожгла его щеки прилившая к ним кровь.
— Ничего путного не вижу.
Поток клокотал, пенился, шумел, переливаясь с камня на камень. Снежный холодок-невидимка клубился над ним. Такие места любит форель.
Гойда размотал лесу, достал из жестяной коробки ком засохшей кетовой икры, скатал приманку, нанизал ее и, выбрав сравнительно тихий, прозрачный омуток, забросил на его середину крючок.
Мария набрала охапку сушняка, сложила аккуратным островерхим шалашиком, сунула под него хрусткий, пересохший мох.
— Вася, можно костер разжечь? Люблю я на охотничий огонь смотреть.
— Разжигай, если любишь.
— А спички есть?
Он кинул через плечо спичечный коробок. Она подхватила его, и через минуту в ущелье потянуло душистым дымком, затрещали сучья валежника, и спину Гойды пригрело жаркое пламя.
— Хорошо! — Мария засмеялась. — Славно! Иди и ты сюда, Вася! О деле поговорим.
Гойда не сразу бросил удочку. Подошел к костру ненадолго. Покурит — и снова будет рыбачить.
Не хотел смотреть на Марию, а смотрел. Щеки ее разрумянились от огня. Глаза полны радужного свечения. Маленькие аккуратные уши насквозь прозрачны, розовые-розовые, вот-вот вспыхнут.
— Ну, какое у тебя дело? — спросил он.
— Успеется дело. Не подгоняй… Васенька, славненький мой!… Четвертый год я с тебя очей не свожу. Никакой надежды не было, а я все-таки смотрела… Все твои рыболовные места изучила, все твои тропки-дорожки известны. Знаю, что ты любишь, с кем дружишь. Все, все о тебе знаю!
— Так уж и все?
— А чего не знаю — сердцем угадываю. А ты почему не умеешь гадать, а?
Руки ее были солнечно-теплыми, ладони пахли горной мятой.
Гойда зажмурился. Прошло немало времени, пока он осмелился взглянуть на девушку, пошевелить губами.
— Мария, я хочу тебе сказать…
— Говори!
— Я давно хочу у тебя спросить, кто загнал тебя в эту монастырскую тюрьму?
— Сирота я. Некуда было деваться. С двенадцати лет в монастыре.
— Раньше, до советской власти, сиротам некуда было деваться. А теперь? Все дороги перед тобой открыты. В колхоз. На табачную фабрику. На виноградники. В лесничество. Вольная птица ты, а ползаешь.
Мария тяжко, по-старушечьи вздохнула, но глаза ее сияли радостно, молодо.
— Одна у меня дорога, Вася. Привыкла я к монастырю, привыкла всем угождать: и Богу, и игуменье, и Марте Стефановне, и старому, и малому. И тебя буду слушаться.
— Ты вот вспомнила эту… Марту Стефановну. А к ней как попала?
— Игуменья отдала меня в аренду. Хозяйка хорошо платила монастырю.
— И ты терпела? Да разве ты продажная вещь? Ты ж человек.
— Я святая дева, Вася. Божий человек. Все терпеть должна.
— Где ты живешь? В какое время? Десять лет свободой пользуешься. У нас теперь только тот не стал человеком, кто не захотел. И бывшие банкиры и помещики работают. Кулаки стали колхозниками, фабрикант зарабатывает хлеб на собственной фабрике простым рабочим. Все Закарпатье честно трудится. А ты… И не надоело тебе быть черным пугалом? Неужели не хочется жить, как все люди? Неужели не хочется стать обыкновенным человеком? Че-ло-ве-ком!
Мария улыбнулась, тронула свои волосы, плечи.
— А разве я не человек? Посмотри, все у меня на месте: глаза, нос, голова, руки, ноги, губы…
— Я с тобой серьезно, Мария. Брось придуриваться! Зачем позвала? Что понадобилось святой деве от безбожника? Говори!
— А я уже все получила, что хотела.
— Да?… Интересно, что же ты получила?
— Не бойся, ты не в убытке. Насмотрелась на тебя, поговорила с тобой — вот и все. Больше ничего мне не надо от тебя. Давай теперь о деле поговорим.
— Ах, Мария!… — Он взял ее руку, приложил к своей щеке. — Не пойму я тебя: то притягиваешь, то колешься, то умница, то…
Она отстранила от себя Гойду.
— Не надо. Давай, говорю, на дело перейдем.
— Какое там еще дело! — раздраженно, почти сердито сказал он. — Брось свои выдумки, ни к чему они теперь.
— Нет, Вася, ничего не выдумываю… В монастыре объявился новый служка. Караулит виноградники, а заодно и лечит их. Добрый мастер по этому делу. Седой. Морщинистый. Глуховат. Прихрамывает на правую ногу… Игуменья приголубила его.
— Ну? — поторопил Гойда замолчавшую Марию.
— Не довелось тебе его видеть?
— Нет, не видел. Откуда он появился? Когда? И почему тебя заинтересовал?
— Постой, все расскажу… Молчаливый он, этот виноградный лекарь! Богомольный. Постный. Все крестится, на каждом слове Бога вспоминает. Вина не пьет. Не ругается. На монахинь глаз не поднимает. Игуменью почитает, словно она богородица.
— Как его зовут? Фамилия?
— Дедом Петром мы его величаем, Петро Кашуба. Хочешь посмотреть на фотографию?
«Кашуба, Кашуба!…» — мысленно повторил Гойда, и перед ним возник человек, посылавший заказную бандероль на ужгородском почтамте и не получивший телеграмму до востребования.
Мария достала из корзины, где лежала ее черная одежда, небольшой плоский сверток. Неторопливо и бережно развязала концы носового платка, осторожно, двумя пальцами взяла большую, наклеенную на толстый картон фотографию.
На тусклой, пожелтевшей от времени бумаге изображен сухонький, сутулый, доживающий свои годы человек: седая голова, дряблые, в крупных складках, обвисшие щеки, белая бороденка, мутные глаза, оттопыренные уши, обугленная трубка-носогрейка в наполовину съеденных зубах.
— Знаешь, кто это, Вася? — спросила Мария.
— Нет, этого человека я не знаю. Чем он тебе не понравился?
— Это не Петро Кашуба. В чужую шкуру залез. Во сне разговаривает на чужом языке, кажется по-английски. С пистолетом и ночью не расстается. Радиопередатчик имеет.
— Своими глазами радиопередатчик видела?
— Видела.
— Как же ты ухитрилась?
— А я никак не ухитрялась. Нечаянно подглядела. А потом проверила. Специально для тебя.
— Спасибо, Мария!… Ты все-таки не монахиня, не святая дева, нет!
— Слава богу, разглядел.
— Ладно, во время пожара о погоде не разговаривают. Кашуба не догадывается, что ты раскусила его?
— Да разве я дура, притворяться не умею? — На ее лице появилось выражение виноватости и покорности. — Не бойся, перед тобой я всегда чистая, правдивая.
— И давно он работает у вас?
— Второй месяц.
— Откуда прибыл?
— С Дуная.
— Что он там делал?
— В тамошнем монастыре обитал. Тоже виноградники лечил и караулил.
— Где он живет?
— В пещере, около винных погребов.
— Один?
— С собакой. Ужком ее зовут. Злая. Голосистая. И чуткая. Без меня не подберешься к ней без шума. Провожу, если хочешь.
— Когда бывает в своей пещере?
— Днем. Ночью караулит виноградники.
— Хорошо! — Гойда смотал лесу, вонзил острие крючка в податливое бамбуковое удилище. — Я должен идти, Мария. До свидания. Увидимся завтра, здесь же. Придешь?
— Приду, Вася. Со всех ног примчусь. — Она осторожно погладила его плечо. — Все сделаю, что прикажешь.
— Мария, не надо так!… Забывай свои ползучие привычки. Выше голову. Человек же ты!
— Уже человеком стала? Так скоро? — она улыбнулась. — Спасибо, Василек.
Шатров молча, кое-что записав в блокнот, выслушал обстоятельный рассказ Гойды о его несостоявшейся охоте на радугу и крепко задумался. Кто он такой, этот Кашуба? Какую задачу выполняет? Прямо или косвенно был связан с Картером? Знал ли он, что Картер приезжал в Ужгород? Вообще, известна ли Кашубе эта личность? Шатров повторил свои вопросы вслух. Гойда попытался на них ответить. Он рад был случаю поразмышлять со своим учителем и другом. Любил он вот такие минуты общения с Шатровым.
— Я думаю, — сказал он, — что Кашуба мог и не знать о приезде Картера.
— Почему?
Гойда подумал и сказал уверенно:
— Не обязательно знать ему, что в Ужгород прибывает военный атташе. Больше того, он не должен был этого знать. Не имел права.
— Да? — усомнился Шатров. — Почему же ему не выдали такого права?
— Потому, что оно уже было выдано другому, официанту Гонтарю. И Гонтарь пользовался им монопольно. Он ждал Картера, подготовил для него все, что собрал, накопил.
— Накопил?… А может быть… может быть, лучше так: подготовил для мистера Картера все, что получил от других… А?
— Да, так лучше. Этот вариант правдоподобнее.
— Ладно, давай гадать дальше. Итак, только Гонтарь пользовался правом личной встречи с мистером Картером. И при этом подвергался ничтожному риску быть разоблаченным, так как общался с иностранцами на вполне легальной почве. Попробуй различи среди тысячи чистых иностранных туристов одного нечистого! Он передал добытые шпионские сведения Картеру и готов был принять от него, кроме долларов, любое задание, любое приказание. Принять и передать… Кому?
Гойда внимательно следил за ходом мысли Шатрова.
— Мог и Кашубе передать и другим, нам еще неизвестным, — сразу сказал он, как только умолк Шатров.
— Да, мог, — охотно согласился Шатров. — А что из этого следует, Вася?
— Многое, Никита Самойлович!
— А именно?
— Похоже на то, что официант Гонтарь был диспетчером.
— Похоже. Очень! Собственно, я в этом почти уверен. Может, ты сумеешь разубедить меня?
— Не собираюсь. Диспетчер этот мертв, разгрыз ампулу, обрубил все нити, ведущие к сообщникам. Ни одной ниточки к живым.
— Да, он твердо знал, что делал.
— Мы должны установить, встречался ли он с Кашубой, — сказал Гойда.
Шатров кивнул, но в его глазах не было согласия.
— Да, должны! Но это не самое срочное, что мы обязаны сделать. Прежде всего надо выяснить, как, когда, где и с чьей помощью монастырскому виноградарю удалось воспользоваться документами Кашубы, жителя дунайского городка Ангора.
— Вы думаете, что это подлинное имя… Петр Кашуба?
— Имею право так думать, Вася. — Шатров показал Гойде справку, из которой явствовало, что Петр Михайлович Кашуба родился пятьдесят семь лет назад и постоянно проживает в Ангоре, на Дунае, в Измаильском районе, в рыбачьем поселке городского типа, в собственном доме. Женат. Детей нет. В настоящее время находится в отъезде. К справке была приклеена фотография. Петр Кашуба, изображенный на этой фотографии, не имел никакого сходства с тем Кашубой, который служил в яворском монастыре.
— Подмена! — сказал Шатров. — Если мы узнаем, чьих рук это дело… Словом, собирайся, Вася. Едем на Дунай в гости к Смолярчуку. Сообщи ему по телефону. И пусть уху приготовит.
Собрались в тот же вечер, чтобы выехать рано утром, позвонили на Дунай — и не выехали. Ночью произошло событие, задержавшее их в Закарпатье на несколько дней.
Уха, приготовленная Смолярчуком, наваристая, из свежих отборных осетров, так и не дождалась Шатрова и Гойды. Ее съели солдаты-пограничники. Ели, нахваливали, переглядывались с поваром и посмеивались:
— Спасибочко вам, дорогие гости, почаще приезжайте.
«ЛЕВЫЕ» ПАССАЖИРЫ
На обочине дороги, там, где автострада покидает горные карпатские теснины и вырывается в просторную долину, горит ночной костер. Невысокое жаркое пламя охватывает со всех сторон черный от застарелой копоти казанок. Поспевает овеянный пастушьим дымком кулеш — пшенная негустая каша, щедро заправленная толченым свиным салом и пережаренным луком. Около костра сидят двое мужчин и молча, терпеливо ждут той минуты, когда кулеш окончательно наберет силу, ароматную сочность.
Кто они, эти два человека, сидящие у костра? Почему, перекрыв автостраду шлагбаумом, не спят, хотя уже перевалило далеко за полночь и давно не показывалась ни одна машина?
Ночь вплотную придвинулась к костру со всех сторон; не видно ни гор на севере, ни равнины на юге, ни лесного массива на востоке, ни голых скал на западе. Река, бегущая невдалеке, по ту сторону дороги, угадывается по бешеному клокотанию в камнях. Но это привычный шум, его не замечают. Темнота и тишина. Да еще горная предрассветная свежесть.
Недружно пропели где-то первые петухи. Заблестели росой придорожные камни, трапа, асфальт автострады. Потянул холодный низовой ветерок. Дым пополз по земле.
— Ну, пора! — торжественно проговорил один из кашеваров и раскрыл казанок.
— Да, теперь, пожалуй, в самый раз, — радостно откликнулся второй и достал деревянную ложку, завернутую в чистую тряпицу. Развернул, постучал по черному краю казанка. — Уж мы тебе сейчас покажем, дорогуша, где раки зимуют.
Мирная тишина царит здесь, на карпатской дороге, ничто не предвещает опасности.
— Машина с Верховины спускается, — спокойно говорит один из мужчин.
Он поворачивает лицо, освещенное пламенем костра, в сторону гор и, сощурив глаза, пытается разглядеть дорогу.
Свет фар приближавшейся машины заскользил по голым скалам, потом по верхушкам хвойных деревьев, широкой полосой лег на реку и наконец уперся в шлагбаум, перекрывающий дорогу.
Вечером, часов в одиннадцать, в дверь квартиры инженера Николаева, два года назад ушедшего на пенсию, настойчиво постучали. Иван Иванович уже лежал в постели. Чертыхаясь про себя, он поднялся; накинул на плечи старую шинель, зажег свет, открыл дверь. Перед ним стоял знакомый шофер Микола Степанчук.
— Что такое? — спросил Иван Иванович, настороженно оглядывая с ног до головы неожиданного гостя.
— Магарыч с тебя, — улыбаясь, сказал Степанчук. — Имею выгодных клиентов. За одну ночь можно заработать круглую тысчонку. Деньги получишь вперед.
Иван Иванович шире открыл дверь, обнял шофера и ввел его в дом.
— Куда везти? — оживленно и деловито спросил он.
— В Ужгород. Но только с условием: до рассвета быть на месте. Торопятся они…
— А чего им так приспичило?
— Спешат на похороны. Не то дяденька, не то племянник умер. Собирайся! Машина заправлена?
Иван Иванович, кудлатый, заспанный, в пальто поверх белья, недвижимо стоял посреди комнаты. На его выбритом, одутловатом, посеченном морщинами лице отражалось недоумение. Он пригладил седые волосы и настороженно посмотрел на своего приятеля. Иван Иванович познакомился с ним несколько месяцев назад. Шофер Степанчук на своей машине доставлял «левых» пассажиров в Станислав, Черновицы, Киев и в Закарпатье. Когда был занят или перегружен, лишних пассажиров передавал Ивану Ивановичу — владельцу новенького семиместного лимузина горьковского автозавода. Они нередко вместе выпивали. Больше ничего не знали друг о друге.
— А почему ты не едешь? — спросил Иван Иванович.
— Ремонтирую свою лайбу. Разве упустил бы таких выгодных клиентов? Тысяча рублей!… Ну, поезжай! — хлопнув по плечу хозяина, настойчиво сказал Степанчук. — Чего ты раздумываешь?
— А где они?
— Ждут на моей квартире.
Город уже спал. Черный лимузин промчался по пустынным улицам центра и остановился на окраине, перед маленьким домом, обнесенным деревянной изгородью. Шофер выскочил из машины и через несколько минут явился со своими подопечными. Их было двое. В свете фар Иван Иванович хорошо разглядел сравнительно молодых парней, очень похожих друг на друга. Одеты в потрепанные серые костюмы, на головах стандартные кепки, в руках небольшие чемоданы. «Такие замухрышки, а тысячами бросаются! — подумал Иван Иванович. — Деньги потребую вперед».
Дальше этого он в своих размышлениях не пошел. Всякие «левые пассажиры» перебывали в его машине. Он привык сдерживать любопытство. «Левые», как правило, неразговорчивы и не любят разговорчивых.
Парни вежливо поздоровались с владельцем машины, дружески распрощались с Миколой и уверенно расположились на заднем сиденье. Чемоданы они поставили у ног.
— Ну как, попадем до рассвета в Ужгород? — спросил один из парней.
— Смотря как будем ехать, — ответил Иван Иванович.
— Ехать надо добре, а мы вас не обидим. Вот ваш заработок, а магарыч потом. — Он достал пачку денег и бросил на переднее сиденье. — Тысяча.
Иван Иванович.повертел пачку в руках и, не пересчитывая, засунул ее в карман.
— Значит, на похороны спешите?
— Дядя умер у нас… — Разговорчивый парень посмотрел на своего мрачноватого соседа. — Это мой брат Иван. А я — Петро.
Иван, до сих пор не произнесший ни слова, сердито сказал:
— Поехали!
— Да вы не беспокойтесь, — добродушно улыбнулся водитель. — Моя машина не подведет. Доставлю вовремя, минута в минуту.
— А если доставишь раньше срока, дадим премию, — засмеялся Петро.
Иван Иванович поудобнее устроился на сиденье, завел мотор, включил сцепление, дал большой свет и помчался в сторону Стрийского шоссе. Дорога в этот час была пустынной, и машина на полной скорости летела до самых карпатских предгорий.
Иван Иванович был в отличном настроении. Вечером он изрядно выпил, хорошо поужинал, и теперь ему хотелось поговорить со своими щедрыми пассажирами. Но как ни пытался разговориться, они отмалчивались. Не откликнулся даже веселый разговорчивый Петро.
На земле темным-темно, в двух шагах ничего не видно, а вверху — высокое светлое небо, густо засеянное звездами. И каждая сверкает, переливается.
Свежий ветер, ветер верховины, хлещет в лицо, если высунешь голову в окно, высекает из глаз слезы, леденит губы и щеки. Чувствуется близость ущелий, полных снега, холодных снеговых рек, шумящих в обточенных валунах.
Время перевалило за полночь, когда въехали в городок, расположенный на ближних подступах к перевалу. Перед ярко освещенными окнами придорожной закусочной Иван Иванович плавно, расчетливо затормозил. Сто раз приходилось останавливаться перед этим черепичным навесом, перед стертыми ступеньками крылечка.
— Может быть, подкрепимся? A?
— Можно, — согласились братья.
Иван Иванович выскочил, открыл заднюю дверцу
— Прошу!
Братья не выходили.
— Нет, мы поужинаем прямо здесь, в машине. Купите водки, пива, чего-нибудь поесть, — сказал Петро, подавая шоферу деньги.
Иван Иванович вытащил ключ из замка зажигания, хлопнул дверцей и, разминая затекшие ноги, направился в закусочную.
Вернулся Иван Иванович с бутылками и свертками.
— Вот, пожалуйста, пируйте.
Иван Иванович прожил на свете более пятидесяти лет. Никогда в своей жизни не был ни холуем, ни угодником, ни вором. Честно трудился. Но вот теперь, раскупоривая бутылки с водкой и раскладывая перед клиентами закуску, он начисто забыл это. Он прислуживал своим пассажирам потому, что они ему хорошо заплатили.
Под старость Иван Иванович полюбил деньги. За последнее время он привык разделять людей на две категории: на тех, кто, не торгуясь, платил хорошо, и на тех, кто знал счет деньгам, не хотел платить лишнее за проезд в его лакированной быстроходной карете. С тех пор как он стал владельцем машины, все его стремления сводились к одному: найти выгодных пассажиров, хорошо заработать и как можно скорее вернуть те деньги, которые были истрачены на покупку автомобиля. Иван Иванович возил пассажиров в Киев, Черновицы, Ужгород, в Закарпатье. В южных районах закупал виноград и фрукты, вез на север и там продавал по спекулятивным ценам. Не гнушался и мелкими заработками: подбирал пассажиров на вокзале, у подъездов театров и кино, у ворот рынков, у дверей универсальных магазинов. День, когда не зарабатывал двести-триста рублей, он считал пустым, несчастным днем.
Петро наполнил до краев три стакана водкой. Один дал Ивану, другой водителю, третий оставил себе.
Около двух часов ночи машина Ивана Ивановича миновала Карпатский перевал и с выключенным мотором покатилась под гору, по белой дороге, извивающейся вдоль бурной реки.
— Успеем к назначенному сроку? — нагнувшись к шоферу, спросил Петро.
— Не беспокойтесь.
Петро глянул на светящийся циферблат часов.
— Да, пожалуй, успеем, если не будем задерживаться около проверочных шлагбаумов.
— Никаких проверочных шлагбаумов здесь нет, все давно ликвидированы. Поезжай на все четыре стороны — и нигде не спросят никакого документа. Полная свобода передвижения по всему Закарпатью.
Пассажиры незаметно переглянулись. То, что они узнали от шофера, их обрадовало.
Отправляя шпионов в нашу страну, люди «Бизона» хорошо их снарядили: у них были советские подложные документы, пустые бланки различных учреждений, специальные фотоаппараты, оружие, ампулы с ядом, географические карты, крупные суммы денег в советской и иностранной валюте — в рублях, польских злотых, чехословацких кронах, венгерских форинтах, немецких марках, английских фунтах и американских долларах.
Границу они перешли в одну из ненастных ночей. Под покровом темноты и дождя пробрались в горное Закарпатье, пересекли по глухим тропам перевалы, в течение одной ночи, не отдыхая, спустились вниз, на равнинный простор, и наутро уже были в людском потоке большого города.
Выполнив все, что им было приказано разведцентром, они возвращались теперь назад, в тайное гнездо своих хозяев, скрытое в верховьях Дуная.
Роскошная машина привлекла их внимание не случайно. Они искали такую и нашли через подставное лицо. Выбрали они ее потому, что она быстроходна и надежна. Но самый главный их расчет, конечно, был на то, что роскошный лимузин всякому милиционеру, если он случайно встретится на дороге, внушит должное почтение. Ни одному пограничнику, ни одному сотруднику органов безопасности, думали они, не придет в голову, что с таким комфортом путешествуют шпионы, нарушители границы. Кроме того, им было известно, что владелец машины падок на деньги и обязательно согласится свезти их ночью в Ужгород. Повезет и не станет допытываться, кто они такие, откуда и куда едут. «Иван» и «Петро» были уверены, что доедут до Ужгорода без единой задержки и без всяких осложнений.
Впереди, возвышаясь одна над другой, чернели мохнатые горы. Река извивалась в обточенных валунах и неукротимо мчалась к равнине. На дороге забелели каменные столбы небольшого моста. За ним горел костер, у которого сидели два человека. Дорога была перекрыта тоненьким самодельным шлагбаумом. Иван Иванович притормозил машину и остановился.
Пламя костра, как в зеркале, отразилось в лакированной черной поверхности кузова, в массивном никелированном буфере машины. От мотора струился запах перегретого масла. На ветровых стеклах блестели капли ночной росы. Кремовые ступицы колес были забрызганы грязью.
Иван Иванович опустил стекло и, высунув голову в окно, небрежно и властно крикнул:
— Эй, дядьки, зачем перекрыли дорогу? Поднимай шлагбаум! Да живее!
Люди, сидевшие у костра, неторопливо поднялись и подошли к машине. Один из них был в милицейской форме, с погонами старшины, другой — в ватной фуфайке и кепке.
— Это мы перекрыли дорогу, — сказал человек в фуфайке.
На его плохо выбритом, усталом от бессонницы лице чернели пятна копоти, от одежды густо пахло дымом костра, веки покраснели, отяжелели.
— А кто это «вы»? — раздраженно спросил шофер. — Какое вы имеете право закрывать дорогу? Миновали времена пропусков и запретных зон.
— Я карантинный инспектор Кушнирчук, а это, сами видите, милиционер, товарищ Москаль. Откуда вы едете? Что везете? Картошка есть? С больной картошкой мы не пропускаем в Закарпатье.
— Чудак человек! Кто в такой машине картошку возит? Ну, поднимай шлагбаум, живее!
— Не подниму, пока не осмотрю машину, — твердо проговорил инспектор.
— Плохо вы знаете свои права. Ищите картошку на грузовиках, а не здесь. Поднимай! — Шофер завел мотор, и машина вплотную подъехала к шлагбауму.
Милиционер, стоявший до сих пор молча в стороне, приблизился, открыл переднюю дверцу.
— Товарищ шофер, почему не подчиняетесь инспектору? Он на посту и выполняет свой долг. Куда едете? Откуда? Предъявите документы.
— Документы? Да вы что, товарищ старшина!
— Предъявите документы! — настойчиво повторил милиционер. — Иначе дальше не поедете.
— Грозный начальник! — усмехнулся Иван Иванович. — Какие вам нужны документы? Паспорт?
— Прошу предъявить путевку и водительское удостоверение.
— Никакой путевки у меня нет. Я сам себе выписываю путевки. Это моя личная машина. Понятно? Сорок тысяч заплатил. Кровных.
— Это меня не интересует. Предъявите техталон, права.
— Ну и бюрократ! — злобно воскликнул Иван Иванович и полез в карман. — Вот, пожалуйста, техталон, вот удостоверение. Читай, если грамотный.
Милиционер внимательно посмотрел на водителя и тихо, с достоинством сказал:
— Да, я грамотный, товарищ шофер. А вот вы…
— Но, но, только без нравоучений! Делай свое дело!
Милиционер просмотрел документы водителя и, что-то записав в книжку, вернул их Ивану Ивановичу:
— Пожалуйста. Кого везете? Деньги с пассажиров получали?
Водитель все еще злобствовал:
— Людей везу, не быков! Разве не видишь?
Милиционер и на этот раз не ответил. Он открыл заднюю дверцу лимузина:
— Товарищи, предъявите документы.
— Документы? Пожалуйста, — живо откликнулся «Иван».
Он пошарил по карманам пиджака и брюк, виновато улыбнулся:
— Простите, товарищ старшина, я не ту шкуру надел. Все документы остались в новом пиджаке. Знаете, я так торопился… Войдите в наше положение: мы спешим на похороны. Дядя у нас умер в Ужгороде.
Милиционер перевел взгляд на второго пассажира:
— А ваши документы?
— Мои документы в полном порядке, товарищ старшина. Все при себе: и военный билет, и паспорт, и справка с места работы, и даже брачное свидетельство.
«Петро» неторопливо, якобы за тем, чтобы достать документы, полез в карман. Нащупав рубчатую рукоять браунинга, сдвинул предохранительную кнопку и, не вынимая руки из кармана, направил дуло пистолета в живот милиционера.
Он был уверен, что уложит его первой же пулей. Выстрела не последовало. Нажал на спусковой крючок еще раз и еще, но пистолет молчал.
«Петро» не один месяц учился в шпионской школе владеть оружием. Он хорошо стрелял из пистолета — автоматического и бесшумного. На тренировке стрелял из любого, самого трудного положения, искусно обороняясь и неожиданно нападая, стрелял по движущейся мишени пограничника и его розыскной собаке, из окна бешено мчащегося автомобиля, лежа в постели, сидя за обеденным столом, предъявляя милиционеру документы… Он хорошо усвоил, куда и как надо стрелять, чтобы поразить противника наверняка. И все-таки теперь, когда надо было стрелять в милиционера, а не в фанерную мишень, так оскандалился.
Что же случилось с пистолетом? Почему он не стреляет? «Петро» нащупал в кармане выпавшую из пистолета обойму. Вот простофиля! Он так испугался, когда милиционер потребовал документы, что нажал вместо предохранительной кнопки другую, ту, что освобождает обойму. Надо как можно скорее вставить обойму в пистолет и трахнуть этого архивежливого милиционера.
— Сейчас, сейчас, товарищ старшина, достану документы, имейте терпение, — улыбаясь, бормотал «Петро».
— Пожалуйста, я подожду, спешить некуда… Товарищ водитель, идите к костру и не подходите к машине! — приказал старшина.
Иван Иванович молча выполнил приказание милиционера.
Яркое пламя костра хорошо освещало внутренность машины, лица пассажиров, их одежду, кепки. Старшина Москаль не был ни психологом, ни следопытом. В милиции он служил недолго и не имел никаких заслуг. Да и на белом свете он жил не так много, не успел еще накопить жизненный опыт. И все же он увидел, что лица пассажиров испуганны, бледны и напряженны. На полу машины он заметил пустые бутылки из-под водки и пива, а на заднем сиденье — остатки пищи и помятую географическую карту.
Особое внимание Москаля привлекла обувь пассажиров. Резиновые мало ношенные сапоги сияют лаком, а голенища почему-то наполовину отрезаны. И видно, сделано это на скорую руку тупым ножом, криво, кое-как.
И Москаль понял, что какие бы документы ни предъявили ему эти пассажиры, он не должен им верить. Обязан во что бы то ни стало задержать этих молодчиков. Задержать!
Много может передумать и перечувствовать человек в такое короткое мгновение, как одна минута!
Вот до этой минуты, до того как судьба столкнула старшину Москаля с двумя опасными, на все готовыми преступниками, он не знал, что обладает молниеносной смекалкой, смелостью и отвагой, что не боится смерти.
«Иван», в свою очередь, пока «Петро» рылся в карманах, лихорадочно изучал старшину. Судя по его поведению, милиционер знал или разгадал, кто едет в роскошной машине. Значит, притворяться дальше бесполезно. Надо идти напролом, огнем прокладывать дорогу к границе, к жизни.
Сидя в глубине машины, не вынимая руки из кармана, он направил на милиционера пистолет, который все время держал наготове. Сейчас раздастся выстрел, и старшина рухнет на землю. Карантинный инспектор и шофер поднимут шум, и тогда преследование со стороны пограничников неминуемо. А может быть, пока не стрелять? Может, еще можно тихо и мирно, с помощью всемогущих денег, отделаться от этого настырного старшины? Деревенский милиционер, живущий в горной глухомани, онемеет от радости, если ему предложить пятерик. Пять тысяч рублей ему, пять — карантинному инспектору. Он, этот инспектор, разумеется, тоже, как муха к меду, прилипнет к деньгам и поднимет шлагбаум. Придется изрядно отвалить и шоферу. Не родился на свет еще такой дурак, который бы отказался от денег…
Так рассуждал лазутчик. Вернее, не рассуждал, а вспоминал то, что ему когда-то внушали в шпионской школе. «Самое мощное твое оружие — деньги, — говорили ему люди «Бизона». — За деньги ты сможешь купить многое, почти все, что захочешь». В чемоданах «Ивана» и «Петра» были советские, чешские, польские, немецкие, венгерские, английские и американские деньги. Покупай, покупай, покупай!… Пока у тебя есть деньги — ты почти в безопасности.
«Иван» достал из кармана тугую пачку сторублевок:
— Вот наши документы!… Спрячь их подальше и не говори никому, как разбогател. Поднимай шлагбаум!
— Гражданин, — повысил голос Москаль, — выходите из машины!
— Я не шучу с тобой, старшина. Бери деньги, никто не узнает. Может быть, мало? Могу прибавить. — «Иван» достал еще одну пачку сторублевок. Обе пачки бросил на коврик, прикрывающий сиденье лимузина. — Хватай, дурак, и проваливай отсюда, пока жив!
— Выходите из машины, — стараясь быть спокойным, повторил Москаль.
Он быстрым, точным рывком извлек из кобуры пистолет.
«Да, теперь надо стрелять, — решил «Иван», — стрелять без промедления, иначе все пропало». Не вынимая руки из кармана пиджака, он снова направил браунинг на милиционера.
Сильный свет фар какой-то машины, неожиданно выскочившей из-за крутого поворота дороги, со стороны перевала, широким снопом ударил в заднее окно лимузина. «Иван» не мог не оглянуться. Что за машина? Откуда она взялась? Случайная или погоня? Свет ослеплял, мешал разглядеть, что там.
Старшина Москаль по растерянному взгляду пассажира понял, чего тот опасался. Сзади донеслись мужские голоса — подъехал, по всей вероятности, грузовик с колхозниками.
Обернувшись, старшина Москаль зычным, властным голосом скомандовал:
— Автоматы к бою! Свет не выключать!
Это была инстинктивная хитрость солдата, очутившегося перед лицом сильного врага. Москаль рассчитывал на то, что его противники почувствуют себя в ловушке и не окажут сопротивления.
Расчет оказался верным. Всякий преступник, как бы долго ни ускользал от возмездия, каким бы удачливым ни был, постоянно оглядывается, ждет преследования.
Колхозники, сидевшие на грузовике, не могли быстро, как того требовали обстоятельства, разгадать военную хитрость старшины. Они ясно слышали команду «автоматы к бою», но восприняли ее, скорее, как шутку. Какие у них автоматы? Палки нет в руках.
При свете фар грузовика они хорошо видели возбужденного милиционера и сидящих на заднем сиденье пассажиров, но были очень далеки от понимания того, что происходит. Больше с любопытством, чем с тревогой, шумно переговариваясь, они соскакивали на землю, топали тяжелыми сапогами об асфальт дороги. И это было как раз то, что нужно. Создавалось впечатление, что солдаты готовы по команде старшины наброситься на пассажиров легковой машины.
— Выходи! — командовал Москаль и, схватив «Петра» за воротник пиджака, вытащил из машины:
— Руки из карманов! — Приказал старшина второму пассажиру, направив на него пистолет, продолжая левой держать «Петра» за воротник пиджака.
«Иван» положил руки на спинку шоферского сиденья. Москаль почувствовал себя победителем, и это, как он впоследствии признавался, чуть его не погубило.
— Так и сидеть! Кушнирчук, бери мой пистолет и охраняй. Стреляй, в случае чего. Вперед! — Старшина отдал оружие карантинному инспектору, тряхнул «Петра» за шиворот и повел к темному домику, одиноко стоявшему у дороги. Это был дом молодого специалиста леспромхоза Михаила Горая и его жены.
Москаль ввел «Петра» в холодную боковушку, имеющую отдельный ход на улицу, постучал в перегородку, разбудил хозяев. Они, муж и жена, тотчас же появились в дверях с керосиновой лампой в руках.
С тревогой, естественной для людей, привыкших к тихой лесной жизни, смотрели они на знакомого милиционера и чужого человека, которого старшина держал за шиворот.
— Обыскивайте! — обращаясь к хозяевам, попросил старшина.
Муж и жена с недоумением переглянулись, не понимая, чего от них хочет Москаль.
— Выверните карманы!
Торопясь, неумело они обыскали преступника. На разостланном платке, который Мария Горай сняла со своей головы, оказались три пачки сторублевок, две пары золотых часов, карты Прикарпатья и пограничных районов соседних государств, пистолетная обойма, крошечный фотоаппарат, карандаши и автоматические ручки, различные документы.
Москаль потеснил преступника в дальний угол боковушки, посадил на корточки, лицом к стене.
— Вяжите! — приказал он и выбежал на улицу.
Михаил Горай и его жена растерянно стояли перед преступником. «Вяжи!» А чем вязать, если под руками нет ни веревки, ни проволоки, ни кожаного ремня, ни куска холстины!
— Вяжи! — шепотом проговорила Мария и сорвала со своего халатика узенький пояс.
С улицы донесся глухой пистолетный выстрел. Через несколько секунд послышались второй, потом третий.
Муж и жена встревоженно переглянулись.
Выстрелы вывели «Петра» из состояния растерянности и подавленности. Вскочив на ноги, он круто повернулся и, ударив Михаила Горая в живот головой, ринулся к двери. Мария вовремя успела подставить ему ногу. «Петро» упал лицом вниз, со связанными руками.
Горай оглушил его крепким ударом кулака и выскочил на улицу.
При ярком свете фар грузовика он увидел милиционера. Москаль лежал на земле, вблизи легковой машины, без фуражки и держался за живот. Горай бросился на помощь старшине.
Что же произошло здесь, около костра, пока связывали «Петра»?
…Подбежав к машине, Москаль широко распахнул дверцу машины, скомандовал:
— Выходи!
«Иван» опустил руку в карман, выхватил браунинг и выстрелил. Пуля угодила Москалю в живот. Он упал, чувствуя, как горячий поток крови струится по ногам. Но боли не было. Какое-то мгновение Москаль лежал на земле, держась за живот и размышляя, что делать. Вставать нельзя — подставишь себя еще раз под пулю.
— Стреляй, Кушнирчук! — хриплым шепотом приказал он инспектору.
Кушнирчук почему-то не стрелял. Тогда старшина поднялся с земли, выхватил у карантинного инспектора пистолет.
Опоздал! В машине прозвучал выстрел: «Иван» покончил с собой.
Старшина Москаль опустил пистолет, застонал и рухнул на землю. Теперь он чувствовал боль, и головокружение, и тошноту, и дрожь в руках и ногах, и страх.
Ивану Ивановичу стало ясно, что он доставил к границе преступников. И даже теперь хотя бы частично он мог еще искупить свою вину. Но такая мысль не пришла в его седую голову. Он трусливо отсиживался у костра. Потом оправдывался: «Ведь мне было приказано отойти к костру, не двигаться».
Верховинцы и лесник окружили милиционера.
— Ранен, Москаль? — спросил подбежавший Горай. — Куда тебя?
— Вези, друже, к доктору. На мотоцикле. Скорее!
— А легковая машина? Эй, шофер!…
— Не надо. Пусть все как есть. Ничего не трогать. Карауль, Кушнирчук!
Горай бросился к сараю, где стоял его мотоцикл. К счастью, машина оказалась послушной, несмотря на холодную ночь: завелась от первого же прикосновения ноги к стартерной педали.
Прогрев мотор, Горай подъехал к милиционеру, помог ему влезть на заднее сиденье мотоцикла.
— Смотри же тут, Кушнирчук!… — проговорил Москаль слабым голосом.
Старшина хотел еще что-то сказать, но раздумал, увидев хозяйку.
Мария Горай стояла на пороге дома, освещенная пламенем костра и фарами грузовика.
— Чего же ты стоишь, голова? — закричала Мария на мужа. — Мчись во весь дух к доктору! Ну!
Горай [1] осторожно объехал придорожную канаву по мостику и, выбравшись на автостраду, помчался в гору, в село, где была больница.
«Петро» на всех допросах держал себя откровенно нагло. Еще при первом разговоре с Шатровым, сразу же после того, как его доставили в управление госбезопасности, он прямо сказал:
— Не рассчитывайте на мою трусость. Смерти я не боюсь. Раскаиваться ни в чем не собираюсь. Плакать мне не по ком. Жалеть и любить нечего. Надеяться не на что. Скучать не буду даже в гробу. Короче говоря, с того момента, как вы меня схватили, я положил на свою жизнь крест и сургучную печать. Ясно? А если ясно, сделайте вывод: не расколете ни сейчас, ни через месяц, ни через год, никогда! Ничего не скажу, что я, с чем меня едят, как присаливают.
На своем длинном веку чекиста Шатров наслышался всяких речей. Декламации «Петра» он не придал особого значения. Бравирует, храбрится.
У «Петра» нашли документы на имя Федорова, Грубейко, Козлова, Самарина, Щеглова, деньги, оружие, топографические карты, секретный фотоаппарат, карманный магнитофон. Была и стеклянная ампула с цианистым калием — не успел или не захотел ее разгрызть. Были книжечки в черной коже, заполненные нейтральными, видимыми записями и тайнописью. Точно такие же книжечки были изъяты у Рандольфа Картера после того, как он был схвачен с поличным. Но этого «Петро» не знал, а Шатров и люди, ведущие следствие, не спешили сообщить ему об этом. Успеется! Пусть пока наслаждается своей твердостью. Разговорится позднее, когда полностью, звено за звеном будет собрана цепь, откованная в свое время мистером Картером.
Кое-что очень важное удалось установить и без помощи «Петра». В тайнописи, переданной им американскому дипломату там, в Киеве, в Софийском соборе, были расшифрованы адрес и фамилия Кашубы и парольная фраза.
Так еще раз, и теперь уже твердо, вошел Кашуба в очерченный Шатровым круг операции «Рукотрясение». В пределах этого круга среди живых пребывали и мертвые — официант Гонтарь, «левый пассажир Иван», Рандольф Картер. Правда, последний не был покойником в буквальном смысле этого слова. Он не существовал лишь для Шатрова.
В тайнописях «Петра» Шатров обнаружил слово, хорошо знакомое жителям Закарпатья и всем, кто не запамятовал школьные времена, уроки географии — «Говерло».
— Прекрасно!
— Что случилось, Никита Самойлович? — спросил Гойда, — Почему вы так оживились?
— Как же! Говерло!… Самая высокая гора в наших краях. Забыл?
— Нет, серьезно, что это — Говерло?
— Это, брат, такое, такое!… Вася, считай, что мы уже окупили потраченную энергию и все расходы оправдали.
— Говерло — это кличка? Ивана?… Петра?… Кашубы?… Качалая?…
— Может быть. Пока не ясно. Надо проверить. Возможно, совпадение. Говерло!… Сколько лет, сколько зим!…
Вскоре после шумного ночного происшествия на дороге Львов — Ужгород монастырский виноградарь послал письмо в Одессу Качалаю. Писал, как созревает на склонах монастырской горы виноград, как он лечит больные лозы жидкостью, составленной по рецепту института. Поверх открытого текста лежала невидимка, тайнопись. Кашуба писал своему сообщнику: «Племянники» так и не явились ко мне. Достоверно утверждаю, что они схвачены около леспромхоза, возле Явора. Кто-то из двоих убит, точнее, покончил с собой. На всякий случай принимаю необходимые меры. Будь твердо уверен: живым меня не возьмут. Затаился, выжидаю…» Из Одессы в Явор сразу же полетела ответная открытка с тайнописью: «Не беспокойтесь. Мертвый «племянник» не даст никаких показаний. Совершенно безопасен для вас и живой. Ни при каких обстоятельствах не заговорят. Однако вы правы, что затаились, выжидаете. Но прошу иметь в виду: долго бездействовать нельзя. Сроки у нас жесткие. Повремените немного, неделю самое большее, и действуйте. Известная вам программа должна неуклонно выполняться даже при большом риске провала. Таковы самые последние указания».
— Вот, Васек, — сказал Шатров, — видишь, какой у них замах. Программа!… Готовы лезть в огонь и воду, к черту на рога, только бы выполнить задачу в срок… Почему такие жесткие сроки?
Гойда привык к подобным неожиданным вопросам.
— Программа!… Значит, уцелели не только Кашуба, Качалай. Действует шайка.
— Да. И по-видимому, действует она не только на территории пограничного Закарпатья, но и там, на Измаильщине, на Дунае. Что же им приказано сделать?
— Трудный вопрос.
— Да, трудный. Но мы обязаны искать ответ и на него. Вспомни, как в последнее время натаскивают «людей закона Лоджа».
— Тысяча и один вид диверсий!…
— Речь идет не о деталях. Я имею в виду главное направление, характер операции в целом, во имя чего она совершается противником, к чему привязывается. Путешествие мистера Картера, вояж «Ивана» и «Петра», усиленная засылка воздушных шаров, начиненных антисоветскими листовками, в закарпатское небо, передачи радиостанции «Свободная Европа» специально для Закарпатья и «порабощенной» Венгрии — все это признаки того, что действия мистера Картера, Качалая, Кашубы и тех, кто нам еще неизвестен, привязывается к какой-то дате, к какому-то событию. Ладно, поживем — увидим. Может быть, на Дунае обстановка прояснится.
Шатров произнес все это без всякого намека на многозначительность, как обычно, размышляя вслух. Слова как слова. Но они глубоко запали в душу Гойды. Не раз он вспомнил их впоследствии, когда тайное стало явным.
— Теперь, надеюсь, мы поедем на Дунай? — спросил Гойда.
— Пока нет. Мы непременно должны побывать в гостях у Кашубы.
— Понял! Приходите к нам в гости, когда нас дома не будет…
«ГОВЕРЛО»
Черный молниеподобный зигзаг пронзил прозрачную до дна толщу воды Медвежьего потока, и сразу же поплавок встал вертикально, а потом скрылся. Клюнуло!… Ощущая в груди ледяной холодок, а во рту огненную сухость, Шатров рванул гибкую удочку кверху и на себя. Свист воздуха, разрезаемого удилищем, шорох осыпающихся под ногами камней, восторженный крик Гойды, рыбачившего неподалеку: «Ура! Поздравляю с первенцем!…»
Шатров был так ошеломлен выпавшим на его долю счастьем, так нерасчетлив в пылу охоты, что потерял равновесие, когда выхватывал из воды радужную рыбку. Но, и падая, он не сводил с нее глаз. Видел, как она вспорхнула над Медвежьим потоком, как описала дугу под куполом неба, слышал, как шмякнулась о камни. Вскочил, побежал. Скользкие, в росе и мхах валуны подкатывались ему под ноги. Падал, поднимался, бежал… Боялся, что исчезнет, растает радуга. Первая радуга в его жизни!
Не исчезла. Вот она, на конце крючка, махонькая, с округлым туловищем, мокрая, холодная, живая, еще сохранившая изумительный цвет горного потока. Радужная форель! Куда золотой рыбке до этой. По спинке разбросаны крапинки, веснушки. Каждая излучает свой особый цвет, то черноватый, то голубой, то белоснежный, то бронзовый. Бока рыбешки зеленовато-желтые с перламутрово-золотистым отливом, брюшко — атласно-жемчужное, глазной ободок — кроваво-красный, брюшной плавник — ярко-желтый, а спинной — с нежной каемкой и в мельчайших крапинках. Так вот она какая!… Тяжело дышит, слабо пошевеливает плавниками и вот-вот, кажется Шатрову, заговорит человеческим голосом, как пушкинская золотая рыбка: «Отпусти меня, старче!»
Шатров осторожно снял с крючка еще прохладную, трепещущую в его руке радугу и бросил ее в поток.
— Что ты делаешь, балда? — закричал подбежавший Гойда. В его голосе было отчаяние. Лицо белее пены ручья. Василий забыл, кто перед ним.
К счастью, он вовремя пришел в себя. Смущенно улыбнулся, виновато сказал:
— Новички почти всегда вот так теряются перед радугой. И со мной такое бывало. Один старый рыбак за подобную оплошность меня хвостом форели по щекам отхлестал. Сначала по одной, потом по другой. И я терпел.
Шатров засмеялся.
— По щекам?… Хвостом?… Молодец! Что ж, Вася, хлещи, заслужил и я. — Шатров повернулся к Гойде, подставил под удар правую щеку.
— Следовало бы. Ладно, ограничимся строгим предупреждением. А вот если в следующий раз…
— Следующего раза не будет. Зарекаюсь охотиться на радугу. Пусть себе сияет.
Шатров окунул руки в поток, омыл ладони.
— Закурим, Вася?
Гойда посмотрел на часы, невесело усмехнулся.
— Всегда вот этаким — манером, табачным дымком, мужики окуривают размолвку.
— Не просто мужики, а писатели, кинорежиссеры, артисты. Во всех книгах, во всех фильмах герои дымят, «выражают душевное состояние». Что ж, покурим и мы… Не подведет тебя Мария?
— Не имею права плохо думать о ней. Дивчина аккуратная, умная, ловкая. Уверен, подготовит все как должно.
— А ты… ты уверен в том, что сам сделаешь все как должно?
— Во всяком случае, сделаю все, что в моих силах. За остальное, особенно за Кашубу, — не ручаюсь.
— Надеюсь, он тебе не помешает. Смотри в оба! Фиксируй все, не пропусти какой-нибудь приметы, которая выдавала бы в нем семейного человека.
Гойда внимательно посмотрел на Шатрова.
— Привык я, Никита Самойлович, понимать вас с полуслова, часто ваши мысли отгадываю, а вот сейчас… Что вы ищете?
— И рад бы сказать, да нечего. Самому многое неясно, кое в чем сомневаюсь, кое-что проверяю, кое-что раскапываю.
— А мне кажется, надо прежде всего докопаться до истинного Кашубы: кто таков, как, где и при каких обстоятельствах этот виноградарь воспользовался его документами и его оболочкой. Может быть, он стал трупом, может быть, живым трупом.
— Правильно! Докопаемся до истины, когда выедем на Дунай.
— Не теряем ли мы время, Никита Самойлович?
— Кто знает, где мы его теряем, где находим. Потерпи, Вася, не нервничай. — Голос Шатрова мягкий, тихий, выражение лица добродушное, без малейшего намека на тревогу и беспокойство.
— Удивляюсь я вашему спокойствию, Никита Самойлович.
— До сих пор не привык?
— Сегодня вы чересчур спокойны. Как это вам удается замораживать нервы?
— Очень просто. Берегу покой с утра. Как только продираю глаза, как только начинаю соображать, что к чему, взываю к Серому, прошу его зарядить меня спокойствием: так и так, владыка, предстоит тяжелый день, вели нервам моим, сердцу и голове пребывать на высоте!…
Гойда бросил недокуренную сигарету в поток и, провожая ее глазами до перепада, подумал вслух:
— Чего только не советует Серый, куда только не толкает!… Слышите, чего захотел?! «Вот чем надо быть: надо быть как вода. Нет препятствий — она течет; плотина — она остановится; прорвется плотина — она вновь потечет; в четырехугольном сосуде она четырехугольна; в круглом она кругла. Оттого-то она нужнее всего и сильнее всего». — Гойда опять посмотрел на часы и перевел взгляд на кустарник, где, как показалось ему, что-то зашуршало. Нет, ошибся. Тишина. — Не хочу быть как вода! Не хочу приспосабливаться ни под круглых, ни под четырехугольных! Хочу быть самим собой, человеком, и в этом случае буду всем и вся нужным, сильнее всех плотин! Слыхал, Серый? Так что заткнись со своей многовековой мудростью, отправь ее в архив.
Гойде опять показалось, что кто-то раздвигал ветви кустарника. На этот раз не обманулся. На том берегу Медвежьего потока среди зеленых ветвей показалась Мария.
Она энергично взмахнула рукой, приглашая Гойду к себе. Он кивнул Шатрову, бесшумно перепрыгнул через поток и пропал в зарослях орешника вместе с Марией. Ни звука не доносится оттуда. Тишина и здесь, у быстрой и холодной воды. Где-то защебетала птица. Зажужжала пчела. В хрустальном потоке зачернела спинка форели. Стоит на самой стремнине, будто вмороженная в стеклянные струи, терпеливо ждет добычу. Глаз ее в червонном ободке ясен, насторожен.
Шатров перевел дыхание, полез в карман, достал пухлую, в клеенчатом переплете записную книжку — дневник для себя. Даже Гойда не знал, какие мысли доверяет его друг этой потрепанной черной книжице. Шатров раскрыл ее и твердым, остро отточенным карандашиком стал неторопливо, без помарок покрывать мелкими неразборчивыми буковками страницу за страницей.
«Однажды у Серого спросили, где он набрался мудрости. Тот улыбнулся лукаво и сказал: «Многому я научился у своих наставников, больше — у своих товарищей, но еще больше — у своих учеников»… Вот уж который год я люблю Василька и учусь воспринимать жизнь так, как он. Это великий дар и великое умение хорошо жить. Вася щедро наделен этим даром, но он не замечает, как богат, считает, что должен восхищаться умом и талантами других. Это его давняя привычка, еще с тех пор, как был разведчиком в партизанском отряде имени Олексы Довбуша. Там, в суровых Карпатах, на полях Отечественной войны, засеянных великими поступками, — корни Василька. В те еще времена начал он подражать прославленным удачливым разведчикам, хотя уже и сам тогда был смелым, ловким. Но ему казалось, что все у других лучше, чем у него. Не подозревал, что ему не надо никому подражать, брать взаймы или напрокат чужой ум, чужую сноровку, чужое бесстрашие. Скромность, не знающая, что она есть скромность, искреннее незнание своей силы, неутолимое желание быть сильнее и лучше, неустанные поиски образца для примера, радостные находки «образцов» были постоянными его спутниками. И теперь, к счастью, не покинули его. Учась у всех сознательно, с открытыми глазами, он многих учит бессознательно.
Повторяю, настаиваю: высший дар человека — благоговейный восторг перед делами своих товарищей, умение радоваться чужому успеху, чужому уму, чужой победе, способность высоко оценивать другого и недооценивать себя. Такой человек сделает много, при любых обстоятельствах не подведет ни друга, ни государство, ни партию.
Васильку недостает чекистского зрелого мастерства, спокойствия, терпеливости, проницательности. Все это придет к нему со временем. У такой породы бойцов есть одна могучая особенность. Суворов назвал ее солдатской смекалкой, сноровкой. Люди искусства именуют ее поделикатнее — вдохновением. Говорят, оно от неба, от лукавого, рождается стихийно, может воздействовать на человека и так и этак. Не знаю. Но я твердо убежден, что вдохновение вспыхивает не само по себе, а от искры, высекаемой трудом. Трудолюбивого чаще всего, охотнее всего посещает вдохновение. Васек трудолюбив, наделен светлым умом, сильной волей, прошел добрую школу — человеколюбия, борьбы за правду, за справедливость, храбр, морально устойчив, мыт в семи водах и бит в семи ступах, хорошо воспитан.
К чему это я о нем заговорил «во первых строках моего письма»? Он еще не знает о существовании «Говерло», но уже чувствует его приближение, встревожен, оглядывается, гадает, ищет: кто, где, откуда, почему, зачем? Прекрасно! В нашем деле это и называется вдохновением.
Признаться, я слукавил, когда сказал Гойде, что и рад бы поделиться с ним секретом, да нечего ему сказать. Есть секрет, и немалый. Кое-какие факты дают мне право думать, что «Говерло» скрывается под личиной виноградаря Кашубы. Если это так, то я не могу бросить все, ехать на Дунай. Нет, Вася. Прежде всего меня интересует «Говерло», человек из «Отдела тайных операций». Происшествие в «Верховине», конечно, насторожило его, заставило затаиться, и потому мы не можем сразу установить, с кем он связан, кроме Качалая.
Что я сегодня знаю о нем? Впервые он неопределенно возник в зоне нашего наблюдения 16 августа 1956 года на ужгородском почтамте. В нашем деле часто находишь самородок там, где нет никаких спутников золота. Второй раз Кашуба появился на смутном горизонте «Рукотрясения» в довольно четком виде. Через два дня он пришел на ужгородский почтамт и получил телеграмму до востребования и тем самым стал полноправным действующим лицом операции «Рукотрясение». Теперь все зависит от нашего терпения, от умения выбрать хорошую позицию для наблюдения. — Беру эту миссию на себя.
Возвращаюсь к Кашубе. Предполагаю, пока только на основании одного слова, обнаруженного в бумагах «студентов», что он «Говерло». Андрей Ярославович Кашпар. Агроном. Родился в Берегове, неподалеку от Тиссы. Жил в Венгрии, в окрестностях Токая, работал управляющим поместьем венгерского графа. Двадцати пяти лет от роду эмигрировал в США. Вернулся в Закарпатье в тридцатые годы, привез с собой жену, американку закарпатского происхождения, мадьярку по рождению. Она была очень красива, с изрядным запасом долларов. Теперь она просто красива, а богата тайно. Скрывает, сколько у нее денег и добра. Она не то дочь, не то племянница какого-то крупного помещика, бывшего, разумеется.
Андрей Кашпар оставил после себя кое-какой след в архивах ужгородского жандармского управления. Доказано, что он служил и в мадьярской и в чехословацкой разведках. Не отказывал в услугах англичанам, французам, немцам. В годы войны околачивался в Будапеште, в Трансильвании, заглядывал в Плоешти — готовил налет американских бомбардировщиков на нефтяные промыслы. После войны бесследно пропал. Следы его удалось обнаружить несколько лет назад. Нам стало известно, что Андрей Кашпар под кличкой «Говерло» обосновался в Баварии, в американской разведывательной школе, обучает «людей закону Лоджа». Недавно он покинул школу и выбыл с небольшой группой своих «воспитанников» в неизвестном направлении.
Я долго искал его и там и сям. И теперь, кажется, нашел. Неужели это он? У нас есть старая фотография, на которой изображен Кашпар тридцатых годов. Есть и новая, сделанная неделю назад. Никакого сходства! Очевидно, сегодняшний «Говерло» подвергся пластической операции.
Вот пока и все, что я знаю о нем. Теперь о его жене, вывезенной из Америки. Ева Шандоровна Портиш. Под такой фамилией она проживает в городе Яворе. В течение последних лет она не переписывалась с мужем, даже не знает о том, что он жив. Не знает или делает вид, что не знает.
Живет она по-прежнему, будто ничего не случилось, будто и нет рядом, за монастырскими стенами, Андрея Кашпара. У Евы много подруг в Ужгороде, Мукачеве, Виноградове, Рахове, Сваляве. Она часто выезжает в эти города. Слывет среди модниц и портних лучшей закройщицей и художницей. Она владелица подпольного ателье, доступного для очень узкого круга дам, особо денежных, особо доверенных. Любит принимать гостей и сама охотно бывает всюду, куда ее приглашают.
Собираюсь на днях навестить мадам Портиш, завязать знакомство. Что мне от нее нужно? Во-первых, я должен установить, знает ли она, что в Яворе объявился Кашпар. Во-вторых, я должен поковыряться в душе этой закройщицы-художницы, узнать, чем она на самом деле интересуется и занимается. Деликатная миссия. Противная, но необходимая.
Если Гойда не вернется из монастыря с хорошими трофеями, то я вынужден буду завтра познакомиться под тем или иным предлогом с мадам Портиш. Не ведаю, куда уведет меня «Рукотрясение», но догадываюсь, что очень далеко.
Говорят, что художники, писатели, композиторы перед тем, как начать новое произведение, много размышляют, вспоминают, восстанавливают в памяти образы друзей и врагов, заново переживают дела минувших дней: любовь и нелюбовь, страдания, удачи, победы — готовят, так сказать, себя к родовым мукам.
А чем мы с тобой, Васек, хуже композиторов, художников, писателей? Наша работа, смею утверждать, тоже творчество. Если ты согласен со мной, не ворчи на то, что я так много в последние дни размышляю, вспоминаю, сопоставляю, философствую…
Слышу шорох в кустах на том берегу потока. Наверное, Васек возвращается. Да, он!…»
Шатров закрыл записную книжку, положил ее во внутренний карман пиджака, наглухо застегнул карман «молнией», спросил:
— Ну?
Гойда изо всех сил сдерживал себя, но возбуждение все-таки прорывалось: на смуглых щеках, на лбу и шее пятнами выступил румянец. Шатрову даже показалось, что он слышит, как стучит сердце его друга.
— Присядь, Василек, отдохни, успокойся.
— А я спокоен. — Но он все-таки опустился на камень, несколько раз глубоко вздохнул, потом окунул голову в прозрачную воду ручья. Вытер лицо и волосы рукавом рубашки, блеснул повеселевшими глазами: — Сделал все, что надо. Своими руками пощупал рацию. Американская, последнего выпуска. Видел гранаты, доллары, западногерманские марки, венгерские форинты, чехословацкие кроны, польские злоты и рубли. Видел два кольта, географическую карту Закарпатья, Венгрии, Баварии, секретную фотоаппаратуру. Все это спрятано в надежном месте: в подвале, в старой винной бочке с тройным дном. Обыкновенная на первый взгляд, ничем не отличная от других. Дубовая, темная от времени, пропитанная вином, с деревянным краником-чопом. Повернешь краник — вино льется. Но если хорошо присмотреться к ней с тыла, если открыть второе днище, увидишь тайник, а за ним еще одно, третье, настоящее днище, за которым плещется вино. Тайник что надо. Если бы не Мария, не нашел бы я к нему дороги.
— Следов своих на этой дороге не оставили?
— Работа была аккуратная. И все-таки нельзя поручиться, что не наследили. Всех ухищрений врага не угадаешь.
— Надеюсь, никто тебя не видел? Никто не помешал?
— Была одна неувязка. Чуть на Кашубу не напоролся. Неожиданно, раньше срока он вернулся с виноградников и в свою хижину хотел идти. Хорошо, что Мария перехватила его, увела под каким-то предлогом на главный монастырский двор.
— Ну, а как моя особая просьба? — спросил Шатров.
— Выполнил. Правда, чисто женских вещичек не обнаружил.
— Ну вот, а говоришь — выполнил.
— Не огорчайтесь! Все в порядке. Я знаю, что вам надо.
— Да?… Интересно, что же мне надо?
— Вам нужно было установить, встречается ли Кашуба с какой-нибудь женщиной, кто она эта женщина, где живет…
— И ты установил? — Шатров с искренним изумлением смотрел на своего помощника. — Как же тебе это удалось?
— Расскажу все по порядку. В жилье Кашубы я обнаружил белье со споротой меткой, несколько носовых платков очень давнего, еще довоенного производства, домашние туфли, тоже старые, сделанные еще Батей. Все это перекочевало сюда с квартиры некоей гражданки Портиш Евы Шандоровны…
— Когда? Как?
— Мария говорит, что видела недели три тому назад, как пробиралась эта гражданка ночью в хижину Кашубы. Был и Кашуба один раз в доме Евы, вернулся оттуда с барахлишком, свежим пирогом.
— Почему же тебе Мария раньше об этом не рассказала?
— Забыла. Не придавала значения такому пустяку.
— Хорош пустяк! Ну, Вася, сматывай удочки. Едем на Дунай. Обязательно поедем. Теперь нас ничто не задержит.
ПО ДОРОГЕ НА ДУНАЙ
Гойда и Шатров, направляясь на Дунай, полагали, что пробудут там недолго, несколько дней: выяснят все о Кашубе и выедут обратно в Закарпатье. Ошиблись. Пробыли они на Дунае и на Черном море долго, до конца лета. Там, во владениях Смолярчука, оказалось главное направление операции.
До Черного моря добрались самолетом. В Одесском порту сели на старенький каботажник «Аркадия», благополучно прошедший все огненные бури Отечественной войны, и медленно, не теряя землю из виду, побрели на юг, вдоль плоского побережья.
День был безветренный, теплый, в щедром солнечном сиянии. Море спокойное, синее на глубинных местах и серо-пепельное, замутненное пресными речными водами ближе к берегу.
Далеко-далеко, до самого горизонта прорезала морскую равнину дорога, вспаханная тупоносой «Аркадией». И над ней кружились чайки, выхватывая из воды арбузные корки, куски хлеба, брошенные с кормы судна.
На палубе, в тени брезентового тента, расположились дунайские колхозницы, возвращающиеся из Одессы. Чуть-чуть хмельные от молодости, от базарных удач, от свежего морского воздуха, от доброго безделья, неожиданно выпавшего на их долю, они хохотали, задирали проходящих мимо матросов и пассажиров, потом затянули песню.
Шатров вздохнул, посмотрел на Гойду.
— Хорошо поют! Присоединимся?… Нет, нельзя. Уйдем подальше от соблазна. Пойдем, Василек, пойдем!
Шатров направился в носовую часть «Аркадии», высоко, по привычке, неся седую свою голову. Плечи его, обтянутые тесноватым, из недорогой ткани, но хорошо сшитым пиджаком, молодо распрямлены, плечи силача. Шагал он по палубе твердо, уверенно, будто был здесь не пассажиром, а хозяином, капитаном. Гойда шел позади Шатрова. Одет тоже не броско, как и полковник: темные штаны, серая спортивная куртка поверх клетчатой, раскрытой на груди рубашки. Обыкновенный парень с берегов Дуная.
Пока они шли по палубе, их преследовала песня.
У якоря Шатров сел на какие-то ящики, накрытые потемневшим от времени брезентом. Задумчиво смотрел на море, на темную полосу берега, останавливал взгляд на какой-нибудь чайке, следил глазами за ее полетом, прислушивался к песне, доносящейся с другого конца корабля, и неторопливо заполнял неразборчивыми каракулями страницу за страницей дневника для себя.
«В последнее время нет такого дня, когда бы я не поверял свои мысли бумаге. Не ожидал от себя такой прыти. Почему мне вдруг' захотелось писать? Почему мысленно рисую картину за картиной, сочиняю песни, музыку! Да, и музыку! Слышу ее. Вот и теперь — в сияющем теплом море, в высоком небе, в тревожных криках чаек, в солоноватом свежем черноморском ветре, в смехе дунайских рыбачек, в пароходных гудках.
Не думал и не гадал, что когда-нибудь потянет меня в эту область. Что со мной происходит? Может быть, всю жизнь делал не то.
Говорят, безруких фронтовиков иногда терзают странные галлюцинации. Руки нет, по самое плечо отсечена, а ноет, мозжит так явственно, будто цела, живет, действует. Нечто подобное мучает и меня. За всю жизнь не написал ни одного посредственного рассказа, не сочинил и плохой песни, ничего не нарисовал, а чувствую себя, не имея на то прав, причастным к музыке, живописи, литературе. Откуда такая галлюцинация? Чем ее можно объяснить? Чрезмерным увлечением поэзией? А может быть, это засохшие на корню таланты молодости заныли? Не знаю. Так или иначе, а я не могу, и не хочу, боже упаси, избавиться ни от нахлынувших на меня чувств, ни от мыслей. Смотрю на солнечное море и радуюсь, что оно так сияет, такое теплое — и в своей душе чувствую море. Любуюсь чайками, их дымчато-желтым оперением, их властью над ветром, над просторами, их вольностью — и не завидую. Смотрю на песенных рыбачек — староверок, сохранивших в полной неприкосновенности и чистоту русского языка и красоту русского лица, — и мне кажется, я их давно-давно знаю: кого-то любил, кому-то был другом, братом. Смотрю на Василька, смуглого, кудрявого, скромного, поднебесного жителя Карпат, думаю о том, что жить ему еще и жить, работать и работать, совершать и совершать добрые дела — и радуюсь, что такая высокая честь выпала на долю пастуха-сироты.
Кстати, он сейчас, как встревоженная чайка, увивается вокруг меня, сужает круги, пытается отвлечь мое внимание от записной книжки. Вижу, чем-то он мучается, хочет поговорить, поразмышлять вслух. Поговорим еще, Василек, а пока помолчи, потерпи!
…В моем возрасте солнце чувствуешь сильнее, чем в двадцать лет. И в этом, пожалуй, мое преимущество перед двадцатилетними. Мне уже за пятьдесят. Крутой перевал жизни. Однако я не перестаю набирать сил… Представляю, как бы посмотрели на меня люди, если бы я произнес эти слова вслух. Вероятно, они стали бы поспешно подсчитывать морщины на моем лице, мысленно посмеялись бы над стариковским бодрячеством. Пусть смеются. Да, набираю сил, молодею! Имею в виду не цвет моих волос и лица, не твердость мускулов. Я говорю о постоянном жизненном тонусе, о душевной настроенности. Крепче люблю то, что делаю, больше интересуюсь судьбами людей, нежнее привязываюсь к книгам, беспрестанно расширяется мой умственный кругозор, хочется знать больше и больше. С 5 марта 1953 года барометр показывает устойчиво хорошую погоду. Ясно, ясно, ясно! Счастливое, могучее это ощущение — ясность в сердце и в голове. Далеко видишь, глубоко чувствуешь.
Серый совершенно справедливо утверждает, что трава и деревья нежны и гибки до тех пор, пока живут. Умирая, они делаются черствы, сухи, жестки. Жестокость, жесткость — спутники смерти. Мягкое и нежное — спутники жизни. Когда дерево стало сухим, жестким, оно обречено на смерть. Так и человек. Если твое сердце уже не отзывается на вечернюю зорю, на девичью песню, если не подкатывает к горлу что-то горячее, нежное, когда ты видишь своего ученика и друга, способного пройти твой трудный длинный путь вдвое быстрее, немедленно просись в отставку, заказывай себе про запас некролог: «Пенсионер всесоюзного значения отдал Богу душу».
Минует меня чаша сия. Живу! Живу — и не старею. И так будет до тех пор, пока выполняю давний, старый, как мир, и вечно свежий, как восход солнца, наказ Серого. «Да будет каждая утренняя заря для вас как бы началом жизни, а каждый закат солнца как бы концом ее, и пусть каждая из этих коротких жизней оставляет по себе след любовного дела, совершенного для других, доброго усилия над собой и какого-нибудь приобретенного знания». Не так уж плохо понимали люди свои обязанности и тысячу лет назад!…»
Шатров захлопнул записную книжку, перехватил ее резинкой и отправил в заветный карман, где она постоянно, никому не доступная, пребывала.
— Вася, ты чего крутишься вокруг да около? Чего — так пялишься на меня? Какую тайну хочешь разгадать? — И добрая веселая улыбка осветила лицо Шатрова. — Ладно, спрашивай!
Гойда поближе придвинулся к полковнику, очень серьезно взглянул на него, вполголоса спросил:
— Вы его давно знаете… человека, скрытого под личиной Кашубы?
— А ты как полагаешь?
— Думаю, что очень давно.
— Так. Но я не сразу узнал его. Боялся ошибиться. Присматривался, угадывал, восстанавливал его потерянное лицо.
— Восстановили?
Шатров достал из внутреннего кармана пиджака твердую, размером с почтовую открытку фотографию.
Гойда взглянул на поблекшее изображение почтенного закарпатца: пухлые щеки, лохматые брови, висячие усы, трубка, верховинская шляпа с пером, расшитая цветным узором полотняная сорочка и нарядная меховая безрукавка-кептарик.
— Видал когда-нибудь этого джентльмена?
— Кажется, не видел.
— Кажется?… Посмотри еще, внимательно!
Гойда снова склонился над фотографией. В тени верховинской шляпы бугрится лоб. Под нависшими бровями холодно мерцают глубоко запавшие глаза. Ноздри крупного носа широко раздуты, будто к чему-то принюхиваются.
— Таким «Говерло» был лет двадцать пять назад. Бывший управляющий одного мадьярского графа. Андрей Кашпар. Сбежал на Запад после войны. Там в американской зоне прошел переподготовку в шпионской академии, долго был инструктором-экспертом. Перелицован с помощью пластической операции и заброшен в Явор через Дунай.
Гойда не любил без острой на то нужды задавать вопросы. Предпочитал докапываться до истины собственными силами. Он молчал, размышляя над тем, что раскрыл ему Шатров.
— Все тебе ясно, Василек? — спросил Шатров. Он понял, о чем думает Гойда, и хотел проверить его ход мыслей, подсказать кое-что, если это будет необходимо.
— Не уверен, что все. Когда вы узнали, что «Говерло» заброшен сюда?
— Сразу же, как он только исчез. Но мы точно не знали, куда именно он переброшен и кто его приютил.
— Вот теперь, кажется, все ясно.
Шатров покачал головой.
— Боюсь, что далеко не все.
— Но мне этого пока вполне достаточно, чтобы действовать сознательно, в полную силу.
— Верно! Разведчик, как и солдат, должен понимать свой маневр. Для полной твоей ориентировки кое-что добавлю: «Говерло» голыми руками не возьмешь. Очень осторожно, очень аккуратно мы должны подбираться к нему, чтобы не вспугнуть. Тебе, конечно, понятно, что он явился сюда не на пустое место, имеет опору не только в лице Качалая и своей бывшей жены Евы Портиш.
— Жена?… А я думал… так, случайная сообщница.
— Законная супруга! Еще перед войной, в Америке, в Бостоне поженились. Оба теперь затаились, пережидают. Переждем и мы. Ужгородским товарищам я дал указание не жаловать супругов своим вниманием. Пусть пока порезвятся на обманчивом приволье. А мы тем временем постараемся подобрать ключи к подлинному Кашубе.
— Кашубы нет дома, он куда-то уехал, пропал. И никто нам добровольно не скажет, как и когда он пропал, где скрывается… живой или убитый.
— Верно, и все-таки… тот, у кого припасен хлеб, не должен думать, что он будет есть завтра, иначе его назовут маловерующим. Вот, пожалуй, и все наши планы на ближайшее будущее. Вопросы имеешь?
Гойда посмотрел на небо, все еще полное чаек, послушал песни рыбачек, прижмурясь, погрел лицо в лучах солнца и сказал:
— Имею, но уже чисто личного порядка.
— Вовремя переключился, Васек. Спасибо. Хорошо работаешь. Лучший твой друг тот, кто и улыбается и слезу проливает хотя бы на секунду раньше тебя… Я, брат, с утра настроен и философски и поэтически. Ну, какие нас вопросы мучают? Жизнь и смерть? Гений и злодейство? Любовь и ненависть? Мужчины и женщины? Капитализм и коммунизм? И то и другое, и пятое, и десятое, да?
— Я давно хочу обсудить с вами, Никита Самойлович, одну проблему…
— Плохо хотел, раз столько времени не обсуждал, откладывал. Давай, начинай! Я слушаю.
— Как вы знаете, в этом году я не болел, взысканий не имею, в четырех крупных операциях принимал участие, ни разу вас не подвел, в звании повышен, а чувствую себя препогано. Тяжелый год! Тысяча девятьсот пятьдесят шестой.
— Далекий заход. Приближайся, хватай быка за рога!
— Культ личности Сталина… Правильно, надо было рано или поздно вскрывать, лучше теперь, чем завтра. Но уж очень беспощадно вскрывается.
— Не нравится решительность и мужество хирурга? Хочешь, чтоб опасную болячку заговаривали бабки, знахари? Хочешь, чтобы втихомолку совершались промахи, ошибки, втихомолку исправлялись? Не тем аршином меряешь и эпоху, и партию, и государство… Тебе не приходилось видеть солнечное затмение?
— Что?…
— Солнечное затмение видел?… На виду у миллионов людей затмилось и на виду всего мира прояснилось. Вот так, Вася.
За то и любил Гойда своего седоголового друга, что рядом с ним не заплесневеешь, не поржавеешь, не постареешь. Он и поступком, и словом, и взглядом, и даже молчанием.вдохновляет, воспитывает, наделяет силой.
Чувство сыновьей благодарности переполнило сердце Гойды. Он крепко сжал руку Шатрова.
— Мне здорово повезло в жизни, что встретился с вами. Когда я слышу слова: «друг, хороший человек, прекрасный работник, настоящий коммунист», я всегда думаю о вас, Никита Самойлович.
— Вася, если хочешь быть достойным человеком, не занимайся славословием. Кто льстит, тот подкапывается и под друга, и под отца, и под правду, и под собственный корень.
На капитанском мостике ударили в колокол. «Аркадия» хрипло, простуженным голосом загудела.
Вдали, на границе светло-синих морских вод и мутно-желтых пресных речных, показался голый, плоский островок Змеиный — страж Дуная.
Пароход веселее, протяжнее загудел, приближаясь к суше, к зазубренному, в камышовых зарослях, в протоках и в песчаных косах берегу.
А на корме, где расположились девчата, все еще не умолкала песня:
На дубу меж ветвей, За рекой Дунаем, Молодой соловей Пел, забот не зная.— Бедные соловьи, калины, вишни!… — Шатров усмехнулся. — Из песни в песню кочуют. Может, присоединимся, Вася? Отдадим свои голоса блоку дунайских красавиц, замужних с незамужними?
Гудела, звенела под каблуками девчат мытая-перемытая, добела выскобленная палуба.
«Аркадия» вошла в килийское гирло Дуная. Но не добрались друзья до поющих и танцующих девчат, не отдали им свои голоса. Стояли у борта и любовались Дунаем, его берегами, островами, придунайской землей, ровной, как море, заросшей камышом, пригнутым в одну сторону свежим ветром.
— Смотри, Василек, чудо какое!
— Действительно! Не просто камыши, не камышовые плавни, не камышовый лес, а камышовые джунгли.
— Да не про камыши я, капитан!
— Небо?… Действительно! Не просто небо, а голубая пустыня без конца и без края.
— И небо оставь в покое. Дунай!… Тихий, мутный, почти кофейного цвета, ниже камышей, ниже травы, а властвует и над полетом птиц, и над деревьями, и над долинами. Отчего это, Вася?
— Без Серого не ответишь на такой масштабный вопрос.
— Ладно, зови его на помощь!
Гойда подумал, оглянулся вокруг и сказал:
— Если хочешь подняться выше всех людей трудом, будь ниже всех в своих речах и обещаниях. Но если ты поднялся высоко, если тебя сделали звездой первой величины, посылай на землю людям то, что ты взял у них когда-то — свет.
Шатров уже не слушал Гойду. По стрежню дунайского рукава, оставляя позади себя глубокий и широкий водяной ров, мчался белый катер с пограничным флажком на мачте. Шатров покачал головой, засмеялся.
— Это, кажется, Смолярчук. Так и есть! Грозные имеет намерения дунайский пират. Возьмет «Аркадию» на абордаж, а нас заарканит и в плен заберет. Вася, окажем героическое сопротивление или добровольно в плен сдадимся?
Гойда облизал пересохшие губы, аппетитно крякнул:
— Слышу запах рыбачьей ухи… белоснежный, рассыпчатый осетр, лавровый распаренный лист, черный перец, молодая свежая цибулька… Сдаюсь, товарищ полковник, а вы можете сопротивляться.
— Дудки, сдаюсь и я.
Пограничный катер застопорил, пропустил пароход вперед, потом, взревев мотором, бурля под собой воду, развернулся, легко догнал «Аркадию», поравнялся с ней борт к борту, почти впритирку.
— Эй, на «Аркадии»!… — загремел усиленный мегафоном голос Смолярчука.
— Слушаем вас, товарищ. Что вас интересует? — откликнулись с каботажника. Шатров и Гойда стояли у борта и улыбались Смолярчуку.
— Вы меня интересуете, товарищи! Дальнейшее следование не разрешаю. Прошу перейти на мое судно и беспрекословно выполнять все мои распоряжения.
— Есть, перейти на ваше судно и беспрекословно выполнять все ваши распоряжения. — Гойда первым перемахнул через борт «Аркадии» и спрыгнул на желтую надраенную палубу сторожевого суденышка. Вслед за ним перебрался Шатров.
«Аркадия» пошлепала дальше, вверх по Дунаю, к Ангорской пристани, а пограничный катер свернул в боковую, выходящую в море мелководную протоку к рыбачьим хижинам, белеющим на правом и левом берегах.
…Переночевав на Дунае, Шатров оставил здесь Гойду, а сам на той же «Аркадии» вернулся в Одессу.
«ТЫ В СЕРДЦЕ МОЕМ…»
«Удивительный, непостижимый город! Как только я попадаю в Одессу, сразу преображаюсь. Хорошо думается, хорошо чувствуется. Но откуда это приходит, я не могу объяснить и самому себе, даже вот сейчас, с помощью чернил и бумаги. Однако попытаюсь разобраться, тем более что у меня оказался весь день свободным.
То, ради чего я сюда приехал, кажется, сорвется. Утром, как только вернулся в Одессу, я позвонил К., назвался корреспондентом московской газеты, сказал, что интересуюсь его работой, в особенности последней, связанной с ускоренным созреванием виноградных лоз, и попросил принять меня, дать интервью. К. долго отнекивался, говорил, что в его работе нет ничего достойного внимания, ссылался на нездоровье. Наконец согласился принять меня, но не сегодня в течение дня, не вечером, а, может быть, завтра или послезавтра, если я не уеду, как добавил он. У меня не было другого выхода, я согласился ждать.
Почему он так разговаривал со мной? Встревожился? Почувствовал что-нибудь неладное? Не имеет никаких оснований. Думаю, что я не первый и не последний обращаюсь к нему с такой просьбой. Видимо, он просто очень занят сейчас, не до корреспондентов ему теперь.
Поселился я в гостинице «Одесса». До войны она называлась «Лондонская». Говорят, построена в складчину разбогатевшими на чаевых одесскими официантами. Говорят, в свое время «Лондонская» была лучшей гостиницей не только юга России, но и всего юга Европы. Может быть. Стоит она невдалеке от знаменитой Потемкинской лестницы, на обрывистом берегу. Внизу, между обрывом и гостиницей — набережная, бульвар, заросший каштанами, всегда многолюдный, шумный. В одном конце его памятник Пушкину, дворец; в другом, слева, — бронзовая, темная от времени фигура герцога Ришелье и опять дворцы. А внизу — огромный порт: мол, причалы, стрелы подъемных кранов, мачты судов, флаги всего мира, свистки маневровых паровозов, утробные гудки пароходов, белая громада элеваторов, приземистые пакгаузы и — грузы, грузы, укрытые брезентом и брошенные просто так под открытым небом, горы каких-то ящиков, штабеля труб, железнодорожных рельсов, балок и всяческого, пропущенного сквозь прокатные валки железа.
Меня поселили на третьем этаже — в люксе, как говорят администраторы. Самое прелестное место в моем временном жилье — балкон, висящий над Приморским бульваром. С утра и до утра дверь его распахнута, и сквозь рыбачью сеть занавесок я вижу Черное море, синее-синее, спокойное, свежее. Вижу пароходы, пристани, краны, слышу лязги, звоны, гудки — и все меня радует. Какой-то особенный запах струится от порта и моря; пахнет водорослями, прокопченным канатом, кофе, мятой, дымком чужих сигар, соленой воблой, йодом и еще чем-то таким, от чего кружится голова и губы расползаются в дурацкой улыбке.
Может быть, вот за этот порт, за эти запахи, за синеву этого моря, за эти каштаны на Приморском бульваре, вот за этот балкон гостиницы «Одесса», на котором я чувствую себя таким счастливым, я и люблю Одессу.
Нет, не только за это. Я могу часами стоять на вершине Потемкинской лестницы, смотреть, как спускаются и поднимаются по ней люди. Ничего особенного, а мне почему-то хорошо. Стою, смотрю и наслаждаюсь.
Я могу, как и тысячи одесситов, часами неторопливо шагать по летнему Приморскому бульвару, от Ришелье к Пушкину, мимо скамеек, на которых сидят молодые, и пожилые, и старые одесситы. Шагать бесцельно, никого не разыскивая в толпе, не надеясь ни на какую встречу, ничего не ожидая и все-таки чувствуя себя чем-то одаренным.
И особенно хорошо мне на Приморском тихим поздним летним вечером, когда бульвар пустеет, когда на какой-нибудь скамейке сидит одинокий итальянец-матрос и поет «Санта Лючию», поет с удовольствием, в полный голос, хотя ему не аккомпанирует ни гитара, ни мандолина, ни аккордеон. Поет для себя, и для одесского неба, и для одесских каштанов. Вернется в Неаполь или в Геную и будет рассказывать… Я бы тоже рассказывал, если бы оказался на его месте.
Мне хорошо бывает на Приморском бульваре и на рассвете, когда пройдут поливальные машины и асфальт и каштаны станут влажными, прохладными и засверкают росой.
Мне хорошо, когда я встречаю солнце, стоя на балконе гостиницы; оно выходит прямо из воды, пламенно-красное, не остуженное ночным морем.
Позавтракав, я отправился на базар. Нельзя, попав в Одессу, не побывать здесь. Знаменитый одесский базар! Он похож на все летние южные базары, многолюдные и шумные, обильные всякой снедью и ширпотребом. То, да не то. Только в Одессе так вдохновенно умеют нахваливать свой товар. Вы купите самый обыкновенный арбуз, но в придачу получите и очаровательную улыбку продавца и дюжину остроумных, веселых слов.
В других городах просто торгуют, просто покупают, а в Одессе продают с ожесточенным вдохновением, развлекая и развлекаясь, насмехаясь и над покупателем и над собой. Если ты особенно остроумен, с тобой не будут торговаться. Если же ты торгуешься бесталанно, долго и уныло, то тебе в конце концов не продадут и по самой дорогой цене и еще обругают.
Пирамиды огненно-красных помидоров. Женщины, опоясанные белыми фартуками, в белых накрахмаленных платочках, с щеками, красными, как помидор. Свежая, обложенная льдом рыба. Незамутненные, прозрачные глаза, багровые жабры, серебристая чешуя… Горы нежнейших персиков в бронзово-золотистом загаре, туго налитые соком — притронься к одному из них, он, кажется, лопнет, как воздушный шарик.
Возвращаясь с базара, я свернул на Молдаванку. Как будто ничего особенного. Дома старые, низкие, немало мазанок с акациями под окнами. Подсолнухи, голубятни, мальвы, гвоздики и ночная фиалка за невысокими заборами. И тут, на Молдаванке, на каждом доме, на всем, что видишь, главное, на людях — приметный одесский герб. Так напевно, шумно, с иронией, посмеиваясь над всем и вся, говорят только одесситы, живущие на Молдаванке.
Может быть, вот за этот не больно представительный герб я и люблю Одессу?
Возвращаясь домой, к себе в гостиницу, я забрел в большой внутренний двор. Продолговатое ущелье с одинокой акацией в углу, под которой тщательно взрыхлена и обильно полита черная земля. Вверху — голубая полоса высокого одесского неба. Воркуют голуби, где-то хорошо поют, а где-то сипло надрывается не то Шульженко, не то Утесов.
Четыре этажа опоясаны галереями. Десятки дверей, десятки семей. На галерее второго этажа обедают, едят арбуз, пьют кофе, дуются в карты, бреются, играют в скакалку. Чуть повыше, со смехом и прибаутками пьют пиво, лущат раков, беря их из огромного таза, в котором обычно варят варенье.
Тут же, неподалеку от ракоедов, готовятся к экзаменам две одесситки с толстыми косами. С четвертого этажа галереи два парня, перегнувшись через перила, мечут в девушек бумажных голубей. До голубей ли им теперь? До мальчиков ли? Склонили прелестные головки над учебниками и никого не видят, никого не слышат, не чувствуют. Так ли? О, в двадцать лет можно все видеть, не приглядываясь, все слышать, не прислушиваясь.
Я покинул одесский двор неохотно, с доброй завистью к тем, кто здесь живет.
Был я, конечно, и на Дерибасовской. Хороша эта улица прежде всего своей многолюдностью. Если ты хочешь увидеть друга, живущего где-нибудь на окраине, — приходи вечером на Дерибасовскую, обязательно с ним встретишься, узнаешь самые последние новости, на людей посмотришь и себя покажешь.
Пройдя Дерибасовскую, я свернул на Пушкинскую. Попал к вокзалу. Разумеется, он тоже особенный, с одесским гербом — белый, громадный, настоящий дворец, залит праздничными огнями, как корабль «Россия», входящий после долгого скитания по чужим морям и океанам в родной порт.
Я медленно обошел привокзальную площадь и вернулся на Пушкинскую. Теперь шагал по другой стороне, под шеренгой шатровых деревьев, вдоль непрерывной цветочной грядки, пахучей и влажной от недавно бушевавшего здесь дождя.
Чуть ли не около каждого дома на низеньких скамейках, табуретках и лавочках сидят женщины, мужчины и дети всех возрастов. Где еще, в каком городе, да еще в центре, увидишь такое! Все внимательно и приветливо вглядываются в меня, вот-вот окликнут, позовут к себе: «Эй! Посиди с нами, позорюй, повечеруй!» Жаль, что не окликнули. Подошел бы, позоревал, посумерничал.
Я давно не видел моря, несколько часов, но все время чувствовал его — и на базаре, и на Молдаванке, и на Дерибасовской, и здесь, на Пушкинской. Я слышал его говор в листве каштанов, в лепете акаций, в голубом небе, на лицах людей, в их глазах.
Пушкинская вывела меня к такому месту, где я надолго замер. Не круто, спокойно поднимаются склоны холма, и на нем, на этом холме, стоит одесский театр оперы и балета. Прекрасный вид на этот дворец открывается не только с того места, где я сейчас нахожусь. Подойди к нему с любой стороны — и он тебя обрадует. Я всегда, бывая в Одессе, устраиваю для своего удовольствия своеобразную игру в прятки. Зайду то на одну улицу, то на другую, запутаюсь в переулках и вдруг, будто бы невзначай, внезапно выхожу прямо на эту громаду, прекрасную и с фасада, и с тыла, и с боков.
А сколько я еще не повидал в этот приезд! Не был в Аркадии. Не бродил вдоль теплого моря под обрывистым берегом, на котором пасутся козы. Не был на Лиманах. Не посетил Ближние Мельницы, открытые для меня четверть века назад Валентином Катаевым в его вечной книге «Белеет парус одинокий». Не был в порту, не видел, как жены, матери и дети одесских моряков встречают своих любимых, возвращающихся из-за тридевяти земель. Не был и на футбольном матче «Черноморец»-«Авангард», на котором можно было увидеть еще одну грань одесситов.
Перед обедом, в полдень, вернулся в гостиницу с твердым намерением принять холодную ванну, полюбоваться немного с балкона морем и пообедать.
В вестибюле, около газетного киоска, я увидел человека с коротко остриженной головой, большеносого, с необыкновенно черными, лихорадочно горящими глазами. Когда я проходил мимо него, поднимаясь к себе наверх, он повернулся ко мне и проводил вопрошающим взглядом. Я поднимаюсь по лестнице, а он смотрит и молчит. Преодолеваю ступеньку за ступенькой, а он все безмолвствует.
— Вы корреспондент из Москвы? — спросил наконец стриженый.
Я остановился, подтвердил его догадку и смолк, вопросительно глядя на молодого незнакомого человека. Наверное, это посол Качалая. Выслал разведку.
Мы разговорились. Человек с большим носом и лихорадочно горящими глазами оказался сыном Качалая. Посмотрим, во что выльется миссия Матвея-младшего.
— Вам нравится Одесса? — спросил Качалай.
— Я еще не рассмотрел ее как следует.
Мой ответ обрадовал его.
— Так я покажу вам Одессу! Хотите?
Кощунственные слова! Он покажет мне Одессу!
Не в моих интересах ссориться с Качалаем. Помолчав изрядное количество времени, я с кроткой благодарностью посмотрел на молодого человека.
— А у вас есть время?
— У меня нет времени? Да мне просто девать его некуда. Я же начинающий скрипач, а не мировая известность, не преферансист, не ученый-атомщик, не…
— Ладно, показывайте, — сказал я, — но раньше давайте пообедаем.
Я был отменно любезен, постарался показать, что Качалай мне вполне симпатичен, что я охотно проведу с ним час или два.
Обедали мы во внутреннем, полном солнца дворике ресторана, сделанном не то в мавританском, не то в итальянском стиле. Намытые сверкающие стекла, белизна стен, кадки с цветами, официанты в полотняных накрахмаленных пиджаках, славное одесское небо, синее и теплое. Давненько я не исполнял служебных обязанностей в столь роскошной и непринужденной обстановке.
После обеда я пригласил Матвея к себе в номер. Сидели на балконе, курили, любовались вечерним морем, ясным и тихим, и мирно беседовали.
Я спрашивал, как работает агроном Качалай, чем собирается обогатить науку. Сын, против моего ожидания, рассказывал о трудовой деятельности отца скупо, уныло, с оглядкой.
Я внимательно его слушал, кое-что записывал с заправским видом корреспондента в блокнот, потом прямо, глаза в глаза, посмотрел на Матвея.
— По-моему, вы совсем не любите работу отца. Более того, не верите в его талант агронома-селекционера.
Он вспыхнул, но не попытался возразить.
— Верно, не люблю, не верю. Пошли смотреть Одессу, — сказал Матвей и засмеялся.
Мы спустились вниз и побрели по городу. Мой спутник с увлечением рассказывал о Потемкинской лестнице и о себе, о китобойной флотилии «Слава» и о себе, о контрабандистах, о Ближних Мельницах, о катакомбах и опять о своей скрипке, о своем таланте, о Лиманах, о дюке Ришелье, о кафе Фанкони, о знаменитых скрипачах и снова о себе.
К концу вечера, когда мы возвращались на Приморский бульвар под звон курантов на здании городского совета, я, кажется, до конца раскусил и молодого Качалая и пожилого. Во всяком случае, пополнил сведения о них личным впечатлением, дорисовал портреты, начатые там, во Львове, Ужгороде, Москве.
Качалай-старший. Это колоритная фигура даже для Одессы. В десять Мотя хорошо играл на скрипке и подавал большие надежды. Родители и многочисленные родственники пророчили мальчику грандиозное, колоссальное мировое будущее.
Год шел за годом. Мотя вытянулся, стал Матвеем, пришла юность, появились усы, влюбился, женился; развелся, опять женился, закончил консерваторию, а грандиозное, колоссальное будущее не приходило. И не могло прийти. Он растерял свой талант, подававший большие надежды, где-то между двенадцатью годами и совершеннолетием. Не захотел и не мог примириться с потерей. Вундеркинду стать обыкновенным человеком, зарабатывать насущный хлеб в поте лица своего? Нет и нет! Он долгое время страдал, надеялся на что-то, чего-то искал. И, не найдя ничего, сменил профессию. Отложив скрипку в сторону, снова стал студентом — сельскохозяйственного института. Почему-то он решил, что здесь скорее выдвинется. А может быть, действовал по принципу: чем хуже, тем лучше. Он стал агрономом, потом кандидатом наук. Жизнь как будто наладилась. Но разве это то, о чем он мечтал, что ему пророчили? Он люто возненавидел и свою работу, и обанкротившихся пророков. Но жажда большой, необыкновенной жизни по-прежнему терзала его. Он желал того, что не способен был сделать своими руками, своим талантом, умом, сердцем. Хотел того, чего не могли ему дать просто так, за здорово живешь, ни государство, ни общество, ни друзья, ни знакомые. Он ни одной минуты не был независим от своих желаний и потому всегда страдал. Он стремился обладать всем, что ему было неподвластно, и потому не обладал даже тем, что было в пределах его возможностей.
Такие люди, завершая свое полное ничтожество, неизбежно становятся и сутенерами, и садистами, и разномастными фашистами, и агентами иностранных разведок.
Качалай-старший стал агентом «Отдела тайных операций». Мистеру Картеру не понадобилось много времени и труда, чтобы разыскать Качалая и завербовать.
Единственного сына Качалай назвал своим именем. Уже в семь лет Мотя тоже хорошо играл на скрипке. Не повезло одному Качалаю, так, может быть, повезет другому. Младший вундеркинд имел дело только с самыми крупными педагогами Одессы. У него была дорогая скрипка, были деньги, большая квартира, хорошая пища, красивая одежда, новенький «Москвич». Но не было главного, что нужно нормальному ребенку, — хороших родителей. Мотя воспитывался, вернее, натаскивался, дрессировался азартным игроком, взбесившимся мещанином, отчаявшимся неудачником, побитым жизнью и решившим во что бы то ни стало взять реванш. К десяти гидам он знал имена всех знаменитых скрипачей, пианистов, композиторов, знал, как они были богаты, как их встречали в Америке и Европе, в Австралии и Африке. Но ему неведомы были легенды о Прометее, Атланте, не знал он былин и сказок о Микуле Селяниновиче, Ваське Буслаеве, Василисе Прекрасной, Золушке, Иванушке-дурачке.
Мотя с тех пор, как стал хорошо играть на скрипке, решил, что станет новым Ойстрахом. Мотя-старший, разумеется, тщательно скрывал от сына, что и сам когда-то хотел быть Ойстрахом.
Ненавидящий, презирающий все и вся, всему завидующий, Матвей Качалай не мог привить своему сыну ни трудолюбия, ни любви к людям, ни долготерпения, ни скромности.
Матвею скоро 25, а он все еще не знаменит, легко разочаровывается в том, чему недавно был предан, бросает друзей и девушек легко, еще легче приобретает новых. Только скрипку свою пока не бросает. Он панически боится трудностей, неудач, хотя никогда не испытывал их на своей шкуре. Не испытывает и стыда от того, что прожил на свете четверть века, брал от жизни все, ничего не давая ей взамен. Он охотно мечтает, на что-то надеется, однако ничего не делает для того, чтобы его надежды и мечты сбылись. Охотно кается, беспощадно корит себя, но блудит после очистительного покаяния с новой силой.
И все же Матвей-младший не безнадежен, думается мне. Вундеркинда из него не вышло и не выйдет, но место первой скрипки в любом оркестре обеспечено. И это он, к счастью, уже понимает. После того, как ему станет известна родословная отца, начнется его возмужание. И теперь он уже разбирается, что именно дает силу людям нашей страны, но у него еще нет воли бороться и воспитывать в себе эту силу, человеческое достоинство…
Он провожал меня до гостиницы, а потом и дальше — в ресторан. Я пригласил его поужинать. Он согласился.
Ночные официанты, как и дневные, фамильярно поздоровались с Матвеем Качалаем.
— Вы здесь, как дома, — сказал я.
— К сожалению.
— Почему к сожалению?
— Видите ли… надоело мне это заведение до тошноты. Горько бывает здесь, стыдно тратить деньги, которые не заработал… Левые гонорары виноградарного знахаря. Извините, что я так говорю об отце. Но я не могу больше молчать. Хватит! Прошу вас, не расхваливайте его в своей газете. Не достоин.
— И большие они, эти гонорары?
— Не малые. На них и беккеровский рояль куплен, и «Москвич», и мамины шубы.
— И где же он их получает?
— Где же еще! В богатых колхозах. В Молдавии, на Дунае. Как не заплатить известному знахарю! Халтурщик он первой гильдии. Рвач. Очковтиратель.
Не чересчур ли откровенно заговорил Мотя-младший? Что это? Беспощадная расправа с отцом или ход конем, какая-нибудь искусная маскировка?
Мы пили холодную водку, закусывали свежей рыбой в маринаде, курили контрабандные сигареты «Честерфилд», купленные Матвеем, по его словам, на Дерибасовской у иностранных моряков, говорили о шансах одесской футбольной команды «Черноморец» попасть в группу «А».
Когда ресторан закрылся, мы поднялись ко мне, и там, на балконе моего номера, Матвей докурил последнюю сигарету и доругал отца.
Все время он покаянно улыбался, хотел что-то сказать, что-то открыть, в чем-то повиниться. Хотел и не мог.
Я терпеливо слушал его, помня добрый совет Серого: «Не пренебрегай словом даже ничтожного человека».
Расстались мы поздно ночью. Я стоял на балконе и слушал, как Мотя медленно удалялся по тихому, безлюдному Приморскому бульвару. Топ, топ, топ!… Темная согбенная фигура, придавленная какими-то мыслями.
Шаги заглохли. Тихо стало на Приморском, свежо, посветлело. С моря повеял ветер, чуть солоноватый, горький. Часы, установленные на башне городского совета, известили, что уже прошло два часа нового дня, скоро наступит утро. А пока молоточек отбивал время, куранты мелодично, с удивительной выразительностью, прямо-таки человеческим голосом выговаривали:
Ты в сердце моем, ты всюду со мной, Одесса, мой город родной…Я стоял на балконе, слушал музыку, услаждающую одесситов даже тогда, когда они крепко спят, и думал о Матвее-младшем. У меня нет данных, но я почему-то уверен, что он не причастен к делам отца не пойдет по его дороге. Ну и что? Не велика заслуга. Наберется ли он мужества сделать второй шаг, чтобы стать человеком?
Умолкли куранты на башне, но мелодия Дунаевского еще долго звучит в моем сердце».
ВЫДВОРЕННЫЙ
Летом 1956 года московские газеты напечатали небольшую заметку, одну из тех, которые время от времени появляются в нашей прессе как чрезвычайно сдержанные боевые сообщения с невидимых боевых позиций чекистов.
«Как установлено советскими компетентными органами, — говорилось в сообщении, — военный атташе посольства США в Москве Рандольф Картер, прибывший в СССР два года назад, систематически занимался шпионской деятельностью. Выезжая в различные районы Советского Союза, Картер устанавливал шпионские связи и нелегально распространял антисоветскую литературу.
Советскими компетентными органами выявлен ряд шпионских встреч Картера, а при проведении одной из них, в момент попытки получения секретных документов, он был пойман с поличным».
В тот же день, когда в газетах появилась эта заметка, Картер и сопровождающий его чиновник из посольства США прибыли на Ленинградский вокзал, к поезду «Красная стрела». Деятельность Картера была объявлена несовместимой со статусом аккредитованных дипломатических работников, и Министерство иностранных дел СССР предложило ему покинуть пределы Советского Союза.
Войдя в купе вагона №5, Картер увидел Джона Шарпа, немолодого американца из посольства, хорошо известного ему. Джон Шарп принадлежал к свите посла, занимал высокооплачиваемую и почетную должность.
Американцы молча пожали друг другу руки. Картер почувствовал, что Шарп поздоровался холодно, почти брезгливо. Плохой признак. Значит, там, в резиденции «Бизона» и в Вашингтоне, уже или почти уже списан Картер.
Северное Подмосковье осталось позади, экспресс вырвался на Валдайскую возвышенность, к истокам Волги, и мчался по сосновому бору, заколдованному полуночной тишиной, светом поздней ущербной луны. Весь вагон крепко спит. Спит и сопровождающий. А Картер не смеет вздремнуть. Забился в угол дивана, курит, гадает, что ждет его в Штатах.
Всю ночь, до самого Ленинграда, не сомкнул глаз.
Прямо с вокзала Картер и его сопровождающий поехали в торговый порт. Человек с ружьем, стоящий у железных ворот, покинул свой пост, вошел в автобус, попросил предъявить документы.
Картер вдруг подумал: а что, если часовой положит его американский паспорт к себе в карман и грозно скомандует: «А ну, выходи! Выходи, выходи, кому сказано!»
Все обошлось благополучно. Железные ворота распахнулись, и автобус въехал на территорию порта. Пакгаузы. Железнодорожные пути. Маневровые паровозы. Горы ящиков, труб, бухты кабелей, пирамиды тюков хлопка, крики чаек, запах моря и просмоленных канатов… Вот наконец и причал англо-русской линии, с белоснежным теплоходом, готовым отплыть к дальним берегам Темзы.
Пройдены и таможенный и пограничный контроль.
Матрос в темно-синей робе, в начищенных ботинках, подтянутый, аккуратный, подхватил чемоданы американцев и побежал по трапу на корабль.
— Пожалуйста, проходите! — раздался чей-то голос. Картер поднимался на русский корабль медленно, чуть важно, как и полагалось заморскому путешественнику.
Вот и палуба, желтовато сияющая, будто облитая прозрачным майским медом. Бронза, хрусталь, начищенная медь. Зеркала, отражающие корабельные огни. Ковровые дорожки. Красное дерево салонов. Высокие, обитые кожей, манящие к себе табуреты бара, автоматы для коктейлей. Полосатые шезлонги на прогулочной палубе. Красивые девушки в накрахмаленных чепчиках, в кружевных фартучках.
Горничная первого класса с чуть раскосыми глазами, похожая на Катюшу Маслову, встретила Картера и его спутника в вестибюле, провела в каюту.
Отданы концы, приземистый буксир развернул корабль и повел его по морскому каналу к заливу. Все дальше и дальше Ленинград, тускнеют и гаснут его огни.
Растворились в туманной мгле последние маяки, остались позади гигантские шеи плавучих кранов, стоящих на Кронштадтском рейде. Вот наконец и простор финского залива, большая морская дорога, нейтральные воды, а Картер все еще по-настоящему не радуется. Рано! Ведь на корабле есть радиостанция, она может принять закодированную телеграмму-молнию. Кроме того; у пограничников имеются быстроходные сторожевые катера. Много, ох как много бед натворил Картер, прежде чем его поймали с поличным. Русские могут, в виде исключения, не посчитаться с его неприкосновенностью.
И в эту ночь Картер не сомкнул глаз. Каждую минуту ждал, что в каюту ворвутся русские матросы, схватят его, швырнут в темный трюм пограничного катера, вернут на советскую землю, водворят в тюрьму. У страха глаза велики, известно. Ночью ничего не случилось.
Спал он днем, когда корабль шел по большой морской дороге.
На следующую ночь покинул каюту, поднялся на прохладную, покрытую росой палубу и нетерпеливо, как Колумб, ждущий появления земли, вглядывался в горизонт,
В свете наступающего дня показалась темная полоса шведского берега. И только теперь Картер поверил в свою неприкосновенность.
Скоро турбоэлектроход вошел в территориальные воды Швеции, в знаменитые шхеры. Большие и малые острова беспрерывно тянулись слева и справа. На фоне зелени выделялись яркие пятна вилл — желтые, шоколадные, малиновые, белые, изумрудные, алые, голубые. В тихих бухточках, между огромных замшелых валунов, у подножия скал, у бревенчатых причалов покачивались на легкой волне шхуны, моторные лодки, катера и яхты.
— Вот и все, теперь все!… — проговорил сопровождающий. — Радуйтесь, полковник! — Впервые он назвал его чин. — Теперь можно.
— Картер хотел радоваться, но не мог. Не успев как следует переварить настоящее, он уже тревожился за свое ближайшее будущее. Глядя на шведский берег, он думал о том, как встретится в Вашингтоне с каким-нибудь боссом ЦРУ, как и о чем будет с ним говорить. Разговор, несомненно, будет чрезвычайно острым. Собственно, это, вероятно, будет не разговор, а допрос. Придется нести ответственность за провал.
— Нам не страшен серый волк!… — шумно радовался сопровождающий. Он уже выпил и охмелел. — Почему молчишь, полковник? Ликуй, кричи ура!… Дома, дома, дома!…
Картер широко раскрытым ртом втянул в себя чистый солоноватый воздух шведских шхер, снисходительно улыбнулся.
— Я везде чувствую себя дома: и в Вашингтоне, и в Москве.
Шарп с тупым недоумением посмотрел на своего коллегу, пытаясь понять, что тот сказал. А когда до его сознания дошел смысл сказанного, он расхохотался.
— Сэр, слезайте с пьедестала, вы занимаете чужое место! Уж кому-кому, а мне подлинно известно, где вам надлежит пребывать.
— Вы пьяны, Джо.
— Ладно, не ерепенься. Я пошутил.
Стокгольм быстро приближался. За мысом Вольдемар начиналась гавань. По обоим берегам залива поднимался город. Слева, на зеленой возвышенности, темнела каменная громада богадельни, знаменитой тем, что какой-то турецкий султан, войдя со своей эскадрой в стокгольмский залив, принял ее за королевский замок и начал салютовать из корабельных пушек.
На скалистой террасе серебрились бензиновые резервуары американских компаний.
На правом берегу залива прежде всего бросался в глаза холм, на котором расположился Скансен — зоологический сад, парк отдыха стокгольмцев и старинная деревня-музей.
Впереди, прямо по ходу корабля, горбился Слюссен — спаренные выгнутые мосты, перекинутые через залив. Сейчас же за ними поднимались дома центральной части города.
Особняком, у самой воды залива, стояла квадратная, кирпичная, еще не утратившая новизны башня ратуши, увенчанная синим с желтым крестом флагом. И всюду, над ратушей, над проливом, над Бекхольменом, над Скансеном, над городом, над причалом, кружились чайки.
Картер смотрел на все это и улыбался. Странно! Удивительно! Невероятно!
Торжество северной тишины, праздник скандинавского света, сияние воды, прогретой Гольфштремом и просвеченной солнцем, город, полный изобилия, двести лет не знавший войны, гигантское колесо Тиволи, расцвеченное даже днем пестрыми огнями, бесчисленные паруса яхт, машины всех автомобильных заводов мира, флаги всех наций над мачтами кораблей, головокружительная атмосфера мирового перекрестка… И тут же, почти рядом — всего несколько сот морских миль, трое суток во времени — Москва, позорный провал, выдворение.
Невероятно. Не было всего этого. И не могло быть. Сон, только сон.
Картер энергично, как бы окончательно просыпаясь, встряхнул головой, широко раскинул руки, приветствуя Стокгольм.
— О'кей! — проговорил он вслух. — Порядок.
Турбоэлектроход, бурля своими винтами глубокие воды залива, медленно и неуклюже, боком, приближался к бетонному берегу Стадсгардена, к причальной линии.
— Смотрите, кто нас встречает! — воскликнул сопровождающий и невесело, совсем трезво рассмеялся. — Какая высокая честь!
В тени пакгауза, сделанного из оцинкованного рифленого железа, стоял посольский «кадиллак» — ослепительно оранжевый, зубастый и длинный, словно окровавленная акула. Около него переминался с ноги на ногу самый лютый инспектор охранного отделения ЦРУ, верный страж секретов Даллеса — мистер Ку.
Подняв голову с темными, блестящими от бриллиантина волосами, улыбаясь, он смотрел на пришвартовывающийся корабль. Руки скрещены на груди, ноги широко расставлены, глаза прикрыты темными очками, во рту сигарета.
— Живая реклама американского образа жизни, — сказал сопровождающий с прежней невеселой усмешкой. — Босс первой величины! Копия знаменитого монумента в Вашингтоне. Ну, Раф, плохи твои дела. Там, где появляется этот чин, жди санкций. Впрочем, тебе теперь плевать на него. Уволят так уволят. Будешь спокойно, в тишине пить свой кофе. Доживешь до ста лет и умрешь своей смертью.
Картер молчал, неотрывно смотрел на мистера Ку. Сердце его при виде этой важной персоны, доверенного лица генерала Крапса, наполнилось щемящей завистью. Молод и уже влиятелен. У него высокий ранг и не менее высокая квалификация.
Но Картер не только завидовал этому счастливчику. Он еще и боялся его: особый инспектор «Бизона», по-видимому, прибыл сюда не для того, чтобы оказать высокую честь провалившемуся резиденту. Для этой миссии могли выбрать работника другого профиля. Специальная служба ЦРУ, действительно, появляется только там, где надо восстановить порядок в секретных делах или привлечь к ответственности провинившегося сотрудника.
Пока в салоне первого класса полицейские чиновники штамповали паспорта тем, кто имел шведские визы, и выдавали транзитным пассажирам контрольные талоны, пока опускался корабельный трап, Картер надежно закреплял в памяти мотивировки, оправдывающие его. Ни в чем не виновен! Безупречно честен и свято верен звездно-полосатому флагу. Ошибся, но чуть-чуть, в пределах дозволенного.
Забронировав себя со всех сторон, Картер сошел с корабля и предстал перед инспектором.
Напрасно он изощрялся в поисках оправданий. Мистер Ку встретил его как победителя, друга и брата.
— Здравствуйте, дорогой Раф! Прекрасно выглядите, несмотря ни на что. Рад вас видеть и первым приветствовать. И шеф шлет свои самые горячие приветствия.
Он тряс руку Картера, хлопал его по плечу.
— Ну и досталось же вам, Раф! Бедняга! — Не сочувствие, а восхищение было в голосе и взгляде инспектора. — Такое пережить, столько хлебнуть!… Представляю ваше отчаяние.
Забытый Шарп напомнил о себе.
— Сэр, имею честь приветствовать вас!
Инспектор не спеша повернулся к сопровождающему, небрежно кивнул и вежливо сказал:
— И я приветствую вас.
— Это и все, сэр?
— А что еще вам нужно?
— Я бы хотел, чтобы вы поблагодарили меня за то, что я доставил в сохранности такую скоропортящуюся личность.
— Благодарю вас прежде всего за юмор.
Инспектор похлопал сопровождающего по плечу и сел за руль. Ласковым кивком головы он пригласил Картера сесть рядом с ним, завел мотор и вывел машину — на узкую портовую дорогу, пробитую между причальной линией и подножием скалистой кручи, на которой раскинулся старый, заповедный уголок Стокгольма.
— Нам с вами, Раф, приказано не позднее завтрашнего дня прибыть в резиденцию генерала Крапса, — сказал мистер Ку. — А вы, мистер Шарп…
— Да, сэр, я знаю о своих обязанностях. Подвезите меня, пожалуйста, на Королевскую улицу, к Карлтон-отелю.
Машина поднялась на комбинированный двухэтажный мост, миновала шлюз, спустилась вниз, на другой берег залива, где начиналась центральная старая часть города, так называемое Сити. Промелькнули огромная автомобильная стоянка со счетчиками, угрюмые здания редакций газет, министерства, отель, тяжелый памятник какому-то шведскому королю.
Картер сияющими глазами вглядывался в знакомый и всегда привлекательный Стокгольм.
Улицы, переулки, желтые мигающие светофоры, оранжевые, голубые, лимонные тенты, радужный поток людей, витрины с манекенами, одетыми и обутыми во все итальянское, витрины с воздушным, французского производства, бельем, витрины с голландскими тюльпанами, витрины, забитые боксами американских сигарет «Кемел» и «Винстер», бутылками с итальянским вермутом «Чинзано» и «Мартини», с шотландским виски, тунисским виноградом, португальскими креветками и лангустами, цейлонскими кокосовыми орехами, индийскими сладостями, испанским хересом, витрины, за которыми сияют западногерманские и американские «мерседесы» и «оппели», «кадиллаки» и «форды».
Картер все больше и больше веселел при виде этой милой его сердцу картины. Боже мой, как ему надо видеть все это, чтобы чувствовать себя полноценным человеком!
Русский полковник там, в Ужгороде, во время дискуссии все это охарактеризовал как «враждебные существа». Что же враждебного во всех этих вещах?
Машина остановилась перед шумным перекрестком Свеавеген и Кунсгаген, у огромного рекламного щита. Молодая женщина, идеал шведской красоты — шелковисто-белые, падающие на плечи волосы, голубые, как шхеры, глаза, сияющие зубы, открытые в улыбке, — заглядывала в душу Картера и вопрошала: «Неужели вы еще не видели Ингрид Бергман в новой роли?» Картер улыбнулся и с трудом отвел глаза от рекламы. И это тоже «враждебное существо»?
Тоненькие, изящные шведки, одетые с большим вкусом, в архимодных цветных шляпах, глубоко надвинутых на белокурые головы, затянутые и подтянутые, цокающие каблучками и оставляющие позади себя невидимую душистую дорогу парижских духов, рядом с которыми и парижанки, не говоря уже об американках, выглядели бы старомодными, эти современные королевы, заполняющие улицы Стокгольма, распалили воображение Картера. Ох, как он погуляет сегодня, как наверстает потерянное!… Даже в богатой Швеции за доллары можно получить если не Ингрид Бергман, то хорошую ее копию.
Очередной красный светофор, очередная остановка в хвосте потока машин. В открытое окно «кадиллака» вдруг хлынула одуряющая волна воздуха, насыщенного невидимой, пряной пылью хорошо поджаренного, хорошо смолотого кофе. О, божественный Мокко!
Картер улыбнулся, повернул голову и увидел колониальную лавку, вход в которую предусмотрительный хозяин держал все время открытым.
Не остался равнодушным к аромату кофе и мистер Ку. Он подмигнул Картеру.
— Ради одного этого запаха стоило жить! А?
Высадив мистера Шарпа, поехали дальше. И мистер Ку сразу же спросил:
— Вы, конечно, удивились, что вас встретил я, а не кто-нибудь другой.
— Откровенно говоря — да.
— И плохо обо мне подумали?
— Нет. Наоборот, я подумал о вас хорошо.
— Да?… Странно. Обо мне мало кто думает хорошо. Но меня это не очень огорчает, между прочим. Такая должность.
— Сэр, меня ждут неприятности? — помолчав, мрачно спросил Картер.
— Без паники, Раф! Предупреждаю: служба расследования не будет заниматься вами. Таково указание свыше.
— Почему? А я хотел бы…
— Мы уже все знаем. Не ломитесь в открытые двери.
— Вот как! — Гора, давившая сердце Картера, сдвинулась.
— Больше того, — продолжал мистер Ку, — шеф, командируя меня сюда, для встречи с вами, специально предупредил, чтобы я не вздумал хотя бы в завуалированной форме, в виде дружеской беседы, подвергнуть вас допросу.
— «Боже Мой, — подумал Картер. — Я, кажется, выхожу из этой истории белее белого».
ТАЙНОЕ ТАЙНЫХ СИ-АЙ-ЭЙ
Даже над входом в ад, по свидетельству Данте, начертано весьма сдержанное предупреждение: «Оставь надежду всяк сюда входящий».
Над входом в Си-Ай-Эй, над неисчислимыми норами этого неоглядного, запутанного, недоступного лучам Солнца лабиринта, вырытого под Европой и Америкой, Азией и Африкой, высечено более категорическое предупреждение: «Забудь все человеческое всяк сюда входящий».
Дай руку, читатель, войдем в тайное тайных американской разведки.
Центральное разведывательное управление США находится, как сказано во многих справочных и телефонных книгах, в Вашингтоне на 24-й стрит. Это не совсем так. В сравнительно небольшом кирпичном доме на 24-й улице Вашингтона расположен лишь один из филиалов Си-Ай-Эй, наименее важный даже из тех, которые имеют незасекреченный адрес. Весь же штат ЦРУ, — все многочисленные его конспиративные службы, которыми он руководит, не поместились бы и в тысяче таких домов, как на 24-й стрит.
Руководство этими шпионскими центрами осуществляется из так называемого оперативного управления ЦРУ. В системе этого архиважного управления есть архиважный «Отдел тайных операций», «Department of Covert Activities». Кое-кто именует его и так: «Department of Dirty of Tricks» — отдел грязных трюков, а сокращенно ДДТ.
Рандольф Картер числился сотрудником этого отдела. К Шефу этого отдела, в его секретную резиденцию, он и был доставлен мистером Ку.
Южная Бавария. Заповедные леса, район древних развалин, старых и подновленных замков, охотничьих угодий, лесозащитных и звероохранных институтов, любимое место отдыха Гитлера и некоторых высокопоставленных лиц из оккупационных учреждений США,
Тут, в одном из замков, скрытом горами и непроходимым лесом,, и обосновался Артур Крапс. Он, как и бывший фюрер, почти постоянно жил на Баварском приволье. Покидал свою резиденцию изредка, понуждаемый к этому «высокими государственными интересами США».
Я не могу назвать точного адреса отдела, которым руководит генерал Крапс, по одной простой причине: он кочует. Вчера он мог быть в США, в Эрлингтоне, штат Виргиния, по соседству с Управлением, национальной безопасности, завтра — в Западном Берлине, во фронтовом городе, как его называют в Америке, в доме под номерами 170 — 172, Далем Клейаллее. Послезавтра он может переместиться в Южную Баварию, в какой-нибудь глухой замок. В недалеком будущем, если, верить газете «Нью-Йорк таймс» от 22 июня 1956 года, все органы ЦРУ будут сконцентрированы в едином центре, который уже строится около Хэмптона и Маклина в штате Виргиния. Правда, газета тут же предупреждает, что под крышей этого центра соберутся лишь те отделы ЦРУ, которым не противопоказано по условиям конспирации быть вместе.
Вероятнее всего, что «Отдел тайных операций» по-прежнему будет кочевать.
«Отдел тайных операций» — это прежде всего разбросанная по всему миру сеть строго специализированных школ «Робертс-Колледжей», в которых готовят мастеров шпионажа, диверсий, террористических актов, провокаций.
«Отдел тайных операций» — это гигантская катапульта, выбрасывающая время от времени в социалистические страны головорезов, говорящих на китайском и корейском языках, на русском и польском, румынском и мадьярском, но действующих всегда и всюду по-американски. «Отдел тайных операций» — это отступники и предатели из стран Восточной Европы, названные самими же американцами «людьми закона Лоджа».
«Отдел тайных операций» — это таинственные убийства в Будапеште и Праге, в Бухаресте и Варшаве, взрывы на кораблях и самолетах, принадлежащих странам социалистического лагеря, пожары на военных складах, похищение секретных документов, шантаж, подлоги, подкупы, взрывы стратегических мостов, катастрофы на железных дорогах, аварии на крупных электростанциях.
«Отдел тайных операций» — это отравленный кинжал и бесшумный пистолет, нацеленные в наше сердце.
«Отдел тайных операций» — это радиопередатчик с клеймом «Made in USA», пластическая операция лица и ядовитая булавка, ампула со смертельной порцией цианистого калия, коды и шифры, явки и пароли, «искусственное ухо» и перчатки, излучающие ток высокого напряжения, невидимые чернила, невидимые фотоаппараты, невидимые следы, слежка и побеги, длиннотрубный остронаправленный микрофон с предварительным усилением и записывающим устройством, с помощью которого можно подслушивать разговоры на расстоянии 400 метров.
«Отдел тайных операций» — это, наконец, паутина, протянувшаяся между штабом генерала Артура Крапса и бесчисленными ячейками ведомства Аллена Даллеса. «Отдел тайных операций» имел доступ в самые секретные каналы ЦРУ, но к себе допускал лишь избранных.
Картер не знал всех тайн отдела, но и то немногое что он знал о нем, вызывало у него высокое уважение. Тут щедро награждали и немилосердно казнили. Выдвигали на пост диктаторов, как было на Кубе, в Гватемале. Тут предавалось забвению имя, которое дали тебе мать и отец, и ты получал новое, угодное секретной службе. Тут иногда начинали играть на шахматной доске пешкой, а кончали королевой. Тут необычайно высоко ценился особый вид таланта — талант хитрить и притворяться, проникать, как фильтрующийся вирус, сквозь любые препятствия, лгать с обезоруживающей искренностью, креститься, мысленно проклиная Бога, дружески лобызать своего злейшего врага, видеть сны по заказу; пить водку и не пьянеть, любить того, кого ненавидишь, видеть невидимое простым глазом, отводить всякое подозрение от настоящих убийц и обвинять невиновных…
Мистер Ку сдал Картера с рук на руки высокому, сутулому, со старомодными вильгельмовскими усами человеку в мундире лесной охраны, вооруженному хромированным секатором.
Усатый садовник, он же мажордом «Бизона», провел Картера через зимний сад, влажный и душный, 8 холл замка, кивнул на дубовую лестницу, ведущую на второй этаж.
— Пожалуйста, проходите, вас ждут.
В течение своей долгой жизни разведчика Картер много видел такого, что потрясло бы обыкновенного человека. Давно он освоился со спецификой глубокого подполья и конспирации. И все же, попав к «Бизону», почувствовал восторг. Подумать только, какой высокой чести удостоен — личной аудиенции генерала Крапса, который даже перед видными работниками своего отдела показывается не чаще, чем божественный император Японии перед министрами и послами.
«Как он встретит? — думал Картер, поднимаясь по лестнице. — Куда пошлет? Снова Россия? Или Венгрия? А может быть, на этот раз Польша?»
Чем выше поднимался Картер то крутым ступенькам лестницы, тем сильнее билось его сердце. И как ему не стучать, как не замирать!… Даже воздух здесь какой-то особенный, воздух великих тайн.
Лестница вывела на просторную площадку, в холл второго этажа. Стеклянный купол, сквозь который видно небо. Пальмы в кадках. Гигантские и карликовые кактусы. Чучела медведей, диких коз, кабанов и бесчисленные оленьи рога на стенах.
Картер остановился, не зная, куда идти. И сейчас же из-за огромной пальмы выдвинулся здоровенный парень в спортивной замшевой куртке.
— Направо и прямо! — скомандовал он. Картер повернул направо и попал в длинный глухой коридор, Выложенный истертыми каменными плитами. Шагал по ним осторожно, а они гулко, словно колокола; гудели, предупреждали: идет чужой, берегись, хозяин!
— Вы уже пришли! — раздался позади голос.
Картер оглянулся. В другом конце коридора стоял парень в замшевой куртке: ноги расставлены, как у полицейского; регулирующего движение на оживленном перекрестке, грудь выпячена, руки в карманах.
Бесшумно раздвинулась белая дверь, и Картер вошел в комнату с высоким сводом. Полированный, без единой бумажки, с одним телефоном стол. Окно, забранное густой решеткой. Голые стены. Тишина. Где же секретарь или помощник?
Картеру хотелось закурить, присесть, перевести дыхание, чуть успокоиться, но он не посмел.
Львиная доля из тех ста миллионов долларов, которые конгресс выделяет для подрывной деятельности в социалистических странах, проходит, как знал Картер, через сейфы «Бизона» и его доверенных лиц. Все мог делать этот безвестный диктатор, главный мастер мировых сенсаций, этот некоронованный владыка королевства, населенного рыцарями плаща и кинжала, именуемого «Отдел тайных операций».
Президента США Эйзенхауэра Картер уважал. Миллионеров Дюпона и Рокфеллера, Моргана и Гарримана считал идеалом американцев. Кинозвезд Голливуда любил. Но своего шефа, генерала Крапса, он уважал, обожал и преклонялся перед ним.
— Войдите! — послышался чей-то сильный, с металлическим оттенком голос.
Картер оглянулся — никого. Нет, это был уже не голос телохранителя в замшевой куртке. Очевидно, сам хозяин приглашал его к себе с помощью радио.
Картер вошел в большую круглую комнату. Все окна распахнуты. Дикий виноград, густой, нагретый солнцем, шуршащий листвой, обрамляет оконные проемы. На всех подоконниках рассыпан голубиный корм и стоят изящные гончарные плошки с чистой водой.
Почему-то Картер увидел прежде всего это, а потом и остальное. В глубине комнаты — горящий камин, телевизор, столик с коньячной бутылкой и два кожаных кресла. В одном из них сидел генерал Крапс. Несмотря на свою полноту, он поднялся энергично и легко. Он был в штатском: просторный серый пиджак, белая рубашка с мягким воротником и черным бантиком вместо галстука. Твердо, энергично отбивая шаг, прямо неся свою огненную, чуть кудрявую голову, подошел к гостю, схватил его руку, крепко, с силой сжал и с острым, но откровенно доброжелательным любопытством взглянул прямо в глаза.
— Хеллоу, парень с того света! — проговорил он и засмеялся. — Ну, как там, жарковато?!
Генерал приблизился вплотную. И Картер с удовольствием вдохнул запах хороших сигар, старого выдержанного коньяка и тонких духов. Ах, эти духи!… Они вызвали в воображении Картера недавно бывшую тут женщину, едва прикрытую чем-то воздушно-белым, босоногую, с распущенными волосами.
Картер улыбнулся своим мыслям и тут же заметил на воротничке шефа платиновую паутинку. «Самый модный цвет! Интересно, кто она — американка или немка? И во что обходится такая штучка? Впрочем, цена для шефа не имеет значения! Долларов у него много: может держать гарем, может пить и есть то, что когда-то бывало доступно лишь императорам и королям».
Острое чувство зависти и восхищения обожгло Картера! Живут же люди!
Жесткие, властные руки шефа энергично, по-хозяйски ощупывают Картера, бесцеремонно, как мальчишку, похлопывают по щекам, а он не откликается на эту ласку. Молчит.
— В чем дело, Раф? — встревожился генерал. — Почему вы так нахохлились?
— Сэр, стыдно и больно. Столько бед натворил! Такое доверие вы оказали, и я не оправдал его!…
Крапс тоже стал серьезным. Внимательно, с новым интересом посмотрел на Картера. Глубоко посаженные, ясные и умные его глаза настороже. Губы поджаты.
Голова чуть склонена к плечу. Смотрит, изучает, думает, спокойно ждет, что еще скажет собеседник.
И Картер понял, что шеф видит его насквозь. Надо поскорее отступить на самую выгодную позицию.
Опустив голову, Картер пытливо рассматривал свою ладонь.
— Несмотря на мой провал, вы так великодушно обошлись со мной, сэр…
Прежняя, как и в первую минуту встречи, открыто-добродушная улыбка тронула губы Крапса.
— За битого двух небитых дают. Так, кажется, говорят русские.
Веселая многообещающая шутка не ободрила Картера, не придала бойкости его языку. Молчал, старательно подбирая слова.
— Я в большом затруднении, сэр.
— В чем дело? Что вас угнетает?
— Видите ли…
Косноязычие «парня с того света» и его волнение было настоящим, искренним. Крапс это хорошо видел. Картер наконец собрался с духом и пробормотал:
— Сэр, говоря откровенно, я вернулся сюда отбывать наказание, а вы…
— Это хорошо, что вы так думаете. Я уже вам сказал, за одного битого дают двух небитых.
Стайка сизых голубей бесстрашно опустилась на подоконник. Воркуя, кося радужными глазами на людей, они клевали зерно. Крапс подошел к голубям, погладил одного, другого, третьего.
— Гуля, гуля, гуля!…
Голуби вспорхнули. Генерал проводил их взглядом. Потом зажмурился, широко открыл рот и шумно втянул в себя горный воздух.
— Извините, Раф. Моим легким и горлу необходимо время от времени вот такое промывание. — Он вернулся к Картеру, взял его под руку, потащил к камину, усадил в кресло, сел рядом и придвинул к себе низенький столик, на котором стояла высокая бутылка с яркими французскими наклейками и коньячные бокалы.
Жарким устойчивым пламенем горели в камине уложенные клеткой аккуратные дубовые полешки, Любил «Бизон» даже летом блаженствовать у камина. Между виноградными листьями промелькнула рыжеватая, летней окраски, белка. Прилетела и улетела новая стайка голубей.
Генерал погрел бокалы над огнем, наполнил их легкой светло-желтой жидкостью и, вдыхая ее аромат, глядя на Картера с воодушевлением, сказал;
— У нас в Штатах произошли важные события, Раф. Вы узнаете о них теперь же, незамедлительно. От меня. И вам многое станет ясно.
Картер замер, почти не дышал. Ладони его крепко обхватили, согревая, бокал с коньяком, а глаза были прикованы к губам шефа.
— В высших правительственных сферах — в Пентагоне, в госдепартаменте и среди американцев первого десятка — недавно возникли, вернее, обострились крупные разногласия по поводу того, как в теперешних условиях использовать нашу разведку. Одни отстаивали старую классическую доктрину. Ее неписаная формула обязывала нас работать только под покровом ночи, тихо, будто бы на свой страх и риск, якобы без всякого покровительства официальных лиц.
Картеру стало чуть-чуть жутковато от доверия, которое вдруг обрушилось на него. Пентагон!… Государственный департамент!… Главный штаб разведывательного управления!… Крупные разногласия!… Имеет ли он право на такое высокое доверие? Не опасно ли оно ему? Кроме того, ему было еще и неловко. Развалился в кресле, потягивает великолепный коньяк, бесцеремонно злоупотребляет неожиданно хорошим расположением к себе генерала Крапса.
Картер деликатно покосился на часы, виновато улыбнулся, спросил, не слишком ли затянулся его визит, не наносит ли он ущерба расписанию генерала.
— Сидите! — Крапс махнул рукой, отхлебнул из бокала. — Так вот!… Была и противоположная точка зрения среди американцев первого десятка. Ее отстаивал Аллен Даллес и его единомышленники из Пентагона, Младший Д., споря со своими противниками, утверждал, что Америка так сильна, что мы можем позволить себе пренебрегать устаревшими классическими образцами и действовать по-новому, как подобает нашему могуществу. Младший Д. добивался от госдепартамента и Белого дома совершенно открытой, официальной поддержки ЦРУ.
— Сэр, я согласен с ним. Правильно. Давно пора.
— В те дни, когда вас схватили, — продолжал «Бизон», — состоялось заседание Национального совета безопасности… первого десятка американцев. Центральным в повестке дня был наш вопрос. Мы предложили на обсуждение и утверждение обширную программу. Стратегическую разведку, сказали мы, надо вести не только силами аппарата ЦРУ, но и силами работников госдепартамента, министерства торговли, сельского хозяйства, военного и морского флота, авиации, таможенной правительственной комиссии, всеми средствами наших военных баз, разбросанных по земному шару от Аляски до Антарктиды, силами всех американцев, живущих за границей.
— Грандиозно! — с восхищением вставил Картер. — Я об этом мечтал еще пять лет назад.
— Все мечтали… Мы предложили поставить на службу нашей внешней политике тотальную стратегическую разведку. И мы обосновали ее жизненную необходимость в момент, когда идет подготовка к захвату европейского плацдарма. Кто приберет к рукам огромный промышленный арсенал Западной Европы, тот станет господином мира.
— Совершенно верно! И об этом я думал, — Картер усиленно закивал головой. — Западная Германия, ее колоссальная индустриальная мощь, ресурсы Бельгии, Голландии, Австрии, Франции должны быть поставлены нам на службу. Короче говоря, в этой фирме, как мы называем мир, Америка должна взять на себя ответственную роль главного акционера. Только в этом случае мы можем раздавить Советы и Китай.
Генерал терпеливо, охотно выслушал пространную реплику Картера и был доволен, что тот с полуслова понимает его.
— Да! Мы уже сделали многое. За эти послевоенные годы мы утроили свои заграничные капиталовложения. В пятьдесят четыре миллиарда оцениваются наши европейские приобретения. Но это только половина дела. Получив контрольные пакеты акций, мы обрели возможность диктаторствовать на мировом рынке и беспощадно давить на Советы экономическим прессом. Но это действительно только половина дела. Сдерживать коммунизм можно лишь превосходящими силами. А для того чтобы постоянно превосходить противника, надо всегда знать, чем и как он вооружен. Элементарно? К сожалению, эта простая истина была долгое время недоступна некоторым американцам, даже из числа первого десятка.
— Сэр, неужели они осмелились в этом признаться на заседании Национального совета? — покраснев от гнева, опросил Картер.
— Не только признались. Отстаивали с пеной у рта. Потрясали конвенциями о международном праве. А младший Д. упорно отстаивал наше право на тотальную разведку, на разведку с «позиций силы», без всякого фигового листка. Потасовка была шумной и длительной. Пришлось высказать свое решающее слово первому американцу из первого десятка.
— Интересно, что он сказал? — оживился Картер.
— Вот тут я подхожу к главному, о чем хотел поговорить с вами. Первый американец сказал твердо и ясно: «Все средства обороны хороши, если они обеспечивают безопасность наших институтов. И все средства разведки благородны, если они укрепляют наш образ жизни. — И еще он сказал следующее: — Я всегда считал разведку глазами войны, ее локатором. И теперь я припас самые высшие ордена тем разведчикам, которые будут доставлять из Советского Союза важные сведения о его военной и экономической мощи. И мне наплевать, как это будет сделано, с нарушением так называемых международных правовых норм или в обход их. В данном случае уместно вспомнить знаменитое «Цель оправдывает средства».
Генерал Крапс взял бокал с коньяком, отхлебнул большой глоток и через прозрачное стекло посмотрел на Картера.
— Плагиат? Нет! Мысли передаются даже на таком расстоянии, как Вашингтон — Мюнхен. Не ясно только, кто передавал, а кто принимал — я или он, первый американец.
Генерал сопроводил свою шутку веселым смехом.
Картер почтительно слушал шефа, с обожанием вглядывался в него и мучительно думал: «Почему он так добр со мной?»
Генерал Крапс строго проверял и контролировал работников своего отдела. Однако строгость не мешала ему быть щедрым на похвалу и ласку. Всякого, кто отличился, он считал своим долгом похвалить. Пусть каждый гордится тем, что сделал. Гордый работает масштабнее.
Генерал разговаривал с Картером, не жалея драгоценного времени и не боясь доверить ему кое-какие важные секреты. Доверие это впоследствии окупится с лихвой.
— В хорошее время вернулись вы, Раф. Мы — на коне. Началась наша эпоха. Выслушайте то, что я вам скажу, и начисто забудьте!… Мы в течение нескольких лет создавали вокруг Советского Союза и стран его блока кольцо разведывательных радиолокационных станций — в Гренландии и Шотландии, на Аляске, в Иране, в Турции, Норвегии, Пакистане. Хорошо потрудились. Теперь и этого недостаточно. Обстановка потребовала от нас более активной разведки, разведки, так сказать, в глубину и высоту. И мы создали условия для этого. По нашему заказу фирма «Локхид» построила и уже испытывает специальный разведывательный самолет, недоступный ни зенитной артиллерии, ни истребителям. Он способен без посадки, без всякого риска быть сбитым, перемахнуть СССР от берегов Черного моря до берегов Ледовитого океана на высоте двадцати тысяч метров и при этом зафиксировать своей чувствительной аппаратурой все интересующие нас объекты.
— Потрясающе! — воскликнул Картер.
— Да, мы уже завоевали небо над Советами, сделали его открытым. И землю сделаем широко открытой для нашей разведки, если поднимем ее на уровень локхидовского самолета. А сейчас мы пока ползаем. Это тоже факт, мой друг. И об этом я хочу обстоятельно поговорить с вами. Собственно, ради этого я и пригласил вас сюда. Да! В нашем распоряжении сто миллионов долларов, тысячи и тысячи перемещенных лиц, нас открыто поддерживает вся официальная Америка, на нашей стороне свободный мир, и все-таки мы ползаем. Провал за провалом. В Закарпатской Руси. В Минске, Таганроге, Владивостоке. В Москве. Проваливаются не только новички. Приходится ставить крест даже на самых опытных, самых надежных агентах. В чем дело? Вы привезли мне ответ на все эти вопросы?
— Да, сэр. Вы затронули то, о чем я думал долго… Разрешите изложить свою точку зрения на эту проблему в письменном виде. Это будет целая книга.
— Отлично! А теперь, хотя бы в двух словах, — кто виноват в наших провалах?
— Сэр, в двух словах на такой вопрос ответить невозможно. Все же попытаюсь… На собственном опыте, на собственной шкуре я убедился, что работать в России нашему брату дьявольски трудно. Ты подготовлен как нельзя лучше, снабжен железной легендой; имеешь настоящие документы, настоящую биографию, настоящих родственников, настоящее прошлое — и с треском проваливаешься рано или поздно.
Генерал Крапс впервые за все время разговора с Картером проявил нетерпение: глянул на часы, нахмурился. Но Картер так распалился, что не понял намека или не захотел понять его.
— На трех китах построено здание нашей разведки в России — на подкупе, на использовании морально неустойчивых элементов, на ненависти некоторой части населения к Советам. И все три кита дохлые, давно протухли. Далеко мы не уедем на них, сэр! Надо перестраиваться. Надо искать новые приемы.
— Все это, конечно, в какой-то мере верно, — уныло сознался Крапс. — Но… не мы же создавали этих трех китов. И французы, и англичане, и японцы эксплуатируют их добрую сотню лет. И древние охотно пользовались их услугами.
— Сэр, сейчас же другое время, другой противник, другая земля, другие люди ее населяют!…
Генерал улыбнулся:
— Раф, мне нравится ваше недовольство собой. На вас весьма и весьма благотворно подействовал провал.
— Вы шутите, сэр, а я… я готов биться головой о землю от стыда и боли.
— Напрасная трата энергии. Все в порядке. Предлагаю вам интересную работу.
«Вот и конец предисловию. Поставлена последняя точка. Сейчас начнется деловой разговор. — Картер с облегчением, не выдавая себя, вздохнул. — Куда пошлет? Похоже на то, что не обидит».
— Давайте обсудим, Раф, чем вы должны заняться в нашем отделе.
— Сэр, эту проблему можно решить в одно мгновение. Готов выполнить любое приказание.
— Назначаем вас старшим инспектором лагерей для перемещенных лиц и одновременно экспертом школ, где готовятся «люди закона Лоджа».
— Согласен!
— А вы представляете, что это такое?
— Не в полном масштабе, но кое-что знаю.
— Ваши представления, мой друг, наверняка устарели. После знаменательного заседания Национального совета безопасности мы переключили подготовку «людей закона Лоджа» на большой поток. Одновременно во всех концах света, всюду, где есть наши базы, в десятках школ, мы готовим ударные отряды, способные накануне дня «икс» или в другом случае, по нашему сигналу, взрывать и поджигать в странах советского блока мосты, заводы, склады, совершать террористические акты, разрушать важные объекты, распространять слухи, полезные для нас, наводящие панический ужас на противника, похищать необходимых нам лиц и прочее, прочее.
Генерал Крапс обстоятельно рассказал, что и как будут делать «люди закона Лоджа».
Заключая беседу, «Бизон» сказал:
— Дорогой Раф! Вы — богач. Не скупитесь, раздавайте свой русский опыт молодым разведчикам. Просвещайте! Это чудесно, что вы своими глазами видели Россию. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
— Ох, сэр, тяжко мне.
— Все тяжкое позади, Раф. — И генерал опять отечески похлопал Картера по щеке. — Действуйте, мой друг! Воспитывайте в школах таких молодцов, которые будут со смертью на «ты». Нам не нужны хлюпики вроде нашего с вами соотечественника, который нацелил атомную бомбу на Хиросиму и тут же, вернувшись на аэродром, свихнулся. Нам нужны «камикадзе», «священный ветер». Помните, как досталось нашему морскому флоту от этих «камикадзе»? Обыкновенные япошки садились в истребители, взмывали в небо, бросали на землю шасси и устремлялись на американские авианосцы, линкоры, крейсера, обрушивались на них вместе с торпедами и тащили за собой корабли и тысячи матросов на дно океана. Пожалуйста, вот вам отличный пример! «Священным ветром» всякий разведчик, конечно, не станет, но пусть будет им каждый третий, четвертый. Действуйте, Раф, и вам обеспечена моя поддержка! И еще один совет. Неустанно думайте над тем, как оживить «дохлых китов». Думайте! Но, пожалуйста, не пренебрегайте и четвертым. Да, есть и четвертый. И не дохлый. Живой. Полон сил. Зубастый. Вы почему-то забыли о нем. Давайте рассмотрим его со всех сторон, и вы убедитесь, что он повезет нас, и очень быстро и далеко… Си-Ай-Эй молодая разведка, мы совсем недавно вышли на мировую арену. В этом наша относительная слабость и наши огромные преимущества. Слабость в наших необстрелянных кадрах. Но зато нас не угнетают дурные традиции. Мы строим свою организацию на новом месте, на новом фундаменте, из новых материалов. В нашем распоряжении все лучшее, что было у таких мастеров, как Фуше, Лоуренс, Канарис. У нас есть и то, чего у них не было. Например, перемещенные лица.
— Согласен, сэр. Я все понял.
Крапс не был уверен, что понят до конца, и захотел высказаться предельно ясно.
— Мы поглотили разведывательные организации Германии и Японии и многих других стран. Мы получили в наследство гигантскую картотеку и разветвленную сеть бывшей немецкой и японской агентуры. Все разведки свободного мира сотрудничают с нами. А ведомство генерала Гелена превратилось в филиал Си-Ай-Эй.
— Все это так, но… количество не соответствует качеству. Попросту говоря, мы недостаточно смело и масштабно применяем немецкий, японский, итальянский опыт тайных операций.
— Правильно — подхватил Крапс. — Именно! Не масштабно. И не настойчиво. В этом главная причина некоторых наших провалов.
Картер осторожно, мягко возразил:
— Сэр, одна из главных.
— Ладно, согласен. Ну вот, договорились по всем статьям. — Крапс обнял вскочившего Картера и повел его к двери. — Разрешаю в любое время обращаться ко мне. Отныне вы мой доверенный человек.
Так Картер стал старшим, инспектором «Отдела тайных операций», экспертом разведывательных школ.
Перемещенные лица!… Наивная маскировка, но тем не менее газеты капиталистического мира, его дипломаты, премьеры и президенты ввели в привычный обиход эту формулу, рожденную в недрах американской разведки.
Перемещенные лица!… Откуда и куда они переместились?
Несовместимы огонь и вода, затхлая сырость и солнечный ветер, день и ночь, весна и лютый мороз, правда и неправда,
При первых же лучах солнца тьма вынуждена отступать, перемещаться, скрываться,
Когда польские крестьяне и силезские шахтеры, болгарские ткачи и штеттинские поморы, пражские каменщики и болгарские пастухи, металлисты Красного Чепеля и нефтяники Плоешти стали депутатами и министрами, то паны миколайчики, паны андерсоны, маркграфы паллавичини, сухопутные адмиралы хорти, рыцари «скрещенных стрел» нилашисты, царственные отпрыски Фердинанда и Бориса, коронованный «божий помазанник» Михай и некоронованные, чистогана всех мастей, рабы кроны и леи, динара и злотого, лева, фунта и доллара вынуждены были бежать, спасая свою жизнь и вековые классовые привилегии. Бежали на английские острова, в США, в Южную Америку и Западную Германию. И это паническое бегство названо было перемещением.
Революция, ее беспощадный плуг, плуг истории выкорчевал из народной почвы ядовитый сорняк, а западная цивилизация окрестила это «жестокостью коммунизма» и поспешила создать для этих сорняков, чтобы они, боже упаси, не завяли, обширные заповедники и плантации и стала удобрять их обильным долларовым дождем.
Перемещенные!… Лица!…
Со своих насиженных мест вышиблены королевские опричники, помещики и заводчики, кулаки и торговцы, их оруженосцы и все те, для кого не существовало другой красоты, кроме галантерейной, кто считал Елисейские Поля главной дорогой человечества, кто полагал, что проститутка и нищий — закономерное, веками освященное явление Парижа и Роттердама, Рима и Афин. И этих грабителей, паразитов и палачей величали «лицами».
Лагеря официально именовались так: «Зона перемещенных лиц». Но в секретных донесениях Артура Крапса, в докладных записках Аллена Даллеса, предназначенных только для правительства, в меморандумах его брата Фостера Даллеса, в меморандумах, не подлежащих оглашению, предназначенных для тайных комиссий и подкомиссий сената и конгресса, эти лагеря назывались своими именами. «Соединениями отрядов особого назначения», а обитатели их «людьми закона Лоджа».
В свое время, у истоков холодной войны, конгрессом США был принят закон, внесенный Лоджем, дающий юридическое и моральное право американскому правительству создавать в Европе под видом лагерей для перемещенных лиц различные «Комитеты и союзы борцов за свободу», крупные соединения «Отрядов особого назначения», из людей, обученных по специальному, строго секретному плану Центрального разведывательного управления. Деятельность этих комитетов и союзов была направлена против Венгрии и Польши, Румынии и Чехословакии и других стран, откуда были выкорчеваны «перемещенные лица».
Если ты люто ненавидишь власть народа, если ты готов разрядить кольт в голову краковского воеводы, в болгарского граничара, в дунайского рыбака, в секретаря будапештского горкома, в закарпатскую верховинку, если ты готов вешать коммунистов на деревьях Будапешта, на фонарных столбах Познани, под древними сводами пражских Градчан, на крановых стрелах порта Констанцы, значит, ты твердо стоишь в первой шеренге «людей закона Лоджа».
Если жажда убивать и разрушать постоянно терзает тебя, если ненависть к коммунизму, притворство, ложь, клевета и лицемерие стали основой твоей душевной жизни, если ты ловко жонглируешь понятиями «свобода личности», «человечность», «культура», если температура твоего сердца доведена до нужной, запланированной «Бизоном», значит, наступило время твоей зрелости — тебя выпускают на линию огня.
Отдохнув несколько дней, Картер приступил к исполнению своих обязанностей.
Лагеря для перемещенных лиц находятся в разных городах Западной Германии и Верхней Австрии. «Центральная организация послевоенных беженцев», различные эмигрантские землячества венгров и поляков, румын и болгар, «Американский комитет освобождения от большевизма», «Национальный трудовой союз», шпионские «академии» в Западной Германии, Швейцарии и других страдах, военные школы в фортах Брэгг, Северная Каролину, Джексон, Южная Каролина, уединенные фермы, где обучались особо ценные агенты, штаб Крапса — вот неизменные вехи маршрута, по которому Картер курсировал беспрестанно.
ЧЕЛОВЕК ЗАКОНА ЛОДЖА
Несколько августовских дней Картер прожил в окрестностях дунайского города Регенсбурга, в секретном колледже, расположенном на берегу высокогорного озера и скрывающемся под вывеской школы плавания «Цуг шпитце». Здесь он подвергал испытанию будущих агентов «Отдела тайных операций» и решал их судьбу одним словом: «Годен» или «Брак».
Последним проходил испытание «Белый» — русский, старовер, белобрысый увалень лет сорока, бывший рыбак и подводник.
Перед испытанием Картер досконально изучил личное дело «Белого». Настоящее имя — Дорофей Глебов. Родился и вырос в дельте Дуная, на Лебяжьем. С 1919 по 1940-й этот остров был территорией Румынии. В годы войны, уже женатый, отец двух детей, Дорофей Глебов был мобилизован в королевский флот. Служил на подводной лодке. После капитуляции Румынии попал в Турцию, где и был интернирован. В послевоенные годы скитался по свету, работал на строительстве дорог и аэродромов в Африке, там и завербован американской разведкой.
Картер очень торопился в самое короткое время закончить дела в Регенсбурге и все же с обычным рвением исполнял свои обязанности эксперта. Для такого рвения были немаловажные причины. «Белый» не укладывался в те стандартные формы, которыми измерялись и контролировались «люди закона Лоджа».
Картера насторожило личное дело. У «Белого» давние и крепкие корни на Дунае. Дом, где он родился и вырос, и поныне целехонек. Живут под его крышей мать Дорофея, двое детей и жена, всеми уважаемая женщина. Она сохранила былую молодость, красоту и до сих пор не вышла замуж.
«Белый» был одним из винтиков давно и тщательно подготавливаемой, многообещающей операции, закодированной под названием «Дунайские ночи». Он и сам пока не ведал, что попадет туда, где родился и вырос, где жила его семья.
Картера немного смущала сложившаяся ситуация. Хорошо, что агенту придется действовать дома, в местности, которую он знает, как собственную ладонь, хорошо, что ему не надо изучать обстановку. Хорошо, наконец, и то, что планируемый удар будет нанесен русскими руками. Это даст возможность пропагандистам из управления психологической войны звонить во все колокола о том, что за железным занавесом существует мощное движение сопротивления.
Но плохо, что живы мать «Белого», жена и дети. Не дрогнет ли его сердце в тот момент, когда попадет домой, и не захочется ли блудному сыну погреться у родного очага? Если это случится, то чрезвычайно важное задание будет провалено.
Правда, в колледже на протяжении длительного времени самыми новейшими средствами, и не без успеха, вытравляли из Глебова все слабости, несовместимые с той миссией, для которой он готовился. Но кто знает, надежно ли подействовала на него суровая наука.
В «Отделе тайных операций» давным-давно объявлены вне закона такие человеческие чувства, как любовь к родине, любовь к близким и друзьям, честность, искренность, жалость, неумение лгать и притворяться, искренние слезы и искренний смех, ужас перед ампулой, наполненной цианистым калием и избавляющей, если провалившийся агент раскусит ее вовремя, «Отдел тайных операций» от многих неприятностей.
«Прежде всего соверши диверсию в собственной душе, в собственном сердце, а потом нападай на других» — такова была первая статья неписаного, но свято соблюдаемого кодекса «Отдела тайных операций».
Картер подготовил для «Белого» целую серию испытаний.
Начал с главного — готов ли он действовать как «лягушка»?
«Белый» окончил две школы: обычную, где проходил курс шпионских наук, и специальную — подводного плавания с аквалангом. Длительное время он осваивал сложное и трудное искусство подводного диверсанта — учился видеть, слышать и действовать на больших и малых глубинах, в морских, речных и озерных водах, в прозрачных и мутных с захламленным дном, по которому можно было передвигаться только вслепую, по азимуту, учитывая быстрое течение, снос, перекаты и прочее.
Во время Второй мировой войны итальянцы обучили своих моряков — их назвали людьми-лягушками — воевать под водой. Глухой ночью, сквозь минные поля люди-лягушки подкрадывались к стоянкам вражеских кораблей, прилаживали к ним мины замедленного действия большой разрушительной силы. Позже итальянцы передали свой опыт немцам.
У немецких людей-лягушек на счету немало взорванных и потопленных кораблей Англии и Америки, разрушенных мостов и шлюзов на дорогах наступления союзников. Они пробрались осенью 1944 года в тыл к англичанам, которые внезапно захватили в Нормандии укрепления «Атлантического вала», построенные инженерными войсками Тодта. Удар англичан по этому валу в районе Сены был настолько сокрушителен, что немецкие артиллеристы, убегая, бросили мощные батареи целехонькими. Немецкие «лягушки» ночью пробрались по морской воде в устье Сены, проникли в бетонные казематы батарей, бесшумно истребили всех англичан, оказавшихся на их пути, вывели из строя дальнобойные орудия и благополучно, без каких-либо существенных потерь, вернулись на свою базу.
В школе, где обучался «Белый», обстоятельно, во всех деталях, на местности, максимально приближенной к действительности, разыгрывался этот эпизод. Руководили игрой те, кто осуществлял в 1944 году эту выдающуюся в истории деятельности людей-лягушек диверсию.
Ни единая крупица богатого опыта итальянских и немецких «лягушек», не предавалась забвению в школах американской разведки. Воскрешались подвиги Крэбба, английского аса подводных диверсий, дела японских подводных самураев и американских бойцов морской пехоты, действовавших на тихоокеанских островах, укрепленных японцами, и у Инчона во время корейской войны.
Испытания «Белого» начались в Баварии, на высокогорном озере, невдалеке от знаменитой горы Цуг шпитце, по имени которой и было названо любимое детище «Бизона». Цуг шпитце в переводе на русский — предел высоты.
…Звездное небо тускло, будто плохо отпечатанная фотография, отражается в зеркально-темной поверхности озера. Горы зубчатой стеной поднимаются на севере и юге, на востоке и западе. Вдоль скалистого берега бесшумна, на малой скорости, скользит катер. Он без мачты и кабины, низкобортный, выкрашен под цвет ночного озера, почти невидим, у него глушитель с подводным выхлопом. На катере только двое: инструктор подводного плавания и Картер.
— Стоп! — шепотом командует эксперт.
Картер отгибает рукав кожаной куртки, смотрит на светящийся циферблат. Прибыли на место рандеву с диверсантом вовремя, минута в минуту. Где же он? Почему опаздывает? Не уложился в положенное время? Застрял на дне, в камнях? Схвачен? Потерял ориентировку?
Позади у кормы послышался легкий всплеск. Картер обернулся. Черные лапы схватились за борт катера. Еще секунда — и показалась чёрная макушка, потом лицо, то есть то, чем было замаскировано лицо: нейлоновые водоросли, огромный стеклянный глаз, дыхательная трубка акваланга.
Пловец вытащил изо рта трубку и по-английски доложил:
— Мистер Кеннеди, задание выполнил.
— Вы забыли добавить: «в срок», — улыбнулся мистер Кеннеди, он же Картер. Схватил Глебова за руки, обтянутые перчатками из тонкой черной резины, с трудом втащил на борт катера, похлопал по блестящему мокрому плечу, тоже обтянутому резиной, сказал по-русски:
— Молодец, Дорофей!
— Рад стараться, мистер Кеннеди!
Ориентировка под водой с помощью компаса, путешествие по дну озера по азимуту, с выходом в заранее обусловленную, невидимо обозначенную на воде точку, привязанную к земному ориентиру, — эти испытания тоже были выдержаны. Картер похвалил «Белого», поздравил с успехом, выразил уверенность, что и вторая ступень экзамена будет преодолена. После этого он приказал катеру следовать в бухту «Эдельвейс», на базу «лягушек».
Новое испытание «Белого» состоялось через сутки и уже не здесь, в окрестностях горы Цуг шпитце, а в Регенсбурге.
Катер, на борту которого находились эксперт Кеннеди, «Белый» их рулевой, вышел на середину Дуная, застопорил мотор, бросил якорь.
— Пошел! — скомандовал Картер.
Инженерная служба «Отдела тайных операций» своевременно позаботилась о том, чтобы у людей-лягушек было хорошее учебное поле, чтобы теория сочеталась с практикой. На озерах и реках Южной Баварии были созданы под водой точные копии тех объектов, которые будущим диверсантам предстояло разрушить или повредить. Неподалеку от Регенсбурга, на дне Дуная было уложено два звена труб огромного диаметра — макет бензопровода в натуральную величину.
«Белый» и другие «лягушки» много раз, под прикрытием ночи и специальных речных и береговых патрулей, спускались вместе с инструкторами на дно Дуная и тренировались. На первых порах они просто подрывали стальную артерию бензопровода. Впоследствии отказались от таких разрушений. Противник может обнаружить их сразу и быстро восстановить. «Белого» научили наносить по бензопроводам удары особого рода. Их бессильны зафиксировать даже высокочувствительные аппараты, установленные на насосных и контрольных станциях, «Белый» опускался на дно Дуная со специальным, аккумуляторным сверлом, проделывал в трубе небольшое отверстие, такое, чтобы давление в бензопроводе не падало. В это отверстие он вводил некоторое количество особой смеси и зачеканивал дырку. Яд, вынесенный потоком бензина в огромные резервуары бензохранилищ, действовал не сразу, а через определенное время, через две-три недели, в зависимости от концентрации. Если его ввести в авиационный бензин противника за некоторое время до вылета, самолеты не смогут подняться с аэродрома. Потери от такого рода диверсий трудно определить заранее.
«Белый» поднялся. Он был громаден и неуклюж в своих свинцовых башмаках, в «сорока одежках», поверх которых натянуты два защитных комбинезона, резиновый и брезентовый, в шлеме с гигантским стеклянным оком, с баллонами на груди, с батарейным фонарем и объемистой сумкой, в которой было все необходимое для сложной подводной диверсии. Сгибаясь под тяжестью груза, он неуклюже подошел к борту, сел, свесил ноги и бесшумно погрузился в быстрые воды Дуная.
Ровно через двадцать минут его голова снова показалась на темной поверхности реки. С помощью Картера и рулевого он взобрался на катер, снял шлем и доложил, что задание выполнил в срок.
Картер снова, как и вчера, похвалил пловца. Хвалил не скупясь, даже явно преувеличивая его мастерство. Делал он это неспроста. Старался задобрить, убедить, что пройдены самые трудные, самые решающие ступени на лестнице испытаний.
Но главное испытание было впереди. Оно проводилось не в тайных казематах колледжа, не с помощью «детектора лжи» — электронной машины, проверяющей, правдиво ли вы отвечаете на вопросы, которые вам задает эксперт.
Окраина Регенсбурга. Берег Дуная. Быстроходный гоночный катер отвалил от причальной стенки и, мягко урча отрегулированным мотором, осторожно обходя мели, выбрался на фарватер.
Картер и «Белый» взяли с собой продукты, рыболовные снасти, водку, приправу для ухи. Весь день намеревались бродить по дунайской воде и дунайским берегам.
«Белый», судя по напряженно-выжидательному выражению лица и настороженным взглядам, догадывался, что прогулка эта предпринята не просто так, ради отдыха и удовольствия. Но не задавал никаких вопросов.
Шли вверх. Мощный мотор тянул ровно, катер покорно слушался руля, легко резал острым, чуть задранным носом неподатливую воду Дуная.
Картер, в белом свитере, белых фланелевых штанах и в берете, стоял на корме, у надутого ветром флага и, чуть прищурясь, смотрел на реку, залитую ярким летним солнцем. Тень Картера, тонкая, длинная, словно мачта, и черный квадрат кормового флага скользили по спокойной воде. Небо было тоже спокойным, чистым. Дачные домики пригорода Регенсбурга и сады, окружающие их, омытые недавним дождем, сверкали свежей зеленью, яркими красками. В лицо дул теплый ветерок. На прибрежном склоне, там, где пылали стеклянные шары в цветочных клумбах, загремел, приветствуя новый день, рояль.
Новый день!… Новый Дунай, новое небо, новое солнце, новый Бетховен, новые краски… Не порадоваться при виде всего этого может только камень. Картер вспомнил Закарпатье, «компетентное лицо», его пророчества и усмехнулся. «Мы еще не раз столкнемся с вами, полковник, но уже заочно».
«Белый», обернувшись, спросил:
— Мистер Кеннеди, в Регенсбурге остановимся?
— Нет. Держите курс, не снижая скорости, на север. — Картер кивнул на небо, махнул рукой в сторону берега. — Хорош денек, правда?
«Белый» переложил на штурвале свои огромные ладони; медленно, неохотно оглянулся вокруг, и в его водянистых, бесцветных глазах не вспыхнуло ни единой искорки.
— День, говорю, хорош, — повторил Картер. — Повезло нам с тобой, Дорофей. На славу погуляем.
«Белый» и теперь ничего не сказал. Картеру не понравилось молчание «лягушки». Ему вообще не нравилось все, что не сразу раскрывалось перед ним. Всякая тайна неудержимо притягивала к себе Картера, не давала ему покоя до тех пор, пока он не разгадывал ее. «Белый», несмотря на то что Картер изучал его уже несколько дней, оставался загадкой. И это вызывало досаду, раздражение, острый зуд любопытства.
Вошли в Дунай, разрезающий Регенсбург на две неравные части — юго-западную и северо-восточную. Один за другим возникали и пропадали за кормой городские мосты. Под быками-устоями, уходящими глубоко в дно Дуная, резвились по ночам «лягушки» из колледжа «Цуг шпитце». Регенсбургские мосты не похожи на те, которые придется разрушать. Не беда!
Картер с интересом вглядывался в мосты. Изумительные творения рук человеческих. Триумфальные арки. Каменные и стальные радуги, сияющие над речной пропастью. Тысячи и тысячи дней труда, уйма материалов и денег понадобились людям, чтобы воздвигнуть эти громады. А разрушить их сможет одна «лягушка» из «Цуг шпитце».
Картер мысленным взором окинул весь Дунай, протекающий по землям восьми государств. Он представил себе те обреченные мосты, которые однажды, по сигналу «Бизона», будут взорваны, — Братиславский железнодорожный, Мост дружбы, соединяющий Румынию и Болгарию.
Ни эта «лягушка», управляющая сейчас катером, ни один из воспитанников колледжа «Цуг шпитце» пока не знают, какая им предстоит работа. И о предстоящей операции «Дунайские ночи» знают только приближенные «Бизона».
«Белый» сосредоточенно управлял катером, уверенно отыскивая в капризном, богатом отмелями русле глубины, обеспечивающие суденышку хорошую скорость и безопасность.
Вырвались за город, на простор. На крутых берегах, на отрогах хребта Баварский Лес зеленели зубчатые хвойные стены.
«Белый» вопросительно взглянул на инспектора: не пора ли причаливать?
— Давай дальше! — Картер махнул рукой на запад. — Вон к той поляне. Видишь, как она пламенеет зеленой травой, манит к себе. Причалим, Дорофей? Не устал?
— Картер добродушно улыбнулся. Улыбаясь, он по-свойски подмигнул, рулевому. «Белый» не откликнулся. Угрюмо посмотрел на приближающуюся поляну, пожал плечами.
— Можно причалить, можно и пройти мимо. Воля ваша, мистер Кеннеди.
— Я с тобой советуюсь, а не приказываю.
«Белый» ничего не сказал.
Раздражение с новой силой вспыхнуло и обожгло Картера.
— Причаливай! — скомандовал он.
— Есть, причаливать.
Свернули вправо. Мотор заглох, и днище катера зашуршало по прибрежной гальке,
В плане испытаний, составленном Картером, была и прогулка по Дунаю, и рыбная ловля, и костер на берегу, и русская уха, и русская водка, и важный, откровенно-прямой разговор о том, куда направится «Белый» и что он должен сделать на своей бывшей родине.
Дорофей Глебов сдержанно, будто давно этого ждал, без особой радости и без каких-либо признаков страха воспринял весть о том, что ему предстоит путешествие на Дунай, в места, где родился и рос. Он не стал уточнять, что и как должен делать. Сразу все понял и сказал, что задание выполнит.
Эксперт был доволен его поведением. Пока все шло хорошо. Похоже на то, что родился настоящий агент и можно рассчитывать на максимально благоприятный исход. Но это не значило, что Картер хоть немного смягчил свою строгость, сократил количество кругов, по которым намеревался основательно погонять этого русского старовера.
Подкладывая в костер валежник, с трудом найденный в чистеньком немецком лесу, Картер с веселой улыбкой подгулявшего человека оглянулся вокруг.
— Удивительно хорошо тут! Дорофей, что это тебе напоминает?
«Белый» не понял вопроса. Его осоловевшие, хмельные глаза, опушенные бесцветными, легкими, как пух одуванчика, ресницами, недоуменно смотрели на американца.
— Вы про что, мистер Кеннеди?
— Не церемонься ты со мной, Дорофей! Не Кеннеди я, а просто Ричард. Рич! Ведь мы с тобой почти однолетки, делаем одно и то же дело, скованы на всю жизнь одной и той же цепью. И потом эти дни экзаменов… Сроднился я, брат, с тобой за это время. И полюбил. За богатырскую силу и ловкость. За открытую душу и за все, чем тебя так щедро наградила матушка Россия.
— «Матушка Россия»! — угрюмо усмехнулся Дорофей. — Давным-давно эта матушка приказала долго жить. Ее место заняла мачеха.
— Ну что ты! Россия есть и будет Россией, хотя щеголяет в красном сарафане.
— Линючий этот сарафан. Его красным цветом насквозь пропиталась Русь. Так пропиталась, что и в сорока щелочных водах ее не отмоешь.
— Отмоем! Сто пятьдесят лет была Орда на Руси, а что от нее осталось? Отмоем! И ты в этом убедишься, когда попадешь на свой родной Дунай.
Дорофей кивнул на реку.
— Дунай для меня роднее здесь, в Баварии, чем там, в гирле. Ладно, сбились мы с вашей тропки… Про что вы изволили опросить?
— Ты уже почти ответил на мой вопрос. Я хотел спросить, напоминает ли тебе этот баварский рыбачий огонек костры на родном острове?
Дорофей равнодушно посмотрел на инспектора и ничего не сказал. Дымил сигаретой, ковырял палкой в золе костра, пробуя, не испеклась ли картошка, и не тяготился молчанием.
Каждое слово, каждое движение «Белого» контролировались Картером, анализировались. Он видел его даже с закрытыми глазами, чувствовал так остро и безошибочно, будто сам и был той электронной машиной, которая определяла правду и ложь.
Сверху, из-за скалистого поворота левого берега, выскочила легкая спортивная яхта, оснащенная полным набором серых, еще не промытых дождями и не отбеленных солнцем парусов. На корме надпись: «Шварцвальд», «Пассау» — название судна и порт его приписки. Картер проводил глазами изящную каравеллу, будто сошедшую со старинной гравюры.
— Скоро и ты, Дорофей, помчишься вот на посудине. Мимо Линца, Вены, Будапешта, Белграда навстречу своей великой судьбе!
«Белый» оживился, спросил:
— А как скоро?
— Точная дата известна только высшему командованию. Я могу лишь догадываться. Думаю, что случится через две — три недели. Трудная у тебя миссия.
— Какие тут трудности! — возразил Дорофей. — Действуй посмелее, побыстрее, половчее. Одним словом, чувствуй себя в воде как дома — и все будет о'кэй.
— Да я не про это. С лягушечьими делами ты справишься хорошо. А вот с трудностями личного характера…
— Это что еще такое?
— Я имею в виду Лебяжий… Быть рядом с островом, где живут мать, жена, дети и не повидать их хоть краем глаза — это, знаешь, муки Прометея, выпавшие на долю простого смертного! Заранее, брат, сочувствую.
— Ошибаетесь, мистер Кеннеди. Никаких мук я не буду испытывать.
— Не будешь? — изумился Картер. — Почему? Да разве ты каменный? Разве у тебя вместо сердца арифмометр? Неужели тебе и в самом деле не хочется повидать родных?
— А чего на них смотреть? Давно забыл, какие они есть. Да и они такой же монетой платят. Похоронили как безвестно пропавшего. Пятнадцать лет ни слуху ни духу. За это время в голой степи лес может вырасти, реки высохнуть, горы с места сдвинуться.
— Это, конечно, верно, но все ж таки… родная мать, жена, дети.
— Детей тогда жалеешь и любишь, когда они на твоих глазах растут, когда пуповиной с ними связан. А насчет жены… с кем ночь делишь, та тебе и жена. В каждый свой выходной день, в воскресенье я нахожу себе жену в веселом доме Регенсбурга.
— Слушай, Дорофей, не валяй дурака. Ты гораздо лучше, чем хочешь показаться. Не верю я, что у тебя нет потребности в семейном очаге.
— Мало ли какие бывают потребности у нашего безродного брата.
— Но ведь семью создает даже африканский людоед. А ты… неужели бобылем на всю жизнь останешься?
— Да на какие шиши я создам ее, семью?
— У тебя будут деньги, когда выполнишь задание и вернешься. И немалые. Три тысячи долларов.
— Три тысячи!… Могли бы и больше заплатить, мистер Кеннеди. Головой все-таки рискую.
— Это верно. К сожалению, такова ставка, И я не могу ее сейчас увеличить. Но я буду ходатайствовать о пересмотре гонорара до пяти тысяч. И добьюсь.
— Получу эти пять тысяч, тогда и о семье подумаю. А пока, мистер Кеннеди, не до этой роскоши. Сейчас вся моя личная жизнь вот тут. — Дорофей кивнул на Дунай.,
«Прекрасно! Молодец!» — мысленно похвалил Картер «лягушку». Он уже гордился этим русским старовером, с начисто выпотрошенным человеческим нутром. И тем не менее он продолжал явно бесполезное дело.
Пришло время ввести в игру главные козыри. Надо было завершить испытание неожиданным, оглушающим, ослепляющим выстрелом из пушки главного калибра,
И Картер сделал это, хотя вовсе не надеялся на эффект.
На Дунай медленно наползали легкие прозрачные сумерки. На его светлой, тихой поверхности, вырос неуклюжий короткотрубый чумазый буксир «Барбаросса». Шлепая по воде плицами огромных колес, он тяжело пробивался вверх по течению. Буксир тащил две плоскодонные, черные от угольной пыли баржи.
Картер кивнул на унылый караван головой, засмеялся:
— Смотри, Дорофей, жив курилка! Бар-ба-ро-сса!… А я думал, что немцы предали забвению этого древнего императора, не оправдавшего их надежд в войне с русскими. Удивительно! С громом и треском провалился «план Барбаросса», увлекая за собой миллионы немцев во главе с Геббельсом и Гиммлером, Гитлером и их генералами. И все-таки имя Барбаросса не наводит на немцев ужас.
«Белый» тоже засмеялся — охотно, во весь рот, громко.
— А это потому, что у них память короткая.
И эти слова и этот возбужденный смех с плохо скрытой злобой обрадовали Картера. Кажется, есть контакт.
— Да, память у них действительно короткая, — сказал он. — Еще западный Берлин лежит в развалинах, еще не сгнили березовые кресты на миллионах немецких могил, разбросанных по всему свету, а потомки Гитлера, его тайные и явные последователи мечтают о новом могуществе, о подводном флоте, атомных пушках, ракетной артиллерии, о генералах, стоящих во главе неокрестоносцев Европы.
«Белый» с удивлением, но не без одобрения взглянул на инспектора, хотел что-то сказать, но сдержался, промолчал.
Картер ясно почувствовал, что нащупал плохо защищенную, уязвимую позицию в круговой обороне дрессированной «лягушки», и пошел в решительную атаку.
— Слушай, Дорофей, как тебе нравится мой русский язык? Если бы ты не знал, кто я, принял бы меня по разговору за русского?
— Хорошо маскируетесь, мистер Кеннеди. Я знаю, кто вы, и все-таки мне кажется, что вы русский.
— Значит, ты считаешь, что я говорю по-русски, как русский? И тебя это не удивляет?
— А чего ж тут удивляться? Мало ли русских людей живет под чужими фамилиями? Своих земляков с турецкой, французской и даже арабской фамилиями довелось мне встречать и в Африке, и в Южной Америке, и в Штатах.
— А давно ты понял, что я русский с американской фамилией?
— Сразу, как вы только появились тут… Вы откуда родом?
— Пермяк, соленые уши.
— С Урала, значит. С Камы-реки. В американца когда перекрестились?
Картер медленно, прямо глядя в глаза «Белого», покачал головой.
— Не крестился. И не буду.
— Как так? Подданство у вас американское?
— Да, чин американский, а в душе я никогда не поддавался американцам. Был и есть и буду русским.
— Чудные вы речи говорите, мистер Кеннеди. Не понимаю, как американцы держат вас на таком высоком посту?
— А они ничего не знают. Перед тобой вот только разоткровенничался.
— А почему? Чем я заслужил ваше доверие?
— Себя в тебе увидел.
— Чего-чего?
— Понял, говорю, что ты такой же, как я.
— Ну, это вы далеко хватили. Какой я вам родственник?
— Да ты не бойся, Дорофей, давай потолкуем начистоту.
— А чего тут толковать? Все ясно.
— Нет, друг, не все тебе ясно. Ох, далеко не все!
— И не надо мне ясности. Ни к чему. Поедем, мистер инспектор, домой.
— Нет, ты должен знать, Дорофей. Для этого я тебя сюда и затащил. Не щетинься. Знаю, и ты ненавидишь этих… заокеанских живоглотов. Доллары у них в груди, а не сердце. Доллары их черт и бог. Ради доллара они залезли в Европу и на Дальний Восток, в Иран и в Турцию. Ради доллара и атомную бомбу сварганили. Во имя доллара и войну хотят начать. Правильно их Советы окрестили — поджигателями. Не в бровь, а в глаз. Мы с тобой хорошо знаем, что это так и есть. Истинные поджигатели! С разбойничьим факелом по всему миру мечутся.
На эту длинную тираду «Белый» откликнулся спокойной усмешкой:
— Мистер Кеннеди, за кого вы меня принимаете? Я же не Иван-дурачок.
— Эх, Дорофей! Дорофей!… Так тебя изувечили эти живоглоты, что ты потерял способность разбираться, где красное, а где черное. Опомнись, посмотри на себя! Кто ты? Во что они тебя превратили? Ч"м вооружили? Ты ж не человек, а лягушка, ночное существо. Ты способен только убивать и разрушать. Разве ты один такой в колледже? А сколько таких колледжей в так называемой зоне американского влияния!
— Мистер Кеннеди, зря вы разливаетесь передо мной соловьем. Туговат я на ухо, не слышу ваших песен. Понятно? А теперь поедем. Добром пока прошу, поедем!
— Постой!… Я не все сказал… Надоело мне тянуть эту лямку, прислуживать поджигателям. Плюнуть им в морду хочу, наотмашь рубануть и сбежать. Все ждал подходящего случая. И вот дождался!… На тебя возлагаю большие надежды. Как только переплывешь границу и попадешь на русский Дунай, сразу же держи курс на погранзаставу, потребуй разговора с глазу на глаз с начальником государственной безопасности. Есть у них такой… его кличка «Компетентное лицо». Доложи ему о себе, скажи, что решил добровольно перейти к Советам. А потом скажи следующее: майор Кеннеди, работник американской разведки, ищет связи с русской разведкой. Понял?
— Да вы что, господин инспектор? Хватит вам шутки шутить. Повеселились и довольно!
— Нет, я не шучу, Дорофей. Душа горит, потому и…
— Ум у вас загорелся.
— Посмотри на меня, друг!. Разве я похож на сумасшедшего? — Картер умолк. Лицо его было серьезно-скорбным. Глаза выражали печаль. Губы искривились в горькой улыбке.
— Если не сумасшедший, тогда вы…
— Ну, договаривай!
— Миноискатель.
— Кто?
— Мины, говорю, разыскиваете. И не там, где надо. Обмишурились. Холостой заряд. В чистом поле рыщете.
— Дорофей, да пойми же ты!… Не хочу я больше прислуживать всесветным хапугам. Не хочу быть орудием новой мировой войны. Не хочу плодить таких «лягушек», как ты.
— А я не хочу слушать ваших речей, господин хороший. Хватит, лопнуло мое терпение. Поедем домой! — Дорофей вскочил, грозно сжал кулаки.
Поднялся с примятой травы и Картер. Одернул белый свитер, расчесал взлохмаченные волосы, уничтожающим взглядом окинул с ног до головы подопытное существо и про себя восхищался им. Удивительно породистый экземпляр двуногого. Тело крупное, налитое бычьей силой, жесткое, будто скрученное из одних мускулов, длинные жилистые руки, пудовые кулаки. При таком размахе плеч, при такой необузданной силе этому человеку полагалось иметь разбойничьи глаза, черные, ночные, недобрые, а они у него светлые, почти голубые, с белесыми ресницами. Обманул он природу и лицом: нет в нем какого-либо намека на свирепость. Лицо ребенка-великана. С крепкими и ярко-румяными, как у Будды, скулами.
Агент, имеющий такую оболочку, далеко пойдет. Картер неохотно переключил свои мысли на другой лад, чтобы довести до конца начатую игру. Глубоко вздохнув, он сказал с сожалением:
— Ладно, поедем, жалкий трус! Черт с тобой, живи как хочешь, а я… Если ты вздумаешь помешать мне, если расскажешь, о чем я тут с тобой говорил, — берегись: мои друзья отомстят за меня.
— Я хоть и «лягушка», но не доносчик.
«Вот ты наконец и попался, голубчик!» — подумал Картер, и на какое-то время ему стало жаль превосходного притворщика.
Преждевременной была его жалость. Почти сразу же после прибытия на базу «Цуг шпитце» к инспектору явился начальник школы и со смехом поведал ему о том, как к нему прибежал «Белый» и доложил о крамольных речах русского инспектора. Посмеялся и Картер.
В тот же день судьба «Белого» была решена одним словом, начертанным экспертом: «Годен». Картер еще раз, теперь на японский лад, окрестил Дорофея Глебова «Камикадзе» — «Священный ветер».
В ВАШИНГТОНЕ
Во многих уголках земного шара установлены совершенные приборы, предсказывающие погоду, регистрирующие землетрясения, взрывы атомных и водородных бомб, предостерегающие людей от грозящих им бедствий — циклонов, тайфунов. В Европе, Америке, на Дальнем Востоке, в Африке, Австралии, Индии выходят многие тысячи книг, журналов, газет, претендующих быть зеркалом вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дней. И все же ни одно волшебное зеркало, ни один мудрейший прибор в летнюю ночь 1956 года не зарегистрировал ничего такого, что угрожало бы человечеству. Ни один газетный и политический пророк, знахарь или ученый не предсказал людям, что через несколько недель, в октябре, они подвергнутся величайшему испытанию. В эту ночь с закрытого военного аэродрома Южной Германии стартовал трансконтинентальный самолет с опознавательными знаками военно-воздушных сил США и ранним американским вечером достиг побережья Нового Света.
На борту «летающей крепости» находился со своей немногочисленной свитой весьма важный пассажир, настоящее имя и род занятий которого не были известны командиру корабля. По его облику нельзя было предположить, что он имеет какое-либо отношение к американским военным.
Он был в штатском: серый фланелевый костюм, белая рубашка с темным галстуком, черные ботинки на мягкой подошве, темно-серая шляпа и просторный дорожный макинтош.
На аэродром в Берхесгадене он прибыл в черном бронированном, наглухо зашторенном «кадиллаке». Вплотную подъехал к трату самолета и, не выходя из машины, выждал, пока будут сделаны последние приготовления к полету. Поднялся в самолет, когда уже были запущены и прогреты моторы, убраны из-под колес тормозные колодки.
Он занял просторный салон в центральной части «летающей крепости». К его услугам были два кресла, стол, диван, холодильник с напитками.
Было здесь, в салоне, и то, что обеспечивало полную безопасность высокой персоны даже в случае авиационной катастрофы: самый новейший автоматический парашют, аварийный сигнальный фонарик и, наконец, вырезанный из бычьего рога свисток, с помощью которого, в случае вынужденного купания в океане, можно отогнать чересчур любопытных акул.
Телохранители высокой персоны расположились в глубине самолета, в его хвостовой части. Герметическая прозрачная перегородка не позволяла им, обыкновенным смертным, дышать тем же воздухом, который вдыхал их шеф.
В течение всего полета над Европой и Атлантическим океаном он ел, пил свой коньяк, дремал, ощупывал тугую упаковку парашюта, читал, что-то записывал в толстую тетрадь в кожаном переплете, скучающе включал и выключал сигнальный фонарик, то и дело поглядывая на часы, вертел огромный глобус, стоящий перед ним на особом столике, задумчиво сосал роговой аварийный свисток и не удостаивал свою бдящую свиту ни единым словом и взглядом. Одиночество, отрешенность от людей, от их мелких дел он считал естественным состоянием для себя, высокой особы, которой доверены многие тайны современной политической жизни.
Он не покинул своего салона ни в Исландии, где самолет сделал кратковременную остановку для заправки горючим, ни в Канаде.
Это был генерал Артур Крапс, начальник европейского разведывательного центра, главного филиала американской шпионской службы. Своим ближайшим сотрудникам он был известен под кличкой «Бизон». В высших сферах США, в государственном департаменте, Пентагоне, канцелярии Белого дома его чаще всего называли Артуром.
Как он ни засекречивал свою персону и деятельность, все-таки о нем проведали пронырливые репортеры нью-йоркских газет, готовые продать родную мать за сногсшибательную новость. Во время беспорядков в Берлине они кое-что сообщили о Крапсе американским читателям. Правда, эти сообщения содержали лишь крупицу истины и не причинили никакого вреда «Бизону». Даже королям новостей не удалось установить ни настоящего имени, ни клички творца и руководителя берлинских событий. В своих заметках они называли его «человеком без лица», сочиняли о нем всякие небылицы, строили разного рода догадки. Лишь однажды почти вплотную приблизились к истине, поведав читателям о том, что беспорядками в восточном Берлине в июне 1953 года руководил «человек без лица», находившийся вместе со своим штабом в западном Берлине.
Артур Крапс немедленно принял меры, чтобы это сообщение толковалось с выгодой для его ведомства. В то время реакционные газеты были заполнены хроникой «берлинского бунта», так много обещавшего сильным мира сего, но, увы, не оправдавшего их надежд. На первой странице одной из газет, выходящей тиражом в пять миллионов, была напечатана статья собственного берлинского корреспондента, «проливавшая луч света» на жизнь таинственного «человека без лица». Оказывается, он был давним, заслуженным «лидером народов, борющихся за свободу. Имя свое он скрывал по причинам вполне понятным: на территории, контролируемой коммунистами, где-то в треугольнике Варшава — Прага — Будапешт, у него осталась семья: жена, дети, престарелая мать».
Этот же «человек без лица», или «летучий рыцарь свободы», как еще называли его американские газеты, будто бы появился и в Познани, когда там начались пожары, погромы и убийства.
Но на этот раз репортеры ошиблись. «Бизон» не был в Познани. Туда в свое время, и в достаточном количестве, были заброшены «люди закона Лоджа».
Командир корабля сдержанным, в высшей степени почтительным голосом сообщил Крапсу, что самолет приближается к Нью-Йорку. Он не ожидал услышать в ответ от высокого пассажира даже «о'кэй». Всю дорогу он докладывал ему, над какими пунктами земного шара проходит «летающая крепость», и всякий раз — как истукану. Но на этот раз пассажир нарушил длительное молчание. Он соизволил взять телефонную трубку и тихо, приглушенно, голосом человека, страдающего астмой, попросил пилота сделать три круга над Нью-Йорком.
— О'кэй, сэр! — откликнулся пилот. — Я немедленно потребую разрешения покружить над Нью-Йорком.
— Я всего-навсего прошу, майор…
— Слушаюсь, сэр.
Артур Крапс выключил свет в салоне, прильнул к иллюминатору.
Из глубин океана, из недр начинающейся американской ночи возникла бывшая вотчина герцога Йоркского, щедрый трофейный подарок английского короля Карла II, разбившего войска Голландии на американской земле.
«Как ты вырос с тех пор, Нью-Йорк! — думал Крапс. — Неоглядный. Сияющий. Чудо двадцатого века. Город городов. Ворота в Новый Свет. Вечный памятник энергии, неукротимой деловитости и мудрой смелости».
Артур Крапс, генерал, миллионер, командующий тайной армией, многое из того, что когда-то любил, предал забвению. И только Нью-Йорк, приют своего голодного и холодного детства, любил по-прежнему.
Нью-Йорк был источником благополучия Крапса. Как же мог он не любить этот город, как мог сдержать улыбку радости, когда Нью-Йорк предстал перед ним во всем блеске. После долгой разлуки с этим обетованным уголком американской земли Крапс острее почувствовал, как он ему дорог.
«Ах, Америка! Видя тебя каждый день, перестаешь замечать твое величие».
Первым в поле зрения Крапса вторгся остров Джон Бич: гигантский, с привозным песком пляж внутри подковообразной лагуны, плавучая, заякоренная сцена, амфитеатр на восемь тысяч мест, громадный парк, раскинувшийся на площади в тысячу гектаров. В сооружении этого чуда, воздвигнутого на пустыре, принимала участие одна из фирм, контролируемая капиталом Крапса, и потому он взглянул на остров, как на свою мамку-кормилицу, и тепло, благодарно подмигнул ему.
— Разрешение получено, сэр! — сообщил пилот.
Крапс не отрывался от иллюминатора.
«Летающая крепость», приглушив моторы, шла вдоль побережья. Нью-Йорк открывал «Бизону» свой океанский фасад: у самой кромки воды чернел молодой парк Баттерн, а за ним, на холмах поднимался утесистый, башенный, сверкающий, как тибетские ледники, остров Манхэттен, тот самый, который в 1626 году получил в обмен на дешевые побрякушки в свою собственность Питнер Минюйт, один из первых американцев.
Вспомнив об этом, Крапс усмехнулся. Всего двадцать четыре доллара стоил когда-то Манхэттен. А теперь ему цена — десятки и десятки миллиардов долларов. Европу, пожалуй, можно обменять на этот крошечный островок, окруженный бесчисленными пристанями (девятьсот километров причальных линий), соединенный с материком мостами, каждый из которых способен потрясти европейца, привыкшего к микроскопическим масштабам. Спаренные мосты… Комбинация мостов… «Триборо бридж» — гигантская вилка, соединяющая между собой три района. Ажурный, на четыре железнодорожные колеи мост Хелл-Гейт… Бруклинский мост, «восьмое чудо мира». Мост Джорджа Вашингтона — без промежуточных висящих опор, на крученых канатах, на которые истрачено сто семьдесят одна тысяча километров стальной проволоки. Бетонная река над обыкновенной рекой. В восемь рядов мчатся по ней машины. И здесь в тридцатые годы потрудился доллар «Бизона», оброс центами, удвоился, утроился.
Промелькнули устье Гудзона и клочок суши, островок Бедло. Отсюда, сверху, даже гигантская, высотою в девяносто два метра бронзовая француженка с факелом в руках. Статуя Свободы показалась игрушечной.
Сейчас же вслед за Бедло показался и другой остров — Эллис с его концлагерем.
«Летающая крепость» сделала плавный разворот, пошла на город, в лоб.
Реки Ист-Ривер, Гудзон, набережные, нагромождение небоскребов и среди них геркулесов столб, стодвухэтажный Эмпайр-Стэйт билдинг, увенчанный шпилем, телевизионной башней, тремя красными, вращающимися огнями — маяками. Протянулись с юга на север, строго прямые, как бы вырубленные в дремучей гуще домов, бесконечно длинные авеню. Их пересекают с востока на запад стриты. И только неугасимо сияющий огнями Бродвей прорезал Манхэттен по диагонали.
На дне глубокого ущелья, на Уолл-стрит, торчит скромный шпиль скромной церкви Святой Троицы. А дальше — небоскребы, небоскребы. Семьдесят семь этажей Крейслер билдинг. Тысячи окон Рокфеллеровского центра. Неуклюжая кирпичная пирамида Тюдор-Сити. Недоросль-небоскреб ООН (всего тридцать девять этажей), погруженный в темноту, отражающий в своем мраморе и стекле чужие огни.
И наконец, Центральный вокзал, а напротив — особо памятный для Крапса отель. Даже запах его коридоров и номеров помнит Артур. Много лет назад он служил под его крышей такси-боем, мальчиком на побегушках, получал на чай жалкие центы. Не думал он в то время, не гадал, кем ему суждено стать в пятьдесят пять, сколько у него будет долларов.
Возникли и пропали площадь Вашингтона и прилегающие к ней улицы.
Гигантский человечище, сделанный из фанеры, удобно устроившись на карнизе одного из домов-утесов, дымил сигаретой, величиной с оглоблю. Огненные буквы вспыхивали и гасли над ним: «Я курю только сигареты «Кемел».
Рекламный водопад «кока-кола» низвергался с небесной высоты на Нью-Йорк. Перемигивались зазывными опознавательными сигналами рестораны, спек-бары, кафе-тоны дракс [2].
Море огней осталось позади, и «летающая крепость» попала в затененную полосу города. Ни одного небоскреба. Приземистые дома. Это Гарлем, черная окраина Нью-Йорка, район негров. А вот и Бауэри. Здесь обитают не негры, а чистокровные американцы и русские, итальянцы и французы, греки и испанцы, голодные и оборванные. «Всякой твари по паре, — думает «Бизон». — Не умеют жить, нет истинно американской хватки. Счастье — это деньги. Деньги — это железные мускулы, глаза орла, хитрость лисы, собачий нюх».
— Сэр, какие будут приказания? — послышался голос пилота. — Еще круг сделать или можно ложиться на курс?
— На курс!
И снова безбрежный океан ночи раскинулся внизу. «Летающая крепость» набрала высоту, в полную силу моторов устремилась к столице, ни на одно мгновение не теряя из виду млечный путь наземной трассы аэролиния Нью-Йорк — Вашингтон. «И это Америка!… — улыбнулся Крапс. — Во всем мире электрический голод, а мы, американцы, позволяем себе прокладывать на земле огненный курс самолетов. Роскошь? Нет, это американский размах, американский стиль, американская щедрость».
Еще сто двадцать пять лет назад лучшие умы человечества восхищались американским образом жизни, противопоставляли его образу жизни Англии, Франция и особенно России. А ведь Россия тогда сияла и гремела. Тут сладостные, убаюкивающие размышления Артура Крапса были прерваны. Он вдруг услышал странно непочтительный голос:
— Сэр, внимание!
Крапс вздрогнул, и его рука невольно схватила аварийный противоакульный свисток.
— Сэр, не суетитесь! Я не боюсь этой штуковины.
Нет, это не голос пилота, не голос начальника охраны. Незнакомый. Чужой. И звучал он не в телефонной трубке, а здесь же, в глухом салоне, где Крапс был один, где не могло быть посторонних. Властный, вызывающе-независимый голос.
— Где вы? Кто вы? — спросил «Бизон».
— Для меня не существует ни замков, ни охраны, ни смерти, ни тайн.
«Бизон» набрал полную грудь воздуха, изо всей силы дунул в аварийный свисток. Но выдул лишь слабый стон. Столь беспомощным он бывал только во сне.
Послышался чей-то сдержанный веселый смех.
— Сэр, вас вооружили против акул, а я человек.
— Как вы сюда попали? Где же вы? — испуганно озираясь, спросил «Бизон».
В салоне ни единой души. В глубине самолета, в хвостовой его части, развалились в удобных креслах здоровенные, вооруженные до зубов телохранители. Стоит им дать сигнал, кивнуть, подмигнуть… «Бизон» раскрыл рот, чтобы закричать, но только судорожно зевнул. Что за чертовщина!
— Сэр, и это зря, — проговорил человек. — Ваши телохранители крепко спят. И вы спите. И потому бессильны.
— Что вам нужно? — прохрипел «Бизон».
— Сэр, я хочу поговорить с вами. О чем? Я подслушал ваши истинно американские мысли. Вы побледнели? У вас усиленное сердцебиение? Успокойтесь! Ваш портфель, набитый секретными документами, в безопасности. И вашей драгоценной оболочке ничто не угрожает. Видите, в моих руках нет ни дубины, ни кольта, ни ампулы с ядом, ни атомного пистолета. Я вооружен только правдой. Итак, я подслушал ваши ночные мысли и хочу с вами поспорить.
— Поспорить? Любопытно! Что ж, не возражаю. Со мной уже давно никто не спорит. Все почему-то сразу соглашаются со всем, что я говорю, даже если это явная глупость. Ну, так о чем же мы будем спорить?
— Поспорим об Америке и американцах, — сказал невидимка.
— С удовольствием! На этом поприще я никогда не был побежденным. Откуда вы? Кто? Разумеется, не американец, раз не соглашаетесь с моими мыслями. Конечно русский! А может быть, привидение? — Крапс уже до того освоился с необыкновенным своим положением, что позволил себе эту шутку.
— Не привидение. И не русский. Родился в Америке. Чистокровный американец на все сто процентов. Вырос на американской земле. И все же не такой американец, как вы, Артур Крапс. Сэр, я безыменный американец, один из тех, кого любят называть простым парнем, прямым наследником Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Вы, кажется, обрадовались? Еще бы! Сильные мира сего любят иметь дело с простыми парнями: они такие покорные солдаты, такие покладистые рабочие, так высоко чтят доллар, звездный флаг, Белый дом, Статую Свободы, так преданы американскому образу жизни!… И я долго был таким. Был!… До тех пор пока не вооружился правдой истории. Итак, я простой американский парень, знающий историю Америки… Вас это не пугает? Ах, вы тоже знаете историю и готовы скрестить со мной оружие? Согласен! Скажите, сэр, на каком основании, во имя чего Соединенные Штаты Америки тратят львиную долю своего бюджета на военные расходы?
«Бизон» усмехнулся. До чего же неуклюже размахнулся противник, чтобы нанести свой первый удар.
— Мы тратим миллиарды.долларов во имя исполнения программы взаимного обеспечения безопасности.
— Взаимное обеспечение безопасности?! Не понимаю. Словесный туман. Тарабарщина. Шаманское заклинание. О какой опасности идет речь? Кто и откуда угрожает Штатам? Кого мы обеспечиваем? Просят нас, об этом или мы навязываем с «позиции силы» это обеспечение? И кому по плечу обеспечить такую страну, как наша? «Взаимное обеспечение!…» Смешно.
— Вы слишком много задали вопросов, простой парень Америки. Кем и чем продиктованы они?
— Нет, сэр! Это всего лишь один вопрос. И продиктован он любовью к Америке и всему миру. Я не понимаю, что такое «взаимное обеспечение безопасности». Не понимают этого и миллионы американцев. Днем и ночью по радио и телевидению, в кино и газетах трубят об этом, а мы все равно ничего не понимаем.
Крапс сокрушенно покачал головой, тяжко вздохнул.
— И мне и моему правительству известно ваше тугодумство. К сожалению, большинство американцев не принимает близко к сердцу нашу программу. Это величайший недостаток американского народа. Равнодушие к судьбам своей родины. Тупое безразличие. Халатность. Психология страуса. И даже, если хотите, утрата американского духа. Рядовой американец не так щедро, как нам хотелось бы, расплачивается за программу взаимного обеспечения безопасности. И потому президенту и его министрам часто приходится выступать публично, чтобы поднять акции нашей программы.
— Увы, это, кажется, мало помогает. Нет охотников платить доверием за ваш панический страх перед коммунизмом.
— Но мы себя утешаем тем, что великое не сразу воспринимается малым. Даже Иисуса Христа, сына божьего, люди не сразу поняли. Но мы твердо уверены, что Богу угодно выполнение нашей программы. С нами бог!
— Интересно, а был Он с вами, когда вы бросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки?
— Простите, мы уклонились. Вернемся к рядовому американцу. Да, Он нас пока не до конца понимает. Данное обстоятельство нас нисколько не смущает. Государственные деятели Америки обладают терпением, долбящим гранитный камень. Рано или поздно мы добьемся своего. Мы уже и теперь немалого добились. Сейчас наша страна расходует десятки миллиардов долларов в год для сохранения ее позиций и безопасности в мире. Из наших миллиардов воздвигнута плотина на пути коммунистического потока. Ареной коммунистической агрессии является весь мир. Но усилия коммунистической диктатуры направлены прежде всего в сторону самых слабых стран, самых беззащитных. Вспомните свободную, но слабую Корею. Вспомните бедный Вьетнам, разделенный на северную и южную части.
— Помню, сэр, помню! Я внимательно читал это выступление Эйзенхауэра и слежу за развитием вашей мысли. Продолжайте.
— Благодарю. — Крапс улыбнулся, кивнул собеседнику. — «Факт, который мы игнорируем с опасностью для себя, заключается в том, что, если агрессия или подрывная деятельность против более слабых свободных стран увенчается рядом последовательных побед, коммунизм захватит шаг за шагом некогда свободные районы. Опасность будет становиться все более угрожающей даже для самых сильных. Свобода поистине неделима. И потому что она неделима, мы посылаем своих парней, и миллиарды долларов, и управляемые снаряды, и атомные пушки в Турцию и Пакистан, в Италию и Западную Германию, в Англию и Вьетнам».
— Скажите, сэр, а на каком основании Штаты перенесли двенадцатимиллионный Вьетнам на остров Манхэттен? Разве конгресс и сенат спрашивали на это согласие Вьетнама?
— Нет, разумеется, но… Высокий моральный авторитет Штатов, наш золотой запас, материальные ценности, накопленные нами, и, наконец, наша военная сила дают нам законное право…
— Вот, вот! Сила, прежде всего сила, а не моральное право. Соединенные Штаты Америки не имеют никакого морального права выступать в роли поборника свободы. Это оскорбление и свободы и истории. Да, да! Статуя Свободы, воздвигнутая перед Нью-Йорком, — величайший подлог, лицемерие, фальш, маска, прикрывающая американскую правду, кровь и рабство, варварскую жестокость, человеконенавистничество, прямой бандитизм, пиратство, колониализм в его чистом виде. Вы, сэр, гордитесь тем, что ваш прапрадед в числе первых англосаксов прибыл к берегам Америки на «Майф-лауэре», что он заложил первый камень в здание, именуемое США.
Но ведь вы и ваше «просвещение» изо всех сил стараетесь скрыть и от школьников, и от студентов, и от всех американцев, что первопроходчики Америки были всего-навсего коммивояжерами нарождающегося капитализма. Легенда утверждает, что королева Изабелла для того, чтобы снарядить в экспедицию корабли Колумба, заложила фамильные драгоценности. Чепуха! Корабли Колумба принадлежали палосским купцам. Они же, палосские купцы, снабдили Колумба деньгами и продуктами. Почему они это сделали? Чуяли запах индийского золота. Купец не потратит ни гроша, если не надеется получить на него сто или хотя бы десять. Христофор Колумб соблазнял правителей Венеции, Генуи, Флоренции золотыми миражами, жемчугами Эльдорадо, «семью городами Сиболы». У тех глаза, конечно, разгорелись, но мошна была тонка. Тогда Колумб стал соблазнять теми же золотыми миражами английского короля Генриха Седьмого. Но и он не раскошелился — Англия была разорена тридцатилетней Войной Алой и Белой розы. Португальский король Иоанн Второй кое-что пообещал сладкоречивому генуэзцу, но надул его, тайно отправив в страну золотых чудес собственную экспедицию. Раскошелились перед Колумбом только богатые испанские купцы, искавшие приложения своих капиталов. Сэр, внимание… И, знаете, какие речи в то время произносились в Испании, во дворце Фердинанда и Изабеллы, в домах купцов? Они звучали почти так же высокопарно, как ваша ода в честь Южного Вьетнама. Во имя процветания великой, свободной Испании — вперед, Колумб, в сказочное Эльдорадо!… Во имя святого папы, наместника Бога на земле, — руби и коли, сжигай и убивай, крести, обращай в истинную веру варваров!… Во Имя свободы убивать и грабить, во имя безопасности золотого дуката наместник Бога на земле папа Александр Шестой разделил своим указом Новый Свет между Испанией и Португалией. А некоторое время спустя к берегам Америки ринулся капитал Англии, Франции, Голландии. Объединенные крестом и мечом конкистадоры свирепствовали в Новом Свете. Грабили, жгли, убивали, обогащались, прославляли цивилизацию, трубили о процветании. Открыв Новый Свет для дуката и франка, пезеты и фунта стерлингов, для учения Христова, для «просвещенной» Европы, они закрыли Америку для истинных американцев. Еще до рождения Колумба в Америке жили индейцы от Аляски до мыса Горн. Их было много — это доказано наукой — десятки миллионов.
У индейцев были великолепно возделанные пашни, просторные жилища, изумительные дороги, не хуже дорог Древнего Рима. Было высокое чувство чести, человеческого достоинства. Им неведомы были нищета, болезни просвещенных европейцев, скотское отношение к женщинам. Они не обрекали стариков на голодную смерть и одиночество, а детей — на жестокую эксплуатацию. Они поклонялись солнцу и луне, любили красоту: Еще и поныне мир изумляют их художественные произведения. Это о них, о своих современниках, истинных хозяевах Америки, Христофор Колумб писал впоследствии: «Когда мы у них чего-нибудь просим, они не отказывают нам ни в чем, наоборот, они сами делятся своим достоянием со всяким и проявляют к нам такую любовь, словно готовы отдать и свои сердца». И этим людям, взамен их сердец, вы дали неизвестные им ранее болезни: желтую лихорадку, малярию, бубонную чуму, холеру, оспу, коклюш, туберкулез, сифилис, алкоголь, кривду, лицемерие, коварство, человеконенавистничество. Но и это не все. С красивым, здоровым, молодым народом Америки древняя просвещенная Европа разговаривала языком разбойников с большой дороги. Испанский король Фердинанд откровенно сформулировал в своем «Предписании» то, что теперь маскируют натовскими и сеатовскими фразами: «Свобода человеческой личности, взаимная безопасность»… Такова была утренняя заря капиталистической эры производства.
— И все-таки — не ночь, не мрак, а утренняя заря!… — «Бизон» щелкнул пальцами, засмеялся так весело, что на мгновение заглушил гул четырех моторов «летающей крепости».
Простой парень подождал и, когда «первый американец» перестал смеяться, сказал:
— Кровавое зарево этой утренней зари на протяжении веков не потухает над Америкой, и особенно над заповедным полем охоты на чернокожих. Корни американского благополучия уходят глубоко в почву африканского континента. Негры, их кровь, их пот, их кости — вот пьедестал Статуи Свободы, фундамент Нью-Йорка, Чикаго и Белого дома. Оглянитесь на свое прошлое, сэр! Сотни европейских компаний, с ведома и благословения правительств и церкви и вашей философии, торговали неграми Африки. Тысячи специальных кораблей, управляемых капитанами-пиратами, курсировали между Черным континентом и Новым Светом, доставляли дешевую рабочую силу — рабов, которых вы называли «черной слоновой костью». Англичане разбогатели прежде всего на доставке рабов в Америку. Плохо было рабам на всем американском материке. Но особенно тяжкой была доля тех, кто жил на территории Соединенных Штатов. Каждый белый американец имел право своим судом судить черного американца. Каждый белый имел право казнить черного. Таковы корни вашей программы «взаимного обеспечения безопасности». Взаимная выручка грабителей и убийц. Кровавый и грязный американский доллар омолаживает английский фунт, пораженный старческим недугом, проклятый поколениями колониальных рабов. Униженный, тоскующий о былом величии французский франк, франк Шарля де Голля, спешит в объятия реваншистской аденауэровской марке. Деньга деньгу спасает. Владельцы когда-то баснословно прибыльных заводов и шахт на юге России «Унион», «ЮЗ», «Ла берт», «Борос», «Провиданс», изгнанные в октябре тысяча девятьсот семнадцатого года с русской земли, спешат на помощь владельцам акций Суэцкой компании, угрожают Египту истребительной войной.
«Первый американец» демонстративно зевал, жмурился, жевал резинку, смотрел в окно.
— Вам скучно, сэр? Сочувствую! Что ж, я сейчас вас развлеку. Скажите, зачем вас вызвали в Вашингтон?
— Ну, знаете…
— Понимаю! Великая тайна. Но я, между прочим, проведал о ней. В Вашингтоне будет обсуждаться операция под кодированным названием «Проблема номер один».
— С нами Бог! — воскликнул «Бизон» и обеими руками схватился за портфель. — Не может быть! Операция «Проблема номер один» глубоко зашифрована, охраняется всеми видами секретной службы США.
— И все-таки… Ваш так называемый Комитет политического планирования, комитет сильных мира сего, мозговой трест мудрецов, оракулов двадцатого века, выработал на тысяча девятьсот пятьдесят шестой год «Проблему номер один». Каково ее содержание? Кратко говоря, это ряд контрмер, направленных против решений и духа двадцатого съезда Коммунистической партии Советского Союза.
— О!… — простонал «первый американец».
— «Проблема номер один» — это попытка подорвать доброе влияние, которое оказано на людей всего мира Двадцатым съездом. «Проблема номер один» — это тайный плацдарм горячей войны, созданный вами по поручению Вашингтона на берегах Дуная, в Венгрии.
— Тише, умоляю!… — зашептал «Бизон». — Меня посадят на электрический стул, если станет известно, что эта тайна перестала быть тайной.
— Вы послали в Вашингтон специальный доклад о том, как вы намерены претворить в жизнь «Проблему номер один». Вы уже сконцентрировали свою тайную армию на исходных позициях. Вы собираетесь нанести удар по самому слабому, как вам кажется, звену коммунистической цепи. Вы надеетесь, что удар будет такой силы, что коммунистический мир затрещит по швам. Вы все рассчитали, сэр. Все, кроме одного…
— Чего? Чего я не предусмотрел? Говорите!
— Коммунистическая цепь находится под током высокого напряжения. Прикоснитесь к ней — и вы превратитесь в уголь. Осторожно, сэр!
И после этих слов простой парень Америки, такой серьезный, строгий, рассмеялся.
Так, со смехом, и растаял, исчез, оставив своего собеседника в одиночестве.
Оставшись один, «первый американец» открыл глаза, встряхнул головой, отрезвел, снова стал Артуром Крапсом, «Бизоном» и понял, что пребывал в кошмарной власти сна.
Сон, только сон!… Слава богу.
— Вашингтон, — возвестил пилот.
Самолет приземлился на бетонной крестовине. Но к аэровокзалу не пошел, свернул на боковую дорогу, за линию посадочных огней, заскрипел тормозными колодками. И в тот же момент из темноты вынырнул приземистый, тяжелый «паккард» и остановился в двух шагах от «летающей крепости».
По ступенькам корабельного трапа Артур Крапс сошел на травяное росистое поле аэродрома. Человек в штатском выскочил из стоявшего тут же «паккарда», распахнул дверцу. «Бизон» опустился на заднее сиденье, положил портфель на колени. Человек сел впереди, рядом с шофером. Обернувшись, тихо сказал:
— Сэр, вас ждут. Вы готовы?
«Бизона» слегка подташнивало, барабанные перепонки все еще ощущали тупое давление высоты, еще свеж был кошмарный сон, но он бодро ответил:
— Готов.
— Превосходно. Поехали!
К счастью, по дороге от аэропорта к Вашингтону морская болезнь почти прошла, и Артур Крапс повеселел. Повеселел настолько, что стал самим собой. Глядя из окна машины на вашингтонские улицы, на тротуары, заполненные потоками безликих, никуда не торопящихся людей, наслаждающихся ночной прохладой, он усмехнулся. «Когда-то и я был таким неприметным, ничтожным, тротуарным пешеходом. И был бы и поныне, если бы не счастливый случай, давший мне возможность показать, какова моя истинная цена. Боже мой, как это ужасно — быть жалким винтиком, песчинкой в неоглядной пустыне. Слепой, глухой, ничего не решаешь. Знаешь только то, что печатают газеты. Делаешь только то, что приказывает твой шеф…»
«Бизон» передернул толстыми плечами, засмеялся. Сопровождавший его человек вопросительно взглянул на генерала, но не удостоился ответа.
Шеф всей американской разведки Аллен Даллес ожидал Артура Крапса не один. Рядом с ним, за длинным зеркально-темным столом, подчеркнуто строгим, совсем пустым, даже без пепельницы и сифона с содовой, сидели еще три самых влиятельных человека США — Джон Фостер Даллес, Чарльз Вильсон и мистер Ге. Позади них, в углу не очень просторного кабинета покоилось огромное полотнище звездного флага, туго навернутое на древко и перехваченное тесемками. В простенках между окнами — скромные портреты Вашингтона, Линкольна. Простые стулья вдоль дубовых панелей. В окна виден купол Капитолия.
Артур Крапс сам был миллионером и важной персоной. Но как он мал по сравнению с этими китами! Каждый из них стоит миллиарды долларов.
Мистер Ге — высокий, сухой, сутулый. В кулуарах Белого дома его называют «Летучий голландец». Он по нескольку раз в году появляется в Париже, Лондоне, Риме, Анкаре, Токио, Карачи, Бонне. И всюду почтительно замирают перед ним императоры, короли, премьеры. А как же! Специальный помощник президента США. Глава Управления экономического сотрудничества с Европой. Глава Управления взаимного обеспечения безопасности. Душа и мозг, мотор и главная рабочая рука крупнейшего в Америке, и стало быть в мире, банкирского дома. Наследник и полновластный председатель правления железнодорожной компании. Член правления еще пяти других компаний. Владелец львиной доли акций медной корпорации «Анаконда». Выжимает долларовый сок из прибылей многих авиационных, судостроительных, пароходных компаний. Держит в своих руках тысячи рычагов американской экономики. Будучи делегатом на Потсдамской конференции, проявил величайшую дальновидность, которой гордится теперь по праву: беседуя с Форрестолом, тогдашним военным министром, сокрушался, что Гитлер проиграл войну, что открыл коммунизму ворота в Восточную Европу, в Азию.
Справа от мистера Ге — главный пожиратель долларов Чарльз Вильсон — министр обороны. Его ведомство тратит на вооружение ежегодно 50 миллиардов долларов, 63 процента расходной части бюджета. Независимо от того, кто будет президентом, демократ или республиканец, Чарльз Вильсон останется гласным или негласным хозяином Пентагона, ибо он президент могущественнейшей военно-промышленной корпорации «Дженерал моторс».
Рядом с Вильсоном — грузный человек в черном пиджаке, в белоснежной рубашке, повязанный черным галстуком — Джон Фостер Даллес. Его лицо, лицо пастора, иссечено глубокими морщинами. В углах рта желтые складки, оттянутые книзу. Тщательная прическа. Тяжелые очки в роговой оправе прикрывают скучающие сонные глаза.
В прошлом он — адвокат. Был специальным советником президента Вильсона на мирной конференции в Версале. Вместе с германским банковским воротилой Шахтом и американским финансовым тузом Дауэсом вырабатывал знаменитый план репараций с побежденной Германии.
В 1940 году Фостер Даллес возглавил юридическую фирму «Салливэн энд Кромвэлл». Ее контора размещалась в золотом ущелье Нью-Йорка, Уолл-стрит, 48. Клиентами адвокатской конторы Даллеса были только долларовые мудрецы, имеющие ключи к великим тайнам бизнеса, миллиардеры Рокфеллер, Морган, Дюпон и им подобные. Фирма Даллеса оздоровляла финансы Польши в то время, когда там правил диктатор Пилсудский. Джон Фостер Даллес и его адвокаты ставили на ноги лежавшие в грязи инфляции пезеты испанского диктатора Франко и форинты венгерского диктатора сухопутного адмирала Хорти. Джон Фостер Даллес!… Восхищался диктатором Муссолини. Одобрял разбой Гитлера. Был директором компании «Интернейшнл никель» и председателем правления знаменитого «Рокфеллеровского фонда». Автор книги «Мир и перемены» — политической библии империалистов США. Накануне войны в Корее инспектировал войска Ли Сын-мана на 38-й параллели. Закладывал первые, камни в фундамент политики «с позиции силы». Образцовый, рьяный католик. Никогда не расстается с карманным, в кожаной рубашке Евангелием. Любит размахивать, словно кадилом, водородной бомбой. Истый американец, но его почему-то не любят даже работающие с ним локоть о локоть единомышленники. Бывший министр внутренних дел Гарольд Икс как-то во всеуслышание сказал о нем: «Джон Фостер Даллес — сукин сын».
Джон Фостер Даллес и Чарльз Вильсон сидели рядом. Они всегда рядом. Два кита, на хребте которых держится внешняя политика США. Работают синхронно, взаимно поддерживая друг друга. Даллес создает в мире обстановку холодной войны, пугает Америку и ее друзей коммунизмом, атеистической диктатурой, утратой свободы личности, призывает вооружаться, добивается от конгрессменов и сенаторов миллиардных ассигнований. Чарльз Вильсон, получив пятьдесят миллиардов долларов, распределяет военные заказы между своими соратниками — королями компании по производству моторов, самолетов, кораблей, угля, нефти. Их, этих королей, не надо долго искать. Они тут же, под боком, в Белом доме. Члены правительства Айка по совместительству занимают посты в 86 крупнейших финансово-промышленных корпорациях. Двуликие американцы: банкиры и министры, промышленники и государственные советники, торговцы и послы.
Младший Даллес, Аллен, тоже банкир. В годы Второй мировой войны жил в Швейцарии под видом американского дельца, возлюбившего высокогорный воздух Альп. В действительности же он руководил европейским центром американской разведывательной службы, был предшественником Артура Крапса,
После взаимных приветственных восклицаний, вопросов и ответов, обычных для людей, долго не видавших друг друга, четверо больших боссов и пятый, чуть поменьше, заняли свои места за столом и начали разговор. О, если бы слышали люди, о чем здесь говорилось!… Будь Бог на небе, он бы немедленно отступился от братьев Даллес и К°.
Первым слово взял Даллес-старший. Тусклыми, неживыми глазами он пристально разглядывал сквозь выпуклые стекла очков «Бизона» и говорил глухим старческим голосом:
— Мы тщательно ознакомились с вашим проектом. На наш взгляд, то, что вы наметили, поможет обеспечить претворение в жизнь «Проблемы номер один». Но, естественно, у нас есть ряд вопросов и поправок. Прежде всего — доллары. Вы считаете, что операция будет стоить тридцать миллионов. Так?
— Так! Если это много, я согласен пересмотреть.
— Нет, это не много. Мало! Очень мало! Мы повышаем цену операции до пятидесяти миллионов долларов! — Даллес-старший при этих словах так оживился и так резко, так вдохновенно взмахнул рукой, что жестяной твердости манжета его рубашки высунулась из пиджачного рукава и почти закрыла подагрические, с белыми крупными ногтями пальцы. — Вы просите, чтобы вам помогали два соединения «людей закона Лоджа». А мы отдаем в полное ваше распоряжение дюжину таких соединений. Вот их список, познакомьтесь. — Даллес положил перед «Бизоном» лист бумаги, пригвоздил его кулаком, улыбнулся бескровными желтыми губами. — На этот раз вы оказались чересчур скромны.
Чарльз Вильсон закивал головой. Мистер Ге лишь устало прикрыл глаза в знак одобрения слов государственного секретаря. Аллен Даллес перебирал тяжелые черные четки — верный признак хорошего расположения духа.
— Все министры, все наши штабы будут вам помогать, — продолжал Даллес-старший. — Короче говоря, у вас чрезвычайные полномочия. В соответствии с этим и расширяйте свой проект. Масштабность! Смелость! Дерзость! Действуйте без оглядки. Вспомните, что сделал Кортес, высадившись на мексиканском побережье! Он сжег все корабли, эскадры, отрезал и себе и своей армии путь отступления. Повторяю, действуйте без оглядки.
Мистер Ге улыбнулся, скрывая брезгливость, вызванную неуместной декламацией Даллеса-старшего.
— Джо, а не слишком ли вы того… Плох тот солдат, который, врываясь в расположение противника, не оглядывается, не ищет выгодных позиций и сообщников. — Помощник президента легко, ловко, будто сидел на вертящемся стуле, всем корпусом повернулся к «Бизону». — Артур, у меня есть вопрос! Достаточно ли у вас людей в Будапеште, Дебрецене, Мишкольце и в других крупных городах Венгрии?
— Да. Вполне, — отвечал, не задумываясь, «Бизон». — И все уже занимают заранее подготовленные позиции.
— Не мало времени у вас для подготовки? — спросил Чарльз Вильсон.
— Успеем! Мы предусмотрели все, что человек в силах предусмотреть. Ручаюсь, моя машина сработает точно в срок, точно по задуманному плану.
Даллес-младший, Вильсон и мистер Ге засыпали Крапса вопросами.
Даллес-старший хранил молчание. Он успел сказать все, что хотел. Теперь сидел неподвижно. Его потухший взгляд, тяжелые кисти рук, благочестиво соединенные на животе, угрюмое достоинство его лица и чуть склоненная к правому плечу голова свидетельствовали о том, что он уже отдалился от предмета разговора, приблизился к небу, ведет мысленную беседу с богом.
Отвечая на вопросы, «Бизон» невольно то и дело обращал свой взгляд на государственного секретаря.
Будучи человеком наблюдательным, «Бизон» вдруг увидал такое, чего раньше не замечал, не чувствовал в облике неумолимого, неугомонного борца против коммунизма, борца номер один.
Все на Джоне Фостере Даллесе было в высшей степени добротным, свежим, дорогим, сделанным золоторукими мастерами портняжных, сапожных, галантерейных и ювелирных дел: башмаки, брюки, рубашка, запонки, кольца, часы, галстук. Но все, что было истинным Даллесом, — одряхлело, отжило свой век. Такие глаза, как у Даллеса-старшего, бывают только у людей, уже стоящих одной ногой в могиле — обращены внутрь себя, рассматривают свои неисчислимые немощи, завидуют всему живому.
«Бизон» учтиво отвел взгляд от Даллеса-старшего и отдал все свои сердечные симпатии мистеру Ге. Этот моложе, перспективнее. Во всяком случае, на него можно смотреть без страшных мыслей о том, какая тебе участь уготована через три — пять лет, о том, что и тебя может источить рак.
Отдохнув в молчании, в молитвах Богу, Даллес-старший обрел силы. В тишине кабинета снова зазвучал его хрипловатый, привыкший изрекать только высшую мудрость голос:
— Имейте в виду, Артур: каковы бы ни были результаты операции, мы все равно будем в выигрыше. Победим мы в любом случае, останется красная звезда в Будапеште или ее вышибут оттуда «люди закона Лоджа». Нашу победу мы можем сравнить только с той, которую мы в свое время одержали в Хиросиме и Нагасаки. Да! Венгерская бомба взорвется подобно первой атомной…
Долго еще заседали «первые американцы» в ту ночь.
А в Будапеште в тот момент, когда для него готовили в Вашингтоне бомбу, был день — сияло солнце, тысячи и тысячи венгров блаженствовали на берегу Дуная: купались, загорали на пляже, бродили по горам и лесам Буды.
Созрел виноград на солнечных склонах Токая.
Безмятежно катила свои воды полная до краев Тисса. Мирно дымили трубы Чепеля.
Были теплые тихие дни, и невидимо надвигалась на Будапешт осень.
Тихо и тепло было и у восточных границ Венгрии, в горах, откуда приходит на венгерскую равнину Тисса, — в Закарпатье.
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ РАНДОЛЬФА КАРТЕРА
Сейчас же после выезда генерала Крапса с важной миссией в Вашингтон, Картер получил кратковременный отпуск. Неожиданный, внеочередной. Это была щедрая награда шефа за плодотворные труды Картера в «Отделе тайных операций». Завершена огромная работа. Она началась ранней весной, длилась все лето и потребовала серьезного напряжения сил лучших мастеров европейского филиала Центрального разведывательного управления. У нее скромное кодовое название «Проблема номер один».
Доля Рандольфа Картера в этой масштабной, тщательно продуманной акции, которой скоро суждено претвориться в жизнь, потрясти мир, была сравнительно невелика, однако он гордился тем, что сделал. Мал золотник, да дорог. Одна строка этой операции стоит пухлого тома прошлой истории холодной войны.
Картер решил погулять в Дании, Голландии, Италии, Испании, Франции — шеф не пожалел долларов.
На другой день, проводив генерала, он покинул Мюнхен. Через несколько часов полета «каравелла» опустилась в Дании, на аэродроме Каструп, самом оживленном перекрестке международных авиалиний. Гигантский аэровокзал — легкий белоснежный бетон, зеркальное стекло, цветная пластика — главный аэровокзал Скандинавии, буквально кишит людьми, ждущими посадки на самолеты, улетающие во все концы света.
Подхваченный людской волной, Картер медленно побрел по аэровокзалу. Смотрел и наслаждался. Он никуда не спешил.
Земной храм воздушных пассажиров полон сдержанного гула человеческих голосов. Кажется, что все присутствующие бормочут молитвы. И каждый молится своему богу. Путешественники всех цветов и оттенков — желтые и черные, коричневые и белые, японцы и испанцы, бразильцы и новозеландцы, канадцы и австрийцы, шумные, веселые парижане и молчаливые, серьезные англичане. В руках у пассажиров только сумки и портфели, пледы и шубы, упрятанные в прозрачные нейлоновые мешки. Некоторых сопровождают раскормленные, вымытые и надушенные псы в намордниках и крошечные косматые песики в попонах, с бантиками на шее.
Стороной, по особой аэровокзальной дороге, на конвейерных лентах чинно движутся ряды чемоданов, сундуков, саквояжей, облепленных разноцветными ярлыками отелей всех пяти частей света.
То и дело проносятся на детских самокатах, ловко отталкиваясь туфелькой, одаряя пассажиров очаровательными улыбками, прехорошенькие датчанки, облаченные в униформу компании SAS.
Почти не умолкают радиодикторы. На английском, французском, немецком, испанском языках сообщается о прибытии самолетов из Рейкьявика и Парижа, Праги и Москвы, Рима и Мадрида, Дели и Токио, Анкары и Каира или объявляется о посадке в «каравеллы», следующие в США, Африку, Индию.
Картер жадно, полной грудью вдохнул ветер дальних странствий, как бы покружился на ярко раскрашенном глобусе и почувствовал себя человеком всех широт. О том, что он босс «Отдела тайных операций», ни разу не вспомнил.
Увы, ему недолго суждено было пребывать в таком состоянии.
Перед тем как покинуть аэродром, Картер несколько минут поблаженствовал в баре. Курил, пил прославленное карлсбергское пиво и составлял программу своего однодневного пребывания в Копенгагене — скандинавском Париже. Остановится в отеле «Три сокола». Позавтракает, возьмет машину и поедет в Кронберг, в замок, стоящий на берегу пролива Зунд, разделяющего Данию и Швецию. Там будто бы томился шекспировский Гамлет. Вернется домой к обеду, закажет билет на ночной самолет в Гаагу. Вечером пойдет в Тиволи, в самое веселое заведение Копенгагена. Пошумит за кружкой пива и порцией ярко-красных сосисок в кругу студентов, пирующих в знаменитом кабачке «У парома» на берегу пруда, в котором отражаются огни фейерверка.
Приятные размышления Картера были прерваны. Он вдруг почувствовал на себе чей-то пытливый взгляд и вынужден был вспомнить, что он не простой смертный, а деятель важнейшего управления американской разведки. Чем же он привлек к себе внимание и, главное, чье?
Картер осторожно оглянулся, скучающе-сонными глазами поискал источник своей тревоги.
Люди, сидящие неподалеку, за соседними столиками, не обращали на него внимания. Для них он не существовал. И тот одинокий, сгорбившийся, седой, с красными ушами джентльмен, что восседает на высоком табурете у стойки бармена, тоже не подозревает о его существовании. У спины нет глаз.
Картер успокоился. Ложная тревога. Однако на всякий случай он расплатился и покинул бар.
Пока пробирался сквозь толпу пассажиров к выходу, успел забыть об этом маленьком событии.
Садясь в такси, он вынужден был вспомнить о нем. Ему показалось, что в людском потоке, перед дверью вестибюля, промелькнула седая, с красными ушами голова джентльмена, восседавшего несколько минут назад на вертящемся табурете бара.
Почему слежка? Кто следит? Картер безжалостно разрушил свой датский план, обещавший столько удовольствий. В отель «Три сокола» он не поехал. Направился в генеральное сасовское агентство, заказал билет на первый самолет, улетающий в Голландию.
Граница любой страны распахнута перед паспортом, проштемпелеванным орлиной печатью США. Без всякой визы можешь раскатывать по Западной Европе, тратить свои доллары.
В самолете, летящем в Амстердам, Картер не обнаружил опасного джентльмена с седой головой и красными ушами.
Вместо копенгагенского завтрака Картеру пришлось съесть сасовский, входящий в стоимость билета,
В Голландии Картер прожил сутки без всяких треволнений, с чистым удовольствием. Обедал в одной столице, в Амстердаме, ужинал в другой — в Гааге, развлекался в ночных кабаках Роттердама, ночевал на берегу Северного моря, в курортном отеле «Золотой жук». Потом перебрался в Испанию и Италию. Два дня упивался корридой в Барселоне, один вечер прокутил в Мадриде с дорогой, но зато похожей на настоящую Кармен испанкой. В жарком Риме жадно хватал все доступные доллару удовольствия. Был в соборе Святого Петра. Взбирался по крутой каменной лестнице на Капитолийский холм. Прохлаждался в тени Колизея. Пил «Мартини» в фешенебельных ресторанах и дешевых тратториях. Пользовался любовью какой-то Анжелы, не патриотично настроенной по отношению к Италии: при расплате она ни за что не захотела брать лиры, потребовала зеленые заокеанские бумажки.
Картер был неутомим в своей увеселительной прогулке по Европе. Пил, ел, кутил и все никак не мог утолить жажду. И ни разу дурное предчувствие не кольнуло его сердце, не промелькнула ни на одно мгновение мысль, что это пир во время чумы, прощание с жизнью под грохот ярмарочных барабанов, под утробный смех купленных принцесс.
Последние дни отпуска Картер решил провести во Франции. Два солнечных дня валялся на Лазурном берегу, купался, нырял, носился на яхте.
Вечером хладнокровно, не зарываясь, играл в казино Монако. Кто, попав в это княжество рулетки и карт, воздержится от игры?
Свое пребывание в мире живых он завершил Парижем. Мог бы поселиться в роскошном отеле Елисейских Полей. Не захотел. Выбрал скромный отель на одной из сравнительно тихих улочек, примыкавших к Большим бульварам. Отель «Бержер» был любимым пристанищем англичан и американцев.
Париж. Тихое раннее утро. Солнце освещает только железный флаг на Эйфелевой башне. Густая прохладная тень и ночная роса покрывают город. Погасли лампионы на Елисейских Полях. Померкли огни увеселительных заведений бульвара Клиши.
Рабочий люд устремляется в метро, на задние открытые площадки муниципальных автобусиков, приземистых и юрких, во весь дух мчится на стареньких велосипедах по обочинам магистралей, топает на своих двоих по бульварам.
Во все стороны движутся от Центрального рынка фургоны с продуктами и тележки зеленщиков. Гремят жалюзи на окнах и дверях молочных, булочных, бистро.
В этот час, в час трудовых людей, и Рандольф Картер начал свой парижский день.
Заскочив в бистро, он наскоро выпил черный кофе и ринулся в хмельной омут Парижа.
На нем был светлый костюм, мягкая, с открытым воротом рубашка, остроносые, замшевые мокасины.
Уверенный в том, что все блага земли ему доступны, с нагловато-счастливым блеском в глазах, шагал он по бульварам. Кто знает, придется ли побывать здесь еще раз, вот таким — молодым, богатым, счастливым. Толкался среди туристов, под таинственно-сумрачными сводами собора Парижской Богоматери, любовался его цветными витражами, вторгался вместе с потоком иностранцев в яркие, как ярмарочные балаганы, лавчонки Ситэ, покупал грошовые сувениры, а потом бросал их в Сену или оставлял на скамейке.
Рылся с видом знатока в книжных развалах букинистов, нашедших себе приют в шатровой тени каштанов у гранитного парапета набережной.
Нет, Картера влекло к себе не старое вино редкой книги, изданной двести лет назад. Не гравюра, оттиснутая только в одном экземпляре. Листая ломкие ветхие страницы, он просто вдыхал грибную затхлость старины и чувствовал себя настоящим парижанином.
Восемь дней и ночей пребывал он в личине обыкновенного человека. Жил без всяких забот и душевной напряженности, которая старит и сушит похлеще всякой болезни, не позволяет наслаждаться жизнью, если даже у тебя карманы набиты долларами. Не озирался на улице в поисках преследователя. Не носил с собой ампулы с ядом. Не клал, ложась в постель, револьвера под подушку. Не хватался за карман с ключом от несгораемого сейфа.
Словом, все было хорошо до сих пор. А тут около букиниста на него опять навалилось то, что так встревожило на аэродроме Каструп.
Роясь в книгах, он вдруг почувствовал на себе чей-то изучающий взгляд. Кто? Опять седой джентльмен?
Теперь уже не вкрадчиво, как в Копенгагене, а резко он повернул голову, надеясь перехватить чужой взгляд. Не успел! Человек, стоявший неподалеку от него, внимательно рассматривал огромный фолиант в кожаном переплете с золотым тиснением — альбом Доре с иллюстрациями к Библии.
Картер кашлянул, спросил по-французски:
— Извините, мсье. Это настоящий Доре?
Человек так был увлечен своим занятием, что не расслышал вопроса. Он, вероятно, и не видел, кто стоит позади него — мужчина или столб.
«Паника, дорогой мой!» Картер поклонился старому букинисту, тихо побрел дальше вдоль Сены. Отойдя шагов на пятьдесят, быстро оглянулся. Любитель старых книг сосредоточенно, все в той же позе, спиной к Картеру, продолжал изучать Доре.
«Да, чистая паника», — обрадовался Картер.
Какой уважающий себя иностранец, попав в Париж, не забредет на Аль? Потянуло туда и Картера. Бродил по узким улочкам торговых рядов и поражался. Истинное чрево Парижа! Битые, в целлофановой броне гуси, утки, кролики. Ящики с помидорами. Дары моря: свежая рыба, лангусты, креветки. Бомбы кокосовых орехов. Гирлянды бананов. Пирамиды груш, яблок. Корзины с виноградом. Гигантские персики, прикрытые влажными листьями. Яйца в рифленых картонных коробках. Фрукты и плоды Алжира, Туниса, Марселя, Ниццы. Бараньи, бычьи туши на крючьях. Молоко, сливки. Прямо на тротуарах, у раскрытых дверей магазинов высятся копны салата, цветной капусты, артишоков, редиса, спаржи, зеленого лука.
Тот, кто побывает на центральном рынке, непременно заглянет и в старое кафе, в штаб-квартиру торговцев, грузчиков, ломовиков, шоферов, базарных воришек, проституток. Все здесь чувствуют себя равноправными. Самые почетные гости Франции, короли и президенты, шахи и премьеры, сидят за одним столом с мясниками и зеленщиками. Переступив порог этого кафе, сиятельные особы превращаются в обыкновенных посетителей. Никто им не уступит места. Никаких привилегий. Пейте свой аперитив, кофе, говорите о чем угодно и как угодно, стараясь изо всех сил привлечь к себе внимание, — все напрасно, вас не выделят из толпы завсегдатаев.
Побывал в этом кафе и Картер — пил французскую водку и кофе.
Был он и на Севастопольском бульваре и на Монмартрском холме. Забрел и на Монпарнас. Дважды прошагал по Елисейским Полям — снизу вверх, от площади Согласия до Триумфальной арки площади Звезды, и обратно — сверху вниз.
Любовался, завидовал, вздыхал! Эх, если бы перенести эти поля за океан, в Штаты! Нет ни у одной столицы такой магистрали, как Елисейские Поля — широченная, с бетонной полосой для автомобилей, бульварами, с дворцами, известными всему миру, с витринами прославленных магазинов, с изящными парижанками — каждая встречная — красавица.
Елисейские Поля!… Картер был весь тут, весь без остатка — сердцем, разумом, прошлым, настоящим, будущим. Без Калькутты, Москвы, Афин, Пекина, Праги, Бонна и Стокгольма мир не померкнет, думал Картер, но без Елисейских Полей, без Бродвея…
Скитаясь без цели по Парижу, Картер вышел к дворцу Бурбонов. Перешел по мосту Александра на левый берег Сены и, смертельно усталый, плюхнулся на скамейку, на тенистой Курс ля Рейн.
Отдыхал до тех пор, пока часы не напомнили ему, что пора спешить в отель обедать.
Пересек в людском потоке площадь Согласия с ее египетским обелиском и монументами, символизирующими крупнейшие города Франции. Миновал Морское министерство. Полюбовался издали, поверх деревьев сада Тюильри, аркой Каруселя, луврским дворцом и медленно направился к себе в отель.
Бульвар Мадлен, бульвар Капуцинов, Итальянский, Монмартр… Несмотря на светлое время, уже маячили ночные девы. В тени домовых арок, за чугунной решеткой ворот, в подъездах, за газетными киосками. Каждая ловила взгляд Картера, заискивающе улыбалась, вполголоса вопрошала: «Жуир, мсье?» Он отвечал виноватой улыбкой и проходил мимо.
В конце Итальянского бульвара Картер остановился.
Старый человек с гривой седых волос, в потертом пиджаке стоял на коленях и цветными мелками рисовал на асфальте прелестные женские головки. И никто ему не мешал — ни дворник, ни ажан. Не смеялись прохожие. И не жалели. И не удивлялись. Привычная для парижской улицы картина. Привычная, но привлекательная.
Парижане — мужчины, женщины, девушки, дети, старухи, опрятные и неопрятные старики, завсегдатаи Больших бульваров — стояли вокруг художника и молча смотрели, как возникают под его руками женские портреты. Полногрудая нормандская рыбачка в черном лифе… Смеющаяся сборщица винограда с Лазурного берега… Печальная, в слезах, кем-то обманутая продавщица из Галлери де ля Файет. Отважный франтирёр с девичьими губами. Лукавая горничная в накрахмаленном переднике и наколке… Счастливая невеста… Молодая мать…
Он рисовал и рисовал, а награды все не было. Парижане воздерживались платить за зрелище, которым они не в полной мере насладились. И лишь когда художник окружил себя хороводом юных француженок, исписал весь мел, зазвенели франки.
Картер бросил на разрисованный асфальт серебряный доллар, отчеканенный шестьдесят лет назад, и пошел дальше, гордясь своей неслыханной щедростью. В Париже нельзя жалеть денег.
С бульвара Монадаргр он попал на узкую, оживленную улицу Монмартр. Пройдя один квартал, свернул направо и вышел на еще более узкую, но уже тихую малолюдную улочку Бержер.
Тут и был отель «Бержер», где остановился Картер под фамилией Грэхэм.
Скромный, с небольшим навесом подъезд. Скромный вестибюль. Конторка менялы. Лоснящаяся стойка портье, услугами которого можно пользоваться не только в пределах его должностных обязанностей. Если вы американец, то выутюженный, прилизанный, со сладкой улыбкой портье Жан, подавая вам ключ, предложит рекламные альбомы и адреса дюжины тайных увеселительных заведений Парижа, порнографические открытки и, если вы заинтересуетесь, назовет цену, которую вы должны заплатить девушке с Итальянского или Севастопольского бульвара.
Картер надменно-ласково кивнул Жану, попросил ключ от своей комнаты. Портье с бабьим лицом почтительно склонил набок голову, сказал по-английски:
— Сэр Грэхэм, в холле вас ждут.
— Кто? — удивился Картер.
— О, вполне джентльмен! — Жан улыбнулся своей шутке.
А Картер похолодел. Он вспомнил Копенгаген, аэродром Каструп, седую голову и красные уши джентльмена, идущего по его следам…
Кому и зачем понадобился он здесь, в Париже? А может быть, это человек «Бизона»? Не доверяет. Неужели всплыла та проклятая давняя история?
Картер неторопливо вошел в зеркальный зал с толстым ковром на каменном полу. В кресле у камина сидел человек, ждущий его. Нет, это не «джентльмен».
Картер давно натренировал себя остро наблюдать и надежно запоминать увиденное. Пока сближался с незнакомцем, успел разглядеть его во всех подробностях. Под лохматыми, плотно сдвинутыми бровями холодно поблескивают пытливые, умные глаза. Лоб высокий, без морщин, молодой, но волосы на висках серебрятся. Лицо продолговатое, с чуть втянутыми щеками, тонкогубое, с твердым подбородком, суровое, напоминающее лицо Данте. И руки суровые — жилистые, сильные, с кистью каменщика. Впечатление суровости усиливали его темно-серый, строгого покроя, добротный пиджак и черный галстук.
Картер привык в рамке любой одежды угадывать «своих» и «чужих». В разряд своих он зачислял только тех, кто имел отношение к ведомству Аллена Даллеса, к «Отделу тайных операций». Чужими для него были все, кого он не знал, от кого должен был скрывать, где служит, что делает.
Человек с лицом Данте был явно чужой, из разряда обыкновенных людей. Но если это так, то откуда и как ему стало известно, что Грэхэм прибыл в Париж и остановился в отеле «Бержер»?
— Мистер Грэхэм? — Незнакомец с достоинством поднялся, расправил складку на брюках. Высокий, чуть сутулый, он спокойно смотрел на американца, ждал ответа. На лице не было ни улыбки, ни выражения приветливости. Только угрюмое достоинство, пугающая суровость.
— Да. К вашим услугам, — стараясь не выдавать свою тревогу, ответил Картер. — А вы?… С кем имею честь?
Гость слегка скосил глаза налево и направо, оглядел безлюдный зал и, чуть приглушив голос, сказал:
— Называйте меня, если вам угодно, Чарли.
— Как? — быстро переспросил Картер и невольно сделал шаг назад.
— Чарли! — спокойно подтвердил незнакомец и подвинул Картеру легкое кресло. — Привет вам от дяди Франклина и тети Джой.
Слова эти были произнесены на отличном английском языке. Для непосвященных ничего страшного в них не было. Но у Картера подкосились ноги. Зеркальный зал странным образом подпрыгнул, перекосился, потемнел. Все зеркала черные — на потолке, на стенах, над камином. И мистер Чарли, мгновение назад белый, стал чернолицым, губастым, похожим на негра. Картер, не глядя, нащупал кресло и сел. «Привет вам, Раф, от дяди Франклина и тети Джой». Незабываемые слова! Шестнадцать лет назад Картер написал их здесь же, в Париже, на одной секретной вилле немецкой разведки. Нацисты приперли к стенке, угрожали расстрелом. Не выдержал, попросил пощады. Пощадили и потребовали платы.
Картер молчал, пристально разглядывая под своими ногами потертый ковер. Все его душевные силы, весь его жизненный опыт были приведены в действие. В течение нескольких секунд надо было решить, что делать — откликнуться на пароль, промолчать или притвориться удивленным, спросить: «Какой дядя, какая тетя?…» Он достал сигарету, чиркнул зажигалкой и тихо, почти шепотом сказал:
— Благодарю вас. А когда вы их видели, дядю и тетю?
Дальнейшие слова не имели парольного значения.
Ключи выданы победителю. Белый флаг капитуляции выброшен. Картер и человек, назвавший себя Чарли, вышли из отеля, прошли по тесной улочке Бержер, мимо парфюмерной лавочки, мимо углового кафе, в котором на виду у посетителей, на огромной электрической жаровне, нанизанные на вертеле, жарились цыплята.
На улице Монмартр Чарли ждал неприметный, мышиного цвета, двухместный «ситроен».
Чарли сел за руль, Картера усадил рядом. Миновав Монмартр, выехали на рю Лафайет, свернули налево, выбрались на Большие бульвары и через площадь Звезды и авеню Фош попали на западную окраину Парижа, в Булонский лес.
После жаркой суеты и грохота центральных улиц здесь было тихо и прохладно, как в настоящем лесу. По чистеньким аллеям иногда проносились бесшумные автомобили и автокары с туристами, но они не мешали уединившимся Чарли и Картеру.
Они сидели в кафе Прекатлан, почти пустом в этот час, на открытом дощатом помосте, на берегу темного пруда, Чарли курил, смотрел на воду, а Картер маленькими глотками пил кофе и все еще раздумывал, что делать. Убежать и во всем сознаться в американском посольстве? Рандольф Картер, доверенное лицо «Бизона» оказался старым, еще гитлеровских времен агентом Гелена! Ужасно. Разжалуют, Засудят. И никто не захочет принять во внимание смягчающие вину Картера обстоятельства — молодость, неопытность, ошибки. Изменил! Факт.
Прежде всего Картер решил испытать прочность сетей, в которые шестнадцать лет назад попал. Нет Канариса, нет самого Гитлера и его рейха, а сети уцелели. Предусмотрительный Гелен!
Смертельная опасность не всегда лишает человека силы, разума, воли, находчивости. Наоборот, чаще всего обостряет их. Картер мужественно, глаза в глаза, посмотрел на Чарли.
— Откуда вы так хорошо знаете английский? Да еще особенно английский, с нью-йоркским оттенком? Вы жили в Америке?
— Я родился там.
— Да?
— Но только не в вашей Америке, не в Америке янки. Гораздо южнее.
— В Аргентине?
— Нет.
— Рио-де-Жанейро? Монтевидео?
— Нет. Где-то там, между Панамой, Монтевидео, Сан-Паули, Перу и Гондурасом.
— Благодарю вас за точность.
Последние слова Картер произнес по-немецки. Но собеседник не понял его, переспросил по-английски:
— Что вы сказали?
Картер усмехнулся и перешел на английский.
— Извините, мне показалось… Значит, вы не знаете немецкого?
— К сожалению. Мечтаю овладеть. Простите, кое-что знаю: зер гут. Говорят, очень емкий язык.
— О, еще бы! Язык Шиллера, Гейне, Гёте!… Простите! Если вы не немец, откуда же вы знаете то, что я написал тогда, в сороковом году.
— Законное любопытство. Пожалуйста, могу удовлетворить. У меня в Бонне, в канцелярии Гелена, есть хорошие бескорыстные друзья. Еще в последний день войны они преподнесли мне в качестве музейного сувенира вашу писанину, как вы изволили выразиться. А я только сейчас решил извлечь пользу из этого подарка. Запоздал!
— У русских на этот случай есть такие слова: «Не любо, не слушай, а врать не мешай!» Не слыхали?
— К сожалению, не довелось. — Чарли вежливо улыбался и размешивал сахар в кофе: — У вас больше нет вопросов, Раф?
— Есть!… — Картер осторожно поставил легкую, прозрачную, из севрского фарфора чашечку на мраморную плиту, откинулся на гибкую, из нейлоновой веревки спинку стула и очень мирно, почти дружелюбно спросил: — Надеюсь, я могу с вами разговаривать как с высокодоверенным лицом?
— Само собой разумеется.
Картер снисходительно усмехнулся:
— Почему же вы так наивны?
— Да? — удивился Чарли. — Интересно, в чем же это проявилось?
— Неужели вы всерьез надеетесь извлечь какую-нибудь пользу из старой липовой истории? Тогда я был один в Париже, беззащитный, а теперь за мной мощь Штатов.
— Надеюсь! Вполне серьезно. Вы и теперь один и без всякой защиты.
— Глупо, Чарли. Я имею основание полагать, что ваши хозяева гораздо умнее. Вы все знаете обо мне?
— Да, все.
— И вы думаете, что я… Поверили моей фальшивке, рассчитанной только на то, чтобы избежать расстрела, скандала. Я не смерти боялся. Не хотел компрометировать свою страну.
— Слова, слова! «Писанине» поверят больше. — Чарли достал из внутреннего кармана пиджака несколько фотографий размером с почтовую открытку. Это были фотокопии обязательства Картера, данного людям адмирала Канариса. — Вот, полюбуйтесь.
Картер не захотел даже взглянуть на свои грехи молодости.
— Вы опоздали, Чарли. Холостой выстрел. Моему начальству давно известно, что я давал вынужденную подписку работать на немцев.
— Неправда, — мягко заметил Чарли. — Ни в вашем отчете, который вы написали для шефа управления личного состава, ни в протоколах службы расследований, ни в документе, посвященном провалу Картера в Париже в тысяча девятьсот сороковом году, ничего не сказано о вашем обязательстве работать на немцев. И потому, если мы сегодня или завтра пошлем эти документы в Баварию «Бизону»… Впрочем, теперь не пошлем. Подождем, пока он вернется из Вашингтона.
«Знают даже и об этом!» — ужаснулся Картер. Он долго молчал, глядя в пустую кофейную чашку.
Чарли курил и спокойно, вполголоса говорил:
— Вернувшись из Вашингтона, генерал Крапс увидит эти фотокопии. Картер был агентом нацистов! Представляете его гнев?!
Мимо кафе, по взрыхленной дорожке, проложенной вдоль аллеи, мягко протопала копытами золотистая, в белых чулках лошадь. Ею управляла молодая парижанка с коротко, под мальчишку, остриженной головой, в кавалерийских рейтузах, в темной строгой блузке.
Прошумела приземистая, похожая на акулу машина.
Гарсон принес свежий кофе.
На противоположном берегу пруда, на лужайке появилась детвора, бегущая за оранжевым мячом.
Чарли пил кофе, курил и неторопливо озирался, будто ему и в самом деле некуда было спешить, будто отдыхал, а не казнил бывшего агента нацистов.
Картер молча смотрел на него и с каждой секундой все больше и больше ненавидел. Ненавидел его спокойствие. Бесцветные жестокие глаза. Наглый голос. Среди бела дня в Булонском лесу схватил человека за горло и пытает!…
Ненавидел и завидовал. Кто он в самом деле? Нет, не Чарли. И не Жак, хотя превосходно говорит по-английски и по-французски. Где родился? Во имя чего рискует головой? Что делал при Гитлере?
«А что, если я встану и закричу во весь голос: караул, помогите!» — вдруг подумал Картер. Оглянулся, поискал глазами ажана. В кафе по-прежнему было малолюдно, и по аллеям изредка проносились машины.
Чарли только пожал плечами в ответ на беспокойное, явно беспомощное движение своего собеседника.
— Глупо, Рандольф, отчаиваться. Ничего особенного не случилось. Все остается на своих местах. Честь Штатов не пострадает. И ваша. Вы в полной безопасности. Шестнадцать лет американцы не знали о вашем обязательстве и еще двадцать не узнают. Кстати, я хочу сказать, почему мы так долго не напоминали вам о себе. Мы держали вас в резерве, ждали, когда вы сможете оказать нам наиболее важную услугу.
— Значит, вы уже все решили за меня? Уверены, что моего согласия не требуется?
— Согласия?… Так вот же оно!… — Чарли приложил руку к внутреннему карману, куда спрятал фотокопии обязательства.
Картер с живым интересом посмотрел на мутноглазого Чарли. Немец, конечно. Чистокровный. Из тех, что могут выдавать себя и за француза, и за испанца, и за южноамериканца. Старой выучки, собака. Геленовец. Сотрудничает с американцами, англичанами, французами и с чертовой дюжиной НАТО.
— Странно! — произнес Картер вслух. — Ничего не понимаю. Вы представляете наследников адмирала Канариса?
— Не так громко, Раф! Я никого не представляю, я сам по себе.
— Кто ваш шеф?
— Это неделикатно, Раф. — Чарли выпрямился, значительно посмотрел на Картера. — Мы просим оказать нам разовую услугу. Единственную. Больше никогда не побеспокоим. Предадим огню обязательства и пепел развеем. Окажите, Раф! Нам, новым немцам, аденауэровским. Уверяю вас: США и Запад не потерпят никакого ущерба от вашей откровенности. Наоборот, выиграют!
Картер молчал, думал. Перспектива стать двойником не ужаснула его. Немцы Аденауэра не немцы Гитлера. Есть риск, но кто, работая в разведке, не рискует? Самые знаменитые агенты секретной службы рано или поздно становились двойниками. Бессмертная Мата Хари, танцовщица из Португалии, была подготовлена к секретной работе своим любовником, мадридским военным атташе кайзеровской Германии лейтенантом Канарисом, впоследствии адмиралом и главным шефом военной разведки гитлеровского рейха. Мата Хари оказала немало услуг Канарису, он ее высоко ценил. И все же не уберег от соблазнов, и она стала двойником: выдавала англичанам и французам секреты Канариса. И сам Канарис впоследствии, уже будучи адмиралом, начальником гитлеровской военной разведки, почуяв близкий крах фюрера, кокетничал с американцами и англичанами, за что был повешен Гитлером. А Гелен, создатель мощной агентурной сети в Восточной Европе!… Служил верой и правдой Гитлеру. А теперь скачет на задних лапках перед Даллесом и «Бизоном». В истории шпионажа случаев двойного служения сколько угодно. Классическим двойником был полковник австро-венгерской армии, начальник секретной службы империи Альфред Редль. Уличенный русским военным атташе в Вене Зубовичем в тяжких моральных преступлениях, Альфред Редль выдал ему накануне войны архисекретный план развертывания сил и системы австрийских крепостей в Галиции. План составлялся в течение нескольких лет фельдмаршалом Конрадом фон Гетцендорфом и рухнул в одно мгновение, прочитанный русскими.
— Чего вы от меня хотите? — Картер неохотно прервал свои размышления.
— Я уже сказал: только одной важной услуги. Разумеется, мы щедро возместим.
Картер горько усмехнулся: «…одной важной услуги». Вероятно, такие же слова произносил перед ошалелым Редлем и русский полковник Зубович сорок лет назад в Вене. Возможно, и немецкая разведчица Мата Хари однажды услышала такие же слова от французов и англичан.
— Что именно я должен сделать? — спросил Картер.
— Нам нужна фотокопия плана, который генерал Крапс повез в Вашингтон.
Картер с уважением и некоторой долей страха посмотрел на собеседника. Побледневшие губы его с трудом пошевелились.
— Это невозможно, — едва внятно выдохнул он. — План строго охраняется.
— Как видите, не очень строго, раз нам он известен. — Лицо Чарли даже в этот, чрезвычайно выгодный момент, не осветилось победной улыбкой.
— Зачем же вам копия, если вы?…
— Знаем план лишь в общих чертах, а нас интересуют все детали.
— Детали я могу уточнить… устно.
— Прекрасно!
Чарли неторопливо опустил руку в карман, включил магнитофон, придвинулся к Картеру.
Подумав мгновение, Картер зажмурился и так, вслепую, внятной скороговоркой, проговорил:
— Бурная реакция во всем мире на крушение культа личности Сталина создает в высшей степени благоприятную почву и атмосферу для претворения в жизнь «Проблемы номер один». Она осуществляется на венгерском плацдарме, на самом важном перекрестке Восточной Европы, у Балканских ворот… — Картер облизал пересохшие губы, поднял глаза на чрезвычайно внимательного, притихшего Чарли. — Я только цитирую. Ни одного слова от себя.
— Ясно. Продолжайте!
— Венгрия — это первое звено, вырванное из цепи советского блока. Мадьяры поднимут старое знамя свободы тысяча восемьсот сорок восьмого — тысяча восемьсот сорок девятого годов. Знамя Кошута, Петефи. И для нас совершенно безразлично, кто это сделает, — люди Имре Надя, узники дунайской каторжной тюрьмы Ваца, витязи «Священных стрел» или «люди закона Лоджа». Мы рассчитываем и на тех, и на других, и на третьих. Люди, на которых мы рассчитываем, должны не позже последней декады октября выйти на улицы с оружием в руках, воздвигнуть баррикады, овладеть арсеналами, радиостанциями, редакциями газет, парламентом, объявить национальную революцию, денонсировать Варшавский пакт о взаимопомощи, потребовать ухода советских войск с венгерской территории…
Картер умолк, перевел дыхание, ладонью вытер мокрый лоб.
— Вся преамбула? — спросил Чарли.
— Нет. Дальше сказано следующее: «Вышеозначенную задачу выполняют все националистические группы в самой Венгрии и за рубежом, все, кто вольно или невольно примкнет к движению. Подлинные цели революции до поры до времени тщательно скрываются от ее участников». Так заканчивается первая часть преамбулы.
— Дальше!
— Навязать машу волю социально разношерстной Венгрии, зараженной большевизмом и национализмом, заставить ее действовать по нашему плану можно только так: а) убедить всех венгров, что наступило время обновления страны идеями Кошута, Петефи; б) убедить венгров, что Советы сейчас, после крушения культа Сталина, не посмеют применить против революционной Венгрии свои войска; в) убедить венгров, что США и союзники поддержат революцию не только деньгами, медикаментами, добровольцами, моральным сочувствием, постановкой венгерского вопроса в ООН, но и вооруженными силами; г) убедить и восставших венгров и их зарубежных друзей в том, что поражение неминуемо, если революция будет нерешительной, мягкой, половинчатой, бескровной, и за ним последует уничтожение и порабощение восставших; д) толковать, пропагандировать значение венгерских событий как знамение новой эпохи, начавшейся со смертью Сталина, как начало крушения мирового коммунизма; е) обострить распри, беспорядки и оппозицию среди тех венгров, кто оказывает сознательное или несознательное сопротивление нашему плану, использовать в наших целях фракции и группы всех оттенков; ж) натравить на Советы двухсоттысячную армию осиротевших матерей, жен, сыновей, дочерей, отцов, чьи близкие погибли в России, на Воронежском, Донском и других фронтах; з) разворошить старые обиды, разжечь яростное чувство мести бывших владельцев фабрик и заводов, землевладельцев, торговцев, офицеров, жандармов, полицейских, хортистов и нилашистов; и) уделить особое внимание и тем венграм, которые так или иначе пострадали от репрессий теперешних властей, и тем, кто был в советских лагерях для военнопленных… — Картер остановился, взглянул на Чарли. — Извините, я немного передохну. А может быть, хватит на сегодня? Прервем?
— Нет, мы больше не встретимся с вами.
Отдохнув, Картер продолжал:
— Дальше следует раздел, озаглавленный «Информация».
Картер подробно, пункт за пунктом, назвал все, что содержалось в этом разделе, что, по мнению боссов Даллеса, создавало надежные условия для проведения в жизнь «Проблемы номер один».
После «Информации» следовали разделы «Предложения» и «Решение». В последнем, по словам Картера, было сказано следующее: «Соединенные Штаты, не прибегая к открытой помощи своей армии, проведут ожесточенную предварительную психологическую атаку против Венгрии с открытых позиций — через радиостанции «Свободная Европа», «Голос Америки», через газеты, которые находятся под влиянием НАТО, через всевозможные центры старой хортистской и новой эмиграции. Одновременно будет предпринят штурм с закрытых позиций: через все каналы Си-Ай-Эй, через подкупленных представителей в ООН, через влиятельных деятелей Запада, через все каналы, которые окажутся нам доступными.
Главный раздел «Проблемы номер один» называется так: «Направления действий (выполнение)». В нем наибольшее количество пунктов. Намечено, где, как и какими силами будут наноситься прямые удары по Венгрии и косвенные — по Советам.
В разделе «Обеспечение» указывается, какими именно силами, каким оружием и материальными средствами обеспечить выполнение плана.
План заканчивается без всякого пафоса, деловито: «Все психологические и боевые операции будут согласовываться на первых порах как по времени, так и по содержанию, чтобы не снизить действенности основной кампании и чтобы поскорее достичь поставленной цели».
Картер умолк, закурил, жадно глотая дым.
Чарли некоторое время молча смотрел на склоненную, гладко причесанную, разделенную строгим пробором голову американца, чего-то еще ждал от него.
— Все? — спросил он, ничего не дождавшись.
— Разве вам этого мало? — Картер был удивлен.
— Нет, немало, но…
Чарли осторожно, тихонько придвинул к своему собеседнику несколько тугих, как новые колоды игральных карт, пачек американских банкнот. Картер небрежно накрыл их шляпой, подумал: «Кажется, тысяч десять».
— Как вы собираетесь поступить со всем этим? Извините за наивный вопрос. Но, мне кажется, я имею право так спрашивать.
— Имеете! А я имею право не отвечать, полагая, что вы сами догадаетесь.
— Кое о чем, конечно, догадываюсь. Под шумок венгерских событий ворветесь в Западный Берлин, да? Потребуете Польскую Силезию, Восточную Пруссию?… Не рано ли?
— Вы, оказывается, шутник, мистер Грэхэм. Злой шутник.
— Не нравятся такого рода шутки? Извините великодушно. Не буду. Перейду на весьма и весьма серьезную тему. Скажите, что нового в Суэцком кризисе?
— Разве вы не читаете газет, мистер Грэхэм? Вчера Фостер Даллес вернулся в США. В Нью-Йорке он выступил с весьма и весьма оптимистическим заявлением об итогах встречи в Лондоне с английским и французским министрами иностранных дел и другими членами «ассоциации»: «Одержаны крупные успехи! Продемонстрирован замечательный дух товарищества».
— Читал!… Мыльный пузырь. А как на самом деле? Будут ли Англия, Израиль и Франция пробивать себе оружием, как пишут газеты, путь через канал или ограничатся угрозами?
— Видите ли…
— Будут. Теперь это ясно. Война в Египте неизбежна.
— Почему вам это стало ясно только теперь?
— Потому что теперь вы заручились невмешательством стран Варшавского пакта. Они застрянут в тупике «Проблемы номер один». Я не ошибся?
— Мистер Грэхэм, вы хотите услуги за услугу? Но… мои сведения будут стоить гораздо дороже, чем ваши.
— Вы тоже, оказывается, шутник, мсье. Мстительный шутник. Да, здорово отомстили мне… за все.
— Но теперь мы квиты и у вас есть возможность начать все сызнова.
Они расплатились и пошли по аллее по направлению к Королевскому павильону — он виднелся невдалеке, в конце пруда. Там они сели в двухместный спортивный «ситроен», поехали по широкому проспекту Фоша, ведущему к гигантской круглой площади Этуаль, к Триумфальной арке и могиле Неизвестного солдата.
В одной вечерней парижской газете, через несколько часов после беседы Картера с Чарли, была напечатана сенсационная заметка. «Сегодня в пять часов пополудни два американских туриста, светлокожий янки и смуглолицый южанин, скорее всего, бразилец, потрясли парижан, давно отвыкших удивляться чему-либо. Это случилось неподалеку от Триумфальной арки. Американцы, совершая свое безумство, по-видимому, рассчитывали на то, что и над ними когда-нибудь будет воздвигнута триумфальная арка, а на их могилах заполыхает неугасимое пламя, которое согревает Неизвестного солдата.
Заокеанские гости весь день колесили по Парижу на мышином «ситроене», взятом напрокат, заезжали, вероятно, в каждое попутное бистро, хлебали аперитив. Они накачались по самые брови. Проносясь по авеню Фош «пьяный ситроен» налетел на тяжелое «Рено». Почему? Зачем? Уж не с намерением ли испробовать прочность радиатора машины, а заодно и двух хмельных голов? К счастью, не два американских трупа были доставлены в полицейский морг, а только один. Северянин, по фамилии Грэхэм, отдал богу душу мгновенно, при столкновении с грузовиком. Южанин отделался ушибами. К сожалению, его личность не удалось установить не только репортерам, но и полиции: потерпевший бесследно исчез. Зеваки с авеню Фош, бывшие свидетелями аварии, утверждают, что видели раненого за мгновение до того, как на место происшествия прибыла полиция. Зеваки, как известно, фантазеры, но… Желаем вам скорого выздоровления и доброго здоровья, таинственный южноамериканец!»
Заметка эта, как выяснилось значительно позже, была инспирирована «южноамериканцем Чарли», важным сотрудником разведывательного отдела объединенного англо-французско-израильского штаба специальных войск.
Пока парижская полиция занималась трупом Картера, Чарли приводил в порядок свои трофеи. В тихом, огороженном железной решеткой особняке на авеню Фош, где размещался разведывательный отдел объединенного командования держателей акций Суэцкого канала, Чарли собственноручно выстукивал на машинке все то, что зафиксировала магнитофонная лента в кафе Прекатлан. Голос покойного мистера Рандольфа Картера звучал ясно, как живой.
Час спустя в распоряжении англо-французско-израильских генералов, будущих усмирителей и покорителей строптивого Египта, посмевшего замахнуться на священную собственность своих «благодетелей», был важнейший документ, дающий им возможность без оглядки на Советский Союз обрушиться на египтян. Когда начнутся действия в зоне Суэцкого канала, русские будут втянуты в неожиданные грозные события в Венгрии. Все их лучшие дивизии, во исполнение Варшавского пакта, устремятся к берегам Дуная и не смогут помешать объединенной армаде французов, англичан, израильтян совершить возмездие на берегах Нила и Средиземного моря.
Часть вторая ЗАСТАВА НА ДУНАЕ
Застава Смолярчука находилась в самом крайнем на Дунае городке Ангоре. Дальше, в гирле Дуная, в его бесчисленных рукавах, протоках и на островах нет крупных населенных пунктов. Только небольшие рыбачьи деревушки, домики бакенщиков и лесников. Ангорская застава была и самым крайним подразделением дунайских стражей — к ее левому флангу примыкали морские пограничники.
И штаб Смолярчука, и солдатская казарма, и все службы находились в самом большом здании Ангоры, возвышающемся на берегу Дуная и окруженном старыми акациями. Дом был двухэтажный с террасой для оркестра и любителей потанцевать, построенный еще румынами лет тридцать назад из камышовых прессованных плит, обмазанных глиной. При короле Михае и его боярах здесь сияло огнями «Тиволи», крупнейшее увеселительное заведение Нижнего Дуная. Загулявшие удачливые рыбаки могли в захолустном «Тиволи» с таким же шиком и блеском прокутить свои бешеные деньги, как и в Бухаресте, потопать в дансинге, послушать знаменитый цыганский оркестр, поиграть в рулетку, провести ночь или час в уединенной келье с любой красавицей. Рыбаки развлекались в «Тиволи» изредка, только по случаю удачного белужьего или осетрового лова. Постоянными посетителями «Тиволи» были скупщики икры и красной рыбы, владельцы судов, любители дунайской экзотики, американские, немецкие, французские, итальянские и скандинавские туристы, контрабандисты, высокооплачиваемые, болтающие на всех европейских языках сезонные дамы из Бухареста и недорогие постоянные жительницы Ангоры — цыганки.
Давным-давно на заставе ничто не напоминает о «Тиволи». Бесследно выветрился отсюда дух увеселительного заведения, и все-таки нет-нет кто-нибудь да и помянет «Тиволи» недобрым словом. Старшина заставы, обнаружив в своем хозяйстве — на конюшне, в каптерке, на складе или в казарме — какой-нибудь непорядок, укоризненно глядя на солдат, распекает их:
«Шо же вы, товарищи, делаете, а? Дэ находитесь в «Тиволи» чи в воинском подразделении?!» Да и сами солдаты иногда покрикивают друг на друга: «Эй, браток, не разводи «Тиволи!»
«Тиволи» не только на заставе было универсальным словом, клеймящим все, что выходило из нормы. Всякого болтуна, лоботряса, пьянчужку, хвастуна, говоруна, любителя пошуметь рыбаки называли тивольщиком. Спекулянт и выжига тоже были тивольщиками. Монахинь из монастыря игуменьи Филадельфии называли тивольницами. Или с дополнением: чернохвостые тивольницы.
Ангора — большое, разбросанное по обочине дунайской дороги поселение. Основано оно двести лет назад беглыми русскими, старой веры людьми. Живут тут рыбаки, садовники, виноградари, бондари, плотники, лесорубы, мотористы, добытчики камыша, звероловы. Не курят ангорцы. Не сквернословят. Но водку и спирт пьют с удовольствием. Как же не пить человеку, рискующему жизнью в штормовом море, в плавнях… В те времена, когда Ангора была в составе королевской Румынии, многие рыбаки ходили с контрабандой в Одессу, Варну, добирались и до Турции.
Почти вся Ангора изрезана каналами и протоками, Чуть ли не у каждого дома причал с просмоленной лодкой. Самодельные дощатые мостики перекинуты с берега на берег. Сады и виноградники спускаются к самой воде. Некоторые протоки обмелели, заросли осокой, камышом, покрыты ряской и лилиями. Но большинство глубоководны, чисты, и по ним можно попасть в Дунай не только на рыбачьей лодке, но и на катере.
На щедром дунайском солнце, продуваемые сквозным ветерком, сушатся большие и малые, устаревшие и самые новейшие капроновые рыбачьи сети. Они раскинуты на всех набережных в центре городка, вокруг рыбного завода, у погранзаставы, у пристани, прямо под окнами райкома партии, на главных улицах, и в глухих переулках.
Сети, сети, сети!… Ангора как бы прикрыта паутиной, как бы кокетливо спряталась под вуаль. Добрая тысяча сетей всегда в расходе. И тысяча лодок.
Сети и лодки — вот герб Ангоры. Лодки, лодки, черные, тяжелые, остроносые, плавневые плоскодонки, килевые, парусные и моторные, Снуют туда и сюда по каналам и протокам, из Дуная и в Дунай. Прикованы к причалам. Лежат кверху килем на берегу, проконопаченные волокнами морского каната, облитые черной глянцевой смолой.
На рассвете караваны рыбацких лодок выходят с водяных улиц и медленно скрываются в рукавах Дуная, за островами, в плавнях, на взморье.
Вечером возвращаются с уловом. Причаливают к пристани рыбного завода. Серебристую трепещущую рыбу нагребают в корзины, отправляют на лед в хранилище, на разделку, засолку, консервирование или в трюмы самоходных барж.
Неподалеку от Ангоры взморье и непроходимые плавни, женский монастырь и гнездовья миллионов птиц, государственная граница с румынской Добруджей и международная дорога, по которой за сутки проходят десятки судов под флагами дунайских и недунайских стран.
В этом неповторимом городке и выпало на долю Смолярчука охранять границу.
Смолярчук сбежал с крылечка заставы и, козырнув в ответ на приветствие часового, расхаживающего по берегу дунайской протоки, вскочил на катер, мягко рокотавший мотором.
Медленно, оставляя позади косые валы, катер пошел узкой протокой по самому центру Ангоры, по центральной водяной улице. Он, этот городок, невелик, неказист, но его давно и упорно называют русской Венецией.
Все жители Ангоры, и стар и млад, знают Смолярчука, все, кто стоит теперь на берегах протоки, здороваются с ним, снимая фуражки, кепки и панамы. И со всеми Смолярчук здоровается, каждого знает не только по фамилии, но и по имени и отчеству.
У пристани рыбного завода разгружались сейнера. Свежую живую рыбу подавали конвейерными ковшами на-гора, на второй этаж.
Мастер, принимающий улов, схватил огромного осетра за жабры, поднял его над головой, показал Смолярчуку, проезжающему мимо, засмеялся.
— Забрасывай удочку, начальник, я отвернусь!
Смолярчук ответил с преувеличенной, явно нарочитой серьезностью:
— Даровая рыбина, говорят, в горле застрянет.
— Брехня. Мечи крючок, живо!
— В другой раз, старина! Таскать вам не перетаскать, Егор Варламович!
Катер пошел дальше. Мимо огромного навеса, под которым женщины плели сети, мимо нефтебазы, нырнул под мост и резко сбавил ход.
Дородная молодуха, высоко подоткнув цветастую юбку, неистово колотила вальком по каменной кладке, на которую брошено белье. Поравнявшись с ней, Смолярчук приложил руку к фуражке.
— Доброе утро, Степанида Петровна!
Она разогнулась, повернулась лицом к молодому пограничнику, вытерла потное лицо краем платка, озорно прищурилась и сердито сказала:
— Заметил-таки! Слава Иисусу!
— Что? — не подозревая подвоха, переспросил Смолярчук.
— Обратную сторону луны, говорю, сразу заметил, а на лицевую не обращал внимания. Спасибо и на том.
Она веселым смехом проводила изрядно смущенного пограничника.
Смолярчук вырулил на большую дунайскую дорогу, отдал штурвал мотористу и закурил.
Быстроходный катер прокладывал глубокую и широкую борозду по главному руслу Дуная. Мимо проносились большие и малые острова. Заросшие камышом и луговые, затопляемые весною большой дунайской водой; непроходимые плавневые острова, кишащие комарами, и острова, защищенные от половодья дамбами, радующие глаз молодыми садами и тщательно беленными хатами с васильками на ставнях, с гнездами аистов на камышовых, аккуратно подстриженных крышах.
Вырвались на просторный, открытый со всех сторон перекресток. Дунай расщеплялся на несколько проток. Коренное русло, ежегодно прочищаемое землечерпалками, уводило на дорогу больших кораблей, к морю, к змеиному острову, стоящему одиноко в том месте, где дунайские воды сливаются с морскими. Влево ответвлялась узкая Белая протока, ведущая на привольное, относительно мелководное, хорошо прогреваемое взморье, любимое место осетровых косяков и белуги. Вправо откалывалась Черная протока. Она вела в непроходимые плавни, в болота, к озерам, на которых зимуют лебеди, гуси, пеликаны, утки.
Солдат в зеленой фуражке, веснушчатый, с облупленным носом, розоволицый, не загорающий даже под дунайским солнцем и суховейными ветрами, сбавил обороты мотора, покосился на начальника заставы синим глазом северянина и, по-вологодски окая, спросил:
— Товарищ старший лейтенант, куда пойдем?
Смолярчук помедлил с ответом. По коренному руслу ходил всего несколько дней назад. Тогда же заглянул мимоходом и в плавневую глухомань. Сегодня надо податься туда, где не был давненько, больше недели.
— Давайте сюда! — приказал Смолярчук и махнул рукой на Белую протоку.
Взвыл мотор. Острый форштевень вспорол темно-серую поверхность Дуная. Вздыбились, радужно засверкали просвеченные солнцем водяные крылья. Влажная пыль, сорванная с неспокойной реки встречным ветром, покрыла защитный целлулоидный козырек. Крутые волны навалились на берега, залили зеленые откосы.
— Вовремя прибыли, товарищ старший лейтенант! — рулевой сбросил газ и кивнул на забелевшие невдалеке приземистые мазанки.
Хижины, сделанные из камыша, обмазанного глиной, выбеленные, окруженные кольями с растянутыми на них сетями, тянулись по обе стороны канала, у самой воды. Тут же, около временных рыбачьих хат, заякорена большая баржа, приемная база рыбзавода. За ее кормой, вытянувшись цепочкой вдоль берега, пришвартовался караван шаланд, только что вернувшихся со взморья. Головная выгружала богатый улов. Два дюжих молодых рыбака в резиновых сапогах, в жестких брезентовых куртках с привычной небрежностью хватали остроносую стерлядь, безобразную камбалу, благородных красавцев осетров и швыряли на чисто промытую, выскобленную до белизны деревянную палубу базы. Приемщики сортировали рыбу, бросали ее в ящики, взвешивали и отправляли в холодильник, на временное хранение, до прихода с большой земли специального транспорта.
Пограничный катер тихо, с выключенным мотором, используя инерцию и силу течения, скользил вдоль шаланд. Смолярчук здоровался с рыбаками, прикладывая ребро ладони к зеленой фуражке, слегка кивая головой, улыбаясь и безмолвно, глазами, спрашивал: ну как?
И все одинаково приветливо, просто, дружески отвечали ему. И каждый понимал, что значило это невыговоренное «Ну как?».
Смолярчук с первого же дня, с первого часа своей службы на Дунае не чувствовал себя чужим в незнакомом краю и новичком на заставе. Опору в трудной, новой для себя работе искал не только среди солдат и офицеров. Сразу же пошел к людям, живущим на его участке границы. Не пожалел ни времени, ни энергии и в самый короткий срок перезнакомился со всеми. Прошел год с небольшим, и он со многими сдружился, приобрел помощников. Легко, охотно, с чистым сердцем отдавали рыбаки свою дружбу Смолярчуку. Они видели его одержимую любовь к границе, преданность ей. Этим он и покорил их на первых порах. А потом и больше увидели. Он никогда не придирался к тем, кто невольно, впервые нарушил пограничный режим. Но был неумолимо строг с теми, кто уже был предупрежден, кто не уважал пограничные порядки, пусть даже не по злой воле, а только по своей нерадивости.
Просто, легко чувствовали себя с ним люди и на рыбалке, и на зимней ломке камыша, и у костра, и за свадебным столом.
Молодым он не уступал ни в силе, ни в песне, ни в удали, ни в смелости, ни в танцах, плавал и нырял не хуже выросших на Дунае.
Он знал, как и чем живут люди в зоне его заставы, и никогда это знание никому не принесло каких-либо тревог, беспокойств, неудобств. Все отлично понимали, что этим своим знанием он пользуется лишь в одном святом случае — охраняя границу. И потому люди не скрывали от него даже того, что можно было легко скрыть.
— Андрей Иваныч, загляни сюда! — На корме базы стоял старый мастер Мартыныч с длинным и узким ножом в руках.
Катер подрулил к базе, мягко стукнулся о ее железный бок, огражденный старыми баллонами.
— Ну, заглянул… — Смолярчук озабоченно смотрел на мастера и выжидательно улыбался.
— Плохо заглядываешь. Перелезай через борт и пользуйся царским кусом.
— Царский кус?… Это что такое?
— До сих пор не знаешь? В прежнее время первая икра, добытая в начале сезона, отправлялась на царский стол в Петербург. Старый русский обычай. Теперь сами едим ее, эту добрячую первинку, да друзей угощаем. Приготовь пузо, Андрей-батюшко, щедриться буду!
Мастер подошел к оцинкованному разделочному столу, на котором растянулась белуга пудов на пятнадцать. Только-только, видно, уснула, оглушенная сильным ударом весла. Треугольная, желтовато-белая короткая морда с приплюснутыми усами оскалена. Хребет и спина отливают простым, темно-серым, почти щучьим убором. Брюхо и того скромнее — грязновато-белое, вспученное.
Мастер ножом полоснул рыбину по тугому брюху, запустив в разрез оголенную до локтей руку, уверенно, аккуратно стал извлекать оттуда что-то мягкое, темное, подернутое мутной оболочкой. Потом взял небольшой кусок этой густой массы, бросил на грохотку, протер над тарелкой, отделил икринки от оболочек, слегка посолил и, не пробуя, смачно поцокал языком.
— Объедение! Ешь, старшой, да похваливай.
Смолярчук зачерпнул из полной тарелки ложку свежайшей зернистой икры, без всякого удовольствия проглотил ее.
— Не ходко пошла? Всухомятку даже такая пища не больно рысиста. Горькая ее бы живо подхлестнула. Жаль, не имеем такой благодати. Передний край. Строго воспрещается. А может быть, устарело оно, это запрещение? — Мастер подмигнул, засмеялся. — Люди наложили запрет, люди и отменят его. А?
— А вы у них, у людей, спросите? — Смолярчук кивнул на рыбаков, разгружавших рыбу, и тоже засмеялся.
— Катер приближается, товарищ старший лейтенант! — доложил моторист в зеленой фуражке.
— Что за катер? Откуда? — Смолярчук оглянулся, посмотрел влево и вправо. Белая протока, сколько глаз видел, была чистой. И только минуты через две или три из-за поворота со стороны коренного дунайского русла показался катер, тоже белый, с вымпелом пограничников на мачте. Смолярчук удивился. Как он попал сюда? Почему? Должен быть на заставе. Случилось что-нибудь?
Рядом с рулевым сидел Черепанов, самый удачливый рыбак Дуная, капитан сейнера. Смолярчук сразу узнал его: Черепанов выделялся своей светло-золотистой, кудрявой, как у мальчишки, головой, богатырски раздольными плечами и могучей грудью. Появился он в здешних местах дней восемь назад. Проводит отпуск у матери на Лебяжьем острове. По этому случаю и одет не по форме. Черепанов был хорошо известен в кругу военных, как ныряльщик, специалист по всякого рода подводным делам. В Отечественную войну он выполнял какие-то важные задания в тылу противника.
Начальник заставы Смолярчук знал о нем несколько больше, чем другие. В первые годы войны Черепанов под именем Вильгельма Раунга проник на архисекретную базу итальянских и немецких фашистов в Венеции, обучился там искусству ныряльщика, подводного диверсанта, связался с гапистами, городскими партизанами, и, пользуясь своими большими возможностями человека-невидимки, добывал для них в портовых арсеналах оружие, взрывчатку, снабжал важной военной информацией. Черепанов не только сдружился с итальянцами-подпольщиками, но и породнился. Жена его Джулия — дочь венецианского рыбака Чезаре Браттолини. Она и четыре ее сына, Иван, Джовани, Варлаам и Пальмиро, тоже гостят на острове Лебяжьем, у бабушки.
Черепанова еще в детстве прозвали Дунаем Ивановичем. Так его и теперь называли друзья и знакомые. Зачем он примчался сюда, за двадцать пять километров от Лебяжьего? По охотничьим делам? Вряд ли такая нужда вынудила бы его воспользоваться боевым катером заставы. Наверно, стряслось что-нибудь серьезное.
Смолярчук попрощался с рыбаками, перепрыгнул на свой кораблик и заспешил навстречу Дунаю Ивановичу.
Выражение лица и встревоженный взгляд Черепанова подтвердили предположение Смолярчука: границе что-то угрожает.
Старый лесник чувствует пожар издали, не видя его, не слыша. Ветер, птицы, деревья, настороженная тишина, запахи леса помогают ему. Хороший моряк угадывает приближение бури задолго до ее начала. Опытный пастух одновременно со своим стадом и собаками-сторожами слышит осторожную волчью поступь. Островной житель русского Дуная чувствует грозный гул большой воды за много сотен километров, когда она бушует еще где-нибудь на венгерской равнине или в румынской Добрудже. Седобородый горец не попадет под горный обвал, не оступится над пропастью, не станет жертвой оползня. Летчик-испытатель доверяет приборам на щите управления, но не отворачивается и от невидимых «приборов»: самолет, время, пространство, небо, землю он контролирует также и чутьем.
Офицер-пограничник, вышедший из солдат, наделен высоким чувством ответственности за свою службу, талантом следопыта. Он совмещает в себе наблюдательность и чутье старого лесника, слух, зоркость и настороженность пастуха, чуткость приборов радара.
Смолярчук еще не стал таким пограничником, ему многого не хватало, но он уже твердо знал, каким должен быть, как нести службу, чтобы достичь заветной цели.
Нести службу!… Смысл этой старой армейской формулы Смолярчук понял давно, когда был еще рядовым следопытом. Отбывает повинность тот, кто охраняет границу неумело, без душевного огонька, без смекалки, кто считает месяцы, недели и дни, кто оставляет какие-то силы про запас, для «гражданки». А тот, для кого застава — родной дом, а граница — передний край его жизни, поприще, где проявляются лучшие человеческие качества — любовь к Родине, ум, отвага, находчивость, смелость, душевная зоркость, готовность защищать боевого товарища и бороться с врагом до последней капли крови, — тот не просто несет службу. Он живет в полную силу, радуя и радуясь. Тянется к солнцу и другим свет не застит.
Смолярчуку было хорошо на границе, ибо он всегда знал, где и что ему надо делать, где в нем нуждаются солдаты и пограничные жители и кто ему нужен. Год назад он появился на Дунае, но уже крепко привязался к нему, будто родился и вырос тут. Полюбил Дунай, его рассветы и закаты, его туманы, большую весеннюю воду, рыбаков, плавни, камышовые дебри, зимние гнездовья птиц, крики лебедей. Но он мог бы служить и на Чукотке, на советско-американской границе, и там полюбил бы и пролив Ледовитого океана, и тундру, и чукчей, и морозы, и северное сияние.
Катера сошлись борт к борту. Смолярчук поздоровался с Дунаем Ивановичем, пригласил его к себе. Пограничника, сидящего за штурвалом, отправил на место Черепанова.
— Следовать за мной, — приказал он пограничникам на втором катере.
Ветер был попутный, в спину, но в лицо летели брызги. Солнце высоко поднялось над Дунаем — прибрежные заросли вербы и ольхи густо темнили воду широкой тенью.
— Ну, старшой, чего ж ты не спрашиваешь, как я нашел тебя здесь? И какая на то причина? — спросил Черепанов.
— А чего спрашивать? — сдержанно усмехнулся Смолярчук. — Если причина важная, сам не вытерпишь, скажешь.
— Скажу!… Сегодня на рассвете, когда я рыбачил, по Дунаю прошла чужая самоходная баржа. Неподалеку от острова Тополиный она чуть замедлила ход и сбросила, как мне показалось, какой-то груз.
— Показалось? — переспросил Смолярчук.
— Да. И потому я не сразу доложил на заставу. Пришлось нырнуть и потихоньку проверить.
— Ну?
— Обнаружил на дне металлический контейнер с винтовой водонепроницаемой крышкой.
— Контейнер?… Большой?… С чем?
— Не вскрывал. И не пытался. Это может сделать только ныряльщик с аквалангом. Разрешите исследовать в полном снаряжении?
— Нет. Я должен доложить наверх.
— Доложи и мое мнение… Скажи, что это важная заграничная посылка. За ней явится тот, кто живет неподалеку отсюда. И это обязательно будет ныряльщик. Мастер своего дела. Любитель здесь ничего не сделает.
— В зоне действия нашей заставы нет ни одного, если не считать тебя, ныряльщика, умеющего пользоваться аквалангом.
— И тем не менее…
— Кто же этот мастер?
— С вашей пограничной вышки больше видно земли, воды и людей.
— Значит, мастер своего дела?… А пожилой человек, лет за пятьдесят, способен быть хорошим ныряльщиком?
— Вряд ли.
— А точнее ты можешь ответить?
— Могу. Хорошие ныряльщики бывают только молодые, во всяком случае, не старше меня. А почему тебя заинтересовал возраст ныряльщика?
— Так… — Смолярчук умолк. Тревога за границу, за покой и тишину на Дунае переполнила все его существо. Однако внешне это никак не проявилось. Смуглые, широкие кисти рук твердо, уверенно сжимали штурвал, на загорелом лице ни тени напряжения, в глазах безмятежная синева.
Дунай Иванович с любопытством разглядывал чересчур хладнокровного начальника заставы. Такое происшествие на его участке границы, а он…
— Слушай, друг, ты, кажется, ничуть не обеспокоен моим сообщением?… Что собираешься делать?
— Почему же не обеспокоен? Я думаю.
Дунай Иванович перебил Смолярчука.
— Старшой, я не раз бывал вот в таком же щекотливом положении, в какое ты сейчас попал, и, знаешь, всегда чувствовал себя прекрасно.
Смолярчук недоверчиво, взглянул на Черепанова. Нет, он не шутил, не усмехался. Серьезен.
— Почему я себя хорошо чувствовал, да? По очень простой причине — интереснее становилось жить. Появилась конкретная цель. И еще… Как бы, это яснее сказать?…
Смолярчук проводил глазами белокрылую, с черным клювом птицу, пролетевшую над катером, улыбнулся.
— Будет буря. Мы поспорим и поборемся мы с ней.
Так?
Дунай Иванович тоже улыбнулся:
— Вот, вот!…
«ТИШИНА»
Распрощавшись с Черепановым, Смолярчук заперся у себя на заставе, написал секретное донесение, вложил его в плотный конверт, засургучил, пропечатал и задумался: кого послать с донесением в комендатуру, кому оказать эту высокую честь? Перебрав в уме с десяток фамилий, за которыми стояли славные, достойные уважения бойцы, он остановился на молодом солдате Щербаке.
Особые отношения сложились у начальника заставы с этим первогодником-пограничником. Смолярчук знал Федю Щербака еще в ту пору, когда тот был мальчиком, семиклассником, носил красный галстук. Школа, в которой учился Федя, переписывалась с солдатами Яворской заставы. Много писем получил Смолярчук от Феди, много послал ему ответных. Однажды они встретились. Смолярчук приехал в школу со своим знаменитым Витязем, рассказал ребятам о своей службе, похвастал розыскными талантами овчарки.
Шли годы, крепла дружба пионеров с пограничниками. Учился Смолярчук, учился и его юный друг. Федор Щербак привязался к Смолярчуку, решил пойти по его дороге. Призванный в армию, он попал в пограничные войска, в школу инструкторов розыскных собак. По окончании ее командование удовлетворило его просьбу и послало служить в Ангору.
Смолярчук полюбил Щербака, но относился к нему строже, чем к другим. Верил ему во всем, но придирчиво проверял. Желал ему добра и потому обычно возлагал на него самые трудные задания. Крепко надеялся на него и потому искал его имя в первом ряду отличившихся.
Будь на месте Федора Щербака неустойчивый человек, романтик на час, ждущий от дружбы не высокой требовательности, а ласковых поблажек, — не служить бы ему под командованием Смолярчука. Федору Щербаку его особое положение на заставе никогда, даже в первые недели службы, не казалось тягостным. Не легкой жизни искал, когда рвался под крыло знаменитого следопыта. Хотел, не жалея ни энергии, ни времени стать таким, как Андрей Смолярчук. Хотел, чтобы граница была его родным домом, боевым университетом. Ни о каком чине, ни о каких наградах, ни о какой славе не думал Федор Щербак, надевая зеленую фуражку. Думал только о том, как бы поскорее усвоить мастерство Смолярчука, понять тайну его бесстрашия, таланта…
Краснощекий солдат, войдя, отрапортовал:
— Товарищ старший лейтенант, рядовой Щербак явился по вашему приказанию.
Темные строгие глаза смотрели на офицера прямо, с достоинством, спокойно.
О таком солдате мечтает каждый офицер, но не каждый знает, что именно делает его таким.
Смолярчук немало лет был рядовым и оттого хорошо знал солдатскую душу. Солдат ценит, когда сержант, старшина, офицер уважают его, верят ему, взывают ко всему лучшему, что в нем есть. Солдат любит человека, который, имея право наказывать и награждать, осторожно и мудро пользуется своей властью. Не по душе ему слепое подчинение, формальная муштра, холодная казенщина. Любит советский солдат, когда его начальник не только приказывает. Любит он в начальнике чуткость и приветливость, справедливость и правду в большом и малом. Каждый день с предельным напряжением выполняя боевое задание, рискуя жизнью, солдат никому не прощает трусости, малодушия, неряшливости, нетребовательности, неуверенности.
Понимание всего этого помогло Смолярчуку в самый короткий срок установить с бойцами своего подразделения самые верные отношения.
Взял со стола увесистый, перекрещенный шнурами, еще теплый конверт.
— Держите! Да покрепче, понадежнее.
Начальник заставы догадывался, что происходит в душе зеленого первогодка, и предоставил ему возможность сполна испытать доброе чувство.
Шнуры, прихваченные красными печатями, запах теплого сургуча, надпись на конверте «совершенно секретно», торжественно-суровое выражение лица старшего лейтенанта глубоко взволновали Щербака. Большая тайна доверяется ему. Тайна государственной границы. Первая в его жизни.
— Доставить на катере в комендатуру. Вручить лично подполковнику Кожаринову.
Щербак повторил приказание и, получив разрешение, вышел.
Катер загудел вверх по Дунаю. Смолярчук провожал его глазами до тех пор, пока он не скрылся.
Исчезло белое суденышко, замерли звуки мотора, а Смолярчук стоит, на берегу мутной реки и пытливо вглядывается в острова, в берега и воды своего участка границы. Почему враг избрал именно это направление? Разведал какую-нибудь слабину? Увидел и почувствовал, что граница уязвима?
Где же?
В чем просчитался Смолярчук, чего недосмотрел, недоглядел? Какая щель осталась? Какие вражьи тропы не перерублены, не перекрыты? Может быть, упустил какую-нибудь малость, прошел мимо чего-то на первый взгляд не существенного, что впоследствии обернется безнаказанным прорывом границы, серьезным успехом врага?
Дальние протоки и плавни, особенно плавни, всегда казались Смолярчуку опасной зоной. Вызывал беспокойство и Дунай. Десятки чужих судов проходят за сутки, и всегда возможна высадка лазутчика. Не все ночи бывают ясными. В туман не увидишь, что делается вокруг проходящих кораблей. В бурю не услышишь нарушителя. Ливневые дожди смывают землю с пограничной полосы на берегах, ломают камышовую изгородь.
Подбежал дежурный по заставе, доложил, что звонят из райкома, просят срочно прийти.
— Иду! — Смолярчук еще раз мысленным взором окинул границу своей заставы, воздушную, водную, земную, и покинул берег Дуная. Шагал по городу и спрашивал себя, все ли здесь, в ближайшем тылу, прочно, надежно, нет ли где слабины, не затаился ли в глухом темном углу друг тех, кто собирается нарушить границу.
Враг не пойдет туда, где нет надежды пройти, где он не имеет хорошей явки, соучастника, тайного покровителя. Если сюда, на район Ангоры, он нацелился, значит, рассчитывает на поддержку и приют. Но у кого?
Начальник заставы всегда обязан знать, что и кто у него за спиной. А в тот момент, когда ждет удара по границе, тем более.
Мысленно он побывал на рыбном заводе, заглянул на пристань, потолкался среди бондарей, входил в дома рыбаков, лодочников, грузчиков, продавцов, мастеров засола, счетоводов. Все здесь в порядке. Нет никакого, самого малейшего повода к беспокойству. Непроходимая зона, безжизненная для врага. Здесь ему дорога заказана. Другую облюбовал.
Сердце Смолярчука вдруг заныло, сжалось. Он остановился и с удивлением оглянулся, как бы отыскивая причину внезапной боли.
Степная улица, разделенная каналом и крутыми зелеными откосами, убегала прямой линией к Дунаю. Мосты, мостики, пристани, лодки, продуваемые ветерком сети. На берегах, в густой листве деревьев, светятся побеленные хаты с наведенными на стенах и ставнях цветами. На воде переговариваются гуси, утки. В тени моста кто-то гулко шлепает вальком по белью, брошенному на каменную кладуху.
Взгляд Смолярчука скользит по каналу, по лодкам, по хатам… одна, другая, пятая. Здесь, в пятой, живет Кашуба. Почему-то внезапно покинул Ангору. В Закарпатье, говорят, подался, в Явор. В монастыре караульщиком и лекарем виноградным работает. А жена его Марфа, суровая, ворчливая старуха, осталась в городе. И не скучает в одиночестве.
Возможно. Ну и что ж в этом особенного, достойного беспокойства? Ровным счетом ничего. Смолярчук пожал плечами и пошел дальше. Боль в сердце как будто исчезла. Но через несколько минут вернулась и опять уколола.
Кашуба, Кашуба!… Лет десять тому назад подозревался в незаконном хранении оружия. Вот и все, кажется, что ему известно о Кашубе.
«Маловато данных для тревоги», — Смолярчук усмехнулся и, уже не останавливаясь, пошел к райкому партии.
Наряд за нарядом уходили на границу. Каждого солдата провожал Смолярчук: осматривал оружие, снаряжение, боеприпасы, вводил в обстановку, отдавал боевой приказ. На первый взгляд все было как обычно. Но пограничники чувствовали в словах начальника заставы что-то волнующе новое, тревожное.
Пограничники несли службу на дозорной тропе, на берегу Дуная, в камышовых зарослях, на островах. Слились с вербами, кустарниками, травами, землей, с тишиной и темнотой, с дождем и ветром. Никто их не видит, не слышит, а они контролируют огромное пространство, от левого фланга заставы до правого. Только одному Смолярчуку ведомо, кто, где и какую задачу выполняет.
Последним отправлялся в наряд Федор Щербак. После возвращения из комендатуры он хорошо поел, отдохнул. Следы богатырского сна еще сохранились на лице: щеки помяты, глаза припухли. Видимо, до последней минуты, до побудки крепко спал молодой солдат. Смолярчук мысленно одобрил его. Молодчина. Правильно сделал. Нечего зря нервы трепать. Надо в любых, самых трудных условиях восстанавливать утраченные силы, набираться бодрости. Только сильный и бодрый, спокойный и расчетливый пограничник грозен для врага.
Переступив порог канцелярии, Щербак внятно, уверенно, с тем веселым азартом, который присущ жаждущей подвигов юности, доложил:
— Товарищ старший лейтенант, рядовой Щербак прибыл за получением приказа на охрану государственной границы.
И взгляд Щербака, и выражение его лица ясно дополняли слова: да, он готов выполнить любой приказ, будет счастлив, если на его долю выпадет сделать что-нибудь необыкновенно трудное, рискованное, очень опасное для него и очень полезное для границы.
Потеплело в груди Смолярчука. На губы запросилась дружеская улыбка.
Вспомнил он свою пограничную молодость. Вот таким был когда-то и он, Смолярчук. Восторженным, исполнительным сверх всякой меры, готовым ринуться в огонь и воду, хоть черту на рога, но недостаточно отесанным, познавшим только азы трудной науки пограничной жизни. Уже в те времена он воспринимал приказ на охрану государственной границы как высшее веление Родины.
Глядя сейчас на Щербака, замершего в ожидании приказа перед рельефной картой участка границы Ангорской заставы, Смолярчук вдруг отчетливо услышал голоса своих пограничных крестных отцов — капитана Шапошникова, генерала Громады.
Самые высокие, самые важные слова не дойдут до сердца солдат, если офицер произнесет их казенно, буднично, без святого убеждения в их необыкновенности, не подкрепит проникновенным, взволнованным взглядом и жестом, исполненным силы. Голый приказ подобен деревцу без корней. Не зеленеть ему, не расти.
Смолярчук встал лицом к лицу перед молодым бойцом и, глядя ему в глаза, как самое сокровенное из того, что знал, произнес слова приказа на охрану границы Союза Советских Социалистических Республик.
Смолярчук объяснял, где, что и как должен охранять Щербак, откуда можно ожидать врага, на что обязан обратить особое внимание. Не в пространство, чувствовал офицер, падают слова приказа. Каждое находит отклик в сердце молодого бойца, каждое светит ему, придает силы, уверенность, отвагу.
— Обнаружив нарушителя границы вот здесь, прежде всего позаботьтесь, чтобы он не отступил вот сюда. — Потемневшая от частого прикосновения рук, отшлифованная указка заскользила по карте. — Вас поддерживают здесь, и здесь, и здесь…
Щербак слушал внимательно, строго, затаив дыхание. Когда он повторил приказ, Смолярчук понял, что может быть совершенно спокойным за этот участок заставы.
Ушел в ночь, под дождь, в сырую, пронизанную холодным ветром темноту Федор Щербак.
Теперь пришло время и начальника заставы.
Смолярчук сменил легкие хромовые сапоги на яловые, пропитанные рыбьим жиром, надел ватник, плащ с капюшоном, взял фонарь со свежими батарейками, пристегнул к ремню кобуру с пистолетом-ракетницей, сунул в карман телефонную трубку с шнуром, отдал нужные распоряжения дежурному и тоже отправился на границу. Его сопровождал солдат.
Беленый, с дощатыми выгулами домик сторожевых и розыскных собак удален на порядочное расстояние от заставы. Но Витязь — не тот, не прежний верный друг молодости, боевой спутник на Закарпатской границе, но не хуже — сразу учуял шаги Смолярчука, понял, куда он идет, и требовательно заскулил. На границу просится. Непорядок. Но так уж и быть, надо взять.
Редко Смолярчук выходил без Витязя на границу. Привык, чтоб рядом с ним или чуть впереди на крепком поводке шагал чуткий и зоркий могучий волкодав. Еще лето в разгаре, август, а дождь льет по-осеннему. Тяжелые тучи нескончаемой чередой тянутся над Дунаем, оставляя на вершинах тополей грязно-серые клочья. Илистый берег стал мягким, податливым и скользким. В туманной мгле скрылась и румынская сторона, и острова. Еле-еле видны проходящие баржи и пароходы. Идут и тревожно гудят.
Безлюдно на набережной. В скверике напротив дебаркадера скрипучим маятником болтаются под напором ветра мутные фонари.
Смолярчук пересек это скудно освещенное пространство, окунулся в мокрую, настороженную темноту и много часов кряду не вылезал из нее.
На счету Смолярчука было немало побед. Не одного нарушителя обезвредил, предотвратил несколько катастроф, убийств, взрывов… И еще больше побед, которые обычно не регистрируются. Труд токаря, доярки, шахтера, комбайнера можно измерить количеством продукции. Чем и как измерить труд пограничников? Целый год трудятся, потратили немало патронов, солдатского харча, государственных денег, а что добыли, что произвели? Только тишину, только покой, только мир, безопасность границы. И это «только», невидимое, скромное, наполняло Смолярчука высоким сознанием исполненного солдатского долга, острой причастности к тому, чем живет страна, чем законно гордятся люди. Граница давно стала для него и передним краем Родины и передним краем большой, целеустремленной жизни. И потому он никогда не томился даже в глухой Ангоре. Туманы, дожди, грязь и холодный ветер не угнетали его, не выводили из равновесия. В любую погоду, в любое время дня и ночи, в любой обстановке он чувствовал себя хорошо.
Враг иногда атакует границы в Прибалтике, на Белом и Черном морях, в горах Памира, у подножия Арарата и в теплых лиманах Каспия, на водоразделе Копет-Дага, в Туркмении, в ее песчаных пустынях, а здесь, в устье Дуная, на таком приметном, таком важном международном перекрестке — длительное затишье. За весь год не было ни одного чрезвычайного происшествия. Никакой подозрительной возни на ее подступах. Почему? Граница неприступна? Да, верно. Но и на Кавказе такие же условия, и в Закарпатье, и в Прибалтике, однако там нет-нет да и появятся молодчики оттуда, с Запада. В чем же дело? Наверно, это дунайское направление до сих пор числилось у врага в глубоком резерве. Числилось!
С такими мыслями Смолярчук прошел вдоль берега Дуная, до правого фланга.
Мокрый, с пудовыми комьями грязи на сапогах, усталый, но довольный тем, что не обнаружил никаких погрешностей, возвращался на заставу. Устал и сопровождавший его солдат. Даже неутомимый Витязь порядочно измотался: откровенно настырливо тянул поводок, рвался домой, в сухой теплый домик.
Смолярчук еще раз, теперь в обратном направлении, пересек придунайский скверик. Фонари по-прежнему раскачивались, гремели, освещая одну группу деревьев и погружая в темноту другую.
Витязь зарычал. Смолярчук натянул поводок, оглянулся. По боковой аллее от пристани к заставе шагал какой-то человек, высокий, в плаще, в шляпе, с чемоданчиком.
«Приезжий, только что прибыл», — подумал Смолярчук и, взглянув на рейсовый пароходик Измаил — Одесса, пришвартованный у дебаркадера, пошел своей дорогой.
Витязь продолжал рычать, дыбил шерсть.
У выхода из скверика, в нескольких шагах от изгороди заставы, Смолярчук услышал позади себя срывающийся голос:
— Товарищи!…
Человек в плаще медленно приблизился. Испуганными, затравленными глазами смотрел то на собаку, то на пограничников и молчал. Лицо молодое, белое, тоже испуганное. Губы трясутся.
— В чем дело? — спросил Смолярчук и покороче подобрал поводок.
— Вы… вы оттуда? — человек махнул свободной рукой на большой двухэтажный дом.
— Да. А что?
— Пограничники?
— Да. В чем дело?
— Мне нужен начальник. Я должен сообщить ему…
— Я и есть начальник. А вы?…
— Моя фамилия… Качалай Матвей Матвеевич. Я только что приехал из Одессы… Простите, мне трудно здесь разговаривать. Я боюсь… меня не должны видеть с вами.
— Пойдемте! — Смолярчук пропустил человека, назвавшегося Качалаем, вперед и оглянулся. В скверике не было ни души.
На заставе, в теплой, ярко освещенной канцелярии, он внимательно оглядел незнакомца. Никаких особых примет, ничего бросающегося в глаза. Обыкновенный плащ, какой можно купить в любом захолустном магазине. Черные ботинки с галошами. Серенький, помятый костюм. Дешевый чемодан с потертыми углами. Заношенная, надвинутая на уши шляпа.
Качалай сел, положил на колени руки и категории чески заявил:
— Вы должны меня арестовать. Я за этим и пришел.
Смолярчук снял телогрейку, вытер мокрую голову мохнатым полотенцем, с холодным любопытством взглянул на Качалая.
— Не по адресу обращаетесь. Почему вас надо арестовать? Что вы сделали? Совершили какое-нибудь; преступление?
— Нет, не совершил, но… Дело в том, что я… что они…
— Документы попрошу!
— Извините! Вот.
Он вывернул карманы, выложил на стол небольшую сумму денег, воинский билет, паспорт, командировочное предписание, пропуск и, наконец, конверт с запиской и деньгами, адресованный Петру Кашубе. Все документы как будто настоящие. Да, Качалай Матвей Матвеевич. Тысяча девятьсот двадцать пятого года рождения. Украинец. Рожден в Одессе, прописан там же. Командирован в город Ангору областной филармонией. Срок командировки — с пятнадцатого августа по пятнадцатое сентября.
Смолярчук просмотрел документы и еще раз спросил:
— Что вы сделали? Какое совершили преступление?
— Я… я ничего не сделал. Честное слово. Клянусь. А вот они…
— Кто?
— Мой отец, его друзья… заклятые друзья… Запутали. Вы должны арестовать меня и переправить в Одессу.
— А вы откуда сюда приехали?
— Прямо из Одессы.
— Почему же вы не пошли в Одесское управление, не попросили вас арестовать?
— Боялся. Мог бы и не дойти туда. Только здесь почувствовал себя в безопасности. Если бы вы знали, как я измучился!… Простите, я больше не могу. Все расскажу там, в Одессе, органам безопасности. Ничего не собираюсь утаивать.
— На один вопрос я все-таки попрошу ответить здесь. — Смолярчук взял со стола конверт с деньгами и запиской, адресованной Кашубе. — Что это за письмо?
— Там все написано… Извините!
— Вы должны были его лично передать?
— Да.
— Когда?
— Сразу же по приезде сюда. Я должен был у него остановиться.
— А если бы Кашубы не оказалось дома?
— Меня бы приютила его жена, Марфа. Она меня не знает, но послание отца…
Смолярчук еще раз перечитал записку.
— Вам что-нибудь непонятно? — встревожился Качалай, и заискивающая улыбка чуть оживила его бескровные губы.
Смолярчуку многое хотелось выяснить, но он сдержался. Чекистская сноровка требовалась и в таком, казалось бы, нехитром деле, как первый разговор с человеком, явившимся с повинной. Его прежде всего должен допросить очень опытный, осведомленный работник КГБ. Мало ли что скрывается за личиной раскаяния.
Качалай заискивающе смотрел на внезапно замкнувшегося пограничника и пытался понять, чем вызвано его молчание.
— Вам что-нибудь не понятно? — еще раз спросил он.
— Кашубы нет дома больше месяца, — сказал Смолярчук. — Вам известно об этом?
— Да.
— Где же он?
— Не знаю.
— Он в Одессе?
— Нет его там. — И, предупреждая следующий вопрос, Качалай умоляюще взглянул на Смолярчука: — Прошу вас мне верить. Я не знаю, где он.
— Зачем вас послали сюда?
— Я должен был поселиться у Марфы Кашубы, ждать возвращения ее мужа, а потом…
Смолярчук прервал Качалая:
— Ясно! Я выполню вашу просьбу… переправлю вас в Одессу.
Дежурный по заставе увел задержанного.
Смолярчук соединился по телефону с комендатурой, сообщил о происшествии. Ждал, что последует указание отправить явившегося с повинной в Одессу. Поступил другой приказ. «Качалай до особого распоряжения остается на заставе. Ждите приезда начальника пограничных войск округа. Генерал Громада уже выехал в Ангору. Встречайте».
Смолярчук хорошо узнал еще в Закарпатье и характер Кузьмы Петровича Громады и его привычки. Конечно же, появившись на заставе, он сразу наполнит ее своим молодым гремящим басом, смехом, шутками. Самые серьезные дела он умеет делать без унылой, наводящей тоску казенщины. Войдя в казарму, не будет грозно хмуриться.
Запросто, дружески поздоровается с пограничниками, мгновенно найдет повод для всеобщего, обязательно интересного разговора о службе, о домашних делах. Во время беседы, будто между прочим, улучив удобный момент, проверит, хорошо ли постираны солдатские простыни, исправно ли работает сушилка.
Так же непринужденно, без показной строгости, проверит состояние оружия, пообедает или поужинает в солдатской столовой, а заодно убедится, сытно ли и по норме ли кормят. Потом, вооружившись очками в массивной роговой оправе, тщательно просмотрит бумаги, журналы, проверит службу нарядов за последние недели. Заглянет и в помещение для собак, и в баню, и в каптерку. Непременно побывает и на границе, на дозорной тропе.
Много застав в войсках Громады. Разные они, одна на другую не похожи. Горные. Морские. Речные. Лесные. Болотные. И каждую заставу Громада знает, будто долго служил на ней. Каждый участок границы, от украинских берегов Черного моря до Полесья, исходил, изучил, запомнил навсегда. Смолярчуку как-то в Закарпатье довелось слышать нечаянное признание Громады: «Я мог бы с закрытыми глазами пройти по всей границе, которую охранял».
Более тридцати лет назад начал Громада свою службу. От тех времен сохранилась пожелтевшая, выцветшая фотография. Смолярчук видел ее в пограничном музее. Молоденький боец в богатырском шлеме с двумя козырьками, прозванном «Здравствуй и прощай», в гимнастерке с короткими рукавами, в узких и коротких штанах, в молдаванских постолах (даже солдаты в те времена не имели сапог) стоит у пограничного столба с трехлинейной винтовкой. На безусом лице наивно-гордая улыбка. Не в бою сфотографирован боец, в мирную минуту, а чувствуется в нем солдатская сила, отвага и счастье победителя. Боевое счастье одного из тех русских солдат, которые во время Первой мировой войны втыкали штык в землю, братались с немцами, превращали войну несправедливую в справедливую, гражданскую, штурмовали Зимний, били Деникина, барона, Врангеля.
Таким и поныне остался Кузьма Громада — энергичным, веселым, обаятельным человеком, покоряющим всякого, с кем общался. Генералом среди генералов. Солдатом среди солдат. И в шестьдесят не отрешился от того, чем был богат в двадцать — дружелюбным интересом к людям, вниманием к ним, верой. Всюду находит повод посмеяться, пошутить.
Смолярчук уважал и любил Громаду. Встреча с Кузьмой Петровичем всегда бывала для него праздником и большим испытанием. Разговаривая с ним, он с необычайной ясностью вдруг видел, чувствовал и понимал себя: в чем силен, в чем слаб.
Громада прибыл в Ангору вечером. На этот раз он не оправдал ожиданий Смолярчука. Не отправился, как обычно, на границу. Не изучал никаких документов. Не был ни на кухне, ни в казарме. Выслушал рапорт начальника заставы, поздоровался, спросил:
— Где он, «командировочный»?
Смолярчук приказал привести задержанного.
Громада долго разговаривал с Качалаем. Часа через два отослал его и, взглянув на Смолярчука, сказал:
— Ну, товарищ старший лейтенант, давайте обсудим создавшееся положение. Сигнал нашего общего с вами друга Дуная Ивановича, как видите, подтверждается и этим… Качалаем. Он небольшой винтик, пешка, однако и ему уже известно, что здесь, в Ангоре, затевается какая-то крупная игра.
Смолярчук тяжко вздохнул, покачал головой, но сдержался, промолчал.
— В чем дело, старший лейтенант? Почему такой вздох?
— Вздохнешь!… Где, когда, как, почему я ошибся, что не доделал, не досмотрел?
— Не понимаю.
— Я говорю о своей заставе. Не зря враг нацелился на наш участок границы. Есть здесь, как видно, благоприятные условия для атаки.
— Вы полагаете, что есть? — пристрастно спросил Громада.
— Не я полагаю, товарищ генерал, а он… нарушитель.
— Вы что же, с его точки зрения изучали ангорскую заставу? Думали за него?
— Обязан думать и за него, товарищ генерал.
— Ну и что? Нашли уязвимые места?
— Нашел!… Во-первых, здесь больше года тихо, никаких чрезвычайных происшествий. Люди привыкли к тишине. Привыкли и создали благоприятные условия нарушителю.
— Клевещете на себя, старший лейтенант.
— Не я, товарищ генерал, клевещу, а он, наш противник. Ему кажется, что мы закисли в тишине, плохо соображаем, плохо слышим, ничего не предчувствуем, не предвидим.
— И вы хотите доказать, что он ошибся, да? — с насмешливо-лукавым упреком спросил Громада. — Вы, разумеется, уже составили план особых мероприятий, собираетесь держать под током высокого напряжения и себя и все подразделение?
— Да, товарищ генерал, — растерянно ответил Смолярчук. Он понял, что сделал не то, что надо, но не знал еще, в чем же именно промахнулся.
— Поторопились, старший лейтенант! Рано. Зря хотите наставить своего противника на путь истинный. Пусть и дальше блуждает в потемках, убаюкивает себя убеждением, что здесь, на Дунае, пограничники закисли в тишине, не ждут чрезвычайных происшествий.
Смолярчук опустил голову. На смуглом его лице выступили пятна лихорадочного, нервного румянца. Давно не юноша, скоро тридцать ему, а до сих пор краснеет.
Громада поднялся, подошел к столу, огромной своей ладонью накрыл развернутый лист бумаги, исписанный красивым почерком Смолярчука.
— Отменить! Все это было бы хорошо в другое время, а сейчас… Все остается по-прежнему. Мы не должны вспугнуть молодчиков из «Отдела тайных операций». Пусть приходят. Милости просим, как говорится, добро пожаловать! Встретим не пулями, не ракетными всполохами, а тишиной. Короче говоря, предстоит операция «Тишина»! По нашему плану. На позициях, подготовленных нами. До конца операции я буду в штабе отряда. А на заключительном этапе операции, когда она перестанет быть тихой и превратится, возможно, в шумную, переберусь сюда. У меня пока все, товарищ старший лейтенант. Уезжаю! Вопросы есть?
— Есть. Что прикажете делать с Качалаем?
— Держите его в изоляции до возвращения полковника Шатрова из Одессы. Теперь слово за чекистами.
ДУНАЙ ИВАНОВИЧ
В самое короткое время Шатров и Гойда установили, что Петр Михайлович Кашуба вполне реальная фигура. Родился и вырос на одном из островов, в гирле Дуная. В юности рыбачил. Был матросом, браконьером, садовником, контрабандистом, шинкарствовал. Много пил. Женился поздно. Дома бывал редко. Больше бродяжил по Дунаю. Несколько лет пропадал где-то в южной Румынии: говорят, работал на виноградных плантациях короля Михая-отца. Вернулся на Дунай перед самой войной, пожил немного в Ангоре и нанялся в монастырь виноградарем. Пользовался особым покровительством игуменьи Филадельфии. Пить не бросил, но пил втихую, в своем монастырском чулане.
В городе на Степной улице живет его отставная жена Марфа Кашуба. Утверждают, что она ненавидит мужа, пренебрегшего ею.
Уехал в Закарпатье якобы ненадолго. Наведет порядок в запущенных виноградниках монастыря над Каменицей и вернется на Дунай.
Говорят, уехал с рекомендательным письмом игуменьи Филадельфии.
Кто подменил Кашубу? Добровольно он согласился на это? Или же убит, чтобы «Говерло» воспользовался подлинным именем?
На все эти вопросы Шатров и Гойда пока не получили ответа. Им не удалось узнать, где бывал Кашуба в последние дни перед отъездом, с кем встречался.
Многое могли бы они выяснить в монастыре, но Шатров не счел возможным еще раз прибегать к услугам монахинь. Розыски пропавшего виноградаря должны быть тайными…
На легкой одновесельной лодке Гойда подплыл к дому № 5, стоящему на берегу окраинной протоки, на Степной улице. Бросив суденышко у домашнего причала, он поднялся по старой догнивающей лестнице на крутой откос и очутился перед невысоким ивовым плетнем.
— Эй, люди добрые, отзовитесь! — закричал он.
На крылечко свежепобеленной мазанки вышла высокая, располневшая хозяйка, Марфа Кашуба. Руки у нее темные, натруженные, но лицо, сбереженное временем, почти без морщин, чистое, смуглое. Брови широкие, густые, а под ними — не замутненные долгой жизнью, свежей синевы глаза. Снизка старинных, червонного камня бус обхватывает не дряблую, крепко посаженную шею.
— Кто тут? Что надо? — сердито окликнула Марфа.
— Из Одессы я, бабуся. Поручено мне проведать вас и передать посылку.
— Какая такая посылка? Ошибся адресом. Поворачивай, плыви дальше!
— Не ошибся. Попал в точку. Степная улица, дом №5?
— Верно. Фамилия какая тебе нужна?
— Сейчас скажу… Разрешите войти?
— Входи, чего уж.
Гойда откинул ивовую, на веревочных петлях калитку, вошел во двор, снял фуражку.
— Добрый день! Проездом я, из Одессы. Петр Михайлович Кашуба дома? Письмо ему и деньги передали. Шестьсот целковых!
— Смотри-ка! Откуда ему такой бешеный косяк привалил? От Господа Бога или от самого нечистого?
Гойда засмеялся.
— В аду и раю денег нет, бабуся. Там без них обходятся. — Он достал из кармана письмо, протянул его Марфе. — Вот, читайте, будь ласка. Тут сказано, от кого деньги и за что.
Марфа скрестила на груди руки, презрительно поджала губы.
— Мы грамоте не обучены. Ни к чему это нам. Читай сам!
— Могу… Адрес отправителя: Одесса, Красноармейская, восемь, Качалай. И вот что тут написано: «Уважаемый Петро Михайлович! Извиняйте, что не сдержал свое слово и не выслал в июле, как обещал, должок: туговато было с наличными. А теперь получил гонорар и рассчитываюсь с вами. Сообщаю также, что все ваши лозы принялись. Ни одна не запаршивела трудовиком, как было в прошлом году. Помните, что лозы, зараженные трутовиком, не лечат, а сжигают на корню. Спасибо за труды и за науку. Всего вам наикращего. Будете в Одессе — заходите…» Ясно теперь, бабуся? Приглашайте своего дидугана. Пусть забирает гроши.
— Нету его. Был, да сплыл.
— Не понимаю.
— Уехал.
— Так чего ж вы мне сразу не сказали? Куда уехал?
— А кто же его знает! Ищи ветра в поле.
— Не знаете, где ваш собственный муж?
— Был когда-то мужем… В монастырь иди, к длиннохвостой Филадельфии, она все знает о своем садовнике.
— Зачем же мне в монастырь идти, когда Кашуба здесь живет.
— Нету его здесь. И не будет. Вот так. Бывай здоров.
Марфа махнула рукой, повернулась, пошла в дом.
— Постойте!
— Ну?
— А вы не можете получить письмо и эти шестьсот рублей?
— Не мои же деньги, голова!
— А вы передадите их Кашубе.
— Не путем говоришь. Отнеси Филадельфии эти деньги, она их любит. Ради них и в монастырь пошла.
— Не понесу. Не родственница же она Петру Кашубе.
— Иди себе, иди!
Гойда не мог уйти, не выяснив главного.
— Что же мне делать? Как найти вашего мужа? Бабуся, а друзья у вашего Петра были?
— Кто с таким дружить станет?
— Не может же человек без друга обойтись.
— Один-разъединственный дружок у него, такой же забулдыга. С контрабандой когда-то в Одессу шастали.
— Это кто же?
— Друг дружки стоят. На обоих клейма негде ставить, а кобенятся, благородных да честных корчат из себя, один другого стыдятся. Тайком они схлестываются.
— Тайком? Это почему?
— А чтобы люди не знали про их пьянку. Сойдутся на островке, покуролесят два-три дня, набезобразничают — и прыскают в разные стороны как ни в чем не бывало.
— Вот так дидуган… А кто же он такой, дружок Петра?
— Сысой Уваров. Бакенщик с Тополиного острова.
Гойда сейчас же мысленно повторил. «Тополиный. Бакенщик. Сысой Уваров».
В своем устье Дунай расщепляется на судоходные рукава, каналы, образует обширные мертвые заводи озера, протоки, дремучие плавни. Тут, на территории восьмого дунайского государства, вблизи от Черного моря разбросаны сотни больших и малых, и с именами и безыменных, лесистых и голых, плавучих и неподвижных, обжитых и необитаемых островов.
Остров Тополиный небольшой: метров двести в длину, сто — в ширину. Зарос тальником, вербами. Берега резиново-упругие, покрыты толщей наносного ила. Приметен он среди других тремя тополями. К небу рвутся они, переплетаясь могучими ветвями. Тени их темной тучей лежат на воде.
У подножия тополей-близнецов приткнулся домик бакенщика Сысоя Уварова. Стены сделаны из камыша, обмазаны глиной. Крыша тоже камышовая. Невдалеке бревенчатый причал с лодкой.
Напротив Тополиного, на другом берегу рукава, темнеет необитаемый островок, заросший кустарником. Здесь и нашли себе пристанище Гойда и его товарищи по оперативной группе. День и ночь, часто меняясь, они наблюдали.
Сысой Уваров утренней и вечерней зарей объезжал на лодке свое бакенное хозяйство, потом ловил рыбу, собирал валежник, ездил в город за продуктами, копался в огороде, стряпал на печурке под открытым небом обед и ужин, подолгу сидел на причале, дымя трубкой, и вглядывался в дунайскую дорогу.
Ни детей, ни жены у Сысоя Уварова нет. Одинок.
В первый же день наблюдения Гойде стало ясно, что Сысой Уваров на острове не один. В Ангоре он купил буханку хлеба, брус масла, пачку сахару, сигареты, свечи, две бутылки водки. На другой день опять была куплена буханка хлеба, сало, колбаса, водка и несколько пачек сигарет. А вечером, когда Сысой Уваров сидел на берегу Дуная, сумерничая, в домике его на короткое время вспыхнул свет; кто-то, видимо, закуривал.
Ночью человек, скрывавшийся в домике, вышел из убежища и минут десять просидел на крылечке. Крупная стриженая голова. Заросшее худое лицо.
Гойда узнал скрывающегося человека. Это был настоящий Кашуба.
А спустя несколько дней небольшой пароход «Бреге» спускался с верховьев Дуная. На траверзе Тополиного судно замедлило ход. С острова сейчас же ответили вспышкой ручного фонарика. Спустя некоторое время с парохода в дунайскую воду упали какие-то громоздкие предметы.
Груз утонул, не оставив на поверхности буя.
Как только пароход скрылся, бакенщик сел в лодку, выгреб на фарватер Дуная, прошел над тем местом, где была затоплена «посылка».
С первыми лучами солнца Сысой Уваров снова был в лодке. Поехал в город. Сделав свои Обычные покупки, он по дороге на пристань заглянул на почту, опустил в ящик письмо. Адресовано оно было в Явор, в монастырь, садовнику Петру Михайловичу Кашубе. На листке, вырванном из тетради, Сысой Уваров написал:
«Здорово, Петро! Низко кланяется тебе и шлет дунайский привет твой однокашник и кум Сысой Уваров. Живы мы пока и здоровы. Того и тебе желаем. Правда, ты не стоишь доброго слова. Уехал и как в воду канул. Почему не аукнешься? Неужто не тянет на родной Дунай? Неужто прикипел к каменным горам и праведницам? Если так, пропащий ты человек. Эх, Петра! Рыба кишит в Дунае, как чирва, сама в котел просится. С холодных стран прилетела всякая крылатая вольная тварь. Пеликаны на своих ходулях прохаживаются по мелководью, охотятся на плотву. На заре в плавнях трубят лебеди. В садах ветки гнутся от яблок, груш, айвы. На баштанах лопаются дыни-дубовки. Жаром горят кавуны. В бочонке пропиталась рассолом дунайская селедка…
Что, потекли слюнки, прихлебатель монашеский? Приезжай! Для тебя припас в холодной копанке белоголовую. Фу, умаялся уговаривать!
Жду. С тем и до свидания.
Сысой».
Между строк этого письма особым составом сообщалось главное: «Сегодня ночью вторая партия груза благополучно доставлена. «Дядя» известил: со дня на день я должен ждать гостя. Поживет у меня недели две, сделает свое дело и переедет к вам. Приготовьтесь! Пароль: «Говорят, вы хорошо лечите виноградную лозу, зараженную трутовиком». — «Лечат людей, а виноград, зараженный трутовиком, выкорчевывают и сжигают». Срочно подтвердите получение сего».
Шатров и Гойда точно установили и отметили на карте место, где был сброшен какой-то груз с чужого парохода «Бреге», — тихая дунайская протока, прикрытая с одной стороны необитаемым островком, с другой — глухими плавнями.
Глядя на реку чуть прищуренными глазами, Шатров подумал вслух:
— Интересно, какой еще «подарок» послали нам фюреры американской разведки?
— Разрешите нырнуть и посмотреть? — сказал Гойда и начал раздеваться.
— Васек, ты здорово преувеличиваешь свои возможности, — Шатров посмотрел на помощника и усмехнулся. — В этом месте Дунай так глубок и быстр, что дно его может прощупать только очень опытный ныряльщик в полном подводном снаряжении.
— Что же делать?… Давайте пригласим ныряльщика с аквалангом из Москвы или Севастополя.
— Долго ждать. Опасно терять время. Найдем здесь, в Ангоре.
— А разве он здесь есть?
— Есть. Да еще какой!… Неужели не слыхал о Капитоне Черепанове?
— Черепанов?… Нет, не слыхал.
— Удивительный человек. Здешний, с Лебяжьего острова. Рыбак. Сын русского помора, Ивана Черепанова, когда-то скитавшегося по Румынии и осевшего в гирле Дуная. Иван охотился, рыбачил. Женился на рыбачке Ладе. Через год у Лады и Ивана появился сын Капитон. В десять лет Капитон Черепанов потерял отца и попал к немцам-колонистам. Бездетным Раунгам понравился белобрысый пастушонок, они усыновили его, переименовали в Вильгельма. Совершеннолетнего Вильгельма, немца, подданого Румынии, мобилизовали в королевским румынский флот. В разгар войны он, как немец и лучший на флоте пловец и ныряльщик, был послан в секретное соединение «К», на север Италии в Доломитовые Альпы. В Вальдао, в закрытом бассейне, итальянцы, первые ныряльщики Европы, первые подводные диверсанты, передавали немцам свой боевой опыт. Через несколько месяцев Вильгельм Раунг и вся школа перекочевали в Венецианский залив, на остров… Да, я не сказал тебе самого главного: еще в самом начале войны Капитон стал членом патриотической подпольной организации «Романо».
— Он и теперь ныряет? — спросил Гойда.
— Когда нужно, то ныряет.
— Интересно!… Потомок беглого русского помора… Усыновлен румынскими немцами… Член подпольной организации «Романо». Боец секретного соединения «К»… Расскажите о нем подробнее, Никита Самойлович!
— Это длинная история. Но ты должен все знать о Дунае Ивановиче. Так вот!…
«Джулия» скользила по жемчужно-зеленой воде лагуны. На островах раскинулась Венеция — старинные дворцы и церкви, каменные щербатые улочки, шумные траттории, темные от времени и сырости дома, отраженные черным зеркалом каналов.
В лучах лунного света сверкала песчаная коса, отделяющая лагуну от Адриатики. Там, где она расчленялась проливами, вставали прямо из воды курортные городки Порто-Лидо и Порто-Маламоко.
Высоко проносились облака, то закрывая, то открывая круглый чеканный месяц. Его негреющий, пронзительный свет холодно поблескивал на чешуе еще живой, трепещущей рыбы, на кожухе мотора, стальных крючьях и стеклянных поплавках выбранной сети.
Чезаре Браттолини сидел на корме, чуть пошевеливая рулем, и, подгоняемый приливом к берегу, думал о море, о его богатствах, о своей бедности, о войне. Военный разбой всегда приносил людям беды, а они все еще дерутся, губят свои жизни, свой труд, теряют сыновей.
Кулаки Чезаре сжимаются. Как живые, предстают перед ним сыновья.
Джанни любил играть на гитаре, любил девушек, и они любили его, любил песни, любил море. А Муссолини сделал его пехотинцем и погнал в Абиссинию. Там все ему было чужое. Погиб. За что?
Леонардо ковал якоря и цепи, дворцовые решетки, похожие на черные кружева. Его оторвали от любимого дела, обучили метать огонь и погнали на далекий север. В ледяной степи на Дону он и сложил свою голову. А за что? Зачем ему холодная, чужая Россия, когда у него был солнечный Венецианский залив, Адриатика, Средиземное море?
Джузеппе, гондольер, не пошел по дороге старших братьев. Скрылся в Альпах, стал партизаном.
При мысли о младшем сыне на сердце старого рыбака потеплело.
— Салют, отец!
Отец?… Не может быть. Послышалось. Ни единой души вокруг. Только облака, луна, застывшая вода лагуны и темная Венеция на горизонте.
— Салют, отец! Добрый вечер!
Голос прозвучал сильнее, увереннее — зычный, чуть хрипловатый, как у Джузеппе и у всех людей, выросших на неспокойной морской воде.
Чезаре быстро обернулся.
Никого!
Но где-то близко, кажется за кормой, шумно дышал человек.
Санта Мария! Не болен, не пил вина. Никогда не боялся ни бурь, ни коричневых, ни черных рубашек, а теперь душа ушла в пятки.
— Спаси и помилуй!… — пробормотал Чезаре.
— Извини, товарищ Браттолини! Не хотел напугать. Здравствуй.
— Где ты?… Кто ты?… — помертвевшими губами шептал рыбак.
— Я тут, успокойся, пожалуйста.
До слез, до боли в глазах вглядывался Чезаре в лунные лагуны, но ничего не видел, кроме пучка морских маслянистых водорослей. Потом из воды показалась черная рука, схватила борт шаланды.
Чезаре хочет крикнуть, но губы не шевелятся. Запустить бы мотор, бежать — к островам, к берегу, к людям, но руки не слушаются.
— Браттолини, не бойся меня, я твой друг.
Исчезло то, что казалось водорослями, и Чезаре увидел лицо незнакомого человека. Молодое. Очень бледное. Приветливое.
— А я думал, рыба разговорилась. Дуролом! Чуть на тот свет не отправил ты старика.
— Виноват. У меня нет другой возможности повидаться с тобой, поговорить.
Обыкновенные слова, обыкновенный человек, хоть и в шкуре лягушки. С удивлением и любопытством смотрел Чезаре на черного с белым лицом ныряльщика и вспоминал, что слышал о людях-лягушках.
В самом центре Венецианской лагуны, на крохотном островке, поднимался серый, обнесенный каменной стеной, древний монастырь Сан-Джорджо-ин-Альга. Долгое время он был необитаем. Недавно, весной, по Венеции прошел слух, распространенный властями: в монастыре создан госпиталь для выздоравливающих раненых. Но рыбаков не проведешь, они скоро узнали правду. Оказывается, в монастыре поселились люди-лягушки. По ночам они шныряют по всей лагуне, пугают ночных купальщиков на курорте Порто-Лидо. Греются в холодный день на солнышке, как тюлени, на безлюдных песчаных отмелях косы. Вечерами озоруют в канале Гранде, под «Мостом вздохов», у причалов портовой мельницы и овощного рынка, у набережной Дворца дожей.
Чезаре кивнул головой в сторону монастырского островка.
— Значит, ты оттуда… человек-лягушка?
— Я человек.
— И что же этот человек делает среди «лягушек»?
— Днем спит, ест, читает «Майн кампф», зубрит наставления. Вечером натягивает резиновый комбинезон, взваливает на спину баллоны со сжатым воздухом, подпоясывается свинцовым ремнем, берет водонепроницаемый компас, фонарь и спускается под воду. Всю ночь бродит по дну лагуны. На рассвете, изнуренный, еле двигаясь, возвращается домой, докладывает начальству о выполненном задании, заваливается спать… В другую ночь тренируется около «Тампико»…
— «Тампико?» — недоверчиво переспросил Чезаре. — Корабль-утопленник?
— Да, тот самый, он уткнулся носом в грунт, но корма во время прилива держится на плаву. На дне лагуны и танкер «Иллария». Люди-лягушки с полной выкладкой тренируются около кораблей-утопленников.
— И все такие, как ты… немцы?
— Я не такой, Чезаре.
— Кто же ты?
— Твой давний друг.
— Друг?… Среди «жаб» у меня друзей на водится.
— Да, ты меня не знаешь, а я тебя знаю. Все лето кружился вокруг твоей шаланды. Живешь ты на острове Джудекка. Сильвана — твоя жена. Дочери, Джулии, недавно исполнилось девятнадцать. Она прислуживает в траттории на Пьяца ди Сан Марко. Хорошая, красивая девушка. Умница.
— Допустим… Зря ты кружишь вокруг нас, парень. Нечем поживиться твоей квестуре [3].
Ныряльщик засмеялся.
— Квестура, слава богу, не догадалась и под водой работать. А то бы она проведала, что ты и Джулия связаны с гапистами. Повесят меня, если узнают, что встретился с тобой. Друг я ваш, товарищи!
Парень говорил просто, действительно дружески. Лицо его нежное, как ствол березы, брови золотистые, ресницы пушистые, губы улыбаются.
Чезаре давно научился отличать ложь от правды, притворство от сердечности. Поверил ныряльщику.
Поверил, однако не спешил сознаться в этом. Проверял и его и себя.
— Ты говоришь по-итальянски, как румын.
— Нет, я не румын. Русский из Румынии. Дунайский водохлеб. Угости табачком, Чезаре.
Рыбак вложил ему в зубы зажженную сигарету.
— Русский?
— Да.
— Как зовут?
— Дома звали Дунаем Ивановичем, а здесь — Вильгельмом Раунгом. Немец!… Настоящий. Не подкопаешься.
— Зачем ты стал немцем, да еще «лягушкой»?
Дунай Иванович погасил недокуренную сигарету в воде, сказал:
— А зачем твой брат Паоло, честный итальянец, стал карабинером в тайной полиции?
— Ты и это знаешь? — изумился Чезаре.
Луна нырнула в темные облака. В глубоководном проливе на дороге больших кораблей, над пляжами и купальнями Порто-Лидо вспыхнул сторожевой прожектор. Узкий сильный луч прощупывал от кормы до носа приземистое судно, медленно входящее в лагуну.
Свежий ветер донес с островов звон колоколов, отбивающих зорю.
— Чезаре, мне нужна твоя помощь. Хочу вернуться домой. Поможешь?
Рыбак медлил с ответом. Свет месяца, выглянувшего из-за тучи, бил ему прямо в лицо, но теперь оно было хмурым, в жестких морщинах. Холодно, пытливо смотрел итальянец на русского.
— Почему ты хочешь вернуться домой?
— Я там нужен.
— Кому?
— Тем, кто воюет против Гитлера.
— Воюют с Гитлером везде. Нам и здесь, в Венеции, требуются солдаты. Переправлю тебя к Джузеппе, в Альпы, к партизанам.
— Должен быть на Дунае, на Черном море. Ждут меня. Там очень нужны подрывники.
— Ладно, допустим… Что тебе надо?
— Документы немецкого солдата-отпускника моих лет, обмундирование, чемодан.
— Попробую достать. Еще что?
— Карты области Венетто, южной Австрии и немного денег… немецких марок, ваших лир.
— Когда хочешь уехать?
— Как можно скорее.
— Залезай, спрячу! Через час согреешься в моей хижине. Оттуда и переправим в Австрию.
Дунай Иванович улыбнулся посиневшими губами.
— Я не надеялся, что так быстро поверишь. Завтра могу уйти, если ты будешь здесь в десять вечера.
— Буду!
Дунай Иванович поднял голову, посмотрел на голубеющее небо.
— Мне пора, отец. Привет! До завтра!
Надвинул капюшон, сетку с маской и ушел под воду, В том месте, где он скрылся, едва слышно журчали пузырьки воздуха.
Рассветало.
Мелководная, глухая бухта. Бетонный причал. Каменная лестница со стертыми ступеньками ведет на обрывистый берег, к источенной ветрами монастырской стене.
Дунай Иванович сдернул ласты и, оставляя на камнях следы резиновых чулок, сутулясь под тяжестью снаряжения, неуклюже заковылял наверх.
На восточной окраине Венеции, над Сан-Джорджо-Маджоре небо стало огненным. Над промышленным пригородом Маргера, над трубами заводов пламенела дымная туча, насквозь просвеченная солнцем. По огромному мосту, переброшенному с материка на остров, приглушенно грохотал электропоезд. Истребители барражировали над лагуной и городом. Рыбачьи шаланды возвращались с Адриатики.
Перед железной калиткой Дуная Ивановича встретил часовой в комбинезоне, в берете, с пистолетом в черной кобуре.
— С благополучным возвращением! — Он шлепнул ныряльщика по спине, обтянутой тугой резиной, блестящей от воды, распахнул перед ним калитку. — Ты последним явился.
Дунай Иванович вошел во двор и увидел привычную унылую картину. Зубчатая громада монастыря, освещенная с одной стороны солнцем и темная с другой. Вытоптанная песчаная площадка. Островки чахлой травы. И бункер. Вот и все. На бетонный горб убежища брошен большой резиновый ковер, и на нем греются солдаты секретного соединения «К». Среди них были старший фенрих Кинд, пловец среди пловцов и знаменитый австриец Альфред фон Вурциан, главный инструктор, будущий чемпион. Положив на колени журнал-дневник, он что-то писал.
Оставляя на песке сырые пятна, Дунай Иванович отрапортовал фенриху о выполненном задании, потом сказал:
— Ну и ночка, будь она проклята!
Австриец оторвал взгляд от журнала, посмотрел на бледное, распухшее от холода лицо Раунга.
— Вилли, ты похож на утопленника. Опять увлекся глубинами?
— Тянет меня туда.
— Смотри, как бы не охмелел, не остался там.
— Двум смертям не бывать.
Он поставил баллоны под зарядку, снял комбинезон, шерстяное белье, заглянул в полутемную прохладную келью врача, прошел положенный осмотр и с удовольствием наконец растянулся на солнцепеке. Так обычно поступают все пловцы, возвращаясь с тренировки. Не до разговоров сегодня Черепанову с «лягушками». Хочется окинуть мысленным взглядом предстоящий путь на Дунай.
Голые и полуголые ныряльщики, загорелые, черноголовые, рыжие, белесые, наслаждались солнцем: кто дремал, кто лениво курил, кто читал газеты. Нет пока среди них ни выдающихся, ни храбрых, ни удачливых, ни прославленных. Все рядовые бойцы соединения «К», подающие большие надежды новобранцы секретного фронта. Кто-то в будущем взорвет гигантские Неймегенские мосты через голландскую реку Ваал, кто-то поднимет на воздух крепостные батареи в устье Сены, кто-то разрушит главный шлюз Антверпена, перерубит понтонные переправы на Одере, в тылу у русских, наступающих на Берлин, кто-то выведет из строя важные мосты в Штеттине между островом Волин и Померанией.
Не выделяются и те, кому суждено попасть в плен или погибнуть.
Гитлер за несколько дней до своей смерти, по свидетельству историка соединения «К» Беккера, приказал создать личную охрану из подводных бойцов. К этому времени фюрер перестал верить и эсэсовцам. С Гиммлера сорвал погоны, ордена и лишил всех должностей. Геринга объявил предателем.
Тридцать бойцов соединения «К» откликнулись на призыв Гитлера охранять его особу. Беккер утверждает в своей книге «Немецкие морские диверсанты», что добровольцы «собрались на аэродроме Рерик, где они должны были со всем своим вооружением (они были вооружены до зубов) погрузиться в три ожидавших их транспортных самолета Ю-52, чтобы лететь в окруженную горящую столицу. Однако в Берлине больше не было ни одного аэродрома, способного принять их. Для того чтобы пробиться к имперской канцелярии, моряки должны были приземлиться на широкой улице у Бранденбургских ворот. Авиационное командование выслало самолет-разведчик, чтобы найти дорожку для приземления. Однако разведчик вернулся назад, не выполнив задания. Советская зенитная артиллерия не позволила ему приблизиться к месту, где должны были совершить посадку самолеты. Над Берлином стояло густое облако дыма и копоти. Ориентироваться было невозможно. Тем не менее вылетевший утром 28 апреля второй самолет-разведчик передал, что намеченная для посадки самолетов улица взрыта воронками, и там не может приземлиться ни один самолет. Последнее предположение использовать парашюты было отклонено соединением «К» как непригодное. По крайней мере половина людей попала бы на горящие здания, а добровольцев в команду самоубийц не было даже в последние часы войны. На следующий день Гитлер своей смертью избавил бойцов соединения «К» от последнего задания.
С наступлением сумерек Дунай Иванович, как обычно, отправился на подводную тренировку. Спустился по каменным ступенькам лестницы, вошел в воду и прощально оглянулся на высокие каменные стены. Нет, он совсем не презирал монастырь. Здесь учили его взрывать английские, советские, американские корабли, мосты, подводные лодки, нефтепроводы, мачты высоковольтных передач, плотины, шлюзы. А он обернет эту злую науку против гитлеровцев.
Чезаре Браттолини ждал его там же, где вчера встретил. И не один. С ним был широколицый темноволосый человек в непромокаемой рыбачьей куртке. Незнакомец хорошо говорил по-итальянски, но назвался Иваном. Засмеялся и добавил по-русски:
— Теперь всех русских называют Иванами. Где только не сражается наш брат! В Италии, на греческих островах, во Франции, на Балканах, в Татрах, на Висле!… Значит, вы с Дуная?
— Допустим… — Черепанов лукаво взглянул на старого рыбака и, не выдержав, рассмеялся. — Здравствуйте, товарищ! Вот так обрадовали. Вот так подарок! — Мокрой и скользкой, обтянутой резиной рукой он схватил руку Ивана. — Верно, брат, где только мы не встречаемся! Где буря, там и мы. Здорово, друг!
— Здравствуй, Дунай Иванович. Кажется, так тебя величают. И я радовался, когда узнал, в какую ты шкуру залез. Значит, царевич-лягушка добрую работу ищет?
— Да, ищу.
— Что ж, мы предоставим.
— Кто это «мы»? — улыбнулся Черепанов.
— Партизаны Венеции.
. — И рад бы, но… меня ждет работа дома, на Черном море, на Дунае.
— Опасно туда добираться. Патрули, облавы, гестапо, квестура!… Зачем рисковать? Здешние гитлеровцы тоже наши заклятые враги. Ну?
Черепанов молчал, раздумывал, вглядывался в Ивана.
— А вы кто? Как попали сюда?
— Офицер советской армии. Коммунист. Был в плену. Бежал в итальянские Альпы. Создал партизанский отряд. Считаю себя в этих широтах представителем советского командования и партии большевиков.
Все сразу прояснилось. У Черепанова не было больше вопросов. Он сказал:
— Слушаю вас, товарищ.
— Не покидай монастырь. Ты нам нужен здесь.
— Что я должен делать?
— Нуждаемся в оружии. Венецианский арсенал для нас игольное ушко, а для тебя — пролив. По ночам ты должен проникать в арсенал и снабжать нас взрывчаткой, гранатами, ручными пулеметами.
— Сделаю.
— Добычу будет принимать Чезаре Браттолини.
— Выходит, вы были уверены, что я останусь?
— А как же! По рассказам Чезаре я понял, что ты парень стоящий.
Капитон Черепанов остался в соединении «К». Незадолго до падения Берлина вернулся на родину…
Шатров и Гойда приехали на заставу. Капитона Черепанова на месте не оказалось. Укатил в устье Дуная. Каждый год он проводит отпуск на острове Лебяжьем: рыбачит в протоках и озерах, охотится в плавнях, ходит на моторной шаланде на взморье.
— Что ж, поедем на Лебяжий, — сказал Шатров.
НА ЛЕБЯЖЬЕМ И ТОПОЛИНОМ ОСТРОВАХ
В штабе Шатрову и Гойде предоставили специальный катер «Измаил». Неказистый с виду, с небольшой осадкой, замаскированный под обычную шаланду, он имел мощный мотор, радио, прожектор. В бортовом кармане лежало снаряжение подводного бойца и запасные баллоны с кислородом.
Ночью двинулись вниз, в гирло Дуная, к острову Лебяжьему.
За штурвал «Измаила» сел Смолярчук. На нем был старенький бушлат, измятая кепка и черная сатиновая рубаха.
Шатров и Гойда тоже были в штатском.
Шли быстро, под ясным, полным звезд небом. Сидели на корме. Курили. Вглядывались в темные берега. Попутный ветер срывал с Дуная холодную водяную пыль. Высоко-высоко, у чистых звезд, курлыкали журавли, прилетевшие на зимовку.
Гойда бросил недокуренную сигарету, взглянул на Шатрова, погруженного в какие-то думы.
— Можно задать вам деликатный вопрос?
— Если только очень деликатный!
— Вы давно знакомы с ним… с Дунаем Ивановичем?
— Давненько.
— С тех пор?
— С каких?
— С тех пор, как вы оба были Иванами?
— Раньше, и намного.
Гойда улыбнулся.
— Я так и думал.
«Измаил» сбавил ход, попутный ветер уже не помогал ему. Он дул теперь сбоку, со стороны плавней, и был сырой, холодный, почти осенний. Дунай стал бугристым. Из прибрежных кустарников, мелководных протоков и камышовых зарослей выползал густой вязкий туман. Скрылось под набежавшими тучами и звездное небо.
— Ну и благодатный дунайский сентябрь!… — Шатров накинул на плечи пропахшую рыбой телогрейку. — Далеко до Лебяжьего?
— Не заждетесь, — откликнулся Смолярчук.
На самом малом, почти ощупью, держась средины фарватера, пробивались вниз.
Лебяжий внезапно выступил из седой мглы и преградил дорогу — черный, окольцованный крутой, травянистой дамбой, защищающей остров от весеннего половодья. По ее гребню тянулась двойная шеренга молодых осокорей.
«Измаил» пришвартовался у крохотной бревенчатой пристани.
Смолярчук заглушил мотор, поднялся из-за штурвала.
— Вот мы и на родине Дуная Ивановича! Не ждет он гостей в такой ранний час.
Туман таял, уползая в плавни, в глухие дебри камышей. Ветер могучим своим крылом расчищал небо. Оно уже было светло-зеленым, чуть опаленным на востоке.
Ночная темнота отступала за дамбу, за крытые камышом хаты, за сад.
По зеленой росистой дамбе неторопливо шагала высокая плотная женщина лет сорока. Светлые, густые, с чуть рыжеватым отливом волосы гладко зачесаны.
— Доброе утро, Мавра Кузьминична! — Смолярчук помахал кепкой.
Подойдя к причалу, она с достоинством кивнула головой. Не удивилась, что незнакомые люди называют ее по имени и отчеству.
На ней темно-синее, в алую искру, с белым воротничком платье. Руки, сильные, смуглые, как и лицо, открыты до локтей.
Пытливо, серыми-серыми, как сталь на свежем изломе, очами смотрела на приехавших и не тяготилась молчанием.
— В гости к вам прибыли, — сказал Смолярчук.
— Что ж, гостям мы всегда рады. Вы откуда?
— Рыболовы и охотники. Друзья-приятели Капитона Черепанова. Да и вам земляки.
— Что-то не признаю. — Она бесцеремонно разглядывала мягкую засаленную кепку Смолярчука, его потертый бушлат. — В гости приехали, а в барахло вырядились. Похуже одежонки не нашлось?
— Вид у нас, правда, бедноватый, но зато душа… Мавра Кузьминична, пора бы и узнать! Ну и память!
— На память до сих пор не жаловалась. Постой, обличье твое и в самом деле знакомое… Начальник заставы?
— Здравствуйте. Рад вас видеть. — Смолярчук подал руку.
— Ладно, не щедрись даром. Ну, здорово! А кто с тобой? Тоже пограничники?
— Одесские отпускники. Дунайской селедки захотели мои друзья. Капитон здоров?
— Вчера был здоров, в плавнях охотился.
— Ну, а ваши ребята как поживают?
— А что им! Прохлаждаются под мамкиным крылом. Уедут скоро. Последние каникульные дни догуливают.
— Не поженились?
— Рано.
Мавра Кузьминична нахмурилась, потеряла охоту дальше разговаривать. Вскинула голову с тяжелой шапкой волос, обдала пограничника холодным взглядом и скрылась на той стороне дамбы, в саду.
— Вдова, — вздохнул Смолярчук.
— И давно она овдовела? — спросил Гойда.
— Лет двенадцать назад. Правда, вдовство официально не подтверждено. Муж ее, Дорофей Глебов, в сорок первом году, когда тут хозяевами были румыны, попал в королевский подводный флот. До какого-то чина дослужился. В сорок четвертом пропал без вести.
Смолярчук посмотрел на зеленую дамбу, где несколько минут назад стояла Мавра Глебова.
— Сколько женихов было — всем от ворот поворот. Для кого бережет себя?… — Он вдруг спохватился. — Чего ж мы стоим? Пошли к Дунаю Ивановичу!
Белостенная хата под толстым камышовым коржем. Стены свежепобеленные и на всех наведены ультрамарином огромные васильки. Ставни тоже разрисованы. Оконные стекла чистые, прозрачные. Через весь двор, от порога к дамбе, через сад и огород пробита тропка, окаймленная мальвами. Встали на эту тропку Шатров, Гойда, Смолярчук — и цветы заслонили им сад, весь остров, Дунай. Только и света, что узкая голубая полоса утреннего неба.
Из прохладных сеней струится терпкий дух подсушенного чебреца. Под крышей пламенеет венок стручкового перца. На старом парусе гора яблок. В корзинах румяные помидоры. В корыте, выдолбленном из цельного ствола вербы, чуть мятые, истекающие соком груши. Их не очень жадно, без драки, клюют куры, утки.
— Эй, люди добрые, где вы? — позвал Смолярчук.
— Тут они, добрые и недобрые, — откликнулся женский голос.
За мальвами, под камышовым навесом, у летней печурки, хлопотали две женщины, старая и молодая. На молодой — сандалетки на босу ногу, желтый, с глубоким вырезом сарафан, оголяющий плечи и большую часть спины. На старой — глухая, до подбородка, старомодного покроя, черная, в белую крапинку кофта, длинная черная юбка, темный платок, из-под него выбиваются седые паутинки.
Это Лада Тимофеевна, мать Дуная Ивановича. Муж ее умер больше тридцати лет назад, а Лада все живет и живет, никому не в тягость, сама себя кормит трудом своим, да и людям кое-что перепадает. Преждевременны ее седины. Старости нет ни в лице, ни в глазах, ни в движениях. Смотрит на людей живо, смело. Щеки и шея не тронуты морщинами. Руки крепкие, сильные.
«Тоже лебединой породы», — подумал Гойда.
Молодая женщина в желтом сарафане — Джулия. Смуглолица, полногруда, с налитыми плечами. Глаза большие, черные, с угольным блеском. Волосы тоже черные, юные, вьющиеся.
Лада Тимофеевна и Джулия готовили вареники. В семье Черепановых любили вареники, поэтому лепили их без счета. Белые, тугие, с кудрявыми закраинами, с так называемой мережкой, они разложены всюду: на перевернутом кверху донышком сите, на полотняных рушниках, на камышовых циновках.
На плите клокотала большая кастрюля.
И Джулия и Лада Тимофеевна с настороженным любопытством смотрели на ранних, незваных гостей.
Смолярчук снял свою кепочку, поздоровался и, улыбаясь, переводя взгляд с Джулии на Ладу, спросил:
— Интересно, кто из вас добрый?
Джулия засмеялась, прижала припудренную мукой руку к груди и сказала, не совсем чисто выговаривая слова:
— Я сердита. А он ест добра. Мама всегда хорошо, здорово хорошо! Правда?
— Это верно, — согласился Смолярчук.
— Не такая я уж и добрая, — проворчала Лада Тимофеевна. — Вы по какой нужде пожаловали сюда спозаранок?
— К вашему сыну явились.
— По охотничьему делу небось? На сеновале он со своими молодцами зорюет. Юля, проводи!
Джулия вытерла руки о ситцевый фартук, поправила волосы.
— Айда! — сказала она и без всякой причины рассмеялась.
На душистой перине сена раскинулся Капитон Черепанов. Иван и Пальмиро прижались к отцу слева, Варлаам и Джовани — справа. Мальчишки медноволосы, кудрявы, обветренны, исцарапаны, искусаны комарами. Все у них отцовское: чуть курносые, облупившиеся носы, твердые кованые скулы, гордый разлет бровей, пухлые добрые губы. В среднем на каждого брата приходится лет по шесть, не больше.
Джулия, улыбаясь, смотрела на мужа и детей. И во сне жмутся друг к другу.
— Кэп!
Голос Юлии прозвучал тихо, но Дунай Иванович услышал. Не раскрывая глаз, он выбросил руки к жене.
— Кэп, вставай! — сказала Джулия. — Тебя ждут камараде.
— Да, ждем, Дунай Иванович! — загремел Смолярчук басом.
Черепанов встряхнул головой, вскочил на ноги. Так легко просыпаются люди, привыкшие к боевой готовности.
— Здорово, лежебока! — Шатров опустил тяжелую свою ладонь на припорошенное сенной трухой, широкое, крепкое плечо Черепанова. — Эх ты, зорю проспал!
— Что случилось?… Откуда ты взялся? — встревожился Дунай Иванович.
— Собирайся, поедем. В дороге все объясню.
— А вареники?! — всполошилась Джулия. — Кэп, не отпускай!
— А уха и томленный в собственном соку сазан?! Вот такущая рыбина! — воскликнул Черепанов и рубанул ребром ладони выше предплечья. — А борщ со свежей капустой?! А запеченные, с грибной начинкой помидоры?! А яблочный пирог?!
И Шатров сдался.
— Пожалуй, задержимся. Мы спешим, но не следует и раньше срока дело делать.
Был и обед с холодной водкой, было и купание, была и шумная игра на берегу Дуная с Иваном, Пальмиро, Варлаамом и Джовани, были и разговоры с Джулией, Ладой Тимофеевной, Маврой Кузьминичной.
Велик дунайский день.
Шатров нарочно протянул время. Нельзя, не имеет права явиться к бакенам Сысоя Уварова засветло.
На вечерней заре «Измаил» покинул остров Лебяжий. Четыре часа хода против напористого дунайского течения — и можно приступить к работе.
Еще до подхода к Тополиному острову Черепанов начал одеваться. Натянул на свое крепко сбитое, мускулистое тело шерстяное белье, тщательно разгладил все его складки. Надел плотный, на мягких застежках, вязаный из толстой шерсти комбинезон и меховую курточку на «молнии».
Гойда, не сводивший с ныряльщика взгляда, спросил:
— Зачем столько шерсти?
— Для тепла. Защита от холода. Даже в летней воде можно окоченеть после двух часов работы. Но это еще не все. Смотри!
Черепанов влез в стеганые ватные брюки, затянул поясной ремень. Теперь ему, вспухшему от «сорока одежек», округлому, отяжелевшему, полагалось быть неуклюжим, неповоротливым, а он без всяких усилий, быстро и ловко скользнул в водонепроницаемую, сделанную из эластичной резины оболочку, скомбинированную из штанов, рубахи и капюшона. Широкие браслеты из особой прорезиненной ткани плотно сжимали запястье. На шее точно такое же предохранительное устройство. Браслеты и особый ворот не позволят проникнуть под резиновую оболочку ни воде, ни воздуху, что даст возможность подводному пловцу достаточное время сохранять нормальную температуру тела.
Поверх резинового комбинезона, уплотнившего «сорок одежек», он натянул еще один, парусиновый, под цвет воды и ночи. Это уже была маскировка и защита от всякого рода подводных случайностей — острого корабельного угла, сваи, плывущей коряги, пня, затопленного обломка мачты, ржавеющего на дне якоря.
— Здорово это у тебя получается, Кэп! — удивился Шатров. — В одно мгновение превратился в «лягушку».
— И это еще не все.
Всунул ноги в тяжелые, на свинцовой подошве ботинки, закрепил их эластичными застежками. Удобно приладил на груди кислородный прибор, а на левой руке водонепроницаемые часы, скомбинированные с компасом. Повесил на пояс фонарь, кинжал в чехле. Наконец шумно выдохнул воздух, опустился на кормовую скамейку, положил на колени резиновую маску с огромным стеклянным глазом, с гофрированной трубкой, идущей от кислородного прибора.
— Вот, теперь совсем готов.
— Не понимаю. — Гойда с недоумением смотрел на пловца, задавленного, как ему казалось, громоздким снаряжением.
— Что тебе не понятно, Василек? — спросил Шатров.
— С таким грузом ни одной секунды на воде не удержишься, на дно пойдешь.
— Дунай Иванович, слыхал?
— Слышу.
— Просвети человека, пока еще есть время. Пусть знает, что к чему.
— Можно. Не простой на мне груз навьючен. Хитроумный. Вся хитрость в рубашках, штанах, комбинезонах. В их складках, в рукавах, штанинах, скапливается воздух. Он, как подушка, вклинивается между телом и резиновой шкурой — обогревает и придает плавучесть. Могу лежать на воде со всем своим верблюжьим грузом, как поплавок. Захочешь утопить — ничего не выйдет.
— А как же вы ныряете?
— А на этот случай другая хитрость припасена. Смотри! — Черепанов взял массивный свинцовый пояс, лежавший на корме, показал его Гойде. — Теряю, если надо, плавучесть и по-другому: оттяну на короткое время ворот рубахи от шеи, и водяное давление выжмет из «подушки» через щель между шеей и рубашкой добрую порцию воздуха, утяжелит меня килограммов на двадцать, потянет на глубину.
Впереди, на фоне дунайской воды показались темные тучи, большая и поменьше, — острова Тополиный и Черный.
Переключив мотор на подводный выхлоп, без огней, в полной тишине пробирались к Черному: по глухой протоке, по мелководью, в тени верб и осокорей. Нашли укромную бухточку, застопорили машину.
— Вот там, — шепотом проговорил Дунай Иванович и махнул рукой на реку, где вспыхивал бакенный огонек, ограждающий перекат. Бакен был недалеко, метрах в ста от бухты.
Черепанов поднялся и, держась за ветку ивы, свисавшую над катером, вглядывался в путь, который ему предстояло преодолеть.
— Значит, по эту сторону бакена? — спросил Шатров.
— Метра два ближе к фарватеру. Разрешите выполнять?
— Иди!… Исследуй и оставь все как есть. Только осторожнее! Черт их знает, какой там сюрприз приготовлен.
— Не волнуйся! Сюрпризы люди делают, люди их и отгадывают.
Дунай Иванович надел резиновую, с теплой подкладкой шапочку, потом капюшон, переступил борт катера и, неуклюже ступая, пошел к дунайскому стрежню. Вода постепенно скрывала его. И вдруг он исчез. Ни всплеска. Ни пятнышка на поверхности Дуная.
Вернулся через сорок восемь минут.
Выбрался на берег, стащил маску, осторожно вздохнул, неторопливо выдохнул, «промывая» свежей струёй легкие.
Шатров и Гойда смотрели на него, терпеливо, ждали, что скажет.
— Эх, курнуть бы!… — проговорил Черепанов и виновато улыбнулся, открывая сияющие зубы. — Ладно уж, обойдусь.
— Ну, что там? — спросил Шатров.
— Контейнер с винтовой крышкой, а в нем — десятикилограммовые «подрывные рыбки». Прикрепи пару к боковому килю поглубже от ватерлинии — и поминай как звали тот корабль.
— Сколько их?
— Дюжина. И две мины-торпеды.
— Торпеды?
— Малютки. Алюминиевые баллоны, начиненные особой взрывчаткой. Каждый в чемодане спрятать можно. Последнее слово подрывной техники. Газовая камера регулирует плавучесть и затопляемость. Такими «сигарами» можно поднять на воздух мост. Взрываются обычно на дне реки — давление воды усиливает взрывную силу. Управление кнопочное: одна кнопка для камеры затопления, другая для камеры всплытия, третья — для включения часового механизма взрывателя.
Шатров и Гойда переглянулись. Они готовы были задать друг другу десятки вопросов.
— Так, говоришь, в чемодане эти торпеды-малютки можно спрятать? — спросил Шатров.
— Вполне.
— Ну что ж, Дунай Иванович, — сказал Шатров, — раздевайся, отправимся отдыхать.
Через несколько минут катер бесшумно прошел глухой протокой.
«ЦУГ ШПИТЦЕ»
От причалов Регенсбурга отвалила быстроходная, приспособленная к плаванию по рекам и морям, спортивная яхта «Цуг шпитце». Острогрудая, новенькая, с голубыми шелковыми вымпелами на мачтах, она кромсала холодный горный Дунай и бежала вниз, на восток, в сторону Австрии.
Свежий ветер развевал на корме черно-красно-золотое полотнище.
Всякий, кто провожал взглядом залитое солнцем судно, не мог не порадоваться. Сердцу немца милы эти слова: «Цуг шпитце».
Накануне отхода яхты из Регенсбурга в газете «Баварское время» была напечатана фотография «Цуг шпитце», сопровожденная таким текстом: «Самая высшая точка Германии завтра в полдень начнет свое стремительное движение в сторону самой нижней точки великого Дуная — к его устью, в царство пеликанов, лебедей, аистов и камышовых дебрей, туда, где тоннами добывается черная икра. На борту «Цуг шпитце» находятся тринадцать молодых матросов-спортсменов: рыболовов, пловцов, любителей дальних путешествий. Чертову дюжину возглавляет старый дунайский волк. Молодые баварцы пройдут по Дунаю вниз и вверх более пяти тысяч километров, побывают в семи дунайских странах. Зайдут в Черноморский порт Констанцу, в Стамбул. Счастливого вам пути, отважные искатели приключений!»
Ни одного слова правды не было в этой заметке, изготовленной в «Отделе тайных операций».
Пограничная полиция Регенсбурга лишь формальности ради заглянула в судовой журнал «Цуг шпитце», и дала «добро» на заграничное плавание.
В трюме яхты, на подвесных койках преспокойно отдыхали люди-лягушки, не внесенные в список команды. Тайные пассажиры были словаками, венграми, болгарами, румынами, русскими.
Команда «Цуг шпитце» состояла из немцев Федеративной Республики Германии, опытных сотрудников секретной службы, возглавляемой Рейнгардом Геленом, в прошлом гитлеровским генералом, ныне ближайшим помощником «Бизона».
2 августа 1945 года президент США Гарри Трумэн поставил свою подпись под Потсдамскими решениями, В то же время в штабе 7-й американской армии в Висбадене закончились переговоры между представителями американской разведки и фюрером германского шпионского центра в Восточной Европе Геленом. Гитлеровец Гелен, выполняя главный пункт этого соглашения, передал «Бизону» секретный архив и все списки своей агентуры в Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Венгрии и других странах.
Среди особо важных персон, которых «Бизон» получил в наследство, выделялся Карл Бард, инженер-гидролог, бывший когда-то членом так называемой Дунайской комиссии.
Теперь Карл Бард возглавил операцию «Цуг шпитце».
Босой, в белом шерстяном свитере, в синих джинсах, простроченных двойным швом, с ковбойскими кожаными нашлепками на задних карманах, стоял он у штурвала и весело поглядывал на проплывающие берега. Волосы на его голове, как это и положено отважному искателю приключений, взлохмачены. Лицо прокалено высокогорным солнцем и ледяными ветрами.
В Турции он когда-то проводил операцию «Галата», в Румынии — «Черная кровь», в Чехословакии — «Влтава», в восточном Берлине — «Камень и стекло», в Познани — «Тонущие звезды».
Среди тех, кто провожал путешественников в дальний путь, находился и заокеанский корреспондент Карой Рожа. Мало кому из американских читателей была известна эта венгерская фамилия. Под этой фамилией и личиной журналиста действовал в Западной Германии и в других странах особо доверенный человек «Отдела тайных операций», по кличке «Кобра».
В Регенсбург он прибыл по личному заданию своего шефа. Ему было поручено проводить «лягушек», пожелать им счастливого пути и счастливого возвращения. Он сделал это и вернулся в заповедник к генералу Артуру Крапсу с твердым убеждением, что все будет именно так, как он говорил в своем напутственном слове.
Белоснежная яхта, подхваченная быстрым течением и движимая сильным дизелем, неслась мимо знаменитого Баварского Леса. Дикие скалы, чахлые горные ели и развалины замков отражались в прозрачных водах Дуная.
Миновав Братиславу, в глухой местности застопорили дизель, спустили на воду две мины-торпеды и двух «лягушек» в полном боевом снаряжении. Торпеды были мгновенно затоплены и поставлены на якоря в пункте, указанном на карте.
«Лягушки» попрощались с Карлом Бардом и поплыли к берегу.
Первая десантная группа была закодирована словом «Пресбург». Пресбургом когда-то назвали Братиславу псы-рыцари, колонизировавшие земли Словакии и Восточной Европы в XII веке.
Вторая десантная операция была произведена на подступах к Будапешту. Третий десант был выброшен в пределах болгаро-румынского Дуная.
Четвертый… о нем мы должны рассказать подробно.
В четвертом десанте был один человек. В картотеке «Бизона» его зарегистрировали шифром: «РОДДН — 1916 +8+8. Б + СВ». В переводе на обыкновенный язык это означало: «Русский. Особо доверенный. Дунайское направление. Рожден в 1916 году, в восьмом месяце восьмого дня. Кличка — «Белый», он же «Священный ветер».
Дед и прадед Дорофея Глебова были волжскими плотовщиками, сильными, храбрыми, честными людьми. В прошлом веке они бежали из царской России на край земли, в придунайские камышовые дебри. Обосновались на острове, где зимовали лебеди, и зажили вольной жизнью рыбаков, охотников. В роду Глебовых не было немощных духом и телом, не было трусов, предателей, лодырей, доносчиков, хапуг, грабителей, поджигателей, убийц.
Рос Дорофей-внук на берегу Дуная, в просмоленной лодке, в плавнях, в нескончаемых рыбачьих походах: дальних, с выходом в море, и ближних — на озерах, лиманах, в протоках.
С 1940 года по 1944-й Дорофей служил в румынском флоте. Не по доброй воле пошел. Под угрозой расстрела за дезертирство. На него надели чужой мундир, считая его, исконно русского, румыном на том лишь основании, что жил он на берегу Дуная, на Измаильщине, которая двадцать два года, с 1918 по 1940 год, была в плену румынских бояр.
В тот день, когда королевская Румыния капитулировала, подводная лодка, на которой служил Дорофей, находилась в Черном море. Командир не вернулся в Констанцу. Он скрыл от матросов, что Румыния вышла из войны, и направился к турецким берегам, где лодка была разоружена, а команда интернирована.
За колючую проволоку плохо проникали добрые вести с Родины. Зато перед клеветой на Советский Союз широко распахивались решетчатые ворота и двери бараков. Лагерные пропагандисты убедили Дорофея, что ему навсегда заказана дорога на Дунай, что он будет расстрелян на месте сейчас же после того, как выяснится, кто он. И потому, когда в лагере появился человек, назвавший себя доверенным «Русского братства», и предложил интернированным помощь, Дорофей принял ее.
Трудовой батальон, куда попал Дорофей, строил автомобильную дорогу на Кипре, бетонировал стратегические аэродромы, расширял автостраду, идущую по африканской пустыне, укреплял берега Суэцкого канала, прокладывал нефтепровод.
Безрадостный труд, чужое солнце, чужая земля, чужой хлеб, чужой воздух, одиночество истощили Дорофея физически и душевно.
Работорговцы из «Русского братства» определили его в монастырский госпиталь. Тут он и попал к вербовщикам американской разведывательной службы. Они явились перед ним под видом спасителей из так называемой «Лиги человеколюбия».
Вылечив, поставив на ноги, они определили его в свою законспирированную школу «Трудовой приют». Размещался он на берегу Тихого океана, в Южной Калифорнии, и содержался за счет «рокфеллеровского фонда».
Процесс воспитания Дорофея Глебова был длительным. В первый год он ухаживал за деревьями приютского сада, изучал английский и регулярно, каждый день, слушал лекции, которые должны были привить ненависть к Советскому Союзу.
На второй год отцы приюта ввели специальные дисциплины: топографию, радиодело, искусство проникновения через пограничную линию, скрытой разведки в тылу врага, умение скрываться под чужим именем.
После окончания школы Дорофея Глебова перебросили в Германию. На высокогорном озере и на Дунае он прошел дополнительный курс обучения.
Еще там, на секретной базе «лягушек», узнав о том, что ему предстоит сделать на Дунае, Глебов решил вернуться к матери, жене, сыновьям. Прийти и сказать, что незаконно перешел границу. Дома, конечно, спросят, где пропадал столько лет, что делал, почему явился глухой ночью?
Ничего не утаит. Правду скажет.
Мать, дети и жена не выдадут его властям. Спрячут или отправят в плавни, где можно жить вольно, не попадаясь на глаза ни пограничникам, ни милиции. Волки и рыси будут его соседями. Да болотная выпь. Ничего! Стерпит до поры до времени.
Уверенность Дорофея Глебова в том, что он не будет выдан властям, имела прочное основание. Дунайские вольные рыбаки издавна ненавидели все, что укладывалось в понятие власть, ненавидели румынских жандармов, бояр, скупщиков из Констанцы и Галаца, шинкарей, налоговых сборщиков. Считалось делом доблести и геройства поиздеваться над примарем, городским головой, над полицейским. Честь тебе, русский рыбак, если ты сорвал трехцветный желто-сине-белый флаг и втоптал его в грязь. Ты вызывал одобрительный хохот друзей и товарищей, если выкалывал сазаньей костью глаза королю Михаю, изображенному на парадных иконописных плакатах. Тебе помогали все рыбаки, когда ты ночью пробирался с контрабандным грузом из гирла Дуная в Черное море. Тебя прятали от королевских пограничников, идущих по твоему следу. Объявленный вне закона, ты мог годами жить в неприступных для жандармов дунайских плавнях. И хлеб, и рыбу, и вино доставляли тебе в тайное убежище друзья. Ты становился богатырем, любимцем дунайского народа, его героем, когда начинал открытую войну с королевской властью.
Тридцатого сентября пограничники Федор Щербак и Михаил Сухобоков приказом начальника заставы Смолярчука были назначены в наряд. Они затаились на берегу Дуная, в густом кустарнике, напротив острова Тополиный. Не сводили глаз с дома бакенщика Уварова, наблюдали за рекой.
Высокие, по-осеннему яркие звезды отражались в Дунае. Темный сырой песок берега сливался с гладью реки.
Хорошо было сейчас на краю советской земли. Уже нет или почти нет ни комаров, этого бича низовьев Дуная, ни удручающей духоты. Нет еще ни дождей, ни промозглых сырых туманов. Золотой перевал с лета на осень. Дышится легко. Воздух хмельной, винный. В садах дозревают поздние сорта яблок. Набирает самый сладкий сок айва. Усыхает на корню камышовая тайга. Черные дунайки с утра до вечера курсируют между островами-бахчами, перевозят на большую землю арбузы, душистые дыни. Виноградари готовятся к уборке обильного урожая: извлекают из прохладных заветных мест дубовые винные бочки, налаживают давильные машины и долбленые из цельного дерева корыта. Скоро на всем побережье Дуная люди перестанут пить воду. Молодое солнечное вино, легкое, как воздух, будет утолять жажду взрослых и детей.
Час за часом отбивал время большой колокол ангорской церкви.
Неумолкаемо, в борьбе за место на воде, галдели перелетные птицы: гуси, пеликаны, журавли, отдыхающие в плавнях перед тем, как совершить перелет в Африку. Только одни лебеди стойко отмалчивались. Глухой ночью, кем-то потревоженные, подали и они свои голоса, затрубили:
— Килль-клии!… Килль-клии!…
А мгновение спустя послышалось удивительно благозвучное, скрипично-нежное, мягкотрубное:
— Анг!… Анг!…
И вскоре опять понеслось обыкновенное, грубовато-гортанное:
— Килль-клии!… Килль-клии!…
Федор Щербак, не отрывая взгляда от реки, прислушивался к пронзительно ясным, чистым, то будто грозно предостерегающим, то радостно призывным, то ликующим крикам лебедей и вдруг подумал: «Лебединый край. Ангора!… Ангора!… Наконец-то я понял, почему Ангора есть Ангора. За лебединые песни ее так прозвали».
— Слышишь? — прошептал Щербак.
— Что?… Где?
— Нет, ничего. Показалось. Отбой!
Михаил Сухобоков пренебрежительно махнул рукой на Дунай.
— Я так и думал. Знаешь, Федя, я вот жду нарушителя, а сам твердо знаю: зря томлюсь, ничего не выпадет на мою долю.
— Откуда же у тебя такое твердое знание? На кофейной гуще гадал?
— Опоздали мы с тобой родиться. Не в те времена живем. Теперь лазутчик глухой ночью да еще через дунайскую границу не полезет. Теперь он больше в мягком вагоне со всеми удобствами или в Ту-104 с паспортом туриста в кармане путешествует. Сколько ты служишь на границе?
— Год.
— А хоть одного нарушителя ты задержал?
— Не пришлось пока. Это же очень хорошо, что не идет сюда нарушитель: боится, потому и не идет. Выбирает место полегче, понадежнее, безопаснее. Ладно, помолчи! Потом поговорим.
Так перешептывались пограничники в эту ночь, пока регенсбургская яхта «Цуг шпитце» спускалась вниз по Дунаю.
Она уже вошла в советские воды, миновала Сулинское гирло и спешила к румынской Килии.
Федор Щербак не сводил глаз с Дуная. Темно вокруг, рощи черной ольхи непроглядными тяжелыми тучами давят берега, звезды скрылись в набежавших облаках, а Дунай не мрачнеет, мерцает перламутровой голубизной, почти светится. Вот за это, наверно, он и прозван голубым.
Смотрит пограничник на великую реку, и ему кажется, что она вместе со звездами и луной является источником света на земле.
Дунай для Федора уже давно перестал быть чужой рекой. Породнился он с ней за время солдатской службы, полюбил. Все успел прочитать о Дунае, что достал в городской библиотеке и у книголюбов. Все легенды, все песни о батюшке Дунае записал в толстую тетрадь.
Видел он своими глазами только нижний советский Дунай от Вилкова до Рени, а рассказывал о нем так, будто тысячу раз бывал на всем протяжении реки, протекающей по территории восьми государств Центральной и Восточной Европы.
Щербак и до призыва в армию любил докапываться до самого корня любого дела и делать его в полную силу. И дело платило ему добром. Самую ответственную и деликатную службу начальник заставы доверял прежде всего Федору Щербаку. В гирле Дуная насчитывались тысячи островов, протоков, стариц, болот, озер, плавней, ериков, но все они, даже имеющие самые причудливые названия, были известны Щербаку.
Любовь очень памятлива.
Дунай, Дунай! Ты богатырь, краса и гордость Вены и Братиславы, Будапешта и Белграда, песенная слава Германии и Австрии, Словакии и Венгрии, Югославии и Болгарии, Румынии и Украинского юга!…
Рождается Дунай в Германии на восточном склоне Черного Леса, на высоте более тысячи метров. Истоки его — Бригах и Бреге. Сливаясь у Донауэлшингена, у подножия замка Фюрстенберг, в старинном парке, эти ручейки образуют Донау, Дунай. Тут стоит каменная статуя матери с двумя младенцами, олицетворяющая Дунай.
Верхний Дунай рассекает в шварцвальдском плато глубокую узкую щель. Берега одеты в камень, покрыты мхами, кустарником и чахлой горной елью.
Протекая по Южной Германии вдоль хребта Баварский Лес, Дунай, вобрав в себя притоки, стекающие с Тирольских Северных Альп, со стороны Швейцарии, все больше и больше набухает, становится глубже.
Ульм — первый крупный придунайский город. До Ульма на берегах Дуная расположены главным образом приземистые, каменные, оплетенные виноградными лозами дома деревушек и хуторов. Изредка встречаются развалины, может быть, остатки владений феодальной эпохи.
Покинув пределы Германии, Дунай пробивает себе все более широкое ложе среди гор и холмов, углубляется, набирает сил и убыстряет течение. Русло реки здесь капризное, опасное. Ограждая себя от непостоянства Дуная, австрийцы построили выпрямительные и защитные дамбы.
Прорезав с запада на восток Верхнюю Австрию, Дунай омывает отроги Альп, подножие Венского Леса и вторгается в сердце двухмиллионной Вены, в первую столицу на своем пути.
После Вены Дунай течет по так называемой венской котловине, среди густых зарослей ивняка, вдоль автострады Вена — Братислава — Будапешт.
На чехословацкой границе принимает в себя Мораву. Здесь, у впадения Моравы в Дунай, в районе древнего замка Девина, каждый год, начиная с победоносного 1945 года, собираются свободные люди и празднуют день дружбы славянских народов. От зари до зари на берегах Моравы не умолкают песни — чешские и словацкие, русские и украинские, польские и болгарские, сербские и хорватские. Отсвет праздничных огней лежит и на устье Моравы и на водах Дуная.
Славянский Дунай привольной дорогой подходит к зеленым холмам Малых Карпат, на склонах которых в глубокой древности был расположен римский лагерь, а позже, в девятом веке, — крепость великоморавского союза племен. Теперь на этих же склонах Малых Карпат над Дунаем стоит Братислава, столица народной Словакии с ее старинным Градом — Кремлем. Дунай жмется к самому центру Братиславы — к его бульварам и набережным. Пронеся свои воды мимо Свободной, Зимней и нефтяных гаваней Братиславы, он разветвляется на главное русло и Малый Дунай. Между ними раскинулся самый большой в мире речной остров — Житный.
На протяжении многих столетий Дунай должен был промывать и прогрызать каменные отроги Малых Карпат, чтобы образовать Венгерские ворота и вырваться на раздольную степную равнину.
После Будапешта Дунай резко ослабляет напор своих вод, уменьшает скорость, как бы застывает. Русло его с непостоянным песчаным дном прихотливо извивается, разветвляется на множество мелководных рукавов. Берега низкие, прикрытые дамбами. Много пойменных террас, стариц.
Параллельно друг другу, разделенные стокилометровой полосой равнины Альфельд, текут Дунай и Тисса. На венгерской земле они не встречаются. Уходят на юг, за границу, на территорию Югославии, где и сливаются севернее Белграда.
Полноводный, могучий, вобравший в себя десятки горных и равнинных рек пяти стран, Дунай подходит еще к одной столице — Белграду.
Километров через двести после Белграда Дунай, Дуна по-румынски, врывается в Железные ворота, прорубленные между Карпатами и Балканами. Со скоростью четыре метра в секунду, вскипая на скалистых порогах, высоко выступающих над каменным дном, несет Дунай семидесятиметровую толщу своих вод среди высоких берегов Румынии и Югославии, мимо скал, у подножия которых вырублена еще римлянами, во времена их военных походов, Тропа Трояна, которую моряки называют Катарактами.
За Железными воротами Дунай делает огромную, более чем стокилометровую петлю — «Рондо».
По зеленой, местами заболоченной и озерной низменности Южной Румынии и Северной Болгарки Дунай течет на восток. У города Силистра, где кончается болгарская земля, когда до черноморского берега остается немногим больше ста километров, Дунай круто поворачивает на север.
За Браилой и Галацом, приняв карпатские реки Серет и Прут, Дунай подходит к границам Советского Союза, последнего государства на своем пути. Здесь же, при слиянии с Прутом, он прекращает движение на север. Великая река круто и легко, как ручеек, поворачивает вправо, на восток, потом на юго-восток, к Черному морю.
Первый советский город, которого Дунай касается своим левым крылом, — Рени.
Здесь Дунай полноводен, глубок, стремителен, своеволен, на каждом повороте угрожает выплеснуться на равнину. Не доходя до румынского города Тульча, разветвляется на два самостоятельных судоходных рукава: одно гирло ведет к Тульче и дальше, к морскому каналу, к Сулинскому порту, другое — на север, к некогда могущественной дунайской крепости — Измаилу.
И даже тут, потерявший почти половину своей мощи, Дунай величествен: глубок и широк. Колесные суда каботажного плавания, самоходные баржи и морские корабли всех стран мира пашут его воды.
Миновав две Килии, правобережную и левобережную, румынскую и советскую, Дунай подходит к последнему на своем пути городу, к русской Венеции. Дальше он распадается на многочисленные рукава, протоки, питает своими водами пойменные озера, болотистые низины, лиманы.
В Черное море он вливается очень скромно, через узкие горловины. Не во всякое время года здесь пройдет даже неглубокой осадки каботажный пароход, направляющийся из Одессы в Измаил.
На плоском пустынном берегу Черного моря, напротив Змеиного острова, заканчивает Дунай свое почти трехтысячекилометровое течение…
Федор Щербак сосредоточенно смотрит на реку. Разбух, помутнел, отяжелел от ила Дунай. Сильные дожди, значит, прошли там, в среднем течении, на Большой Венгерской равнине и ниже Железных ворот. И бури свирепствовали. Что-то где-то затоплено, разрушено. Откуда-то с верховьев большая вода приносит то остатки камышовой крыши, то погибшие деревья, то корневище, то какой-нибудь предмет домашнего обихода.
Диво это дивное — Дунай, думает Федор Щербак. Такая масса воды течет рядом, в двух шагах от него, а не слышно ее. Струя струю глушит. В любое время года Дунай тихий.
— Смотри, смотри! — шепчет Сухобоков и кивает на Дунай. — Видишь?… Плывет кто-то.
Щербак, прищурясь, хладнокровно откликнулся:
— По-моему, это обыкновенная коряга.
— Похоже. Да, она!
Затихли пограничники. Где-то за островами, за Ямой-заповедником, кишащим красной рыбой, за ближними островами затрубил теплоход.
И долго над Дунаем разносилось его эхо.
Ветки кустарника, в котором лежали пограничники, уронили росу.
Прошел, слепя огнями, какой-то корабль. В его мимолетном свете ясно выступила из темноты хата бакенщика, обложенная уже по-зимнему высокими снопами камыша.
Резче запахло пресной сыростью. Похолодало.
На болоте всплакнула выпь.
Первые космы тумана просачивались сквозь густую гребенку Пожарских плавней.
Щербак бесшумно перевернулся, переложил автомат с руки на руку, облизал пересохшие зябнущие губы.
— Эх, курнуть бы!
— В чем же дело? Дыми в рукав.
— Ты что, очумел? Как можно?
— А кто увидит? Начальство далеко. И телевизора оно не имеет.
— Я сам себе начальство.
— Ну, раз такое дело, терпи и не жалуйся.
— Тсс!… Видишь? — шепотом, более тихим, чем обычно, спросил Щербак.
— Что?
— Смотри, смотри!…
На дунайской воде, высветленной заездами и близким рассветом, что-то темнело.
— Опять коряга, — сказал Сухобоков.
— Нет, это не коряга. Что-то круглое. Похоже на арбуз или тыкву. Голова!… — Щербак схватил руку товарища, крепко сжал. — Человек плывет.
— Верно, человек! Ах, сволочуга!… Сообщи на заставу, а я — в лодку и отрежу его от того берега.
— Не трогай лодку! — приказал Щербак. — Не своди с нарушителя глаз.
Щербак соединился с заставой. Ответил не дежурный, как ожидал Щербак, а сам Смолярчук. Видно, ждал этого сигнала. Щербак срывающимся от волнения хриплым шепотом доложил:
— Человек, товарищ старший лейтенант!…
— Спокойнее! — откликнулся Смолярчук. — Где человек? Какой? Откуда?
— На Дунае. Плывет. В подводной маске. В комбинезоне.
— Все понял. — Голос начальника заставы был необыкновенно сдержанным. — А сейчас вы его видите?
— Пока вижу.
— Что вам видно? Ну!…
— По самой середке плывет. Правее фарватера, ближе к сопредельной стороне, — склонившись к земле, негромко докладывал Щербак. — Поравнялся с островом Тополиный… Замедлил движение…
— Неподалеку от острова бакенщика?
— Нет, совсем с другой, там, где болото и камыш.
Тишина. Только стук двух сердец.
— Почему молчите? — доносится с другого конца провода.
— Наблюдаю.
— Ну?… Докладывайте, что видите.
— Дальше плывет.
— Куда именно?
— Мимо острова. Вниз по Дунаю.
— Не может быть, повторите!
— Плывет мимо Тополиного. Скрывается… Что прикажете делать, товарищ старший лейтенант?
Долгое молчание, потом — приказ:
— Пусть плывет. А вы… следуйте за ним по берегу, продолжайте наблюдение. Да не вспугните. Ясно?
— Ясно! — уныло откликнулся Щербак. Он понял, что это значит: «не вспугните».
По усам текло, а в рот не попало.
«БЕЛЫЙ» И ДРУГИЕ
Яхта «Цуг шпитце» вышла из пределов Румынии, круто повернула направо, с севера на запад, миновала устье Прута, оставила позади первый советский город.
Карл Бард и Дорофей Глебов смотрели на портовые огни пограничного города до тех пор, пока они не скрылись.
— Россия!… — Карл Бард тихонько, дружески толкнул локтем «Белого»: — Ну, как?
— Что? — неохотно откликнулся Дорофей.
— Вот ты и дома, говорю. Добро пожаловать!… — Карл Бард засмеялся. — Не волнуйся, дружище! Все будет хорошо.
Дорофей угрюмо вглядывался в темный берег Дуная.
Бард искоса наблюдал за ныряльщиком. Он знал, что этот крепкий, ловкий человек с блеском прошел через все испытания, и потому удивлялся его не боевому настроению.
«Интересно, какие мысли одолевают тебя? Трусишь? Жалеешь, что вернулся домой в таком виде? Вспоминаешь далекое время детства, молодости? А может быть, трезво размышляешь, как лучше выполнить задание?…»
Карл Бард посмотрел на светящийся циферблат часов и сказал:
— Пора, дружище!…
— Успею! — отрезал Дорофей. Не повернул головы, не оторвал взгляда от прибрежной полосы.
— Слушай, дружище! — Карл Бард положил руку на плечо «Белого». — В чем дело? Что с тобой происходит?
Дорофей круто повернулся к капитану. И тот увидел резко побледневшее лицо, бешеные глаза.
— В чем вы меня подозреваете?
— Только в медлительности.
— Неправда! Столько лет готовили меня, натаскивали и все не доверяете, все испытываете!… Плохого же вы о себе мнения!
«О, да ты, оказывается, вовсе не такой слюнтяй, как я думал!…» Вслух Карл Бард сказал:
— Любопытно! И мудрено!… «Плохого о себе мнения». Это как же расшифровать?
— Зря беспокоитесь, — примирительно проговорил Дорофей, — буду действовать, как приказано.
— Только так, дружище!… — Он постучал ногтем по выпуклому стеклу часов. — Пора!… Пошли. Кланяйся Сысою и передай ему… пусть в скором времени ждет еще одного гостя… «Мохача». Не забудешь? «Мохач»! Есть такой город на Дунае, на границе Югославии и Венгрии.
Дорофей кивнул.
— Не забуду. Пошли!
В капитанской каюте Дорофей натянул поверх неброского штатского костюма резиновый комбинезон, навьючил на себя акваланг и туго увязанный рюкзак. Подпоясался ремнем, к которому были прикреплены пистолет, кинжал, подводный электрический фонарь, и кивнул шефу:
— Все, могу нырять.
Яхта шла между советской Измаильщиной и румынской Добруджей. Миновали сулинское гирло, слева по борту прошел ярко освещенный Измаил.
Приближались две Килии, румынская и советская, хорошо приметная своим портовым зернохранилищем.
«Цуг шпитце» принял правее, держа курс на румынскую Килию.
Дорофей Глебов покинул борт яхты.
Небо затянуто тучами, не светится ни единая звезда. Мелкий густой дождь сечет Дунай, взрыхленный волнами. Туманная мгла и ночная темнота наглухо скрывают берега.
«Белый» поплыл вниз, подхваченный течением.
Через час гигантские тополя прорезались сквозь ночную мглу.
Тополиный остров, Дорофей медленно плывет вдоль его берегов. Оглядываясь, он угрюмым взглядом провожает отступающую в темноту землю, на которой ждет его Сысой Уваров.
Растаял мигающий бакенный огонь, под которым на дне Дуная лежат контейнеры.
Перед рассветом показались маячный огонь Лебяжьего и старый ветряк.
Дорофей резкими, «стригущими», движениями ластов вырвался из фарватерной струи. Приблизившись к острову, перестал работать ногами, глубже втянул голову в воду, так что на поверхности Дуная осталось только стекло маски. Если кто и наблюдает сейчас за рекой, все равно не увидит пловца.
Течение вынесло его на мелководье. Твердая, спрессованная толща ила. Еще несколько шагов — и он будет на островной земле. Дорофей не спешил. Ждал, вглядывался в темноту, прислушивался, готовый нырнуть, исчезнуть подобно щуке. Тихо. Ничего подозрительного.
Осторожно выбрался на берег, сбросил шкуру «лягушки», туго свернул ее и засунул в рюкзак. Пусть пока лежит там, еще пригодится.
По ивовым зарослям, по росистой траве стлалась сырая предрассветная тьма. В листьях вербняка зашуршал дождь. Время от времени раздавался шумный всплеск — играла рыба, падала в реку подмытая земля.
Приученными к темноте глазами Дорофей вглядывался в местность и не узнавал ее.
Должен быть плоский берег, а тут — высокая дамба, укрепленная кустарником, густо затравевшая. На той стороне поднимается сад — светятся крупные влажные яблоки.
Яблоки на Лебяжьем? Откуда? Не должно их быть. Здесь растет только черная ольха, ива, верба, камыши. Садам не место на полуболоте. Не туда попал.
Чужой остров?
Нет, свой, родной. Деревянная четырехкрылая мельница и каменный маяк — верные приметы Лебяжьего.
А дамба?… Правда, жители острова собирались насыпать ее, но так и не собрались. Неужели за эти годы, пока он скитался на чужбине, все-таки обваловали остров? А деньги? Не по карману им такая затея. Продадут все добро, нажитое отцами и дедами, и то не хватит. На чьи же капиталы воздвигнут этот вал, сдерживающий весенние воды Дуная?
Дорофей осторожно раздвинул кустарник, перебрался через насыпь, спустился в сад. Перебегая от дерева к дереву, держал направление на ветряк.
Сквозь ветви яблонь увидел первую хату деревни и остановился. Ивовый плетень, увитый диким лопушистым виноградом. Вздыбленный журавль над колодцем. Беленые стены. Голубые ставни, черные окна…
Крепким предрассветным сном спит Лебяжий остров. Спят и Глебовы, не чувствуют, как близко от них отец, сын, муж.
Дорофей стоит перед хатой и улыбается. Чужая, а все равно радостно смотреть на нее. Приземистая, в три окна, с резным крылечком. Северная стена уже по-зимнему обложена камышовыми снопами. На крыше распластал крылья огромный петух, вырезанный из ольхи. Тут живут Черепановы. Плетень к плетню стоит и хата Глебовых.
Дорофей пошел к своей усадьбе. Все здесь такое же, как и пятнадцать лет назад. Огромные бревна осокорей, заменяющие скамейки, валяются у плетня. Когда-то здесь вечерами собирались девки и парни. В будни это было любимое место ребятишек, а по воскресеньям бревнами с утра до вечера владели бабы. Тут же шумели и деревенские сходки.
Калитка на старом месте — в средине плетня, напротив колодца. Дрожащей рукой Дорофей сиял крючок и вошел во двор. Твердая утрамбованная дорожка вела к дому. Дорофей на всякий случай свернул с нее и по огородной земле, пригибаясь, пересек двор.
Светлее, казалось ему, стало на острове. В разрыве дождевых туч блеснула звезда. Дунай сбросил с себя тяжелую ношу ненастной ночи, засверкал чешуей.
Вот и родная хата. До того белая, что больно смотреть на нее. Вот такой сияющей она и представлялась ему в миражных африканских видениях.
Под окнами поднимается ветвистый высокий тополь, посаженный Дорофеем в тот год, когда женился. Теперь он виден издалека. Как быстро прошло время. Тополь вырос, а он…
Прислонился щекой к серебристой мокрой коре дерева, со страхом и надеждой смотрел на белую, с темными глазницами окон хату. Пятнадцать лет назад оставил здесь мать, жену, сыновей. Живы ли? Как живут: в голоде? холоде? нужде? в радости? Может быть, Мавра вышла замуж и забыла, что любила какого-то Дорофея, Не чужой ли он и сыновьям? Не называют ли отцом чужого человека, нет ли у них сводных братьев и сестер?
В конце улицы закричал первый петух. Откликнулся второй на соседнем дворе. И загремело, покатилось по острову зоревое кукареканье.
Дорофей стоял под тополем, не зная, что делать дальше. Спрятаться в какой-нибудь норе, тайком высмотреть оттуда, как живут Глебовы? А что, если постучать в оконную крестовину кулаком и во весь голос крикнуть: «Эй, Мавра, открывай, встречай законного мужа!» В хате поднимется переполох. «Муж? Какой муж? Откуда взялся? С того света?» Тогда он крикнет еще раз: «Открывай, Мавра! Это я!» Она неспешно выйдет, грозно спросит: «Вернулся?… Где скитался столько лет? Что делал? Кому служил? Если ты добрый человек, зачем выбрал такую ночь? Почему побоялся светлого дня?»
Какими словами он смягчит ее ожесточенное обидой и долгим одиночеством сердце?
«Надо пока спрятаться, — решил Дорофей, — а там видно будет».
Рядом с хатой, под одной с ней крышей, просторный коровник. Дверь по-летнему открыта настежь и подперта колом.
Дорофей переступил порог. В нахолонувшее лицо дохнуло коровье тепло и сладкий дух увядших на жарком солнце трав и цветов.
Ощупью, уверенно продвигался вперед по хорошо знакомому коровнику. Вот колышки, где в ненастную погоду обычно висели сети. Висят и сейчас. Кадка с водой. Рундук для кукурузы и отрубей. Огромный костыль с фонарем.
А вот и корова. Рослая, темная, с крупными белыми пятнами по хребту. Она доверчива повернула к чужому человеку голову. Понюхала, пожевала просяще губами, отвернулась.
За дверью, ведущей из коровника в хату, послышался кашель, а потом неторопливые шаркающие шаги.
Дорофей бросился в дальний угол, где лежал ворох сена, зарылся в него.
Позванивая ведром, вошла в коровник невысокая худощавая женщина. Голова повязана полушалком. На плечи накинута телогрейка.
Дорофей едва сдержался, чтобы не броситься навстречу матери.
Корова шумно вздохнула и тихонько замычала.
— Ну, здорово, здорово! — проговорила. Домна Петровна. — Как ты тут ночевала-зоревала?
Она обмыла и вытерла корове вымя чистой тряпкой, села на скамеечку, и тугие струи молока зазвенели в белом ведре.
Закончили свои песни петухи. Посветлел дверной проем. Темнота уползла за Дунай, в плавни. На краю неба пробился алый родничок.
Дорофей затуманенными от слез глазами смотрел на мать, освещенную полосой света. Постарела! Глубокие морщины посекли и лоб, и подбородок, и даже нос. Только брови все те же — густые, сросшиеся на переносице, смолисто-черные. Все забыл сейчас Дорофей: где был, что делал, зачем явился на Дунай. Только любил мать, только добра желал ей.
— Мама!… — позвал он. — Матунюшка!…
То ли шепот его услышала Домна Петровна, то ли материнское сердце угадало, почувствовало близость сына — она бросила доить, тревожно насупилась, посмотрела в угол коровника, на ворох сена.
— Матуня!… Матуха!…
В самые лучшие дни своей жизни, в далеком детстве, Дорофей так называл мать. Матуня!… Матуха!… Матунюшка! Как заклинание произнес Дорофей сокровенные слова. Умолял о пощаде и вместе с тем властно требовал. Мать не имеет права не быть матерью.
— Господи Иисусе Христе!…
Домна Петровна вскочила. Верила своим ушам и не верила. Спину прохватывал ледяной озноб. Готовая смеяться от счастья и разрыдаться, смотрела в угол, на ворох сена, на темное пятно, похожее на человека.
— Маманя!… — Дорофей бросился к матери, целовал ее губы, щеки, шею, руки, голову.
Перевел дыхание, прижался мокрой щекой к ее щеке, зажмурился, тихонько всхлипывал.
— Ты?… Ты, Дорофеюшка?
Натруженные, не отдыхавшие шестьдесят лет руки Домны Петровны ощупывали сына. Нашли крупную родинку над правым ухом.
— Дитятко мое! Пришел!… Пробился!…
— Я к тебе, матунюшка, много лет пробиваюсь.
— И я… каждый день, каждую ночь ждала.
— Ну вот, дождалась. Здравствуй, матика!
— Здравствуй, роднуша!
Какая она маленькая, сухонькая и беззащитная. И как хорошо пахнет — яблоками, сухими травами, парным молоком.
Дорофей гладил мать по голове и плакал.
Корова, должно быть удивленная тем, что ее перестали доить, повернула голову к хозяйке, замычала.
Домна Петровна машинально потрепала корову по упругой атласной шее. А взгляд ее прикован к лицу сына. Смотрит на сорокалетнего Дорофея, вспоминает, каким он был. Вот он ищет жадными губами материнскую грудь; вот впервые улыбнулся; вот сделал первый шаг; вот бежит навстречу матери по берегу Дуная, босоногий, в красной рубахе, надутой ветром.
Вспомнила тот день и час, когда он появился на свет.
Родила его в рыбачьей лодке, на взморье. Перекусила пуповину, обмыла сына соленой морской водой, завернула в то, что оказалось под рукой, в свою рубаху, в рыбачью сеть.
— Мама, маманя!…
В коровнике совсем посветлело.
Шлепая по воде плицами колес, прошел рейсовый пароход.
С реки потянуло утренней свежестью.
С гоготом побежали в соседнем дворе тяжелые домашние гуси и, подлетывая, заспешили на привольные пастбища.
Дунайский фарватер розовел. Зоряно светились и крылья ветряка. Маячный огонь мигал тускло.
— Ну, маманя, говори прямо: всем я тут желанный? — спросил Дорофей.
— Всем, милый ты мой, не сомневайся! Ой, как ты дрожишь! Тебе холодно? Пойдем в тепло.
— А Мавра?… — Голос его осекся, дыхание прихватило. — Замуж не вышла?
— Не наговаривай на жену. Одна живет, да вот только…
— Ну?
— Не узнаешь ты ее.
— Что ж так? Постарела?
— Все сам увидишь, сынок… Пойдем.
Дорофей посмотрел на дверь, ведущую в дом.
— Долгонько спать любит. Раньше, бывало, до зари по двору бегала. Разбуди ее, предупреди.
— Нету ее дома.
— Где же?
— Уехала в Москву.
— Зачем ей Москва понадобилась?
— Понадобилась!
— Не заблудится?
— Мавра-то? — мать улыбнулась.
Насторожился Дорофей. Что-то тут не так.
— А ребята дома?
— И ребят нету.
— В школе?
— Это в их-то года?! Опомнись, отец! Старшему двадцатый пошел, младшему — восемнадцать.
— Где же они? На рыбалке?
— Хватай выше!
— Не понимаю. Чего-то недоговариваешь.
— Ох, сынок, десять коробов я тебе недоговариваю! — Она вытерла о ситцевый фартук руки. — Пойдем, в доме все расскажу… Не упирайся! Иди на свет божий, дай мне разглядеть тебя как следует.
— Постой, маманя! Нельзя мне на свету быть. С той стороны я сюда пробился!… Беглец.
Домна Петровна не ждала от сына таких слов. В глазах ее уже не светилось счастье. Они наполнились страхом.
— Беглец?… Откуда?… — прошептали похолодевшие губы, а руки безжизненно повисли.
— Границу нарушил. Под водой. В маске. Сделался жабой, чтобы вырваться домой. Ох, мама, и натерпелся!… По самые ноздри хлебнул горькой жизни. Невмоготу больше, вот и вернулся. Добром нельзя было, так я хитростью выкарабкался.
Домна Петровна окаменела, слушая сына.
— Известно, не помилуют власти, если узнают, что объявился я.
— Если узнают?… — переспросила Домна Петровна. — А разве ты скрываться хочешь?
Дорофей не сразу ответил. Подумал, сказал:
— Явлюсь с повинной. Только не сегодня. И не завтра. — Он схватил холодную, чужую руку матери, прижал к своему лицу. — Матунюшка, не осуждай! Не за свободную жизнь я цепляюсь. По вас стосковался. Насмотрюсь на тебя, на Мавру, на ребятишек, отведу душу, а потом… А пока никто и ничего не должен знать… На острове есть пограничники?
Мать незряче смотрела на сына, думала о своем.
— Я спрашиваю, на острове есть пограничники?
— Ты один?
— Что?
— Я пытаю, ты один вернулся с той стороны?
— Один. А что?
— Значит, с повинной?
— Ну да. Указ есть насчет помилования таких, как я, покаявшихся.
— А в чем виниться будешь?
— Границу перешел, закон нарушил.
— Всё?
— Понимаю!… Не веришь? Что ж, дело твое, спроваживай родного сына на тот свет.
— Что ты! — испугалась Домна Петровна. Руки ее обрели силу, потеплели. Схлынула с лица бледность. Обхватила Дорофея, прижалась к нему. — Верю! Если уж тебе не поверить, то лучше не жить. Чего ж мы тут прохлаждаемся? — всполошилась Домна Петровна. — Пойдем до хаты.
Он переступил порог и замер. Стоял, облокотившись о притолоку, и с изумлением рассматривал обстановку. Хата прежняя, а внутри…
— Проходи. Раздевайся. — Мать взяла его за руку, потащила к дивану, усадила… — Ну, вот ты и дома, сынок!
Тепло, а Дорофея все еще бьет дрожь. Мать поставила на стол графин с водкой, стакан, тарелку с яблоками.
— Замерз ты, как цуцик. Грейся!
Он налил полный стакан и выпил.
— Запасливые, хотя и без мужиков живете. Кто же из вас горькую пьет? Ты? Мавра?
— Гостей ублажаем.
— А часто они у вас бывают?
— Бывают.
Водка согрела Дорофея и вернула ему потерянную уверенность и смелость. Похрустывая яблоком, он оглядывался.
Не изменилась просторная, с окнами на Дунай горница: те же дубовые балки, выступающие на потолке, те же медовой желтизны деревянные стены. И все-таки это не та хата, в которой родился и вырос Дорофей. Многое изменилось. Выветрился мужской дух, дух рыбачьих сетей, болотных сапог, пропитанных рыбьим жиром. И охотничьим порохом не пахнет. Только яблоками. Яблоки, яблоки, яблоки. На полу, на подоконниках, в корзинах, под кроватью и даже на шкафу. Краснобокие. С девичьим румянцем. Темно-красные. Алые. Огромные, в кулак богатыря.
Не только это изумило Дорофея. Сияет полированный, с зеркальной дверцей шкаф, тумбочка с радиоприемником, мягкий диван. Круглый стол накрыт цветастой скатертью и окружен хороводом стульев. В соседней полусветлой комнате, в так называемой боковушке, Дорофей увидел дорогую кровать, гору белоснежных подушек, шелковое одеяло, большой ковер и стеклянный шкафчик, полный посуды.
Добро не показное, не для людей выставлено. Давным-давно обжито, стало привычным.
— Вот, значит, как вы живете!… Завидно!
— Сам себе завидуешь. — Домна Петровна подошла к сыну, как маленького, погладила по светлым, чуть влажным волосам. — Отдыхай, а я побегу творить угощение.
— Постой, мама!… Здорово, говорю, живете. Бросил вас бедняками, а вернулся… к богатеям. Раньше у нас так жили только немцы-колонисты, а теперь Глебовы на их место заступили. Ишь, как возвысились! Выходит, жене выгоднее жить без мужа, детям — без отца, матери — без сына.
— Обидно, что хорошо живем?
— Богатство ваше испугало. Откуда оно? Когда и как разбогатели?
— Почти все наши островные так живут, слава богу!
— Все?… Это почему?
— До работы стали жадные. И трудодень увесистый, удачливый, словно икряная белуга. Сад-то наш и пасеку видел?
— Ну, видел.
— С него все богатства собираем. Садище! Первый на Дунае! Во всех газетах пропечатали похвалы нашим яблокам и грушам, винограду и айве. И диплом на выставке в Москве выдали.
— А кто его посадил?
— Все. Старый и малый. И на мою долю штук двадцать саженцев приходится. А командовала твоя Мавра.
— Командовала?… Это с каких пор она в командиры выскочила?
— Люди вытолкали. Председателем колхоза избрали.
— А за какие заслуги?
— Ох, Дорофей, рассказывать мне про это и рассказывать!… С утра до вечера и с вечера до утра. Соловья баснями не кормят. Пойдем — накормлю, напою.
— Сиди, матунюшка! Рассказывай… За какие, говорю, заслуги Мавра в вожаках ходит?
— Работящая она. Головастая хозяйка. Вроде как пчелиной матки: одна за всех, а все за нее.
— Так!… Уродилась обыкновенной пчелой, а стала маткой. Как же это случилось?
— А я и сама, по правде сказать, не доглядела — как. Вон дерево — разве уследишь, как оно тянется к небу!…
Дорофей умолк, разглядывая стоящий под окном тополь. Ствол его уже толще корабельной мачты, серебристо-атласный. Гнездо аиста чернеет в зеленой листве. С вершины тополя виден, наверное, Дунай, протока, соседние острова, плавни, весь Лебяжий, с его садами, пасеками, дамбой.
— Когда дамбу насыпали? — спросил Дорофей.
— Давненько. Еще ребята в пятый класс бегали,
— А денег где раздобыли? В долги залезли?
— Никаких долгов. Дунайские морячки подсобили. Измаильские рабочие трактора прислали, да и сами работали. Такое творилось в то лето!… Чистый праздник. Народу — тьма-тьмущая. Машины днем и ночью гудели. Музыка. Песни.
— Мавра хороводила?
— Она… Перед ней теперь все глухие двери открываются. Депутат! Правительственные награды имеет — орден Ленина и Знамя это… Трудовое. — Домна Петровна засмеялась. — И всё наши яблочки, грушки и пчелки. За них вот и эту штуковину Москва прислала.
Домна Петровна сняла со стены «штуковину», бережно положила на колени сына.
Черная, дорогой резьбы рамка, тяжелое стекло, меловая бумага, золотые печатные буквы: «Диплом первой степени… Мавре Кузьминичне Глебовой… За высокие урожаи…» Подписи академиков, чеканные, как на сторублевках. Красные печати. Герб СССР. Эмблема Всесоюзной сельскохозяйственной выставки…
Дорофей повесил диплом на место, сел, отхлебнул из стакана водки.
— Ну, чем еще порадуешь?… Сыновья-то как поживают?
— Вчера убыли. Все лето были здесь: садовникам помогали, охотились в плавнях, рыбачили на протоках, камыш рубили.
— А куда уехали? Зачем?
— Каникулы кончились, вот и уехали. В Одессу. В институт. Студенты они.
— Студенты?… И Гордей и Аверьян?… Это как же?…
— А вот так… Всё как надо. Настоящие студенты. Стипендию получают. Славные ребятки. Инженерами станут. Тут, на Дунае, будут работать, дамбы и плотины насыпать.
— Отца-то хоть вспоминали?
— А как же!
— Добром или…
— Известно, что скажешь про родного отца, пропавшего без вести. Жалеют.
— Ну, а Мавра?
— И она. — Домна Петровна подсела к сыну, прижала ладонь к груди. — Печет страх? Не сомневайся.
— И рад бы не сомневаться, да не получается. Сижу вот в родном доме, а не верю: тут ли я? Эх, мама, если бы ты знала, под какими я жерновами побывал!
— Ничего, родной! Все забудется. Мы тебя с Маврой приголубим, выходим. Почему столько лет не подавал о себе весточки?
— Подавал. Из Турции, с Кипра, из Египта.
— Ни единого письма не получили.
— Застревали где-то. К рукам чужим прилипали.
Со двора донесся женский голос:
— Петровна!… Ау, Петровна, ты дома?
Дорофей испуганно метнулся в боковушку, прихлопнул за собой дверь.
— Тут я, чего кричишь зря! — Домна Петровна вышла во двор.
У плетня стояла соседка. Лада Черепанова. Лицо раскраснелось. Седые волосы растрепаны.
— Чего надо?
— Петровна, беда стряслась. Ванятка ногу распорол. Йод нужен, бинт. Не поскупись. Все наши запасы кончились.
Домна Петровна молча пошла в хату и вернулась с большой жестяной коробкой.
— Вот тебе целая аптека.
— Благодарствую!
Соседка исчезла. Домна Петровна проводила ее задумчивым взглядом. Добрая, счастливая доля у Лады. Тяжело шаркая босыми ногами, мать вошла в дом. Из боковушки вышел Дорофей. Губы его тряслись.
— Чего людей боишься, сынок? С открытой душой пришел к ним — и боишься!…
— А как же не бояться, когда я от собственной тени шарахаюсь. — Он покосился на диплом. — Значит, по первостепенной дороге шагает Мавра?… Орденоносец! Председательша!… Краса и гордость Лебяжьего. Сынов в инженеры выводит! И даже неграмотную свекруху возвысила. — Дорофей насмешливо посмотрел на мать. — Какая у тебя должность в колхозе? Агитаторская? Или в парторги вышла?
Густые, сросшиеся на переносице брови Домны Петровны сдвинулись.
— Говори что хочешь, сынок! Тебе положено сегодня всякую чепуху молоть. Стерплю.
— Скажу!… — Он хлопнул ладонью по столу. — Не ко времени и не к месту воскрес Дорофей Глебов. Назад уползай, зачумленный! Туда, откуда явился, — в ночь, в свою жабью дырку.
— Чего несешь?
— Дело говорю, матунюшка! Чернотой своей вашу белизну покрою, если останусь тут. Ославлю на весь Дунай. Верить вам везде перестанут. Гордея и Аверьяна студенчества лишат. Мавру из депутатов вышибут. Вот что я порешил. Не судьба мне жить с вами под одной крышей. Скроюсь. Уйду в плавни и буду там доживать свой постылый век. Ниже болотной травы, тише стоячей воды.
— Тошно слушать непутевые речи. Ну и дремучий же ты, Дорофей. Не такие на Лебяжьем люди, как ты думаешь. Нету их, вывелись.
— Брось, мама! Не уговоришь. Не будет вам со мной счастья.
— Не из пугливых мы. Пожили в счастье, поживем и в несчастье. Потеряем в одном месте, найдем в другом. — Она положила на плечи Дорофея легкие коричневые руки. — Я вот что порешила, сынок!… Сегодня пойдешь к пограничникам. Покормлю, напою и провожу. Явись и скажи: беглый я, границу перешел. Помилуют. По указу.
Дорофей стоял у стены, словно пригвожденный. Глаза закрыты, ввалились. Лицо осунулось, посерело. Морщины стянули лоб, щеки.
— Нечего тебе ждать. Иди и винись! — твердо говорила мать. — Иди! Да ты слышишь, что говорю?
Он медленно кивнул отяжелевшей головой.
— Слышу, — не открывая глаз, выдавил он сквозь зубы. — Мама, а если… если я не пойду.
Домна Петровна долго не отвечала. Крепко сжав темные губы, с мучительной болью вглядывалась в сына.
Она тихонько, ласково погладила его по небритой щеке.
— Если не пойдешь… я сама поклонюсь властям и скажу: ждет вас мой сын, приходите!
— Эх, матунюшка!… Кланяйся! Да живее, а то, чего доброго, раздумаю виниться.
Дорофея Глебова на быстроходном катере доставили в райотдел КГБ.
Многое он рассказал!… Демонстрировал снаряжение подводного диверсанта. Давал характеристики тем участникам операции «Цуг шпитце», которых хорошо знал.
Не забыл Дорофей упомянуть и «Мохача», старого друга Сысоя Уварова, который должен пожаловать к нему в гости в скором времени.
— «Мохач»? — спросил Шатров. — Кто он такой? Откуда и когда его должен ждать Уваров? Какие у него задачи?
Дорофей виновато посмотрел на чекистов.
— Ничего больше не знаю. Мой шеф доверил мне эту тайну в самый последний момент, перед высадкой.
— И он не сказал вам, не намекнул, что вы будете взаимодействовать с этим «Мохачем»?
— Нет, не говорил и не намекал.
— А может быть, это подразумевалось?
— Нет, и не подразумевалось. Я понял так, что у Сысоя Уварова с «Мохачем» будет особый контакт и особые дела.
— А какие?
— Не знаю. Могу только гадать.
— Ну погадайте! — улыбнулся Шатров.
— Таким, как он, этот «Мохач», всегда наш брат, черная кость, дорогу в трудных местах прокладывает. Мы пробуем, а они, принцы, доделывают, вершки снимают. Главное дело должен сделать не я, а он, «Мохач». Наверняка.
— И какое же это главное дело?
— Не знаю. Вам виднее, что у вас тут на Дунае самое дорогое.
— Для нас все здесь самое дорогое, — сказал Шатров. — И города и колхозы, И каждый корабль и каждый человек. И спокойствие и тишина. Всем дорожим, все охраняем Вы только вчера впервые услышали о «Мохаче»?
Дорофей после долгой напряженной паузы неуверенно ответил:
— Мне кажется, я раньше ничего не слышал о нем.
— А ваш шеф какую имеет кличку?
— Инспектор?
— Нет, другой, тот, что сопровождал вас сюда, на Дунай.
— Мы его называли «Капитаном».
— Другой клички у него не было?
— Не знаю.
— Не приходилось вам слышать, как называли его между собой ваши инструкторы?
— Чаще всего тоже «Капитаном», но иногда в веселую минуту величали «Катаракты».
— В этом был какой-нибудь смысл?
— Наверное.
— А вы допускаете такую возможность, что ваш шеф имел еще одну запасную кличку, известную только его начальству?
— Может быть, и так.
— А вы не удивились бы, узнав, что «Капитан», «Катаракты» и «Мохач» одно и то же лицо?
— Я давно уже перестал удивляться.
Шатров закрыл блокнот.
— Пожалуй, хватит на сегодня.
Глебов вышел, сопровождаемый солдатами.
Шатров сложил мелко исписанные листы, спрятал их в планшетку.
Показания Дорофея Глебова заставили Шатрова глубоко задуматься. К чему, к какому событию привязана эта операция «Цуг шпитце»?
Штаб «Бизона» ничего не делал так, на всякий случай, в порядке самотека. Все и всегда приурочивалось к какому-нибудь большому событию на международной арене. Если наступал Фостер Даллес, то запускал в ход свою машину и «Бизон».
Англичане и французы сейчас предприняли наглейшее наступление в Египте. Главные держатели акций Суэцкого канала возмутились, что их «священная собственность» национализирована египтянами. «Арабы, образумьтесь, отдайте назад Суэцкий канал, верните Западу вековое право быть хозяином на вашей земле, иначе будет разрушен трехмиллионный Каир, залита напалмом долина Нила!»
Шатров располагал данными, свидетельствовавшими, что штаб «Бизона» предпринимает бешеные атаки во всех направлениях. Но где главное? Конечно, не здесь, на Дунае.
После долгих размышлений Шатров пришел к убеждению, что важная сама по себе операция «Цуг шпитце» скрывает еще что-то более значительное.
Для чего же понадобились «Бизону» одновременные взрывы на Дунае — в Братиславе, в Северной Болгарии, Южной Румынии и в дунайском гирле? Отвлечь внимание от авантюры в районе Египта? Да, на какое-то время, если бы взрывы прогремели, Дунай приковал бы к себе внимание мировой общественности.
Нет, темное облако «Цуг шпитце» надолго не затмит событий в Египте. Скорее всего, это обрывок гигантской тучи, которую западная «машина погоды», машина «взаимной безопасности», решила выпустить на мировой небосвод.
Только над Венгрией видел Шатров приметы надвигающейся грозы. Там творятся странные вещи. Несколько лет укреплялась западная граница. Разумная, необходимая мера предосторожности признана теперь почему-то излишней: несколько дивизий поспешно разоружают границу.
Западные соседи обратились с просьбой к венгерскому правительству открыть границу, и ее открыли.
По мнению Шатрова, это ослабило позиции народной Венгрии и всего социалистического лагеря. Но в Будапеште кое-кто придерживался на этот счет другого взгляда. Там считали, что разоружение западной границы полезно, это ослабит, смягчит международную напряженность. Если бы так!…
Заблуждение? Или поспешные, непродуманные, рискованные действия?
Вызывали тревожные недоумения и некоторые венгерские газеты, некоторые журналисты, писатели. Раздувают ошибки и промахи социалистического строительства. Не критикуют, а издеваются, высмеивают, изощряются в ругательствах. Нападают на диктатуру пролетариата, ослабляют ее и считаются коммунистами, слывут истинными демократами.
Были еще и другие неприятные признаки на венгерском горизонте. Однако тогда, в сентябре 1956 года, даже Шатров, умеющий разбираться в политической погоде, не мог еще сказать, что «Бизон» решил сделать Венгрию той тучей, которая должна затмить войну в Египте.
Чудес нет, не бывает их и в тайных войнах. В чрезвычайно трудных условиях, порой ощупью, часто «от печки» приходится пробиваться нашим контрразведчикам к тайнам врага.
Энергия, терпение, хитрость, ум, время, осторожность, осмотрительность, хладнокровие, риск и точный расчет были давними испытанными спутниками чекистов…
Шатров толкнул Гойду.
— Ну, что надумал?
— Кое-что. Согласен с вами, Никита Самойлович: рано праздновать победу. Надо еще крепко поработать, пока докопаемся до сердцевины операции.
— Что за сердцевина? — Шатров улыбнулся.
Гойда помедлил, осторожно ответил:
— Не знаю, какая она, но чувствую — есть. Придется Дунаю Ивановичу влезть в шкуру Дорофея и отправиться в длительную командировку на Тополиный. Сысой Уваров не знает его, ничего не слыхал о нем.
— Да, придется, — просто сказал Шатров. — И как можно скорее. Дорофей запоздал на двое суток явиться на Тополиный остров. Не позже завтрашней ночи он должен быть там. Надо прежде всего выяснить главное: что такое «Цуг шпитце» и кто такой «Мохач». Так?
— Да.
Гойда искренне позавидовал Дунаю Ивановичу, захотел быть на его месте. Все, что ни делал до сих пор, показалось ему пустяком по сравнению с тем, что предстояло Капитону Черепанову.
МОЛЧАЛИВЫЙ И ТИХИЙ
Глухая ночь. Окна домика бакенщика темны. Но Сысой Уваров бодрствует. Днем отоспался. Сидит у воды, в тени ивняка, на бревенчатом причале, впитавшем дневное тепло, смотрит на Дунай и терпеливо ждет…
Несколько ночей кряду он провожает взглядом, полным тревоги и надежды, пароходы и баржи, идущие сверху.
Тихо на островном клочке земли. Едва шелестит листвой черная ольха. Изредка подает свой плачущий голос болотная выпь, залетевшая сюда из плавней.
Лунная дорога перекинулась через Дунай с берега на берег.
Кованый, добела раскаленный, расклепанный в лепешку месяц катится по чистому небу.
Одна половина хаты бакенщика темная, ночная, другая похожа на огромный снежный сугроб.
Мигающий огонек на границе фарватера чуть приметен в потоке лунного света.
Где-то в ясном поднебесье горланят журавли. Сысою Уварову кажется, что они радостно переговариваются.
Кур-лы!… Здорово, батюшка Дунай! Прилетели. Кра, кра!… Изморились, исхудали в дороге. Кра, кра!… Десять тысяч километров отмахали. Кра!… Обогнали дожди, морозы! Кра, кра!…
Сысой оторвал взгляд от неба, опустил голову и снова стал смотреть на воду.
До чего только не додумается, чего только не увидит человек, привыкший жить в тихом, темном одиночестве, всем сердцем преданный ему.
Чуть ли не четыре десятка лет Сысой Уваров живет в мире тишины, в мире одиночества. Вошел сюда малышом, по тропе отца, матери, деда, бабушки. Людей веры Уварова не увидишь и не услышишь. Их мало на придунайской земле. Но это верные слуги Христа. Служат ему не словом красным, а мудрым молчанием. Яростью, прикрытой покорностью, как угли костра пеплом. Мыслью, никому не доверенной. Делом известным только Христу и тому, кто его сотворил. Молчальник откровенен только с птицей и зверем, дождем и солнцем. Но если осенит его дух Христа, он бесстрашно выползает на волю и действует. И рука его тверда, когда он карает тех, кто царство небесное пытается подменить земным, кто топчет закон божий, а возвышает свои, советский или румынский, кто вместо невидимого страдальческого венца Христа увенчал голову красной звездой.
Прольет молчальник кровь еретиков — и Христос приближает его к себе.
Сысой Уваров почувствовал себя приближенным к Богу, когда получил через доверенных лиц «Бизона» сигнал к действию.
В картотеке «Бизона» он значился под кличкой «Белуга».
«Белуга» исполнял свои обязанности бескорыстно. Время от времени главный «молчальник», правая рука Христа на земле, которого он никогда не видел, который жил за морями-океанами, присылал ему плату-благословение божие.
Уваровым и такими, как он, руководил Карл Бард, знаток русских сектантов, живущих в дельте Дуная, в Закарпатье, Прикарпатье и в румынских горах.
Сысой Уваров стал подручным Карла Барда еще в ту пору, когда на Дунае полновластным хозяином, государством в государстве, была Европейская Дунайская комиссия, в которую входили представители Румынии, Германии, Австрии и таких «дунайских» стран, как Англия, Франция, Италия. Над зданиями комиссии и ее судами развевался особый флаг. Европейская Дунайская комиссия имела свой флот, свои суды, дипломатические привилегии, право взимания налогов свободно обратимой валютой.
И конечно же, комиссия имела свою службу разведки. Ее сотрудником был Карл Бард. Официально он исполнял обязанности инспектора по надзору за судоходством. Его катер в любую погоду появлялся в Измаиле, в Тульче, в Галаце, у берегов Черного острова, в Вилкове и в Сулине. Карла Барда знали капитаны судов, начальники пристаней, бакенщики. И все трепетали перед ним: он имел право единолично увольнять людей, отдавать под суд, штрафовать.
Тогда Сысой Уваров и сошелся с Карлом Бардом. Он служил на катере главного инспектора механиком-водителем. Три года вместе бродили по Дунаю. Побывали в каждой дыре, на ближних и дальних озерах, исследовали все острова, ночевали чуть ли не у каждого бакенщика.
Темная низкая туча, набежавшая из плавней, поглотила яркий месяц. Исчезла лунная дорога. Дунай почернел. На краю неба, еще чистого от облаков, выступили звезды, ранее скрытые. Ярче светили бакенные огни. Пала роса на листву, и она поникла под ее тяжестью, замерла.
Пароход за пароходом пробегали и проходили сверху — белые и стройные пассажирские, приземистые нефтеналивные баржи, пыхтящие буксиры. Прошумел и рейсовый теплоход Измаил-Одесса, а тот, ради кого томился здесь бакенщик, не появлялся.
«И сегодня даром отдежурил», — подумал Уваров. Кряхтя, зевая, он поднялся с причала и зашагал по некрутой тропке к дому. Не успел пройти и пяти шагов, как со стороны Дуная донесся негромкий осторожный голос:
— Постой, друг!…
Уваров ждал подводного гостя со дня на день, с часа на час и все же вздрогнул, испугался, когда тот вынырнул.
«Белуга» остановился и, не оглядываясь, не дыша, ждал.
— Земляк, ты бакенщик? — спросил кто-то.
— Ну, бакенщик.
— Петро Петров?
— Не по адресу попал.
Проговорив эти парольные слова, Уваров обернулся и увидел выходящего из воды человека. Плотен он, с ног до головы черен, как опаленный пожаром дубок. Только лицо белело — на нем уже не было маски. На спине горбился большой рюкзак. Долго, видно, пропадал под водой. От него несло пресной сыростью, дунайским илом. В складках резинового комбинезона блестели капли воды. Густые длинные волосы, зачесанные назад, светились.
Уваров протянул долгожданному гостю руку.
— Здравия желаю. С прибытием!
— Спасибо, Сысой Мефодиевич, Здорово!… Много о тебе слыхал, а теперь вот и повидаться довелось. Ну-ка, покажись!
Широк Уваров в плечах и груди. Крупная ушастая голова. На низком, косо срезанном лбу две горгулины, похожие на телячьи едва-едва проклюнувшиеся рога. Нос толстый, мясистый. Щеки отвислые, набухшие, в сырых складках. В темной глубокой впадине сверкают маленькие зоркие глаза. Из-под черной сатиновой косоворотки выглядывает острый кадык.
Все эти черты Сысоя Уварова хорошо приметны, однако впоследствии Черепанов легко вызывал в своей памяти облик Уварова единственным словом — ржавый. Это и есть его главная сущность. Голова обросла коротким, жестким, как проволочная щетка, землисто-рыжим волосом. Борода тоже тёмно-рыжая — кустистая, мочалистая, растущая привольно, во все стороны. Брови топорщатся желтой щетиной. Тяжелый дух ржавчины, сырости, тлена сопутствовал каждому движению Сысоя Уварова.
Черепанов выпустил его руку из своей.
— Ну, вот, посмотрел.
— Интересно!
— Что тебе интересно?
— В твое зеркало, говорю, интересно посмотреть. В обыкновенное, стеклянное, я ни разу в жизни не заглядывал. Не положено. Ну, говори, какой я? На сома столетнего смахиваю, да? — Он засмеялся. И смех его был какой-то сырой, холодный.
— Ничего, русалка не откажется.
— Виляешь?… Ну да уж бог с тобой. Мне все равно, какой я: страшный аль зазывной… Не для людского глаза живу на свете. Ты кто? Как величать прикажешь?
— Зови Иваном. — Черепанов улыбнулся. — В дальних командировках я привык быть Иваном.
— По-русски здорово болтаешь. Русский?
— Русак. Чистокровный.
— Откуда родом?
— Отсюда не видать. Сысой, ты чересчур любопытен! — Черепанов укоризненно покачал головой.
— Извиняйте… Почему так долго не являлся? Две ночи жду. Тревогой истек. Думал, схватили тебя где-нибудь. На этот черный случай дружка своего в плавни отправил.
— Была причина. Чуть в бредень не попал к этим… стражникам в зеленых фуражках.
— Где?
— В Ангоре. Двое суток отсиживался в утробе полузатопленной баржи. Измучился дьявольски. Ладно, не привыкать! — Подводник снизил голос до шепота. — Тут недавно проходили баржа и пароход…
— Проходили… Да ты не бойся, говори в полный голос, никто тебя здесь не услышит.
— Привычка, брат, ничего не поделаешь… Так, значит, проходили…
— Угу. Груз скантован и затоплен под бакеном. — Уваров кивнул на Дунай, на мигающий невдалеке огонек. — Вон там. Сейчас нырнешь?
— Надо бы сейчас.
— Отдохни, подкрепись ужином, винцом.
— Нашему брату нельзя перед работой ни есть, ни пить. Брюхо должно быть пустым. Покурю вот и бултыхнусь. Сигареты нет?
— Мы сроду некурящие.
— Да, я и забыл. Придется воспользоваться неприкосновенным запасом.
Ночной гость расстегнул резиновые лямки рюкзака, отвинтил герметический клапан, достал пачку сигарет. Прильнул к земле, чиркнул зажигалкой. Потянуло конфетно-мятным табачным дымком.
— «Капитан» велел тебе кланяться. И денег прислал, — сказал Черепанов и хлопнул ладонью по рюкзаку.
— Деньги? — насторожился Сысой.
— Да. Чего ты удивляешься?
— А зачем они мне? Я в них не нуждаюсь. Не ради них… «Капитан» давно знает об этом,
— «Капитан» ни о чем не забывает, — сказал Черепанов. — Деньги тебе не нужны, но другим понадобятся.
— Так бы и говорил… Для плавней прислал.
«Плавни?… Почему деньги нужны для плавней? Дорофей об этом ничего не говорил. Не знает, видимо. Кто там в плавнях?»
Черепанов вдавил в землю недокуренную сигарету.
— Потом потолкуем. Сейчас нырну, а то скоро светать начнет. Да, кстати. Велено тебе ждать еще одного гостя… «Мохача».
— «Мохач»?! — Хотел и не мог скрыть Уваров своей радости. Видно, давно любезен его сердцу этот человек.
Черепанов натянул на голову капюшон с маской, неслышно, как тень, вошел в воду, исчез.
Пока он блуждал под водой, Сысой Уваров на всякий случай исследовал содержимое его рюкзака. Пистолет, Запасные обоймы к ним. Гранаты, обыкновенные штиблеты. Холщовые мешочки, набитые чем-то твердым, кажется взрывчаткой. Пачка денег. Сигареты. Карты. Моток какого-то особого тонкого электрического шнура. Маленький фотоаппарат. Фляга, обшитая сукном. Небольшие кусачки. Слесарный разводный ключ. И еще какие-то непонятного назначения предметы.
На поверхности Дуная, почти у самой кромки берега, заросшего ивняком, показалось черное пятно.
Ныряльщик вышел на берег, держа в руках металлическую сигару, величиной с доброго сома, с якорьком на тросе.
— Держи! — глухо, из-под маски проговорил подводник.
Сысой Уваров нерешительно поднял руки и сейчас же опустил их.
— Держи, не бойся! Пока безопасная. Взрывные головки в рюкзаке.
Тяжелая мина легла на мягкие дрожащие руки «Белуги».
— Неси домой! Спрячь, а я тем временем вторую достану.
Осторожно, птичьими шажками двинулся Уваров к дому, держа на вытянутых руках увесистый, мышиного цвета снаряд.
Отнес. Спрятал. Вернулся.
Ныряльщик вылез из воды. Положил вторую мину на траву, снял маску, глубоко вздохнул.
— Вот и все дела! Тащи, Сысой! И рюкзак прихвати.
Уваров сделал еще один рейс.
Вернувшись, он увидел Ивана без резинового комбинезона. На нем был толстый теплый свитер, штаны в обтяжку, белые шерстяные носки. Резиновая шкура, баллончик с кислородом, маска и башмаки со свинцовой подошвой валялись на траве.
— Ну, друг, теперь веди в свою избушку.
Прихватив снаряжение, отправились в дом.
Спертый, сырой дух подземелья ударил в лицо Дуная Ивановича, когда он открыл дверь хижины бакенщика.
Два скособоченных оконца, закрытые дерюгами. Нары с охапкой сена. Потолок в многолетней копоти. На ржавой проволоке висит керосиновая, с ржавым жестяным кругом лампа. Пол земляной, в выбоинах и буграх. На столе, кое-как сколоченном из досок, недоеденная рыба, вареный картофель, буханка покупного хлеба. В утробе русской печи синеют угарные угольки.
Дунай Иванович покачал головой.
— Ну и ну!… Тут, брат, и человеком не пахнет. Логово! И как ты здесь только существуешь, ума не приложу!
— Существую. — Уваров выкрутил фитиль лампы, загремел печной заслонкой. — Доволен, слава Христу. Не жалуюсь. Не выпрашиваю лучшей жизни.
— Детей нет?
— Холостяк.
— Почему не женишься?
— Двадцать пять лет не ищу невесты. — Уваров пошевелил толстой отвисшей губой. Улыбку изобразил. — На том свете женюсь.
— Ты это серьезно?
— Куда уж серьезнее!…
— Принципиальный женоненавистник?
— Чего?
— Жен, говорю, ненавидишь.
— Без жены легко жить, если с Христом обвенчан.
— Ну, знаешь!… Я вот с малолетства обвенчан с ним, а все-таки…
Сказал и сразу пожалел. Опасная болтовня.
— А кто тебя венчал? — спросил Сысой Уваров и глаза его стали узкими-узкими.
Дунай Иванович понял, что случайно прикоснулся к чему-то тайному, сектантскому.
Кто венчал?…
Что сказать? Мгновенно вспомнил, что было известно ему о сектантах Дуная, Карпат и Закарпатья. Все они законспирированы, организованы в «пятерки». Одна не знает другую. Каждая выполняет волю главного проповедника, а проповедник, правая рука Христа, — личность почти мифическая. Живет он вдали от своих служителей — где-то в Канаде или в США. Через тайных послов влияет и на русских сектантов, и на польских, и на румынских, и на болгарских. Приказания его выполняются беспрекословно.
Дунай Иванович спокойно выдержал взгляд Уварова, сказал:
— Кто венчал, спрашиваешь?… Тот, кого избрал Христос. Тот, кто бывает всюду и нигде.
— Ишь ты!… — бакенщик довольно улыбнулся.
Черепанов понял, что опасность миновала. По-видимому, он произнес подходящие слова. Вот, оказывается, в чем дело. Хитри, увиливай, недоговаривай, намекай, нагромождай великие премудрости, прячься за них — и ты завоюешь доверие самого недоверчивого «трясоголова» или «молчуна».
Черепанов сел за стол.
— Сысой, ты не очень гостеприимен! Где же твое угощение? Выкладывай!
Хозяин усмехнулся в прозрачную растрепанную бороду.
— Тише едешь, дальше будешь! Мы всю жизнь тихо едем. — Он сдвинул ногой доску в стене, достал — из неглубокого погребца бутылку водки, черную икру в стеклянной банке, малосольные огурцы в кувшине. — Угощайся, Иван… не знаю, как тебя по батюшке.
Черепанов взял бутылку, посмотрел сквозь нее на огонь лампы.
— Березовый сок, а не горькая. Хороша Маша, да не наша. Нельзя мне пить. Такая работа. А может, и тебе не положено?
— Положено! Мы сроду пьющие: дед пил, отец пил, и я пью с малолетства.
— Знаю! — Дунай Иванович засмеялся. — Вот так тихий ездок. Да разве она, русская водочка, позволяет человеку тихо жить?
— Позволяет! Она у меня выдрессированная. Наливай!
Действительно, выпил один за другим два стакана и не опьянел, не переменился: такой же тяжеловесный, рассудительный, осторожный и тихий.
Дунай Иванович поужинал, поднялся, вышел из-за стола, потянулся, зевнул, завистливо-тоскливо посмотрел на охапку сена, брошенную на дощатые нары.
— Хочу спать. Покараулишь?
— Постой!… Мы не поговорили о самом главном деле… о плавнях.
— Утром поговорим.
— Я б хотел нынче.
— Хорошо, пожалуйста… Утром сообщи в Явор: прибыл, мол, благополучно, на днях выезжает к вам.
Уваров нетерпеливо отмахнулся.
— Это я сам знаю. Дальше… Как насчет плавней?
— Это потом. Завтра ночью я должен пробраться к дунайскому бензопроводу. Ты будешь помогать.
— Я?… Не взрывник же я, не ныряльщик.
— Ни взрывать, ни нырять тебе не придется.
— А как же?
— А вот так… — Черепанов достал из рюкзака портативное, для работы под водой, электроаккумуляторное сверло. — Нырну на дно Дуная в самом тихом месте, просверлю в бензопроводе отверстие, вставлю в него дуло вот этого баллона-пистолета, выстрелю, аккуратно зачеканю дырку… Этот баллончик-пистолет наполнен особой жидкостью. Ее достаточно для того, чтобы нейтрализовать тысячи и тысячи тонн авиационного бензина. Действует не сразу, в заданный срок. Если завтра впрысну эту жидкость в бензопровод, то реакция в хранилищах будет закончена в октябре. Самолет, заправленный таким бензином, дальше земли не улетит…
— Все ясно! — сказал Сысой. — Чем и как тебе помогать?
— Завтра на вечерней заре садись в лодку, бери меня и сети, плыви на дальние протоки. Оттуда до бензопровода рукой подать. Пока ты будешь рыбачить, я справлюсь со своим делом.
— Рискованно… Как я тебя спрячу? Не лодка у меня, а скорлупа.
— На буксире у тебя пойду. Под водой. В случае встречи твоей лодки с пограничным катером, незаметно исчезну, как рыба.
— А нельзя тебе самостоятельно действовать?
— Далеко до места работы. Против течения всю ночь проплывешь, измучаешься. Свежие силы надо сохранить.
— Рискованна для меня такая прогулка.
— Боишься?
— Я говорю… рискованна. Не хочу лишний раз мозолить глаза пограничникам. Верят они мне, но и проверяют. А насчет страха… — Сысой Уваров из-под насупленных бровей насмешливо-снисходительно посмотрел на ныряльщика. — Ничего я не боюсь.
— Не набивай себе цену, и так дорог! Пока человек живет, он всего боится. Я вот почти двадцать лет с жизнью и смертью в обнимку, а все равно бледнею и холодею, когда иду на дело.
— Тебе так и положено, а я… Заказан мне страх.
— Железный ты, что ли?
— Хоть и не железный, а ни пуле, ни огню, ни тюремному клопу, ни лагерной крысе не угрызть меня.
— Да?… Это ж почему?
— Потому… Тыщи лет живу на земле и еще тыщи лет буду жить.
— Вот как!… Значит, ты с Адамом и Евой знаком? Был свидетелем всемирного потопа? Может быть, ты и живого Христа видел?
— Видал! — угрюмо, вызывающе ответил Сысой Уваров.
Дунай Иванович еле сдержался, чтобы не расхохотаться.
— Ну, коли так, тогда конечно… Значит, бессмертный? — осторожно прикоснулся к коленке Уварова, пощупал мускулы, ребра. — Из обыкновенного теста сделан, а износу нет. Вечный. Скажите пожалуйста!…
— Не смейся.
— Что ты, Сысой! Завидую. Восхищаюсь. Горжусь, что судьба столкнула меня с этаким чудо-человеком.
— Такое чудо всякому доступно.
— И даже мне?
— И тебе.
— А как к нему подступиться?
— Скоро сказка сказывается… Спи!
— Не скажешь?
— Спи, говорю! Во сне ответ получишь.
Уваров задул лампу, и в сырой, затхлой хижине наступила тишина.
Дунай Иванович затаился на нарах. Готов был ко всяким неожиданностям. Черт его знает, на что способен «бессмертный». Сжимая рукоятку пистолета, напряженно прислушивался, вглядывался в тот угол, где на старой овчине устроил себе постель Уваров. Там было тихо. «Плавни, плавни, — думал Черепанов, засыпая, — что там?… Спрашивать нельзя».
Утром первым поднялся хозяин. Умылся. Расчесал бороду и волосы деревянной, с редкими зубьями гребенкой. Растолкал гостя.
Черепанов открыл глаза, улыбнулся.
— Получил!…
— Что?
— Уже забыл?… Во сне ответ на свой вопрос получил: как быть бессмертным?
— Ты все шутишь. — Уваров насупился. — Не советую. Даром этакое не проходит.
— Так сам же говорил…
— Держи язык за зубами!… Тишину, молчание соблюдай!… Вот что я тебе говорил. Ладно! Оставляю тебя одного. На часок отлучусь. Провизию закуплю, на почту наведаюсь. Сиди в хате да в окно поглядывай. Ежели ненароком непрошеные гости на остров пожалуют, на чердаке схоронись.
— Уж как-нибудь… Поезжай! Свежих газет купи.
Сысой Уваров наскоро позавтракал, спустился к Дунаю и на самодельной, низко сидящей двухвесельной лодчонке бесшумно заскользил по прохладной, еще не освещенной солнцем воде.
Когда он скрылся за Черным островом, Дунай Иванович включил карманную рацию, настроился на нужную волну и вызвал полковника Шатрова.
Через несколько минут быстроходный катер жемчужного цвета с вымпелом судовой инспекции на корме причалил к Тополиному. На берег спрыгнули Шатров и Гойда.
Черепанов доложил о том, что ему стало известно. Сказал и о плавнях.
Шатров сорвал с ивовой ветви листок, растер его между пальцами, понюхал и, закрыв глаза, задумался.
— Сегодня улетаю в Москву, — сказал он. — Вернусь скоро. И уже не сюда, а прямо в Явор. И вам здесь нечего делать. Плавнями и «Белугой» займутся другие. Переезжайте в Закарпатье. Васек, ты улетай сегодня же. Расчистишь Дунаю Ивановичу дорогу в монастырь. А ты, Дунай Иванович, понежнее попрощайся с Уваровым и мчись вслед за Гойдой, иди на свидание к «Говерло». Встречаемся через три дня в Яворе. У меня все. Вопросы есть?
— Есть!… — Гойда щелкнул ногтем по смятой фотографии Сысоя Уварова. — Интересное ископаемое этот «бессмертный». Открылась новая жила. Не мешало бы ее до конца разработать, а потом браться за «Говерло».
— Нет. С Уваровым все ясно. Самая интересная игра, мне кажется, будет там, в Яворе, на Тиссе и дальше, на Дунае. Прибереги свой пыл, Васек. Все еще впереди.
«ГОВЕРЛО»
Железные глухие ворота монастыря Дунай Иванович обошел стороной. Гойда объяснил ему, как, не привлекая к себе внимания, найти Кашубу.
Переправился через Каменицу, зашагал по ее правому берегу и скоро выбрался к Соняшной горе. Тут, около шалаша из кукурузных стеблей, встретился с тем, кто был ему нужен.
Живет на привольном воздухе «Говерло», пьет ключевую воду, умывается в прозрачной кринице, а нет в нем ничего свежего. Голова у бывшего управляющего графским поместьем лохматая, грязно-пепельная. Борода похожа на сухие водоросли. Морщины на лице забиты пылью. Мятая, жеваная рубашка потеряла свой первоначальный цвет; штаны обтрепанные, вздутые на коленях.
Мысли и чувства Дуная Ивановича никак не отразились ни на его лице, ни во взгляде. Он приветливо поздоровался, снял верховинскую шляпу и, как полагалось просителю, отбил земной поклон.
— Я к вашей милости, пане лекарь и пане агроном.
Старик с любопытством оглядел незнакомца, по виду селянина, насмешливо упрекнул:
— Плохо ты уважаешь мою лекарскую милость. Поклон не умеешь отбивать как следует.
Черепанов засмеялся, по-свойски подмигнул виноградарю.
— Это верно. Ничего не поделаешь. Отвык кланяться. И, видно, уж не привыкну. От злой доли скоро отвыкаешь, слава богу.
Хозяин шалаша мотнул бородой, указал на огромный валун, торчащий на распаханном склоне Соняшной.
— Садись и рассказывай, кто ты, откуда и по какой нужде забрел сюда.
— Вот так сразу, залпом я тебе и выложу: кто да что, да как. Не на такого напал. Хочу поговорить с толком, с расстановкой, вроде как бы вприкуску. — Дунай Иванович сдобрил свои слова непринужденным смешком.
Старик не ответил весельем на веселье.
— Извиняй, земляк, не имею охоты для таких разговоров.
— Вот, уже рассердился, а я думал, ты из моей породы. Ладно, ускорю обороты… Говорят, вы хорошо лечите виноградную лозу, зараженную трутовиком?
Старик выпрямился, как бы стал выше, стройнее и моложе: тусклые глаза заблестели, серые щеки порозовели.
— Лечат людей, а виноград, зараженный трутовиком, выкорчевывают и сжигают. — Проговорив отзыв на пароль, он рванулся к гостю, схватил его руку. — Добро пожаловать! Заждался. Как величать позволишь, кум?
— В дальних командировках всегда Иваном зовусь. Вот так и ты величай, пан лекарь.
— Как дошел?
— Хорошо. Письмо дунайское получил?
— Не задержалось. Укрою. Надежное есть место. Старый винный подвал с тайным входом. Сысой здоров?
— Он сто лет проживет. Зачем я сюда послан, знаешь?
— Если скажешь, то буду знать.
Иван долго мял между пальцами тугую сигарету, нюхал табак, чиркал сырыми спичками. И наконец сказал:
— Ныряльщик я. Человек-лягушка. Не слыхал о такой специальности?
— А!… — неопределенно протянул старик. — Вещички, извиняюсь, где твои?
— На вокзале, в камере хранения. Вечером заберу и к тебе переправлю.
«Говерло» не задавал вопросов, приумолк. По-видимому, его смутила и насторожила чрезмерная откровенность гостя. На тот случай, если это так, Дунай Иванович деловито сказал:
— Приказано ввести тебя в курс дела. Будешь помогать.
Где-то внизу, за черешнями, обрамляющими каменную дорогу, загрохотала повозка и заржала лошадь. Иван встревожился:
— Сюда?
— Не беспокойся. Все монашенки работают на другой делянке.
— А чужие сюда не заглядывают?
— Ночью мальчишки на виноград охотятся.
— Я бы тоже не прочь.
— Ох, недогадливый! — всполошился старик. Побежал в темный шалаш, принес корзину, полную винограда. Осы, охмелев от винной сладости, потерянно ползали по свежим, тронутым сизым налетом ягодам.
Черепанов взял тяжелую литую кисть.
— Хороша!… Солнечный свет, разбавленный вином.
— Слушай, кум, а ты сегодня ел, пил?
— Некогда было, спешил. Корми!
В шалаше было прохладно, терпко пахло сухими травами.
Хорошо поели, выпили, и хозяин явки, доверчиво взглянув на Ивана, спросил:
— Ну, как там, в ваших краях?… Какой ветер?
— В наших краях, известно, все больше низовой дует, с моря, воду в Дунае подымает.
— Да я не про Дунай.
— А про что же?
— Про места, откуда ты прибыл.
— Швабы есть швабы.
— Неблагодарный русский! — угрюмо усмехнулся лекарь. — Швабы его приютили, «лягушкой» сделали, а он… Иван, я у тебя серьезно спрашиваю, какая там погода?
— Проясняется понемногу.
— А на каком горизонте?
— Да все на том же, куда наши с тобой очи прикованы.
— Мои очи прикованы и туда и сюда… разбегаются, не знают, где искать главное. А твои?
— Я, конечно, не предсказатель погоды, но…
— Иван, не тяни, выкладывай все начистоту. Я спрашиваю, как разыгрываются события?
— А разве сюда не доходят слухи?
— Слухи есть слухи. Если им верить, так и в Польше вспыхнул пожар.
— А если не верить?… — Дунай Иванович внутренне замер, ждал, что скажет «Говерло», подтвердит или не подтвердит догадки Шатрова.
Старик отхлебнул прямо из бутылки и не скривился.
— Гора Соняшна хоть и высокая, но с нее мало земли видно, не дальше границы.
— А ты на цыпочки приподнимись и кое-что увидишь…
Так, хитря, виляя, они еще долго разговаривали.
Дунай Иванович не торопился, был хладнокровен, расчетлив, понимая, что действовать надо только наверняка, чтобы не вспугнуть стреляную птицу. Ясно, что старик ждет каких-то больших событий. И допытывается, не изменили ли в последний момент его хозяева направление главного удара.
Какими силами он будет нанесен? Откуда? Когда? Куда? «Говерло» всего не знает. Но что-то ему известно.
Зачем его сюда забросили? Какую долю он должен внести в предстоящие события?
В случае ареста он, конечно, онемеет. Надо чрезвычайно осторожно выяснить все, пока он на воле. Такие пройдохи, побывавшие в смертельной переделке, понюхавшие пороху, не клюют на самую красивую, самую ароматную приманку. Нужны исключительно благоприятные условия для того, чтобы они перестали быть подозрительными.
Иван ел виноград и, не умолкая ни на минуту, рассказывал, как работал на дунайском острове, вспоминал свое житье-бытье в Баварии, хвастался победами в веселых домах Мюнхена и не пытался вызвать старика на откровенность. Говорил только о себе, валял веселого дурака. И он добился того, на что рассчитывал, — вызвал недовольство «Говерло». Выражение его лица стало скучающе обиженным.
— Что это ты, кум, все вокруг собственной персоны вертишься, себя только слушаешь?
— Свои песни самые прекрасные. Лекарь, нам с тобой не пуд соли надо съесть, а всего-навсего граммов сто, а может, и того меньше. Сделаю свое дело, и адью, поминай как звали. Вот так!
Старик бросил рваную кожушину на охапку кукурузных стеблей.
— Поспи! С дороги ты притомился.
— Верно, есть грех, притомился.
Укладывая Ивана спать, старик укрыл его тяжелым, с дурным запахом одеялом и ласково потрепал голову.
— Спи! Разбужу в свой час.
Вечером он с трудом растолкал крепко спавшего гостя.
— Эй, куманек, вставай. Пора!
Расчесывая растопыренной пятерней волосы, Иван вышел из шалаша. Над Соняшной горой раскинулось светло-синее, усеянное звездами небо. С Полонин дул свежий, с осенней прохладой ветер. В скалистых берегах гудела Каменица. За рекой в темных садах слышалась песня про Иванко. Девчата пели ее не бодро, не весело, как полагалось, а на свой лад — печально, жалуясь на то, что в песнях много таких людей, как Иванко, а в жизни… ждут и ждут этого Иванко, а он все глаз не кажет.
Иван улыбнулся.
— Обо мне тоскуют, голосистые. Хорошо поют!
— Значит, не только свои песни слышишь?
— Живой же я человек. Эх, девчата, девоньки!… Где-то среди вас и моя любовь гуляет.
— Твоя? — старик с интересом вглядывался в Ивана при свете горных звезд.
— Пятнадцать лет назад моя любовь была молодой, песенной… Такой и осталась. Ее голос слышу в каждой песне.
Пошли вниз, к реке.
Через пролом в каменной монастырской ограде проникли на территорию монастыря и вышли к сторожке, увитой виноградными лозами.
Иван наскоро ознакомился с тайным укрытием и отправился на вокзал за вещами. На ту сторону Каменицы его переправил на плоскодонке старик. Часа через полтора он же вез его обратно.
В избушке на раскаленной плите кипела вода, посреди горенки, на ворохе свежей соломы, стояла пустая бочка с огромной мочалкой на дне.
— Вот, кум, баню для тебя приготовил. Опаршивел ты небось в дороге. Раздевайся и ныряй. А я тебе спину потру. — Не дожидаясь согласия Ивана, он вылил в бочку полный бак дымящегося кипятку, разбавил его холодной водой.
Хозяин явки намеревался подвергнуть своего гостя генеральному осмотру.
Ему, «Говерло», сотруднику «Отдела тайных операций», было известно, что «Белый» имеет опознавательный знак, вытатуированный под мышкой.
Дорофей Глебов не знал о том, что особым родом клеймен. Специалисты «Бизона» усыпили Дорофея, разумеется без его согласия, и накололи ему шифр. «Говерло» был проинструктирован, кто и с какой легендой явится к нему и как его проверить.
Помогая Ивану мыться, «Говерло» как бы нечаянно поднимет его руку, заглянет под мышку, чтобы убедиться, тот ли это человек, за которого себя выдает.
Дунай Иванович не подозревал о подготовленной ловушке. Однако не попался.
Не захотелось ему купаться в бочке и показывать свое совсем не запаршивевшее тело.
Засмеялся, сказал:
— Лекарь, исцелися прежде сам! Стоять около тебя невозможно — такой ты грязный и вонючий!
— Зря, значит, старался? — обиделся старик. — Банься.
— Не буду. Некогда.
Плотно занавесив окна, Иван раскрыл чемоданы, вытащил мешок со снаряжением и, ничего не объясняя, не спеша стал натягивать на себя «сорок одежек лягушки».
— Куда ты собираешься?
— На свидание с девчатами, — пошутил Иван.
— Нет, правда, куда?
— Не догадываешься?
— Неужели прямо сейчас и пойдешь?
— Буду держать курс туда, а куда попаду, не знаю. Если к рассвету не вернусь, сообщи Уварову…
— Вернешься!…
Притихший старик с почтительным любопытством смотрел, как Иван натягивал шерстяной комбинезон и свитер, как ловко залез в резиновую оболочку, как навьючил на себя баллоны, рюкзак с минами, вооружился финкой, пистолетом, подводным фонарем. Глядя на Ивана, он с радостью думал, что предстоит ему работать с ловким, сильным и бесстрашным мастером своего дела. Такой, если грянет несчастье, не отдаст себя живым в руки пограничников.
По земле ныряльщик передвигался тяжело ковыляя. Но как только попал в реку, сразу стал по-щучьи легким, стремительным.
«Говерло» провожал его до самой воды.
Иван кивнул и бесшумно пошел на глубину. Пройдя несколько шагов, вдруг вернулся и зашептал:
— К рассвету буду дома. Приготовь чайку, печку накали докрасна.
— Все будет. С богом!
Иван растворился в темноте.
«Говерло» долго стоял на берегу, в тени кустарника и мысленно следовал за ныряльщиком. Подхваченный горными водами Каменицы, он проносится мимо монастырского сада, мимо бетонной башни городской водокачки, огибает яворский стадион, плывет вдоль набережной, пересекает по равнине железнодорожный узел, цыганскую слободку и на виду у пограничной заставы вырывается вместе с Каменицей на простор Тиссы, чуть выше магистрали Львов — Явор — Будапешт. Отсюда до цели недалеко. На тугой стремительной струе Тиссы он подкрадывается к железнодорожному мосту… У «Говерло» дух захватило, когда представил себе, как Иван ныряет на дно Тиссы, как устанавливает мины, такие красивые с виду…
Монастырская колокольня встретила и проводила полночь двенадцатью протяжными ударами.
Во всех кельях потемнели окна. Только в зарешеченном оконце алтаря пламенел свет дежурной лампадки. Игуменья боялась воров и круглые сутки держала в монастырской церкви неугасимый огонь.
Всю ночь «Говерло» не спал: готовился встретить отважного своего напарника.
Перед рассветом спустился к реке.
Иван неслышно вырезался из Каменицы. Черный, весь в струйках воды, скользкий, пропахший илом, он вылез на берег и упал на камни. Отдышавшись, потребовал сигарету.
— Нельзя тут, — зашептал старик. — Потерпи! Дома покуришь.
— Дай хоть пожевать. — Он бросил в рот три сигареты, немного пожевал их и выплюнул. — Вот, полегчало! Не могу я без курева после такой работы. И без жаркой печки тоже невмоготу. Приготовил?
— Все в порядке. Пойдем!
Обратно Иван шел вольнее. За спиной не было рюкзака с минами.
В хижине действительно полный порядок: жарко, как в бане, кипел самовар, на столе тарелки с закусками.
Иван сбросил с себя снаряжение, мохнатым полотенцем вытер мокрое, красное, как у новорожденного, озябшее тело.
— Дай сюда, продеру как следует. — «Говерло» досуха вытер ему спину и грудь. Но когда он неожиданно вздернул левую руку Ивана, тронул его темную впадину под мышкой, тот отскочил и расхохотался.
— Что с тобой? — улыбнулся лекарь.
— Щекотно.
«Ладно, успею еще проверить, — подумал старик. — Собственно, проверять нечего, и так все доказано. Но на всякий случай проконтролировать надо».
Иван подошел к столу, шумно потянул носом.
— Красота! Вот это угощение! Браво, брависсимо! — Он шлепнул ладонью по своей голой груди, сам себя пригласил к столу: — Прего, андиамо а тавола! [4]
Приятно удивленный хозяин, подхватил итальянскую речь гостя:
— Седете, прего! Мангиате! [5]
Иван галантно поклонился.
— Ви ринграцио. [6]
Не одеваясь, плотно закутавшись в мохнатую простыню, он сел за стол. После первого стакана чая он потерял хрипоту, обрел нормальный голос, добрый цвет молодости проступил на щеках, засияли глаза.
Повеселел и лекарь.
— Где ты изучал итальянский? — спросил он.
— Там, где на нем говорят все.
— И долго ты жил в Италии?
— Недолго, но… всю Италию вдоль и поперек исколесил. От Генуи до Неаполя, от Рима до Венеции.
— Был и я когда-то там. И во Франции был. И в Америке, Южной и Северной. — Старик вытер полотенцем мокрую бороду и вспотевший лоб. — Да, было времечко: ездил куда и сколько хотел. Границы мелькали, как телеграфные столбы.
— Ничего, скоро вернется это времечко.
— Скоро? Нет, не доживу я до великого дня.
— Не надеешься? А ради чего воюешь?
— Пусть хоть другие вольготно поживут. И еще… хочу расквитаться за все обиды.
— С кем?
— С кем же!…
— И много у тебя обид?
— По самое горло.
— А как будешь расплачиваться? — Иван насмешливо посмотрел на хозяина. — На словах? Мысленно?
— В долгу не останусь.
Иван пренебрежительно махнул на старика рукой.
— Не понимаю я таких переживаний.
— Трудно тебе понять.
— Это ж почему?
«Говерло» мысленно оглянулся на длинную дорогу своей жизни и многое увидел: мюнхенский университет, Берлин, Париж, где бурно протекли годы его молодости… Вспомнил, как вместе со своим патроном, венгерским графом, путешествовал по Латинской Америке и Африке, как тратил деньги. Дорогие отели Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айреса, Лондона, Мадрида, Лиссабона… Зашелестели, захрустели, запахли зеленые узкие бумажки, зазвенели доллары.
Нет, не понять этому дунайскому голодранцу, мелкой рыбешке, как жил когда-то теперешний монастырский виноградарь, что он потерял, чего ему жаль и за что жаждет мстить.
А Иван не унимался. Смеясь великодушно, сказал:
— Можешь записать на свой счет мою сегодняшнюю работу.
— Ладно, цыплят по осени считают! Как управился?
— Нормально. Без всяких происшествий. Дело сделано аккуратно. Будем ждать грома.
— И долго ждать собираешься?
— Сколько надо, столько и подожду.
— А сколько надо?
— Может быть, столько, а может, и того меньше, вот столечко. Куда спешить!… День и ночь — сутки прочь. Укрытие надежное, харчи добрые, суточные в долларах идут, выслуга начисляется.
— Балагуришь. Поговорим серьезно.
— Дело делать я привык, а разговаривать… Поспим лучше. Буона нотте! [7]
Посвечивая фонариком, старик проводил Ивана подземным ходом в старый винный подвал. Каменная коробка до сих пор сохранила винный аромат.
Иван упал на ворох душистого сена.
— Спокойной ночи!
— Какое там спокойствие!… — Разозлившийся лекарь рубанул острым лучом фонарика по лицу гостя. — Слушай, ты, брось играть в прятки! Выкладывай инструкции.
— Не слепи!
Фонарик погас. В темноте сильнее запахло старым вином, сырыми камнями.
— Чего ты от меня добиваешься? — спросил Иван.
— Когда упадет мост?
— А зачем это тебе?
— Как же!… Ориентировка. Мои люди томятся на исходных позициях, ждут сигнала. Я надеялся на тебя, а ты…
«Мои люди!… На исходных позициях? Какие? Где?»
Дунай Иванович раздумывал, как ему в полной мере воспользоваться прорвавшейся откровенностью «Говерло».
Нашел в темноте его руку, сжал.
— Береженого и бог бережет. Все инструкции выложу в свой час. Людей у тебя много?
— Пока только пятеро. Молодые венгры. В каждом клокочет мартовский дух Петефи. Знаешь Петефи?
«Знает Дорофей или не знает Петефи?» — подумал Черепанов.
Старик по-своему понял затянувшееся молчание Ивана: смущен, раздумывает, соврать или сказать, что не знает.
— Петефи — это венгерский Пушкин. Ну, ладно, отдыхай! Спокойной ночи.
Дунай Иванович не стал его задерживать, хотя ему очень хотелось продолжить разговор, выпытать, кто эти пятеро венгров, где их исходные позиции.
Опасно, старик может насторожиться.
Оставшись один, Дунай Иванович пытался уснуть, но сон не шел. Слишком велико было возбуждение прошедшего дня. И мысли одолевали. Лежал с открытыми глазами, перебирал в уме все, что ему открылось в виноградаре-лекаре.
Время тянулось медленно.
В шесть утра тихонько скрипнула дверь, и кто-то осторожно, мягко переступил порог темного подвала и замер. Прислушивался, чего-то ждал.
Дунай Иванович выхватил пистолет и включил фонарик. В узкой полосе света сутулился «Говерло». Пришел оттуда, с утренних виноградников, где росистая свежесть, солнце, ветер, прохлада Каменицы, а окутан тошнотворным тленом.
Дунай Иванович отвел луч фонаря в сторону, спрятал пистолет.
«Говерло» подошел к нему, опустился на ворох сена.
— Буон маттино, Иван! [8]
— Буон маттино. Что случилось?
— Ничего. — Старик чиркнул спичкой, зажег свечу, воткнутую в бутылку. — Полный порядок, не беспокойся.
— А почему в такую рань приплелся, не дал вволю поспать?
— Просьба у меня к тебе, друг.
— Не мог дня дождаться. Говори!
— Скусате прего, сеньор [9]. — Старик попытался выдавить улыбку на своем лице, не приспособленном для улыбок. — Дело срочное. Безотлагательное.
— Ну раз безотлагательное… Я слушаю. — Иван зевнул и потянулся к сигаретам. Прикурил от свечи и тусклыми сонными глазами уставился на хозяина.
Тот достал из кармана потрепанной и засаленной куртки лист бумаги, разгладил его ладонью.
— Вчера мы с тобой говорили о моих ребятах, о боевой пятерке мартовских юношей. Я должен переправить их в Венгрию.
— Ну и отправляй себе с богом. А я тут при чем? Указания имеешь?
— Инструкций на всякий случай не напасешься. Велено переправить их любым способом.
— Не понимаю. При чем же тут я?
— Да ты проснулся или еще спишь? — Старик легонько потряс Ивана за плечо. — Проснись!
— Не сплю. Голова ясная, а твое дело темным кажется.
— Помощь твоя требуется.
— Вот тебе раз! Чем же я могу помочь? Человек я тут новый, подпольный, а ты…
— Поможешь! Через горы я хотел отправить парней. Передумал. Опасно. Мало шансов на успех. Пусть идут через Тиссу. Под водой. По дну. Как лягушки. Понял тетерь, какая помощь нужна?
— Уразумел, но… шкура «лягушки» у меня единственная. Не расстанусь я с ней. На обратную дорогу требуется.
— Не нужна она, твоя шкура.
— А что же?
— Сделай пять дыхательных трубок, научи ребят дышать под водой и проводи по Тиссе к тому берегу…
— Не могу. Не имею права. Мою личность только ты один можешь лицезреть.
— Надежные венгры. Головой ручаюсь.
— Может быть, но… Кто такие?
— Ненавидят и советский серп и молот, и венгерскую звезду. Возглавляет пятерку — Ладислав Венчик. Бешеный парень. Сын бывшего владельца виноградников.
— А остальные?
— Имеют корни в Берлине, Вене и даже в Америке.
— Подходящие. Надо помочь. Когда нужны трубки?
— Чем скорее, тем лучше.
— Сегодня сделаю. Но натаскивать твоих «мартовских юношей», извини, не буду. Пусть сами тренируются… в бочке с водой. Просто и дешево. И я так на первых порах тренировался. Наука нехитрая, в два дня освоят. А когда будут готовы, нырнем сообща. Под водой они меня не рассмотрят.
— Можно и так. Согласен!
— А переправа надежная есть? С хорошей глубиной, с безопасными подходами?
— Облюбовал. Вот! — Старик положил перед Иваном бумагу с цветной картой острова.
Дунай Иванович сосредоточенно рассматривал рисунок и мысленно ликовал. Вот и конец командировке. Хозяин явки сам все рассказал. Скоро в железную ловушку, установленную на Тиссе, вползут и все пять его птенцов.
Старик прикоснулся карандашом к рисунку.
— Это Мельничный остров. Здесь день и ночь шлепает колесами водяная мельница. Всю округу обслуживает. На острове всегда — много крестьянских повозок с кукурузой, пшеницей. Мои ребята, не привлекая к себе внимания, привезут молоть зерно, да и заночуют… Нырнуть вам надо вот сюда. Смотри! Тисса разделяется на два рукава: один омывает венгерский берег и Мельничный остров, другой уходит в пограничный тыл. Нырнете в советском тылу, а через десять минут вынырнете в Венгрии, около дамбы.
— Удачная переправа. Что ж, будем действовать. Материал для трубок припас?
— Сейчас принесу. И завтрак прихвачу.
Старик с необычной энергией выскочил из подвала.
Дунай Иванович снял с оплывшей свечи нагар, подул на обожженные пальцы, и его бескровные, жестко стянутые губы чуть раздвинулись в улыбке.
После завтрака Дунай Иванович сделал дыхательные трубки, отдал их старику.
— Не доспал, очи слипаются, — зевая, сказал он.
Через мгновение он уже крепко спал.
И не проснулся.
Все, казалось, предусмотрел Дунай Иванович. И все же попался. Не знал и не мог знать, что «Белый» имеет тайный опознавательный знак.
Старик приправил завтрак гостя специальным снадобьем. Полное доверие внушил ему Иван, но все же решил проверить. Для этого он усыпил ныряльщика, стащил с его могучих плеч пиджак, выдернул заправленную в брюки рубаху, задрал ее, поднял левую руку Ивана и похолодел. Под мышкой не оказалось шифрованной отметки.
Старик не верил себе. Должна быть. Осветил фонариком темную, поросшую золотистым пушком впадину, пытливо вглядывался, отчаянно хлопал слезящимися глазами, протирал спиртом под рукой Ивана.
Ничего! Никакого намека на знак. Чисто.
Некоторое время он сидел неподвижно, размышлял, что же произошло. Да, это ловушка, несомненно. Не сработала, к счастью. Холостой заряд. Но еще может сработать. Обложен он, разумеется, со всех сторон. Что же делать?
Потрескивал фитиль жарко горевшей свечи. Оплывающий воск тяжелыми и прозрачными каплями падал на бледный лоб спящего и сейчас же застывал.
Старик обшарил ныряльщика. Все, что обнаружил у него, переложил в свои карманы. Даже спички и сигареты взял. Потом, на свободе, разберется, что надо выбросить, что оставить.
В подземной тишине неутомимо выстукивали время светящиеся часы Ивана. Нездешние. Швейцарские, «Лонжин».
«Даже такое предусмотрел, ловкач! И не перехитрил».
Чувство смертельной опасности все еще леденило душу «Говерло». Однако оно не помутило его рассудок, не лишило способности ощутить торжество.
Жив! И будет жить, а этот…
«МОХАЧ»
Ил-14 совершил посадку на твердой солончаковой площадке на окраине Ангоры.
Открытый газик заставы, оставляя позади себя густую гриву коричневато-сизой пыли, мчался по ухабистой дороге к степному аэродрому. На полном ходу, завизжав тормозами, он остановился у крыла самолета.
Громада спустился по алюминиевой лестнице на землю. Смолярчук выскочил из машины, подбежал к генералу, кратко доложил о происшествии.
Громада посмотрел в ту сторону Дуная, где была нарушена граница, и спокойно, уточняя обстановку, спросил:
— Сколько их?
— Четверо, товарищ генерал. Три следа рядом, четвертый поодаль. Все мужчины. Ушли в тыл. Дунай преодолели на плавсредствах. Лодка обнаружена в кустах, метрах в двадцати от места нарушения, вниз по течению.
— В какое время прорвались?
— На рассвете, часа в четыре.
— Кто инструктор розыскной собаки?
— Рядовой Щербак.
— Щербак. Тот самый?
— Так точно.
Громада посмотрел на часы, постучал то стеклу ногтем и нахмурился.
— В чем дело? Почему до сих пор нарушители не схвачены?
— Собака потеряла след, товарищ генерал.
— Собака Щербака, вашего воспитанника, безотказный Варяг? Странно. Хорошо, допустим. А как же ваш Витязь?
— И Витязь бессилен, товарищ генерал. Визжал, бесновался, кружился волчком и не пошел дальше вот этой дороги. — Смолярчук развернул крупномасштабную карту и указал на желтую линию придунайской проселочной дороги. — Здесь земля заслежена. Кроме того, невдалеке расположен завод эфирных масел. Все собаки чихают и нос воротят.
Громада взял карту, развернул и, подойдя к газику, разложил ее на переднем сиденье.
— Ну, старший лейтенант, докладывайте, где теперь находятся непрошеные гости?
— Полагаю, что здесь. — Смолярчук указал на черную россыпь прямоугольников, изображающих на карте Ангору и прилегающие к ней поля и плавни. — Я отрезал им дорогу сразу же, как наряд обнаружил прорыв.
— Какими силами?
— Силами всей заставы, во взаимодействии с дружинниками.
Громада улыбнулся.
— Не оплошал, Андрей Батькович. А я, признаться, подумал, что вы все еще находитесь под гипнозом операции «Тишина». Ну, а дальше как действовали?
— Еще не успел, товарищ генерал.
— Ладно, сообща будем действовать. Ваши предложения?
Смуглое лицо Смолярчука покрылось красными пятнами.
— Если бы меня здесь не оказалось, что бы вы сами предприняли? — спросил Громада.
— Прочесал бы весь участок от Дуная до этих вот болот.
— Действуйте. А я пока поговорю с нарядом, обнаружившим следы. — Громада с усмешкой взглянул на Смолярчука. — Люблю, знаете, танцевать от печки… Особенно в подобных случаях, как этот. Поехали!
На проселочной дороге снова взвихрилась гигантская грива пыли, И не скоро ей суждено было улечься и здесь, и на всех дорогах, уходящих от Дуная.
Громада высадил Смолярчука в городе и поехал дальше.
В прохладной канцелярии заставы с окнами, выходящими на Дунай, он обстоятельно, неспешно, будто обладал неограниченным запасом времени, разговаривал с Щербаком и Сухобоковым.
— Когда и где вы обнаружили следы? — задал он первый вопрос. — Покажите!
Щербак подошел к макету и карандашом указал место нарушения границы — крутой берег Дуная, заросший кустарником.
— Вот здесь, товарищ генерал.
— Метрах в пятидесяти от завода эфирных масел. Не больше?
— Так точно.
— Напротив конторы? В самом людном месте?… И вас не удивило это обстоятельство?
Щербак молчал, смущенно переглядываясь со своим напарником. Молчал и Сухобоков. Он еще меньше понимал вопрос генерала.
— А меня, дорогие товарищи, скажу вам откровенно, очень удивило такое нахальство нарушителей. Но ненадолго. — Громада улыбнулся и продолжал: — Тонкое это, рассчитанное нахальство. Противник нашел то, что искал, — позиция, где его никак не ждут, ринулся сюда и совершил удачный прорыв. Какой же первый вывод мы должны сделать теперь, на исходном рубеже? Граница прорвана не случайными людьми. Нарушители хорошо подготовлены, умеют терпеливо наблюдать, воспользовались сложившейся обстановкой. Так?
И Щербак и Сухобоков кивнули. Оба они понимали, что генерал не поучает, не экзаменует, а размышляет вслух. Понимали это и офицеры, прилетевшие вместе с Громадой.
— Пойдем дальше. — Громада положил большую свою ладонь на макет участка заставы, осторожно прощупывая его бугорки, впадины, протоки, озера. — Куда направились нарушители после того, как прорвались через границу?
— По заводской дороге, товарищ генерал. И скрылись в городе.
— И собака не взяла след?
— Сначала взяла, а потом потеряла, заблудилась, — ответил Щербак. — След был не простой, а спиральный. Петля за петлей.
— Видите! — воскликнул Громада. — Напрашивается вопрос, как же эти молодчики будут действовать дальше? Думаю, что останутся верны себе. А раз так, раз они не лыком шиты, значит, понимают, что мы, обнаружив их следы, начнем преследовать и обязательно настигнем их. Куда ни сунься, всюду наряды. А если они это понимают, то ни в коем случае не полезут на рожон, будут искать выход похитрее. Где же он, этот выход? И есть ли он у них? Есть!… Нарушители попытаются отсидеться в дунайских плавнях, на островах… Вы свободны, товарищи!
Два дня и две ночи солдаты в зеленых фуражках патрулировали тропинки, улицы, пристань, берега Дуная, входы и выходы из деревень.
Черные просмоленные дунайки, приписанные к причалам Ангоры, прочесывали каждую протоку, каждый ерик. Ночью прожектора рассекали темноту.
Добровольные народные дружины в каждой складке местности искали нарушителей. Искали там, куда люди обычно не заглядывали годами — под крылечком, под ворохом старых парусов, сетей, в недостроенных жилищах.
Искали вооруженные и безоружные люди. Мужчины и женщины, комсомольцы и пионеры. Сотни людей советской Дунайщины стали следопытами.
Один нарушитель был схвачен на дамбе, соединяющей остров Ясонька с большой землей. Другого вытащили из-под копны прошлогодней осоки на том же острове. Третьего сняли с высокого дерева.
Четвертый пока не был пойман. Четвертый, по словам задержанных, бросил их на произвол судьбы. Все они, каждый в отдельности, показали на допросе, что их вожака зовут «Мохачем».
И с новой силой развернулся поиск. В туманном сыром рассвете пылали костры, вокруг которых обогревались дружинники.
С первым проблеском зари снова начались поиски.
Федор Щербак рывком поднял покорную собаку, посадил ее себе на плечи. Пес почувствовал, какое ему предстоит путешествие, и встревожился: уныло смотрел на непроглядные камыши, тихонько скулил и дрожал.
— Тихо, Варяг.
Схватив ошейник овчарки левой рукой, а правой держа наготове автомат, висящий на ремне, Щербак покинул прибрежную полосу твердой земли и решительно вошел в темную, неподвижную, как бы загустевшую массу плавневой воды.
Никого он не позвал за собой. Ни словом, ни жестом, ни взглядом. Даже не оглянулся. Молча, по-солдатски просто сделал свой первый трудный шаг по болоту и был полон уверенности, что дружинники пойдут за ним. И эта его уверенность, как электрический заряд, пронзила сердца дунайских ребят и девушек, сверстниц Федора. Все они так же смело, деловито, как и их поводырь, зашагали по болоту.
Ноги их чуть ли не по колено уходили в разжиженную почву плавней. Тугая, высотою в три человеческих роста, остроперистая камышовая стена нехотя расступалась перед ними и сразу же с угрожающим шорохом захлестывалась.
Только что вошли люди в дунайские джунгли, но их уже не видно и не слышно. Бесследно, кажется, пропали. По-прежнему величаво дики зеленые камышовые заросли, увенчанные бархатистыми коричневыми султанами.
И только сверху, с птичьего полета, пожалуй, можно было увидеть, как движутся люди от левого берега острова к правому, как расступается перед ней массив камышей, как поспешно улетают лебеди, гуси, утки, пеликаны и как прячутся под тяжелыми пушистыми листьями водяных лилий огромные болотные жабы.
Убегает, пробиваясь сквозь заросли, кабан.
И лохматая пучеглазая рысь бежит на север по своей тайной тропке: то по гребню суши, чудом здесь сохранившемуся, тонкому, как лезвие бритвы, то по вспухшим, твердым кочкам заматерелых камышовых кореньев, то переплывая водное пространство, то взбираясь на вершину одиноко растущего дерева, чтобы оглядеться, далеко ли преследователи.
Убегает от людей и «Мохач». Огромный, заросший щетиной, лохматый, облепленный водорослями, промокший насквозь и все-таки разгоряченный, то проваливаясь в трясину по шею, то выбираясь на кочкарник, все время держа пистолет над головой, он ожесточенно пробивается все дальше в камышовую чащобу, будто там его ждет спасение.
Пот струится по изрытому морщинами, почерневшему лицу. Редкие сивые волосы слиплись.
Дышит «Мохач» шумно, тяжело. На ходу черпая воду ладонью, утоляет жажду, охлаждает воспаленный лоб и щеки.
С севера, из островной глухомани, куда ползет «Мохач», на него обрушиваются встречные крики дружинников. И с неба доносится гул мотора. Бежать теперь некуда. Крышка захлопнулась. А «Мохач» не сдается. Он все еще надеется на что-то. Скрывается под водой, дышит через полую камышовую трубку.
Прежде чем он успел нырнуть, его успели заметить сверху, из кабины вертолета. Огромная тень накрывает то место плавней, где затаился «Мохач». Ураганный ветер гнет, ломает камыши. Крупная рябь мечется по водной поверхности. Ниже и ниже опускается вертолет. Машина зависает, падает трап, и по его перекладинам спускается Смолярчук. Он прыгает в плавни, по грудь скрывается в болоте.
«Мохач» не сдается. Он сидит на дне болота и, задрав голову, с камышиной во рту, крепко держится за какие-то корневища.
Смолярчук протягивает руку, вытаскивает из воды камышовую трубку и отбрасывает ее в сторону.
На черной поверхности плавней появляются пузыри. Беглец глотает воду, тонет. Смолярчук хватает его за волосы и, как репу, выдергивает из болота.
«Мохач» судорожно раскрывает рот, кашляет, отплевывается.
Смолярчук кивает на висячий трап.
— Пошел!
Повторять приказание не надо. «Мохач» уже весь во власти инстинкта самосохранения. Жить, жить, жить! Любой ценой. Все отдаст, все сделает, пойдет на какой угодно риск ради одного года, одного месяца жизни. Любой жизни.
Перебирая коченеющими руками перекладины, истекая болотной водой, роняя тину, он неуклюже взбирается по лестнице, исчезает в брюхе жужжащей стрекозы. Следом за ним поднимается Смолярчук.
Вертолет снимается с невидимого воздушного «якоря», резко набирает высоту и пересекает остров Медвежий.
Высунувшись из кабины, Смолярчук посылает в вечереющее небо одну за другой серию красных ракет.
«Мохач» зажмуривается. Лицо его каменеет. Трудно понять, глядя на него, лицо ли это трупа или живого человека.
Летающая мельница деловито машет своими гигантскими крыльями в безмятежно-синем по-весеннему теплом небе.
Сверху Смолярчуку хорошо видны народные дружинники. Машут руками, фуражками, шляпами, платками, ружьями, косами.
Победные крики несутся над плавнями, над камышами, над болотом, над ериками, протоками, над Дунаем.
Стрекоза с грозным гулом проносится над Ангорой, над сейнерами, рыбным заводом, холодильником, заставой. Вертолет провожают приветливыми улыбками и рыбаки, выгружающие рыбу, и пограничник, несущий службу на вышке, и сварщик, работающий на ремонтируемом судне, и ватага девушек, плетущих сети у огромного навеса.
Вертолет медленно снижается по вертикали и садится неподалеку от Громады. Генерал стоит на крутом взгорье, рядом с ярко пылающим костром. Ураганный ветер пропеллеров раздувает полы генеральской шинели, треплет черные, чуть седые на висках волосы, прибивает пламя костра к земле.
Кузьма Петрович нетерпеливо смотрит на темный дверной проем кабины, ждет.
Смолярчук спрыгивает на землю. Подходит к Громаде, звонко, в полную силу голоса докладывает:
— Товарищ генерал, ваше задание выполнено. Государственный преступник задержан.
— Благодарю и поздравляю…
Легким пренебрежительным взмахом руки он приказывает увести «Мохача». Проводив его взглядом, он поворачивается к Смолярчуку, берет под руку, подталкивает к костру.
— Грейся!
Смолярчук с блаженной улыбкой подставляет жаркому огню то спину, то грудь.
Через некоторое время перед генералом Громадой и его офицерами снова предстал четвертый нарушитель, причинивший столько хлопот.
Смолярчук с удивлением смотрел на «Мохача». Неузнаваем. Хорошо отдохнул, распарился под горячим душем до розоватого глянца, выбрит, тщательно причесан.
Полный почтительности, он вошел в канцелярию заставы и не спеша, с достоинством, опустился на указанный ему стул. Заметив среди офицеров генерала, слегка склонил перед ним голову.
— Признаться, не рассчитывал и не надеялся на такое великодушие. Извините за откровенность. Уверен, что она мне не повредит. Откровенность на допросах лучший способ самосохранения и защиты.
— Это не допрос, — сказал Громада. — Допрашивать вас будут другие. Я только задам вам несколько вопросов.
— Не трудитесь, генерал. Я знаю, что именно вас интересует. — И без всякого перехода, без малейшей паузы, бойко, развязно, с уверенностью хорошо выучившего свою роль актера, забубнил: — Прежде всего вас, конечно, интересует мое подлинное, так сказать, первозданное лицо. Во-вторых, вы желаете знать, чьи именно интересы я представляю, вернее, должен был бы представлять. Пожалуйте, готов дать исчерпывающий ответ на этот и на все другие вопросы. Итак, записывайте, если угодно. Кто я? Послал меня сюда мой старый шеф генерал Гелен. Настоящее мое имя, как вы, безусловно, давно установили — Карл Бард. Последняя кличка вам известна, а предыдущие… их было так много, что я не хочу утруждать ни вас, ни себя их перечислением. Я и моя группа высадились в Сулинском гирле Дуная, километров на пятьдесят ниже румынского города Тульча. Неподалеку от озера Фортуна, с левой стороны, рядом с гирлом Руска, соединяющим канал с давно обмелевшим несудоходным Георгиевским гирлом… Извините, я, кажется, излишне детализирую. Вероятно, вас не интересуют подробности?
— Интересуют. Говорите!
— Благодарю. Мы давно облюбовали это место высадки, тщательно изучили его по лоции и все предусмотрели, что в силах людей предусмотреть. Посмотрите на карту! Идеальный плацдарм для такой операции, как наша. Вода, вода и вода! Полный простор для людей-лягушек. Эта главная дорога связана с второстепенными, многочисленными протоками, речушками, ериками, малыми и большими озерами. Мы могли, не расставаясь с водой, пробиться на восток и запад, север и юг.
Громада прервал Карла Барда:
— Какое у вас было задание?
— Какое?… Позвольте ответить на этот вопрос в конце показаний? Боюсь, что после того, как я скажу о задании, вы потеряете интерес к подробностям. А я бы хотел… Знаете, старики очень словоохотливы.
— У вас был груз?
— Да, был. Мины самого новейшего образца. Присасываются к корабельному килю. Обладают страшной разрушительной силой. Специальный механизм позволяет с точностью до одной минуты установить время взрыва. Мы доставили на Дунай три такие мины. Все они снабжены автоматическими приспособлениями, которые сначала затопляют торпеды, а потом заставляют их в заданное время всплывать. Извините за популярное объяснение.
— Где эти мины?
— Лежат на дне Дуная, в центре морского канала, над дорогой кораблей. — «Мохач» глянул на стенные часы. — Время утопленников истекает. Через восемь часов все мины всплывут, то есть не совсем всплывут, а поднимутся со дна реки на определенную, тоже заданную высоту, равную подводной части корабля с большой осадкой. Даже днем, даже с помощью бинокля нельзя увидеть такие мины. Ни с берега, ни с судна. Если не будут приняты срочные меры, завтра утром какой-нибудь вожак каравана кораблей напорется на одну из этих мин и непременно взорвется, пойдет ко дну и надолго закупорит сулинский фарватер, единственные судоходные ворота к Черному морю. И тогда корабли Италии, Турции, Англии, Германии, Австрии, Бразилии, Аргентины и других стран будут закупорены в дунайском бассейне. Представляете, какой шум будет? Конечно, через две или три недели затопленное судно поднимут, но дело будет сделано. Весь мир узнает, что и в гирле Дуная действуют силы сопротивления, один из отрядов борцов за свободу. — «Мохач» остановился и взглянул на Громаду. — Разрешите продолжать или допрос прерывается?
— Почему именно завтра вы должны были закупорить гирло Дуная? Почему не раньше и не позже?
— Да, вопрос чрезвычайной важности. Но вы, кажется, уже догадались, что это за день «завтра».
— Отвечайте.
— Завтрашний взрыв приурочивался к большим событиям на всем протяжении Дуная. Люди-лягушки были посланы и в Словакию, и в Болгарию, и в Румынию, и в Венгрию. И больше всего их было послано в Венгрию. Венгрия, как мне точно известно, должна стать эпицентром взрыва. — «Мохач» ждал, что последние его слова произведут на советского генерала особенно сильное впечатление. Увы, даже такое признание не вызвало перемены в его лице. Оно по-прежнему было непроницаемым, спокойным, холодным.
— Вы как будто не верите мне?
— Не имею права не верить, ибо вы подтверждаете то, что нам уже известно, — сказал Громада.
— Вы хотите сказать, что мои добровольные показания не имеют цены? И мне нечего надеяться на снисхождение вашего правосудия?
Один из офицеров, сидящий у входной двери, потихоньку поднялся и вышел. Громада подождал, пока он закроет дверь, и сказал:
— Не имею права выступать от имени нашего правосудия. Почему вы, не дождавшись взрыва, покинули свою базу?
— Нас обнаружили румынские пограничники и начали преследовать. Через болота и плавни мы выбрались к границе. Восемь или десять дунайских рукавов преодолели, дюжины две озер и болот. Вы, конечно, спросите: почему мы пробирались именно сюда, на север, к советской границе. Дело в том, что на острове Тополином у нас была давняя надежная явка. Мы рассчитывали отсидеться у своего старого друга Сысоя Уварова, у «Белуги», дождаться оказии и вернуться в Регенсбург.
— Совершенно верно, — сказал Громада. — Вы не попали к Сысою Уварову. Наблюдая за Тополиным островом с правого берега, вы установили, что «Белуга» перевернулась кверху брюхом. И даже это не остановило вас? На что же вы надеялись, переправляясь через Дунай?
— Я вел своих спутников в ваш тыл, в надежде через Польшу уйти в Западную Германию. Когда и вы начали нас преследовать, я бросил их и пробивался дальше один в Одессу, откуда мог бы кружным путем вернуться в Регенсбург или в Мюнхен.
— Все похоже на правду. Складно.
— Чистая правда, генерал! — воскликнул «Мохач». — Мне нельзя лгать. Ни к чему. Чистосердечное признание дает мне хоть какое-то право надеяться на сохранение жизни, а ложь… Нет, я пока не хочу умереть.
— А отдохнуть хотите? — неожиданно спросил Громада и засмеялся. — Пора!
НА ВЕЧНОЙ ВАХТЕ
Лада Тимофеевна сидела у раскрытого окна, провожала вечернюю зорю. В хате, залитой тихим светом догорающего дня, крепко пахнет антоновскими яблоками. Глиняный, недавно смазанный пол присыпан, как в летний Троицын день, душистой травой и васильками. Над входной дверью белеют полотняные расшитые рушники. И на липовой плахе стола такие же рушники. И сама Лада Тимофеевна будто закутана в рушники — на ней что-то белое с красным, свежее, наглаженное.
Солнце скрылось, потянуло прохладой, и сейчас же на Дунай со всех сторон ринулись осенние сумерки: с моря, из дунайского гирла, из камышовых дебрей, из гнилых плавневых болот, из проток, заросших ряской и поздними лилиями. Потемнел, слился с Дунаем остров Лебяжий. И тихо стало на этой пяди русской земли, так тихо, будто тут не живут люди.
Лада Тимофеевна закрыла окно, оделась, прихватила охапку цветов и вышла на улицу.
Шла она к сыну. Он ждал ее на острове, в двух шагах от хаты, где родился и рос.
Стоит он на бетонной прибрежной круче и смотрит на Дунай. Молчаливый и много знающий, гордый и добрый. Голова не покрыта. Грудь, губы и лоб доступны всем ветрам и дождям. От бури не отворачивается, от грома не вздрагивает, от молнии не слепнет. Стоит, возвышаясь над купно растущими тополями-близнецами, белокорыми и ветвистыми, с чернеющими старыми гнездами аистов.
Такой он чистый, светлый, так любовно обласкан, отполирован руками тех, кто создавал его, что звезды отражаются в его мраморных плечах. И тень Дуная плещется на лице. И славный верховой ветер, ветер Карпат и Балкан, овевает его, трогает каменные кудри.
Тихо тут сейчас, покойно. А завтра все переменится. Утром с первым катером примчится Джулия, черноволосая, черноглазая, вся в черном, и четыре ее сына — Пальмиро, Иван, Джовани, Варлаам. На том же кораблике придут боевые товарищи и друзья Капитона. Будут и цветы, и шумные речи, и воспоминания, и вино, и долгий обед. Но не будет того, что есть сейчас, — тишины, полной душевной близости с сыном.
Лада Тимофеевна давно уже перестала различать, когда произносит вслух свои мысли, когда думает молча, когда задает сыну вопросы и когда сама отвечает на них. Все, о чем думала, что говорила и что чувствовала, представлялось ей, как два потока дум и чувств — свой и сыновний.
С тех пор как сын вернулся на остров и встал на вечную вахту у одинокой и старой, крытой камышом хаты Черепановых, жизнь Лады Тимофеевны переменилась. Она продолжала делать привычное дело: работала на огородах, в саду, стряпала и стирала. Но в душе ее все было не так, как прежде. Что-то томило ее: то будто слышала голос, зовущий ее, и никак не могла понять, откуда он доносится; то хотелось плакать и петь старинные печальные песни; то не могла раскрыть крепко сжатых губ, а то подолгу разговаривала с тополями, с ветром, с Дунаем…
Мать подошла к подножию памятника, осторожно поднялась на верхнюю ступеньку постамента, тихо произнесла:
— Ну, вот и я! — Положила руки на шершавый, в росе камень, улыбнулась и добавила: — Здорово, сынок.
И ей показалось, что сын услышал ее тихий голос.
Не вдруг этот белый каменный великан стал теплым, живым. Оживляла она его с великим трудом, постепенно, изо дня в день, пожалуй, еще мучительнее и дольше, чем скульптор. В первые недели и даже месяцы она пытливо, недоверчиво вглядывалась в каменное суровое лицо. Ничего похожего, родного. В ту пору Лада Тимофеевна не разговаривала с ним. По ночам, особенно когда ярко светила луна, она плотно закрывала дерюгой окно, у которого он стоял.
Шло время. Северные холодные ветры принесли с собой снежную порошу, а теплые, с моря, — дождь. Пожелтели и поредели дремучие заросли камышей в плавнях. Покрылись хрупким ледком тихие протоки. Зимние тучи непроглядно укутали небо, а мартовское солнце сорвало их и открыло высокую весеннюю голубизну. Закурились сады белым дымом цветущих вишен, яблонь и айвы. Черная икра и свежая осетровая уха стали частым гостем в хижинах рыбаков. Зазеленели острова, и новая река, река летнего тепла, заструилась над Дунаем.
В эту пору, выйдя однажды на улицу и взглянув на белого богатыря, Лада Тимофеевна сразу узнала сына. Он! Его крупный, с горбинкой нос. Его зоркие, гордые глаза. Его мягкие улыбчивые губы. Его рука, вознесенная над головой и сжигающая факел. И плечи, и грудь, обтянутая шерстяным свитером, и длинные сильные ноги — все его.
Иона заплакала. То были первые слезы осиротевшей матери…
Лада Тимофеевна потихоньку обошла вокруг памятника, вглядываясь в лицо сына. Оно ей показалось очень серым, почти темным.
— Ты устал? — спросила она и сейчас же ответила за него: — «Ничего! Как только покажется солнце, сразу наберусь сил. Скоро ему всходить. Говори еще, мама! А может быть, споешь?…» Хорошо, сынок.
Она без слов, не раскрывая темных, изрезанных морщинами губ, произнесла про себя старинную песню. Сто лет назад ее сложили люди, бежавшие на глухой Дунай, в его тогдашние дебри, от голода, от царских указов, от жандармской каторги, от помещичьего оброка и кнута, от крепостного ярма и ранней смерти. Дед и отец Лады пели эту песню. И она пела. То была песня-мечта — о людях, живущих на Дунае по законам правды, о вольных рыбаках и охотниках, у которых никто не отнимает плодов их труда.
Умолкла, краешком платка вытерла губы и, прислонившись щекой к белому камню, задумалась.
Сверху, от Измаила, на попутной волне, с добрым ветром в кормовой флаг, весь в праздничных огнях, приближался какой-то военный корабль. Поравнявшись с островом Лебяжьим, он трижды отдал салют герою Дуная — три коротких гудка, три вспышки сирены, три звуковые молнии.
И долго Дунай и его берега повторяли басовитое пение военного корабля.
Лада Тимофеевна помахала ему рукой и пожелала счастливого плавания. И всем людям, кто не отнимает у матерей сыновей, она пожелала счастья в эту октябрьскую праздничную ночь.
Она и не заметила, что размышляет вслух.
Некоторое время она сидела молча, с тяжелой охапкой осенних цветов на коленях и смотрела на Дунай. Сколько воды утекло с тех пор, как ее мальчик стал откликаться на ее слова!… Сколько раз он за свою жизнь погибал…
Первый раз он заглянул в глаза смерти, когда ему не было и двух лет. В жаркий летний день с разбегу бросился в реку и скрылся. И потащил его Дунай. Хорошо, что отец был на берегу. Нырнул, вытащил, откачал. А когда хлопчик открыл глаза, веселый отец заново окрестил его Дунаем Ивановичем. И с тех пор жили на острове Лебяжьем два маленьких Черепанова в одном лице: Капитон и Дунай Иванович.
Лада Тимофеевна поднялась, разделила охапку цветов на две части, одну положила у ног сына, а с другой спустилась к самой кромке дунайской воды и стала бросать в нее крупные, влажные, на длинных стеблях астры. Бросит одну, другую, третью, проводит их глазами, пока скроются, а потом бросает еще. И плывут, плывут по Дунаю темно-красные, белые, золотые астры. Всю весну, все лето набирали силу, красоту, чтобы жить одну короткую октябрьскую ночь. Плывут и светятся. Тяжелые, напоенные соками земли, они не тонут. Плывут стеблями вниз, гордо неся свои короны.
Небо поднялось выше. Звезд стало меньше. Подул ветер, донес с берега шорох камышей. В дальних плавнях затрубили кем-то потревоженные лебеди. Черное зеркало Дуная посерело и чуть-чуть порозовело, отражая утреннюю зорю.
Ночь кончилась. Над Дунаем вставал рассвет.
1
* Старшина Москаль, лесотехник Михаил Горай и его жена Мария — невыдуманные персонажи. Президиум Верховного Совета наградил Москаля орденом Красного Знамени, а Михаила и Марию Горай орденом Красной Звезды. Рассказ об их подвиге впервые опубликован автором в газете «Закарпатская правда»
(обратно)2
* Дракс — аптеки-закусочные.
(обратно)3
* Квестура — полиция.
(обратно)4
* Прошу вас к столу.
(обратно)5
* Садитесь, пожалуйста. Кушайте.
(обратно)6
** Благодарю вас.
(обратно)7
* Спокойной ночи.
(обратно)8
* Доброе утро.
(обратно)9
** Извини, пожалуйста.
(обратно)

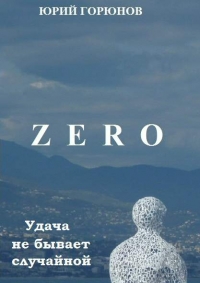

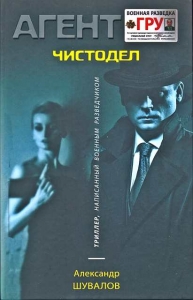

Комментарии к книге «Дунайские ночи (Художник Г. Малаков)», Александр Остапович Авдеенко
Всего 0 комментариев