ПРЕДИСЛОВИЕ
Лет пятнадцать назад увидел я в витрине магазина книгу: «К. Бадигин. Путь на Грумант». Мелькнула мысль: уж не капитан ли Бадигин — тот, который перед войной около трех лет дрейфовал в Ледовитом океане на знаменитом «Седове»? Если он, надо книжку купить, наверно, это рассказ о дрейфе. Полистал. Нет, не о дрейфе. Оказывается, о древних русских мореплавателях, проложивших пусть к острову Шпицберген (Груманту).
Навёл справки. Да, тот самый капитан. О дрейфе у него другая книжка — «Три зимовки во льдах Арктики», — вышла ещё перед войной, а эта свежая и не документальная. Повесть. Читать я начал с предубеждением: наверное, не за своё дело взялся капитан… Но страница за страницей так увлёкся, что проглотил книжку залпом. Прекрасная вещь — содержательная и романтичная! Бесстрашный ледовый капитан оказался ещё и талантливым художником слова.
В 1954 году Константин Бадигин опубликовал повесть «Покорители студёных морей» — о мореходах Великого Новгорода пятнадцатого века, а в 1956 году — повесть «Чужие паруса» — продолжение «Пути на Грумант». Этими тремя книгами писатель воскресил известные лишь специалистам славные страницы героической истории русского народа. Острые, увлекательные сюжеты с бесчисленными приключениями в студёных морях, характеры сильных, умных, бесстрашных русских людей, преодолевающих чудовищные трудности в борьбе с природой и с могущественными в ту пору ливонскими рыцарями, морскими пиратами.
Думается, тут будет к месту рассказать, как прославленный ледовый капитан стал писателем и как у него возникла мысль воссоздать образы древних русских мореходов.
— В моей жизни, — говорит Бадигин, — исключительная роль принадлежит известному писателю прошлого века Стивенсону. Он своими романами возбудил во мне страстную любовь к морю. Я родился в сухопутной Пензенской губернии. Отец был агрономом и меня к этой профессии приохочивал. Жили в деревне Суруловке, а потом в Москву переехали. Тут в 1924 году я и среднюю школу окончил. Прямая была мне дорога в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. А я вроде бы ни с того ни с сего махнул во Владивосток. Пришёл там в горком комсомола и сказал. «Хочу в море».
Дали мне путёвку на товаро-пассажирское судно «Индигирка» — матросом второго класса. Так я стал на всю жизнь моряком. И обязан этим Стивенсону, более всего его роману «Остров сокровищ». А позже Стивенсон подтолкнул меня и на писательский путь. Во время длительного дрейфа во льдах Арктики в корабельной библиотеке попался мне опять в руки роман «Остров сокровищ», и я задумался: а почему бы и мне не попробовать? Тот наш поход, на ледоколе «Седов» был очень драматичным. Почему бы мне не попытаться изобразить его в сценах, картинах, характерах? И я стал вести дневник. К концу дрейфа записей накопилась прорва. Но когда вернулся в Москву (в 1940 году), на меня насели в Главсевморпути: срочно давай подробнейший научный отчёт о дрейфе. Ну и для периодической печати надо что-то дать. Эпопея «Седова» волновала тогда миллионы людей. Так получилась документальная книга «Три зимовки во льдах Арктики».
Во время Отечественной войны, — продолжает Константин Сергеевич, — я водил корабли в Соединённые Штаты Америки и обратно: доставлял оттуда вооружение и продовольствие. И вот однажды в нью-йоркском клубе моряков возник спор: у какого флота богаче история — у английского или русского? «Ваш флот, — говорили мне английские и американские моряки, — начинал Пётр Первый в восемнадцатом веке, а развитие он получил лишь в девятнадцатом. Британский же флот берет начало в седой древности». Я кое-что знал — в мореходке ведь учился — о древних русских поморах, но спорил неуверенно. И дал себе тогда слово: при первой возможности копнуть наши морские архивы. Так возникла повесть «Путь на Грумант». Ну, а уж потом и «Покорители студёных морей» и «Чужие паруса».
Этот рассказ Героя Советского Союза Бадигина интересен и сам по себе — он даёт представление о его романтическом характере, а сверх того наталкивает нас на мысль: как ещё мало знаем мы героическую историю своего народа! Своими художественными произведениями, в основу которых положены исторические документы, Бадигин открыл читателям новый мир на студёных морях древности. При чтении его книг наше сердце наполняется гордостью за суровую и прекрасную нашу страну, за умный, предприимчивый и храбрый народ, и у нас прибавляется душевных сил для строительства нового, коммунистического мира.
Читатели по достоинству оценили исторические повести Константина Бадигина — их общий тираж давно превысил миллион экземпляров, а купить их можно разве лишь у букинистов. Не залёживаются они и на полках библиотек — всегда «на руках».
В 1966 году Бадигин опубликовал повесть «Секрет государственной важности» — тоже историческую, но уже близкую нам по времени — о последних месяцах гражданской войны в Приморье. И конечно же, как и во всех других произведениях Бадигина, на первом плане тут моряки. Действие происходит во Владивостоке и на кораблях — на море. Сюжет — острый, приключенческий, действующие лица — большевики-подпольщики, с одной стороны, и белогвардейцы и японские интервенты — с другой.
Два слова о приключенческом жанре, в котором пишет Бадигин. Жанр этот именуется обычно так: «Библиотека фантастики и приключений». Под словом «фантастика» подразумевается нечто исключительное, небывалое, например: человек-амфибия, или гиперболоид инженера Гарина, или жизнь на других планетах и т. п. Ничего такого мы не найдём в повестях Бадигина. Они строго реалистичны.
Отличается Бадигин от большинства, авторов приключенческих книг и манерой творчества. Он не ограничивается изображением действий героев в стремительном развитии хитроумного сюжета, а даёт и психологические мотивировки действий. От того его повести становятся как бы многомерными. Их нельзя читать «бегом», как читаются многие приключенческие повести иных авторов. Бадигинские наталкивают на серьёзные раздумья: о родине, о судьбах людей, об общественном долге, о жизни и смерти…
Литературная критика часто обращает внимание на бедность языка многих книг приключенческого жанра. Эти упрёки, как правило, справедливы. «Приключенцы» обычно сосредоточивают все силы на закручивании сюжета, а языковые изобразительные средства остаются на уровне газетного очерка. Писательский язык Бадигина богат, многообразен, индивидуализирован по характеру действующих лиц.
Константин Бадигин — ярко выраженный русский писатель. В своих повестях он воспроизводит картины русского национального быта разных эпох, изображает национальные нравы и обычаи, рисует разнообразные характеры русских людей в драматических обстоятельствах. Само собою разумеется, что он всегда на классовых позициях. Но ему чужд вульгарный социологизм.
Не все бояре, попы и генералы были негодяями, как и не все «работные люди» были ангелами. Я, например, считаю большой удачей Бадигина образ архиепископа Великого Новгорода Ефимия из повести «Покорители студёных морей». Этот хилый старик с живыми глазами и ясным государственным умом — подлинный патриот Руси. А в повести «Секрет государственной важности» в объективном свете выведены два белогвардейских полковника. Оба — ярые враги Советской власти, и мы видим, что они обречены, но субъективно это честные люди. Они воюют не ради личной корысти, как генерал Дитерихс. По их классовым понятиям, они борются «за спасение России» и считают себя подлинными патриотами. Разуверить их в этом может только жизнь.
Константин Бадигин — ярко выраженный морской писатель. И не просто морской, а живописец северных студёных морей, хотя большую часть жизни он водил корабли по тёплым морям. Впечатления юности, молодости — самые сильные в жизни. Бадигин в двадцать семь лет был капитаном прославленного ледокола «Седов». Он торил Великий Северный морской путь во льдах Арктики, и, естественно, самые сильные его переживания там. С Ледовитым океаном, с Балтийским, Северным и Белым морями связаны и большие думы его, с ними же связаны и исторические изыскания. Чему же удивляться, что он пишет о студёных морях, а не об Атлантике, не об Индийском или Тихом океанах, хотя исколесил их вдоль и поперёк. Да ведь и не наши те океаны. История русского мореплавания более всего связана с северным поморьем.
Предлагаемый вниманию читателя роман «На затонувшем корабле» охватывает время с конца Отечественной войны примерно до середины пятидесятых годов. По существу, изображается наша современность. Действие развёртывается в Восточной Пруссии, а после войны — в Калининградской области и на Балтийском море. Действующие лица — гитлеровцы разного ранга, с одной стороны, и советские люди, военные и штатские, — с другой. Кончилась явная война, продолжается тайная…
Не буду пересказывать сюжет романа — читатели этого не любят, — скажу только, что он не менее увлекателен, чем сюжеты повестей, о которых шла речь выше. И ещё хочу обратить внимание на одну важную особенность этого произведения. В числе врагов нашего общества (кроме осевших после войны гитлеровцев-шпионов) выведен матёрый бюрократ из управления пароходства, этакий лощёный демагог. Фамилия его — Подсебякин, но читатели взамен могут подставить и другую, более близкую им. Лица, похожие на Подсебякина, встречаются, к сожалению, не только в пароходствах.
Не знаю, чем объяснить, но писателей-маринистов ныне до крайности мало. Очень-очень жаль. Море извечно волнует и манит миллионы людей, воспитывает сильных, бесстрашных. Талантливые произведения о моряках пользуются огромной популярностью. О тиражах книг Бадигина в нашей стране я уже говорил. Есть сведения, что его повести издаются и за рубежом. «Путь на Грумант» издан более чем в десяти странах. Повесть «Покорители студёных морей» в минувшем году вышла в Чехословакии вторым изданием, роман «На затонувшем корабле» только что издан в Польше.
Константин Бадигин в расцвете творческих сил. На выходе у него новый роман — «Кольцо великого магистра» — о крестоносцах четырнадцатого века. Есть ещё много интересных замыслов. Но он меня не уполномочил выдавать его секреты.
Михаил Шкерин
КНИГА ПЕРВАЯ ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА ГЛАВА ПЕРВАЯ СКЕЛЕТ В РЫЦАРСКИХ ДОСПЕХАХ, ПРУССКИЙ ГАУЛЕЙТЕР И ПОХИЩЕННЫЕ СОКРОВИЩА
С последним гулким ударом железный лом ушёл в пустоту. Налегая на лом всем телом, профессору Хемпелю с трудом удалось расшатать несколько кирпичей. Десятки раз ударяя в одно и то же место, он убедился в отменной прочности древней кладки: после каждого удара от стены отлетали только осколки. Когда, наконец, образовался небольшой пролом, профессор решил передохнуть и вытер со лба пот.
Он долго рассматривал в лупу окаменевшие куски извёстки. Да, несомненно, вход был замурован в начале восемнадцатого века. Подземелье не существовало даже на самых подробных планах старого орденского замка… Это было открытие!
Из пролома пахнуло чем-то затхлым. Профессор вынул из кармана огарок свечки, зажёг его и, прилепив к лому, сунул в пробитую щель. Свеча продолжала ярко гореть, наклонив пламя по течению воздуха. Хемпель удовлетворённо хмыкнул.
Отдохнув, профессор снова взялся за лом. Он решил, не откладывая, обследовать подземелье. Конечно, было бы разумнее спуститься туда с помощником, но в эти тревожные дни никому нельзя было доверять тайну. После часа тяжёлой работы ему удалось расширить брешь. Хемпель заменил свечной огарок фонариком и, окончательно отбросив колебания, переступил через обломки кирпичей и очутился в древнем царстве тишины и мрака. Нет, он не был трусом и никогда не отступал в трудных случаях. Несмотря на преклонные годы, он отличался, как говорили его друзья, твёрдостью духа, прекрасным здоровьем и пунктуальностью Эммануила Канта.
Карманный фонарик вырвал из темноты часть кирпичной стены, нависшие над головой мрачные своды. Профессор оказался в широком коридоре с потемневшими от времени стенами. Судя по размеру и форме кирпича, по манере кладки, подземелье сооружалось сотни лет назад.
Это не удивило профессора, замок возник не сразу: северное крыло возводилось в пору процветания Тевтонского ордена. Немало воздвигнуто и Альбрехтом Бранденбургским в шестнадцатом веке; кое-что подправляли позже и другие владельцы замка.
Коридор заметно уклонялся вниз. Желтоватое пятнышко карманного фонаря запрыгало по каменным ступеням. Осторожно ставя ноги, боясь поскользнуться, профессор пошёл по лестнице, своды подземелья скрывались в непроглядной темноте. Всюду, куда доставал пучок желтоватых лучей, Хемпель видел сводчатый потолок, незаметно переходящий в низкие кирпичные стены…
Учёный увлёкся, как мальчишка, впервые забравшийся в таинственный подвал соседского дома. Каждый кирпич, каждый обломок подвергался тщательному осмотру. Вот только мешала дрожь в руках, саднила кожа, стёртая от непривычной работы ломом.
Дышать становилось труднее. По стенкам подземелья сочилась тёмная слизь. Над головой, в лучах фонарика, искрились капли влаги. Профессор почувствовал озноб, поёжился, застегнул доверху пуговицы тёплой охотничьей куртки, из которой не вылезал в эту холодную зиму. Пройдя ещё десяток шагов, он увидел на стенах грибковую поросль, нежную и белую, пышно разросшуюся.
Вот ещё несколько крутых ступенек вниз, и коридор расширяется, образуя небольшую, почти квадратную комнату. Профессор медленно повёл вокруг фонариком. Из темноты выступил большой католический крест, упиравшийся вершиной в нависшие своды. За крестом что-то темнело. Слегка задыхаясь в спёртом воздухе, Хемпель подошёл ближе и, поражённый, остановился. Крест оказался распятием в натуральную величину. Фигура Христа, вырезанная из дерева рукой мастера, выразительно передавала страдание. Лёгкий налёт пыли смягчал резкость тонов — и это ещё более оживляло статую.
Профессор, убеждённый лютеранин, не признавал объёмных религиозных изображений. Он считал обожествление деревянных фигур идолопоклонством, язычеством. Он не выносил ханжества католических священнослужителей, презирал фиглярствующих отцов иезуитов и скептически относился к помпезности богослужения в католических церквах. Но фигура на кресте заинтересовала его, любителя древности, как произведение искусства.
За распятием на невысоком постаменте стоял гроб, крышка была сдвинута в сторону. Когда-то гроб, видимо, был покрыт орденским знаменем. Сейчас от знамени остались только истлевшие обрывки. Свет фонаря задержался на черепе, обтянутом лоскутками кожи, с выдающимися надглазными выпуклостями и жёлтыми кривыми зубами. На правой височной кости профессор заметил сквозную продолговатую пробоину — след от удара топором.
Поверх медных доспехов лежала длинная рыжая борода. Челюсть подпиралась рукоятью огромного меча. На сжатых суставах пальцев белела ссохшаяся кожа. Собственно, только рыцарское снаряжение и напоминало о прежних формах человеческого тела.
«Кем он был?» — спрашивал себя профессор.
История орденских времён, а особенно все, что относилось к прошлому Кенигсбергского замка, было близко его сердцу. Когда-то в юности, оправдывая нечеловеческие жестокости рыцарей, он преклонялся перед Тевтонским орденом. Захватывая чужие земли, орден создавал и укреплял немецкое государство. Со временем профессор несколько изменил точку зрения, однако, как всякий немец, к старине относился почтительно.
Он ещё раз внимательно осмотрел подземелье. Теперь он заметил ржавые железные кольца в каменной кладке… Но что это? На стене возле гроба чуть виднелись тронутые временем строки угловатых букв. Водя по ним лучом фонарика, профессор с трудом прочитал: «Я презираю греховность моего тела и принимаю обет послушания моему богу, святой церкви, святой Марии и вам, мой магистр ордена немецкой церкви, и вашим последователям. Правилам и обычаям ордена немецкой церкви буду подчиняться и буду послушен до самой смерти. Аминь».
«Присяга тевтонских рыцарей. Кому понадобилось писать её на стене? И герб ордена!» — Сбоку едва заметно проступал рисунок щита с чёрным крестом.
Профессор мысленно обратился к сочинению Христофора Харткнохта «Старая и новая Пруссия». Сколько раз он перечитывал объёмистый фолиант со множеством рисунков!
Тевтонский орден девы Марии возник в Иерусалиме ещё в двенадцатом веке. В начале монахи ухаживали за больными и ранеными, вели скромный образ жизни. Орден был вполне безобиден и даже полезен, пока одному из великих магистров, Герману фон Сользу, не пришла в голову заманчивая идея — поживиться чужой землёй. Ему помог польский князь Конрад Мазовецкий, призвавший божьих рыцарей завоевать язычников — балтийских славян, пруссов и литовцев — и привести их к вере Христовой.
Расположившись на пожалованных польским князем землях, рыцари вскоре не только овладели исконной землёй пруссов, но оказались хозяевами чуть не всей восточной Прибалтики.
Профессору пришла в голову похвальба Адольфа Гитлера: «Я начну своё наступление там, где были остановлены тевтоны много веков тому назад». Да, фюрер взял на себя трудную и опасную задачу — завершить дело, начатое монахами-завоевателями.
Мысли профессора снова обратились к средневековому покойнику в латах. «Я должен узнать, кем был этот человек, — повторял про себя профессор. — Почему рыцарь похоронен здесь, в подземелье. Может быть, мне посчастливится раскрыть что-нибудь новое из истории ордена? Следует осмотреть ещё раз все, каждую мелочь».
Основательно потревожив рыцаря, профессор обнаружил под черепом небольшое евангелие в переплёте из телячьей кожи и несколько серебряных монет с гербом ордена.
Профессор стёр пыль с евангелия, полистал пожелтевшие страницы, защёлкнул медные застёжки и положил в карман. Теперь его внимание привлекло старинное вооружение, валявшееся на каменных плитах. Тут были панцири и шлемы, кольчуги, алебарды, мечи — целое сокровище для музея. Большая часть военных доспехов, несомненно, принадлежала тевтонским рыцарям, бывшим хозяевам Кенигсбергского замка.
Иногда нога Хемпеля ступала на что-то мягкое, похожее на мох. Это были трухлявые обломки дерева, обрывки одежды, перержавевшие позументы, гвозди. Тут же на плитах подземелья он разглядел человеческие кости и белое вещество, напоминавшее извёстку: профессор знал — так выглядит мышечная ткань людей, умерших сто, двести лет назад.
Стены могли бы рассказать о многом. Профессор умел слушать и понимать язык древних камней. Но сегодня надо было спешить. О-о, если бы не эта ужасная война, все было бы иначе!
Без всякой брезгливости шагая по мягкой трухе, по костям, он торопился закончить осмотр тайника. То, что подземелье, видимо, уходило глубже под землю, его не удивляло. Он знал, что в старинных замках-крепостях потайные ходы часто спускались к подземному источнику.
Угнетала душная тишина склепа. Профессор слышал удары сердца. Казалось, урони он булавку — и гром разнесётся по подземелью. Когда же профессор попробовал крикнуть — голос прозвучал глухо, словно через подушку. Эхо не отозвалось.
Вот ещё несколько истёртых ступенек. Над головой в лучах фонаря поблёскивали кристаллики соли на кирпичах; все гуще чёрная слизь. В слабом световом пятне поперёк подземелья встала стена, сложенная из сглаженных ледниками плоских камней. Там, где ход упирался в массивную железную дверь, запертую на замок, профессора ждала ещё одна находка. Он рассмотрел в углу кованый железный ящик. Сундук был очень тяжёл: профессор не мог сдвинуть его с места.
Носовым платком и перочинным ножиком он очистил ящик от пыли и грязи и обнаружил на одной из стенок три замочные скважины. Хемпель обрадовался: видимо, ему повезло. В таких сундуках за тремя замками рыцари прятали орденскую печать, а кроме того, знаменитое кольцо Германа Сользы — подарок папы римского, единственную собственность, которую великий магистр мог передавать по наследству. Ключи хранились у трех должностных лиц орденского государства: великого магистра, великого комтура[1] и казначея. Эти трое имели право открыть сундук и приложить к документу печать, только собравшись вместе. Не очень-то братья рыцари доверяли друг другу.
«Дольше оставаться в этой слепой кишке невозможно, задохнёшься», — подумал профессор. Да и батарейка в фонарике совсем ослабела. Хемпель, с сожалением оглядываясь на сундук, повернул обратно.
Вот и рыцарский гроб, тут дышалось легче, и профессор решил отдохнуть. Силы совсем покинули его, ноги подкашивались… «Нервы… ничего не попишешь». Он, не раздумывая, нарушил покой последнего рыцарского обиталища. Подвинув в сторону гроб, Хемпель сел. С наслаждением пуская ядовитый сигарный дым, он прислушивался к звукам, доносившимся с поверхности земли. В угнетающей могильной тишине они были вестниками жизни. Где-то над головой прошёл грузовик. Но вот опять все стихло.
Профессор, экономя свет, потушил фонарь. Тяжёлая, душная темнота тотчас навалилась на него. Даже сигара потеряла прелесть. Стараясь оградиться от тягостных размышлений, Хемпель задумчиво смотрел на её огненный кончик…
Сверху опять донёсся шум.
«Что это? Будто кто-то бьёт молотом?»
Ритмичные удары все усиливались. Когда грохот раздался прямо над головой, профессор, наконец, понял: рота солдат входит во двор замка.
Тяжёлая поступь войны доносилась даже сюда.
Посасывая сигару, профессор прикинул, под какой частью старого замка он находится, а потом стал перебирать в памяти обстоятельства, сопутствовавшие открытию подземного хода.
Дело было так. Три месяца назад, осматривая подвальные помещения крепости, он обратил внимание на каменную плиту пола в одной из комнат. Она была меньше истерта, чем соседние, и отличалась от них по цвету. Заметив несколько небольших углублений по краям соседних плит, он догадался, что это следы железного лома, которым приподнимали люковую крышку. Стукнув по плите молотком, он услышал глухой продолжительный гул: там была пустота.
Внизу, под каменной плитой, оказалось небольшое квадратное помещение высотой около двух метров. В одной из стен, сложенных из желтоватых кирпичей, профессор заметил замурованный вход. Именно тогда ему пришла в голову мысль: если придёт настоящая нужда, спрятать в этом тайнике все самое ценное из музейных сокровищ.
В марте, после разгрома хельсенбергских дивизий, профессор велел перенести музейные реликвии в комнату с потайным люком. А сегодня он решил осуществить своё намерение и надёжно укрыть все самое дорогое. Его подтолкнули к этому некоторые важные обстоятельства. Три дня назад крейслейтер Кенигсберга Вагнер приказал перенести сокровища музея, давно упакованные в ящики и готовые к эвакуации, в один из глубоких бункеров неподалёку от замка. Место хранения профессору показалось ненадёжным. Но приказ есть приказ, и первая партия ящиков была перевезена в бункер.
Однако учёный, до фанатизма преданный своему делу, решил дальше действовать наперекор всем приказам, на свой страх и риск. И вот хранилище найдено. Теперь он может быть спокоен, его коллекциям не грозит опасность от бомбы или пожара. Да, да, решено. Сегодня же он перенесёт сюда все самое ценное.
Но кем же все-таки замурован тайник? Профессор задумался: его мысли ушли вновь в туман прошлого, к стёртым временем именам и событиям.
…Тевтонский орден рвался к морю. Рыцарям удалось захватить изрядную часть балтийского побережья с родиной драгоценного янтаря — Земландским полуостровом.
А пруссы яростно сопротивлялись. Они не желали становиться христианами, не хотели быть рабами. Они боролись за право жить свободными людьми на своей земле. Много раз пытались они сбросить ненавистное ярмо тевтонцев…
Войну с язычниками-пруссами и литовцами орден превратил в крестовый поход против славян, населявших берега Балтийского моря. Великие магистры, не обращая внимания на протесты польских князей, продолжали завоёвывать славянские земли. Только в начале пятнадцатого века великая Грюнвальдская битва положила конец захватническим войнам орденского государства. Объединившись, поляки, литовцы и русские разбили врагов. Крестоносцы постепенно сдавали свои позиции Польше. Но, потеряв прежнее могущество, они все же оставались значительной силой.
Профессору казалось, что история в назидание снова повторяет Грюнвальдское сражение. Да, да, повторяет. Оно происходит сейчас в тех же самых местах, и вновь отстаивают в нем свою свободу храбрые, непокорённые потомки людей, победивших тевтонских рыцарей в той битве. Но несравнимы масштабы, несравнимы последствия…
Профессор вздрогнул от лёгкого шороха за спиной. Он включил фонарик. Желтоватый луч, метнувшись по стене, поймал большую серую крысу на самом верху каменной лестницы. Испугавшись света, крыса мгновенно исчезла. Профессор брезгливо повёл плечами, бросил сигару и через пробитую брешь вернулся в комнату. Люк в подземелье он тут же закрыл — снова пришлось немало потрудиться над тяжёлой плитой.
Наверху дышалось легко. В комнате ярко светила электрическая лампочка. Профессор присел на ящик с музейными экспонатами, снял кепку и пригладил остатки волос — они были светлые, слегка тронутые сединой. На выхоленном лице — почётные шрамы студенческих дуэлей.
Отдохнуть как следует не пришлось. Он услышал стук в дверь и испуганный голос своего верного помощника Карла Крамера:
— Господин профессор! Где вы, господин профессор?
— Я занят! Что случилось? Я просил меня не беспокоить.
— Гаулейтер Эрих Кох прибыл в замок и требует вас! Вы слышите, господин профессор, сам гаулейтер Кох.
* * *
В большой комнате с деревянным резным потолком и опустевшими стенами, развалившись, сидел в кресле гитлеровский вельможа. Все остальные: крейслейтеры, генералы, эсэсовская и нацистская знать — стояли, окружив высокую особу. Почти у всех на френчах и пиджаках поблёскивали золотые свастики. Несколько поодаль стояли сотрудники музея — три испуганных, но старавшихся сохранить достоинство человека. Возле кресла гаулейтера лежала собака — любимица Коха.
Когда-то здесь была столовая герцога Альбрехта Бранденбургского. Позже у одной из стен восседал на королевском троне Фридрих Великий. Ещё так недавно любопытным кенигсбержцам показывали трон — ничем не примечательное полумягкое седалище. Ещё недавно стены «тронного зала» украшались картинами знаменитых художников. Сейчас на них остались только крючья да тёмные квадраты на выцветших шпалерах. В разбитое окно врывался ветер, раскачивая бархатную занавеску. По углам пустой и неуютной комнаты расползлась сырость, на плиточном полу стекленели замёрзшие лужи.
Несомненно, историческое прошлое этой комнаты было известно Эриху Коху. Возможно, поэтому кресло его было установлено на том самом месте, где раньше возвышался королевский трон.
— Ха-ха! Глубокоуважаемый учёный муж! Посмотрите, в каком он виде. Чем вы занимались, позвольте узнать?
Приближённые наместника громко засмеялись.
— Вы меня звали, господин гаулейтер? — спросил профессор. Его голос дрогнул от сдерживаемого гнева.
— Долго вас пришлось разыскивать! Хорошо вы храните доверенные вам ценности! — заорал гаулейтер. — Они преспокойно валяются в здешних подвалах. Каждому негодяю известно, где и что лежит. Как вы допустили такое разгильдяйство, а? Отвечайте, я вас спрашиваю!
Эрих Кох, сидя в кресле, затопал короткими ногами в начищенных сапогах.
Профессор побледнел и сжал зубы. Чтобы успокоиться, он старался смотреть на гвоздь с обрывком бечёвки. На этом месте раньше висела картина Рубенса «Марс и Венера». Кто-то курил, Хемпель проглотил слюну — табак был явно настоящим.
— Почему до сих пор вы не выполнили моего распоряжения? — продолжал бушевать гаулейтер. — Недавно я предоставил музею превосходный литерный бункер! Разве крейслейтер Кенигсберга Вагнер не передавал вам моих приказаний?
— Вчера мы начали перевозку экспонатов, гаулейтер. И я уверен, сумеем сделать все как надо. Мои помощники думают так же. — Профессор произнёс эту фразу размеренно и настолько правильно, что можно было, слушая, расставлять знаки препинания. В минуты раздражения профессор имел обыкновение говорить особенно чётко.
— Ах, вот как! Только вчера вы удосужились взяться за дело. Хорош, нечего сказать… Это ваши помощники? — гаулейтер небрежно ткнул пальцем на трех коллег профессора. — Как вы могли оставить в замке янтарный кабинет? А другие шедевры, с таким трудом добытые мною на Украине и в Белоруссии?.. Где они, я вас спрашиваю? Государственное преступление! — вдруг взвизгнул он.
Лежавшая у ног Коха собака заворчала.
— Впрочем, мне наплевать на ваших коллег! Я требую от вас, понимаете — от вас, окончания всех дел немедленно. И сам прослежу за выполнением. Эй, кто-нибудь! — Кох чуть повернулся к своей свите. — Дайте лист бумаги, я напишу несколько строк на память…
Блокнот мгновенно очутился в руках Коха. Он вынул перо и оглянулся.
— Пожалуйста, гаулейтер! — уполномоченный по строительству укреплений Фидлер, крепкий высокий человек с тёмными глазами, угодливо согнулся перед Эрихом Кохом. — Яволь! Пишите на моей спине, гаулейтер. Лучшего стола сейчас вы не найдёте во всем королевском замке. — Повернув голову, он посмотрел на Коха таким же взглядом, каким смотрела на гаулейтера собака.
Усмехнувшись, восточно-прусский наместник Гитлера положил блокнот на спину Фидлеру и небрежно, неразборчиво набросал несколько строк.
— Возьмите, профессор, — смягчившись, произнёс Кох. — Здесь восемь пунктов, все они должны быть выполнены, все до последней буквы. Иначе я не посчитаюсь с вашими заслугами… Поняли? Не задерживаю…
И для гаулейтера профессор Хемпель больше не существовал.
— Из вас вышел превосходный дубовый стол, Фидлер, — милостиво пошутил вельможа, глядя на красные, налитые кровью щеки и растрепавшиеся волосы уполномоченного, — молодец, спина крепкая. И цвет лица прекрасный! Дерьмо с молоком.
— Яволь! Готов служить всем, чем вы прикажете, гаулейтер, — отозвался Фидлер.
Окружавшие гаулейтера сановники снова засмеялись, и сам Фидлер громче других.
— Прошу вас, крейслейтер, — Кох круто повернулся к высокому сутулому человеку с золотой свастикой на лацкане пиджака, — доложите, как вы укрепляете замок. Я уверен, старая крепость ещё послужит фюреру.
Крейслейтер начал было говорить, но Эрих Кох прервал его выкриком:
— Вы несёте чушь, Вагнер! Замок надо укрепить иначе. Я предлагаю установить на старой башне орудие. Тогда мы будем иметь преимущество перед русскими, замок и так стоит на возвышенности, да ещё и высокая башня…
— Это невозможно, гаулейтер, — хладнокровно возразил Вагнер, — если мы поставим туда орудие и начнём стрелять, русская авиация мгновенно уничтожит замок.
— Генерал Ляш! — позвал гаулейтер. — Что думаете вы?
Никто не ответил.
— Его нет, — сказал кто-то.
— Генерал Мюллер, — не оборачиваясь и не изменяя голоса, произнёс Кох.
— Я слушаю, гаулейтер. — Начищенный и наглаженный генерал возник перед вельможей.
— Мне надоело возиться с этим недоноском Ляшем! Я не могу больше доверять. Уберите!
— Будет сделано, гаулейтер, — вытянулся генерал.
Кох продолжал распоряжаться, раздавал направо и налево приказы, не забывая время от времени гладить собаку.
Сановники слушали молча, склонив головы.
Вошедший в зал эсэсовский генерал стал нашёптывать в волосатое ухо гаулейтера. Собака заворчала, а Кох быстро, не задумываясь, сказал:
— Недоверие к фюреру карается смертью. Повесить!
— Но, гаулейтер, полковник из хорошей фамилии, с боевыми заслугами, чистокровный ариец. Его братья сражаются в рядах рейха. Может быть, вы найдёте возможным…
— Ну, расстреляйте, — равнодушно бросил гаулейтер, — сделаем скидку на хорошую фамилию.
Эсэсовец удивлённо поднял брови.
— Думаю, вопрос решён, — заявил Кох. — Вообще я предпочитаю верёвку, и вы знаете моё правило: «Лучше повесить на сто человек больше, чем на одного меньше». Могу вас заверить — правило проверялось не раз и всегда с положительным результатом. — Гаулейтер засмеялся. Засмеялся и кое-кто из свиты, хотя афоризм был давно всем известен. — Что же касается красных: немедленно уничтожить всех без разбора Трупы облить керосином и сжечь.
Эсэсовский генерал удалился.
Гаулейтер зашагал по комнате. Низенький и толстый. Голова почти без шеи плотно сидела на коренастом туловище. Руки заложены за спину. Два пистолета болтались на поясе, придавая ему несколько опереточный вид.
Не раз ещё темно-синие глаза вельможи загорались бешенством и поток ругательств выливался на головы подчинённых. Собака неотступно ходила за хозяином. Партейгеноссе с каменными лицами дожидались конца приёма.
ГЛАВА ВТОРАЯ НОЧЬЮ В КЕНИГСБЕРГСКОМ ЗАМКЕ
В самом центре города, на одном из холмов у реки Прегель, высится старинная крепость. Тяжёлая каменная громада выглядит неприступной. Это знаменитый Кенигсбергский замок. Он стар: первые камни крепостных стен положены ещё в тринадцатом веке.
Шло время. Замок дряхлел, разрушался. Стены кое-где обвалились, подгнили стропила, прохудилась крыша. Но где взять деньги для ремонта? И королевский замок вынужден был зарабатывать их сам. Он превращён в музей и показывает в своих многочисленных залах уникальные исторические экспонаты, старинные документы и книги…
А сейчас свидетель орденских времён, словно средневековый ополченец в тяжёлых латах, собрался защищать город: у бойниц стоят орудия и пулемёты. Подступы к могучим крепостным стенам минированы. Улицы и переулки перекрыты надолбами и железными противотанковыми ежами.
В замке пусто, темно и холодно. Профессор Хемпель заканчивает вечерний обход дворцовых помещений. Сегодня это не вызывается необходимостью: все ценное убрано, сказывается многолетняя привычка.
То в одной, то в другой комнате вспыхивает свет: профессор иногда зажигает фонарь, а больше действует вслепую, на ощупь. Он проходит королевскую спальню с резным потолком, идёт коридором, попадает в маленькую комнату. По преданиям, здесь родился первый прусский король Фридрих. Это одна из самых красивых комнат замка. Профессор ощупал рукой холодные стены, облицованные полированным австрийским ясенем. На секунду фонарь осветил роскошный камин с фигурой подглядывающего шута, старинный медальон на стене с глубокомысленным изречением: «Мы знаем лучших».
Профессор несколько минут неподвижно стоял в темноте. Обычно очутившись здесь, он испытывал благоговейное волнение. На этот раз дело обстояло иначе. Он был распалён гневом. Гаулейтер Кох оскорбил его. Профессор много поработал сегодня, торопясь спрятать свои сокровища. Каждый ящик надо было спустить в тайник. Осталось только снова замуровать склеп, скрыть следы. Но годы брали своё, профессор устал, попробуй один повозись с тяжёлыми ящиками! С трудом он перенёс к пролому небольшой мешок с цементом и ведро с водой, а замуровать вход уже не хватило сил. «Оставлю до утра, ничего не случится, — решил тогда профессор. — Надо отдохнуть».
…А получилось иначе — он от слова до слова вспоминал разговор с сановным партейгеноссе и ругал себя за безропотность, беспринципность. Но спорить с Кохом что плевать против ветра; стоило ответить наперекор — и за жизнь профессора никто не дал бы и пфеннига. Где найдёшь правду? Время военное, у стен города — враг.
«А ведь у меня много ещё осталось дел, которые обязательно нужно закончить. Вот и живи с этим… Ну что ж, не умеешь кусаться, зубов не показывай».
Слабый луч фонарика пополз дальше: мазнул по стенам королевской спальни, потом осветил небольшую семиугольную комнату, когда-то здесь хранились знамёна врагов, отбитые в сражениях… В светлом кружочке луча сверкают замёрзшие на дорогом паркете лужи, сосульки, свисающие с потолка.
Профессор шагал и шагал за светлым кружочком. Он прошёл ещё много комнат и коридоров, поднялся по винтовой лестнице на самый верхний этаж южного крыла замка.
Глухие удары зениток заставили прислушаться. Профессор поднял маскировочную штору и раскрыл окно. Пахнуло холодом. Тёмная, звёздная ночь. Не видно ни одного огонька, осаждённый город притаился. А это что за огонь? Оранжево-красное зарево трепетало далеко-далеко на юге. Это пожары. Не спали зенитчики: несколько тонких голубых лучей то там, то здесь втыкались в небо… На мгновение погасив звезды, взлетела ракета и рассыпалась зелёными цветами, за ней другая, третья. Неужели русские так близко?..
Профессора Хемпеля охватил безотчётный страх.
Нахлынули воспоминания о многочисленных друзьях, приобретённых за долгую жизнь и погибших один за другим в дни войны, — они прошли вереницей перед глазами.
Сквозь ночной мрак Хемпель видел мысленным взором величественный кафедральный собор с могилой Эммануила Канта, берег древнего острова Кнайпхоф, где отражаются в реке стены Альбертина. Вот Ланггассе — улица с высокими каменными крылечками у каждого дома. Когда-то давно в тесных улицах старого города бурлила деловая жизнь. Отсюда уходили корабли в дальние страны. Поодаль, на другом берегу реки, высится здание фондовой биржи, ещё дальше — старый госпиталь из красного кирпича с двумя остроконечными башенками. Налево — обширный замковый пруд. О-о! С ним связано столько легенд… Направо — заводские трубы, такие знакомые, будничные. Внизу, почти у стен замка, несёт свои воды медлительный Прегель.
Но днём все выглядело иначе. Увы, королевский замок был окружён развалинами, одними развалинами. Многие улицы с узкогрудыми, словно игрушечными, домами превращены в мёртвые камни. Да и замок пострадал немало… А спокойные воды Прегеля по ночам отражают огненные языки пожаров.
Нахлынули воспоминания о многочисленных друзьях, приобретённых за долгую жизнь и погибших один за другим в дни войны, — они прошли вереницей перед глазами.
Профессор тяжело вздохнул и медленно побрёл дальше.
Для всех окружающих он был правоверным нацистом. Одним из первых кенигсбержцев Хемпель вступил в национал-социалистскую партию, казалось, был предан ей, искренне верил каждому слову фюрера. Верил в превосходство германской нации и, конечно, не сомневался в победоносном завершении войны. Поэтому он препятствовал вывозу из Кенигсберга музейных ценностей. «Во время войны все может случиться в дороге; на глазах в Кенигсберге будет надёжнее». Так думал доктор Хемпель, пока советские войска не перешагнули прусскую границу. А сейчас Кенигсберг в мешке, и русские стоят на подступах к городу.
В начале апреля сквозь все заграждения проникли слухи о разгроме хельсенсбергских дивизий. Это было неожиданно и страшно. А слухи все ползли и ползли, пробираясь во все уголки осаждённого города.
О поражении немецких войск шептались в бомбоубежищах, в конторах, в затемнённых квартирах, при встречах со знакомыми на улицах.
В последние дни профессор приходил домой как гость: пообедает, обменяется с женой несколькими словами и снова в королевский замок, ближе к своим сокровищам. Ночевал он в одной из полуподвальных комнат с низким облупившимся потолком, среди картин, запечатлевших победы крестоносцев, среди рыцарских доспехов и гипсовых статуй великих магистров — прежних владельцев замка.
Воздух здесь затхлый, отдаёт плесенью. Это понятно: замок не отапливали, пахло мышами и нафталином. Сегодня было особенно холодно, и профессор никак не мог согреть озябшие руки. Поёживаясь, он уселся в старинное кресло, на котором когда-то сиживали и прусские короли. Раньше это выглядело бы почти святотатством, но что делать, времена изменились.
Чтобы согреться, доктор Хемпель вскипятил воду в электрическом чайнике и, потягивая малиновый отвар, вспомнил о своём интересном открытии. Орденский склеп. Человеческие кости на полу. Рыцарь в старинных доспехах, с рыжей бородой снова и снова возникал перед глазами. И, как часто бывало с Хемпелем, вдруг отодвинулось все сегодняшнее, близкое. В памяти всплывали загадочные истории и легенды о Кенигсбергском замке… Отсчитывая минуты, медленно ползла по циферблату стрелка часов.
«Хватит! — профессор очнулся, возвратясь из далёкого похода в историю. — Надо отвлечься».
Посмотрев на часы, он включил приёмник: кенигсбергская станция работала. Передавалась Седьмая симфония Бетховена. Чем-чем, а классической музыкой горожан угощали вдоволь.
Как всегда, он с удовольствием слушал музыку. Дирижировал оркестром его приятель — государственный композитор Ройс. Раньше Ройс дирижировал в оперном театре. Хемпель представил себе чёрный фрак, прямую спину, белую властную руку. От театра теперь камня на камне не осталось.
Музыка закончилась. Стали передавать, в который уже раз, газетную статью Пауля Даргеля, заместителя имперского комиссара обороны, руководившего строительством укреплений. По его словам, длина противотанковых рвов, построенных в Восточной Пруссии, равнялась расстоянию от Кенигсберга до Мадрида. Даргель клялся, что город неприступен.
После статьи Пауля Даргеля для подъёма духа кенигсбержцев диктор с пафосом рассказал несколько историй о давних победах германской армии.
Захотелось курить. Профессор медленно и аккуратно срезал кончик чёрной эрзац-сигары и, прислушиваясь краем уха к назойливому голосу в приёмнике, стал просматривать списки музейных ценностей, спрятанных сегодня в подземелье.
Кто-то, заикаясь и неправильно выговаривая слова, перечислял фамилии горожан, отличившихся сегодня на оборонительных работах, объявил о наградах. Каждому был вручён ценный подарок: сигары, кофе, стандартный пакет с конфетами и печеньем или бесплатный билет в кино.
В эфире появился Эрнст Вагнер. Профессор положил ручку, насторожился… Когда лиса начинает проповедь, оберегай гусей. Грозный крейслейтер тоже без удержу похвалялся неприступностью Кенигсберга. Призывал немцев защищать город до последнего вздоха.
«Сказано очень много слов и ничего нового», — заключил профессор. Эту программу с успехом можно передать через десять дней. И никто даже не догадается об этом. Такой же она была и десять дней назад. А главное — ничего утешительного.
«Наш город обеспечен денежными банкнотами, — весело провозгласил под конец диктор. — Директор государственного банка Франц Зайдлер заявил представителю радио: денежные платежи будут производиться без всяких ограничений: жалованье чиновникам и пенсии выплачиваются, как всегда, неукоснительно в положенные сроки».
«Как не надоест повторять одно и то же», — с досадой подумал учёный, щёлкнув выключателем.
Нет, положительно профессор Хемпель был выведен из равновесия событиями сегодняшнего дня. Сначала такие открытия в подземелье, а потом этот наглый гаулейтер.
Трудно примириться с сознанием собственного бессилия. Все больше и больше сомнения терзали Хемпеля. Он был всерьёз обеспокоен излишним вниманием гитлеровского вельможи к сокровищам, его сокровищам. Опасность. Берегись, Альфред. Недаром говорится, что ночь — мать размышлений.
Сердце гулко билось. Пришлось принять успокоительные капли. Обернув шею тёплым шарфом и накрывшись двумя шерстяными пледами, он улёгся на узкий диванчик. Долго скрипели пружины.
В начале второго часа ночи профессора разбудил настойчивый телефонный звонок. Какой-то штурмбанфюрер Эйхнер сообщил, что выезжает в замок по срочному и секретному делу.
— Вы мне совершенно необходимы, профессор, — добавил грубый голос, — не отлучайтесь.
Хемпель разволновался. Он не любил гостей из гестапо.
«А вдруг там догадались, что я прячу сокровища не только в литерный бункер… Кто-нибудь донёс!» — профессора бросило в жар.
Перед глазами возникла чёрная дыра в стене…
«Проклятье, вход не замурован. Какая оплошность! Кто мне поверит, что прятал не для себя. Когда человек поступает честно, они не верят, они всегда подозревают только плохое. Для них я вор, государственный преступник».
Профессор лихорадочно придумывал оправдания. На всякий случай он позвонил сотруднику музея, своему племяннику Эрнсту Фрикке и просил его немедленно приехать.
…Ровно в два часа Эрнст Фрикке, худощавый блондин с приятным лицом и голубыми глазами, вошёл в комнату дяди. Электричество выключили в двенадцать, и сейчас комнату, похожую на кладовую театрального реквизита, освещал стеариновый огарок в деревянном подсвечнике.
Профессор показался Эрнсту Фрикке взволнованным. Взглянув на дядю повнимательнее, он заметил дрожащие руки, покрасневшие глаза, седую щетину на как-то сразу постаревшем лице.
— Помоги отправить ценности, Эрнст, — с усилием сказал профессор. — Надо спешить, а я совсем болен, — добавил он едва слышно.
— Куда отправить? — с готовностью отозвался Эрнст Фрикке.
— Вас это не должно интересовать, молодой человек, — внезапно раздался грубый голос. — По приказу главного управления имперской безопасности транспортировкой ценностей займусь я, Эйхнер.
Эрнст Фрикке вздрогнул от неожиданности. Он только сейчас увидел человека в чёрной униформе с четырьмя звёздочками в петлице, знаками СС и нарукавной повязкой со свастикой. Лицо почти не различимо в тёмном углу.
— Хайль Гитлер! — поспешил поздороваться Эрнст.
— Хай… тлер! — бросил эсэсовец.
— Да, Эрнст, теперь это не наше дело, — услышал он грустный голос профессора. — Ты должен передать штурмбанфюреру все ящики, отмеченные зеленой буквой "М". На этом кончаются наши обязанности. Он погрузит их на машины и…
— Не совсем так, профессор, — вмешался опять эсэсовец. — Этот молодой человек нам не нужен. Вы должны сами сопровождать груз. Ваши советы пригодятся на месте
— Я не вижу необходимости ехать с вами, — Хемпель вскочил, вены на его висках вздулись. — Я все осмотрел раньше. Со мной согласованы все пункты.
— Вы напрасно пускаете в штаны, дорогой профессор, — пошутил эсэсовец, — уверяю, вам нечего бояться.
— Я ничего не боюсь, штурмбанфюрер, вы… позволяете себе разговаривать так, словно я русский. Если хотите знать, я больше вас имею право на доверие. Зарубите себе на носу… я…
Учёный покраснел от волнения, голос стал резким, крикливым. «То, что пришлось стерпеть от гаулейтера, я не намерен спускать этой мелюзге», — мысленно храбрился он.
— Ладно, профессор, — отмахнулся эсэсовец. — Я знаю ваши заслуги, и сейчас не время спорить.
— Меня беспокоит янтарь, — продолжал кипятиться Хемпель. — Да, янтарь, моя коллекция. Она насчитывает более семидесяти тысяч образцов. Уникальные собрания янтарной фауны: муравьи, мухи, комары, сотни образцов, их историческая и художественная ценность чрезвычайна. Среди уникумов — единственный в мире кусок янтаря с живой ящерицей…
— Живая ящерица? Это вы уж того, профессор, загибаете, — эсэсовец весело захохотал.
— Она как живая в своей прозрачной гробнице, моя маленькая мученица… Вам не понять этого, — профессор хрустнул суставами худых пальцев. — Пятьдесят миллионов лет прошло с тех пор. Янтарный кабинет! Вы представляете, штурмбанфюрер, что это такое? — волнуясь, он снял очки и замшевой тряпочкой стал протирать стекла.
— Действительно, что это за штука, янтарный кабинет, профессор? — спросил эсэсовец. — Когда приходится обрабатывать какое-нибудь дело, — добавил он, словно оправдываясь, — не грех узнать о нем подробнее.
— Неужели вы ничего не знаете о нем? — удивился учёный.
— К сожалению, профессор.
— Да ведь это чудесное произведение искусства! Представьте себе большую комнату, стены которой сплошь облицованы мозаикой из янтаря. — Профессор помолчал. Он успокоился и опять стал старательно расставлять знаки препинания. — Когда вы находитесь в ней, вам кажется, что светит яркое солнце, хотя на самом деле над городом туман.
— Понимаю, профессор, валяйте дальше.
— В янтарных стенах четыре рельефные картины, — все больше увлекаясь, продолжал Хемпель. — Это невозможно передать словами, это надо видеть. Картины в резных рамках: сказочный узор. Немецкие мастера создали неповторимое чудо!
— Я ничего не понимаю, профессор. Мне сказали, что этот кабинет трофейный и принадлежал русским. Выходит, русские хапнули его у нас?
— Янтарный кабинет подарил Фридрих-Вильгельм Первый русскому царю Петру, — с некоторой торжественностью пояснил учёный. — Русский царь гостил у нашего короля в Потсдаме и обратил внимание…
— Обратил внимание, и ему подарили такую драгоценность, черт возьми, — опять перебил гестаповец. — Не понимаю, для чего нужно было Вильгельму дарить кабинет какому-то царьку?
— Царь Пётр был не какой-то царёк, а великий русский император. О-о, это был действительно великий человек. Вы плохо знаете историю, у вас неверные представления. — Профессор поджал губы и мысленно поставил точку. — Россия и в те временя считалась сильной державой. Король Фридрих был очень бережлив и не разбрасывался подарками. Но Пруссия нуждалась в поддержке московского царя…
— У меня представление самое правильное, профессор, — перебил эсэсовец. — Фюрер нас учил: великими могут быть только немцы… Хай… тлер! — Эйхнер снисходительно усмехнулся. — И вообще, скажу откровенно, я не разделяю ваших восторгов. Подумаешь, кусочки древней смолы. Я не видел янтарного кабинета, но зато мне часто встречались янтарные мундштуки и запонки.
Заметив признаки знакомого вдохновения на лице профессора, Эрнст Фрикке со скукой отвернулся, дядины лекции о янтаре он знал наизусть. Рассуждения кретина эсэсовца его интересовали ещё меньше.
У Фрикке в голове бродили иные мысли. Сегодня днём его неожиданно вызвали в гестапо — разговаривать довелось с «засекреченным» партейгеноссе: отвислый нос на скучном лице и отличный серый штатский пиджак. Он сидел прямой как палка, положив большую волосатую руку на стол. Левая рука — протез в чёрной перчатке. Фрикке не сомневался, что перед ним большой начальник.
— Волк-оборотень Антанас Медонис, — сказал он, жёстко выговаривая слова, — скоро вы получите приказ от директора музея профессора Хемпеля… Выполните приказ и немедленно возвращайтесь. Запоминайте все, что профессор вам скажет, каждое слово… Наш разговор, разумеется, остаётся в тайне.
Фрикке вытянулся, руки по швам и, испытывая привычную робость перед начальством, подтвердил готовность выполнить любой приказ. «У того, кто должен, выбора нет, — повёл в его сторону носом штатский. — Вот паспорт на имя литовца Антанаса Медониса, изучайте вашу новую биографию». — Вислоносый протянул ещё несколько бумаг — и пошла беседа: мудрые советы и поучения потоком вливались в уши Фрикке. «Не ломался, был прост, а вместе с тем попробуй скажи что-нибудь не так, — думал Фрикке. — Знает ли он, что профессор Хемпель мой дядя?» На прощание партейгеноссе передал Фрикке янтарный мундштук с двумя золотыми ободками. И произнёс магические слова волков-оборотней.
— Не богохульствуйте, штурмбанфюрер, — услышал Эрнст Фрикке. — Янтарь… что может быть лучше. — Профессор Хемпель заговорил о янтаре и, как всегда, забыл все остальное. — И в древности дорожили солнечным камнем. — Словно жрец, он поднял над головой худые руки. — Народы верили, что янтарь отводит дурной глаз! — с пафосом воскликнул он, чувствуя себя на университетской кафедре.
Сейчас профессор будет рассказывать о чудесных свойствах янтаря. Ему все равно, слушает ли его штурмбанфюрер или нет.
— Римляне и греки лечили янтарём желудок и глаза. Заметьте, господа, в древности солнечный камень ценился выше золота. Благовонным янтарём кадили в храмах. Вы знаете, каких цветов бывает янтарь? — профессор вдохновлялся все больше и больше. — Янтарь бывает жёлтый, как мессинский лимон, оранжевый, как заходящее солнце, красный, как гранатовые зёрна. В солнечных лучах он переливается яркими огненными красками. Впрочем, на Ближнем Востоке больше всего ценили молочные, «облачные» сорта.
Профессор на миг замолк, пососал давно потухшую сигару.
— А какие изящные вещи делают из янтаря, — продолжал он, аккуратно положив окурок в пепельницу. — Я могу показать, господа, табакерку работы берлинского мастера. — Он вынул из кармана плоскую коробочку в золотой оправе. — Это моя собственность, семнадцатый век, — с гордостью пояснил он. — Инкрустирована слоновой костью. Сейчас я ношу в ней снотворные таблетки. Она интересна одной деталью. Обратите внимание на крышку, господа, — торжественно сказал он, словно фокусник, показывающий свой коронный номер. — Вы видите: матовая полупрозрачная поверхность, специальная обработка янтаря. А теперь, — профессор намочил носовой платок водой из стакана, в котором хранил ночью свои вставные челюсти, и провёл по крышке, — теперь смотрите. — Он показал табакерку, не выпуская из рук.
— Да вы проказник, дорогой Хемпель, — захохотал штурмбанфюрер. — Носите в кармане голых девушек. Я не прочь приобрести такую табакерку. Но объясните, откуда вдруг взялась эта красавица?
— Секрет очень прост, господа, — ликовал профессор. — Под крышкой табакерки спрятана белая фигурка богини Венеры из слоновой кости. Мокрая крышка становится прозрачной… Я вам расскажу ещё много интересного о янтаре…
— Мы должны торопиться, профессор, — посмотрев на часы, спохватился эсэсовец. — Секретные дела вершатся ночью. — Он встал, подтянул штаны, поправил сбившийся на толстом животе китель и шагнул к выходу. — Меня беспокоит тишина на фронте. — Он открыл дверь, обернулся. — Враг притаился, нужно ждать сюрпризов. Может статься, вашу замечательную коллекцию развеет в прах авиабомба русских.
На этот раз профессор не стал возражать. Он молча надел пальто, шляпу, взял под руку Эрнста Фрикке и направился за гестаповцем. Мелькнуло: не поручить ли племяннику замуровать стену, но он тут же отбросил эту мысль. Нет, не настолько он доверял Эрнсту.
— Ты будешь ждать меня дома, — шепнул он ему, — я скоро освобожусь. Успокой тётю Эльзу, слышишь. Ты заметил, какие у него руки? Страшные кулаки с ободранной кожей на суставах пальцев. Наверно, этом хам бил в лицо человека…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПОВИНУЙТЕСЬ, СКРЕЖЕЩИТЕ ЗУБАМИ, НО ПОВИНУЙТЕСЬ
Во дворе замка было темно. Над головой — звёздное небо. На нем вспыхивали малиновые отблески далёких артиллерийских залпов, загорались и гасли голубоватые лучи прожекторов.
Впереди, твёрдо вышагивая по стёртым, камням, выступал штурмбанфюрер. За ним, сутулясь и немного прихрамывая, следовал профессор Хемпель.
Они шли вдоль средневекового крыла замка с деревянной галереей на толстых дубовых стойках. С этой галереи когда-то знатные гости любовались рыцарскими турнирами.
На том самом месте, где, по преданию, находился раньше застенок, один предприимчивый делец открыл винную лавку, а позже ресторан и назвал его «Кровавый суд». А ещё ниже этажом, в сырых подземельях, хранились винные запасы. В последние дни войны в ресторане обосновался штаб кенигсбергского фольксштурма.
Темно. Маскировочная лампочка — крохотная синяя точка — указывает вход в штаб. Ни огонька, ни полоски света в окнах…
…В большой продолговатой комнате было трудно дышать: сизые облака тяжёлого табачного дыма застилали глаза. Вошедших оглушил шумный разговор.
Шумели солдаты последней армии рейха. Это были пожилые люди — с больным сердцем, с камнями в почках, полуглухие, полуслепые, кое-как обмундированные, кое-как вооружённые, оторванные от привычной домашней обстановки. У некоторых на отвороте пиджака «бычий глаз» — значок члена национал-социалистской партии.
Дежурный офицер с повязкой на рукаве расположился у самых дверей за дубовым резным столом рыцарских времён и что-то надрывно кричал в трубку полевого телефона.
При появлении штурмбанфюрера разговоры стихли.
— Хал… тлер! — рявкнул эсэсовец, взбрасывая руку.
Послышалось разноголосье неразборчивых выкриков.
В дальнем углу, у оконной ниши толстый ополченец в очках, с офицерскими нашивками, держа в руках кенигсбергскую газету «Пройсшише цейтунг», медленно и внятно продолжал читать вслух:
— "…по приговору военного суда расстреляны за дезертирство рядовые Ганс Шульц, Роберт Носке, Иоганн Зимлих, Отто Глюке, Курт Мюллер…"
В былые времена профессор Хемпель с удовольствием заходил на часок-другой в этот подвальчик поболтать с приятелями. У него было любимое место в большом зале — отдельный столик справа от винных бочек. Огромные дубовые бочки с прусскими гербами были великолепны: их украшали изогнутые турьи рога и модели средневековых кораблей с распущенными парусами.
Профессор поднял глаза. Куда девались большие круглые люстры, похожие на герцогские короны! Из потолка торчали только ржавые держаки. От былого уюта и величия ресторанных апартаментов не осталось следа. Низкое, приземистое помещение со сводчатым потолком и грубым полом из широких досок, без мебели и украшений выглядело словно обшарпанная солдатская казарма.
У одной из стен громоздились тяжёлые ящики, сбитые из толстых обструганных досок. На ящиках сидели и полулежали ополченцы. Многие дремали, некоторые играли в кости и в карты.
— Эти? — кивнув на ящики, спросил эсэсовец, бросив взгляд на Хемпеля.
— Да, да, — заторопился профессор. — Эти, с зеленой буквой "М".
Штурмбанфюрер принялся рассматривать ящики. Только сейчас профессор заметил, что левое веко у штурмбанфюрера неподвижно. Оно закрывало ровно половину глаза. И когда эсэсовец хотел что-нибудь получше рассмотреть, он шевелил бровями, морщил лоб, стараясь приподнять веко.
— Что это? — спросил он, ткнув пальцем в наклейку из плотной бумаги на одном из ящиков.
— Это… это… — замялся профессор.
Заметив его смущение, эсэсовец рассвирепел:
— Написано по-русски! Что означает надпись?
— "Внимание!!! Здесь заключены большие исторические ценности, — взглянув в записную книжку, перевёл доктор Хемпель. — Вскрывать только в присутствии офицеров культработы".
— Что? — лицо штурмбанфюрера побагровело. — Куда вы хотели отправить эти ящики? Это предательство. Коммунистическая пропаганда. — Он быстро оглянулся по сторонам и понизил голос. — Если кто-нибудь из этих солдат умеет читать по-русски, то…
— Мне было так приказано, — перебил слегка побледневший профессор, — я должен был обеспечить сохранность этих ящиков при любых обстоятельствах.
— За эти штучки вы ответите головой. Кто мог отдавать такие приказы? — ледяным тоном спросил Эйхнер.
— Гаулейтер и президент Восточной Пруссии Эрих Кох, — громко и зло ответил профессор. — Бумага с приказом у меня в кармане.
— Приказ Коха? Невероятно, — эсэсовец медленно повёл по сторонам водянистыми глазами. — Вон отсюда! — заревел он на ухмыляющихся солдат. — Разлеглись, как на собственных постелях, вам не хватает только баб, скоты эдакие. Господин фон Минквитц, — бросил он подошедшему офицеру, — прикажите дежурному взводу немедленно грузить ящики. Машины стоят во дворе. А с вами, доктор, мы поговорим после.
* * *
Грузовики, миновав две-три улицы, въехали во двор трехэтажного дома с решётчатым железным забором и высокой черепичной крышей. У дверей, ведущих в подвальное помещение, в небрежной позе стоял вооружённый автоматом эсэсовец.
Совсем недавно подвал служил бомбоубежищем, и жильцы завалили его самыми прозаическими предметами домашнего обихода. Рядом с раскладной койкой — роскошное кресло, диваны, поломанные стулья, обитые бархатом или атласом кушетки. По стенам — какие-то сундуки и ящики с висячими замками. Под потолком — тусклая, пыльная электрическая лампочка.
Несколько человек с серыми, измождёнными лицами спали, прижавшись друг к другу, прямо на цементном полу. Сквозь дыры в лохмотьях проглядывала пожелтевшая кожа. Ноги у всех босые; десять пар деревянной обуви аккуратно поставлены к стене.
В креслах и на кушетках расположились эсэсовцы. Дежурный ротенфюрер, прижав автомат к груди, сладко похрапывал, облокотившись о спинку дивана.
— Транспорт прибыл, выводите пленных! — приказал Эйхнер заспавшемуся, с опухшими глазами офицеру. — Вход в бункер здесь. Надеюсь, вы не забыли, профессор? — И штурмбанфюрер откинул крышку люка. Ухватившись волосатыми руками за толстую скобу, Эйхнер, кряхтя, протиснулся в узкую горловину и стал спускаться, осторожно переставляя ноги по ступенькам железного трапа. За ним — Хемпель.
В нижнем этаже подземелья было светло и сухо. Стены и потолок бункера выбелены извёсткой. Десятка два ящиков с зеленой буквой "М", привезённые в прошлый раз, занимали немного места. В одной из стен виднелась клинкетная дверь под номером 29, выкрашенная темно-зеленой краской. Такие двери с резиновыми прокладками обычно ставят на водонепроницаемых переборках кораблей.
Хемпель отлично понимал, как велико значение экспонатов прусских музеев для немецкого народа, но страсть к янтарю брала верх. Хотел профессор этого или не хотел, а мысли по-прежнему возвращались к янтарному кабинету и любимой ящерице. Поэтому профессор лукавил, путал, менял надписи на ящиках, стараясь найти для своего янтаря самое безопасное хранилище. А самым безопасным, по его мнению, было то, о котором, кроме него, никто не знал. Но не удавалось профессору Хемпелю поступать так, как он хотел, кое-что из янтарных сокровищ пришлось перевезти сюда, в этот бункер.
Драгоценности, награбленные гаулейтером Кохом на Украине и Белоруссии, в эти дни перестали интересовать профессора. Может быть, бессознательно, но он отделил своё от чужого. А ведь Кох о своём добре беспокоился больше всего.
— Здесь вашему янтарю будет куда спокойнее, — нарушил молчание Эйхнер. — Даже если затопить кенигсбергские подземелья, этот бункер останется сухим.
— Не понимаю, для чего это делать, если решено не отдавать город русским? — огрызнулся профессор.
— А теперь, — продолжал эсэсовец, не обращая внимания на слова учёного, — подпишите эту бумагу. Вы подтверждаете, что в бункере, не опасаясь порчи, можно оставить на долговременное хранение ваше имущество.
Взглянув мельком на бумагу, профессор поправил очки, вынул ручку и размашисто вывел свою фамилию.
— Надеюсь, теперь я вам больше не нужен, штурмбанфюрер? — спросил он сухо. — Я хочу отдохнуть хоть остаток ночи.
Эсэсовец, сморщив лоб, посмотрел на подпись.
— Боюсь, вам не придётся сегодня как следует выспаться, профессор. Остались ещё кое-какие формальности. Мы их закончим после погрузки. Берегитесь! — эсэсовец бесцеремонно оттащил учёного за рукав. Сверху на верёвке, пропущенной через блок, плавно шёл большой ящик с зеленой буквой "М". Трое пленных, стуча деревянными подошвами, проворно спустились в бункер и оттащили груз в сторону.
Только после того как в подземелье был опущен последний ящик, профессор вместе со всеми поднялся наверх.
Двое пленных посадили на болты железную крышку люка, крепко зажали её гайками и залили бетоном.
— Молодцы, ребята, — похвалил штурмбанфюрер, взглянув на их работу. — Неплохо. Без подробного плана никому не найти нашу горловину. Я попрошу дать вам трое суток на отдых. — Он с добродушным видом вынул из кармана начатую пачку сигарет «Юнона» и бросил пленным. Один из них, маленький и юркий, поймал сигареты на лету и передал товарищу с бледным спокойным лицом, а тот, видимо старший, роздал всем по одной, остальные спрятал в карман.
Пленные закурили, их исхудалые, с запавшими глазами лица немного повеселели.
— Готово? — отведя в сторону подошедшего лейтенанта, тихо спросил эсэсовец.
— Так точно, все сделано по вашему приказанию.
Штурмбанфюрер посмотрел на часы.
— Сейчас ровно четыре. В четыре пятнадцать прибор должен сработать. За пять минут караульные закрывают дверь в подвал и уходят. Меня найдёте в пункте "А". Все ясно?
— Вы не сказали, куда доставить пленных.
— Пленные?! Они останутся здесь, — эсэсовец особым образом щёлкнул пальцами. — О них позаботится всевышний. Профессор, прошу вас, поехали.
…Улицы заснувшего города безмолвствовали. В темноте белели отметины на стволах деревьев, белела непрерывная полоса вдоль кромки панелей. Гигантские белые стрелы на стенах многих домов указывали на двери бомбоубежищ.
Проехав два-три квартала, штурмбанфюрер Эйхнер свернул под арку большого дома и остановил машину. Отдуваясь, он протащил сквозь узкие дверцы своё массивное тело, оправил складки кителя и, склонив набок голову, снова бросил взгляд на часы.
— Долго ещё мне торчать в этой подворотне? — вылезая из машины, с ненавистью спросил Хемпель.
— Придётся потерпеть, профессор, кстати, осталось совсем немного, — отозвался Эйхнер, не обращая внимания на гнев старика. Наморщив лоб, он опять взглянул на часы.
Небо посветлело, предвещая наступление хмурого утра. В предрассветной мгле выступили чёрные ветви деревьев. Грохоча, по булыжникам промчались грузовые машины, те, что перевозили ящики из замка. Профессор их сразу узнал. Они были окрашены в какой-то необычный цвет: не то кирпичный, не то оранжевый. На бледном небе вспыхивали едва заметными зарницами далёкие артиллерийские выстрелы. Стуча подковами сапог, пригнувшись, словно спасаясь от обстрела, куда-то пробежали эсэсовцы, охранявшие бункер; за ними, смешно выбрасывая ноги, бежал худосочный белобрысый лейтенант.
Штурмбанфюрер, утерев пот со лба грязным носовым платком, влез в машину и нажал на стартер. Мотор завёлся сразу.
— Садитесь, сейчас поедем, — Эйхнер с трудом повернул голову на толстой шее.
Профессор шагнул к машине. В это мгновение сильный взрыв потряс воздух.
— Боже мой, что это? — воскликнул он, взглянув на штурмбанфюрера.
— Да садитесь же, мы сейчас увидим, куда попали русские бомбы.
Машина вылетела из-под арки и, стреляя клубами дыма, помчалась по улице. Там, где только что стоял трехэтажный дом, дымилась груда развалин.
— Мой янтарь!!! — крикнул профессор, почти теряя сознание.
Доносились стоны раненых. По улице метались полураздетые люди. Толпа становилась все больше, голосистей. Отчаянно кричала молодая женщина, потерявшая дочь.
На развалинах появились сонные горожане с лопатами, ломами, кирками. Запыхавшись, прибежали дежурные противовоздушной обороны с сине-белыми повязками. Словно из-под земли, возникли люди в полувоенной форме с фашистскими значками — квартальные вожди, вожди ячеек, уполномоченные домов, надзиратели бомбоубежищ с голубыми нарукавными знаками, женские руководительницы и прочая мелочь, доносчики и подхалимы национал-социалистской партии. Вожди немедленно принялись наводить порядок.
— В убежище, все в убежище, выполняйте приказ! — кричали они на разные голоса.
— Идти в бомбоубежище, герр Хокман? Почему? Ведь по радио не объявляли тревогу. А я должна обязательно выспаться, не вы же будете за меня весь день делать фаустпатроны на заводе. Что вы на это скажете, герр Хокман? — высокая молодая женщина, подбоченясь, смотрела на тщедушного домового уполномоченного в огромном стальном шлеме.
Герр Хокман поднял на небо выпуклые глаза.
— Когда люди в убежище — больше порядка. Приказ есть приказ Мы заботимся о вашей безопасности.
— Спасибо за такие заботы, господин нацист. Вернули бы лучше наших мужей…
— На что вы намекаете, фрау Ретгер?
— На войну.
— Осторожнее. Я могу донести на вас куда следует, фрау Ретгер.
Женщина с ненавистью посмотрела на уполномоченного и, не сказав больше ни слова, отошла прочь.
— В самом деле, штурмбанфюрер, тревоги не было, — опомнился профессор, услышав слова женщины. — Что же произошло, столько жертв. Ведь в доме погибли все жильцы. А мой янтарь?
— Теперь-то ваш янтарь в сохранности. По счастливой случайности какой-то Иван угодил из пушки прямо в этот дом, — с явной насмешкой ответил эсэсовец.
Страшная догадка опалила сознание профессора.
— Это вы взорвали… вы, негодяй! — профессор открыл было дверцу, пытаясь выйти. — А я-то… Боже мой, все вы…
— Вы с ума сошли, — грубо отбросив Хемпеля на сиденье и захлопнув дверцу, сказал Эйхнер.
Машина рванулась.
— Нет, это вы сошли с ума! — кричал профессор. — Я немедленно сообщу обо всем моему другу крейслейтеру Вагнеру. Я вам не русский военнопленный. Я чистокровный немец, член национал-социалистской партии. Остановитесь! Я требую. Я должен сказать жене… — Доктор как-то сразу обмяк и схватился за сердце.
Сначала Эйхнер хотел покончить с надоедливым учёным привычным способом: удар кулака — и жертва затихает. Это первое, что пришло ему в голову, раздумывать, казалось, было нечего. Но имя Вагнера заставило насторожиться. Эйхнер искоса посмотрел на побледневшее лицо Хемпеля. Собственно говоря, никто не приказывал ему расправляться с этим стариком профессором. Напротив, Эйхнер получил совершенно ясное предписание: закончить акцию «Янтарь» и посадить профессора на одно из судов, уходивших на запад. Может быть, даже на подводную лодку. Но как быть с его женой? Никаких указаний насчёт жены профессора Эйхнер не получил.
— Какая блоха вас укусила, профессор? Вы волнуетесь из-за пустяков, в вашем возрасте надо беречь здоровье, — с трудом выдавил штурмбанфюрер. — Ровно через пять минут я позвоню своему начальнику. И все будет ясно. Я выполнял приказ, это надо понять, — закончил он примирительно.
— Надо думать, даже когда выполняешь приказы. Вы законченный идиот!
Эйхнер не счёл нужным обижаться. Затормозив у подъезда невзрачного домика, он вежливо помог профессору выйти из машины.
В небольшой душной комнате за обшарпанными канцелярскими столами сидели эсэсовские унтер-офицеры. Вытертый плюшевый диван, такое же кресло и четыре стула с резными спинками… На стенах, оклеенных грязными обоями, украшенные дубовыми листьями портреты Гитлера и Гинденбурга. Напротив висела засиженная мухами карта военных действий. Кое-где на ней ещё торчали флажки и булавки с разноцветными головками. После январского прорыва русских эсэсовское начальство запретило отмечать попятное движение немецких войск.
— Хай… тлер! — несколько более вяло, чем обычно, пролаял Эйхнер, появляясь в дверях.
Офицеры разом вскочили с мест, отвечая на стандартное приветствие.
— Звонили мне? — спросил Эйхнер.
— Несколько раз, штурмбанфюрер. Приказано немедленно доложить о прибытии на пункт, — одновременно ответили унтер-офицеры, словно вперёдсмотрящие на паруснике в доброе старое время.
Эйхнер снял трубку и, наморщив лоб, стал набирать номер.
— Докладывает штурмбанфюрер Эйхнер. Все исполнено, — он покосился на профессора, — согласно приказу акция «Янтарь» окончена. Входы замаскированы, много жертв от действий противника. — Эйхнер умолк и стал сосредоточенно слушать… — Да… да, благодарю вас. Лейтенанта с командой на передовую? Ясно. Профессор Хемпель находится здесь… так точно. Он требует немедленно отпустить его домой. Что? Да, у него жена. Но, но… Выполняю. — Штурмбанфюрер бережно положил трубку на замызганный чёрный аппарат и обернулся к доктору Хемпелю: — Почему вы стоите, профессор? Садитесь.
Запоздавшая вежливость не произвела никакого впечатления на учёного, он не пошевелился.
— Вот что, дорогой профессор, произошло недоразумение, — очень вежливо произнёс эсэсовец. — Идите домой, вы свободны. Ровно в одиннадцать за вами придёт серая машина «оппель-капитан», номер восемнадцать-двадцать. Мы поможем вам и вашей жене эвакуироваться из города.
— Но я не просил об этом… я не собирался эвакуироваться! — возмутился Хемпель.
— Приказ есть приказ, профессор, — развёл руками эсэсовец. — Курт, — сказал он, помедлив, — проводи профессора домой…
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ БЕЗ ОДНОЙ МИНУТЫ ДВЕНАДЦАТЬ
Совещание при новом главнокомандующем окончилось около полуночи.
Генерал Мюллер горячо выступал перед старшими офицерами гарнизона. Он убеждал верить в победу, требовал самопожертвования, твёрдости духа, призывал дать сокрушительный отпор врагу.
— Отсюда, из Кенигсберга, — утверждал он, — начнётся новое большое наступление, которое выметет русских из Восточной Пруссии подобно штормовому ветру…
Речь его закончилась привычным славословием в честь фюрера.
Командиры дивизий: генерал-лейтенант Герман Ганле, генерал-лейтенант Шперль, начальник штаба крепости, командующий крепостной артиллерией полковник Вольф и другие штаб-офицеры — вместе покинули прокуренное бомбоубежище полковника Фелькера. Большинство из них промолчало все совещание. Хорошего по нынешним временам мало, а о плохом говорить не полагалось. «Молчание — золото» — было девизом офицеров вермахта.
Обособленной группой, громко рассуждая, ушли представители национал-социалистской партии во главе с заместителем гаулейтера Фердинандом Гроссхером. Эти, как всегда, расхваливали на все лады обстановку на фронте и мудрые деяния фюрера.
Денщик унёс переполненные окурками пепельницы. Смахнул со стола мусор, обрывки бумаг, убрал пустые бутылки из-под пива. Свернул трубочкой наклеенный на коленкор подробный план Кенигсберга.
Совещались в подвале университета, на командном пункте шестьдесят девятой пехотной дивизии. Здесь было удобнее, а главное — просторнее, чем в подземелье коменданта крепости.
Главнокомандующий генерал Мюллер и комендант крепости генерал Ляш, оба кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами, покинули университетский подвал позже всех. На площади их встретил тревожный шум войны. Где-то настойчиво, через ровные промежутки, бухала пушка, рвались мины, стучал пулемёт. Фронт был рядом, на окраинах города.
Генерал Мюллер давно не был в Кенигсберге. Как все изменилось! Сгорел оперный театр. Изрядно повреждён новый университет; война по-своему его приспособила — на каменных статуях-аллегориях, изображающих различные науки, висят провода штабной радиостанции, а в подвалах разместился дивизионный штаб. Похожие на овощехранилища, тянулись через площадь огромные солдатские бомбоубежища. Между ними восседал на бронзовом коне Фридрих Вильгельм Третий. Вокруг плотное кольцо полуразрушенных кирпичных зданий с выбитыми окнами. На площади вместо веселящейся, изысканной публики около развалин уныло бродили солдаты в длинных дождевых плащах. Кое-где торчали грустные мокрые деревья. Только что небо было ясным — и вот туман. Тяжёлые, низкие тучи медленно проползали над развалинами. Тучи шли от моря, высеивая на город мелкий нудный дождь.
— Вам не напоминают мертвецов эти дома, дорогой генерал? — спросил Мюллер. — Если смотреть отсюда на город, он кажется кладбищем. Городом мёртвых. Помпея, ни дать ни взять.
— Нет, мне не кажется, — вежливо и холодно возразил Ляш.
Генерал Мюллер проследил взглядом за группой нацистских чиновников. Они скрылись в убежище под развалинами областного управления национал-социалистов.
Искоса взглянув на прямую, будто негнущуюся фигуру Ляша, Мюллер сказал:
— Я хочу с вами поговорить, дорогой генерал… Разговор серьёзный, без свидетелей.
— Прошу вас ко мне, — Ляш любезно поклонился.
Около памятника Эммануилу Канту они протиснулись в узкую дверь бетонированного укрытия и стали спускаться вниз. На десятой ступени — площадка, на двадцатой — ещё площадка и железная дверь в подземные владения генерала Ляша. У входа вытянулся часовой.
Синий мертвенно-бледный свет. По обеим сторонам длинного коридора с голыми бетонными стенами расположились небольшие одинаковые комнаты для офицеров штаба. У кабинета Ляша их встретили начальник штаба полковник барон фон Зюскинд и дежурный офицер.
Мюллер уселся в уютное комендантское кресло. На маленьком столике появились горячий кофейник, покрытый попонкой из цветной шерстяной ткани, две чашки, пузатая бутылка ликёра, рюмки.
Гул войны не проникал в подземелье: было тихо. Вернее, в подземелье царили совсем другие шумы. Звонили телефоны, пели умформеры радиостанции. Однообразно и глухо ворчали вентиляторы. Совсем по-домашнему в уборной журчала вода.
Главнокомандующий продолжал молчать, рассматривая оттопыренный мизинец левой руки.
Отто Ляш не хотел первым начинать разговор. Он был рад минутной передышке — сказывалась усталость последних дней. Опустив изрядно облысевшую голову, он красным карандашом выводил узоры на листке бумаги.
— Я очень сожалею, дорогой генерал, — наконец подал голос Мюллер, — но я должен вам объявить прискорбную новость. Вы будете смещены.
Отто Ляш приподнял голову. На его бледном одутловатом лице ничего не дрогнуло. Большие, немного навыкате глаза смотрели спокойно.
— Гм… да, вам придётся оставить должность коменданта Кенигсбергской крепости. Собственно, для вас это не должно быть неожиданностью. Человек, потерявший веру, ну как бы выразиться, — генерал запнулся… — в надёжность обороны крепости, не может оставаться её комендантом. Вы это понимаете, конечно!
— Понимаю, господин генерал, — бесцветным голосом отозвался Ляш.
— А кроме того, вы осложнили службу, гм… недоразумениями с гаулейтером Кохом. Вы забыли — он имеет большое влияние на фюрера, — тоном дружеского выговора внушал главнокомандующий. — Шутка ли, имперский комиссар обороны. Скажу открыто, это грозит вам очень серьёзными последствиями. Осторожность — важнейшая добродетель в наше время.
Генерал Мюллер замолчал. Вздохнув, он взял рюмку ликёру, посмотрел зеленую жидкость на свет и, смакуя, выпил. Отхлебнул кофе.
Настольная лампа освещала мягким светом лицо главнокомандующего. Короткая стрижка, несомненно, молодила его, но мешки под глазами и чуть заметные морщинки выдавали возраст: пятьдесят два года. Нос у генерала прямой, губы капризные, с опущенными уголками.
Недавно Мюллер получил новую награду: как же, благополучно избежал полного разгрома в Хельсенсбергском котле, вывел из окружения остатки своих войск. Генерал всегда старательно выполнял все приказы фюрера, умел смотреть на все сквозь розовые очки, при этих качествах не только победы, но зачастую и поражения вознаграждались. Мундир главнокомандующего был новенький, с иголочки. Блестели генеральское серебро, пуговицы, лаковые голенища сапог. Мюллер благоухал хорошим табаком, тонкими духами и казался только что вымытым и накрахмаленным.
Генерал Ляш, несомненно, проигрывал рядом с Мюллером. Он был каким-то тусклым, будничным в мундире с потёртыми рукавами…
— Я не знаю, по правде говоря, как обосновать вашу отставку. Отзывы начальников самые хорошие, — начал Мюллер после небольшого молчания. — Считаю, что вы, как бы выразиться, вполне соответствуете своей должности… Я доложу о вас лично фюреру, — подсластил он пилюлю, — пожалуй, это будет правильно. Пусть фюрер сам распорядится.
— Я доволен вашим решением, — устало вымолвил Ляш. — Я действительно не вижу, чем и как оборонять крепость от русских. Защищать Кенигсберг против такой силищи все равно что пытаться из ночного горшка, простите генерал, затушить пожар в доме. Да и вечные столкновения с гаулейтером и его людьми делают службу просто невыносимой. Продолжать борьбу на два фронта, пожалуй, бесполезно.
Генерал Ляш залпом выпил кофе. Вынул из ящика пачку сигарет и с жадностью закурил.
— Только вчера, господин генерал, я беседовал об этом с гаулейтером, — выдохнув табачный дым, продолжал комендант. — Он заявил мне так: «Несмотря на трудности, Кенигсберг надо удержать во что бы то ни стало. Это личный приказ Гитлера». Тогда я решил объясниться начистоту, — Ляш выпрямился и в упор посмотрел на собеседника. — Оборона Кенигсберга и оставшихся в наших руках клочков прусской земли, — сказал я, — бессмысленна. Русский фронт находится на Одере. Другими словами…
— Так вести себя с гаулейтером? — всполошился главнокомандующий. Он бросил быстрый взгляд на телефон и стены комнаты. — Это сумасшествие! — понизил он голос. — Фюрер верит каждому его слову.
— Для меня существует прежде всего Германия, — отрезал генерал Ляш. — Ради неё я буду говорить правду всем, кому сочту необходимым. — Он сидел строгий и прямой. — Но послушайте, что мне ответил гаулейтер: «Ход событий уже нельзя понять с помощью разума, надо полагаться только на веру». Чепуха какая-то, мистика! Мне, боевому генералу, приказывают верить в чудо, — лицо коменданта покрылось красными пятнами. — А я, знаете ли, в чудеса не верю.
— Неужели, дорогой генерал, — живо возразил Мюллер, — вы не усвоили простую истину: если наш обожаемый фюрер приказывает защищать Кенигсберг, значит мы при любых обстоятельствах должны его защищать. Если фюрер говорит: «надейтесь на чудо», значит надо надеяться. Хайль Гитлер… — повысил он голос. — У вас сто тридцать тысяч солдат и офицеров, по нынешним временам это армия. Ваш пессимизм непонятен.
Комендант с удивлением посмотрел на генерала Мюллера.
…В одной из секретных комнат бомбоубежища на другом конце площади двое молодых людей в форме СС подслушивали генеральский разговор.
— Ты только подумай, Вильгельм, до чего может договориться господин комендант. Ему не нужна Пруссия, он хочет отдать Кенигсберг русским. Как ты смотришь на этого пораженца? — спрашивал худосочный эсэсовец с острым кадыком. — За такие слова ставят к стенке. Не правда ли?
Он сидел перед репродуктором с карандашом в руках и старался записывать в книгу дежурного все, что слышал.
Старший из юнцов, награждённый крестом «За военные заслуги», с фельдфебельскими нашивками и наголо обритой головой, подкрутил ручку регулятора, усиливая звук.
— …В январе, в самое тяжёлое время, когда русские взломали нашу оборону, ваш сверхчрезвычайноуполномоченный Кох оставил Кенигсберг. По существу, он убежал, — очень громко доносился из репродуктора голос Ляша.
— Прошу вас, генерал…
— Это главнокомандующий Мюллер, — шепнул фельдфебель, — бормочет, точно спросонок.
Микрофон в комнате Ляша регистрировал самые незначительные звуки. Молодым людям было слышно, как звякнула кофейная чашка о блюдечко, заскрипел стул. Назойливо лезло в уши чёткое тиканье настенных часов.
— Гаулейтер Кох в такой момент, я полагаю, должен был находиться в Кенигсберге, — повторил Ляш, — а не проводить время в имении Нойтиф…
— Ах, генерал, оставьте, пожалуйста. Имперский комиссар обороны, как бы это выразиться, волен находиться там, где он считает нужным, — поспешил вступиться Мюллер. — Я убеждаюсь, вы несправедливы к гаулейтеру.
— Вместе с гаулейтером бежали деятели национал-социалистской партии, — неумолимо продолжал генерал Ляш. — Остались крейслейтер Вагнер и обер-бургомистр Хельмут Билль. В городе творилось что-то ужасное… Пропаганда Геббельса сыграла злую шутку с народом. Я всегда утверждал: нет болезни тяжелее глупости… Немцы не ждали врага у себя дома. Бегство на запад было повальным, будто прорвало плотину. Обезумевшие от страха люди бросались на тонкий лёд залива… Я не могу без содрогания вспомнить об этой ледяной трагедии. Сколько погибло народу, знает один бог.
Слышно было, как комендант тяжело вздохнул, как чиркнула спичка. Задребезжала ложка о блюдечко.
— Пиши, Ганс, — шипел фельдфебель, стараясь как можно ближе придвинуть своё ухо к репродуктору. — Нельзя пропустить ни одного слова. Это настоящая измена… Проклятье! — Второпях вместе с прилипшей сигаретой он сорвал кожу с губы.
— Гм-гм… до нас доходили слухи, но я никогда не думал, что все зашло так далеко, — звучал в репродукторе ленивый голос Мюллера. — Мне кажется, дорогой генерал, вы сгущаете краски.
Звонко ударили часы. Два часа ночи. Собеседники умолкли. Послышались шаги — кто-то вошёл, попросил разрешения доложить обстановку на позициях.
…Дежурный офицер подал Ляшу стопку депеш. Зашелестели бумаги. Комендант мельком провёл глазами по строчкам и отложил документы в сторону. Их содержание так и не дошло до сознания генерала.
— Надеюсь, ничего серьёзного? — спросил главнокомандующий.
Мюллер сам не надеялся на победу, но всем говорил другое. Так поступали все, кто его окружал. Говорили одно, делали другое, думали третье. Кому можно верить, пойди разберись; чем хуже шли дела, тем больше твердили о победе. Приходилось немало шевелить мозгами, прикидывая, как уцелеть в этой кутерьме.
— Так точно, господин генерал, — ответил Ляш, — в сводках все по-прежнему. — Незаметно взглянув на фотографию красивой женщины, стоявшую на столе, он задумался, поглаживая пальцами серебряные волосы на висках.
Замолчал и главнокомандующий. Его не интересовали излишне и даже, как он считал, вредные откровения генерала Ляша. Будущее Германии сейчас его почти не трогало. Другой вопрос — что думает о его преданности фюреру гаулейтер Кох. Вот об этом стоит побеспокоиться. Он угодливо нёс на вытянутых руках свою преданность. О-о, Мюллер был совсем не из тех людей, которые могли с риском для жизни указывать фюреру на его ошибки. Пускай это делают другие, те, кому не жаль своей головы. И он стал вспоминать о предложении знакомого фабриканта, сулившем большие выгоды. А дело совсем простое: на одном из военных транспортов вывезти в Данию какой-то ценный груз. Половину выручки в твёрдой валюте обещано ему. Он получит эти деньги, не пошевельнув даже пальцем. Генерал Мюллер улыбнулся. О-о, какой прекрасный подарок он сможет преподнести Мине. А девочка умеет благодарить…
От приятных размышлений его снова оторвал резкий голос коменданта Ляша. По-видимому, тот все ещё не потерял надежды убедить главнокомандующего в своей правоте. Но Мюллер упорно пропускал все мимо ушей…
В комнате бесшумно, словно привидение, появился начальник штаба, он наклонился к генералу Ляшу.
Выслушав его, комендант чуть повернул голову в сторону Мюллера.
— Простите, господин генерал, какой-то штурмбанфюрер требует пропустить его в бункер, хочет видеть вас. — Слова «какой-то штурмбанфюрер» Ляш произнёс небрежно, сквозь зубы. — Вы будете с ним разговаривать?
— Что-нибудь важное? Конечно, впустите его, — торопливо согласился генерал Мюллер.
Толстый эсэсовец с независимым видом переступил порог, заметив на стене портрет Гитлера, он сказал во весь голос:
— Хайль Гитлер! Я к вам, генерал Мюллер, — добавил он.
— Не кричите, господин майор, здесь не… казарма, — оборвал его генерал Ляш. — Напрасно разряжаете батарею. — Он кивнул на электрический фонарик, пристёгнутый к пуговице чёрной шинели.
Толстяк потушил фонарь.
— Я выполняю приказ… — с добродушным видом начал он снова.
— Кто вы такой, господин майор? — оборвал пришедшего комендант и нахмурил брови.
— Штурмбанфюрер Эйхнер, уполномоченный главного управления безопасности рейха. — Эсэсовец подтянулся и понизил голос.
— Ну вот, теперь по крайней мере ясно, кто вы, — заметил Ляш. Он отвернулся с безразличным видом и взял со стола синий томик Гёте.
— Я вас слушаю, дорогой штурмбанфюрер, — сказал генерал Мюллер почти ласково.
Он был недоволен поведением Ляша. «Зачем дразнить опасного зверя, — думал он, — несносный характер… Как это он до сих пор сохранил голову? Неужели слух о его близости с Гиммлером правда? А Гиммлер не любит Коха… Но тогда?!»
— Мне приказано эвакуировать из города важную персону, профессора… Вместе с женой, срочно. Сегодня ночью уходит на запад военный транспорт номер восемьдесят семь. На пропуске должна быть ваша подпись.
Штурмбанфюрер расстегнул шинель и выбросил на стол из бокового кармана мундира два прямоугольника плотной зеленой бумаги.
— Не возражаю, — сразу согласился Мюллер. Искоса взглянув на пропуска, подписал оба.
— Скажите откровенно, генерал, часто удаётся транспортам вырваться из опасной зоны и благополучно прибыть, например, в Киль или хотя бы в Копенгаген? — спросил эсэсовец.
Губы генерала Ляша тронула усмешка. Он перевернул страницу книги.
Мюллер выразил на лице скорбь и развёл руками.
— К сожалению, другого ничего предложить не могу. Простите за любопытство, штурмбанфюрер, кто этот профессор: крупный специалист? Наверно, военная промышленность?
— Нет, так, пустозвон, янтарные запонки, — ухмыльнулся Эйхнер. — Но сейчас он дорого стоит. Если профессор попадёт в руки русских, они смогут выжать из него несколько миллионов золотых марок… Я пойду, генерал, время не ждёт.
Эйхнер спрятал пропуска.
— Хай… тлер, — сказал он негромко и, оглянувшись на Ляша, добавил: — Желаю победы, генерал.
В комнате наступила тишина.
Мюллера снова одолевала зевота, клонило ко сну. Так бывало часто, когда он нервничал. Эта склонность появилась у генерала ещё в детстве. В птичнике отцовского поместья он испугался индюка. С этого и пошло. Лечился Мюллер долго и упорно, ездил на курорты. Однако болезнь почти не поддавалась лечению. Вот и сейчас генерал нервничал: с одной стороны, беспокоила возмутительная болтовня коменданта, с другой — страх, он боялся попасть в руки русских. Машина приедет за ним только в шесть часов, сам виноват, черт возьми, надо было уехать раньше. Гаулейтер предлагал ему место на самолёте, он отказался. Хотелось ещё раз показать свою преданность, готовность умереть за фюрера… А вдруг начнётся штурм и ему придётся погибнуть в этой норе? Однако он держался бодро. Никто не догадается, что под самоуверенной личиной скрывались тревога и страх.
Мюллер больше ни о чем не спрашивал коменданта Ляша. Гораздо спокойнее, когда этот тип молчит…
Профессор Хемпель! Генерал прихватил-таки краем глаза фамилию на пропуске. Несколько миллионов золотых марок!!! Ого, генерал Мюллер прикинул, как выглядят эти деньги в подвале прусского банка. Десятки аккуратных кожаных мешочков. Можно ни о чем не думать до конца дней. Обещанная ему половина выручки от продажи каких-то товаров в Копенгагене казалась ничтожной суммой. Профессор Хемпель? Где он слышал это имя? Обладатель миллионов. Однако, по правде сказать, он, Мюллер, не хотел бы очутиться на его месте. Хемпель, наверно, знает об этом золоте больше, чем должен знать благонамеренный немец. Опека гестапо не приведёт к добру.
— Скажите, генерал, — все-таки не выдержал Мюллер, — вы не знаете, откуда у этого профессора могут быть такие деньги?!
— Простите, господин командующий, я не совсем вас понял. Какие деньги?
— Миллионы золотых марок профессора Хемпеля. Я только что подписал пропуска… Альфред Хемпель, гм! — генерал Мюллер вспомнил: королевский замок, пустой зал…
— Миллионы профессора Хемпеля!.. Но ведь он всего лишь директор музея. Я слыхал о нем. С его именем связано всякое упоминание о янтаре в Кенигсберге, — откликнулся Ляш. — Деньги! Меня интересуют снаряды и танки, господин командующий.
— Кстати, как в крепости обстоит дело с боеприпасами, дорогой генерал? — переменил разговор Мюллер.
Сжав узкие надменные губы, Отто Ляш искоса взглянул на развалившегося в кресле начальника.
— Несмотря на большие трудности, нам удалось наладить производство снарядов и фаустпатронов, — пересилив себя, сказал Ляш.
— Вы и сейчас имеете эту возможность? — с живостью спросил главнокомандующий. Желая прогнать сон, он налил себе остатки остывшего кофе и с сожалением посмотрел на пустой кофейник.
— Гм… мы не останавливали производство, снарядов. Двадцатого февраля мы отбросили противника. Шоссе и железная дорога на Пиллау…
— Я не прочь выпить ещё кофе, генерал, — с раздражением перебил Мюллер. — Ваша информация меня заинтересовала. Раньше я не вникал в эти дела. — Стараясь проглотить зевок, главнокомандующий отвернулся и посмотрел на часы. — Ого! Шестой час.
Вошёл денщик.
— Как только мы очистили дорогу, в городе снова появились всякие уполномоченные, — упрямо продолжал гнуть своё Ляш. — Неразбериха началась снова. Пожалуйста, господин генерал. — Он взял из рук денщика сверкающий кофейник и передал Мюллеру. -
Партийные чины по приказанию Коха совали свой нос во все дырки. Приказы гаулейтера и более мелких особ часто противоречили моим приказам, — генерал Ляш поднял левую бровь. — Никто не знал: кому и кем надлежало командовать… Что вам угодно, Кребсбах? — обернулся он к дежурному офицеру, появившемуся на пороге.
Подтянутый капитан молча подал коменданту радиограмму.
— Что-нибудь случилось, дорогой генерал? — обеспокоенно спросил главнокомандующий.
— В районе Шарлотенбурга противник начал боевые действия. Русским удалось проникнуть за противотанковый вал. Силы сравнительно незначительные. — Ляш хладнокровно отложил в сторону донесение. — Извините, господин главнокомандующий, нас прервали. Так вот, гаулейтер Кох, несмотря на мои возражения, стал командовать фольксштурмом через своих заместителей, конечно, сам-то он по-прежнему сидел в Пиллау. «Я займу своими ополченцами тыловые рубежи обороны и буду стрелять по вашим отступающим солдатам». Это его слова! — генерал Ляш сжал губы.
Мюллер, не поднимая глаз, с наслаждением пил горячий кофе. Вдруг он поставил чашку на стол и растерянно взглянул на коменданта.
— А вы не считаете, генерал, что ночная атака русских, как бы это выразиться, проба перед штурмом?
— Нет, мне это не кажется… — думая о другом, ответил комендант. — Впрочем, может быть и так.
Он не мог сразу переключиться. Кенигсбергская неразбериха легла тяжёлым бременем на беспокойную генеральскую душу. Он должен был кому-то высказать все.
И, несмотря на неудовольствие главнокомандующего, генерал Ляш продолжал:
— Гаулейтер вытворял все, что хотел. На неотложные требования военных властей не обращалось внимания, а совершенно ненужные работы по его приказу выполнялись немедленно. Мне кажется, болезненно раздутое самолюбие этого человека подлежит лечению у психиатра.
— Я протестую, генерал! — вдруг взвизгнул Мюллер. — Это уж слишком, вы не смеете оскорблять…
— И заметьте, господин главнокомандующий, — продолжал комендант, не поднимая глаз. — Вагнер и его присные не могут до конца договориться с уполномоченным гаулейтера. Они грызутся между собой, да ещё как грызутся! А сверху господин Борман даёт свои указания…
Главнокомандующий недоумевал. «Чего этот неистовый комендант хочет добиться своей неприличной откровенностью? Неужели он думает, что я буду поддакивать? Или, может быть, заступлюсь за него перед гаулейтером. Какая наивность! Может быть, другое? — усиленно соображал Мюллер. — Вероятно, и эта беседа, как обычно, прослушивается гестапо. Так, может, комендант решил скомпрометировать меня перед гаулейтером? Да, да! Негодяй, он метит на моё место! Это несомненно! Ах, скорее, скорее из этой проклятой крепости! Ляш — провокатор… Ляш — предатель! Проклятье… Немедленно рассказать все гаулейтеру. Пусть он доложит фюреру».
Бледно-голубые глаза главнокомандующего уже не были сонными, в них метались злые огоньки.
…В потайной комнате у репродуктора молодые люди, боясь пропустить хотя бы слово, работали дружно.
— Этот генерал Ляш возомнил, что у него по крайней мере две головы, — потирая онемевшие пальцы, усмехнулся фельдфебель. — Он замахивается на всех, даже на самого Бормана, правую руку обожаемого фюрера. Такую сорную траву надо вырывать с корнем. Я думаю, завтра Отто Ляшу приготовят отдельную комнату в городе. — Фельдфебель подмигнул, растопырил пальцы и закрыл ими лицо, изображая тюремную решётку.
— Предательство, — торжествовал другой юнец. Руки его дрожали. — Я счастлив, ты увидишь, Вильгельм, нас обязательно повысят в должности. А может быть, я получу вот такую штучку, как у тебя, — он с вожделением притронулся к бронзовой медали на груди фельдфебеля.
В комнате коменданта крепости разговор продолжался. Сюда, в репродуктор, по-прежнему чётко доносилось каждое слово, сказанное на другом конце секретного провода.
ГЛАВА ПЯТАЯ ЗАПРЕТОВ НЕТ, ВСЕ ДОЗВОЛЕНО
Дом покачнулся, в комнате рядом зазвенело стекло, раздались испуганные женские голоса. С потолка посыпалась штукатурка, заклубилась белая пыль. Почти в то же мгновение взвыла сирена воздушной тревоги.
— Военный транспорт, на котором ты сможешь покинуть наш печальный город, дорогой Эрнст, отходит на этих днях, — не обращая внимания на взрывы и воздушную тревогу, продолжал профессор Хемпель. — Время не конкретно, но, к сожалению, точность покинула нас окончательно, как видишь, запаздывают даже сигналы тревоги… Может быть, отход засекречен?! Но так или иначе сегодня ты должен выехать в Пиллау…
Профессор, как обычно, сидел в своём кресле. От вчерашней растерянности не осталось и следа. Он щелчком сбил соринку с рукава и, поправив очки, вынул знакомый Эрнсту бумажник из крокодиловой кожи.
— Вот пропуск в порт, а вот документ на посадку. Транспорт номер восемьдесят семь. Я знаю, о чем ты думаешь, Эрнст, — улыбнулся профессор, — не беспокойся. Твой начальник все знает.
Начальник?! Фрикке представил себе скучное лицо с большим вислым носом, снова услышал поучающий голос: «Если бы ты знал, дорогой дядюшка, о чем я думаю, ты бы не был так спокоен». Но Фрикке ничего не сказал профессору Хемпелю.
Два мощных взрыва один за другим снова потрясли дом. Дверь в кабинет приоткрылась.
— Альфред, — раздался испуганный голос фрау Хемпель, — мы тебя ждём! Надо бежать в бомбоубежище, здесь оставаться опасно.
Профессор отмахнулся. Дверь тотчас закрылась. Голоса в соседней комнате стихли.
Фрикке покосился на дверь, но не шевельнулся. Он всегда был готов рискнуть, если это было необходимо, но никогда не пренебрегал осторожностью. Если бы не дядя, он, конечно, предпочёл бы спуститься в убежище.
А профессор словно не замечал ничего. Он насупил брови. Две глубокие морщины легли поперёк его лба. Наконец веки его дрогнули.
— Дорогой Эрнст, — сказал он, — теперь мы можем спокойно беседовать. Я имею в виду прежде всего то обстоятельство, что нас никто не подслушивает; все, кто занимается этим делом, весьма дорожат своей жизнью. Ну так вот, слушай. С семнадцати лет ты рос возле меня. Я помогал тебе, как родному сыну, искренне хотел сделать из тебя честного, порядочного человека. Я следил, как ты учился старался привить тебе любовь к солнечному камню. И по крайней мере в одном я не ошибся: ты знаешь и любишь янтарь.
С рёвом промчалось звено самолётов, едва не задевая крыши. Захлопали запоздалые, разрозненные выстрелы зениток.
— Ты хорошо знаешь мои убеждения, Эрнст. Я до конца предан нашему фюреру… Или, скажем, был предан, — переждав шум, добавил профессор. — Но фюрер смертен, а бессмертные творения человеческих рук должны жить вечно. Они должны приносить радость и счастье великой германской нации. В этом я вижу смысл своей жизни.
Профессор Хемпель встал, прошёлся по комнате.
Фрикке выжидательно молчал.
— Настало тяжёлое время, мой дорогой, — продолжал профессор. — В борьбе за жизнь, против страшного врага мы напрягаем последние силы, — он тяжело вздохнул, — но, как видно, нам не суждено победить. Но не только в этом трагедия, Эрнст. Германия не раз проигрывала войны и оставалась великой. Наша трагедия — алчность партийных вельмож, — подойдя к Фрикке и понизив голос, сказал он. — Не все, но, к сожалению, многие, Эрнст, ведут себя просто как мародёры. Эти подлецы протягивают руки даже к музейным ценностям! Кто знает, если бы не я, что стало бы с нашими сокровищами, Эрнст. — Хемпель сел, снова вскочил и опять принялся ходить по комнате. — Они бы, наверное, умудрились продать за бесценок американцам даже уникумы: величайший памятник искусства немецкого народа — янтарный кабинет…
— Но, дядя, ты сам говорил: янтарный кабинет принадлежит русским!
— Это ровно ничего не значит; теперь он принадлежит нам, принадлежит по праву сильного. — Почти выкрикнув эти слова, Хемпель остановился. То гнев, то грусть, то отчаяние отражались на его лице. — А собственно говоря, почему по праву сильного? — Он снова сел в кресло. — Откуда у немецкого народа право на особую роль? Так сказал фюрер?! Но разве это справедливо? Да, да, эта мысль только что пришла мне в голову, словно я спал много лет и теперь проснулся. Мне тоже нравилось быть немцем.
Хемпель закрыл глаза и устало откинулся на спинку кресла.
«Ну что он терзается? — подумал Эрнст, глядя на дядю. — И почему он решил, что я влюблён в этот жалкий янтарь?» Морщины и тёмные круги под глазами стали на лице профессора особенно заметными.
— В нашей трагедии виноваты мы, все немцы. — Он провёл по лбу длинными пальцами и строго взглянул на племянника. — Мы считали себя вправе деликатничать и закрывать глаза на некоторые, не совсем приличные с точки зрения порядочного человека действия наших вождей, направленные якобы на благо немецкой нации. Сначала это мало затрагивало истинных немцев и даже несколько льстило их самолюбию… И это сыграло свою роль, помогло разрушить границу между дозволенным и недозволенным. Но, закрыв однажды глаза на малое, мы вынуждены были потом закрывать их на все, положительно на все — так уступчивость переходит в низость, делается подлостью. И вот финал — мы у разбитого корыта. Что возьмёт молодёжь у нас, стариков? Какой опыт приобретёт она сама? Позор. Унижение. Растленная молодёжь, ненависть всех народов. — Профессор закрыл руками лицо.
— Но, дядя, война ещё не кончена! — воспользовался паузой Эрнст Фрикке. — И даже если русские победят, они долго не смогут воспользоваться плодами своей победы. Восстанет Пруссия. Вся Германия!.. Каждый немец превратится в волка-оборотня! Гаулейтер Кох вчера выступал по радио, он сказал…
— Знаю, что мог сказать Эрих Кох, этот грубиян и невежда, — прервал Эрнста профессор, — нет никаких оснований предполагать, будто сказанное им сбудется. Но перейдём к делу. Вот здесь, — он взял со стола плоский цинковый ящичек, — хранится опись, где спрятано и что спрятано. Ящик хорошо запаян, — продолжал он упавшим голосом, — его можно хранить даже в воде.
Профессор пристально посмотрел на племянника.
— Слушай внимательно, дорогой Эрнст. По указанию гаулейтера списки были составлены в одном экземпляре — только для имперской канцелярии. Но я в предвидении всяческих случайностей, — тут профессор тяжело вздохнул, — составил второй экземпляр, он в этом ящике, ты вручишь его моему другу… Эрнст, ты должен сохранить ящик… Если у тебя останется хоть капля крови, мой мальчик, — ласково, но твёрдо сказал он. — Кроме того, я вложил сюда список, у которого нет ни одной копии; там перечислены уникумы, не попавшие в бункер гестапо… Где они спрятаны, знаю только я. Настало время, когда все может случиться, — продолжал профессор. — В чьи руки попадут планы захоронения музейных сокровищ, отправленные в имперскую канцелярию? Как знать, может быть, они потеряются, исчезнут навсегда. — Вдохнув изрядный глоток едкого дыма из чёрной сигары, профессор закашлялся и долго молчал. — Прости меня, Эрнст, — спохватился он. — Я заставляю тебя ждать. Итак, кроме списков, я вложил в этот ящичек самые свои любимые янтарные камни с редчайшими включениями. Ты знаешь какие, — профессор улыбнулся и ласково провёл рукой по крышке металлического ящика. — Я решил доверить тебе, дорогой Эрнст, все, для чего жил, для чего продолжаю жить.
Только теперь профессор Хемпель посмотрел на часы и заторопился.
— Тебе пора, мой мальчик. Возьми немного денег, в дороге их всегда не хватает. — Он вынул из бумажника несколько банкнотов. — Желаю успеха, счастливого пути. — Профессор обнял племянника, слегка прикоснувшись сухими губами к его лбу.
* * *
В этом году Эрнсту Фрикке исполнилось двадцать восемь лет. Жизнь Эрнста была не из лёгких. Отец его Ганс Фрикке, галантерейщик, держал лавочку и жил если не богато, то безбедно. Когда сыну исполнилось три года, умерла жена, и с её смертью удача оставила Ганса. Он разорился и в том же году умер.
Малолетнего Эрнста взяла на воспитание сестра отца, Гертруда, жившая в то время в Мемеле. Она была замужем за литовцем Балисом Жемайтисом, мелким почтовым чиновником. Они жили безбедно, у них было двое детей — мальчик и девочка, и приютить осиротевшего племянника они сочли своим долгом. Четырнадцать лет Эрнст прожил в Мемеле, на литовском языке говорил преотлично, будто и родился литовцем. Научился он болтать и по-русски у своего приятеля по гимназии, сына русского офицера-белогвардейца.
Когда Фрикке окончил гимназию, им заинтересовался Альфред Хемпель — профессор Кенигсбергского университета. Жена профессора Эльза, урождённая Фрикке, была младшей сестрой Ганса Фрикке. Профессорская чета жила дружно, но детей у них не было.
Жарким летом племянник, вызванный телеграммой доктора Хемпеля, приехал в Кенигсберг. Он должен был поступать в университет — так требовал профессор, взявший все расходы на себя.
В это время коричневая зараза охватила Германию. В немецких городах гремели фашистские барабаны. Под их деревянную дробь и воинственные выкрики маршировали все, кому были по душе истерические вопли сумасшедшего фюрера. Одни хотели выслужиться, а иные боялись за свою жизнь. Честность, порядочность — все, что немецкий народ веками собирал и хранил как самое дорогое, было растоптано сапогом нацизма и заменено лицемерием и угодничеством.
Нацисты вдалбливали в головы немецких лавочников и чиновников учение Ницше о сверхчеловеке, и это принесло страшные плоды. Филистеры, возомнив себя полубогами, убивали, насиловали, грабили. Вожди белобрысых хищных зверей разрешали все. Развращая людей, нацизм готовил «избранный народ» владычествовать над миром рабов.
Эрнст Фрикке очень скоро во всем разобрался. Союз гитлеровской молодёжи, потом национал-социалистская партия должны были открыть ему дорогу в жизнь, обеспечить приличное существование.
Партийное обучение Эрнста Фрикке началось с еврейских погромов. Первой жертвой Фрикке и его сообщников был крупный фабрикант, один из самых богатых людей Кенигсберга, Исаак Бронштейн.
…В тот день Эрнст Фрикке вернулся домой в шикарном «мерседесе», принадлежавшем сыну фабриканта, кстати сказать — его университетскому товарищу. Дебютант был немного возбуждён и, несомненно, доволен.
— Это разбой, Эрнст, — профессор брезгливо поморщился. — Как ты мог принять в этом участие?
— Благодаря нашему фюреру, дядя, — спокойно ответил Эрнст. — Не вижу, чем тут брезговать, машина отличная… Да, я привёз тебе подарок, — вдруг вспомнил он и, развернув бумажный свёрток, извлёк великолепную янтарную фигурку старинной работы: Перун, божество язычников-пруссов. Он был вырезан из цельного куска цвета спелой вишни и весил почти три килограмма. Солнечные лучи, живые и весёлые, пройдя сквозь янтарь, окрашивались в кроваво-багряные цвета.
— Подарок, мне? Что же, благодарю. Ты купил его? — Хемпель не удержался, взял божка в руки и поглаживал янтарь длинными худыми пальцами.
— Это трофей, — бойко ответил Эрнст Фрикке, — взят в кабинете старого еврея, с каминной доски. Хозяин, видно, любил его, — он кивнул на фигуру в руках дяди, — брыкался, не хотел отдавать.
Профессору стало совершенно ясно, каким путём попал к племяннику янтарный бог, но Хемпель уже не мог расстаться с великолепным произведением древнего искусства.
— Почему ты сказал «любил»? Я надеюсь, старый Бронштейн жив? — Подойдя к окну, учёный рассматривал янтарь через большое увеличительное стекло.
— Представь себе, дядя, он оказался боек не по годам. Вздумал бежать… Мы все очень сожалели, конечно, но как поступить иначе? — Эрнст пожал плечами.
Случилось непонятное. Профессор Хемпель нервно стиснул уродливую голову янтарного божка, но от дальнейших вопросов воздержался. Эрнст ещё раз убедился, как сильна страсть старика к янтарю.
С тех пор прошло немало времени. Фрикке был неразборчив в средствах, без рассуждений шёл на любое задание, яростно ненавидел всех «неарийцев», а эти качества местные сверхчеловеки очень ценили. Многие даже удивлялись, почему Эрнст Фрикке при своих способностях продолжает работать скромным сотрудником музея.
На это были немаловажные причины.
Как-то раз в середине войны у профессора Хемпеля был в гостях его школьный приятель, один из влиятельных помощников гаулейтера. Эрнст немало позабавил его, показав фокус с яйцом — одну из старейших шпионских уловок, применявшуюся немцами ещё в прошлую войну. На скорлупе сырого яйца Эрнст, обмакнув перо в уксусную кислоту, написал два изречения из книги «Моя борьба». Когда «чернила» высохли, Эрнст сварил яйцо вкрутую и предложил осмотреть его: никаких следов на совершенно чистой скорлупе гость не заметил.
И надо было видеть восторг фашиста, когда он, очистив яйцо, обнаружил на крутом белке написанные коричневыми мелкими буквами афоризмы фюрера: «Война — это я», «Истина есть многократно повторенная ложь», и микроскопическую свастику.
Гость хохотал, тряс руку Эрнсту Фрикке, прочил ему блестящую карьеру в контрразведке. Через месяц Эрнст Фрикке был зачислен под строжайшим секретом в одну из специальных школ. После битвы на Волге гитлеровцы стали готовить кадры для подрывной работы в тылу противника. Отборочную комиссию Эрнст прошёл отлично. У него оказались все качества, необходимые для разведчика: стопроцентная арийская кровь, хорошая память, выдержка и наблюдательность, знание литовского и русского языков, умение владеть собой. Занимаясь в школе, он продолжал в целях конспирации оставаться скромным сотрудником музея.
Фрикке окончил школу и в 1944 году стал эсэсовским офицером. В то время Советская Армия наносила фашистам поражение за поражением. Гитлеровские войска стремительно откатывались на запад. Фрикке должен был остаться одним из волков-оборотней в Литве. Предложение дяди, поездка на запад — все изменили. Собственно, этой перемене Фрикке был рад. Он надеялся как-нибудь выкрутиться. Ему совсем не улыбалась перспектива скрываться в Литве под чужим именем и ждать чьих-то таинственных сигналов.
* * *
Длинную песчаную косу к западу от Земландского полуострова прорезает узкий Пиллауский пролив. В берега его крепко вцепились каменными дамбами и причальными стенками порт и крепость Пиллау. Город построен над бухтой в том месте, где, по преданиям, в далёкие времена стояло городище могущественного прусса Свайно. Отсюда пруссы ходили войной на рыцарей, засевших в Кенигсбергском замке.
Издревле эти места на песчаной косе были центром богатейшего янтарного промысла и рыболовства. Здесь орден Богородицы построил крепость Лохштадт. Город и порт Пиллау возникли позднее.
…Узкие морские ворота связывали окружённые Советской Армией гитлеровские войска с внешним миром. По ночам, прикрываясь темнотой, между низкими песчаными мысами проходили в порт и уходили на запад гружёные суда. Сюда, к морским воротам, стремились многие немцы, но только избранные получали билет на отходящее судно.
Небольшой буксирный пароход «Дайна», приписанный к Кенигсбергскому порту, около десяти часов утра вошёл в морской канал, направляясь в Пиллау.
Эрнст Фрикке примостился на самом носу буксира. Лёгкий туман не мешал видеть дамбу, отделявшую канал от Кенигсбергского залива. На дамбе между голыми деревьями виднелись стволы пушек, бродили солдаты в стальных касках и резиновых плащах. С правой, северной, стороны виднелся низкий берег с торчащим кое-где сухим прошлогодним камышом.
Свинцовая вода в канале казалась неподвижной.
— Цум Тейфель! Нам повезло, — обратился к Фрикке стоявший рядом с ним высокий, пышущий здоровьем, полный человек в штатском. — Если даже мы и дальше пойдём так же медленно, как сейчас, то все равно через два часа будем в Пиллау. — Он не мог скрыть радости. — Было бы обидно потерять жизнь в самом конце войны, пройдя столько испытаний, не правда ли, приятель?
— В каких войсках служили? — полюбопытствовал Фрикке. — По вашему виду — в танковых? И были серьёзно ранены?
Эрнст посмотрел на серое драповое пальто, отметил новую шляпу, дорогое шерстяное кашне в пёструю клетку.
— К сожалению, моя служба куда более тяжёлая, — вздохнул незнакомец, выплюнув изжёванный огрызок сигары прямо на палубу. — Ранений нет, но совершенно износились нервы.
— Где вы служили? — опять спросил Эрнст Фрикке. — Надеюсь, не секрет?
— Что мне скрывать! — отозвался здоровяк. — Работал в эсэсконцлагере Освенцим, потом в Штуттгофе. Давайте познакомимся: Карл Дучке. — Он протянул огромную руку с мягкими, толстыми пальцами.
Эрнст Фрикке назвал себя.
— Вот как, значит, мы оба штурмфюреры, очень приятно… Нас, эсэсовцев, часто недооценивают, дорогой коллега. Цум Тейфель. Все говорят о фронте, там герои. А если рассудить здраво, то истинные герои у нас. На фронте начальство заставит всякого сопляка быть храбрым. В конце концов это не трудно. А у нас? Не каждый сможет расстрелять безоружного человека, особенно если он вопит о пощаде. Посмотрел бы я, как фронтовой храбрец справится с женщинами, когда они прячут детей в своих юбках. На нашей работе старики часто не выдерживают, у них башка набита всякой ерундой. Им не понять, как легко на душе, если до конца поверить фюреру. Всякие дурацкие мысли не лезут тогда в голову. Получил приказ — и баста. Я давно считаю людьми только немцев. Все остальные — животные. И до чего понятно объяснил это дело какой-то партейгеноссе Фридрих Ницше. Интересно, в каком он чине? — с почтением спросил эсэсовец.
Эрнст Фрикке сдержал улыбку.
— Я убеждаюсь все больше и больше, — продолжал нацист, — только тот может оценить наш труд, кто посмотрит на горы трупов… нашу продукцию, так сказать Цум Тейфель. Великий фюрер приказал уничтожить миллионы и миллионы недочеловеков. Хайль! Тут нужны нервы, и крепкие нервы. — Он вздохнул и без приглашения запустил толстые пальцы в сигареты Фрикке.
— Я уверен, в конце концов государству удастся воспитать истинного немца. Он-то уж не будет сентиментальничать, как мы с тобой, — философствовал эсэсовец, следя за волной, бегущей по каналу. — А все же мы счастливчики: получить разрешение на выезд из Кенигсберга в такое время, скажем прямо, счастье! Наверно, твой ангел-хранитель весьма влиятелен в земных делах, а, приятель? У меня, я открою секрет, дружище, есть толковый родственничек. Пауль Даргель. — Он улыбнулся с чувством превосходства и посмотрел на Фрикке, желая узнать, какое впечатление произвело упоминание столь громкого имени. — Собственно говоря, коллега, я троюродный брат Маргариты Мальман, жены Пауля Даргеля.
Эрнст Фрикке с особым интересом посмотрел на собеседника. Он слышал скандальную историю, связанную с её именем. Пауль Даргель, ну конечно, тот самый, заместитель имперского комиссара обороны, бросил жену и сошёлся с Мальман. Сейчас Даргель отсиживался вместе с гаулейтером Кохом в поместье Нойтиф.
— Скажу по совести, коллега, любезная сестричка мне здорово помогла, — откровенничал эсэсовец. — В прошлом году меня перевели из Освенцима в Штуттгоф, поближе к ней. Когда и там стало неважно, я очутился в Кенигсберге, в канцелярии гестапо. Ну, а сейчас, как видишь, еду к заботливому родственничку в его резиденцию.
Карл Дучке вынул из бумажника фотографию полной блондинки с двумя мальчуганами.
— Жена и дети, — самодовольно объявил он. — Жене, несмотря на войну, удалось сохранить свой вес — восемьдесят килограммов. Цум Тейфель. Для молодой женщины неплохо, дорогой Эрнст, а? Как ты думаешь? Надеюсь в самом ближайшем будущем смыться на запад, — продолжал он, не ожидая ответа. — Учти, приятель, при нашем положении попасть в плен к американцам единственный выход, если хочешь остаться в живых.
Эсэсовец вдруг замолчал.
Эрнсту Фрикке показалось, будто с грохотом рушится тяжёлое балтийское небо. Потом он понял: на севере, за лесом, там, где проходила шоссейная дорога, загремели орудийные залпы. Вот тяжёлый снаряд, завывая, пролетел над буксирным пароходом, срезал верхушки двух деревьев на дамбе и упал в залив. Пенистый гигантский гейзер взметнулся к небу и бесшумно опал. Бесшумно — так казалось в грохоте артиллерийской канонады.
Два снаряда угодили прямо в канал. Волны яростно ударили в стенку дамбы. Буксир сильно тряхнуло.
Капитан, узколобый, со вдавленными висками, встал сам за руль. Он быстро поворачивал штурвал и, рискуя каждую минуту сесть на мель, непрерывно менял курсы.
«Для чего он это делает? — подумал Фрикке. — Ведь стреляют не в нас? Мы слишком маленькая цель в этой битве».
Та же мысль, вероятно, пришла в голову капитану. Во всяком случае, катер перестало бросать из стороны в сторону, и он пошёл, как прежде, посередине канала, хотя артиллерийская канонада продолжалась.
«Но где же… — Фрикке оглянулся, ища глазами нового знакомого. — Только что был здесь, рядом…»
Троюродный брат благородной Маргариты Мальман при первом разрыве снаряда, с непостижимым проворством упираясь толстыми пальцами в палубу, согнувшись, подобрался к открытому люку и словно провалился внутрь судна.
«Однако с таким развитым инстинктом самосохранения ему трудно пришлось бы на фронте!» — подумал Эрнст Фрикке.
Старенький пароходик, дробно разбивая винтом воду, уходил все дальше от опасного места. Он торопился. Тонкая труба выбрасывала кверху густые клубы дыма и пара. Из кочегарки доносились позвякивание лопат о железный настил, возбуждённые голоса.
Орудийная канонада не ослабевала.
Над Кенигсбергом нависло окровавленное пожарами небо, появились пышные чёрные султаны дыма. Город горел.
Справа показалось небольшое селение: кирха, причалы, облицованный камнями берег. Какое-то кирпичное большое сооружение на самом берегу. У одного из причалов горело пассажирское судёнышко. Команда тушила пожар из трех шлангов, сбивая пламя упругими водяными струями.
Проплывали бетонные площадки с сооружением для оградительных огней. Иногда капитан сбавлял ход и осторожно обходил торчащие из воды мачты и трубы.
На шоссейной дороге — а она шла тут у самого берега — как-то сразу появились набитые людьми автомашины. Подавая частые пронзительные сигналы, автомобили проносились на запад с предельной скоростью.
«Беженцы из Кенигсберга, — отметил Фрикке, следя глазами за вереницей машин. — Плохо дело».
Однако гул войны стихал, отдалялся. Пароходик уходил все дальше и дальше, унося Фрикке из опасной зоны.
"Простая случайность, — размышлял он не без радости. — А как хорошо получилось! Могло быть иначе… Если доберусь на запад, черта с два вам удастся выкурить меня оттуда.
Канал резко уклонялся к югу, обходя песчаный выступ. Слева высокий поросший лесом мыс резко оттенял очертания берега.
Фрикке хорошо знал этот лесистый мыс. На нем развалины орденского замка Бальги. И там же, среди деревьев, пряталось каменное здание школы. «Домик над морем», где он изучал секретные науки. Прислушиваясь к далёкому кенигсбергскому шквалу, Фрикке старался выбросить из головы все то, что его связывало с осаждённым городом.
Город Пиллау перед глазами Фрикке возник как-то сразу. У причала застыло несколько высокобортных пустых транспортов. На рейде виднелся низкий серый корпус сторожевого корабля. Около него суетились буксиры. Ещё дальше, из глубины порта, выглядывали мачты и трубы какого-то большого пассажирского судна. На вышке сигнального поста у входа в гавань трепетал на ветру сине-красный флажок.
Пройдя мимо высокой башни маяка, стоявшего у гостиницы «Золотой якорь», буксир вошёл в ковш и пришвартовался у каменной стенки. Как раз напротив оказался красочный плакат, призывающий горожан к защите своего города. Плакат был украшен гербом Пиллау: на щите — синее море и красное небо. По волнам плывёт серебристый осётр с короной на голове; сверху на щите — пять крепостных башен.
Неподалёку — железнодорожный вокзал. По сутолоке на перроне Фрикке догадался, что кенигсбергский поезд пришёл раньше расписания. На причал высыпали пассажиры с испуганными лицами.
На буксирном пароходике двое вооружённых до зубов гестаповцев начали проверку документов.
Артиллерийская канонада с востока теперь едва слышалась, это успокаивало Эрнста Фрикке. Ощущение безопасности расслабляло, обволакивало тело приятной истомой. Вдобавок свежий морской ветер разрывал и расталкивал тяжёлые тучи. Выглянуло солнце, показалось голубое небо. Но долго любоваться весенней картиной не пришлось. Неожиданно многочисленные репродукторы, охрипшие за время войны, возвестили очередную воздушную тревогу. Русские! Улицы сразу опустели.
Над притаившимся городом среди каменных зданий ещё долго бился тревожный голос сирены.
ГЛАВА ШЕСТАЯ КТО БЕЖИТ ПЕРВЫМ, КОГДА КОРАБЛЬ ТОНЕТ
Проводив племянника, профессор Хемпель сразу успокоился. Ему показалось, что чёрные тучи, собравшиеся в последние дни над его головой, рассеялись. Он попросил жену сварить кофе покрепче из последних зёрен, выпил две маленькие чашечки и откинулся на спинку кресла.
Сегодня утро какое-то особенное. На улицах по-настоящему запахло весной. Мокрый асфальт, блестящие камни мостовой. Кора деревьев тоже сырая, потемневшая. На тонких веточках повисли прозрачные, сверкающие капли. Медленно уходит в этом году зима. Ещё дышит холодом Балтийское море. Но почки на каштанах набухли.
Пользуясь затишьем, кенигсбержцы выползли на воздух из душных, отсыревших за зиму квартир.
Туман стал редеть. Казалось, вот-вот проглянет синее, весеннее небо.
— Альфред, — словно издалека услышал он голос жены. — Ну что ты сидишь! Я с ума сойду! Что нам брать с собою?
Слова фрау Эльзы вернули профессора в мир действительности. Да, он оставляет Кенигсберг. Вернее, его насильно эвакуируют по приказу свыше. Приказ есть приказ, но… эти «но» иногда разрушительно действуют на логику мышления.
Профессор снял очки и вынул замшевую тряпочку.
— Мы возьмём только самое необходимое, — сказал он, закончив протирать стекла очков, — то, что войдёт сюда, — он показал на небольшой фибровый чемодан.
Фрау Эльза, кивнув, с печальной улыбкой смотрела на мужа.
Вдруг профессору Хемпелю показалось, что дрогнула и качнулась земля. С грохотом разорвался воздух, как часто бывает в весенние грозы, после сильного разряда молнии. Мощный и несмолкаемый гул распластался над городом. Тревоги не объявляли. Профессор не мог понять, что происходит. Радио по-прежнему молчало… Зазвонил телефон. В трубке знакомый голос штурмбанфюрера Эйхнера:
— Русские начали обстрел наших укреплений. — Он закашлялся. — Наша поездка не отменяется. Через полчаса я буду у вас…
— Хорошо, — с раздражением проговорил профессор. — Я вас жду. — И бросил трубку.
…Грохот, заполнивший город, не ослабевал, он звучал все на одной и той же грозной ноте. Машина мчалась на запад. Перед глазами профессора Хемпеля проносились знакомые места: кварталы аристократического Амалиенау с роскошными особняками, парк, кладбище, полуразбитая кирха. На улицах пусто и глухо. Куда-то тянутся и тянутся чёрные телефонные провода. Приходится объезжать опрокинутые трамваи, обгоревшие грузовые машины, завалы из железных балок и кирпича.
К небольшому домику изнемогающие от усталости ополченцы подносили мешки с землёй, у амбразур устанавливали пушки и пулемёты, закладывали кирпичом окна нижнего этажа. Несколько санитарных машин с большими красными крестами стояли на тротуаре.
Все громче и явственней тяжёлый гул канонады…
Промелькнул посёлок Юдиттер с сохранившейся кирхой из красного кирпича. По сторонам шоссе — надолбы и противотанковые рвы, наполненные талым, грязным снегом.
На каждом перекрёстке стояли солдаты. У них нарукавные повязки со свастикой — это проверочные посты. Но машина штурмбанфюрера Эйхнера не вызывала у эсэсовцев подозрений, её не задерживали.
Профессор Хемпель знал, что немцам удалось прорвать брешь в кольце русских войск, окружавших город. Теперь к Пиллау, как в старые добрые времена, вели железная дорога, шоссе и морской канал.
Из осаждённого города катили в комфортабельных лимузинах «коричневые» отцы Кенигсберга, не забывшие захватить и своё имущество. «Оппель-капитан» штурмбанфюрера то и дело обгоняли громоздкие дымные машины-дизели. Груз во вместительных кузовах был аккуратно укутан брезентом и крепко перевязан верёвками.
Штурмбанфюрер с неодобрением поглядывал на грузовики и что-то неразборчиво ворчал про себя.
По обочинам шоссе лежали подбитые ржавые танки, брошенные здесь в памятные январские дни…
Справа от шоссе артиллерийский снаряд угодил в небольшой кирпичный дом. Столб огня и дыма, туча черепицы, земли и камней взлетели в воздух.
Штурмбанфюрер Эйхнер сбавил скорость. Он осторожно объезжал воронки и выбоины повреждённого танками шоссе.
— Куда мы едем? — спросил молчавший весь путь профессор. — Там идёт сражение, русские могут перерезать дорогу, и мы попадём в ловушку.
— Это невозможно, — процедил сквозь зубы Эйхнер, — скорее королевский замок провалится в Прегель. Лучшие силы войск СС, гордость немецкой армии, защищают наши коммуникации. Защита Кенигсберга — престиж Германии.
Однако на душе у Эйхнера было неспокойно, и штурмбанфюрер часто вытирал лоб зелёным платком.
По сторонам теперь проносились густые сосновые леса. Потянуло тонким смоляным запахом. Сосны стояли гордые и прямые. Профессору казалось, что они с укоризной глядели на него и, покачивая вершинами, о чем-то шептались.
Ещё один крутой поворот, и открылось печальное зрелище: слева горел лес. Ветер дул с юга, и волны голубоватого дыма перекатывались через шоссе. В дыму, словно призрак, маячила одинокая фигура.
Пожилой ополченец в пилотке и очках, с лицом доброго малого, флажком загородил дорогу.
Эйхнер резко затормозил.
Оглянувшись, профессор увидел остов разбитого самолёта с чёрными крестами на крыльях. И рядом плакат: «Не курить! Берегитесь лесных пожаров!»
— В чем дело? — грубо спросил Штурмбанфюрер солдата — Разве не видишь? Машина принадлежит гестапо. Я еду в Пиллау.
Стараясь приподнять веко, Эйхнер сморщил лоб. Он с презрением смотрел на невзрачного солдата. Военная форма сидела на ополченце косо и криво.
— Дорога перекрыта русскими! — крикнул солдат. Он снял очки и вытер слезы, выступавшие от едкого дыма. — Проехать нельзя. Дальше русские снаряды жгут землю…
Солдат кричал, а профессор едва слышал его. Воздух сотрясали оглушительные разрывы снарядов.
— Проехать сквозь такой огонь нельзя! — крикнул солдат в самое ухо Эйхнера — Это чудовищно. Переждите, обстрел утихнет. — Он поправил съехавшую на затылок пилотку.
— И начнётся атака, дурак, — возразил Штурмбанфюрер, — это артподготовка. Придётся немного поскучать, профессор, — обернулся он к Хемпелю. — Если мне не изменяет память, здесь поблизости должна быть уютная норка.
Профессор промолчал, поджав губы.
Штурмбанфюрер, сопя, развернул машину и погнал обратно. Через несколько километров у столба с жёлтой стрелой-указателем он круто свернул влево.
«До городка три километра», — прикинул про себя профессор.
«Под корнями вековых деревьев города-парка, под мирными зелёными лужайками спрятан военный завод, — вспомнил профессор. — Сотни военнопленных под страхом смерти работали на заводе».
Он с любопытством смотрел на длинные здания — не то бараки, не то казармы. В парке с голыми ещё деревьями видны самоходные орудия, грузовые автомашины, небольшие танки. Дымились походные кухни. Несколько зенитных пушек подняли кверху тонкие длинные стволы.
«В этом городке есть дом, принадлежавший Эриху Коху, — вдруг пришло в голову профессора, — и какое-то особенное, ничем не пробиваемое бомбоубежище для двух человек. Наверное, трудно найти место на землях Восточной Пруссии, где бы у него не было какого-нибудь дома».
Машина миновала несколько улиц и резко остановилась у небольшого, приземистого железобетонного здания.
— Здесь нам будет уютно, как клопам в перине, — сказал штурмбанфюрер. — Это надёжное бомбоубежище для избранных.
Доктор Хемпель вышел, помог выбраться из машины жене, но пойти в убежище отказался наотрез.
— Останемся здесь, Эльза, — ласково предложил он, не глядя на сопевшего Эйхнера, — здесь по крайней мере свежий воздух, а нам пока ничего не угрожает.
Штурмбанфюреру свежий воздух был явно не по вкусу. Он поморщился, вытер зелёным платком лоб и жирную шею. Но все же, не сказав ни слова, остался с профессорской четой.
Сила артиллерийского огня не ослабевала.
Перед глазами, словно в кинематографе, возникла растрёпанная, полураздетая женщина. Она сжимала в руках белокурого мальчишку в новенькой матросской курточке и бескозырке. Женщина тяжело дышала, испуганно озиралась, закрывая рукой голову ребёнка.
— Что случилось, фрау? — спросил, подойдя к ней, солдат в зеленой каске, с повязкой на рукаве.
— Русские открыли огонь… Все горит, земля горит…
— Обычная перестрелка, фрау. Скоро все кончится. Пройдите в убежище. Вот сюда, пожалуйста.
Женщина послушно побрела за солдатом.
— Только это не обычная перестрелка, — бормотала она, — нет, нет, это ужасно.
Неожиданно профессор услышал топот бешено мчавшейся лошади. Из переулка вырвался серый в яблоках жеребец с оборванными постромками и тёмной от пота спиной. Поводя налитыми кровью глазами, не разбирая дороги, запрокинув гордую голову, он ринулся в парк на танки, на пушки, на разбегавшихся в испуге солдат. Раздались выстрелы, и животное забилось на покрытой грязью площадке в предсмертной агонии.
На улице появились беженцы. Они спешили куда-то, жестикулируя и крича. Их разгорячённые, потные лица были измазаны копотью и покрыты пеплом. Они тащили свёртки и чемоданы. У многих на руках были дети. Людей становилось все больше и больше: они уже запрудили всю улицу.
Неожиданно в небе проглянуло солнце, как всегда ласковое и ясное. В гул артиллерийской канонады ворвались новые звуки: над головами показались самолёты штурмовой авиации. Самолёты шли волна за волной. В соседнем парке дружно, отрывисто залаяли зенитные батареи. Каплями раскалённого дождя падали на землю осколки снарядов.
В толпе кто-то хрипло читал молитвы.
Чёрные столбы бомбовых взрывов ударили в небо. Обезумевшая толпа шарахнулась, растекаясь по переулкам. Люди скрывались в убежищах, тесных, как братские могилы. Но народу на улице не убывало: наоборот, толпа делалась гуще, плотней. Кое-где между разноцветными пальто, шляпами и платками появились фуражки и зеленые шинели солдат.
— Форт Лендорф взят! — раздался вдруг исступлённый вопль. — Форт Лендорф у русских.
— Русские обошли Лендорф. Сейчас они будут здесь.
— Железная дорога перерезана.
— Предательство, спасайтесь! — истошно кричали люди.
Это казалось невероятным.
Штурмбанфюрер Эйхнер ухватился за ручку двери бомбоубежища, от страха у него подкосились ноги. Толпа колыхалась. Грязных, перепачканных землёй, испуганных солдат становилось все больше и больше.
Недалеко от «убежища для избранных» послышались пулемётные очереди. Штурмбанфюрер охнул и с необычайной для него живостью повернулся. Неподвижное левое веко совсем закрыло глаз, и он не старался его приподнять. Вдруг на испуганном и побледневшем лице гестаповца медленно расползлась улыбка.
Проследив за его взглядом, профессор увидел несколько грузовиков, поставленных поперёк дороги, вплотную друг к другу, и засевшую за ними пулемётную роту эсэсовцев. На их касках отсвечивали серебряные черепа.
Где-то совсем близко с рёвом рвались крупнокалиберные снаряды, посланные с фортов… И снова ураганный огонь русской артиллерии. Стоявшие в парке танки, орудия, автомашины с пехотой задвигались, медленно выползая на улицу. Лязгали, скрежетали гусеницы, ревели моторы.
«Где-то прорыв, — пронеслось в голове профессора. — Неужели русские смогли разорвать нашу неприступную оборону? Это ужасно! Почему так медленно двигаются танки?»
Танки остановились. Толпа испуганных беженцев окружила бронированные чудовища, словно вода, прорвавшая плотину. Войска, спешившие в бой, завязли в густой лавине беженцев.
Подоспевшие эсэсовцы особого батальона «Мёртвая голова» принялись спасать положение. Несколько автоматных очередей — и людей, словно скот на бойне, загнали в переулки и дворы. На шоссе остались трупы горожан и солдат. Их стащили в кюветы.
Громыхая, промчались по очищенной дороге танки, следом — артиллерия, пехота на автомашинах. Словно манекены, сидели рядами, локоть к локтю, обшлаг к обшлагу, серо-зеленые солдаты в касках, с автоматами в руках — однополчане солдат, только что расстрелянных эсэсовцами.
Яркими кострами горели дома. Впереди сквозь чёрную мглу и туман вставали огненные столбы взрывов и вспыхивали молнии реактивной артиллерии. Крупные хлопья сажи носились в воздухе.
Бой шёл где-то совсем близко.
Все это время профессора не оставляла мысль о неспрятанных сокровищах. Пролом в стене стоял перед глазами…
— Вы как хотите, — заговорил он, — а я намерен возвратиться домой. В моем возрасте таких приключений следует избегать.
Слова эти он произнёс раздельно и чётко.
Штурмбанфюрер хотел было возразить, но тут сквозь глухие выстрелы танковых пушек послышались раскаты русского «ура».
На лбу эсэсовца мгновенно выступила испарина. По ногам заструился пот, сбегая в сапоги.
— Я свяжусь с начальником, — сказал он, стараясь казаться спокойным, — и тогда решу, как быть дальше. — И Эйхнер быстро юркнул в подземелье.
Профессор подождал Эйхнера полчаса. Тот не появлялся. Тогда профессор спокойно предложил жене:
— Пойдём, Эльза, домой, здесь оставаться опасно. — Вынув из машины чемодан и вещевой мешок, учёный взял фрау Эльзу под руку.
Во дворе одного из домишек на самой окраине городка внимание Хемпеля привлекла жёлтая стрела-указатель с надписью: «Кенигсберг — 9 км». Стрела, сорванная со столба, служила порогом в бомбоубежище. Сорванный дорожный указатель почему-то особенно удручающе подействовал на него. «Куда девался старый, добрый порядок!» — Профессор грустно махнул рукой.
Путь к дому был долог. Супругов Хемпель часто останавливали эсэсовские патрули.
На шоссе по-прежнему встречались легковые машины, мчавшиеся на запад. Тащились телеги и фургоны. Две огромные ломовые лошади тянули чёрный «мерседес», набитый доверху пожитками. Из груды узлов выглядывала остроносая фрау.
Войска двигались в сторону Пиллау; громко топая и стараясь не сбиваться с ноги, мимо прошёл отряд мальчишек из «Гитлерюгенда». Они были вооружены не по росту большими старыми винтовками, фаустпатронами и гранатами. Бледные лица подростков искажал испуг.
Мальчик чуть постарше, шагающий впереди, что-то выкрикнул, взмахнул рукой. Неестественно громкий, вибрирующий голос завёл песню:
Мы стремимся в поход на Восток, За землёй — на Восток, на Восток! Разноголосо и недружно подхватили остальные. По полям, по лугам, Через дали к лесам, За землю вперёд, на Восток!В пригороде пожилые ополченцы и женщины под присмотром эсэсовцев ставили по обочинам шоссе противотанковые ежи. По дороге попадались вбитые в землю бетонные трубы в рост человека. Сверху их закрывала крышка, сбоку были прорезаны щели для пулемётов. Солдаты чувствовали себя в этих трубах, как в мышеловке. Таких вместилищ гаулейтер Кох велел изготовить тысячи. Профессор вспомнил, что обыватели их прозвали «ночными горшками Коха»…
Наконец супруги Хемпель оказались возле Луизен-парка: вот и облицованная серым камнем, почитаемая фрау Эльзой церковь с островерхой колокольней. Около входа в парк знакомая вывеска: «Аллармплац». Стрела, повёрнутая вправо. Здесь собирались специальные команды по сигналу воздушной тревоги. Недалеко — кладбище с рядами однообразных крестов на могилах погибших за возлюбленного фюрера.
Профессор взглянул на бледное, без кровинки, лицо жены, на посиневшие губы и решил, что надо отдохнуть. У жены слабое сердце. Но где?
«Готфрид Кунце! Вот кто живёт недалеко отсюда! — вдруг пришло в голову. — Как я мог забыть?» — профессор осторожно снял с плеч жены вещевой мешок.
Супруги миновали продовольственный магазин с пустыми витринами, разбитую телефонную будку, пекарню с выбитыми окнами, магазин бритвенных принадлежностей. Прошли погребок, некогда торговавший пивом и спиртными напитками. На дверях — эмалированная табличка: «Закрыто». Дальше, на небольшом кирпичном доме, красовалась знакомая вывеска весёлого ресторанчика «Старый кузнец». Заведение тоже было закрыто. Город, казалось, вымер. Прохожие почти не встречались: исключение составляли солдаты ополчения. То там, то здесь, приподняв край маскировочной шторы, из окон выглядывали испуганные, бледные лица.
Супруги Хемпель нашли приют на тихой Шарнхорстштрассе, в уютном особняке друга. Обессилевшую жену профессор почти внёс в дом на руках. Она так устала, что не могла даже волноваться
Господин Готфрид Кунце, преуспевающий коммерсант, кавалер ордена Крови, антиквар, большой знаток и любитель янтаря, неожиданных гостей встретил радушно. Накормил горячими картофельными оладьями. Чашка настоящего мокко помогла доктору Хемпелю окончательно прийти в себя, и теперь он, хотя и без особого внимания, слушал болтовню друга. Грохот артиллерийской стрельбы, взрывы фугасных бомб давно перестали его беспокоить. Вообще все оставшееся по ту сторону надёжных стен казалось далёким.
Сердцем и мыслями профессор был в соседней комнате: там уложили в кровать Эльзу.
— Иваны не войдут в город! Фюрер этого никогда не допустит, — говорил герр Готфрид Купце, низенький, лысый человек в пенсне, с круглым лицом и коротко подстриженными гитлеровскими усиками.
— Фюрер не бог, — спокойно отозвался Хемпель. — Его дела очень уж расходятся со словами. В последнее время я совсем перестал понимать что творится в Германии.
— Я верю фюреру. Мы слишком маленькие люди, чтобы понимать его намерения.
— Маленькие люди, — задумчиво повторил профессор. — Эти маленькие люди должны сами решать свою судьбу!
Кунце с удивлением посмотрел на собеседника.
— Я не узнаю тебя, Альфред. Только властная воля сверхчеловека… Ведь маленькие люди — толпа, и существует-то она только для того, чтобы над нею возвышался сверхчеловек.
— В таком случае я за посредственность. Мне кажется, я теперь склонен рубить все головы, возвышающиеся над толпой. — Профессор снял очки и посмотрел на свет сквозь стекла.
Готфрид Кунце даже привскочил. Фрау Кунце, мудрившая над пасьянсом «Индийская императрица», подняла голову.
— Как э… за посредственность, — поперхнулся Кунце. — Столько раз ты говорил здесь, на этом месте, о страшной роли посредственности! «Жизнь — это отчаянная борьба гения с посредственностью». Твои слова? А теперь? Если это шутка, Альфред, признаюсь, я её не понимаю.
— Гений и сверхчеловек — понятия разные, — спокойно возразил профессор, тщательно протирая очки замшевой тряпочкой. — Сверхчеловек в управлении государством — гибель и несчастье народа.
— Альфред, я решительно отказываюсь тебя понимать. И это говорит, ха-ха, член национал-социалистской партии!
— Да, да. Ты мне будешь приводить исторические примеры. Средневековье… Может быть, тогда и нужны были сверхчеловеки во главе государства. Образованные личности встречались очень редко. Сейчас образование не является уделом избранных. А если хочешь знать правду, в наше время в сверхчеловеки лезут далеко не самые образованные люди. Возьмём, к примеру, нашего фюрера…
— Ну это уж слишком, Альфред. — Кунце сунул трубку в рот. — Я думаю, нам следует переменить разговор. Прости, но ты… ты какой-то хамелеон. О-о, наш фюрер! Он умеет видеть далеко вперёд… Я понимаю, на тебя произвёл сильное впечатление сегодняшний день. Попросту говоря, ты струсил… — он ядовито поджал губы. — Если у тебя восковая голова, не лезь в огонь.
Круглое лицо Кунце, его рыжеватые усики и даже пенсне с золотым держателем выражали возмущение.
— Надо смотреть не только вперёд, но и себе под ноги, иначе обязательно споткнёшься, — пробормотал профессор. — Но, согласен, не будем спорить. А скажи, Готфрид, ты уверен, что русские не займут Кенигсберг?
— Уверен ли я, черт побери? С первых чисел марта оборону в центре города мы, наци, взяли в свои руки. У Эриха Коха крепкая хватка! О-о, великому Эриху можно верить. Кстати, я хочу показать тебе один документ, — с важностью заявил он и торжественно, словно святыню, вынул из бумажника изрядно потёртую бумагу.
— "Настоящим удостоверяю, что господин Готфрид Кунце с 1921 года является видным национал-социалистом, — медленно читал хозяин; по близорукости он поднёс бумагу к самым глазам. — Я знаю его с наилучшей стороны и могу рекомендовать ввиду его верности национал-социалистской идее, во имя которой он принёс величайшие жертвы (в частности, два с половиной года строгого тюремного заключения за убийство еврейского журналиста — подстрекателя Давида Ротштока в Данциге в 1925 году). Я считаю долгом чести каким-либо образом помочь господину Кунце… Эрих Кох".
Во всяком случае, — он спрятал свою реликвию, — преступно думать о падении крепости. Вспомни, Альфред, как русские держались в Севастополе. И приволжский город после ста тридцати дней мы так и не сумели захватить. Но Кенигсберг, наш Кенигсберг должен держаться не меньше года! Нашу крепость защищают люди высшей расы. Ты помнишь, дорогой Альфред, в тринадцатом веке славные рыцари-тевтонцы выдерживали не одну яростную атаку язычников, но Кенигсберг не сдался. Это было во время восстания пруссов.
— В шестидесятых годах крепость выдержала трехлетнюю осаду, — напомнил профессор Хемпель. — Да, Кенигсберг тогда не сдался. Ты сделал далёкий экскурс. Мне кажется, у тебя слишком густой оптимизм.
Сквозь толстые надёжные стены уютного особняка проникло грозное «ура-а-а», заглушая пулемётные очереди и стрельбу зениток.
Дверь с шумом отворилась. На пороге появился разгорячённый схваткой советский воин, прижимая к груди автомат. Взмокшая от пота гимнастёрка, рыжеватые волосы, суровое лицо, гневные глаза… На лице кирпичная пыль, прорезанная струйкой пота. Забинтованная рука на грязной тряпке подвешена к шее. Окинув комнату быстрым взглядом, солдат выпустил короткую очередь. Портрет одутловатого человека с усиками и чёлкой на лбу свалился на пол, тяжёлая рама рассыпалась.
— Дайте воды, — по-русски сказал солдат, не трогаясь с места.
С поднятыми руками, бледный как смерть встал с места герр Кунце. Обезумевшая фрау Кунце тряслась своим студенистым телом — от взгляда на неё по спине профессора Хемпеля волнами пробежал колодок. Толчками, словно заводная игрушка, фрау приблизилась к русскому, упала перед ним на колени и принялась хватать дрожащими руками пыльные солдатские сапоги.
— Дайте русскому солдату воды, — произнёс чей-то звонкий молодой голос на немецком языке.
Тут все увидели за спиной воина белобрысого подростка, тоже с автоматом в руках и красной звёздочкой на фуражке.
— Воды, — повторил солдат, осторожно освобождая ноги из цепких рук фрау Кунце.
— Не бойтесь, фрау, с женщинами не воюем, — успокоил её мальчик.
Профессор Хемпель взял со стола стакан, наполнил водой из графина, с поклоном подал советскому воину.
Наступила тишина. Было слышно, как за стеной женский голос с выражением читал молитву.
Солдат выпил воду.
— Спасибо, — сказал он профессору. — Пойдём, Генрих.
Русский обнял за плечи мальчика. Стуча сапогами, они вышли на улицу.
Когда дверь за ними закрылась, Альфред Хемпель уложил рыдавшую фрау Кунце на диван.
— Вот результат пропаганды Геббельса, — словно про себя, сказал он, с сожалением глядя на обезумевшую от страха женщину. — Четыре года мы пугали русскими наш народ.
Готфрид Кунце сидел, выпучив близорукие глаза. Пенсне в золотой оправе, как маятник, раскачивалось на чёрном шнурке.
— Ты поклонился Ивану, словно холуй! — Это были первые слова Кунце.
— Я поклонился русскому солдату за то, что он сумел в три дня взять Кенигсберг, который ты собирался защищать годы, — зло ответил профессор. — Однако ты не из храбрых, Готфрид, — с презрением добавил он,
— Можешь убираться, если тебе плохо в моем доме. Не смею задерживать. — Герр Купце свирепо уставился на профессора. — И вообще вряд ли нам можно говорить о дружеских отношениях… Я вынужден донести на тебя куда следует.
— Выйти на улицу сейчас было бы безрассудно. Эльза больна, — заметил Альфред Хемпель. — Окончится бой, и мы уйдём.
Профессор чувствовал себя на грани крайнего нервного истощения. Сохло во рту, словно железными обручами сжимало грудь, покалывало сердце.
— Если бы мы были в коричневой форме, русский солдат расправился бы с нами, как с портретом фюрера! — трясясь от злобы, крикнул Кунце. — Он не посмотрел бы на наши седые волосы… Погибнет Германия, погибнет немецкий народ.
— При чем здесь немецкий народ? — спросил профессор. — Гитлер и Германия — это не одно и то же. Нет, мы не поймём друг друга, Готфрид.
Они долго сидели молча, нахохлившись, недовольные, и прислушивались к страшным звукам, доносившимся с улицы,
— Ты узнал мальчишку, что прятался за спиной у русского солдата? — нарушил тишину в комнате Готфрид Кунце.
— Нет. Он немец?
— К сожалению, да. Это сын моего соседа Рудольфа Фукса. Хороший был человек Рудольф Фукс, и слесарь отличный, много лет работал на верфи Шихау. Он спутался с красными и угодил в концлагерь. В прошлом году фрау Фукс получила извещение — муж умер там… от сердечной недостаточности. Неделю назад мальчишка пропал; поговаривали, он сбежал к русским. Признаться, я тогда не поверил. Это наш недосмотр, — нахмурившись, добавил он. — Надо было вместе с папашей отправить на тот свет и этого выродка.
— Всех не уничтожишь, — отозвался профессор Хемпель, — так могут думать только кретины.
— Ты оправдываешь предателя? — зарычал Готфрид Кунце, снова уронив пенсне. — Я не желаю этого слышать! Хуже нет птицы, что гадит в своём гнезде.
— Нет, я не оправдываю его, — нахмурившись, медленно ответил профессор, — может быть, потому, что не могу его понять. По-моему, немец должен всегда оставаться немцем. Я всегда думал так. Но, может быть, если бы у меня убили отца…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЛЬДЫ НАСТУПАЮТ НА МИНЫ
Лодка бесшумно подкрадывалась в подводных сумерках к месту, где пучком расходились морские дороги. Важное средоточие врага.
Командир подводной лодки Сергей Арсеньев стоял в рубке возле штурмана, прокладывающего курс. Мысли его были далеко.
«Закономерность должна быть. Образование разделов в студено-морских льдах зависит от течений — это бесспорно, — думал Арсеньев. — А как влияют ветры на состояние льдов? Можно ли заранее предсказать ледовую обстановку?» — Арсеньев давно старался ответить на эти вопросы, и, казалось, сегодня он, как никогда, близок к их решению…
— Товарищ командир, до пункта "В" остался ровно час, — сказал штурман Лаптев.
Командир не отвечал. Перед глазами снова возникли спина рулевого и вахтенные матросы в тёплой робе, томящиеся ожиданием; он нагнулся и взглянул на карту: карандашная линия курса обрывалась возле полукруглого обрывистого мыса, совсем безобидного на бумаге. Но там прятались дальнобойные пушки. У самого мыса проходила среди мин узкая безопасная дорожка.
Через час лодка всплыла на перископную глубину. Длинная огненная полоса заката лежала по краю моря. Красноватыми бликами взблескивали волны. Ночная тень своим краем коснулась земли, но ещё не закрыла её. Полукруглый на карте мыс выглядел ковригой ржаного хлеба.
Старший лейтенант Арсеньев оторвался от перископа и протёр глаза: ему мерещились какие-то огоньки и тёмные силуэты кораблей, но он тут же убеждался в ошибке.
Наступила ночь. Отвинтив крышку люка, Арсеньев с биноклем поднялся на мостик. Погода изменилась, небо заволокло тучами, стояли непроглядная темень и глухая тишина. Опять в голову лезли посторонние мысли. Посторонние?! Арсеньев вспомнил дочку Наташеньку и жену, они ждали его в старом деревянном домике на берегу Соломбалки. Как быстро идёт время!.. Два года назад Арсеньев закончил курсы подводников и был назначен на Балтику помощником командира субмарины. Он прошёл хорошую школу: лодка потопила много вражеских кораблей, но и сама не раз побывала в тяжелейших положениях. «Смерть в упор», — говорили о своих походах матросы, возвратившись на базу.
В это плавание старший лейтенант Арсеньев пошёл командиром подводной лодки. Казалось, он должен был думать о кораблях противника, о том, как он их будет торпедировать, прикидывать всякие там углы атаки, выходить на залповый пеленг. Но о всем этом думалось раньше, а сейчас, когда наступает решающий миг, в голове совсем другое. Идут и идут мысли о далёком, он и не гонит их. Перед трудным, опасным делом, когда томится душа, простые думы помогают обрести покой и твёрдость.
Арсеньев родился в Архангельске. Мать умерла рано, он не помнил её, отец ходил по морям боцманом и подолгу не бывал дома. Маленький Серёжа жил с бабушкой в Мезени, на самом берегу Студёного моря. Марфа Фоминична, простая деревенская женщина, воспитывала внука в строгих правилах. В её доме никто не лгал и не лукавил. Мальчик рос правдивым и честным… Вспомнилась крепкая мезенская зима. Мужики ходили на зверобойный промысел в лодках с полозьями. Брали с собой харчи, дровишки, оружие и мучились во льдах иной раз месяцами. Отцы Сережиных друзей часто рассуждали о ветрах, о водах, о сальном звере, о его повадках и, главное, о льдах. Промышленники говорили: сморозь, ропаки, нилас, стамухи, поляны. Тогда же он узнал о приливах и отливах: движение вод решало другой раз судьбу промысла. Ветры зверобои называли так: полуночник, всток, обедник, шелоник, побережник…
Иногда чей-нибудь отец или брат не возвращался с промысла. Говорили, сгиб во льдах, попал в относ. Других переворачивала крутая волна. Льды и море были коварными и страшными. Но они кормили людей.
Потом сбились в колхозы, прогнали кулаков, судовладельцев. Промышлять стало не в пример добычливей. Однако течения, льды и морозы остались. Вспомнил Арсеньев товарища — вихрастого, белобрысого Сашку Малыгина. С тех ещё пор повелась у них дружба…
Дизель все тянул и тянул однотонную песню.
Арсеньев посмотрел на сигнальщика, тот усердно рассматривал темноту в бинокль. Море по-прежнему пустынно. В открытый люк сквозь глухое постукивание двигателя из лодки доносились голоса; старший лейтенант тронул большую английскую булавку, приколотую к кителю. Булавка из тёплого шарфа маленькой Наташеньки.
— Вот тогда — вперёд колхозники! — расслышал он знакомый окающий говор. — Зверя что пня в лесу, аж черно… Корабль против ветра идёт — зверь сторожкий. Мужики в белых халатах, с карабинами и прочее тому подобное… Вернёмся с промысла, затопим баню, отпарим душеньку, тогда и погулять не грех. Веселье в деревне… Что уж там говорить, соскучали мы, братки, о своём… Однако ждать недолго осталось… Конец войне, и мы торпедой её, проклятую, поторопим…
Говорил боцман Попов — земляк Арсеньева.
Неожиданно снизу вырвался резкий металлический звук. Командир вздрогнул: напряжение последних дней сказывалось.
— Тише вы, черти, зверя распугаете! — сразу отозвался боцманский голос.
«Наверно, уронили ключ или плоскогубцы, — подумал Арсеньев. — А кажется, будто якоря в лодке громыхают».
Внизу затихло, смолкли голоса. Только дизель постукивал деловито да уныло гудел вентилятор.
Мирные мысли одолели Арсеньева. Он видел себя в Архангельском мореходном училище, он вступил в комсомол. В мечтах ходил в далёкие плавания, опять боролся со льдами. Арсеньев учился хорошо. В те трудные, но радостные годы Саша Малыгин опять был с ним.
Молодого штурмана Арсеньева, окончившего с отличием мореходное училище, назначили помощником капитана на один из ледокольных пароходов, промышлявших зимой морского зверя. Арсеньев умел в нужный момент действовать решительно и смело. Жил с раздумьем, друзей выбирал трудно. Много читал. В судно своё был влюблён. Он решил помочь мореплавателям и зверобоям: собрать воедино все о студено-морских льдах, обобщить, написать рекомендации… Решил и приступил к делу. На ледокольном пароходе его дружно приняли в партию.
Началась Отечественная война. Арсеньев стал военным лоцманом, водил через мелководный речной бар корабли и носил лейтенантские погоны. Но о льдах никогда не забывал, к морю был приглядчив, и каждый день плавания открывал ему что-нибудь новое.
«Как влияют ветры на состояние льдов? Можно ли заранее предсказать ледовую обстановку, даже если в море действуют течения?» — опять подумал он.
Арсеньева позвали в радиорубку. Кто-то быстро говорил по УКВ на немецком языке. В эфире начались оживлённые радиоразговоры.
Акустик уловил шум винтов большого корабля.
За береговой возвышенностью вспыхнул и погас прожектор. Лодку слегка покачивало.
* * *
Втиснув свой вместительный чемодан на багажную полку, Эрнст Фрикке с облегчением вздохнул. Теперь в каюте третьего класса, номер 222, оказавшейся чуть не в самой глубине пароходного чрева, все пассажиры были налицо. На нижних местах расположились немолодые супруги: оба небольшого роста и, несмотря на тяготы военного времени, не в меру полные.
На верхней койке Эрнст заметил серую ворсистую шляпу. Хозяин её, худой черноволосый мужчина в пенсне на кончике длинного носа, сидел на раскладном стуле и вертел во все стороны маленькой головкой. Время от времени он обмахивался газетой, сложенной веером. В каюте, тесной и душной, как камера-одиночка, все выглядело убого: койки, заправленные зелёными одеялами с изображением якоря и вензелем пароходной компании, умывальник, два складных стула, рундуки, выкрашенные масляной краской в палевый цвет, потёртый коврик под ногами. От паровых котлов, расположенных где-то неподалёку, доносилось жаркое дыхание.
— Черт возьми, — захныкал толстенький человек, вытирая большим платком вспотевшую лысину; голос у него был писклявый, как у евнуха. — Черт возьми… Да здесь, в этих катакомбах, задохнуться можно! Почему вентиляция не работает? Безобразие, распустились, все распустились!
— Альберт, — тронула его жена за рукав, — перестань. Мы должны быть благодарны. Вспомни, что делается в Кенигсберге. Сколько наших друзей не смогли получить билета на этот пароход. Они соглашались ехать даже на палубе.
— Благодарны! Хайль Гитлер! — истерически выкрикнул толстяк. — Мы благодарны! Пустили бы вентиляцию, — уже другим голосом добавил он, опасливо взглянув на Фрикке и на пассажира в пенсне. — Глоток свежего воздуха…
Внезапно в репродукторе что-то щёлкнуло, и спокойный голос произнёс:
«Если спуститься по штормовому трапу или канату нельзя, прыгайте ногами вниз. Нырять головой вниз опасно. Прыгая в воду, придерживайте нагрудник, охватив перекрещёнными руками плечи. В противном случае нагрудник может оглушить вас или сломать вам шею…»
— Альберт, выключи радио, — со слезами сказала женщина, — ведь это ужас какой-то!
Толстяк потянулся к металлической коробке и повернул регуляторы.
— Напрасно, господин, — поблёскивая стёклами пенсне, заговорил черноволосый мужчина, — судовая администрация передаёт инструкцию пассажирам на случай аварии парохода. Передача принудительная, выключить нельзя. Советую, вам, господа, примерить спасательные нагрудники.
Он поправил пенсне и дрожащими руками пригладил жидкие волосы с ровным пробором посередине.
— Ах, какой ужас! — опять сказала толстуха.
«Если судно накренилось, — методично продолжал радиоголос, — покидайте его через нос или корму. Прыгая с поднятого креном борта, вы можете удариться о бортовой киль или поранить руки о ракушки, прилипшие к корпусу… Если прыгать в сторону крена, то при опрокидывании судна вы можете оказаться под корпусом».
Выйдя из каюты, Эрнст вздохнул свободнее. Однако тесно было и здесь. Беженцы, не получившие мест в каютах, расположились прямо в коридоре. Со всех сторон слышались раздражённые голоса, горничные помогали пассажирам рассовывать чемоданы и саквояжи вдоль стенок.
Неяркие синие маскировочные лампочки лишали лица красок, превращая людей в живых мертвецов. Длинные, светящиеся ультрамарином стрелы указывали путь к спасательным шлюпкам.
«Восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, — отметил про себя Фрикке. — Это шлюпочные номера. Мой номер двенадцать».
Он вспомнил дни и ночи, проведённые на причалах в ожидании посадки. К пароходу привозили в машинах тяжёлые ящики, обитые железом. Грузились солдаты, оружие, снаряды. Среди беженцев носились неясные слухи о поражениях немецкой армии. Кто-то сказал Эрнсту Фрикке, что фюрер отозвал солдат на защиту Берлина. Беспомощная толпа, заполнившая все причалы, волновалась. Со стороны Кенигсберга доносился гул артиллерийской канонады. Налетавшие с моря русские бомбардировщики то и дело заставляли прятаться в убежище. Но все снова и снова возвращались на причал. Одно желание владело всеми — попасть на пароход.
Когда он вышел на палубу, судно снималось с якоря. Дул свежий ветер. С бака доносились позвякивание якорной цепи, приглушённые выкрики. Одинокий огонёк бакена время от времени вспыхивал в темноте, указывая путь.
На носу ударили в колокол. С мостика перезвоном ответил телеграф. Фрикке ощутил, как под ногами заворочалось что-то большое, тяжёлое; это заработали машины. Хрипло прозвучал короткий гудок.
— Дюйм под килем, капитан, — раздалось откуда-то из темноты. — Счастливого плавания!
— Благодарю, — неторопливо ответил простуженный голос с мостика.
Привыкшие к темноте глаза Фрикке заметили отваливший от борта портовый буксир. Нос парохода стал поворачиваться к мигающему огоньку. Медленно проползли мимо два высоких здания на берегу. Позади остался маяк, чёрные камни волнолома.
Корабль вышел в море.
Где-то в крепостных укреплениях вспыхнул луч прожектора, осветил на мгновение верхушки корабельных мачт и застрял в тяжёлых облаках, нависших над морем.
Промелькнув у борта, погас единственный синий огонёк.
«У-ух, у-ух», — слышалось в темноте — бакен на фарватере подавал свой голос, провожая тоскливым рёвом крадущийся в ночи корабль.
Эрнста Фрикке внезапно охватило тревожное чувство. Казалось, опасность где-то здесь, близко: она пряталась в чёрной воде, в непроглядном мраке, в тишине, обступившей со всех сторон корабль… Ему почудились две быстрые поджарые тени сторожевых кораблей, промелькнувшие у борта одна за другой.
Три человека, закутанных в неуклюжие непромокаемые плащи, прошли мимо, едва не задев Фрикке.
— Проклятый дождь, — донеслось до него, — в двух шагах ничего не видно.
— Зато мы в безопасности. Пусть попробуют найти нас русские или английские лётчики… Утром мы…
— Ты забываешь о подводных лодках. Такая погода как раз для них.
— Нас охраняют два миноносца и сторожевики.
Зашумели, заговорили волны, разрезаемые стальным корпусом. Они изредка чуть-чуть толкались в пароходные бока. Корабль быстро набирал скорость.
Пронизывающий ветер забирался за воротник. Крепче закутав шею шерстяным шарфом, Фрикке поднялся на просторную прогулочную палубу. Толстые стекла надёжно защищали от дождя и ветра толпившихся здесь пассажиров. Но и тут, на веранде, царила тревога. Люди говорили вполголоса, словно боясь, что их может услышать незримый, подстерегающий враг.
— Я больше никому не верю, Фриц… Государство рухнуло, впереди нас ждут несчастья, может быть, смерть.
— Но фюрер…
— О-о, будь он проклят! Недаром англичане называют его сумасшедшим. Я слышала по радио…
Голоса умолкли.
— Вы думаете, мы все-таки сумеем удержать Кенигсберг, герр оберст? — раздалось с другой стороны на чистейшем «хох дойч».
— Удержать Кенигсберг?!
И рядом — другие, о другом, о своём:
— Ха! Дорогой герр Штольц, вы говорите о сомнениях. У вас они появились, я уверен, не сегодня. Вы ведь ещё в прошлом году продали вашу фабрику. Кстати сказать, я удивляюсь, как вам удалось найти покупателя…
Бросив в рот сигарету, Эрнст Фрикке чиркнул спичкой.
— Потушите огонь, здесь курить запрещается! — немедленно взвизгнул кто-то.
— Огонь?!
— Негодяй!
— Надо проверить документы!
— Успокойтесь, господа, — потушив сигарету о подошву ботинка, громко сказал Фрикке.
— Прошу вас предъявить документы, — услышал он повелительный голос. Повернувшись, увидел двух здоровенных молодых мужчин: они были в штатском, но их принадлежность к гестапо не вызывала сомнений.
Фрикке безропотно повиновался.
— Будьте осторожны с огнём, штурмфюрер, — возвращая документы, предупредил его один из патрульных. — Для курения есть специальные места. До свидания.
Понемногу негодующие голоса умолкли.
— Я так рада за детей, Фреди! — ворковал женский голос совсем рядом. Эрнст Фрикке почувствовал чьё-то горячее дыхание на шее. — Последние дни я совсем не могла спать. Мне казалось, русские ворвались в город. Что было бы тогда с нами, Фреди?!
— Теперь все позади, успокойся…
И Фрикке услышал звук поцелуя.
«Сентиментальные слюнтяи, — подумал он, отойдя. — Нашли место для нежностей». Его внимание привлёк другой разговор.
— Ты пробовал надеть спасательный нагрудник, Роберт? Без тренировки он может сползти, и тогда над водой вместо головы окажется задница.
— Это так, а кроме того, мой нагрудник из пробковой крошки…
— Безобразие, тратятся бешеные деньги на войну, а пассажиров не могут снабдить нагрудниками из настоящей пробки, — сочувственно отозвался бас.
— А у меня, представьте, на какой-то вате, — вступил в разговор низкий контральто. — Вряд ли он сможет выдержать что-нибудь тяжелее кошки.
— О-о, при вашем весе, сударыня, это маловато…
— Первый класс снабжён гораздо лучше. Я только что видел прекрасный нагрудник, — сообщал кто-то. — Вы не поверите: там есть фонарик, свисток и даже петля. За петлю можно легко вытащить из воды человека.
Эрнст Фрикке поёжился. Неприятное чувство не покидало его. Снова захотелось курить. Он толкнул дверь с надписью «Ресторан».
ГЛАВА ВОСЬМАЯ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ СО СВИСТКОМ И ФОНАРИКОМ
В пивном киоске худенькая девушка с заспанным лицом и синяками под глазами налила Эрнсту пива.
— Туго приходится кенигсбержцам, — сказала она, мучительно зевая, — говорят, русские не сегодня-завтра возьмут город.
— Всем туго сейчас, фрейлейн, — уклончиво заметил Фрикке, отдавая пустую кружку, — и вам, я вижу, здесь невесело.
— Ещё кружку, господин?.. Не хотите? Да, пиво у нас не первого сорта. Какое уж тут веселье! — девушка ещё раз зевнула, прикрыв ладонью рот. — За нами охотятся англичане и русские, того и гляди на голову угодит бомба. Скорей бы уж кончилось все.
— Что кончилось, фрейлейн?
— Проклятая война, — девушка кинула на Фрикке испуганный взгляд. — Я хочу сказать, скорей бы мы их победили.
— Спокойной ночи, фрейлейн, — посмотрев на часы, проговорил Фрикке — Третий час ночи, желаю вам… как следует выспаться.
Он прошёл мимо двухсветного ресторанного зала с медными решётками на больших декоративных окнах. Огромные позолоченные люстры… На столах — белоснежные скатерти, сверкающий хрусталь, серебро. Первый класс. Несмотря на позднее время, пустовало всего несколько столиков.
В курительном салоне — уютно и тепло Большие цветные витражи с изображением средневековых кораблей. Над головой — купол матового стекла, излучающего нежный свет. Глубокие мягкие кресла. Отделанные драгоценным деревом стены. Пальмы, раскинувшие вверх зеленые листья. В углу белый с золотом огромный рояль.
Утонув в кожаном кресле, Эрнст закурил. Среди гобеленов и мягких ковров он снова почувствовал себя лучше. Искусственный огонёк в камине располагал к воспоминаниям, воскрешая прежние радости и печали. Все чаще и чаще мысль возвращалась к самому главному.
«Что будет со мной? — раздумывал он, глядя, как бесконечно разгорается эрзац-огонь. — Наши войска пытаются задержать русских у Одера. Последний рубеж, а там Берлин… Дядя во многом прав, — вспомнил он последний разговор с профессором. — Наши вожди заботятся только о себе, им нисколько не жаль наших шкур. Несправедливость!.. Я шёл на многое, черт побери! И когда, наконец, получил своё место за столом, кто-то хочет вытолкнуть меня. — Волна глухой ярости поднималась в нем… — Проклятье!!! Кто виноват во всем этом? Фюрер? Что со мною?!»
Эрнст Фрикке оглянулся: не подслушивает ли кто его мысли?
«И мы высшая раса, и нам должен принадлежать мир» — издевательство! Я, господин вселенной, теперь должен все начинать сначала. Не имея гроша за душой… Зато у меня есть вот это, — с ненавистью посмотрел он на лацкан пиджака, где пауком присосалась хищная свастика. — Теперь-то меня не обманешь! Спасибо дяде за пропуск. Мне наплевать на все, слышишь меня, фюрер? Пусть все валится в преисподнюю. Только бы добраться до Копенгагена. А там я найду пути на другой континент. В Южную Америку, никаких фюреров, никаких приказов…"
— Господин, простите меня, — услышал он скрипучий голос.
Фрикке нехотя раскрыл глаза. В кресле напротив развалился старик с длинной жилистой шеей, орлиным носом и гривой седых волос.
— Простите меня, — ещё раз повторил старик, — я вас, кажется, обеспокоил.
— Что вам угодно? — не совсем приветливо отозвался Эрнст.
— Я хотел узнать ваше мнение относительно спасательного жилета последней модели. Он на мне. Вы видите, жилет вовсе не стесняет движений. Удобен. Я бы сказал, даже элегантен. С помощью этой трубки я быстро надуваю его — вот так, — старик вынул из кармана жилета трубку и взял её в рот. Жилы на его шее напряглись. — Утверждают, что с этой штукой можно продержаться на воде трое суток.
«Трое суток… вряд ли твоё сердце выдержит больше часа», — подумал Эрнст, а вслух сказал:
— Отличный жилет. Вам посчастливилось.
Несколько мужчин, весело разговаривая, вошли в салон и расселись, дымя сигаретами, вокруг низкого столика.
— Я не надеюсь на судовые нагрудники, — продолжал старик, — свой я выписал из Швеции.
Мощный удар потряс судно. С грохотом открылась и вновь закрылась массивная дубовая дверь салона.
Судорожно сжав пальцами ручки кресла, Фрикке, словно зачарованный, смотрел на картину в тяжёлой раме: улыбающаяся девушка с кистью винограда. Картина, занимавшая почти целиком одну из стен салона, угрожающе шевельнулась. Пепельница, скользнув по полированной поверхности стола, бесшумно упала на ковёр. Машины остановились. В тишине было слышно покашливание в репродукторе; хриплый голос торопливо произнёс:
«Внимание, внимание, внимание, пароход „Меркурий“ получил пробоину в носовой части. Пассажиров просят не беспокоиться. Непосредственной опасности нет. Судно продолжает плавание. Повторяю, пароход „Меркурий“ получил пробоину…»
Машины заработали снова.
Первое мгновение Эрнст Фрикке не знал, что делать. Вскочив на ноги, он хотел было выбежать на палубу, но голос диктора остановил его. «Продолжает плавание…» — значит, все в порядке.
Он посмотрел вокруг себя. Крикливо одетые штатские, несколько военных, уставившись на репродуктор, словно в столбняке, слушали диктора.
Хриплый стон привлёк внимание Эрнста.
Седой, с львиной гривой старик, его собеседник, лежал, откинувшись на спинку кресла. Глаза были закрыты, лицо побледнело. Пальцы безжизненно откинутой руки разжались. Выпавшая сигарета дымилась на ковре.
«Никого нельзя считать счастливым до его смерти, даже обладателя шведского жилета»! — подумал Эрнст Фрикке.
* * *
Старший лейтенант Арсеньев видел в перископ, как огненный язык взметнулся кверху, осветив гигантский корпус пассажирского лайнера.
Штурман отсчитывал секунды на корабельных часах. Прошла минута. Взрывов больше не было.
— Остальные две мимо, — не отрываясь от окуляра, сказал Арсеньев. — Право на борт, приготовить кормовые аппараты!
— Слышу шум винтов сторожевых кораблей, — торопливо доложил в это мгновение акустик, — идут полным ходом на лодку.
Командир повернулся к переговорной трубе.
— Отставить повторную атаку! К погружению!
В отсеке зашумел воздух. Стрелка глубомера двинулась по циферблату, отсчитывая метры. Подрагивая, лодка уходила все глубже в чёрную ночную воду.
— Слышен шум винтов транспорта, — опять предупредил командира акустик.
Арсеньев сжал кулаки и тихонько выругался. Транспорт не только держался на плаву, но и не потерял способности двигаться. Раздались первые взрывы глубинных бомб: сторожевые корабли принялись за работу.
Взрывы приближались. Одна бомба взорвалась где-то рядом, и лодку сильно тряхнуло, входные люки не выдержали, в лодку стала каплями просачиваться вода.
Винты сторожевиков на больших оборотах прошумели над головами. Ещё несколько взрывов. Наконец все стихло.
Старший лейтенант облегчённо вздохнул и подошёл к карте. Сейчас ему предстояло решить трудную задачу: каким образом ещё раз атаковать врага. Транспорт двигался по узкому коридору среди минных полей. Границы опасных районов, нанесённые на карте синим карандашом, назойливо лезли в глаза. Но вот крутое колено фарватера привлекло внимание командира. Фарватер поворачивал как раз в том месте, где сейчас находилась лодка. Измеритель в руках Арсеньева несколько раз прошёлся по карте. Появились какие-то цифры в записной книжке.
— Если самым малым ходом пройдём через минное поле, — сказал, ни к кому не обращаясь, Арсеньев, — то успеем повторить атаку.
У штурмана, стоявшего у карты, вытянулось лицо. Прогулка по минному полю — невесёлое занятие. Пересилив себя, он сделал вид, что внимательно слушает.
— Может случиться, что и мин-то в этом районе нет, — рассуждал командир. — Может, только пугают немцы, бывает ведь так, а… Николай Романович?!
Штурман кивнул не совсем уверенно. Он почти не обратил внимания на обращение по имени и отчеству, хотя в обычное время всегда был очень рад этой маленькой командирской фамильярности.
Арсеньев продолжал размышлять.
Риск, несомненно, есть, как и во всем на войне. Но когда старший лейтенант представил сотни гитлеровских солдат, заполнявших вместительное брюхо транспорта, тысячи тонн военного снаряжения и боеприпасов в трюмах, он решил действовать.
— По местам стоять, с грунта всплывать! — скомандовал он несколько более громко, чем обычно.
Лодка, прижимаясь к самому грунту, медленно двигалась в холодной балтийской воде, несколько раз стальной корпус лодки прикасался к тонким тросам из плетёной проволоки, как к стеблям, на которых покачивались железные бутоны, и тогда слышалось зловещее скрежетание. Наконец лодка пересекла смертоносные плантации и вышла на позицию.
Командир, стерев испарину со лба, поднял перископ и снова припал глазом к окуляру. Стало светлее. Ветер успел разорвать сплошные облака, светила луна.
Арсеньев видел, как на фарватере, рыская по следу, пронеслись, словно голодные волки, сторожевые корабли.
Прошло ещё несколько напряжённых минут… В перископе появился силуэт огромного транспорта: он медленно наплывал на визирную нитку ночного прибора торпедной стрельбы.
* * *
Второй взрыв был сильнее. За ним наступила внезапная тишина. Корабль вдруг стал крениться на борт. Эрнст Фрикке, оглушённый и перепуганный, едва удерживался на ногах.
«Внимание, внимание! Все к шлюпкам, все к шлюпкам, — торопливо зачастил диктор. — Пароход „Меркурий“ торпедирован вражеской подводной лодкой. Пассажиров просят немедленно выходить к шлюпкам согласно своим номерам. Господа пассажиры, не создавайте паники, соблюдайте порядок. Повторяю: чётные номера проходят по левому борту, нечётные — по правому…»
Фрикке все ещё не двигался с места.
В курительном салоне, недавно таком уютном, никого не осталось, лишь на кресле лежал старик с запрокинутой головой. После второго взрыва он застонал и, не открывая глаз, теребил тонкими пальцами галстук…
Аварийный звонок, раскатившийся оглушительной дробью, вывел Эрнста Фрикке из оцепенения.
Не раздумывая, он бросился к старику и одним махом вытряхнул его из шведского спасательного жилета. Торопливо натянул жилет на себя, надул «согласно инструкции» и быстро пополз к дверям.
«Скорее вниз, третья палуба, каюта 222. Спасти документы… Спокойствие, спокойствие», — твердил себе Фрикке.
«Не должно быть нервов, должен быть весёлый кишечник, так, кажется, говаривал несравненный Ницше. Человек должен принести себя в жертву сверхчеловеку — это тоже Ницше! Почему вдруг пришёл в голову Ницше? Я не хочу приносить себя в жертву…»
Навстречу с нижних палуб к шлюпкам бежали пассажиры. Слышались призывы о помощи. Зловещий вой сирены ещё подхлёстывал нервы. Чёрный туман паники охватил людей.
Эрнст кинулся наперерез толпе — надо вниз, вниз, к своей каюте. Но слепой поток смял его, увлёк за собой. Он падал, его толкали, он поднимался и вновь падал.
«Все к шлюпкам, все к шлюпкам! — безумолчно выкрикивал репродуктор. — Следовать по указанному маршруту. Внимание, внимание! Просят пассажиров не волноваться. Наш сигнал бедствия принят, спасательные суда вышли на помощь. Внимание, внимание! Садитесь в шлюпки согласно своим номерам. Просят пассажиров не волноваться…»
Эрнст Фрикке очнулся в холодной морской воде. Он видел ярко освещённый тонущий корабль, сотни людей, барахтающихся в море. Каждый плавающий кусок дерева брался с бою, в борьбе за жизнь сильные безжалостно топили слабых Несколько наполненных до отказа шлюпок кружились вокруг корабля…
Эрнст Фрикке услышал глухой взрыв, за ним другой, третий… Сторожевые корабли метались по морю, разбрасывая смертоносные глубинные бомбы.
Шведский жилет держал превосходно, но, когда одна из спасательных шлюпок оказалась вблизи от Фрикке, он все же схватился за леер, идущий вокруг неё. Шлюпка угрожающе качнулась, её пассажиры испуганно закричали. Фрикке почувствовал сильный удар, один из гребцов, желая избавиться от лишнего груза, угостил его веслом.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ «БЛАГОДАРЮ ВАС, МОЙ ФЮРЕР, ЗА ВЕЛИКУЮ ЧЕСТЬ…»
Дверь в комнату коменданта крепости плотно закрыта. И все же Отто Ляш не в силах избавиться от надоедливых шумов: наглухо закупоренные в цементных стенах подземелья, они назойливо лезут в уши. Ясно доносится тонкое однообразное пение морзянки. Басовито гудят моторы. Разноголосо отзываются телефонные аппараты. Телефонисты, добиваясь связи, неустанно повторяют одни и те же призывы. А вдобавок ко всему чьи-то ноги неприятно шаркают в коридоре.
Отто Ляш, невыспавшийся и небритый, морщится и с неудовольствием посматривает на дверь. Его вызвал к телефону генерал Мюллер. Слышимость плохая, трещит мембрана, и Ляш напрягает слух, стараясь уяснить сбивчивые указания главнокомандующего.
— Противник непрерывно атакует на южном берегу Прегеля, у деревянного моста. — Пауза. — Вы правы, господин генерал, — без всякого выражения подтверждает Ляш в телефонную трубку. — Да, мосты будут взорваны. Да, на юго-западном участке под угрозой королевский замок… Нет, сомневаюсь, господин генерал. Полагаю, к утру в наших руках останется только центральный участок севернее Прегеля…
В дверь постучали.
— Господин генерал… — услышал комендант взволнованный голос.
Отто Ляш оторвался от трубки. Мутный взгляд усталых глаз задержался на почтительной фигуре дежурного офицера.
— Простите, господин генерал, одну минуту.
Комендант прикрыл ладонью микрофон.
— Слушаю вас, Кребсбах.
— Батальоны ополченцев под Прегелем ушли с позиции, — торопливо доложил дежурный.
— Что вы говорите, лейтенант?!
— Начальник штаба выслал связных для проверки, — испуганно дрогнув бровями, продолжал офицер, — один из них вернулся. Он рассказал, как ополченцы без боя сдавались русским. Он видел своими глазами, как они размахивали белым флагом и бросали винтовки. Артиллерийский обстрел с русских позиций невозможно выдержать, население бежит за нашими войсками. Женщины, старики, дети прячутся в подвалы, подготовленные для солдат, и не хотят выходить оттуда… Может быть, вы прикажете вызвать эсэсовцев, господин генерал?
Ляш, не отвечая, махнул рукой.
— Я полагаю, все решится завтра, — с усилием сказал Отто Ляш в трубку. — Войска больше не могут держаться, генерал, они беззащитны против артиллерийского огня русских, против бомбардировок с воздуха. Связные не могут пробраться через пожар и завалы. Они часами блуждают, потеряв дорогу. Штабы не в состоянии руководить обороной.
В кабинет вошёл начальник штаба полковник фон Зюскинд. Комендант, чуть улыбнувшись, кивнул головой и продолжал в трубку:
— Мы несём невосполнимые потери в людях и в технике… Тысячи раненых без медицинской помощи. Материальные и духовные силы обороны исчерпаны. Положение женщин и детей… Моё предложение?.. Я предлагаю, — в голосе коменданта прозвучала твёрдость, — я предлагаю в эту ночь пробиться со всем гарнизоном крепости на запад. Может быть, сегодня это ещё возможно. Пятая танковая дивизия поддержит прорыв.
Отто Ляш опять покорно слушает далёкий голос в трубке, по его лицу снова разлились безразличие и усталость.
— Бегство, позор? Но и для престижа германского оружия такой исход лучше… Ну что ж… Я понял, господин генерал. Слушаюсь.
— Вот, мой дорогой полковник, — положив трубку, обернулся комендант к начальнику штаба. — Вы слышали? Мюллер требует: «Я обязываю солдатской честью вас и ваших офицеров продолжать защиту Кенигсберга», — красивые слова? А нам, к сожалению, осталось одно: капитулировать.
— Я не ждал от генерала Мюллера другого, — мрачно отозвался фон Зюскинд. — Главнокомандующий, как попугай, повторяет слова гаулейтера. Что ж, угодничество тоже способ существования. — Полковник помолчал, собираясь с мыслями. — А самое главное, господин генерал, — нам некого защищать. Германия побеждена, и теперь каждый день войны — безумие. Я думаю, как и прежде: когда здравый смысл подсказывает, что сопротивление бесполезно, надо складывать оружие. И чем скорее, тем лучше.
— Благодарю, мой друг. Я был уверен в вашей поддержке. — Отто Ляш расстегнул воротник френча и потёр шею ладонью. — Не забудьте послать связного на Прегель. А пока, — генерал говорил все медленнее и тише, — я прилягу на час… У нас сегодня, кажется, восьмое апреля? — Он повалился на железную койку, покрытую серым шершавым одеялом, и сразу заснул.
Начальник штаба тихо закрыл за собой дверь.
Вскоре в комнату осторожно, на цыпочках, вошёл дежурный молодой офицер.
— Господин генерал, — рискнул он тронуть за рукав спящего. — Господин генерал.
— Что случилось? — Ляш мгновенно сел на кровати. — Русские? — Он непослушной рукой приглаживал растопырившиеся перьями волосы. — Докладывайте.
Но дежурный не успел сказать ни слова.
Дверь с шумом растворилась. В комнате появилась вельможная фигура Фердинанда Гроссхера, заместителя гаулейтера. За ним — другие, ни одного без золотой свастики на отвороте френча. Все в военной форме, с пистолетами. На рукавах — повязки с чёрной эмблемой. С ними пришёл и Хельмут Вилль, обер-бургомистр Кенигсберга, высокий, с презрительной усмешкой на породистом лице.
— Хайль, — поднял руку Гроссхер. — Безобразие, генерал, начальник штаба не пропускал к вам, прорвались чуть не силой. — Он с размаху бросился на стул.
Ляш медленно поднялся с койки, застегнул пуговицы френча, поправил на шее Железный крест.
— Это моё приказание, — сказал он, — я решил поспать — неизвестно, как пойдут дела дальше… У вас что-нибудь серьёзное, господа? — Генерал искоса глянул на развязного нациста. Он терпеть не мог, когда кто-нибудь сидел вот так, как Гроссхер, расставив ноги, но сдержался.
— Я получил приказ гаулейтера Коха вывезти из города женщин и детей, прорваться мне приказано этой ночью… — И он обернулся к своим партейгеноссе.
— Покажите приказ. — Ляш протянул руку, стараясь не смотреть на большой нахальный нос Гроссхера с противными волосатыми ноздрями.
— Я получил приказ по телефону, но это несущественно. Мы просим вас расчистить дорогу от русских силами гарнизона крепости.
— Без приказания главнокомандующего я ничего не могу предпринять, — невозмутимо возразил генерал. — Лейтенант, — бросил он дежурному офицеру, — соедините меня с генералом Мюллером. Придётся подождать, господа.
Денщик принёс раскладные стулья.
Нацисты молча расселись. Видно было, что они здорово напуганы.
— Детей и женщин необходимо срочно вывезти, — не совсем уверенно произнёс Гроссхер, — только тогда солдаты смогут успешно защищать город.
— Неорганизованная публика вносит в ряды защитников беспорядок, — вмешался широкоплечий, немного сутулый Вагнер, — получается вот что, дорогой генерал: солдаты видят страдания мирного населения и приходят в замешательство. Я бы сказал: это оказывает вредное влияние на солдатские головы.
— Женщины и дети… Да, и дети парализуют боевой дух нашей доблестной армии, — добавил Гроссхер, — они создают ненужное брожение в умах.
Его коллеги согласно закивали.
— И вы хотите взять на себя почётную задачу быть спасителем женщин? — несколько иронически спросил комендант. Ляш был уверен, что его собеседники готовы дать тягу под любым предлогом.
Раздался мягкий стрекот телефона. Генерал Ляш взял трубку.
— У телефона комендант крепости, — сказал он. — Мне приходится беспокоить вас ещё раз, господин генерал, — и Ляш точно изложил соображения нацистов. — Господин Гроссхер ссылается на указание гаулейтера, переданное ему по телефону. Как прикажете поступить, генерал?
Отто Ляш плотно прижал трубку к уху, стараясь не пропустить ни слова. Раза два он брал карандаш и записывал что-то на уголке карты.
— Ну вот, господа, — не спеша положив трубку на рычаг, объявил он, — я получил ответ главнокомандующего.
Нацисты насторожённо подались к коменданту.
— Для поддержки вашего прорыва, господа, мне разрешено выделить незначительные силы. Гарнизон должен продолжать оборону крепости.
Наступило тягостное молчание.
— Я требую, генерал, — снова заговорил Гроссхер, — бросить на прорыв все силы гарнизона и прошу вас лично руководить этой операцией.
Лицо и шея Гроссхера побагровели.
— К сожалению, у меня приказ главнокомандующего, — развёл руками Ляш. — Давайте обсудим, господа, как вы предполагаете провести операцию?
Гроссхер вскочил и истерично выкрикнул:
— Я не согласен! — Грозный заместитель гаулейтера принялся шарить по карманам. — Курить! — бросил он, ни к кому не обращаясь.
Несколько рук угодливо подали ему сигареты, кто-то поднёс спичку.
— Защищая крепость, я выполняю личное приказание фюрера, — отпарировал Ляш. — Фюрер приказал сражаться до последнего солдата. Благодарю вас, мой фюрер, за великую честь… — патетически закончил он, обернувшись к висевшему на стене портрету.
Отто Ляш с явным удовольствием оглядел присутствующих. Это был ход козырным тузом.
— Я не все сказал, господин Гроссхер, — добавил он. — Гаулейтер Кох приказал вам закончить операцию с янтарём… — Ляш брезгливо поморщился. — Все, кто прятал сокровища и остался в Кенигсберге, подлежат немедленному уничтожению.
Партейгеноссе переглянулись. Наступило молчание.
— Где этот мерзавец Эйхнер? — опомнился Гроссхер, поворачивая во все стороны голову, словно желая увидеть штурмбанфюрера. — Вчера он целый день мозолил мне глаза. Приказ Коха касается его в первую очередь… Поручаю вам, Фидлер.
Генерал Ляш на мгновение вспомнил эсэсовца в чёрной ворсистой шинели с фонариком, пристёгнутым к пуговице. Штурмбанфюрер должен был эвакуировать важную персону… несколько миллионов золотых марок. Профессор Хемпель…
На этом столе генерал Мюллер подписал пропуска. Где сейчас Хемпель? Теперь-то он, наверное, в безопасности.
Судьба драгоценностей ненадолго отвлекла внимание партейгеноссе. Страх перед завтрашним днём тревожил их не на шутку.
— Нам нельзя оставаться в городе! — крикнул один из высоких гостей. — Мы… мы, — он запнулся.
— Почему это вам нельзя оставаться в городе? — возразил Ляш. — Непонятно, прошу вас, объяснитесь. Наоборот, вам было бы естественней остаться. — Он выговорил эту фразу медленно, выделив слово «вам».
— Мы не можем спокойно сидеть в крепости, генерал, если на наших глазах гибнут женщины и дети, — сказал Вагнер.
— Вы думаете, женщины будут себя чувствовать лучше, если на их головы обрушится огонь русской артиллерии? Прорваться сквозь армейские части трудно. — Отто Ляш снова насмешливо оглядел нацистов. — Ещё хуже, если они попадут под гусеницы танков.
Все нацисты дружно изобразили на лицах благородное негодование.
— Ночью противник не разберёт, где женщины и дети, а где солдаты! — Ляш встал. — Перед вами, господа, мне скрывать нечего. Недавно я предлагал главнокомандующему свой план: ночью прорваться на запад всеми силами гарнизона. По-моему, это превосходный выход из весьма щепетильного положения. Как военные, мы не уроним славы немецкого оружия, а как немецкие патриоты — сохраним город и жизни многих и многих людей.
— Если таково ваше мнение, генерал, — прервал Фердинанд Гроссхер, — то почему…
— Наш обожаемый фюрер думает иначе…
— Черт возьми, фюрер не знает нашего положения! — выкрикнул Фидлер и тут же осёкся.
Вагнер бросил на него тяжёлый взгляд своих блеклых глаз.
Воцарилось молчание.
Да, многие боялись взгляда грозного кенигсбергского крейслейтера Эрнста Вагнера. Всех нацистов, возвращенцев из Пиллау, он считал дезертирами и обращался с ними надменно и пренебрежительно.
Сбежавшие из Кенигсберга в ту памятную ночь наци и сам Гроссхер не верили в героизм своего коллеги Вагнера. Они были убеждены, что остался он в городе случайно: «Опоздал на последний транспорт».
— И долго вы, генерал, собираетесь защищать Кенигсберг? — нарушил молчание Гроссхер. — Сколько солдат сейчас под вашим командованием?
— Могу сказать одно: исход предрешён, — ответил Ляш, — время, в течение которого мы сможем защищать крепость, измеряется часами. А солдаты, сколько их? Не знаю. Может быть, шестьдесят тысяч, а может быть, двадцать…
— Ну, а дальше, когда ваши часы истекут? — нахмурясь, спросил Вагнер.
Комендант промолчал.
— Если бы мы находились на западе и нашими противниками были бы американцы или англичане, — продолжал Вагнер, — я, пожалуй, поддержал бы капитуляцию, генерал. Больше того, я сказал бы англосаксам: добро пожаловать на германскую землю. Но мы окружены русскими. Как приказал фюрер, пусть русские получат только прах. — Последние слова Вагнер словно выплюнул.
— Капитуляция — предательство! — исступлённо закричал Фидлер. — Национал-социалистская партия не может согласиться на сдачу Кенигсберга. Мы до конца выполним свой долг перед фюрером и народом! Вы пораженец! Мы знаем, что вы болтали с генералом Мюллером, достаточно и одной десятой того, что мы слышали. Я требую назначения нового коменданта. Благодарите русских, генерал, если бы не штурм, то… — Рука его выразительно сжалась, как будто на горле Ляша.
На поясе Фидлера, совсем как у имперского комиссара Коха, болтались два пистолета.
— Господа, у меня нет больше времени. — И Ляш, надменно сжав губы, посмотрел на Фидлера, которого презрительно называл «пожарным генералом». Фидлер, по профессии инженер-строитель, несколько лет после прихода Гитлера к власти работал участковым пожарным инспектором и вдобавок имел магазин пожарного оборудования.
Ляш снял с вешалки потёртое кожаное пальто с серебряными витыми погончиками, надел его, подпоясался ремнём. Все это он делал медленно, преодолевая усталость. Сейчас ему как-то особенно отчётливо представилось, что выспаться он сможет, вероятно, только в плену.
— Обсудите план прорыва с полковником Зюскиндом! — засунув руки глубоко в карманы пальто, приказал Ляш. — План должен быть у меня через два часа.
В подземелье настроение становилось все тревожнее. Гул сражения теперь проникал и сюда сквозь толстые железобетонные стены. При взрывах снарядов и авиабомб головы нацистов втягивались в плечи. У грузного Гроссхера всякий раз подгибались колени.
— Господин генерал, господин генерал! — прозвучал голос дежурного офицера. — Господа, пропустите связного к генералу.
Нацисты молча расступились. В комнату вошёл пожилой офицер в обгоревшей пропылённой шинели.
— От майора Шмоцке, — козырнув, он передал коменданту жёлтый глянцевый пакет.
— Как там, наверху, лейтенант? — разрывая пакет, спросил Ляш. — Туман, дождь, солнце?
Офицер удивился. Стараясь припомнить, какая была погода, он машинально провёл ладонью по лбу. Пот, пыль и копоть смешались, образуя грязный след.
— Простите, господин генерал, — виновато ответил он, — не приметил, не помню.
— Как сражаются наши доблестные солдаты, дорогой лейтенант? — спросил связного Вагнер.
— Разве можно сражаться с ураганом, — офицер пожал плечами, — или с наводнением? Люди сходят с ума. Женщины поднимают белые флаги, вырывают оружие из рук солдат.
— Вы лжёте! — крикнул Фидлер, хватаясь сразу за оба пистолета.
Офицер даже не посмотрел на него.
Фердинанд Гроссхер отстегнул от пояса алюминиевую фляжку и пил, не обращая внимания на косые взгляды
— На западном и северном участках противник достиг центральной части города, — стараясь не выдать волнения, произнёс генерал Ляш. Он склонился над планом, лежавшим на столе. Красным карандашом очертил небольшой участок вокруг королевского замка. — Вы представляете, господа, что это значит? — устремив кончик карандаша во двор средневековой крепости, генерал испытующе посмотрел на нацистов. — Здесь все, что у нас осталось.
…Миновала ещё одна трудная ночь. От горящих где-то поблизости танков на Парадной площади все время было светло. Настало утро девятого апреля. В центре города бои продолжались без передышек.
Около полудня в подземелье генерала Ляша погас свет. Растерявшиеся штабные офицеры долго не могли найти свечей. Предполагали, что провода повреждены взрывом авиабомбы. Батарея большой ёмкости находилась в подвалах центрального телеграфа против замка. Током от этих аккумуляторов можно было из штаба генерала Ляша взорвать любой замаскированный объект.
Вскоре в штабе стало известно о взятии советской пехотой телеграфа. На очереди стоял королевский замок.
Новое совещание опять кончилось ничем. Гроссхера на совещании уже не было: его убили в ночной схватке. Крейслейтеры, оставшиеся в живых после неудачной попытки прорваться на запад, отвергли капитуляцию.
От фюрера поступали указания: во что бы то ни стало держать Кенигсберг. Однако дело сейчас было не в приказе фюрера — просто не было другого выхода. Охваченные звериным страхом, нацисты хотели ценой многих и многих жизней продлить хотя бы ненадолго свою жизнь.
Обозлённые крейслейтеры с бранью покидали бункер коменданта.
— Вас русские повесят на первом фонаре! — с вызовом крикнул кто-то генералу Ляшу. — Вы не лучше нас.
— Я не замешан в ваших делах, — сдержанно возразил генерал. — Я только солдат.
— Только солдат — как бы не так. У вас короткая память. Ваше рыльце основательно в пушку, генерал, вы немало насолили русским на севере. Как никто другой, вы всегда точно выполняли приказы фюрера.
Крейслейтер Вагнер задержался у порога комендантской комнаты.
— Вы полагаете, генерал, я не понимаю, что война проиграна?
Ляш взглянул вопросительно.
— Признаюсь. Ваша категорическая позиция…
— Я против капитуляции только потому, что каждая минута нашего сопротивления помогает спастись многим настоящим немцам, — прервал Ляша Вагнер. — Они должны надёжно спрятаться в Германии или отдать себя в руки западных держав… Я вижу по вашему лицу… для вас это безразлично. Стоит ли беспокоиться о наци. Но, генерал, — Вагнер повысил голос, — кто без нас организует народ? Кто подымет немцев на новую войну? Кто уничтожит всех евреев во всем мире? Вы думаете, с этим справятся дохлые социал-демократы?.. Нет, так просто мы не уступим своего места, как бы не так! — он перевёл дыхание. — Я верю, что немцы расправятся с большевиками прежде, чем мир станет красным. У неполноценных народов мы можем кастрировать волю. Мы… мы… — На губах крейслейтера выступила пена. — Вспомните, генерал, величайший из немцев поставил на карту свою драгоценную жизнь во имя национал-социализма.
— Кто будет спасителем Германии, мне все равно. Я буду его поддерживать, — хладнокровно отрезал Ляш, — но я удивляюсь вам, крейслейтер. Вы, именно вы, наци, намерены спасать Германию. Вам не кажется, что этого не допустят не только наши враги, но и наши друзья?
— Вы вычеркнули нас из жизни, генерал, — с бешенством продолжал Вагнер, — рано вычеркнули! Мы ещё придём и, поверьте, будем беспощадны.
— Выпейте воды, — с едва ощутимой снисходительностью предложил комендант, — нервы надо беречь…
— Свои берегите, — огрызнулся Вагнер и, резко повернувшись, вышел из комнаты.
Генерал Ляш, передёрнув, словно в ознобе, плечами, тяжело опустился в кресло.
Дежурный офицер доложил о потере связи со штабом кенигсбергских ополченцев. Штаб находился в королевском замке.
Из подвала университета позвонил командир 69-й пехотной дивизии полковник Фелькер.
— Господин генерал, — услышал комендант, — боеприпасы кончились. Прошу указаний.
— Хорошо, — ответил Ляш, — указания вы скоро получите. На боеприпасы не надейтесь.
Надо принять решение. Азы военного искусства, крепко вбитые в генеральскую голову, приказывали ему капитулировать.
«Напрасно разрушается город, напрасно гибнут люди», — думал он.
В то же время его душила злоба: генерал Отто Ляш не смирился, о нет. Он хоть сегодня был бы рад начать подготовку к новой войне с русскими коммунистами. И чем скорее кончит войну Германия, тем скорее она сможет снова воевать.
Ляш вызвал к себе начальника штаба фон Зюскинда.
— Дорогой полковник! — торжественно начал генерал. — Надеяться на чудо могут только враги Германии. Озарения фюрера больше меня не устраивают. Я принял решение — сложить оружие. Время работает не на нас, оно пожирает нас.
Как только офицеры узнали о решении коменданта, в штабе поднялся переполох, все встало вверх дном. В штабе суетились, рвали и жгли документы. Непрерывно работали спускные клапаны ватерклозетов — штабные чины прятали концы в воду.
Никто не думал об обороне. Офицеры лихорадочно упаковывали свои пожитки. Каждый думал только о себе. Бои на улицах города ещё продолжались, но штаб ими уже не руководил.
Наступили последние часы обороны Кенигсберга. После каждого удара советской артиллерии по укреплённым домам немецкие солдаты и офицеры бросали оружие, сдавались в плен.
Около девяти часов в подземелье коменданта крепости появились советские парламентёры во главе с начальником штаба одной из дивизий полковником Яновским.
Не успели закрыться за ними двери, как длинная фигура «пожарного генерала» с кобурами у пояса неожиданно возникла перед часовым, охранявшим дверь комендантского пункта. Часовой преградил ему вход и вызвал дежурного офицера.
Фидлера к генералу Ляшу не допустили.
— Генерал Ляш — предатель! — истошно вопил Фидлер, размахивая пистолетами. — Я уполномочен расстрелять всех изменников вместе с комендантом крепости. Я уничтожу всех, я запрещаю капитулировать!..
Покричав, Фидлер ушёл.
По требованию полковника Яновского Отто Ляш в своей подземной комнате подписал документы. В двадцать один час тридцать минут приказ разослали командирам частей.
Офицерам и солдатам кенигсбергского гарнизона гарантировалась жизнь, сохранение личного имущества, питание, медицинская помощь раненым, достойное солдат обращение. Ночью десятого апреля пленные офицеры штаба во главе с Отто Ляшем шли по горящим улицам города в штаб советского командования под охраной советских автоматчиков.
В брошенном подземелье ветер гонял по коридору обрывки бумаг, раскачивал на стене в комнате генерала Ляша портрет человека с выпученными глазами и чёрным пятном усиков. А на столе из-под цветной попонки сиротливо выглядывал забытый фарфоровый кофейник.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ
Только на четвёртые сутки удалось супругам Хемпель покинуть дом Готфрида Кунце.
Супруги Хемпель шли по улице, где все напоминало о жестоких схватках. Вот перевёрнутые взрывом зеленые вагоны узкоколейки; маленький паровоз-кукушка стоял вертикально, словно собачка на задних лапах. Разрушенные горящие дома, изувеченные, вверх колёсами, трамваи, неубранные тела убитых. В городе пылали пожары. Клубы густого чёрного дыма плотной завесой закрывали небо. Коричневая пыль медленно оседала на улицах, на обнажённых деревьях, на лицах прохожих… Люди задыхались от едкого тумана, от него першило в горле и выступали на глазах слезы.
Из окон, дверей и балконов торчали самодельные белые флаги, на древке от половой щётки болтались простыня, салфетка, просто носовой платок. Белые флаги были водружены и на уцелевших домах. «Сдаёмся» — кричали они со всех сторон. «Мы сдаёмся! Пощадите!»
Совсем нелепо выглядели сегодня рекламные тумбы с цветными афишами.
Не успели отгреметь выстрелы, а на улицах разрушенного города появились беженцы. Люди, понурившись, уныло брели в поисках жилища. На их лицах застыли отчаяние и покорность. Трудно понять, что руководит ими: бесконечные потоки горожан шли навстречу друг другу — одни покидали негостеприимные места, другие искали там пристанища.
Переселенцы тащили на самодельных тележках уцелевший от бомбардировки и пожаров домашний скарб. Здесь и маленькие арбы, тачки, карликовые телеги, просто ящики на железных колёсиках. Среди убогих самоделок крытые цветным дерматином детские колясочки выглядели аристократически.
Гружённую скарбом телегу тащили за дышло двое взрослых. Подростки толкали сзади, девочка, уцепившись одной рукой за юбку матери, другой прижимала куклу.
В уличном потоке преобладали женщины, дети, старики. Одежонка на переселенцах небогатая, старая и какая-то однообразно-серая. Зато все, от мала до велика, тщательно кутали шеи чем-нибудь тёплым: платком, обрывком пледа, а то и просто тряпкой. Небритые мужчины в каскетках с матерчатыми козырьками тащили на спинах узлы. У многих на поясах болтались алюминиевые котелки.
Увидев на улице советского офицера, они снимали кепи и вежливо кланялись.
В сером, неприглядном потоке выделялись чопорной чистотой черно-белые монахини с постными лицами и дородные ксендзы с белыми круглыми воротничками.
Профессор заметил в небольшой нише дубовую дверь, украшенную вычурной резьбой. Это была превосходная старинная работа. Посередине бронзовый орёл держал в лапах тяжёлое кольцо, а по краям переплетались фантастические цветы. Наличники по сторонам двери изображали полуобнажённых бородатых воинов со средневековым оружием. Наверху — герб Кенигсберга, внизу — затейливый орнамент и ощеренные львиные морды.
— Дверь — настоящее произведение искусства, а домишко невзрачный, — сказал профессор жене, — дешёвые квартирки с удобствами под лестницей. Однако, — добавил он, приглядевшись к старому дому с бельведером, орнаментированным в стиле барокко, — если фасад очистить от пыли…
Он оживился и, проворно вынув из кармана небольшое увеличительное стекло в янтарной оправе, с которым никогда не расставался, принялся с интересом исследовать лапы бронзового орла.
Дверь с шумом распахнулась. Профессор едва успел отскочить в сторону. Его глазам представилось странное зрелище: несколько разгорячённых полуодетых женщин изо всех сил удерживали высокого толстяка. Лицо у него наглое, упитанное, волосы спутаны, он шумно дышал, раздувая широкие ноздри. На нем был поношенный короткий пиджак, явно с чужого плеча, и штаны, отвисшие сзади, протёртые на коленях. На ногах — большие башмаки.
Грязно ругаясь, толстяк старался вырваться, но женщины не уступали. Они крепко держали его за руки, за одежду. Когда мужчина повернулся, профессор узнал его. Это был штурмбанфюрер Эйхнер.
— Вот погоди, русские вырвут твой поганый язык, — кричала молодая простоволосая женщина, — многих ты заставил страдать! — Одной рукой она держала нациста, другой старалась застегнуть кофточку.
— Этот негодяй орал на всех перекрёстках: «город неприступен», и доносил в гестапо на тех, кто хотел вовремя эвакуироваться, — голосила старуха с синим мясистым носом. — Он наш сосед, я помню всех, кого он погубил. Есть ли после этого бог?
Штурмбанфюрер изо всех сил старался высвободиться. Он лягался, бодался, но все напрасно.
— Офицер, русский офицер! — закричала женщина в полосатом платке, наброшенном на голые плечи. — Он поджёг наш дом. Это наци, гитлеровец: арестуйте его!
— Помогите, помогите, он вырывается! — пронзительно завопила старуха.
Профессор Хемпель хотел вмешаться, но фрау Эльза крепко держала мужа.
Несколько вооружённых советских солдат и офицеров с красными повязками на рукавах, проходившие на дальнем перекрёстке, остановились прислушиваясь.
— Скорее, скорее! — кричала простоволосая женщина, с трудом удерживая разъярённого эсэсовца.
Патруль приблизился.
— Что здесь происходит? — по-немецки, с твёрдым славянским акцентом спросил офицер.
Штурмбанфюрер мгновенно перестал сопротивляться и волком посмотрел на автомат. Женщины наперебой объясняли:
— Он национал-социалист.
— Гитлеровский агитатор.
— Он все время обманывал нас.
— У меня четверо детей и нет мужа. Он поджёг дом. Мы едва потушили пожар.
Без приказания эсэсовец поднял руки и озирался на женщин: что они ещё скажут?
— Господин офицер, — неожиданно для всех заговорил профессор Хемпель, — я знаю этого человека. Это штурмбанфюрер Эйхнер из гестапо. Очень опасный человек.
Гестаповец вздрогнул и бросил на профессора взгляд, полный ярости. Он был жалок и противен с искажённым злобой и страхом лицом.
Старший лейтенант, посмотрев на дом, что-то записал в книжечку.
— Идите вперёд! — приказал он нацисту. — Руки держать за спиной. Предупреждаю, если попытаетесь бежать — буду стрелять. Гитлеровец будет наказан, — обернулся старший лейтенант к женщинам, — можете не беспокоиться.
Профессор спрятал увеличительное стекло. Заниматься исследованием бронзового орла работы восемнадцатого века он больше не хотел.
Вскоре навстречу чете Хемпель попалась толпа немецких офицеров и солдат под конвоем советских автоматчиков. Профессор равнодушно смотрел, не чувствуя ни гнева, ни сострадания.
Вот он видит, как из дверей серого дома, на котором написано огромными буквами: «Мы никогда не капитулируем», выходят солдаты с поднятыми руками.
«Так должно быть, — повторял профессор про себя, — это возмездие».
Где-то ещё стреляли: доносились пулемётные очереди, выстрелы танковых пушек, взрывы.
У кинотеатра сохранились обрывки старых афиш пропагандистского фильма «Фридерикус» — о Фридрихе Великом, бережливый король был изображён в рваных ботинках. И ещё афиша: «Фюрер на состязаниях по плаванию».
Хуфен-аллее перегораживали груды кирпича, вывороченные с корнем деревья, автомашины, перевёрнутые вверх колёсами.
Супруги Хемпель решили идти в обход, по Гинденбургштрассе.
Перед глазами знакомая вертящаяся дверь. Профессор остановился. Хорошо бы пройти через зоологический парк — ближе, безопаснее. Окно небольшого домика, где обычно сидел кассир, закрыто деревянными ставнями. Вокруг ни души.
— Можно пройти, мой милый, — сказала фрау Эльза, толкнув дверь, — цепь разорвана, идём.
— Что ж, — согласился профессор, — сейчас все дозволено.
Громкое карканье встретило супругов Хемпель. Растревоженное вороньё густо сидело на деревьях.
У клеток для хищников супруги замедлили шаг. Клетки оказались открытыми. Зверей не было, остался неприятный запах. Неподалёку зияла глубокая воронка.
— Тут были львы, — сказала фрау Эльза. — Я хорошо помню.
Львы валялись мёртвые в нескольких шагах от своей клетки…
Супруги шли по дорожке, мощённой квадратными плитками. У живописных серебристых елей их остановил резкий гортанный крик. В ветвях мелькнула чья-то тень.
— Обезьяна, — с облегчением проговорил профессор, присмотревшись, — голодная, наверно. — Он нащупал в кармане огрызок галеты. Повизгивая, обезьяна протянула лапы и, выхватив еду из рук человека, скрылась.
У пустого орлятника дверцы были открыты. У корытца копошились разноплемённые голуби и воробьи. В других птичниках валялись пёстрые трупики пернатых. Здесь хозяйничали два крючконосых ястреба.
В ветвях кустарника перед супругами Хемпель возник чёрный силуэт мужчины с надвинутой на глаза шляпой и поднятым воротником — это плакат.
«Пст! Молчи, нас подслушивают», — предупреждал он немцев.
На обезьяннике и аквариуме вкось и вкривь намалёваны фашистские приветствия и оптимистические лозунги: «Мы все-таки победим», «Мы не погибнем».
И повсюду белые стрелы, указывающие бомбоубежище.
На все это было грустно смотреть. Но солнце светило ярко и весело. Небо казалось особенно синим. Разноголосо щебетали весенние птахи. Деревья зоопарка стояли голые, неприветливые; доктор Хемпель чувствовал тонкий аромат набухших древесных почек.
Супруги подошли к разрушенному бомбой зданию. До войны здесь был ресторан с открытой верандой. С другой стороны, у входа в подвальное помещение, валялись окровавленные бинты, поблёскивал брошенный хирургический инструмент.
Вдруг фрау Эльза вскрикнула, испуганно прижавшись к мужу.
Из-за угла ресторана-лазарета появилась огромная морщинистая туша на коротких толстых ногах. Это был бегемот. Он остановился и глядел на супругов Хемпель красными глазами.
— Он скучает, бедный Ганс, — профессор безбоязненно погладил зверя по шершавой коже, — наверное, голоден. — Бегемот покрутил коротким хвостом.
Супруги Хемпель двинулись дальше. Бегемот, словно большая собака, тяжело переступая, следовал за ними.
Вот и мост. Недавно здесь кипел бой. На дне оврага, у маленькой речушки, в талом грязном снегу валялись трупы немецких солдат, искалеченные пушки, автоматы, обоймы и пустые патронные гильзы.
Стволы деревьев повреждены осколками, кора оборвана, деревья истекают соком. А на ветках весело трещат разыгравшиеся по-весеннему воробьи.
У развороченных танком ворот бегемот остановился, словно понимая, что переступать границы зоологического парка ему нельзя. На прощание он с шумом раскрыл и закрыл огромную пасть.
— Бедный Ганс, — вздохнула фрау Эльза, — скоро ли найдётся хозяин, который тебя накормит?
Напротив зоопарка среди развалин высилось уцелевшее здание. Этот большой кирпичный дом цвета синего баклажана принадлежал страховому обществу «Норд-Штерн». На нем сохранилась даже неоновая вывеска. У дома толпились люди, освобождённые советскими войсками из фашистских лагерей. Здесь русские и украинцы, французы и поляки, югославы, англичане. Их можно было различить по национальным флажкам, пришитым на груди. Опознавательные буквы, унижающие человеческое достоинство, сорваны. Много девушек и женщин с радостными, улыбающимися лицами. Слышатся музыка, песня, смех. Кто-то даже танцует.
Тут же прохаживались виновники торжества — советские солдаты.
Здание немецкого военного госпиталя по Ландштрассе, где когда-то размещалось финансовое управление Восточной Пруссии, тоже не разрушено.
Профессор Хемпель вспомнил разговор с врачом-эсэсовцем Клюге. Рассказывая о решении военного командования выложить на крыше госпиталя красный крест, Клюге утверждал: русские не обратят внимания и разбомбят госпиталь.
Но здание оказалось целым, и профессору было почему-то приятно, что русские пощадили госпиталь.
Вот и бронзовая статуя великого Шиллера: она повреждена осколками снарядов.
На пьедестале памятника выведено мелом: «Шиллер — памятник мировой культуры».
Профессор долго стоял возле бронзового поэта, пытаясь понять, что значат эти слова, написанные по-русски.
Полуразрушенное здание радио, вплотную к нему — уцелевший дом прусского архива. У сохранившегося огромного здания судебных учреждений по-прежнему стояли бронзовые зубры, свирепо нагнувшие головы. На площади, у здания вокзала, изрядно пострадавшего, раскачивались на ветру повешенные за ноги немецкие солдаты: дезертиры, казнённые немецким командованием. Лица мертвецов синие, руки протянуты к земле.
Супруги Хемпель свернули на Врангельштрассе, с трудом пробираясь среди бесконечных развалин, танков, пушек, надолбов и ежей. Не дойдя до Верхнего озера, они решили вернуться. Дорога на Врангельштрассе оказалась непроходимой.
Профессор Хемпель взобрался на кучу кирпичных обломков, откуда хорошо было видно озеро, окружённое деревьями. Тёмный от копоти пожаров лёд ещё не совсем растаял. В разводьях торчали дула орудий, колёса военных повозок, кузова машин. Многие деревья на берегу озера изувечены артиллерийским огнём. На противоположном берегу, среди развалин, виднелось здание больницы, размалёванное серо-зелёными пятнами.
Над круглым кирпичным фортом Дердона на ветру развевался красный флаг.
Профессор шёл молча, фрау Эльза, взглянув на мужа, как всегда, разгадала его мысли.
Недалеко — королевский замок, и Альфред обязательно вспомнит про свои дела, и это отвлечёт его от грустных мыслей.
— Эльза, дорогая, — произнёс, наконец, профессор.
— Да, Альфред!
— Мне нужно посмотреть замок.
— А там не опасно сейчас, мой милый?
— Не более, чем везде. Мы прошли через весь город, встретили много русских солдат, а нас никто не обидел.
— Это правда. Наверное, такие старики, как мы, никому не нужны.
Супруги шли среди руин и выгоревших каменных коробок. По-прежнему встречались переселенцы с детьми и скарбом на тележках.
Замок был пуст. Гулко раздавались шаги. Звуки проникали внутрь сквозь пустые глазницы окон и разносились эхом по пустым дворцовым залам. Нижнее окно круглой дворцовой башни, в углу, курилось едким, синеватым дымом: там дотлевала бумажная рвань.
Во дворе среди брошенного оружия лежали трупы солдат.
Повсюду кучи расстрелянных гильз и патронные ящики. Снова надпись на стене: «Мы никогда не капитулируем».
И никого живого.
Профессор вдруг представил себе, что он попал в заколдованный город из какой-то страшной сказки.
И робость незаметно вошла в сердце. Профессор стал говорить тише. Он нервничал, озирался по сторонам. Вдруг ему почудилось, что один из мертвецов зашевелился. Но нет, это не мёртвый, раненый. Солдат приподнялся и пополз, молча упираясь руками в булыжник, медленно волоча неподвижные ноги.
Профессор нагнулся над ним.
— Господа! Ради бога, сжальтесь, — прохрипел солдат. — Нужен врач… Рана в бедро, перебиты ноги. Я услышал немецкую речь. Пить, каплю воды…
— Я принесу воды, — предложила фрау Эльза и, взглянув на мужа, быстро пошла к воротам.
— Но почему вас не взяли в лазарет русские? — спросил профессор, в ужасе глядя на изуродованное тело солдата.
— Я спрятался, они добивают раненых, нас предупреждали…
— Это ложь, русские не добивают раненых.
Солдат поднял голову и внимательно посмотрел на старого учёного. Глаза раненого, тонувшие в глубоких чёрных провалах, были широко открыты, выпуклый лоб покрывался капельками пога, сухие губы растрескались.
Профессор вынул платок и вытер лоб солдату.
— Я вас знаю. Вы профессор Хемпель.
Учёный кивнул головой, мучительно стараясь сообразить, где он встречал этого человека.
— Я портной Ганс Фогель, — напомнил раненый, — два десятка лет я шил на вас. В сорок третьем году вы заказали однобортный серый костюм в полоску…
Теперь учёный узнал портного. Это был хороший мастер и честный человек. Но, боже, как он изменился! Это серое лицо, заросшее седой щетиной, лихорадочные глаза!
— Что здесь творилось, профессор! Теперь мне не страшен ад, — глухо бормотал раненый. — Когда русские… усилили обстрел из крупнокалиберных орудий, мы потеряли связь со штабом коменданта крепости… — портной торопился, говорил быстро, задыхаясь и глотая слова. — Солдаты нашли в подземельях вино. И страшно сказать, профессор… в такой час началось поголовное пьянство… Вахгольц… Заядлый нацист. Он был хорош, когда без умолку трещал языком… А когда дошло до дела, оказалось… В подземелье ринулись беженцы, чтобы укрыться от обстрела. Командир приказал стрелять в женщин и детей. Мерзавцы! — лицо Фогеля вдруг сморщилось, он всхлипнул и закрыл глаза.
Профессор присел на краешек чемодана.
Фрау Эльза вернулась с бутылкой воды. Портной жадно выпил все до капли.
— Спасибо, милая фрау Хемпель. Мне теперь гораздо легче, — сказал он, вытирая тыльной стороной ладони рот.
— Потом новое командование Кенигсбергской крепости появилось у нас в подвалах, — рассказывал солдат — В подвалах собралось полторы сотни эсэсовцев и полицейских да горстка нас, фольксштурмовцев. Это весь гарнизон крепости Кенигсберга… — портной устало помолчал. — Женщины вырывали у нас оружие. Потом меня ранили, — он заметно слабел. — Я подслушал разговор… хотели из подземелья замка достать какие-то ценности, продать американцам. Они говорили: надо сжечь, уничтожить замок.
— Кто хотел уничтожить, какие ценности, герр Фогель? — взволнованно спросил профессор Хемпель. — Это очень важно, постарайтесь вспомнить.
Для учёного последние слова портного приобрели страшный смысл.
— …Многие… я не могу стрелять в женщин… там дети, освободите меня, господин оберландфорстмайстер… стоять до последнего… я не хочу вина, дайте воды, воды…
Ганс Фогель вытянулся, затих, выражение лица его стало отчуждённым, голова сникла.
Профессору показалось, что портной уснул, он стал тормошить его.
— Вспомните тот разговор, Фогель, умоляю вас!
— Он умер, — сказала фрау Эльза, — оставь его.
Профессор Хемпель снял шляпу и долго молчал.
— Подожди меня здесь, — наконец сказал он жене, — я скоро вернусь.
Он решил сейчас закончить работу, начатую в тот памятный день. Путь в подвал был хорошо известен.
Долго пришлось дожидаться фрау Хемпель своего супруга.
Но вот и он появился на дворе замка, удовлетворённый и успокоившийся.
— Ты, Альфред, собрал на себя всю грязь и паутину, — ласково выговаривала фрау Эльза. — Ты был в подвале, это я вижу. А почему у тебя руки в цементе?
Профессор промолчал. Он с живостью оглянулся, посмотрел вправо, влево, прислушался.
В замке все было мертво, тихо и глухо.
У ворот их остановил советский патруль.
— Что у вас в чемодане? — спросил у профессора светловолосый майор, возвращая документы.
Заглянув одним глазом в чемодан, майор кивнул. Вещевой мешок за плечами фрау Хемпель он вообще не стал осматривать.
— Что вы делали в крепости?
— Профессор служил в этом замке, он директор музея, — ответила за мужа фрау Эльза.
Майор разрешил следовать дальше, и патруль скрылся во дворе замка.
В подъезде какого-то дома, куда зашли передохнуть супруги Хемпель, собралось несколько прохожих. У всех был подавленный, испуганный вид.
Пожилой немец, замотанный до ушей красным шарфом, курил изогнутую пенковую трубку. Из шарфа глядело лошадиное лицо. Вынув трубку, он весь подался к профессору, обдав его облаком тошнотворного дыма.
— Гарнизоны королевского замка и форт Дердона продолжают сопротивление, там засели эсэсовцы, — зашептали узкие синеватые губы, — мы не знаем силу, сопротивления военных частей, не пожелавших капитулировать по приказу генерала Ляша… Он оказался предателем. Приказом фюрера Отто Ляш лишён генеральского звания и приговорён к расстрелу. — На лошадином лице появилось выражение лютой злобы.
Профессор с поспешностью отстранился.
— Мне противно слушать, неужели вам мало… — Альфред задохнулся от негодования. Опять закололо сердце. Жена умоляюще посмотрела на него.
— Некоторые думают, что война скоро кончится, нет, она только начинается, — шипел господин с лошадиным лицом, — теперь за нас будут воевать американцы, англичане, французы…
— Я не могу больше слушать, Эльза, пойдём отсюда.
На улице профессор с облегчением вдохнул свежий воздух. То там, то здесь чернели закопчённые, развороченные укрепления, сгоревшие, разбитые дома. На некоторых улицах все было взорвано, У двух обгоревших танков, столкнувшихся лбами и вставших на дыбы, доктор Хемпель остановился и покачал головой.
Да, все это тяжко. Но сегодняшний день вызвал и новые мысли. Что-то небывалое рождалось в городе. Профессор чувствовал смутное волнение и подъем духа, но ещё не мог понять причину. Впрочем, кое-что уже было ясно.
Нет фашистских флагов, нет свастики.
Так ярко и весело светит солнце.
Родилось ощущение безопасности, больше того — свободы.
Неужели кончилось время, когда немцы даже богу боялись открыть свои истинные чувства?
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ДОБРОЕ ДЕЛО НЕ ОСТАЁТСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ
Тёмная ночь. Низкое небо покрыто тяжёлыми тучами. Ни звёздочки, ни огонька. Лишь белые гребни взбудораженного ветром моря сверкают фосфорическими вспышками. В непроглядной темноте невидима песчаная коса, соединяющая Земландский полуостров с городом Мемелем.
Но вот порыв ветра разорвал тучи, выплыла круглая луна, и все сразу изменилось. Луна осветила морские волны, мертвенно-белую песчаную косу и умытую дождём ленту шоссейной дороги. В серебряном свете отчётливо выступили пенистая кромка прибоя, протянувшийся вдоль берега невысокий песчаный вал, заросший жёсткой прошлогодней травой. За валом крепко вцепился корнями в песок низкорослый кустарник, за ним темнел густой смешанный лес.
Справа, у обочины дороги, если ехать из Кенигсберга в Мемель, стоит высокий деревянный дом под черепичной крышей. Дом освещён луной так ярко, что кажется наполненным голубым светом. Несмотря на холодную и сырую погоду, окна его распахнуты настежь. Лунный свет искрится в осколках разбитого стекла. Парадная дверь полуоткрыта; ветер медленно раскачивает её на ржавых петлях. Огромные сосны, обступившие дом со всех сторон, склонились в одну сторону, словно собрались бежать от холодных морских ветров. Только два могучих старых тополя у каменного крыльца держатся прямо и гордо.
Тучи снова закрыли луну, и все погрузилось в темноту. Заморосило. Мрак стал ещё непрогляднее, ещё злее. Ветер, море и дождь втроём тянули заунывную песню. Но дом не брошен человеком, как могло показаться на первый взгляд. В одном из окошек, невидимом со стороны шоссе, пробивался слабый огонёк. Это кухонное окно.
За простым сосновым столом сидел человек с обветренным лицом и читал вслух книгу при свете керосиновой лампы. Он медленно водил по строчкам указательным пальцем с грязным квадратным ногтем.
В комнате отчётливо слышится назойливый однообразный звук, напоминающий тиканье часов. В углу, где скопилась темнота, едва виден топчан, грубо сбитый из досок. На солдатском одеяле неподвижно лежит в неудобной позе, лицом вниз, человек в спасательном жилете. Под животом у него — грязная подушка из мешковины, набитая соломой. Стекавшая с мокрой одежды вода образовала на полу рогатую лужу.
Человек на топчане зашевелился. Он очнулся, расслышал мерный ход часов. И сразу надвинулся страх. Он ощущал опасность всем существом. Чутьё, обострившееся до предела, заставило его притаиться и выжидать.
Медленно приходивший в себя Эрнст Фрикке восстанавливал в памяти все, что произошло. Взрыв, гибель парохода, переполненная спасательная шлюпка. Удар веслом, беспамятство. Тёмное холодное море… Опять беспамятство. И вот жалкие, ободранные стены, жёсткий топчан, слабый огонь керосиновой лампы. Все это реальность. Он спасён, он жив! Шведский спасательный жилет стоил похвал того старика на пароходе.
Осторожно, стараясь не шевельнуться, он ощупал пистолет, нож у пояса. «Обыскали они меня или нег, знают ли они, кто я?»
Высокий плотный мужчина, придерживая от ветра дверь, вошёл в дом. Волна холодного сырого воздуха заполнила комнатку, пламя в тусклой лампочке заколебалось, плеснуло струёй копоти. Вместе с ветром в комнату ворвались рокот морского прибоя и далёкий гул артиллерийской стрельбы.
— Проклятая темнота! — тихо выругался вошедший, снимая зюйдвестку и отряхиваясь. — Езус-Мария, он шевелится, смотри, Петрас!
Человек, сидевший за книгой, отрицательно покачал головой.
— Это колышется пламя, Ионас. Ты достал что-нибудь?
— Жемайтис дал нашатырного спирта. — Ионас повесил плащ на деревянный гвоздь, вбитый в стену, и присел на колченогую табуретку. — Жемайтис велел намочить в спирте паклю и законопатить утопленнику ноздри. Если он не вовсе мёртв, должен ожить. Вот — Ионас вынул из кармана небольшой пузырёк, повертел его в крупных волосатых руках и поставил на стол.
Петрас издал какой-то неопределённый звук. Его угрюмое лицо, с глазами, глубоко сидевшими под густыми, мохнатыми бровями, на миг осветилось усмешкой.
Эрнст Фрикке вдруг успокоился. «Жемайтис, — мелькнуло в сознании. — Неужели дядюшка? Вот, значит, где я!..»
Ионас набил трубку и неторопливо продолжал:
— Я видел у Жемайтиса одного человека. Он порассказал много интересного. Езус-Мария, немцам конец. Кенигсберг взят. Русские захватили почти всю Пруссию, и недалёк день, когда Адольфу наденут пеньковый галстук…
— Разве я тебе не говорил? — прервал товарища Петрас. — Должно случиться именно так… Вспомни, ты ещё спорил…
— Ладно, дай мне сказать. — Он положил ладони на стол и наклонился вперёд. — Жемайтис советовал отвести этого, — Ионас снова покосился на тёмный угол и добавил совсем тихо, — в русский штаб. Да, да, отвести его в комендатуру.
— Это нечестно, — возразил Петрас. — Может быть, он неплохой парень. Смерть недавно похлопала его по плечу. Ты же знаешь, он чуть не погиб в море. А ведь каждый из нас…
— Ну, поехал читать мораль. Езус-Марня, если посмотреть на твою рожу, Петрас, никогда не скажешь, что у тебя душа совсем как у нашего ксёндза. И не у тебя одного, все вы, механики, на одну мерку.
Петрас рассмеялся. Смех его, похожий на клёкот птицы, внезапно оборвался, словно прикрыли ладонью рот.
— Я всегда стоял за справедливость, Ионас, — сказал он уже серьёзно сиплым, простуженным голосом. — Ты ведь хорошо знаешь меня… Проклятье, откуда у тебя этот табак?
— Справедливость… — пробурчал Ионас, разгоняя ладонью дым. — Это русский табак, махорка. Справедливость, — повторил он. — Этот человек у Жемайтиса рассказал, будто на пароходе «Меркурий» дали деру всякие там гаулейтеры и фюреры. Ищи здесь справедливость. Езус-Мария, может быть, и этот молодчик какая-нибудь сволочь из гестапо, ищейка-кровослед. Правда, эта штука, на которой он болтался в море, не с того парохода.
За окном уже посветлело. Слабый свет Фрикке ощущал даже через веки.
— И немцы не все такие, как ты считаешь, Ионас, — примирительно отозвался Петрас. — Я встречал иных. Нацист — это одно… Но ведь были и такие, что повиновались наци, но были не согласны. И ещё я слышал про немцев, которые боролись с фашизмом.
— Я и не говорю о всех. Однако многим фюрер вскружил голову. Молодчика надо обыскать, — решительно заключил Ионас. — Я хотел это сделать раньше, но постеснялся, неудобно шарить по карманам у беспомощного человека. Езус-Мария, что ты качаешь головой, Петрас, словно старый мерин? Мы только посмотрим его документы и, если… Словом, таскал волк, потащим и волка.
"Меня передать русским!.. Ах, мерзавец! — Эрнсту Фрикке стало жарко от ярости. — Литовцев надо уничтожить, всех до единого, они предатели… Неужели Кенигсберг пал? Хорошо, что они не тронули моих документов. Не знают, кто я. — У него отлегло на душе. — «Сволочь из гестапо», «ищейка-кровослед», — повторял про себя Фрикке, закипая снова, но не хватался за нож и пистолет, не порывался вскочить, не скрипел зубами: надо слушать.
Пожалуй, было бы вернее назваться литовцем, и тогда подозрение не коснулось бы его. Но фашистское нутро Фрикке оскорбилось.
«Пусть болтает, осталось недолго, я проломлю башку им обоим», — успокаивал он себя.
Крепкий махорочный дым не давал ему покоя. И как ни сдерживался Эрнст Фрикке, он чихнул. Чихнул беззвучно. Вспомнилось, как по совету одного из инструкторов школы разведчиков он долго и настойчиво приучал себя к этому фокусу.
— Езус-Мария, часы, что ли, идут, раньше здесь их не было. — Ионас прошёлся по комнате. Широкие голенища тяжёлых сапог с шумом тёрлись друг о друга. — Оказывается, это капает вода из умывальника, — сообщил он наконец.
Когда Ионас Шульцкас подошёл к топчану с пузырьком в руках, Эрнст Фрикке приготовился. Литовец нагнулся над ним, и Фрикке выстрелил в упор, отшвырнув от себя тяжёлое тело, упруго вскочил на ноги. Сейчас решали секунды.
Петрас выхватил нож.
— Руки вверх! — сказал Эрнст Фрикке по-немецки, направляя на него чёрное дуло вальтера. — Ещё одно движение, и я выстрелю.
Как подброшенный пружиной, Петрас бросился на Фрикке.
* * *
…Рассвет занимался серый, непроглядный: туман плотно закрывал море. Из белесой мглы едва проступали стволы ближайших сосен; они казались покачнувшимися гигантскими колоннами, на которых держалось тяжёлое небо. Даже здесь, рядом с берегом, шум прибоя едва слышался.
Потянул ветерок. Туман, освобождая землю, медленно отползал к морю. Стало светлее. Восток, набухая огненными красками, разгорался ярко и неудержимо.
В синем небе, умытом утренней свежестью, возникло белое пятно. Это лебеди — первые весенние гости. С грустным криком пролетела стая над верхушками сосен. И вдруг белоснежные сверкающие птицы, словно кровью, покрылись багрянцем. Утро пришло, край огненного светила показался над землёй.
При солнечном свете зелёная хвоя сосен казалась ещё зеленее. Воздух насыщался запахом смолы, моря, йода, рыбы и ещё чего-то неуловимого и волнующего.
Стояла тишина, торжественная, мирная.
Залп тяжёлых орудий, донёсшийся с моря, разорвал тишину. С победным рёвом промчалась на юго-запад эскадрилья бомбардировщиков. В небе появились кудрявые облачка зенитных разрывов. Завывая, пролетел над соснами артиллерийский снаряд.
В доме у шоссейной дороги раздались два пистолетных выстрела. Через мгновение дверь шумно раскрылась, и оттуда выскочил Эрнст Фрикке. Тяжело дыша, он прислонился спиной к высокому гранитному фундаменту и несколько мгновений простоял неподвижно.
Но вот Эрнст заметил пузатую бочку с дождевой водой. Он бросился к ней. Долго и жадно пил пригоршнями.
Над головой Фрикке то и дело завывали артиллерийские снаряды, проносились самолёты, но он оставался безучастным.
Однако лёгкий скрип двери заставил его мгновенно обернуться — лицо сразу изменилось, стало жёстким и хищным. Но это опять был ветер. Рука эсэсовца, напряжённо державшая пистолет, обмякла, он снова приник к холодным камням.
А в небе снова гул. Волна тревожного рокота быстро нарастала. Эрнст Фрикке поднял голову: бомбардировщики летели над самыми вершинами сосен. Были видны авиабомбы под брюхом. На фюзеляже алели звезды.
Фрикке словно сошёл с ума. С ругательствами он выпустил вверх все заряды своего вальтера. Огромная тень самолёта на миг накрыла его. Сотрясая воздух, мощные машины промелькнули над песчаной косой и скрылись вдали.
Эрнст Фрикке долго размахивал пистолетом. Заметив, что рукав в крови, он снял пиджак и, ворча, принялся отмывать рыжие пятна.
* * *
За домом тонкоствольные сосны торчали, словно редкая щетина. Надёжно укрыться здесь было трудно. Дважды, заслышав шаги, Фрикке бросался на землю, пережидая опасность. В первый раз по дороге прошли, смеясь и громко разговаривая, вооружённые советские солдаты. Потом его испугал паренёк в штатском, судя по всему — рыбак-литовец; за ним, принюхиваясь к следам, пробежала собака.
Чуткий и осторожный, как зверь, крался эсэсовец по древним дюнам. Вскоре ему преградили путь густые и низкорослые заросли карликовой сосны. Лесок взбирался на песчаные холмы. Пробраться сквозь заросли, казалось, было под силу только собаке или дикому кабану. Здесь Энрст почувствовал себя в безопасности. Он медленно продирался сквозь зеленую чащу и, отводя руками колкие ветви, поднимался все выше и выше на холм.
Вот и вершина холма: отсюда хорошо виден посёлок на берегу залива. С другой стороны — бесконечная линия гладкого морского берега. Зоркий глаз Фрикке отыскал красную крышу дома, где совсем недавно он расправился с двумя литовцами. На юге, между двумя песчаными мысами, должен был находиться Ниддэн — маленький курортный городок.
Тут же, на вершине дюны, он заметил какие-го сооружения. Да, на цементном фундаменте стояла разбитая пушка. В песке валялись медные гильзы от снарядов, зеленые солдатские каски, противогазы.
Фрикке сел на край бетонной площадки и сжал руками голову.
Неожиданно ему вспомнилась мемельская гимназия. Двенадцатилетний мальчишка, он сидит в классе на уроке географии. Учитель рассказывает о дюнах. Когда-то на этой косе песчаные холмы «прошли» через посёлок. Дома были засыпаны, жители остались без крова. Перед глазами встали рисунки в руках учителя: из песка торчат кирпичные трубы, верхушка каменной изгороди…
Сегодня, в солнечный день, холмы ослепительно белого песка резко оттенялись зеленовато-синими водами залива. Эрнсту Фрикке казалось странным: идёт война, рушится великая Германия, а белые, сверкающие холмы там, где человеческой руке не удалось их задержать, продолжают свою вековую поступь
Да, рушится великая Германия. А он, Фрикке, остался один в тылу противника. Что же делать?.. Пробиваться к своим на запад? Попадёшь в плен, будет ещё хуже. Его обманули: на востоке вместо почестей и богатства ему грозят нищета и смерть. Разделить лишения вместе со своим народом? Благодарю покорно! Остаться, не чувствуя за спиной поддержки гестапо, национал-социалистской партии… Нет, это не по вкусу Эрнсту Фрикке.
Самое разумное — переждать за границей: в Швеции, в Южной Америке. Но для этого необходимы деньги. Жизнь без денег — что трубка без табака. Несколько сот марок, что случайно остались в кармане, в счёт не шли.
Деньги… Надо добыть их любой ценой. Проклятье! Он совсем недавно держал в руках огромное состояние. Да, да, состояние, и в самой твёрдой валюте: планы захоронения сокровищ, которым нет цены! И все оказалось на дне моря! Нет, не на дне моря, а в каюте погибшего парохода. Да, в каюте номер двести двадцать два.
И об этом никто не знает.
Надо достать со дна моря списки и планы. Отыскать спрятанные драгоценности. Он-то уж сумеет превратить их в деньги! Это верный, хотя и трудный путь.
О том, как он будет жить на чужой земле, Эрнст не беспокоился — литовский паспорт у него в кармане. Недаром его готовили в волки-оборотни.
Но сначала он возвращается в Кенигсберг к дяде, может быть, у него остались копии планов. Фрикке ожил.
«У дяди в руках все нити. Итак, жребий брошен. Эрнста Фрикке нет. Я Антанас Медонис — антифашист, сидевший в концлагере».
Утопая по щиколотку в песке, он двинулся к морю. Вот оно, снова у его ног. Лениво накатываются волны. Море неумолкаемо шумит. Однообразно и резко кричат чайки, кружась над водой. Песок, сверкая на солнце, слепит глаза. Только у самой воды он тёмный и плотный. Здесь кто-то совсем недавно проехал на велосипеде, узорчатый след шин ясно отпечатался на влажном песке.
Далеко за горизонтом курились едва видимые дымки пароходов. «Что делается там, в другом мире?» Всего триста километров — один час на самолёте, и перед тобой Швеция, страна, где нет войны, нет гнетущего страха за свою жизнь, нет русских… Но деньги! Всеми правдами и неправдами надо добыть денег.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ МЫ ТРОЕ: Я, БОГ И Я
Шоссейная дорога упиралась в берег пресноводного залива и круто поворачивала на север. Здесь, среди высоких сосен, расположился маленький курортный городок с кирхой, аптекой, гостиницей у самого берега залива, двумя ресторанчиками…
Фрикке остановился у старого деревянного дома на окраине. Окна без стёкол и парадная дверь наглухо забиты досками. В красной чешуе черепичной крыши проглядывают стропила. Вокруг ни души, ни звука. Где-то далеко, на другом конце города, тоскливо выла собака.
На потемневшей стене фасада белела чёткая немецкая надпись: «Опасно — мины», и немного ниже другая: «Немецкие женщины и девушки! Евреи — ваша гибель».
Перед домом — маленький палисадник; на клумбе, пригретые солнцем, уже расцвели жёлтые и белые нарциссы.
Калитка во двор распахнута настежь. Здесь валяются в беспорядке ржавые ведра, несколько грязных эмалированных кастрюль. Из открытой двери сарая видна полосатая спинка шезлонга.
Между булыжниками мощёного двора жадно пробивается к солнцу зелёная травка. На крыше сарая Фрикке заметил большое бамбуковое удилище.
«Хорошо в заливе ловится окунь…» — он вспомнил свои воскресные поездки с дядей на косу Курише Нерунг. В рыбачьем посёлке они нанимали лодку и отгребались подальше от берега. За два часа они вдвоём налавливали целое ведро больших серебристых окуней. Ах, как они хрустели на зубах, поджаренные тётей Эльзой! Фрикке почувствовал приступ голода и выругался.
И вдруг Фрикке чуть не захлебнулся слюной. «Черт возьми, где-то жарят ветчину, — сразу решил он. — Ручаюсь головой, это так. — Он раздул ноздри. — Да, да, яичница с ветчиной, и жарят здесь, в этом доме».
Эрнст Фрикке замер: из трубы деревянного домика курился дымок, едва заметный в синем весеннем небе
«Враг или друг? — промелькнуло в голове. — Только враг. Запомни, Эрнст, с сегодняшнего дня у тебя нет больше друзей. Будь осмотрителен и осторожен!»
Однако Фрикке сразу успокоило то обстоятельство, что дом был заколочен. Значит, тот, кто сейчас топит печь, прячется. Это хорошо.
Он обошёл дом ещё раз и легонько толкнулся в заднюю дверь. Неожиданно она подалась вместе с крест-накрест прибитыми к ней досками. Фрикке оказался в небольшой прихожей, заваленной всяким хламом. Он прислушался. Тихо. Однако запах яичницы чувствовался здесь сильнее. Следующую дверь, как оказалось — в кухню, Фрикке отворил рывком. От плиты метнулась человеческая фигура, застывшая при грозном окрике.
Это была толстая женщина в цветном купальном халате, по-старушечьи повязанная платком, как принято в литовской деревне. Не снимая пальца с курка, он подошёл и сорвал платок.
— Вот как, это ты, Ганс? — Фрикке брезгливо отбросил платок.
— Да, это я, — заикаясь, ответил ряженый. — А ты Эрнст! Как ты меня напугал. Убери пистолет, он ведь, наверно, не на предохранителе.
— М-да, — пряча «Вальтер» в карман, промычал Фрикке. — Маскарад не гениален. Попадись ты под весёлую руку русским солдатам… хотел бы я видеть эту картину. — Эрнст раскатисто захохотал, оглядывая полнотелую, евнухоподобную фигуру неожиданно встретившегося приятеля по разведшколе. — Однако, — он потянул носом, глядя на шипевшую в сковородке яичницу, — аппетитные запахи, я голоден. Ну, здравствуй!
Они пожали друг другу руки…
— Дай-ка сигарету, Ганс, я умираю без курева. Накормил ты меня на славу, не могу отдышаться. Последний раз я ужинал ещё в Пиллау двое суток назад.
— У меня только американские «Честерфилд», из старых запасов.
Фрикке жадно выхватил сигареты и торопливо стал чиркать спичкой. Затянувшись, он блаженно откинулся на спинку кресла.
Они сидели в небольшой столовой с окнами во двор. Пол в комнате паркетный, посередине — стол на толстых ножках в виде львиных лап, стулья с высокими спинками. Камин, сложенный из кирпича, с затейливой кованой решёткой. В углу — огромный дубовый буфет старинной работы.
— Ты неплохо устроился, Ганс, — промурлыкал разнеженный Фрикке.
— В этом доме, наверно, принимали курортников, — заметил Ганс Мортенгейзер. — Одних халатов я нашёл десять штук, и все одного цвета. Что-то вроде небольшого пансиона.
— Куда ведёт та дверь? — кивнул Фрикке.
— Там моя спальня. Остальные комнаты пустуют.
— Значит, ты не успел вовремя удрать на запад из своего лагеря и решил переждать время здесь?
— Комендант, мой начальник, разрешил мне покинуть лагерь только после ликвидации… — Он запахнул полы халата из махровой ткани, укрывая толстые ноги. — Утром, ровно в восемь, я должен был закончить все дела, а ночью ворвались русские, и я едва успел унести ноги. — Он, словно в ознобе, повёл плечами. — Что делать, пропускная способность печей нашего крематория была весьма невелика.
Фрикке зевнул.
— Оставим эти технические подробности. Ты мне скажи, с какой целью ты захватил этот особняк?
— Я жду возвращения нашей доблестной армии.
— Что?! — Лицо Фрикке выразило искреннее удивление. — Ты не шутишь?
Заплывшее жиром веснушчатое лицо эсэсовца вдруг стало напыщенным.
— Пока жив хоть один немец, Германия не прекратит войну, — изрёк он, погрозив буфету пухлым белым кулаком. — Я думаю, русские почувствуют ещё не раз на себе немецкое оружие… новое немецкое оружие. Так сказал фюрер. Хайль Гитлер!
— Послушай, мы-то с тобой можем быть откровенными… — Фрикке налил в стакан тминной водки и выплеснул в горло. — Неужели ты не понял, что сейчас каждый заботится только о своей шкуре? Забудь ты о фюрере и его оружии. А будешь вспоминать — тебя же повесят. Повторяется обычная история — горе побеждённым!
Бабье лицо Ганса покраснело. Он вскочил с кресла и, прыгая на коротких толстых ножках, завизжал:
— Предатель!.. Ты не товарищ мне больше… Тебя купили!..
— Замолчи, болван! — Фрикке стукнул кулаком по столу. — Твой поросячий визг слышен за километр… Я думал, ты притворяешься, — с недоброй улыбкой добавил он, помолчав. — Видит бог, я хотел по-товарищески поговорить с тобой. Хотел взять тебя компаньоном в одно выгодное дело. Тогда ты, возможно, и сохранил бы жизнь. Но теперь я раздумал.
Мортенгейзеру стало не по себе от этих слов и тона, каким они были сказаны. Он выпил без всякого удовольствия и закашлялся, разбрызгивая слюну.
— Не сердитесь на меня, Эрнст, — промямлил он. — Последние дни я совсем потерял голову. Все рушится, тонет, не знаешь, за что ухватиться. А как раз сейчас мне особенно хотелось бы пожить, вырыть себе уютную норку… — В глазах у него затрепетал тревожный огонёк.
В какой-то миг Эрнсту Фрикке пришло в голову, что приятель его уже вышагнул из жизни, он только кажется живым, говорит, ходит, пьёт, ест. На самом же деле он мёртв или, во всяком случае, стоит одной ногой в могиле. Он даже посмотрел на него с сожалением, как обычно живые смотрят на умирающего.
— Именно сейчас? И почему это?
— Тебе, наверно, покажется смешным… — Ганс запнулся, — но я… полюбил девушку.
— Ты полюбил девушку! И сейчас думаешь об этом? Нет, ты просто идиот, ты действительно спятил. А потом — ты и любовь… Ладно, — миролюбиво заключил Фрикке, — каждый по-своему карабкается в жизни. — Он нащупал в оконной раме щель, из которой немилосердно сквозило. — Скажи-ка мне, — помолчав, начал он снова, — много ли у тебя запасено еды? Сколько дней мы смогли бы продержаться, не выходя отсюда?
Толстый эсэсовец засмеялся. Смех был жалкий, принуждённый.
— Еды на месяц хватит. — Он искоса посмотрел на приятеля. — Есть деликатесы: английское печенье, польская ветчина. Я поделюсь с тобой, Эрнст.
— Запаслив ты, брат. Недурно… Ты привёз все это на машине? На себе столько не приволочёшь, правда? — Фрикке ещё раз посмотрел на щель в оконной раме и пересел подальше от окна, чтобы не простудиться.
— Да, я нагрузил «оппель-адмирал». Я давно готовился к эвакуации… — Ганс вздохнул.
— А машина где?
— Спрятал в сарае. Она хорошо замаскирована, могу поспорить — не найдёшь.
— Молодец. А что у тебя в этом чемодане?
— Приёмник. Я регулярно ловлю выступления нашего фюрера, — он как-то виновато посмотрел на приятеля. — И сухие батареи.
— Ну-ка, настрой на музыку: послушаем Швецию.
Ганс послушно открыл крышку кожаного чемодана, покрутил ручки мясистыми пальцами с крашеными в темно-красный цвет холёными ногтями.
Приёмник донёс звуки рояля, и Фрикке уселся поудобнее. Он вновь ощутил прелесть земного существования. Да, жизнь прекрасна, стоит бороться за неё. Нервное напряжение утра проходило, его постепенно вытеснили тепло, водка, музыка.
Итак, завтра в Кенигсберг. На машине? Конечно. Весь запас продовольствия он возьмёт с собой. Только бы дядя оказался живым, а уж он-то, Эрнст Фрикке, сумеет воспользоваться его секретами. «Надо торопиться, пока всюду полная неразбериха. Запомним твёрдо: теперь я литовец Антанас Медонис. Но что делать с Гансом? У нас разные пути. Я одинок и беден, у Ганса богатые родители. Богатые, а вместе с тем он ещё безусым гимназистом был на содержании у одной особы неопределённого пола, — вспомнил Фрикке. — Слякоть, размазня. Верить ему нельзя. Кривая палка не отбрасывает прямой тени. И такой тип будет знать, что я остался здесь, у русских…»
Фрикке непрерывно курил. Массивная пепельница с рекламной надписью, приглашающей пить только светлое пльзеньское пиво, была засыпана пеплом и завалена окурками.
— Тебе приходилось убивать людей? — закашлявшись от дыма, наконец, спросил он приятеля.
Мортенгейзер поднял брови.
— При моей должности… ты меня удивляешь, Эрнст. Наш лагерь был, правда, не из больших, но три сотни человек в лучший мир мы отправляли ежедневно.
— Я не о лагере, я спрашиваю о тебе. Убил ли ты хоть одного человека своей рукой?
Ганс Мортенгейзер обиженно выпятил нижнюю губу.
— Ну, конечно, я уничтожил по крайней мере сотню. Я никому не давал спуску. Заключённые боялись меня. Малейшую провинность я наказывал смертью. Убить человека просто — это пустяк. — Эсэсовец оживился. — У меня был свой метод. Приведу тебе такой случай.
Сверкая дорогими перстнями на пальцах, жеманясь, Мортенгейзер чиркнул спичкой по полированной поверхности стола и зажёг сигарету.
— Не понравился мне один из поляков, у него был какой-то излишне жизнерадостный вид. Я приказал этому счастливчику повеситься. Дал верёвку, молоток и гвоздь и запер его.
— И что же?
— Через полчаса повесился. Он хорошо знал, что значит ослушаться меня. Перед смертью просил передать письмо жене. Я передал… в лагерный сортир. — Он захохотал. — А другому мерзавцу, еврею, я вложил в рот ампулу с ядом и заставил разгрызть. Через минуту он умер.
— А тот знал, что в ампуле яд?
— Конечно. Но он тоже догадывался, что его ждёт в случае ослушания. — Мортенгейзер расхохотался, словно вспомнив что-то очень смешное, и вытер слюнявый рот. — Знаешь, Эрнст, — мечтательно продолжал он, — как приятно чувство всемогущества. Ведь я обладал в концлагере властью бога. Каждую минуту мог вытрясти душу у любого из этих нечеловеков. Нет, я был выше. Я мог заставить каждого из них отречься от своего бога.
Мортенгейзер пошевелил ноздрями, вынул небольшой флакончик и, пролив несколько капель на платок, вытер им лицо и руки.
Эрнст Фрикке почувствовал резкий цветочный запах.
— Привычка, ничего не поделаешь, — спокойно объяснил Мортенгейзер, заметив пренебрежение на лице приятеля. — Пожил бы в концлагере среди вонючих скотов, представляю, как ты обливался бы духами. — И он расхохотался.
— Ничего смешного здесь нет, — оборвал Фрикке, — ты всегда был бабой и не мог жить без духов и прочей дряни.
Мортенгейзер обиженно умолк.
— Я вижу, Ганс, ты живодёр, — заговорил Фрикке, — да ещё хвалишься этим. Черт возьми, убить человека, если это необходимо, ну, если он тебе мешает или хотя бы наступил на ногу, — я понимаю. Борьба за жизнь. Но убивать, как ты… От тебя за километр несёт мертвечиной.
— Как?! И ты, член национал-социалистской партии, забыл о нашей великой цели? — Ганс привскочил. — Я удивлён. Мы расчищаем место в Европе для великой германской расы.
— А ты не думал, что тебе когда-нибудь придётся расплачиваться за такое усердие? Скажи, в твоём лагере сидели русские?
— О-о, их было немало. Для них я не делал исключения, даже наоборот. Это необходимо для Германии… Но я не виноват. — И Мортенгейзер с испугом взглянул на изменившееся лицо приятеля. — Фюрер раз и навсегда взял всю ответственность на себя. Я всегда действовал строго по инструкции.
Из приёмника лилась танцевальная музыка. Фрикке слышал аккордеон, скрипку, трубу и какие-то ударные инструменты. Сам того не замечая, он стал постукивать по столу пальцами в такт музыке.
И вдруг, заглушая оркестр, в приёмник ворвался властный голос. Кто-то на хорошем прусском диалекте спокойно сказал:
"К немецким генералам, офицерам и солдатам, оставшимся на Земланде! От командующего советскими войсками Третьего Белорусского фронта Маршала Советского Союза Василевского.
Вам хорошо известно, что вся немецкая армия потерпела полный разгром…"
Мортенгейзер бросился к приёмнику, чтобы выключить, но Фрикке поймал его за полу халата.
— Отставить, дружище, — миролюбиво сказал он, — если тебя не интересует, дай послушать мне.
Вырвав халат из рук приятеля, Мортенгейзер, ворча, уселся на своё место.
"…Немецкие офицеры и солдаты, оставшиеся на Земланде! — продолжал спокойный голос. — Сейчас, после падения Кенигсберга, последнего оплота немецких войск в Восточной Пруссии, ваше положение совершенно безнадёжно. Помощи вам никто не пришлёт. Четыреста пятьдесят километров отделяют вас от линии фронта, проходящей у Штеттина. Морские пути на запад перерезаны русскими подводными лодками. Вы в глубоком тылу русских войск. Положение ваше безвыходное. Против вас многократно превосходящие силы Красной Армии.
Сила на нашей стороне, и ваше сопротивление не имеет никакого смысла. Оно поведёт только к вашей гибели и многочисленным жертвам среди скопившегося в районе Пиллау гражданского населения.
Чтобы избежать ненужного кровопролития, я требую в течение двадцати четырех часов сложить оружие, прекратить сопротивление и сдаться в плен. Всем генералам, офицерам и солдатам, которые прекратят сопротивление, гарантируется жизнь, достаточное питание и возвращение на родину после войны".
— Пропаганда, ложь. Я не верю ни единому слову, — взвился Мортенгейзер. — Неужели ты можешь слушать это?
Теперь Эрнст Фрикке ещё больше уверился, что Ганс заслуживает смерти. Русские, как считал Эрнст, в первую очередь будут вылавливать таких, как этот, усердных «исполнителей», и в руках русской контрразведки он будет опасен.
— Ганс, — произнёс он негромко.
— Что тебе, Эрнст? — с удивлением спросил Мортенгейзер. Ему вдруг захотелось кричать, но слова застревали в горле.
— Подойди ближе. У тебя в кармане иностранная валюта, доллары, — наугад говорил Фрикке, свирепо глядя на него. — Дай их сюда. — Он внимательно наблюдал за его кадыком и думал: «Вопрос задан неожиданно. Ганс должен сейчас судорожно сглотнуть слюну… или по крайней мере у него непроизвольно задёргается веко».
Так учили в школе разведчиков. Но ничего этого не случилось.
К его удивлению, Ганс тотчас безропотно выложил солидную пачку узеньких зелёных банкнотов.
— Тебе известен приказ фюрера? Ты должен был давно сдать доллары в Рейхсбанк.
Ганс молчал, слышалось лишь его сердитое, натужное сопение.
— Ты понесёшь наказание за свой проступок.
Опять молчание.
— Где ты взял эти деньги?
— Многие заключённые зашивали их в одежду, — пробормотал Ганс Мортенгейзер.
— А ты присвоил их? — «Надо его прикончить, всех надо прикончить, кто знает моё прошлое», — билось в голове Эрнста Фрикке.
Мортенгейзер давно заметил: в пиджаке Фрикке что-то подозрительно оттопыривается. Теперь, когда рука товарища опустилась в карман, он не выдержал и с криком бросился на колени. Страх его был омерзителен.
Нехорошо усмехнувшись, Фрикке вынул пистолет.
Мортенгейзер вскрикнул гнусаво:
— Пощади, хочу жить!
— Не скули, — Эрнст Фрикке медленно цедил слова. Прозвучал выстрел.
Скрип открываемой двери мгновенно заставил Фрикке обернуться. На пороге замерла стройная высокая девушка с волнистыми каштановыми волосами.
Облако синеватого дыма медленно проплывало по комнате. Остро запахло пороховой гарью.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ЭРНСТ ФРИККЕ ШАГАЕТ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
В столовой у жарко пылавшего камина, засучив рукава полосатой фланелевой кофточки и повязав вокруг талии полотенце, хлопотала девушка. На огне стояла синяя кастрюлька с закопчённым боком. В ней булькало и клокотало, из-под крышки вырывался пар: там варился картофель. Девушка раскраснелась и казалась воплощением тепла и жизни.
Расходившийся на море ветер сердито выл в чердачных окнах и по печным трубам, но теперь он не заставлял Фрикке вздрагивать и испуганно озираться.
Накрытый на двоих стол выглядел нарядно. На белой скатерти, найденной Фрикке в одном из буфетных ящиков, стояли чистые тарелки, горела свеча в фарфоровой подставке. На тарелках возбуждали аппетит своим свежим видом ветчина, копчёная рыбёшка, гусиная печёнка и ещё какая-то снедь. В розовой вазочке торчали кружевные бумажные салфетки. Из кофейника разносился приятный аромат. Бутылка с тминной водкой и две рюмки дополняли убранство.
— Вы так устали, Мильда, столько хлопот, — сказал Фрикке, не сводивший с девушки глаз. Она ему все больше нравилась. Чистенькая, свежая и скромная. Красивое продолговатое лицо, высокая грудь, стройные ноги.
— Одну минуту, Антанас, картошка сейчас будет готова. — Девушка сняла крышку и потыкала картофелину вилкой.
Скоро дымящийся картофель, очищенный ловкими руками Мильды, горкой лежал в глиняной миске, а девушка сидела рядом с Фрикке.
— У меня очень болит голова, — сказала она, трогая лоб, — но это пройдёт, не обращайте внимания, пожалуйста. Я так рада встретить здесь земляка. Нет, этого вы не представляете. Вас я буду помнить всю жизнь, — продолжала девушка, зябко кутаясь в шерстяной платок. — Я столько пережила за последние дни, Антанас. Раньше я не знала, что такое нервы, а сейчас мне кажется, будто я опутана ими, словно катушка электрическими проводами; вы знаете, катушка Румкорфа с зелёными проводами; я видела её в школе на уроках физики… И будто через меня все время пропускают ток.
Эрнсту Фрикке её слова показались несколько странными, но он не стал выяснять их смысл.
— Выпьем, Мильда, за этот необычный день. — Подняв рюмку и глядя в глаза девушки, предложил: — И за будущую встречу.
— Антанас, у меня спокойно на душе, первый раз за долгое время. Мне хорошо с вами — вы такой сильный и смелый. — Девушка с трудом выпила содержимое рюмки. — Что-то очень крепкое, — прошептала она, задохнувшись.
— Вы мне не сказали, Мильда, как вы попали сюда, в этот дом? — спросил он после молчания.
— Ах, это длинная история. Два года назад мои родители и брат попали в руки гестапо. Я ничего о них не слышала и решила, что они погибли. Но в январе наш земляк вернулся из лагеря, где помощником коменданта был Мортенгейзер. Земляк рассказал мне про отца, они виделись, работали вместе. Он был ещё жив, но очень плох. О матери и брате он ничего не знал, — девушка заплакала. — Я боялась, что отца умертвят перед приходом русских, — всхлипывая, продолжала она. — И я решила помочь… Я пробралась поближе к лагерю. Вокруг него болота, лес и комары. О-о, Антанас, эти проклятые комары сводили с ума людей… В деревушке неподалёку я нанялась к трактирщику мыть посуду. Мне сказали, что в трактир иногда приходит помощник коменданта лагеря, пьяница и дебошир. Это и был Ганс Мортенгейзер, от него зависело все. Я с ним познакомилась. Наверно, отчаяние придало мне силы. Даже теперь я не понимаю, как я решилась… Он обещал спасти моего отца. Я работала в трактире три месяца, я натерпелась, Антанас, за это время…
— Невероятно!!! Ганс Мортенгейзер отличался неприязнью к женщинам, беспощадностью к заключённым.
— Но он влюбился в меня, Антанас, говорил, что хочет начать со мной новую жизнь.
— Негодяй! И вы ему поверили, Мильда?
— Об этом я совсем не думала, я хотела спасти отца, вот и все, а Мортенгейзер обещал помочь. Остальные заключённые должны были умереть. Это ужасно. А мать и брат погибли. Когда Мортенгейзер напивался, он делался разговорчивым и рассказывал мне многое, — Мильда заплакала.
Эрнст Фрикке, глубоко затягиваясь сигаретой, смотрел на вздрагивающую от рыданий девичью грудь.
— Но как вы могли решиться убить его, Антанас? Убить человека — ведь это такой грех! Но я знаю — так надо. Нужно иметь большую силу воли, твёрдость! — Она с восхищением посмотрела на Фрикке.
— Он фашист, враг нашего народа, главный палач в лагере, — с хорошо наигранным гневом говорил Фрикке. — Я литовец и решил отомстить. Он долго мучил моих родителей, и, наконец, — голос его трагически дрогнул, — мой час настал, я уничтожил негодяя.
Девушка доверчиво положила свою маленькую ладонь на руку Фрикке.
— О Антанас! Вы отомстили и за моих родных, — девушка помолчала. — Мне было трудно решиться рассказать русским о Мортенгейзере. А он последнее время не спускал с меня глаз. Сегодня мне удалось незаметно выскользнуть из дома. Мортенгейзер думал — я легла спать. Но, к сожалению, поблизости не было русских солдат. Он был так осторожен, даже переодевался в женское платье… Отвратительно. Но, боже, как я рада слышать литовскую речь!
Эрнст Фрикке придвинулся к девушке, хотя и без того сидел довольно близко.
— Мортенгейзер предложил мне уехать вместе с ним, я согласилась, — продолжала Мильда. В уголках её рта резко обозначились горькие складки. — Дело в том, что вот-вот должны были появиться русские. Мортенгейзер струсил. Я боялась, что он удерёт, а я не могла допустить этого. Я… хотела сама его убить!
— Вы были его любовницей! — швырнув окурок, воскликнул Фрикке. — Не скрывайте!
Настало неловкое молчание.
Девушка подняла на него удивлённые глаза.
— Вы меня оскорбили, Антанас! Он фашист. Палач моей матери… — На глазах Мильды выступили слезы. — Как вы можете? — чуть слышно прошептала она. — Мне холодно, принесите дров, Антанас, больше дров, чтобы хватило на всю ночь… Нет, я не сержусь. Бедный Антанас, значит, ваши родители погибли?
— Я буду и дальше мстить за них! — горячо отозвался он.
— Принесите дров, Антанас, — повторила Мильда, — в камине мало огня. Мне холодно. — Кутаясь в платок, она передёрнула плечами.
Фрикке вышел из дома. Над лесом по-прежнему стояла полная луна. Двор, облитый её светом, казался посыпанным золой, а дом серебряным. Только по закоулкам прятались ночные тени. Пахло мокрой корой и прелым прошлогодним листом.
Дрова были приготовлены в сарайчике. Ещё днём Фрикке принёс сюда и разрубил несколько колченогих стульев и ветхий дубовый комод. Прислонясь к двери, он курил.
Перед ним стояли большие глаза Мильды, такие голубые и простодушные.
«А, Ганс Мортенгейзер! Старый развратник! Он, видите ли, хотел начать с ней новую жизнь. Где он? Может быть, сейчас смотрит на меня откуда-нибудь оттуда?» — пришло в голову Фрикке. Он поднял глаза к небу.
С силой швырнув окурок на землю, Фрикке набрал охапку деревянных обломков. Когда он вошёл в комнату, Мильда, придвинувшись к потухавшему камину, неподвижно сидела в кресле.
Фрикке подбросил на тлеющие угли ножки и спинку старого стула. Сухое дерево мгновенно загорелось. Освещённое багровыми отблесками огня, лицо девушки казалось прекрасным. Взглянув на неё, Фрикке подошёл к столу и выпил ещё тминной водки. Поколебавшись мгновение, он спустил маскировочные шторы, запер на замок дверь и теперь стоял посредине комнаты, едва сдерживая частое дыхание.
— Садитесь к огню, Антанас, грейтесь, — пригласила его Мильда. — Мне холодно, так ещё никогда не было. Огонь ярко горит, а мне холодно.
— Я сейчас, — хрипло отозвался Эрнст Фрикке.
Но в этот момент раздался тихий стук в окно. Фрикке вздрогнул и мгновенно насторожился.
— Кто там? — спросила Мильда.
Фрикке вынул пистолет. Сдвинув предохранитель, он приблизился к окну и поднял штору. Прижавшись к стеклу, в комнату смотрело неправдоподобно измождённое человеческое лицо.
Эрнст Фрикке растворил окно.
— Я две недели питался древесными почками, — сказал незнакомец, — умираю от голода, ради бога, дайте что-нибудь.
Он был без шапки. Из-под суконного пальто выглядывал воротник солдатского кителя. Жёлто-соломенные волосы спутались, в них застряли два сухих листка. По его осторожным движениям можно было догадаться, что под грязным платком вокруг шеи у него болезненный нарыв.
— Кто такой? — спросил Фрикке.
— Я Бруно Кульман, котельщик с верфи Шихау. У меня двое ребят, — ответил незнакомец, болезненно кривя рот, — они ещё не ходят в школу. Нацисты взяли меня в солдаты насильно. — Он говорил монотонно, без выражения, словно сам с собой. — Я не хотел воевать, бежал из Кенигсберга. Помогите, товарищ, — солдат с мольбой посмотрел на Эрнста Фрикке, потом на тарелки с белым рассыпчатым картофелем.
Эрнст Фрикке вдруг заорал:
— Фашистский выродок! Когда немцы захватили Россию, ты нас волком рвал, издевался над людьми… Я литовец, — распалялся Фрикке, — верни, негодяй, моих родителей, их арестовали гестаповцы!
Солдат прижал руку к сердцу. Подбородок его дрожал.
— Я никому не хотел зла, — тихо проговорил он. — Мне жалко всех людей. Я всегда старался помочь пленным. Я учил своих мальчиков…
— Ты думаешь разжалобить меня! Не надейся, не получишь и крошки. Иди к русским, пусть они тебя накормят. — Фрикке злобно рассмеялся.
Солдат стоял у окна, держа руку на сердце, не в силах оторвать взгляда от тарелки с едой.
— Отдайте ему картошку, Антанас, — раздался жалобный голос девушки. — У нас есть ещё.
— Пусть он вернёт моих родителей! — рычал Фрикке. — Ну, ты, убирайся! — крикнул он на солдата.
Бруно Кульман повернулся и, пошатываясь, пошёл к воротам, хорошо различимый в пепельном свете огромной полнощёкой луны. Внезапно он споткнулся, загремев попавшим под ноги ведром.
Фрикке поднял свой вальтер.
— Что вы делаете! — вскрикнула Мильда, вскочив. — Не смейте, я запрещаю.
Стукнул выстрел. Бруно Кульман упал, уткнувшись головой в полосатое пляжное кресло у стенки сарая.
— Ненавижу немцев! Без разбора! Всех!.. — бушевал Фрикке. Он хладнокровно закрыл окно и опустил маскировочную штору. — Нечего волноваться, Мильда. Я отомстил за наших родителей, только и всего.
Девушка, откинувшись на спинку кресла, тяжело дышала. Глаза были закрыты.
Притронувшись к её пылающему лбу, Фрикке только присвистнул. Соорудив на диване из перин и подушек спокойное удобное ложе, Эрнст Фрикке перенёс туда больную.
«Бог посылает тебе клад, Эрнст, — размышлял он. — Если обстоятельства вынудят остаться в Литве, Мильда станет твоим ангелом-хранителем».
Несколько дней Мильда металась в бреду. Фрикке не отходил от неё, пичкая лекарствами, найденными в домашней аптеке, поил чаем, готовил еду. И только когда к девушке вернулось сознание, стал подумывать о своих делах: надо действовать, не упустить время.
Все эти дни Фрикке проводил в стенах дома, выходя на улицу только, чтобы принести воды или нарубить дров. На все, что окружало его, он не обращал ровно никакого внимания. Сейчас выйдя во двор и оглядевшись, он поразился удивительной перемене. Тёплые солнечные дни оживили спящую природу. На кустах возле соседнего дома появились крупные жёлтые цветы, листьев на них не было, только цветы. На ветвях деревьев проклюнулись листочки. Сброшенная почками коричневая кожура лежала на земле. Фрикке притронулся рукой к ветке. Он ощутил клейкую смолу. Пальцы слипались.
Только липы стояли ещё без листьев. Липа — осторожное дерево, его слишком часто обманывали северные весны, оно боится холодного ветра и заморозков, бережёт свою нежную зелень. На яблонях только-только лопнули почки. Дружно зеленели кусты бузины, а земля на солнечных местах покрылась нежной молодой травой, и ландыш вынырнул из-под земли, как зелёный весенний флаг. Голосистые скворцы и другая мелкая птаха весело возились на деревьях.
В одном из домиков на соседней улочке Эрнст Фрикке нашёл рыбака с женой. Это были литовцы, пожилые люди. Узнав про больную девушку, старики согласились помогать ей.
…И вот пришло время прощаться.
— Благодарю, Антанас, ты спас меня, — говорила Мильда перед разлукой. — Если тебе будет тяжело одному, приходи, я всегда буду рада. А дом у нас большой, места хватит.
Эрнст Фрикке прижал к губам тонкую, похудевшую ручку Мильды.
— У меня предчувствие, Мильда, мы будем вместе. Нет, я уверен в этом. Мы скоро увидимся. Я оставил все продукты здесь, — добавил он, — себе я беру немного, только вот в этом рюкзаке. Ты должна хорошо есть после болезни. Машина в сарае, ждёт твоего выздоровления, домой доберёшься быстро.
Вскинув за плечи рюкзак, Фрикке зашагал по дороге вдоль берега моря, направляясь в Кенигсберг. Он избрал кружной путь через Мемель. Так несколько дольше, но безопаснее.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ВИЛЬГЕЛЬМ КЮНСТЕР ПРОДОЛЖАЕТ СТУЧАТЬ МОЛОТКОМ
Сухопарый блондин с энергичным лицом, в берете, серой куртке и рюкзаком за плечами сошёл с поезда, прибывшего на товарную станцию. Дальше железнодорожный путь был разрушен, и оставшийся до южного вокзала километр пассажиры шли пешком. В Тильзите советские солдаты-артиллеристы посадили Фрикке к себе в вагон. Поезд следовал из Тильзита без всякого расписания, вагоны были разные: несколько пассажирских, несколько товарных. На том, в котором ехал Эрнст Фрикке, сохранилась старая табличка с надписью по-немецки: «Только для военных». А на другом — полустёртая надпись чёрной масляной краской: «Мы едем в Польшу уничтожать евреев».
Кенигсберг. Могучие стальные арки вокзальной крыши остались невредимыми, только стекла разбиты. Под ногами хрустят осколки, льдышками устилающие платформы. Пусто и заброшенно. Рельсовые пути уставлены товарняком, битым и горелым. Среди вагонов — несколько платформ, гружённых колючей проволокой. На перронах от недавних боев сохранились почти незаметные для глаза бетонные дзоты с пулемётными бойницами.
Эрнст пробирался через развалины домов. Услышав голоса, он метнулся в сторону и осторожно выглянул из-за обгорелой стены. Собственно, бояться ему было нечего, но сказывалась давняя привычка.
Несколько десятков мужчин и женщин с кирками, ломами и лопатами, пёстро одетых, расчищали завалы. Медленно, с безразличными лицами работали кенигсбержцы, изредка перебрасываясь скупым словом. Поодаль дымили махоркой двое советских солдат. Сплошные холмы из кирпича и мусора остались в этих кварталах от страшных августовских дней прошлого года.
«Русские заставляют население расчищать город. Что ж, это правильно», — подумал Фрикке.
Он обошёл развалины и очутился на улице, ещё более разрушенной, кое-где курились свежие пожарища. Иногда от здания оставалась только передняя стена с надписями прямо на штукатурке: кондитерская, кафе, парикмахерская. Все остальное, за стеной, не сохранилось. Иногда, наоборот, передней стены не было, и этажи стояли с вывороченными внутренностями.
Но вот что удивило Фрикке. У некоторых полуразрушенных домов из труб поднимались дымки. Внизу, в подвалах, жили люди. Они молча и тихо копошились в руинах. По закоулкам шла торговля каким-то барахлом.
На стене одного из домов — надпись крупными буквами: «Единый народ, единая империя, единый фюрер». На другом ещё три: «Помните — наш враг всегда на востоке», «Победа или Сибирь», «Радуйтесь войне, ибо мир будет страшным». На синем плакате сверху изображена улыбающаяся картофелина. Внизу идут изречения: «Домашние хозяйки не должны чистить сырую картошку. Кто чистит сырую картошку, тот уничтожает народное достояние».
Фрикке пробирался через развалины старого города по улице Ланггассе. Перед глазами — разрушенный почтамт, королевский замок. В пустые окна просвечивает небо. Башни разбиты. Где-то наверху, на крыше, жалостно мяукает бездомная кошка. На массивных контрфорсах западного крыла крепости расклеены приказы советской комендатуры.
У пьедестала памятника Бисмарку — куча книжечек в коричневых коленкоровых переплётах. Фрикке взял одну. Это была «Памятка солдата». Он перевернул несколько страниц.
«Для твоей личной славы, — прочитал он, — ты должен убить 100 русских. У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны».
Эрнст Фрикке бросил книжку. С опаской обернулся: нет ли кого?
«Черт возьми! Читали ли русские эти изречения? — подумал он. — Если читали, плохо нам придётся!»
Приходилось часто останавливаться, внимательно рассматривать остатки домов, чтобы узнать улицу.
На домах пестрели надписи метровыми буквами, сделанные рукою советских солдат: «Осторожно — мины», «Опасно — мины».
В одном из переулков Фрикке остановился над книгами, наваленными вперемежку с кирпичами. Дорогие переплёты всех цветов, кожаные корешки, золотые обрезы, разноцветные иллюстрированные журналы, газеты. Он поднял одну из книг, другую. На всех на внутренней стороне обложки были наклеены этикетки-экслибрисы с изображением человеческого черепа и надписью: «Мир — моё творение». Кредо идеалиста.
«О-о, Ганс Каммель, — вспомнил Фрикке, — это его библиотека. Теперь я точно знаю, где нахожусь. Через два дома мне поворачивать направо. Где-то здесь жил кузнец Кюнстер, приятель дядюшки. Перед входом в его мастерскую висел фонарь из кованого железа. Зайду к старику, узнаю, не случилось ли что с дядей. Русские в городе, все может быть», — решил Эрнст Фрикке.
От дома, где жил искусный кузнец, осталась кирпичная коробка: старый мастер обосновался в подвале. Но у входа на узорчатом держателе висел все тот же фонарь в железной оправе. Рядом, в квадратной рамке, подвешена наковальня с лежащим на ней молоткомэмблемой кузнечного ремесла.
На обгоревших дверях вывеска:
«Кузница художественных изделий дипломированного мастера Вильгельма Кюнстера. Специальность — внутренние украшения жилищ и парадных помещений».
Рабочий стол, на столе — молотки и молоточки всякого рода: железные, деревянные и даже резиновые; ящичек, похожий на соты, с набором зубилец и резцов. Ножницы, обрезки меди в круглом бочонке. В углу — моток железной проволоки…
Посредине мастерской — особая наковальня кузнеца-художника, тиски. По стенам — реклама: изделия Кюнстера. Медные тарелки: на двух — профили Канта и Шиллера, на других — герб Кенигсберга и королевский замок. Ещё на одной — голая ведьма на помеле. На большой полке во всю стену стоят и лежат железные подсвечники, фигурные дверные ручки, люстра для свечей, какие-то цепи, каминные решётки.
Новое, что увидел Фрикке, — это пустая кровать, сиротливо приткнувшаяся к стене, и медный таз для умывания на железном треножнике.
Эрнст Фрикке никогда не интересовался кузнечным ремеслом. Однако он не раз слышал высокие похвалы своего дядюшки мастерству Кюнстера. Профессор Хемпель называл старика художником и считал его единственным в городе достойным продолжателем этого старого немецкого искусства, с годами все больше и больше забывавшегося.
— Здравствуй, Эрнст! Вот так штука! Почему ты здесь? Я слышал от профессора, ты получил билет на пароход, — дружески встретил гостя тучный старик с белыми как снег волосами, в шерстяной фуфайке и кожаном переднике.
У Кюнстера умное, собственно, ещё не старое, почти без морщин, лицо, большой прямой нос, лохматые брови, белой щёточкой торчат усы, сквозь черепаховые очки светятся проницательные глаза.
— Да, и с этим билетом я чуть не попал к морскому царю, — отшутился Фрикке. — Пароход торпедировали, а я плавал в воде, пока совершенно случайно меня не вытащили. Теперь пробираюсь к дяде. Жив ли он? Его ведь хотели эвакуировать?
— Профессор Хемпель жив, он в старой квартире. Русские хорошо относятся к учёным. Но ты берегись, тебя могут сцапать. Я слышал: такими молодчиками, как ты, русские здорово интересуются.
Фрикке вспомнил, что старый мастер не любил нацистских порядков. Как-то раз в середине войны ему, лучшему мастеру в Кенигсберге, предложили выбить из меди скульптуру Гитлера. Местные нацистские главари готовили к высочайшему дню рождения подарок. Вильгельм Кюнстер отказался наотрез.
«Слишком большая честь, — скромно и несколько двусмысленно сказал кузнец. — Я никогда не решусь изобразить на простой меди такую великую личность».
Уговоры и угрозы не подействовали. Вильгельму Кюнстеру повезло: нацистские заправилы не тронули лучшего кузнеца-художника.
Мастер вынул из жилетного кармана луковицу старинных часов, и Фрикке показалось, что он кого-то ждёт.
— На мою продукцию находятся любители и у русских, — снова заговорил старик, пряча часы. — У меня сохранился штамп, и я делаю медные пепельницы с парусным кораблём.
Фрикке молчал.
— Ты меня прости, Эрнст, я займусь делом! Это не помешает мне говорить и слушать. В пять придёт заказчик, русский капитан.
Кузнец взял кусок листовой меди и положил на угли горна. Работая мехами, он раскалил пластинку докрасна. Не торопясь сунул её в воду, вынул, потрогал: мягкая ли, опять опустил в какую-то жидкость, протёр тряпкой, медь заблестела. Затем положил пластинку на сферический стальной штамп трехмачтового корабля, прибил по краям гвоздями и осторожно обстучал круглым молотком.
— Много ли, если не секрет, вы получите от русских за своё искусство, герр Кюнстер? — спросил Фрикке.
— Во всяком случае, у меня есть хлеб, и табак, и даже сахар, — ответил мастер. — Впрочем, то, что я сейчас делаю, совсем не искусство. У профессора есть моя пепельница. Одна из лучших. Там ручная работа.
Вильгельм Кюнстер бросил на медь кусок свинца, принялся с размаху сильно бить молотком. Свинец смягчал удары, рисунок лучше прорабатывался.
— Как русские обращаются с мирными жителями? Я полагаю, зверствуют? — словно невзначай спросил Фрикке.
Кюнстер перестал стучать молотком.
— Зверствуют? Я этого не слышал… Но и не слишком ласковы. И тут ничего не скажешь. Так было всегда, пока у победителя не отойдёт сердце. — Мастер хотел ещё что-то добавить, но раздумал и стал вытаскивать клещами гвозди, вбитые по краям медной пластинки. Снял её, посмотрел на рисунок, что-то хмыкнул под нос. Привычными движениями вырезал из квадратного листа диск, загнул края, выбил зубилом незатейливый узор, и кусок меди на глазах у Фрикке превратился в красивую пепельницу. Кюнстер не был простым ремесленником, недаром доктор Хемпель расхваливал его.
Старик подержал пепельницу в каком-то растворе, протёр её.
— Посмотри, Эрнст, медь почернела, так гораздо красивее. Я мог бы покрыть пепельницу вот этим составом, и на металле выступила бы прозелень. Тогда она выглядела бы так, словно её делал не Вильгельм Кюнстер, а какой-нибудь мастер лет триста назад. Немцы любили такую подделку… Вот так и живу, — опять повторил старик и добавил: — В нашем деле по-настоящему искусен тот, кто откуёт из одной пластины меди крышку чайника или человеческую голову.
— Я рад был застать вас в добром здравии, а теперь направлюсь к дяде, герр Кюнстер, — сказал Фрикке, которому надоел разговорчивый любитель медных тарелок и дверных ручек.
— Передавай привет господину Хемпелю, — вертя в руках пепельницу, сказал старый мастер, — пусть заходит поболтать. Я всегда ему рад.
* * *
Третий этаж, квартира номер шесть, знакомая дубовая дверь. Не решаясь сразу позвонить, Фрикке снял рюкзак и осмотрелся. На лестничной площадке темновато: небольшое окно из разноцветных стёкол завешено куском чёрной маскировочной бумаги. Дверь в соседнюю квартиру полуоткрыта, в прихожей виден платяной шкаф с разбитым зеркалом, потёртые плюшевые кресла. На полу — клочья морской травы, тряпки, деревянные обломки и прочий мусор, всегда остающийся после переноски громоздких вещей.
«Удивительно, почему пустует квартира?» — подумал Фрикке. Он заглянул в дверь. В стене виднелись большие проломы, пол провалился.
Только он потянулся к звонку дядиной квартиры, как звякнул запор, и дверь приоткрылась. В просвете он увидел профессора со свечой в руках и седого полковника Советской Армии.
Фрикке мигом нырнул в соседнюю квартиру.
— Я не хочу вас принуждать, профессор, — услышал он, — но, если вы согласитесь, это будет весьма благожелательно расценено советским командованием и пойдёт только на пользу вашему любимому делу. До свидания, герр Хемпель.
— Я подумаю, господин полковник, благодарю вас. Очень благодарю за внимание, — проговорил профессор.
На площадке лестницы они попрощались ещё раз. Только теперь Фрикке заметил, что рядом с полковником стоял рослый ординарец.
Эрнст Фрикке напряжённо вслушивался. Сапоги ординарца процокали по каменным ступеням. Когда шаги звучали уже на улице, он снова собрался позвонить к дяде.
— Приятель, вы к кому? — вдруг раздался из темноты мягкий мужской голос.
Эрнст Фрикке отступил на шаг от двери. Сунул руку в карман.
— Не трогайте оружия, приятель, — с вкрадчивой убедительностью произнёс незнакомец. — У меня преотличнейший вальтер, патрон — в стволе. И однако, вы живы.
— Благодарю за любезность, — отозвался Фрикке, разглядывая незнакомца. — Но что вам угодно?
— Вы давно знакомы с профессором?
— Да, я был служащим в музее доктора Хемпеля.
У незнакомца было нежное и приятное лицо, тонкие рубцы прорезали в двух местах его левую щеку.
— Благодарю вас. Не смею задерживать. — Незнакомец сладко улыбнулся и приподнял шляпу. — Нашу беседу мы продолжим позже!
* * *
Пока Эрнст Фрикке рассказывал, что с ним произошло на пароходе «Меркурий», профессор, нахмурясь, сидел и молчал. У Фрау Эльзы на глазах выступили слезы. Она комкала у глаз платок, шевелила блеклыми губами и жалко улыбалась.
Когда Фрикке закончил свою наполовину выдуманную повесть, профессор поднял голову и, посмотрев в глаза племяннику, спросил:
— Ящерица, где она?
— Осталась на судне.
— Это ужасно! Но я верю тебе, Эрнст, — после некоторого раздумья сказал Альфред Хемпель и замолчал снова.
— Дай бог здоровья рыбакам, спасшим тебя от смерти, — нарушила тишину тётка. — Бог не дал тебе погибнуть в море, он спасёт тебя и в этом проклятом городе.
Как только фрау Хемпель начала рассказывать о житейских делах, её удержать было невозможно.
— Стало голодно, — жаловалась она. — У кого были запасы — припрятали, и купить что-нибудь нет никакой возможности. Люди потеряли человеческий облик: одни доносят советским властям, другие какому-то крейслейтеру, оставшемуся в городе. Многие ещё верят, что войну можно выиграть. Людей обуяла жажда обогащения за счёт друзей, родственников, все стремятся добыть золото или драгоценности — все, что занимает мало места и дорого стоит.
Эрнст, дорогой, — продолжала Фрау Эльза, сжимая руки племянника сухими горячими пальцами. — Какими-то путями, за большое вознаграждение ещё и сейчас можно выбраться из Кенигсберга к нашим войскам, защищающим клочок земли на берегу моря, и уехать на запад. Кое-кому удалось благополучно добраться, но многие были убиты и ограблены своими же проводниками… Дяде тоже грозит большая опасность. Последнее время ему не дают покоя…
— Да, Эрнст, люди изменились, — заговорил профессор. — Ты ведь знаешь, я всегда был верен партии и всегда отдавал должное фюреру. Но выше всего для меня была наука. Всю жизнь я посвятил янтарю, этому волшебному камню. Музей — это моё детище. А сейчас, ты слышишь, Эрнст, хотят разграбить сокровища, которые мне удалось спрятать. Несколько высокопоставленных лиц, скрываясь друг от друга, пытаются заставить меня открыть тайники, где захоронены ценности. И знаешь что, Эрнст, они намерены вывезти их за границу и превратить в доллары. Мои коллекции! Какой позор! — Профессор схватился за голову. — Они говорят, что деньги им нужны для продолжения войны. Это враньё! Война проиграна, и надо сохранить оставшееся достояние нации. Кенигсберг в руках русских. Ты видишь теперь, что стоят обещания наших вождей? И это случилось не потому, что плохо сражались солдаты. Нет, солдаты сражались яростно, иногда фанатически, но они не могли отстоять насквозь прогнившее государство, — профессор произносил слова с несвойственной ему быстротой, нервно постукивая зажигалкой по сигарному ящичку. — Жаль мирных жителей. Я обвиняю гаулейтера Коха. Он виноват в том, что было много лишних жертв. Выслуживаясь перед фюрером, он запрещал эвакуировать население, когда это было возможно, а сам оказался жалким трусом. И вот теперь…
Профессор замолчал. Глаза его затуманились. Он, как всегда в затруднительных случаях, снял очки и стал неторопливо протирать их замшей.
— Все равно русские варвары все растопчут сапогами, — угрюмо вставил Фрикке. — Говорят, они жестоко относятся к мирному населению.
— Не знаю, у меня нет таких сведений. Но ты сам не должен забывать: миллионы русских сознательно уничтожены по приказу фюрера… Заметь, не русские, а англичане разрушили наш замок, кафедральный собор, университет… Русский полковник показал мне страшный документ: фюрер объявил все исторические и художественные ценности России не имеющими ровно никакого значения и подлежащими уничтожению. — Доктор Хемпель вскочил с кресла и заходил большими шагами по комнате. — Все, чем дорожила русская нация, русская культура, мы грабили сколько могли… А что не могли, уничтожали. А вот ещё. Я узнал это совсем недавно. В Кенигсберге почти каждый дом заряжён миной замедленного действия. Наци заставляли солдат минировать жилые здания даже в день капитуляции. А теперь русские минёры, рискуя жизнью, спасают немцев. Где уж нам называть их варварами!
— Альфред, ради бога не волнуйся. Ты ведь знаешь, тебе это вредно, — фрау Эльза взяла мужа за руку.
— Меня поразил один молодчик, — горячо продолжал профессор, — он был у меня два дня назад. Я выставил его за дверь. Этот негодяй предложил крупную сумму в американской валюте за янтарную коллекцию. Он обещал вместе с музейными экспонатами вывезти за пределы рейха и нас с Эльзой. — Профессор горько рассмеялся. — Он много болтал глупостей. Мне показалось, что у этого типа, вымогающего сведения о сокровищах, заметный иностранный акцент. По его словам, наши вожди ещё во время войны готовы были распродать Германию оптом и в розницу, лишь бы нашёлся покупатель.
Профессор опять снял, но тут же надел снова очки. Эрнст Фрикке хорошо знал своего дядю.
«Фанатик, — подумал он, слушая взволнованные речи учёного. — Трудно что-нибудь вытянуть из него. Во всяком случае, сейчас, когда он так настроен. Однако зачем приходил сюда русский полковник?»
— Все это очень прискорбно, — сказал он, желая переменить разговор, — каждый истинный немец сегодня переживает трагедию. Победители и побеждённые были всегда, с тех пор как существует человечество, но народы, я подразумеваю цивилизованные народы, продолжают существовать. Что вы скажете, тётя, если я попрошу вас сварить чашечку кофе?
И Фрикке, раскрыв свой рюкзак, положил на стол пакет кофе, сгущённое молоко, большую овальную банку польской ветчины и кулёк сахара.
— А это, дорогой мой дядя, подарок вам, — Фрикке подал ему ящичек гаванских сигар.
Глаза профессора блеснули. Он осторожно вынул сигару и перед тем, как зажечь, понюхал, вдыхая аромат табака.
— Да ведь это целое богатство! — радостно сказала фрау Эльза, зажигая спиртовку. — Где ты раздобыл всю эту прелесть? — Она поставила на огонь кофейник.
— Подарок старого друга… Но вот хлеба у меня нет. — Фрикке развёл руками. — Осталось только четыре жёстких сухаря.
— У нас есть хлеб, Эрнст, свежий, сегодняшней выпечки. — Фрау Эльза положила на стол несколько булок. — Подарок русского полковника, — с теплотой сказала она. — Очень славный человек, прекрасно говорит по-немецки. Мы сначала думали, что он немец. Сливочное масло и сахар тоже его подарок.
Фрикке резко повернулся к тётке.
— Вот как, подарки русского полковника? Такое внимание врага по меньшей мере странно. Он что-нибудь требовал от вас? — Фрикке старался скрыть волнение.
— Нет, ничего. Он предлагал нам службу в комендатуре, мне и мужу. Просил Альфреда помочь ему сохранить музейные ценности от расхищения. Сохранить наши ценности, Эрнст. Он даже сказал, что дядя, по его мнению, мог бы заведовать янтарной коллекцией, когда она будет найдена.
— И вы поверили ему?! — Фрикке вскочил со стула. — Вы, дядя, позволили так просто обвести себя вокруг пальца? Вы, умный, уважаемый человек…
— Ты напрасно горячишься, Эрнст, — осадил его доктор Хемпель, священнодействуя с сигарой. — Русский полковник… да, он предлагал, но ведь я пока не принял его предложения. А потом, почему я должен отказываться? В нашем положении это самый разумный шаг. Музейные ценности будут сохранены для немецкого народа, а кончится война, все встанет на свои места. Он много расспрашивал меня о янтаре, этот полковник. Вчера он спросил, правда ли, что из янтаря в старину делали очки? Конечно, это правда. Но, к сожалению, мало кто об этом слышал. Самые лучшие и дорогие очки были янтарные. И ты знаешь, он читал мои книги, — неожиданно заключил доктор Хемпель.
Эрнст Фрикке неодобрительно покосился на дядю, не сказал ни слова.
«Надежды на старика нет… — Быстро мелькают мысли. — Это ясно. Если планы захоронения попадут к русским, пиши пропало…»
— Дорогой дядя, — Фрикке решил прощупать почву. — Как бы вы ни решили в будущем, сейчас тайники оказались в опасности. Вы беззащитны, — он нагнулся к уху старика, — в любой момент могут прийти русские или наши, сделать обыск, и планы в их руках. Вы рискуете жизнью, дядя. Зная ваш вспыльчивый характер, я не дал бы за вашу жизнь паршивой оккупационной марки.
Доктор Хемпель насмешливо приподнял брови.
— Ты напрасно беспокоишься, Эрнст. После первого посещения ретивого группенфюрера Ганса Зандера, кстати сказать одного из моих приятелей, я понял, что сейчас самое мудрое решение — уничтожить документы… Да, мы так и решили с Эльзой. В тот же день я сжёг все бумаги, — профессор указал длинным костлявым пальцем на решётку камина.
«Гм… при данной ситуации, положим, это недурно, — решил Фрикке. — На затонувшем корабле остался единственный экземпляр планов, и если старик не проговорится, то я останусь наследником всех богатств. Да, если только он не проговорится. Надо все обдумать».
По лицу Фрикке медленно расплывалась улыбка. С плеч его будто свалилась гора.
— Это другое дело, дядя, как всегда, вы приняли единственно правильное решение, — заключил он, облегчённо вздохнув.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ ТЕНИ ЖИВУТ В ПОДЗЕМЕЛЬЯХ
Эрнст Фрикке совсем позабыл о незнакомце. Спускаясь по лестнице, он увидел его на площадке второго этажа.
— Ну, как вы нашли старика? — приятно улыбаясь, спросил господин со шрамом на щеке. — Удалось ли вам узнать, зачем приходил к профессору русский полковник?
— А вам, собственно, какое дело? — Фрикке вызывающе посмотрел на незнакомца. Вытряхнув из пачки сигарету, он ловко прихватил её полными губами.
— Разрешите и мне, — потянулся улыбчивый мужчина, видя, что Фрикке прячет пачку. — Согласитесь, это невежливо. — Затянувшись, он добавил: — Прекрасные сигареты… американские… Может быть, у вас есть и доллары?
— Ого, вы слишком любопытны, уважаемый герр…
— Людвиг Фолькман, к вашим услугам, — незнакомец поклонился, — уполномоченный главного управления безопасности рейха, оберштурмбанфюрер Людвиг Фолькман. Прошу. — И он вытащил из заднего кармана удостоверение.
Эрнст покосился на фотографию в чёрной форме СД, на знакомую печать с орлом и свастикой. «Да, подпись самого рейхсфюрера Гиммлера».
— И вы не боитесь носить с собой такие документы? — искренне удивился он.
— Государство находится в величайшей опасности, нам ли, верным слугам, пристало беречь свою жизнь, — уклончиво ответил эсэсовец. — А вот вы кто такой? — Он перестал улыбаться, голос его обрёл твёрдость. — Документы?
— О каких документах идёт речь? — с наигранным удивлением спросил Фрикке. — Я вас не совсем понимаю, оберштурмбанфюрер. Я литовец, спасшийся из концлагеря, ищу своих родителей. — Он вынул из маленького поясного карманчика янтарный мундштук с двумя золотыми ободками и принялся старательно всовывать в него дымящуюся сигарету.
— А-а, — незнакомец взглянул на мундштук. — Признаться, я думал, что волки-оборотни существуют только в реляциях гаулейтера Коха… Я слышал, в этих местах находят янтарь?
— Да, на берегу моря.
— Поднимите левую руку, заверните рубаху, — изменив тон, твёрдо сказал Фолькман. — Так, хорошо, все в порядке. Кстати, ваше имя?
Фрикке ответил, посмотрев в лицо эсэсовцу. Глаза у Фолькмана были красивые, ласковые, немного грустные. Но вместе с тем в них было что-то такое… Нет, врать ему было опасно.
— Так вот, дорогой Эрнст Фрикке, я спросил вас о долларах не ради любопытства, — безмятежно улыбаясь, продолжал оберштурмбанфюрер. — Недалеко отсюда есть превосходный уголок, там можно спокойно посидеть, потолковать, поужинать. Расчёт с хозяином на доллары. Пойдут и фунты стерлингов или другая твёрдая валюта. — Он, обжигаясь, затянулся и с сожалением бросил окурок. — Вас не откажутся обслужить на золото или драгоценности. Совершенно безопасно, — поспешил заверить эсэсовец, излучая добрые улыбки. — На валюту можно получить все, даже девочек… Ну?..
Напряжение последних дней требовало разрядки.
«Что ж, — решил Фрикке, — развлекусь, узнаю, что хочет от меня этот странный тип. Он больше похож на врача или музыканта, чем на оберштурмбанфюрера. Итак, бедный Ганс, сегодня я устрою тебе поминки».
— Я благодарен за приглашение, — сказал он, — воспользуюсь с удовольствием.
На углу улицы эсэсовец остановился.
— Надо принять некоторые предосторожности. Я кое-что выясню. Прошу подождать. — Эсэсовец мгновенно скрылся в развалинах.
«Интересно, что ему надо от моего дядюшки? — соображал Фрикке. — Столичная штучка, особая. А улыбка? Будто у ангелочка из детской книжки с цветными картинками. Однако не хотел бы я заиметь его как врага».
— Герр Фрикке, — услышал он приятный тенор, — прошу вас сюда.
Во дворе, на площадке, свободной от кирпичных обломков и мусора, стояли две длинные ручные тележки на небольших железных колёсиках. На тележках лежали завёрнутые в грязные простыни какие-то продолговатые свёртки.
— Прошу вас, вот верёвка, привяжите покрепче груз к вашей тележке.
Увидев на лице Фрикке откровенное удивление, он добродушно усмехнулся.
— Место, куда мы идём, расположено неподалёку от кладбища. На тележках — трупы. Это маскировка, специально для русских патрулей. Ясно? — Нежными белыми руками в веснушках оберштурмбанфюрер вложил свои документы в карман покойника. — Ему теперь все равно, не правда ли, штурмфюрер, — он дружески хлопнул по плечу Эрнста Фрикке, — а живым лишние предосторожности никогда не помешают. Ну, берите ваш лимузин, тронулись. — И Людвиг Фолькман громко рассмеялся.
Когда их останавливал патруль, оберштурмбанфюрер со скорбной миной протягивал клочок бумаги: там было нацарапано по-русски: «Везу хоронить соседей, умерли от сыпного тифа».
Прочитав записку, офицер обычно махал рукой, даже не взглянув на покойников, и эсэсовцы спокойно продолжали свой путь по набережной. Из реки торчали корпуса, мачты и трубы затопленных катеров и небольших пароходиков. У металлической баржи собрались горожане. Эсэсовцы переглянулись: русские солдаты дружно вытаскивали из полузатопленного трюма мокрые мешки с мукой и раздавали немцам. Известно, что мука долго не промокает.
На перекрёстке двух больших улиц тропинку среди развалин преградили советские офицеры. Они обнимались с радостными восклицаниями.
Немцы приостановились и вежливо ждали.
— Серёга Арсеньев! Какими судьбами? — радостно восклицал высокий белобрысый пехотинец с капитанскими погонами. — Слыхал, слыхал, ты подлодкой командуешь.
— Командую, Санька, — живо отозвался старший лейтенант Арсеньев. — А ты, капитан дальнего плавания Александр Малыгин, потомственный моряк, — и в армейском! Что ж это ты, брат Саша?
Офицеры обнялись.
— Под Ленинградом войну начал, — сказал пехотинец, — партизанил. Вот и пришлось серую шинель надеть. Теперь в разведке… А помнишь, как мы с тобой лесорубам помогали деревья валить? А морской зверь… После войны куда думаешь?
— На корабль, Саша, во льды. Соскучился.
— Я тоже. Скорей бы войну кончать, жду не дождусь. — Заметив немцев с тележками, капитан крикнул по-немецки: — Эй, что вам нужно?
— Дорога узкая, господин капитан, — с поклоном объяснил оберштурмбанфюрер.
Советские офицеры уступили дорогу. Немцы с тележками прошли мимо. Эрнст Фрикке обернулся и встретил любопытный взгляд рослого старшего лейтенанта.
Погода портилась, с моря наползал туман. Он опустился на город и прочно застрял между развалинами.
— Надо оставить тележки вон за тем забором, — сказал старший эсэсовец.
На тихой улице, обсаженной огромными липами, в тёмном подвале разрушенного дома оберштурмбанфюрер нажал потайную кнопку. Открылась дверь, искусно замаскированная в стене. Они вошли в небольшую прихожую. Щёлкнул замок, и сразу зажглась маленькая лампочка.
— Что вам угодно? — раздался глухой голос откуда-то сверху.
Приглядевшись, Фрикке заметил динамик, вмонтированный в потолок, и узкую щель в стене на уровне груди, похожую на бойницу.
— Укрыться от непогоды и выпить чашку горячего кофе, — торопливо ответил оберштурмбанфюрер.
Стена с бойницей тоже оказалась дверью, она медленно отодвинулась. На пороге их встретил высокий бледный человек. Искоса взглянув на вошедших и не сказав ни слова, он пошёл впереди, освещая путь электрическим фонариком. Несколько ступенек вниз, несколько шагов по узкому коридору. Перед ними ещё одна дверь, теперь бронированная, толщиной с полметра, коридор, покрытый мягкой ковровой дорожкой.
Снова открылась тяжёлая бронированная дверь; вошли в небольшое помещение. Здесь, у вешалки, надо было снять пальто. Ещё десять ступенек вниз, и Эрнст Фрикке очутился в зале с двумя десятками столиков. Почти все были заняты. Мужчины в униформе и штатские, разодетые дамы вполне определённого поведения. Зал был разукрашен фресками по мотивам тевтонской мифологии. Деревянная облицовка стен, массивные столы без скатертей, крепкие скамьи. По стенам — бронзовые тарелочки с гербами, на полках — несколько тяжёлых кургузых парусников, утопавших в полумраке. Помещение освещалось оплывающими в духоте свечами в дубовых канделябрах. В зале пахло потом, табаком, свечами и спиртным. Шум то утихал, то поднимался волнами.
— Сядем здесь, — показал Фолькман на свободный столик рядом с буфетом из морёного дуба.
Подошёл кельнер, молча поставил на стол подсвечник.
— Бутылку лучшего портвейна, нет, две бутылки и поужинать. Что-нибудь поосновательней, — распорядился эсэсовец. — А пока не откажите, штурмфюрер, в вашем «Честерфилде».
Из-за соседнего столика встал майор в парадной форме. На груди несколько орденов. На шее Железный крест. Покачиваясь, он подошёл к столику Фрикке и оберштурмбанфюрера.
— Кто вы такие? — спросил он.
Эсэсовец остановил Фрикке незаметным жестом: не связывайся, дескать, и стал смотреть мимо майора.
— Положим, мне и неинтересно, кто вы! — не дождавшись ответа, продолжал офицер. — Такие же мерзавцы, как и все. Я майор Франц Баденбух, танкист. — Тут он повысил голос и стал оглядывать всех сидящих в зале. — Эй, вы, слушайте меня, господа носители тевтонского духа! Прошло время, когда вы отсиживались в тылу за чужой спиной. Это тевтонский дух заставил вас снять военную форму рейха и прятаться по норам и щелям. Жалкие трусы, зайцы, прижавшие уши при первом выстреле, — он слегка покачнулся. — Что говорил генерал Бернгард Отто фон Ляш? — спросил он, оглядывая сидящих за столиками. — Вы помните? — Все молчали. — Он сказал: «Истинными героями могут быть только мёртвые». А сам, негодяй, — заскрежетал майор зубами, — сдался русским. А где преподобный гаулейтер Эрих Кох, я вас спрашиваю? Молчите? Гаулейтеры и фюреры продали армию, слышите вы!.. Национал-социалистская германская рабочая партия, с-собаки… Ты, — майор ткнул пальцем в грудь оберштурмбанфюрера, — раз ты снял форму во время войны, ты предатель.
— Хорош сам, хоть и в форме, — сказала из-за стола пышная блондинка. — Ругаешь других, а сам тоже сидишь. Попробуй походи по улицам. Пьяница несчастный. — И женщина, закинув ногу на ногу, с насмешкой посмотрела на офицера.
— Заткни глотку, девка! — рявкнул майор. — Ты смеешь так разговаривать с офицером рейха? Ах ты!.. — Он шагнул было в её сторону, но пошатнулся и грузно опустился на стул.
Только за второй бутылкой улыбчивый эсэсовец приступил к деловой части.
— Ну, мой дорогой штурмфюрер, — отставив рюмку, начал Фолькман. — Теперь я готов слушать. Вы помните, о чем я спрашивал там, на лестнице?
Да, Фрикке помнил. Он успел все обдумать и приготовиться к активной защите. Он понимал, что жизнь его в опасности, за неё нужно дать выкуп. Фрикке решил приоткрыть эсэсовцу карты, правда не в ущерб делу. Он даже собирался извлечь пользу из своей откровенности. Вкратце рассказав о своей беседе с дядей, Фрикке закончил так:
— Убеждён, рано или поздно профессор будет работать у русских и покажет, где спрятаны сокровища. Заставить его молчать невозможно.
— Старика надо ухлопать, пока он не развязал свой язык. — Фолькман посмотрел прямо в глаза Эрнсту Фрикке. — Так я вас понял?
— Если это нужно для фюрера, для Германии…
— Теперь расскажите все, штурмфюрер. Вы меня понимаете? — в голосе гестаповца прозвучали металлические нотки.
— Я вас понимаю и постараюсь вспомнить. Хотя знаю я немного…
— Ничего, ничего, — поощрительно усмехнулся гестаповец. — Здесь немного, там немного, глядишь, и разгадка найдена.
— Вас, наверно, волнует, — вздохнув, начал Эрнст, — янтарный кабинет?.. Да, этот кабинет недолго был утехой профессора. Как вы знаете, он восстановил своё сокровище в одной из верхних комнат королевского замка. Кое-кто из уважаемых кенигсбержцев удостоился осмотреть его. В августе прошлого года, боясь бомбардировок, профессор демонтировал этот кабинет и спрятал его в подвалах. Это было в те дни, когда англичане разрушили старый город. В январе этого года доктор Гольдшмидт — вы знаете господина Иоганна Гольдшмидта?..
Эсэсовец кивнул.
— Так вот, он приказал понадёжнее запрятать янтарный кабинет в ящики. Упаковывали во дворе замка. Профессор сам руководил работами. Я видел, как янтарные куски выносили из подземелья.
— Кто знает, кроме вас, об этих работах? — прервал Фолькман.
— Гм-м, боюсь вам сказать… в упаковке ящиков как будто участвовало несколько служащих музея… Потом ещё рабочие, — осторожно ответил Фрикке.
Он понимал, что быть единственным свидетелем — опасно.
— Сколько ящиков упаковал в тот день профессор Хемпель? — продолжал выспрашивать гестаповец, улыбаясь.
— Я видел больше двух десятков. Но и кроме янтарного кабинета через руки профессора проходили большие ценности. Десятки тысяч изделий из янтаря, причём некоторые экземпляры были уникальными и стоили огромных денег. А экспонаты наших музеев! — Фрикке помолчал, собираясь с мыслями. — Ну, а потом профессор, несомненно, знает, где спрятаны семьдесят восемь ящиков музейных трофеев, привезённых с Украины и из Белоруссии. Там редчайшие полотна, старинные иконы, фарфор. Наконец, через его руки прошло немало частных коллекций.
— Сколько могут стоить эти ценности?
— Мне трудно определить даже приблизительно. — Фрикке пожал плечами. — Несколько миллионов долларов — это, видимо, скромная цифра.
— Черт побери! — воскликнул улыбчивый эсэсовец. Выдержка на этот раз ему изменила. — Но куда старик упрятал эти сокровища? Может быть, вы предполагаете что-нибудь?
— …Ну, например, при мне упоминалось о каких-то бункерах, расположенных на улице Штайндам.
— Прекрасно, у нас сохранились подробные планы подземных сооружений Кенигсберга. — Гестаповец повеселел, отметив что-то в записной книжке.
— Знаю, что в подземельях Вильденгофского замка тоже захоронены ценности… не меньше сотни ящиков. Может быть, в том числе и янтарный кабинет… — ковыряя вилкой в остатках ужина, говорил Фрикке. — Я помню одну русскую женщину, — чуть помедлив, продолжал он. — По приказанию гаулейтера Коха она сопровождала музейные экспонаты из Украины. Однако профессор не верил этой женщине. Она-то, наверное, знала многое. Где она сейчас? Её бы следовало ликвидировать в первую очередь. Вот, пожалуй, и все, что я могу вам сказать… Правда, я… — Фрикке замялся.
— Говорите, я вижу, вы что-то скрыли. — Глаза Фолькмана хищно блеснули. Но тут же ласковая, ободряющая улыбка вновь появилась на его лице.
— И нет и да, — Фрикке искоса посматривал на собеседника. — Собственно говоря, это незначительное дело, оно может заинтересовать только вас. Оно слишком ничтожно для государственных целей.
— Я слушаю.
— Небольшое количество ценностей: золото, драгоценные камни, очень ценные картины — спрятал я сам. Я думаю… — Фрикке опять замялся, — думаю, что если оберштурмбанфюрер отправится на поиски вместе со мной, то не останется внакладе.
— Доктор Хемпель знает об этих спрятанных вами ценностях?
— Да, как всегда, я выполнял его поручения.
— Где они спрятаны?
— В Мариенбургском замке.
— Посидите здесь, через несколько минут я вернусь. — Приветливо улыбаясь, Фолькман ушёл.
Проводив его глазами, Фрикке огляделся. В зале так накурили, что казалось, слова плавали в табачном дыму. Кабак шумел.
— Пиллау неприступен. Вы только представьте — пятнадцать тысяч снарядов разного калибра выпускает в минуту зенитная артиллерия. В минуту! Нет, я не шучу… Недавно фюрер послал на защиту Пиллау большой флот.
— Нет, Эрнст Вагнер остался в городе. Это фанатик. Он верен фюреру до последнего вздоха.
— Русские думают, что заперли нас на замок в Кенигсберге, ха-ха… А мы просачиваемся, незаметно просачиваемся. Стоит только добраться до Фриш Нерунг, и вы — в Швеции!
— Говорят, русские подошли вплотную к Берлину.
— Безоговорочная капитуляция? Что будет с Германией? Нет, это невозможно.
— Кости судьбы упали не в нашу пользу.
— Благодарите вашего сумасшедшего провидца фюрера!
— Мы должны готовиться к новой войне. Нет, я не шучу. Разве вы не слышали выступления Геббельса?
— Ваш Геббельс только один раз в жизни сказал правду. И то в пору его юности. Помните фразу: «Деньги — это дерьмо, но дерьмо не деньги».
— Деньги совсем упали, рейхсмарка не стоит плевка.
Фрикке удивила вдруг наступившая тишина. По залу шёл крупный, широкоплечий мужчина в чёрном, сверкая золотой свастикой на отвороте пиджака. Фрикке показалось, что он знает этого человека… Жестокое лицо, прямой нос, большие губы, сутулый…
Фрикке старался вспомнить, где он мог его встречать, но безуспешно.
— Ну, дорогой приятель, — хлопнув Эрнста Фрикке по плечу, весело сказал внезапно появившийся Фолькман. — Рад, все окончилось благополучно. Я доложил шефу, что вы вполне искренни. Оказано большое доверие. Шеф поручил передать вам, что профессор нам больше не нужен. Срок — три дня.
Фрикке слушал потупясь. Когда Фолькман сказал «три дня», он отрицательно качнул головой.
— Ну, а потом, — продолжал гестаповец, словно не замечая колебаний собеседника, — мы отправимся за вашими сокровищами. Я и вы… Вы довольны? Скажу по секрету, я ничего не докладывал об этой экскурсии шефу. — Он заразительно рассмеялся. — Вы поняли? Чем скорее мы уйдём из этого города, тем лучше.
— Все-таки это мутное дело…
— Ясно, не прозрачное. Но за все в ответе фюрер… Слушайте! — Фолькман вынул записную книжку и перелистал несколько страничек. — "Если вы слишком слабы для того, чтобы создавать самим себе законы, то тиран должен надеть на вас ярмо и сказать: «Повинуйтесь! Скрежещите зубами, но повинуйтесь, и всякое добро и зло утонет в повиновении ему».
— Ницше! Узнаю кладезь мудрости.
— Вот видите, старый больной человек не боялся об этом говорить. Правда, Геринг о том же сказал ещё короче: "Моя совесть называется «Адольф Гитлер». Брось корчить из себя невинную девушку! В политике нет преступлений, только ошибки. Вот, запомни адрес: этот человек даст тебе средство, чтобы без шума переселить в лучший мир профессорскую чету.
— Мы находимся на среднем этаже бункера, — сказал он, помолчав. — Есть приказ в среду затопить его, а виллу сжечь. — Он прошёлся взглядом по залу и вздохнул. — Интересно посмотреть на них в четверг…
За концертным роялем сидел полковник.
Заклинание огня. Шелест леса. Полет валькирий. Могучая волна вагнеровской музыки подхватила людей и подняла их на свой пенящийся, сверкающий гребень. Музыка великого волшебника действовала как наркотик. Шум, разговоры замолкли. Музыка приказывает, повелевает, превращает сидящих здесь полупьяных людей в храбрых и сильных героев. Гремит где-то вверху, в высотах вселенной, музыка-чародейка.
Последний аккорд. Полковник положил руки на отзывчивые клавиши и долго сидел, низко склонив седую голову.
В зале наступила тишина. Все ждали продолжения концерта.
— Господа, — очнувшись, громко сказал полковник, — теперь для вас.
И опять Рихард Вагнер. Торжественно-трагические звуки похоронного марша наполнили душное бомбоубежище…
В глазах у многих появились растерянность, страх. Некоторые поднялись с мест, словно собираясь бежать, кто-то истерически вскрикнул.
И вдруг выстрел. Грузное тело седого полковника медленно сползло на ковёр.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ПРИНЕСТИ СЕБЯ В ЖЕРТВУ «СВЕРХЧЕЛОВЕКУ»
— Дядя, я не отказался бы от чая, — сказал Эрнст Фрикке.
— Ну и прекрасно, я разделяю твоё желание, — подхватил профессор.
— Я боюсь, Эрнсту не понравится наш фруктовый напиток, — улыбнулась фрау Эльза.
— У меня есть прекрасный чай, — вдруг вспомнил Фрикке, бросаясь к своим вещам. — Нашёл. — Он повернулся, держа в руках металлическую коробочку. — Твой любимый.
— О-о, это замечательный букет, — отозвался профессор. — Ты волшебник, Эрнст. А к чаю у нас с Эльзой найдётся яблочный джем.
Подвязав белый кружевной передник, фрау Эльза пошла на кухню.
Эрнст Фрикке решил помочь ей. С чайником и спиртовкой в руках он направился вслед за тёткой.
Профессор, закутав ноги старым шотландским пледом, молча сидел в своём любимом кресле.
Война мало отразилась на домашнем мирке старого учёного. В кабинете все осталось по-прежнему: у окна большой письменный стол с разбросанными в беспорядке листками исписанной бумаги. На почётном месте стола — старинная чернильница в деревянной оправе, она давно служит только украшением: профессор пользуется автоматической ручкой.
Стена справа от стола до самого потолка уставлена книгами. Напротив «книжной стены» — скромный камин. Много лет, неизменно удивляя гостей, над камином висит свирепая кабанья голова — охотничий трофей молодого Альфреда Хемпеля. Коллекция всевозможных рогов украшает стены: от маленьких, неказистых козлиных рожек до огромных ветвистых рогов благородного оленя. На обычном месте красуется зелёная охотничья шляпа с кисточками и пером. Эта шляпа тоже напоминает профессору о молодости. С каминной доски глядят фотографии Шопенгауэра, Эммануила Канта; рядом — портрет Рихарда Вагнера.
— Не жалейте, заваривайте по-английски: ложка чаю на чашку. Я буду пить самый крепкий, — приговаривал Фрикке, топчась на кухне возле тётки.
Тётушка и племянник вернулись в комнату.
Фрау Эльза принялась накрывать на стол: появились любимые дядины чашки с зелёными ободками, джем, сахар и немного печенья.
— Посмотри, дорогой Эрнст, на улице почти лето, — профессор распахнул окно, — какое солнце! А эта нежная ароматная листва. Боже мой, какое счастье жить! Что может сравниться с жизнью. Это моё шестидесятое лето, мой мальчик. А я бодр…
Профессор подошёл к радиоприёмнику.
— И вы не боитесь слушать радио, дядя?
— Мне нечего бояться. — Хохлатые профессорские брови нахмурились. — Я получил разрешение русской комендатуры на приёмник и слушаю, что хочу.
Эрнст Фрикке криво усмехнулся, воровато бросил взгляд на дверь и, приблизив губы почти вплотную к дядиному уху, прошептал:
— Во всем виноват фюрер, это он оказался плохим стратегом и проиграл войну.
— О-о, я слышу от тебя что-то новое, — профессор отстранился от племянника, — но почему ты шепчешь? Мы можем говорить громко, слава богу, никто нас не подслушивает. Но разве не может быть так, что русские оказались хорошими стратегами, лучшими, чем Гитлер?
— Если бы он слушал своих генералов…
— Замыслы фюрера оплодотворили генералы, — возразил Хемпель. — Без них Гитлер бы был пустым звуком. Из бочки может вылиться только то, что влито в неё.
— Война проиграна, но мы ещё поборемся, дядя. Мы будем готовиться к новой войне с большевиками.
— Ты совсем сошёл с ума, Эрнст. Мне кажется, что, несмотря на поражения, Германия все же победила. Это парадокс, но это так. Победил народ. Только теперь я по-настоящему понял, что такое национал-социализм и чего стоил наш уважаемый фюрер. Диктатор, старавшийся превратить немцев в бездушных автоматов, в роботов… Маньяк, толковавший законы человечества по своему усмотрению. И поверь, если бы не русские, нам, немцам, никогда бы не сбросить его со своей шеи.
— Но, дядя, это делалось ради победы над коммунизмом; если бы мы выиграли войну, все было бы по-другому, и каждый немец стал бы повелителем. Для этого стоило потерпеть.
— Нет, теперь я ни о чем не жалею, — отчеканил профессор Хемпель. — Если с помощью русских нацизм перестанет существовать, это будет нашей общей большой победой.
— Дядя, я удивлён! — Фрикке казался взволнованным. — Стоило войти в город русским, и вы совсем переменились…
— Эрнст, — недовольно прервал профессор, — почему ты говоришь так громко. То шепчешь, то кричишь. Я хорошо слышу.
— Простите, меня задевают ваши слова, дядя. Война пока не окончена, но даже если мы её проиграем, какие будут порядки в новой Германии, неизвестно. Может быть, останется все по-старому.
— Старые порядки? Нет, это невозможно, Эрнст. Этого никогда не будет. Об этом позаботятся русские. — Профессор снял очки и кусочком замши стал протирать стекла.
— Русские, русские! — опять вскричал Эрнст Фрикке. — Мне кажется, дядя, ваш русский полковник сумел основательно вскружить вам голову. А что касается радикальных изменений в Германии, то… Откровенно говоря, мне трудно представить, как немцы будут жить без железного кулака национал-социализма. Народное единство распадётся.
— Добродетель, которую надо стеречь, не стоит того, чтобы её стерегли, — отрезал профессор. — Ты говоришь, я меняю свои убеждения, — уже спокойнее продолжал он, — это не совсем верно. В общем я расскажу, как было на самом деле, сейчас мне скрывать нечего. Я вступил в партию по двум причинам: первая — я искренне отрицал коммунизм и считал, что в нашей стране он должен быть уничтожен, уничтожен с корнем. И вторая — побуждение меркантильного порядка. Видишь ли, я не хотел, чтобы меня обогнали товарищи по школе, по университету только потому, что у них на отвороте пиджака партийный значок. — Профессор вынул из ящика сигару, нерешительно подержал в руках и положил обратно. — Вступив в партию, я был с ними на равных правах. Что же касается всех этих людоедских методов гестапо, беспринципности и произвола так называемого нового порядка, я их никогда не одобрял.
Эрнст Фрикке был искренне удивлён, слушая откровения профессора.
— Но, дядя, раньше я никогда не слыхал от вас ни одного слова порицания нашей партии.
— Гм… через пять минут об этом бы знали в гестапо. Ты не обижайся, Эрнст, но я уверен, что это так… Двойная жизнь — одна из язв бывшего порядка. Мы, немцы, были вынуждены скрывать мысли от товарищей, от родственников и, самое страшное, от детей. Ты спросишь: почему? Очень просто: из-за боязни потерять службу, жизнь, подвергнуться пыткам и издевательствам. Сколько разрушенных семей, сколько погибло хороших людей — настоящих немцев! Нет, с меня довольно! Я не хочу непререкаемых, посланных небом фюреров. Я за демократию, настоящую демократию. Я не устану говорить об этом. Ты не хочешь меня понять, Эрнст.
— Но, дядя, — примирительно заметил Эрнст, — над этими вопросами бесплодно раздумывали многие мудрые головы.
— А я как раз против мудрых голов, если они думают за всех нас, — отпарировал профессор. — Мы, маленькие люди, должны сами решать, как нам жить. Это единственно правильный выход. Да, вот так…
По комнате разливался тонкий аромат хорошего чая.
— Ты чувствуешь этот запах, дядя? — переменил разговор Фрикке и шумно втянул в себя воздух. — Но у меня есть ещё один сюрприз. — Он открыл жёлтый поношенный портфель и вынул оттуда бутылку с хорошо знакомой профессору Хемпелю этикеткой. — Нет, нет, дядя, это не эрзац, а самый настоящий, французский, — заторопился он, увидя скептическую улыбку профессора, — убедитесь сами.
— Да, пожалуй, ты прав, это настоящий «Мартель», — с пристрастием осмотрев бутылку, определил профессор. — Благодарю, Эрнст, как всегда, ты очень внимателен к нам. — И профессор хотел спрятать коньяк.
— Но, дядя, сначала мы вместе выпьем по рюмочке, по самой маленькой, за счастье многострадальной Германии… И тётя Эльза обязательно выпьет. Нет, нет, не отказывайтесь, тётя. Вот из этих рюмочек. — Эрнст встал и подошёл к серванту. — Из этих, с длинными ножками…
— А все-таки бутылка попалась неудачная, — заметил профессор, пригубив рюмочку золотистого коньяку, — странный привкус. Или марка другая? Может быть, коньяк военного времени? — Он опять внимательно осмотрел этикетку. — Да, коньяк странный, у него горьковатый вкус, словно берёшь в рот нож, которым недавно резали лимон.
Профессор, смакуя каждый глоток, все-таки выпил рюмку до конца. Фрау Эльза отпила половину. Племянник закашлялся и, словно боясь пролить драгоценную жидкость, поставил рюмку на стол.
— Коньяк отравлен, — вдруг сказала сдавленным голосом фрау Эльза. Потеряв равновесие, она покачнулась. — Альфред, мой дорогой… Мне страшно, Альфред.
— Отравлен? Ты права, Эльза. Я…
Профессор хотел помочь жене, но сам обмяк и стал дрожащими руками ломать и мять превосходную гаванскую сигару.
— Эрнст, помоги ему, — едва шевеля губами, прошептала фрау Эльза, все ещё силясь подняться, — ты должен ему помочь… врача… Слышишь, Эрнст?
Племянник не двинулся с места.
— Негодяй! Я поняла все, — неожиданно громко сказала фрау Эльза. Глаза её округлились, гневный взгляд остановился на побледневшем лице Фрикке. — И ты спокойно смотришь, как мы умираем?..
Эрнст Фрикке, споткнувшись о заботливо вычищенный тёткой рюкзак, выскочил на площадку лестницы.
* * *
— Плохо себя чувствуете? — посмотрев на бледное, испуганное лицо Эрнста Фрикке, спросил, улыбаясь, оберштурмбанфюрер. — У новичков это бывает. Когда мне в первый раз пришлось участвовать в ликвидации еврейской шайки, вы не поверите, меня едва не стошнило. — Он подошёл к распростёртому телу профессора и стал вглядываться в неузнаваемо изменившееся лицо.
— Такие вещи меня давно не волнуют, — стараясь быть равнодушным, заметил Фрикке. Однако замечание задело его самолюбие. — Евреи?.. Все это мы проходили в первом классе. Но вот убивать своих родственников не доводилось.
— О… о, так это ваши родственники?
— Да, дядя и тётя, — с некоторой гордостью ответил Эрнст Фрикке.
— Тогда сочувствую, — помолчав, сказал оберштурмбанфюрер. — В этих делах необходима чуткость. Расправляться с родственниками самому совсем не обязательно. Вы должны были предупредить об этом… Но все хорошо, что хорошо кончается. — Безмятежная улыбка снова появилась на лице Фолькмана. — Нам следует позаботиться о том, чтобы спрятать концы, в городе — русские. Вы уверены, это смерть? — Он слегка толкнул носком тело профессора.
— Конечно, — почувствовав дрожь в ногах, Фрикке опустился в кресло. — Англичане в средние века отравителей казнили в кипящей воде, — неожиданно для себя произнёс он громко.
Оберштурмбанфюрер взглянул на своего подручного, усмехнулся и вынул из внутреннего кармана пиджака сложенную вчетверо бумагу.
— Известный терапевт доктор Франц Краусзольдт, — изрёк он, разворачивая бумагу, — свидетельствует своей подписью, что господин и госпожа Хемпель умерли сего числа от дизентерии.
— От дизентерии? — удивился Фрикке. — Но если будет расследование… Профессор работал у русских. — Он тупо уставился на справку.
— Работал у русских?! Этот предатель Хемпель давно потерял всякое право называться немцем. — Фолькман ещё раз со злобой ткнул сапогом распростёртое тело.
Из кармана профессорского пиджака выпал небольшой листок картона.
— "Членский билет философского общества имени Эммануила Канта, Кенигсбергское отделение, 1944 год", — прочитал Фолькман, переворачивая билет и улыбаясь. — Посмотрите, дорогой Фрикке! Ваши учёные мужи умудрились отпечатать билет, позабыв о свастике. — Он удивлённо рассматривал на обороте чёрный силуэт великого философа. — Видать, в Кенигсберге давно потеряли головы.
И Фолькман рассмеялся.
— Однако к делу, — вновь стал серьёзным эсэсовец. — Расследование не состоится — это во-первых. Через несколько минут, — он посмотрел на часы, — мы начинаем похороны ваших родственников. Место, где они будут закопаны, останется навсегда неизвестным. Во-вторых, доктор медицины Франц Краусзольдт завтра перестанет существовать.
Заложив левую руку за спину, Фолькман молча прошёлся по комнате, заглядывая во все углы. Он рылся на полках серванта, рассматривая изящные безделушки. В спальне он заглянул в платяной шкаф. На широкой кровати с высокими изогнутыми спинками оберштурмбанфюрер зачем-то бесстыдно задрал одеяло.
— Какое яркое солнце, — проворчал он, вернувшись в кабинет, — действует на нервы. Я чувствую себя так, будто меня голым выставили напоказ всему свету. — Он посмотрел на маскировочную штору, словно намереваясь опустить её.
— Было бы чрезвычайно уместно, — снова заговорил Фолькман, — объявить о смерти… этих людей. Вам, как убитому горем родственнику, подобная процедура даже необходима. И справку доктора Краусзольдта отдайте соседям, пусть завтра утром отнесут русскому полковнику. Это вполне естественно, — добавил он, увидев сомнение на лице Фрикке.
Подумав, тот согласно кивнул и спрятал в карман справку. Сделав несколько шагов к двери, он, словно вспомнив что-то, вернулся.
Оберштурмбанфюрер с интересом наблюдал, как племянник, подойдя к тёплому ещё телу своей тётки, снял с её руки золотое кольцо с бриллиантом, сверкнувшим на солнце.
— Фамильная реликвия, — пробормотал Фрикке, пряча кольцо в поясной карманчик. Затем он подошёл к камину и взял янтарного божка.
Солнечные лучи просвечивали сквозь янтарь, расплывались кровяными пятнами на белой рубашке Фрикке, заботливо выстиранной и отглаженной тёткой Эльзой.
Внезапно Эрнст Фрикке почувствовал на своём затылке слишком пристальный взгляд. Он сразу насторожился.
«Я им больше не нужен, — молнией пронеслось в голове, — он хочет меня ликвидировать… этот негодяй сейчас выстрелит. — Усилием воли он подавил страх. — Осторожнее, Эрнст, осторожнее, выдержка, выдержка, игра идёт на крупную ставку — на жизнь».
Он медленно повернулся к Фолькману, все ещё сжимая в руках языческого бога и улыбаясь.
Чуть заметное движение правой руки эсэсовца подтвердило худшие опасения Фрикке.
— Посмотрите, дорогой оберштурмбанфюрер, — как ни в чем не бывало заговорил он, — полюбуйтесь. Это редкое древнее изображение Перуна, бога огня. Работа язычников. Между прочим, вещица стоит больших денег, тысячи золотых марок. Может быть, вы возьмёте… так сказать, на память о совместной работе.
Оберштурмбанфюрер слушал, все ещё держа руку в кармане. Однако он проявил несомненный интерес к предложению, только спросил, почему Фрикке не оставит себе Перуна.
— Очень просто. Это любимая безделушка профессора, — объяснил Фрикке. — Я помню, дядя говорил, что другой такой нет во всем мире. Но я… но мне… — замялся он, — мне была бы тяжела такая память.
Эсэсовец, очевидно, поверил, что Фрикке ни о чем не догадывается.
— Ну, уж если вы такой неженка, — он улыбнулся, — пожалуй, я не откажусь… На память так на на мять.
Эрнст сделал несколько шагов, глядя в лицо геста ловцу, но и не выпуская из виду его правой руки.
— Держите, — сказал Фрикке, — только не выроните, божок тяжёлый, почти три кило.
Оберштурмбанфюрер потерял осторожность и протянул руки. В этот миг тяжёлый янтарный бог обрушился на его голову. Охнув, эсэсовец медленно опустился на ковёр.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ КОГДА НЕОБХОДИМО, СМИРИСЬ И ЖДИ
Маленький литовский городок. Вокруг хутора вспаханные поля, зеленеющие озимые, темнеют лесочки. Главная улица — шоссе, идущее на Мемель. Между приземистым зданием почты и костёлом выступает двухэтажный дом, выкрашенный охрой. Над дверями нижнего этажа вывеска: чашка с дымящимся кофе и большой крендель. У дома топчется привязанная к дереву лошадь под седлом из чёрной потрескавшейся кожи. Несколько кур и петух неторопливо роются в конском навозе.
Мотоцикл с привязанным к багажнику стареньким чемоданом, основательно забрызганный грязью, подкатил к кафе. Приезжий, русоволосый молодой человек, выпив чашку эрзац-кофе и спросив у хозяйки какой-то адрес, завёл свою трескучую машину и завернул в одну из боковых улиц.
— Антанас Медонис? Вы!
Девушка с радостным изумлением взглянула на приезжего.
— Да, это я, Мильда. Помните, я говорил, что найду вас и на дне моря…
Девушка тронула тёплой ручкой грубую руку приезжего.
— Я понимаю, Антанас, — тихо сказала она, — все понимаю. Значит, я оказалась счастливее. Мой отец вернулся, но я ещё не совсем верю, Антанас… Он прошёл через такие мучения! Я ещё не совсем верю, что человек может столько перенести. На его глазах они замучили маму и брата.
— Это ужасно, Мильда.
Они помолчали.
— Но входите в дом, Антанас, — встрепенулась девушка.
— Мильда, — задержал её Антанас, — я могу надеяться на пристанище? Хотя бы на первое время. Тогда вы говорили, что дом пустует. Но теперь… Ваш отец возвратился, и, может быть, теперь…
— Как вы могли сомневаться, Антанас! Для вас всегда найдётся комната в нашем доме. Вы так много для меня сделали. Я не забыла… ждала. — Она покраснела и опустила глаза.
— Благодарю!
— Пойдёмте, — Мильда ввела Антанаса в дом.
На постели лежал человек. Перешагнув порог, Медонис остановился; он смотрел на худую, безжизненно-жёлтую руку, лежавшую поверх одеяла. Завёрнутый рукав белой рубахи был слишком широк для тонкой, похожей на кость руки — на ней видны несколько чётких цифр.
— Заключённый номер 103822, — пробормотал Медонис, не в силах оторвать взгляда от татуировки.
— Подойдите ближе, Антанас, — услышал он неожиданно твёрдый голос, — садитесь вот сюда. — Тонкая рука с татуировкой показала на деревянное кресло возле кровати. — Дочка, приготовь поесть нашему гостю.
Антанас Медонис сел. Он внимательно посмотрел в лицо больному и встретил насторожённый взгляд. Через мгновение припухшие веки закрыли ввалившиеся глаза.
«Проклятье, — ругался про себя Медонис, — как только держится душа в таком теле».
Голова больного по сравнению с шеей казалась несоразмерно большой. Хотя это был голый череп, обтянутый кожей. В открытый ворот рубахи видны выступающие ключицы. Во рту — обломки испорченных зубов.
— Мне ещё повезло, — заметив удивление гостя, снова заговорил отец Мильды. — Я, Иосиф Барайша, остался жив. Почти все мои товарищи погибли. Концентрационный лагерь СС — это далеко не курорт. В последний момент, перед приходом Советской Армии, нас хотели утопить в море. Но не успели, хотя уже погрузили на баржу… Я выжил и скоро смогу работать.
Больной потянулся к папиросной коробке.
Вошла Мильда. Девушка успела переодеться. На ней было синее бархатное платье с открытым воротом и туфли на высоких каблуках. Медонис-Фрикке не спускал с неё восторженных глаз.
— Папочка, ты же обещал мне — три папиросы в день!
— Ладно, дочка, ещё только одну.
— Как вы спаслись? — спросил Антанас.
— Эсэсовцы не успели вывезти баржи в море. Русские солдаты разогнали охрану и открыли выход на палубу. Через час было бы уже поздно, мы задыхались в трюме. Как видите, все очень просто. — Иосиф Барайша неглубоко затянулся папиросой. — Ну, а вы… что случилось с вами?
— Мой отец был учителем. В сороковом году стал коммунистом. Пришли немцы и всех нас, всю семью арестовали, — без особого воодушевления начал рассказывать Эрнст-Антанас. — Несколько дней я сидел в тюрьме, а потом под угрозой смерти мне предложили работать по специальности… Я согласился, другого ведь ничего не оставалось делать? — он выжидающе посмотрел на больного.
— Продолжайте, я слушаю.
— Меня взял к себе в имение помещик фон Браухер. Я был подручным электрика на мельнице. Там я работал всю войну. — Антанас заметил пристальный взгляд Барайши на своих руках.
— Работа была лёгкая, — поторопился объяснить он.
— Так, так, — пробормотал Барайша, смотря куда-то в сторону. Некоторое время они молчали.
— Где жили ваши родители? — нарушил молчание Иосиф Барайша.
— Вы хотите знать адрес?
— Да, — больной взял со стола карандаш и лист бумаги в клетку, на котором Мильда аккуратно записывала температуру.
«Это похоже на допрос, старик не верит мне, — мелькнуло в голове Медониса-Фрикке. — Ну, копайся, копайся, у меня за кормой все в порядке, об этом позаботились заблаговременно. Проверяй! Это пойдёт мне только на пользу. Семейство господина школьного учителя Медониса, увы, перестало существовать».
— Папа, ну что за расспросы, — вступилась Мильда. — Неужели тебе мало того, что я видела своими глазами. Антанас спас мне жизнь…
— Вы преувеличиваете, Мильда, — как бы застенчиво или обиженно сказал Медонис. — Дело было значительно проще… Господин Барайша, запишите, пожалуйста, адрес моих покойных родителей.
— Антанас будет жить у меня в доме и, как я вижу, собирается ухаживать за моей дочерью, — попробовал отшутиться Барайша. — Разве я не вправе им интересоваться в таком случае? Собственно говоря, я хочу помочь господину Антанасу. Кто знает, может быть, его родители ещё живы.
Антанас, а каковы ваши политические взгляды? — продолжал он расспрашивать. — Как вы думаете жить в освобождённой Литве? Предстоит большая работа… немцы нанесли колоссальный ущерб нашему социалистическому хозяйству.
— Ты поможешь Антанасу, папочка. Ну, конечно. Папа у меня секретарь райкома, — с гордостью объявила девушка.
— Помолчи, Мильда, — с притворным недовольством сказал больной и тут же ласково провёл рукой по волосам дочери. — Может быть, Антанас и не нуждается в моей помощи? — он вопросительно посмотрел на молодого человека.
— Собственно говоря, я не задумывался ещё над этим, — поколебавшись, ответил Медонис. — Фашизм ненавижу. К Советской власти отношусь терпимо, но в социализм, пожалуй, не верю. В Коммунистическую партию вступать не собираюсь. Что ещё сказать вам? А пока моя мечта — стать капитаном рыболовного судна.
— Посмотрим, посмотрим, — задумчиво отозвался Иосиф Барайша. — Пока отдохните, присмотритесь к нам. Кстати, какое вы получили образование? Что вы закончили?
— Каунасскую гимназию. Хотел поступить в университет, но… — развёл руками Антанас, — не хватило средств. — Он искоса посмотрел на больного.
«Кажется, — подумал он, — старик подобрел. Значит, я сказал все как надо. Мне повезло. Не всякому удастся попасть в квартиранты к секретарю райкома партии».
«Что-то мне не нравится в этом человеке, — размышлял в это же время больной. — Кто он? По разговору — настоящий литовец. Подкупает его откровенность. Прямые, честные люди, даже инакомыслящие, не опасны».
Молчание длилось недолго.
— Антанас, — сказала Мильда. — Идите, я покормлю вас и покажу вашу комнату…
Комната была светлая, уютная и чистая. Пол и оконные рамы недавно окрашены. У кровати лежал лоскутный коврик. Окно распахнуто настежь. Из сада доносилось деловитое жужжание пчёл, осаждавших цветущий сад.
— Здесь жил брат, — с грустью сказала Мильда, — за этим столом он помогал мне учить уроки. Для меня он повесил и эту карту…
Иосиф Барайша долго лежал не шевелясь, уставив взгляд в одну точку. Из его головы не выходили руки Антанаса.
«Что яснее всего выражает сущность человека? — задавал он сам себе вопросы. — Глаза? Иногда глаза действительно могут раскрыть душу. Однако глаза можно спрятать. Остаются рот, губы; но им можно придать бесстрастное выражение. Ты прав, Иосиф, лицо можно сделать непроницаемой маской. Руки — вот что выдаёт характер человека».
Иосиф Барайша мог много раз проверить свои наблюдения там, за колючей проволокой эсэсовского лагеря! Особенно выразительными ему всегда казались ногти. У них как бы своя собственная физиономия. Есть симпатичные ногти, посмотрев на которые чувствуешь расположение к человеку, есть вызывающие брезгливость и отвращение. Вот грубая рука насильника с огромной ладонью, узловатыми пальцами. Ногти квадратные, жёсткие. Эта рука будто приспособлена, чтобы ломать и корёжить. И другая рука, с длинными чуткими пальцами музыканта…
Нет, руки не могут лгать, они скажут всегда правду.
Барайша старался представить себе руки товарищей по лагерю.
Вот наборщик из Варшавы Иосиф Баславский. У него руки пропорциональны телу. Большая ладонь. Средней длины пальцы. Коротковатые ногти с белыми пятнышками выглядят добродушно. В жизни Иосиф Баславский был славным, покладистым человеком. А если судить по лицу, никогда не скажешь этого. Злые глаза, губы поджаты, углы их брезгливо опущены. Николай Беклимешев, русский скрипач. Нежная рука, длинные пальцы, продолговатые ногти. Такая рука может быть у человека чистого и порядочного. Иосиф Барайша хорошо его помнит, человека рыцарской души, делившегося последней крохой с товарищами. А губы у него надменные, тонкие. Парикмахер Берзиньш, латыш. Он постоянно обкусывал свои плоские ногти. Кожа жёсткая, шершавая. И масленые глазки. Здесь лицо подтверждало то, что говорили руки. Профессиональный преступник, один из тех, кто носил зелёный треугольник верхушкой вниз.
Сотни рук своих товарищей вспоминал Барайша.
Фриц Бауер, Пранас Риткус, Витаутас Шульцас, Федор Марковкин, Иван Любченко, Пьер Декасье… узнавал он грубые шершавые руки со шрамами и сбитыми ногтями.
У помощника коменданта лагеря Мортенгейзера руки были мясистые, с пальцами-сосисками, волосатые и веснушчатые, с розовыми холёными ногтями.
Мягкая рука с перстнями на пальцах и приторным запахом цветочного одеколона выросла до гигантских размеров и накрыла лицо Иосифа Барайши. Дышать стало тяжело. Силясь освободиться от потной ладони, вдохнуть как можно больше воздуха, он рванулся, застонал и открыл глаза…
Из окна по-прежнему доносился едва ощутимый аромат цветущих яблонь. Солнце светило ярко и весело. Положив руку на часто бьющееся сердце, Барайша радостно глядел на все живое, дышащее, согретое и взращённое солнцем! Тяжкое, страшное отошло навсегда…
Больной понемногу успокоился и опять задремал. Но и во сне привиделось недавнее. Эсэсовский лагерь на опушке леса. Иосиф Барайша снова за проволокой. Он, заключённый номер 103822, идёт по двору в тяжёлых деревянных башмаках на босу ногу, взмешивая жидкую грязь. Его окружают товарищи — худые, как сама смерть, призраки в полосатой одежде. Они самые сильные и здоровые, их спутники по эшелонам давно умерли.
У живых — постоянное чувство голода, щемящего, выворачивающего внутренности. И ещё страх, вязкий, противный…
Барайша — слесарь. Поэтому-то ему удалось попасть на военный завод, возникший на костях заключённых. Тем, у кого есть какая-нибудь специальность, легче, они кое-как существуют. Ещё бы, тюремщики добавляют к голодному пайку кусок хлеба. Иосиф Барайша стоит у высокого забора из колючей проволоки. Он ждёт. Сегодня день рождения его жены, ей исполнилось тридцать два года, она в лагере рядом. Барайша знает, скоро два десятка женщин потащат в лес мимо места, где он стоит, повозку, гружённую песком. Из леса женщины повезут тяжёлые бревна. Недаром на воротах лагеря написано: «Работа услаждает жизнь».
У Иосифа замерло сердце. Вот она, его жена Катрин, красивая, стройная, как девушка. Как легко идёт она по лесной дороге, даже впряжённая в повозку. Он видит её лицо, она тоже заметила его, улыбается, делает знак рукой. Сейчас Катрин будет близко, совсем близко…
Но что это? Вслед женщинам напрямик через лес, ломая ветки зелёных кустов, бежит здоровый как бык эсэсовский фельдфебель из охраны лагеря. Он тяжело сопит, лицо его покраснело. Боже, он подбегает к Катрин, хватает её за руку. Она вырывается, кричит. Эсэсовец хохочет и снова грубо хватает её.
Сейчас, кажется, разорвётся сердце Иосифа Барайши. Оцепенев, не двигаясь с места, он смотрит. Катрин озирается по сторонам, хватает горсть песку из повозки и швыряет в глаза эсэсовцу. Он громко ругается и трёт глаза руками. Быстрым движением Катрин вытаскивает из его кобуры пистолет и несколько раз стреляет почти в упор. Эсэсовец мешком валится в кусты.
Катрин бежит, протянув руки к нему, к мужу. Вслед ей уже летят автоматные очереди конвойных. Катрин, обливаясь кровью, падает, старается подняться, ползёт, умоляюще смотрит на мужа. О… о, Иосиф Барайша никогда не забудет этого взгляда. Товарищи хватают его, удерживают. Он бешено бьётся в их руках.
А через час худенькие тела одиннадцати женщин раскачивает морской ветер, они висят на деревьях с верёвками на шее. Катрин и десять её товарок. Катрин повешена мёртвой.
Перед глазами возникло бабье лицо Мортенгейзера. Он истерично выкрикивает команды, гонит заключённых смотреть на казнённых.
Потом товарищи рассказали Барайше все как было. История оказалась нехитрой. Катрин приглянулась кому-то из лагерного начальства, и её решили поместить в лупанарий для эсэсовцев.
Выдержит ли сердце заключённого номер 103822!
* * *
Ранним солнечным утром Иосиф Барайша полусидел в кровати. В руках у него книга, на книге — лист почтовой бумаги.
«…О себе довольно. Пройдёт ещё две-три недели, Ионас, и я смогу ходить без посторонней помощи и работать без всяких скидок, — выводила буквы слабая, ещё дрожащая рука. — У моей девчурки Мильды большое событие, на днях она выходит замуж. Её будущий муж Антанас Медонис — человек, по-моему, достойный. Мечтает быть моряком. — На этом месте Барайша остановился и тяжело вздохнул. — Ты, Ионас, живёшь в портовом городе. Если есть у тебя возможность пристроить парня, напиши не откладывая».
Закончив письмо и подписав адрес, больной откинулся на подушки и, долго о чем-то размышляя, глядел в сад и не видел ни цветущих яблонь, ни трудовой возни пчёл за окном.
КНИГА ВТОРАЯ НА ЗАТОНУВШЕМ КОРАБЛЕ ГЛАВА ПЕРВАЯ У КАПИТАНА АРСЕНЬЕВА СДАЮТ НЕРВЫ
Каюта освещена настольной лампой с тёмным абажуром: в морском походе капитан Арсеньев не любил яркого света. Бывает, нужно выйти на мостик ночью, дело срочное, а ты как слепой. Глаза-то не сразу видят в темноте.
Сегодня ночь безлунная. В небе ни звёздочки. Снежные тучи тяжело нависли над морем. Ледяной ветер вздымает волны. Смутными белесыми пятнами выступает из темноты пена на гребнях.
Вахтенный штурман, приткнувшийся на левом крыле мостика, видит в бинокль едва заметные огоньки небольшого рыбачьего посёлка. У мыса Низменного ярко вспыхивает входной буй.
У форштевня и по стальным бортам голубовато светится мельчайшая морская живность, как будто корабль врезается в расплавленный металл.
Из корабельных глубин в каюту отчётливо доносится бархатное постукивание гребного вала, жужжит репитер гирокомпаса. Резко выстукивает лаг пройденные мили. Над головой шаркают сапоги вахтенного штурмана. Слышно, как завывает ветер в такелаже, всплескивает и глухо шумит бьющая о борт волна. По трубам и радиаторам со слабым шипением и пощелкиваньем течёт пар. Похоже, будто в трубах шевелится кто-то живой, горячий и своим теплом согревает судно. Это все привычные для морского уха звуки, с которыми капитан Арсеньев давно сроднился. Стоит какому-нибудь из них умолкнуть или изменить свой ритм, и капитан тотчас настораживается: почему сбавила обороты машина? Почему тихо на мостике? Почему замолк гирокомпас, лаг не отсчитывает мили, а ветер вдруг запел с левого борта? Если бы Сергей Алексеевич спал и вдруг все стихло, он тотчас бы проснулся.
В полумраке каюты едва различимы два человека, удобно расположившиеся в креслах. На столе, покрытом белой скатертью, дымится электрический чайник. Рядом — плетёнка с домашним печеньем, открытая банка сгущённого молока. Под светлым кругом лампы лежит промысловая карта Студёного моря с нумерованными квадратами, густо разрисованная цветными карандашами.
— Ещё чашечку, Александр Александрович… Чай отличный, сам заваривал, — угощает капитан Арсеньев. У него русское открытое лицо, русые волосы, прямой нос. За последние годы обнаружилась склонность к полноте и чуть заметная седина.
В гостях у него старинный друг и однокашник. Этот высок и сухоребр. Волосы белокурые — седины нет и в помине. Мужественное худое лицо. Впалые глаза, большой лоб. Александр Александрович Малыгин — начальник зверобойной экспедиции.
— Чай-то хорош, друг, да у меня мотор ни к черту, — отнекивался Малыгин, окая, как истинный архангелогородец, — оберегаюсь. — Он осторожно стряхнул пепел в глиняную миску. — Ну, пожалуй, ещё одну. — Он отхлебнул из чашки. — А знаешь, напророчил ты, парень. — Малыгин почесал затылок. — Запаздываем. Ежели и во льдах тяжело, то…
— Трудно будет во льдах. По разделам мы всегда пройдём, а дальше?! — Арсеньев взял измеритель и ткнул им в карту. — Течение здесь не поможет. Полуночник закупорил море, — Арсеньев не удержался от поморского словца. — Полуночник, — повторил он ещё раз. — Ты читал? — Он кивнул на книжку — томик Джозефа Конрада, лежавший на столе.
— "Зеркало моря", попадалась, — читая название на корешке, отозвался Малыгин. — Времена были другие: на деревянных судах железные люди плавали. Многие из нас мечтают о жарких странах, во сне пересекают экватор, плывут по рекам Африки, перевозят туземцев между зелёными островами Океании… Но мечты остаются мечтами. А Конрад испытал все…
И почти без паузы продолжал:
— Сегодня второе марта. Лётчики облетали все море и ничего не нашли, кроме вчерашнего большого пятна. Правда, пятно расплывается, зверь прибывает. Если доберёмся за трое суток, то и тогда начнём промысел пятого-шестого марта. М-да… Поздновато. На втором рейсе плана не выполнишь. В нашем деле часом опоздано — годом не наверстаешь. Не мне говорить, не тебе слушать. — И он закончил просительно: — Постарайся, Серёга.
— Да что я, — и Арсеньев снял с накалывателя метеосводку. — Полуночник удержится пять суток. Подул бы северо-западный, и то легче. — Арсеньев вздохнул.
— И льды расступятся перед нами, — нараспев произнёс Малыгин и лукаво посмотрел на капитана, — ибо нас поведёт великий мореход и знаток Студёного моря.
Арсеньев неожиданно рассердился.
— Такие шутки не доведут до хорошего, — почти крикнул он, вскакивая с кресла. — Я не бог. Я предлагаю лёгкий путь в Зимнегорск, только в Зимнегорск. И уж конечно, не при таком ветре. К сожалению, тюлени не читали моей работы и плодятся, где им угодно. — Арсеньев поправил ногой завернувшийся угол ковра. — Некоторые товарищи читали, а говорят, будто я зимой собираюсь разгуливать по всему морю.
— Не сердись, Серёга, — сказал Малыгин, усаживая друга. — Моё мнение ты знаешь. Работа твоя стоящая, нужная.
Приятели замолчали. Все важное давно обговорено. Успех промысла решали льды на подходе к залежке. Что без толку переливать из пустого в порожнее, можно и беду накликать. Оба были, как истые поморы, чуть-чуть суеверны. Арсеньев по старой привычке теребил бровь. Малыгин машинально глотал остывший чай.
«Всегда не больно разговорчив и суров на вид, — думал Малыгин, разглядывая своего друга, — а сейчас совсем бирюком смотрит. За нарочитой улыбкой что-то скрывает. Но я-то знаю его, меня не проведёшь».
— Мы ведь друзья, — нарушил он молчание, — не вчерашние друзья. Правда, Серёга?
Арсеньев, пощипывая бровь, молча кивнул головой.
— Скажи, что с тобой? Ты на себя не похож. Осунулся, морщин прибавилось. Серый какой-то стал!
— Дорогу во льдах пробиваю, осунешься!
— Врёшь! Скрытный ты человек. От подчинённых замыкаешься — понятно: капитанское дело. А со мной зачем прятки?
Молча Арсеньев взял из коробки папиросу, постучал мундштуком по крышке, чиркнул спичкой.
— Дочь у меня болеет, — дрогнувшим голосом сказал он. Лицо его как-то сморщилось, сжалось.
— Ты что, парень… — растерялся Малыгин. — Не думай об этом. Обойдётся, — и он потряс Арсеньева за плечо. — У меня три дочери, все время болеют. Можно сказать, из болезней не вылезаем: то одна, то другая… Да ты брось в самом деле!..
Малыгин пытался прикурить папиросу не с того конца, отложил, взял другую. Наконец затянулся, встал, подошёл к иллюминатору, постоял.
— Капитан, а нервишки ни к черту, — подытожил он, вернувшись в кресло.
— Сердечко у неё слабенькое, — грустно пожаловался Арсеньев. — Своё бы отдал, если бы можно… — Он прислушался.
Какие-то необычные звуки доносились извне.
Арсеньев отвинтил иллюминатор: в каюту пахнуло холодом и морем.
— Скоро наступят другие времена, — изо всех сил старался развеселить друга Малыгин. — Будешь, как Фамусов, плакаться: «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом!», а там, глядишь, и свадьбу сыграем…
Запела телефонная сирена. Арсеньев взял трубку.
— Слушаю. — Последовала длинная пауза. — Сейчас выйду. Ну вот, Александр Александрович, сам видишь, кто прав. По курсу лёд. — Он быстро надел шубу, сунул папиросы в карман. — В прошлом году здесь ни одной льдинки не было… Прошу извинить. Посиди, пожалуйста.
— Выдумал! И я с тобой.
Обманчивый свет едва зародившегося дня «Холмогорск» встретил в тяжёлых льдах. То там, то здесь дымилась чёрная вода разделов.
Капитану Арсеньеву пригодилось знакомство с этим маленьким, но свирепым морем. Словно лоцман среди мелей, вёл он корабль. Но вот разделы кончились. В поисках зверя корабль свернул к востоку и ударами форштевня пробивал себе дорогу. Тюлени выбирали для своих детёнышей самые крепкие сморози.
Ещё двое суток корабль ломал и крошил льды. Наконец вдали показались заснеженные холмы Терского берега.
В восемь утра Арсеньев вышел на мостик в кожаных сапогах, но пробыл там не больше получаса. Мороз. Ртуть свалилась чуть ли не на самое дно градусника. Пришлось надевать валенки.
Движение корабля в тяжёлых льдах — вперёд-назад, вперёд-назад — быстро утомляло однообразием и в то же время требовало большого напряжения. Корабль врезался в ледяное поле на два-три десятка метров и медленно отползал, как бы набирая сил. Широкая полоса смёрзшихся полей тянулась на десять миль. То там, то здесь встречались тяжёлые, многослойные льды. Особенно опасным был отход. Корабль быстро набирал скорость в ледяном крошеве, но за кормой-то всего-навсего стометровая полоса, дальше крепкие, как гранит, обломки. А корма — самая деликатная часть судна.
За четыре часа вахты Арсеньев устал и основательно промёрз. В полдень его сменил второй помощник — краснощёкий, самоуверенный штурман Сертякин. Сергей Алексеевич призадумался. По совести говоря, можно было приостановить продвижение, передохнуть — двести-триста метров за вахту не очень большое достижение. Да и можно ли оставить дело на Сертякина? В то же время стопорить машины не хотелось. «Пообедаю, выпью чайку — и сновалка мостик, — решил капитан. — А Сертякин пусть потрудится: глядишь, хоть немного пройдём».
— Семён Иванович, — сказал Арсеньев, снимая светозащитные очки, — продолжайте двигаться, но осторожно. Неосмотрительное движение, и…
— Все ясно, и не в таком льду бывали. — Хлопнув по привычке рукавицей о рукавицу, Сертякин спросил: — Разрешите начинать, Сергей Алексеевич?
В длинной шубе, подпоясанный куском верёвки, Сертякин чем-то напоминал толстую бабу. Он был очень спокоен. Но это спокойствие казалось Арсеньеву неуместным. Оно раздражало и даже как-то оскорбляло капитана.
Спустившись в тёплую каюту, Арсеньев сбросил тяжёлую шубу, покрытую льдом и снегом, и стал медленно разматывать шарф. И вдруг толчок, словно чья-то рука внезапно остановила судно! И — тишина. Не раздумывая, не понимая, что случилось, но предчувствуя нехорошее, Арсеньев вмиг оказался на мостике. Ему бросилось в глаза побледневшее, растерянное лицо Сертякина. Второй помощник уцепился за ручку телеграфа — стрелка указывала на «стоп».
Капитан бросился к штурвалу. Колесо свободно вертелось в обе стороны.
— Немедленно проверить руль, — ещё не веря в несчастье, приказал капитан. — В румпельную, быстро!
Сертякин кубарем скатился с трапа.
Корабль не двигался уже несколько минут. Не использованный машиной пар вырвался через клапан наружу. Протяжный, хрипловатый стон оборвал тишину. Подхваченный эхом, он долго метался в забелённых снегом прибрежных утёсах. Над трубой ледокольного парохода повисло облако: огромное и кудрявое. Облако причудливо разрасталось, и в синем морозном небе неожиданно возник гигантский белый цветок.
Зазвонил машинный телефон. Машина заработала. Ледокольный пароход чуть-чуть пополз вперёд. Рёв уходящего из котлов пара становился слабее, глуше: бросившись в цилиндры, он вскоре затих совсем.
По трапам застучали сапоги. Сертякин возвращался на мостик.
— С-сергей Алексеевич, — заикаясь, доложил он. — В-все п-пропало, Сергей Алексеевич…
— Что пропало? — стараясь быть спокойным, спросил капитан. — Говорите яснее.
— Руль, Сергей Алексеевич. Все сломано, Сергей Алексеевич.
Капитан не проронил больше ни слова. Из пачки «Казбека» он неторопливо выбрал папиросу, покрутил меж пальцев, закурил. Он едва сдерживал себя, чтобы не выругать самым последним словом Сертякина. «Хватил бы кулаком по его бабьей роже, — дрожа от возбуждения, думал Арсеньев. — Недаром говорят, что море и корабль всегда накажут дурака на мостике…» Но капитан должен оставаться всегда капитаном. Бездумно Арсеньев следил, как штурман прошёлся по мостику и стал что-то рассматривать в бинокль. «Зачем он смотрит, если сломан руль?» — шевельнулось в голове. Потом Сертякин подошёл к карте и долго сопел над ней.
А все-таки капитану Арсеньеву не верилось. «Посмотрю сам», — решил он. Многое передумал, пока шёл на корму, Сергей Алексеевич. Если руль действительно вышел из строя, промысел сорван. Зверь ждать не будет: жизнь развивается по своим законам. От рождения маленького тюленя проходит всего три недели, и он, сменив на льду тёплую густую шерсть на удобную для плавания щетинку, уходит в воду. Вслед за детёнышами уходят в воду матери. Промысел не сделаешь по своему желанию короче или длиннее. Арсеньева бросало то в жар, то в холод. «Позор, позор на весь флот!..» Он наперёд знал, как будет. Пошлют ледокол. Дадут буксир и потащат изо льдов, как беспомощную баржу. «Вот тебе и мастер студеноморских льдов. Нечего сказать, открыл зимнее плавание! — издевался он над собой. — Кроме насмешек, ничего не услышишь. Что значит одно мгновение! — не мог он успокоиться. — Доверил свою судьбу дураку. Кто теперь тебя послушает? Кто поверит тебе?» Арсеньев представил себе улыбку Малыгина и скрипнул зубами.
Румпельная была ярко освещена. Старший механик Захаров и старпом Веселов были уже здесь и осматривали поломки. Арсеньев несколько минут наблюдал холодящую душу картину. Да, так он и предполагал. Перо руля от удара подалось влево. Ограничитель сломан, разрушен механизм ручного управления. Тяжёлый сектор руля заклинился. «Это конец! — думал Арсеньев. — Как глупо!» Едва взглянув на капитана, стармех и старпом продолжали священнодействовать. В румпельной раздавались отчётливые звенящие удары молотка. Стармех Захаров осматривал механизмы, ощупывал раны, внимательно, словно врач больного. Арсеньев долго теребил бровь, наконец спросил механика:
— Иван Павлович, что с рулём?
— Исправим, — подойдя к капитану и вытирая руки ветошью, ответил Захаров. — Исправим, Сергей Алексеевич. Через двенадцать часов все будет на месте. — Он махнул рукой.
Захаров — человек надёжный. На своём веку он много исправил всяких поломок.
Арсеньев ждал всего, но только не этого. Он присел на холодный зубчатый румпель — плохо держали ноги. Если бы не условности, строго соблюдаемые на кораблях, он расцеловал бы старшего механика.
— Так как же, Сергей Алексеевич, дадите нам двенадцать часов? Скорее, пожалуй, не уложимся, — расценил по-своему молчание капитана стармех Захаров. — Работы много, однако глаза страшатся, а руки делают.
— Двенадцать так двенадцать, Иван Павлович, — улыбнулся Арсеньев. — Приступайте немедленно. Не теряйте ни минуты.
— Есть, Сергей Алексеевич, приступить немедленно.
И стармех, не сказав больше ни слова, отошёл. Сергей Алексеевич увидел болтавшиеся на его ногах белые тесёмки. «Бедняга, так торопился, что забыл подштанники подвязать», — с теплотой подумал Арсеньев.
Когда капитан поднялся по скобяному трапу на палубу, он встретил машинистов, которые, запыхавшись, тащили грузовые тали, клинья, ломы. Ощущение неловкости терзало Арсеньева, будто он сам, а не Сертякин наломал дров там, на корме.
Пройдя вперёд несколько шагов, капитан вернулся.
— Игорь Николаевич! — крикнул он старпому, нагнувшись над люком. — Помогите механикам: пошлите в румпельную боцмана, матросов.
На мостике Арсеньев обратил внимание на дым, поднимавшийся кверху чёрным столбом. Он улыбнулся и сказал вахтенному матросу:
— Ветра нет — к перемене погоды. Превосходно. Ведь так, Николай Фомич?
— Точно так, Сергей Алексеевич, — степенно подтвердил матрос, — перемена будет. — И решил про себя: "Наверно, с этим чёртовым рулём благополучно обернулось. Напугал только толстомясый дьявол Сертякин: «В-все пропало».
У дверей капитанской каюты Арсеньева поджидал радист Павел Кочетков. Он прибежал из рубки в одном парусиновом кителе.
— Только что с борта самолёта, — объявил радист, вручая депешу. — Зверя — тьма! — радостно добавил он, поёживаясь и притопывая ногами. — Не пятно — пятнище! План наверняка выполним, Сергей Алексеевич.
— Не тот зверь, что на льду, а тот, что в лодке, — ответил Арсеньев. — Пойди-ка доберись до него!
Оконтурив на карте границы «пятна», он совсем воспрянул духом. Оказалось, что зверя прибыло, восточный край залежки вытянулся, и граница её находилась теперь всего в двух-трех милях от судна.
В каюту не вошёл — ворвался Малыгин.
— Каков подлец! — сказал он с возмущением, напирая на "о". — С таким помощником не доглядишь оком, заплатишь боком! Чуть не сорвал промысел, а теперь льёт слезы: спасите, дескать. Показал бы я ему кузькину мать! Ведь шесть зверобоек отходил, пора бы, кажется и научиться…
Судно вздрогнуло один, другой раз, качнулось. Раздался протяжный скрипучий звук. И со всех сторон понеслись стоны и вздохи торосящегося льда. Лёд сжимало. Чувствовалось дыхание океана.
— Представление началось, — добавил, прислушиваясь, Александр Александрович. — Шевелится лёд, а толщина без малого метр.
— Ветер меняется, и приливу время. На лёд давят две силы, — спокойно заметил Арсеньев. — Выстоим, корабль у нас крепкий.
Но думал он о другом. Если, переменившись, ветер задует с юго-запада, лёд стремительно поплывёт в океан. Капитану Арсеньеву уже виделись подводные скалы и опасные мели.
— А как руль? — вспомнил он и, оставив Малыгина, снова поспешил на корму.
Ледяные ковриги медленно, толчками надвигались на судно. Они с шипением наползали друг на друга, ломались, дробились. Лёд неумолимо наступал, он шумел по всему борту. Арсеньев смотрел, как взламывает торосистую сморозь ледяной вал. Он мог обрушиться на руль. Но разве можно остановить стихию?
Капитан вернулся в каюту. Малыгина там уже не было. Капитан заглянул в атлас течений, подсчитал время полных вод, походил взад-вперёд. Взял из шкафа томик Лескова, присел на диван. Надо чуть-чуть утишить нервы. Наугад открыл книгу. «Асколонский злодей, происшествие в кировой темнице». Название заинтересовало. Он прочитал эпиграф: «Мужчина, любви которого женщина отказывает, становится диким и жестоким».
«Интересно, посмотрим, что здесь о любви», — думал Сергей Алексеевич. Мысль его работала лениво, медленно. Он успел прочитать всего несколько страниц. Корабельщик Фалалей потерпел кораблекрушение и вернулся домой нищим. За долги он попал в темницу…
Строки расплылись. Наступили блаженные минуты, глаза Арсеньева смыкались. Он любил засыпать вот так, приткнувшись на диване. В любую минуту сунул ноги в шлёпанцы — и на мостик. С годами у него появилась способность просыпаться, когда нужно, минута в минуту; стоило только захотеть. Но сейчас он старался ни о чем не думать: «Разбудят, если понадоблюсь».
Книга выпала у него из рук.
…Приснился ему сон, что он идёт не то в лесу, не то в большом парке. Лунная ночь. На ветру таинственно шумят деревья. Сердце сжимает тяжесть, воздух пропитан тревогой. С Арсеньевым овчарка Цезарь. В лунном свете чернеют знакомые контуры дома. Это его дом, вот и крыльцо. Он поднимается по ступенькам. Овчарка ощетинилась, заворчала и вдруг, оскалившись, с воем рванулась к двери. Может быть, не стоило её открывать, но Арсеньев, недоумевая и страшась, все же вставил ключ в замочную скважину. Дверь, скрипнув, открылась. Лязгнув зубами, пёс бросился в темноту. Арсеньев увидел на уровне груди медленно плывущее на него облако…
Он проснулся и резким движением зажёг лампочку над диваном. В зеркале напротив возникло почти незнакомое лицо с широко открытыми глазами и капельками пота на лбу. Часто-часто стучало сердце. Наяву Арсеньеву никогда не бывало так страшно. Выкурив три папиросы подряд и прочитав ещё страничку про корабельщика Фалалея, он снова заснул.
Второй раз Арсеньев проснулся от ударов льда. Корпус судна сотрясался. Все трещало и скрипело. Несколько толчков были особенно сильными. Где-то хлопнула дверь, что-то упало, разбилось. Капитан посмотрел на часы — пять утра, вахта старшего помощника. «Руль?! — это первое, что пришло в голову. — Почему не доложили?!»
Пронзительно свистнула над головой слуховая трубка.
— Сергей Алексеевич! — доложил старший помощник. — Лёд торосится вплотную у борта. В двух каютах выдавлены иллюминаторы. Жмёт сильно…
— Как ветер? — спросил капитан глухим от сна голосом.
— Юго-восток, баллов на пять, отходит к югу. Температура минус тридцать семь. — Старпом помолчал. — Прошу разрешения объявить тревогу.
— Объявляйте, Игорь Николаевич. Я сейчас выйду. Как руль, — вспомнил он, — исправен? Двенадцать часов прошло.
— Стармех просил отсрочить до шести ноль-ноль, не ладится у них что-то, — ответил голос в трубке. — Я не стал вас беспокоить. Темнота.
— Хорошо. Объявляйте тревогу. Больше света на палубу. Включайте прожекторы.
Загремели колокола громкого боя. Корабль ожил. Захлопали двери, застучали по палубам и трапам ноги многих людей. Зазвучали громкие, взволнованные голоса.
— Попросите начальника экспедиции на верхний мостик, — распорядился капитан и взошёл по крутому трапу.
Ясная звёздная ночь раскинулась над морем. Сильные прожекторы голубым светом освещали торосы. Около сотни промышленников с баграми, пешнями и топорами рубили, кололи и оттаскивали в сторону напряжённый, трепещущий лёд. Старший помощник и боцман руководили авралом. «Как работают ловко, будто играют!» — отметил мысленно Арсеньев. На полуюте, где борт был ниже, льдины завалили палубу. Твёрдый как камень лёд упирался в железный борт и протяжно скрипел. Студёное море то жалобно стонало, то грохотало гневно и страстно.
— Жмёт и давит, давит и жмёт, — услышал капитан за спиной голос Малыгина. — А попробуй скажи начальству, план, дескать, не выполнен из-за ледовой обстановки, что тебе ответят?
— Начальство ответит так, — тотчас же отозвался Арсеньев: — «Каждый капитан всегда-де жалуется, что у него ледовая обстановка самая тяжёлая. Капитан-де рассматривает события с высоты капитанского мостика, а оттуда, как известно, виден крохотный горизонт. Поэтому над капитанами поставлены особые люди — эксплуатационники, у которых кругозор побольше…»
Электрик Колышкин! — прервал свои иронические рассуждения Арсеньев. — Поверните прожектор немного влево… Так, правильно.
Люди работали с охотой, помогая попавшему в беду кораблю.
Арсеньев взял в руки микрофон.
— Игорь Николаевич, — очень спокойно заметил он, — сейчас лёд выдавит иллюминатор. Да, здесь, под мостиком, в каюте стармеха.
Когда распоряжался старший помощник, Арсеньев, как правило, делал вид, что следит не слишком пристально. В этих случаях, как говорят, невнимание часто бывает высшей формой вежливости. Но если необходимо…
Несколько человек с кирками и пешнями бросились спасать иллюминатор. Они вовремя отрубили опасный ледяной язык, упёршийся в круглое окошко. Глухой рокот и скрежетание льдов не утихали.
— Сергей Алексеевич, — перед капитаном снова возник Кочетков. — Срочная радиограмма. — На этот раз вид у радиста был невесёлый.
Аварийная, от капитана зверобойного бота «Нерпа»: «Терпим бедствие, корпус повреждён. Прошу вывести на спокойное место для ремонта».
— Н-да… — пряча телеграмму в карман, сказал Арсеньев. — Ну и ночка выдалась, как на фронте! Ничего не поделаешь, придётся «Нерпе» самой выкручиваться.
Но всему бывает конец. Из темноты прозвучало резкое стрекотание: «Та-та-та!» — будто заработал крупнокалиберный пулемёт. И вдруг сразу же затихло; слышался только шорох отступавшею льда.
Опасность миновала. Можно было спуститься в каюту и согреть промёрзшие в запястьях руки. Но какое-то непонятное чувство, словно заноза, торчало в душе и мешало обрести покой, всегда наступавший после таких баталий. И то, что тяготило Арсеньева, было рядом, близко, заставило его обернуться.
— Ещё что-нибудь? — спросил капитан все не уходившего Кочеткова.
Радист как-то жалобно посмотрел на Арсеньева и, помедлив, протянул ещё одну радиограмму.
— Погода, наверно? — Капитан развернул изрядно помятую бумажку. Взглянув, он качнулся, ощупью поискал планшир и тяжело налёг на него.
— Доченька… — выдохнул он едва слышно. Казалось, он оглох и ослеп.
— По носу трещина, на льду вторая… Справа трещина! — радостно закричал на крыле мостика вахтенный матрос. — Сергей Алексеевич, расходится лёд, смотрите, отходит от борта.
Капитан взял в руки микрофон.
— Все на палубу, кончай работу, — разнёсся его голос по репродукторам. — Спустите с правого борта ещё два штормтрапа. Савелий Петрович, поторапливай мужиков. Скорей, ребятки, спешите, а то придётся на льду ночевать!
Повеселевшие промышленники и матросы, стряхивая снег с валенок и полушубков, поднимались по верёвочным лестницам на судно.
Телеграмма жгла руки Арсеньева. Не было сил ни перечитать, ни положить её в карман. Страшные слова… Как выдержала их бумага? Не бредит ли он?
«Я должен торопиться, — давила мысль, — надо бежать. Я должен увидеть её!.. Бежать!.. Куда?..»
— Сергей Алексеевич!
Капитан обернулся.
Вытирая руки чистой ветошью, перед ним стоял старший механик Захаров.
— Руль отремонтировал, готов к действию, — доложил он. — Прошу проверить.
— Досталось вам, Иван Павлович, — печально и тепло сказал Арсеньев. — Столько трудов!.. Вахтенный, проверьте руль.
Лицо у механика блеклое, морщинистое, глаза, казалось, ещё глубже ушли под широкий лоб. Китель перепачкан. По-прежнему болтались грязные тесёмки кальсон.
— Всякое бывает, — улыбнулся Захаров. — Считаться нам не приходится. Я побегу к себе, Сергей Алексеевич?
— Благодарю, Иван Павлович. Завтра отдам приказ. Промысел без вашей помощи был бы сорван. Идите, дорогой, отдыхайте. — Капитан обнял за плечи механика. — Игорь Николаевич, — обратился он к старпому, — с рассветом будем двигаться. Вперёдсмотрящим на мачту поставить бочечника Селиванова.
Захаров пошёл было, но смешно оступился. Арсеньев заметил, как он, рассердившись, оборвал тесёмки, по очереди наступая на них ногами.
— Заработался наш Иван Павлович, — определил капитан. — То-то ему сейчас койка обрадуется!
Арсеньев приходил в себя медленно, с трудом, точно боксёр после нокаута.
— Ну, пойдём, Александр Александрович, попьём чайку — и в путь, — дрогнувшим голосом закончил он. — К восьми часам будем у залежки. Обещаю.
Арсеньев пить чай не собирался. Но с кем-то он должен поделиться оглушившей его бедой. Должен обязательно. Молчать невозможно.
Малыгин внимательно посмотрел на товарища и, не проронив ни слова, спустился за ним по трапу.
Дверь каюты закрылась. Капитан тяжело сел в кресло, положив голову на покрытый зеленой скатертью стол, и, сжав виски, глухо сказал:
— Нет у меня её, Александр Александрович… Большая ведь была…
ГЛАВА ВТОРАЯ СТУДЁНОЕ МОРЕ, ЛЮДИ И МОРСКОЙ ЗВЕРЬ
Широкая полоса спаянных морозом ледяных обломков, припорошенных снегом, казалась несокрушимой твердью. В сморози медленно двигался «Холмогорск». Он упрямо наползал стальной грудью на крепкий панцирь, давил его, разламывал. Подмятые кораблём льдины с шипением уходили в воду, переворачивались и, разбитые в мелочь, с шумом всплывали позади. Мачты и такелаж закуржавели. Иногда от удара иней отрывался и беззвучно, словно вата, падал на палубу. Покрытое крошевом русло быстро смерзалось, за кормой оставался серый шершавый рубец, рассекавший ледяное поле.
Пройдя две мили, Арсеньев развернул корабль в самую середину залежки. Испуганные тюленихи метались возле детёнышей, рычали на стального зверя. Чем дальше двигался корабль, тем больше было тюленей. Можно начинать промысел! Лучшего места не сыщешь.
Зверобои, довольные, спускались на лёд. Будут заработки! Среди охотников было много молодёжи, но немало и степенных бородачей. У иных в руках карабины и сумки с патронами, у других только багор и лямки. Ох уж эти лямки! Несколько столетий мозолили они плечи наших предков, и сейчас волочат на них по льду шкурье. Но, видно, другое придумать трудно. У всех, даже у девушек, большие промысловые ножи, на ногах бахилы, удобные в ходьбе.
Понемногу затихли человеческие голоса. Уткнувшись в, сморозь, корабль застыл в величавом спокойствии. Казалось, он дремал после тяжёлых трудов, но дремал сторожко, одним глазом. Когда нужно, он оживёт. Закрутится стальной винт, и тяжёлый корпус снова будет ломать и крошить лёд.
Постреливая и перебегая с места на место, зверобои разбрелись по окрестным льдам. Только бочечнику в «вороньём гнезде» заметны за торосами чёрные маленькие фигурки. Это резальщики. Сильными и точными взмахами ножа они разделывают зверя, срезают с мяса толстый слой белого плотного жира. Какие-нибудь три минуты — и тощая тюленья тушка лежит в стороне от «сальной» шкуры. Если мёрзли руки, резальщики грели их в теплом тюленьем жире или во внутренностях. Время терять нельзя: остынет зверь — шкуру не снимешь.
В каюте жарко. В открытый иллюминатор доносятся сухие стуки выстрелов. На столе клокочет электрический чайник. У вазы с вареньем ножка тонкая и длинная, не для моря. Но капитану Арсеньеву она дорога — подарок жены. Он сидит за столом, нахохлившись, и молчит.
— Да скажи хоть что-нибудь, черт! — дошёл до его сознания сердитый голос Малыгина. — Спрашиваю, как человека, а он…
Арсеньев вздрогнул и с удивлением посмотрел на друга.
— Как промысел? Доволен?
— Не люблю я вообще зверобойный промысел. — Арсеньев замолчал и снова принялся терзать бровь.
— Так-то оно так, Серёга, жаль зверя, да от промысла куда денешься, — будто не замечая настроения друга, окал Малыгин. — Мне бы шкур побольше присолить в трюме. Пять таких дней — и план в кармане. Вот моё счастье. Конечно, весенний промысел веселее, спору нет, азарта больше. То кучи по разводьям разъехались, то мужиков чуть не за Канин унесло, у самого душа в пятках, — иронизировал он. — А ты знаешь, в нем что-то есть, — сказал он, пробуя варенье, — кислое не кислое и сладкое в меру, а рот дерёт. Пикантность как у недозрелой морошки.
Малыгин искоса глянул на примолкшего товарища. Нет, не удалось ему отвлечь друга от тяжёлых мыслей. Арсеньев думал о своём.
«Надо расшевелить, обязательно надо, — размышлял Малыгин, — иначе скиснет совсем. Потерянный, и глаза нехорошие. Разве можно посылать человеку такие нести, когда он в море?»
Немало дел у начальника экспедиции в разгар промысла. А тут приходится друга утешать. Но что делать, раз человек в беде…
Малыгин припоминал, чем увлекался последнее время его друг, ерошил белесые волосы и немилосердно курил. «Поморы!» Он чуть не подпрыгнул на стуле, вспомнив статью Арсеньева. Она по-новому освещала вопросы истории северного мореплавания. Но не все были с ней согласны. С особенной яростью один историк клевал упомянутые в ней записки холмогорского морехода. Как возникли эти записки? Арсеньев объяснил так: с давних времён на севере были в ходу рукописные лоции: немало их разошлось по свету. Небольшие, всего несколько страничек, они передавались по наследству от отца к сыну. Опыт с годами накапливался, и каждый мореход добавлял что-нибудь от себя: описание неизвестной ранее губы или берега. Лоции, походившие по рукам два-три века, были пёстры, как лоскутное одеяло, и по стилю и по грамотности. В лоциях XVIII и XIX веков встречались сведения более ранних лет, изрядно искажённые переписчиками. Большинство мореходов не следило за правописанием: их прежде всего интересовала суть. Видимо, в такой пёстрой лоции и сохранились заметки древнего холмогорского морехода. Палеографам, филологам записки казались сомнительными, и не без основания, — слишком много людей приложило к ним руки.
— Сергей, — вкрадчиво начал Малыгин, — что у тебя с историком Клоковым получилось? По правде сказать, я его не понял. Твоя статья мне понравилась. А вот Клоков…
Малыгин увидел в глазах Арсеньева огоньки. «Клюнуло, — решил он, едва скрывая улыбку. — Теперь держись!»
— Иван Клоков… — тотчас отозвался Арсеньев. — Подобные личности готовы на все. Если им выгодно, они могут вычеркнуть из истории целые города и народы. Вот и Клоков. Вопреки здравому смыслу он решил, что расцвет мореплавания в России — семнадцатый век.
— Семнадцатый? — удивился Малыгин. — Насколько мне известно, это самое «сухопутное» время в нашей морской истории.
— Он превратил казаков и землепроходцев в мореходов, — продолжал Арсеньев, — и сказал: быть по сему. Хочу — и баста! А казаку Дежневу присвоил на веки вечные первенство в прохождении Берингова пролива. Ну, а я другой точки зрения…
Малыгин кивнул.
— Знаю, знаю: ты за то, что там прошли многие из мореплавателей-поморов. Ещё до Дежнева, и остались неизвестными…
— Именно. И уверен: так оно и есть. Это я старался доказать в своей работе. Не понимаю одного: почему люди, не зная мореплавания, берутся писать его историю? Почему, например, они не пишут историю медицины или французского балета? Не знают ни медицины, ни балета? А то, что они ни черта не понимают в мореплавании, — это их почему-то не стесняет. Ну хорошо. — Арсеньев несколько раз крепко затянулся, не замечая, что папироса давно потухла: — Ну хорошо, если ты хочешь быть хронологом, это ещё куда ни шло — записывай себе событие за событием, ищи документы, но делать самостоятельные выводы о качестве кораблей, об управлении парусами и методах постройки, рассуждать о морских картах, не зная, сколько румбов в картушке, возмутительно! Этот умник Клоков утверждает, что корпус деревянного корабля крепче, если в нем много железных скоб. — Арсеньев закашлялся. — А все как раз наоборот: если корпус разваливался, в него вбивали скобы. И делалось это почти всегда на реках, а Иван Клоков писал, что на Руси скобили лучшие морские корабли.
Малыгин расхохотался.
— Ты смеёшься, а вот попробуй поспорить с таким Клоковым. Записки холмогорского морехода… Здесь дело посложнее. — Арсеньев помолчал. — Я тебе сейчас расскажу, как уверовал в его скупые строчки.
Капитан, держа в руках стакан, несколько раз прошёлся по мягкому ковру.
— Холмогорец в своих записках, — начал он, прихлёбывая чай, — объяснил, как плавали зимой наши предки. На парусных судах! Да не чудесно ли это? На паруснике во льдах, где в наше время корабли идут за ледоколом. Своей очевидной абсурдностью записки привлекли меня и заставили как следует пошевелить мозгами. И что же оказалось? Мой коллега-предок, плавая во льдах, не старался попасть в Холмогоры, а выходил западнее, к Никольскому монастырю. Рекомендованные курсы пролегли примерно там же. Значит, холмогорец знал природу льдов, все эти разделы и колоба получше меня. Знал, где надо идти под парусами, а где пользоваться приливным течением. Восемь лет, как ты знаешь, я изучал студеноморские льды и пришёл к выводу, что зимняя навигация в Студёном море — экономически выгодна и возможна. Те, кто замкнулся в скорлупе, порвал с практикой, могут с пренебрежением смотреть на лоции, пусть даже полулегендарные. Я уверен, что неизвестный мореплаватель прав.
В дверь постучали. В каюту вошёл двухметрового роста бородатый детина с красным, будто дублёным, лицом — колхозный уполномоченный Савелий Попов. Каюта сразу стала меньше. Малыгин невольно подумал, что зверобои в крепких руках… Попов заговорил. Как всегда, по его лицу трудно было понять, собирается он улыбнуться или намерен заплакать.
— Поздорову живёшь, Савелий Иванович, — сказал Арсеньев. — Ты что, в гости или по делу?
— С просьбой к тебе, Алексеич, — топтался у дверей Попов.
— Входи, чего двери подпираешь?
— Постою, Алексеич, бахилы-то, видишь, сальные. Палубу шкурьем завалили. Замараю тебе ковёр.
От бахил Савелия Попова, перепачканных кровью и тюленьим жиром, исходил резкий, неприятный запах.
— М-да… однако проходи, — Арсеньев махнул рукой, — выдержит ковёр. Чайку выпей. — Он достал из буфета чистую чашку и поставил на стол.
Арсеньев питал слабость к колхозному старшине. Они вместе служили на подводной лодке: Арсеньев — командиром, Попов — боцманом.
— Не откажусь, — загудел Попов. Шагнув по капитанскому ковру, он оглянулся, не наследил ли. — А это кто у тебя? — продолжал он, присаживаясь. — Дочка, наверно? Красавица. — Попов осторожно взял в руки фотографию.
— Дочка, — сказал вяло Арсеньев. — Чаю свежего заварю. А пока выкладывай, с чем пришёл.
— Мужики говорят, торопиться надо. С эдаким ветром нас прямо на Моржовецкие кошки вынесет, пяти ден не пройдёт. Промысел упустим, и прочее, и тому подобное. — Попов замолчал и метнул глазом, чтобы проверить, как отнеслись к его словам. — Послали упредить.
— Это замечательно! — загорелся Арсеньев. — Слышите, что мужики говорят? А мужиков-то их деды и прадеды учили. Недаром мой мореход записки вёл.
Колхозный уполномоченный поставил на стол фотографию и удивлённо посмотрел на капитана, всегда такого ровного.
— Ты чего, Сергей Алексеевич, горячишься? Уж своё-то море как не знать! Незнайками без хлеба насидишься. На руку лапоть не наденем.
— Что ж, Савелий Иванович, — вмешался Малыгин. — Мужикам скажи: мы с капитаном согласны. Срок — трое суток. — Он посмотрел на Арсеньева, тот кивнул головой. — Больше здесь не задержимся. Пусть шевелятся мужики.
— Я не подведу, — улыбаясь, пообещал Арсеньев.
— Вот и ладно, — с довольным видом сказал Попов. — Авось не пропадём в согласии.
Выпив со вкусом чашку крепкого чая, Попов вышел. Друзья посидели в молчании. Арсеньев скользнул взглядом по портрету дочери и опять помрачнел. Он вспомнил тонкую шейку и маленькие косички — последнее, что видел с порога больничной палаты, — и кровь снова прилила к вискам, снова потемнело в глазах.
Не так уж много довелось Арсеньеву бывать с дочкой. Их разлучила война, потом бесконечные плавания. Он вспоминает немногие дни, когда они были вместе. Совсем крошечная, в кружевном платье, она сидит на коленях у отца и слушает сказку. Как любила Наташа папины сказки, сколько он их придумывал для неё!..
— Слушай, Серёга, — Малыгин прервал молчание. — Помнишь, мы в Кенигсберге встретились, война ещё была?
— Орден мне вручали, — чуть оживился Арсеньев, — как не помнить! Развалины, пожары… Встретили мы двух немцев, на тележках кого-то хоронить везли. Я ещё подумал: «Хорошие люди, не забыли свой долг перед соседями…»
— Хорошие?! — перебил Малыгин. — Сказать тебе правду, у меня на них зуб горел. Как раз мы нацистское гнездо искали.
— Ну и что? — Арсеньев повернулся и стал слушать внимательнее.
— Упитанные были молодчики те двое и глядели нахально. Взять бы их тогда! В то время в городе много всякой сволочи собралось со всей Пруссии. Хватились мы, да поздно, разлетелись птички. Кое-кого зацепили, не без того… Потом сокровища искали. Гаулейтер Кох ограбил советские музеи, а вывезти из Кенигсберга не успел. Искали, да не нашли: гитлеровцы хорошо концы спрятали… Своих убивали, кто про сокровища знал. — Малыгин даже прихлопнул по столу рукой. — Добра-то на большие миллионы! До сих пор, говорят, не нашли… Ты слышишь меня, Серёга?
Но Арсеньев опять смотрел отсутствующим взглядом.
— Тогда же одного старика встретил, — продолжал Малыгин, — правильный человек. Помню, в развалинах вывеску увидел, как сейчас перед глазами: «Кузница художественных изделий дипломированного мастера Вильгельма Кюнстера» — и наковальня с молотком, и старинный фонарь в кованой железной оправе. Зашёл в мастерскую, а старик постукивает себе молоточком, будто и не случилось ничего. Я ему медную тарелку заказал с парусником. Настоящий художник… И в политике разбирается. Я бы его, Серёга, без колебания в немецкие министры рекомендовал. Ты слышишь меня, Серёга?
Арсеньев задумчиво теребил бровь.
На окровавленной и затоптанной льдине лежали кучи шкурья и тушек. К ним со всех сторон вели красные полосы. Колхозники волочили на лямках тяжёлые шкуры.
Капитан Арсеньев включился в работу. Сертякин подручным стоял у телеграфа и выполнял его приказания. Не простая работа — собирать добычу охотников. Надо изловчиться и поближе подвести судно, не разбив лёд и не утопив кучи. И нельзя медлить. Люди намёрзлись, проголодались и с нетерпением ждут отдыха. Если капитан без толку елозит около кучи, теряет время, да ещё, не дай бог, неловко заденет её, тогда берегись — мужики не пощадят капитанского самолюбия.
Идут часы, сменяются вахты, надвинулась ночь. Ледокольный пароход все ещё бродит в торосах. Теперь кучи заметны по огонькам. К шестам у шкурья привязаны керосиновые фонарики. Около полуночи последняя тушка спущена в трюм. Капитан промёрз и устал. Без чая, не раздеваясь, лишь сбросив с ног валенки, он заснул на диване.
На третью ночь немного потеплело. Все же термометр показывал градусов двадцать ниже нуля. К полуночи ветер усилился, взялась пурга. Последние три большие кучи исчезли из виду. Ровно в двенадцать часов радиопеленги, скрестившись на карте, показали — корабль находится близко от каменистых банок. Ещё несколько часов — и хочешь или не хочешь, а надо уходить. Три кучи шкурья в конце концов погоды не делают. Но там остались люди… Снегом залепляло глаза. Пытаясь найти в метельной ночной мути слабый огонёк, Арсеньев несколько часов не сходил с мостика. От перенапряжения то там, то здесь ему чудились фонари — «мельтешило», как говорят поморы. Но стоило минутку отдохнуть глазам — и опять все темно. Ноги в валенках и меховых чулках закостенели.
…Шёл второй час ночи. Ледокол в который уже раз перепахивал льды. Нервы у всех были напряжены. Боялись за товарищей, оставшихся на льду, но вслух опасений не высказывали: об этом говорить не полагалось.
Попов прикуривал папиросу, свет просачивался сквозь пальцы.
— Стоп! — приказал он.
Сертякин с испугом дёрнул за ручку телеграфа.
— Включить прожекторы. — Арсеньев нажал кнопку. Пронзительный вой сирены оглушил всех на мостике. — Неужто не догадаются из винтовок пальнуть?
— Подожди, подожди. — Попов торопливо отбросил меховой капюшон малицы. — Слышно что-то.
— Выстрелы! — радостно крикнул молодой охотник, стоявший рядом с капитаном.
— Ложитесь на чистый юг, — скомандовал Арсеньев.
— Пачками палят. Ей-богу, Алексеич, — радовался колхозный старшина. — Намёрзлись небось ребята. И боязно. За ночь снегом заметёт, тогда уж нипочём не найти. Алексеич, — осторожно посоветовал он, — будто самое время остановиться. Ребята сами подойдут. Ей-богу, близко.
— Не божись, Савелий Иванович, — пошутил Арсеньев, — и так верю.
Сертякин с усилием перевёл стрелку телеграфа. На сильном морозе устаревший механизм ворочался трудно. Врезаясь в снежную, холодную тьму, горели синеватым светом прожекторы. Зажглись палубные огни. Матросы спустили за борт лестницу. Попов оказался прав: ждать пришлось недолго. Из темноты, как призраки, возникли белые от снега фигуры.
Медленно поднимались они по крутой лестнице.
Капитан долго ещё не уходил из штурманской. Брал радиопеленги, прокладывал их на карте, что-то рассчитывал по атласу течений, вертел транспортиром и так и эдак. Он решил вырвать у Студёного моря ещё одни сутки промысла. С рассветом корабль подошёл к западному крылу залежки. По расчётам, крыло проходило чисто, не задевая опасных камней.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ КОЛОКОЛА КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА
Неукротимый западный ветер, открывший капитану Арсеньеву дорогу во льдах, здесь, на балтийском побережье, натворил немало бед. В Студёное море он нёс тепло и помогал промышлять зверя, а на Балтике держал корабли в портах, мешал рыбному лову, выбрасывал на камни неосторожных мореплавателей.
На песчаном берегу среди отмелей и дюн неуютно в эти дни. Волны глухо шумят в темноте. Сосны качают вершинами, скрипят и стонут. Сквозь голые ветви кустарников видно, как пляшут на море белые гребни.
Пустынна прямая набережная среди сосен. Запорошённые снегом, маленькие аккуратные домики глядят на море. Жёлтые прямоугольники окон излучают тепло, а на улице метельный ветер сбивает прохожих с ног, слепит глаза.
Часы на старой церкви пробили девять. Жители давно разошлись по домам. И только в полупустом зале кафе «Балтийская волна» горячо спорят несколько завсегдатаев.
За углом сверкнули автомобильные фары. В лучах голубого света метнулась белая искристая мошкара. Машина остановилась у освещённого подъезда кафе.
Из машины с трудом вылез полный человек в теплом пальто и шляпе с узкими полями. Придерживая шляпу рукой, он медленно пошёл вдоль набережной. Красные сигнальные огоньки машины мелькнули и скрылись за поворотом. Острый луч фонаря на мгновение вырвался из рук приезжего и воткнулся в стену ближайшего дома. И снова стало темно.
* * *
Эрнст Фрикке-Медонис, лёжа на просторном диване и прикрыв глаза, прислушивался к потоку немецких слов. Они, словно круглые, тяжёлые шарики, катились мимо, почти не задевая сознания. В кухне жена чуть слышно позвякивала посудой.
Фрикке немного располнел. Щеки слегка округлились, отяжелел подбородок. Казалось, он был доволен своей судьбой. Да и было ли на что сетовать! Ему удалось получить в аренду дом на берегу моря. За годы, прожитые в Литве, он обзавёлся хорошей мебелью, одеждой, наполнил вместительный шкаф орехового дерева книгами на литовском и русском языках, а последнее время копил деньги на автомашину.
Никто не слышал о Фрикке ничего плохого. Сам он в беседах часто ввёртывал словечки насчёт своей скромности и честности.
«Колокол кенигсбергского кафедрального собора зовёт к размышлениям, — вещал диктор. — Немцы из восточнопрусского землячества, лишённые родины, к вам сейчас обратится герой обороны Кенигсберга генерал Отто Ляш».
Фрикке представил когда-то знакомое одутловатое лицо, мундир с высоким, неудобным воротником и окончательно проснулся.
Загрохотал барабан, запели фанфары.
Трескучий старческий голос кенигсбергского генерала, разжалованного за капитуляцию и приговорённого к смерти Гитлером, призывал немцев к реваншу. Эрнст Фрикке с интересом выслушал немудрёную генеральскую повесть. Тревожные месяцы в окружённом городе, три дня штурма, капитуляция… Плен… Да, так было! Это напомнило ему страницы собственной жизни. Поделившись с радиослушателями тягостными воспоминаниями о последних днях войны, Отто Ляш замолк. Его сменил у микрофона делец из ХДС.
За окнами стонал снежный ветер, грозно шумело штормовое море, из боннского «далека» гудели набатные колокола, а в маленьком домике на набережной тепло и спокойно. Эрнст Фрикке выключил приёмник. В ушах все ещё раздавался унылый звон и трескучий генеральский голос. Фрикке повернулся к стене и закрыл глаза. Он стал вспоминать, как прожиты последние годы.
Рекомендация отца Мильды помогла. Фрикке получил работу в порту: старшиной на разъездном катере. Став «моряком», он устроился на курсы штурманов малого плавания. Окончив курсы, командовал небольшим портовым буксиром. А теперь по воле начальства он помощник капитана порта. Время прошло быстро, как-то между рук.
Нюрнбергский процесс испугал его, заставил спрятаться в скорлупу семейной жизни. По ночам он чувствовал себя спокойнее за тёплой спиной жены. Её самоотверженная любовь иногда даже трогала Фрикке.
Но прошло время. Нюрнбергский процесс стал забываться. Оставшиеся в живых нацисты пока притихли. Кое-кто из военных преступников неплохо устроился в правительстве Федеративной республики. Эрнст Фрикке понял — западное правосудие больше не опасно. Его не беспокоили: люди с янтарными мундштуками не появлялись, и Фрикке решил, что он накрепко забыт. «Утеряны списки», — думал он.
С новой силой одолевали мечты о богатстве. Сокровища ждут. Фрикке должен заняться ими. Швеция не уйдёт. Он был терпелив. Теперь время настало. Но каким способом проникнуть на затонувший корабль, как, не возбуждая подозрений, достать дядюшкин ящичек? Он должен сделать это один: сообщники ненадёжны.
Каюта Э 222! Три двойки. Они снились ему ночами, мерещились при самых неожиданных обстоятельствах…
И вот Фрикке решил действовать. Сложна задача проникнуть в каюту затопленного корабля так, чтобы никто не догадался об истинной цели. Вероятно, надо заняться подводным спортом. Акваланг! Но как добыть его? Эрнст Фрикке обратился к Иосифу Барайше: он-де хочет заниматься подводным спортом, он будет первым аквалангистом-литовцем. Мильда буквально осаждала отца просьбами. Спортивная затея мужа казалась ей делом достойным, благородным.
Для Иосифа Барайши в то время достать акваланг было нелегко, но как отказать дочери? Пришлось обратиться к друзьям. И вот новенький французский прибор у Фрикке в руках. Два года тренировался он и в совершенстве постиг все премудрости подводного плавания.
В дверь постучали. Он шевельнулся, поднял голову. На пороге стояла Мильда. В модном коротком платье и прозрачном переднике с оборками. Она ещё больше похорошела после замужества.
— К тебе пришли, — сказала она, улыбаясь. — Я не хотела будить, ты так сладко спал, но человек просит…
— Ладно, — проворчал Фрикке. — Кому это так приспичило? — Он сел на диван, поднял с пола книгу. Сжав челюсти, беззвучно чихнул.
— Я его никогда не видела. — Мильда пожала плечами.
Фрикке надел грубошёрстный, в синюю крапинку пиджак, неторопливо пригладил волосы перед зеркалом и кивнул жене.
Мильда пропустила в комнату высокого тучного человека с красным лицом, белыми бровями и ресницами. Короткий тупой нос, большой подбородок заметно выпирал вперёд. Во рту торчала сигара.
«Я встречал его раньше», — мелькнуло в голове Фрикке. Дрогнуло сердце…
Незнакомец, осторожно ступая по ковру, сделал два шага, остановился, озадаченно крякнул и быстро взглянул на дверь.
— Эрнст Фрикке! — воскликнул он. — Штурмфюрер! Вот так встреча! Ну, никак не ожидал! Цум Тей-фель! Никак не думал, что Медонис — это ты.
Протянув руки, он шагнул вперёд. И можно было подумать, что он собирается обнять хозяина.
— Я именно Медонис, — холодно проговорил Фрикке, поспешно отодвигаясь и тоже взглянув на дверь. — Антон Адамович Медонис. И не имею чести вас знать.
— Ну как же, вспомни, — не унимался незнакомец. — Мы драпали из Кенигсберга к морю. Наш буксир обстреляли. Разве ты забыл, мы чуть не погибли в канале? Ну, здравствуй!
Фрикке мельком взглянул на протянутую руку гостя. Огромная лапа. На толстом пальце заплыл золотой перстень. Теперь он не сомневался: он видел эту руку.
«А-а, троюродный брат Маргариты Мальман! — как-то сразу пришло в голову. — Родственник Пауля Даргеля».
Перед глазами Фрикке встала давнишняя картина: палуба пароходика, морской канал, общительный грузный мужчина.
— И все же мне непонятен ваш визит…
Но гость уже вытаскивал из поясного карманчика янтарный мундштук с двумя золотыми ободками. Повертев его в руках, он спросил:
— Я слышал, в этих местах находят янтарь?
— Да, на берегу моря, — сразу ответил Фрикке по-немецки. Теперь все было понятно. — Кажется, вас зовут Дучке? Карл Дучке?
— Смотри-ка, — гость засмеялся, — запомнил моё имя! Да, я Карл Дучке, хотя тебе и не положено это знать. Ну что делать, если мы оказались старыми друзьями. А помнишь, я показывал фотографию Генриетты? Сейчас моя жена прибавила в весе, я ведь не люблю худых.
«Зачем я им понадобился?» — думал Фрикке.
— Как ты живёшь? — осматриваясь, сказал Дучке. — Вижу, окопался недурно. За тобой не следят? — Он понизил голос.
— Почему же за мной должны следить? — так же тихо, но твёрдо ответил Фрикке. — Я честный литовец Антанас Медонис…
— Но бывает и так и эдак. Надо быть осторожным, — пыхтел Дучке. — Говорят, без осторожности никакая мудрость не поможет. Слушай, ты помнишь Фридриха Эйхнера? Тоже из Кенигсберга? — Он бросил пронзительный взгляд на хозяина.
— Эйхнер? — Фрикке на минуту задумался. — Главное управление имперской безопасности, — сказал он.
События последней ночи в Кенигсберге запомнились на всю жизнь. Он представил себе королевский замок, комнату дяди, уставленную картинами и деревянными рыцарями.
— Штурмбанфюрер?
— Да, да! — обрадованно отозвался Дучке. — Теперь полковник, ответственный пост в полиции. Десять лет отсидел в России как военный преступник. Весьма уважаемый человек. Никто так ловко не может накинуть наручники: раз — и готово! — Дучке щёлкнул пальцами. — Но об этом потом. Ты должен помогать в нашем великом деле, — важно изрёк он. — Мы начинаем все с самого начала… Да ты садись, у меня устали ноги.
Они уселись в кресло, пристально наблюдая друг за другом.
— Слушай, Дучке, мы даже не вспрыснули встречу, — состроив весёлую мину, сказал Фрикке. Он, не вставая, открыл дверку небольшого настенного шкафчика, достал бутылку. — Трепещи, приятель, это старый армянский коньяк.
На низеньком столике, стиснутом грузными креслами, появились рюмки, сифон содовой, яблоки. Все это Фрикке мгновенно достал из того же шкафчика за спиной. Это было его изобретение — не вставая с кресла, угощать гостей.
Дучке вынул из нагрудного карманчика пиджака новую сигару и стал молча рассматривать красно-золотую этикетку.
— Смотри, при наци мне редко удавалось курить такую, — медленно говорил он. — Разве после обыска арестованных. Три марки штука!.. Домик не хуже твоего. — Дучке оценивающе оглядел стены кабинета. — Правда, за него ещё не все выплачено. Детишки кончают школу, расходы большие, — добавил он, будто оправдываясь
Дучке чиркнул спичку и осторожно принялся разжигать сухие кручёные листья.
— Сигара должна загораться равномерно. Это сохраняет аромат, — неожиданно произнёс он каким-то неестественным для него сладким голосом. — Гаванцы, истинные знатоки и ценители табака, только так раскуривают сигару. — Дучке выпустил в потолок десяток голубых колец и опять замолк, наблюдая, как они увеличиваются, сливаются, образуя причудливое облако.
— Сказать по правде, — продолжал он, — при наци работать было легче. Главное — думать не надо: получил приказ — стреляй или руби голову. В прятки не играли. А теперь, если нужно кого-нибудь укокошить, боже мой, сколько разговоров!
Карл Дучке непрерывно подливал себе в рюмку, Фрикке был настороже. Он тоже смотрел, как тянулся нескончаемой нитью дымок с кончика сигары гостя, слушал, изредка задавая вопросы.
На письменном столе зазвонил телефон. Фрикке взял трубку. Гость вздрогнул
— Нет, вы спутали номер, — сказал Фрикке, — это квартира.
Неуклюже загребая мясистой ладонью, Дучке взял бутылку. Толстые, мягкие пальцы плотно обжали стекло.
«Однако ты, друг, не из храбрых». В памяти всплывала картина, как после взрыва на пароходике Дучке мгновенно уполз на четвереньках, словно провалился под палубу. Фрикке не мог сдержать улыбки.
Гость налил себе коньяку и, не глядя на хозяина, выпил.
— Может быть, я кажусь нескромным, Фрикке, но пойми: у меня за последнее время совсем расклеились нервы. — Он вытер губы и снова взялся за сигару. — Ты думаешь, мне приятно было ехать в эти края? Срочная командировка. Моя бедная Генриетта, мои сыновья… Они отговаривали меня. Но что я могу! Я никому не верю: ни одному человеку! Человек человеку — враг. Надёжный друг — только деньги, капитал, собственность, дающая деньги. Я брожу по свету, оскалив зубы и поджав хвост. Если кто-нибудь отвернётся, даст маху, я его схвачу за глотку.
Дучке все дымил. В комнате стало душно.
Фрикке на миг распахнул форточку. Порыв холодного ветра колыхнул штору. Упавшие на стол снежинки быстро таяли. Когда от них остались лишь мокрые следы, Дучке заговорил снова:
— Я написал в анкете, что говорю по-литовски. Я ведь родился в Мемеле. Это соблазнило американцев. Потом оказалось, кое-что позабыто. Они заставили учить заново. В придачу я должен был заниматься ещё одним языком — русским. — Дучке опять тяжело вздохнул. — Это было свыше всяких сил. Чужой синтаксис. Цум Тейфель! Попробуй запомни, куда пристроить глагол. У нас все ясно — ставь в конец фразы. А здесь: я не карашо на этому языку говору, — медленно произнёс Дучке по-русски и выпятил подбородок. — Правильно?
— Да, неважно тебя учили, — рассмеялся Фрикке. — Вот литовский ты знаешь сносно.
— Я недолго пробуду здесь. А потом опять в Западный Берлин. — Он закрыл глаза, и на лице его расплылась улыбка. — Ты знаешь разницу между светлыми и тёмными сортами сигар? — неожиданно перешёл на другое гость, и Фрикке заметил, что голос у него опять изменился.
— Нет, — ответил Фрикке.
— Тёмные крепче. Правда, после двух-трех затяжек сигара теряет свой аромат. А в светлых лёгкий аромат сохраняется до конца. Я курю светлые… Сигара, словно зимнее яблоко, должна созреть в ящике. Посмотри. — Дучке показал мясистым пальцем едва заметные бледно-жёлтые пятна на табачном листе. — Сигара созрела. Ты можешь купить сразу целую партию — и не прогадаешь, — неожиданно закончил он.
— Гм-м, но я не собираюсь покупать, — ничего не понимая, посмотрел на гостя Фрикке. — А ты что, торгуешь сигарами?
— Черт возьми, — Дучке рассмеялся, — действительно, я торгую сигарами! В Западном Берлине у меня табачная лавка. Без торговли я не прокормил бы детей. Ах, какой аромат в лавке! Порой думаешь, что тебя закупорили в сигарный ящик. Аромат лучших сигар и кедрового дерева. Пять марок штука… Моя Генриетта, она так божественно выглядит в этом душистом храме!
— Вот почему ты оказался таким знатоком… Вот откуда дорогие сигары. — Фрикке чихнул, беззвучно шевельнув ноздрями. — Ну и торгуй на здоровье, а зачем лезешь в драку?
— Гм, лезу! У меня выбора нет. Такие люди, как мы, не могут честно работать: слишком много укороченных человеческих жизней за плечами. Будем говорить прямо. Порядочное правительство не для нас. Нам нужен хозяин из нашего племени. Тогда и мы проживём. Я помню, в школе у нас было правило: если набедокурили — всему классу притронуться к какому-нибудь предмету. Ну, например, к камню, которым разбили окно. Тогда попробуй поищи виновного — виноваты все. Никому не удавалось отвертеться и уйти чистенькими. А мы все замараны. Мы должны поддерживать друг друга — и большие и маленькие. Цум Тейфель! Генералы хотят воевать? Ну что же, нам деваться некуда. И признаюсь: в воздухе густо запахло порохом.
Эрнст Фрикке насторожился. Разговор с Дучке был для него своеобразной отдушиной. Человека из знакомого мира можно было в какой-то мере не опасаться. Правда, он-то, Фрикке, не слишком откровенничал. Но последние слова гостя будили страх, от них несло мертвечиной.
Беседа дальше как-то не клеилась. Дучке налил себе ещё.
— Фрикке, — угрюмо начал он снова, — со мной творится что-то странное. Мне страшно. Очень страшно! В каждом углу вижу врага. Цум Тейфель… По ночам мучаюсь, плохо сплю. Ей-богу, даже читаю молитвы. — Дучке поймал на кончик мягкого пальца яблоневое семечко и стал возить им по гладкому столу.
— Послушай, у тебя есть дети? — вдруг спросил он. — С ними не так страшно. По ночам в тяжёлые времена я брал к себе в постель маленького ангелочка. — Дучке вздохнул.
— Детей у меня нет, — отрезал Фрикке. — Странно ими обзаводиться в чужой стране.
— Пожалуй, ты прав. Но тебе, должно быть, очень тяжело…
Дучке вдруг замолчал и прислушался. В передней хлопнула дверь, послышались голоса.
— Ты умрёшь страшной смертью, — плаксиво сказал он, тяжело дыша. — Мы безжалостны к предателям. Если я не вернусь… Серая рука… — Дучке проглотил слюну. Его выпуклые рачьи глаза налились страхом.
— Надо лечить нервы, — с презрением заметил Эрнст Фрикке. — К жене пришла знакомая, только и всего.
— Ты прав, я буду лечить нервы. — Дучке облегчённо вздохнул и вытер лоб. — Цум Тейфель. — Он обгрыз и закурил новую сигару. — Больше никуда не поеду, даже если придётся продать лавочку. У меня куча долгов… — Ноздри его трепетали, он словно принюхивался к собеседнику.
— Сказать по правде, я придерживаюсь твоего мнения. — Эрнст Фрикке говорил тихо, стараясь не обращать внимания на подозрительные взгляды Дучке. — Надо служить хозяину такой же масти, как и у тебя. И не принюхиваться, если смердит. Хочу заработать побольше денег и убраться восвояси подобру-поздорову. Вот и все!
Дучке опять густо задымил.
— Я слышу разумные речи, — донеслось из табачного облака. — Скажи откровенно, как другу, ты готов выполнить приказ?
Эти слова были произнесены с неожиданной чёткостью. Фрикке почувствовал напряжение в голосе гостя.
— А для чего я сижу здесь? — осторожно ответил Фрикке, жмурясь от едкого дыма. — Приказ есть приказ, я обязан его выполнять. Скажи мне, дорогой Дучке, — заискивающе добавил он, — на что можно рассчитывать? Ну, ты понимаешь…
— Не сомневайся, говорю тебе, как человек чести. Доллары. Мы откроем на твоё имя счёт в любом банке.
— Я согласен, — повторил Фрикке, с трудом изобразив благодарную улыбку.
Он мучительно соображал: «Как будет с личными делами? Выгодно ли влезать в большую политику? Хочешь не хочешь, придётся снова вступить в игру, — думал он, — или сделать вид, что вступил. Пока это не будет мешать моим планам. Летом я должен найти дядюшкин ящичек. А потом уеду в Швецию, пусть ищут! Отказаться? Они выдадут меня, уничтожат. Вот и все! Если гвоздь торчит не у места, его забивают или выдёргивают».
— Приказывайте, — подытожил Фрикке свои размышления. — Я готов.
— Превосходно! — Гость прошептал несколько слов на ухо Фрикке. — А теперь я хочу поужинать, — закончил он громко. — Ты меня угостишь?
— Откровенно говоря, я боюсь. Зачем тебе лезть на глаза? Моя жена любопытна, обязательно будет расспрашивать, а потом поделится с подругами…
— Ты прав: осторожность прежде всего, — с сожалением протянул Дучке. — Конспирация. Обидно: я голоден. Придётся идти в ресторан. — Он с кряхтеньем поднялся.
— Где я найду тебя?
— О встрече условимся так: получишь поздравительную открытку с голубком, приходи через три дня на почту. Ровно в полдень. Тут где-то недалеко я видел вывеску.
— Да, почта за углом. Что я должен делать?
— Скоро ты все узнаешь. Назревают серьёзные события. — Дучке улыбнулся. — Конспирация. Меня зовут Лаукайтис. Запомни: Пранас Лаукайтис. Карла Дучке нет, он умер.
Проводив гостя, Эрнст Фрикке долго сидел в своём кабинете. Потом включил радио. На боннской волне опять звонил колокол кафедрального собора.
А за окном по-прежнему свистел ветер и угрюмо шумело море.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ «МЫ С ВАМИ ЛЮДИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ…»
— И вы утверждаете, что в Студёном море можно плавать зимой, пользуясь этими… ну, как вы их называете?..
— Разделы.
— …пользуясь разделами, можно плавать, почти не прибегая к помощи ледокола? — Первый секретарь обкома Квашнин перевернул несколько страниц в лежавшей перед ним синей папке и взглянул на моряка с четырьмя золотыми нашивками и значком капитана дальнего плавания.
Прежде чем принять Арсеньева, секретарь не только добросовестно прочитал всю работу, но и советовался с министерством, а там, в свою очередь, консультировались с научно-исследовательским институтом. Отзывы из министерства и научно-исследовательского института были не совсем в пользу Арсеньева. Начальник пароходства, как оказалось, не интересовался льдами, считая их объектом деятельности морской инспекции. Он, как встречается среди хозяйственных руководителей, считал, что обязан только обеспечивать выполнение плана. Но Арсеньеву очень повезло, в это время проходило совещание капитанов и местных работников гидрометеослужбы, там одобрили его предложения.
Секретаря обкома заинтересовала возможность плавать во льдах без ледокола, и в душе он решил поддержать Арсеньева. Но, конечно, многое зависело от сегодняшнего разговора. Полное, добродушное лицо Квашнина выражало живейший интерес. Серые глаза, казалось, подбадривали собеседника,
— Но почему… — секретарь обкома закашлялся. Это обычно с ним случалось в затруднительных случаях, что-то вроде нервного рефлекса, — почему зимой не плавали, ну, скажем, в первую мировую войну? Ведь и тогда для царской России такая возможность была очень заманчивой. Ещё бы, важнейший стратегический фактор… Вы тут пишете, — он показал на страницу в папке, где красным карандашом были подчёркнуты несколько строчек, — Северный флот в те времена уже имел несколько мощных ледоколов.
— А вот почему, Андрей Александрович, — возбуждённо отозвался Арсеньев. — Не там, где следовало, плавали — наперекор природе, в Архангельск хотели попасть. А мы в Отечественную войну корабли в Зимнегорск водили, на Никольском устье.
— Но, видимо, не только выбор порта играл роль.
— Конечно, — подтвердил Арсеньев. — Но это печка, от которой следовало танцевать.
— Что необходимо сегодня для успеха таких плаваний, товарищ Арсеньев? Ладно, курите, раз невтерпёж, — недовольно пробурчал секретарь, заметив в руках капитана измятую папиросу.
— Аэрофотосъёмка. Несколько лётных часов. — Арсеньев торопливо, косясь на Квашнина, зажёг папиросу.
— Ежедневно?
— Что вы! Всего один раз. Здесь все расчёты, — капитан показал на папку.
— Но это чепуха! — снова закашлялся Квашнин. — Я хочу сказать: чепуха в смысле стоимости работы. И это все, что вы просите?
— Да, это главное.
— Удивляюсь! — Секретарь встал с кресла. Из полированного шкафа он вынул бутылку боржома и два бокала. — Изжога замучила, — пожаловался Квашнин. — Хотите?
— С удовольствием, Андрей Александрович. — Для пользы дела Арсеньев не отказался бы сейчас и от касторки.
Квашнин, морщась и поглаживая рукой живот, налил пузырящуюся жидкость. Сказать прямо, ему нравились дотошность и настойчивость этого капитана. Вопрос, конечно, стоит, чтобы им занялись. Главное — экономически выгодно.
— Так вот, товарищ Арсеньев, меня подкупает ваше предложение, — поразмыслив, сказал Квашнин. — Давайте подробности. Зинаида Петровна, — обратился он к вошедшей секретарше, — я занят, скажем, час. — Он посмотрел на Арсеньева. — Хватит?
— Вполне, Андрей Александрович. Я вкратце. — Капитан Арсеньев заметно волновался. — Сильные приливные течения в Студёном море…
Над телефоном вспыхнул зелёный глаз сигнальной лампочки. Квашнин взял трубку.
— Здравствуйте… Нашли новый район лова? Прекрасно!.. Кто обнаружил? Вот видите, а вы не верили в него! Хорошо, хорошо, завтра поговорим. Утром прошу ровно в девять.
Секретарь положил трубку и кивнул Арсеньеву.
— Сильные приливные течения в Студёном море…
Опять вспыхнул огонь. На этот раз Квашнин взял трубку чёрного разлапистого аппарата.
— Кто? Сергеев? Я слушаю. — В голосе слышалось раздражение. — Ну вот ещё!.. Прошу позвонить через час. Занят.
Положив трубку, Квашнин насупился и вызвал секретаршу.
— Зинаида Петровна, — он закашлялся, — я ведь сказал, занят, никаких телефонов, а вы… — Он опять закашлялся.
Секретарша мгновенно исчезла. Двери мягко закрылись.
— Сильные приливные течения в Студёном море… — быстро сказал секретарь загрустившему капитану. — Валяйте дальше.
— Течения в Студёном море создают районы — разделы и колоба, не подверженные обычным законам движения льдов под действием ветра, — несколько торопясь, говорил Арсеньев. — В разделах даже при сильных ветрах лёд остаётся разреженным, а в колобах, наоборот, он сбит в плотную массу. Ну, колоба мы оставим, они нам не нужны. А вот разделы… Практически они образуются на одном и том же месте и даже имеют свои названия. — Капитан покосился на молчавшие пока телефоны. — И ещё одно обстоятельство: разделы как бы продолжают друг друга и расположены на пути кораблей. Некоторые из них имеют свои названия…
— Кто же им дал названия? — полюбопытствовал секретарь.
— Поморы, в очень давние времена. В разделах — секрет зимнего плавания. Они расположены так. — Арсеньев мгновенно начертил схему беломорских разделов и показал Квашнину.
— Но зачем вам нужна аэрофотосъёмка? Тут у вас и так «зелёная улица», — прищурился секретарь.
Он наклонился, блеснув лысиной. Несколько мгновений Арсеньев продумывал ответ.
— Не всегда в разделах просторно, Андрей Александрович, через шесть часов течения меняются, и возникают сильнейшие сжатия. Если ежечасно фотографировать льды в прилив и отлив, можно составить атлас ледовитости разделов и пользоваться как атласом течений. Я, кажется, замысловато говорю?
— Вместо прикладного часа предлагаете ледовый?
— Да, да, правильно, — оживился Арсеньев. — Приятно иметь дело с моряком, — от души сказал он.
Секретарь обкома довольно усмехнулся. Он десять лет плавал механиком на судах торгового флота и, как все моряки, любил море и корабли. Но эти льды… Не всякий в них разберётся. «А справится ли Арсеньев? — думал секретарь. — Слишком необычное дело для капитана. У нас привыкли рассуждать так: раз ты капитан — значит, плавай, план выполняй. А в разные теории не лезь, на то другие есть. Правильно ли это?» На память пришли слова Перовского, министра внутренних дел при Николае I, сказанные знаменитому собирателю народной мудрости В. Далю: «Писать — так не служить, служить — так не писать». Далю туго пришлось со службой. Нет, Квашнин считал, что думающего человека всегда стоит поддержать. Но сейчас, по правде сказать, он не мог сразу до конца поверить Арсеньеву. Не укладывалось в голове: как это один человек может давать какие-то гарантии, обещать что-то в таком большом деле? Обычно за большим делом стояли большие коллективы, известные авторитеты. А здесь кустарь-одиночка. Если бы требовалось рисковать большой суммой, секретарь наверняка подумал бы, прежде чем высказываться за необычный проект. Но расходы невелики, и Арсеньев для себя ничего не просит. Увлёкся человек льдами и хочет открыть зимнюю навигацию. Что ж, разве это плохо?
— Я помню такой случай, — неожиданно сказал Квашнин. — Мы запоздали с выходом в море, и пришлось нашему пароходу вернуться и зимовать в Архангельске. Знаете, я и до сих пор не понимаю, как это нас угораздило!
— Очень просто, Андрей Александрович, — отозвался Арсеньев. — Капитан пошёл напрямик, по кратчайшему расстоянию, забыв поморскую ледовую азбуку. А напрямик не всякий ледокол пройдёт.
Арсеньев понимал, что секретарь обкома колеблется.
"Однако я должен убедить его, — повторял он про себя, — иначе вряд ли пробьёшь дорогу. Если обком скажет «нет» — считай сражение проигранным. Попробуй тогда доказать, что твоя работа нужна. Хорошо, что секретарь моряк, а будь он врач или, скажем, агроном. Толкуй тогда про льды… Что Квашнин, — подумал Арсеньев, — если в научно-исследовательском институте океанограф Туманова так и не поняла, почему льды на разделах надо фотографировать. «Толочь воду в ступе, — сказала она. — По вашему принципу весь Ледовитый океан фотографировать придётся».
Мысли Арсеньева работали необычайно чётко, все его силы были собраны.
— Министерство считает нереальным зимнее плавание, — в раздумье проговорил Квашнин.
— Мне кажется, вопрос серьёзно не обсуждался, а в разговоре руководящие товарищи обычно ссылались на суда типа, «Лена». Они, дескать, пройдут, если нужно. — Арсеньев натужно улыбнулся и вытер платком вспотевшее лицо. — Эксплуатационные потери при обычном плавании? Разрешите, я вам найду, — он быстро перелистал страницы. — Вот расчёт, смотрите, — сжигают вдвое больше топлива, и затрачено в три раза больше часов.
— Ну, хорошо, — перебил секретарь. — Атомный ледокол вы тоже сбрасываете со счётов?
— Атомный ледокол? Но ведь не станет же он обслуживать зимнее плавание в Студёном море. Не дороговато ли будет? У нас привыкли к широкому карману, — сказал Арсеньев громче, чем хотел. — Надо сочетать технику с дарами природы.
— Пожалуйста, огонёк, — чиркнул спичкой Квашнин, видя, что капитан никак не может зажечь спичку. — Сам хоть и не курю, а спички держу на всякий случай, — сказал он, чтоб подбодрить Арсеньева. — Продолжайте, продолжайте!
— Скажу вам откровенно, Андрей Александрович, если атомный ледокол поведёт корабли напрямик, по закрытым разделам, все равно будет большая потеря времени. Он пройдёт, а транспорты застрянут. Студёное море не Арктика, приливы дают знать себя крепко.
* * *
В это время в приёмной скапливались люди. Вспыхивал смех, громкий разговор, возникали споры.
— Потише, товарищи, прошу вас, — повторяла секретарша, с беспокойством поглядывая на дверь.
А там беседа все продолжалась.
— Кстати, как прошло совещание капитанов? Ведь ваша работа обсуждалась в пароходстве, — посмотрев на часы, спросил секретарь обкома,
— Капитаны приняли её благожелательно. Все прекрасно понимают, что значит ледовый атлас для зимнего плавания.
— Решено, товарищ Арсеньев, я поддержу вас. — Квашнин ещё раз мельком взглянул на часы. — В пять собираются рыбаки. Меня очень заинтересовал ваш доклад, — сказал он. — Течения, выходит, мешают.
— И в то же время они-то и создают возможности зимнего плавания, — продолжал волноваться Арсеньев. — Я, Андрей Александрович, пришёл к выводу…
— Пять часов, Андрей Александрович. Рыбаки собрались, — с некоторой торжественностью доложила появившаяся в дверях секретарша.
— Зовите, — сказал Квашнин, закашлявшись. — Извините, но больше у меня нет ни минуты. — Он вышел из-за стола, пожал Арсеньеву руку и уже раскладывал какие-то карты и планы.
«Все ли я сказал Квашнину? — подумал Арсеньев, медленно спускаясь по лестнице. — Как будто да».
Зарывшись в воспоминаниях, он не заметил, как подошёл к торговому порту. У проходной Арсеньев внезапно остановился. «Мне ведь в пароходство, — вспомнил он. — Надо решить, что делать с Глушковым. Черт побери, не люблю возвращаться, однако ничего не поделаешь!»
Шумная толпа кончивших работу грузчиков вырвалась из ворот. На какой-то миг она окружила стоявшего на дороге Арсеньева.
— Черти! — отряхиваясь, беззлобно ругался капитан. — Сами как мельники и меня одарили. Наверно, с «Брянска». У него во всех трюмах мука.
* * *
Не вставая с кресла, начальник отдела кадров пароходства товарищ Подсебякин, седовласый, с лицом английского джентльмена, торопливо подал маленькую костлявую руку капитану Арсеньеву.
— Присаживайтесь, пожалуйста. Вы ещё здесь? А я-то думал, давно в море. — Он прищурил блеклые глаза, напыжился.
С подчинёнными Подсебякин всегда пыжился. Поправив небрежно накинутое на плечи синее пальто и склонив голову к плечу, он вынул из ящика стола пачку сигарет, чёрный мундштук с антиникотиновым патроном и принялся вставлять короткую сигарету.
«Сейчас начнётся забота о людях», — подумал Сергей Алексеевич. Он, как и большинство моряков пароходства, был неважного мнения о начальнике отдела кадров.
— Как поживает ваша жена, товарищ Арсеньев? — услышал капитан. — Как здоровье дочери? Все ли здоровы в семье?
Подсебякин никогда не утруждал себя размышлениями о чьих-то жёнах и детях. Дежурная фраза и безразличное выражение лица никого не обманывали. Он произносил их, как монахи в начале разговора: «во имя отца, и сына, и святого духа». Но считал это обязательным вступлением, так сказать, признаком хорошего тона. Он держал всегда наготове ещё несколько внушительных изречений. «Мы с вами люди государственные», — часто говаривал Подсебякин. «С культом личности у нас покончено», «Не нам обсуждать, он номенклатурный работник».
Одевался Подсебякин по особой моде: синий шевиотовый костюм, синее пальто, синяя шляпа и обязательно белое шёлковое кашне.
— Спасибо, все нормально, — нехотя ответил Арсеньев, рассматривая диаграммы.
В кабинете начальника отдела кадров всем бросалась в глаза знаменитая подсебякинская статистика. На стене за спиной начальника красовались многоцветные чертежи. Тут и столбики, и квадраты, и разные кривые. Взглянув, можно было узнать все достижения отдела кадров за прошлый год. Особенно грандиозно выглядел раздел взысканий — от «на вид» и простого выговора до понижения в должности и увольнения. Тут фигурировали и всякие проценты и просто цифровые показатели, поквартально и помесячно — отдельно комсостав и отдельно рядовые. У Подсебякина эти статистические выверты назывались «работой с людьми».
Арсеньев вздохнул: назначение подсебякинского художества было ему непонятно.
— Пожалуйста, угощайтесь, — спохватился Подсебякин, подвинув сигареты. — С выходом в море не опоздаете? — Он улыбнулся, показав Арсеньеву подозрительно белые и ровные зубы.
— Спасибо, я курю только папиросы. На весенний промысел пока ещё рано, обычно мы выходим в середине апреля, — сказал капитан. — Но вот запоздать мы все же можем: к тому, пожалуй, идёт дело.
— Надеюсь, опоздание будет не по моей вине? — спросил Подсебякин, продолжая улыбаться.
— Нет, не по вашей. Однако и к вам есть претензии.
— Выкладывайте, товарищ Арсеньев, что ж, мы люди государственные…
В словах начальника отдела кадров как будто не было ничего обидного. Но тон, которым они произносились, задевал Арсеньева. «Удивительно, — думал он, — откуда взялась у советского человека эдакая вельможность! Индюк, настоящий индюк! Доверили тебе большое дело — кадры. Это обязывает: прежде всего ты должен быть скромным и внимательным к каждому человеку, а не демонстрировать своё превосходство. Хвалиться-то ведь тебе, по сути дела, нечем. А с должностью у нас не венчают».
Капитан вынул из большого кожаного портфеля потрёпанную тетрадь в клеёнчатом переплёте. Брезгливо перевернул несколько замызганных страниц.
— "24 февраля", — без всяких объяснений стал читать Арсеньев не совсем складные строчки. — «24 февраля. Третий механик делает замки из государственных металлов (бронза, сталь), наверное, на продажу».
«25 февраля. В каюте радиста Токмакова второй час сидит компания. Кто сидит — неизвестно. Говорят больше о бабах. Узнал голос Рудакова и, кажется, Лаптева. Справился у завпрода. Так и есть, радисты выписали литр спирта для промывки чего-то там в радиорубке, а в каюте распили остатки!»
«26 февраля. Начальник экспедиции Малыгин в кают-компании за вечерним чаем назвал капитана Серёжа. Панибратство! Снюхались на почве алкоголя».
«27 февраля. В каюту третьего механика Савочкина в 16 часов 30 минут зашла уборщица Турова. Два раза стучал — не открывают. Когда я собирался на вахту, Турова ещё сидела в каюте: разговоров не слышно. Безобразие, разврат, что смотрит старпом!.. Говорят, он сам заглядывает кое-кому под юбку. Надо проверить…»
Подсебякин делал вид, что слушает с любезным и снисходительным вниманием, но думал он совсем о другом. Там, где сидел Арсеньев, он видел Лялю Мамашкину. Подсебякин вспомнил витрину галантерейного магазина и усмехнулся: за стеклом выставлены худосочные женские ноги в нейлоновых чулках… Реклама! Видать, директор магазина ничего не понимает в рекламе. Вот если бы он выставил Лялину ногу у окна стояла бы толпа.
Подсебякин слушал, почти не вникая в смысл. На лице неприступность, а в голове Ляля Мамашкина. Вспомнить о ней и то сладко. Ляля пела лирические песенки под джаз в ресторане. Но своему неизменному успеху у посетителей она обязана отнюдь не голосу. У Мамашкиной была давняя мечта: она страстно желала побывать за границей. Не для того, чтобы любоваться экзотической природой Африки, Акрополем или развалинами Помпеи. Модные туфельки на шпильках, нейлоновое бельё, чулки, кофточки и, конечно, косметика — вот что влекло Лялю за границу.
Как-то в один из ресторанных вечеров ей шепнули, что пожилой, седовласый мужчина с внешностью англичанина за столиком у окна — начальник отдела кадров пароходства. Седовласый пожирал её глазами, и Мамашкина решила, что время пришло. Их познакомили. Подсебякин приглашён в гости. Ляля не миндальничала и выложила все сразу. Чего ради она будет играть с ним в прятки? Приличных денег он дать не в силах и сам уже не молод. Надо уметь взять от человека то, что у него есть. Ляля хочет за границу, она согласна пойти буфетчицей на выгодный пароход. Бдительное сердце Подсебякина растаяло.
Вспоминая её, он совсем забыл об Арсеньеве. «Ногти на ногах полирует», — удивлялся он. Это казалось ему верхом изящества и культуры.
— "28 февраля. В каюте у боцмана после ужина собралась компания, — читал в это время капитан. — Очень шумели, громко смеялись. Пошёл посмотреть: дверь открыта, голоса слышны хорошо, однако у дверей стоять неудобно. Зашёл в каюту рядом, к матросу Фёдорову, будто бы для разговора. Кое-что слышал. Очень критиковали начальство, особенно сам боцман (между прочим, он любимчик капитана). Пропесочили группового диспетчера, снабженцев, основательно досталось кадрам, да и начальнику пароходства перепало. Критика беспринципная. Считаю необходимым сообщить НОК…"
«Считаю необходимым сообщить НОК», — вдруг дошло до сознания. Подсебякина. «НОК — это начальник отдела кадров — значит, сообщить мне».
Подсебякин зашевелился в кресле и, напыжась, стал внимательно слушать.
— "Матрос Митрошкин говорит, что на хорошее судно у нас посылают по знакомству. А инспектор кадров Родионов будто берет взятки. Машинист Задорин злобно критиковал кадры, особенно НОК, говорил, нет чуткости, назвал НОК бюрократом. Говорит: «НОК всех в подследственные перевёл». А матрос Хвостов затронул даже начальника пароходства. Почему, дескать, он допускает такое безобразие в кадрах. С переднего-де крыльца отказ, а с заднего — милости просим! Похвалялся, что после зверобойки пожалуется в партком на НОК…"
— Довольно! — прервал Арсеньева Подсебякин. — Дневник прямо для «Крокодила». — Он сановито нахмурился. — Для чего вы все это читали?
— А вот для чего, — спокойно объяснил Арсеньев, — четвёртый помощник Глушков малограмотен и как штурман не соответствует своей должности. Об этом я вам дважды докладывал и просил замены. Вы ограничились обещаниями. Автор этого сочинения — Глушков; он потерял свой дневник на палубе. Дневник стал всеобщим достоянием. Команда возмущена и требует у Глушкова объяснить, для чего он вёл свои мерзкие записки. Они говорят, что НОК…
— Меня не интересует, что говорят ваши матросы, — буркнул Подсебякин. — Мы люди государственные…
— Я прошу прислать мне другого четвёртого помощника, — твёрдо повторил Арсеньев. — Дальше я держать Глушкова на судне не намерен.
— Вы будете держать Глушкова до тех пор, пока мы найдём нужным, — глядя в упор на Арсеньева, заявил Подсебякин. Он разозлился и решил проучить зарвавшегося капитана. — Понятно?
— Вот что, товарищ Подсебякин, — поднявшись, сдержанно сказал Арсеньев. Он решил не уступать. — Сегодня приказом по судну я уволю Глушкова. Если не пошлёте замены, обойдусь. — Капитан взял тетрадь со стола и сунул в портфель.
— Оставьте тетрадь. Мы разберём. — Лицо Подсебякина покрылось красными пятнами, в зубах запрыгал мундштук. — Проверим всю эту околесицу, перепроверим.
— Нет, я передам дневник в партком. Ваши перепроверки мне известны.
Подсебякин еле сдержался. По побелевшим костяшкам на кулаках можно было догадаться о мыслях, роем проносившихся у него в голове. «Эх, если бы несколько лет назад, я бы тебе ответил! Я бы тебе показал! Пригласили бы тебя, голубчика, куда следует да сказали бы негромким голосом парочку слов… Вот и все. А теперь… Изволь вежливо слушать да ещё улыбаться. Щенок! А задень попробуй — сейчас же жаловаться в партком. А там: „Когда вы, товарищ Подсебякин, научитесь с людьми разговаривать?“ Начальник пароходства опять начнёт делать свои намёки насчёт возраста и отставания от времени. Да и самого Арсеньева не подомнёшь, сразу не подомнёшь. Эх, жизнь!..»
— Так вот, товарищ Арсеньев, — сладким голосом проговорил Подсебякин. — Самодеятельность — вещь хорошая. Однако не бранись с тем, кому будешь кланяться. — Подсебякин старался сохранить вежливость, но это ему плохо удавалось. Блеклые глаза вспыхивали злыми огоньками. — С кадровиками ссориться противопоказано. Вы слишком возомнили о своей персоне. Нахватали орденов и думаете, вам все сойдёт с рук? Зазнались! Иметь фигуру ещё не значит быть фигурой… Заслуженный товарищ! У нас на прежних заслугах не выедешь. — Подсебякина прорвало. Это с ним редко случалось. — Порядки нарушаете. Кстати, почему не выполнено моё указание о выходных днях? Мы люди государственные и должны блюсти интересы государства.
— Я говорил вам и ещё раз повторяю: предоставлять людям отгулы в плавании я не имею права. Ваши объяснения, что отдых в рейсе — это забота о здоровье людей, считаю абсурдным. — Арсеньев стал нервничать. — Государство не может быть заинтересовано в этом безобразии.
— Вы забываетесь, товарищ капитан, — совершенно потеряв самообладание, взвизгнул Подсебякин и стукнул кулаком по столу. — Я научу, я заставлю вас!.. Перо в сиделку — и вон с корабля!..
— Вы непозволительно ведёте себя, товарищ начальник отдела кадров. — Арсеньев был взбешён, но держал себя в руках. — Разговаривать с собой в таком тоне я не позволю. И запомните: не вам распоряжаться капитанами.
— Ах, так?!. — бросил Подсебякин вдогонку капитану. — Ах, так?!. Советую…
Арсеньев вышел из кабинета, так и не услышав, что хотел посоветовать ему Подсебякин. Возмущённый капитан остановился у дверей в приёмную начальника пароходства.
— Серёжа, поздравляю тебя! — услышал он вкрадчивый голос морского инспектора Преферансова. — Давай лапу!
— Поздравляешь? А что произошло? — удивился Арсеньев.
— Очень много! Полчаса назад начальнику пароходства звонил сам Квашнин, — журчал Преферансов. — Потребовал протокол вчерашнего совещания капитанов. Твою работу велено принять на вооружение. Каково? Размножить и раздать на все зверобойные шхуны, идущие на промысел. Готовится аэрофотосъёмка. Поможем тебе составить ледовый атлас… Что ж, давно пора! За тобой бутылка коньяка! — Начальник морской инспекции взял за локоть Арсеньева и повёл по коридору. — Должен сказать, я всегда считал ледовый атлас необходимым.
Арсеньеву припомнилось, что в мореходке, где они вместе учились, Преферансова прозвали «Розовые подштанники». Сейчас Преферансов рассыпался в похвалах Арсеньеву.
— За эту новость и дюжины бутылок не жалко, — перебил его капитан. — Ты что меня уводишь от хозяйских дверей? — оглянулся он. — Хотел поговорить с начальником.
— Что у тебя?
— Да вот с Подсебякиным разругался. Ты бы послушал, как он разговаривает! Хам в государственном кресле!
— Слушай, Серёжа, не связывайся с ним! — посоветовал начальник инспекции. — Года у нас не работает, а себя показал. Учти: Подсебякин не без дружков-приятелей. Такую лесину в колёса вставит, что не скоро вытащишь, — тихо добавил он. — Понимаешь?
— Ты знаешь мой характер: я иногда спроста скажу, но оскорблять себя никому не позволю!
— Спроста сказано, да неспроста слушано, — подтвердил морской инспектор. — Вообще я смотрю, ты действительно простоват, Серёжа. Впрочем, не удивляюсь: ты настоящий моряк и думаешь только о своём судне. — Последние слова были произнесены несколько иронически.
Но Арсеньев уже входил в приёмную начальника пароходства.
Когда Сергей Алексеевич вышел на улицу, наступили сумерки. Погода была холодная. Ветер мел сухой снег. Покрытая льдом бухта выглядела сурово, неприветливо. Но на тёмном чистом небе виднелись звезды.
«Итак, ледовый атлас — реальность», — думал Арсеньев и неожиданно остановился посредине улицы. Ветер нёс на него снег, сухой и подвижный, словно зыбучий песок. Снег струился тонкими ручейками, они обтекали препятствия, разъединялись и снова сливались. Ручейков было множество, словно весь снег в городе пришёл в движение и наступал на него. Арсеньев вспомнил дочку. В прошлом году зимой она была совсем здорова. Вместе покупали ёлочные блестящие шарики, она сама их выбирала. Вместе ходили на колхозный рынок, искали ёлку. Вот так же разыгралась метелица. Последняя ёлка… Девочка радовалась, была довольна.
От ворот порта можно идти напрямик по булыжной мостовой, оставив в стороне берег. Но Сергей Алексеевич пошёл по причалам: он любил бурную жизнь, кипевшую здесь днём и ночью. Он мог часами смотреть на дружную работу грузчиков, лебедочников, крановщиков, водителей машин, составляющих ансамбль большого морского порта.
На «Холмогорске» сегодня заканчивались последние приготовления к весеннему промыслу. Бункера засыпали первосортным углём. Балластные цистерны залиты водой. Полки в кладовых ломятся от запасов продовольствия. Палуба завалена бочками и ящиками с солью.
Арсеньев осматривал «Холмогорск», прохаживаясь по причалу. Он заметил, как закреплены швартовые концы, примерил на глаз, сколько метров оставалось до кормы большого транспорта, почти закончившего выгрузку. Каждый раз, когда Сергей Алексеевич осматривал вот так, со стороны, своё судно, его охватывала гордость. Он относился к кораблю почти как к живому существу.
"Нам предстоит трудное плавание, старый друг, — думал Арсеньев. — Я верю тебе. Борта твои из надёжной стали. Твоя сильная машина, как здоровое бычье сердце, не даст перебоев.
ГЛАВА ПЯТАЯ ТЁМНЫЕ ПЯТНА НА БЕЛОМ ПОЛЕ
Апрель на исходе. Дуют весенние ветры. Две недели рыщет ледокольный пароход в поисках зверя. В трюмах не полно и не пусто — ещё несколько тысяч голов, и зверобои выполнят план. Наступила весна. Ослабели морозы, а это для зверобоя плохо: даже круто присоленный добытый зверь дал душок. А на корабле все давно привыкли, принюхались и попросту ничего не замечают.
Упромыслить тюленя делалось все труднее и труднее.
В отлив разводья тянутся десятками миль. Ночное дыхание моря порождает первые туманы, пока нечастые и непродолжительные. У ледокольного парохода появляются соперники — зверобойные шхуны. Они без устали наперегонки шныряют по морю. В иной день и ледокольный пароход в поисках зверя пробегает добрую сотню миль. Если нанести извилистые курсы судна на карту, они, как паутиной, покроют северную часть моря.
Студёное море, Студёное море! Много ты повидало героических дел с тех пор, как русские люди вышли на твои берега. Славные новгородцы бесстрашно пробирались все дальше и дальше на север, к неизведанным землям и морям. В тяжёлые времена татарского нашествия мудрая политика Великого Новгорода и отвага новгородцев защитили русский северо-запад от викингов, шведов и немецких рыцарей. Кто знает, не будь Новгородской русской вольницы, как повернулось бы колесо истории? Удалось ли бы тогда сохранить России свои обширные северные земли?
Ледокольный пароход «Холмогорск» шёл полным ходом по большому разводью, накрытому зыбкой молочной пеленой. Капитан, погруженный в раздумье, стоял у окна застеклённого мостика. Рядом с ним Наташа, жена. Он вспомнил свою недавнюю поездку домой. После первого рейса Малыгин дал ему пятидневный отпуск. Жены дома не оказалось. Он нашёл Наташу на кладбище. Она лежала, уткнувшись лицом в свежий могильный холмик. Он понял: оставить Наташу одну нельзя, в ней зарождалась новая жизнь, и эта новая жизнь должна спасти их обоих. Но сейчас ей надо помочь любой ценой. Арсеньев видел огненно-красный тюльпан, угольком горевший на могиле. Любимый цветок девочки. Где Наташа нашла его в такое время? Тяжко… Если бы вычеркнуть эти дни.
Арсеньев почувствовал лёгкое прикосновение. Наташа чуть прижалась к нему плечом. Он повернулся: на него смотрели печальные глаза жены. Её тёплые руки коснулись его руки.
— Серёжа, — спросила она тихо, — скажи, что случилось?
— Случилось? — Арсеньев ничего не понял, он недоуменно обернулся по сторонам. — Что случилось, Наташенька?
— Ты, наверно, запутался в тумане и не знаешь, куда идти? — Она смотрела ему прямо в глаза. — Ведь правда, Серёжа?
— Запутался? Ах, вот о чем ты, моя глупенькая! — Арсеньев улыбнулся.
— Ты стоял, молчал, и у тебя было такое ужасное лицо… А впереди ничего не видно. Я испугалась.
Арсеньев не ответил. Он прижал её к себе.
Арсеньев повернул её за плечи, подвёл к локатору и переключил рубильник. Под палубой глухо заворчали моторы. Загорелись зеленые и красные огоньки на щите. Экран локатора вспыхнул голубоватым светом. На стеклянном диске появились концентрические линии — указатели расстояний. Неторопливо двинулась по кругу светящаяся черта. Где-то недалеко от центра вспыхнула маленькая яркая звёздочка. Ледокольный пароход прозрел. Капитан переключил шкалу дальности. Яркая точка выросла в звезду первой величины. По курсу наметилась извилистая линия ледяной кромки. Несколько точек поменьше засветились в разных местах экрана.
— Вот мой глаз, Наташенька, — пошутил Арсеньев. — Здесь находимся мы, — показал он на точку в центре экрана. — Эта линия показывает, куда мы идём. От нас до ледяного поля с тюленями пятнадцать миль. Эта звезда — зверобойный бот. Он хочет нас обогнать и первым прийти к залежке. Вряд ли ему удастся. А маленькие светящиеся точки — льдины… Теперь ты видишь, я могу не беспокоиться и в тумане.
— Вижу, — не сразу отозвалась Наташа. — Мне так хорошо с тобой!..
Туман редел. Ледокольный пароход приближался к скоплениям льда. Пока на пути изредка встречались одинокие, будто забытые кем-то, льдинки. Над головой туман разорвался, и в иных местах просвечивало голубое небо. Лёгкий ветерок дул со льда. Корабль подходил к залежке с подветра, чтобы не учуял зверь. Осторожность и ещё раз осторожность: не дымить, не гудеть, гвоздя не забить. Это закон. На баке столпились охотники с карабинами в руках, одетые в белые маскировочные халаты. Ледокольный пароход шёл малым ходом, будто подкрадывался. Паровую машину не слышно. Сейчас «Холмогорск» похож на огромного зверя, выслеживающего добычу.
Как сквозь матовое стекло уже виднелись огромные, в несколько миль, ледяные поля. Они усеяны тысячами чёрных точек — это лежали утомлённые тюлени. Кончились драки за самок, началась линька. Ледокольный пароход подходит все ближе и ближе. Зверь не шелохнётся. Изредка какой-нибудь самец поднимает усатую голову, но, не видя ничего опасного в приближении корабля, снова засыпает. Пляж на льду. Под весенними лучами солнца тюлени по нескольку дней могут нежиться на ледяной подстилке. Иногда лёд протаивает под тяжёлой и тёплой тушей, и зверь оказывается в небольшой ванночке.
На мостик торопливо поднялись начальник экспедиции Малыгин и колхозный уполномоченный. Начальник доволен, видать по лицу. Савелий Попов сохраняет непроницаемость.
— Ну как, Сашка, — шёпотом спросил капитан Малыгина, — это тебя устраивает? Лево, лево немного, — чуть погромче командует он рулевому.
— Вполне, — тоже шёпотом ответил Малыгин. — Даже принимая во внимание, что зверь похудел. Любовные увлечения обходятся дорого — полкилограмма жира в сутки. В общем на свадьбах мы теряем двадцать килограммов с каждого зверя. Каково, а? Но ещё десять тысяч даже такого зверя — и план в кармане.
Разыгралось побоище. Не умолкала стрельба, перебегали с места на место охотники. Все больше и больше оставалось неподвижных чёрных пятен на бело-красном льду…
Арсеньева возмущала тупая покорность зверя. Так просто, без всякого сопротивления принять смерть! Не обращать внимания ни на выстрелы, ни на гибель своих собратьев. «Получается странно, — размышлял он, — иногда при одном выстреле враз уходят со льда тысячи голов зверя. И не только выстрел, звук человеческого голоса, даже дым гонит тюленей в воду. А другой раз зверь теряет всякую осторожность».
Стрелки, пригибаясь, перебежками, как во время атаки, уходят все дальше. В тылу идёт другая работа. Людей здесь больше. Одни снимают шкуры с убитых тюленей и потрошат зверя, другие складывают отдельно кучи шкур и тушек.
* * *
Отшумел ветер в такелаже. Замолкла неугомонная машина. Досыта набегавшись во льдах, «Холмогорск» стоит у причала, накрепко привязанный стальными тросами. Гремят судовые лебёдки, выгружая из трюмов связки тяжёлых сальных шкур и «душистые» тюленьи тушки. Да, по-настоящему повезло! План зверобои выполнили. У всех на душе радостно: недаром волновались. Из кают слышатся весёлые голоса: озябшие за зиму моряцкие жены приехали погреться около мужей и привезли шумливых детишек. Теперь в сборе вся семья. Пройдёт десять дней, и корабль опять уйдёт в море. Снова полетят телеграммы в оба конца с нежными словами и поцелуями. Снова старший радист Павел Кочетков обретёт почти божественную силу, и моряки будут ловить его взгляд, когда он входит в столовую с пачкой свежих телеграмм.
Арсеньев был рад вдвойне. Прежде всего с ним была Наташа. Пока кое-как, на живую нитку залатали они своё горе. Это был, конечно, самообман, но иногда и он утешает человека. Сейчас им кажется легче, но воспоминание ещё не раз больно обожжёт их души…
Арсеньев вытащил свою тетрадку о льдах. Ему удалось туда кое-что добавить. Он теперь разделил Студёное море на участки по характеру льдов и понял, пожалуй, теперь, почему холмогорский мореход, продвигаясь во льдах, выходил на Летний берег, к Никольскому устью. Как ему раньше не пришла в голову такая простая мысль! Арсеньев все твёрже верил в свою правоту. Он сможет написать руководство к ледовому плаванию. Ещё одна зима на Студёном море — и можно все подытожить.
В один из дней нарочный из отдела кадров принёс Арсеньеву бумагу. Подсебякин срочно вызывал его к себе.
…В коридорах пароходства капитана встретило обычное оживление. То и дело мелькали знакомые лица. Там, где размещался отдел кадров, народу толпилось больше.
Сегодня начальник кадров не вдруг принял Арсеньева. Давно известно, чем чревато ожидание в приёмной, — это самый надёжный способ лишить человека уверенности.
Из кабинета Подсебякина выпорхнула молодая женщина. Она была высока ростом и хороша собой. Кинув на Арсеньева любопытствующий взгляд, женщина чуть улыбнулась и поправила нейлоновую кофточку.
На этот раз Подсебякин не осведомился у капитана о здоровье его семьи. Нахмурив жидкие белесые брови, он небрежно сунул ему стариковскую руку и тут же прихватил из коробки щепотку скрепок.
— Как прошёл рейс, товарищ Арсеньев? — не глядя на капитана, спросил Подсебякин, забавляясь проволочными скрепками. Он соединял их сухими пальцами в цепочку и разъединял, потом снова соединял.
— В общем вполне удовлетворительно, — ответил Арсеньев.
Он заметил мешки под глазами начальника отдела кадров, бледный, нездоровый цвет лица.
— Точнее обстоятельства дела, товарищ Арсеньев. Давайте в процентах плана.
— Ровно сто.
— Но почему ни одного процента перевыполнения?
— Теперь мы охраняем зверя, перевыполнять запрещается.
Начальник кадров несколько смутился. Но тут же его лицо приняло строгое выражение.
— Это, собственно говоря, безразлично, — сказал он, поправляя накинутое на плечи пальто. — А вот поломка руля? Вы плаваете во льдах по научному способу. Хотите писать наставления для опытных капитанов — и вдруг ломаете руль… Конечно, на лёд все можно свалить. Но такие случаи теперь редки даже в Арктике. А тут, ха-ха, — не удержал ликования, — ха-ха, пожалуйте, в Студёном море! Недавно я разговаривал с одним капитаном. Он удивлён вашим невежеством.
— Мне кажется, будет лучше, если вы мнение вашего капитана оставите при себе. — Сейчас Арсеньев был похож на взъерошенную птицу, готовую к бою. Он взял папиросу и, постучав по коробке, сунул в рот. — Но знаете, какой поразительный результат дали мои ледовые прогнозы: они оправдались почти полностью. Начальник экспедиции дал прекрасный отзыв, вот посмотрите. — Он вынул из портфеля толстую тетрадь, а из неё вчетверо сложенный лист бумаги. Арсеньев ожидал увидеть интерес и внимание на подсебякинском лице — и ошибся.
«А что, если я назначу к этому капитану Лялю? — прикидывал в это время Подсебякин. — Правильная, пожалуй, мысль. Мне следует побольше знать про Арсеньева. Ляля молодец, обставит кого угодно. А если она ему понравится? Нет, вряд ли, этот Арсеньев какой-то ненормальный. Опасно интеллектуальный капитан. Пишет что-то, его докладные учёные изучают. А сам наивен, как овца. А если она спутается с кем-нибудь другим, тогда держись: капитан за все отвечает!» — Он отбросил скрепки и вынул антиникотиновый мундштук.
Ляля стала в тягость начальнику кадров. Пошли кое-какие разговорчики. Настал момент, когда певичка должна была исчезнуть с местного горизонта. «Черт возьми! — пришла ему вдруг новая мысль. — А что, если я назначу старпомом к Арсеньеву штурмана Брусницына Несомненная склонность к интригам. Идея!»
Подсебякин не мог простить Арсеньеву истории с Глушковым. Тогда он получил на партбюро хорошую взбучку. «Ты узнаешь, как жаловаться в партком! — грозил он Арсеньеву про себя. — Погоди, я тебе отплачу! Будешь от меня вперёд пятками выходить».
— Вы слышали, — Арсеньев поднял глаза на молчавшее начальство, — это мнение одного из довольно известных капитанов. — Он вынул ещё один документ. — А вот отзыв колхозников о моей работе. — В голосе Сергея Алексеевича слышалось торжество. — У меня копия. Они обратились даже в Министерство морского флота. Смотрите…
Начальник кадров со скучающим видом взял документы, быстро пробежал глазами, положил на стол. «Ишь ты, похвалили колхознички. Дурак», — решил он про себя.
— Да, вас хвалят. Но не об этом сейчас пойдёт речь. Мы с вами люди государственные, товарищ Арсеньев, а у государственного человека сердце должно быть в голове, будем говорить прямо. Вы признали вину в поломке рулевого устройства, не приведя ни одного довода в своё оправдание. Хорошо, что удалось устранить повреждение. Ваше счастье!
Он злорадно посмотрел на Арсеньева.
Капитан молчал, подрисовывая усы всаднику на коробке папирос. Он с признательностью думал о старшем механике Захарове. Вспомнил белые тесёмки и улыбнулся.
— А между прочим, — продолжал Подсебякин, — один из моих… м-м… ваших помощников доложил, что на мостике в момент этого прискорбного случая вас не было. Командовал второй штурман. Ровно в полдень вы сошли вниз пообедать. Видите, я все знаю. Удивляюсь излишнему человеколюбию. — Подсебякин вдруг замолчал, сморщив лицо. Быстро развинтив мундштук, он выбросил почерневший антиникотиновый патрон и вставил свежий. — Советую в рапорте начальнику пароходства указать виновника. Поверьте, я беспокоюсь только о вашей судьбе, — закончил он покровительственным тоном.
— Не извольте беспокоится, — ответил Арсеньев, вставая. — Я не стану сваливать вину на своих подчинённых. Произошла поломка — значит, виноват капитан, вот и все. Я вижу, вас нисколько не интересует моя работа о льдах. Жалею, что говорил с вами.
— Конечно, я могу заинтересоваться вашими трудами. Я знаю, сам товарищ Квашнин о них говорил положительно. Но сейчас зачем все это? — развёл руками Подсебякин. — Ведь речь идёт о том, что вы покалечили судно. Работать надо, тогда будет все в порядке. И вообще я считаю, пусть научными изысканиями занимаются институты.
— А я убеждён, что большую пользу могут принести не только кабинетные выкладки, — вспыхнув, возразил Арсеньев, — и докажу это. Но, пожалуй, вас я обременять не буду. До свиданья.
— Товарищ Арсеньев, я ещё не кончил, — окликнул его Подсебякин, — вернитесь!
Злорадные, торжествующие нотки в голосе начальника отдела кадров остановили Арсеньева.
— Мне кажется, ваша деятельность на «Холмогорске» не приносит пользы ни вам, ни кораблю, — сказал Подсебякин с неуместно слащавой миной. — Мы с вами люди государственные, будем говорить прямо. Поэтому я предложил руководству перевести вас на новый, большой теплоход в порядке, так сказать, выдвижения…
— Я хочу плавать на «Холмогорске», — быстро возразил Арсеньев. — Плавать во льдах. — Он ещё не понял, не ощутил всей силы удара.
— Это вам противопоказано. Я предлагаю кое-что поспокойнее. Новый теплоход. Будете плавать за границу. Совсем не плохо.
— Мне не нужна заграница! Поймите: я не закончил своей работы! — не удержавшись, крикнул он.
— Слушайте, довольно о посторонней работе! Она интересует только вас. Мы не обязаны считаться с капризами, даже капитанскими. Вы поедете в Швецию и примете новое судно. Оно больше вашего «Холмогорска» на целых две группы. Это повышение. Кстати, я вам подобрал буфетчицу — отличная девушка. Будете благодарить. — Подсебякин показал большой палец.
— А если я откажусь переходить на это другое судно? — Слов о буфетчице он даже не расслышал.
— Ваше дело. Назначение утверждено. Приказ подписан. Можете подавать рапорт о вашем несогласии. Рассмотрим. Только советую не кочевряжиться. За вами числится ещё одна неприятная историйка. За границей. Вы тогда плавали матросом. Скажете, давно? Да, но мы все помним. Ну, а кроме того, в Польше вы купили тарелку с гербом какого-то немецкого города. А на гербе — короны. Короны! Политика. — По губам Подсебякина прошла усмешка.
Странно, но Подсебякин был уверен в своей правоте — такой уж был человек. Он проявил бурную деятельность, рассылал запросы, выспрашивал, кого мог, надеясь нащупать слабинки, промахи в жизни Арсеньева. Но по-настоящему серьёзного, за что бы можно было уцепиться, не находилось, а разные пустяки теперь в дело не шли. Когда Глушков рассказал начальнику отдела кадров о поломке руля, он понял, что может лишить Арсеньева самого дорогого — любимой работы. Подсебякин умел находить больное место у человека.
— Вы занимаетесь ерундой, товарищ Подсебякин! — возмутился Арсеньев.
— Ерундой?.. — протянул Подсебякин. — Между прочим, вы слышали печальную новость? — словно невзначай, обронил он. — Товарищ Квашнин серьёзно заболел. Сейчас он в больнице.
— Что с ним? — участливо спросил Арсеньев.
— Говорят, язва желудка. — Подсебякин многозначительно крякнул. — А может быть, и посерьёзнее.
Из кабинета начальника отдела кадров капитан Арсеньев вышел опустошённым, оплёванным.
«А вдруг действительно в чем-то прав этот Подсебякин? Будь самокритичен. Может, твоя работа действительно никому не нужна? — думал Арсеньев. — Нет, — рубанул он воздух рукой, — не может быть! Что же делать?» Арсеньев бросился в кабинет начальника пароходства.
— Знаю, знаю, зачем прибежал, — улыбаясь, встретил его Лобов и, подойдя к Арсеньеву, хлопнул по спине. — Ишь, распетушился! Как друга прошу: выручи, принимай теплоход, сделай рейс, два, а потом опять со своими льдами обнимайся. Зашились мы с капитанами…
Арсеньев был обескуражен: просят на один рейс. И все же он ощущал несправедливость.
— Прошу тебя, Вася, не трогай меня. Я привык к своим товарищам, я должен… — робко попробовал он уговорить Лобова.
Начальник пароходства отстранился от Арсеньева и молча стоял, барабаня пальцами по столу.
— Всегда ты такой: к тебе с добром, а ты спиной поворачиваешься, — недовольно сказал он наконец. — Придётся ехать, ничего не попишешь. И то говорят, я тебе поблажки делаю: дружок, мол, учились вместе.
Арсеньев смолчал. Что толку возражать?
Если бы он дал бой по всем правилам, то, наверно, остался бы на «Холмогорске». В пароходстве его уважали и с ним считались. Поломке руля во льдах только один Подсебякин придавал серьёзное значение. Даже «Розовые подштанники», начальник инспекции Преферансов, не хотел затевать дело. Многие всерьёз думали, что новое назначение лестно для Арсеньева. Удар Подсебякина был коварен. Сердце Арсеньева кровоточило. Он понимал, что Подсебякин отомстил ему. Этот человек дубовой корой обшит. В самый разгар работы, когда все складывалось так удачно. А год отсрочки отодвинет завершение книги, Арсеньев почувствовал себя очень усталым. Он ходил, встречался с людьми, говорил. Но как-то странно было все, будто он смотрел на себя со стороны и слушал чужие слова.
Постояв немного, он, понурившись, вышел на улицу.
В одном Арсеньев был уверен: все окончится, как надо. У него была поистине неиссякаемая вера в торжество справедливости. Он снова будет на своём корабле. Иначе быть не может! Он искренне жалел заболевшего секретаря обкома, даже не подумав, что Квашнин наверняка помог бы ему.
На вопрос жены: «Что случилось?» — Арсеньев только развёл руками. Вечером они долго не зажигали в каюте свет. Сидели в темноте молча, забившись в одно кресло.
ГЛАВА ШЕСТАЯ В КОНТОРЕ КАПИТАНА ПОРТА
Через три дня после возвращения с тюленьего промысла капитан Арсеньев выехал в Швецию принимать новое судно. Наташа перебралась к родным. Потом пароход вышел к берегам Мексики в свой первый рейс. В Атлантическом океане начались дни плавания, похожие один на другой. И в море и в портах капитан чувствовал себя неспокойно, тревожно. Наступило 5 июля — четыре месяца назад умерла дочь… Арсеньев ходил хмурый. Если бы поговорить с кем-нибудь, поделиться!.. Нет, ему нельзя распускать нюни, никто не должен его видеть слабым.
Поднимался ли он в штурманскую, смотрел ли на карту, выходил ли на мостик, глядел ли на лиловое гладкое море — глухая тоска не отпускала его. Почему спокойна природа? Если бы шторм! Пусть все содрогается, трепещет вокруг!
Вечером Арсеньев не выдержал, выпил коньяку. Он ведь не был праведником…
И все получилось неожиданно и безобразно. Сергей Алексеевич сжал кулаки. Он помнил все до самых мелочей. Он сидел здесь, за этим же столом. Отяжелел, мысли путались. Но ведь корабль идёт! Ты капитан, и твоя голова должна быть всегда ясна. А если что случится? Судно ведь только построено, и люди на нем новые, едва познакомились с кораблём и друг с другом за короткое плавание.
Арсеньев вызвал буфетчицу.
— Алевтина Васильевна, мне чай… Покрепче, пожалуйста. — Он неловко повернулся и толкнул на столе бутылку. Она упала, что-то зазвенело, разбилось.
— Пьяных не обслуживаю, — отрезала буфетчица и шагнула к двери.
— Вернитесь, черт вас возьми! — крикнул капитан.
Но Ляля в ответ раздула ноздри и побежала к старшему помощнику.
— Твои мечты сбылись, милый, — сказала она, врываясь в каюту Брусницына. — Капитан меня оскорбил.
Старпом встал, прошёлся по каюте, потирая руки.
Он был высок ростом и черноглаз. Букву "х" выговаривал как "ф", был ревнив, подловат и непоколебимо убеждён, что давно созрел для капитанской должности. Когда буфетчица рассказала ему о происшествии в капитанской каюте, он решил: его час пробил, наступило время действовать! Старпом продиктовал Мамашкиной заявление на своё имя, круто исказив события. Прочитав. Ляля с удивлением посмотрела на Брусницына.
— Но он же не хватал меня за юбку? И ничего этого не было…
— Подписывай! Мы ещё не знаем, что бы случилось с тобой, если бы ты осталась в каюте. Живо! Не тяни!
Ляля подписала не без колебаний: уж больно нехорошо все выглядело на бумаге.
— Ну, Лялечка, скоро ты будешь капитаншей. — Брусницын возбуждённо прохаживался по каюте. — Фатит, Подсебякин умеет благодарить!.. Тут моргать нельзя. Учти: за такие фортели капитан тебя выгонит, и даже очень просто. И визы лишит. Потом доказывай, что он был пьян, а не ты. Надо делать так: или ты, или капитан. Вот что я фотел сказать.
За обедом Арсеньев попросил извинения у Мамашкиной. Она ответила ледяным молчанием.
Подлая мысль, осенившая старпома Брусницына, не могла прийти в голову Сергею Алексеевичу: он и не думал бы отрицать, что выпил в тот день.
Пришли в порт выгрузки. Судно ошвартоваться как следует не успело, а уж донос старшего помощника был на почте.
…Когда на судне появился Подсебякин, капитан не сразу принял его: в каюте у Арсеньева был начальник порта. Обсуждались сроки и планы выгрузки — дело важное и неотложное для прибывшего с грузом судна.
Увидев в дверях Подсебякина с накинутым на плечи синим пальто, капитан удивился и попросил подождать его в кают-компании.
«Подлец, — повторял про себя начальник отдела кадров, — подлец! Заставил ждать. Я это вовек не забуду!..»
И когда, наконец, разговор состоялся, Арсеньев сразу понял: хорошего ждать нечего.
Подсебякин спросил, что думает капитан о нравственности буфетчицы. Видимо, какие-то сомнения закрались в душу Григория Ивановича.
— Насколько мне известно, отношения буфетчицы со старшим помощником серьёзны и, вероятно, закончатся браком, — ответил Арсеньев.
Ошеломлённый этим известием Подсебякин не сразу нашёлся.
— Вы капитан. Вы отвечаете за все! — хрипло вскрикнул он, покраснев. — Как вы могли допустить? Ваш экипаж разложился. — Сухонькими, дрожащими пальчиками Григорий Иванович втискивал в свой чёрный мундштук сигарету, рвал её, доставал другую, опять рвал. Табак сыпался ему на грудь, на колени.
— Что я допустил? — возмутился Арсеньев. — Если два человека полюбили друг друга, то… В этих делах, товарищ Подсебякин, капитан не властен.
— Мы люди государственные. Мы отвечаем за все… — ослабев, бормотал Григорий Иванович.
* * *
Плотно пообедав в кают-компании, Григорий Иванович достал из чемодана бутылку коньяку, снял обувь и улёгся на мягкий диван. Он благодушествовал, пошевеливая пальцами в ярких полосатых носках. Подсебякин размышлял: «Почему каблуки моих башмаков всегда стаптываются внутрь? Непонятно! Есть же люди, у которых каблуки почти не стаптываются или стаптываются в другую сторону. Ляля смеялась над моими башмаками». Вспомнив её крупное тело, Григорий Иванович улыбнулся, мысли приняли другое направление.
Корпус теплохода мягко и часто подрагивал. Пепельница, пачка сигарет и карандаш на столе чуть-чуть шевелились. Непрерывная работа дизель-динамо мешала Подсебякину сосредоточиться. Его беспокоили и обычный в порту деловой шум, пароходные сирены, гудки автомашин, меланхолический звон портальных кранов.
Григорий Иванович потягивал коньяк, курил сигарету и мечтал… Ему представлялось, что он могучий центр. Вокруг вращается остальной мир. Его обступают люди, много людей: серые, плоские личности, все на один манер. Разница только в анкетах, характеристиках, справках — ведь на лицах у людей ничего не написано. Он, великий и мудрый Подсебякин, раздаёт всем анкеты, проверяет их, перепроверяет. Составляет характеристики, назначает на должности, увольняет, выносит выговоры, объявляет благодарности и чувствует себя крепко, как гвоздь в дубовой доске. Кто-то выполняет план, страдает, суетится, нервничает, а он всегда спокоен. Его обязанность знать про каждого всю подноготную. Он изучал человека с увеличительным стеклом, каждую болячку, какой-нибудь мелкий прыщик рассматривал долго и пристально. И нет нужды, что болячки исчезли давно с живого тела, они навсегда оставались на бумаге. «Чем лучше узнаешь человека, тем он делается гаже, — любил говорить Подсебякин, вздыхая. — Нам, работающим с людьми, трудно найти порядочного человека. Слишком хорошо мы знаем свои кадры. Мы люди государственные…»
Пока Арсеньев плавал, Подсебякин не терял времени: из тёмных закоулков, из-под семи замков он добывал порочащие Арсеньева сведения и каждой мерзкой бумажке радовался, словно дорогой находке. В руках Подсебякина оказался даже подленький донос двадцатилетней давности одного из однокурсников Арсеньева по мореходному училищу. Подсебякин делал все тайно, без шума, надёжно пряча документы в большой стальной сейф в своём кабинете. Уходя домой, он присургучивал дверцу ящика. Наконец документ был составлен. Заявление Мамашкиной и рапорт Брусницына помогли завершить этот труд. Он долго носил «справку» в синей дерматиновой папке с карманчиками и надписью «К докладу» и, наконец, при удобном случае подсунул начальнику пароходства.
Лобов внимательно прочитал и вряд ли поверил хотя бы слову — ведь он учился вместе с Арсеньевым. Вся жизнь Сергея Алексеевича прошла на глазах Лобова. Но перед ним бумажка, документ, напечатанный на машинке. А с бумажкой хочешь не хочешь, а приходится считаться.
— Откуда все это? — Лобов вздохнул и брезгливо отодвинул справку.
— Не беспокойтесь, Василий Сергеевич, источники информации самые надёжные. — Подсебякин многозначительно и преданно посмотрел начальнику в глаза.
— Если вы предлагаете лишить Арсеньева паспорта моряка, я — гм… гм… — буду возражать.
— Нет, что вы, Василий Сергеевич, пока об этом разговора нет. Я так, на всякий случай, решил вас познакомить. Это, знаете, моя обязанность. Арсеньев плавает капитаном за границей… Мы с вами люди государственные. Иногда жалко бывает человека, но, что делать, сердце у государственного человека должно быть в голове. Мозг растёт — сердце сохнет.
«Когда надо будет, ты подпишешь эту характеристику, — внутренне торжествовал Подсебякин. — Я составил, а ты подпишешь».
— Ах, так! Гм… гм… Ну хорошо. — Начальник пароходства ершил редкие бесцветные волосы.
Подсебякин полагал, и не без оснований, что «артиллерийская подготовка» удалась.
«Начало было отличное», — продолжал раздумывать Григорий Иванович. Старпом Брусницын оказался молодцом, организовал неплохой сигнальчик: прочитав его донесение, в обкоме, не задумываясь, одобрили выезд Подсебякина на место по делу капитана Арсеньева. То обстоятельство, что теплоход стоял не в порту, очень устраивало Подсебякина: он мечтал о встрече с Лялей вдали от дома и ревнивой супруги. Ляля, как сильный магнит, вытянула начальника отдела кадров из уютного кабинета с диаграммами и схемами, заставила его врать и притворяться. Подсебякин соскучился и захотел проведать Лялю, вот и все. Но ведь об этом не скажешь начальству. И дешевле: поездка ничего не стоила. Государство оплачивало дорогу в мягком вагоне, гостиницу, питание. Если бы не Мамашкина, Григорий Иванович и не подумал бы пороть горячку. В корабельных делах вполне можно разобраться и после прихода Арсеньева в свой порт, никакой тут срочности нет.
Мамашкина прервала его размышления. В ушах Ляли болтались серьги с большими подвесками и на руке звенел браслет. Причёска как войлочный колпак.
— Вы забыли десерт, Григорий Иванович, — проговорила она, осторожно прикрыв дверь, и поставила тарелку с двумя апельсинами.
— Ляля, — властно и томно произнёс Подсебякин. — Ляля, подойди ко мне.
— Уберите лапы, Григорий, вы мне надоели! — зло вырвалось у Мамашкиной. Она с отвращением глядела на сухонькие, стариковские руки.
— Сегодня я жду ровно в девять, — строго сказал Подсебякин, не обращая внимания на взгляды Мамашкиной. — Мы должны объясниться… — Ляля в ответ раздула ноздри. — Помни: от этого зависит твоя судьба, — наставительно добавил он. — Мы ведь хотим плавать и душиться французскими духами, не так ли? — Григорий Иванович глубоко вдохнул: в каюте плыл тонкий аромат.
— Мало вы меня мучили? Слышите! — плаксивым голосом протянула Ляля. — Из-за вас мне на судне проходу не дают. Дался вам капитан Арсеньев! Поперёк дороги встал? Многие вами недовольны, — быстро заговорила она. — Напрасно я написала заявление.
— Не твоё дело! — прикрикнул Подсебякин. — Арсеньев негодяй.
Перед Лялей он не считал нужным скрывать свои мысли — наоборот, перед ней он распускал перья: в её глазах приятно быть всемогущим. Выпитый коньяк тоже давал себя знать.
— Он будет помнить всю жизнь. Сволочь, он заставил ждать у дверей меня, Подсебякина! Я ему такую путёвку дам, все будут шарахаться. Сняли с судна, выговор объявят — это игрушки. А от меня, от Подаебякина, он получит волчий билет. — Сегодня Григорий Иванович был, как никогда, откровенен. — Пусть он даже лучший капитан на флоте, наплевать мне на это! Вот тогда поймёт Арсеньев, кто такие мы, кадровики. На четвереньках за куском хлеба приползёт. Ручки целовать будет. Поняла?
— Ваши дела, вы и разбирайтесь, — на лице Ляли мелькнуло испуганное выражение, — а мне понимать нечего. Опьянели совсем. — Она убежала, хлопнув дверью.
А в тесном буфетике, среди грязной посуды Мамашкина не выдержала и разрыдалась.
Ляле нравилось работать на пароходе. Пример суровых моряков, тружеников и энтузиастов мало-помалу оказывал на неё хорошее влияние. Она поняла разницу между работой на корабле и щебетанием в ресторанном джазе. Изменить свои привычки и взгляды дело не лёгкое, а у Ляли была позади трудная жизнь. Отец работал в порту грузчиком, крепко пил. Так случилось, что в семнадцать лет, прямо со школьной скамьи Ляля вышла замуж за бесталанного актёра областного театра. Вскоре муж её оставил. Специальности не было. Выручил небольшой голосок. Она стала певицей. Другого она ничего не умела, да и тут ей помогла больше внешность, нежели способности. А на корабле ловкая, проворная женщина вдруг оказалась на месте. Кроме того, Брусницын ей нравился.
С приездом Григория Ивановича Ляля попала между двух огней. Старпом Брусницын оказался на редкость ревнивым.
Григорий Иванович тоже ревновал, но прощал любовнице многое, привязался к ней, скучал, а иногда ему Мамашкина была просто необходима: надо же перед кем-нибудь покрасоваться, излить душу.
И любовь Педсебякина к большим женщинам сыграла свою роль. Как это нередко случается, жена у него была небольшая, худенькая старушка, а душа Григория Ивановича стремилась к молодым женщинам не ниже ста семидесяти сантиметров ростом. Каждая высокая, статная женщина казалась ему королевой.
Пригубив ещё чуть из бутылки и положив под голову вторую подушку, Подсебякин печально размышлял «Арсеньев оказался прав: дела Ляли и старпома быстро идут к свадьбе». Григорий Иванович поначалу вспылил и чуть было не наделал глупостей, но потом решил простить измену. По зрелому размышлению выходило, что оставаться в любовниках при муже было даже удобнее.
* * *
— Когда открылся огонь маяка Песчаный, вы были на мостике, капитан?
— Да.
— И далее не сбавили ход? На полных оборотах умудрились напороться на затонувший пароход.
Капитан Москаленко, сладкоречивый уроженец Одессы, высокий, краснолицый, с большим пористым носом, громко высморкался в цветной платок.
— Да, машина работала полным ходом, — недовольно пробурчал он. — Но зачем эти вопросы, товарищ Медонис? Документы у вас. Там есть все.
Антон Адамович, помощник капитана порта, отложил в сторону, лежавшую на столе папку с бумагами. Он был в суконном кителе с золотыми шевронами. По-русски теперь он говорил почти правильно, с едва заметным акцентом.
— Меня удивила грубая ошибка в счислении, Митрофан Иванович. Я ещё раз анализировал весь материал, — с достоинством ответил он. — Вместо пяти градусов с минусом вы приняли поправку со знаком плюс. Так есть! Посмотрите, — Медонис кивнул головой на карту, — склонение западное.
— К сожалению, ничего не могу добавить — заметил капитан, не взглянув на карту. — Иногда бывают, знаете, непредвиденные случаи. — В голосе его послышалась злость. — А ты ходи потом и красней перед всяким… — И он снова с шумом освободил нос. — Извините: гриппую. До свиданья, товарищ Медонис. Не стоило бы по таким мелочам и вам беспокоиться и меня беспокоить. — Капитан надел фуражку, плотно надвинув её на лоб.
Москаленко знал, что Медонис не силён в морских делах, и относился к нему без особого уважения, по имени-отчеству не называл, а это у Москаленко многое значило. «Протекция, — говорил он своим товарищам, — к добру не приведёт. Глядишь, такого никудышкина сунут капитаном на порядочное судно».
Москаленко заметил зеленоватый оттенок на полных щеках Медониса и удивился. Но, взглянув на окно, понял, в чем дело: огромное каштановое дерево закрывало пыльные стекла темно-зелёными ветвями.
— Ещё одну минутку, Митрофан Иванович, — задержал его помощник капитана порта. — Прошу учесть: я потревожил вас исключительно в целях, вам благоприятствующих. Так есть. Я разобрался, для меня ясен виновник этой глупейшей аварии.
Медонис побарабанил пальцами по краешку стола.
— Хорошо, если поняли, — подобрев, отозвался Москаленко. Он снова достал из кармана платок и, собираясь чихнуть, держал его наготове.
— Я хочу посоветоваться с вами, капитан. — Раздумывая, Антон Адамович по старой привычке вытряхнул сигарету из пачки щелчком большого пальца и прихватил её сочными губами. — Вот что, Митрофан Иванович, приходилось ли вам видеть лайнер «Меркурий»? Так есть. Тот самый, что у Ясногорска затоплен.
— Ещё бы, — ответил Москаленко, кладя фуражку на стол и снова усаживаясь. — Не раз мимо проходить доводилось.
Капитану Москаленко нравилось, когда у него просили совета.
— А если с берега на корабль смотреть, будут ли люди на нем видны?
Медонис затаил дыхание.
— Вот тебе раз, милый человек! — искренне удивился капитан. — Шесть миль до него от берега, да ещё с хвостиком. Разве простым глазом увидишь?! А зачем, простите за нескромность, эта справка?
— Аварию разбираю. Обстановка неясна. Так вот, в целях расширения кругозора, — отозвался Антон Адамович. — Если замкнуться в этих стенах и не общаться с опытными людьми, вряд ли справишься с работой, Разбор аварий — дело серьёзное.
Москаленко недоумевал, зачем понадобились эти сведения Медонису.
Наступило молчание. Капитан Москаленко, разглаживая жёсткие усы, обозревал комнату. Морские карты, основательно закрапленные мухами, приколоты кнопками к жёлтым обоям. Большая меркаторская карта мира с пунктирами морских дорог и следами грязных пальцев, генеральная карта Балтики, испещрённая какими-то таинственными значками, и крупный план порта с чернильными номерами причалов. Старый, занозистый пол, два брюхатых допотопных канцелярских стола прижались к стене. Огромный старый барометр в металлической оправе показывал «великую сушь». Напротив красовался плакат с чёрными тенями кораблей и разноцветными огнями — "В помощь изучающим «Правила предупреждения столкновения судов в море». Между столами приютился пыльный шкаф, забитый пухлыми серыми папками с номерами на корешках. Верхняя полка уставлена разнокалиберными справочниками. Испачканные фиолетовыми чернилами стулья дополняли обстановку: два с лоснящимися подушечками для сотрудников конторы и один жёсткий — для посетителей. Несмотря на лето, окна в кабинете заклеены бумагой. Между рамами торчит грязная вата, а к стёклам изнутри прилипли дохлые прошлогодние мухи.
На пустом столе у Антона Адамовича только и стоял медный тазик для окурков. Зато стол соседа завален всякой всячиной. Тут и компасный котелок, несколько длинных красно-чёрных магнитов, параллельные линейки, циркуль, транспортир, медная, с прозеленью машинка механического лага, красный керосиновый фонарь и ракетница.
— Вы знаете о решении министерства поднять «Меркурий»? — нарушил тишину капитан Москаленко. — Правду говорят, «что худа без добра не бывает». Моя авария подтолкнула на это. Немецкую гробницу поднимут и уберут с фарватера. В Калининграде слыхал, дело верное. А то ведь смешно сказать: на нем жильцы завелись. Чем черт не шутит, отремонтируют корабль и вновь по морям! — По-своему истолковав насторожившийся взгляд собеседника, Москаленко добавил: — Ей-богу, жильцы. Мои матросы людей видели, когда мимо проходили, огоньки по ночам. — Он спрятал, наконец, платок, который все ещё держал в руках, и достал коробочку с ментоловыми леденцами. — Ещё одна новость: пренеприятнейшая история с капитаном Арсеньевым.
— Теплоход «Воронеж», — механически отозвался Антон Адамович, — так есть, пришёл неделю тому назад. Груз — тростниковый сахар и апельсины. — Медонис растерялся, что с ним случалось редко.
«Мой „Меркурий“ поднимают!» Эта новость ошеломила его. «Скорей! Все может рухнуть. Берега Швеции никогда не появятся для тебя на горизонте!» Он думал только о затонувшем корабле. Все остальное перестало его интересовать.
— Правильно, — посасывая леденец, продолжал Москаленко, не замечая резкой перемены настроения собеседника, — сахар и апельсины. Сергей Арсеньев, капитан теплохода «Воронеж» — настоящий капитан. — Москаленко строго посмотрел на Медониса. — Так вот, снимают Арсеньева. Пьянство, буфетчица замешана. Старпом написал жалобу. Ей-богу, никогда не поверю старпому, который на капитана кляузы строчит! Негодяй и подлец, — это уж как пить дать! А что с Арсеньевым случилось, не знаю, — Москаленко развёл руками, — всегда был молодцом. Характерец, правда, у него скипидаристый, не всякому по нутру. — Он ещё долго говорил что-то лестное о капитане Арсеньеве.
Антон Адамович, сжав зубы, отделывался междометиями. Он хотел сейчас одного — избавиться от разговорчивого капитана.
— Сняли Арсеньева, а заменить некем, большой корабль, не сразу капитана подберёшь, — горячился Москаленко. — И ждать некогда. «Воронеж» завтра уходит. Вот и подвезло Лихачёву. Не удивляйтесь, он из старых, немало побороздил на своём веку солёной водички… Виза у него в порядке, а главное, начальник пароходства его хорошо знает. — Москаленко вынул из круглой коробочки ещё один леденец и положил в рот. — Третий день не курю: врачи запретили. Мучаюсь, не дай бог. — Он посмотрел на молчавшего Медониса. — Из поликлиники шёл, встретил капитана порта. Не хочет Лихачёва отпускать. С его стороны на дело посмотреть, вроде и он прав. Сегодня приказ из министерства пришёл насчёт буксира: «Шустрый» уходит в Ясногорск помогать водолазам.
— В Ясногорск? — переспросил Антон Адамович. Старый канцелярский стул затрещал под ним. Маска спокойствия скрывала жестокое внутреннее волнение.
— Выходит так… Лихачёв назначен на «Воронеж», а ваш буксир остаётся без капитана. Дела… — протянул Москаленко. — Случится с кем-нибудь происшествие, а по цепной реакции и других людей захватывает. Вот Федор Терентьевич Лихачёв, к примеру, околачивался в порту на своей балалайке, а теперь в Мексике серенады будет слушать. Ещё неизвестно, как у других судьба повернётся, кого ещё господин случай зацепит. Представьте, я в судьбу верю.
— А почему, Митрофан Иванович, вы на таком дрянном пароходишке плаваете? — оборвал Медонис капитана и подумал, что Москаленко без фуражки совсем не похож на моряка. — И рейс короткий, — добавил он, — туда и назад за сутки оборачиваетесь. Вам бы при вашей солидности новый дизель-электроход и рейсы в Джакарту.
Митрофан Иванович опешил.
— Имею тайных врагов, как говорили римляне, — не сразу ответил он. — Бывайте здоровы, товарищ Медонис. А вы что, ночевать в порту собрались? Женатикам опаздывать домой противопоказано. Смотрите, получите от супруги баню.
— Нам, литовцам, разрешается, — с усмешкой ответил Медонис. — Мы из доверия у своих жён не вышли. У нас в Литве…
Капитан ушёл. Антон Адамович долго сидел в кабинете, устремив взгляд в окно. Теперь ему никто не мешал. Сквозь зеленые ветви каштанов хорошо видны шевелящиеся хоботы кранов, мачты и трубы кораблей, но Медонис видел совсем другое.
Сегодня состоялась вторая встреча Антона Адамовича с Карлом Дучке. В условленной весточке с белым голубком было всего несколько слов: «Поздравляю с годовщиной окончания гимназии, желаю много счастья и здоровья! Не забывай старого друга. Твой П. Лаукайтис».
Антон Адамович ухмыльнулся и тут же уничтожил открытку.
В кафе «Балтийская волна» они просидели всего пятнадцать минут. Дучке по-прежнему непрерывно курил. Он пыхтел, пил чёрный кофе, часто утирал влажный лоб и ничего не говорил о приказе. Это казалось Медонису подозрительным. «Мне не верят, — подумал он. — Знать бы, чем это грозит. Пусть, может быть, отстанут!»
— Особого приказа нет, — внушительно играя бровью, изрёк Дучке на прощание, как бы прочитав его мысли. — Но шеф велел передать: ты скоро понадобишься, будь под руками. Дело очень важное… А пока возбуждай литовцев против русских. Надо их ссорить. Психологическая война. Русские плохо относятся к литовцам — вот твоя национальная политика. Тебе бояться нечего: ты играешь под настоящего литовца…
«Что они затеяли? — размышлял Медонис. — На большой риск не пойду. Но как отвертеться? Может быть, к тому времени я достану сокровища».
Сообщение капитана Москаленко повергло Медониса в смятение.
«Меркурий» будут поднимать советские водолазы. Надо торопиться. Но что делать?"
Антон Адамович курил сигарету за сигаретой…
Вдруг пришла простая мысль: «Если буксир откомандирован в Ясногорск, капитаном должен стать я».
Медонис бросился в кабинет капитана порта, обставленный мебелью красного дерева. Из книжного шкафа он достал большой тяжёлый том в синем коленкоровом переплёте.
«Меркурий» — двухвинтовой пассажирский пароход, водоизмещением тридцать тысяч тонн, мощность машин двадцать две тысячи сил, пять палуб, вмещает тысячу четыреста пассажиров", — прочитал он. — М-да, кают на такой громадине, наверное, сотни за четыре. Попробуй отыщи без чертежей двести двадцать вторую, под водой ведь. Придётся осмотреть весь третий класс. Работёнка, черт возьми!" В другом шкафу Антон Адамович отыскал канцелярскую папку под Э 28. Здесь было все, что его интересовало: промеры глубин возле затонувшего лайнера, координаты, описание торчавшей из воды части корпуса, подробный акт водолазного осмотра и даже фотоснимки.
Усевшись удобнее в кресло капитана порта, обтянутое потёртой кожей. Медонис не торопясь стал просматривать документы. Он почувствовал себя спокойнее.
— Бояться нечего, — проговорил он, — надо действовать.
Оторвавшись от бумаг, Антон Адамович потёр лоб и взглянул на штурманский стол — целый комбайн для карт и навигационных пособий. Из верхнего ящика достал большую мореходную карту. Это было подробное немецкое издание с отметками минных полей и фарватеров, случайно попавшее в коллекцию капитана порта. Медонис поводил лупой над цифрами глубин. Немного, всего четырнадцать метров. С аквалангом на такой глубине Антон Адамович чувствовал себя, словно рыба. Заглянув ещё раз в папку, он нанёс на карту подробные координаты затонувшего корабля. Вблизи от берега появился маленький крестик. Папку Медонис положил обратно в шкаф, а карту спрятал в портфель. «Все. Пойду домой».
В порту было ветрено. Промчавшаяся машина обдала Антона Адамовича клубами едкой пыли; он вытер лицо и по привычке повертел батистовый платок в руках, рассматривая сероватые пятна.
На маленьком деревянном причале разгружался тральщик «Вторая пятилетка». Над ним повис густой запах солёной рыбы. Крупные мухи тучей кружили над открытым трюмом и над нечистой палубой. Здесь Антон Адамович остановился и посмотрел на часы. После некоторого раздумья он пошёл по берегу вдоль причалов, мимо пароходов и теплоходов, прижавшихся к стенкам порта. У карантинного причала над его головой проплыла тяжёлая катушка свинцового кабеля в дощатой упаковке: огромный кран осторожно переносил её из корабельного чрева на железнодорожную платформу. Антон Адамович обошёл горы ящиков, бочек, мешков, выгруженных на берег или приготовленных к отправке за море, и пробрался к лесным причалам. Несколько старых пароходов с облезлыми бортами, длинными и тонкими, как макароны, трубами, грузились еловыми брёвнами. Антон Адамович нырнул в узкий проход между жёлтыми штабелями досок. Причал был густо заставлен пилёным лесом, приходилось пробираться, словно в траншеях. За последним штабелем он тщательно отряхнул приставшие к кителю опилки. Медониса всегда приятно волновали корабли, уходящие в море. Ведь на одном из них он собирался отбыть в свою Швецию, когда сокровища дядюшки будут найдены. Он представлял себе, как перед ним открываются долгожданные берега. Вот они синеватой волнистой полоской всплывают из-за горизонта…
* * *
Арсеньев закончил все формальности, постоял в чужой теперь для него каюте. Все предметы занимали свои прежние места, но все как-то неуловимо изменилось, потеряло смысл.
— Послушное судно, — вздохнув, сказал Арсеньев, ни к кому не обращаясь, и поднял чемодан.
Капитан Лихачёв, принявший дела, промолчал. Как всегда бывает в таких случаях, он чувствовал себя неловко. Он не был уверен, что Арсеньева надо было снимать с судна.
На спардеке матросы бросились к Арсеньеву. Из-за борта вылез плотник Котов, прибежал краснолицый повар в высоком белом колпаке. Появился моторист в замасленной робе и с ветошью в руках. Казалось, будто все только и ждали, когда капитан выйдет.
— Сергей Алексеевич, я понесу.
— Давайте сюда чемодан.
Моряки обступили Арсеньева со всех сторон.
— Сергей Алексеевич, — тихо сказал повар, — привязался ко мне начальник отдела кадров. «Подавай, — говорит, — на капитана объяснительную записку — компрометирующий материал… А хорошего, — говорит, — писать не надо».
Арсеньев пожал плечами, смущённо улыбнулся.
— Я отказался, Сергей Алексеевич, — добавил повар. — Начальник кадров озлился да как крикнет: «Смотри, как бы у тебя с визой чего не случилось!» И самопиской по бумаге чиркает, каждое слово записал.
— И я отказался, Сергей Алексеевич, — сказал матрос Кубышкин.
Подошёл старпом Брусницын, улыбался, но руку подать не решился.
Брусницын просчитался: корабль ему не доверили. Теперь он испытывал даже нечто похожее на раскаяние.
Как всегда, Арсеньев для каждого нашёл приветливое слово. Он старался шутить, но даже ненаблюдательный человек заметил бы, как ему сейчас плохо.
— Ждём тебя обратно, — крепко пожал Арсеньеву руку седоусый боцман с большой коричневой лысиной. — Ты не переживай больно уж, — сказал он, отводя Арсеньева в сторону. — Разберутся в пароходстве.
Моряки спустились по трапу на причал. Отойдя несколько шагов, капитан остановился, оглянулся на судно. Взгляд его пробежал по палубе, задержался на больших окнах капитанской каюты. Ещё недавно это был его дом. Теперь там поселился новый хозяин. Арсеньев быстро отвернулся и надел фуражку.
— Сергей Алексеевич, — сказал Котов, — не думали мы, что так выйдет… И помочь нельзя. Завтра в рейс. Вернёмся в свой порт, тогда не забудем. Мы этого гнуса Подсебякина на чистую воду выведем. Это говорит председатель судового комитета, — закончил моторист, ткнув себя пальцем в грудь.
— Спасибо, Семён Петрович, — вымолвил Арсеньев.
Он как-то некстати вынул платок и стал сморкаться.
— Вот и это никогда не забудем, Сергей Алексеевич… Всех вы помните по имени-отчеству, камбузник, молокосос и тот у вас Иван Ильич. — Котов запнулся. — Не подведём, Сергей Алексеевич.
Они обнялись.
Капитан сел в поджидавшую его запылённую «Волгу». Грудь его сжимала тоска. Ему казалось, будто он навсегда прощается с причалами, кораблями.
Медонис стоял, укрывшись за краном, и внимательно наблюдал. Он догадался, что моряки провожают своего капитана.
«Плотный, белокурый, — заметил про себя Антон Адамович, — лицо благородное. Представительный. Настоящий гросскапитан. Интересно, что там случилось? Надо узнать!»
И Антон Адамович не стал больше задерживаться. Уступая дорогу электротележкам, он свернул к кучам каменного угля, тянувшимся горным хребтом посредине пирса, пробрался между двумя чёрными вершинами и вышел на другую сторону — к пятому причалу. Здесь ветерок чувствовался сильнее. На пустом причале трепыхались два флага: на полотне — шахматное поле. Флаги указывали место швартовки. Коренастый буксир, отчаянно дымя, медленно тащил с моря тяжело гружённое судно.
Швартовка! Сколько умения требует эта на первый взгляд простая операция! Медонис знал: капитан должен умело рассчитывать манёвры, тонко чувствовать своё судно и обстановку. Умение появляется после многолетней практики. Моряки, оценивая хорошую швартовку своего товарища, говорят: «У него верный морской глаз». Действительно, основным инструментом пока остаётся натренированный глаз моряка. Можно много раз наблюдать за швартовкой опытного капитана и все-таки не суметь повторить её самому. Это понятно — обстановка каждый раз меняется, а раз так — и манёвры будут разные.
Антон Адамович остановился. Он хоть как-нибудь хотел восполнить пробелы своей скромной судоводительской практики. Ему пока не доводилось поставить к причалу грузовое судно, пусть самое маленькое. Буксир, конечно, в счёт не шёл.
Корабль медленно подползал к причалу. Вот на берег полетела выброска — длинная тонкая верёвка с грузиком на конце. Её поймали и потащили на причал. К выброске привязан стальной трос. Когда трос вышел из воды, швартовщики подхватили его и бегом понесли к железной тумбе.
— Готово! — кричат с берега, накинув петлю на тумбу. — Выбирай конец!
Судовая лебёдка натянула трос. Корабль повернулся носом к причалу и понемногу придвигался все ближе и ближе. На причал легла вторая выброска, с кормы.
— Готово! — опять закричали швартовщики.
Вбирая стальные концы, огромный корабль прижался, словно прирос, к причалу. После многих штормовых дней и ночей он, хоть и ненадолго, обретает покой в порту. К борту морского бродяги подкатила серая «Победа» карантинного врача. На «виллисе» подъехали пограничники. Пришли из портовой конторы служащие таможни. Обособленной цветастой кучкой сбились на причале моряцкие жены с детишками.
Как только спустят парадный трап, первым взойдёт на борт врач. Если экипаж здоров, жёлтый карантинный флаг сползёт с мачты, и начнётся церемония осмотра корабля, прибывшего из заграничного порта, — «открытие границы».
Медонис не стал смотреть, что будет дальше. На судне у него знакомых не было. Бросив взгляд на часы, он покачал головой. У проходных ворот он неожиданно увидел Мильду. Она пережидала поток грузовых машин, идущих из порта.
— Почему ты здесь? — нахмурив брови, спросил Антон Адамович. Таких сюрпризов он не любил.
— Ты мне очень нужен, Антанелис, — торопливо ответила Мильда. — Мне позвонила Ирена, ты её знаешь, моя знакомая из Курортного управления, и предложила путёвки. Можно выбирать: Чёрное море или Балтика. Я должна ответить сегодня до восьми часов. Я звонила, в кабинете тебя не было. Есть путёвки даже в Мисхор, на Южный берег Крыма. Санаторий полярников. Изумительное место! У самого-самого моря. — Мильда не могла скрыть волнения. — И в Ясногорск…
— Ясногорск! — вскричал Медонис.
— Да. Почему Ясногорск? Ничего особенного, ничем не отличается от наших мест.
— Бери отпуск с первого, — распорядился Антон Адамович, — поедем вместе в Ясногорск. Путёвок не надо.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ КТО ВЫСЛУШАЛ ЛИШЬ ОДНУ СТОРОНУ, ТОТ НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛ
Оранжевая, как медный таз, луна показалась над Ясногорском. На темнеющем небе вырезались серебристо-чёрные остроконечные крыши. Воздух пропитан медовым нектаром. Могучие липы, соединившись кронами, накрыли Парковую улицу: сюда не проникал лунный свет. Листья на вершинах время от времени отсвечивали слабым багрянцем — это вспыхивал сигнальный огонь на мысе Песчаном.
В приморском городке по вечерам тихо. Из дальнего парка доносится едва слышная танцевальная музыка. Шуршат по асфальту ноги прохожих. Изредка заворчит на улице автомашина или залает собака. Море близко: слышно, как стучат уключины дежурной шлюпки, идущей под берегом, всплёскивают волны.
На Балтике вот уже неделя, как установилась безветренная, жаркая погода. Курортники радовались теплу и солнцу, считали погожие дни, с тревогой посматривая в метеорологические справочники: скоро ли иссякнет скудный запас тепла, отведённый природой прибалтийскому лету?
Небольшой одноэтажный особнячок на углу Парковой улицы и Малого Якорного переулка щедро освещён. Открытые настежь окна завешаны марлей от мошкары. Здесь живёт один из старожилов Ясногорска — капитан-лейтенант Фитилёв, специалист по подъёму затонувших кораблей. Дочь Фитилёва — Наташа Арсеньева — уже три месяца гостила у родных. Арсеньевы ждали ребёнка.
Фитилёв был озабочен, и, пожалуй, не напрасно. Его зять Сергей Алексеевич Арсеньев приехал вчера нежданно-негаданно. Заявился без предупреждения. А писал про Мексику, собирался опять туда отправиться в скором времени.
В столовой уютно напевает самовар. Василий Фёдорович сидел без кителя в полосатой матросской тельняшке и, дымя трубкой, читал газету. Но это только для видимости. Приподняв очки, он то и дело посматривал из-под густых бровей на зятя. А Арсеньев явно сам не свой: грустен, молчалив, на вопросы отвечает невпопад. Фитилёв давно догадался: стряслось что-то с ним.
«Черт возьми, — размышлял водолаз, — уходили, видать, молодца, обули из сапог в лапти».
Навязываться самому на откровенный разговор, залезать непрошеным в душу Фитилёву не хотелось. Он пошёл было на хитрость — предложил дорогому зятю, по русскому обычаю, водочки для душевной беседы, но Арсеньев наотрез отказался.
Фитилёва все больше и больше беспокоили дела зятя.
«Жена скоро родить должна, — раздумывал он, — надо радоваться, а он туча тучей».
Пожалуй, больше всего Василий Фёдорович обеспокоен был тем, что Арсеньев ни разу не заикнулся о своих льдах.
— Батюшки-светы, говорят, не бывает на Балтике жарко, — вытирая фартуком лицо, пожаловалась дородная супруга Фитилёва. — Вы, Серёжа, что-то совсем приуныли. Разморило, что ли?
Арсеньев не отозвался.
— Вы не знаете, — неожиданно спросил он, посмотрев на Фитилёва, — почему кусок хлеба с маслом обязательно падает маслом вниз?
Арсеньев взял горячий стакан в обе ладони, будто на холоде, и отпил большой глоток.
Ефросинья Петровна приготовилась послушать, что ещё скажет зять, но Сергей Алексеевич опять замолчал.
— Фрося, — отложив в сторону газету, вступил в разговор Василий Фёдорович, — нам бы через недельку собраться, самое бы время. На зиму глядя в Онегу ехать неохота, да внучонок через месяц пожалует… Неспособно Наташеньке с маленьким в поездах трястись. — Фитилёв взглянул на зятя: как-де он будет реагировать.
Арсеньев не реагировал никак.
— Одним словом, Фросенька, — продолжал Фитилёв, — я заявление подал — с первого августа на пенсию. Буду на колхозной пасеке пчёл глядеть. Сотовый медок к чаю, хорошо, а, Фросенька?
— Мечтатель вы, Василий Фёдорович, — махнула полной рукой Ефросинья Петровна, — Ежели в Онегу собрались, я не против.
— Наталья, а ты как?
— Мне все равно, папочка, — улыбнувшись, ответила дочь.
— А ты, Серета? — обернулся к зятю Василий Фёдорович.
На этот прямой вопрос Арсеньев должен был ответить. Обязательно должен. Но он вздрогнул и как-то непонимающе посмотрел на тестя.
— Вот что, друг, — не выдержал, наконец, Василий Фёдорович, — пойдём-ка ко мне. Секретное дело есть. — Он пригладил торчащие в стороны усы. — Хозяйка нам туда чайку принесёт, — и посмотрел на жену. — А, Фрося?
— Идите, ладно уж.
— Посмотри на него, папа, — сказала Наташа. — Похудел, виски заснежило. Раньше дома как убитый спал — хвастал ещё, что дома не на судне. А теперь ворочается всю ночь, бормочет что-то, не то ругается, не то плачет. — Наташа любовно и тревожно смотрела на мужа.
Беременность не наложила на неё никакого следа. Во всем её облике было что-то чистое и неуловимо привлекательное.
— Ничего особенного, — поторопился успокоить жену Арсеньев, — язва опять разыгралась. Нзжога страшная… Замучила меня
— Вы бы соду, Серёжа, — перебила Ефросинья Петровна. — От неё, говорят, легче. Коробок для вас держу.
— Спасибо.
— А у нас в Калининграде янтарную комнату ищут, — опять вмешалась Ефросинья Петровна. — Больших денег, говорят, стоит… И ещё сокровища, забыла рассказать, в газете не раз писано… Я тебе, Серёжа, как есть все выложу.
Василий Фёдорович выразительно крякнул. Жена замолкла.
Уютный и спокойный кабинет Фитилёва был своеобразным музеем редкостей, собранных Василием Фёдоровичем со дна моря и на затонувших кораблях. Пепельницы, тарелки, кружки, пролежавшие около десяти лет под водой. Медные буквы, когда-то составлявшие название корабля, отвинченные от борта на память. Редкие раковины и другие морские диковины. На полочках — модели поднятых судов, изготовленные самим Фитилёвым. Дыры в корпусе моделей закрывают маленькие пластыри, точная копия тех, что он когда-то поставил. Привязанные по бортам жестяные понтоны тоже совсем как настоящие. По стенам красовались фотографии знатных водолазов — товарищей. Среди самых почётных реликвий — потерявшая форму морская фуражка. Старый водолаз взял её в капитанской каюте корабля, затопленного во время войны, на память о погибшем друге. Из-за дорогих сердцу старого моряка сувениров шла непримиримая борьба между супругами. Ефросинья Петровна считала, что он завалил хламом и чердак и свою комнату. Но Фитилёв, уступавший жене во многом, тут и слушать ничего не хотел.
Василий Фёдорович усадил Арсеньева в лёгкое плетёное кресло и уселся сам. Помолчали.
Блуждающий взгляд Арсеньева скользнул по книжному шкафу. Там хранилась небольшая библиотека Фитилёва. Тут и русские классики, и книги советских авторов, и технические книги о море и кораблях. Очень любил Фитилёв английских писателей, они занимали в его библиотеке почётное место. Из французов ему нравился Виктор Гюго. Русский язык Василий Фёдорович знал хорошо и понимал тонко. Фальшь книги замечал сразу. «Не буду её читать, буквы-то русские, а написано не по-русски, — и тут же откладывал книгу. — Лучше я Диккенса почитаю. Этот известно, что английский писатель».
Несколько раз Арсеньев искоса посматривал на Василия Фёдоровича и, встретясь с ним взглядом, отводил глаза. Он чувствовал, о чем Фитилёв поведёт речь, и хотел этого разговора. Арсеньев уважал и любил своего тестя. Сегодня Василий Фёдорович казался ему особенно близким и нужным.
— Что с тобой, Серёга? Таким я тебя никогда не видел, — решился, наконец, Василий Фёдорович, испытующе глядя на зятя.
— Батя, не осуди, — как-то сразу задохнувшись, начал Арсеньев. Его лицо побледнело.
Рассказ о происшествии на корабле Фитилёв выслушал не перебивая и посапывал трубкой так, что летели искры.
— Не ждал от тебя такого! — с горечью произнёс он, когда Арсеньев замолк. — Ещё и в святом писании сказано: «Не упивайся вином, бо в нем есть блуд». Напился — значит, виноват, отвечай при всех обстоятельствах. Иначе нельзя — на капитанах все держится. Персона на корабле капитан, доверенное лицо государства. В чужих землях достоинство советского флага обязан беречь. Человеческие жизни доверены. Капитанское слово во всем мире на вес золота ценят.
Пока Фитилёв говорил, Арсеньев всматривался в давно знакомое лицо тестя.
Водолаз был настоящим помором. С детских лет он мечтал стать капитаном. Сколько слез он пролил когда-то, упрашивая отца отдать его в ученики на небольшой парусник. Знакомый кормщик обещал выучить мальчика морским премудростям. Но отец был твёрд и неизменно отвечал: «Если все мужики в море плавать пойдут, то и худого корабля некому будет построить». Василий Фёдорович родился на грани двух столетий. Отец его строил деревянные поморские суда — лодьи, карбасы. От отца Фитилёв кое-чему научился, и быть бы ему корабельным мастером, если бы не революция. Семнадцати лет он вступил в партию, участвовал в гражданской войне, выгонял из Архангельска интервентов. Потом попал на флот, служил водолазом, водолазным инструктором. Во время Отечественной войны награждён тремя орденами. Под конец войны поднимал затонувшие корабли. С детства у него осталась нежность к неуклюжим поморским кораблям, к родному городу Онеге, затерявшемуся между морем и дремучими лесами.
Помолчали. Арсеньев привычно принялся за бровь.
Василий Фёдорович спросил:
— Ну, а этот… Подсебякин с тобой как говорил?
— Так, беседовал для порядка. А через три дня торжественно заявил, что решением бюро обкома я освобождён от должности.
— Такое решение было?
— Соврал Подсебякин, это я потом узнал, а сначала поверил. Бесчестный человек!
— Эх, Серёга, у тебя против подлости иммунитета нет, не выработался! Подсебякин поторопился тебя сковырнуть, чтобы ты в наступление не пошёл. Ушлый, видать, человек. Ну ладно, а как вёл себя начальник пароходства?
— Он сказал, что Подсебякин переусердствовал, что можно было выговором ограничиться. Но теперь, дескать, переделать трудно. Сослался на бюро обкома, как там решат. — Арсеньев помолчал и взял новую папироску. — Вот, батя, приказ по пароходству. — Он вынул из нагрудного кармана кителя вчетверо сложенную бумажку.
— Подожди, подожди, — отвёл его руку Фитилёв, — приказ мы после посмотрим. Ты рассказывай. Все рассказывай.
— В общем не спал две ночи. Ждал решения бюро обкома. Хорошо, что в номере нас двое было, ещё старичок какой-то, инженер. Все толковал о новой гостинице, которую строит в городе. Отвлёк, спасибо ему…
Тени пробежали по лицу Арсеньева. Он сворачивал и сворачивал гармошкой приказ, пока бумага не превратилась в узкую полоску.
Фитилёв взглянул на зятя.
— На бюро ты получил выговор без занесения в учётную карточку?
— Да.
— Значит, обком поддержал обвинения пароходства не полностью?
— Все подсебякинские выдумки отвели.
— А ты расскажи, как все происходило.
И Арсеньев слово за словом вспомнил то заседание и в лицах изложил все тестю.
…Секретарь обкома Квашнин, прочитав документы, закашлялся, покраснел.
— Это для чего? — Он взял из дела бумажку, разорвал и бросил в корзинку. — В чем человек провинился, это и давайте обсуждать, а нечего археологией заниматься. А тут о пустяках каких-то расписано — короны какие-то, гербы, пошивка костюма, меню из столовой к делу подклеили, рекомендуете, что пить-есть человек за границей должен. Вы что, долго жили там? Зачем вся эта окрошка понадобилась? Расскажи-ка нам, товарищ Подсебякин.
Начальник кадров медленно поднялся и выпучил глаза.
— Капитан Арсеньев во время приёмки судна за границей купил медную тарелку, а на ней выбиты гербы и короны. Это антисоветская пропаганда. И ещё Арсеньев заказал костюм у иностранца, а уплатил меньше, чем обещал.
— Почему уплатил меньше? — спросил секретарь обкома.
— Портной испортил костюм, — объяснил Подсебякин, — Арсеньев не хотел брать. Потом согласился за меньшую плату. Но это не меняет дела. Советский человек не должен терять достоинства перед иностранцем. Стыдно вам, товарищ Арсеньев, — обернулся он, — вы, советский капитан, не должны так поступать. В столовой неправильно пищу принимали, не так, как все, по утрам требовали творог, от колбасы отказывались, жирного, говорили, не хочу. Мещанские, говорят, вопросы ставили перед директором-иностранцем. Стыд! Совсем вы потеряли достоинство советского человека, товарищ Арсеньев!
Кто-то из членов бюро спросил:
— Что же, по-вашему, советский человек перед иностранцем идиотом должен выглядеть, деньги на ветер бросать?
Подсебякин пропустил это замечание мимо ушей.
— Второго июня он выпил при исполнении служебных обязанностей и оскорбил женщину.
— При исполнении служебных обязанностей? — переспросил Квашнин.
Подсебякин надулся.
— Каждый моряк на судне всегда при исполнении служебных обязанностей.
— Ну, хорошо, второго июня, это мы знаем, а ещё? — потеряв терпение, спросил секретарь.
Подсебякин, помрачнев, стал листать бумаги.
— Так как же, отвечайте, товарищ Подсебякин.
Тут Арсеньез не выдержал и поднялся.
— Не пил я больше, товарищ Квашнин.
Ему было нелегко. Ещё бы! Не так давно здесь он целый час с секретарём говорил про льды…
А Подсебякин продолжал, ничуть не смутившись:
— Так вот, суммируя прошлое с настоящим, мы пришли к выводу: лишить капитана Арсеньева политического доверия.
— Что это значит и кто это «мы»? — снова раздался голос одного из членов бюро. — Натаскали всего!..
Подсебякин опять не ответил.
Квашнин взял из дела ещё одну бумажку и показал соседу. Тот прочитал и кивнул головой.
— Кто разрешил повару наводить справки о советском человеке у иностранца? — спросил Квашнин.
Подсебякин молчал.
— Товарищ Подсебякин, — спросил секретарь обкома, — что, по-вашему, должен делать начальник отдела кадров? Обязанности. Главное.
— Искоренять…
— Что искоренять?
— Негодные кадры.
Тут все зашумели, и Подсебякин сел…
— Плечами эдак пожимает: видать, не ожидал такого оборота, — заканчивал своё повествование Арсеньев. Я на своего дружка, начальника пароходства, посмотрел — красный сидит: подпись-то его на характеристике. Подсебякину на этот раз волей-неволей пришлось себя раскрыть. На бюро не отмолчишься. Квашнин-то небось сразу распознал его с головы до ног.
Арсеньев замолчал.
— А вообще с работой как? — спросил Фитилёв.
— Ушёл, батя, я из пароходства, — тяжело вздохнул Сергей Алексеевич. — По глупости ушёл. Теперь не поправишь. Кровь в голову бросилась, — разволновался Арсеньев, — плюнул я тогда и сгоряча заявление подал… А тут ещё Преферансова в коридоре встретил. Он руки не подал, а как-то бочком подошёл. «Товарищ Арсеньев, — говорит, — ваши ледовые рекомендации кажутся мне порядочной чепухой. Сомневаюсь, стоит ли на самолёт деньги тратить. Навертели дел, а сами в кусты! Как теперь будет с аэрофотосъемочкой?» Так и сказал — «с аэрофотосъемочкой».
В комнату, шлёпая мягкими туфлями, вошла Ефросинья Петровна. Она принесла два стакана крепкого чая, сахарницу и нарезанный тонкими ломтиками лимон.
— Хороший народ в обкоме, — сказал Фитилёв, когда шаги Ефросиньи Петровны затихли.
— Да, народ хороший… Ну, а потом я узнал, что Квашнин спрашивал про меня у начальника пароходства. «Напрасно отпустили Арсеньева, — сказал он, — потеряли хорошего капитана». Квашнин — настоящий человек. А вот Подсебякин… Где уж, как не на бюро обкома, коммунист должен говорить только правду!
— Так, — согласился Фитилёв, отхлебнув чаю.
— А вот когда Подсебякина спросили: «Что за женщина Мамашкина?» — он ответил: «Хорошая женщина. В производственном отношении есть некоторые промахи, зато морально безупречна».
— А что ты на это?
— Промолчал.
— Почему? — прикрикнул Фитилёв.
— Такой уж у меня характер: не люблю ябедничать.
Фитилёв неожиданно спросил:
— Ты читал, Серёга, французского писателя Виктора Гюго?
Арсеньев с любопытством посмотрел на него.
Фитилёв усмехнулся.
— Так вот, у него в одном романе описаны компрачикосы. Я к чему это говорю. Вот Подсебякин такой компрачикос — души человеческие калечит. Так надо не молчать, а тревогу бить! Ты всегда был твёрдым, Серёга. Ну как ты мог заявление об отставке подать! Все надо теперь сначала. Что ж, потерпим. Пройдёт время — все образуется. «Год — не неделя, покров — не теперя, до петрова дня — не два дня», — пошутил Фитилёв.
Арсеньев подумал, что из-за всей этой истории он забыл даже о своих льдах. Да, он за бортом, барахтается сейчас в мутной водице клеветы, а корабль ушёл, скрылся за горизонтом. «Что моя твёрдость, — растерянно думал Арсеньев, — кому она нужна?» В эти тяжёлые дни он не хотел никого видеть, прятался от людей. Почему это так, он и сам не знал. Может быть, это был стыд, необходимость что-то объяснять? Первый раз он свои дела скрывал от Наташи. Почему? Она могла не поверить ему? Или боялся её беспокоить? Так ли? По правде сказать, Арсеньев не чувствовал особого облегчения и здесь, дома. Мозг лихорадило, тупая боль разламывала голову.
Арсеньев много лет был связан с морем и кораблями — в этом была его жизнь. Переключиться на что-нибудь иное было не так просто.
Как только Фитилёв замолкал, в сознании Арсеньева снова крупным планом наплывало море… Арсеньев увидел себя в капитанской каюте. Судно стоит на рейде, до отхода остались считанные минуты. Но якорь пока ещё крепко держит. Когда придёт на борт лоцман, заработает брашпиль, якорь оторвётся от земли. Звенья чугунной цепи будут клацать, неторопливо один за другим скрываясь внизу, под палубой.
Мысли путались, разрывались… Вот видятся ему на штурманском столе карты с карандашными курсами, прорезающими моря и океаны. Впереди много опасностей, тяжёлых недель плавания.
Как-то в детстве отец прислал ему настоящую морскую карту Студёного моря — радости тогда не было границ. Серёжа выучил на карте все, вплоть до маленьких мысов и камней.
«А когда возвращается из рейса „Воронеж“? — внезапно пришло в голову. — Это очень важно». Арсеньев стал прикидывать: «Так когда же вернётся? Расстояние туда-обратно надо разделить на мили, проходимые кораблём в сутки, прибавить стоянки в порту под выгрузкой и погрузкой».
Арсеньев очнулся. Какие-то звуки с улицы заставили его прислушаться. Равномерное звонкое постукивание, гулкий раскат колёс. Стряхнув оцепенение, он поднялся и подошёл к окошку. Лошадь рысцой тащила высокую немецкую телегу по сглаженным временем булыжникам. На телеге тускло горел фонарь. В тёмных вершинах деревьев по-прежнему отсвечивал красным светом маяк. Лошадь, телега, тусклый фонарь… Почему-то все это показалось Арсеньеву чужим, ненужным. Даже отблески маячного огня какие-то назойливые…
— Уйти с корабля на берег — это не пересесть с одного стола за другой, — задумчиво сказал он тестю. — Ломается все… Море стало жизнью.
Через две недели, нет, через три недели, «Воронеж» придёт в свой порт, и тогда, тогда о нем обязательно вспомнят. Круглолицый механик в очках, никогда не унывающий председатель судового комитета Котов, седоусый боцман — парторг, повар, веснушчатый практикант, вечно перепачканный в краске, матросы, электрики… Перед ним стали вереницей товарищи. Сергей Алексеевич крепко на них надеялся, но даже себе не хотел в этом признаться. На корабле один человек ничего не значит, но все вместе — большая сила. Попадёт другой раз корабль в переделку, думаешь, и выхода нет, а дружный коллектив всегда из беды выручит.
Арсеньев вспомнил зимний промысел, поломку руля. «А если товарищ в беде? Обязательно помогут. А что, если забыли? Мало ведь вместе были, всего один рейс. Вот если бы „Холмогорск“!..»
— Но где твои друзья? — спросил водолаз. — Они должны были объяснить, что происшествие с тобой — случайность,
Арсеньев грустно улыбнулся.
— Что ж, говорят, молчание тоже немалый талант, — с раздражением буркнул Фитилёв, — Ты им овладел в совершенстве.
— Я молчал потому, что боялся — в рожу ему надаю, — с обидой выговорил Арсеньев. — Руки чесались с подлецам расправиться!
— Ну, ну, так уж и драться! Одно понятно: Подсебякин — личность дрянная. У честных людей бывают слабости, но подлецы с виду всегда безупречны.
Фитилёв попыхтел потухшей трубкой
— Что ж, как говорится. «Счастью не верь, а беды не пугайся. Беда вымучит, беда и выучит» Подождём движения вод. Я помогу тебе. Кстати, у нас, стариков, дружба ценится, видать, дороже… Скажи, хочешь работать по судоподъёму? Ты хороший водолаз, сам тебя учил, знаю. И расчёты осилишь. Англичане говорят: «После падения с лошади лучше всего встать и немедленно снова сесть в седло». Умно! Понял?
— Ещё как! Постой, постой, поднимать затонувшие суда — это интересно!
— Одно помни, больше так не ошибайся. Твоё военное звание — старший лейтенант?
— Так точно, товарищ капитан-лейтенант!
— Ну, а студеноморские льды, товарищ старший лейтенант?
— И со льдами расправимся!
— Вот это люблю! Не сдавай позиций. А то некоторые, осердясь на вшей, да и шубу в печь!
Арсеньев первый раз за весь вечер рассмеялся.
— Спасибо, Василий Фёдорович, батя…
— Полно, полно!
Мужчины обнялись и расцеловались.
— Вот уж не ждала от вас нежностей! — удивилась неожиданно вошедшая в кабинет Ефросинья Петровна. — Целуются, словно барышни. И пить ничего такого не пили… Идите в столовую, Наташенька беспокоится.
— Ладно, старуха, не твоё дело. Бывает, и без водки поцеловаться можно. Спокойной ночи, Серёга. Иди, иди.
Он ласково выпроводил из дверей Арсеньева и долго сидел, попыхивая трубкой.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ НА КОРАБЛЕ ПОЯВИЛИСЬ ПРИЗРАКИ
Море шумит. По морским просторам лениво катятся волны. Летают чайки. Распластав крылья, чайки кружат в воздухе, высматривая добычу. Иногда птицы смело садятся на неподвижный корабль. Они привыкли к безмолвной громаде. Пронзительно гомоня, чайки усаживаются по закраинам палуб, влетают через разбитые иллюминаторы в пустые помещения, пестрят на, мачтах, на высоких надстройках.
Мертво и пустынно на заброшенном лайнере.
Стальной остов стойко отражает яростный натиск волн, но непогоды потрепали корабль: остались без стёкол иллюминаторы, спасательные шлюпки, подвешенные на металлических балках, разбиты, погнуты железные стойки и поручни трапов.
…Вечереет. Но до темноты ещё далеко. С запада упрямо наползают дождевые тучи. Порывистый ветер гонят к берегу крутую зыбь, сердито срывая пенистые гребни. Наталкиваясь на борт затонувшего гиганта, волны взлетают кверху и шумно отступают.
Мимо железного острова одно за другим идут рыбацкие суда, добычливо загруженные рыбой, и кажется, вот-вот их зальёт волной. На ветру паруса молодецки выпятили грудь. Суда спешат в спокойную воду, за надёжный волнолом из каменных глыб. Позади всех ныряет в волнах небольшой парусно-моторный бот «Медуза». На корме сгрудились четверо рыбаков в непромокаемой одежде и зюйдвестках. Ветер швыряет в людей тяжёлые морские капли.
— …Озолотить обещал, если к завтрему свинцового кабеля привезём. — Человек за рулём подставил спину налетавшим брызгам; они горохом забарабанили по твёрдой, как жесть, мокрой парусине. — Ванюшка Хомяк — тот, что утильсырьё на базаре скупает. Зелёная палатка, против почты, — добавил рулевой, когда бот снова вышел на волну.
— Спешка! — бабьим пронзительным голосом откликнулся бородатый мужик. — Видать, выгодное дельце, сукин кот, обтяпать хочет, вот и спешка. А не обманет?
— Пусть попробует… Пять кусков обещал. — Рулевой приподнялся. — Не зевай, ребята, подходим.
Поравнявшись с затонувшим кораблём, он ловко повернул мотобот и с подветра подвалил к ржавому корпусу. Стало тихо, как в гавани. Трое рыбаков с пустыми мешками в руках враз перемахнули на палубу.
Корабль, погруженный в море на четырнадцать метров, все же выглядел величаво. Главная палуба выступала над водой: над ней подымались этажи надстроек.
— Рыбу сдашь, вали домой спать, — распорядился Миколас Кейрялис, тот, что стоял за рулём. — Завтра, как выйдешь в море, сразу за нами. Понял? А главное — не трепись.
— Понял, чего там…
— Да смотри осторожней. Справишься один?
— Справлюсь.
— Фамилии не забудь счетоводу перечесть. Пусть запишет, не то пропадут денежки. Доказывай потом.
Затарахтев мотором, бот отвалил от борта.
Трое на затонувшем корабле медленно двинулись по палубе.
— Смотри-ка, маяк зажгли… — Бородатый показал на красный огонь. — Соли налипло черт те што! — Он остановился, вынул грязный платок и вытер лицо. — Жрать охота: видать, время позднее.
— За мной, ребята, — нетерпеливо командовал Миколас. — Нечего прохлаждаться. Поработаем. Гм… Потом закусим. У меня шнапс припасён. — Он чувствовал себя уверенно, не первый раз попадает он на это затопленное судно.
Стуча сапогами, приятели поднялись по трапу на спардек, повозились с тугой, разбухшей от сырости дверью и скрылись в надстройке. В пустых, просторных помещениях шаги отдавались глухим эхом. Компаньоны протопали по застеклённой прогулочной палубе, спустились вниз. В курительном салоне зажгли «летучую мышь». Фонарь прицепили на позеленевший медный крючок, служивший когда-то вешалкой.
Одну из стен салона, отделанного полированным деревом, украшал большой камин. В кормовом простенке уцелел витраж из цветных стёкол с изображением старинного парусника. В углу одиноко стоял исковерканный и облупившийся белый с золотом рояль. Возле камина была приставлена грубо сколоченная лестница. Миколас поднялся к потолку и стал безжалостно орудовать ломом: деревянная облицовка разлеталась щепками.
— Нашёл, ребята! — радостно закричал он, ощупывая что-то руками. — Тут он, кабель, целым пучком идёт. Клянусь Иезусом, с одного салона заказ выполним!
Миколас опять принялся со скрежетом отворачивать филёнки. От усердия у него вылезла из штанов нижняя рубаха. Доски с шумом падали на пол.
Бородатый Федя раскуривал огромную самокрутку. У него толстые уши и маленький нос с густыми складками на переносице. Увидавшему Федю первый раз казалось, будто он задрал кверху нос, как злая собака верхнюю губу. Третий, Юргис, молодой и бледнолицый, с модной кудлатой причёской, сорвал изящные, старой бронзы бра над камином, а теперь пробовал пальцем клавиши разбитого рояля: звуки получались жужжащие, расслабленные.
— Миколас, — лениво позвал он, сдвинув густые чёрные брови. — Если снять струны — и на базар? Тут для мандолины и для гитары басовитых много. Как думаешь, сколько дадут?
— К черту! — закричал сверху Миколас. — Дороже себе станет. В два дня не снимешь. А ты, Федя, брось курить, помогай.
Ругаясь тонким, плачущим голосом, Федя принялся крошить сухое дерево. Свинцовых жил обнажалось все больше и больше. На паркетном полу появились тяжёлые мотки; филёнки продолжали падать.
А скучающий Юргис вынул карманный радиоприёмник. Зазвучала музыка. Юргис стал перебирать ногами в зелёных брючках. На его чахлом лице появилось глупое и самодовольное выражение.
В разбитое стекло иллюминатора проникали яростный шум моря и хриплое дыхание ветра. Иногда от сильного удара волны тяжёлый корабль содрогался. Ветер со свистом врывался в щели. С размеренной точностью по стенам салона проползал багровый отсвет маячного огня. Жёлтый язычок пламени в закопчённом фонаре тянулся кверху, а тени в салоне на стенах шевелились.
— Страховито, — по-бабьи пропел Федя, — будто нечистый играет или ещё что… В море-то на мелкой посуде не того, неспокойно, — добавил он, почёсывая под рубахой.
Каждый раз, когда корабль вздрагивал, приятели прерывали работу и оглядывались. Страшно в непогоду на затонувшем корабле…
* * *
— Открылся маяк Песчаный, прямо на курсе! — закричал старпом Ветошкин.
Антон Адамович Медоиис вытер платком рот после очередной жертвы, принесённой морскому богу, и, закутавшись в плащ, вышел на мостик. Он волновался. Это был его первый рейс. Ему не приходилось выходить в море дальше внешнего рейда. Правда, рейс был короткий, всего несколько часов, и старший помощник не раз бывал в здешних местах, но капитан всегда волен сомневаться.
Маленькой букашкой полз по морю буксир «Шустрый». Ветер злобно свистел и бросал охапками солёные брызги на мостик. Откуда-то из темноты наступали непонятные, беспокойные волны с накипью светящейся пены. Они яростно бились о корпус. Медонис с опаской смотрел на чёрную воду. Нет, море не его стихия! Опасное занятие. Куда спокойнее сидеть в конторе, разбирать аварии и задавать вопросы: «Почему вы не сделали то? Почему не предусмотрели этого?»
Мало ли возникает вопросов у сидящего за канцелярским столом человека, да ещё начитавшегося разных справочников, где сказано, как надо поступать по правилам хорошей морской практики…
Антон Адамович с трудом подавил новые гнетущие позывы тошноты. И Мильду он не взял с собой только потому, что боялся уронить себя в её глазах. Неприятное дело — морская болезнь.
— Проверьте характеристику, возьмите секундомер, — распорядился Медонис, так и не рассмотрев маячного огня. Бинокль дрожал в его руках.
Но ничего проверить не удалось. Внезапно начавшийся дождь накрыл маячный огонь.
— Посвистайте! Скорее! — волнуясь и коверкая слова, сказал Антон Адамович.
Потянулись нудные сигналы: «Осторожнее», «Я ничего не вижу», «Осторожнее», — и так без конца.
Прошло ещё полчаса. Дождь, дождь…
Раздался тревожный голос вахтенного. Он указывал на что-то неразличимое из-за ливня. Антон Адамович остановил машину. Стало тише. Неестественно громко стучали струи дождя. Внезапно совсем близко оглушительно взревела сирена. У Медониса похолодело внутри и подкосились ноги. Он дал машине ход назад, даже не подумав, что нарушает правила, и в ужасе ждал, что будет. Перед глазами возникло чёрное пятно. Оно принимало все более отчётливую форму: появился мохнатый, расплывчатый огонь на мачте, труба, мостик… Пятно превратилось в огромное судно. Нависая высоким бортом над «Шустрым», шлёпая по воде полуоголенным винтом, оно медленно отвернуло борт с красным фонарём. Ещё минута — и потоки дождя снова скрыли чужой корпус. Сквозь дождь тускло отсвечивали ходовые огни.
— Разминулись благополучно, — поёживаясь, сказал старпом Ветошкин, — но могло быть иначе. Проклятый слон, там забыли про сигналы! Спят, что ли, на вахте?
— Я говорил, надо поставить локатор, — плаксиво пожаловался Антон Адамович. Нервы у него отказывали.
— Локатор! — презрительно фыркнул Ветошкин. — У этой бандуры наверняка есть локатор. Однако, как видите, не помогло.
Медонис немного успокоился. Значит, все правильно, и буксир когда-нибудь придёт по назначению. Черт, а ведь он едва уговорил капитана порта назначить его на «Шустрый»! Медониса угнетало предчувствие несчастья: то ли волна захлестнёт судно, и оно пойдёт как топор на дно, то ли разъярённый громадный вал все смоет с палубы, унесёт в море и мостик и капитанскую каюту; он и ощущал-то себя посторонним предметом, по недоразумению попавшим на корабль.
Медонис пугался каждого удара волны. Он не верил самому себе, не верил в свои знания. Словом, его капитанство подвергалось тяжким испытаниям. Все, что Медонис постиг в «инкубаторе», на краткосрочных судоводительских курсах, перевернулось, встало дыбом. Предложи кто-нибудь решить простенькую навигационную задачку — её не одолеть ему. Он был счастлив, что сейчас никто не может заставить его решать задачки.
Терзаясь и проклиная своё первое плавание, Антон Адамович утешался тем, что его ждёт. «Я взял в руки свою судьбу, — рассуждал он. — Как только найду дядюшкин ящик и достану сокровища, немедленно в Швецию!..»
Команда буксира присматривалась к капитану. За короткое время трудно определить, чем человек дышит. Но моряки народ понятливый, они сразу смекнули: с капитаном что-то неладное. Очевидно, он на отходе перехватил лишку спиртного и мучается. Плохо, конечно, но что поделаешь!
Буксир «Шустрый» бросало на волне, переваливало с боку на бок. Это доводило капитана до белого каления. Стараясь не показать слабости, он, широко и неловко расставляя ноги, хватаясь за все по пути, спустился с мостика. Поручни, солёные от морской воды, липли к рукам.
В капитанской каюте было неуютно. По полу разлита вода, вперемежку с окурками — конфеты: Медонис любил сладости. Билась и стучала распахнутая дверка шкафа. Жёлтые «штатские» ботинки Антона Адамовича проворно ездили по каюте. Позвякивал ручкой металлический чайник, колебалась на крюках одежда. Все предметы двигались из угла в угол, как бы переговариваясь на разные голоса. Иногда движение и шум на минуту приостанавливались, но, повинуясь неодолимой силе, тотчас возобновлялись.
Капитан лежал на диване с восковым лицом и не мог дождаться, когда кончатся его мучения. Пусть судно идёт хоть к черту на рога! Пусть все рушится, только бы прекратилась тянущая внутренности качка!.. Но охота, как говорят, пуще неволи. Курс ведёт на затонувший корабль. Как только Медонис вспоминал про дядюшкину шкатулку, ему становилось легче. Что бы ни было, а дело прежде всего. Он должен увидеть лайнер своими глазами. Старпом уверял, что сейчас под правым бортом лайнера как у Христа за пазухой. Никакой качки. Но что это? Антон Адамович насторожился. Ботинки остановились у дивана, занавески повисли перпендикулярно палубе, качать стало меньше.
Свистнула переговорная труба. Медонис проворно вытащил пробку.
— Подходим к «утопленнику», — раздался голос Ветошкина.
Словно пружиной Медониса вытолкнуло на палубу. Со свету он не сразу понял, что к чему. Перед ним постепенно вырастал тёмный силуэт огромного судна. Под бортом великана совсем не качало, было тихо, как в заводи. Старпом оказался прав. Антон Адамович сразу почувствовал себя лучше.
— Я осмотрю корабль, — сказал он. — Надо прикинуть, много ли здесь работы. Завтра велено подать заявку на уголь. А вам разрешаю сходить в порт, и через три часа быть здесь.
Антон Адамович знал, что многим не терпится на берег: их жены уже приехали подыскивать комнаты в городке — работа предстояла долгая. Слава богу, ему не надо беспокоиться. В Ясногорске нашлись знакомые, и Мильда сняла небольшую квартирку с отдельным входом.
— Есть через три часа обратно! — обрадовался старпом, хотя жены у него не было: он радовался за других.
Подсвечивая фонариком, Медонис перелез через поручни. Буксир отошёл сразу, мгновенно растворившись в темноте.
«Вот теперь я опять человек, — сказал себе Антон Адамович, чувствуя под ногами неподвижную палубу. — Сегодня особенный день — первый шаг к богатству».
У Медониса все ещё кружилась голова. «Может быть, это нервы? Я так долго ждал. Сегодня мой праздник».
Антон Адамович предусмотрительно захватил бутылку коньяку.
В левый борт корабля, как в скалистый берег, шумно била волна. Говорят, морские волны приходят неизвестно откуда и уходят неведомо куда. Нет, для Медониса все было ясно. Волны шли из Швеции и разбивались о железный борт. Корабль отзывался на яростные удары утробным гулом, похожим на вздохи какого-то гигантского животного. Вокруг все стонало и скрипело. Изо всех углов неслись таинственные, пугающие звуки. На всяком корабле без света невесело, неуютно, а уж в такую погоду…
Маяк на мысе Песчаном озарял кровавыми вспышками надстройки с остатками белил, трубы и мачты.
* * *
В это время в каюте «люкс» готовился пир. На письменном столе лежали открытые консервные банки, колбаса, хлеб. На почётном месте красовалась бутылка водки.
Коптящий фонарь «летучая мышь» освещал каюту. Окна были плотно занавешены обрывками бархатных шторок.
Приятели закончили работу. Они не без удобства расположились на ломаных стульях и сняли парусиновые куртки.
Порыв ветра неожиданно распахнул дверь. Рыжебородый Федя кинулся и проворно прихватил её за ручку.
— Неймётся проклятому! — ругался он. — В такую темень огонь беспременно заметят с берега.
— И тогда мы лишимся оптовой базы, — с живостью поддакнул Кейрялис, — ты прав, Федя!
Собеседники замолкли. Кейрялис, прижав буханку к груди и что-то напевая, принялся усердно резать хлеб.
— Ты веришь в загробную жизнь, Федя? — ни с того ни с сего спросил он у бородатого.
— Загробную? — Лицо мужика сразу стало серьёзным. — С чего это тебя на мёртвых потянуло?
— Знаешь, Федя, — Миколас положил нож на стол, — мёртвые всякого человека притягивают. Ты и я — все мёртвыми будем. Узнать бы, как и что после смерти.
— Помрёшь, тогда и узнаешь.
— Интересно бы заранее знать. Вот, к примеру, я в тюрьме слышал, будто чайки — это души моряков, погибших в кораблекрушениях. Поэтому эта птица от моря никуда. Над этим утопленником, — он пристукнул ногой об пол, — тучами чайки летают. Небось внизу мертвецов не один десяток.
На палубе бесновался ветер. Непогода разыгралась вовсю. Кейрялис посмотрел на притихших компаньонов.
— Выпьем по маленькой. — Он принялся разливать водку. — Выпьем, и мёртвые нам будут не страш… — Он замолк и судорожно глотнул слюну.
Явственно послышались шаги. Кто-то шёл по палубе. Бутылка в руке Миколаса дрогнула, водка полилась мимо.
Дверь распахнулась, на пороге стоял Антон Адамович.
— Приятного аппетита, друзья, — окинув всех быстрым взглядом, сказал он. — Простите за беспокойство. Я думал, эта развалина необитаема.
Приятели молча переглянулись. Уж чего-чего, а гостя они не ждали.
— Спасибо, гражданин начальник, — выдавил Миколас.
— Разрешите сесть? — Медонис, не дождавшись ответа, примостился на сложенные в углу мешки. — Давайте знакомиться. Я сегодня приехал из области в творческую командировку. Литератор. Пишу очерки преимущественно из жизни преступного мира… Кажется, я не ошибся? — Он выразительно посмотрел на торчавший из мешков кабель.
— Мы не воры, — хмуро возразил Миколас. — Корабль ничейный… Сколько лет гниёт добро, вот мы… — Он надел кепку и тут же снял её.
— С точки зрения международного права и высшей юриспруденции вы правы, — вежливо откликнулся Медонис. — Но социалистическая мораль все равно не оправдает вас. Расхищение государственной собственности, а государственная собственность везде, — он развёл руками.
— Короче, гражданин, — тонким, плачущим голосом прервал рыжебородый. — Что вам нужно?
Антон Адамович окинул Федю оценивающим взглядом.
— Литовцы здесь есть? — не отвечая, по-литовски спросил Антон Адамович. Он как бы и не заметил угрозы.
— Я литовец, — откликнулся Миколас.
— У меня мать литовка, — сказал Юргис.
Федя продолжал с недоверием и беспокойством рассматривать незнакомца.
— Разве так литовцы встречают гостей? У нас в Каунасе это делают иначе, — укоризненно покачал головой Антон Адамович. — Мы, литовцы, всегда поддерживаем друг друга. Я, как католик…
— Виноват, гражданин начальник, я совсем упустил из виду национальный вопрос, — смягчился Миколас. — Садитесь за стол, подвиньтесь, товарищи, освободите нашему гостю место. — Он подал Медонису стакан. — Я тоже верю в непорочное зачатие и святую троицу.
— Ну, ребята, за ваши успехи! — Медонис причмокнул губами. — В такую погоду грех не выпить.
Через час литровая бутылка опустела. Водка располагала к откровенности. Потом перешли на коньяк, появившийся из кармана незваного гостя. Антону Адамовичу пришла мысль, что без помощника ему не обойтись, и он стал присматриваться к приятелям. Он болтал без конца, подливая собеседникам. Бородатый Федя и молодой Юргис скоро охмелели. Бросив на голые панцирные сетки кроватей грязные куртки, пропахшие рыбой, они мгновенно заснули.
— Теперь покурим и о деле поговорим, — ласково сказал Антон Адамович, выйдя вместе с Миколасом из каюты в широкий коридор. Он успел разглядеть, что пиджак Миколаса стар, потрёпан, и решил, что именно такой человек ему и необходим. За пиршеством он узнал, что Миколас сидел в тюрьме за кражу.
«По-видимому, советского в нем ничего нет», — соображал Медонис.
Советские люди всегда его пугали. Вряд ли он мог доверить тайну кому-либо из команды буксира. А Миколас? Что ж, Миколас, — схема этого человека проста: за деньги он согласится на все. Мораль его расплывчата. Несомненно, её сдерживают только рамки уголовного кодекса, да и то не всегда. Он жаждет подчиниться сильной воле. И внешность подходящая: простоватое лицо, маленький нос, близко поставленные глаза. Но соображает быстро, а это важно. «Однако куда он ведёт меня, этот каторжник?»
Протяжно запела дверь. Они вошли в огромный пустой зал. Антон Адамович зажёг фонарик и провёл по углам — нелишняя предосторожность на таком судне.
«Что за черт! — удивился он. Знакомые витражи с изображением средневековых кораблей бросились в глаза. — Да ведь это курительный салон. Вот и камин. Здесь стояли кресла. На этом месте когда-то сидел я, а напротив — занятный старик в патентованном шведском жилете».
Антона Адамовича отвлекли воспоминания, и он немного помолчал.
— Вот что, Миколас, — пыхнув в темноте сигаретой, наконец, заговорил он, — я вижу — ты хочешь заработать. Бери, закуривай.
Медонис сунул ему сигарету.
— Так точно, гражданин начальник, не против. — Миколас с наслаждением затянулся. — Американская, — определил он.
— Я буду говорить прямо, как католик католику. — Антон Адамович взял Миколаса за пуговицу. — Тебе я верю. Но смотри, будь настоящим человеком, не то что эти парнокопытные. Ты понимаешь, о ком я говорю? В одной из затопленных кают, — он показал пальцем вниз, — остался ящичек с драгоценностями. Я приехал за ними. Одному мне не справиться. Предлагаю вступить в дело. Риска никакого, денег получишь много.
Рассказывать незнакомому человеку о драгоценностях рискованно, но Медонис был уверен, что действует наверняка.
Миколас не сразу ответил. Он взвешивал все.
Ветер не утихал. Глухо шумело море. Слышно было, как в наветренный борт грохали волны. Брызги залетали в салон через иллюминатор.
— Что я должен делать? — осторожно спросил литовец.
— Все, что я прикажу.
«Черт возьми, как здесь неуютно! — Медонис поёжился. — Ветер шумит совсем как на представлении вагнеровской оперы. Что-то он долго думает, этот каторжник».
— Сколько я получу?
— Половину. — Антон Адамович с облегчением вздохнул. «Все идёт правильно. Жалкий пескарь схватил приманку». — Несколько дней — и деньги в кармане. Ещё есть вопросы?
— Вопросов нет, но я должен предупредить, гражданин начальник: не думаете ли вы, что я буду нырять, как ловец жемчуга? Это отпадает: плавать я не умею. Без водолаза нам не обойтись.
— Вопрос по существу, молодец Миколас! — похвалил Антон Адамович. — Но не беспокойся: водолаз — я. — Он ткнул себя пальцем в грудь. — Несколько лет готовился к этой операции, все предусмотрено.
— Где водолазный костюм! А помпа, шланги? Все стоит денежек, и достать не так просто.
— Я привёз акваланг, новый прибор для подводного плавания. Шланги, скафандр и разные там водолазные помпы — отжившая техника. Мне не хватает плана с номерами кают.
— Акваланг? Не слыхал. А что за каюта, вы знаете помер? — спросил Миколас, чуть-чуть поторопившись.
— Ты, я вижу, умен, с одного намёка понимаешь, — фыркнул Антон Адамович. — Правильно говорят, что человек — существо разумное, но… безнрав-ствен-ное, — и он погрозил пальцем.
Миколас сконфуженно захихикал.
— Ну, так что ж, друг, согласен? — причмокнув губами, спросил Медонис.
— Согласен, гражданин начальник.
— Если так, давай говорить серьёзно. Распределим обязанности…
Коньяк всегда вызывал у Антона Адамовича желание пофилософствовать.
— Хочу тебе посоветовать: никогда не жалей товарищей, думай только о себе. Топи всех, кто тебе мешает. — Антон Адамович не удержался, вынул из кармана записную книжку в гладком кожаном переплёте и вспомнил оберштурмбанфюрера. Давно это было, и так не похоже на теперешнее. Может быть, то было сном? Нет, оберштурмбанфюрер существовал, его рукой занесены чёткие строки в эту книжку.
Он зажёг фонарик. На страницах выступили буквы.
«Помогай сам себе, тогда всякий поможет тебе. Вот принцип любви к ближнему. Сострадание — величайшее бедствие человечества», — прочитал Актом Адамович.
— Будь сверхчеловеком, мой друг. — Он положил руку на плечо Кейрялису. — Ты знаешь, что это значит?
Миколас отрицательно мотнул головой.
— О-о!.. Сверхчеловек — это, это… — Медонш: не нашёл слова. — Например, у нас сверхчеловек не признает очереди, шагает мимо людей, будто их нет. Если может, он шагает по человеку. Из всех людей он замечает только себя, ну, и ещё тех, кто ему нужен. Ты понял, мой друг? Все хуже, а ты лучше. Для тебя главное — ты и деньги.
На лице Миколаса выразилось удивление.
«Что за птица? — размышлял он. — Пропагандирует, а что — неизвестно». Туманные речи незнакомца несколько его поколебали.
— Ты слышал что-нибудь о Фридрихе Ницше?
— Не слыхал что-то… А вы не оттуда, гражданин, не с той стороны? — насторожился Миколас.
— Политикой не занимаюсь, — Антон Адамович сразу отрезвел, — меня интересуют только деньги.
— Тогда пойдёт! А то тут всякие ездят…
— Пиши заявление, — с важностью предложил Медонис, — зачислю тебя матросом. Будешь сыт, обут, и деньги будут на карманные расходы. Я капитан буксира «Шустрый». Понял?
Миколас хлопнул себя по бёдрам, с восхищением посмотрев на Антона Адамовича.
* * *
Морские часы в кабинете начальника аварийно-спасательного отряда отбили склянки; два двойных удара — десять часов. Ярко горела дневным светом лампа под низким абажуром. За столом сидели два морских офицера.
— Работы много, — сказал капитан второго ранга Яковлев. — Тебе, Василий Фёдорович, повременить придётся с пенсией. Ты ведь двадцать четыре утопленника на ноги поднял — так ведь?
— Правильно, Иван Фёдорович, а что с того?
— Говоришь, совсем на покой собрался?
— Все готово. Чемоданы уложены. Еду на родину, в Онегу. Года подошли. Мужчина за пятьдесят лет что зрелая груша, — каждый день с дерева готова упасть, — пошутил он.
— Отмочил! Такой груше, как ты, не скоро ещё срок придёт! А я думаю, юбилей надо сначала отпраздновать.
Фитилёв удивлённо посмотрел на командира отряда.
— Какой такой юбилей?
— Поднимешь двадцать пятый корабль — будет юбилейный! — Яковлев подмигнул и вынул из стола пачку чертежей. — Большой объект на примете, как раз по тебе. — Он внимательно посмотрел на водолаза. — Так как насчёт юбилея?
— Да уж не знаю, как быть… — Василий Фёдорович развёл руками. — Старуха ругаться станет. А что за корабль, Иван Фёдорович?
— Я вижу, ты согласен, старый вояка. — Командир отряда понимающе улыбнулся. — Признаюсь, другого от тебя не ждал. Командование нам поручило поднять «Меркурий», — с ноткой торжественности в голосе пояснил он.
— Вот это здорово! — восхищённо отозвался Василий Фёдорович.
«Что-то ты быстро согласился, дружок», — отметил про себя Яковлев. Он прекрасно знал Фитилёва. Восемнадцать кораблей они подняли вместе. Если старик решил что-нибудь, отговорить трудно. А здесь уложил чемоданы, совсем собрался в свою Онегу — и вдруг сразу полный назад. «Гм… Ну, посмотрим…»
— Начальником судоподъёмной группы назначаю тебя, Василий Фёдорович, — сказал он. — Поднять корабль приказано в этом году. Надо торопиться: каждый день дорог. Предлагаю завтра приступить к подготовительным работам. Подумай, кого взять к себе заместителем.
— Благодарю за доверие. — Фитилёв поднялся и крепко пожал руку капитану второго ранга. — Я согласен, но… — он немного замялся, — уважь и ты старика.
— Я слушаю, Василий Фёдорович.
— У меня зять — капитан дальнего плавания, из торгового флота. Военное звание — старший лейтенант, в прошлом — командир подводной лодки. Грудь в орденах. Между прочим, — Фитилёв оживился, — «Меркурий» — это его работа: он потопил. А сейчас ушёл со своего корабля… временно. — Капитан-лейтенант замялся. — Огорчили его на службе, очень огорчили… А знающий человек. Водолазную школу окончил, сам его обучал… Так вот, Иван Фёдорович, его бы ко мне.
— Гм… Придётся мобилизовать. Значит, это он пустил ко дну лайнер? Интересно, интересно! А он-то согласится?
— Согласен.
— Ладно. Я подумаю, говори позывные.
— Арсеньев, Сергей Алексеевич.
— Хорошо. — Чиркая карандашом по блокноту, Яковлев кивнул головой. — Объектик-то неплохой, Василий Фёдорович?
— Интересный корабль. Такой на ноги поставить лестно. По городу много разговоров о нем. Конечно, все больше сказки…
— А что именно?
— Стоит ли повторять-то? — Фитилёв запыхтел трубкой. — Ну вот, например, говорят, что души погибших моряков на нем собираются. — Водолаз хитро улыбнулся. — Недаром чайки его любят… Будто по ночам иногда видят огни на корабле.
— Это уж чистая мистика, — рассмеялся командир отряда. Взяв бинокль, он подошёл к окну и отдёрнул занавеску.
— Вот твой «Меркурий». — Он поймал тёмный остов в окуляры. — Стоит как всегда. Что это? — удивился он. — Огонёк, или мне кажется?
— Огонь, — подтвердил и Фитилёв, — простым глазом вижу.
— Исчез, — передавая ему бинокль, сказал Яковлев. — Ну-ка, посмотри хорошенько. Странно, очень странно!.. А как задувает с моря, а? Смотри-ка на деревья. Шторм. — Он прислушался к завываниям ветра. — Я думаю, все скоро выяснится. А сейчас уточним один вопрос. — Он снял с полки модель большого пассажирского парохода. — Каким способом вы предпочитаете поднять корабль?
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ХУДОЖНИК НАХОДИТ СВОЁ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Остров — это часть суши, окружённая со всех сторон водой, по крайней мере так говорится в школьных учебниках географии. Разные бывают острова. Одни возникают бурно, их выносят на поверхность грозные вулканические силы — это высокие каменистые скалы. Иные, наоборот, медленно намываются течениями и волнами. Они низменны, песчаны и скучны. В тёплых морях встречаются коралловые рифы и атоллы — их веками строят моллюски; они невысоки, но очень опасны для мореплавателей. В холодных широтах встречаются ледяные острова — севшие на мель обломки глетчеров. Налетев на ледяной остров, судно ломается так же просто, как на каменных утёсах.
Затонувший корабль — тот же остров. Маленькая точка, укол на морской карте. Но остров остаётся островом, даже если он из железа и невелик.
«Значит, я создал новый остров. Оригинально! Раньше мне никогда не приходила подобная мысль», — думал Арсеньев, склонившись над столом.
Сергей Алексеевич вот уже три дня работал на затонувшем великане. Он был занят расчётами больших металлических пластырей — без них поднять «Меркурий» невозможно. Торпеды, выпущенные в ту памятную апрельскую ночь, основательно разворотили стальное брюхо. Есть простой и надёжный способ подъёма: закрыть пробоины, плотно пригнав пластыри к обшивке, и откачать из корабля воду.
Раз уж взялся поднимать, надо делать это во всю силу. По-другому Арсеньев не мог работать. Его всегда удивляло равнодушие людей к своему труду. Он пытался понять, почему иной раз грунтует матрос борт: знай ляпает краской по ржавчине — и ничего, будто так и надо. Нет нужды, что работа впустую. Только бы старпом или боцман не заметили. А спрашивается, почему? Разве матросу зарплату убавят, если он не торопясь ржавчину счистит? Так почему же такое безразличие к своему, народному? Этого Арсеньев понять не мог. И сейчас он копался в справочниках, расспрашивал опытных водолазов. Засыпая, думал о корабле, а поутру, со свежей головой, прикидывал заново. Ему хотелось поскорей увидеть плоды своих трудов.
Арсеньев чувствовал себя спокойно и уверенно: Фитилёв не связывал его инициативы. Мы почти всегда склонны доверять самим себе гораздо больше, чем другому. Фитилёва в этом нельзя было обвинить.
Ещё два-три дня, и расчёты будут готовы.
Подъем корабля, если палуба осталась над водой, — задача не такая уж сложная. Другое дело, когда он весь скрыт в воде и лежит на боку или вверх килем. Тогда требуется больше труда, умения, смекалки. Но и сейчас хлопот по горло: слишком велико судно, а заявки на бензин и материалы для пластырей должны быть через два дня на столе у командира отряда. Так приказал дорогой тестюшка Фитилёв.
Арсеньев проверил сделанные расчёты, сунул линейку в футляр и с наслаждением потянулся. На сегодня довольно. Три дня не уходил с парохода и работал не разгибаясь. Одно нехорошо: на этом корабле многое делалось вопреки традициям. Здесь все не так, во всем один беспорядок: какой только мусор не валяется на палубе, чего только не навешено по бортам! Нужно и не нужно, а все режется, вывёртывается, выламывается. Мертво сидевший на грунте «Меркурий», казалось, не мог вызывать в капитанской душе обычных чувств. И все же это был настоящий корабль. Душа заядлого моряка не могла быть спокойной, если на его глазах ранили, терзали, царапали поверженного скитальца океанов. Он возмущался, делал матросам замечания, спорил с Фитилёвым. Но капитан-лейтенант был другого мнения. Он, словно прозектор, привык работать на трупах. А если у трупа невзначай рассечь сухожилие или отхватить палец, не все ли равно!
А вот каюта пришлась Арсеньеву по душе. Раньше, когда на корабле были немцы, здесь жил старший помощник капитана. Каюта была окрашена светлой эмалью, от времени пожелтевшей. Сергей Алексеевич отмыл грязь, привёз банку цинковых белил и с удовольствием покрасил своё жилище. Теперь каюта сверкала белизной, и Арсеньеву казалось, будто он живёт на обычном судне. Мебель отчистил шкуркой и покрыл лаком. На столе поставил две карточки в металлических рамках — жены и дочери. И ещё тут стояла теперь медная пепельница в виде ганзейского корабля с распущенными парусами. Кто-то из моряков нашёл её в одной из кают и подарил Арсеньеву. Не корабль и не пепельница тронули сердце моряка. На кургузом борту ганзейца было выгравировано изречение по-латыни: «Navigare necesse, vivere non necesse». «Плавать — обязательно, жить — не обязательно», — повторял Арсеньев в минуты грустных раздумий. Человек, сказавший эти слова, неистово любил море и свой корабль.
На одной из стен висела карта Студёного моря, возле неё — барометр.
Новая работа захватила Арсеньева. И все же временами на него нападала тоска по настоящему кораблю. Есть своеобразная болезнь: ностальгия — тоска по родине; наверно, схожая болезнь охватывает моряков, лишённых возможности плавать, — тоска по кораблю.
Когда Арсеньев вспоминал о холодных льдах, в его душе словно зажигался огонёк. В свободные минуты он открывал заветные тетради, чертил схемы, перечитывал старые записки, составлял таблицы. Иногда ночь проходила в поисках. А бывало и так: едва заснув под утро, он вдруг, словно от толчка, просыпался, вскакивал с постели и наскоро записывал неожиданно пришедшую мысль. Ну, конечно же, он не мог забыть льды: это было невозможно! И сейчас, взглянув на карту, Арсеньеву ещё раз захотелось проверить свою формулу проходимости льдов.
Ведь как странно! Казалось, вопреки логике основная закономерность природы студеноморских льдов стала ему ясна не где-нибудь, а здесь, на затонувшем корабле, в самом как будто неподходящем месте. Догадка осенила внезапно, когда Арсеньев писал в Архангельск Малыгину. Он тогда с радостью ощутил в себе напряжение всех сил, его охватила сладостная дрожь — предвестница прозрения. И сразу все решилось само собой, из цифр возникли формулы. Арсеньев в тот вечер работал как одержимый — исписал несколько страниц. И когда пришла глубокая ночь, он не чувствовал усталости. Природа приоткрыла ему свои тайны. Некоторые считают, что вот такое состояние творческого подъёма и есть высшее наслаждение человека. Неправильно. Разве удовлетворение было бы так велико, не знай человек, для чего он творит, ради чего напряжена его мысль? Главное в другом: Арсеньев сознавал, что его труд необходим идущим вперёд людям. Пусть это пока самый маленький вклад. Но теперь можно действовать смелее, найденная закономерность — ключ к ледовым прогнозам.
«Несомненно, — повторял он свои выводы, — проходимость льдов прямо пропорциональна коэффициенту выноса и обратно пропорциональна температурному коэффициенту».
Вот и сейчас он опять вынул линейку. Все сошлось. Щеки пылали, глаза блестели. Арсеньев окончательно решил послать свои вычисления научному сотруднику исследовательского института Тумановой. Она в прошлом году читала его работу. Вчера Арсеньев написал Тумановой большое письмо, просил высказать своё мнение и надеялся, что она не задержит с ответом.
Арсеньев курил, курил, будто в табачном дыму хотел увидеть прошлое. Зверобойный промысел… Бесконечные белые просторы… Медленно движется торосистый лёд, подгоняемый ветром… На льдах чёрные точки — тюлени. Слышались знакомое скрежетание стального корпуса о лёд, мягкие толчки, удары. Как все это привычно для Арсеньева, как плотно вошло в жизнь!.. Но сейчас июль, ярко светит солнце, и не Студёное, а Балтийское море перед глазами. Арсеньев тяжело вздохнул и долго сидел неподвижно в облаке папиросного дыма. И вспоминалась ему лодья холмогорского морехода. На корме стоял высокий бородатый мужик в меховой одежде и разглядывал вздыбленные льды. Лодья медленно шла раздвигая тупым носом торосы…
«А что, если построить настоящую поморскую лодью, — думал Арсеньев, — и на ней проплыть вдоль северных берегов Сибири? Тогда для всех станет ясно, мог ли древний мореход добраться до Берингова пролива. Осадка лодьи в какой-нибудь метр-полтора позволит плыть вблизи берегов, под парусом и на вёслах, при любом ветре. Льды сидят в воде гораздо глубже, чем лодья, и они не смогут подойти близко к берегу. И по волокам такая лодья пройдёт».
Сердце Сергея Алексеевича вздрогнуло в предчувствии чего-то радостного, большого — так было всегда, если приходила интересная идея. В нем билась пружинистая исследовательская жилка. Как заманчиво: можно блестяще решить спор, доказав, что в давние годы поморы без затруднения плавали вдоль северных сибирских берегов! А как интересно пройти по древнему пути русских мореходов! Могут быть ценные находки на волоках. И обойдётся такая экспедиция недорого. Деревянную лодью с успехом могут построить курсанты мореходного училища. Судоводители войдут в команду. Желающих найдётся много, только кликни. Комсомол должен заинтересоваться.
«Закончу подъем, напишу предложение, — решил Арсеньев. — Поход во льдах обязательно должен быть совершён».
У борта раздался тонкоголосый свисток.
— Эй, гам, на топляке! — крикнул кто-то. — Примите конец. Лево, больше лево! — сердито добавил тот же голос. — Не видишь, в борт сейчас врежемся!
Почувствовав еле заметный толчок, Арсеньев по привычке выглянул в иллюминатор. Круглые окна каюты выходили вперёд, на носовую палубу. Очень удобно, особенно когда судно в море. К борту прислонился буксир «Шустрый». Арсеньев хотел было разнести в пух и в прах незадачливого шкипера. Надо смотреть, не спать на мостике, вовремя подкладывать кранцы. К судну швартуешься, не к причалу, в борту каждая вмятина в копеечку обходится. Вспомнив, что корабль все ещё сидит на грунте с двухэтажными пробоинами и одна лишняя вмятина ничего не решает, он махнул рукой.
Сверху, из каюты Арсеньева, носовая палуба представляла собой печальную картину. Ржавчина разъедала корабль, как экзема. По белой краске надстроек расплывались пятна и ржавые потоки. Ржавчина выступала на поручнях, контрфорсах. На первый взгляд — разрушение, смерть. Однако на палубе царили жизнь и созидание. Слышались удары топора, постукивание молотков, звон пилы. Настойчиво тарахтел компрессор на железных колёсах с широкими ободьями. Десяток матросов сколачивал небольшие деревянные заплаты с мягкими парусиновыми подушечками по краям. По палубе извивались шланги, провода. На верёвке, протянутой поперёк судна, размахивали на ветру брезентовыми рукавами водолазные рубахи. Такелажники вооружали талями стропы для спуска тяжестей. Качальщики безостановочно крутили маховики воздушных помп. Внимание! Под водой идёт работа. У поручней стоял только что поднявшийся со дна водолаз, товарищи отвинчивали гайки шлема. В море сверкнул ещё один медный колпак.
С буксира через поручни на палубу лайнера перебрался бравый на вид моряк, с тремя золотыми полосками на рукавах, в ярко начищенных ботинках, по возрасту — ровесник Арсеньеву.
«Наверно, капитан буксира», — подумал Сергей Алексеевич. Он слышал, как моряк спросил у высокого матроса в засаленном ватнике, перепоясанном ремнём:
— Товарищ, где тут дорога к начальнику?
Матрос перестал затесывать брус, воткнул топор и смахнул с носа каплю пота.
— Идите на корму, батя в библиотеке.
У другого борта ответственный за спуск мичман проверил, как сидит на водолазе манишка, хорошо ли привязаны калоши, и отошёл к железной лестнице, опущенной одним концом в море. Матросы у воздушной помпы с ярко-зелёными маховыми колёсами ждали команды.
Водолаз, тяжело стуча калошами, прошагал по палубе. Держась за поручни, сошёл на две ступеньки трапа. Вот ноги у него уже в воде.
— Воздух! — скомандовал мичман.
— Есть воздух! — отозвались качальщики. Ярко-зеленые маховики завертелись.
Мичман надел водолазу шлем, закрепил гайки, завинтил иллюминатор. Ещё раз внимательно все осмотрел и хлопнул ладонью по медной макушке. На языке водолазов это значит: «Все хорошо». Блестящий шлем медленно ушёл в море. Мичман ещё некоторое время приглядывался к пузырькам воздуха, бурлящим на поверхности, определяя, как действует клапан.
Арсеньева увлекла дружная работа. Его потянуло на палубу.
«Посмотрю на пластырь номер восемь, — подумал он, — как будто его заканчивают». Он спрятал бумаги в стол и распахнул дверь каюты. К югу раскинулся низкий, поросший зеленью берег, белели домики приморского городка. Из портовых ворот медленно выползал рыболовный тральщик. Он обошёл входной буй и взял курс на затонувший корабль. В ясную погоду моряки не боятся «утопленника», он даже удобен, как примета, зато в туман… О-о, в туман он несёт гибель, его обходят далеко! На горизонте, в морских далях, курились пароходные дымки, их было много, там идёт большая дорога Балтики. Новый теплоход, весь белый, вспенивал воду совсем близко: что-то знакомое показалось Арсеньеву в его очертаниях… Заколотилось сердце. Нет, этот под голландским флагом — «Луиза», порт приписки Роттердам.
Как хотелось Арсеньеву быть на мостике живого, движущегося судна! Он невольно вздохнул и спустился на палубу. У пластыря Арсеньев задержался. Ему показалось, что матросы плохо просмолили мягкую прокладку. Отрезав кусочек парусины, торчащий с края, Арсеньев долго мял в руках и нюхал её.
— Вот что, ребята, — нахмурив брови, сказал он, — этот пластырь оставим как есть, а для другого парусину в два слоя кладите. И смолить надо гуще. Понятно?
— Есть, товарищ старший лейтенант, в два слоя! — весело отозвались матросы. — Понятно. И смолить гуще!
Внимание Сергея Алексеевича привлёк чей-то хрипловатый голос, распевавший песню. «На буксире», — догадался он.
Приехала из Берлина
Коричневая форма
Измерила наши животы
И установила норму.
Измерила наши животы,
Продкарточки выписала
И назначила нам кормиться
На полтора гроша.
Вахтенный матрос «Шустрого» Миколас Кейрялис усердно надраивал медный колпак на главном компасе, сиявший маленьким солнцем.
Уже нельзя свиней резать, -
тянул матрос, -
Нужно идти к старшине
Разрешения просить
Придётся рябой уж каждый день
По два яичка класть,
А петушку, бедняге,
Цыплят выводить.
Арсеньев пошёл дальше, на самый нос корабля, где высился над палубой паровой брашпиль. Огромные цилиндры и поршни могли удивить всякого.
«Музейный экспонат, такие теперь не делают», — думал он, взбираясь по брашпильному трапу.
Пролетавшая чайка пронзительно что-то прокричала ему в самое ухо. Арсеньев успел разглядеть подвижную белую головку, хищный клюв и чёрные быстрые глаза птицы.
Возле брашпиля возился моторист, позванивая ключами о зубчатое колесо. Сергей Алексеевич вспомнил: Фитилёв распорядился приготовить брашпиль к работе с помощью сжатого воздуха.
С буксира «Шустрый» матросы дружно выгружали на корабельную палубу ящики с гвоздями, бочки, бухты пеньковых и стальных тросов, скобы, болты, компрессоры, электросварочные аппараты.
…Большой читальный зал с паркетом и окнами в медных переплётах был уставлен водолазным оборудованием. На стенах висели таблицы. Василий Фёдорович усердно наставлял молодых водолазов. Его лицо покраснело, наушники прилипли к коже. В одной руке Фитилёва микрофон, в другой — сигнальный конец.
В углу напротив стоял водолаз в полном облачении. Его рубаха, вздутая пузырём, стянута посередине верёвкой.
— Козолупенко, тебе говорят, опускайся на дно, понял? Дави головой на золотник, нажимай, говорю! — кричал Фитилёв в микрофон.
Воздух с шипением выходил из клапана; водолаз сразу «похудел», сморщился.
— Стоп! Теперь пошёл наверх!
Скафандр водолаза снова раздулся.
— Сигнал опять позабыл. Эх, Козолупенко, Козолупенко, горе с тобой!
Водолаз дёрнул за верёвку поздно, зато сильно. Фитилёв не удержался и, опрокинув стул, ринулся к нему.
— Тише, чертяка! Мичман! Отвинти Козолупенко иллюминатор. Пусть отдохнёт.
У другого водолаза Фитилёв попробовал, как привязаны калоши.
— Молодец, Линьков, — сказал он весело, — похвально!
Фитилёв прошёлся вдоль развешанной на крючках водолазной одежды, с пристрастием смотрел, как положены заплаты.
— Худо, худо! — ворчит он, ковыряя заплаты обломанным ногтем. — Чья рубаха? — У Фитилёва грозно зашевелились усы. — Твоя, Поморцев! Что?!
— Так точно, моя, товарищ капитан-лейтенант, — вытянулся матрос.
— Э-хе-хе, — кряхтит Фитилёв, — за такую работу…
— Вы заняты, товарищ начальник? — Медонис приоткрыл дверь. — Мне бы на одну минутку. Разрешите?
— Что там у вас? — Василий Фёдорович обернулся. — Одну минутку разрешаю. Что?
— Разрешите представиться, товарищ капитан лейтенант. Капитан буксира «Шустрый» Медонис. — Он щёлкнул каблуками. — Три дня как прибыл, но вас увидеть не мог: я на корабле, а вы на берегу хлопочете, я на берегу, а вы на корабль уехали. Так есть. Теперь будем вместе работать.
— Что? Новый капитан? А где Федор Терентьевич? Почему сменили? — зашевелил усами Фитилёв. — Я давно его знаю. И он наше дело знает. Умница! Что?
— Да, Лихачёв превосходный человек, — покорно согласился Медонис. — Поэтому его назначили капитаном на большое судно. Сейчас он на пути в Мексику. Выдвижение, так сказать, опытных кадров. А я с вами.
— Ежели так, что ж, я не против, — заметил Фитилёв недовольным тоном. — А жаль Федора Терентьевича! Ну, будем знакомы. — Он протянул руку.
— Медонис, Антон Адамович.
— Вы, что же, какой национальности будете? — прищурил глаз Фитилёв. — По-русски не совсем, я бы сказал, гладко говорите, и фамилия. Что?
— Я литовец, — с достоинством ответил Медонис. — Наша родина — маленькая страна, но мы любим её всем сердцем.
— Как же, как же, Антон Адамович, похвально. — Фитилёв наморщил крупными складками лоб. — Простите меня, голубчик: видите — подготовка кадров, — он кивнул на матросов. — Времечко будет, поговорим.
— Это я должен извиниться, — улыбаясь, возразил Медонис. — Оторвал вас от дела. Считал свой приятной обязанностью представиться, товарищ Фитилёв.
— Скажи-ка, Козолупенко, — Василий Фёдорович повернулся к Антону Адамовичу спиной, — ежели тебе воздуху не хватает, какой сигнал подашь, а?
«Невежа, — закрывая дверь, думал Медонис, — примитивный человек. Подожди, сволочь, постоишь у меня руки по швам!»
На палубе с правого борта нагишом лежали несколько матросов, загоравших после вахты. И они не понравились Антону Адамовичу.
«На этом судне развернётся соревнование, — стукнул он кулаком о планшир. — Они будут соревноваться со мной, не зная, кто вызвал их, не зная даже, что они соревнуются. Я человек-невидимка. На всякий случай надо поменьше попадаться корабельному начальству на глаза. Осторожность никогда не мешает! — Медонис скривил рот в усмешке. — Забавно, ничего не скажешь, и выгодно для меня».
Медонис не знал, с кем столкнёт его здесь судьба, но в превосходстве своём не сомневался.
«Сколько же мне предоставил времени господин случай? — раздумывал он. — Пока они только готовятся. Рассчитывают, подвозят снаряжение. Идут слухи о двух месяцах. Посмотрим. Собственно говоря, мои дела не так уж плохи. Надо отыскать подходящий компрессор для зарядки акваланга сжатым воздухом. Пожалуй, здесь опасно. Навлечёшь подозрения: то да се. Ну что ж, поеду в Кенигсберг… Тьфу, тьфу, в Калининград! Не дай бог так оговориться вслух!.. Интересно, как выглядит город? Неужели я не разыщу план расположения кают по палубам? Должен же он быть у водолазов. Моя палуба — самая нижняя, это я помню. Но если не будет плана, предстоит обыскать несколько десятков кают. Под силу ли это одному человеку? Нет, не под силу, — решил он. — Даже если есть акваланг, времени уйдёт много. С планом это просто. Опоздал я немного. Приехать бы мне на месяц раньше! Но я свободен в своих действиях — вот моё преимущество».
Затонувший корабль не казался Медонису таинственным и страшным, как несколько дней назад. Сейчас корабль ожил. Весёлые молодые моряки поселились в каютах «люкс». Ничего, что роскошные ванны не действовали, зато сюда, до верхней палубы, даже в шторм не попадала вода. Салоны и рестораны превратились в склады водолазного имущества, а на корме, там, где был раньше зимний сад, моряки поставили дизель-динамо.
По ночам вахтенные стали зажигать высоко, на грот-мачте, электрическую лампу. А в туманные дни Фитилёв распорядился предупреждать об опасности проходящие корабли частыми ударами в колокол. Но пока туманов не было. Светило яркое солнце, над головами сияло безоблачное небо. Когда дул ветер, волны били в борт и шумели, словно прибой в скалах. А чайки уже избегали садиться на оживший корабль.
Небольшой буксирчик капитана Медониса стал ежедневно приходить к «островитянам». Он привозил почту, пополнял продовольственные запасы, увозил и привозил людей отряда.
В напряжённом труде дни проходили незаметно. Вечером и ночью маяк на песчаной косе подмигивал морякам большим рубиновым глазом.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ СОХРАНЯЙТЕ ТРАДИЦИИ, ИБО МЁРТВЫХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИВЫХ
В самый разгар работ на затонувшем корабле Сергей Алексеевич получил телеграмму от Малыгина. Александр Александрович сообщал, что через несколько дней приезжает в Калининград на совещание, и просил Арсеньева встретить его на вокзале. Это было неожиданно и радостно.
Когда подошёл назначенный день, Арсеньев с утра поехал в город в тесном вагончике местного пассажирского поезда. В подарок другу он захватил медную пепельницу — парусник. Случилось так, что в соседнем вагоне ехал Антон Адамович с женой.
Антон Адамович прилип к окну; он волновался перед встречей с городом. Навстречу бежали гладкие асфальтированные дороги, деревья с белыми кольцами на стволах. Как и тогда, в те дни, по шоссе мчались машины. Сквозь перелески то справа, то слева просвечивали зеленевшие поля. Поезд пересекал луга, врывался в старые дубовые леса.
Промелькнула поляна; на ней загорелые парни играли в футбол.
Поезд останавливался на маленьких станциях и шёл дальше. Неожиданно перед глазами Антона Адамовича проплыл разрушенный, заросший травой дот…
По просёлку пылили на велосипедах две девушки в ярких кофточках. Иногда Антон Адамович отрывался от окна и обращался к Мильде с какими-то пустячками, шутил, смеялся…
В долине закраснели сотни островерхих черепичных крыш, потонувших в зеленом море. Антон Адамович замолчал. Ротенштейн, Марауненхоф. Домики маленькие, уютные. Поезд теперь мчался по городу. Мелькнули оранжереи ботанического сада. Тоннель под бывшей площадью Адольфа Гитлера…
Поезд идёт в глубокой выемке, пересекает улицы, стучит колёсами по мосту через старый Прегель. Два рыбных тральщика стоят у причала. Буксирчик, пыхтя, тянет по реке ярко-жёлтую баржу с огромными цифрами на рубке. Вдали виден элеватор. Здесь ещё много развалин. Город как бы раздвинулся, стал просторнее. Мелькнул склад железного лома. Во дворике железнодорожной сторожки две женщины красили железную кровать в голубой цвет. Громыхая и раскачиваясь, поезд подкатил к Южному вокзалу.
Медонис ни разу до этих пор не сделал попытки побывать в знакомом городе. Сначала его сдерживала необходимость получить пропуск, а потом мучил страх. Ему казалось: стоит появиться Эрнсту Фрикке на улицах Кенигсберга, и его сразу же кто-нибудь узнает. Даже сейчас он чувствовал себя неспокойно.
Арсеньев и супруги Медонисы, так и не встретившись, вышли из вагонов и очутились под стеклянной крышей перрона. Они разъехались в разные стороны на такси. Наконец-то Медонис снова увидел Кенигсберг! Он сказал жене, что хочет посмотреть на виллу, с которой у него связаны приятные воспоминания. Вилла стояла целой. В саду играли малыши, на деревьях созревали яблоки. Ворковали голуби, гудели пчелы, собирая урожай с цветущих лип. Ох эти липы! В этом месяце они стали жёлто-зелёными. Цветы, похожие на жёлтый пух, усыпали ветви. Мильда удивилась: «Ну что так долго рассматривать самый обыкновенный дом, да ещё когда счётчик такси без устали отбивает копейки!»
На длинной и прямой улице с отлично сохранившимися особняками и тенистыми каштановыми деревьями внимание Антона Адамовича привлекло заброшенное бомбоубежище. На большой прямоугольной насыпи, поросшей травой, торчали квадратные отдушники из цемента. На местах были стрелы, сходящиеся у цементного входа со следами старой опалубки. Медонис умилился и, оставив Мильду в машине, проник в чёрный провал. В бомбоубежище Медонис пробыл считанные секунды, а потом долго со смущённым видом вытирал ноги о зеленую траву.
Очутившись на Парадной площади, Антон Адамович подвёл Мильду к бетонированной щели бункера коменданта Кенигсбергской крепости. Здесь подписал капитуляцию генерал Отто Ляш. Мильде хотелось посмотреть, как выглядит его последняя квартира, но Медонис не решился спуститься в бункер, зато он показал Мильде могилу великого философа Эммануила Канта, приютившуюся у разрушенного кафедрального собора.
Изрядно поколесив по городу, Антон Адамович вернулся к королевскому замку.
«Ну что ж, — подытожил он свои наблюдения, — прямо надо сказать, обозреватели из Западной Германии здорово привирают».
— Город как город, — бормотал он вслух. — Если и остались разрушения, то они естественны. Новые красивые дома. Много восстановлено старых. Много строится. Просто, порядок! Зелени больше, чем раньше. По существу, скопление развалин только в старом городе. Удивительное дело! Кенигсберг среди городов России — десятая спица в колеснице. Но вот смотри, Мильда, все же было разбито вдребезги, а теперь? А это не пропаганда — настоящие дома, школы, больницы. Словом, воскресший город. Тут, видно, много рук трудилось.
Дикие рощицы, самовольно возникшие на пустырях, ещё больше красили город.
Медониса гитлеровский режим научил быть двуличным. Игра ему удавалась.
У Мильды искренность мужа не вызывала сомнений. А в нем дружно уживались как бы два человека: один говорил, другой размышлял.
— Ну, а это антиквариат, — указал он на остатки крепостных стен, поросших живой, зеленой бахромой. — Скоро от крепости останется груда камней. Вот тебе, Мильдуте, главный бриллиант в прусской короне! Когда я видел эту крепость в последний раз, старушка ещё держалась. Отсюда немецкие рыцари покоряли пруссов и литовцев, моя Мильдуте. Наш бедный, маленький народ храбро оборонялся. Но что он мог сделать против могучей силы немцев! Теперь проклятая твердыня разрушена… — декламировал с наигранной радостью Антон Адамович. — А там был университет, — повернулся он вправо, — осталась одна коробка. Напротив университета — бункер генерала фон Ляша.
Антон Адамович окинул взором сглаженные временем, густо поросшие травой и кустарником холмы из кирпича и щебня. Они занимали целый квартал. Здесь был центр Кенигсберга.
Мысли Медониса вертелись возле одного: найдёт ли он спрятанные дядей сокровища, если даже план будет в его руках? Действительно, сложностей предстоит немало. Многие развалины разобраны, и на их месте теперь новые дома или скверики. Черт возьми, придётся поработать! Но дело стоящее. Дядя — старый педант. Если он начертил план, то, наверно, при любых перестройках можно найти приметы.
"Интересно, — вдруг задал он себе вопрос, — найду ли я в этих развалинах остатки ресторана «Кровавый суд»?
— Мильдуте, постой здесь, дорогая. — И Антон Адамович исчез за изглоданным куском кирпичной стены.
«Есть, нашёл!» — обрадовался он, отыскав среди кирпичей вход в подвалы.
Но забраться туда Антон Адамович побоялся.
«Ещё увидит кто-нибудь, — думал он, — донесёт, могут быть неприятные разговоры. Да и на самом деле, чем можно объяснить повышенный интерес к старым развалинам? Во всяком случае, гестапо не упустило бы случая поближе познакомиться с таким исследователем».
Антон Адамович не хотел навлекать на себя подозрений. Именно поэтому, отправляясь в Калининград, он взял с собой Мильду. За последнее время она стала ему изрядно надоедать. Он часто бывал с ней груб. Но Мильда, казалось, ничего не замечала. Её нежная, раздражающая кротость порой вызывала в нем злобу.
«Но вот интересно, — прикидывал он, — здесь был ещё один вход. Каменная узкая лестница в подвалы. Несколько шагов отсюда. Но сколько? В какую сторону?»
Пристально вглядываясь, он принялся вышагивать во дворе замка среди зарослей сорняков. Целые горы кирпичей. Антон Адамович остановился и, механически отшвыривая ногой щебёнку, размышлял: «Где могут быть входы? Где спрятаны сокровища? А может быть, их здесь вообще нет?» От этой мысли его бросало в жар и в холод. «Дядя в ту ночь, — мучительно вспоминал он, — перед отъездом, был в извёстке, пыли, паутине. Несомненно, он прятал свои драгоценности в подземелье. Да, конечно, они здесь! И я их найду, хотя бы пришлось все перебрать по кирпичику».
Медонис долго прохаживался взад и вперёд по двору крепости, что-то бормоча себе под нос. Он то останавливался, шевеля губами, то стремительно бросался к какому-нибудь обломку.
Наконец он вернулся к заждавшейся его Мильде, взял её под руку и обошёл вокруг разрушенного замка. Западное крыло, там, где помещалась церковь Святой троицы, сохранилось лучше. Все остальное — руины. На крепостных башнях по самому верху выросли ярко-зеленые берёзки, а на одной из башен темнела маленькая сосна.
Антон Адамович то и дело прищёлкивал языком и с самым глубокомысленным видом качал головой. Но если кто-нибудь подумал, что он сожалеет о старом королевском замке, тот ошибся бы. Медонис не придавал ровно никакого значения подобным вещам. Глупости, все это для тех, кто всерьёз принимает громкие лозунги: Отечество, Родина… Он космополит, сверхнационалист. Деньги, те, что открывают двери в любой стране, твёрдая валюта — вот чему поклоняется Антон Адамович! «Мало ли у нас осталось каменной дребедени, — думал он, — накладные расходы для государства. Только слюнтяи могут умиляться, глядя на эти развалины».
В общем он пришёл к выводу: если сокровища спрятаны в замковых подземельях, искать их — дело не безнадёжное. Но надо торопиться. Время может стереть и оставшиеся приметы.
Он закурил, настроение стало лучше. По какому-то движению мысли Антон Адамович опять вспомнил дядю: «Вот кто сходил с ума от всех этих древностей! Последние свои годы он и дня не мог прожить без старого замка. Для него все здесь сохраняло какое-то особенное значение. Что сказал бы он, увидев эти камни! Да, вот она, жизнь человеческая! Не так давно дядя ходил здесь, о чем-то беспокоился, мечтал. Чудак!»
Размышления Медониса прервали ребячьи голоса. Из развалин вылезли двое подростков, засыпанных с ног до головы кирпичной пылью и извёсткой. Один держал в руках верёвку и лом, другой нёс лопату.
Это озадачило и насторожило Антона Адамовича. Здесь производятся раскопки? Проклятье!
— Кто вас послал сюда, молодые люди? — осторожно спросил он.
— Нас? Нас никто не посылал, мы сами.
Мальчики с опаской поглядели на незнакомца.
«Учитель, — решили они, — а может, директор школы. Теперь жди лекцию об опасностях, подстерегающих нас в развалинах».
— Что же вы здесь делаете? — уже смелее допрашивал Антон Адамович.
— Ищем янтарную комнату, — с вызовом ответил мальчик с верёвкой и ломом в руках.
— Зачем?.. Разве её не нашли ещё?
— Да вы откуда взялись? — с иронией осведомился паренёк с лопатой. — В городе все знают: целая комиссия ищет. Про янтарную комнату в газете даже писали.
— А больше ничего не ищут? — всполошился Медонис. — Может быть, нашли что-нибудь? Сокровища какие-нибудь, драгоценности? А вы из комиссии?
Подростки переглянулись.
— Мы-то нашли, — сказал школьник с ломом и верёвкой, — посмотрите. — Он вынул из-за пазухи обломок мраморной руки. — И ещё, — он пошарил в карманах, потёр что-то о штаны, и на его ладони Антон Адамович увидел монетку. — Старинная! А Юрка Семечкин из восьмого "Б" голову святого отрыл. Мать отобрала. Теперь голова на буфете стоит… А только мы не из комиссии. Те сами по себе. Разве они ищут? Они книгу пишут. Пойдём, Алёха, — обернулся он к товарищу.
Мальчики отправились в сторону, где виднелись остатки главных замковых ворот.
— Ребята! — крикнул им вдогонку Медонис. — А кроме вас, ещё кто-нибудь тут копает?
— Есть некоторые, — не оборачиваясь, ответил мальчик с лопатой. — И сейчас один старикан ковыряется. Он тоже сам по себе. А ещё пацаны в войну здесь играют.
Антон Адамович с раздражением выплюнул сигарету. Ясно! Надо торопиться: каждый потерянный день уменьшает шансы.
— Пойдём, Мильда. Нам надо устроиться в отеле. Возьмём хороший номер с ванной, — объявил он, поддерживая жену и осторожно ступая по острым обломкам, — отдохнём. Отсюда совсем недалеко есть превосходный «Парк-отель». Вот он! — Медонис показал на высокое, шестиэтажное здание. — Хороший ресторан, кафе. Кухня «Парк-отеля» славилась не только в Пруссии. Отелю повезло: он сохранился.
Супруги шли по берегу королевского пруда, среди развалин, по старинной улице без домов. Антон Адамович продолжал болтать, расхваливая достоинства отеля. Но по мере приближения к отелю энтузиазм Медониса стал утихать. Что-то непохоже на отель! У подъезда мусор, железный лом. Двери обшарпаны, окна не мыты. Ну, конечно, как могло быть иначе? «В здании „Парк-отеля“, — сказали ему, — общежитие строительных рабочих». И управдом явно не на высоте.
— Ничего, Мильдуте, в городе есть несколько других отелей. Мне хвалили «Москву». Поедем туда. Только сначала посмотрим на озеро и форт Дердона — нам по пути.
— Это достопримечательность? — спросила Мильда и с удовольствием согласилась.
Она очень любила осматривать достопримечательности. Когда Мильда была с мужем в Вильнюсе, она замучила его, показывая всякие древности.
Дорога вела прямо к озеру. Что это была за улица, Медонис так и не смог догадаться. Хинтертрагхейм, пожалуй. Действительно, понять было трудно. Здесь не сохранилось ни одного дома. «Черт возьми, — недоумевал Антон Адамович, — почему русским понадобилось оставить эти места в неприкосновенности? Прямо заповедник какой-то! Вокруг заново построили город, а здесь могильники. Может быть, действительно создан заповедник? Наглядное пособие по итогам войны, так сказать. Все может быть. Русские всегда были оригинальны».
Дорога шла среди холмов. Высокие травы, густые кустарники, яркие цветы скрывали от глаз дело рук человеческих. Жаркие дни после дождей всколыхнули природу, наступила пора буйного цветения. В кустах пели птицы. Мильда принялась рвать цветы. Медонис стоял на дороге и с удивлением рассматривал синие васильки, неизвестно как заронившие семена в развалины.
— Зимой это выглядит иначе, представляю, — хмуро сказал он.
— Сколько цветов! Что здесь было, Антанелис? — спросила Мильда, возвращаясь с огромным букетом.
— Центр города, — мрачно ответил Медонис.
— И это сделали русские?
— К сожалению, англичане, — помедлил Антон Адамович.
Двойная жизнь давила Антона Адамовича. Ему казалось: поделиться с кем-нибудь — и сразу станет легче Он хотел было поговорить с Мильдой по душам, немного пооткровенничать, но тут же остановил себя.
«Осторожнее, никогда не доверяй женщине, особенно той, с которой близок. Все несчастья и провалы происходят от женщин», — вспомнил он слова инструктора из разведшколы. — Да и великий Ницше относился к ним не очень-то почтительно: «Идя к женщине, не забудь захватить плеть».
Не отпуская руки жены, он подошёл к приземистой круглой башне из красного кирпича, напоминавшей шахматную ладью. Форт выходил на Врангельштрассе, теперь Кавалерийскую улицу, как прочитал Медонис на табличке.
Деревья окружали крепость густым зелёным кольцом. Живые струйки дикого винограда растекались по стенам. Бурливая речушка вливалась из озера в крепостной ров.
«А что там?» Медонису захотелось посмотреть форт с тыловой стороны. Раньше туда не пускала охрана. Он потянул Мильду к горбатому мостику. Форт был окружён рвом. Другой мост, побольше, вёл к воротам крепости Их тяжёлые створы с глазками были настежь распахнуты. Они перешли и этот мост, очутились во дворике. Ещё одни железные ворота. Над ними распростёр крылья ржавый орёл. Крепостные стены пронизаны сотнями бойниц.
Одна из стен особенно выщерблена пулями и осколками мин. На другой сохранились едва различимые надписи по-немецки. «Мы никогда не сдадимся», «Могущество народа — в мудрости его вождя», — разобрал Медонис давно забытые слова. Все вокруг заросло яркой зеленью, и разрушения в крепостных стенах были почти незаметны.
В воздухе стало свежее. Деревья зашелестели, по их ветвям прошёл ветерок, от моря потянулись тучи. Они тяжело, медленно плыли на город, закрывая небо. Ветер, бесшабашный морской разбойник, быстро набрал силу; он шумно сгибал вершины лип и каштанов. Тёмное, набухшее тучами небо внезапно сделалось враждебным.
Но Медонису не хотелось прерывать осмотра. Они вернулись на Кавалерийскую улицу. Около главных ворот крепости стояло несколько машин защитного цвета.
— Могу я увидеть начальника? — спросил Антон Адамович, подойдя к группе беседующих у ворот мужчин. Он долго не решался заговорить, но любопытство, наконец, взяло верх.
— Пожалуйста, я директор. Что вам угодно?
— Что здесь такое сейчас? — Антон Адамович с недоверием посмотрел на потрёпанный гражданский пиджак директора.
— Продовольственный склад.
— Да? — удивился Медонис. — И только?
— Отвоевалась крепость. Теперь здесь лук, картошка и сгущённое молоко.
— И можно посмотреть казематы?
— Кто вы такой? — поинтересовался директор, разглядывая Медониса.
Вспыхнула молния, пронизав небо пучком извилистых толстых и тонких нитей. Гром разорвал тишину. Заклубилась во дворе пыль. Ветер срывал листья. Они летели, кувыркаясь в воздухе. Крупные капли зашумели в зелёных ветвях, застучали по крышам, по древним камням крепостного двора.
— Мы с женой литовцы, — сказал Антон Адамович, глядя, как раскачиваются огромные деревья. — Приехали в Калининград к вам в гости. Мне здесь тоже пришлось повоевать с фрицами. Хотелось бы посмотреть, что внутри.
— Пожалуйста, — пожал плечами директор, — пойдёмте.
У входа в подземные казематы в стене виднелась гранитная доска с надписью. Антон Адамович остановился и прочитал:
«На башне этого форта 10 апреля 1945 года советские войска водрузили знамя Победы над Кенигсбергом, завершив разгром фашистского гарнизона».
— Я тоже один из тех, кто сражался в Кенигсберге, — заметил директор. — Ну и дождь, до нитки в минуту вымочит! — Было слышно, как тяжёлые капли шлёпали по лужам.
Спустившись в подземелье по винтовой лестнице с каменными ступенями, Антон Адамович потянул носом и сразу почувствовал, что здесь хранится картошка. Это были последние запасы прошлого года. На рынке давно появилась молодая, а из этих чёрных и сморщенных клубней в разные стороны торчали щупальцами бледные ростки. Подземелье содержалось чисто, сводчатый потолок и низкие стены были побелены извёсткой. Они обошли подвалы, и Антон Адамович убедился, что войной здесь и не пахнет. Странно, но его это как-то задело: в крепости — и вдруг картошка! Он был разочарован и обижен.
Во дворе у других дверей Медонис увидел ещё одну короткую надпись, высеченную на мраморной доске:
«Здание состоит на государственном учёте и охраняется законом».
Ниже чёрной краской от руки добавлено: «Э 331».
Как хорошо стало на крепостном дворе! Дождь кончился, ярко светило солнце. Небо улыбалось голубыми просветами. Ветер гнал куда-то на восток последние тучки, сбросившие дождевой груз. Посветлели умытые деревья, и трава стала ярче и зеленей.
— Наша погодка, калининградская, — усмешливо сказал директор: — Третий раз сегодня дождь… и солнышко.
Антон Адамович долго тряс ему руку, рассыпаясь в благодарностях. Но думал про себя: «Ты ещё постоишь у меня навытяжку, сволочь! Вспомнишь, что был директором крепости».
Прямо от красной крепостной стены начинался низкий каменный заборчик, очень широкий и массивный. Он тянулся по берегу озера. Налево виднелся небольшой мыс, красиво обрамлённый каменной загородкой. Несколько любителей-рыболовов неподвижно сидели и стояли по берегу с длинными удочками. Вокруг озера сквозь деревья проглядывали весёлые домики. По воде скользили две лодки.
— Антанелис, как замечательно пахнут липы! — шепнула Мильда. — Как-то особенно сильно пахнут, слышишь, милый!
С листьев ещё падали последние дождевые капли, жёлтая осыпь лилового цвета покрывала дорожку.
— После дождя они всегда пахнут сильнее, — буркнул Медонис
Трамвай четвёртый номер вёз их к гостинице «Москва».
На повороте у здания Балтрыбтреста трамвай свирепо заскрежетал. Мильда закрыла уши.
— Штрафовать надо за нарушение покоя и порядка в городе! — возмутился Антон Адамович.
Но вот театр произвёл на него большое впечатление. Он был ещё в лесах. Какие мощные колонны! Супруги вышли на остановке у памятника Шиллеру и со всех сторон осмотрели превосходное новенькое здание.
В вестибюле гостиницы "Москва у окошка дежурного администратора, не заметив сакраментальной надписи: «Свободных мест нет», Медонис достал из кармана паспорт.
— Мне комнату на двоих, — сказал он. — Если есть — с ванной.
Стоявшие и сидевшие в вестибюле переглянулись.
— Что вы, товарищ! В городе открывается совещание работников рыбной промышленности. Все номера заняты. Нам даже пришлось временно выселить некоторых граждан. — Дежурная показала на людей, со скорбными лицами сидевших в креслах. — К вечеру мы поставим дополнительные койки. Может быть, тогда, — бодро закончила она. — Вам ясно, товарищ?
— Нет, неясно. Я труженик моря, это моя жена. Нам нет места. И в то же время в превосходном «Парк-отеле» — общежитие. Это бесхозяйственность!
Дежурная строго взглянула на надоедливых клиентов. Звякнул телефон.
— Свободных мест нет, — сказала она и положила трубку.
Антон Адамович ещё раз окинул взглядом скопившуюся в вестибюле публику с чемоданами и вспомнил про акваланг. Баллоны он тоже носил в чемодане. «Надо найти компрессор и зарядить, без этого не доберёшься до дядюшкиных планов в проклятой каюте!» Мысли Медониса снова вернулись к затонувшему кораблю.
— Пойдём пока смотреть город, — сердито предложил он Мильде.
Внешне он был спокоен, но в нем клокотало бешенство.
С кресла в углу вестибюля поднялась плотная фигура и двинулась к выходу. Антон Адамович с Мильдой перешли улицу и остановились у окна книжной лавки. Карл Дучке мигом очутился рядом. Как всегда, он был с сигарой во рту. Шляпа сдвинута набекрень. Антон Адамович почувствовал лёгкое прикосновение и спросил с деланной улыбкой:
— Лаукайтис, это вы?
— Да, это я… Дорогая пани, — сказал Дучке, глядя на Мильду, — я на минуту похищу у вас мужа. Не возражаете?
В ответ Мильда улыбнулась.
— Иди в зоопарк, — прошептал Дучке, оглядываясь. — У клетки зубра встретимся. Немедленно, сейчас. Жену оставь здесь, — он показал на кафе-мороженое, приютившееся рядом с книжной лавкой.
…Клетку зубра Медонис искал недолго. Дучке-Лаукайтис стоял, облокотившись на ограду, и, казалось, внимательно рассматривал огромного серого быка. Вокруг — ни души.
— Куда ты запропастился? Я ищу тебя со вчерашнего дня, — злым голосом спросил Дучке, перекатывая во рту сигарету. — Шеф передал приказ.
— Приказ?!
— Тебя удивляет? На днях в порт приходят военные корабли. Они простоят считанные часы. Нас интересует одна деталь…
Бык, вытаращив выпуклые глаза, приблизился к ограде. Он спокойно что-то жевал. Дучке понизил голос.
— Особенно нас интересуют приспособления на палубе. Здесь все записано. — Он сунул смятую бумажку в карман Медониса. — Гляди, он смотрит на нас, — показал Дучке на зубра. — Твой буксир может в любое время зайти в порт, ведь так?
— Так, — подтвердил Медонис. — Но у меня на руках важное дело. Скоро начнётся откачка корабля. Буксир может понадобиться каждую минуту. Без разрешения начальства я никуда… Будут неприятности, навлеку подозрение. Если бы знать точно день, тогда можно устроить.
Слова Медониса убедили Дучке.
— Ладно, — согласился он, барабаня толстыми пальцами по железной балке ограды, — я приду ещё раз. Скажи твой адрес.
— Ищи меня на буксире «Шустрый», — предложил Медонис. Адрес он предпочёл не сообщать.
— Хорошо, найду. — Дучке выпустил облако дыма. — Но будь готов, я могу появиться в любую минуту, — добавил он и нехорошо усмехнулся. — Чуть не забыл! — спохватился Дучке. — Шеф велел спросить у тебя о ценностях, спрятанных в Кенигсберге. Нам стало известно…
— Что вам стало известно? — отрезал Медонис. — Ценности? Если бы я знал о них!.. — В нем закипала ярость: «Мне могут помешать. Кто-то протягивает лапу к моей собственности. — Он сжал кулаки. — Ну нет, от меня вы ничего не узнаете!»
— Ей-богу, этот бык подслушивает! — сказал Дучке, отходя от клетки. — Цум Тейфель, проклятый бык!
* * *
На втором этаже гостиницы, в одном из номеров с окном, выходящим прямо на ворота зоопарка, Арсеньев пил крепкий чай вместе со старыми друзьями. Кроме Сергея Алексеевича, в гостях у Малыгина был капитан Тимофей Иванович Федотов. Когда-то все трое вместе учились и работали на севере.
Стол украшали кусок нежной розовой студеноморской сёмги (любимая рыба Арсеньева, Малыгин не забыл), лимон, разрезанный на кружочки, и бутылка старого коньяка.
— Подсебякину здорово попало! — посасывая лимон и морщась, говорил Александр Александрович, — команда за тебя. Он бы и рад отступиться, да поздно. Я помню, отец рассказывал про охотника, который медведя за уши поймал. Руки устали, а медведя ни к себе оборотить, ни выпустить. Так и здесь. Котов до секретаря обкома дошёл, все начистоту выложил. И парторг поддержал, боцман-то твой. Секретарь обкома крупно говорил с начальником пароходства. — Малыгин лукаво поглядывал на Арсеньева. — Я, Серёга, не пророк, но могу сказать: пересмотрят твоё дело, по-другому все повернётся. В общем наша взяла, хоть и рыло в крови! — пошутил он. — А помнишь, какие ты мне письма писал? Забыл совсем, Серёга: неприятное дело. — Малыгин озабоченно посмотрел на друга. — Слышал, будто та, научный сотрудник Ольга Туманова, на твоём материале кандидатскую диссертацию написала…
— Так ведь она студеноморских льдов не видела! Что за нескладица! И со мной в самом главном не согласна была, — удивился Арсеньев. У него сразу заныло сердце.
— Не видела? Не понимала? А капитанам советы даёт, как во льдах плавать. Говорят, она баба хитрая. Узнала, что твои дела пошатнулись, вот и решила из чужой сети рыбку поймать.
На Арсеньева эта неожиданная весть подействовала, словно удар электрическим током. Кто-то взял да и воспользовался твоим трудом. Да как же так?!
— Очнись, Серёга, — тронул его за руку Малыгин. — Найдём на неё управу, друг. А пока мы зимой на зверобойку сплаваем. Это уж как пить дать. Подымешь свой «Меркурий» — и задерживаться здесь нечего. В чужом приходе худо пономарить. За подарок большое спасибо, — осматривая пепельницу-парусник, сказал он. — «Плавать — обязательно, жить — не обязательно». Мастер-то философом был… Погоди, погоди, и подпись есть: «В. Кюнстер!» Да ведь это тот немец, знакомый мой. Тимоша, — обернулся он к Федотову, — послушай-ка. Ехал я вчера с вокзала, развалины в глаза бросились. И ещё на пригорке крепость-развалюху видел, около неё трамвай поворачивает. Неужто королевский замок? Вместе с Серёгой ехал. Я спросил, да он не знает, сам здесь недавно.
— Он самый, — ответил Федотов. — Главная крепость тевтонских рыцарей в Пруссии. Тринадцатый век. Скоро совсем разрушится. Туда ей и дорога!
— А мне жалко, — сказал Арсеньев. — Замок немецкий народ строил. Это история. Сберечь бы! И кафедральный собор…
— Что замок, — возразил Федотов, — книг много сгорело!..
— Об этом и говорить больно, — сразу отозвался Сергей Алексеевич.
— Город у вас красавец! Кабы я жил не в Архангельске, к вам бы перебрался, — сказал Малыгин, ещё держа в руках пепельницу. — Но, как известно, Архангельск всем городам город! Вот зелени у нас маловато. А Калининград, как в лесу, только одно место, будто плешь, просвечивает. Дай-ка, Серёга, папиросу. Видать, не в почёте у вас старый центр.
Все трое помолчали, попыхивая огоньками в незаметно вошедшей в комнату темноте.
— Это пустяк, — нарушил тишину Федотов. — Два-три года, и закроем лысину. Ещё похорошеет Калининград. Сделано-то уже не в пример больше. Сам подсчитай. Если сложить в длину калининградские улицы, выйдет восемьсот километров. Улиц, заметь, а не развалин. Вспомнишь сейчас, сколько субботников да воскресников… Школьники цветы сажали, соревновались, чья клумба красивее. Кенигсберг, мрачный оплот пруссачества, место, где сам воздух, казалось, был пропитан духом милитаризма, превратился в обычный наш город с добрыми советскими традициями!
— За процветание Калининграда, — поднял рюмку Малыгин, — и за калининградцев!
И опять замолкли друзья. Каждый думал о своём.
Из ресторана, расположенного этажом ниже, послышались гулкие удары барабана, завывание труб и пронзительный голос певицы.
— Оглохнуть можно, — сердито сказал Малыгин.
Песня кончилась, но тишина длилась недолго. Из зоопарка донёсся печальный львиный рёв. Отчаянно заскрипел трамвай. Внизу опять заработал барабан.
— Выпьем за дружбу, товарищи! — неожиданно громко сказал Малыгин. — За морскую дружбу, где нет ни обмана, ни подлости.
В комнате стеной стоял дым. Два раза Малыгин выносил пепельницу с окурками. В репродукторе соседнего номера кремлёвские куранты пробили полночь.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ «ЖЕНЩИНА МНЕ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА»
Жаркий солнечный день. Таких даже в июле не много на Балтике. Штиль. Море гладкое и блестит, словно покрытое целлофаном.
В каюте командира судоподъёмной группы стекла в прямоугольных иллюминаторах опущены, дверь распахнута настежь. И все-таки парит. Вода не умеряет зноя.
В открытые иллюминаторы вместе с тоскливыми вскриками чаек врывались весёлые человеческие голоса, постукивание топоров и бойкое стрекотание компрессора. Каюта пропахла застоявшимся табачным дымом, резиной и столярным клеем.
Хозяин каюты Фитилёв сидел за письменным столом в полосатой тельняшке с наспех отрезанными рукавами и внимательно перечитывал страницы в объёмистой папке. Синий, видавший виды парусиновый китель с блеклыми орденскими колодками висел справа от него на большом гвозде. На табуретке пристроился старший лейтенант Арсеньев. Несмотря на жаркий день, он в чёрной парадной форме, новую фуражку с ослепительно белым верхом держал в руке.
Василий Фёдорович занимал на затонувшем корабле обширные капитанские апартаменты — кабинет и спальню. Когда-то это были отменные каюты, отделанные ореховым деревом, с удобной, красивой мебелью. Сейчас от прежнего великолепия осталось немного: письменный стол, кресло, маленький круглый столик в углу, а в спальне остов широченной кровати. Капитанская каюта растеряла все свои удобства. С водворением Фитилёва она обогатилась другим содержанием — правда, несколько необычным, но зато вполне отвечающим вкусам нового владельца: самое ценное и дефицитное из водолазного скарба нашло там своё место. Кроме того, в каюту перекочевало немало слесарного инструмента. Капитан-лейтенант питал давнюю слабость к молоточкам, свёрлам, плоскогубцам и всякого рода ключам. Вместе с гайками, клапанами, резиновым клеем и новым скафандром он хранил у себя ворох первосортной обтирки и стеклянную посуду с какими-то особо ценными маслами. Тут же находились небольшая чугунная печка и несколько грубых табуреток. В холодные, серые дни, когда на море буйствовал пронизывающий ветер, Фитилёв топил чугунку, кипятил воду и, обжигаясь, пил крепкий чай.
Посапывая трубкой-носогрейкой, Василий Фёдорович перелистал ещё несколько страничек.
— Изрядно, голубок, доклад хороший, — одобрил он, поставив на последнем листке свою подпись и закрывая папку. — Снабженцам передай, пусть присылают весь бензин, весь до последней бочки, — в четверг начнём генеральную откачку. Не забудь про резервные мотопомпы. Скажи, капитан второго ранга Яковлев обещал.
— Есть, не забуду, — отозвался Арсеньев. — А ты мне объясни, Василий Фёдорович, — спросил он чуть погодя, — лодью построить много ли времени нужно?
— Лодью? Какую лодью? — не сразу понял командир.
— Поморскую, деревянную.
Фитилёв сдвинул очки на лоб, с удивлением посмотрел на зятя, помолчал, потом улыбнулся.
— За три месяца можно вчетвером отгрохать всем на удивление!
— А ты, Василий Фёдорович, сумел бы?
Фитилёв пригладил сначала правый ус, потом левый.
— Гм… Что в молодые годы учено, того не забудешь. Ладно, после об этом, а сейчас бензин да мотопомпы. Закончишь дела в отряде, загляни домой. Расскажешь моей старухе, что и как. Обратно не торопись. Билеты в театр или кино достанешь — иди. Пусть Наталья посмотрит, развеется. Переночуешь, ежели что, дома. Одним словом, не торопись.
— Какой же театр, Василий Фёдорович? Наталье в родильный пора.
Арсеньев встал и надел фуражку.
— Делай как знаешь, — отозвался Фитилёв. — Иди, голубок, желаю успеха! Сколько раз под воду спускался? — неожиданно спросил он.
— Много, — ответил Арсеньев.
— Да, прошло времечко, когда я тебя, салагу, учил, — весело взглянул на зятя Фитилёв.
* * *
— Разрешите отходить, товарищ старший лейтенант? — встретил Арсеньева капитан буксира.
— Отходите.
— Отдать концы! Эй, Попов, шевелись! Боцман, возьми багор! — командовал Антон Адамович. — Прямо руль!
Медонис приобрёл удалый вид старого морского волка — фуражка лихо заломлена, на шее болтается бинокль.
— Как руль? — кричит Медонис.
Он высунулся по пояс в окно, наблюдая за медленно отдаляющимся корпусом затонувшего корабля.
— Руль прямо! — донеслось из ходовой рубки.
— Лево руль!
— Есть лево руль. — Матрос торопливо перебирал рукоятки штурвала.
Старпом Ветошкин нажал кнопку тифона: раздались два коротких гудка.
Антон Адамович двинул до отказа ручку телеграфа.
Арсеньев почувствовал содрогание корпуса, глухие удары винта и машинально посмотрел за борт: не болтается ли какая-нибудь дрянь? Привычка. Буксир быстро набирал ход, разгоняя невысокие волны по спокойному морю.
— Голубок! — раздался хрипловатый голос с мостика лайнера. — Сергей Алексеевич! — Над планширом возникла отливающая коричневыми тонами лысина Фитилёва.
Медонис с едва заметным поклоном сунул в руки Арсеньева медный, горевший на солнце рупор.
— План на картонке, что свечкой закапан, у начальства не забудь! — приставив ко рту ладони трубочкой, кричал Фитилёв. — Он с пометками, я там помпы расставил. Что? Понял? С моими пометками. Другой экземпляр отдай, если спросят. Слышишь?
— Есть, — отозвался в рупор Арсеньев.
С буксира был виден весь корабль. Если не присматриваться, затонувший гигант мог сойти за тяжело гружённое судно, чуть накренившееся на правый борт. Выглядело оно весьма величественно. Высокие мачты, две огромные трубы. Над верхней палубой высились этажи пассажирских надстроек. Снаружи надстройки, окрашенные когда-то белой краской, были густо пересыпаны оспинами ржавчины.
Коричневая лысина над планширом верхнего мостика исчезла.
Буксир, оставляя за собой пенный полукруг, развернулся и взял курс на узкую щель входных ворот порта. Небольшой кораблик с птичьего полёта казался бы насекомым с усами-волнами, расходящимися в стороны.
Антон Адамович раздумывал, искоса поглядывая на Арсеньева. Он даже не предполагает, этот Арсеньев, какие богатства скрыты в груде железного лома! Каюта Э 222… А ведь план у него в портфеле! Господин случай подарил разжалованному капитану миллионное дядюшкино наследство. Но он его не получит: законный наследник близко!
Антон Адамович ухмыльнулся и стал вспоминать, по какому случаю попал в немилость капитан Арсеньев: многое он слышал от Подсебякина, они недавно познакомились в ресторане «Нерунга».
Медонис воспринял все несколько своеобразно. «Капитан теплохода „Воронеж“, — думал он, — откусил от чужого пирога». Слишком пристрастными показались ему суждения Подсебякина. «Пострадал из-за бабы, ха-ха!» (Антон Адамович даже посочувствовал.) Мамашкина ему не понравилась: он не любил слишком высоких. Сложена неплохо, но тяжеловата. «Черт возьми, из-за рюмки коньяка лишился капитанства и очутился на затонувшем корабле! Ха-ха, капитан затонувшего корабля! Заботливый тесть пригрел под своим крылышком: наверное, больше нигде не берут».
«А выпить, видно, капитан Арсеньев не дурак…» И тут Антона Адамовича осенило. Он опять стал внимательно разглядывать Арсеньева.
Зелёный обрывистый берег, густо поросший деревьями и кустарником, быстро приближался.
Арсеньев оказался несловоохотливым и всю дорогу промолчал, уставившись на спокойную, без единой морщины поверхность моря. Он с удивлением посмотрел на Медониса, когда буксир пересёк линию створа и пошёл прямо на отмель к черно-белому бую. Отражение поплавка-великана заплясало под бортом, но Медонис спохватился и вышел на фарватер.
В порту Антон Адамович, увлечённый своими мыслями, едва не напоролся на швартовную бочку. Но и здесь как-то обошлось благополучно. Торопливо приткнувшись к стенке, он не стал дожидаться, пока матросы положат сходни на берег.
— Товарищ Ветошкин, — спрыгнув на причал, приказал он старшему помощнику, — ты останешься на вахте. Меня срочно вызывает начальство.
Антон Адамович долго стучал в дверь своего домика. Наконец она приоткрылась, выглянуло сонное личико Мильды.
— Все спишь! Смотри: располнеешь, — обнимая жену, пошутил Антон Адамович. — Скоро одиннадцать. Я тороплюсь…
— Я всю ночь не спала, — пожаловалась Мильда, оправляя халатик. — Читала новую книгу и плакала. Посмотри эту страницу, Антанелис, и ты сам…
— Не читал, но говорят, неслыханная дрянь, — перебил Медонис. — Я читаю книги, где автор признает твой ум, а поучений не терплю. Но довольно об этом. Настал решающий момент, Мильда. Ты должна показать, на что способна умная женщина, если она любит. Приведи себя в порядок. Познакомишься с одним русским офицером и пригласишь его домой.
Антон Адамович был возбуждён, что с ним редко случалось.
— Пригласить незнакомого офицера? — удивилась Мильда. — Для чего, Антанелис?!
— Мне надо поговорить с ним в домашней обстановке. Разопьём бутылочку, понимаешь? У него план затонувшего корабля, а там разрисована каждая каюта. В одной из кают — целый чемодан драгоценностей. Не беспокойся, только спортивный интерес, — пояснил он, заметив на лице жены растерянность. — Ведь мы собирались преподнести подарок нашему правительству. Просто я не хочу остаться в дураках. Как католик, я…
— Ну и приглашай его сам. — Мильда даже немного отодвинулась от мужа. Что-то в нем сегодня было чужое и пугающее.
— Мне некогда. Ты литовка, Мильда, и должна помочь. Почему нас должны обставлять русские?! Они и так прижимают наш народ. — Медонис отвёл глаза в сторону. Все же он чувствовал себя неловко. — Этот трезвенник, Мильда, должен с тобой выпить, пока меня нет… Иначе он не покажет план.
— Познакомиться, пригласить домой, пить с ним без тебя… Этого ты хочешь? — спросила Мильда.
«Вот сейчас Антанелис рассмеётся; поцелует — и все недоразумения развеятся, — надеялась молодая женщина. — Но разве так шутят?»
— Я так хочу. — Антон Адамович посмотрел на Мильду.
Спокойный пристальный взгляд. И она поняла: он все предлагает совершенно серьёзно.
«Черт с ней! — решил Антон Адамович. — Довольно притворяться! Осталось несколько дней, и я — в Швеции. — Медонис бросил на жену быстрый взгляд. — Надоела мне её любовь, пресная, как лепёшка на соде. Как бы там ни было, а если повезёт с розыском дядюшкиного наследства, Мильду придётся бросить».
— Я ничего не понимаю, Антанелис, — на глазах Мильды выступили слезы. — Это чудовищно! По-твоему, я должна…
— Понимай как знаешь, — строго сказал Антон Адамович, — но старший лейтенант Арсеньев должен быть сегодня у нас в гостях. Мне некогда. На буксир грузят водолазное имущество. Остальное объяснит Миколас, он будет ждать тебя на Приморской, у ателье «Люкс». Знаешь? Рядом киоск с водами.
— Антанелис, это выше моих сил! — Мильда в отчаянии протянула к мужу руки.
— Не можешь? — зло спросил Антон Адамович, поднявшись с дивана. — Да от тебя ничего и не требуется особенно — посидеть, поговорить с человеком, нужным для дела. Ну, состроить ему глазки. Это делают все женщины с малых лет до тех пор, пока у них не выпадут зубы. Помни, Мильда, ты моя жена! Нас венчали в костёле!
Голос Медониса был спокоен и даже ласков. Это испугало Мильду. Медонис понял, что одержал победу. Он вышел из дому, снисходительно кивнув жене.
На крыльце его дожидался Миколас.
У Антона Адамовича в потайном карманчике хранились три маленькие капсулы с чёрными цифрами, полученные ещё в Кенигсберге. Человек оберштурмбанфюрера Фолькмана дал ему три ампулы и для собственной надобности. Он сказал тогда: «Номер один — это нокаутирующее средство: приняв таблетку, человек теряет сознание на двадцать четыре часа. В капсуле номер два — мгновенно действующий яд, а здесь таблетка, восстанавливающая силы. Не спутайте: середина смертельна».
«Сейчас мне нужна капсула номер один, — Думал Медонис. — Но двадцать четыре часа — это много».
Он вынул из прозрачной трубочки белую таблетку и ножом разделил её пополам.
— Возьми это, Миколас.
* * *
«Как же мне поступить? — тем временем соображала Мильда. — Может быть, Антанелис прав? Он так загорелся своим спортом. А тут эти драгоценности. Но почему так грубо? „Ты литовка, я литовец, ты должна мне помочь“. Выходит, что из-за этого плана я должна унижаться перед каким-то офицером. И Антанелис как будто не против?!»
Мысль эта обожгла сердце.
«Как он смел! — вскинула она голову, но тут же её опустила. — Боже, а вдруг Антанелис обидится и уйдёт от меня?..»
Мильда всей душой любила мужа. Каждое его слово было законом для неё. Даже когда он потребовал венчаться в костёле, Мильда согласилась. «Он меня очень любит, хочет крепче привязать к себе», — решила она тогда, зная, как огорчится отец, когда узнает об этом. Повенчались они тайно. Мильда порвала с комсомолом. Она ни разу не осмелилась бы сказать мужу: «Антанелис, сегодня я иду на собрание». Она считала преступлением отнять у него хотя бы один свой вечер. Если бы он заставил вышивать ризу для приходского ксёндза, она бы согласилась.
Иногда ей казалось, что Антанас холоден, далёк от неё мыслями. Но тут же она находила тысячи уважительных причин и оправдывала мужа.
Сегодняшний разговор застал её врасплох. Впервые в её сердце заползло сомнение: «Любит ли он меня? Что-то в нем сегодня было чужое. Если бы можно было посоветоваться с папой, но он далеко. Что же делать?»
Наконец она смирилась: если Антанас так хочет…
Посмотрев на часы и тяжело вздохнув, она начала одеваться.
* * *
Духота. Воздух в городе неподвижен и горяч. От каменных зданий пышет жаром. Рослые каштаны с необъятными темно-зелёными кронами в изнеможении опустили покрытые пылью листья. У киоска фруктовых вод, спрятавшись в тень, беспокойно топчется Миколас Кейрялис. Он без шляпы, в синем рабочем костюме из плотной ткани со множеством карманов, прошитых белой строчкой. Матрос Кейрялис стал чем-то вроде денщика у капитана Медониса. По его поручению он бегал на базар, помогал Мильде убирать квартиру и даже мыл посуду, не отказывался от любых поручений, все делал весело, с охотой. Правда, Миколасу не совсем были понятны рассуждения Антона Адамовича, что-де матрос Кейрялис должен прислуживать капитану только потому, что они оба литовцы. Однако свои сомнения Миколас держал про себя и сумел заслужить доверие.
Миколас то и дело поглядывал на небольшой двухэтажный домик с черепичной крышей, затянутый зеленой гривой дикого винограда. На парадной двери виднелась вывеска золотыми буквами по чёрному полю:
«Аварийно-спасательная служба. Отряд Э 26».
На улице пусто. В этом маленьком городке все свободные от работы спасаются на пляже, в прохладной морской воде.
От нетерпения и от нечего делать Миколас пьёт газированную воду и следит за всем, что попадает ему на глаза. Вывалив шершавый язык, пробежала рыжая собака. За ней промчался верхом на палочке загорелый мальчишка в коротких штанишках. На конце палочки — серебристая ракета. Сотрясая киоск фруктовых вод, проехал грузовик, и все вокруг наполнилось едкой гарью. Миколас допивал стакан воды с вишнёвым сиропом, когда увидел в конце улицы стройную фигуру Мильды, и двинулся ей навстречу.
— Почему так долго? Я думал, все пропало… Почему так долго, Мильдуте? — спрашивал он озабоченно. — Каждую минуту старший лейтенант мог уйти. Гражданин начальник нас бы не поблагодарил.
— По-вашему, я должна прибежать сюда в халате? — с досадой проговорила Мильда. Ей было неприятно, что Миколас все знает. — Где старший лейтенант? — В душе она ещё надеялась, что все это шутка; она обязательно должна встретить мужа, Антанелис передумает. Он не заставит её приглашать незнакомого человека в дом.
— Старший лейтенант Арсеньев должен выйти из этих дверей. Смотрите, — шёпотом произнёс Миколас с таким выражением, будто ждал что-то страшное. — Вы пришли как раз вовремя, — продолжал он торопливо. — Смотрите, их двое. Арсеньев повыше, плотный, снял фуражку, вытирает лоб. Они прощаются.
— Вижу, — отрезала Мильда. — Вы мне больше не нужны.
Миколас с удивлением посмотрел на Мильду. Всегда скромная, тихая, а сейчас!
Арсеньев перешёл улицу, остановился у киоска.
— Прошу без сиропа. — Арсеньев с жадностью выпил. — Ещё один, пожалуй, — сказал он, пододвинув стакан девушке. — Ну и духотища сегодня!
— Идите на море, искупайтесь, — ответила продавщица, с улыбкой посматривая на его чёрный пиджак. — Вы так тепло одеты. — Сама она была в лёгком платьице с курортным декольте.
— Вы правы. Воспользуюсь вашим советом, — рассеянно ответил Арсеньев.
«Каково Наташеньке сейчас одной! — думал он. — Может быть, она уже в больнице? (Арсеньев неделю не видел жены.) Нет, тогда дали бы знать на корабль. Через час я буду дома. Окунусь раза два — и все! Ну, Сергей, скоро у тебя будет сын, непременно сын!»
Арсеньев улыбнулся так счастливо, что пожилая женщина, проходившая мимо, с удивлением посмотрела на него. Она даже обернулась ему вслед и смотрела, пока его крепкая фигура не скрылась за углом.
«В лотерею „Волгу“ выиграл, не иначе!» — решила женщина.
Пляж был рядом. Городок выстроился на берегу. От моря его отделяли густые заросли кустарника и огромные каштаны. Плотная зелёная стена скрывала море. Завернув за угол, Арсеньев сразу очутился на пляже. Жёлтые, красные, зеленые купальники, костюмы, разноцветные полосатые зонты, яркие платья женщин, сверкающий на солнце белый песок и неоглядная морская синь создавали удивительно радостное сочетание красок. Арсеньев снял башмаки — и обжёг босые ноги. Утопая в мягком горячем песке, он стал пробираться к воде, обходя раскинувшиеся на солнце тела, бело-розовые, золотистые, бронзовые. Две маленькие девочки с красными бантами и в красных штанишках ковыряли лопатками песок. Рядом двое мужчин, покрыв головы газетами, играли в шахматы. Под зонтом молодая мать грудью кормила малыша. И тут же весёлая компания глотала холодное пиво из отпотевших бутылок. Две белотелые женщины казались на песке густой сметаной. Они лежали неподвижно, спрятав под платками лица.
«Торопятся загореть, — мимоходом определил Арсеньев. — Каково будет им ночью!»
Сотни людей бродили по берегу — одни туда, другие сюда, громко взвизгивали плескавшиеся в море дети; двое юношей пронесли на плечах лёгкую байдарку.
«Тюленья залежка на льду!»
Арсеньев рассмеялся нелепой мысли.
Море совсем обессилело от жаркой истомы. Словно нехотя, оно шевелилось чуть-чуть, беззвучно трогая морской песок. На горизонте в лёгкой дымке пятнышком виднелся «Меркурий». Вдоль берега прошёл быстроходный катер, впереди бурлил слепящий глаза венок из белой пены. Терпко пахло йодом, горячей смолой, немного розами.
Арсеньев приглядел свободное местечко рядом с пожилым толстяком под красно-белым зонтом. Толстяк с сигарой во рту и в огромных дымчатых очках, уже загоревший под цвет скорлупы грецкого ореха.
Арсеньев быстро разделся, немного смущаясь своей бледной кожи.
— Товарищ, — проговорил он, разглядывая внушительный живот соседа и отвисшие, вялые мышцы, — прошу, постерегите портфель. Я вернусь через десять минут.
«Не дай бог обзавестись такой утробой!» — невольно подумал он.
— Купайтесь, товарищ офицер, — отозвался толстяк, перекатив сигару во рту. Он бесцеремонно вытащил потрёпанный, рыжий арсеньевский портфель из стопки одежды и положил его себе под голову.
По кромке застывшего от безветрия моря бродили юные искатели янтаря. Они весело переговаривались. Эти — без всякой одежды, их тела совсем коричневые. Вот мальчишки, толкая друг друга, с визгом кинулись в море.
— Янтарь!
Вода запенилась, вспыхнули брызги. Один вернулся с кусочком солнечного камня.
Немного дальше с невозмутимостью статуи, закинув руки за голову, лежала на песке девушка. Её смуглое от загара тело ослепительно красиво. А рядом, словно для контраста, худосочная пожилая красотка с синими венами на ногах. Тройка малышей совсем зарылась в песок.
Крякнув для порядка и плеснув себе под мышки, Арсеньев окунулся. Прохладная балтийская вода остудила кожу. Как хорошо! Все семь потов, обливавшие его в душных кабинетах, мгновенно смыты.
Арсеньев медленно плыл к чёрной точке буя, вспоминая разговор у командира отряда. Он был доволен сегодняшним днём. Работа получила хорошую оценку. Все просьбы Фитилёва выполнены: командир отряда тут же распорядился — помочь Арсеньеву во всем. Сергею Алексеевичу понравилась внимательность начальника. Вот бы только Наташа!
Арсеньев повернул обратно, радуясь бодрости, взятой у моря. Он издалека признал своё место на берегу. Над знакомым уродливым животом, словно кочкой на ровном месте, призывно маячил красно-белый зонт и курился дым.
Море с тихим шорохом облизывало берег прозрачными языками.
Арсеньев с наслаждением растянулся на песке. Горячий песок и сияющее небо! Он любил помечтать лёжа под солнцем.
Опять стали грезиться льды. Он стал подсчитывать, как растёт мощность торошения… Вспомнилась Туманова. Как она могла!
— Надеюсь, я не стесню вас? — произнёс возле самого уха мелодичный голос.
Арсеньев повернул голову и встретился глазами с хорошенькой женщиной. Захватив полные пригоршни горячего песка, она лениво пересыпала его.
— Весьма рад приятному соседству, — поспешил вежливо заверить Арсеньев, но тут же отвернулся.
Наслаждаясь теплом, он подставил солнцу другой бок и погрузился в полудремотное состояние. Тихое всплескивание волн ласкало слух, успокаивало нервы, убаюкивало.
— Ах, я забыла сигареты дома. Вы курите? — снова услышал он голос незнакомки.
— Курю, «Беломор». Если вас устраивает? — отозвался Арсеньев.
— Да, устраивает.
Стараясь не насыпать в карман пиджака налипший к рукам песок, Арсеньев достал папиросы. Чиркнул спичкой. Оба молча закурили.
Она спросила, заметно волнуясь:
— Вы Арсеньев?
— Да, я Арсеньев. Простите, но откуда вам известно?..
— Я видела вас… Вы работаете с моим мужем. Он хотел встретиться с вами… О, если бы вы могли, — она посмотрела на Арсеньева и густо покраснела, — у нас дома. Он очень просил, не откажите… по делу.
Неожиданно резким жестом она смяла и отбросила папиросу. Он внимательно посмотрел на неё. В больших синих глазах он прочёл смущение и испуг.
«Странный способ знакомиться! — подумал Арсеньев. — Ещё более странный способ устраивать дела!»
Что-то тронуло Арсеньева в её поведении. Может быть, этот непроизвольный жест, может быть, смятая папироса или испуг в глазах. Кто знает!
— Ну что ж, рад быть вам полезным. — Он улыбнулся. — Арсеньев Сергей Алексеевич.
— Мильда. Мой муж — капитан Антанас Медонис. Он будет вам очень благодарен. Простите, я так надоедлива…
Арсеньеву показалось, что Мильда с трудом заставила себя произнести эти слова.
— Антанас Медонис! — неожиданно вскрикнул толстяк, вскакивая, словно пружинный чёртик. — Это ваш муж? Цум Тейфель! — Сигара едва не вывалилась на песок. Он успел прихватить её мясистыми пальцами. — Антанас — мой лучший друг. Я Пранас Лаукайтис. Как мне его увидеть? Я не знаю вашего нового адреса.
Мильда узнала толстяка. Это он однажды вечером приходил к мужу. Другой раз они его встретили в городе. По-литовски он говорил с чуть заметным акцентом.
Из пляжной сумочки Мильда достала блокнот, написала несколько слов.
— Пожалуйста, товарищ Лаукайтис — это наш адрес. Пожалуйста, заходите.
— О, благодарю!
Толстяк быстро оделся, возвратил Арсеньеву портфель, свернул красно-белый зонтик и мгновенно исчез.
— Странный человек, — задумчиво произнёс Арсеньев. — Какие неприятные руки! Вы заметили, Мильда?
— Я его видела… И уже два раза. Он — знакомый мужа. Но, Сергей Алексеевич, простите, Сергей. Я литовка и не привыкла к отчествам. Если вы можете, пожалуйста… — Она взглянула на часики. — Через полчаса муж должен быть дома.
— У меня мало времени, но если так надо…
* * *
Арсеньев сидел в кресле. Мильда удобно устроилась на широком диване. Темно-зелёный абажур торшера пропускал немного света, но и при таком освещении на лице Арсеньева можно было прочитать озабоченность и смущение.
На круглом столе несколько бутылок вина, закуски.
Миколас с поклоном встретил гостя на крыльце. Безмолвно откупорил бутылки и больше на глаза не появлялся.
— Сослуживец мужа, — ответила Мильда на немой вопрос Сергея Алексеевича. — Любит заниматься хозяйством.
Арсеньев выпил рюмку. Беседа не налаживалась. Он подержал в руках подушечку, расшитую синими сказочными птицами, положил её на место.
После второй рюмки появилось неприятное чувство. Арсеньев уже досадовал на себя.
«Зачем я пришёл? Идиотизм какой-то! На черта мне нужна эта женщина с глупыми загадками? Пусть их разгадывает кто-нибудь другой… Муж… Существует ли он вообще?»
Но как только Арсеньев порывался уйти, Мильда принималась умолять его подождать. И Арсеньев сидел, разглядывая фикусы в дубовых бочках, распятие на стене, картины с игривыми сюжетами.
«Познакомился на пляже с красоткой! — Арсеньев уже с раздражением смотрел на пригорюнившуюся Мильду. — Но у неё такие жалкие, растерянные глаза…»
Зато Мильда успокоилась. «Ничего плохого не произошло, — думала она, украдкой рассматривая Арсеньева. — Напрасно я обвинила моего Антанелиса во всех смертных грехах. Глупо представлять все в чёрном цвете. А все же Антанелис не должен был так поступать…» Мильда ждала мужа с минуты на минуту и чувствовала, что Арсеньеву ожидание было в тягость. Новый знакомый ей нравился: симпатичное, мужественное лицо, честный, открытый взгляд. «Кажется, он подозревает что-то дурное».
— Может быть потанцуем? — с отчаянием сказала Мильда, стараясь удержать Арсеньева во что бы то ни стало.
Она поставила пластинку, второпях иголкой уколола палец. «Я отвратительно себя веду, но что делать?!»
— Не хочется, Мильда. — Арсеньев посмотрел на часы и в который уже раз подумал, что не должен был принимать это приглашение. По привычке он теребил бровь.
— Вы очень торопитесь? Может быть, все-таки потанцуем? Ну, если не хотите, что ж. — И Мильда резко остановила радиолу. — Давайте тогда поговорим о чем-нибудь. И вы кушайте, пожалуйста, и садитесь сюда, ближе ко мне. — Если бы кто-нибудь сейчас спросил, для чего она это делает, Мильда не смогла бы ответить. Может быть, здесь сказалась обида на мужа? «Почему его нет? Как он смеет опаздывать! — думала она. — Разве он не понимает, в какое положение ставит меня!»
Молчание становилось тягостным.
— Я пойду, Мильда, — наконец твёрдо произнёс Арсеньев. — У меня нет больше времени. Поймите: моя жена в больнице, не сегодня-завтра мы ждём ребёнка. А я вот на берегу и даже не знаю, что с нею, пью коньяк…
Мильда покраснела, на глазах выступили слезы.
— Вы бог знает что подумали! Поверьте, я говорила правду. Муж тоже не виноват: наверно, его задержали на работе. Если бы я знала о ваших тревогах, клянусь, не стала бы приглашать! Но сейчас, наверно, остались минуты.
«Она говорит правду», — подумал Арсеньев.
— По бокалу крюшона, — сказал показавшийся в дверях Кейрялис, — фирменный, собственного изготовления. — Он подал бокалы Мильде и Арсеньеву и покосился на портфель у ног гостя.
Белая таблетка растворилась, оставив в розоватом напитке волокнистый след. Мгновение — и он растаял.
Кейрялис ушёл.
Арсеньев посмотрел на холодное, запотевшее стекло, на прозрачные кубики льда на дне, отхлебнул из бокала и сказал:
— Я совсем не сержусь на вас, Мильда, и верю вам. Но согласитесь, что мне может казаться странным поведение вашего мужа… — Он почувствовал такую усталость, словно весь день ворочал камни. Арсеньев смотрел на хозяйку. Мильда медленно вращалась вместе с комнатой. Темно-красные обои превратились в огненную завесу. Мгновение — и краски исчезли, стало темно.
— Наташа!.. — простонал Арсеньев, едва шевеля посиневшими губами.
Мильда вскрикнула…
Собрав все силы, Арсеньев шагнул было к двери, но тут же упал на пол.
Мильда бросилась к Арсеньеву. Его руки стали неподвижными и тяжёлыми, словно кожаные чулки, насыпанные песком. Лицо помертвело. Ей сделалось страшно.
— Он умер! — дико закричала Мильда. — Помогите!..
Она не слышала, как в комнату вошёл Миколас, не видела, как он рылся в портфеле Арсеньева и как, кряхтя, перетащил в спальню тяжёлое тело старшего лейтенанта.
— Пьян как свинья! — сказал Миколас, когда Мильда очнулась. — Видимость здоровая, а на выпивку слаб… Ишь, что вытворяет, послушай-ка, Мильдуте.
Из спальни доносился прерывистый громкий храп.
Мильда горько заплакала, уткнувшись в подушку, расшитую синими сказочными птицами.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПРОТЯНУТЬ РУКУ
Над городом светлым пятном нависло зарево вечерних огней. Из порта доносились едва слышные свистки маневрового паровоза. На палубе затонувшего великана темно и пусто. Матросы давно спят, утомившись за трудный день. Ночь тёмная, но ясная. Над морем ночной воздух чист и прохладен. От дневной жары ничего не осталось. Моряки ворочаются в постелях. Иные не выдерживают, встают и укрывают ноги бушлатом или шинелью, ворча завинчивают иллюминатор.
Вдалеке, на плоском, как пирог, берегу, каждые десять секунд ярко вспыхивает рубиновый огонь.
«Берегись!», «Опасность!», «Берегись!» — упрямо твердит маяк одно и то же.
В окне капитанской каюты проглядывал одинокий тусклый огонёк. Трудный день выдался сегодня у Фитилёва. Прежде чем разрешить генеральную откачку, он спустился под воду и снова осмотрел корпус. За день он уходился и сейчас, прикрыв лицо клетчатым платком, раскинув на койке босые жилистые ноги, сладко всхрапывал, бормоча что-то во сне.
От раскалённой докрасна чугунки веяло жаром. Любил Василий Фёдорович после работы побаловать старые кости, отсыревшие на разных морях.
По палубе вахтенный матрос, размахивая керосиновым фонарём, шёл на нос судна, где висел корабельный колокол. Электрического света сегодня не было: дизель-динамо не работало. Готовясь к генеральной откачке, мотористы перебирали движок и к ночи не управились.
Над морем гулко раздались четыре басовитых двойных удара большого судового колокола. Тоненько отозвался колокол-малютка на буксире, стоящем бок о бок. И все опять тихо.
Отбивать склянки на затонувшем корабле вроде бы и не к чему, но капитан-лейтенант Фитилёв человек твёрдых правил, и вахтенные часы вызванивают минута в минуту. И беда, если «батя» замечал неточность, особенно в ночное время.
В капитанской каюте «Шустрого» — яркий свет. Согнувшись над письменным столом, Антон Адамович изучал корабельный план, ещё так недавно лежавший в портфеле Арсеньева. Надписи на немецком языке он разбирал легко, хотя план, вероятно найденный моряками в одной из командирских кают, был основательно захватан и густо испещрён пометками. Эти точки, крестики и завитушки, непонятные Антону Адамовичу, мешали читать чертёж. Номерами указаны насосы и пластыри. Шесть палуб, на каждой подробно размечены все судовые помещения. Левый борт. Вот и каюта Э 222. Наконец-то! Антон Адамович жирно чернилами обвёл маленький прямоугольник.
Да, план в его руках! Теперь-то он сумеет получить дядюшкин ящичек! Антон Адамович перевернул план. На обратной стороне были нанесены разные сведения о корабле: длина, ширина и водоизмещение, запасы топлива, воды, число пассажиров и многое другое. Медонис старался запомнить каждую мелочь. Внутрь корабля лучше всего входить через грузовые двери в борту. Здесь лестница вниз. Потом пройти половину коридора. Каюты второго класса. Около каюты Э 34 ещё лестница, по ней спуститься к ресторану. Потом несколько метров к корме — и снова лестница. Антон Адамович теми же чернилами обозначил пунктиром путь в каюту Э 222.
Услышав перезвон колоколов, Медонис поднял голову. Улыбка промелькнула на его лице. Да и как не улыбаться! С последним ударом колокола начинался знаменательный день. Он останется в памяти Антона Адамовича на всю жизнь. Ещё одно усилие — и цель достигнута!
Антон Адамович вскочил с вращающегося стула и, волнуясь, зашагал по каюте. «Довольно пресмыкаться! — со злорадством думал он. — Кончились мои мучения, все кончилось! Сегодня начинается новая жизнь. Не совсем новая, собственно говоря, я возвращаюсь к старому и прежде всего получу своё имя — Эрнст. Эрнст Фрикке… Как это приятно звучит!»
Он засмеялся.
— Антанас Медонис… Черт возьми, и эту дрянную кличку я носил столько времени! Постоишь у меня навытяжку, сволочь! — погрозил он вслух кому-то.
Размышления Антона Адамовича прервал осторожный стук в дверь.
Мгновенно спрятав чертёж в ящик стола, Медонис сказал: «Войдите», — почему-то решив, что это старший механик.
Последние дни Медониса почему-то раздражал этот угрюмый человек.
«Молчит и разглядывает, будто я какая красотка, а не капитан буксира. Одноглазый, брови мохнатые, смех будто клёкот птицы, квадратные ногти. Кажется, я его видел прежде. Но где?..»
— Это я, гражданин начальник, — ухмыляясь, доложил Кейрялис.
— А, Миколас! — с облегчением вздохнул Медонис. — Вахту принял?
— Принял, гражданин начальник. — Кейрялис развалился в кресле. Как же, стесняться нечего — компаньоны. — Матрос Гришкенас сразу лёг спать, — сообщнически добавил он, — даже и кофе не пил. Старпом лежит читает.
— Бери акваланг, выноси на палубу. Нечего рассиживаться. — Антон Адамович показал на аппарат с двумя светло-голубыми баллонами сжатого воздуха. — Осторожней, дурень, это тебе не дрова! — испуганно ругнулся, он, когда Миколас, выходя, зацепил аквалангом за дверную ручку.
Антон Адамович снова вынул план, посмотрел, потом любовно и бережно спрятал в ящик и стал готовиться. Раздевшись догола, он приседал, глубоко дышал, энергично взбрасывал руки, ноги. Натянув на себя шерстяное бельё, он задумался. Он превосходно изучил акваланг, мог, не боясь, идти под воду, обследовать корабль. И все-таки что-то щемящее заползло в душу… Ночное плавание в брюхе затопленной громадины, в одиночку, без помощника… Это могло окончиться плохо. Может быть, отказаться? Нет, никогда!
На палубе он ещё раз с отвращением взглянул на чёрную воду. На невидимом берегу вспыхнул красноглазый маяк, и его багровая тень коснулась, будто обожгла, Антона Адамовича.
«Что со мной?» — старался понять Медонис, пытаясь подавить неприятное чувство.
Шорох на палубе заставил насторожиться. Но нет, ложная тревога. Убедившись, что все спокойно, Медонис надел ласты, натянул маску, пристегнул к поясу нож. Миколас помог закрепить акваланг. Антон Адамович зашлёпал по палубе резиновыми подошвами.
— Пускаю воздух, — торопливо сказал Миколас, отвёртывая воздушный краник.
Медонис ещё раз посмотрел вниз, на чёрную, враждебную воду и не мог преодолеть колющий озноб. Пересилив страх, он осторожно сполз в море. Вот его со всех сторон сжала холодная вода. Возникло привычное чувство невесомости. Тишина. Он отчётливо слышит постукивание клапана и журчание воздушных пузырьков. Донёсся шум винтов далёкого парохода. В темноте мерцали огоньки мельчайших морских обитателей. Медленно проплывали вспыхивающие туманности медуз. Зеленовато светилась какая-то живность на песчаном дне.
Легко двигая ногами, Медонис быстро скользил вдоль ржавого корпуса. В холодном электрическом свете фонаря мелькали разнокалиберные пробки, небольшие деревянные заплаты, прилипшие к борту ракушки, зеленые скользкие водоросли. Антон Адамович нырнул глубже, круто согнул поясницу и отвесно пошёл вглубь. Маска плотно сжала лицо. В луче фонаря возникли гигантские винты, массивный руль. На светлом песчаном дне темнели какие-то железные обломки, камни, наполовину утонувшие в грунте. Подальше горбатилась перевёрнутая спасательная шлюпка с проломанным днищем, опутанная мотками рыжего стального троса. За шлюпкой торчала лапа старинного адмиралтейского якоря
Многое хранило на дне древнее Варяжское море! Вот в луч света попался округлый металлический предмет, выступавший из песка. «Что за штука?» — Антон Адамович осматривал железину. Ковырнул ножом. «Да это же авиабомба!» Медонис чуть не выронил загубник.
«Вот тебе раз! — размышлял он, торопливо отплывая в сторону. — Бомба, наверное, предназначалась для Кенигсберга. А ведь она может ещё взорваться, стоит только потревожить. Подальше от неё!» — решил Медонис, возвращаясь к корме.
Он уткнулся в деревянный пластырь величиной с хорошие ворота. Пластырь держался на толстых пеньковых канатах, привязанных к скобкам. Это было настоящее произведение подводного строительного искусства, сооружённое из брусьев, болтов, стального троса и парусины. Плотно подогнать к пробоине большой пластырь нелегко. По законам корабельной архитектуры корпус здесь двояко изгибался, а искалеченные железные листы превратились в гармошку.
Антон Адамович поводил лучом, вынул нож и обрезал верхние оттяжки. Пластырь легко отвалился, обнажив пробоину с рваными острыми краями; она могла впускать внутрь корабля около тысячи тонн морской воды ежечасно. Деревянный щит, утяжелённый толстыми болтами и кусками железа, медленно спустился на дно, накрыв несколько оранжевых звёзд и замутив воду.
Для чего он это сделал? Антон Адамович и сам не знал. Скорее всего, желая доставить врагам побольше неприятностей. Ему давно хотелось разрушить, растоптать ногами все, что сделано русскими. А приходилось лебезить, скрывать свои истинные чувства.
«Пусть ещё поработают с пластырем, — злорадствовал он, — пусть потрудятся!»
Обогнув корму, Медонис поплыл медленнее, освещая каждый сантиметр борта.
* * *
На мостике буксира Шустрый, облокотившись о холодные поручни, стоял вахтенный матрос Миколас Кейрялис и бубнил:
Приехала из Берлина Коричневая форма. Измерила наши животы…Вдруг Кейрялис умолк и прислушался. Сегодня в его обязанности входили дополнительные занятия. Он должен караулить, когда покажется из воды Антон Адамович, помочь в случае чего. И ещё ему приказано следить за палубой затонувшего корабля, — вернее, за матросом, вступившим на вахту в полночь.
Придётся рябой каждый день
По два яичка класть,
А петушку, бедняге,
Цыплят выводить,.
Он помолчал и начал песню сначала,
— На «Шустром» вахтенный! — раздался приглушённый голос с палубы «Меркурия».
— Ну, что там? — не сразу отозвался Кейрялис. — Вахтенный слушает.
Он перешёл на другую сторону мостика и увидел тёмную фигуру матроса у борта.
— И я вахтенный. Это ты пел?
— Я.
— По-каковски это? Я не понял слова.
— Литовская песня.
— А-а… Тоску наводит твоя песня.
— Во время войны сложили про собак-гитлеровцев, как они Литву грабили. Спокойной ночи, товарищ. — Кейрялис забеспокоился, кинув взгляд на воду. — У меня работёнка… Капитан у нас прижимистый, живоглот, ночью работать заставляет. А как вы, когда откачивать собираетесь?
— Завтра в девять утра, батя приказ отдал.
— Завтра. Ну, ну… Желаю успеха! А песня хорошая, это я плохо пел. — Кейрялис спустился в кают-компанию, потушил свет и в иллюминатор из темноты стал наблюдать за матросом. Тот посмотрел по сторонам, зевнул и зашагал прочь от борта. Кейрялис слышал, как он шаркал ногами по резиновому коврику, как хлопнул дверью.
Миколас Кейрялис стал смотреть на море.
«Нет, — думал он, — ни за какие деньги не согласился бы я лезть ночью в воду! Бр-р!.. Мокро, темно, холодно».
* * *
Перед глазами Антона Адамовича проплывали те же бесконечные заглушки и заплаты. Посередине огромного корпуса плотно сидел металлический пластырь длиной в сорок метров. Пластырь закрывал рваную пробоину, давний след арсеньевской торпеды.
Наконец Медонис увидел бортовую дверь одной из нижних палуб. В прежние времена через неё грузили продовольствие. Медонис без труда сдвинул дощатый пластырь, прикрывавший оторванную половину железной двери, и проник в главный вестибюль. Здесь через все палубы проходила пассажирская лестница. Теперь она сохранилась только наверху. Идущие вниз ступени разломаны волнами, и лестничная клетка казалась чёрным провалом.
Антон Адамович напряг память, стараясь представить расположение кают. «Лестница внизу. Нужно пройти половину коридора, мимо кают второго класса, — лихорадочно вспоминал он. — Около каюты номер тридцать четыре ещё лестница; ещё ниже — ресторан. Потом несколько метров к корме — и снова лестница Я должен спуститься на три палубы ниже, потом свернуть к левому борту. Там, у дамской уборной, — каюта двести восемнадцать, следующая двести двадцатая, потом моя…»
Уходил воздух. Необоримая жажда богатства толкала Медониса на риск. Вода внутри корабля показалась ему ещё холоднее. Прокалывая лучом черноту, он опускался медленно, боясь за что-нибудь зацепиться.
Чего только не вставало на дороге! Сколько тут всякого хлама, пропитавшегося водой! Он различает изломанные диваны, кресла, столы… Все покрыто слизью. Но вот, наконец, и третья палуба. Здесь разрушений ещё больше, чем наверху. Из воды проступали чёрные бесформенные тени. Антон Адамович настойчиво пробирался к левому борту.
Но что это? Словно в тумане, он увидел впереди живое существо. Антону Адамовичу сразу стало жарко. Он шагнул вперёд. Туманная тень тоже сошла с места.
«Проклятие, зеркало!» — догадался он.
Коридор завален песком и деревянными обломками. Антон Адамович, задыхаясь, яростно расчищал себе путь к богатству, с трудом одолел неожиданное препятствие и, передохнув, стал продвигаться дальше. «Наконец-то Э 222! Вот она! Моя каюта! Неужели за этой дверью Швеция, богатство, новая жизнь?!»
Нервное напряжение достигло предела. Антон Адамович бросился к двери и рванул за ручку. Ручка вместе с замком осталась у него в кулаке.
«Дьявол!» — про себя выругался Медонис и приналёг всем телом. Но дверь крепко сидела в гнезде.
«Перекосило её, что ли? — мучился в догадках Антон Адамович. — Разбухла? Может быть, прижало чем-нибудь изнутри? Да нет, в каюте тяжёлых предметов вроде не было».
Он попытался одолеть упрямую дверь водолазным ножом, но не нашёл щели. Лицо Антона Адамовича покрылось испариной, взмокло. Стекла затуманились. Пришлось просунуть палец под маску и пустить немного воды, протереть стекла.
Несколько раз он с силой всадил нож в филёнку и наконец проткнул её. С каждым ударом отверстие расширялось. Он устал.
Но вдруг акваланг перестал подавать воздух, сработало предупреждающее устройство. Антон Адамович открыл резервный клапан за спиной. Опять можно дышать! Но теперь воздуха осталось ровно на пять минут. Грозный сигнал. Медонис заскрежетал зубами. За это время он едва-едва успеет доплыть к буксиру.
«Надо возвращаться. Но неужели я пробыл в воде пятьдесят минут?»
Выбираясь к выходу, Медонис посмотрел на часы — прошло только тридцать пять минут. «В чем же дело? Испорчен автомат или в баллонах оказалось меньше воздуха?» Он готов поклясться: манометр перед спуском показывал полное давление.
Перебирая в уме десятки всевозможных причин, Медонис забыл об одной: ему пришлось изрядно потрудиться. В таких случаях воздуха уходит куда больше.
Боясь ушибить голову о полузатонувшие, напитавшиеся водой деревянные обломки, Антон Адамович всплыл с поднятыми кверху руками. Наконец он выбрался из корабельного чрева. Снова море, глубина четырнадцать метров.
Возвращение заняло больше времени, чем ожидал Медонис. Поэтому в последний момент он поторопился и обогнал воздушные пузырьки, уходящие из акваланга. А такая скорость при подъёме недопустима. И резкая смена давления сказалась: зазвенело в ушах, ударило в голову. И ещё неприятность: он почувствовал ни с чем не сравнимый холод. С каждой минутой его все больше знобило. Тяжело дыша, Медонис ухватился за кранец на борту буксира.
Кейрялис помог своему начальнику подняться на палубу и снять акваланг.
— Не хватило воздуха, — стуча зубами, с трудом проговорил Антон Адамович. — Каюту нашёл. Завтра заряжу баллоны, и тогда…
— Завтра? — удивился Миколас. — Есть приказ завтра начать генеральную откачку. В девять часов утра Я узнал от вахтенного.
— Завтра? Ах свиньи собачьи! — Медонис даже перестал стучать зубами. Слова матроса ошеломили его.
«Все погибло, все полетело в преисподнюю! Зарядить баллоны можно только днём», — молниями вспыхивали мысли. Антон Адамович искал выхода. «Нет, не дам! Деньги принадлежат мне. Перегрызу горло всякому, кто встанет на дороге. Нет, господа! Вы поднимете корабль только после того, как я достану дядюшкин ящичек».
Но для этого надо задержать подъем судна хотя бы на сутки, задержать во что бы то ни стало!..
Собрав подводное снаряжение, не сказав больше ни слова, с ластами под мышкой Медонис ушёл в каюту. Через несколько минут он появился на палубе в тёплой пижаме.
— Вот тебе записка, Миколас. Передашь Мильде. Возьми шлюпку — и под парусом в порт. Обратно возвращайся на катере. Время не теряй: время у нас золотое. Понял?
— Это мы сейчас, моментально.
— Прочитай записку. Никого больше не слушай. Операция — под твою ответственность.
Антон Адамович вернулся в каюту.
«Все, все удачно складывалось — и на тебе! — бесновался он, приканчивая бутылку коньяку. — Все могло рухнуть, но я нашёл выход!»
— Посмотрим, — со злобой прошептал он, — посмотрим!.. Я даю бой, капитан Арсеньев. Посмотрим, кто кого. Постоишь ещё у меня навытяжку, сволочь!
* * *
«…Не думай, будто бы в супружестве заключается совершенное счастье, без малейших неприятностей: такого состояния не может быть в здешнем мире. Всегда помни, что особа, с которой соединяешься вечным союзом, есть человек, а не ангел. Если в супруге своём заметишь слабости, приписывай их несовершенству природы человека, не показывая, что они тебя удивляют. Проснувшись поутру, будь спокойною и весёлою. Ни для какой причины не дозволяй гневу иметь доступ к твоему сердцу. Никогда не противься мужу, а и того более не спорь с ним, хотя бы на твоей стороне была справедливость; пускай эта нежная уступчивость будет в собственных твоих глазах заслугою, и ты увидишь, сколь важную она принесёт тебе пользу».
Мильда перевернула страничку и несколько минут сидела в задумчивости.
Эту маленькую книжку, перевод с польского, подарил ей Антанас вскоре после свадьбы. Он восторгался «Советами, преподанными матерью дочери своей накануне её замужества» и рекомендовал их как рецепт счастливой семейной жизни.
«Кое-что, несомненно, правильно, — раздумывала Мильда, — но принять на веру этот опус столетней давности целиком, как катехизис? Могла же прийти ему такая нелепая мысль!»
Мильда сидела на диване, поджав ноги и укрывшись тёплым пуховым платком. Если бы не всхрапывание в соседней комнате, все могло показаться сном. Но все произошло наяву. Мильда и книгу-то стала читать, чтобы отвлечься, а может быть, и найти оправдание своим поступкам. Мужа она ждала с нетерпением. После всего, что случилось, они должны серьёзно поговорить. Многое надо выяснить.
Мильда снова склонилась над книгой.
«Власть женщины, — читала она, — вся сила и даже счастье зависят от уменья завоевать дружбу супруга. Узнай его характер, соображайся с ним в мыслях и склонностях. Его удовольствия да будут твоими; дели с мужем его печаль, неприятности и не давай ему заметить твоих собственных; скрывай его недостатки от всех и даже от него самого. И ты станешь драгоценным сокровищем для мужа, имеющего доброе сердце и благородный образ жизни, но если бы он был и самый злой человек, если бы имел сердце тигра, ты усмиришь его и сделаешься ему необходимою. Нежные знаки твоей любви супружеской да будут всегда закрыты скромною завесою благопристойности».
Стрелки на стенных часах показывали три.
В передней раздался лёгкий стук. Мильда бросилась к двери.
— Это вы?.. — не скрывая разочарования, протянула она.
Кейрялис, загадочно усмехаясь, подал Мильде письмо в измятом конверте. Прочитав страничку, исписанную угловатым почерком мужа, она вспыхнула.
— Я не позволю. Это мой гость, вы не имеете права.
— Гражданин начальник приказал, — усмехнулся Миколас, — ослушаться не могу. На чьём возу сидишь, того и песни поешь… Так-то. — Он кинул нескромный взгляд на ноги Мильды.
Платье от долгого сидения смялось в складки, приоткрыв приятную ямочку на полной коленке.
— Не смейте смотреть! — прикрикнула Мильда.
И когда Кейрялис выглянул в окно, она уже стучалась в соседний дом к подружке. Это был протест.
«М-да… С норовом молодица! Хозяюшка в дому как оладышек в меду, — подумал Кейрялис, — Ишь ты!..»
* * *
Трудно было узнать комнату, где вчера сидел Арсеньев. Скатерть залита вином, на столе осколки бокалов, черепки тарелок, все перевёрнуто, разбито…
Скрипнула дверь, вошёл Кейрялис. В руках у него, словно охапка дров, — обломки стульев. Тихонько разложив на полу «труды рук своих», он ухмыльнулся и подошёл к зелёным фикусам. Вырвать их с корнем и бросить на пол вместе с землёй — дело одной минуты. Горшки он вынес во двор, а оттуда возвратился с грудой черепков.
— Вот теперь впору, высший класс! — сказал Кейрялис, любуясь своей работой. — Сам гражданин начальник не узнает комнату. Эх, черт, разве колеру ещё добавить?!
С этими словами он взял бутылку красного вина, отхлебнул из неё добрую половину, а остатки выплеснул на белые оконные занавески. Кейрялис добросовестно относился к любой работе.
— Ну, кажется, все! Можно и отдохнуть, — решил он, позевывая, развалился на диване, положив под голову бархатную подушку со сказочными птицами, задумался.
Ему не очень-то по душе пришлась вся эта затея со старшим лейтенантом. Когда матрос договаривался с Антоном Адамовичем, корабль был ничей, и только дурак отказался бы от глупых денег, которые сами лезут в руки. Но сейчас другое дело: на корабле появился законный хозяин. Ему, бывшему батраку и сыну батрака, незачем ссориться с Советской властью. Надо хорошенько все взвесить. Он завтра поговорит. Что-то не нравится ему этот тип, ей-богу, не нравится! Гражданин начальник, Антон Адамович, может пулю в затылок пустить, если ему не потрафить. «А вот Мильду жалко. Хорошая девка!» — так думал Кейрялис, засыпая.
Часы пробили шесть. В соседней комнате заскрипели пружины. Послышалось долгое, мучительное откашливание. Пошатываясь, волоча ноги, из спальни вышел Арсеньев. Голова у него была взлохмачена, бледное лицо помято, губы спеклись. Он в одной рубашке, без ботинок. Арсеньев обвёл мутным взглядом комнату, заметил Кейрялиса.
— Товарищ! — нерешительно позвал Арсеньев. — Товарищ!
Кейрялис мгновенно проснулся, сел и неизвестно почему надел кепку.
— Товарищ, — повторил каким-то не своим голосом Арсеньев, — что здесь произошло? — Он сделал ещё шаг.
Под ногами хрустнули обломки патефонных пластинок, со слабым звоном покатился по полу хрустальный бокал.
— Ваших рук работа, гражданин начальник, — пахуче выдохнул перегар Кейрялис. — Целый литр водки вылакали.
Это было нестерпимо, невозможно!
— Вы что, шутите? — Арсеньев стиснул виски. — Этого не может быть! Кто вы такой? Что все это значит?
— Напились, вот и захотели показать свой характер, — грубо продолжал Миколас. — Ломать, бить и все такое… За дамочкой, как дикое животное, гонялись, платье на ней изорвали. Пьяный-то ничего не боится, ничего не стыдится.
Это казалось настолько неправдоподобным, что руки Арсеньева невольно сжались в кулаки. Откуда взялся этот наглец?
— Негодяй! — крикнул он во весь голос.
— Вот как? — нехорошо ухмыльнулся Кейрялис, показав бледные десны. — Выходит, «пьём да посуду бьём, а кому немило — того в рыло»?
Арсеньев сдержался и скрипнул зубами. Спокойный тон незнакомца привёл его в себя. Неужели правда?!
— А вы не кричите, здесь не палуба. Муженёк сегодня жаловаться пойдёт… Он хотел позвать сюда капитан-лейтенанта Фитилёва, — со вкусом фантазировал Кейрялис. — Пусть бы посмотрел гражданин начальник судоподъёма, как его офицеры развлекаются!
Арсеньев был ещё очень слаб от оглушившего его снотворного, он лежал на диване, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь.
— И фикусы тоже я? — Он недоверчиво кивнул на обнажённые корни. — Что за наваждение?!
— Наваждение… — выпятив нижнюю губу, сказал Кейрялис. — Вы, гражданин начальник, между прочим, и мужу увечье нанесли. Он хотел унять вас, а вы зверь зверем.
Арсеньев так ничего и не вспомнил. Но разгром в комнате, женщина, вино, сон, самоуверенная наглость пришельца… Он остро почувствовал, что попал в скверную историю.
«Ну, товарищ Арсеньев, как вы теперь будете оправдываться?.. Да и могут ли быть оправдания? — бродили горькие мысли. — Сможете ли вы теперь смотреть в глаза людям? Милая Наташа, что я ей скажу!.. Сплошной туман! Все, что произошло, необъяснимо для порядочного человека. Такой уж я, видать, уродился. „Плохому кораблю всякий ветер страшен“, — вспомнил Арсеньев любимую поговорку Василия Фёдоровича. — Благородство, порядочность — кажется, вы любите эти слова?..»
И все же он не мог поверить. Нет, невероятно!..
— Бабы каются, а девки замуж собираются, — наблюдая за переживаниями Арсеньева, наставительно сказал матрос.
Однако втайне Кейрялису было жаль обманутого, истерзанного человека.
— Возьмите сигарету. Бросьте вашу, она порвалась. — Матрос зажёг спичку. — Эхе-хе!.. Никому не верь, и никто тебе зла не сделает. Так-то, гражданин начальник.
Сергей Алексеевич с отвращением отбросил сигарету.
А Кейрялис продолжал философствовать:
— Одному везёт в жизни, а другому нет. Попал один раз под красный свет, на всех семафорах задержат. А другому вся жизнь «зелёная улица». Вот что, гражданин начальник, хочу вам один совет дать. Дамочкин муж капитаном на буксире «Шустрый», спросите Медониса Антона Адамовича, извинитесь, объясните, как и что. Он не легавый, не побежит к начальству. У самого рыльце в пушку…
— Антон Адамович! — воскликнул Арсеньев. — Так вот кто её муж!
Он поднялся и медленно, с трудом стал одеваться. Мучительно долго повязывал галстук: плохо слушались руки. Посмотрел в зеркало — лицо отёкшее, бледное. Пойти домой не посмел. Но как Наташа? Побрёл к родильному дому. Там у дежурной сестры узнал, что Наталью Арсеньеву привезли ночью. Потом он пошёл к причалам.
Утро было мутное, серое, но Арсеньев не замечал пронизывающего ветра и промозглой сырости. На рейд его вывез портовый катер.
* * *
Когда старший лейтенант завернул в переулок, из деревянного сарайчика осторожно выглянул человек в шляпе с короткими полями, полным лицом, большим подбородком.
Это был Карл Дучке. Он ждал здесь со вчерашнего дня, прибежал прямо с пляжа.
Дучке давно почувствовал перемену погоды. Ещё ночью потянул сырой западный ветер, небо покрылось облаками. Зашумело море.
Холод донимал дозорного. Но Дучке необходимо было во что бы то ни стало повидать Медониса. Срочно. Строгий приказ шефа. Озябший Дучке устроился на поленнице дров. Отсюда в щель хорошо просматривалось крыльцо. Приказ шефа, и, как назло, этого дурака нет! Дучке теперь называл Медониса только дураком. Что делается у него в доме?! Придётся вырубать притолоку для пышных рогов. И он доволен своей женой, рогатый дурак!
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ДВОЕ В БРЮХЕ ЗАТОНУВШЕГО КОРАБЛЯ
В каюте Фитилёва сегодня светло и празднично. И сам хозяин был чисто выбрит, даже морщин на его лице будто бы поубавилось. Проснулся Василий Фёдорович, как всегда, рано и, хлебнув горячего чайку, успел к восьми часам прибраться по всем морским правилам. Сейчас он сидел на табуретке. Нацепил очки и, положив китель на колени, пришивал свежий подворотничок, его толстые пальцы с обломанными ногтями ловко орудовали иглой. Готово! Он надел китель, сверкнувший надраенными пуговицами; теперь капитан-лейтенант весь блестел — от лысины до ботинок.
Закончив дела, Фитилёв перебрался в кресло. В газете, припрятанной дней десять назад от любителей сигарет «пресса» (махорка в газетной бумаге), на третьей странице он заметил статью о пчеловодстве. Но что-то беспокоило Фитилёва и не давало оценить по достоинству рекомендуемые методы ухода за пчелиной семьёй. Он то и дело прерывал чтение, пыхтел трубкой и, поглядывая на часы, прислушивался к звукам, доносившимся с палубы.
В девять часов без нескольких минут, споткнувшись о новенький коврик, сплетённый из манильской верёвки, в каюту вошёл старший лейтенант Арсеньев. Он сегодня рано приехал на корабль и тут же лёг спать. Матросы едва разбудили его. Арсеньев долго обливался холодной водой. Он ещё и сейчас был не в своей тарелке.
Арсеньев долго обдумывал, как ему поступить. Рассказать ли тестю, что произошло вчера? Пропажу плана он даже не заметил, другой экземпляр плана с отметками Фитилёва лежал в портфеле.
— А, голубок! — встретил его Василий Фёдорович. — Бензин давно на борту. В шесть утра на портовом буксире прислали. Что? И резервные помпы схлопотал? Молодец! — Он пожал руку Арсеньева. — Сегодня наш праздник. В девять ноль-ноль генеральная откачка. Корабль-то юбилейный — двадцать пятый на своём веку поднимаю. Забыл?
Василий Фёдорович хорошо улыбнулся.
— Почему руки дрожат? Ты что, кур воровал? — спросил Фитилёв, заметив, как пляшет в руках старшего лейтенанта фуражка.
— Сегодня в девять ноль-ноль генеральная откачка, — автоматически повторил Арсеньев. — Но вчера вы сказали: начнём в четверг.
— Посмотри, голубок, — Фитилёв показал метеосводку. — Завтра во второй половине дня ожидается шторм. Да что с тобой? — Просунув палец за воротник, осторожно поскрёб шею. — Не болен ли? Что?
Арсеньева мучили сомнения.
«Что, если я прямо сейчас признаюсь во всем? Нет, надо повидать прежде Медониса. Извиниться-то все равно я должен. А уж если ничего не выйдет, тогда… Как болит голова!..»
Слова Василия Фёдоровича о штормовой погоде он пропустил мимо ушей.
— Съел вчера какую-то дрянь, Василий Фёдорович, — неопределённо сказал он, — рыбные консервы оказались не совсем, гм… доброкачественные.
«Скажи, пожалуйста, консервы!» — думал уже о другом Фитилёв.
— Завтра «Меркурий» должен быть в порту, — барабаня пальцами по ручке кресла, продолжал он. — Разве есть препятствия? — И вдруг забеспокоился: — Может быть, не все готово к подъёму? Что? Ты, того, говори прямо!
— Нет, что вы, Василий Фёдорович! Помпы на местах, бензина везде с запасом. Людей проверил: каждый свои обязанности знает.
— Ну раз так, порядок! — Фитилёв зашевелил усами. — Ты, голубок, обойди посты, поговори с народом. Сегодняшний денёк для всех дорог. Что? Ну, как там старуха, дочка? — улыбнулся он. — Почему не рассказываешь? Странный ты сегодня, не пойму! — вглядываясь в Арсеньева, с досадой добавил Фитилёв. — Что? Кисель, тряпка какая-то, прости меня старика за грубое слово. Опять о своём горюешь? Потерпи. Англичане говорят: когда дело дошло до худшего, оно начнёт изменяться к лучшему. Подымем вот корабль, все образуется…
Двойной удар в корабельный колокол мгновенно направил мысли командира отряда совсем по другому курсу.
— Девять часов, голубок. — Он выпрямился, поправил орденскую колодку и шагнул к открытому иллюминатору.
Едва затих колокол, как в каюту ворвался звенящий, захлёбывающийся вой сильного мотора.
— Пост номер пять на кормовом трюме. Молодец Гордеев! — обрадовался Фитилёв.
Через мгновение взревел второй мотор, за ним третий…
Командир распахнул дверь и, словно по команде «смирно», вытянул руки по швам. Теперь грохотало со всех сторон, и весь корабль чуть заметно дрожал. Каюта наполнилась гулом моторов и шумом лившейся за борт воды. Над палубой поднималось сиреневое облако выхлопных газов. Василий Фёдорович стоял радостный, счастливый.
— Товарищ капитан-лейтенант, — торжественно доложил подошедший мичман с повязкой дежурного. — По вашему приказанию запущены все наличные отливные средства. Помпы откачивают десять тысяч тонн в час. — Слова мичмана тонули в грохоте моторов.
— Хорошо! — Фитилёв махнул рукой. Мичман ушёл. — А ведь молодцы матросы, Серёга, изрядны в делах! За месяц, нет, и месяца не прошло, а такой корабль подготовили. Это понимать, голубок, надо! Что?
Он с довольным видом разгладил усы.
«Да, самый неподходящий момент для моих признаний», — подумал Арсеньев.
— Разрешите проверить посты? — Арсеньев приставил руку к фуражке.
Фитилёв кивнул головой.
— Иди, голубок. Не волнуйся: все образуется… Подожди. — Он порылся в бумагах на столе и подал Арсеньеву незамысловатый чертёж. — Возьми, просил ведь. Я и тряхнул стариной.
— Что это? — спросил Арсеньев с удивлением.
— Лодья.
— Спасибо, Василий Фёдорович, — спохватился Арсеньев. — Виноват, в голове другое ходит.
Прошло несколько часов.
Арсеньев увлёкся работой и совсем позабыл про свои горести. За это время насосы выбросили за борт около шестидесяти тысяч тонн воды — почти в два раза больше, чем вмещал корпус «утопленника». И в то же время уровень воды внутри судна понизился всего лишь наполовину. В кормовых отсеках дело шло ещё хуже. Вода уходила в несколько раз медленнее, чем предполагал Арсеньев.
Василий Фёдорович не очень-то разбирался в математике — все рассчитывал и вычислял Арсеньев, — зато был неисчерпаем на выдумку, без чего при подъёме судов не обойдёшься, и почти всегда интуитивно находил правильное решение самых сложных задач.
У поручней, спиной к Сергею Алексеевичу, стояли два матроса в чистых парусиновых робах. Сблизив головы, они перебрасывались словами под несмолкаемый гул десятков мотопомп.
— Смотри ты, и ветер не помогает, дышать нечем, — косясь на ядовитый туман выхлопных газов, говорил высокий, плечистый водолаз Петя Никитин. — Шуму, гаму!.. Всех чаек распугали.
— А как ты думал? Если тысячи тонн водички за час откачивать требуется. Ш-штука! Посмотри, шлангов-то батя Фитилёв распихал, — слегка заикаясь, заметил Ваня Фролов, друг-приятель Никитина. — Чувствуешь толчок? — Он схватил Никитина за рукав. — Всплывает, видно, корабль.
Приятели многозначительно переглянулись.
— Однако, друг, быть великому авралу. Небо-то, смотри! — Фролов показал на чёрные штормовые тучи на горизонте.
— Авось не будет! Мне бы только на берег добраться.
«А вдруг на самом деле всплывает? — Арсеньев тоже ощутил толчок, — Пора бы! Вот обрадуется Василий Фёдорович! Поглядим!» — Он легко перебросил через поручни на буксир «Шустрый» своё плотное тело.
— Всплывает! — весело крикнул он, взглянув на залатанный бок гиганта. — Фролов, доложи командиру, якорь надо готовить, а не то понесёт!
С низенького буксира была хорошо видна тёмная полоса непросохшего ржавого железа на корпусе «Меркурия». У самого корабельного носа ширина её почти в два человеческих роста. К корме она постепенно становилось уже. Корабль всплыл на высоту этой полосы. По бортам его торчали, словно стволы орудий, толстые гофрированные шланги. Содрогаясь от мощных усилий, они выбрасывали пульсирующие водопады. Море вокруг кипело, как в огромном котле, а немного поодаль перламутром переливались разводы нефти.
Антон Адамович стоял на мостике буксира и, сжав поручень, смотрел на бурлящую воду, истекавшую из корабельного брюха. После бутылки коньяку Медонис спал плохо и проснулся с тяжёлой головой.
«Что делать! Он всплывает! — с ненавистью думал Медонис. — Мне надо попасть внутрь корабля во что бы то ни стало! Дьявол! Может быть, сейчас выходит из воды моя каюта и кто-нибудь найдёт чемодан. Так, случайно, просто споткнётся о него. А старший лейтенант пока не думает извиняться. Нет, тут что-то не так. Он должен прийти, я играл наверняка… А если пустить дело на самотёк? Пусть всплывает судно. Попытаться попасть в каюту? — Медонис снова перебирал все доводы „за“ и „против“. — Но разве я знаю, когда каюта выйдет из воды? И буду ли я тогда здесь? Вдруг этот плешивый дьявол Фитилёв погонит меня в порт за бочкой бензина или мотком провода? В лучшем случае, если я буду на корабле, у каюты могут оказаться матросы. Они схватят чемодан на моих глазах, и я не смогу ничего поделать. Нет, нет, вчера я решил правильно! Подъем судна необходимо задержать. Под водой достать труднее, зато без дураков. Торопится, сукин сын!» — бранил он Фитилёва.
Злость душила Медониса.
Когда Арсеньев увидел на мостике его яростное лицо, радость от удачной работы, наполнявшая его, исчезла.
Он заставил себя подойти к Медонису.
— Здравствуйте, Антон Адамович, — натужно улыбаясь, он подал руку.
— Приветствую вас, товарищ старший лейтенант. — Медонис расцвёл в улыбке и ответил крепким пожатием.
— Я хотел бы серьёзно поговорить с вами.
— А-а, понимаю… — Антон Адамович продолжал улыбаться. — Неприятность у меня в доме сегодня ночью? — Он с трудом подавил торжествующие нотки в голосе.
— Да. Я просил бы вас…
— Мы поговорим после, в другом месте, — торопливо сказал Медонис и оглянулся, — без свидетелей. А сейчас к вам просьба: покажите, что делается внутри корабля. Для вас нетрудно, а мне очень интересно. Так есть.
— Интересно? Да, конечно. М-да… — Арсеньев озабоченно посмотрел на часы.
Как не хотелось ему отрываться от дела, связывать себя с этим пострадавшим мужем! На всплывающем корабле каждую минуту появляются все новые и новые заботы. Но что поделаешь, он был виноват и должен как-то загладить случившееся.
— Сейчас много работы. Но, пожалуй… Часть мотопомп переставили на одну палубу ниже. Я собрался проверить. Идёмте, Антон Адамович.
Корабль неуловимо медленно всплывал. Издали он был похож на огромное чудовище, изрыгающее воду.
* * *
Каюты, коридоры, рестораны и много других помещений внутри корабля, как раз до кормовых трюмных отсеков, уже были освобождены от воды. Десятки людей трудились внизу, переставляя тяжёлые мотопомпы, перетаскивая толстые, «крупнокалиберные» шланги; в кромешной тьме мелькали слабые огоньки «летучей мыши». Электрики перематывали резиновые провода переносных ламп. Боцманская команда расчищала забитые илом и песком многоэтажные переходы, ставила времянки взамен сгнивших деревянных лестниц. Голоса людей терялись в лабиринте тесных и сырых коридоров, звучали глухо, как в подземелье. Работа шла споро, весело. Да и как не радоваться: оживает огромный корабль.
На нижних палубах сыро, грязно, скользко. Антон Адамович и Арсеньев осторожно шли по узкому и захламлённому коридору. У каждой мотопомпы старший лейтенант останавливался, сверял по записной книжке номер поста, осматривал, удобно ли опущен шланг.
— И что вам сюда захотелось, Антон Адамович? — спросил Арсеньев, поскользнувшись на каком-то гнильё. — М-да, место для прогулок, я бы сказал!..
— Один раз в жизни интересно все, — буркнул Медонис. — Все неведомое кажется великолепным. Так есть. Но не всем. Это относится только к личности с повышенным интеллектом. Однако запах здесь!.. — потянул он носом.
— До печёнок пробирает, — подтвердил Арсеньев. — Вы представляете, что значит очутиться без света в этих сырых лабиринтах?
— Это конец. — Антон Адамович беззвучно чихнул. — В темноте отсюда, пожалуй, не выбраться.
— А знаете, мне все равно нравится бродить внутри недавно поднятого корабля. Это осталось ещё с прежних времён, — задумчиво произнёс Арсеньев. — Когда-то я учился в школе водолазов. Мне всегда чудилось, что каждая закрытая дверь прячет свою тайну. Хотелось найти что-то важное, похороненное вместе с судном на дне моря. Я стараюсь представить себе трагедию, разыгравшуюся на корабле в последнюю минуту.
— Да вы романтик! — усмехнулся Медонис, вспомнив, что стоит на том месте, где в ночь гибели корабля пил пиво.
Трудно было представить, что в теперешнем царстве мрака и сырости лежали ковры, сияли хрустальные люстры, носились, звеня посудой, официанты в белоснежных куртках, прохаживались разодетые пассажиры, звучала музыка…
— Антон Адамович, корабль-то — мой крестник, — прервал Арсеньев воспоминания Медониса.
— Крестник? — удивился Медонис. Ему было известно, что при спуске со стапелей о форштевень корабля разбивают бутылку шампанского. Это называется крестинами. Бутылку обычно разбивает высокопоставленная дама, её называют крёстной мамой. Но про крёстного отца Антон Адамович никогда не слыхал.
— Я окрестил его торпедой, даже двумя. Поэтому и крестник, — объяснил Арсеньев.
— Это невероятно! — только и мог вымолвить Антон Адамович как-то сразу охрипшим голосом.
«Совпадение, неповторимая встреча на затонувшем корабле», — пронеслось в голове.
Медонис сжал кулаки, вены на висках его вздулись. Всем своим существом он ощутил в Арсеньеве врага. «Советский офицер, он стрелял в меня, Эрнста Фрикке, когда я плыл на этом корабле. Нет, господин Арсеньев, война не окончена, она продолжается. Она будет продолжаться, пока существует коммунизм, пока жив Эрнст Фрикке». Медонис дрожал от ярости. Он незаметно пододвинулся к старшему лейтенанту.
Дядюшкин ящичек, лежащий в каюте Э222, вовремя привёл его в чувство; закусив губу, Медонис подавил бешенство.
— Расскажите, как это случилось? — выдохнув, спросил он. — Феерическое зрелище, вероятно! Когда это было? Днём, ночью, какого числа?
— В ночь на восьмое апреля. Дождь был, видимости никакой! Первый раз я промазал, попала только одна торпеда. Лайнер продолжал двигаться. Через полчаса выстрелили ещё раз — удачнее.
— Молодец, черт возьми! — Антон Адамович притворно засмеялся. — Представляю! И многим людям пришёл капут. Так есть.
— Я не видел. Мою лодку сторожевые корабли буквально забросали глубинными бомбами. Пришлось удирать во все лопатки. Тогда казалось, что я потопил гитлеровское государство, — добавил, помолчав, Арсеньев, — уж больно велик пароход.
"Разве литовцы тоже говорят «капут»? — неожиданно пришло ему в голову.
— А сейчас своими руками поднимаете его из воды?
— Да. Так случилось.
— Вы должны гордиться, — с трудом сохранял спокойствие Медонис. — Пустить на дно такой корабль, о-о, не каждому удаётся!
— Ну что ж, пойдёмте дальше? Мне осталось осмотреть две помпы. Или вам надоело? Тогда вернёмся.
— Нет, что вы! Осматривайте ваши помпы. Ах, какая грязь, а, видно, был первый класс?
— По плану здесь второй класс. Осторожно, провал… — Арсеньев поддержал Антона Адамовича. — Не оступитесь.
Ковры, когда-то устилавшие коридор, давно превратились в слизь. Ноги скользили, разъезжались. Медонис несколько раз скатывался к правой стенке, хватался за неё руками. Его щегольскую куртку испестрила липкая грязь, ноги промокли.
— Появился крен, — обеспокоенно сказал Арсеньев. — Небольшой, а уже заметный.
— Это не опасно?
— Пока нет.
— Номер сорок восемь, — разобрал Антон Адамович, очистив от грязи белый эмалированный кружочек. — Посмотрим.
Он осветил каюту. Там, где были когда-то деревянные, до блеска отполированные койки, покрытые белоснежным бельём, теперь серел дурно пахнущий хлам. В углу из мокрого песка торчали ножки сломанных стульев. Вместо стекла в иллюминаторе — толстая деревянная пробка с ржавым болтом посередине: работа водолазов. С потолка клочьями свисали куски краски, по стенам бежала тонкими струйками вода. Полочки, деревянные панели разваливались, как только к ним прикасались. Из темноты послышался шорох.
Осветив дальний угол, Арсеньев увидел большого краба, копошившегося в мокром мусоре.
— Гадость, — поёживаясь, сказал он.
В четвёртом отсеке несколько матросов, перекидываясь короткими фразами, налаживали помпу. Они торопились. Стучали гаечными ключами, разгребали руками песок, тянули шланги и пели:
Куда он ни взглянет, все синяя гладь,
Все воду лишь видит да воду,
И песни устал он на гуслях играть
Царю водяному в угоду
И царь, улыбаясь, ему говорит
— Садко, моё милое чадо,
Поведай, зачем так печален твой вид,
Скажи мне, чего тебе надо?
Заглушая песню, дробью рассыпался мотор. Ещё одна помпа вошла в дело.
«Пост Э 17», — отметил в своей книжечке Арсеньев.
— Взяла! — радостно крикнул кто-то рядом, — Взяла, милая!
Двигатель сбавил обороты: тяжело!
Коридор привёл Антона Адамовича и Арсеньева к парадным дверям; внизу оказался большой зал с двумя потемневшими люстрами на облупившемся потолке.
«Здесь был ресторан, — вспомнил Антон Адамович. — Черт возьми, в эту яму я лазил сегодня ночью, — узнал он. — Тут недалеко и моя каюта».
— Придётся обойтись без лестницы, посветите, — сказал Арсеньев. Спрятав в карман свой фонарь, он легко спустился на руках.
Антон Адамович не отставал.
На свету заблестели лужи воды; отовсюду слышались звуки падающих капель. Коридор был завален кучами размокших книг, залитых жидкой грязью. Голоса людей, чавканье помп, перестукивание моторов доносились сюда приглушённо, будто издалека.
«Можно убить человека, и никто не услышит, — прикидывал Медонис. — И стрелять не надо. Удар чем-нибудь тяжёлым — и все! Странный человек этот офицер! Он не трус, этот подводник. На его месте я без колебаний уничтожил бы угрожавшего мне человека. А может быть, он так именно и думает, приведя меня сюда?»
— Товарищ Арсеньев, мне кажется, здесь было бы удобно свести счёты с врагом: кричи не кричи — никто не услышит. — Голос Антона Адамовича прозвучал хрипло.
— Я вас не понимаю, — удивлённо посмотрел на него Арсеньев. — Хотите вернуться наверх? — И бросил взгляд на часы.
«Ничего он не задумал», — успокоился Медонис.
— Простите, товарищ Арсеньев, — безразлично сказал он. — Я вас отрываю от дела. Но мне ещё хотелось бы взглянуть на каюты третьего класса. Я слышал, в западных странах третий класс весьма плох. Клетушки, наверно?
— Тогда придётся спуститься ещё на одну палубу ниже. Там стоит мотопомпа, — Арсеньев вынул записную книжку. — Правильно! Одиннадцатый номер. Но, кажется, внизу ещё вода.
— Вот машинное отделение, посмотрите.
Взвизгнула железная дверь с сохранившейся надписью: «Вход запрещён». Из петель потекла ржавая жижа. Медонис увидел вверху и внизу этажи железных решёток. Две огромные машины уходили своими основаниями куда-то вниз, в темноту.
Ещё несколько поворотов по узким захламлённым коридорам, и они очутились в огромном камбузе с электрическими печами и котлами. На полу из метлахских плиток валялась медная посуда. На тарелках, сковородках и кастрюлях — слой серой слизи.
— В описаниях лайнера, — сказал Арсеньев, — говорится о двадцати семи поварах, работавших в этом камбузе; кроме того, были ещё повара — специалисты по холодным закускам. Мало у нас хороших кафе, где вкусно готовят, — вдруг заметил он. — И клубов интересных нет. Вот моряки и оказываются подчас беспризорными.
Такой поворот мыслей старшего лейтенанта был неожиданным для Медониса. Он заговорил не сразу.
— Мало клубов? — решил он удивиться.
— Не такие клубы нужны морякам, — горячо сказал Арсеньев. — Жалкий зал для кино, две-три комнаты для самодеятельности. Директор, у которого одна мысль: как бы побольше выколотить денег! По-моему, клуб должен быть другим. — Он помолчал. — Дом — десять этажей современной постройки, много простора, света. В каждом этаже своё. На первом, например, моряк может выпить пива, покурить, встретиться с друзьями, музыку послушать. На втором — кафе. Можно вкусно покушать после приевшихся судовых блюд. Потом целый этаж спорта; ещё выше — танцы. Разные танцы, несколько оркестров. Ещё выше — кино, тоже не один зал. И без сеансов, ждать не надо. Библиотека. Ну, там какой-нибудь восьмой этаж — шахматы, разные тихие игры. И обязательно один этаж детский: родители могут оставить ребёнка. Да много ещё кое-чего можно придумать. Два лифта возят моряков и вниз и вверх. А самое главное — директор не думает о доходах. Отдых моряка — государственное дело. И в такой клуб моряки пойдут, семьями пойдут… Я написал письмо в профсоюз, — вздохнул Арсеньев.
— Ну и как?
— Пока не ответили.
— Все хлопочете, пишете, ломаете голову! А где благодарность? С вами расправились: попросили с капитанского мостика. Так есть. Несправедливость. Я все знаю.
Арсеньев сделал резкий отстраняющий жест.
— Не для себя хлопочу. Благодарности мне не нужно.
«Непонятный человек! — удивился Антон Адамович. — Да и не он один».
Антон Адамович прожил среди советских людей немало лет, а поступки и мысли их все ещё казались ему необъяснимыми. Вот тут он, Медонис, поступил бы так и сказал бы этак, а какой-нибудь Иванов или Жемайтис поступает совсем по-другому. В чем тут дело? Притворяются?
— Очень уж вы гуманны, — сказал Антон Адамович.
— Я опять не понимаю.
— Очень просто. За хамство у себя в доме я спрошу немало, — вдруг сказал Медонис. — Для вас это ясно. А вы и не думаете от моей персоны избавиться. Здесь легко, стоит только… Вы слышите меня?
— Странный вы, Антон Адамович! Слушаю — и будто читаю старый роман. Извилистые у вас мысли… Что вы хотите от меня потребовать? Я готов принести и приношу всяческие извинения.
— Разве у нас нет людей, готовых на все? — как-то не совсем кстати спросил Медонис.
— Нет, почему же, есть, но пакостить им удаётся все меньше. — Арсеньев запнулся. — Теперь их вовремя хватают за руку…
Грохот и скрежетание, напоминавшие шум обвала, прервали Арсеньева. Корабль вздрогнул и чуть покачнулся. В пустом железном корпусе судна звуки усиливались, приобретали какой-то особый смысл, казались зловещими.
— Что это? — Медонис машинально пригнулся и закрыл голову руками.
— Отдан якорь, — спокойно объяснил Арсеньев. — Теперь зацепились за грунт. Якорище у нашего корабля пять тонн: на двоих делан, одному достался.
Арсеньев представил себя на мостике. Теплоход медленно движется к стоянке. Вокруг корабли с чёрными шарами на стеньгах. Вот и удобное место. «На баке, стоять на правом якоре», — отдаёт он команду. Громкоговорители разносят по судну капитанские слова. Ручка телеграфа отброшена назад, как в лихорадке дрожит корпус. У брашпиля застыл боцман. Корабль остановился, чуть-чуть подался назад. Белая пена из-под винта бушует у бортов.
— Отдать якорь! — забывшись, сказал Арсеньев.
— Отдать якорь, — механически повторил Медонис, насторожённо прислушиваясь.
За бортом лениво шевелилась волна. «Я тебе не верю и поэтому не скажу больше ни одного слова. Лёд становится слишком тонким, — подумал Медонис. — Если заподозришь, чего я хочу, мне не выбраться отсюда живым. Так поступил бы каждый. Когда все хорошо, нетрудно быть добрым и мягкосердечным. Но если тебя берут за горло, то…»
— Лучше мы побеседуем у вас в каюте, — предложил он. — Может быть, вы отрицаете самооборону, так сказать, принципиально?
«Уж не сумасшедший ли он?» — пронеслось в голове Арсеньева.
— Да, самооборону в вашем понимании я не признаю.
— Почему? Ведь это инстинкт. Природа. Борьба за существование. Здоровый человек с сильной волей отстаивает свою жизнь. Слабый погибает. Логично. В борьбе за жизнь, за власть все дозволено. Мораль — это пошлость, выдуманная слабыми для своей защиты.
— Это Ницше?
— О-о, вы знаете учение Ницше?
— А что здесь удивительного?
— Но ведь он запрещён в нашей стране.
— Кто это вам сказал?
— Философия Ницше отрицает социализм, — с важностью ответил Антон Адамович. — Социализм по Ницше не спасает человечество от пороков и нужды, так же как не спасает от старости и болезней.
— Мне кажется, Ницше нам, советским людям, не страшен, — отозвался Арсеньев. — О могуществе социализма теперь не спорят — это ясно каждому человеку.
— Немцы считают Ницше мудрейшим учёным, — несколько запальчиво возразил Медонис. — Его взгляды обновились временем, прошли испытания временем, — поправился он. — Философия Ницше сейчас приобретает огромное значение. И не только у немцев!
— Почему вы так уверенно говорите за немцев? — ощетинился Арсеньев. — Далеко не все немцы исповедуют Ницше. Не спорю, реваншистам он по душе, вот у них он и в моде сейчас.
«Вот черт! Дался мне этот Ницше! — Арсеньев удивлялся своей горячности. — И что нужно этому человеку? Затеял какой-то идиотский спор».
Но Антон Адамович не отставал.
— Почему же Ницше сейчас в моде на Западе? — спросил он.
— Неужели вам непонятно? Ницше молился на войну и считал её панацеей от всех бед человечества. Да, да, он писал, что война отсортирует наиболее ценные индивидуумы, создаст высший тип человека и, наконец, породит сверхчеловека. В то же время война должна уничтожить слабых, лишних. Ну и вообще, мол, война — мать всех моралей. Самая плохая война лучше самого хорошего мира — вот что говорил этот философ. Народная мудрость утверждает наоборот. Ницше любил перевёртывать истину вверх ногами: видимо, это его забавляло.
Арсеньев вынул пачку «Беломора».
— Так вот, Антон Адамович, Ницше призывал любить мир как средство — обратите внимание, — как средство подготовки новой войны… Между прочим, Гитлер неплохо разъяснил все это немцам на практике.
Медонис и Арсеньев, экономя батарейки фонариков, разговаривали в совершенной темноте. Лишь изредка их лица освещались огоньками папирос.
Мимо них прошла группа матросов в высоких резиновых сапогах. Они ловко, с шутками раскатывали по коридору водонепроницаемый электрический кабель.
— Товарищ старший лейтенант, — крикнул один, размахивая «летучей мышью», — конец темноте и керосинкам, батя два ящика электроламп выдал!
— Аккуратнее, не разбейте, ребята.
— Никак нет, товарищ старший лейтенант.
Арсеньев, улыбаясь, смотрел вслед матросам, пока не исчезло пятно света. Кто-то из них громко бухал сапогами по палубе.
— Я вижу, вы неплохой пропагандист. — Медонис усмехнулся. — Простите, мне пришла несуразная мысль. Если бы вам предложили много денег… Не в рублях, а, скажем, в долларах, неужели вы бы отказались?
— Наверно, отказался бы. Они мне попросту не нужны, — не задумываясь, ответил Арсеньев.
— У нас делать с ними нечего, — сразу согласился Антон Адамович. — Но на Советском Союзе не кончается свет… За границей вы могли бы открыть на доллары своё дело. Ну, например, купить торговое судно — скажем, тысяч на десять грузоподъёмностью. Не плохо, а? Ведь вы капитан. Подумайте: капитан собственного судна…
— Нет, увольте, судовладельцем быть не собираюсь, — усмехнувшись, возразил Арсеньев. — Что же мы стоим? Идёмте.
— У меня несколько иная точка зрения на эти вещи, — с вызовом заявил Медонис, шагая вслед за Арсеньевым.
— Какая?
— Ведь моряки — космополиты; корабль — дом, море — родина, единая для всех. Если хотите знать, патриотизм присущ больше кошкам. Кошачий патриотизм. — Медонис захихикал. — Как кошки привыкают к печке, к дому, к ящику с песком, так и человек привязывается к всевозможным предметам, которые он считает своей родиной. Средне-Русская возвышенность, валдайские колокольчики, избы с петухами и прочее — ерунда.
— Так могут рассуждать бездомные люди, пригревшиеся у чужого очага, — гневно отпарировал Арсеньев, — люди, забывшие своё отечество. Родина не только отчий дом и совсем не колокольчики. Народ! Гордость за его великое прошлое и великое настоящее. Россия, — улыбнувшись, с чувством сказал Арсеньев. — Мне приятно произнести это слово и слышать его в устах других. Когда я вспоминаю, как любили мои предки русскую землю, как они мирно трудились, как мужественно оберегали её от врага, делается тепло на сердце. Я думаю, советский патриотизм — это прежде всего любовь к Родине. Каждый народ в нашем Союзе должен любить свою Родину. В своё время Ницше издевался над «смешным, ненужным патриотизмом». Он — да, он был космополитом. Сверхнациональная раса господ, сверхнациональная раса рабов — вот его мечта. Как её отделить от расизма? Странно, что можете думать иначе. У вашей родины, Литвы, — славная история, есть что любить и чем гордиться.
Медонис молча пускал дым в темноту лабиринта. «Скоро ты встанешь у меня навытяжку, сволочь! — злорадствовал он. — Посмотрю, как поможет тебе твоя Родина».
— О-о, вы националист, я вижу.
— Отнюдь, любовь к своему народу никогда не считалась национализмом, — отрезал Арсеньев. — Я всегда уважал другие народы. Но я не могу жить где-то на другом берегу. Нет, это не по мне, — продолжал он горячо. — Сколько приходилось бывать за границей, и всегда одно и то же: месяц проживёшь в Англии, Франции или ещё где-нибудь и уже ждёшь не дождёшься, когда домой.
— Многое, впрочем, можно приобрести и здесь, — примирительно сказал Медонис. Он зажёг фонарь и искоса глянул на старшего лейтенанта. — Доходный домик, например…
— Я против доходной собственности.
— Напрасно! Частная собственность как раз то, что отличает человека от животного. Не помню, кому принадлежат эти умные слова.
— Частная собственность может сделать человека животным, — снова загорячился Арсеньев. — Она несёт несчастье. Как только человек начнёт вышибать деньгу из собственности, он гибнет для общества. Да и себя обкрадывает.
«Вот экземпляр! — удивился Арсеньев. — Словно турист из Америки. Для чего эта вся болтовня? Деньги, собственность, космополитизм… Чего он хочет от меня?»
«Продолжать разговор в этой плоскости нельзя, — подвёл итог и Антон Адамович, — слишком скользко. Он говорит искренне. Чтобы его сломить, требуется что-то сильнодействующее. Кретин! С таким жирным пятном в биографии я запел бы другое».
— Вы бывали в США? — чуть замявшись, спросил он.
— Бывал.
— Мне не пришлось. Как вы считаете, что за народ американцы?
— Хороший народ, душевный, деловой, но…
— Что «но»?
— Слишком доверчивый.
— Слишком недоверчивый, вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, слишком доверяет своим правителям, своей прессе. Что-что, а пропаганда у них на высоте. Как говорится в старом анекдоте, «делают из мухи слона и торгуют слоновой костью».
Впереди показался слабый желтоватый свет.
— Смотрите, здесь ещё одно помещение, — удивился Медонис.
В обширной кухонной кладовке навалом лежали оцинкованные ящики, бутылки с соусами. Разнокалиберные консервные банки раскатились по всем углам. Краснощёкий помощник повара судоподъёмной группы, поставив рядом керосиновый фонарь, сидел на корточках возле груды отобранных консервов и с аппетитом облизывал ложку.
— Товарищ старший лейтенант, — приглашающе сказал он Арсеньеву, — малиновое варенье, а по-ихнему — джем, вкусное.
— Спасибо, товарищ Заремба, ешьте на здоровье. — Арсеньев поднял небольшой зеленоватый чайник.
— На память Андрюшке, — объяснил он, вытирая находку рукавом изрядно выпачканной спецовки. — Вместе чайком будем баловаться.
— Какому Андрюшке? — поднял брови Медонис.
— Сыну, — сказал Арсеньев. — Пойдёмте. Время бежит.
Они миновали ещё несколько кают.
— Здесь можно спуститься в третий класс. — Старший лейтенант показал на квадратное отверстие в палубе.
Но спуститься не удалось: в нижнем коридоре ещё высоко стояла вода.
Антон Адамович посветил туда фонарём. Знакомые места… Там он пробирался вчера с аквалангом. Деревянный хлам, мешавший ему двигаться в воде, кое-где преградил палубу. Выступили холмики песка. Вот свастика на стене, выцарапанная ножом…
— Досадно, — с сожалением протянул он, — но что поделаешь! Моряки говорят: выше клотика не полезешь. А как вы считаете, товарищ Арсеньев, скоро ли вам удастся осушить третий класс?
— Боюсь предсказывать, — вздохнул Арсеньев. — Мы недавно остановили половину насосов. Остальными поддерживаем прежний уровень. В труднодоступных отсеках идёт подчистка. Кое-где ставим новые заплаты, чиним старые пластыри. Скучная, но необходимая работа. Без неё корабль не подымешь. Откачку скоро возобновим, — добавил он, снова посмотрев на часы. — Ну, а в третьем классе часа через три, думаю, можно будет гулять так же, как здесь.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ВСЕ СЛАБЫЕ И ВСЕ НЕУДАЧНИКИ ДОЛЖНЫ ПОГИБНУТЬ
— Хулиганство несовместимо со званием советского офицера. Вижу, вы это хорошо понимаете. Но не все пропало. Я готов пойти вам навстречу, мы все забудем: ничего не было, никто ничего не знает. Но все это при одном условии… Что вы скажете?
Антон Адамович, развалившись в хозяйском кресле, говорил медленно и наставительно.
На брезентовой раскладушке устроился Арсеньев. Он сидел, опустив голову, тяжело задумавшись. «Нет, какой уж капитан, если память отшибло! — размышлял он. — С такими способностями ты опасный человек на морском флоте. Можешь такое натворить, что министру не расхлебать…» Он посмотрел на карту Студёного моря, висевшую над койкой, и вздохнул.
Слова Медониса коснулись лишь краешка сознания.
Как только из воды стали выходить нижние этажи, каюта Арсеньева потеряла свой прежний вид. На полу появились следы грязных ног, бумажки с цифрами и чертежами в беспорядке валялись на столе. На постели, едва прикрытой одеялом, лежал толстый справочник в серой обложке. Теперь сюда часто заглядывали моряки, и каюта смахивала на диспетчерскую. Чуть попахивало отработанным газом. Трескотня мотопомп стала тише: большинство насосов перенесены в нижние помещения.
Антон Адамович сделал паузу и испытующе посмотрел на Арсеньева.
Тот молчал и приглаживал бровь. Все, что говорил Медонис, теперь он слушал с нарастающим раздражением.
— Кстати, почему корабль так накренился на правую сторону? — Антон Адамович вопросительно кивнул на самодельный кренометр, вырезанный из куска меди. — Сидеть неудобно.
Арсеньев тоже машинально повернулся к прибору.
«Да, ещё крен, откуда он возник?» Он вспомнил: как только в кормовых отсеках снова заработали мотопомпы, стрелка показала пять градусов, потом восемь, и крен продолжал увеличиваться.
Арсеньев стал прикидывать; приподнялся, взял со стола логарифмическую линейку.
— Я жду вашего ответа! — напомнил Медонис.
— Согласен, — глухо отозвался Арсеньев. — Виновен, но заслуживаю снисхождения, — попытался он пошутить.
«Черт возьми, отчего же все-таки этот крен? Расчёты правильны».
Он отложил линейку.
— Превосходно, — оживился Антон Адамович, — сразу видно делового человека. Так вот, вы должны задержать подъем лайнера ровно на сутки.
— Что, что?! — Арсеньев вздрогнул и резко вскинул голову. — Задержать подъем корабля? Вы шутите!
— Я никогда не шучу, — отчеканил Медонис.
— Да зачем? — не веря своим ушам, переспросил Арсеньев.
— Я заключил пари. Если «Меркурий» будет поднят сегодня, я проиграю, — нагло ухмыльнулся Медонис. — На карту поставлена честь.
— Абсурд! Я не могу. Вы не подумали о моей чести. — Арсеньев все ещё не принимал всерьёз предложение Медониса. — Я согласен заплатить вам за весь ущерб.
— Вы играете в прятки, дорогой друг. Я прямо от вас иду к товарищу Фитилёву, — раздельно выговорил Медонис. — Попытку обесчестить мою жену вы думаете оплатить деньгами? — Он встал и шагнул к двери. — Вам поздно заботиться о своей чести.
В каюту вошло, казалось, что-то страшное.
— Мне это без смерти смерть! — крикнул Арсеньев. На его виске судорожно забилась тонкая жилка.
В дверь постучали. Вошёл матрос Евсюков. Его скуластое лицо с крупными веснушками сияло.
— Товарищ старший лейтенант, — торопливо заговорил он, не замечая напряжённости в каюте. — Разрешите доложить?
— Докладывайте, — не сразу отозвался Арсеньев, подавляя нервную дрожь в руках и ногах.
— В машине почти сухо, товарищ старший лейтенант, — взволнованно и не совсем складно продолжал матрос, — и мы с Бортниковым заметили, что из топливной цистерны номер шесть вытекает мазут. У корабля крен на правый борт, вот он и вытекает. Мы с Бортниковым рассудили: ежели во всех цистернах правого борта осталось топливо, а левые пустые, крен беспременно должон быть.
Матрос, не мигая, выжидательно смотрел на Арсеньева.
Арсеньев молчал, собирая все свои духовные силы, вытер платком лицо.
«Что говорит Евсюков?.. Да, где-то там, в машине, мазут. В топливных танках правого борта три тысячи тонн мазута. Ах, вот оно что: если откачать мазут, крена не будет!»
— Правильно, — подняв заблестевшие глаза, сказал он и неожиданно обнял матроса. — Правильно, Евсюков! Молодцы, ребята, спасибо! Мазут откачаем, не будет крена. Я-то, я-то каков, недодумался!
— Разрешите идти, товарищ старший лейтенант? — спросил оторопевший матрос.
— Иди, Евсюков. Молодцы!
Дверь за матросом закрылась. Наступила пауза.
— Вот вам удобный случай, — сказал Медонис, в упор смотря на Арсеньева. — Прежде всего не следует торопиться с докладом начальству.
«Помогай сам себе, тогда всякий тебе поможет» — вот принцип любви к ближнему! Сейчас, сволочь, ты встанешь на колени!" — торжествующе решил он.
— Продолжать откачивать воду опасно: крен увеличится, и может произойти несчастье, — вслух думал Арсеньев.
«Я пытался обесчестить его жену… — снова зажглось, заполыхало в мозгу. — Не может быть этого!» Арсеньев застыл в напряжённом ожидании: что будет дальше.
Антон Адамович взял со стола фотографию, повертел в руках.
— Кто эта особа, ваша дочь? — спросил он небрежно.
— Поставьте на место, — холодно сказал Арсеньев.
Медонис, взглянув на старшего лейтенанта, проворно поставил карточку.
Арсеньев смотрел на Медониса с открытой ненавистью. Взгляды их встретились. Медонис отвёл глаза и сказал:
— Не пугайтесь крена — это не помеха, а одно другому помогает. Если крен увеличится, командир прекратит откачку. И тогда я выиграю пари. Вы ничем не рискуете. Не бойтесь, будьте сильным. Великий Ницше утверждает: «Все слабые и все неудачники должны погибнуть. Таково первое положение нашей любви к людям. И мы должны в этом им помочь».
— Я все хотел спросить вас, зачем вы вчера пригласили меня к себе?
— Хотел просить отложить подъем корабля. Теперь я требую!
В каюте было прохладно, но Арсеньеву казалось, что он проходит экватор: рубашка прилипла к телу.
— Я вижу, вы согласны? — вкрадчиво спросил Медонис. — Так и есть. До свиданья. — И он вышел из каюты.
Зачем ему нужна задержка подъёма корабля? На одни сутки? Если бы Арсеньев мог предположить, допустим, диверсию, он действовал бы по-другому. И тому, что произошло у Мильды, он тоже нашёл бы иное объяснение. Но из-за кучи железного лома кто же станет огород городить, какая уж тут диверсия? Чепуха! Но почему такая настойчивость?
Чем больше он размышлял над этим, тем меньше понимал.
Сжав виски, Арсеньев с ужасом убеждался в безвыходности своего положения. Что делать? Проходит дорогое время, каждая минута на счёту. Голова должна быть светлой, и тогда решения придут сами собой, как на капитанском мостике в опасные минуты. Он всегда правильно определял обстановку и, как бы ни были тяжелы обстоятельства, находил выход. Это главное в его работе. Ведь капитан в своём роде изобретатель правильных решений в трудных условиях, только на изобретательство ему отпускается очень мало времени.
«Но как же теперь? Этот болван требует задержки на сутки. При подъёме корабля крен — опасность! Вот задача! Наташа!.. Как там с ней? Корабль всплывает — и крен… Берегись, Сергей Алексеевич, идёшь на красный огонь! Курс ведёт к опасности. Опасность не только для тебя одного — для всех, кто на корабле. Опасность… Я знаю, что надо сделать: прекратить откачку, убрать из танков мазут. Но почему ноги не идут, словно приросли к палубе?..»
Арсеньев представил себе положение корабля. Нос — высоко над грунтом, а корма ещё в донном песке. Дифферент немалый, как у подводной лодки, всплывающей на поверхность. Но помпы на корме продолжают отсасывать воду. Что это?.. Лёгкий толчок — так вздрагивает судно, слегка прикоснувшись к грунту. Он посмотрел на кренометр. Стрелка чуть-чуть качнулась и встала на место. Опять качнулась… Значит, корма приподнимается на небольшой волне, ещё немного — и корабль по-настоящему всплывёт. «Но если корма оторвётся от грунта, крен увеличится, — мгновенно представил он, — и тогда…»
Папироса, лежавшая на столе, быстро покатилась к правому борту. Шуршание чуть слышно, но Арсеньев уловил его. Он не спускает глаз с кренометра. Сама собой распахнулась дверь. В каюту ворвался ветер и разбросал бумаги.
Прибор показал десять градусов, потом двенадцать, тринадцать. Медлить больше нельзя: прекратить откачку, остановить подъем!
Арсеньев выскочил из каюты, но вернулся и спрятал в стол фотографию. «Девчушка моя!» — подумал он. Стрелка кренометра передвинулась ещё на один градус. В несколько прыжков Арсеньев очутился у кормовых отсеков.
— Стоп! — во всю силу закричал он, перегнувшись через комингс люка, и поднял руки. — Стоп! Остановить!
Моторист, находившийся на две палубы ниже Арсеньева, из-за стука мотопомпы не расслышал голоса. Арсеньев ринулся вниз, выключил мотор и, задыхаясь, присел на захватанную грязными руками скамейку.
«Пятнадцать часов сорок пять минут; старший лейтенант Арсеньев остановил мотопомпу номер восемь», — записал моторист в синюю тетрадку.
В последнем кормовом отсеке Арсеньева ждал ещё один неприятный сюрприз: небольшой по объёму отсек не откачивался. Мотопомпа добросовестно каждый час выбрасывала триста тонн воды, но уровень не снижался. Старший лейтенант тут же распорядился запустить ещё один насос. Но и удвоенная мощность не помогла.
«Недосмотр, плохая работа водолазов, чья-то халатность, — размышлял Арсеньев. Но как ни странно, теперь он вздохнул свободнее, отлегло от сердца. — Да, задержка, но не по моей вине. Но ведь и это нехорошо?! Я всегда отвечал за все, а сейчас разве нет? — Он прислонился к переборке и почему-то закрыл глаза. — И я спокойно думаю об этом!..»
«Он сумасшедший! — будто сверкнула молния у Арсеньева. — Как я не догадался раньше! Шизофреник с томиком Ницше в кармане! Разве нормальный может так говорить? Там, внизу, и потом у меня в каюте. Космополитизм. Задержать подъем! Деньги, собственное судно!»
— Старшего лейтенанта Арсеньева в каюту командира! — услышал он громкий голос. — Срочно, товарищ старший лейтенант!
Когда Арсеньев появился у Фитилёва, часы показывали четыре. Василий Фёдорович стоял у стола. Сапоги, ватная куртка, брюки и даже трубка — на всем следы зеленовато-серой грязи. От утреннего великолепия не осталось и следа.
«Вот беспокойный старик! — подумал Арсеньев, усиленно приглаживая бровь. — Опять облазил все судно: судя по виду, побывал на третьей палубе. Что делать? Я плыву по течению, а надо действовать».
— Товарищ капитан-лейтенант, — официально обратился он, — всплытие замедлилось. В кормовом отсеке вода не уходит. Топливо сжигаем впустую. Надвигается шторм, получили второе предупреждение. Крупная зыбь неизбежна, и тогда несколько ударов корпуса о грунт, и наши пластыри…
Фитилёв резко повернулся к Арсеньеву.
— Но почему, черт возьми, судно не выравнивается? Что? По твоим расчётам, к полудню корабль должен быть на ровном киле, с осадкой не более десяти метров, а сейчас четыре часа?
— Нос девять, корма тринадцать с половиной метров, товарищ капитан-лейтенант. Крен достиг двадцати градусов, корпус течёт.
Фитилёв с ожесточением раскурил трубку.
— Что? Крен… Действительно. Гм… Глубина портового фарватера всего десять метров. Так что ты предлагаешь?
— Поставить корабль в исходное положение.
«Неужели это я говорю? — ужаснулся про себя Арсеньев. — Боже мой! Какое странное стечение обстоятельств? Но разве есть другой выход? Он сумасшедший, этот Медонис, маньяк».
— То есть как же, например? — не сразу понял Фитилёв. — Затопить корабль? Нет, дорогой товарищ, рано заупокойную играть! Бросить коту под хвост столько труда! Нет, и ещё раз нет! Что? Серёжа, друг, — положив руку на плечо Арсеньева, совсем другим тоном сказал Василий Фёдорович, — да ты подумал, что говоришь? Выходит, для тебя так просто: «Поставить судно в исходное положение». Как в актах пишут. А что получится, подумал? Бензина нет, свой лимит мы израсходовали. А если в этом году не откачать, начинай все сначала. Мне скажут: «Сам виноват, старый дурак, зачем в помощники взял морячишку из торгового флота!..» Выходит, не оправдали мы себя, Сергей Алексеевич, — с горечью закончил он.
Фитилёв смолк.
Арсеньев стоял понурившись. Лицо его пылало.
— Вот, голубок, — продолжал командир, — раз вода не уходит — стало быть, есть дырка в днище. Да, там пробоина! — Он прищурил припухшие глаза. — Найти и заделать. Что? Послать лучших водолазов — Фролова и Никитина. Откачку продолжать всеми средствами. К рассвету начнём движение в порт. Буксиры заказаны. Выполняйте. Немедленно!
Когда Фитилёв говорил «ты» — это означало дружбу. Но если он «выкал» — то берегись, дело серьёзное, всего можно ждать.
Оставшись в одиночестве, капитан-лейтенант задумчиво потрогал усы, включил электрическую лампочку и, посапывая, стал проверять расчёты. А «Меркурий» в ожидании лучших времён спокойно подрёмывал на якоре.
* * *
— Ну, вот и водолазы, — объявил Арсеньев, открыв дверь обширного, в два света, зала, отделанного морёным инкрустированным дубом. Здесь тоже был склад. На тёмном фоне стен выделяются вырезанные из крепкого дерева, белого, как слоновая кость, фигуры древних мореплавателей.
Сергей Алексеевич покосился на викинга Эриксона: в шлеме и панцирной рубахе, в развевающемся плаще, он наклонился, вглядываясь вперёд, словно отыскивая в тумане путь своему кораблю.
Старший лейтенант думал о надвигающемся шторме: пророчат северо-западный, десять-одиннадцать баллов Волны и сейчас приходили к борту все крупнее и сердитее. Ветер крепчал. Арсеньев представил себе, как разъярённое море будет бить в борт и срывать пластыри.
«Шторм и крен, да ещё вдобавок этот Медонис…»
Матросы Никитин и Фролов курили в углу салона, усевшись на мешках с паклей.
Арсеньев подошёл к матросам. Они вскочили.
— Собрались на берег, товарищ старшина? — напряжённо улыбаясь, спросил Арсеньев Никитина.
— Так точно, по вашему разрешению, товарищ старший лейтенант.
— Видите ли, тут какое дело… — медленно подбирал слова Арсеньев. — Так вот, придётся отставить берег.
Никитин испуганно посмотрел на старшего лейтенанта, добродушная улыбка разом исчезла с его лица.
— Но ведь утром вы…
— Да, утром я разрешил, а сейчас обстановка переменилась.
— Т-товарищ старший лейтенант, — сказал Фролов, кивнув на Никитина, — ему надо быть на берегу. У него жена в родильном, сына сегодня ж-ждёт.
«И у меня жена в родильном, и я сына жду, — подумал он. — Странно… Почему все стало так безразлично?»
Водолаз Никитин улыбнулся, уверенный, что теперь, когда старшему лейтенанту известно, почему он должен быть на берегу, все будет в порядке.
Арсеньев посмотрел на Никитина, потом на деревянного Эриксона.
— Там обойдутся без нас… — устало сказал он, — без нас… Оба немедленно готовьтесь к спуску.
Никитин поражённо смотрел на Арсеньева.
— Что? — подражая Фитилёву, резко произнёс Сергей Алексеевич.
— Есть осмотреть корабль! — отчеканил Фролов.
Арсеньев медленно пересёк салон и скрылся за тяжёлыми резными дверями.
«Если всплывёт корабль, — продолжал он размышлять, — пластыри уцелеют. Но… но может увеличиться крен, мазут сразу не откачаешь».
— "Над морем красавица дева с-сидит", — неожиданно стал декламировать Фролов, подмигнув деревянному Христофору Колумбу.
И, к другу ласкаяся, так говорит:
— Д-достань ожерелье, с-спустися на дно. Сегодня в пучину упало оно, Ты этим докажешь с-свою мне любовь. — В-вскипела младая у юноши кровь, И ум его объял невольный н-недуг… Он в п-пенную бездну кидается вдруг.— Лермонтов, брат, сочинил, не кто-нибудь. — Фролов улыбнулся. — Видишь, Петя, вьюношу дева послала, так он слова не сказал, в воду полез, а тебе сам старший лейтенант Арсеньев приказал. Н-ничего, Петя, все будет как надо. Жена и вправду без тебя обойдётся…
— Приказать-то он приказал, да не так бы надо. Вот командир наш Фитилёв, — оживился Никитин, — он всегда спросит: как и что, от души спросит. Как мол, сына назовёшь? Как дома, здоровы? И сейчас бы вот про жену спросил. Понимаешь? Уж я наверно знаю: обязательно спросил бы.
— Н-да, п-подход другой у бати… Старший лейтенант тоже хороший человек, мрачный только, думает и молчит, молчит и думает. А сегодня совсем не в себе, по глазам видно. А в-вдруг дочка, — перешёл он на другое, — и в-выйдет, настраивал себя н-напрасно.
— Сын, — упорствовал Никитин.
— Ладно! — махнул рукой Фролов. — П-пойдём одеваться.
* * *
По тропам и решёткам машинного отделения рыжий, в веснушках матрос Евсюков и моторист Бортников медленно тащили вниз тяжёлую помпу для откачки мазута. Вокруг так грохотало, будто целая рота стучала молотками по жести. Все мотопомпы работали. Железные трапы и решётки в масле: ногам скользко.
Матросы осторожно поставили деликатный груз на решётки.
Бортников сел верхом на помпу и перевёл дух.
— Хорошо мы с тобой сообразили. Пока старший лейтенант на своей линейке считает, пока с докладом к бате ходит, пока то да се, а помпа, глядишь, на месте.
— А все это я, — отозвался Евсюков. — Как про мазут доложил, старший лейтенант целовать меня кинулся. Ей-богу, не вру, — добавил он поспешно, заметив на лице друга сомнение.
— И я рад, Женя. Чай, моряк, а не портянка!.. Уж как хочется корабль поднять! Ежели нужно, ведром стану воду черпать. А то с чего бы я тут кишку надрывал? Мог бы на постельке отдохнуть за милую душу, не вахтенный. Поехали, Женя, дальше!
Моряки с кряхтением взялись за помпу. Подбадривая друг друга, они спустили её на следующую площадку.
* * *
Арсеньев, не шевелясь, лежал на койке. Вялые мысли, казалось, прилипли к черепу. Прошло только полчаса с тех пор, как он разговаривал с Фитилёвым, а думалось — миновала вечность. Он забыл про матросов и про мазут, оставшийся в танках.
"Корабль сегодня не поднять! — вертелось одно и то же в мозгу. — Все равно придётся останавливать откачку. Выйдет так, как хочет этот шизофреник. Он может решить, что я нарочно. А разве не так? Все ли ты сделал, что от тебя зависит? Подумай, сообрази. Что это у меня, паралич воли? Недаром говорят: «Что вытягивается на дюйм, вытянется на фут».
Скрипнула дверь. Качнулся кренометр.
Арсеньев приподнял взлохмаченную голову, посмотрел на распахнувшуюся дверь, на стрелку, отклонившуюся ещё на два градуса, и снова уткнулся в подушку. «Черт с ним, крен так крен!» Ему казалось, будто он упал с большого судна в воду. Шёл с борта на борт по узкой сходне и поскользнулся. Два огромных железных корпуса тяжело ходят на волне близко от него. Он знает, что каждую секунду корабли могут сойтись бортами. Спасенья нет! Всем существом, каждым нервом ощущал Арсеньев это воображаемое сближение. Он чувствовал, как сжимается от страха каждая его клетка, чувствовал невыносимую тяжесть. Удар, скрежет железа о железо. Пронизала боль, будто все произошло наяву.
— Товарищ старший лейтенант, — появился в каюте Евсюков.
За ним стоял Бортников.
Арсеньев не откликнулся. Евсюков посмотрел на товарища и пожал плечами.
— Вздремнул, наверное.
— Буди, спать не время, — сказал Бортников.
— Товарищ старший лейтенант!
Арсеньев молча повернул голову.
— Мы с Бортниковым спецмотопомпу спустили в машинный отсек, просим указать место откачки. Если сейчас начнём откачку мазута, к утру корабль станет на ровный киль.
Несколько мгновений Арсеньев отсутствующе смотрел на матросов.
— К утру на ровный киль? — Арсеньев бросился к столу, схватил логарифмическую линейку. «Пусть позор, пусть любое наказание!.. Только не быть подлецом!» — лихорадочно думал он, быстро нанося цифры на бумагу.
Мысль его заработала необычайно чётко, он напрягся, как пружина.
…На самом дне машинного отсека, на плитах, залитых мазутом, при свете переносной электрической лампы, работают трое: старший лейтенант Арсеньев, матрос Евсюков и моторист Бортников. Над ними высятся железные лабиринты решёток и трапов. Сверху дневной свет едва проникает сквозь заляпанные маслом стекла люков.
— А что, товарищ старший лейтенант, — готовясь запустить мотопомпу, спросил Евсюков; крупные веснушки на его лице сейчас особенно заметны, — обязательно корабль подымем? Вот только кабы пластыри не посрывало. Ветер-то как гудит, — помолчав, добавил он.
— На берег показаться срам! — вставил угрюмый Бортников, орудуя ключом. — Дразнятся друзья-приятели: на «утопленнике»-де зимовать собираемся. Готово, на месте гайка! А вы, товарищ старший лейтенант, слышно, капиталом плавали, большие корабли водили?
— Плавал… — отозвался Арсеньев. — А бояться, ребята, нечего: ветер теперь нам нипочём. Теперь-то уж всплывём, а наши расчёты — хоть в Академию наук: нате, старички хорошие, проверяйте! Давай, Бортников.
Моторист нажал стартер, мотор рявкнул и сразу раскатился дробным стуком. Из отсека послышалось сочное чавканье: шланги засасывали мазут.
— Ну все! — Старший лейтенант выпрямился. — Помпа работает. Бортникову оставаться здесь, а ты, Евсюков, мигом на палубу, передай приказание мичману Короткову: водолаза Никитина уволить на берег. Под воду вместо него пойду я. — Арсеньев не торопясь вытирал руки ветошью. — Постой-постой, капитану буксира приказываю — доставить Никитина в порт, и сейчас же назад!
«Пока этот сумасшедший Медонис со своим Ницше вернётся, корабль поднимется на поверхность!..»
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА
Около шести вечера Антон Адамович уже был у дверей своего дома. Он нервничал, торопился, но выходило хуже: пришлось долго царапать ключом медный замок. Нащупать скважину удалось не сразу. Немало горячих слов досталось мастерам замочного цеха. Наконец ключ заскрипел, и замок щёлкнул. В прихожей Антон Адамович снял ботинки и надел мягкие туфли.
«Мильды нет дома», — подумал он.
Обычно жена с нетерпением ждала его, встречала на пороге. Нет, он ошибся. Сжавшись в комочек, она лежала на диване. Бросился в глаза её старый, потрёпанный чемодан, стоявший посередине комнаты, шкаф с выдвинутыми пустыми ящиками.
«Моя супруга что-то задумала, — насторожился Антон Адамович. — Ну что ж, посмотрим».
Он подсел к Мильде, обнял её.
Столовая ещё хранила следы ночного погрома, хотя Миколас после ухода Арсеньева кое-как смел в угол осколки посуды, разломанные стулья, искалеченные фикусы.
Жена не пошевелила пальцем, чтобы навести в комнате порядок. Это тоже отметил про себя Антон Адамович.
Мильда молчала и смотрела в сторону, губы её вздрагивали. Она казалась холодной и чужой.
— Ну, жёнушка, — весело начал Антон Адамович, — можешь меня поздравить! Все прошло удачно. Ты здорово помогла мне и честно заработала свою половину. Завтра я…
— Завтра утренним поездом я уезжаю домой, — перебила Мильда срывающимся голосом. — Мне надоели твои подлые выдумки. Я… я презираю тебя! — она отбросила его руку. — Как я могла решиться вести себя, словно продажная девка! Обмануть честного, хорошего человека…
«Хорошо, что она не знает всего, — мелькнуло в голове Антона Адамовича. — Вот и надейся на верную жену. Нет, так просто не расстанешься со мной, голубушка».
— Ты не поедешь, — вяло, безразлично произнёс он, медленно вставая с дивана. — Не поедешь, — повторил он уже с угрозой.
— Я уже взяла билет! — Мильда вскочила тоже.
Встретив холодный взгляд Медониса, она попятилась. Никогда Мильда не видела таких глаз.
— Чего ты хочешь? — Она подняла руки, словно защищаясь от удара.
Но Медонис опомнился, его глаза потухли.
— Хочешь ехать домой, пожалуйста, — тихо сказал он, — держать не стану. Но не забудь: от меня ты сама отказалась. Ах, как коротка память у женщин! — притворно вздохнул он. — Клятвы в любви до гроба — и вдруг… Вспомни, бог соединил нас.
У Мильды подкосились ноги и бешено заколотилось сердце.
— Я не могу остаться. Человек, который любит, не может поступать так, как ты.
— Не можешь остаться?.. — Медонис решил припугнуть Мильду. — Но ты не учла одного. Кража чертежей из портфеля военного человека, соучастие в краже, — поправился он. — В уголовном кодексе есть очень умная статья, она утверждает…
— Кража? Какая кража? — Сердце Мильды остановилось, ей стало душно. — Значит, у старшего лейтенанта похитили чертежи? Не может быть! Неужели ты способен и на это?
— Держи язык за зубами, девка, — процедил Антон Адамович. — Если хочешь жить, никому ни слова.
— Боже мой! Антанас, что ты говоришь? — Ноздри Мильды побелели. — Ты вернёшь чертежи старшему лейтенанту! — сказала она твёрдо. — Тогда я буду молчать.
— Арсеньеву ничего не будет, — буркнул Медонис, — я все уладил. Чертежи у него.
— Хорошо. Но тебе скажу прямо: все, что ты задумал, подло… Все, все! И как я сразу не поняла! Искать чьи-то драгоценности!.. Ты меня уверил, что это спорт. Я поверила, меня привлекало необычайное, экзотика: затонувший корабль, сокровища под водой… — быстро-быстро говорила она. — Но если это правда, зачем понадобились тайные подвиги? Ты мешаешь людям, выполняющим большое дело. Никто не запретил бы тебе обследовать корабль. Наоборот, все были бы довольны. Ты мог бы помочь им, а ты… ты пошёл на преступление. Ради чего? Эх, Антанас, Антанас! — Мильда заплакала. — Понятно, когда враг, — она задохнулась, — когда враг… Он ненавидит нас, все наше ненавидит, а ты, ты из-за денег на все идёшь!
— Довольно, бывшая комсомолка, — с презрением оборвал Медонис. — Жаль, что я не знал твоих способностей раньше. С детства не выношу проповедей с любой кафедры. Я ухожу на «Меркурий». Осталась одна несложная операция. Надеюсь, я провожу тебя завтра…
Мильда слышала, как он возился в прихожей с ботинками, как хлопнула дверь и скрипнули деревянные ступени.
У крыльца Медониса остановил Карл Дучке. Это было неожиданно.
— Ты не оставил адреса, — бросился он с упрёками. — Я жду целые сутки. Я пошёл за спичками, и ты в это время… Срочное приказание шефа. — Дучке стучал зубами от холода, пытаясь раскурить огрызок сигары.
Антон Адамович поёжился — ещё одно препятствие. Он совсем забыл про «Серую руку». Но сейчас ему наплевать на все. Он твёрдо верил в исполнение своих планов: Арсеньев задержит подъем корабля, и после того, как дядюшкин ящичек будет в руках Фрикке, «Шустрый» возьмёт курс на Швецию.
— Ты должен на своём буксире отвезти меня в порт. Я хочу много рассказать. О-о!.. Ты не заметил ничего странного у себя дома? Нет, ну, конечно, о-о!..
— Отвезу, не беспокойся, — заверил Антон Адамович. Он решил со всем соглашаться. — Мне надо на корабль срочно. Через час жди на причале, и тогда — прямо в Северный порт.
— Приготовь мне кофе, покрепче, погорячее, слышишь? — едва шевелил языком Дучке. — Кофе и коньяк… Ждать ещё час! Проклятый ветер! Цум Тейфель! Я буду счастливчиком, если не получу воспаления лёгких.
* * *
«Они хотят наложить лапу на моё добро. — Медонис вдруг пришёл в бешенство. — Не выйдет! Ходит по пятам, толчётся рядом. А что, если?.. — И он сразу остановился. — Да, так и сделаю. Анонимный доносик куда надо. Обезврежу их, а потом лови меня!»
Медонис вошёл в ближайшее отделение связи, купил конверт и на листке из записной книжки написал несколько строк.
Запечатав письмо, он бодро пошёл к почтовому ящику и без колебаний опустил его.
С высоты шести палуб смотрел Василий Фёдорович на маленький буксир, прижавшийся к борту. Густой чёрный дым валил из трубы. Ветер подхватывал его и расстилал над морем.
«Не ошиблись ветродуи», — размышлял Фитилёв, поглядывая на клубившийся у самой воды бархатный дым.
Густо морщилось беспокойными волнами море. Из-за горизонта тяжело наплывали чёрные тучи. Темнело. Огромный воздушный вихрь медленно двигался на восток. О его приближении радиостанции предупреждали тревожными метеосводками. В портах на мачтах поднимались грозные сигналы. Шторм.
Василий Фёдорович был очень озадачен делами на корабле. Да и шторм изрядно его беспокоил. И откуда он взялся, проклятый! Стояла превосходная погода — и вот на тебе! Фитилёв был уверен в одном: «Если утром корабль не будет готов к буксировке, неприятностей не оберёшься! И Серёга что-то мудрит».
Фитилёва встревожил их недавний разговор.
«Поставить корабль в исходное положение. Покривил душой Серёга, а зачем — ума не приложу!»
С того недавнего времени многое изменилось. Обнаружили мазут в топливных цистернах, Арсеньев сам надел водолазный костюм и сейчас осматривал подводную часть корабля. Фитилёва радовала дружная работа команды. Он видел, что все горели желанием поднять корабль. Сколько изобретательности, смётки проявили люди! Холодный искусственный мазут загустел, как дёготь, и помпа плохо брала его. По подсчётам, не откачать мазут до утра и от крена не избавиться. Подъем корабля был опять под угрозой. И тут моторист Бортников предложил попробовать корабельные насосы. Вместо пара подвели сжатый воздух. Наладчикам пришлось повозиться, но когда насосы заработали, всем стало ясно: победа! Василий Фёдорович с теплотой вспомнил про Бортникова: «Мой ведь воспитанник…»
— Товарищ командир! — подбежал к Фитилёву рассыльный. — Старший лейтенант Арсеньев просит вас к телефону.
К девяти часам вечера небо почернело. Могучий западный ветер все гнал и гнал грозовые тучи.
Удерживаемый якорной цепью, «Меркурий» медленно описывал огромную дугу. Ярко освещённый огнями, он всплыл почти целиком. Стоящий рядом буксир «Шустрый» казался игрушкой: его мачты едва достигали главной палубы великана. А вокруг судна — непроглядная темнота: у фонаря всегда темнее.
Грохотали мотопомпы, выбрасывая воду. Корабль сидел ровнее, крен заметно уменьшился.
* * *
В капитанской каюте буксира «Шустрый» Миколас Кейрялис подробно рассказал Антону Адамовичу о всех событиях.
— Не выгорело наше дело! — заканчивая, вздохнул Миколас. — Всплывает корабль. Гляди-ка, гражданин начальник, словно крепость какая, и крен меньше. Хе-хе! Видать, не испугался вас старший лейтенант. Матросики хвалят его, говорят: с мазутом он справился, сам пошёл пробоину искать.
— Это я им содрал пластырь. И не то ещё сделаю! — буркнул Медонис.
По правде говоря, он ещё не знал, что именно сделает. И вдруг перед глазами возникла авиабомба у кормы лайнера, впившаяся в песок.
— Не мучайте себя понапрасну, гражданин начальник. Пустое дело! В третьем классе, где ваша каюта, воды ниже чем по пояс, сам смотрел, — говорил Миколас. — Пластырь положат — и через час все будет сухо. А там буксиры в порт корабль потянут…
— В порт не потянут. В моих руках остался главный козырь, — медленно произнёс Медонис.
— Теперь, гражданин начальник, никакими козырями не поможешь, — решительно возразил Миколас. И удивился: на лице Антона Адамовича играла улыбка.
— Мой козырь — неразорвавшаяся авиабомба. — Медонис вдруг ударил кулаком о стол. — Понял? Торчит в песке недалеко от кормы… Сейчас я… — Он схватил блокнот и стал быстро черкать в нем шариковой ручкой. — Длина одной смычки, якорь-цепи, — бормотал он, сопя от напряжения, — двадцать пять метров. На брашпиле сейчас две смычки. Расстояние до бомбы было около половины длины судна, значит, — повысил он голос, — надо потравить якорную цепь, удлинить её на две смычки. Корабль навалится на бомбу — и тогда…
Миколас Кейрялис порывисто поднялся на ноги и с ужасом смотрел на Медониса. Его ржавые брови поднялись кверху.
— Ты хочешь взорвать корабль, погубить людей? — пятясь, спрашивал он. — На нем же две сотни матросов… Нет, гражданин начальник, я в таком деле помогать не стану!
— Дурак, этой ночью у нас будут деньги. — Антон Адамович зло посмотрел на морщинистое лицо Кейрялиса. — Матросы тебя своим считают. Потрави канат, всего две смычки, слышишь? Безопасно. Ты не мог знать про авиабомбу. Они не подберут статьи, даже если поймают за руку. Её нет в уголовном кодексе. Суд не сможет предъявить обвинение. А потом я, как помощник капитана порта, скажу. Если ветер поднялся, якорную цепь обязательно надо потравить. Значит, и с этой стороны удивительного ничего нет, коли цепь стала длиннее. Это я к тому говорю, если расследование будет. Понял? Ну как?
— Нет, гражданин начальник, я на «мокрое дело» не пойду. Пусть, если надо, водолазы цепь травят. Бог с ними, с деньгами, не согласен я топить корабль с народом.
Кейрялис решительно нахлобучил кепку на голову.
— Каторжник проклятый! — бешено закричал Медонис. — Деньги ведь… Половину тебе отдам. Видать, ты дурак полный. Мразь!
— Нет, гражданин начальник, я не мразь, — ответил Кейрялис. — Я Родину защищал от немцев. Вот смотри, — он быстро завернул подол рубахи, — на раны смотри, видишь, кровь проливал. Воровством занимался — виновен. За это в тюрьме сидел. А ты за деньги сгубить невинных людей хочешь. Выходит, гражданин начальник, не я, а ты мразь!
— Мели, мели, — глотнув слюну, пробормотал Медонис. — Не часто удаётся послушать философствующего каторжника. — Антон Адамович осклабился. — Ты уже виноват перед судом. Выкрал чертёж из портфеля старшего лейтенанта. Забыл? Смотри, если я донесу…
— И надо же, польстился на лёгкие деньги. Слабый я человек, выпить люблю, — неторопливо продолжал Миколас. — Если что плохо положено, украсть могу. Хозяева виноваты, что добро не берегут… А людей убивать не согласен. На донос твой плевал! Мою дружбу кулаком не завоюешь. Счастливо оставаться! — Миколас взялся за ручку двери.
— Нет, погоди. Сначала я хочу поблагодарить. — Медонис быстро сунул руку в карман пиджака. — Ты ведь работал и должен получить, что причитается.
Выстрел растворился в грохоте мотопомп и в шуме льющейся потоками воды.
* * *
Медонис, задрав голову, с тоской разглядывал высокий борт всплывшего лайнера. Крен у него ещё оставался, и поэтому верёвочный трап, не прилегая к стенке, болтался в воздухе. Пересилив страх, Медонис взобрался на палубу, постоял, осмотрелся. Здесь только одна мотопомпа. Вахтенный моторист, склонив голову набок, прислушивался к шуму мотора. Людей наверху было немного. Борьба за корабль развернулась на нижних палубах. Там грохотали моторы, хрипели донки, перекликались человеческие голоса. Люди напрягали последние усилия. Мощный, глухой шум доносился из железного чрева, палуба содрогалась.
«Я должен взорвать эту развалину, — сказал себе Антон Адамович, — другого не дано. Тогда я господин. Только бы удался взрыв! Черт, корабль будто вулкан перед извержением. Под ногами — ад. Эх, дурак я! Сколько времени готовился, а удобный момент пропустил! Вот и ходи трави канаты».
Он сделал несколько шагов. Кормовая палуба была ярко освещена. У двух воздушных помп — качальщики. Доносилось мерное перестукивание поршней. Мичманы Коротков и Снегирёв следили за сигналами водолазов. Все заняты, никто не обращал внимания на Медониса. Но он твёрдо знал правило: осторожность и ещё раз осторожность!
Медонис вернулся к тарахтящей мотопомпе и тронул матроса за рукав.
— Товарищ, — громко, чтобы перекрыть шум, крикнул он, — одолжи обтирки, обтирки, поиздержались мы на «Шустром», клочка не найдёшь.
Моторист молча достал из ящика пучок ветоши и подал Антону Адамовичу. Крышка ящика упала, но звука слышно не было.
— А что, товарищ матрос, выровняем крен, как думаешь? — кричал Медонис. — Мне бы в порт сходить. За водой для котлов… Да не знаю, как быть.
— Выровним, немного осталось, — уверенно ответил матрос. — Батя сказал, к восьми утра поставим к стенке корабль. Раз батя сказал — значит, так и будет.
— У стенки поставим, — повторил Медонис. — Да ну?! А хорошо бы! Спасибо за обтирку, товарищ!
Медонис решил ещё раз попытаться проникнуть в каюту. Но ему опять не повезло: на второй палубе матросы спускали по трапу бочки с бензином. Пришлось вернуться. Осталось взорвать корабль. Другого выхода не было.
Медонис незаметно перебрался на тёмный противоположный борт: здесь огней не зажигали. Как привидение, проскочил по длинному проходу и оказался на носовой палубе. За месяц он изучил затонувший корабль. У лобовой надстройки, под крышей из толя, работал мощный компрессор на широких колёсах. От него поступал воздух к топливным насосам, качавшим мазут.
Под лампочкой дежурный моторист читал газету. Он даже не поднял головы, когда Антон Адамович прошёл мимо.
«Удачно, весьма удачно! — радовался Медонис, пробираясь между брёвнами и досками, резиновыми проводами и шлангами. — Такой грохот, никто не услышит, когда пойдёт якорная цепь. Дурак Миколас, отказался. Пустяковое дело».
На носу корабля темно. Порывы ветра забивали дыхание. Антон Адамович схватился за фуражку. Одинокий якорный фонарь чуть-чуть освещал исполинский брашпиль. Фонарь раскачивался на ветру, чёрная тень от брашпиля колебалась. Медонис перегнулся через фальшборт — посмотрел, туго ли натянута якорная цепь. Да, туго, она скрежетала в клюзе. Ветер все-таки сорвал фуражку и унёс в море.
Медонис заметил, что нос судна смотрел на маяк, а совсем недавно маяк был по правому борту. Ветер изменил направление, Антон Адамович ещё раз оглянулся по сторонам. Все было по-прежнему спокойно. Маленьким фонариком-авторучкой он осветил маховики и зубчатые колёса брашпиля. Вот звенья якорной цепи, каждый метр весил немало. Круглый «пятачок» света нашёл стопор. Пришлось-таки повозиться с тугой рукояткой. С бьющимся сердцем вслушивался Антон Адамович в глухое рокотание железной цепи. В клюз проходит одна скоба, другая… Довольно! — Медонис застопорил.
Зловещая тень опасности накрыла корабль.
На две смычки удлинилась цепь. На пятьдесят метров отошёл корабль от прежнего места. Антон Адамович не стал задерживаться у брашпиля. Он поспешно перебрался на кормовую палубу к штормтрапу и, стремясь сохранить безразличное выражение лица, закурил. Ноги у него дрожали.
«На этом ветру, — кружились в голове беспорядочные мысли, — корабль скоро опишет свою последнюю дугу… Но где он сейчас? Далеко ли от бомбы? — Медонис судорожно затянулся. — Взрыв может быть через минуту и через полчаса. Скорей на буксир!»
Но какая-то сила удерживала Медониса на палубе. Он посмотрел на небо. Оно было тёмное, нигде ни одной звезды.
«Сколько времени будет тонуть корабль после взрыва? — спросил он себя. Пальцы его нервно теребили обтирку, он все ещё держал её в руках. — Немного. Если слетят большие пластыри, не успеешь сосчитать до ста. Вряд ли сумеют спастись матросы и все, кто внутри. — Он вспомнил тёмные скользкие коридоры, провалы вместо лестниц и хищно усмехнулся. — А, черт возьми, пусть гниют их кости!»
Вспомнились события сегодняшнего дня: убитый Миколас, разгневанная Мильда, пришёл на ум Ницше…
«Ницше поистине велик, — размышлял Медонис. Мысли разрывались на куски, и трудно было вновь соединить их. — Он разрешил сверхчеловеку любое преступление. Я сверхчеловек, господин среди стада. Мне позволено все! Я должен был уничтожить глупого литовца — и сделал это. Подождите, — грозил он кому-то в темноту, — Ницше ещё покажет себя! Дурак Арсеньев! Недаром наши философы прославляют Ницше. Они стараются уверить, будто не на его дровах Гитлер заварил кровавую кашу».
Антону Адамовичу почудился хрипловатый смех, словно клёкот птицы. «Старший механик!» Испытывая тошнотный страх, он обернулся. На палубе никого не было. Последние дни механик Пятрас Весулас все чаще и чаще смущал его. «Одноглазый мерзавец! Он следит за мной. Что ему надо?»
Красные отсветы скользили по судну. Маяк без устали открывал и закрывал свой глаз. Это тоже нервировало Антона Адамовича.
— Товарищ Медонис! — позвал чей-то голос.
Антон Адамович круто обернулся. Возле него каланчой высился замполит судоподъёмной группы Рукавишников.
— Вы без фуражки? Я, признаться, сначала не узнал!
— Унесло ветром, — объяснил Медонис. — Вторую за месяц. Жертвы морскому богу.
А ветер крепчал. По морю непрерывно катились волны, наседали на борт и чуть-чуть колыхали тяжёлое тело корабля. Балтика, наполненная до краёв западным ветром, бурлила и волновалась.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ ИСТИНА ВСЕГДА ИСТИНА
К длинному свайному причалу из толстых струганых досок прилепились рыболовные тральщики. Они стояли парами, словно влюблённые, слегка покачивая тонкими мачтами.
Вахтенный матрос с задумчивым видом сидел на люке. Из радиорубки доносились звуки вальса. На пирсе рыбозавода рабочие выгружали с деревянного сейнера свежий улов и с грохотом закатывали на борт пустые бочки. Одежда людей была густо покрыта блестящими чешуйками.
Механик Пятрас Весулас, скрытый круглой башенкой с надписью «Высокое напряжение», молча наблюдал за маневрированием буксира «Шустрый». Лопасти винта взбудоражили воду, она вскипала тысячами мелких воздушных пузырьков.
Медонис, как всегда, чувствовал себя на мостике неспокойно. Он бегал от одного борта к другому, несколько раз переставлял с места на место ручку телеграфа.
— Посвистайте, посвистайте! — раздался его тревожный возглас.
Буксир тонкоголосо вскрикнул три раза и задним ходом отошёл от стенки. Взбаламученная винтом вода быстро успокоилась. Небольшие волны, забредавшие в порт, сбивали у причала древесную кашицу и рыхлую грязную пену.
Буксир миновал сигнальный пост, выкрашенный белой краской. На мачте висел чёрный треугольник вершиной вверх. Капитан порта предупреждал моряков: «Ожидается шторм от северо-запада».
Проводив взглядом широкий корпус пароходика, шмыгнувшего за огромные каменные глыбы мола, одноглазый механик направился в город. Вдоль причала разрослись молодые яблони, посаженные работниками порта. Сразу за воротами начиналась улица с огромными липами, каштанами, вязами. Липы ещё цвели, на каштанах появились колючие колобки. Возле каждого дома зеленели деревья и пестрели цветники.
Весулас медленно шагал по дороге. «Её зовут Мильда, — размышлял он. — Вот Мильда и поможет мне опознать негодяя. Да, это он! Я уверен. Наглый взгляд, надменность, а главное — голос. Литовский язык ничего не значит. И тот ведь прекрасно говорил».
Пятрас Весулас… В домике лесничего на косе Курш-Нерунг солдаты обнаружили окровавленное тело, в нем ещё теплилась жизнь. Пятрас Весулас очнулся в лазарете.
Как он выжил, было загадкой для врачей. Железное здоровье, воля к жизни.
Упорство Пятраса Весуласа не знало предела. Когда он выздоровел, все поглотила мысль: найти, отомстить!.. Бывает же так: решил человек, ожесточился, и даже время не смягчает его.
Весулас не спал по ночам, вспоминая смерть товарища. Но кому он должен отомстить? Где отыскать подлеца, поднявшего руку на своих спасителей?
Проходили годы, но он не забывал грозных событий той ночи. В схватке Пятрас Весулас лишился левого глаза. Перебирая в памяти подробности, он старался мысленно воссоздать облик убийцы. Проклятый эсэсовец, кажется, он был выше среднего роста, худощав. Блондин с правильными чертами лица. Но разве по таким признакам найдёшь человека?! Ни одной, хотя бы самой незначительной чёрточки, но присущей только ему, не зацепилось в сознании.
Когда Весулас увидел впервые Медониса — нового капитана, зрачок его единственного глаза расширился. Охваченный смутными подозрениями, он долго не мог заснуть. Поднявшись утром с постели, невыспавшийся, Пятрас не знал, что предпринять. Слишком невероятной была мысль: капитан Антанас Медонис — убийца на косе Курш-Нерунг. Бывает же сходство!.. Ну и что же? И все-таки какое-то подспудное чувство не давало Пятрасу успокоиться. За завтраком в кают-компании Пятраса насторожил голос Медониса. «Неужели у двух внешне похожих людей и голос бывает одинаковым?! — размышлял он. — О-о, если бы Медонис заговорил по-немецки!»
Догадайся Антон Адамович, что замышляет угрюмый механик, искоса поглядывая единственным глазом, многое изменилось бы в его планах.
Пятрас решил поговорить с Мильдой.
Дверь открыла сама хозяйка. Пятрас как-то раз видел её мельком на буксире и теперь узнал не сразу. Его удивили пришибленный вид, растерянность молодой женщины.
— Пятрас Весулас, старший механик с буксира. Сослуживец вашего мужа, — представился он.
— Ах, это вы Пятрас Весулас, — тихо сказала Мильда, зябко кутаясь в платок. — Здравствуйте.
— Нам надо поговорить с вами, серьёзно поговорить. — И Пятрас без приглашения вошёл в комнату.
Жёлтый чемодан стоял на том же месте. В углу — мусор, буро-красные пятна на занавесках. Ничего не изменилось после ухода Антона Адамовича.
Мильда остановилась у двери и вопросительно смотрела на нежданного гостя. «Какое угрюмое лицо!» — отметила она.
— Где вы познакомились с мужем? — Пятрас Весулас решил идти прямой дорогой. — Откуда он?
Мильда не сразу ответила. Ей стало не по себе. «Почему он спрашивает?»
Пятрас Весулас молчал.
— На косе Нерунг, в посёлке… — тихо сказала Мильда, и губы её дрогнули.
— Нида? — хрипло выкрикнул Весулас. — В посёлке Нида? Когда?
— В апреле 1945 года. Но зачем вам? Разве он сделал что-нибудь плохое? Не может быть!..
Весулас сорвал чёрную повязку с глаза. Он расстегнул ворот, обнажив бледные рубцы.
— Это он убил моего товарища. Думал, что убил и меня.
Мильда, прижавшись к стенке, смотрела на Весуласа.
— Вы говорите неправду, Пятрас Весулас. Он храбрый литовец. На моих глазах Антанас застрелил эсэсовца, помощника коменданта лагеря. Его родители замучены немцами…
— Ложь! Скорее всего он расправился со своим, чтобы надёжнее замести следы. Я уверен в этом. — И Весулас задохнулся. — Так они всегда поступали. Он — господин, а мы — рабы. Поверь, Мильда, вырви жалость, — прошептал он, подхватив медленно сползавшую на пол молодую женщину. — Он не стоит твоего мизинца, девочка. Слышишь, Мильдуте!..
Перед глазами Мильды возникло лицо в окне.
«Одну картофелину!» — умолял голодный. Зачем Антанас в ту ночь убил его? Отвратительная, необъяснимая жестокость!
— Я должна рассказать обо всем папе… На машине через пять часов я буду дома, — собравшись с силами, проговорила Мильда. — Это все ужасно! Антанаса, наверное, арестуют. Я так во всем виновата! Бедный отец!..
— Мильдуте, я прошу тебя, не мешай! — Одноглазый механик с мольбой протянул к ней руки. — Я отомщу сам. Я ждал, долго ждал! — У Пятраса Весуласа заклокотало в груди, слова были почти неразборчивы. — Я сам уничтожу эту гадину. Ты слышишь меня, девочка? Я и за тебя отомщу, за всех…
— Папа, папочка, прости меня, прости!.. — в отчаянии повторяла Мильда. — Неужели так может быть?!
Медленно, обдумывая каждое слово, Весулас рассказал, как два товарища в море у косы Курш-Нерунг выловили полуживого человека, как старались его спасти и что произошло в заброшенном домике лесничего.
Мильду лихорадило. Она вспомнила сегодняшний разговор. Медонис затеял что-то плохое, это несомненно.
«Но ведь я прожила с ним годы. Как же теперь? Я должна ненавидеть его», — думала Мильда, а ненависти не было. Надо привыкнуть к мысли: «Антанас — враг, — повторяла она про себя. — Я должна ненавидеть его. Я должна помешать ему!»
— Боже мой! — вырвалось у молодой женщины. — Сегодня на затонувшем корабле что-то должно случиться. Я уверена. Нам надо быть там, Пятрас Весулас. Скорее, скорее!.. — повторяла Мильда в отчаянии. — Мой долг…
Она выбежала в соседнюю комнату. Слышно было, как открывались и закрывались какие-то ящики, хлопали дверцы. Через минуту, что-то набросив на себя, Мильда вернулась.
— Успокойся, девочка. Там настоящие люди, он ничего не сможет сделать, — сказал механик. — Оставайся дома.
— Нет, нет, я поеду с вами, Пятрас Весулас! Возьмите меня! — взмолилась Мильда. — Иначе я никогда себе не прощу.
— Ладно, поедем вместе, — внимательно посмотрев на неё, решил Весулас. — Надо быть справедливым. Ты тоже имеешь право.
* * *
Выходить из порта в дурную погоду, да ещё на ночь глядя, никто не соглашался. Пятрас Весулас с трудом упросил старшину рыбацкого бота — не обошлось без бутылки вина.
На сигнальной мачте на месте чёрного конуса горели два красных огня. Дыхание шторма усилилось. За входным буем бот стало изрядно валить с борта на борт.
Ветер нёс пенистые клочья, но Мильда не испытывала страха. Нервы были напряжены до предела.
Но вот и буксир «Шустрый».
Оставив Мильду на палубе, Пятрас Весулас спустился в машинное отделение. В протёртых до блеска железных плитах отражался свет электрических ламп. Вахтенный механик сидел на раскладном стуле и, напевая под нос, вырезал фигурную прокладку из куска кренгелита.
Из кочегарки доносился громкий, энергичный разговор и лязг чугунных топочных дверец.
— Какие приказания с мостика? — спросил Пятрас Весулас.
— Машину держать в постоянной готовности, Пётр Иванович.
Старшего механика, казалось, удовлетворил ответ вахтенного. Он немного постоял и, тяжело ступая по лестнице, поднялся наверх. При каждом шаге что-то позванивало: вероятно, оторвавшаяся одним концом подковка на каблуке.
В каюту старшего помощника Ветошкина Пятрас Весулас вошёл вместе с Мильдой. Хозяин отдыхал на узком и коротком диванчике.
— Мильда Иосифовна, здравствуйте, — сказал старпом, быстро поднявшись. Он вынул свои длинные ноги из каких-то таинственных глубин в деревянной стенке. — Очень рад вас видеть.
— Где Антанас? — спросила Мильда, волнуясь. — Он на судне?
— Ваш супруг ушёл на «утопленник», — ответил долговязый старпом. — С полчаса как ушёл. Я вас провожу в каюту. Одну минутку. — Он открыл стенной шкафчик и снял с гвоздя ключ. Из ящика письменного стола достал связку плоских медных ключей и долго их перебирал. На судне два комплекта ключей от всех кают. Одним ключом пользуется владелец, другой — у старпома, на случай если кто-нибудь ушёл на берег и оставил в каюте непотушенную сигарету. Пожар! Если ключа на судне нет, плохо: придётся ломать дверь. Иногда секунды решают дело. Или бывает так: не закрыли иллюминатор в одной из кают под главной палубой, а судно накренилось. Вода через иллюминатор хлынула в каюту. Авария. Много случаев знает морская практика, когда вовремя открытые двери предупреждали несчастье.
— Пойдёмте, Мильда Иосифовна. — Старпом отыскал, наконец, нужный ключ.
Втроём они вошли в кают-компанию, поднялись по небольшому трапу. Старпом открыл дверь.
Войдя в каюту, Мильда сбросила платок и поправила перед зеркалом волосы. Её опять терзали сомнения, и все, о чем рассказал недавно Пятрас Весулас, казалось ей не таким убедительным, как дома. Она раскаивалась, что погорячилась и приехала.
«Как объясню это Антанасу? Имею ли я право верить механику?»
Но мысль о чем-то страшном, что должно случиться, не оставляла. И ещё запах… Мильда чувствовала: в каюте пахнет чем-то горелым, и это тревожило.
Старший механик молча стоял у дверей и внимательно наблюдал за молодой женщиной.
— Вам надо на «Меркурий?» — спросила она нерешительно.
— Да. — Весулас кивнул головой. — Не бойтесь, Мильда, будьте твёрды.
— Я не боюсь, Пятрас Весулас… Простите, мне кажется, в каюте чем-то пахнет. Нет, нет, это не табак, — поспешно сказала Мильда, увидев в руках Пятраса трубку. — Боже! Так пахло в комнате там, на косе, где я впервые встретила Антанаса!
— Ты права, Мильда, — спокойно подтвердил механик. — Здесь недавно стреляли. — Спрятав в карман нераскуренную трубку, Пятрас Весулас заглянул в спальню, отгороженную от кабинета зеленой репсовой занавеской: там было пусто.
И вдруг они услышали, как в платяном капитанском шкафу что-то шевельнулось, раздался слабый стон.
— Антанас, Антанелис! — крикнула в отчаянии Мильда. — Антанелис! — И бросилась к шкафу. — Скорее откройте! — требовала она, дёргая изо всех сил медную ручку.
Пятрас Весулас всунул в щель между дверцами большой рыбацкий нож. Дверцы разлетелись в стороны. На ковёр вывалилось человеческое тело.
— Матрос Миколас Кейрялис, — признал старший механик. — Кажется, ещё дышит. Ковёр пропитался кровью, а мы даже не заметили.
Закусив нижнюю губу, Мильда уставилась на неподвижное тело. Кто его убил? Она боялась ответить на этот вопрос.
— Вахтенный! — крикнул Пятрас Весулас, открыв дверь. — Живо на «Меркурий»! Вызови доктора. Скажи: несчастный случай. — От ярости он дышал с трудом.
На крики и топот пришёл старпом Ветошкин.
— Миколас, — пробормотал он, наклоняясь над матросом. И взял его руку, пытаясь нащупать пульс. — Все! — определил он.
…С медицинской сумкой через плечо прибежал посланный Фитилёвым военный врач, лейтенант с новенькими погонами. Он долго осматривал холодеющее тело.
— Умер только что, — подтвердил врач и стал мыть руки. — Видимо, пуля задела сердце. Может быть, самоубийство? — добавил он вопросительно.
— Самоубийство отпадает, — засопел старший механик.
Нахмурив густые брови, он отвернулся, чтобы не видеть скорби на лице Мильды.
— Я найду преступника! — неожиданно объявил он. — Каюту надо закрыть.
— Валентин Петрович, — обратился Весулас к старпому, — распорядитесь вызвать по радио уголовный розыск. А Мильда пусть побудет у вас… — И он осторожно вывел из каюты растерявшуюся женщину, спустился вместе с ней по трапу, позвякивая, словно шпорой, полуоторвавшейся подковкой.
* * *
Под водой старший лейтенант Арсеньев чувствовал себя хорошо. Встав на песок, он подтянул крепче мешок с аварийным припасом и двинулся к корме. Ему предстояло осмотреть добрую сотню метров толстых стальных листов, прочно соединённых тысячами заклёпок. Освещая путь яркой электрической лампой, Арсеньев медленно переставлял в песке пудовые водолазные калоши.
Арсеньеву казалось, что корабль напрягает все силы, как борец, на спине которого сидит противник: он медленно подымается, стараясь стряхнуть непомерную тяжесть.
«Не падай духом, друг, нажми ещё немного!» Арсеньеву хотелось подставить плечо, помочь. Он похлопал брезентовой рукой по шершавому корпусу, нечаянно задев оранжевую звезду, примостившуюся на выступе деревянного пластыря; звезда пошевелила живыми лучами и загнула их кверху.
Над водолазом железной крышей простиралось чёрное днище, границы его сливались с темнотой. Неожиданно он почувствовал толчок, будто кто-то дёрнул его за шлем.
«Зацепились шланги», — пронеслось в голове. Арсеньев быстро повернулся. В упор на него смотрела большая пучеглазая рыба. Неподвижно застыв на месте, она лениво пошевеливала плавниками. «Со шлангами, значит, все в порядке», — улыбнулся Арсеньев.
Оглядываясь на клубы мути, медленно расплывавшиеся от тяжёлых калош, Арсеньев шёл дальше. Теперь рыбы, большие и маленькие, то и дело мелькали перед стёклами иллюминатора; их, словно бабочек в тёплую летнюю ночь, манил свет фонаря.
«Но где же пробоина?» Сергей Алексеевич вынул из брезентового мешка горсть опилок. Увлекаемые течением (был отлив), маленькие разведчики-крупинки дружной золотой стайкой медленно плыли под днищем корабля. Вдруг, словно притянутые магнитом, они стремительно понеслись вперёд и закружились на месте.
«Есть, нашли, голубчики! — обрадовался Арсеньев, ускоряя шаг. — Вот оно что, заклёпки выпали! Невелика беда», — рассуждал он, нащупав светом две круглые дырки в днище.
Стайка опилок, втянутая водотоком, мгновенно исчезла в чреве корабля. Заколотив вместо выпавших заклёпок две сосновые пробки, Арсеньев опять зашагал по песчаному дну.
«Нет, моряка не сравнишь с лётчиком, — продолжал он размышлять. — Ведь пилот отдаёт машине часы, а моряк кораблю — себя целиком. Вся жизнь проходит на палубе, в машине, на мостике, вдали от дома, от родных и близких. Мальчишкой приходит моряк на корабль, а возвращается на берег стариком. Не каждый выносит, многие не выдерживают. Надо быть стойким. Тяжелы бывают жертвы морю, ох тяжелы! Но кем бы я стал, если бы снова начал жизнь? — вдруг спросил себя Арсеньев и даже остановился. — Может быть, космонавтом?»
Он представил себе бесконечное пространство среди звёзд, холод, мрак. «Конечно, заманчиво и, может быть, необходимо для человечества. Но сколько ещё дела на родной, тёплой, радостной земле! Нет, стал бы опять моряком».
В луче фонарика мелькнул винт. Корма близко.
И вдруг Арсеньеву показалось, что огромное тело корабля медленно ползёт назад. Не может быть! Он пригляделся. Мимо прошла приметная деревянная заглушка, знакомая звезда на выступе пластыря. Точно! «Меркурий» пятится.
«Кто-то потравил якорную цепь, — догадался он. — Зачем?»
Корабль вздрогнул и застыл на месте. Арсеньев снова пошёл вдоль корпуса, считая шаги. Опять свет фонаря коснулся бронзового винта. «Пятьдесят метров, две смычки», — подытожил Арсеньев.
Он хотел спросить у мичмана, почему травили якорную цепь, но раздумал. Надо искать пробоину. Он выпустил в воду новую порцию опилок. Но теперь они повели себя иначе: стремительно метнулись вперёд и мгновенно исчезли.
Арсеньев почувствовал, будто его легонько подталкивают в спину. Через два шага он заметил, что мешок у него в руках сам по себе, как живой, потянулся кверху. Впереди гирляндой заплясали прозрачные пузырьки воздуха.
«Эге-ге! — понял Сергей Алексеевич. — Пробоина близко. Помпы работают, вот и тянут воду».
Он остановился и, высоко подняв фонарь, принялся шарить лучом. Идти дальше было опасно: вода мощным потоком всасывалась в пробоину, могла затянуть и его.
«Вот она! — водолаз увидел рваные края пробоины. — Ишь, заусеницы выгнулись. О такой ноготь только задень… Рубаху, что гнилую тряпку, распорет».
Даже сквозь шлем было слышно, как глухо бурлит водоворот.
— Товарищ Коротков, — сказал в телефон Арсеньев, обойдя тёмную рванину, — обнаружена пробоина. Нужен пластырь. Иду дальше.
У середины корпуса Арсеньев, стоя на грунте, доставал стальные листы вытянутыми руками, а здесь, под кормой, ему приходилось нагибаться. Возле винтов пароход почти касался грунта. Волны, покачивая судно, то подымали, то опускали его. Каждый раз тяжёлая корма с глухим скрежетом оседала в песчаное дно. Ветер медленно поворачивал корабль на якоре. Корма, забирая вправо, с каждым ударом входила в песок на новом месте.
Оберегая шланги, Сергей Алексеевич обошёл корму. Ни пробоины, ни даже маленькой трещины больше не нашлось.
Осмотр окончен. Остановившись под винтами передохнуть, Арсеньев задумался.
Напоследок он ещё раз осветил корабль. Над головой нависли могучие винты, чёрной тенью уходил вверх стальной корпус. Луч фонаря скользнул вниз, потом вправо, пробежал по неровной поверхности дна, вырвал из темноты остов затонувшей шлюпки, витки ржавого троса в песке, исковерканную шлюпбалку.
«А это что?» Из грунта, почти под самой кормой выглядывал какой-то странный продолговатый предмет.
Сначала Арсеньев решил, что перед ним кусок толстой трубы или обрубок дерева. Мало ли таких штуковин под водой! Когда-то и ему довелось оставить трехтонный якорь на дне морском. Якорь застрял в расщелине скалы, и его никак нельзя было вытащить. Шторм набросился столь внезапно и с такой яростью, что разрыв цепи и потеря якоря казались счастливым избавлением. А все же обидно. Жаль якорь. Небось ржавеет теперь в солёной водице.
К якорю у капитана Арсеньева было самое почтительное отношение.
«Это не просто три тонны отличного железа. Недаром якорь с древнейших времён считается символом надежды. В наше время каждый моряк знает: если, к примеру, машина вышла из строя и корабль несёт на берег, надейся: якорь выручит из беды. Замечательная штука якорь! Если кто-нибудь взялся бы перечислить заслуги якоря в мореплавании, много бумаги пришлось бы исписать этому человеку».
Арсеньев ещё раз осветил фонарём ржавую железину, застрявшую в песке. «Пусть лежит ещё сто лет», — решил он и собрался было уходить, но что-то его остановило. Он подошёл поближе, осторожно ступая, чтобы не поднимать муть. Осмотрел странный предмет со всех сторон. Яркий свет снова привлёк морских жителей: рой мелких рыбёшек замельтешил перед стеклом шлема, зарябило в глазах. Арсеньев взмахнул рукой, мелкота разом шарахнулась в сторону, но через несколько секунд снова дружно окружила водолаза. Прозрачная, в кружевных оборках медуза, пошевеливая своим огромным шлейфом, медленно спустилась откуда-то сверху. Две длинные большие рыбы быстрыми тенями промелькнули над головой.
«Всполошил все морское царство, — усмехнулся Арсеньев, счищая с шершавой поверхности округлого предмета густо налипшие ракушки. — Что за черт, тут ребра какие-то! — раздумывал он, пережидая, пока осядет муть. — Да ведь это авиабомба! — вдруг понял Сергей Алексеевич, инстинктивно отдёргивая руку. — Подожди, рано пугаться. В сорок пятом было пострашнее, а эта бомба выдержанная, ни с того ни с сего не взорвётся. Но, но… Ведь корма движется!»
Арсеньев замер. Стальная громада корабля действительно приближалась. Тревожно заколотилось сердце.
Корма развёртывалась по песку широкой дугой. Авиабомба как раз на пути: одна из точек этого полукружия.
Взглянув ещё раз на исполинские следы кормы на песке и заметив, что она садится приблизительно каждую минуту, он прикинул на глаз расстояние до бомбы.
«Через десять минут, — решил Арсеньев, — корма припечатает эту штуковину. Тогда конец… Взрыв».
В смятении он передал наверх все, что увидел, и тут же хотел дёрнуть три раза за сигнальный конец, что означало: «Поднимайте, выхожу наверх».
Но он не сделал этого. Его остановили чёткие удары, раздававшиеся внутри корабля. Кто-то часто и сильно ударял кувалдой. Арсеньев представил себе скользкие, тёмные палубы. Две сотни моряков копошатся, как муравьи, в огромном чреве корабля. Они не думают о грозной опасности — ведь они ничего не знают. Совсем уж неожиданно возникло перед ним добродушное, с крупными веснушками лицо матроса Евсюкова.
«Разрешите доложить, товарищ старший лейтенант, — застенчиво улыбнувшись, сказал Евсюков. — Ежели сейчас начнём откачку мазута, к утру корабль станет на ровный киль».
Сергей Алексеевич бросился к бомбе. Он попытался сдвинуть её, оттащить от кормы, но она будто вросла в песок.
«Тяжела, — задохнувшись от напряжения, подумал он, — не осилить. А если копать?» Арсеньев схватил какой-то железный стержень, валявшийся под ногами, и с ожесточением стал ковырять слежавшийся грунт. Руками, точно крот, он отбросил песок, ещё разрыхлил, снова отбросил. Ещё раз!.. И налёг на лом. Бомба подалась, шевельнулась. Арсеньев почувствовал на спине ручейки пота.
Илистая муть окутала страшную болванку и, клубясь серым облаком, медленно расплывалась в тёмной воде.
Арсеньев яростно толкал, расшатывал бомбу, боролся с чудовищем, как с заклятым врагом. Все силы напряглись в одном порыве: одолеть!
Ничего не вышло! Оттащить бомбу не удалось. Арсеньев, обессиленный, отполз от нависшей кормы.
* * *
— Корабль наваливает на авиабомбу. Времени осталось десять минут… Старший лейтенант предлагает оттащить бомбу лебёдкой, просит стальной строп, — торопливо передал командиру отряда мичман Коротков, стоявший на телефоне.
Фитилёв, чувствуя неодолимую дрожь в коленях, прислонился к поручням. Последние слова мичмана донеслись до него, словно сквозь вату. Фитилёв рванул рукав, взглянул на часы — было двадцать два часа три минуты. Через мгновение слабость ушла. «Водолазов наверх! Судно затопить. Потом убрать бомбу!» Длинные усы командира шевелились. Он уже раскрыл рог, чтобы отдать команду, но мелькнула другая мысль: «Затопить? А если сядет как раз на бомбу? Да, так и будет! Только ускорю аварию!»
Фитилёв опять взглянул на часы. Прошла минута. Времени для размышлений не оставалось.
Выхватив трубку из рук мичмана, он закричал в микрофон:
— Сергей, сколько до бомбы?.. Да, это я, Фитилёв. Что? Четыре минуты?.. Никаких стропов, марш к подъёму! Немедленно! Приказываю!.. Что? — Фитилёв почувствовал удар корпуса по грунту и инстинктивно сжался. — Дурак! Не разговаривай! Снегирёв, — приказал он старшине, — со всех палуб наверх!.. Всех наверх!
И капитан-лейтенант не выдержал. Сунув телефон мичману Короткову, сам бросился к большому колоколу и ударил тревогу.
Три раза потух и зажёгся свет: это электрик у дизель-динамо вызывал по тревоге всех наверх.
Из всех дверей выскакивали встревоженные матросы. Одни находились близко, на первой палубе, другие поднимались с самого днища корабля перепачканные, мокрые, встревоженные.
Мимо Фитилёва пробежал замполит Олег Рукавишников и затопал вниз по лестницам. Командир понял — проводил его благодарным взглядом.
— Успеют ли? Скорей же, скорей!..
Фитилёв посмотрел на часы: «Как быстро движется стрелка!.. Все ли, все ли вышли наверх?»
* * *
Когда с буксира «Шустрый» подняли последний ящик, Медонис подошёл к открытой двери курительного салона.
Вдруг кто-то закричал снизу:
— Передайте бате, уровень воды понизился на сорок сантиметров! На третьей палубе в ботинках можно ходить.
Услышав это, Медонис всполошился. Путь к богатству открыт. А вдруг его сокровищем овладеет другой? Ходит же кто-то там. Но взрыв… «Может быть, со взрывом ничего не вышло, успею выбраться?» Слишком долго ждал Антон Адамович. Не раздумывая больше, он пошёл к трапу. В этот миг его увидел Пятрас Весулас и бросился следом.
В железном корабельном брюхе все выглядело теперь по-иному. Главные коридоры ярко освещены электричеством. Кое-где белые стрелки, наспех нарисованные мелом, указывали дорогу к постам.
Без всякого труда Медонис пробрался в коридор третьего класса. Дверь с выбитой филёнкой. Он потёр пальцем покрытый грязью эмалированный кружок с номером. Да, это она, каюта Э 222.
Антон Адамович плечом вышиб дверь вместе с петлями. Дрожа от нетерпения, он стал разыскивать среди размокшей, разложившейся рухляди свой чемодан.
Медонис не слышал тревожных ударов колокола, не обратил внимания на световые сигналы. Чемодан оказался под койкой среди обломков дерева и скользких тряпок: клейкий, пахучий, со ржавыми замочками и наугольниками.
«Цел и невредим! Как просто все оказалось!»
Антон Адамович засмеялся, всхлипывая и давясь слюной, сорвал крышку, схватил ящичек.
«Жизнь есть стремление к власти, — вспомнил он слова Фридриха Ницше. — Воля к власти, только она и делает человека господином». «А власть — это прежде всего деньги, — добавил он от себя, крепко прижимая ящичек к груди. — Значит, я господин. Господин есть господин, а раб есть раб!..»
Гулко прогремел взрыв. От внезапно наступившей темноты стало больно глазам. Рядом в отсеке что-то с грохотом ломалось и трещало. В кромешную темь обрушились бесчисленные водопады. Через пробоины, через все щели вода неудержимо вливалась внутрь корабля. Она шумела и плескалась со всех сторон.
«Авиабомба», — догадался Медонис, выскакивая в коридор. Он зажёг фонарь. Яркий луч прорезал темноту. Сверкнули тронутые светом потоки воды, вспыхивали прозрачные брызги. Шум воды грозно нарастал. Антону Адамовичу казалось, что многоводная река ворвалась внутрь судна. Он успел добежать до просвета, где матросы недавно поставили деревянную лестницу. На верхнюю палубу его вынесло вместе с бушующим потоком. Кружась в водоворотах, вода кипела и пенилась, как в огромном котле, с каждой секундой поднимаясь все выше и выше. С трудом одолев второй трап, наглотавшись морского рассола, задыхаясь, Медонис выполз на палубу. Впереди оставалась ещё лестница.
Но тут случилось непоправимое: Антон Адамович выронил фонарь. Перевернувшись и сверкнув раза два в чёрной воде, он лёг далёким огоньком где-то глубоко в коридоре третьего класса. Непроглядная тьма обступила Антона Адамовича. Бежать некуда. Вода наступала со всех сторон. Он заметался, бросаясь в разные стороны, натыкаясь на стенки, хватаясь за что-то скользкое, падал, поднимался… Вода подошла к его коленям, потом холод коснулся груди… В клокочущей темноте раздался дикий вопль. Неожиданно сверкнул свет. Чья-то сильная рука ухватила Медониса за шиворот. Дальше он ничего не помнил…
Он очнулся на панцирной койке в одной из кают «люкс». У окна недвижно, как изваяние, сидел одноглазый механик.
Снаружи доносились гулкие завывания ветра и тяжкий шум моря.
Антон Адамович хотел было окликнуть Весуласа, но по привычке ощупал задний карман, где хранился пистолет. Карман был пуст. Будто что-то ударило изнутри, он почувствовал страх. Что произошло?
— Это вы, — едва слышно спросил Медонис, — Пятрас Весулас?
— Мне пришлось два раза вытаскивать тебя из воды, — почти ласково ответил механик по-немецки. — Первый раз на косе Курш-Нерунг, ты помнишь? Тогда мне помогал товарищ. Ты отлично отблагодарил нас обоих… Но я остался жив.
Медонис шевельнулся. Ноздри его трепетали, он словно принюхивался к словам одноглазого. Чуть слышно скрипнула койка. Пятрас Весулас вынул из кармана «вальтер», недавно принадлежавший Антону Адамовичу, и осторожно положил его на стол.
— Не беспокойся, теперь тебе капут, — продолжал Весулас, не повышая голоса. — Каюта снаружи охраняется, — добавил он, увидев, что Антон Адамович смотрит на дверь. — Скажу правду, сначала я хотел расправиться с тобой сам, но ты убил ещё Миколаса — и теперь тебе придётся иметь дело с народным судом… Но прежде я хочу знать, что в этой коробке. Думаю, не напрасно ты так нежно хранил её за пазухой.
Пятрас Весулас, не спуская единственного глаза с Медониса, достал с полки металлический ящичек.
Антон Адамович молчал. Теперь он старался незаметно дрожащими пальцами нащупать капсулу в потайном карманчике.
— Не хочешь отвечать? Ладно, узнаю сам. — Механик вынул нож и стал спокойно, словно консервную банку, вскрывать дядюшкину шкатулку.
— Гм… бумаги. — Он вынул несколько листочков. — Письмо! — Пятрас Весулас бегло читал ровные мелкие буквы, не переставая приглядывать за Антоном Адамовичем. — Черт возьми, в нижних казематах южного форта спрятаны сокровища. Вот оно что! А, чертёж! — Он взял второй листок. — И в замке! Хитро! Хитро! Теперь мне понятно, почему ты кружился возле затонувшего корабля, как оса.
Медонис невольно застонал. Механик положил руку на «вальтер».
— Этот профессор, — продолжал он вслух, — сообщает в конце письма: «Сокровища остались в обречённом городе, и я с ними…» — Пятрас Весулас бережно положил письмо и достал свёрток в пергаментной бумаге. — Какой красивый янтарь! И внутри что-то есть. Езус-Мария, выйдет прекрасная брошка для дочери.
Это было выше сил Медониса, он не стал больше ждать. Да и что ждать: карта бита, игра проиграна. Быстрым движением он сунул все три облатки в рот и яростно разжевал их.
— Ты будешь ещё стоять на коленях, сволочь!.. — бормотал он, поводя красными, выкаченными глазами…
Его затуманенный взгляд остановился на кителе старшего механика, засыпанном пеплом и табачными крошками. Медная пуговица с якорем. Это было последнее, что увидел Эрнст Фрикке.
Взбудораженное ветром море ревело и билось о стальной борт корабля.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ ЧЕЛОВЕК ПРОХОДИТ СКВОЗЬ ВЕТЕР
Когда море хлынуло внутрь судна, палуба вздрогнула и повалилась вниз. Оборвалось чёткое постукивание дизель-динамо. Корабль стал медленно погружаться. Где-то за кормой с шумными всплесками падала вода, взброшенная взрывом. Ветер донёс оттуда тысячи мелких брызг, накрывших палубу проливным дождём. Замолкли голосистые мотопомпы; утих звенящий шум воды. Казалось, все замерло. Нет, качальщики без устали вращали воздушные помпы: в наступившей тишине слабое постукивание казалось морякам ударами тяжёлого молота.
Внизу, под водой, оставались Фролов и Арсеньев.
— Сергей Алексеевич, — неуверенно говорил Фитилёв в микрофон — Серёга!..
Оглянувшись, Василий Фёдорович увидел сотни внимательных глаз.
— Как люди? Целы все? — отрывисто спросил он.
— Водолаз Фролов идёт на подъем, — доложил мичман Снегирёв.
Рапорты посыпались со всех сторон.
— Затоплены все отсеки. Мотопомпы, оборудование остались под водой.
— Разрушено взрывом дизель-динамо.
— Сорван с места кормовой пластырь, носовой повреждён.
К Фитилёву протиснулся Рукавишников: мокрый, без фуражки, с окровавленным лицом.
— Все люди наверху, — доложил он. — Бортникова и матроса Носенко едва удалось спасти. Только корабль…
— Все исправим, — махнул рукой Фитилёв. — Вот люди… — Он вздохнул и сказал в микрофон: — Серёга! Это я, Фитилёв, слышишь?
Арсеньев молчал.
— Да жив он! — уверял себя Фитилёв, всматриваясь в манометр водолазной помпы. — Клапан-то ведь работает!
Сергей Алексеевич… Это я, — повторял Фитилёв.
Корабль, опустившись на дно моря, снова превратился в стальной остров. Волны, ударяя о борт, заплескивались на палубу. Штормовой ветер разговаривал на высоких нотах. Огонь маяка на Песчаной косе расплывался мутным пятном.
* * *
Взрыв оглушил Арсеньева, отбросил в сторону, лишил сознания. С первым проблеском мысли он почти автоматически нажал головной клапан: выпустил лишний воздух. Затем попытался встать. В голове шумело, глаза застилал туман. Ему удалось подняться на ноги. Шлем упирался во что-то твёрдое, неподвижное. Лампочка не горела. Густая темнота.
«Корабль… Взрыв… — припоминал Арсеньев. — Затонул корабль… На грунте стоит. Но где я?»
Он рванулся вперёд, ощупал стальные листы руками: всего два метра — и руки водолаза встретили песок. Кружа, он пополз дальше, упираясь то в песок, то в железо. Наконец нащупал свои шланги, застрявшие в плотном грунте.
Теперь он все понял, взрывом его отбросило в песчаный овражек на дне, а сверху лёг корабль… Вот оно как!.. А если бы не яма?! Он представил себе стальную махину в несколько десятков тысяч тонн, опускавшуюся на человека…
Арсеньева охватил страх. Туманилось сознание.
Тихо и темно. Совсем тихо и совсем темно.
«Хоть какой-нибудь звук! Чёртова тишина», — думал он.
И раньше бывали трудные минуты, но таким одиноким и беспомощным он никогда себя не чувствовал. «Слово бы услышать, одно слово», — повторял он, напрягая слух. Нет, тишина. Сигнальные концы накрепко зажаты судном. Но ведь воздух поступает непрерывно. Значит, о нем помнят?
Но вот все вокруг Арсеньева наполнилось странными звуками. Под тяжёлым корпусом заскрипел песок. Песка будто становилось все больше и больше. Оседая, он мягко подталкивал водолаза. Через несколько мгновений шорох прекратился.
Арсеньев попытался встать, но шлем сразу упёрся в корабельное днище. Лёжа на спине, он рукой легко доставал стальные листы. Корабль надвинулся по крайней мере на метр.
— Матушка, мама! — вырвалось по-детски.
Он ещё и ещё ощупывал шершавое днище.
— Я Арсеньев, — без всякой надежды сказал он в микрофон. Ему просто хотелось услышать свой голос. — Я Арсеньев, слышите меня?
Не слышат!
Тишина сделалась ещё злей. И вдруг…
— Разгильдяй, подлец! Что? Шею намылю! — вдруг ворвался в тишину шумный голос Фитилёва. — Смотри, провода оборваны, не видишь?
— Я слышу… — выдохнул Арсеньев.
Закончить фразу у него недоставало сил.
— Серёга! — радостно донеслось сверху. — Ну что ж ты! Как себя чувствуешь? Что? Успокойся, голубчик, все будет хорошо. Рассказывай, как у тебя…
Словно чья-то рука сняла с плеч Арсеньева тяжёлый груз. Он узнал, что под водой Фролов и ещё два водолаза. Ищут его.
Но что это? Опять заскрежетал песок, опять леденящие душу толчки. Но самым страшным было другое: к водолазному шлему прикоснулось железное днище.
Фитилёв, зажав до боли микрофон в руке, прислушивался к бессвязным словам Арсеньева. Но когда он умолкал и стрелка манометра подымалась, на душе командира становилось ещё хуже. «Он должен прийти в сознание!.. Во что бы то ни стало прийти в сознание, иначе смерть!..»
Вдруг Фитилёва осенила мысль.
— Серёга! — торжественно сказал он. — Сейчас получили известие. От жены… Ты слышишь, Сергей?.. Родился сын, слышишь? Родился сын! Почти пять килограммов! Богатырь!
— Сын? — чуть слышно откликнулось в телефоне. — Сын, Андрюша.
— Да, да, Андрюша, — с готовностью подхватил Фитилёв. — Ты того, держись, Серёга! Воздух, воздух не забывай!..
…Опять скрипит песок! Нет, это снег хрустит. Ему чудятся вековые ели, засыпанные снегом… Звонко поют пилы, стучат топоры. Среди лесорубов он, Сергей Арсеньев, шестнадцатилетний парнишка. Он, ученик мореходки, комсомолец, приехал помогать.
Бред и явь смешались.
Мучительное томление охватило Арсеньева. Нудно и тошно звенит в ушах, больно стучит сердце. Нет, не только сердце, все существо его пульсирует в неистовом ритме.
— Да Андрей же, сын…
Кто это сказал? Он сам или кто-то другой?
Отчётливо возник образ сына, каким он себе представлял его:
— Андрей! — почти кричит Арсеньев и приходит в себя.
Сколько прошло времени, он не знал. Час или мгновение?
Вернулось сознание, тишина отступила. Скрежещет песок, опять наседает корабль. И другие звуки проникают сквозь медный шлем; он слышит шум винтов, кто-то скребётся назойливо и громко. И вдруг удар… Перед глазами пошли круги: красные, оранжевые, жёлтые. Дыхание перехватило. Со всех сторон его окутала вата, мягкая, вязкая…
На поверхности моря у подветренного борта затонувшего корабля собрались буксиры Они пришли на вызов: человек в опасности! Водолазы по двое спускаются на грунт и лопатами роют песок. Воздушный шланг Арсеньева чёрной змейкой уходил куда-то под ржавое днище. Далеко. Удастся ли вовремя откопать? Ускорить, ускорить поиск!..
По просьбе Фитилёва на одном из буксиров спустим ещё два шланга с медными наконечниками. Ещё два водолаза пошли под воду и сильными струями воды стали размывать песок. Работать мешает серая муть, поднятая со дна.
Из порта пришло вспомогательное судно, на нем мощный насос, толстый гофрированный шланг с металлической решёткой на конце. Водолазы быстро подвели его к подкопу: шланг бурно потянул песок.
Зарываясь в волнах, прибежал катер начальника Ясногорского порта, на нем сотрудники уголовного розыска, вызванные старпомом Ветошкиным.
…Прошло два долгих и мучительных часа. Василий Фёдорович совсем сбился с ног. Водолазы наконец расчистили тоннель к Арсеньеву.
Сергей Алексеевич помнил, как он брёл под водой, поддерживаемый товарищами. Помнил, как взбирался на палубу. Но как только отвинтили шлем, он потерял сознание.
* * *
Яркий солнечный день. Торосистые поля покрыты сверкающим снегом. Во льдах медленно двигается пароход. Он упрямо наползает стальной грудью на твёрдый ледяной панцирь. Мачты, такелаж закуржавели. Иногда от сильного удара иней отрывается и тихо, словно вата, падает на палубу. По чистому, девственному снегу движется синяя косая тень ледокольного парохода.
На мостике капитан Арсеньев в полушубке и валенках. Холодно. Мороз за тридцать. Сергей Алексеевич прислонился к планширу.
"Я счастливый, — думал он, приглаживая бровь, — у меня все есть: сын, любимая работа, корабль, верные друзья, море…
Как хорошо! Я снова прокладываю путь во льдах. Какое наслаждение снова ощущать свои силы. А разве могло быть иначе?"
Арсеньев вспомнил Григория Подсебякина. Синее пальто, шляпа, белое кашне. Он долго сопротивлялся, доказывал, писал объяснения. Истина победила. Подсебякин распрощался с пароходством. И дружки-приятели, что вопреки справедливости пытались его спасти, едва-едва удержались в своих креслах.
Затонувший корабль подняли через две недели после взрыва. Арсеньев желал старому морскому бродяге хорошего ремонта и долгих лет плавания.
Арсеньев чувствовал себя сильным. «Поборемся ещё, — думал он, краешком глаза наблюдая за синеватой тенью, неотступно следующей за кораблём. — Мы таким Подсебякиным отобьём руки! Время работает на нас. Что главное в жизни? Быть честным перед самим собой, бороться за счастье, верить людям».
Арсеньев как-то неловко прижался к холодному планширу, обхватил его руками. Со стороны могло показаться, что капитан пытается обнять своё судно… Он быстро обернулся: не видит ли кто?
На мостике безлюдно. На левом крыле топчется вахтенный. Рулевой сосредоточенно смотрит вперёд, на горизонте все больше и больше разводий.
В небе появился самолёт — промысловый разведчик. Брошенный ловкой рукой, на палубу упал парусиновый мешочек. Хорошие вести: зверя много. Скоро должна появиться залежка.
Из штурманской вышел начальник экспедиции Малыгин, глянул на капитанскую спину, улыбнулся и долго рассматривал в бинокль морозные дали.
— Серёга, — окликнул он Арсеньева, — слыхал я, ты что-то новое задумал?
— Задумал, Сашка, — улыбнулся Сергей Алексеевич. — Разве остановишь жизнь?
Разбивая сморозь, корабль двигался вперёд. Подмятые льдины с шипением уходили в воду, переворачивались и, разбитые в мелочь, оставались позади.
Калининград — Гданьск — Штральзунд — Москва.
1960-1964.

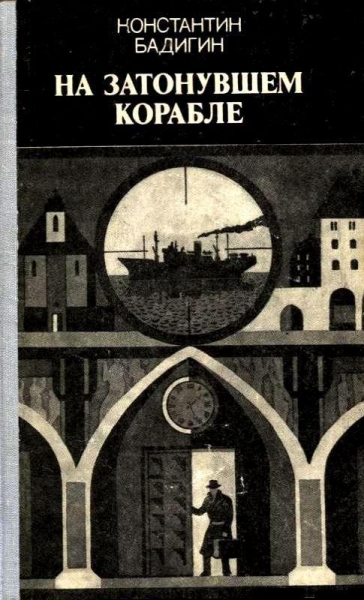

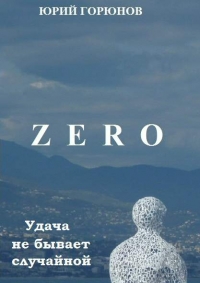


Комментарии к книге «На затонувшем корабле (Художник А. Брантман)», Константин Сергеевич Бадигин
Всего 0 комментариев