Несколько слов от автора
О своем друге Иване Николаевиче Пронине, работнике органов государственной безопасности, я написал в свое время книжку рассказов («Приключения майора Пронина»), тому минуло почти два десятка лет.
Вскоре после опубликования этих рассказов началась Великая Отечественная война.
Она разлучила меня с Прониным, мы оба очутились в таких обстоятельствах, что не только были лишены возможности поддерживать какую-либо связь, но просто потеряли друг друга из виду.
Наступили события столь грандиозные и величественные, что судьбы отдельных людей невольно отодвинулись в тень. Но вот война окончилась, страна перешла к мирному строительству, люди начали находить друг друга, и спустя большой, я бы сказал, очень большой промежуток времени жизнь снова столкнула меня с Прониным.
Естественно, посыпались вопросы: кто где был, чем занимался, что пережил…
Пронин никогда не любил распространяться о себе.
– Что я делал и чем занимался, рассказывать еще не пришло время, да и не обо всем вправе я говорить, – сказал он. – Но есть у меня записки одного офицера, с которым мне пришлось столкнуться в первые годы войны. Дам я их тебе, почитай. В них ты почерпнешь и некоторые сведения обо мне. Писал он их не для печати, но если они покажутся тебе любопытными, можешь опубликовать. Разумеется, в этом случае подлинные имена надо заменить вымышленными. Прочел я эти записки и решил, что напечатать их стоит.
Править рукопись мне почти не пришлось: может быть, кое-где я чуть-чуть прибавил деталей и заменил собственные имена, но ничто существенное в ней не изменено.
1. Первое знакомство
Медная пуговица, простая медная пуговица – это все, что осталось мне на память о тех необыкновенных и трагических событиях, свидетелем и участником которых мне случилось быть…
Вот я выдвигаю ящик своего письменного стола, беру в руку эту медяшку, и передо мной возникает облик женщины, – таких не часто приходится встречать в жизни.
Множество загадочных обстоятельств сопутствовало моему знакомству с такой странной и необычной женщиной, какой была Софья Викентьевна Янковская.
Она не была красива, особенно в общепринятом понимании: черты лица ее были неправильны, фигура далеко не безупречна. И тем не менее она нравилась мужчинам, во всяком случае, многие из них шли на всякие компромиссы ради сохранения ее благосклонности…
Представьте себе женщину несколько выше среднего роста, темную шатенку, так что в сумерках волосы ее казались даже черными, с продолговатым лицом, с высоким, почти мужским лбом и с глазами какого-то монгольского рисунка, они имели неопределенный серый цвет, но иногда, особенно в минуты волнения, явственно зеленели, и при всем этом их всегда отличал неизменно холодный блеск. И если в верхней половине ее лица было что-то мужское, вся нижняя часть лица была совершенно женская. Нос ее, мало гармонировавший с продолговатым овалом лица, назвать курносым было бы слишком сильно, но сказать только, что он вздернутый, было явно недостаточно; небольшой ее подбородок был невелик и имел совершенно мягкие девические очертания. Но всего удивительнее выглядели на ее лице губы, то чувственные, по-детски пухлые и ярко-красные, чуть ли не пунцовые, а то вдруг делавшиеся злыми, узкими и бледневшими почти до белизны. Уши у нее были больше, чем следовало бы иметь женщине, но они свидетельствовали о ее музыкальности. Румянец на ее щеках появлялся только временами, гладкие волосы лишь немного вились на висках; небольшие руки казались удивительно хрупкими, зато ноги были хорошо развиты и заметно мускулисты, как у хорошо тренированных профессиональных спортсменок.
Впрочем, вполне возможно, что многие нашли бы внешность этой женщины вполне заурядной, но, повторяю, обстоятельства нашего знакомства были столь исключительны, что мне стало казаться, будто и наружностью участница описываемых событий чем-то отличается от обычных людей… Но пока что остановлюсь. Полагаю, что по ходу действия постепенно обрисуется и внешний портрет, и духовный облик этой странной и, я бы сказал, не опасаясь упреков в пристрастии к романтической терминологии, зловещей женщины.
Единственное, что мне хочется еще подчеркнуть в ее наружности, это какую-то асимметричность в лице и фигуре.
Когда во время разговора она одним ухом слушала своего собеседника, другим ухом она, казалось, прислушивалась к какой-то неслышной и ей одной доступной музыке; если один глаз ее был внимательно устремлен на собеседника, другим она точно просверливала пустоту за его спиною; и если правой рукой поглаживала своего собеседника по руке, левая ее рука, возможно, нащупывала в это время в сумочке или муфте крохотный, но отличного качества пистолет для того, чтобы через минуту пристрелить этого же собеседника.
Однако начну по порядку.
Впрочем, для полной ясности надо еще предварительно сказать несколько слов о себе.
Сам я офицер, штабной работник; за несколько месяцев до начала войны мне пришлось выехать в один старинный большой город, находившийся как раз на условной границе между Западной и Восточной Европой, не без злого умысла выдуманной досужими европейскими политиками.
Командировка моя в этот город имела сугубо секретный характер. Возможность возникновения войны никем и никогда не исключалась, и, не распространяясь подробнее, скажу только, что целью моей командировки было изучение возможного театра военных действий и разработка дислокации некоторых специальных войсковых подразделений на случай возникновения войны и вторжения противника на северо-западные территории нашей страны.
Город, который на некоторое время стал моей резиденцией, был шумным и оживленным, с многочисленным и пестрым населением. Старинные кварталы перемежались в нем с кварталами многоэтажных доходных домов. Мне то и дело приходилось сталкиваться с не изжитыми еще контрастами богатства и бедности, и многое в нем было мне одновременно и любопытно, и чуждо.
Впрочем, теперь уже нет нужды скрывать название города – это была Рига, столица Латвии, которая тогда лишь недавно провозгласила себя Советской республикой.
Жил я по ряду деловых соображений на частной квартире, в семье рабочего крупного механического завода, старого коммуниста, партийные качества которого были проверены еще в годы тяжелого революционного подполья. В этой квартире я занимал отдельную комнату, у меня были ключи и от общего входа, и от своей комнаты, и хозяев я стеснял мало. Здесь, на отлете, я находился и как бы в тени, чего трудно было бы добиться в гостинице, и в то же время среди своих людей я мог не опасаться ни случайных посетителей, ни контроля со стороны слишком любознательной прислуги…
Впрочем, рассказ этот ведется не обо мне.
Начну по порядку, с первой моей встречи с Софьей Викентьевной Янковской.
Помню, как сейчас, поздним вечером я возвращался домой от своего начальника, которого время от времени мне приходилось посещать с докладами о ходе своей работы. Июнь шел к концу. Стояла отличная сухая погода. Выйдя из большого и ярко освещенного здания, занимаемого нашим военным ведомством, в узкий и слабо освещенный переулок, я свернул вниз и через несколько минут очутился на просторной и очень нравившейся мне набережной Даугавы.
Лето в Прибалтике отличается удивительной мягкостью, оно обволакивает вас своей теплой истомой как бы исподволь; переход от весны к лету совершается столь постепенно, что вы вместе с природой познаете всю прелесть ее расцвета, нисколько не страдая от жестокого изобилия солнца, которое так тяжело обычно ощущается нами на юге, а летняя ночь в Прибалтике является как бы естественным завершением светлого радостного дня.
На улице я словно окунулся в волну нежных запахов, поднимающихся от реки и влажных деревьев…
Было поздно и поэтому очень пустынно. Одет я был в штатское, на мне было темно-серое пальто и такая же шляпа; в темноте я должен был сливаться с гранитными стенами тянувшихся вдоль набережной тяжелых домов.
Неожиданный порыв ветра донес до меня острый речной холодок, я вздрогнул от внезапного озноба, у меня даже появилось желание поднять воротник пальто, как вдруг я услышал за своей спиной негромкий возглас:
– Послушайте, вы!
В первое мгновение у меня было мелькнула мысль, что это какая-нибудь ночная фея хочет завербовать себе случайно подвернувшегося прохожего, но тут же я решительно отверг эту мысль: в голосе, который я только что услышал, звучали такие властные и капризные нотки, какие никак не могли быть свойственны нетребовательной уличной девице.
Я обернулся. Позади меня посреди широкого тротуара стояла неизвестно откуда появившаяся дама. Она была в легком светлом пальто, руки ее были засунуты в карманы, левым локтем она прижимала к себе большую, по тогдашней моде, дамскую сумку, на голове у нее была простая и совсем не модная шляпа с небольшими полями, и с первого же взгляда на незнакомку можно было поручиться, что это очень порядочная и приличная дама.
– Простите, что я вас остановила, – сказала она, и, хотя она говорила по-русски сравнительно правильно, в ее речи звучал мягкий чужеземный акцент. – У меня к вам большая просьба… Надеюсь, вы не откажете…
Вместо ответа я молча ей поклонился.
– Я вас очень прошу, проводите меня до конца набережной, – продолжала она. – Это не так уж трудно, хотя…
Мне действительно показалось не столь уж трудным проводить ее до конца набережной, а что значило ее «хотя», я понял только в конце нашей десятиминутной прогулки.
Дама не производила впечатления неразумной трусихи, но мало ли какие фантазии приходят в голову дамам, и, так подумав, я молча предложил ей свою руку, не придав серьезного значения ее просьбе.
Мы пошли вдоль безмолвных домов, почему-то вдруг показавшихся мне суровыми и холодными. Моя спутница молчала, а у меня и подавно не было никакого намерения докучать ей своими расспросами. Нигде не было заметно ни одного прохожего. В отдалении поблескивала река. В небе тускло мерцали звезды. Еще дальше, за рекой, переливались неясные огни разбросанных на другом берегу улиц.
Внезапно тишина наполнилась шелестом скользящих по камням автомобильных шин. Я оглянулся. Издалека по направлению к нам мчался автомобиль. Должно быть, это была машина очень хорошей марки, потому что приближалась она столь стремительно и бесшумно, что не прошло и мгновения, как ее фары совершенно ослепили меня.
Но не успел я еще прийти в себя, как моя странная спутница резким рывком повернула меня к себе так, что я стал спиною к мостовой, прижалась ко мне, притянула к своему лицу мою голову – меня обдало запахом каких-то слабых и пряных духов – и прильнула своими губами к моим губам.
В эти секунды, когда она меня целовала, я услышал, как машина, поравнявшись с нами, замедлила ход, как на ходу дверца ее приоткрылась и тут же захлопнулась, а когда я отстранился от этой странной женщины, машина была уже далеко впереди и только красная лампочка, светившаяся позади кузова, мелькнула перед моими глазами, как сигнал о только что грозившей и исчезнувшей опасности.
Вероятно, я не смог скрыть удивления, с каким посмотрел на свою спутницу, потому что она коротко и мягко рассмеялась и погладила меня по рукаву.
– Вы милый, я могла бы вас полюбить, – кокетливо сказала она и торопливо добавила: – Не смущайтесь, это совершенно невозможно, я вас никогда не полюблю.
Но едва мы сделали еще несколько шагов, как полную смутных шорохов и неясных звуков тишину летней городской ночи прорезал тонкий и пронзительный и, я бы сказал, даже мелодичный и словно предупреждающий свист.
Оглянуться я не успел.
Моя спутница рванула меня за руку, толкнула к стене и по-мужски сильной рукой пригнула мою голову…
Во мне мгновенно возникло какое-то совершенно инстинктивное ощущение, что в меня сейчас выстрелят…
Но нет, выстрела я не услышал.
И, однако, я явственно ощутил какое-то движение воздуха, точно незримая птица стремительно пронеслась надо мной, почти коснувшись меня своим крылом…
Свист оборвался, выстрела не последовало, и тем не менее у меня не проходило ощущение того, что в силу каких-то загадочных обстоятельств я превратился в дичь, за которой охотятся какие-то незримые охотники.
Лишь спустя несколько секунд, когда моя спутница отвела от меня свою руку, я обернулся назад, вглядываясь в неясный сумрак, окутывающий пустынную набережную.
Мне показалось, будто вдалеке на фоне темного, свинцового неба обрисовалась какая-то тень, очертания какой-то человеческой фигуры, но видение это длилось всего один миг, тень эта тотчас исчезла, как бы растаяв среди других бесформенных ночных теней…
Я тут же подумал, что этот призрак был нарисован лишь собственным моим воображением, возбужденным всей той таинственностью, которая сопутствовала моей неожиданной спутнице.
Я никогда не имел склонности фантазировать и всегда твердо ощущал под собой реальную почву, занимался вполне прозаическими и суровыми делами и вдруг именно здесь, под свинцовым небом Прибалтики, летом 1941 года, неожиданно для самого себя стал участником происшествий, о которых раньше читал только в авантюрных романах!
Однако моя спутница как ни в чем не бывало равнодушно смотрела на меня.
Я не мог скрыть своего раздражения.
– Однако! – невольно вырвалось у меня, и я не без язвительности спросил: – Как вы думаете, это долго еще будет продолжаться?
– Что именно? – переспросила она, усмехнулась и тут же сама ответила: – Ах, это… Нет, не думаю. Скорее всего, на этом все кончилось.
– А вы не объясните мне, что все это значит? – спросил я, доискиваясь до истинного смысла всего происходящего.
– Нет, не объясню, – сухо ответила моя спутница, но тут же любезно добавила: – Во всяком случае, благодаря вам я избежала серьезных неприятностей, и мне приятно, что мой выбор был сделан правильно.
– Ну, сделать его было не так уж трудно, – угрюмо отозвался я. – Как будто я был единственным, кто попался вам на дороге.
– Напрасно вы так думаете, – возразила моя спутница, крепко опираясь на мою руку. – Я очень хорошо знала, с кем имею дело, прежде чем обратилась к вам.
– Неужели? – насмешливо произнес я. – Мужчина лет тридцати, высокого роста, прилично одетый…
– О, нет! – прервала меня незнакомка. – Я знаю больше, нежели вы думаете. – Она насмешливо посмотрела на меня снизу вверх. – Хотите, я скажу, кто вы такой?
Я покровительственно посмотрел на нее сверху вниз.
– А ну, попробуйте!
Она ответила не задумываясь:
– Вы советский офицер, майор Макаров. Мне опять пришлось удивиться.
– Однако!..
– Вы были сейчас на докладе у своего начальника, а занимаетесь здесь… – Она помолчала и опять усмехнулась: – Ну, это неважно, чем вы занимаетесь.
– А все-таки? – спросил я, желая до конца знать все, что известно обо мне этой женщине.
– Это не так важно, – по-прежнему уклонилась она от ответа и ускорила шаг.
Я шел рядом с ней и напряженно думал, что все это могло значить.
– Вот мы и пришли, – сказала она, подняв кверху подбородок и как бы указывая им вперед. – Помните: от угла наши дороги расходятся.
Мы остановились на углу – набережная шла вниз, а в сторону от набережной начиналась линия бульваров, освещенная разноцветными огнями расположенных по обеим сторонам магазинов и ресторанов.
– А все-таки кто же вы такая? – спросил я незнакомку.
Она засмеялась.
– Вы же русский, – сказал она. – А у русских есть хорошая поговорка: «Много будешь знать, скоро состаришься». А скоро состаришься – значит, скоро умрешь. А смерти я вам не желаю.
Но я не хотел ее отпустить, не разгадав ее загадок.
– Все же как вас зовут?
– Зося, – сказал она. – И все. Прощайте.
Она отпустила мою руку, но я попытался ее удержать и потянул было к себе ее сумку. Она сразу же грубо и больно ударила меня по руке, и сумка упала к ее ногам. Я наклонился, но, едва взялся за плетеный кожаный ремешок, ощутил под своими пальцами движение воздуха, и сумка повисла на оборванном ремешке.
Моя спутница выхватила ее из моей руки, а когда я, невольно посмотрев по сторонам, вновь перевел взгляд на странную незнакомку, ее уже не было, и я с досадой увидел только ее светлое пальто, мелькавшее за деревьями на довольно значительном расстоянии.
Это загадочное происшествие выбило меня из размеренной колеи моей жизни…
Стало банальным говорить, что подлинные происшествия бывают подчас удивительнее самых изощренных выдумок. В моей памяти невольно мелькнули запутанные фабулы детективных романов знаменитого Уоллеса, но то, что только что произошло со мною, превосходило фантазию Уоллеса.
Нельзя было упустить эту женщину из виду!
Ее пальто мелькало за деревьями, она быстро удалялась…
Я прибавил шагу.
За темными купами деревьев, над крышей «Рима», самого фешенебельного рижского отеля, сияли зеленые огни ресторана.
Незнакомка свернула к отелю.
Следовало догнать ее и выяснить все, что можно.
Я торопливо пересек бульвар и улицу и подошел к ярко освещенным дверям: швейцар предупредительно распахнул их передо мною.
Войдя в просторный и нарядный вестибюль ресторана, я понял, что свободное место в нем отыскать не так-то легко: весь гардероб был завешан верхней одеждой. Все же я разделся и по широкой мраморной лестнице поднялся в громадный зал, украшенный бесчисленными зеркалами в позолоченных рамах и бронзовыми люстрами с хрустальными подвесками, которые переливались всеми цветами радуги.
Зал был действительно полон, все столики были заняты. Далеко не вся буржуазная публика покинула советскую Ригу, кое-кто не успел выбраться, кое-кто чего-то выжидал, и по вечерам многие из тех, кому было не по нутру все то новое, что неожиданно ворвалось в жизнь старой Риги, коротали время в ночных ресторанах, которые еще продолжали жить своей мнимо красивой жизнью. Мужчины были преимущественно в смокингах и визитках, женщины – в вечерних туалетах; на невысокой эстраде салонный оркестрик тянул какую-то заунывную мелодию, под звуки которой редкие пары лениво шаркали по паркету несгибающимися ногами.
Я было хотел попросить разрешения присесть к чьему-либо столу, но мне повезло, и я как-то сразу наткнулся на только что освободившийся столик. Расторопный официант не заставил себя ждать, быстро принял от меня заказ, и уже через пять минут передо мной пыхтел мельхиоровый кофейник и поблескивала золотистыми искорками бутылка отличного мартеля.
Я пригубил рюмку с коньяком, отхлебнул кофе и принялся разглядывать публику…
Я скользил взором от столика к столику, от лица к лицу…
Да, я пришел сюда не зря! Я увидел свою недавнюю спутницу…
Она сидела через несколько столиков от меня.
Была она в строгом черном бархатном платье, низкий вырез подчеркивал белизну ее шеи и скрывал недостатки худощавой груди, и единственным украшением на ней был небольшой агатовый крестик, висевший на тонкой золотой цепочке… Нет, ошибиться я не мог!
Взгляд ее был обращен куда-то в пространство, она смотрела точно поверх всех голов и, казалось, ничего не замечала.
Вместе с нею за столом сидела дама постарше в лиловом шелковом платье и мужчина неопределенных лет, весьма тщательно одетый, но с таким невыразительным и скучным лицом, что о нем ничего нельзя было сказать, кроме того, что он являлся обладателем коротко подстриженных рыжеватых усиков и тщательно прилизанной шевелюры, цветом своим напоминавшей отсыревшую пеньку.
Я принялся рассматривать свою недавнюю спутницу, и она, должно быть, почувствовала мой взгляд, перевела свои устремленные в потолок глаза на меня.
Я не знал, стоило ли мне здесь, в этом ресторане, на виду у десятков людей обнаружить, что я ее знаю, и я ограничился легким полупоклоном, который свидетельствовал о моем внимании к ней и одновременно не мог быть замечен окружающими.
Но она равнодушно отвела от меня безразличные свои глаза и ни одним движением ресниц не ответила на мое приветствие, точно видела меня впервые в жизни.
Я подозвал официанта.
– Скажите, – спросил я его, кивая в сторону своей ночной спутницы, – эта дама часто бывает здесь?
– Я не знаю этой дамы, – с вежливым равнодушием ответил официант. – Но если желаете, я могу познакомить вас с другой дамой, настоящая блондинка, и очень любит высоких мужчин.
Я его поблагодарил…
Тем временем моя незнакомка и ее спутники поднялись и пошли к выходу.
Они прошли мимо моего столика, и на меня снова пахнуло слабым и пряным ароматом незнакомых духов…
Очевидно, она отнюдь не мечтала о продолжении нашего знакомства.
Выждав минуту, чтобы не дать никому заметить, за кем я следую, я бросил на стол несколько бумажек и пошел из зала.
В вестибюле никого уже не было. Я вышел на улицу, но и на улице не было никого, кроме редких прохожих, которых отнюдь нельзя было спутать с интересующими меня людьми.
Я обернулся к швейцару.
– Вы не заметили дамы… в светлом пальто?..
Швейцар вежливо и даже чуть соболезнующе улыбнулся.
– Они только что уехали в машине, втроем: две дамы и один господин…
Мне не оставалось ничего другого, как пойти домой, с тем чтобы с утра поставить в известность обо всем происшедшем тех, кому следовало об этом знать.
Приняв это благоразумное решение, я сунул швейцару чаевые, спустился со ступенек на тротуар и не спеша отошел от ресторана.
Я спокойно шел по улицам сонной Риги, редким прохожим было до меня столько же дела, сколько мне до них, дошел до дома, в котором жили Цеплисы – такова была фамилия моих хозяев, – постоял у парадного, оглянулся по сторонам, открыл дверь, вошел в дом, запер дверь с внутренней стороны и с облегчением подумал, что теперь-то все странные происшествия этого вечера кончились наверняка и ничто не нарушит покоя этого большого дома, населенного простыми трудолюбивыми людьми.
Я не спеша поднимался по лестнице, и вдруг у меня опять появилось ощущение тревоги, мне почудилось, что я на лестнице не один, что кто-то притаился в окружающем меня мраке, что меня кто-то ждет и вот-вот схватит невидимыми руками…
Я замедлил шаг, потом остановился, напряженно вслушиваясь в тишину.
Внезапно вспыхнул свет, выхватив из тьмы ступеньки лестницы, серую стену…
Почти мгновенно я сообразил, что кто-то засветил надо мной электрический карманный фонарь…
Вверху, на лестничной площадке, стояла все та же незнакомка, которую я сопровождал по набережной Даугавы и не более как час назад видел в зале ночного ресторана.
Она стояла прямо передо мной, в своем светлом пальто, под которым виднелось черное бархатное платье, руки ее были заложены в карманы, а прищуренные зеленоватые глаза устремлены на меня.
Я не успел ее о чем-либо спросить: она неторопливо вытянула из кармана правую руку, подняла, и я увидел направленное на меня дуло небольшого пистолета.
– Однако… – сказал я и, прежде чем она выстрелила – это запомнилось мне совершенно отчетливо, – услышал приближающийся издалека грохот и… потерял сознание.
2. «…держите себя в руках»
Первое, что я увидел, когда пришел в себя, это лицо женщины, стрелявшей в меня из пистолета…
Я ощущал невероятную слабость, сковывающую все мое тело. Голову я не мог поднять…
Вокруг было бело и светло, и прямо над моим лицом виднелось слегка улыбающееся и скорее недоброе, чем равнодушное лицо таинственной незнакомки.
Я пошевелил губами:
– Что это… Что со мной?
– Молчите, молчите, – прошептала она повелительно и, пожалуй, даже ласково. – Ни слова по-русски. Если хотите жить, молчите. Позже я объясню…
Но мне и самому не хотелось говорить: так я был слаб. Голова закружилась опять, и я закрыл глаза, а когда открыл снова, незнакомки уже не было.
Я стал медленно приходить в себя и всматриваться в то, что меня окружало.
Бело и светло. Я находился в больничной палате. Да, несомненно, я находился в больнице. Белые стены, белые столики, никелированные кровати. Два больших окна, из которых льется ослепительный золотистый летний свет. В палате всего три койки. На одной из них, у окна, лежу я, на другой, в стороне от меня, у дверей, еще какой-то больной, третья, у противоположной стены, пустая…..
И вдруг я сразу вспоминаю все, – наконец-то я совершенно очнулся! – весь этот странный вечер, непонятные события и недосказанные фразы и точку, поставленную пулей, направленной в мое сердце…
Я с трудом поднял руку, непослушную, слабую и как будто не принадлежащую мне, и провел ладонью по груди…
Да, грудь забинтована, в меня действительно стреляли.
Сколько времени лежу я в этой больнице и почему здесь находится эта женщина?
– Товарищ… – позвал я больного, лежащего возле дверей, но он мне не ответил, даже не пошевелился. Позже я узнал, что он, к моему счастью, просто не слышал, не мог слышать мой зов.
В это время послышались голоса, двери распахнулись, и в палату вошло много людей, все они были в белых халатах и в белых шапочках, и я сообразил, что это врачебный обход.
Вошедшие были о хорошем настроении, смеялись и обменивались шутками, но почему-то все говорили по-немецки.
Прежде всего они подошли к больному, который лежал около дверей.
Один из вошедших, молодой приземистый толстяк, быстро-быстро заговорил, я с трудом разбирал его речь. Видимо, он докладывал о состоянии больного. В группе выделялся другой человек, долговязый и какой-то очень сухой, почти старик, с надменной, высоко поднятой птичьей головкой; он был центром этой медицинской группы, все остальные – и это было заметно – были подчиненными.
– Господин профессор, господин профессор, – то и дело титуловал старика толстяк, обращаясь к нему и что-то рассказывая о больном.
– Очень хорошо, – сердито произнес старик и, внезапно оборвав толстяка, поднял вверх худую, жилистую руку, показал своим спутникам четыре длинных растопыренных пальца и деловито перечислил: – Один, два, три, четыре… Все!
Только спустя четыре дня я понял, что хотел сказать этим старик, и преисполнился к нему уважением.
Затем старик повернулся в мою сторону, и все подошли ко мне.
На этот раз заговорил не толстяк, а та самая таинственная женщина, которая была виновницей моего пребывания в этой палате и все с большей и большей очевидностью начинала играть какую-то роль в моей судьбе.
Она, как и другие, была в белом халате, и голова ее была повязана белой косынкой. Не знаю уж, в качестве кого выступала она здесь, но вела она себя среди всех этих медиков совершенно свободно.
Она указала на меня.
– Это, господин профессор, ваше достижение…
Она отлично говорила по-немецки, и я хорошо ее понимал.
Старик, которого все называли профессором, снисходительно улыбнулся – не знаю, тому ли, что он действительно чего-то достиг, или просто женщине, одарившей его таким комплиментом.
– Да, в этом случае, – как бы отщелкал своим сухим языком профессор, – все идет отлично.
– Он очнулся сегодня утром, – продолжала незнакомка. – Пытался разговаривать, но я остановила, он еще слаб, и будет лучше…
– О, вы отличная сиделка! – похвалил ее профессор с любезной улыбкой, с какой не обращался ни к кому из присутствующих. – Будем надеяться, что под вашим наблюдением ничто не помешает господину… господину…
Профессор запнулся.
– Господину Августу Берзиню, – торопливо подсказала незнакомка. – Вы же знаете…
– Господину Августу Берзиню… – аккуратно повторил профессор и многозначительно ей кивнул. – Никакие силы не помешают ему скоро стать на ноги.
Он склонился ко мне, оттянул мои нижние веки и посмотрел мне в глаза.
– Молодость! – добавил он с добродушной снисходительностью. – Будь у него явления склероза, я бы не дал за его жизнь и пфеннига.
С некоторой даже доброжелательностью он притронулся к моему плечу своими длинными осторожными пальцами.
– Вы – я это читаю в ваших глазах – и не собирались умирать, – неожиданно произнес он по-английски и вдруг процитировал Шекспира:
Cowards dies many times, before their death, The valiant never taste of death but once. [1]Это была похвала, я не понял, почему он отнес ее ко мне, но в данную минуту меня гораздо больше интересовало, что происходит со мной и где я нахожусь.
Затем профессор повернулся и журавлиной походкой, не сгибая ног в коленях, пошел прочь из палаты.
Все, в том числе и моя незнакомка, гуськом потянулись за ним.
Я опять остался один. Остался один и подумал: не брежу ли я? Почему меня, Андрея Семеновича Макарова, называют Августом Берзинем? Каким это образом я превратился в латыша? Почему меня лечат врачи, говорящие на немецком языке? Где я нахожусь? Почему за мной ухаживает женщина, которая пыталась меня убить?
Все эти и еще десятки других вопросов возникали в моем сознании, но я не находил на них ответа.
Я ломал себе голову, и наконец меня осенило: я похищен!
Да, такое предположение было весьма вероятно…
Офицер моего положения знает, конечно, очень много: сведения, которыми я обладал, не могут не интересовать генеральные штабы иностранных держав; чья-нибудь отчаянно смелая и безрассудная разведка могла пойти на подобную авантюру. Смелая потому, что похищение советского офицера в его собственной стране сопряжено с отчаянным риском, а безрассудная потому, что нельзя же мерить советских людей на свой, капиталистический аршин…
И несмотря на всю невероятность такого случая, я почти утвердился в подобном предположении. Да, меня похитили, говорил я себе; эта женщина не намеревалась меня убить, она только хотела лишить меня возможности сопротивляться… И затем я сам себя спрашивал: где же я нахожусь? У немцев? Да, вероятнее всего, что у немцев. Но на что они рассчитывают? Никогда и ничего они от меня не узнают, в этом я не сомневался.
Но почему в таком случае я Август Берзинь? Если им нужно было меня похитить, так именно потому, что я майор Макаров, – штабной советский офицер, а не неизвестный мне самому какой-то господин Берзинь! И почему мне нельзя говорить по-русски? Почему эта женщина ведет себя так, точно пытается меня от кого-то или от чего-то укрыть? Наконец, на что намекает этот долговязый немецкий профессор своими английскими фразами?
Я решительно терялся в своих предположениях.
Во всяком случае, ясно было одно: я нахожусь не в своем, не в советском госпитале.
В течение дня в палату не раз заходили санитары и медицинские сестры, оказывали мне разные услуги, приносили еду, интересовались, не нужно ли мне чего…
Большинство из них обращались ко мне по-немецки, некоторые говорили по-латышски.
Но я, памятуя данный мне утром совет, отвечал на все вопросы только легкими движениями головы.
Под вечер ко мне зашла моя незнакомка.
Она села возле койки, слегка улыбнулась и погладила мою руку.
Она заговорила со мной по-английски и шепотом, так что, если за дверью и подслушивали, никто ничего бы не разобрал.
– Терпение, прежде всего терпение, и вы все узнаете, – мягко, но настойчиво сказала она. – Пока что вы Август Берзинь, вы говорите по-немецки, по-английски, по-латышски, и только по-русски вам не следует говорить, вы вообще должны забыть о том, что вы русский. Позже я вам все объясню.
Я принялся ее расспрашивать, но мало что узнал из ее ответов.
– Где я?
– В немецком госпитале.
– А что все это значит?
– Узнаете.
– А сами вы кто? Она усмехнулась.
– Не помните? Я уже вам говорила. – Подумала и добавила: – Полностью меня зовут Софья Викентьевна Янковская, и мы давно с вами знакомы, это вы должны помнить. – Она встала и заговорщически приложила палец к своим губам. – Поправляйтесь, помните мои советы, и все будет хорошо.
Она ушла и не показывалась целых два дня, в течение которых меня мучили всякого рода догадки и предположения, пока, наконец, прислушиваясь к разговорам окружающих и тщательно взвешивая каждое услышанное слово, я не догадался о том, что произошло.
Постепенно я набрался сил, смог поглядеть в окно, и версия о похищении отпала: я по-прежнему находился в Риге, улица, на которую выходили окна госпиталя, была мне хорошо знакома.
За те дни, что я лежал без сознания, произошло нечто гораздо более страшное, чем если бы я был похищен какими-нибудь дерзкими разведчиками.
Гитлеровская Германия напала на Советский Союз, а я находился в Риге, да, все в той же самой Риге, но оккупированной немецкими войсками.
Немцы заняли город в первые же дни своего наступления и являлись теперь в нем хозяевами.
На койке у дверей лежал какой-то их ас, подбитый нашими летчиками; он неудачно приземлился где-то в предместьях Риги и теперь умирал в госпитале.
Надо отдать справедливость, ухаживали они за своим асом с большой заботливостью, всячески стараясь облегчить ему последние минуты.
Но почему они так же внимательно ухаживают за пленным русским офицером – ведь фактически я находился у них в плену, – этого я понять не мог. Впрочем, я тут же вспоминал, что я – это не я, что меня теперь почему-то называют Августом Берзинем, и опять переставал что-либо понимать.
Приходилось выжидать того времени, когда я оправлюсь, все узнаю и смогу что-либо предпринять.
На третий день после того, как я пришел в сознание, в коридоре возникла какая-то суета, в палату внесли носилки с новым больным и положили его на свободную третью койку.
Я чувствовал себя уже много лучше и принялся с интересом рассматривать нового соседа.
Это был пожилой мужчина с забинтованной грудью, по всей видимости, тяжелораненый.
Вначале он произвел на меня благоприятное впечатление. Добродушное лицо, умные серые глаза, седые виски, суховатые губы; на вид ему можно было дать лет сорок пять; человек, в общем, как человек…
Но как же скоро я его возненавидел!
Через несколько часов после появления этого больного в палату пришли два немецких офицера в черных гестаповских мундирах, поверх которых были небрежно накинуты белые медицинские халаты; один из них был майор, другой лейтенант.
Офицеры искоса поглядели на меня и остановились перед новым больным.
– Хайль Гитлер! – приветствовал майор больного.
– Хайль, – отозвался тот слабым голосом, однако заметно стараясь говорить как можно бодрее.
Санитары внесли два стула и небольшой столик с письменными принадлежностями, и офицеры тотчас приступили к допросу.
– Как вас зовут? – быстро спросил больного офицер в чине майора.
– Фридрих Иоганн Гашке, – также быстро и по-солдатски четко ответил больной.
Лейтенант записал ответ.
– Вас так и звали в России? – осведомился майор. Больной усмехнулся.
– Нет, в моем паспорте было написано Федор Иванович.
– Федор Иванович Гашке? – переспросил майор.
– Так точно, – подтвердил Гашке.
– Я рад, что вы выполнили свой долг перед фюрером и Германией, – сказал майор. – Вам трудно говорить?
– Нет, у меня достаточно сил, – негромко, но четко ответил Гашке. – Я готов…
Допрос длился часа два, майор спрашивал, лейтенант без устали писал.
Гашке оказался перебежчиком. Поволжский немец из-под Сарепты, он окончил педагогический техникум и учительствовал в Саратове; призванный в Советскую Армию, он в первые же дни войны попал на фронт и сразу начал готовиться к тому, чтобы перебежать к немцам. Как только полк, в котором он находился, вошел в соприкосновение с противником, Гашке, воспользовавшись минутным затишьем, вырвался вперед и, бросив оружие, побежал в сторону немецких позиций.
С советской стороны по перебежчику немедленно открыли огонь, немцы не стреляли, они сразу догадались, в чем дело; Гашке получил тяжелое ранение, но успел добежать до немецких позиций и только там упал. Прибежал он к немцам не с пустыми руками: перед бегством с передовой он проник в штаб полка, застрелил начальника штаба и похитил какие-то важные документы.
Как только в полевом госпитале выяснилась ценность перебежчика, было дано указание немедленно переправить его в Ригу…
Гашке, по-видимому, хорошо понимал, что словами завоевать расположение немцев нельзя, только точные и важные данные о Советской Армии могли определить истинную цену перебежчику.
И, действительно, Гашке не говорил лишних слов, но он заметил все, что следовало заметить, запомнил все, что следовало запомнить, и теперь с чувством внутреннего удовлетворения выкладывал все свои сведения и наблюдения сидевшим перед ним гестаповцам, и я, я сам, был свидетелем этого предательства.
Но гестаповцы почему-то мало обращали на меня внимания, мое присутствие их не смущало, наоборот, они даже как будто были довольны тем, что я слышу их разговор с перебежчиком, и это тоже было мне не совсем понятно.
Гашке был умным человеком, и сведения, которые он принес, представляли несомненную ценность, но разговор с ним полностью разоблачал его в моих глазах…
Ох, как он стал мне противен!
Часа через два гестаповцы ушли, пожелав Гашке скорейшего выздоровления.
Нам принесли ужин, очень приличный ужин: мясо, капусту, ягоды и даже по стакану какого-то кисленького винца.
Было совершенно очевидно, что мы находились на привилегированном положении.
Гашке с аппетитом поел; я тоже пока еще не собирался умирать, мне хотелось поскорее выздороветь и предпринять что-либо для того, чтобы вырваться на родину; одному асу было уже не до еды.
На другой день гестаповцы явились опять.
По-видимому, немцы каким-то образом сумели проверить показания Гашке об убийстве начальника штаба, а документы действительно оказались очень важными, потому что майор обещал представить Гашке к награде.
Гашке выкладывал все, что знал. Он был очень наблюдателен, этот Гашке! Он запомнил, где какие стояли артиллерийские дивизионы, какие проходили мимо него полки, мимо каких проходил он сам, где находились ближайшие аэродромы…
Его следовало бы пристрелить тут же, на месте, без промедления, чтобы лишить возможности передавать эти сведения, но у меня под рукой не было даже деревянного ножа для бумаги…
Гестаповцы принесли для Гашке газеты, и он любезно предложил их мне. Это были страшные газеты. В них сообщалось о безудержном продвижении гитлеровских полчищ на восток, о скором взятии Москвы, о расстрелах советских людей.
Я не верил напечатанному, а Гашке, наоборот, только усмехался, точно сведения эти доставляли ему удовольствие.
К концу четвертого дня ас умер, и я понял, что означали четыре профессорских пальца: профессор отпустил асу четыре дня жизни, и приговоренный к смерти ас послушно скончался в назначенный ему срок.
Мы с Гашке остались вдвоем. Это не значило, что мы все время находились наедине, в посетителях недостатка не было. Каждое утро во время обхода заходил старший врач, нам делали перевязки, приносили пищу, сестры забегали осведомиться, как мы себя чувствуем, заглядывали санитары… Но все же большую часть времени мы проводили вдвоем.
Гашке пытался со мной разговаривать, но я отмалчивался, делая вид, что еще слаб и мне трудно говорить, хотя на самом деле с каждым днем чувствовал себя все лучше и ощущал в себе достаточно сил для того, чтобы убить этого изменника.
Гестаповцы посещали Гашке ежедневно и каждый раз выуживали из него что-нибудь новое…
Наконец, он исчерпался, лейтенанту приходилось писать все меньше и меньше, Гашке выложил все, что мог заметить и запомнить, но мне казалось, что у гестаповцев и у Гашке имеются еще какие-то виды друг на друга.
Однажды вечером в палате снова появилась госпожа Янковская.
Я так и не мог попять, что она делает здесь в госпитале. Она ходила, конечно, в обычном белом халате, но медицинской практикой, по-видимому, не занималась. Иногда она отсутствовала по нескольку дней, а иногда толклась по несколько часов в палате без всякого дела, не опасаясь, что ее безделье будет замечено.
Вообще она держалась как-то особняком от всех остальных немцев, работавших в госпитале.
Она молча села возле меня и, по своему обыкновению, принялась смотреть куда-то сквозь стену.
В палату доносился уличный шум. Гашке как будто дремал. Я рассматривал Янковскую.
Было в ней что-то неуловимое и необъяснимое, чего я не встречал и не замечал в других женщинах, у меня было такое ощущение, точно она, подобно осьминогу, все время водила вокруг себя незримыми щупальцами.
– Вы знали когда-нибудь настоящую любовь? – внезапно спросила она меня по-английски. Здесь, в госпитале, она предпочитала разговаривать со мной по-английски.
– Конечно, – сказал я. – Какой же мужчина в мои годы… Мне тридцать лет, меня ждет невеста…
– Нет, я говорю не о добропорядочной, обычной любви, – настойчиво перебила меня Янковская. – Любили ли вы когда-нибудь женщину так, чтобы забыть разум, честь, совесть…
Мне подумалось, что она затевает со мной игру, в которой я неминуемо должен пасть ее жертвой… Однако ее не следовало разочаровывать.
– Не знаю, – неуверенно произнес я. – Вероятно, нет, я еще не встречал такой женщины…
Я подумал: нельзя ли будет бежать с ее помощью…
– А вы могли бы меня полюбить? – шепотом спросила она вдруг с неожиданной откровенностью. – Забыть все, если бы и я согласилась для вас…
Я повернул голову в сторону Гашке. Он сопел, должно быть, он спал.
– Он спит, – небрежно сказала Янковская. – Да он и не понимает…
– Как знать, – недоверчиво ответил я и, желая выгадать время, добавил: – Мы еще поговорим…
– Настоящие мужчины не раздумывают, когда женщины задают им такие вопросы, – недовольно произнесла Янковская.
– У меня еще не прошла лихорадка, – тихо ответил я. – Кроме того, здесь темно, и я не вижу, не смеетесь ли вы…
– Вы правы, – сказала Янковская. – Сумерки сродни лихорадке.
Она встала, подошла к двери и зажгла свет.
– Вы спите? – громко спросила она по-немецки, обращаясь к Гашке.
– Нет, – отозвался тот. – Мы еще не ужинали.
Янковская усмехнулась, достала из кармана халата плитку шоколада, разломала ее и дала каждому из нас по половинке.
– Спасибо, – поблагодарил Гашке и тут же принялся за шоколад.
– А что же вы? – спросила меня Янковская. Я покачал головой.
– Мне не хочется сладкого.
Янковская внимательно посмотрела мне в глаза.
– Ничего, вам захочется еще сладкого, – сказала она и кивнула нам обоим. – Поправляйтесь…
И, не прощаясь, ушла из палаты.
– Такие бабы, – одобрительно сказал Гашке, – вкуснее всякого шоколада.
Утром гестаповский майор пришел к Гашке без своего помощника: записывать было уже нечего. Майор сел против Гашке.
– Как вы себя чувствуете? – спросил майор.
– Отлично, – сказал Гашке.
– Вы счастливо отделались, – сказал майор.
– Меня сохранили бог и фюрер, – ответил Гашке.
– А что вы собираетесь делать дальше? – спросил майор.
– Все, что мне прикажут фюрер и вы, господин майор, – ответил Гашке.
Майор помолчал.
– Вот что, – сказал он затем. – Мы подумали о вас, мы дадим вам возможность проявить себя настоящим немцем…
Он нарисовал перед Гашке блестящие перспективы. Хотя Гашке родился и вырос в России, он проявил себя сознательным немцем. Гестапо ему доверяет. Его решили оставить в Риге в качестве переводчика при гестапо. Для начала он получит звание ефрейтора, остальное зависит от него самого.
Я тут же подумал: стоит Гашке попасть в гестапо, он себя там проявит!
– Что вы скажете на мое предложение? – спросил майор. – Мы вас не торопим, можете подумать…
– Мне не о чем думать, господин майор, – твердо сказал Гашке. – Я благодарю за доверие и сумею его оправдать.
Майор улыбнулся и покровительственно похлопал Гашке по плечу.
– Я в вас не сомневался. Как только вас выпишут из госпиталя, вы явитесь в гестапо.
Гашке проводил своего будущего начальника и немедленно завалился спать, а я…
Я думал и час, и два, и три. Гашке безмятежно спал, а я все думал, думал…
Что мне делать?
Бежать! Разумеется, бежать. Пробраться к своим. Это, конечно, не так просто, но это единственный выход из положения. Выйти из госпиталя, набраться сил и бежать. Умирать я не собирался, но если придется, решил отдать свою жизнь подороже…
Потом в поле моих размышлений попал Гашке. Этого надлежало уничтожить. Он уже достоин казни за свое предательство, а в гестапо он будет стараться выслужиться…
Но как его убить? Я вспомнил какую-то книгу, где описывалось, как в концентрационных лагерях расправлялись с провокаторами. Набрасывали на голову подушку и держали до тех пор, пока провокатор не задыхался…
Я приговорил Гашке к смерти и успокоился.
Вскоре он проснулся. Так как я разговаривал с ним неохотно, он вполголоса принялся напевать… «Катюшу»! Перебежчик напевал нашу добрую советскую песню… Это было столь цинично, что я охотно заткнул бы ему глотку!
Наступил вечер. Принесли ужин, мы поели, посуду унесли, и мы остались одни.
Гашке вздохнул.
– Интересно, что делается сейчас там? – туманно выразился он, обращаясь куда-то в пространство.
«Завтра ты уж ничем не будешь интересоваться», – мысленно ответил я ему, но вслух не произнес ничего.
Потом он стал укладываться, он вообще много спал, и я тоже отвернулся к стенке, делая вид, будто засыпаю.
– Что-то хочется пить, – громко сказал я, если бы Гашке не спал, он обязательно бы отозвался.
Тогда я встал и выключил свет, чтобы кто-нибудь, проходя мимо палаты, случайно не заметил, что в ней происходит.
Подождал, пока глаза не привыкли к темноте. Потом подошел к Гашке.
Он мирно дышал, не подозревая, что наступили последние минуты его жизни.
Я вернулся к своей койке, взял в руки подушку, прижал к себе и опять приблизился к Гашке…
Сейчас накрою его подушкой, подумал я, и не сниму до тех пор…
Но что это?
Гашке открыл глаза – я ясно видел его внимательные серые глаза – и, не вскакивая, не поднимаясь, не делая ни одного движения, негромко и отчетливо, с холодной сдержанностью по-русски произнес:
– Не валяйте-ка, Берзинь, дурака, не поддавайтесь настроению и не совершайте неосмотрительных поступков. Идите на свое место и держите себя в руках.
3. Под сенью девушек в цвету
Приходится сознаться, услышав призыв Гашке держать себя в руках, я растерялся…
Да, растерялся и замер как вкопанный у кровати Гашке, обхватив руками свою подушку. Выглядел я, вероятно, в тот момент достаточно смешно
А Гашке тем временем повернулся опять на бок и заснул.
Поручиться, конечно, за то, что он спал, я не могу; спал он или не спал, не знаю, но, во всяком случае, лежал на боку с закрытыми глазами, и ровное его дыхание должно было свидетельствовать, что он спит.
Я пошел обратно к своей кровати, сел и задумался.
Чего угодно мог ожидать я от Гашке, но только не этого! Я бы меньше удивился, если бы он внезапно выстрелил в меня из пистолета. Гашке, Гашке… А может быть, это вовсе и не Гашке? И даже наверняка не Гашке. Но тогда кто же?
Я не выдержал, опять подошел к нему, на этот раз, разумеется, без подушки.
– Послушайте! – позвал я его. – Господин Гашке… Или как вас там?.. Товарищ Гашке!
Но он не отозвался.
Я опять вернулся к своей кровати. Следовало лечь, но спать я не мог.
Если Гашке остановил меня, вместо того чтобы тут же, на месте выдать гестаповцам, значит, он не их человек. Но все его поведение противоречило тому, что он наш…
Я решил на следующий день как следует прощупать его…
Но с утра события начали разворачиваться с кинематографической быстротой.
Не успели мы проснуться, умыться и выпить утренний кофе, как за Гашке пришел гестаповский лейтенант, который в предыдущие дни сопровождал гестаповского майора.
– Хайль!
– Хайль!
– Я за вами, господин Гашке. Мы нуждаемся в вас…
Я внимательно рассматривал господина Гашке, можно сказать, изучал его, пытаясь разглядеть, что скрывается за его внешней оболочкой, но сам господин Гашке не замечал моих взглядов, он даже ни разу не посмотрел в мою сторону.
– Я весь в вашем распоряжении, господин офицер, – ответил Гашке лейтенанту. – Надеюсь, я сумею оказаться достойным сыном нашего великого отечества…
Он прямо-таки декламировал, этот господин Гашке!
Пришел санитар и по-солдатски вытянулся перед лейтенантом.
– Все готово, господин лейтенант, – отрапортовал он. – Господин больной может идти переодеваться.
– Пошли, – сказал лейтенант.
– Мгновение. Я соберу газеты.
Гашке принялся доставать из тумбочки полученную им за время лечения всякую фашистскую макулатуру.
Он был в отличном настроении и даже принялся напевать какую-то скабрезную немецкую песенку:
Коль через реку переплыть
Желательно красотке.
Ей полюбезней надо быть,
Быть, быть с владельцем лодки…
Он собирал фашистское чтиво и со смаком пел свои куплеты:
Пообещай отдать букет,
Отдать букет и чувства,
А выполнить обет иль нет –
Зависит от искусства…
С легкой насмешливостью посмотрел он на меня и громко, с большим увлечением пропел рефрен:
Тра-ля-ля, тра-ля-ля…
От твоего искусства!
Не было ничего удивительного в том, что перебежчик, которому удался его побег и которого вдобавок брали еще на работу в гестапо, пребывал в отличном настроении и распевал песни, но мне, не знаю почему, показалось, что эта песенка предназначалась для меня.
Как-то слишком многозначительно взглянул на меня Гашке, слишком подчеркнуто пел он свои куплеты, в которых говорилось о том, что тому, кто хочет переплыть реку, надо быть полюбезнее с теми, кому принадлежат в данный момент средства передвижения, и что можно все обещать за то, чтобы перебраться, а выполнить обещание или нет, зависит от самого себя…
Трудно было сказать, добрый это совет или нет, но какой-то намек в песенке содержался.
Почему Гашке остановил меня ночью? Почему он меня не выдал и в то же время не сказал ничего более определенного? Или, соглашаясь на все, он и мне советовал поступить так же? Вообразил, что мы одного поля ягода?..
Я еще долго размышлял бы о поведении Гашке, но вскоре в палате появилась Янковская и заявила, что меня тоже выписывают из госпиталя.
– Я привезла ваши вещи, – сказала она. – Сейчас принесут чемодан, одевайтесь, а я подожду вас внизу.
Чемодан принесли, нарядный, дорогой чемодан из свиной кожи, но это был не мой чемодан. Я открыл его: в нем лежали белье, костюм, ботинки; все эти предметы мужского туалета отличались той изысканной простотой, которая стоит очень больших денег. Эти вещи не были моими, но выбора у меня не оставалось. Я оделся, все было по мне и не по мне, точно портной и сапожник обузили меня, все следовало сделать чуть пошире, но в общем выглядел я, должно быть, неплохо, потому что дежурная сестра, пришедшая меня проводить, воскликнула не без восхищения:
– О, господин Берзинь!..
Янковская ждала меня в вестибюле. Мы вышли на крыльцо.
Часовой в черной эсэсовской форме, стоявший у двери, отдал честь.
У подъезда стоял длинный сигарообразный автомобиль кофейного цвета – немецкая гоночная машина.
Шофера в машине не было.
– Садитесь, – пригласила меня Янковская.
Все, что сейчас происходило, плохо укладывалось в моем сознании: советский офицер находится в оккупированной фашистами Риге, и вот, вместо того чтобы быть расстрелянным или брошенным в какой-либо застенок, я находился в немецком госпитале на положении привилегированного лица, эсэсовцы отдавали мне честь, меня приглашали сесть в машину…
Я сел. Янковская заняла место за рулем, и мы двинулись в путь.
Мы ехали по улицам Риги – они были все такими же просторными и красивыми и чем-то неуловимо другими. Так же шли прохожие, но это были другие прохожие, так же мчались по улицам машины, но это были другие машины, так же сияло над нами небо, но это было другое небо…
Я испытующе посмотрел на Янковскую.
Маленькая шляпка блеклого сиреневого цвета. На лоб спускалась нежная розовая вуалетка, придавая лицу задорное выражение, глаза искрились…
Она азартно вела машину с недозволенной быстротой.
– Куда вы меня везете? – спросил я.
– Домой, – деловито отозвалась она.
– К вам?
– Нет, – ответила она чуть ли не с насмешкой. – К вам!
Я решил потерпеть: в конце концов все эти загадки должны были разъясниться. Мы ехали вдоль бульваров.
– Не глядите на деревья, – коротко бросила мне Янковская.
Но я ей не подчинился.
На деревьях висели люди, это были повешенные… Вот что другое было на улицах Риги.
Я положил свою руку на руку Янковской.
– Не торопитесь.
Она укоризненно посмотрела на меня и замедлила ход.
Прямо против меня висели двое мужчин, мне показалось, двое пожилых мужчин, хотя я мог ошибиться, глядя на окаменелые серые лица. На груди одного из них висел обрывок картона с краткой надписью «Повешен за шпионаж»…
Янковская испытующе смотрела на меня.
– Вас это очень… удручает?
Я промолчал. Что я мог ей ответить! И она опять повела машину с прежней скоростью.
– Подальше от этих… – серьезно сказала она, задумалась и добавила: – Подальше от этих деревьев.
Она свернула в какой-то переулок, еще раз свернула и еще раз, и мы выехали на одну из самых спокойных и фешенебельных улиц Риги.
Она остановилась перед большим светлым четырехэтажным домом.
– Вот мы и приехали, – сказала она.
– Куда вы меня привезли?
– Пойдемте в дом, – произнесла она вместо ответа. – Не могу же я объясняться с вами на улице.
Мы вошли в подъезд, навстречу нам поднялась привратница.
– Добрый день, господин Берзинь! – Она приветливо поклонилась.
Я не был Берзинем, но привратница назвала меня этим именем.
Мы поднялись на второй этаж. Янковская достала из сумочки ключ, открыла английский замок, и мы очутились в просторной передней.
Навстречу нам вышла немолодая светловолосая женщина в темном платье, с кружевной белой наколкой на голове.
– Здравствуйте, Марта, – поздоровалась с ней Янковская. – Вот и господин Берзинь!
Та, кого Янковская назвала Мартой, приветливо улыбнулась, и вдруг я заметил, что улыбка ее сменилась какой-то растерянностью.
– Здравствуйте, господин… – неуверенно произнесла Марта; она как-то запнулась и с напряжением добавила: – Господин Берзинь.
– Ничего, ничего, Марта, – поощрительно сказала Янковская. – Можете идти на кухню, сегодня господин Берзинь будет обедать дома, а мы пройдем в кабинет.
Мы прошли через небольшую столовую, и Янковская ввела меня в кабинет. Обе комнаты были обставлены современной мебелью, очень модной и очень удобной, доступной только состоятельным людям. В кабинете стояли гладкий полированный письменный стол, легкие кресла и шкафы с книгами. Стены украшало множество однообразных акварелей, выполненных в какой-то условно-небрежной манере.
Мы остановились посреди комнаты.
– Надеюсь, – начал было я, – теперь-то вы объясните…
Но Янковская не дала мне договорить.
– Вы могли бы быть более любезным хозяином, – упрекнула она меня. – Прежде чем задавать вопросы, следовало бы предложить мне сесть.
Я пожал плечами.
– Хозяином? Я хочу знать, где я нахожусь!
– Вы находитесь у себя дома. Это квартира Августа Берзиня, а вы, я уже вам говорила, вы и есть этот самый господин Берзинь.
Надо было запастись терпением, чтобы разобраться во всем происходящем.
Однако я попытался прикрикнуть на Янковскую.
– Хватит! – воскликнул я, повышая голос. – Вы долго намерены играть со мной в прятки? Извольте объясниться, или я немедленно покину этот дом…
– И сразу очутитесь в гестапо, – насмешливо перебила меня Янковская. – Учтите, в Риге нелегко скрыться… – Она села в кресло и кивком указала мне на другое. – Сядьте и давайте поговорим спокойно. Кстати, я хочу вас спросить: умеете ли вы рисовать?
Мой окрик не имел успеха, она была не из тех, на кого можно было воздействовать криком.
Все-таки худой мир был, по-видимому, лучше доброй ссоры…
– Рисую, – мрачно ответил я. – Мои картинки не вызовут больших восторгов у ценителей живописи, но во время занятий топографией я набрасывал иногда пейзажи.
– Это прекрасно, – сказала тогда Янковская. – Вы даже превзошли мои ожидания. Дело в том, что вы художник, господин Берзинь, вы рисовали пейзажи, которые вам удавалось иногда продавать, хотя вы не слишком нуждались в деньгах… – Плавным жестом она указала на стены: – Ведь это ваши рисунки, господин Берзинь!
Я еще раз раздраженно взглянул на акварели, украшавшие кабинет.
– Так рисовать я умею! – вызывающе сказал я. – Пятна и полоски! На топографических картах так изображают кусты и ручьи.
– Вот вы и запомните, что вы художник, – сказала Янковская. – В Риге вас знают, и вы кое-кого знаете…
– Но ведь я не Берзинь, – запротестовал я. – Вам это отлично известно…
Она подошла ко мне, небрежно села на ручку моего кресла.
– Вы милый и глупый, вы находитесь в плену представлений, которые владели вами три месяца назад, – произнесла она, и в ее голосе прозвучала театральная грусть. – В потоке времени столетия подобны мгновениям, а за истекший месяц человечество пережило столько, сколько в иные времена не переживает в течение целого столетия. Месяц назад Рига была советской, а теперь она немецкая, Москва накануне падения, и солнце восходит с запада, а не с востока. Макаров умер и никогда не воскреснет, а если вы попытаетесь его воскресить, его придется похоронить вторично.
Она встала и прошлась по комнате.
– Не стоит хоронить себя дважды, – мягко произнесла она, пытаясь примирить меня с чем-то, что еще оставалось для меня тайной. – В жизни людей происходят иногда такие повороты, что было бы просто неразумно сопротивляться судьбе. – Она остановилась передо мной, как учительница перед школьником. – Запомните: вы Август Берзинь, художник, – сказала она. – Ваши родители умерли несколько лет назад. Вы учились в Париже, не женаты и ведете несколько легкомысленный образ жизни. Марта – ее фамилия Круминьш – ваша экономка, кухарка и горничная, она живет у вас третий год, и вы ею очень довольны. Как будто все… – Она подумала. – Да, – вспомнила она, вы не поклонник гитлеровцев, но считаете их меньшим злом по сравнению с коммунистами.
Она посмотрела в окно и как будто кому-то кивнула.
– Я пойду, – сказала она. – А вы осваивайтесь, осмотрите квартиру, проверьте, все ли у вас в порядке, и, если к вам будут заходить, не прячьтесь от своих знакомых. Вечером я вас навещу…
Она ушла, оставив в комнате запах каких-то странных, нежных и раздражающих духов.
Я остался один… Однако я не был уверен в том, что за мной не наблюдают…
Надо было выбираться из этого города, но я ощущал себя в каких-то тенетах, которыми меня оплел неизвестно кто и неизвестно зачем.
Во всяком случае следовало соблюдать и осторожность, и предусмотрительность.
Пока что я решил осмотреть свою квартиру.
Кабинет, столовая, гостиная, спальня, ванная…
Для одного человека, пожалуй, больше чем надо!
Все комнаты были обставлены с большим вкусом.
В ванной я мельком посмотрел в зеркало и… не узнал самого себя: это был я и не я. Правильнее сказать, это был, разумеется, я, но в моей внешности произошла разительная перемена: всегда, сколько я себя помню, я был темным шатеном, на меня же из зеркала глядел рыжеватый блондин…
Да, рыжеватый блондин!
Я зашел в кухню…
Марта стояла у плиты, поглощенная какими-то кулинарными таинствами.
Я молча смотрел на Марту, и она, в свою очередь, испытующе посматривала на меня.
– Извините меня, господин Берзинь, – внезапно спросила она. – Ведь вы, извините, не господин Берзинь?
Я не знал, что ей ответить.
– А почему бы мне не быть господином Берзинем? – неуверенно возразил я. – Это такая распространенная фамилия…
Я вернулся в кабинет и принялся знакомиться с его хозяином, то есть с самим собой, поскольку я теперь был Августом Берзинем, хотя в этом и сомневалась моя экономка.
Как я уже сказал, в живописи господин Берзинь всем художникам предпочитал, по-видимому, самого себя, а что касается книг, их было много и подобраны они были весьма тщательно. Господин Берзинь, судя по книгам, интересовался тремя предметами: искусством Древнего Рима, политической историей Прибалтики, особенно новейшей ее историей, и современной французской литературой. Впрочем, подбор французских авторов свидетельствовал, что господин Берзинь – большой эстет и, я бы даже сказал, сноб: в его библиотеке были отлично представлены Поль Валери, Анри де Ренье, Жюль Ромен, Марсель Пруст, Жан Жироду; из более ранних поэтов находились Малларме, Бодлер, Верлен и Рембо, а что касается старины, то из всех старых поэтов в библиотеке Берзиня нашлось место только для одного Вийона.
На столе Берзиня, или, правильнее сказать, на моем столе, лежал томик знаменитой эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», тот самый роман этой эпопеи, который называется «Под сенью девушек в цвету».
В этот момент я представить себе не мог, как символично было это название и для жизни господина Берзиня, и для моей последующей жизни в его доме!
Вся жизнь господина Августа Берзиня в Риге, и того, который существовал в этой квартире до моего появления, и того, который появился здесь в моем лице, протекала, так сказать, именно под сенью девушек в цвету.
Но в первый день моего присутствия в этой квартире никакие девушки в ней не появлялись.
Вечером, как и пообещала, пришла Янковская.
Я сидел в кабинете и перелистывал Пруста, неотступно раздумывая о том, как мне организовать свое бегство из Риги.
Янковская появилась неожиданно – я уже говорил, что у нее был ключ от этой квартиры.
– Сидите и мечтаете о побеге? – спросила она меня с иронией.
– Вы догадливы, – ответил я.
– Напрасные мечты! Что ушло, уже не вернется, – задушевно произнесла она, – Но вы не тревожьтесь, все будет хорошо. – Она взяла из моих рук книгу и отложила ее в сторону. – Я хочу кофе. Позвоните Марте и распорядитесь…
Она сама нажала звонок, скрытый в бронзовой гирлянде, украшающей настольную лампу.
Мы перешли в столовую, и, надо сказать, кофе, приготовленный Мартой, был превосходен.
– А вы не пробовали пить кофе с обыкновенной русской водкой? – спросила меня Янковская, сама достала из буфета бутылку и налила себе водки.
Но мне было не до водки.
С какой-то мучительной остротой ощущал я всю неестественность такого времяпрепровождения в эти грозные дни.
– У меня к вам много вопросов, – сказал я своей собеседнице. – И думаю, что пришло время на них ответить.
– Позвольте мне их перечислить? – не без лукавства произнесла Янковская. – Во-первых, вас интересуют обстоятельства того странного вечера, когда состоялось наше знакомство; во-вторых, вам хочется знать, почему я в вас стреляла и затем, без всякой последовательности, спасла и ухаживала за вами в госпитале; в-третьих, каким образом вы превратились в Августа Берзиня…
Она улыбнулась.
Я тоже невольно улыбнулся.
– Правда, – сказал я. – И я надеюсь…
– Постепенно вы все узнаете, – снисходительно сказала Янковская. – В тот вечер ваше присутствие избавило меня от большой опасности, стрелять в вас меня вынудили обстоятельства, которые были сильнее меня, а спасла вас моя находчивость, и это взаимовыгодно для нас обоих…
Так ответила она, не разъяснив ни одной из загадок.
– Но, может быть, вы объясните, каким образом я превратился в блондина? – спросил я.
– Очень просто. С помощью перекиси водорода. Так поступают многие женщины, страстно желающие стать блондинками. Возможно, вам это не нравится, но вы должны меня извинить. Я вынуждена была вас обесцветить, потому что во всем остальном вы очень похожи на Августа Берзиня. Смелее вживайтесь в образ, как принято говорить у актеров, и ни у кого не появится подозрений в том, что вы не тот, за кого вам приходится себя выдавать.
– Как сказать! – возразил я, усмехаясь. – Марта, например, совсем не уверена в том, что я являюсь ее хозяином…
И я передал Янковской слова Марты, сказанные ею сегодня мне на кухне.
Янковская сразу посерьезнела, а минуту спустя я увидел, как она выпустила свои коготки.
– Марта! – резко крикнула она.
Она сразу забыла о плюшевой обезьянке, висевшей на шелковом шнурке над обеденным столом, под хвостом которой находился электрический звонок.
Марта неторопливо вошла в столовую.
– Сядьте, госпожа Круминьш, – приказала Янковская Марте, и было совершенно очевидно, что лучше всего с ней не спорить.
Марта села спокойно, не спеша, в ней было какое-то внутреннее спокойствие простой рабочей женщины. Янковская кивнула в мою сторону.
– Вы, кажется, не узнали сегодня господина Берзиня?
Марта смутилась.
– Я человек религиозный, – нерешительно сказала она. – Но я не могу поверить в воскрешение мертвых, госпожа Янковская…
Янковская усмехнулась.
– Вам придется поверить, – ответила она Марте. – Потому что если вы умрете от моей пули, вы уж наверняка не воскреснете. – Она еще раз кивнула в мою сторону и многозначительно посмотрела на Марту: – Так кто это такой, Марта?
– Я думаю… Я думаю, что это господин Берзинь, – неуверенно произнесла Марта.
– Кто-кто, повторите еще раз! – скомандовала Янковская.
– Это господин Берзинь, – гораздо тверже повторила Марта.
– Да, это господин Берзинь, – подтвердила Янковская, властно глядя на Марту. – В этом нет никаких сомнений, и в этом вы не будете сомневаться не только в разговорах с господином Берзинем, но даже в мысленном разговоре с самим господом богом… Марта молчала.
– Что же вы молчите? – спросила Янковская.
– Я вас понимаю, – тихо ответила Марта.
– Надо что-нибудь добавить? – спросила Янковская.
– Нет, – ответила Марта.
– Но я добавлю, – сказала Янковская. – Ваш сын и ваш брат, отправленные на работу в Германию, никогда не вернутся домой, если вы даже во сне пророните хотя бы одну неосторожную фразу…
И вдруг в руке, которая только что держала изящную голубоватую чашечку с кофе, я увидел пистолет, тоже очень изящный и небольшой, но который, однако, отнюдь не был дамской безделушкой. Он лежал на ее ладони и точно дышал, потому что она шевелила своими пальцами, – этот пистолет появился на ее ладони так, как будто Янковская была профессиональной фокусницей.
– Вы верите, что я могу вас убить? – небрежным тоном задала она вопрос Марте.
– Да, – тихо ответила та.
– Очень хорошо, – удовлетворенно сказала Янковская. – Если мне не понравится ваше поведение, я вас застрелю… – Неожиданно она улыбнулась и добавила уже совсем шутливо: – Я вас застрелю и в том случае, если господин Берзинь будет недоволен вашей стряпней… – Она улыбнулась еще приветливее и милостиво отпустила Марту: – Идите и ложитесь спать.
Но как только Марта ушла, Янковская тоже собралась уходить.
– Я устала, – сказала она. – Завтра я зайду. Хочу вас только предупредить. К вам будут приходить разные девушки Учтите, это так и должно быть. Не составляйте их без внимания.
Действительно, девушки стали ко мне наведываться чуть ли не ежедневно.
Сперва я было не понял истинной цели этих посещений. На следующий день после обеда Марта доложила:
– К вам какая-то девушка, господин Берзинь…
В гостиную впорхнула, именно впорхнула, хорошенькая, и даже очень хорошенькая, девушка
На ней был синий костюм, шляпка, сумочка… Все как полагается.
– Ах, Август, я так давно тебя не видела! – воскликнула она и бесцеремонно потрепала меня по щеке.
Но как только Марта вышла из комнаты, девушка сразу посерьезнела.
– Пройдем в кабинет? – деловито предложила она. В кабинете она совсем перестала нежничать. Она порылась в сумочке и достала помятый листок бумаги.
– Гестаповцы стали бывать в «Эспланаде» реже, и, мне кажется, коммунисты устроили у нас явку, – сказала она. – Тут записаны имена офицеров, которые у нас бывают и которые мне удалось услышать. Кроме того, здесь два адреса, одного гауптштурмфюрера и начальника одной из эскадрилий…
Как я понял из разговора, девушка работала кельнершей в ресторане «Эспланада» и одновременно являлась осведомительницей…
Кого? Господина Берзиня, несомненно! Но на кого работал я, этого я не знал!
Девушки приходили иногда даже по две в день. Это были кельнерши, маникюрши, массажистки, большей частью хорошенькие, всегда входили с какой-нибудь нежной фразой, но стоило нам уединиться, как сразу делались серьезнее и вручали мне записочки с именами и адресами, которые им удалось узнать, с фразами, которые им удалось услышать и чем-то показавшимися им многозначительными…
Да, это была агентура! Конечно, она не делала чести разведывательным талантам господина Берзиня: его агентурная сеть была организована весьма примитивно. Любая контрразведка без особых затруднений могла обнаружить и взять под свое наблюдение и всех этих девиц, и самого господина Берзиня… И хотя я сам не был работником разведки и только соприкасался с ней по роду своей деятельности, думаю, что, будь я на месте господина Августа Берзиня, я бы организовал и законспирировал агентурную сеть более тщательно.
Сведения, которые приносили девушки, не имели большого значения, но хороший разведчик, разумеется, не пренебрегает ничем, поэтому даже такая поверхностная агентура имела свою ценность.
Во всяком случае, с помощью своих посетительниц я довольно хорошо представлял себе, как проводят время немецкие офицеры и всякие бесчисленные гитлеровские администраторы, чем занимаются, где бывают, с кем встречаются, и отчасти даже чем они практически интересуются.
Девушки эти, конечно, не были профессиональными агентами, служба у господина Берзиня была для них приработком. Но, как говорится, курочка по зернышку клюет да сыта живет; множество мелких фактов и фактиков создавали в общем достаточно ясное представление о жизни тех слоев общества, которые могли интересовать господина Берзиня.
Вначале, правда, меня несколько удивляло, почему агентура Берзиня состояла из одних девушек – как на подбор, все эти кельнерши, маникюрши и массажистки были миловидны и молоды, – но потом я сообразил, что это был неплохой способ маскировки подлинных взаимоотношений Берзиня и его сотрудниц; нравственные качества Берзиня могли вызывать осуждение, но зато истинные его занятия не вызывали никаких подозрений.
Впрочем, господин Берзинь, вероятно, был более внимателен к этим девушкам, чем я, потому что некоторые посетительницы покидали меня с явным разочарованием, не получив, по-видимому, всего того, на что они рассчитывали; я ограничивался лишь тем, что деловито выдавал им зарплату – этому научила меня Янковская.
На второй или третий день после моего вселения в квартиру Берзиня она поинтересовалась:
– Ваши посетительницы возобновили свои посещения?
– Да, заходят, – сказал я. – Но мне опять непонятно…
– Ничего-ничего, – оборвала она меня. – Скоро все станет на свое место. Их сведения не представляют особой ценности, но будет хуже, если они перестанут заходить. Их надо поощрять.
Она достала из моего стола, поскольку стол Берзиня считался теперь моим, связку ключей и открыла небольшой стенной сейф, скрытый за одной из акварелей; в нем хранились деньги и, как оказалось, золотые безделушки.
Запас валюты был не слишком велик, но все же в сейфе хранились и доллары, и марки, и фунты стерлингов, а всяких колечек, сережек и брошек было как в небольшом ювелирном магазине.
Я взял несколько безделушек. Зеленоватые, розовые, лиловые камешки насмешливо поблескивали на моей ладони… Заглянул в сейф: у задней стенки лежал голубой конверт, в нем находились какие-то фотографии. Я высыпал их из конверта. Это были те непристойные, гривуазные картинки, которые в газетных объявлениях туманно называются «фотографиями парижского жанра». Мне стало даже как-то неудобно оттого, что их могла увидеть Янковская.
Но они не произвели на нее никакого впечатления.
Я сунул снимки обратно в конверт и пошел было из комнаты.
– Куда это вы? – остановила меня Янковская.
– Выбросить!
– Эти… картинки? Напрасно. Господин Берзинь держал их, как я думаю, для того, чтобы развлекать своих девушек…
Я пожал плечами.
– Знаете ли…
Янковская поджала накрашенные губы.
– Допустим, что вы… ну, что вы не такой, как ваш предшественник! Однако я не советую их выбрасывать. В нашей работе годится решительно все. Нельзя предвидеть всех положений, в которых можно очутиться.
Я колебался, но в таких делах она, несомненно, была, опытнее меня.
– Да-да, иногда самые неожиданные вещи приносят неоценимую пользу, – добавила она. – Поэтому положите эти карточки обратно, места они не пролежат… – Она взяла у меня конверт и сама положила его на прежнее место. – Теперь пересчитайте валюту, ее надо беречь, – деловито посоветовала Янковская. – А сережки и кольца предназначены специально для вознаграждения девушек.
И я дарил приходившим ко мне девушкам то недорогой перстенек, то брошку…
Подарки они принимали охотно, но, вероятно, не возражали бы и против более нежного внимания к их особам.
Во всяком случае, Янковская, которая, должно быть, все время держала меня в поле своего зрения, как-то спросила:
– Скажите, Август, это трусость или принципиальность?
Я не понял ее.
– Вы это о чем?
– Тот, другой, на которого вы так похожи, был менее скромен, – сказала она. – Девушки на вас обижаются. Не все, но…
Меня заинтересовали ее слова, но совсем не в том смысле, какой она им придавала.
– А вы их видите?
– Не всех, – уклончиво ответила она. – Август посвящал меня не во все свои тайны…
– Но почему немцы так снисходительны к этому таинственному Августу? – спросил я ее тогда. – Контрразведка работает у них неплохо, и как это они при всей своей подозрительности не замечают этих довольно частых и, я бы сказал, весьма сомнительных посещений? Почему не обращают внимания на странное поведение Берзиня? Почему оставляют его в покое? Почему проявляют в отношении ко мне такое странное равнодушие?
– А почему вы думаете, что они к вам равнодушны? – не без усмешки вопросом на вопрос ответила мне Янковская. – Просто-напросто они отлично знают, что вы не Август Берзинь, а Дэвис Блейк.
4. Приглашение к танцам
«Час от часу не легче, – подумал я. – Из Андрея Семеновича Макарова я внезапно превратился в Августа Берзиня. И не успел выяснить, каким образом и для чего это превращение произошло, как мне сообщают, что я уже не Август Берзинь, а Дэвис Блейк!»
Было от чего прийти в недоумение.
Я, конечно, понимал, что участвую в какой-то игре, но что это за игра и для чего она ведется, мне было неясно, а особа, пытавшаяся двигать мною, как пешкой в шахматной игре, не хотела мне этого объяснить.
В эти дни я ставил перед собой лишь одну цель: добраться как-нибудь до своих. Я понимал, что сделать это непросто: я находился в городе, захваченном врагом; весь распорядок жизни в Риге был строго регламентирован, и вряд ли кто мог оказаться за пределами наблюдения придирчивой немецкой администрации.
Августа Берзиня почему-то щадили, во всяком случае, оставляли в покое, но если Август Берзинь вздумает перебраться через линию фронта, навряд ли его пощадят, да и добраться до линии фронта было не так-то легко…
Для того чтобы действовать увереннее, следовало разгадать тайну Августа Берзиня, присматриваться, выжидать, узнать все, что можно узнать. И лишь тогда…
Но внезапно тайна Августа Берзиня превратилась в тайну Дэвиса Блейка.
Жизнь, как всегда, была сложнее и запутаннее любого авантюрного романа. Герой романа, особенно романа авантюрного, принялся бы сопоставлять факты, делать всяческие предположения, строить различные гипотезы и посредством остроумных предположений в конце концов разгадал бы тайну; но я не владел методом индукции и дедукции столь совершенно, как детективы из криминальных романов, да и терпение мое, правду сказать, тоже истощалось…
Вчера Янковская сказала, что меня зовут Августом Берзинем, сегодня говорит, что я Дэвис Блейк, а завтра объявит Рабиндранатом Тагором…
Я решил заставить ее заговорить!
– Дэвис Блейк? – повторил я и добавил: – Это вы мне тоже не объясните?
– Объясню, но несколько позже, – ответила она, как обычно. – Вам надо слушаться – и все будет хорошо.
Я сделал вид, что подчинился; я позволил нашему разговору уклониться в сторону, и мы заговорили о неизвестном мне Берзине, которого Янковская знала, по-видимому, довольно хорошо. Я принялся иронизировать над его условными белесыми акварелями, наш разговор перешел на живопись вообще, Янковская сказала, что ей больше всего нравятся пуантилисты, всем художникам она предпочитала Синьяка, умеющего составлять видимый нами мир из мельчайших отдельных мазков…
Внезапно я схватил ее за руки и вывернул их назад, совсем так, как это делают мальчишки.
Янковская закричала:
– Вы с ума сошли!
Никогда ранее я так не обращался с женщиной, но меня вынуждали обстоятельства.
– Марта! – сдавленным голосом крикнула
Янковская, но я бесцеремонно прикрыл ей рот ладонью.
Перевязью с портьеры я прикрутил ей руки к туловищу и насильно усадил в кресло.
По-видимому, она подумала, что я пьян, и глухо пробормотала:
– Не нужно, не нужно…
Но я уже понимал, с кем мне приходится иметь дело.
Без всяких церемоний я осмотрел ее; свой пистолет она обычно носила в сумочке или в кармане пальто, и никакая предосторожность не была с ней лишней.
Сдернутой со стола скатертью обвязал ей ноги и сел в кресло напротив.
– Поймите меня, Софья Викентьевна… – сказал я, – на этот раз вы в моих руках и будете мне отвечать.
Даю слово, что в таком положении вы будете находиться до тех пор, пока не начнете говорить, а если так и не надумаете заговорить, я вас застрелю, а сам постараюсь добраться до своих, даже рискуя попасть в руки гестаповцев и…
И Янковская, еще минуту назад растерянная, подавленная, готовая во всем мне подчиниться, вдруг подняла голову и пристально посмотрела на меня своими зелеными в это мгновение, как у кошки, глазами.
– Ах, вам угодно разговаривать? – насмешливо спросила она. – Извольте!
– Кто вы такая? – спросил я ее. – Говорите.
– Вы не оригинальны, – сказала она. – Так начинают все следователи. Софья Викентьевна Янковская. Я уже говорила.
– Вы знаете, о чем я вас спрашиваю, – сказал я. – Кто вы и чем занимаетесь?
– А что, если я скажу, что работаю в подпольной коммунистической организации? – спросила она. – Что мне поручено вас спасти?
– Сначала убить, а потом спасти?
– Ну хорошо, оставим эту версию, – согласилась она. – Я, разумеется, не коммунистка и не партизанка… – Она пошевелила руками. – Мне очень неудобно, – сказала она. – Вы можете меня развязать?
– Нет, – твердо ответил я. – Вы будете находиться в таком положении до тех пор, пока я не узнаю от вас все.
– Как хотите, – покорно сказала Янковская. – Я буду отвечать, если вы так настаиваете.
– Так кто же вы? – спросил я. – Хватит нам играть в прятки!
– Я? – Янковская прищурилась. – Шпионка, – сказала она так, точно назвалась портнихой или буфетчицей.
Впервые я сталкивался с женщиной, которая так вот просто называла себя шпионкой.
– На какую же разведку вы работаете? – спросил я. Янковская пожала плечами.
– Предположим, что на английскую.
– А не на немецкую? – спросил я.
– Если бы я работала на немецкую, – резонно возразила Янковская, – вы находились бы не здесь, а в каком-нибудь лагере для комиссаров, евреев и коммунистов.
– Допустим, – согласился я. – Ну а кто ваш начальник? Он здесь?
– Да, он здесь, – многозначительно сказала Янковская.
– Кто же он? – спросил я.
– Вы, – сказала Янковская.
– Обойдемся без шуток, – сказал я. – Отвечайте серьезно.
– А я серьезно, – сказала Янковская. – Мой непосредственный начальник именно вы, вы, и никто другой.
Она действительно говорила вполне серьезно.
– Объяснитесь, – попросил я ее. – Я не понимаю вас.
– О! – снисходительно воскликнула она. – В моих объяснениях нет ничего сложного. Будь у вас в таких делах опыт, вы бы сами обо всем догадались…
Она строго посмотрела на меня, на мгновение в ее серых глазах сверкнули искорки не то насмешки, не то гнева, но она тотчас подавила эту вспышку, и на ее лице опять появилось выражение равнодушия и усталости.
– Я хотела исподволь подготовить вас к вашей новой роли, – спокойно и негромко сказала Янковская. – Но раз вы торопитесь, пусть будет по-вашему…
И она заговорила, наконец, о том, что интересовало меня не из пустого любопытства, потому что игра, в которой мне пришлось принять участие, велась на человеческие жизни, заговорила, хотя ей не очень-то хотелось говорить.
– Для того чтобы проникнуть в самую суть вещей, надо понять меня, – произнесла она с вызывающей самоуверенностью, но таким тихим голосом, что человек, не сталкивавшийся с ней при таких обстоятельствах, как я, обязательно принял бы ее самоуверенность за искренность. – Но так как понять меня вы и не сможете, и не захотите, постараемся касаться меня поменьше…
Она усмехнулась и сразу перешла к тому, что сочла нужным довести до моего сведения.
– Дэвис Блейк появился в Риге лет пять или шесть назад, сама я приехала в Ригу позже. Назывался он Августом Берзинем. Существовал ли на свете подлинный Август Берзинь, я не знаю. Сын состоятельных родителей, художник, получивший специальное образование в Париже, он не возбуждал подозрений. Возможно, что подлинный Август Берзинь действительно существовал, действительно был художником и действительно отправился в свое время заканчивать образование в Париж. Возможно… Но из Парижа в Латвию вернулся уже другой Берзинь. Не знаю, куда делся подлинный Август Берзинь. Может быть, остался в Париже, может быть, уехал в Южную Америку, может быть, погиб при автомобильной катастрофе… Родители Августа Берзиня к тому времени умерли, и уличить Дэвиса Блейка в подлоге было некому. А если некоторым старым знакомым казалось, что Август не совсем похож на себя, этому находилось объяснение: годы отсутствия меняют многих людей, да еще годы, проведенные в таком городе, как Париж! Вам, конечно, понятен смысл этого маскарада? Дэвис Блейк, сотрудник Интеллидженс сервис, был назначен резидентом в Прибалтике. Местом своего пребывания он избрал Ригу. Этот город недаром называли ярмаркой шпионов. Географическое и политическое положение Риги сделало ее скопищем различных авантюристов, именно здесь скрещивались и расходились пути многих разведывательных служб. Блейк делал свое дело. Связи его расширялись. Меня командировали на помощь Блейку…
– И вы, позавидовав его лаврам, – вмешался я, – решили его устранить и занять освободившееся место?
Моя собеседница подарила меня взглядом, выражавшим одновременно и сострадание, и презрение: с ее точки зрения, я обнаруживал чрезмерную наивность, рассуждая о делах секретной службы.
– Вы глубоко заблуждаетесь, – снисходительно возразила она. – Было бы слишком нерасчетливо убирать с дороги тех, кто вместе с вами идет к одной цели… – Она несколько оживилась. – Мы жили достаточно дружно, – продолжила она свой рассказ. – Но чем сложнее события, тем труднее работа разведчика. Захват немцами Польши, оккупация Франции, провозглашение советской власти в прибалтийских республиках… Жизнь движется с калейдоскопической быстротой, и разведчик, никому неведомый и почти беззащитный агент секретной службы, нередко призван то ускорять, то замедлять движение истории…
– Вы неплохо поэтизируете профессию шпиона, – прервал я свою собеседницу. – Но это теория…
– Правильно, практика грубее и страшнее, – согласилась Янковская. – В тот вечер, когда вы познакомились со мной, Блейка застрелили…
– Кто? – перебил я Янковскую.
– Это не установлено, – уклончиво ответила она. – Застрелили Блейка и…
– Застрелили меня, – договорил я. – Можно догадаться, почему застрелили Блейка, но для чего было убивать меня?..
– Ах, без причины не делается ничего, – сказала Янковская. – Вы стали свидетелем происшествий, которые не должны иметь свидетелей…
– По вашей милости, – сказал я. – Я не навязывался вам в попутчики…
– Это неважно… – Она точно отмахнулась от моего упрека. – Но вы оказались счастливее Дэвиса.
– По причине вашего неумения стрелять? – спросил я.
– Нет, стрелять я умею, – возразила она. – Но в момент, когда я в вас целилась, мне пришла мысль сохранить вас и подменить вами Блейка…
– Убитого немецкой разведкой? – спросил я. – Мне ведь нужно знать, кем убит Блейк.
– Я же сказала вам, что это не установлено, – повторила Янковская. – С таким же успехом это могла сделать и советская разведка.
Я не хотел с ней спорить.
– Но для чего нужен вам я? – спросил я.
– О, это очень важно, – охотно пояснила Янковская. – Важно, чтобы англичане и немцы думали, что Блейк жив. Если Интеллидженс сервис узнает, что Блейк погиб, сюда пришлют другого резидента, и кто знает, как я еще с ним сработаюсь. А немцы, кроме того, имеют на Блейка свои виды, и в ваших интересах их не разочаровывать. Думаю, что они попытаются вас завербовать, и вам придется делать вид, что вы работаете и на англичан, и на немцев.
– А если я не буду делать вид, что на кого-то работаю? – поинтересовался я. – Что тогда?
– Тогда вы отправитесь вслед за бедным Дэвисом, – просто сказала Янковская. – В этой игре никто никому не дает форы.
– А если я все же не соглашусь? – повторил я. – Какие у вас гарантии, что я не воспользуюсь первым представившимся мне случаем и не убегу к своим?
– Привязанность к жизни, – уверенно возразила Янковская. – Вы нормальный человек и хотите жить, а в Советской России вас ждет расстрел.
– Расстрел? – удивился я. – За что?
– Не так уж сложно вызвать подозрение к человеку, – сказала Янковская. – Небольшой труд дать русским понять, что вас завербовали и перебросили обратно для шпионажа. Вы уже достаточно скомпрометированы связью со мной…
Я действительно хотел жить. Но смерть я предпочел бы бесчестию. Как бы меня ни пытались скомпрометировать, все равно я решил бежать к своим. Но сделать это надо было умно, и поэтому на какое-то время приходилось вступить в игру, которую предлагала Янковская.
– Чего же вы от меня хотите? – спросил я.
– Прежде всего, чтобы вы меня развязали, у меня затекли руки и ноги, – ответила она. – А затем, чтобы вы были Дэвисом Блейком.
Я развязал ее: убивать меня ей не было расчета, а убивать ее я не собирался, тем более что без предварительной подготовки бежать из Риги просто было невозможно.
– Но вы так и не объяснили мне всей этой истории с поцелуем, – сказал я. – Кто же все-таки находился тогда ночью в машине, и почему вы очутились на лестнице?
– Ах, это все частности! – небрежно сказала она. – Как-нибудь узнаете, не в этом суть.
– А в чем же?
– В завтрашнем дне. Надо действовать, а не оглядываться назад.
– Что же мне надо делать?
– Быть Дэвисом Блейком, я уже сказала. Для начала этого достаточно.
– А вы не думаете, что Блейк, которого вы предлагаете мне изображать, может быть изобличен? – возразил я.
– О нет, это предусмотрено, – объяснила она. – У Берзиня был свой круг знакомых, но те, кто кренил вправо, бежали из Риги в первые дни ее советизации, а те, кто кренил влево, эвакуировались вместе с советскими учреждениями, и, наконец, если ваша личность не вызывает никаких сомнений ни у вашей кухарки, ни у вашей любовницы, кто еще посмеет усомниться в том, что вы не Август Берзинь?
– Кто моя кухарка и что она думает, я уже знаю. Но что касается любовницы, дело обстоит несколько хуже: я не знаю, кто она.
– А вы не догадались? – насмешливо спросила Янковская, расправляя затекшие руки. – В противном случае вряд ли я была бы так хорошо посвящена в дела Блейка!
Янковская прошлась по комнате.
– Вот что, Август, – деловито сказала она. – Я пойду в ванную и приведу себя в порядок, а вы переоденьтесь, и мы проверим, действительно ли вы так похожи на Берзиня, как это кажется мне.
И я послушался ее, потому что мне не оставалось ничего другого.
Мы спустились вниз, знакомый автомобиль стоял у подъезда.
– Это чья машина? – спросил я. – Ваша или моя?
– Ваша, – ответила Янковская. – Но я не хочу, чтобы она находилась сейчас в вашем распоряжении.
Это было понятно.
Она опять села за руль, машину она водила хорошо.
– Куда мы едем? – спросил я. – Это не секрет?
– Нет, – ответила она. – К профессору Гренеру, кому вы в значительной степени обязаны своим выздоровлением.
– К тому самому аисту, которого мне довелось видеть в госпитале? – догадался я. – Под каким же именем я буду ему представлен?
– Он знает вас под именем Августа Берзиня. Но подозревает, что вы Дэвис Блейк.
– Не без вашей помощи? – спросил я.
– Нет, – ответила она. – Немцы и без меня знали, что под именем Августа Берзиня скрывается Дэвис Блейк.
– Но если они знают, что я английский шпион, почему бы им меня не арестовать? – поинтересовался я. – Англия находится с Германией в состоянии войны!
– Не будьте наивны, – снисходительно сказала Янковская. – Они имеют на вас далеко идущие виды. Неужели вы думаете, что они стали бы так старательно лечить какого-то там латыша?
– Так вот почему этот профессор цитировал мне Шекспира!
– Конечно, немцы уверены, что вы стали жертвой советской разведки.
– А что… этот ваш Гренер?..
– О, Гренер! Вам следует с ним подружиться. В Риге он представляет не только медицинскую службу, он влиятельная фигура в гитлеровской администрации. Видный профессор, он вступил в нацистскую партию еще до прихода Гитлера к власти. С ним лично знаком Геббельс, у него большие международные связи, и он даже выполнял какие-то специальные поручения гитлеровцев за границей…
– Аттестация что надо, – сказал я. – Только я не верю, что он хороший врач, хороший врач не пойдет на службу к этим выродкам…
– Вы опять рассуждаете по-детски, – возразила Янковская. – Неужели вы думаете, что среди гитлеровцев нет способных людей? Они бы тогда не продержались и месяца! А что касается Гренера, коллеги по партии даже упрекают его в излишней гуманности. Во всяком случае, именно такие люди, как Гренер, представляют в гитлеровской партии сдерживающее начало…
На одном из перекрестков нас задержало скопление машин и пешеходов. Янковская нетерпеливо выглянула из машины, и шуцман, – полицейские появились на улицах Риги чуть ли не на другой день после занятия города немцами, – точно отодвинув своим жезлом все прочие машины в сторону, любезно кивнул, предлагая Янковской ехать…
Она умела обвораживать даже полицейских!
– А каким образом вы сами очутились в госпитале? – поинтересовался я. – Что вы там делали?
– Ухаживала за вами, – объяснила Янковская. – Мне разрешили ухаживать за вами. Немцы знали, кто вы такой, и понимали мои опасения. Мало ли о чем вы могли проболтаться, лежа без сознания. Поэтому всегда хорошо, когда около такого больного находится осведомленный человек.
Мы остановились у дома, который занимал профессор Гренер.
Судя по тому, что немецкая администрация отвела генералу Гренеру целый этаж в большом трехэтажном доме, он считался генералом влиятельным.
Перед домом стояло несколько машин, у подъезда, разумеется, дежурил эсэсовец.
Однако он не остановил нас, когда мы подошли к двери: или он знал Янковскую, или у него вообще был наметанный глаз.
Мы поднялись по лестнице, устланной ковром, и очутились в квартире профессора.
Все выглядело так, точно Гренер жил в этой квартире десятки лет. Во всем чувствовался немецкий порядок. Мебель была аккуратно расставлена, ковры тщательно вычищены, рамы картин сверкали позолотой.
Мы вошли в гостиную. У Гренера происходило что-то вроде небольшого приема. Трудно было допустить, что все эти спокойно разговаривающие друг с другом люди находились в чужом, завоеванном и враждебном городе.
Гренер сразу увидел Янковскую и пошел к ней навстречу. В генеральском мундире он казался еще более долговязым и худым, чем в белом халате. Его грудь украшал железный крест. Он оживленно закивал своей птичьей головкой, щелкнул каблуками и поднес к губам руку гостьи.
– Вы забываете меня, – упрекнул он Янковскую. – А старики обидчивы!
– Господин Берзинь, – назвала меня Янковская. – Он хотел лично поблагодарить вас.
– О, мы уже знакомы, и надеюсь, что подружимся! – приветливо воскликнул Гренер и выразительно посмотрел на Янковскую. – Хотя…
Он не отказал себе в удовольствии еще раз блеснуть передо мной цитатой из Шекспира:
Friendship is constant in all other things,
Save in the office and affairs of love.
Янковская холодно взглянула на Гренера.
– Что вы хотите этим сказать? – спросила она его.
– «Дружба тверда во всем, но только не в делах любви», – переведя.
– Это я поняла, – сказала Янковская и посмотрела на Гренера. – Но у вас не должно быть оснований меня ревновать.
– О, если бы я знал, что вы будете уделять столько времени господину Берзиню, – пошутил Гренер, – я бы запретил его лечить…
Янковская очень свободно, так, точно она была здесь хозяйкой, познакомила меня с гостями профессора.
Преимущественно это были офицеры, составлявшие ядро гитлеровской военной администрации в Риге, были несколько полуштатских, полувоенных чиновников, двое из них с женами, были несколько женщин без мужей, и среди них какая-то артистка; женщины были в вечерних платьях, многих украшали драгоценности.
Наше появление отвлекло гостей Гренера от разговоров. На меня посматривали с интересом; вероятно, люди, находившиеся в этой аккуратной гостиной, слышали что-то обо мне. Но еще больше внимания вызывала Янковская. Ее здесь знали, и если женщины смотрели на нее с каким-то завистливым подобострастием, то многие мужчины поглядывали с откровенным вожделением.
Гренер подвел меня к какому-то мрачному субъекту в черной эсэсовской форме; на его лице смешно выделялись маленькие черные усики, такие же, как у Гитлера, и явно крашеные, потому что волосы на голове этого субъекта были рыжими, как лисий хвост.
Субъект этот почему-то сидел в кресле, хотя возле него стояла дама, и молча созерцал окружающее его общество.
– Позвольте вам представить, – сказал Гренер. – Господин обергруппенфюрер Эдингер с супругой… – И в свою очередь назвал меня: – А это господин Берзинь… – Он сделал паузу и многозначительно добавил: – Тот самый!!
Я поклонился толстой бесцветной госпоже Эдингер, но господин обергруппенфюрер не дал нам поговорить.
– Сядь, Лотта, – строго сказал он жене, поднимаясь с кресла, и своими цепкими пальцами обхватил мою руку повыше кисти так энергично, будто сдавил ее наручником. – Пойдемте, господин Берзинь, – очень отчетливо сказал он. – Мы должны познакомиться короче.
Он повел меня в столовую, где несколько офицеров, стоя у стола, пили вино.
Обергруппенфюрер бесцеремонно раздвинул бутылки и поднял графин с бесцветной жидкостью.
– Мы в России и должны пить русский шнапс, – категорично сказал он, наполнил две большие рюмки и протянул одну мне. – Прозит!
Мы выпили.
– Сейчас будет музыка, – сказал обергруппенфюрер так, точно отдавал команду. – Поэтому надо наслаждаться музыкой. Идите к своей даме.
Действительно, в гостиной высокая красивая дама в розовом платье, которую называли артисткой, стояла у рояля и собиралась петь.
Я подошел к Янковской.
– Что это за тип? – спросил я ее шепотом, поведя глазами в сторону своего нового знакомого.
– Начальник гестапо Эдингер, – почти неслышно ответила Янковская. – Будьте с ним полюбезнее.
Я только вздохнул…
Мог ли я еще недавно вообразить, что мне придется очутиться в такой компании!
Тем временем дама в розовом платье запела. Она исполняла романсы Шумана. Это действительно была настоящая артистка, и успех ей был обеспечен в любой аудитории.
Она исполнила несколько романсов, ей аплодировали, негромко и недолго, как принято в светском обществе, и вдруг после Шумана, после мечтательного, мелодичного Шумана она запела «Хорста Весселя», любимую песню штурмовиков, песню гитлеровских головорезов…
Она пела со смущенным видом, отдавая дань обществу, в котором находилась, как будто конфузясь, точно делала что-то неприличное…
Да, это был не Шуман!
Лица слушателей побагровели, многие встали, кто-то начал даже подпевать…
Мне показалось, кликни кто-нибудь сейчас клич – и все устремятся на улицу грабить, жечь, резать…
После певицы, не ожидая приглашений, почти по-военному к роялю подошел сам Гренер и сел на черный полированный табурет…
Если правильно говорят, что музыка выявляет душу людей, я бы сказал, что у Гренера совсем не было души. Играл он хорошо знакомые ему произведения, потому что почти не заглядывал в ноты, каждую музыкальную фразу проигрывал очень тщательно, но никогда в жизни я еще не слышал такой сухой игры. Сначала я удивился этой необычной сухости, но потом заметил, что Гренер почти не пользуется педалью. Ударит по клавише и оборвет звук, – звук не растет, не плывет, не вступает в общение с другими. Никогда раньше я не мог себе представить, что рояль можно превратить в барабан.
Гренер уверенно сыграл увертюру к «Мейстерзингерам», две прелюдии Баха и затем «Приглашение к танцу» Вебера…
Легкое, изящное «Приглашение…». Во что он его превратил!
Клавиши защелкали под его пальцами, точно кастаньеты, гостиная наполнилась треском…
И вот в то время, когда этот интеллектуальный нацист играл Вебера, я услышал за своей спиной хриплый шепот:
– Господин Берзинь, нам с вами надо встретиться. Я обернулся. За моей спиной стоял обергруппенфюрер Эдингер.
– Зайдите ко мне в канцелярию, – продолжал Эдингер. – Я буду ждать вас в ближайшие дни.
«Тоже „приглашение к танцам“«, – подумал я, приглашение, отказаться от которого в данный момент было для меня невозможно…
Так я втягивался в игру, которая вряд ли могла окончиться чем-нибудь для меня хорошим!
После музыки нас пригласили ужинать. За столом прислуживали два денщика, выдрессированные, как хорошие лакеи.
Мне показалось, что не пил один Гренер, недаром Янковская назвала его сдерживающим началом.
Этот старый сухой человек подчеркнуто ухаживал за моей спутницей; она точно гальванизировала его, наполняя это холодное, надменное существо какими-то человеческими эмоциями.
Янковская, кажется, была единственной гостьей, которую Гренер вышел проводить в переднюю.
Она и отвезла меня домой.
Мы поднялись в мою квартиру. Марты не было видно, должно быть, она спала.
Когда я заглянул в спальню, Янковская сидела на моей кровати. У нее был какой-то понурый вид, точно она ожидала побоев.
– Хотите, я останусь у вас? – спросила она. – Вы можете стать преемником Блейка во всех отношениях.
Я покачал головой.
– Вы волевой человек, – насмешливо сказала Янковская. – Вы даже начинаете мне нравиться.
– Я вас не совсем понимаю, – сказал я. – Вероятно, вас связывало с Блейком какое-то чувство, как же вы можете искать близости с человеком, товарищи которого убили вашего любовника?
– Каких товарищей имеете вы в виду? – спросила она меня таким глухим голосом, точно разговаривала со мной откуда-то очень издалека.
– Я имею в виду советскую разведку, – сказал я. – Ведь вы говорили, что Блейка убила советская разведка?
– Ах, да при чем тут советская разведка! – устало произнесла Янковская. – Уж если на то пошло, Блейка убила я сама.
5. На собственной могиле
Пусть не посетуют на меня за то, что я почти ничего не говорю о тех грозных событиях, которые потрясали тогда весь мир. Я хочу описать всего лишь один эпизод в цепи многих событий того времени, описать так, как он сохранился в моей памяти.
Проводив Янковскую, после того как она призналась мне в убийстве Блейка, я долго раздумывал о причинах, побудивших ее убить своего любовника…
Почему она его застрелила?
Десятки раз я задавал себе этот вопрос, каждый раз отвечая на него по-другому.
Ревность? Ревность такой женщины, как Янковская, была бы, несомненно, жестоким и опасным чувством. Но я не допускал мысли, что кто-нибудь способен возбудить ее ревность, для этого она была слишком холодна и расчетлива…
Возмездие? Кому и за что? Янковская была слишком беспринципна, чтобы карать за измену каким-либо принципам, и достаточно цинична, чтобы не изображать Немезиду…
Расчет? Но какой ей был расчет убивать Блейка, если даже пришлось прибегнуть к моей помощи, чтобы создать иллюзию того, что он жив?..
Я создавал гипотезу за гипотезой и столь же решительно их отвергал…
Наступило утро. Еще одно невыносимое для меня утро. Вынужденное безделье, тягостное ожидание…
Надо представить себе человека в моем положении, чтобы понять, как сложно оно было!
Я очутился в тылу врага. Придя в себя после болезни, вызванной опасным и тяжелым ранением, я вынужден был играть роль английского разведчика, навязанную мне особой, которая одновременно являлась и моим убийцей, и спасителем. Эта особа выдавала меня за убитого ею резидента английской разведки, и немцы поэтому оставляли меня в покое. Мне же приходилось играть эту роль потому, что немцы незамедлительно меня уничтожили бы, узнай они, кем я являюсь на самом деле.
Однако главное заключалось не в сохранении жизни, а в том, чтобы принять участие в происходящей борьбе и принести наибольшую пользу Родине. С одной стороны, я очутился в очень выгодном положении, находясь среди врагов и принимаемый ими не за того, кем я был в действительности. С другой стороны, я был один, а в одиночестве бороться, как известно, неизмеримо труднее. Что же делать в этих условиях? Целесообразнее всего связаться с нашей разведкой, но это просто невозможно. Хорошо бы связаться с коммунистическим подпольем, в Риге наверняка действовали незримые народные силы, но они тоже для меня недоступны. Проще всего попытаться перебежать к своим, перейти линию фронта, но и для этого требовались величайшая предусмотрительность и осторожность. Можно не сомневаться, что хотя меня и оставляют в покое, но из виду, конечно, не теряют.
В поисках возможностей установить какие-либо связи и определить свое место в происходящей борьбе я пошел даже на безрассудный шаг и отправился на свою старую квартиру. Цеплис не мог не быть связан с антифашистским подпольем, такие люди никогда не уклонялись от выполнения своего долга. Безрассудным мое намерение было потому, что я мог привлечь внимание к нам обоим. Но желание найти в оккупированной Риге хоть одного верного человека было столь велико, что я пошел на этот риск.
Опыта в конспирации у меня никакого не было. Как обманывают бдительность сыщиков, я знал только по книгам о революционном подполье: руководствуясь ими, я долго кружил по улицам, наблюдал за прохожими и, внезапно сворачивая в переулки, напряженно ждал появления каких-либо любопытствующих личностей…
Лишь после такой подготовки я нырнул в ворота дома, в котором еще недавно обитал. Во дворе остановился, помедлил. Никто вслед за мной не появился. Через черный ход прошел на парадную лестницу и опять подождал. Все было спокойно. Тогда я поднялся на самый верх. Тишина! Спустился ниже, остановился перед своей бывшей квартирой и, не рискуя воспользоваться собственным ключом, с замиранием сердца позвонил… При гитлеровцах здесь вполне можно было нарваться на засаду!
Мне открыла дверь незнакомая, прилично одетая женщина, с тонкими поджатыми губами.
– Простите, – сказал я. – Тут, кажется, жили Цеплисы…
– Цеплисы? – переспросила она и покачала головой. – Не знаю… Не знаю никаких Цеплисов, – холодно повторила она, подозрительно посмотрев на меня, и вдруг чуточку смягчилась: – Впрочем, я живу здесь недавно… Если это жильцы, которые жили тут до прихода немцев, так вам лучше всего осведомиться о них в полиции, – решительно посоветовала она и, чуть помедлив, добавила: – Их, кажется, забрали в полицию…
Мне показалось, что она меньше всего хочет вступать со мной в разговор, потому что еще раз покачала головой и торопливо захлопнула передо мной дверь.
Однако, по существу, она сказала все, что требовалось узнать.
Я оглянулся – на лестнице не было никого – и тем же путем вернулся на улицу.
Рухнула единственная надежда!..
Впрочем, этого следовало ожидать. Трудно было предположить, что оккупанты оставят Цеплисов в покое, тем более что агенты гестапо, засланные в Прибалтику еще задолго до войны, к приходу гитлеровских войск несомненно составили проскрипционные списки всех местных жителей, подлежавших обезвреживанию и уничтожению.
Милый, скромный, молчаливый Мартын Карлович Цеплис…
Можно было только догадываться, что с ним случилось.
Во всяком случае, надежда на помощь с его стороны рухнула…
Оставалась только одна возможность – стать, так сказать, мстителем-одиночкой, мстить оккупантам сколько возможно и подороже продать свою жизнь. Вполне вероятно, что я вступил бы на этот путь, если бы…
Я понимал, что действовать в одиночку следовало только в крайнем случае, лишь окончательно убедись, что отрезаны все другие пути. Поэтому некоторое время следовало выжидать, пытаться использовать для установления связи каждый случай, а до тех пор получше ориентироваться в окружающей обстановке, узнать как можно больше секретов, и в частности попытаться использовать Янковскую в целях, которые отнюдь не совпадали с целями самой Янковской.
Наступило еще одно мое обычное и одновременно странное утро.
Я встал, побрился, умылся, равнодушно проглотил кашу и яйца, приготовленные для меня заботливой Мартой, прошел в кабинет, взял попавшийся мне под руку том Моммзена, полистал его… Нет, римская история мало интересовала меня в моем положении!
Так я сидел, решая задачу со многими неизвестными, и ожидал появления одной из унаследованных мною девушек. Пожалуй, только посещения блейковских девиц и разнообразили мою жизнь.
Однако вместо какой-нибудь официантки или массажистки около одиннадцати часов появилась сама Янковская, свежая, бодрая и оживленная.
На ней был элегантный коричневый костюм, черная бархатная шляпа и такая же лента на шее. Она небрежно играла черными шелковыми перчатками и ни словом не упомянула о нашем вчерашнем разговоре. Впрочем, следует сказать, что больше она никогда уже не предпринимала попыток перейти границу установившихся между нами корректных и внешне даже приятельских отношений.
– Все в порядке? – спросила она.
– Если вы считаете мое безделье порядком, то в порядке.
– Как раз его-то я и хочу нарушить. – Она села поближе к письменному столу и испытующе посмотрела на меня. – Может быть, поработаем? – предложила она.
– Мне неизвестно, что вы называете работой, – нелюбезно отозвался я.
– То же, что и все, – примирительно сказала она и поинтересовалась: – Вы сегодня ждете кого-нибудь из девушек?
– Возможно, – сказал я. – Я не назначаю им времени для посещений, они приходят, когда им вздумается.
– Вы ошибаетесь, – возразила Янковская. – У каждой из них есть определенные дни и даже часы. – Она насмешливо посмотрела на меня. – Где их список?
Я удивился:
– Список?
– Ну да, не воображаете же вы, что они не состояли у Блейка на учете. Он был педантичный человек. Где ваша телефонная книжка?
Она сама нашла ее в пачке старых газет. Это была обычная узкая тетрадь в коленкоровом переплете для записи адресов и телефонов. В ней значилось много фамилий, по-видимому, друзей и знакомых, с которыми Блейк поддерживал отношения.
Янковская указала мне на эти списки:
– Вот и ваши девушки.
Их легко было выделить среди прочих адресов, около каждой из фамилий стояло прозвище или кличка: Пчелка, Лиза, Роза, Эрна, Яблочко – и уже затем адрес и место работы.
Законы конспирации были сведены здесь как будто на нет. Любой мало-мальски сообразительный человек, интересующийся деятельностью Августа Берзиня, без особого труда обнаружил бы его миловидных агентов. Но именно потому, что Блейк вербовал в число своих агентов только молодых и преимущественно хорошеньких женщин, перечень их естественнее было принять за донжуанский список художника Берзиня, чем за реестр секретных сотрудников резидента Блейка.
И все же мистер Блейк оригинальностью не отличался. Тот, кто мог догадываться об истинных занятиях Берзиня, легко догадался бы и о том, что и список, и особы, в нем перечисленные, заведены лишь в целях дезинформации. Хотя я сам не был профессиональным разведчиком, я бы сказал, что это была грубая работа, рассчитанная на наивных людей.
Что касалось подлинной, более серьезной и более действенной агентуры, наличие которой следовало предположить, я не мог обнаружить ее следов, как не могла их обнаружить даже непосредственная сотрудница Блейка Янковская, но об этом я узнал позже.
Пока что она пыталась приспособить меня к деятельности, которой занималась сама.
– Кто из девушек ходит к вам чаще других? – спросила меня Янковская.
Я задумался.
– Кажется… кажется, такая полная блондинка, – неуверенно сказал я. – Если не ошибаюсь, она служит в парикмахерской.
– Ну а теперь вспомните, когда она к вам приходила.
Я опять наморщил лоб.
– Мне кажется, она приходит раза два в неделю… Да, два раза в неделю, по утрам! По-моему, ее зовут Эрна…
– Следует быть более наблюдательным, – упрекнула меня Янковская. – Эти посещения надо как-то учитывать и отмечать получаемое девушками вознаграждение…
С наивной насмешливостью посмотрел я на своего ментора.
– Нанять бухгалтера?
– Нет, этого не нужно, – спокойно возразила Янковская. – Но ни один резидент не положится в таких делах на свою память…
Я вздохнул.
На самом деле я вел очень точный учет своим посетительницам. В спальне у меня имелось несколько коробок с пуговицами; голубая пуговка означала, например, Эрну, таких пуговок находилось в коробке семь, по числу ее посещений, а пять мелких черных брючных пуговиц свидетельствовали о том, что Инга из гостиницы «Савой» являлась всего лишь пять раз. Нет, я вел учет, который зачем-нибудь да мог пригодиться, но не хотел сообщать об этом Янковской.
– А кроме девушек, к вам никто больше не приходил? – спросила она меня затем как бы невзначай.
– Приходил, – сказал я. – Владелец какого-то дровяного склада.
– И чего он от вас хотел?
– Чтобы я приобрел у него дрова на тот случай, если в нашем доме перестанет действовать паровое отопление.
Янковская испытующе посмотрела на меня.
– И больше ничего?
– Больше ничего.
Этот посетитель и в самом деле ни о чем больше со мной не разговаривал и только в течение всего нашего разговора держал в руке почтовую открытку, на которой были изображены какие-то цветы…
Но хотя я не собирался в каждом посетителе видеть секретного агента или шпиона, визит этого торговца показался мне странным, он явно чего-то ждал от меня, это чувствовалось. Вполне логично было предположить, что он произнес какой-то пароль и что я мог вступить с ним в общение, которое помогло бы мне ближе познакомиться с практической деятельностью Блейка, но я не знал ни пароля, ни отзыва и, можно сказать, мучился от сознания своего бессилия. Однако и об этом я тоже не нашел нужным говорить Янковской.
– Вы все-таки записывайте всех, кто к вам заходит, – попросила Янковская. – Дела любят порядок, и если вы начнете ими заниматься, ваша жизнь сразу станет интереснее. – Она переменила тему разговора: – О чем вчера говорил с вами Эдингер?
– Звал в гости.
– Серьезно?
– Сказал, что нам надо встретиться, и пригласил заехать к нему в канцелярию.
– Когда же вы к нему собираетесь?
– Я не спешу.
– Напрасно. Не откладывайте этого свидания: в сегодняшней Риге это один из могущественнейших людей. Добрые отношения с ним гарантируют безопасность.
Она настаивала на том, чтобы я поехал к Эдингеру в тот же день, да я и сам понимал, что не стоит откладывать посещения.
Гестапо занимало многоквартирный шестиэтажный дом, и в комендатуре было полно штурмовиков, они пренебрежительно оглядели меня, точно я зашел туда по ошибке.
Я подошел к окошечку, где выдавались пропуска.
– Мне нужно к господину Эдингеру, – сказал я и протянул паспорт.
– Обергруппенфюрер не принимает латышей, – грубо ответил мне какой-то надменный юнец. – Проваливайте!
Это было необычно для немцев: с теми, кто был им нужен, они обращались вежливо, по-видимому, комендатура не была предупреждена обо мне.
Мне с неохотой позволили позвонить по телефону. Я попросил соединить меня с Эдингером, и его секретарь, как только я себя назвал, ответил, что все будет немедленно сделано.
Действительно, не прошло нескольких минут, как тот самый юнец, который предложил мне убираться, выскочил из-за перегородки с пропуском, отдал мне честь и предложил проводить до кабинета обергруппенфюрера.
Мы поднялись в лифте, и, когда я со своим провожатым шел по коридору, навстречу мне попались два эсэсовских офицера в сопровождении человека без знаков различия, но тоже в черном мундире, рукав которого украшала устрашающая эмблема смерти – череп и две скрещенные кости.
Человек показался мне знакомым; потом я решил, что ошибся; я посмотрел внимательнее и узнал Гашке, того самого Гашке, вместе с которым лежал в госпитале.
Он шел позади офицеров, с коричневой папкой под мышкой, важный, сосредоточенный, ни на что не обращающий внимания, настоящий самодовольный гитлеровский чиновник.
Я пристально смотрел на Гашке, меня интересовало, узнает ли он меня, но он кинул на меня равнодушный взгляд и прошел мимо с таким видом, точно мы с ним никогда до этого не встречались.
Мы вошли в приемную, мой провожатый откозырял секретарю, и меня без промедления попросили зайти к обергруппенфюреру.
Эдингер со своими рыжими прилизанными волосами и черными усиками выглядел все так же смешно, как и на вечере у профессора Гренера, в нем не было решительно ничего страшного, хотя в городе о нем рассказывали всякие ужасы, говорили, что он пытает людей на допросах и собственноручно «обезвреживает» коммунистов, что на языке гитлеровцев было синонимом слова «убивать».
Эдингер был воплощенной любезностью.
– Прошу вас… – Он указал мне на кресло. – Перед вашим приходом я читал нашего дорогого фюрера, – торжественно сообщил он. – Какая книга!
Я было подумал, что он паясничает, но на его столе действительно лежала гитлеровская «Моя борьба», и пухлое лицо Эдингера выражало самое подлинное умиление.
В течение некоторого времени он вел себя как базарный агитатор: выражал восторги по адресу фюрера, говорил о заслугах национал-социалистской партии, восхищался будущим Германии…
Но, воздав богу богово, он сразу перешел на фамильярно-деловой тон:
– Вы позволите… – Он на мгновение замялся. – Вы позволите не играть с вами в прятки?
– Прошу вас, – ответил я ему в тон. – Я сам стремлюсь к полной откровенности.
Эдингер просиял.
– О господин Блейк! – воскликнул он. – Для германской разведки не существует тайн.
Я сделал вид, что поражен его словами; человек менее самовлюбленный, чем Эдингер, возможно, заметил бы, что я даже переигрывал.
– Ничего, ничего, не огорчайтесь, – добродушно промолвил Эдингер и похлопал меня по плечу. – Мы умеем смотреть даже сквозь землю!
Я вежливо улыбнулся.
– Что ж, это делает честь германской разведке.
– Да, милейший Блейк, – самодовольно продолжал Эдингер. – Мы знали о вас в те дни, когда Латвией управлял Ульманис, наблюдали за вами, когда Латвия стала советской, и, как видите, нашли, когда сделали Латвию своей провинцией. Еще никому не удалось от нас скрыться.
На этот раз я не улыбнулся, напротив, старался смотреть на своего собеседника возможно холоднее.
– Что вы хотите всем этим сказать? – спросил я. – Допустим, вам известно, кто я, что же дальше?
– Только то, что вы в наших руках, – произнес Эдингер менее уверенным тоном. – Когда солдат попадает в плен, это на всех языках называется поражением.
– Неудача отдельного офицера не есть поражение нации, – возразил я с холодной вежливостью. – Не забывайте, что я разведчик, а разведчик всегда готов к смерти. Такова наша профессия: поражать и, увы, всегда быть готовым к тому, что могут поразить и тебя самого.
Я понимал, что все, что я говорил, было в известной степени декламацией, но я также понимал, что декламация производит впечатление не только на сцене.
– Мне приятно, что вы это понимаете, – удовлетворенно сказал Эдингер. – В таком случае поговорим о стоимости выкупа.
Я выпрямился в своем кресле.
– Я еще не продан и не куплен, господин Эдингер!
– Неужели вы не боитесь смерти? – вкрадчиво спросил меня мой собеседник. – Поверьте, смерть – это небольшое удовольствие!
– Английский офицер боится только бога и своего короля, – ответил я с достоинством. – А с вами мы, господин Эдингер, только коллеги.
– Вот именно, вот именно! – воскликнул Эдингер. – Именно потому, что я считаю вас своим коллегой, я хочу не только сохранить вам жизнь, но и позволить вам продолжать свою деятельность! Я настороженно прищурился.
– А что вы от меня за это потребуете? Эдингер серьезно посмотрел на меня.
– Стать нашим агентом.
Конечно, я понимал, каково будет предложение Эдингера… Другого не могло быть! Разоблаченный разведчик либо перевербовывается, либо умирает… Понимал это и мой собеседник, а говорил со мной потому, что заранее был уверен в ответе. Речь шла только о цене. Эдингер мерил Блейка на свой аршин; думаю, что сам Эдингер в подобных обстоятельствах предпочел бы измену смерти.
Что ж, мне приходилось поступиться честью мистера Блейка, хотя позу, принятую в этом разговоре, следовало сохранить!
– Вы должны меня понять, господин Эдингер, – сдержанно произнес я. – Я не могу действовать во вред своему отечеству…
– От вас этого и не требуют, – примирительно сказал Эдингер. – Нам просто нужны сознательные английские офицеры, которые понимают, что Англии не по пути с евреями и большевиками. Мы сумеем переправить вас в Лондон, хотя там должны думать, что вы самостоятельно и вопреки нам героически преодолели все препятствия. Вы будете продолжать свою службу и снабжать нас информацией.
Это было необыкновенно благоприятное стечение обстоятельств: советского офицера принимали за агента английской секретной службы и предлагали поступить на службу в немецкую разведку; я мог оказаться полезен нашему командованию, но это благоприятное стечение обстоятельств сводилось на нет тем, что у меня не было еще возможностей связаться со своими…
Пока что оставалось одно: до поры до времени изображать из себя Берзиня, Блейка и кого только угодно, заставить окружающих меня людей думать, будто я одержим всякими колебаниями, дождаться удобного момента, пойти на любую мистификацию и перебраться через линию фронта…
– Господин Блейк, я жду, – внушительно сказал Эдингер. – Не заставляйте меня повторять лестное предложение, о котором известно даже рейхслейтеру Гиммлеру.
– Но это так неожиданно, – неуверенно произнес я. – Я должен подумать…
– Не стоит выбирать между дворцом и тюрьмой, – перебил меня Эдингер.
– Все же я должен подумать, – твердо возразил я. «Пусть Эдингер, – иронически подумал я, – не воображает, что так просто купить английского офицера!»
Эдингер испытующе смотрел на меня своими оловянными глазами.
– Ну а что будет иметь в результате всего этого ваш покорный слуга? – деловито осведомился я. – Для того чтобы жить, надо еще кое-что иметь. Что мне даст эта… переориентировка?
– Нас никто еще не упрекал в скупости, – гордо сказал Эдингер. – Ваши расходы по сбору информации будут регулярно оплачиваться.
– В какой валюте? – цинично спросил я.
– В рейхсмарках, конечно, – заявил Эдингер. – Это не так плохо!
– Но и не так хорошо, – пренебрежительно возразил я. – Марка обесценена…
– Пусть в фунтах или в долларах, – сразу согласился Эдингер и поспешил добавить: – А после окончания войны назначенное нами английское правительство предоставит вам высокий пост.
Он говорил вполне серьезно, этот ограниченный человек, и, как мне кажется, верил в то, что говорил, и не сомневался в моем согласии.
Но я подумал, что мне выгодно затянуть торговлю: в глазах немцев это укрепит позиции Блейка, а майора Макарова сделает еще недосягаемее.
– Все же я настоятельно прошу вас, господин обергруппенфюрер, – сказал я, – дать мне какое-то время.
Эдингер встал.
– Хорошо, я даю вам неделю, – высокопарно произнес он. – Но не забывайте: мы без вас обойдемся, а вам без нас уже не обойтись.
Я не сомневался, что этот рыжий обергруппенфюрер с удовольствием запрятал бы меня в концлагерь, но уж слишком было заманчиво завербовать на свою сторону офицера секретной службы противника, и поэтому этот эсэсовец не только сдерживал себя, но даже любезно проводил до дверей своего кабинета.
Янковская дожидалась моего возвращения у меня дома, она придавала встрече с Эдингером большое значение.
– Ну что? – спросила она, как только я вернулся.
– Предложил стать агентом германской разведки и обещал перебросить в Лондон.
– А вы? – нервно спросила Янковская.
– Попросил неделю срока.
– Надо соглашаться, – нетерпеливо сказала она.
– И ехать в Лондон? – насмешливо спросил я. – Для мистера Блейка там не найдется места!
– Вы сможете остаться здесь, – продолжала уговаривать меня Янковская. – Немцы пойдут на это.
– А какая им польза от меня здесь? Истреблять латышей они сумеют и без меня.
– Они оставят вас для того, чтобы выявить вашу агентуру.
– Этих девчонок? – удивился я.
– Ах, да не в девчонках дело! – с досадой промолвила Янковская. – Как вы не понимаете, что все эти девицы существуют лишь для отвода глаз! Эти девушки – ширма, они годятся только для дезинформации. Настоящую агентурную сеть – вот что им нужно! Настоящих агентов Интеллидженс сервис, которые, как всегда, законспирированы так, что до них не добраться ни богу, ни черту! Вот из-за чего идет игра, как вы не понимаете!
– А кто же подлинные агенты? – спросил я.
– Например, я! – откровенно воскликнула Янковская. – Но есть и другие, представляющие немалую ценность.
– Кто же это?
– Если бы я знала! Этого Дэвис мне не говорил. Не забывайте, он был работником Интеллидженс сервис! Без помощи Блейка, настоящего или поддельного, их невозможно найти.
О том, что у Блейка имелась особая агентурная сеть, существовавшая специально для того, чтобы скрывать подлинную агентуру, догадаться было нетрудно: в отличие от немецкой или японской разведки, которые всегда стремились иметь широко разветвленную агентуру, английская секретная служба предпочитала иметь агентов немногочисленных, но проверенных, серьезных и тщательно засекреченных. Тем не менее все, что говорила Янковская, было очень важно: она не только подтверждала мои догадки, но и в какой-то мере могла помочь выявить английскую агентуру в Прибалтике. Нечего и говорить, как это было бы ценно. Правда, эти сведения надо еще будет передать, но я надеялся, что к тому времени, когда я узнаю какие-либо достоверные факты, я налажу необходимые связи…
Однако, судя по поведению Янковской, она и мысли не допускала, что я свяжусь с советской разведкой, и меня интересовало, на чем основана эта ее уверенность. Самое лучшее было не играть с ней в этом вопросе в прятки, поэтому я прямо в лоб и задал ей свой вопрос:
– А почему вы думаете, что, выявив агентуру Интеллидженс сервис, я не передам эти сведения советской разведке?
– А потому, что вы хотите жить, – уверенно ответила Янковская. – Вы не успеете открыть у своих рта, как будете расстреляны.
– Почему? – спросил я, недоумевая. – За такие сведения людей не расстреливают…
– Но вы уже умерли, – нетерпеливо перебила она меня. – Неужели вы не понимаете?
– Нет, не понимаю. Меня не требуется ущипнуть за ухо для доказательства того, что я не сплю.
– Но я ущипну вас, – сказала она. – Поедемте.
Со свойственной ей стремительностью она повлекла меня за собой. Мы спустились вниз, сели в машину. Она привезла меня на кладбище.
Тот, кто бывал в Риге и не посетил городского кладбища, может считать это своим упущением. Оно великолепно и похоже на музей. Монументальные гробницы и статуи производят большое впечатление. Много человеческих поколений нашло здесь приют и каждое оставило свой след…
Янковская взяла меня за руку и повлекла по аллеям. Она шла быстро, ни на что не обращая внимания, все дальше и дальше, мимо гранитных плит и чугунных крестов, сворачивая с дорожки на дорожку.
Она привела меня в ту часть кладбища, где находили успокоение наши современники. Здесь было больше песка и меньше зелени, и памятники здесь были гораздо скромнее: современные люди как-то меньше вступают в спор с быстротекущим временем.
Она подвела меня к какой-то могиле.
– Смотрите! – холодно сказала Янковская.
Я равнодушно посмотрел на могильный холм, обложенный дерном, на небольшую доску из красного гранита, на анютины глазки, росшие у подножия, и пожал плечами.
– А, да какой же вы бестолковый! – с досадой воскликнула Янковская. – Читайте!
Я склонился к доске.
Майор Андрей Семенович Макаров
23.1.1912-22. VI.1941
Да, это было странно… Странно было стоять около собственной могилы…
Потом что-то кольнуло меня в сердце.
Тревожные июньские дни 1941 года! Первые дни войны! И вот в такие дни мои товарищи нашли время поставить на моей могиле памятник!
– Теперь вы убедились, что с майором Макаровым все покончено? – оторвала меня от моих мыслей Янковская.
– А если Блейк захочет опять стать Макаровым? – спросил я.
– Тогда его похоронят вторично, – непререкаемо произнесла Янковская. – Как только вы очутитесь на советской стороне, мы дадим понять, что вы Блейк, а не Макаров. Мы дадим понять, что Макарова для того и убили, чтобы Блейк мог выступить в его роли. Мы постараемся внушить вашим судьям, что Макаров на самом деле всегда был Блейком.
Да, во всем том, что говорила и делала Янковская, во всем том, что делали разведки всех империалистических государств, было много логики и правильного расчета, они не учитывали только одного: они не знали людей, против которых обрушивали свои козни.
Я молча пошел от «своей» могилы, и Янковская, не говоря ни слова, неслышно последовала за мной.
Она довезла меня до дому, остановила машину и положила свою руку на мою.
– Ничего, Август, ничего, – шепнула она. – Жизнь вышибла вас из седла, но вы сильный и найдете свое место в жизни.
– Оставьте меня в покое, – с нарочитой грубостью ответил я. – Дайте мне побыть одному.
– Конечно, – согласилась она. – Я заеду к вам вечером.
Она уехала, а я поднялся к себе и мучительно долго ломал голову над тем, как установить необходимые связи.
Но, как это всегда бывает, пока я раздумывал, как, находясь среди чужих, отыскать своих, свои искали меня и по каким-то непонятным признакам признали во мне своего.
6. Бидоны из-под молока
Вскоре после моего возвращения в комнату зашла Марта и сказала, что меня спрашивает какой-то мужчина.
Я вышел в переднюю.
Там стоял незнакомый человек.
«Это еще что за птица?» – подумал я, глядя на посетителя.
Это был сравнительно молодой человек с открытым и добрым лицом – в глазах его, я бы сказал, светилась даже излишняя мягкость, – примерно моих лет, может быть, чуть старше, одетый в очень дорогой костюм, и в отличной фетровой шляпе персикового оттенка.
Незнакомец скорее понравился мне, чем не понравился, хотя сразу возбудил мои подозрения. Чем-то он вызывал к себе чувство симпатии, и в то же время во всем его облике было что-то деланное.
Я вопросительно смотрел на посетителя.
– Вы господин Берзинь? – Он обратился ко мне по-латышски, но языком этим он владел далеко не безупречно.
– Допустим, – сказал я. – Чего вы хотите?
Он оглянулся, но Марта уже ушла, она была хорошо вышколена Блейком.
– Может быть, мы выйдем из дома? – попросил он меня и добавил: – Так будет лучше…
Все последнее время я жил в обстановке такого нагромождения тайн, что никакая новая тайна не могла уже меня удивить: всякую очередную тайну я воспринимал лишь как естественное звено в цепи дальнейших событий.
– Хорошо, – согласился я и взял шляпу. – Погуляем. Мы пошли по улице как два фланирующих бездельника.
– Может быть, перейдем на английский язык? – предложил мой спутник и тут же заговорил на хорошем английском языке. – Я рад, что нашел вас.
– Кто вы и что вам от меня надо? – строго перебил я его.
– Приятно находить то, что ищешь, – продолжал мой спутник, уклоняясь от прямого ответа на вопрос.
– Кто вы? – повторил я. – Что вам от меня надо?
– Не нужен ли вам шофер? – спросил тогда незнакомец. – Сейчас трудно найти хорошего шофера, почти все шоферы мобилизованы.
Основываясь на том, что мой собеседник хорошо говорит по-английски, я подумал, что он-то как раз и принадлежит к числу тех полноценных секретных агентов, которыми Блейк руководил в Прибалтике. В словах, с которыми он обращался ко мне, содержался, несомненно, пароль, но я не знал его, как не знал и отзыва. Я шел и гадал, какая фраза является паролем: «Приятно находить то, что ищешь» или «Не нужен ли вам шофер?».
А мой собеседник продолжал тем временем разговор.
– Мне просто повезло, – говорил он. – У меня плоская стопа, и я освобожден от военной службы…
Мы дошли до бульвара.
– Сядем? – предложил мой спутник.
Мы сели. Он осмотрелся по сторонам. Поблизости не было никого.
– Теперь познакомимся, – сказал незнакомец по-русски. – Капитан Железнов.
Такой прием для провокатора был слишком наивен, но я должен был заподозрить в нем провокатора: кто знал, какие подозрения вызывал я у немцев и кого могли они ко мне подослать!
– Я не понимаю вас, – ответил я по-английски. – На каком языке вы говорите?
– Да бросьте, нас никто не слышит, – просто и задушевно произнес незнакомец, назвавшийся капитаном Железновым. – Я знаю, что вы майор Макаров, и потому я к вам и пришел.
– Я вас не понимаю, – опять повторил я по-английски. – Чего вы от меня хотите?
– Да вы не опасайтесь, товарищ Макаров, – взмолился незнакомец, продолжая говорить по-русски. – Здесь нас никто не услышит.
Не могу передать, как мне было приятно слышать родную речь, да и поведение моего свалившегося точно с неба собеседника было слишком наивно для провокатора, но, как говорится, береженого бог бережет, а я вовсе не хотел рисковать понапрасну своей головой.
– Прекратите эту нелепую сцену, – сухо сказал я, не изменяя английскому языку. – Вы мне просто подозрительны, и вас следовало бы передать в руки сотрудников гестапо.
Но он был настойчив, этот человек, появившийся неизвестно откуда.
– Товарищ Макаров, я же все про вас знаю, – умоляюще произнес он. – Вас зовут Андрей Семенович, вы работник нашего Генштаба, здесь, в Риге, вас пытались убить, и даже сочли убитым… Я к вам от полковника Жернова…
Все это было верно, только не было у меня уверенности в моем собеседнике. Иностранные разведки тоже не лыком шиты, и, если меня сумели убить, почему бы им не попытаться меня обмануть?
– Или вы будете говорить со мной на языке, который я понимаю, – строго сказал я, – или я позову полицейского!
Мой собеседник с досадой посмотрел на меня.
– Вы чересчур осторожны или вы не тот, к кому меня направили, – заговорил он наконец по-английски. – Полковник Жернов будет очень огорчен.
– А кто это полковник Жернов?
Теперь, когда мой собеседник опять заговорил по-английски, Блейку было уместно заинтересоваться полковником Жерновым.
– Вы такого не знаете? – с явным огорчением задал мне вопрос незнакомец.
– Во всяком случае, не помню, – отозвался я. – Возможно, мы и встречались. Это какой-нибудь русский офицер?
– Да, – подтвердил незнакомец. – И у меня от него к вам письмо.
– Написанное по-русски?
– Да, – подтвердил незнакомец.
– В таком случае мне оно ни к чему. Я сказал вам, что не знаю этого языка.
– Что же мне передать полковнику? – сердито спросил незнакомец.
Я улыбнулся.
– Привет, если мы с ним когда-нибудь встречались, только привет и наилучшие пожелания!
Незнакомец задумался.
– Не хотите ли вы с ним… встретиться? – не совсем уверенно спросил он.
– А разве этот самый… как его… полковник Жернов здесь? – удивился я.
– Ну, это неважно, – неопределенно ответил незнакомец. – Я вас спрашиваю: хотите вы с ним встретиться?
– А почему бы и нет? Если мы действительно встречались, мне приятно будет возобновить наше знакомство.
– Хорошо, – решительно сказал незнакомец.
Минуты две или три он молчал, что-то соображая, потом передернул плечами и отчетливо проговорил:
– Хорошо, вы с ним встретитесь. Завтра вечером я за вами зайду. Только никому об этом не говорите. Будет хорошо, если вы достанете машину. Шофер не нужен, я вас отвезу и привезу, но в крайнем случае можно обойтись без машины. Скажем, часов около девяти. Что вы на это скажете?
– Хорошо, – сказал я. – Это несколько таинственно, но я люблю приключения.
В конце концов, мне нечего было терять. Если это провокация, решил я, мне легко будет отговориться. Немцы знали, кто такой Блейк, и вполне естественно, что Блейк мог пытаться установить связь с русскими. Блейк мог даже заявить, что собирался выдать русских шпионов немцам, начать свою службу у них, так сказать, не с пустыми руками. Все это можно было сделать в том случае, если это провокация. «Ну а вдруг я на самом деле увижу Жернова? – подумал я. – Может быть, именно он осуществляет связь с рижским подпольем или руководит партизанами и координирует их действия? Все может быть. Тогда было бы непростительно отказаться от этой встречи. Жернов перебросит меня к своим, и я снова окажусь в рядах армии…»
– Значит, завтра вечером, – повторил незнакомец. Он доверительно придвинулся ко мне. – Надо полагать, что за вами тщательно наблюдают, – негромко сказал он. – Я постараюсь увильнуть от слежки, а вы придумайте что-нибудь, чтобы оправдать свое отсутствие. Нельзя предвидеть все случайности. Мы можем задержаться за городом до утра, и не надо, чтобы ваше отсутствие привлекло внимание…
– Хорошо, я постараюсь, – согласился я.
Незнакомец испытующе посмотрел на меня и встал.
– Я могу на вас положиться?
– Да, вечером, один, с машиной, и полное молчание.
Всю ночь раздумывал я о предстоящей встрече.
Хотя она казалась маловероятной, тем не менее мысль о свидании с полковником Жерновым волновала меня…
Жернов являлся моим непосредственным начальником. Это был типичный офицер-академик. Человек широкого образования и высокой культуры, он почти весь свой век провел в стенах военных академий и штабных кабинетов. Молодой офицер царской армии, он оказался в числе тех русских офицеров, которые сразу же после Октябрьской революции перешли на сторону Советской власти. Некоторое время он воевал на фронте – сперва на Восточном, потом на Южном, – потом попал в штаб и здесь обрел свое призвание. Из штаба армии его перевели в штаб фронта, из штаба фронта – в Генеральный штаб. Вступил в партию, окончил академию, остался в академии преподавателем, стал профессором и лишь за несколько лет до войны вернулся на штабную работу. В Генштабе он занимал ответственный пост и, помимо своей основной работы, много помогал нам, молодым офицерам…
Но представить себе Жернова в полевых условиях, и тем более в условиях партизанской войны, я не мог. Да и возраст его был уже не таков, чтобы находиться на переднем крае…
Однако случиться могло все!
Хотя, конечно, не исключена была и возможность провокаций. Имя Жернова вполне могли использовать в качестве приманки, на которую можно было меня взять…
Да, всю ночь раздумывал я, действительно ли мне доведется встретиться с полковником Жерновым, или это всего-навсего провокация, и мне, если я не погибну, придется выкручиваться, изворачиваться и доказывать, что согласился встретиться с русским полковником Жерновым только для того, чтобы выдать его немцам…
Однако вряд ли незнакомец стал бы предупреждать меня о слежке и советовать найти объяснение для своего отсутствия, если бы он был провокатором…
Это было бы ему просто не нужно, хотя он мог это сказать с целью вызвать к себе больше доверия.
Так или иначе, но, принимая предложение незнакомца, я должен был обезопасить себя со стороны Янковской и Эдингера, вернее, со стороны ищеек возглавляемого им учреждения.
Свой маневр я решил начать с начальника гестапо. В случае, если против меня затевалась провокация, он себя как-нибудь да выдаст, когда я предупрежу его о своем отсутствии, думал я. У меня составилось впечатление, что это был характер театральный, склонный к эффектам. Эдингер, рисующийся своей проницательностью, мог бы играть благородных отцов в старинных мелодрамах. Стоит мне соврать, думал я, как он не удержится от удовольствия вывести меня на чистую воду…
Начать следовало с Эдингера, и, если мой незнакомец не подослан гестапо, я надеялся до чего-нибудь договориться и даже сослаться затем на Эдингера, чтобы оправдать свое отсутствие в глазах Янковской.
Я с утра созвонился с Эдингером по телефону, и на этот раз мне не пришлось заходить в комендатуру, меня ждали у подъезда и тотчас проводили к нему: очевидно, мистер Блейк серьезно интересовал немцев.
– Господин обергруппенфюрер, я много думал над вашим предложением, – заявил я ему с места в карьер.
– Отлично, – одобрил Эдингер.
– Я думаю, мне следует активизироваться, – продолжал я.
– Это тоже правильно, – согласился Эдингер.
– Поэтому я хотел бы иметь немного больше свободы.
Эдингер испытующе посмотрел мне в глаза.
– Выскажитесь, – попросил он. – Я не совсем понимаю, чего вы хотите.
– Не скажете же вы, что я предоставлен самому себе? Вы ведете за мной очень тщательное наблюдение.
– Нет, не скажу, – согласился Эдингер и, подумав, откровенно признался: – Мы изучаем вас, но я не сказал бы, что очень тщательно. Некоторые из ваших девушек работают у нас, но… – Он провел рукой по столу, как бы смахивая невидимые крошки. – Но все это не то. – На его лице появилось мечтательное выражение. – Девушки!.. Я не знаю, чем вы там с ними занимаетесь, но не думаю, что ради них вы провели в Прибалтике несколько лет. – Он повел усиками, точно таракан. – Вы хороший конспиратор, господин Блейк. Я должен признаться, мы не знаем о вас ничего существенного, поэтому мы и решили установить с вами контакт.
Я мысленно поблагодарил своих посетительниц; надо полагать, они добросовестно информировали немцев о наших свиданиях, и так как, по существу, им нечего было обо мне сказать, немцы считали, что я хорошо скрываю от них свою истинную деятельность.
– Так о какой свободе вы говорите, господин Блейк? – поинтересовался Эдингер.
– В данном случае о свободе передвижения, – сказал я. – Я буду откровенен с вами, господин обергруппенфюрер. Вы буквально блокировали меня в Риге, а мне необходимо связаться с Лондоном.
– Кто же вам мешает? – любезно осведомился Эдингер. – Вы так ловко устраиваете свои дела…
– Вот поэтому-то я и не могу выполнить свое намерение, – с досадой подчеркнул я. – Не считайте меня мальчиком. Если бы я держал рацию у себя дома, вы давно бы меня запеленговали. В том-то и дело, что моя рация заморожена.
– Ваша рация в Риге? – поинтересовался он.
– В окрестностях Риги. Я хочу снестись с Лондоном, возникнуть, так сказать, как феникс из пепла. Возможно, там меня даже похоронили. А потом… потом мы продолжим наш разговор…
Эдингер снова пошевелил своими усиками.
– Вы толковый парень, Блейк, но вам не удастся меня провести, – самодовольно произнес он. –Я знаю, о чем вы будете говорить с Лондоном. Вы скажете, что вас вербует немецкая разведка. – Он хитро посмотрел на меня, желая знать, какое впечатление произвели на меня его слова. – Но мы… мы не возражаем против этого. – Легкий смешок вырвался у него. – В этом есть своя логика. Запрашивайте, запрашивайте инструкции. Вам посоветуют согласиться. Пусть английская служба знает, что вы связаны с немецкой разведкой, это обеспечит вашу безопасность со стороны англичан, а работать вы будете на нас: умные люди всегда работают на победителя.
Я молчал, как бы пораженный проницательностью своего будущего шефа.
– Поэтому отправляйтесь и размораживайте свою рацию, – продолжал Эдингер. – С моей стороны помех не будет.
– Но я не хотел бы, чтобы меня сопровождали невидимые спутники. Доверие за доверие, господин обергруппенфюрер. Или вы доверяете мне, или вряд ли мы с вами договоримся.
Эдингер добродушно засмеялся.
– Вы все хитрите, Блейк, вы боитесь, что я воспользуюсь вашей рацией помимо вас. Но я действительно считаю вас своим коллегой и окажу вам доверие: мы освободим вас от наблюдения.
Разумеется, он мне нисколько не верил.
– Итак, вы можете ехать куда хотите, – согласился Эдингер и предусмотрительно добавил: – В радиусе… в радиусе… ну, скажем, сорока-пятидесяти километров… – Он опять посмотрел на меня со всем возможным добродушием. – Надеюсь, вы не захотите бежать? – И сам тут же ответил: – Нет, вы достаточно благоразумны. Во-первых, вам не прорваться, во-вторых, в этом нет смысла…
Он был убежден, что разведчик такой квалификации, как Блейк, не захочет выйти из игры.
– Я попрошу вас еще об одной любезности, – небрежно сказал я. – Я скажу госпоже Янковской, что уезжаю из Риги вместе с вами.
Эдингер ответил вопросом:
– Побаиваетесь ее?
Я пожал плечами.
– Не слишком, но не хочу посвящать ее во все дела.
– Вы умница, Блейк, – похвалил меня Эдингер. – Вы понимаете, что никто в Риге не осмелится интересоваться мною. – И доверительно добавил: – Эта дама малосимпатична, и я бы давно прибрал ее к рукам, но у нее сильные покровители…
Подробнее он не высказался.
– И еще одна деталь, господин обергруппенфюрер, – обратился я к Эдингеру, пользуясь его хорошим настроением. – Какой-нибудь документ, пропуск, который я смогу предъявить, если мною кто-нибудь заинтересуется.
– О, это не представляет трудностей! Я выдам вам корреспондентский билет. Вы будете художником местной газеты…
Он отдал распоряжение приготовить для меня удостоверение, и я, не заходя ни в какие редакции, получил его тут же, в канцелярии.
Удача моих переговоров объяснялась тем, что у Эдингера не возникло ни малейшего сомнения в подлинности Блейка!
Встретившись с Янковской, я сказал, что ненадолго уезжаю из города.
– Мне понадобится машина. Я буду признателен вам, если вы отдадите ее сегодня в мое распоряжение.
– Что ж, машина ваша, вы вправе ею распоряжаться. Но куда это вы собрались?
– Недалеко, – лаконично ответил я. – Хочу немного проветриться на лоне природы.
Янковская испытующе посмотрела на меня.
– А я не могла бы вас сопровождать?
– Нет, – решительно возразил я. – Ведь вы сами говорили, что мистер Блейк посвящал вас не во все свои тайны.
Она посмотрела на меня еще настороженнее.
– Это тайна? – многозначительно спросила она.
– Как вам сказать?.. – замялся я. – Я не вижу в этом особого секрета, но меня просили не посвящать вас.
По-видимому, Янковскую осенила какая-то догадка, она внезапно села за обеденный стол – мы разговаривали в столовой, – подперла голову ладонями и задумчиво посмотрела на меня.
– Послушайте… – нерешительно сказала она. Я видел, что она колеблется, не знает, как меня назвать. – Послушайте… Андрей Семенович… Вы… я не хочу вам зла… Вы… собираетесь бежать?
Я снисходительно на нее посмотрел.
– Видите ли, Софья Викентьевна, вы впервые задаете мне неумный вопрос. Если бы я собирался бежать, я бы поостерегся ставить вас об этом в известность… – Я усмехнулся. – Вас слишком терзает женское любопытство, и, пожалуй, лучше его удовлетворить. Я собираюсь прогуляться за город не с кем иным, как с начальником гестапо господином Эдингером!
– Но зачем же вам тогда нужна машина? – быстро спросила Янковская.
– Если мне не изменяет сообразительность, господин Эдингер намеревается устроить встречу Блейка с кем-то, кого он считает одним из моих сотрудников, – тут же нашелся я. – Как мне кажется, я играю до некоторой степени роль приманки, поэтому я и должен ехать на своей машине. Эдингер будет лишь сопровождать меня…
Янковская бросила на меня быстрый подозрительный взгляд.
– А что, если я сейчас позвоню Эдингеру? – вызывающе спросила она. – Что вы на это скажете?
– Прошу вас, – небрежно сказал я, хотя мне совсем не хотелось, чтобы она разговаривала с Эдингером: кто знает, какие между ними были отношения и что мог он ответить ей.
Она решительно прошла в кабинет и позвонила Эдингеру.
– Господин обергруппенфюрер, у меня к вам просьба, – обратилась она к нему капризным топом избалованной женщины. – Я приглашаю господина Берзиня провести сегодня вечер в ресторане, но он говорит, что должен сопутствовать вам в какой-то поездке. Не могли бы вы его освободить?
Я беспечно посматривал на Янковскую, хотя на самом деле чувствовал себя очень тревожно: я не знал, что ответит Эдингер, и не был уверен, что он меня не подведет. Но, должно быть, уж очень ему хотелось завоевать Блейка!
Янковская опустила трубку.
– Нет, вы не обманули меня, – удовлетворенно произнесла она и вдруг со свойственной ей быстрой сменой настроений раздраженно выкрикнула: – Только он напрасно пытается выключить меня из игры! – Она помолчала и как-то угрожающе, с явной целью произвести на меня впечатление, добавила: – Этот Эдингер излишне самостоятелен… Что ж, посмотрим… – Она задумчиво покачала головой. – Смотрите, Андрей Семенович, не переигрывайте, послушайте моего дружеского совета. Может быть, вы и впрямь входите во вкус этой игры, но Эдингер не та лошадь, на которую ставят опытные игроки.
Больше Янковская не сказала ничего, но я видел, что она всерьез встревожена моей намечающейся близостью с Эдингером. Она сохранила мне жизнь отнюдь не для того, чтобы я вырвался из-под ее влияния, это явно не входило в ее планы.
Когда она ушла, я выглянул в окно: машину она оставила у подъезда.
Вечером я сел у окна. Мой вчерашний посетитель появился на улице около девяти часов; он шел настолько уверенно и непринужденно, что мои подозрения вспыхнули с прежней силой. Идти так, как шел этот незнакомец, могут только люди, абсолютно убежденные в том, что за ними не следят, что за ними некому и не из-за чего следить.
Неужели Эдингер разговаривал со мной для отвода глаз, а на самом деле немцы ведут на меня облаву и загоняют в приготовленный капкан?
Тем временем вчерашний посетитель приблизился к дому и скрылся в подъезде.
Предупреждая его звонок, я сам пошел открыть дверь: мне не хотелось, чтобы его видела Марта. Но, как нарочно, Марта находилась в передней, она чистила коврик, постеленный перед входной дверью.
Раздался звонок, и Марта открыла дверь.
– Заходите, пожалуйста, – вежливо сказала она и посторонилась, уступая гостю дорогу.
Мы поздоровались.
– Все в порядке? – весело спросил незнакомец.
– Как будто, – неопределенно ответил я.
– Поехали? – спросил он.
Я кивнул и обернулся к Марте:
– Если завтра заедет госпожа Янковская, передайте, я вернусь поздно.
– Хорошо, – отчужденно произнесла Марта, сняла с вешалки мое пальто и, подавая его мне, сказала уже другим, более приветливым тоном: – Добрый путь вам, добрый путь, господин Берзинь.
У нас с Мартой установились ровные и, я бы сказал, спокойные отношения. Она делала свое дело, я жил своей жизнью, мы не мешали друг другу. Она производила хорошее впечатление, – занятая всегда какой-нибудь работой, она не обнаруживала интереса к моим занятиям, но…
Кто мог поручиться, что Марта не приставлена ко мне, кто мог поручиться, что немцы или англичане не платят ей деньги за то, чтобы она держала мистера Блейка под соответствующим надзором?
– А если я экстренно для чего-нибудь понадоблюсь, мы будем в ресторане «Эспланада», – сказал я на всякий случай. – Хотя госпоже Янковской лучше об этом не говорить.
Пистолет Блейка был у меня в одном кармане, кастет, который я стал носить по совету Янковской, – в другом.
– Поехали, – сказал я.
Мы спустились вниз.
Незнакомец кивнул на машину:
– Поведу я?
Я открыл дверцу:
– Садитесь, я сам поведу машину.
Мы сели, двинулись, и в этот момент, когда я, по существу, отдался в руки своему спутнику, мне почему-то почувствовалось, что никакой он не провокатор, не враг и не шпион, а действительно капитан Железнов…
Нельзя, конечно, руководствоваться в жизни одной интуицией, она может (да и как еще!) подвести в самый решительный момент, но нельзя и полностью ею пренебрегать: нередко необъяснимое чувство симпатии или антипатии способно направить наши шаги в нужном направлении.
Подумав о том, что мой спутник на самом деле советский офицер, я как-то успокоился, и вместо того чтобы предаваться всяким тревожным мыслям и колебаниям, сразу сосредоточился на внешних впечатлениях, что особенно важно для того, кто ведет машину по улицам большого, многолюдного города.
Наступал вечер, улицы редели, все спешили разойтись по домам, неторопливо шагали лишь немецкие офицеры; на каком-то углу стоял патруль и проверял у прохожих документы; из окон кафе доносились звуки музыки и какие-то выкрики…
Словом, жизнь в оккупированной Риге шла своим чередом.
Я вел машину не торопясь: в Риге не торопились только победители, и чем медленнее вел я свою машину, тем меньше подозрений мог возбудить.
Со своим спутником я почти не разговаривал: говорить по-английски не хотелось, говорить по-русски было опасно.
– Куда ехать? – коротко спросил я его.
– В сторону Межапарка.
Этот громадный парк, больше напоминающий тщательно ухоженный лес, составлял гордость рижан и был излюбленным местом прогулок, пикников и спортивных состязаний. Но в этот военный вечер в парке, конечно, не было никого, лишь где-то в глубине, в самой чаще, стояли, если верить сведениям посещавших меня девушек, орудия противовоздушной обороны.
Миновали Межапарк.
– А теперь? – спросил я.
– Теперь мы поменяемся местами. – Мой спутник заговорил по-русски. – Дальше машину поведу я.
Он напрасно пытался поймать меня, я решил соблюдать осторожность до конца.
– Я вас не понимаю, – упрямо повторил я по-английски. – Напрасно вы считаете меня русским.
– Ну и выдержка у вас! – одобрительно пробормотал он по-русски и перешел на английский язык. – Дайте мне руль, придется петлять, я доберусь быстрее.
– А если я не дам?
– У вас просто ничего не получится, – ответил он спокойно. – Вы не сможете здесь ориентироваться… – Он улыбнулся и доверительно сказал опять по-русски: – Положитесь на меня.
Я пожал плечами, и мы поменялись местами.
– Теперь держитесь, – сказал мой спутник. – Поиграем немножко в прятки…
Он начал кружить по дорогам, мы ехали то в одну, то в другую сторону, быстро проезжали мимо одних хуторов и медленно мимо других; потом он резким рывком свернул с дороги и остановился за каким-то домом.
Было тихо, мой спутник выглянул на дорогу – нигде не было никого.
Поехали дальше.
Так он проделывал несколько раз, сворачивал с дороги, останавливал машину и ждал. Но мы ни разу не заметили, чтобы нас кто-нибудь преследовал.
Потом он опять начал петлять; помчались по одной дороге, свернули на другую, приблизились к какому-то хутору, подъехали к какой-то мызе и неожиданно въехали в раскрытые ворота.
– Вылезайте, – быстро сказал мой спутник.
Я вылез. Он загнал машину в сарай, вышел во двор и закрыл распахнутые двери. Во дворе было пусто.
– Приехали? – спросил я.
– Нет-нет. Будем ждать.
Вскоре во двор въехала грузовая машина. Шофер выглянул из кабины, увидел нас. Рядом с шофером сидела женщина, они оба по-латышски поздоровались с моим спутником.
– Быстро-быстро! – крикнул шофер.
Мы залезли в кузов, он был заставлен бидонами из-под молока. Раздвинув бидоны, мы опустились и незаметно устроились между ними.
Не успели мы сесть, как машина выехала обратно, обогнула хутор, понеслась по дороге.
Мы никуда и нигде уже больше не сворачивали.
– Что это за машина? – спросил я.
– На ней возят молоко в офицерскую столовую в Риге, – с усмешкой ответил мой спутник. – Машина проверенная.
Внезапно, как и все, что происходило этой ночью, шофер затормозил, и машина остановилась у обочины дороги.
Мы спрыгнули в дорожный кювет, прямо в непросохшую грязь.
И машина тотчас помчалась дальше.
7. В сосновом лесу
Неподалеку от дороги темнела опушка леса.
Было уже совсем поздно и почти темно, ночь вступала в свои права, и, как всегда, когда ждешь опасности, тишина казалась особенной.
Мы добежали до кустов можжевельника, постояли, прислушались, вошли в лес.
Мой спутник свистнул.
Откуда-то из тьмы, совсем как в театре, выступили темные фигуры.
– Порядок, – сказал им мой спутник. – Я привез товарища…
Он не назвал меня.
На этот раз мой спутник заговорил по-латышски.
Люди, которые нас окружили, отвечали ему тоже по-латышски.
– Пусть кто-нибудь останется у дороги, – распорядился мой спутник. – А мы не будем терять времени. – Он взял меня за руку. – Придется завязать вам глаза. Я бы не стал, но мы тут в гостях, а у хозяев свои законы.
Я не спорил. В конце концов, если Блейк ввязался в эту авантюру, я мог сказать, что он хотел довести ее до конца, а если меня намеревались убить, для этого завязывать глаза было не обязательно.
Меня повели по лесу. Сначала мы шли по какой-то тропке, потом по траве… Шли с полчаса, не больше.
С меня сдернули повязку. Мне показалось, что в лесу развиднелось. Деревья тонули в синем сумраке. Мы стояли возле какого-то шалаша.
Мой спутник заглянул в шалаш и что-то спросил.
– Заходите, – сказал он и уже мне в спину не без насмешки добавил: – Теперь-то уж вам придется заговорить по-русски!
Я приоткрыл дверцу и нырнул внутрь.
В шалаше горела всего-навсего небольшая керосиновая лампа, но после лесного мрака ее свет казался необычайно ярким. Само помещение напоминало внутренность обычной землянки: небольшой, грубо сколоченный дощатый стол, скамейки по стенам, на столе лампа, термос, кружка…
Но самым удивительным было увидеть человека, который сидел за дощатым столом и которого я считал погибшим в гитлеровских застенках…
Это был не кто иной, как Мартын Карлович Цеплис!
Да, это был мой квартирный хозяин, у которого так спокойно и хорошо мне жилось до того самого дня, когда судьба столкнула меня с Янковской.
Коренной рижский рабочий, старый коммунист, проверенный в самых сложных и тяжелых обстоятельствах, этот человек был и будет своим до конца. В этом у меня не было никаких сомнений!
Я взволнованно протянул ему руку:
– Мартын Карлович!
Но сам Цеплис не отличался экзальтированностью. Он слегка улыбнулся и спокойно пожал протянутую ему руку, так, как если бы мы расстались с ним только вчера.
– Здравствуйте, товарищ Макаров, очень приятно…
Но он не договорил: мало приятного произошло с тех пор, как мы виделись с ним в последний раз.
– А ведь я искал вас, Мартын Карлович! – воскликнул я с некоторым даже упреком. – Но какая-то особа, увы, посоветовала мне обратиться ни больше ни меньше, как в полицию!
– Да, я слыхал, что вы меня искали, – подтвердил Цеплис. – Но у меня не было возможности вас уведомить…
– Значит, эта женщина…
– Да, это свой товарищ, – подтвердил Цеплис. – Но вас она не могла признать за своего. У нее не было для этого данных, и в настоящее время требуется проявлять особую осторожность. Но она поступила очень разумно. Если вы свой, она предупредила вас о том, что надо опасаться полиции, а если бы оказались чужим, к ней нельзя было бы придраться: она направила вас именно в полицию.
– Я не рассчитывал встретить вас здесь, – признался я.
– Партии лучше знать, где кому находиться, – уклончиво возразил Цеплис.
– А семья? – поинтересовался я. – Успели эвакуировать?
– Жена и сын в деревне, у родственников, – пояснил Цеплис. – Я расстался с ними на второй день войны, но от товарищей знаю, что они пока в безопасности.
– А Рита?
У Цеплиса было двое детей: сын Артур, сдержанный и очень похожий на отца тринадцатилетний мальчик, и девятнадцатилетняя Рита, миловидная, умная, порывистая девушка, комсомолка и студентка педагогического института.
Цеплис нахмурился.
– Риты нет, – негромко объяснил он, не уклоняясь от ответа, точно речь шла о ком-то постороннем. – Риту оставили в городе, и немцы схватили ее чуть ли не на следующий день после занятия Риги, когда она вместе с другими комсомольцами пыталась вывести из строя городскую электростанцию…
У меня сжалось сердце… Я потянулся к Цеплису.
– Мартын Карлович!..
Но он мягко отвел мою руку и на секунду опустил глаза.
– Не надо…
Он принудил себя слегка улыбнуться, как бы давая понять, что сейчас не время ни грустить, ни бередить душевные раны, и шагнул к двери.
– Ну а теперь я вас познакомлю…
Он вышел, оставив меня одного, но вскоре вернулся обратно вместе с человеком, доставившим меня в расположение партизан.
– Капитан Железнов, – сказал Цеплис, представляя мне моего спутника.
– Я уже знаю, что это капитан Железнов, – сказал я. – Мы познакомились еще вчера.
– «Знаю» не то слово, – возразил Цеплис. – Если бы знали, нам не пришлось бы ехать сюда.
– Извините меня, – сказал я, протягивая Железнову руку. – Но ведь в моем положении легко заподозрить что угодно.
– А я не в претензии, – ответил мне Железнов. – Дело законное, на вашем месте я тоже задумался бы…
Я не выпускал его руки из своей.
– Слушаю вас, капитан… товарищ Железнов!
Железнов улыбнулся своей мягкой, застенчивой улыбкой.
– Может быть, и письмо Жернова возьмете теперь, хотя сейчас оно и не очень нужно?
– Почему не нужно?
– Потому что теперь я в рекомендациях для вас уже не нуждаюсь.
Он дружелюбно посмотрел на Цеплиса.
– Да, – подтвердил Цеплис, – товарищ Железнов – это наш товарищ.
– Что ж, поговорим? – предложил Железнов, переходя на деловой тон, и сел на скамейку, приглашая тем самым садиться своих собеседников.
Но Цеплис, не столько в силу врожденной деликатности, сколько руководствуясь опытом старого подпольщика, накопленного им за годы ульманисовской военной диктатуры, направился к выходу; он хорошо усвоил правило не интересоваться тем, что не имело прямого отношения к его непосредственной деятельности.
– Разговаривайте, – сказал он. – А у меня тут своих дел…
Он оставил меня наедине с Железновым.
– Вам понятно, по чьему поручению я действую? – спросил он меня.
Я согласно наклонил голову.
– Поэтому вам придется рассказать о себе, – сказал он. – Но предварительно поинтересуйтесь…
Он все же протянул мне привезенное письмо. Конверт был заклеен, и, пока я его вскрывал и читал записку Жернова, Железнов молча наблюдал за мной.
Я хорошо знал и почерк своего начальника, и его манеру выражаться. Записка отличалась обычным его лаконизмом. В ней Жернов передавал мне привет и совершенно официально, в тоне приказа, предлагал полностью довериться подателю письма.
Да, все в записке было сухо и лаконично, но – это даже трудно объяснить – какая-то теплота, сдержанная стариковская ласка сквозила меж скупых строк…
«Вам трудно, и будет трудно, – писал мне Евгений Осипович Жернов, в годы моего пребывания в академии мой профессор, а затем непосредственный начальник по службе. – Но вы не один, и, как бы вам ни было трудно, Родина всегда с нами. Податель этого письма действует по поручению нашего командования…»
Я было спросил:
– А где…
И тут же замолчал: вопрос был неуместен. Однако капитан Железнов угадал мою мысль.
– Нет, отчего же, – ответил он. – Вы вправе поинтересоваться. Полковнику Жернову дело нашлось бы и в Москве, но он боевой офицер и настойчиво стремился на фронт. Он в штабе армии. Там полагали, что его письмо не может вызвать у вас сомнений…
– Но не так просто было его мне вручить!
Я улыбнулся, еще раз взглянул на записку, перегнул листок и сунул было его обратно в конверт.
– Нет-нет, – остановил меня Железнов. – Прочли, убедились, а теперь спичечку… – Он тут же протянул мне коробок. – Никаких документов, ничего, – объяснил он. – В вашем положении…
Я зажег спичку и послушно приблизил ее к листку. Синее пламя лизнуло конверт. Я положил его на краешек стола. Вспыхнул на минуту желтый огонек, и письмо полковника Жернова превратилось в горстку серого пепла.
Железнов перегнулся через стол и сдул пепел на землю.
– Так-то лучше, – заметил он. – Все здесь и ничего здесь! – Он похлопал себя сперва по голове и затем по карману. – А теперь давайте поговорим. Хотя времени у нас в обрез. Докладывайте обо всем, что произошло с вами.
Мне было понятно его требование, но не так-то просто было рассказать о себе.
– Знаете, товарищ Железнов, я и сам хорошо не понимаю, что произошло со мной, – признался я с некоторым даже замешательством. – Меня убили, то есть пытались убить. В тот же вечер в Риге был убит некий Август Берзинь, и он же Дэвис Блейк, как мне потом стало известно, резидент Интеллидженс сервис в Прибалтике. Воспользовавшись тем, что между нами имелось некоторое сходство, наши тела, если можно так выразиться, поменяли. Меня перенесли на место Блейка, а Блейка – на мое. Затем его похоронили под именем Макарова, а я под именем Берзиня был помещен в больницу и впоследствии очутился в немецком госпитале…
Железнов сочувственно мне кивнул.
– Это примерно совпадает со сведениями, которые удалось собрать о вас товарищам, – согласился он. –
Вас пытались убить и действительно сочли убитым. Покушение на вас совпало с первой бомбежкой Риги, и, возможно, это обстоятельство и помогло инициаторам покушения совершить этот мрачный маскарад. Во всяком случае, ваш труп… то есть, как это выяснилось потом, труп человека, принятый за ваш, был найден поутру в изуродованном виде под обломками какого-то здания, однако одежда и документы позволили опознать в нем майора Макарова. Поскольку вы сидите сейчас передо мной, несомненно, что похоронен был кто-то другой. Известно, что вы лежали в немецком госпитале. Потом стало известно, что вы живете в Риге под именем Августа Берзиня. Это было странно, но… Держались вы странно, но немцы почему-то вас не трогали. На изменника вы не походили, те ведут себя иначе. У нас были некоторые возможности к вам присмотреться, и с вами решили установить связь…
– Но я вправе был заподозрить провокацию? – перебил я Железнова, пытаясь еще раз объяснить свою недоверчивость. – Когда в городе, занятом фашистами, приходит человек, называет себя советским офицером…
– Но ведь я знал, кому себя называл? – возразил Железнов.
– Ну а если бы я вас все-таки выдал?
Железнов улыбнулся.
– Я думаю, что вы не успели бы… – Он опять перешел на деловой тон. – Лучше скажите, чем вы были заняты в Риге?
– Выжидал, – объяснил я. – Собирался бежать на Родину и выжидал, когда это можно будет осуществить. В мою жизнь впуталась какая-то авантюристка, Софья Викентьевна Янковская. Во всяком случае, так она себя назвала. Это именно она и стреляла в меня, но, по ее словам, она же меня и спасла. Выдала за Августа Берзиня, хотя на самом деле я Дэвис Блейк. То есть я Блейк, который жил в Риге под именем Берзиня. Немцы, по-видимому уверены, что я действительно Блейк, и пытаются меня перевербовать, а Янковская советует согласиться. На кого на самом деле работает она сама – на немцев или на англичан, – мне неясно. У Блейка в Риге имелась сеть осведомителей, вернее, осведомительниц – несколько десятков девушек, работающих в различных местах, где бывает много посетителей. Сеть эта сохранилась до сих пор. Обыватели могли думать, что Блейк – просто отчаянный ловелас, но осведомленным людям нетрудно было догадаться об истинном характере связей Блейка. Эта агентура была законспирирована весьма примитивно, не так, как это обычно делает Интеллидженс сервис, и заведена была, по-видимому, специально в целях дезинформации. Теперь выясняется, что под руководством Блейка имеется еще группа агентов, законспирированных столь тщательно, что они, по словам Янковской, неизвестны даже ей…
– Ладно, об этом вы доложите… не мне! – прервал меня Железнов. – А что делали вы сами?
– Выжидал, я уже докладывал, выжидал благоприятного момента, чтобы бежать от немцев… – Я улыбнулся. – И, как видно, дождался…
– Почему? – сухо осведомился Железнов.
– Да потому, что меня теперь, надеюсь, перебросят на нашу сторону, – сказал я уверенным тоном. – Я полагаю…
– Что? – насмешливо спросил Железнов.
– Полагаю, что нахожусь в штабе одного из партизанских соединений и что при первой же оказии меня перебросят…
Железнов приподнял термос и сердито переставил его на другое место.
– Вот что, товарищ майор, – заговорил он вдруг совершенно официальным тоном. – Вас никто и никуда не будет перебрасывать. Вы останетесь в Риге и будете выполнять все, что вам прикажут. Вы получите явку, найдете человека, установите с ним связь.
– А что же я буду делать в Риге? – удивился я.
– Все, что прикажет вам этот человек, – строго сказал Железнов.
Он задал мне еще несколько придирчивых вопросов, поинтересовался моими отношениями с Янковской, повторил, что было бы грешно не воспользоваться сложившимися обстоятельствами, и сказал, что, по всей вероятности, мне придется установить связь и с английской, и с немецкой разведками и хорошо вникнуть в их деятельность. Затем он сказал, что нашей разведкой в Ригу заслан очень опытный и сильный работник, старый чекист, работающий в органах государственной безопасности еще со времен Дзержинского, что я должен буду с ним связаться и вся моя работа в Риге будет проходить под руководством этого товарища. Затем пояснил, что ему было поручено установить со мной связь, но так как он не вызвал у меня доверия, он решил доставить меня, как это было и заранее предусмотрено, в штаб одного из партизанских соединений, где хорошо известный мне Цеплис должен был устранить любые мои сомнения…
А в общем, весь наш разговор чем-то напоминал допрос; по всей видимости, Железнову было поручено основательно меня прощупать, прежде чем связать с кем-то еще.
После всего, что я услышал, я, разумеется, и заикнуться не посмел о том, что мне хотелось бы оказаться в рядах действующей армии. Поручение, которое мне давалось, было и важно, и опасно, и я не мог от него отказаться.
В конце разговора Железнов поинтересовался, не будет ли у меня какой-либо просьбы или пожелания, которые он мог бы исполнить.
– Будет, – сказал я. – В Москве есть девушка… Вероятно, до нее дошло, что я умер. Нельзя ли поставить ее в известность…
– Нет, нельзя, – решительно возразил Железнов. – Вы, по-видимому, не представляете себе, как вы должны быть засекречены. О том, что вы живы, могут знать только считанные единицы…
И он еще раз объяснил, как мне найти человека, который отныне будет моим прямым начальником.
– А теперь возвращаться, – закончил Железнов разговор. – Чем меньше вы будете отсутствовать в городе, тем лучше.
Мы вышли и очутились в полном мраке. На земле властвовала ночь. Лишь совсем вблизи выступали из тьмы голые стволы сосен, терявшиеся где-то в высоте. Было очень тихо. Только издалека доносился какой-то невнятный шелест…
– Мы вернемся другой дорогой, – негромко предупредил меня Железнов. – Так безопаснее, да и…
Он не договорил, приостановился и тихо свистнул. Если бы мы не стояли рядом, я подумал бы, что какая-то птица зовет к себе спросонок другую.
К нам тотчас же кто-то подошел, точно этот человек скрывался за деревьями и ждал нашего зова.
Железнов шепотом что-то сказал – я не разобрал его слов, – и подошедший, ничего не промолвив в ответ, пошел вперед легкими, неслышными шагами.
Мы устремились вслед, и тут я начал замечать, что все в этой тьме полно разумного деятельного движения: доносятся какие-то отрывистые слова, слышны какие-то шепоты, перемещаются какие-то тени и посвистывают какие-то птицы, которые на самом деле, вероятно, никакие не птицы; мне даже послышалось попискивание морзянки, хотя это могло мне только почудиться: в этом ночном, наполненном тайнами лесу действительность и воображение не могли не сопутствовать друг другу.
– Мы еще увидим товарища Цеплиса? – спросил я.
Мне очень хотелось побыть еще хоть немного вместе с Цеплисом: он был мне здесь как-то роднее всех.
Но этому желанию не суждено было осуществиться.
– Нет, – ответил мне Железнов. – Товарищ Цеплис сейчас уже далеко отсюда, его специально вызывали для того, чтобы рассеять ваши подозрения.
Постепенно я освоился в темноте.
Мы шли в густом сосновом лесу. Высокие сосны лишь кое-где перемежались разлапистыми елями, да понизу росли пушистые кусты можжевельника. Похрустывал под ногами валежник. Иногда в просветах над деревьями поблескивали звезды…
Но время от времени из-за черных елей выступали какие-то тени и преграждали нам путь. Наш провожатый бросал им несколько слов, и они вновь исчезали во мраке.
Можно было только удивляться, как легко наш провожатый ориентировался в темноте: мы, и уж во всяком случае я, с трудом поспевали за ним.
Наконец деревья стали редеть, и мы опять вышли на опушку. Перед нами смутно расстилался обширный луг, а может быть, и поле, вдалеке темнел не то лес, не то какие-то строения.
И вдруг я услышал знакомое ровное тарахтение…
– Что это? – удивился я.
– Связь, – объяснил Железнов. – Связь с Большой землей.
Да, на расстилавшийся перед нами луг приземлялся самолет…
Это был самый обыкновенный, скромный учебный самолет У-2, та самая милая, незабвенная «уточка», которая никогда-никогда не будет забыта ни одним советским летчиком, куда бы и как бы ни ушла вперед наша авиация!
Все было очень привычно, очень знакомо, и все же я, достаточно опытный офицер, не мог не удивиться…
Линия фронта проходила сравнительно далеко, мотор нельзя было заглушить, щупальца прожекторов то и дело шныряли в небе, везде находились зенитные орудия… А пилот летел себе и летел!
Я притронулся к Железнову.
– Но как же это ему удается?
Железнов объяснил мне его тактику.
Пилот вел самолет над самыми полями, над самыми лесами и только что не тащился по земле; немцы искали его, конечно, гораздо выше, они не могли себе представить, что невидимый самолет пролетает почти над самыми их головами, всего лишь в десятках метров от земли…
Нельзя было не восхищаться дерзким бесстрашием этого человека. А ведь он не был исключением!..
Значит, борьба не прекращалась ни на мгновение; даже в тылу, в самом глубоком немецком тылу, шла борьба с гитлеровцами, и десятки тысяч бесстрашных
людей самоотверженно участвовали в ней. И теперь мне предстояло занять в ней свое место.
– Однако нам с вами лучше быть отсюда подальше, – рассудительно заметил Железнов. – Поторопимся!
Он подозвал нашего провожатого.
– Дальше мы выберемся одни, – сказал он. – Передавайте привет товарищу Цеплису!
Вскоре мы вышли на дорогу, пошли по обочине. Примерно через километр я увидел машину. Мне опять пришлось удивиться. Это была моя машина, машина Блейка.
Железнов сел за баранку. Я сел рядом, и мы поехали.
На каком-то хуторе, в тени больших черных вязов, мы остановились, дождались рассвета и снова тронулись в путь. Перед самым въездом в город нам повстречался эсэсовский патруль. Я показал свои документы и сказал, что Железнов мой шофер. Мы не вызвали у эсэсовцев подозрения. Нас тут же отпустили, и мы как ни в чем не бывало часов в десять утра вернулась в Ригу.
8. Поиски «Фауста»
Несколько часов, проведенных мною вместе с Железновым за время обратной дороги в Ригу, сблизили нас больше, чем сближает иной раз совместное проживание в течение целого года.
Мы коротко рассказали друг другу о себе, поделились удачами и огорчениями, причем выяснилось, что одно из самых серьезных огорчений доставил ему я своей чрезмерной предусмотрительностью.
Мы долго говорили по-русски, пока Железнов не спохватился:
– Не лучше ли перейти на английский? Чтобы как-нибудь случайно не проговориться, есть смысл на какое-то время отказаться от своего языка.
Мы перешли на английский, которым я владел неплохо, а Железнов, пожалуй, даже безукоризненно.
И когда в ответ на какой-то его вопрос я не нашел нужного слова и опять перешел на русский язык, Железнов засмеялся:
– Уговор дороже денег! Позавчера вы изводили меня, отказываясь понимать по-русски, а сегодня я не хочу понимать вас.
Подъезжая к городу, я припомнил, как при первом своем посещении Железнов обратился ко мне с предложением нанять его в качестве шофера.
– Вы останетесь в Риге? – спросил я его.
– Не знаю, – ответил он. – По соображениям конспирации, я не имею права это сказать. Но я и на самом деле не знаю.
Тогда я спросил, нельзя ли ему жить в Риге под видом моего шофера, и сказал, что было бы очень здорово находиться друг возле друга.
На это Железнов ответил, что так сейчас решить этот вопрос нельзя и что принимать решение будет тот, в чье распоряжение поступил я и в чьем распоряжении находится сам Железнов.
Мы остановились перед моим домом и вышли из машины.
– Прощайте, – сказал Железнов. – Пойду.
– Куда? – несколько наивно спросил я. Железнов улыбнулся:
– Этого я сказать не могу.
– А когда мы увидимся? – спросил я.
– Может быть, никогда.
– Как это вы не боитесь? – сказал я ему. – Я наблюдал за вами третьего дня. Уж больно вы смело ходите. Кругом шпики…
– А кто вам сказал, что не боюсь? – возразил Железнов и пошел по улице с таким независимым видом, как ходят только очень уверенные в себе люди.
Когда я вернулся домой, Марта не спросила меня, где я пропадал, и, вероятно, не только потому, что была приучена к таким исчезновениям Блейка, но и вследствие природной сдержанности, вообще присущей латышам. Она только поинтересовалась, надо ли подавать завтрак, и осталась, кажется, довольна, когда я не отказался от ее услуг.
Часа через два в квартире появилась Янковская.
Я слышал, как она еще при входе, в передней, осведомилась у Марты, вернулся ли я, стремительнее, чем обычно, вошла в кабинет и, как мне показалось, с облегчением вздохнула при виде меня.
– Наконец-то! – капризно произнесла она. – Знаете, кажется, я начинаю к вам привыкать. – Я молча ей поклонился. – Ну как? – спросила она, опускаясь в кресло. – Как вам удалось справиться?
Я не понял ее:
– С чем справиться?
Янковская рассмеялась:
– С немцами!
Я вопросительно на нее посмотрел.
– Нет, серьезно, куда это вы запропали?.. – Она рассмеялась. – Я уж не знаю, как вас и называть: Андрей, Август или Дэвис… Пожалуй, лучше всего Август… Где вы пропадали, Август?
Она плохо скрывала свое любопытство; было очевидно, что она ждет от меня подробного рассказа о поездке.
– Где был, там уже нет, – ответил я, как бы поддразнивая ее, а на самом деле обдумывая, что ей сказать. – Ездил с господином Эдингером к морю, он хотел решить с моей помощью одну задачу…
– Ах, не лгите! – воскликнула Янковская с раздражением. – Я звонила к Эдингеру, он никуда не уезжал из Риги!
Оказывается, она проверяла меня на каждом шагу и не находила нужным это скрывать!
Было очень важно узнать, о чем она спрашивала Эдингера и что он ей ответил.
– Да, он не мог мне сопутствовать, – сказал я. – Он остался в Риге.
– А где вы были? – быстро спросила Янковская.
– У советских партизан, – ответил я с усмешкой. – Ведь вам известно обо мне все!
– Мне не до шуток, Август, – перебила Янковская. – Если бы Эдингер не знал, где вы находитесь, он немедленно принялся бы вас искать.
– А вы спрашивали его обо мне? – спросил я а свою очередь.
– Конечно, – вызывающе ответила Янковская. –Вдруг вы на самом деле вздумали бы перебежать к партизанам?
Эта дамочка не раз говорила, что желает мне всяческого благополучия, но, как и следовало ожидать, не пощадила бы меня, вздумай я нарушить ее игру.
– Что же вы сказали обергруппенфюреру?
– А что он сказал вам? – ответила мне вопросом на вопрос Янковская.
– Вот я и хочу знать, скажете вы мне правду или нет, – сказал я с вызовом. – Я жду.
– Вы, кажется, всерьез входите в роль Блейка, – одобрительно заметила Янковская. – Я ничего не выдумывала и лишь повторила то, что сказали вы сами. Сказала, что вас нет, что вы мне срочно нужны и что Эдингер, по вашим словам, осведомлен о месте вашего пребывания.
Это был донос. Хорошо, что я попросил у Эдингера разрешения сослаться на него, иначе она могла основательно меня подвести. Она согласна была, чтобы я полностью перевоплотился в Блейка, но помешала бы мне снова стать Макаровым… Да, это был самый настоящий донос, и в данном случае вещи следовало называть своим именем.
– Но ведь это донос! – воскликнул я. – Что же ответил вам Эдингер?
Узнать ответ Эдингера было сейчас важнее всего!
– Он засмеялся и сказал, что это не столько его тайна, сколько ваша, – ответила Янковская. – Во всяком случае, дал мне понять, что здесь не замешана женщина.
Я с облегчением вздохнул. Немцы покупали меня! Блейк был тонкая штучка… Они отлично понимали, что Блейка не так просто провести, он не мог не видеть, ведется за ним наружное наблюдение или нет, и они сняли с него наблюдение. К такому заключению пришел во время нашей поездки не только я, но и Железнов, а он был опытней меня. Возможно, Эдингер даже решил, что Янковская звонит по моему поручению, и захотел оказаться в моих глазах человеком слова. Он отдавал себе отчет, что у Блейка нет иного выхода, как пойти на службу к немцам, но понимал, что Блейк не заурядный шпион и отношения с ним надо строить, так сказать, на базе «честного слова»… Все, все в этом мире, в котором я так внезапно очутился, все использовалось в игре… И я с облегчением подумал, что в этот раз Эдингер меня не подвел!
– Но ведь это донос! – повторил я. – Вы вели себя нелояльно, Софья Викентьевна. Представьте себе, что я сказал вам неправду. Вы погубили бы меня. Эдингер сразу бросился бы по моим следам…
– И на этот раз вас некому было бы спасти, потому что обратного пути у вас нет, – цинично согласилась Янковская. – Я не советую вам пренебрегать мною, вы еще слишком неопытны, а немцев обмануть нелегко. Это меня и тревожило, поэтому я и спросила, как вы справились… – Она подошла ко мне и провела рукой по моим волосам. – Будьте умницей, нам невыгодно ссориться, – примирительно сказала она. – Чего хотел от вас Эдингер?
Черт знает, какие у нее были связи и возможности! С ней не стоило ссориться, и я бы не поручился, что она не могла узнать о моем разговоре с Эдингером от кого-нибудь из его окружения, поэтому я не собирался сильно отклоняться от истины.
– Он просил показать рацию, при помощи которой Блейк сносился с Лондоном, – признался я с таким видом, точно Янковская вырвала это признание против моей воли.
– Рацию?! – воскликнула Янковская. – Но ведь это же блеф!
– То есть как «блеф»? – спросил я. – Разве у Блейка не было рации?
Янковская пожала плечами:
– Я лично никогда не слыхала ни о какой рации. Конечно, могла быть, и каким-нибудь путем немцы могли о ней пронюхать. Но вы-то… это рискованный путь – блефовать с немцами! Вы о рации не знаете ничего, а играть с ними комедию долго не удастся, вы рискуете головой.
Я насмешливо посмотрел на Янковскую:
– Ну а если я обнаружил рацию?
– Вы?! – На этот раз она удивилась вполне искренне. – Каким образом?
– Я нашел в этом кабинете кое-какие координаты, которые помогли мне…
Я сказал это так, точно это было самое повседневное дело – находить тайные передатчики, посредством которых резиденты английской секретной службы осуществляют свою связь.
Янковская широко раскрыла глаза:
– Вы это серьезно?
– Вполне.
– И вы нашли указание на местонахождение рации в этом кабинете?
– Вот именно.
– Но каким образом?
– Это мой секрет.
– И знаете позывные и код?
– Приблизительно.
– И преподнесли этот подарок Эдингеру?
– Почти.
– Ну, знаете ли… – В ее глазах блеснуло даже восхищение. – Вы далеко пойдете!
На несколько мгновений она утратила обычную выдержку и превратилась просто в женщину, восхищающуюся сильным мужчиной.
– Я рада, что не ошиблась в вас. – Она опустилась в кресло и закурила папиросу. – Кажется, вы способны завоевать мое сердце!
Но я остерегался этой женщины. Кто знает, какие причины на самом деле побудили ее погубить Блейка!
– Мне трудно в это поверить, – меланхолично произнес я, отходя к окну. – Вряд ли вы способны полюбить кого-нибудь, кроме себя.
Янковская не ответила, она только нервно потушила папиросу, долго сидела молча, потом поднялась и тихо, не прощаясь, ушла.
Наступила пятница.
А мне было сказано: вторник или пятница, от пяти до семи, книжная лавка на площади против Домской церкви…
Эта церковь, построенная еще в тринадцатом веке, один из красивейших архитектурных памятников Риги, пережила все бомбардировки и превратности войны, уцелела до наших дней и посейчас украшает старинную Домскую площадь.
Все мне нравилось в этом районе: и древняя церковь, и прилегающие к ней узкие улочки и переулки, нравились выстроенные в готическом стиле дома и вымощенные булыжником мостовые…
Все здесь дышало стариной, все давало почувствовать полет времени.
Я шел по Известковой улице, улице бесчисленных магазинов и магазинчиков, посреди оживленно снующих прохожих…
Тот, кто никогда не был здесь прежде, не заметил бы ничего особенного: множество магазинов и множество прохожих. Но я – то бывал на этой улице и раньше, всего несколько месяцев назад, я – то замечал: вот магазин как магазин, а рядом пустое помещение, запертые двери, голые витрины, и опять пустое помещение и запертые двери…
И все же, чем дальше шел я по Известковой улице, тем больше улучшалось мое настроение: все дальше уходил я от того, кто был Дэвисом Блейком, уходил от его «цветов зла», и от «Цветов» Бодлера, и от изящных томиков Марселя Пруста, от чужой просторной квартиры и от чужих, доставшихся мне в наследство вещей, от нехитрых девушек и двуличной Янковской, от ее угроз и заигрываний, от всего непривычного и чуждого, уходил и все больше становился самим собой…
Вот и Домская площадь, церковь и против нее букинистический магазин. Большое окно, в котором выставлены книги. Низкая, наполовину застекленная дверь…
Я открыл ее. Зазвенел колокольчик, прикрепленный к двери. Должно быть, хозяин не всегда сидел в своей лавке и отлучался в помещение, расположенное позади магазинчика.
На этот раз хозяин был у прилавка. Угрюмый, небритый латыш. Седая щетина покрывала синеватые склеротические щеки, разрисованные багровыми жилками.
Хозяин был не один: еще через дверное стекло я заметил, что над прилавком склонился какой-то покупатель.
Я вошел и невольно сделал шаг обратно, неприятно пораженный встречей…
Я увидел Гашке! Да, того самого Гашке, с которым лежал в госпитале в одной палате и которого мельком заметил в канцелярии гестапо.
Он небрежно на меня покосился и сделал вид, что не узнал, а может быть, и в самом деле забыл, и опять склонился над прилавком. Усилием воли я принудил себя приблизиться к прилавку. Перед господином Гашке в изобилии лежали открытки с изображением обнаженных красавиц в весьма нескромных позах.
– Чем могу служить? – по-немецки обратился ко мне хозяин магазина.
Секунду я колебался, но пароль, полученный мною, звучал столь невинно, что я решил не обращать на Гашке внимания.
– Я разыскиваю первое издание «Фауста». Первое издание, вышедшее в тысяча восемьсот восьмом году.
– Вы хотите слишком многого, – ответил мне продавец.
– Я не пожалею никаких денег, – настаивал я.
– Откуда в моем скромном магазине может быть такая редкость? Но я могу предложить вам одно из позднейших изданий, с отличными иллюстрациями.
– Нет, мне нужно издание тысяча восемьсот восьмого года, – настойчиво повторил я.
– И я бы взял с вас не слишком дорого, – настаивал на своем предложении продавец.
– Нет, – твердо сказал я. – Мне нужно первое издание, если вы не можете его достать, мне придется уйти.
Сказано было все, что следовало сказать для того, чтобы тебя признали своим в этом тесном и темном магазинчике, но почему-то я не был уверен в ответе. Меня смущало присутствие господина Гашке.
Однако продавец не стал медлить и толкнул дверь в помещение, примыкавшее к магазину, – маленькую комнату с убогой железной койкой, с голым, ничем не покрытым столом и с табуреткой, на которой стояло ведро с чистой водой. Похоже, что хозяин жил в этой комнатке, напоминавшей тюремную камеру.
– Прошу вас, – произнес продавец. – Пройдите.
Сам он остался на месте, пропустил меня, и не успел я оглядеться, как в комнату вошел Гашке.
Дверь затворилась.
Гашке держал в руках открытки. Одним движением он сложил их как карточную колоду и небрежно положил на край стола.
– Садитесь, товарищ Макаров, Андрей Семенович, – сказал он по-русски. – Я уже давно жду вас. – Он указал на койку и сам сел на нее.
Я не мог еще прийти в себя оттого, что именно Гашке является человеком, которому я должен предоставить всего себя.
– Мне приказано поступить в ваше распоряжение, – неуверенно произнес я. – Вот я и пришел.
– Зачем так официально? – сказал Гашке. – Нас связывают неформальные узы… – Этот человек точно высвобождал меня из каких-то тенет, которыми я был опутан за время моей жизни под чужим именем. – Давайте знакомиться, – просто сказал он. – Меня зовут Иван Николаевич Пронин. Майор Пронин. В прошлом году мне пришлось заниматься делами, связанными с Прибалтикой. Вот начальство и направило меня сюда… Все это говорилось без всякой многозначительности, с той простотой и естественностью, которая есть непременное свойство мужественных душ.
– Я ничем не должен отличаться от тех, чье доверие поручено мне завоевать, – продолжал Пронин. – Фельдфебель Гашке – я теперь уже не унтер, а выше – не только не хочет отставать от своих офицеров, а кое в чем хочет их даже превосходить. Все в гестапо знают, что ни у кого нет лучших картинок определенного содержания, чем у Гашке. Это создает мне популярность. Под этим предлогом мне удобно заходить к букинистам. Гашке пополняет свою коллекцию!
Пронин прислушался к какому-то шуму за стеной, помолчал, – по-видимому, это была ложная тревога, – и опять обратился ко мне:
– Нам с вами надо обстоятельно поговорить, Андрей Семенович. Сейчас у нас мало времени, да и место для этого неподходящее. Я не должен оставаться здесь подолгу: это могло бы навлечь подозрения на нашего хозяина. А он еще пригодится Латвии. Я предложу следующее…
Он думал всего несколько секунд.
– Завтра… Скажем, завтра между двенадцатью и часом Гашке отправится со своей девицей в Межапарк. В гестапо самая горячка ночью, поэтому днем позволено и вздремнуть, и отдохнуть…
Он достал блокнот, сделанный со всей немецкой тщательностью, вырвал из него листок и быстро начертил нечто вроде плана.
– Вот дорога, вот поворот, здесь развилина, направо дорожный знак… Скажем, у следующего дорожного знака. Вы можете приехать на машине? У этого дорожного знака и будет прохлаждаться Гашке с дамой своего сердца. С вашей машиной что-нибудь стрясется, скажем, заглохнет мотор. Вам не останется ничего другого, как обратиться за помощью к благодушествующему фельдфебелю…
Все было совершенно ясно.
– Я пойду, а вы выходите минут десять спустя и возвращайтесь другой дорогой, – распорядился Пронин. – Кстати, у вас есть с собой деньги?
– Не слишком много, – сказал я. – Я не знал…
– Много и не надо. Будете уходить, купите на всякий случай у нашего хозяина две-три книжки…
Пронин забрал картинки и вышел, я услышал дребезжание колокольчика на двери и вернулся в магазин. Хозяин равнодушно на меня посмотрел. Я купил у него несколько немецких журналов, вышел на площадь и окольным путем отправился домой.
Вечером я предупредил Янковскую:
– Завтра с утра мне понадобится машина.
Она усмехнулась:
– Ого, как вы стали разговаривать!
– Но ведь машина-то моя?
– Если вы действительно решили стать преемником Блейка, несомненно. – Она подумала и спросила: – Куда же вы собираетесь на этот раз?
– На свидание, – смело ответил я. – С одним из оперативных работников гестапо.
– Это в плане ваших разговоров с Эдингером? – Янковская испытующе посмотрела на меня.
– Да, – твердо сказал я. – Думаю, мне стоит с ним сблизиться.
В ее глазах почти неуловимо – в этой женщине все было неуловимо – сверкнула искорка радости.
– Что стоит вам делать, я объясню несколько позже, – сказала она дружелюбно. – А что касается машины, я загоню ее во двор, и утром вы можете ехать в ней хоть до Берлина.
Утром Марта накормила меня жареной камбалой – у нее были какие-то особые хозяйственные связи с рыбаками и огородниками из-под Риги, – затем я вывел машину, пожалел, что рядом нет капитана Железнова, и поехал за город.
Военному, как правило, достаточно лишь намека на карту, для того чтобы отыскать требуемую географическую точку, а Пронин вычертил путь к своему сегодняшнему местопребыванию достаточно тщательно. Я доехал до развилины, нашел дорожный знак и неподалеку от второго знаки в тени деревьев увидел расположившегося на траве Гашке.
Сухая теплая осень пришла на смену мягкому прибалтийскому лету. Желтые и оранжевые краски окрасили листву. Бронзовые листья нет-нет да и слетали с ветвей и, медленно кружась, точно умирающие бабочки, опускались на дорогу. Трава обвяла, сделалась суше, жестче, лежать на ней было уже не так приятно, как весной… Но Гашке чувствовал себя, по всей видимости, превосходно. На траве перед ним был расстелен лист синей оберточной бумаги, на бумаге лежали холодные сосиски и бутерброды с колбасой и сыром, около бумаги прямо на траве стояла початая бутылка с водкой, и возле нее валялись два бумажных стаканчика; все это было куплено, конечно, в магазине, обслуживавшем только немецких офицеров, – таких специальных магазинов в Риге было достаточно.
Но главную прелесть подобного времяпрепровождения представляла, конечно, молодая девушка, сидевшая против Гашке.
Эта белокурая красотка, с правильными чертами лица, голубоглазая, крупная и высокогрудая, могла бы покорить не только скромного фельдфебеля!
Как и было условлено, моя машина остановилась прямо против отдыхающей парочки.
Я соскочил, поднял капот машины, поковырялся в моторе…
– Эй, фельдфебель! – крикнул я. – Желаю вашей девушке хорошего мужа! Вы понимаете что-нибудь в моторах?
Он встал, усмехнулся.
– Откуда вас только принесло?..
Он что-то сказал девушке, та кивнула, сорвала веточку лилового вереска, прикусила стебелек зубами, еще раз кивнула и пошла к повороту.
Пронин подошел ко мне.
– Давайте ваши инструменты!
Я достал сумку с ключами и отвертками. Пронин разбросал их перед машиной, а мы сами отошли к обочине и сели лицом к дороге.
– Где это вы отыскали такую красавицу? – не удержался я от вопроса.
– Хороша? – горделиво спросил Пронин.
– Маргарита не Маргарита, валькирия не валькирия… – подтвердил я. – Обидно, что такая девушка снисходит до немецкого фельдфебеля.
– А она не снисходит, – насмешливо пояснил Пронин. – Работница с кондитерской фабрики и комсомолка, она знает, кто я такой. Она делает свое дело, и если направится обратно в нашу сторону, учтите, это будет значить, что появились ненужные свидетели и нам придется заняться мотором.
Но они так и не появились за время нашего разговора.
Здесь мне следует оговориться и сказать, что масштабы деятельности Пронина в оккупированной гитлеровцами Риге были очень велики, в своем рассказе я не пытаюсь даже хоть сколько-нибудь изобразить эту деятельность. Я рассказываю только о событиях, непосредственным свидетелем и участником которых был я сам, и поскольку Пронин принимал в них участие, рассказываю о нем лишь в связи с этими событиями, хотя, повторяю, в общей деятельности Пронина они занимали очень скромное место.
– Прежде всего опишите день за днем, шаг за шагом все, что произошло с вами, начиная с момента вашего приезда в Ригу, – попросил он меня. – Буквально все. Что делали, как жили, с кем встречались…
И я обстоятельно передал ему все, о чем уже рассказывал Железнову.
Пронин задумчиво пошевелил сухие травинки попавшейся ему под руку веточкой.
– Ну что ж, проанализируем, как говорится, эту шахматную партию в отложенной позиции. Начнем с памятного вечера. Ваша Янковская встретилась с вами, конечно, не случайно, для чего-то вы были нужны. В каких целях воспользовалась она вами, еще не совсем ясно. Разумно предположить, что не в личных, а в интересах чьей-то разведки. Чьей – тоже пока неясно. После всего, что произошло, и особенно после того, как вы нашли ее в ресторане, естественно было предположить, что обо всем увиденном вы сообщите соответствующим органам. В целях профилактики вас решили убить. И все же не убили! Отсюда начинаются загадки…
Пронин посмотрел в сторону своей спутницы. Она безучастно прохаживалась у поворота. Разговор можно было продолжать.
– Все, что произошло с вами, – продолжал он, –свидетельствует о том, что у Янковской, фигурально выражаясь, дрогнула рука. Почему? Вряд ли здесь имели место какие-либо сентименты. Однако несомненно, что в последнюю минуту Янковская приняла новое решение и сохранила вам жизнь, решила подменить вами Блейка, а бомбардировка Риги помогла ей выполнить это намерение.
Я предполагал, что все, что касалось Блейка, Пронину стало известно от меня, но оказалось, что я ошибся.
– Наши органы знали, что под именем Берзиня скрывается английский резидент, – объяснил Пронин. – Однако, понимая, что в войне с Гитлером Англия будет нашим союзником, и держа Берзиня под некоторым контролем, мы не считали нужным его трогать… –Пронин нахмурился. – И, как мне теперь думается, Блейк нас переиграл. Вся эта его агентура, рассеянная по кабакам и парикмахерским, эти официантки, кассирши и массажистки оказались сплошным блефом. Немцы это отлично поняли. Сам по себе Блейк им малоинтересен, ничего не стоило бы его обезвредить, но немцев интересует его агентурная сеть, из-за нее они и возятся с ним. Никто не хочет иметь в своем тылу запрятанное врагом оружие. Немцы хотят или разминировать его, или взять себе на вооружение.
– Но Эдингер ничего не говорил об агентурной сети, – возразил я. – Наоборот, он говорил, что им нужен именно я…
– Не будьте наивны, – прервал меня Пронин. – Сперва они хотят завербовать Блейка, а когда он бесповоротно с ними свяжется, потребуют передать агентуру…
– Но ведь мне-то она неизвестна! И я не думаю, что мне удастся долго водить их за нос.
– В том-то и дело, что она должна стать известной, – очень серьезно заявил Пронин. – Ваше положение дает много возможностей проникнуть в тайну Блейка. Вы обязаны это сделать, и, разумеется, не для немцев, а для нас самих. Нас не может не интересовать агентурная сеть Интеллидженс сервис. Это и есть то большое дело, которое вы призваны осуществить. Почти все советские люди работают сейчас на войну, обеспечивают победу; вам предстоит работать и ради завтрашнего дня, ради предотвращения войны в будущем.
Он стал давать мне советы, как практически себя вести и действовать, напомнил о выдержке и терпении, о смелости и осторожности…
– Вы плохо умеете держать себя в руках, – упрекнул он меня. – Вы излишне эмоциональны, а для разведчика это большой порок. Вспомните госпиталь…
– Но вы тоже выдали там себя! – воскликнул я.
– Чем? – удивился Пронин.
– Мое намерение было совершенно недвусмысленно, а вы отпустили меня…
– Для того чтобы утром отдать в руки гестаповцев.
– Вы заговорили по-русски.
– Гашке родился и вырос в России… – Пронин хитро прищурился. – А вот тем, что вы поняли русский язык, вы сразу обнаружили, что вы не тот, за кого себя выдаете.
– Но как вы узнали, что я Макаров?
– Не сразу, конечно… – Пронин улыбнулся. – Я интересовался всеми привилегированными больными, находившимися в госпитале, и вы не могли не привлечь моего внимания. Кроме того, повторяю, вы вели себя слишком эмоционально. Блейк по тем или иным соображениям мог убить Гашке, поводы для убийства бывают самые разнообразные, так что ваше намерение не могло вызвать особых подозрений, но то, что вы так хорошо отреагировали на мою русскую речь, выдало вас и вызвало с моей стороны по отношению к вам чувство симпатии. Я взял вас на заметку. Выйдя из госпиталя, я поручил кое-кому навести о господине Берзине справки…
– И узнали, что Берзинь – на самом деле Макаров?
– Да, – сказал Пронин. – Я уже говорил вам, что в последние годы занимался делами, связанными с Прибалтикой. Некоторые обстоятельства вашей гибели внушали кое-какие подозрения. Ими следовало заинтересоваться. Конечно, я не предполагал, что вы живы. Но многому помешала война. В начале июля немцы оккупировали Ригу. Все дела отодвинулись на задний план, а многие канули в небытие. Однако моя поездка в Ригу не отпала, хотя поехал я сюда уже по другим делам. И вот когда у меня возникло сомнение в том, что вы Берзинь, я начал думать, кто же вы в действительности. Ваша фотография имелась в деле, а память у меня, надо сказать, профессиональная. При виде вас у меня появилось ощущение, что я где-то вас видел.
Пронин посмотрел на меня с удивительным дружелюбием.
– Я не знал обстоятельств, сопровождавших ваше появление под именем Берзиня, – продолжал он. – Можно было подумать самое худшее, но о вас навели справки в Москве и здесь, в Риге. Вели вы себя не так, как обычно ведут себя изменники. Я кое с кем посоветовался, и было решено с вами связаться…
За все время своего одиночества я был так уверен в себе, что не мог даже подумать, что обо мне может где-то создаться превратное представление. Только сейчас, после слов Пронина, я уяснил себе трагизм положения, в котором очутился. Недаром Янковская так упорно утверждала, что у меня нет обратного пути.
– Знаете, пожалуй, только сейчас я ощутил всю двусмысленность своего положения, – с горечью признался я скорее самому себе, чем своему собеседнику. – Не так уж трудно было счесть меня перебежчиком…
– К счастью, вы не дали к этому повода, – согласился Пронин. – Трагические ошибки возможны, но прежде, чем сказать о человеке, что он отрезанный ломоть, к нему надо семь раз примериться, и, как видите, проверка показала, что мы не ошиблись.
Много добрых мыслей мелькнуло у меня в этот момент в отношении Пронина, но изливаться в чувствах было не время и не место, да и вообще, что могли значить слова в той обстановке, в которой мы находились, важно было делом оправдать оказанное мне доверие.
Поэтому, вместо того чтобы заниматься сентиментальной болтовней, я коротко сказал:
– Слушаю вас, товарищ Пронин, приказывайте.
– Мне кажется, главное уже сказано. Ваша задача – выявить агентурную сеть секретной службы, созданную в Прибалтике Блейком. Другого дела у вас нет. Это не так просто, но вы в силу сложившихся обстоятельств имеете наилучшие возможности для решения этой задачи. Используйте Янковскую, вытрясите из нее все, что возможно, но будьте с ней очень осторожны: если она заметит, что из вашего перевоспитания ничего не получается, вторично она уже не промахнется. Заигрывайте с немцами, пока у них не прошло головокружение от успехов, но их тоже не следует недооценивать. Фашистская исступленность огрубляет методы их работы, но не забывайте, что немецкая государственная машина, на которую опираются нацисты, всегда работала неплохо, а разведка стояла на большой высоте. Они вербуют вас, понимая, что у разведчика, пойманного с поличным, нет другого способа сохранить себе жизнь, как перевербоваться. Этим следует воспользоваться. Черт с ними, соглашайтесь стать их сотрудником – репутация английских разведчиков не наша забота! В конце концов, они простят вам некоторую пассивность, немцам выгоднее иметь в Риге демаскированного шпиона, нежели идти на риск получить другого, неизвестного им резидента. Можно ведь не сомневаться, что в случае ареста Блейка Интеллидженс сервис направит кого-нибудь в Прибалтику…
Пронин говорил со мной так спокойно, точно речь шла о самом повседневном поручении, какое он бы мог дать своему сотруднику у себя дома в доброе мирное время, и хотя он неоднократно подчеркивал необходимость соблюдать крайнюю осторожность, его деловой и уверенный тон действовал на меня так, что я думал не столько об опасности поручения, сколько о необходимости выполнить его во что бы то ни стало.
Позже, когда я познакомился с Иваном Николаевичем гораздо ближе, я понял, что таким Пронин оставался всегда: он меньше всего думал о себе, весь отдавался делу и своим отношением к нему как-то очень хорошо умел заражать всех своих сотрудников.
– А теперь два слова о связи, – заключил Пронин. – Кажется, всех нас осенила одна и та же идея. Она возникла у Железнова, встретила ответный отклик у вас и нашла мое одобрение. Это идея устроить Железнова в качестве вашего шофера…
Пронин не мог не заметить моего оживления, хотя я и старался быть сдержанным, – уж очень было приятно сознавать, что возле меня будет находиться верный товарищ, свой, близкий, родной человек.
– Это, конечно, сопряжено со значительным риском и для него, и для вас, но уж очень большие перспективы для его действий открывает положение вашего шофера, – объяснил Пронин. – Дело в том, что одна из функций Железнова – связь с латышскими партизанами, а шоферу Блейка, как вы понимаете, необходимо бывать в самых различных местах. Поэтому мы пойдем на такой риск. К вам явится сын небогатого русского фабриканта, бежавшего после Октябрьской революции из Ленинграда в Эстонию. Типичный представитель второго поколения русских эмигрантов, обнищавший неудачник, пробирающийся на запад, подальше от большевиков. Документы у него будут в порядке. Виктор Петрович Чарушин. Он явится к вам, и вы наймете его. Будет неплохо, если его заподозрят в том, что он англичанин: Железнов говорит по-английски безукоризненно. Пусть предполагают, что он тоже агент английской секретной службы. Этим, кстати, будет объясняться и ваше расположение к нему. Ну, а в случае, если каким-нибудь образом Железнов провалится, вы сделаете большие глаза. Не вздумайте в таком случае открыто взять его под защиту, наоборот, чтобы не провалить себя, сразу же проявите беспокойство – не подослан ли он к вам; заботу о Железнове возьмут на себя другие. Покуда Железнов будет возле вас, связь будет поддерживаться через него. А в крайнем случае, если что случится, то же место и тот же пароль. С хозяином лавки о делах ни слова. Вы как-то встретились у него с господином Гашке, и тот обещал достать вам какие-то пикантные французские книжки…
Пронин протянул мне руку, и мы обменялись рукопожатием, которое было многозначительнее и красноречивее всяких слов.
– Все, – сказал он. – Желаю успеха. Поезжайте. Фельдфебелю Гашке тоже пора в город.
Мы еще раз пожали друг другу руки, я сел в машину, и, как только отъехал, девушка тотчас направилась к Пронину.
Я кивнул ей, проезжая мимо, но она мне не ответила.
Когда я подъехал к дому, я увидел в воротах Марту, и не успел я вылезти из машины, как она подошла ко мне.
– Господин Берзинь, – торопливо сказала она, – уезжайте отсюда поскорее. Вскоре после того как вы уехали, к нам явились двое эсэсовцев. Они спросили вас. Я сказала, что вы вернетесь нескоро. Они ответили, что будут ждать вас, и сидят сейчас в гостиной. Уезжайте, прошу вас, пока не поздно. Я думаю, они пришли за вами.
9. Под бежевым абажуром
Нелепо было убегать от эсэсовцев: Ригу я знал недостаточно хорошо, да и вообще почти никого не знал в городе, а тех немногих, кому я был известен, только поставил бы под удар своим появлением; в постоянной охоте на людей, проводимой нацистами в оккупированных местностях, редко кто мог уйти от этих охотников за черепами; и, наконец, у меня не было твердой уверенности в том, что эсэсовцы пришли за моей головой…
Меня заинтересовало, как Марта могла выйти из дома, если там сидели эсэсовцы, и я спросил ее об этом.
– Они сидят в гостиной и курят сигареты, – объяснила Марта. – В кухню они не заглядывали. Поэтому я решила выйти во двор и дождаться вас…
Марта знала, что я не господин Берзинь, и все-таки почему-то жалела меня…
Однако об этом некогда была раздумывать.
– Возвращайтесь к себе и не волнуйтесь, – сказал я Марте. – Не так страшен черт, как его малюют.
Я вошел в парадный подъезд, поднялся по лестнице, отпер дверь и прямо прошел в гостиную.
– Хелло! – сказал я. – Здравствуйте, ребята!
Два молодых парня с отупевшими от своей работы лицами сидели в креслах и попыхивали сигаретами. При виде меня они вскочили.
– Хайль! Хайлитль!
«Хайлитль» значило то же, что «хайль Гитлер», это была жаргонная скороговорка.
Нет, не похоже было на то, что они готовились забирать меня в тюрьму.
– Очень хорошо, – сказал я. – Вы зашли отдохнуть или у вас есть ко мне дела?
Один из них осклабился, другой остался серьезен.
– Господин Август Берзинь? – осведомился тот, который оставался серьезным. – Нам приказано доставить вас в гестапо.
– Может быть, доедем в моей машине? – предложил я.
– Отлично, – согласился тот, который оставался серьезным, и царственным жестом пригласил меня идти вперед: – Прошу!
Нет, так эсэсовцы не арестовывали…
Когда мы подъехали к гестапо, спесь сразу сползла с моих провожатых; тот, что оставался серьезным, выскочил, козырнул и остался у машины, а тот, который улыбался, повел меня к Эдингеру.
Я опять очутился в знакомом уже мне кабинете перед руководителем рижского гестапо.
– Садитесь, – предложил он и для внушительности на минуту задумался. – Садитесь, капитан Блейк. У меня к вам дела…
Увы, Эдингер придерживался не столь уж выгодной политики кнута и пряника: если при первом свидании он манил меня пряником, на этот раз он пытался меня припугнуть.
– Я хочу вас информировать. Получен приказ рейхслейтера Гиммлера, – торжественно произнес он. – Всех иностранных офицеров я обязан интернировать в лагеря особого назначения. Однако это относится только к офицерам, захваченным в форме, с оружием в руках…
Он многозначительно посмотрел на меня своими бесцветными глазами.
– Это не относится к шпионам, скрывающимся среди мирного населения, – принялся он перечислять. –Не относится к личностям, представляющим особую опасность для государства. Не относится к лицам, злоумышляющим против фюрера и германского народа. Не относится к задержанным, пытающимся бежать…
Его крашеные усики зашевелились, как у таракана. Он ничего не добавил, но я отлично понял, что он хотел сказать. Я легко мог стать и скрывающимся шпионом, и личностью, представляющей особую опасность, и лицом злоумышляющим, и, наконец, меня просто могли пристрелить при попытке к бегству.
Это-то я понял, но еще не вполне понимал, чего домогался Эдингер, а ему, разумеется, что-то было от меня нужно.
– Вам не надо забывать, кому вы обязаны жизнью, – торжественно заявил Эдингер. – Когда рука советского агента настигла вас в собственной вашей квартире, мы сделали все, чтобы вырвать вас из объятий смерти.
Эта версия происшедших событий, придуманная, вероятно, Янковской, мало соответствовала действительности, но мне следовало ее принять.
Со всей прямолинейностью и самоуверенностью, которые особенно сильно проявлялись у немецких чиновников в ту пору, он не замедлил поставить передо мной категорический вопрос:
– Вы умеете быть благодарным? Наш вы или не наш?
Теперь, после полученных мною указаний, я мог пренебречь тем, что может подумать обергруппенфюрер Эдингер об английских офицерах, которых, по его мнению, я представлял сейчас перед ним.
– Вы ставите меня в безвыходное положение, – ответил я с достаточной долей высокопарности, которая, впрочем, не могла не импонировать такому субъекту, как Эдингер. – Интересы Великобритании вынуждают меня разоружиться и вручить вам свою шпагу.
– Хайль Гитлер! – в ответ на это крикнул Эдингер.
Я не знал, ждет ли он от меня подобного вопля, но промолчал, считая, что английскому офицеру даже в таких обстоятельствах нельзя уподобляться гитлеровскому штурмовику.
– Я рад, что мы нашли общий язык, – сказал Эдингер. – Потому что ваш выживший из ума Черчилль ничего не понимает в политике…
Он вылил на голову Черчилля такой поток ругательств, который, по-моему, не мог бы понравиться даже противнику Черчилля, будь тот английским офицером, однако я дисциплинированно молчал, и это понравилось Эдингеру.
– Вы не пожалеете о сегодняшнем дне! – патетически воскликнул Эдингер. – Германия позаботится о будущем Великобритании.
Может показаться, что, изображая Эдингера, я рисую его слишком ходульным, слишком напыщенным, не таким, какими бывают люди в обыденной жизни, но я хочу здесь подчеркнуть, что Эдингер был именно таким.
Затем он сразу перевел разговор на рельсы сугубого практицизма.
– Я хочу вас обрадовать, капитан Блейк, – произнес он со снисходительной улыбкой. – Как только вы передадите нам свои дела в Риге, мы перебросим вас в Лондон. У нас есть соответствующие возможности. Вы сделаете вид, что вам грозил арест и вы бежали. Вы начнете работать на нас в Англии.
– Но я не собираюсь в Лондон, – сказал я. – Мне полезнее находиться здесь.
– Не хотите рисковать? – иронически спросил Эдингер. – Спокойнее оставаться с победителями?
– Думаю, что здесь я буду полезнее, – уклончиво ответил я. – На мое место пришлют кого-нибудь другого, и еще неизвестно, захочет ли он сотрудничать с вами.
– Хорошо, – великодушно сказал Эдингер. – Мы вернемся к этой проблеме, когда получим доказательства вашей лояльности.
– Каких доказательств вы хотите? – настороженно спросил я. – Я уже обещал свое сотрудничество…
– Вот мы и хотим доказательств этого сотрудничества! – воскликнул Эдингер. – Связи и агентура, агентура и связи – вот что нужно от вас! Только это можем мы принять от вас в уплату за вашу жизнь и наше доверие.
И здесь я совершил ошибку, посчитав Эдингера глупее, чем был он на самом деле: я пообещал познакомить гестапо со всеми своими агентами, имея в виду своих девиц, тем более что немцы имели о них, как я безошибочно предполагал, очень хорошее представление.
– Когда? – строго спросил Эдингер. – Когда мы получим вашу сеть?
Я мог составить список своих девиц за полчаса, но решил придать этой работе солидный характер.
– Я дам список своих агентов… через три… нет, скажем, через четыре дня.
– Хорошо, я буду ждать, – серьезно сказал Эдингер. – С этого дня двери моего дома открыты для вас. Сегодня двенадцатое… Тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого… шестнадцатого я жду вас у себя.
Эдингер нажал кнопку звонка.
– Мюллера с документами, – приказал он появившемуся и тут же исчезнувшему адъютанту.
Затем Эдингер загадочно посмотрел на меня.
– Я хочу показать вам, что значит работать в германской разведке, – внушительно сказал он. – Нет людей великодушнее немцев!
Мюллер не замедлил появиться.
Это был весьма солидный господин, с белесыми волосами, напомаженными бриллиантином, в роговых золотистых очках и в черном мундире, плотно облегавшем его упитанную фигуру и еле сходившемся на выпиравшем животе.
– Господин Мюллер, наш главный кассир, – представил его Эдингер.
Господина Мюллера сопровождал еще какой-то чиновник, но его господин Эдингер не нашел нужным представлять.
– Вы принесли? – осведомился Эдингер, ласково взглянув на Мюллера.
– О да, господин обергруппенфюрер, – почтительно ответил Мюллер. – Все, как было указано.
– Мы хотим выплатить вам некоторую сумму, – сказал Эдингер, посматривая то на меня, то на Мюллера. – Мы умеем ценить людей, господин Блейк!
Я сделал какое-то движение, которое Эдингер истолковал в двойном смысле.
– Не смущайтесь, господин Блейк, мы верим, что вы оправдаете вложенные в вас средства, – убежденно произнес он. – И не смущайтесь, что я так открыто называю вас перед господином Мюллером. Тот, кто платит деньги, должен знать, кому он их платит.
Господин Мюллер раскрыл принесенную с собой папку и подал мне деньги – тут были и рейхсмарки, и фунты стерлингов.
– Мы даем вам и марки, и фунты, – пояснил Эдингер. – Марки на текущие расходы, фунты в копилку.
Мюллер подобострастно рассмеялся.
По-видимому, отказываться от этих денег не следовало.
Я взял бумажки и со светской небрежностью, свойственной, как мне думалось, английскому аристократу, не считая, сунул их в карман.
– Нет-нет, так не годится, – строго поправил меня Эдингер. – Прошу вас пересчитать деньги, обязательно пересчитать, и, увы, написать расписку: денежные расчеты требуют самого неуклонного педантизма.
Чиновник, пришедший с Мюллером, засуетился, пододвинул ко мне лампу, указал на стол.
Мне пришлось подчиниться, я достал деньги, пересчитал, написал расписку, передал Мюллеру.
– Все готово? – спросил Эдингер, но почему-то не Мюллера, а его спутника.
– О да! – сказал тот, и Эдингер кивком отпустил обоих своих чиновников.
Затем он встал…
Я полагал, что со мною все закончено, но оказалось, что Эдингер не мог отказать себе в удовольствии еще раз выступить передо мной в своем репертуаре.
На прощание он произнес целую речь: «Раса господ, германский дух, карающий меч…»
Это надо было послушать!
«Новая империи должна следовать путями, проторенными рыцарями Тевтонского ордена. Германский плуг вонзится в русскую землю при помощи германского меча. Даже самый плохой германский рабочий в биологическом отношении и с расовой точки зрения в тысячу раз лучше русских, поляков, латышей и прочего сброда. Все они будут использованы для победы германского оружия. Местное население должно работать, работать и работать. Не обязательно его кормить. Оно вообще годно только на удобрение. В борьбе с большевизмом неуместны рыцарство и военная честь. Более сильная раса вытеснит более слабые и сломает нелепые барьеры гуманности. Карающим мечом уничтожим мы силы, пытающиеся воспрепятствовать нашему движению, будь то сегодня, через десять лет или через столетие…»
Это был набор фраз из Гитлера, Гиммлера и Розенберга.
Эдингер декламировал передо мной так, точно находился на многолюдном митинге…
На следующий день появился, как и было условлено, Железнов.
На этот раз он пришел с черного хода.
– Вас спрашивает человек, с которым вы на днях куда-то ездили, – сообщила Марта.
Железнов явился с документами на имя Виктора Петровича Чарушина. Это были отличные документы, возможно, даже подлинные, все опознавательные данные Чарушина соответствовали внешним приметам Железнова.
Я позвал Марту и сообщил, что нанял шофера: меня интересовало, как она к этому отнесется.
– Ночевать он будет у нас, – распорядился я. – Стелить постель будете ему в коридоре.
Коридор мы с Железновым избрали для ночевки потому, что тогда в его распоряжении находились бы оба выхода из квартиры.
Марта не отличалась общительностью, но к появлению нового жильца отнеслась довольно благосклонно.
– Слушаюсь, господин Берзинь, – сказала она. – Для господина Чарушина мы вынесем из гостиной маленький диванчик, если вы разрешите.
– Он вас не стеснит? – полюбопытствовал я.
– Напротив, господин Берзинь, – сказала она. – Мне приятно ухаживать за таким симпатичным человеком…
Она ушла, а я вопросительно посмотрел на Железнова.
– Как это вам удалось завоевать ее сердце?
– Она кое о чем догадывается, – признался Железнов. – Марта самая обыкновенная женщина, но она сильно пострадала от фашистов. Многие ее родственники отправлены в Германию, а один из братьев повешен. Марту хорошо знают товарищи ее брата, и это они посоветовали справиться у нее о вашем поведении. Она отзывается о вас неплохо, говорит, что вы порядочный человек. Ей понравилось, что вы не стали амурничать ни с Янковской, ни с кем-либо из прочих ваших посетительниц. А когда мы условились о поездке за город, она должна была предупредить меня на случай возможной засады.
Железнов открывал мне глаза на Марту с такой стороны, с какой я ее еще не видел.
А я – то подозревал, что она приставлена ко мне немцами.
Еще больше меня интересовало, как отнесется к появлению Железнова Янковская.
Она приехала под вечер, прошла в столовую, села у стола, закурила.
– Вас можно поздравить, – сказала она, – Эдингер доволен вами.
– А вы уже осведомлены об этом? – спросил я.
– Я обо всем осведомлена, – сказала она. – Особенно, если это в какой-то степени касается меня.
– У меня тоже есть для вас новость, – сообщил я. – Я нанял себе шофера.
– Для чего? – резко сказала она. – Это лишнее!
– Не могу же я постоянно злоупотреблять вашей любезностью, – спокойно возразил я. – Кроме того, он уже здесь.
– А кто он такой? – поинтересовалась Янковская.
– Русский эмигрант из Таллина, – объяснил я. – Виктор Петрович Чарушин.
– Ах Август! Август! – укоризненно заметила Янковская. – Вас еще легко обвести вокруг пальца.
Я, разумеется, не согласился.
– Вы преувеличиваете мою наивность.
– Документы его вы по крайней мере видели? – осведомилась Янковская. – Вы можете их мне показать?
– Разумеется, – сказал я и принес документы из кабинета.
Она внимательно их пересмотрела.
– К сожалению, ни к чему нельзя придраться, – недовольно сказала она.
– Почему «к сожалению»? – удивленно спросил я.
– Потому что всегда лучше, чтобы документы были чуточку не в порядке, – заметила она, поджимая губы. – У людей, которые выдают себя не за тех, кем они являются в действительности, всегда бывают слишком хорошие документы.
Мы помолчали.
– Может быть, он подослан немцами? – высказала она предположение. – Хотя с таким же успехом может оказаться и русским партизаном. Не исключено даже, что вы сами предложили ему убежище. – Она прищурила свои хитрые глаза. – Смотрите, Август, не вздумайте вести двойную игру, – предупредила она меня. – Во второй раз я уже не промахнусь.
– У вас слишком развита профессиональная недоверчивость, – развязно сказал я. – Я во всем следую вашим советам, а что касается шофера, по-моему, этот шофер всего-навсего только шофер.
– Он здесь? – спросила Янковская.
Я нажал звонок, вызвал Марту.
– Если Виктор здесь, пригласите его, – сказал я.
Железнов немедленно появился в столовой, очень вежливый, спокойный, независимый.
Янковская долго, чересчур долго рассматривала Железнова, но он не проявил никакого нетерпения.
– Как ваша настоящая фамилия? – внезапно спросила она.
– Чарушин, – невозмутимо ответил Железнов.
– Откуда вы сюда попали?
– Из Таллина, – все так же безмятежно ответил он.
Он говорил по-русски, но в его голосе звучало что-то чужеземное: у него были актерские способности.
– Мне не нравятся ваши документы, – сказала она.
Железнов только пожал плечами. Она отпустила его.
– Мне он и сам не нравится, – сказала она, когда Железнов вышел. – Фальшивые люди умеют казаться симпатичными.
– На его счет у меня другие соображения, – сказал я. – Вы заметили, как он говорит по-русски? По-английски он говорит гораздо лучше, без какого бы то ни было акцента.
Янковская упрямо покачала головой.
– Если бы Интеллидженс сервис понадобилось, чтобы он был русским, он бы не акцентировал, – уверенно возразила она. – Кстати, вы сами неплохо говорите по-английски.
Она ушла и не показывалась два дня, она сердилась на меня за проявленную мною самостоятельность и хотела дать мне это почувствовать.
Шестнадцатого днем ко мне заехал какой-то гауптштурмфюрер.
– Господин обергруппенфюрер просил напомнить, что он ждет вас сегодня вечером у себя, – с изысканной вежливостью предупредил меня посланец.
Я тут же взял свою телефонную книжку и за полчаса выписал для Эдингера имена всех сотрудниц покойного Блейка.
Вечером Железнов отвез меня к Эдингеру.
Начальник гестапо занимал просторный особняк.
В подъезде дома дежурил эсэсовец, дверь открыл мне тоже эсэсовец.
Навстречу вышел сам Эдингер и ввел меня в гостиную.
Просторная комната казалась удивительно тесной – так она была заставлена мебелью. Тут были и столы, и столики, и этажерки, всякие горки и полочки, стулья, кресла, пуфы, везде было полно всякой посуды, хрусталя и фарфора, ваз и статуэток; все эти предметы были, несомненно, накрадены здесь же, в Риге, или, как выражались сами немцы, реквизированы.
Но если мебель, посуда и безделушки были позаимствованы Эдингером в Риге, то великое множество салфеточек, накидочек и дорожек, по всей вероятности, были привезены из Дортмунда, где жил Эдингер до начала своей политической карьеры.
Вышитые гладью красные и коричневые буквы старомодного готического шрифта сплетались в назидательные надписи и украшали диван, стены и этажерки: «У того хороший дом, кто все добыл своим трудом», «Того, кем труд не позабыт, господь всегда вознаградит», «Если женушка верна, то спокойно спит она»…
На диване, загораживая широкой спиной одну из таких надписей, сидела та самая дама, которую я видел вместе с Эдингером у профессора Гренера.
Эдингер подвел меня к ней.
– Позволь, Лотта, представить тебе… – он на секунду задумался: – Пока что господина Августа Берзиня. Вероятно, ты его помнишь, он бывает у доктора Гренера.
Она церемонно поздоровалась и устремила свой тусклый взгляд на круглый столик перед искусственным камином, явно привезенным сюда тоже из какого-то другого помещения.
Столик был сервирован для кофе. На нем стояли крохотные кофейные чашечки, рюмки, вишневый ликер, печенье и бисквитный пирог. Перед столиком стояли обитые золотистым шелком низкие пуфы; и столик, и пуфы освещал торшер с тусклым желтовато-бежевым абажуром, украшенным каким-то неясным синеватым рисунком.
– Пригласи господина Берзиня выпить чашку кофе, – отдал Эдингер команду своей супруге.
Она смущенно улыбнулась:
– Господин Берзинь…
Мы сели за стол, эсэсовец, открывший мне наружную дверь и исполнявший здесь обязанности горничной, принес дымящийся кофейник, госпожа Эдингер разлила по чашкам кофе, а сам хозяин налил мне и себе ликеру.
– Прозит!
Эдингер бросил на жену снисходительный взгляд.
– Что же ты не похвастаешься, Лотта? – сказал он. – Похвались перед господином Берзинем своей обновкой!
Лотта немедленно перевела свой взгляд на абажур.
– Так трудно угнаться за модой, – послушно сказала она. – Я с большим трудом достала этот абажур.
Я мельком посмотрел на торшер, абажур не привлек моего внимания, но госпожа Эдингер, кажется, сочла, что я разделяю ее восхищение.
– Если бы вы знали, чего он мне стоил! – продолжала она. – Такие абажуры хотят иметь все! Взамен мне пришлось отдать свой лучший чайный сервиз, вывезенный Генрихом еще из Франции…
Госпожа Эдингер вела обычный салонный разговор, которому я не придавал значения… От второй чашки я отказался.
– Я не пью много кофе на ночь, господин обергруппенфюрер.
– В таком случае займемся делами, – сказал Эдингер и кивнул жене. – Лотта, ты можешь идти спать.
Мы раскланялись.
– Давайте, господин Блейк, вашу сеть, – нетерпеливо произнес Эдингер, когда мы остались вдвоем. – Удовлетворите мое нетерпение.
Я подал свой список.
Он цепко схватил листок, просмотрел его, и я увидел, как багровеет его лицо и шевелятся его усики.
– Что это? – спросил он меня зловещим шепотом. – Что это такое?
– Моя агентура, – небрежно, но не без гордости объяснил я. – Мною охвачены все кафе, многие магазины и парикмахерские. Здесь указано, где кто работает…
Но Эдингер не слушал меня.
– Вы смеетесь надо мной? – прохрипел он. – На что мне нужны ваши девки? – Впрочем, он выразился хуже. – Мы их давно знаем! Они обслуживают и вас, и нас, и всех, кто только этого пожелает! Вы считаете меня идиотом? Мне нужна настоящая агентура!
По-видимому, он говорил о той самой агентуре, которую имел в виду Пронин, но я – то, увы, не знал никого, кроме этих девушек!
– Господин обергруппенфюрер… – сказал я, понимая, что переборщил.
– Не валяйте со мной дурака! – закричал Эдингер. – Вы прячете свою агентуру, свою рацию, пытаетесь обвести нас вокруг пальца и воображаете, что это вам удастся! Капитан Блейк! Или вы разоружитесь, или мы сделаем абажур из вашей собственной кожи!
В этот момент я его не понял, я думал, что это просто гипербола.
Он впал в неистовство…
Нужно было, как говорится, перестроиться на ходу; следовало осторожно спустить Эдингера на тормозах.
– Господин обергруппенфюрер, не стоит меня пугать, – произнес я с чувством собственного достоинства. – Все-таки я британский офицер, а британский офицер боится лишь бога и своего короля…
Эдингер на минуту замолчал, выпучил на меня свои оловянные глаза и неожиданно разразился смехом.
– Интересно, что скажет ваш король, когда увидит это!
Он торопливо полез в карман своего френча и выбросил на стол несколько фотографий. Несомненно, они заранее были приготовлены для меня.
– Любуйтесь! – хрипло выкрикнул он. – Это будет отличным сюрпризом для короля!
Я взял эти фотографии в руки. Собственно говоря, это была одна фотография. На ней был снят я собственной своей персоной, я сидел у стола Эдингера и пересчитывал полученные мною банкноты, позади меня виднелся Эдингер, и не требовалось большого труда, чтобы разобраться в смысле этого снимка. Самый настоящий уличающий документ, который мог скомпрометировать кого угодно…
Теперь мне стало понятно присутствие чиновника, сопровождавшего щедрого господина Мюллера! Будь снят подлинный капитан Блейк и получи Интеллидженс сервис такой снимок, карьера Блейка быстро закончилась бы!
– Что еще нужно для того, чтобы держать вас в руках? – вызывающе спросил Эдингер.
Было необходимо как-то обезоружить этого господина…
Я задумался, затем понурил голову и, пользуясь самыми мрачными гамлетовскими интонациями, уныло произнес:
– Да, вы победили, господин Эдингер, я у вас в руках. Но я знаю, что теперь делать. Пуля в лоб – это единственное, что остается офицеру в моих обстоятельствах. Надеюсь, вы подарите мне эту ночь для того, чтобы я мог написать письма своим близким…
И, представьте себе, мой трагический тон подействовал на этого гестаповца!
Эдингер испугался, что я покончу с собой, сразу увял, переборол себя и еще раз показал, как важно было немцам заполучить агентурную сеть английской секретной службы.
– Хорошо, господин Блейк, – сказал Эдингер, понижая голос. – На этот раз я прощаю вам вашу шутку. Но помните, второй раз подшутить над собой я не позволю. Если вы хотите любоваться луной, покажите мне свои звезды.
– Вы их увидите, господин обергруппенфюрер, – меланхолично произнес я. – Но вы должны понимать, что агентов, которых вы хотите иметь, нельзя просто перечислить из одного ведомства в другое, их надо подготовить и предупредить, если вы хотите иметь от них какую-либо пользу. Одно дело – хористы, и совсем другое – солисты, имеющие каждый свою неповторимую индивидуальность. Никто не может продать меня, кроме меня самого!
– Ну хорошо, Блейк, хорошо, – сказал Эдингер, уже окончательно смягчаясь. – Мы верим вам и подождем, но только бросьте свою английскую фанаберию и не считайте нас детьми.
Эдингер отступал, и я мог сейчас что-нибудь от него потребовать.
– Наоборот, господин обергруппенфюрер, я буду вполне откровенен, – с готовностью произнес я. – Я даже буду просить вас о помощи. Я знаком не со всеми своими агентами, некоторые из них перешли ко мне еще от моего предшественника. Мне нужно лично проверить всю сеть, предстоят поездки, нужен подходящий шофер…
Эдингер благосклонно улыбнулся.
– Мы найдем вам…
– О нет, благодарю вас, – поспешил я отказаться от его любезности. – Шофер у меня есть, нужно только ваше указание оформить без лишних придирок необходимые документы.
– А кто он? – поинтересовался Эдингер.
– Эмигрант из Эстонии, – сказал я. – Некто Виктор Петрович Чарушин.
– Русский? – подозрительно спросил Эдингер.
– Я вам скажу правду, – сказал я с таким видом, точно Эдингер принудил меня к признанию. – Это как раз один из тех агентов, которыми вы интересуетесь, он работал у нас по связи и принесет немало пользы, если будет находиться при мне.
– Англичанин? – быстро спросил Эдингер.
– Да, он англичанин, – подтвердил я. – Но я не хотел бы…
– О да, я вас понимаю, – благосклонно согласился Эдингер. – В таком случае я могу пойти вам навстречу…
Он пообещал на следующий же день дать распоряжение без всяких проволочек оформить для моего шофера документы, и мы расстались, вполне довольные друг другом.
На другой день я рассказал Янковской о своем визите.
Она интересовалась моим посещением Эдингеров во всех подробностях, и я, делясь с ней своими впечатлениями, с шутливой иронией отозвался между прочим и о показной роскоши хозяев, и о самой госпоже Эдингер.
– Мещанство в самой махровой его разновидности!
– Как сказать! – зло возразила Янковская. – Чего стоит один их абажур!
– А что в нем особенного? – спросил я с недоумением. – По-моему, абажур как абажур, хотя, действительно, госпожа Эдингер очень им хвасталась!
– Да ведь он из человеческой кожи! – воскликнула Янковская. – Их изготовляют в каком-то из концлагерей, и за ними сейчас в Германии гоняются все модницы из самого лучшего общества!
Я не сразу поверил…
– Да-да! – выразительно сказала Янковская. – А если попадается кожа с татуировкой, бюварам и абажурам нет цены!
Вот когда я вполне понял, что представляют собой эти супруги…
Шакалы! Самые настоящие шакалы!
Но Янковская тут же забыла об абажуре и перешла к обычным делам.
Согласие Эдингера выдать Чарушину документы ей явно не понравилось, она, кажется, снова начала подозревать, не подослан ли он самим Эдингером; его брань по адресу девушек вызвала у нее только усмешку, а требование Эдингера демаскировать агентурную сеть Интеллидженс сервис заставило серьезно задуматься.
– Эдингер повторяет ту же ошибку, которую совершил Блейк, он хочет владеть тем, что предназначено совсем не для него, – задумчиво сказала она. – Что ж, он сам лезет в петлю, которую не так уж трудно затянуть.
10. «Правь, Британия!»
На первый взгляд, жизнь в городе шла своим чередом: жители ходили на работу, прохожие заполняли улицы, торговали по-прежнему магазины…
И все же Рига, казалось, существовала только для немцев: лишь они непринужденно расхаживали по улицам, сидели в ресторанах и кафе, громко смеялись и разговаривали на всех углах.
Тем временем в городе шла и другая, странная и страшная жизнь. Молодых латышей насильно отправляли в Германию. Транспорт за транспортом с девушками и подростками уходил из Латвии. В застенках гестапо казнили всех, кого подозревали в симпатиях к коммунистам. Евреев убивали и сжигали в газовых камерах. Десятки тысяч евреев были замучены, казнены, сожжены, а их продолжали ловить и «обезвреживать». Коммунисты были уничтожены все до одного – об этом не раз писалось в приказах и листовках. Но коммунисты появлялись вновь и вновь, точно они были бессмертны. Заводы не давали продукции. Поезда с немецкими солдатами шли под откос. Распространялись подпольные газеты. Самолеты взрывались на аэродромах.
Рига жила двойной жизнью: одна была наружная, показная, сравнительно благополучная; другая была наполнена непрекращающейся борьбой, смертью, отчаянием и надеждой.
Но самым непостижимым в этой двойственной Риге было для меня мое собственное существование.
Впервые за все свои тридцать лет я вел образ жизни ничего не делающего рантье.
Железнов, который находился рядом со мной, был поглощен бурной и опасной деятельностью. Он исчезал по ночам и не появлялся по нескольку дней, делал множество дел и при всем этом успевал играть роль моего шофера.
В сложном механизме, каким являлось организованное антифашистское подполье, он был одним из тех, кто очень способствовал слаженной работе всего подполья.
Не знаю, было ли это врожденной способностью или у него постепенно выработались профессиональные навыки, но конспиратором Железнов был необыкновенным!
Он ускользал от гестаповских ищеек с удивительной ловкостью. Не скажу, что гестапо держало меня и мою квартиру под неослабным надзором, но интерес ко мне со стороны полиции, разумеется, не ослабевал никогда. Тем не менее Железнову удавалось создавать у нее впечатление, что он всецело поглощен лишь специфическими делами английского резидента Блейка.
О том, что делал Пронин, я говорить не берусь. Но если Железнов изо дня в день участвовал в делах, требовавших от него исключительной смелости и ловкости, Пронин, я думаю, делал еще больше.
А я в это время неторопливо вставал по утрам, пил кофе, встречался с Янковской, фланировал по улицам…
Я старался поменьше привлекать к себе внимания, боялся выдать себя, и мне казалось, что я совсем не гожусь в актеры.
Иногда мы с Янковской ездили в гости ко всяким негодяям, которых давно пора было расстрелять. Время от времени я принимал своих девушек, снабжавших меня недорогой информацией. Впрочем, девушки отсеивались, они заходили все реже и реже, я не проявлял большого интереса ни к их сообщениям, ни к ним самим…
Да, такова была внешняя сторона жизни, и если бы рядом не находился Железнов, если бы я не сознавал, что где-то поблизости находится Пронин, если бы мне не была ясна вся шаткость и зыбкость собственного моего положения, я бы мог вообразить себя персонажем какого-нибудь мещанского романа, перенесенным волею автора в прошлый век…
За этот год я крепко подружился с Железновым, стал называть его Виктором, а он меня Андреем; мы были погодки, и в главных своих направлениях жизнь наша текла одинаково.
Сын питерского рабочего, погибшего на фронте в бою против Юденича, Виктор Железнов еще подростком познакомился с Прониным. После гибели отца тот как бы взял над мальчиком шефство. Виктор учился, очень много учился, – на этот счет Пронин был суров. Получив образование, Виктор, всегда чуточку влюбленный в своего опекуна, пошел на работу в органы государственной безопасности, и в ранней юности, и в последующие годы Пронин во всем был для него примером.
Меня интересовала история появления Пронина в Риге, и Железнов, хоть и не очень подробно, рассказал мне об этом.
Когда командование решило заслать Пронина в тыл к гитлеровцам, план переброски вырабатывал он сам.
В часть он прибыл под фамилией Гашке; о том, кто это на самом деле, знали только командир, комиссар полка да командир роты, в которую был назначен Гашке. Пронин ждал подходящего случая. Таким он посчитал день, когда осколком снаряда был убит начальник штаба полка. Так как на эти же дни был намечен отход группы наших войск на новые позиции, Пронин получил приказы, которые через два дня должны были устареть, хорошенько запомнил дислокацию войск, которая через два дня должна была измениться, и собрался в путь.
Проводить «перебежчика» прибыл начальник разведотдела армии.
На тот случай, если бы у немцев оказался на нашей стороне какой-нибудь осведомитель, в целях полной дезинформации был пущен слух, что Гашке проник в штаб полка, убил начальника штаба и похитил секретные документы.
Выждав, когда в постоянной перестрелке между противными сторонами наступало недолгое затишье, начальник разведотдела и Пронин вышли на линию расположения роты.
Они стали за кустами жимолости. Пронин в последний раз измерил глазами расстояние, которое ему предстояло прибежать, пожал своему провожатому руку – в его лице он прощался со всем тем, ради чего шел рисковать своей жизнью, – шагнул было из-за кустов, и в этот миг немцы снова открыли стрельбу.
Нет, не по перебежчику, его они не успели еще увидеть, и, однако, один из выстрелов поразил Пронина.
Он покачнулся и прислонился к ветвям жимолости, которые не могли служить никакой опорой.
– Вы ранены? – тревожно воскликнул начальник разведотдела, хотя это было очевидно без слов.
– Кажется, – сказал Пронин. – Где-то под ключицей…
– Ну, в таком разе пошли в госпиталь, – предложил начальник разведотдела. – Операция отменяется.
– Ни в коем случае! – возразил Пронин. – Надо идти.
– А как же рана? – спросил начальник разведотдела.
– А может, она и послужит мне лучшей рекомендацией, – сказал Пронин. – Вы сами видите, обстановка не для госпиталя!
– Не советую, товарищ Пронин, – сказал начальник разведотдела. – Может, еще и кость задета…
– Ничего, сегодня командую я, разведчик должен уметь пользоваться обстоятельствами, рискну, – сказал Пронин. – Кланяйтесь там…
Он поморщился, отстранил от себя ветку с багровыми волчьими ягодами, рванулся и побежал в сторону противника.
С нашей стороны по перебежчику, разумеется, открыли стрельбу; стреляли, как это заранее было приказано, холостыми патронами, хотя для Пронина риск все равно был большой: и с той и с другой стороны кто-нибудь всегда мог пустить настоящую пулю.
Немцы сразу поняли, кто к ним устремился, и прекратили обстрел.
Остальное было понятно. Пронину удалось осуществить свой замысел. Он упал перед самыми позициями немцев, обессиленный, истекающий кровью, счастливый, что добежал до «своих»…
В нем погиб талантливый актер, в этом я убедился, наблюдая его в госпитале.
С самим Прониным за всю зиму я встретился всего лишь один раз, да и это свидание навряд ли состоялось бы, если бы Эдингер не поставил меня, что называется, в безвыходное положение.
Да, Эдингер становился все настойчивее, все чаще и чаще требовал он от меня реальных доказательств моего сотрудничества с немцами. От меня ждали многого и поэтому относились ко мне с известной снисходительностью, но в конце концов я должен был предъявить свою агентурную сеть и свои средства связи, именно это и должно было быть моим вкладом в фирму, именовавшуюся «Германский рейх».
Как и ожидалось, Эдингер припер меня к стене.
– Милейший Блейк, вы злоупотребляете нашей снисходительностью, – сказал он, пригласив меня как-то к себе. – Но больше мы не намерены ждать. Мы понимаем, что вашу агентуру надо подготовить для новых задач, серьезных агентов не перебрасывают из рук в руки, точно мячик, но ваши связи с Лондоном мы хотим теперь же взять под свой контроль. Я желаю, чтобы вы предъявили нам свою рацию. В среду, или, скажем, в четверг вы дадите нам это доказательство своего сотрудничества, или мне придется переправить вас в Берлин…
Вечером я сообщил об этом требовании Железнову.
– На этот раз господин обергруппенфюрер от вас, пожалуй, не отвяжется, – сказал Виктор. – Доложу начальству, что-нибудь да придумаем.
На следующий день Виктор передал, что Пронин хочет со мной встретиться и назначает свидание в кинотеатре «Сплендид».
Я пришел в назначенный день на последний сеанс (в это время всегда бывало мало публики: для хождения по городу после десяти часов требовались специальные пропуска), взял билет – двадцатый ряд, справа, – и ряд и сторона были названы заранее. Зал погрузился в темноту, сеанс начался; минут через двадцать кто-то ко мне подсел.
– Добрый вечер, – тихо сказал Пронин. Он крепко пожал мою руку. – Ну, что случилось? Какую еще там рацию требует от вас Эдингер?
Я повторил все, о чем уже рассказывал Железнову, и со всей возможной точностью изложил свой разговор с Эдингером.
– Н-да, – задумчиво протянул Пронин, выслушав мой рассказ. – Предлог для отлучки придуман неплохо, но нетрудно было предвидеть, что немцы заинтересуются рацией…
Судя по его тону, мне показалось, что Пронин укоризненно покачал головой, хотя я и не видел его в темноте.
– Однако вам нельзя выходить из игры, придется бросить им эту подачку, – проговорил он. – Надо тянуть с немцами как можно дольше и ждать, ждать…
– Чего? – спросил я, подавляя возникающее раздражение. – Не кажется ли вам, что я напрасно провожу время? Вокруг меня все бурлит, я чувствую, какой интенсивной жизнью живет Железнов, в то время как меня держат в состоянии какого-то анабиоза.
– Не тревожьтесь, анабиоз скоро кончится… Спрашиваете, чего ждать? Видите ли, терпение – одна из главных добродетелей разведчика, хотя терпеть бывает иногда ох как трудно! Это только в кино да в романах разведчики непременно участвуют в приключениях, на самом деле они иногда годами выжидают, пока узнают какую-нибудь тайну.
– Но так можно ждать, ждать и ничего не дождаться, – возразил я.
– Да, можно и не дождаться, – немедленно согласился Пронин. – Но это уже не ваша забота. Вам приказано ждать, и ваше дело – ждать. Будьте Блей ком. Как можно лучше играйте роль Блейка. Проникните в его подноготную, изучите каждую книжку, каждую бумажку, каждую половицу в его квартире. Будьте Блейком и ждите. Это все, что я могу вам сказать. В один прекрасный день жизнь раскроет нам тайну Блейка. Это могло бы показаться случайностью, если бы мы не ждали этого случая в течение трехсот шестидесяти четырех дней. И возможно, в один из этих дней его агентура окажется в наших руках.
Он еще раз пожал мне руку.
– Так вот… – Даже здесь, в темноте, в отдалении от других зрителей, он не называл меня по имени. – Возвращайтесь – и побольше выдержки. Вы сами понимаете, что находитесь на острие ножа. Но приходится балансировать. Слишком велик выигрыш, чтобы стоило отказаться от борьбы. Наберитесь терпения, что-нибудь придумаем. Завтра Железнов передаст вам команду. Спокойной ночи!
Он отодвинулся и исчез в темноте так же, как расплывались передо мной на экране кадры какого-то детективного фильма.
Странное дело, хотя я в течение всей зимы совершенно не видел Пронина, если не считать этой пятиминутной встречи, у меня все время было ощущение, точно он находится где-то поблизости от меня. Впрочем, так оно и было в действительности; ощущение того, что в случае нужды, в исключительных обстоятельствах я всегда могу обратиться к нему за советом и получить от него помощь, делало меня самого более уверенным и решительным.
На другой день Железнов велел мне сказать Эдингеру, что рацию тот получит; от меня требовалось только оттянуть встречу с Эдингером на неделю.
Я так и поступил.
– Господин обергруппенфюрер, вы получите то, что хотите иметь, – сказал я ему по телефону. – Но я не могу сейчас покинуть Ригу, я прошу отложить нашу поездку на неделю.
– Хорошо, господин Берзинь, пусть будет по-вашему! – угрожающе ответил Эдингер. – Но помните, мое терпение истощается, больше вы не получите отсрочки ни на один день.
Я передал ответ Эдингера Железнову, и тот удовлетворенно вздохнул.
– Не беспокойтесь, Пронин не подведет!
И действительно, через четыре дня после моего свидания с Прониным Виктор подошел ко мне и сказал:
– Все в порядке, рацию можно предъявить. В воскресенье осмотрим ее сами, а в среду свезете Эдингера.
В воскресенье мы поехали на взморье.
Был серенький день, в небе клубились сизые тучи, с моря подувал неприятный холодный ветерок.
Мы ехали по невеселой, заснеженной дороге, мимо необитаемых дач, хозяева которых были разметены ветром войны в разные стороны.
– Кажется, за мной снова установлена слежка, – высказал я Железнову свое предположение. – Эдингер вот-вот готов сорваться.
– Вы не ошибаетесь, хотя он никогда не обходил вас. своим вниманием, – согласился Железнов. – Он боится, как бы вы вообще не замели следов к своей рации.
– Значит, за нами следят? – спросил я.
– Разумеется, – подтвердил Железнов. – Ну и пускай. Доставим немцам удовольствие перехитрить английского разведчика.
Перед одной из самых унылых и невзрачных дач Железнов остановился.
Вдалеке на дороге маячила неподвижная фигура какого-то долговязого субъекта.
Железнов, не обращая на него внимания, распахнул незапертую калитку.
– Входите и запоминайте все, запоминайте каждую мелочь, запоминайте как можно внимательнее! – предупредил он меня. – Эдингер должен сразу почувствовать, что все здесь для вас привычно.
Мы подошли к веранде, Железнов достал из кармана ключи, отпер наружную дверь, потом дверь, ведущую с веранды в дом. Внутри дача казалась не такой уж заброшенной: простая мебель аккуратно стояла по местам, словно комнаты были покинуты своими жильцами совсем недавно.
Из кухни спустились в погреб. Железнов повернул выключатель, вспыхнула электрическая лампочка, он отодвинул от стены большую бочку, обнаружилась дверка, ведущая в соседнее помещение.
Мы проникли туда, и на большом ящике, сколоченном из толстых досок, я увидел радиопередатчик.
– А антенна? – поинтересовался я.
– Видели петуха над входом? – в свою очередь спросил меня Железнов. – Его хохолок из металлических прутьев, торчащих в разные стороны?
– Слабая маскировка, – заметил я. – Как же это немцы не обнаружили ее до сих пор?
– Они и не могли обнаружить, – объяснил Железнов. – Этот петух сидит на крыше всего второй день.
– Так ведь немцы это тоже заметят?
– Петуха заметили бы, но пустые крыши не запоминаются, – пояснил Железнов. – Эдингер, конечно, упрекнет своих сотрудников в ротозействе… – Он кивнул на рацию. – Умеете на ней работать?
– Более или менее, – признался я. – Любительски.
– Достаточно, – сказал Железнов. – Можете сообщить своему шефу, что с вами говорят дважды в месяц, каждое четырнадцатое и двадцать восьмое число, от четырнадцати до пятнадцати, на волне одиннадцать и шесть десятых. Ваши позывные: «Правь, Британия!» – и в ответ продолжение. Знаете гимн англичан? «Британия, правь над волнами!» Иван Николаевич сказал: не надо оригинальничать, чем проще, тем достовернее. И не вздумайте сказать, что вы непосредственно связываетесь с Лондоном, вы говорите с резидентом Интеллидженс сервис, находящимся в Стокгольме.
– Но ведь от меня потребуют код? – спросил я.
– Будет и код, – согласился Железнов. – За три дня вам придется основательно его выучить.
Уходя, Железнов извлек из кармана небольшой пульверизатор и распылил перед дверьми какой-то порошок.
– Зачем это? – удивился я.
– Пыль, цемент, – объяснил Железнов. – Вернувшись сюда, вы сразу узнаете, был ли здесь кто-нибудь после нас.
Мы вышли. Ничто не нарушало унылого спокойствия зимнего дня в опустелом дачном поселке. Только долговязый субъект переместился поближе к нашей даче.
Мы сели в машину, и Железнов с пренебрежительным равнодушием поехал прямо на незнакомца, заставив его поспешно отскочить в сторону.
На следующий день я позвонил в гестапо.
– Господин обергруппенфюрер, это Берзинь, – назвался я. – Вам угодно прогуляться со мной в среду за город?
– В среду или в четверг? – почему-то переспросил Эдингер.
– Мне кажется, среда более приятна для разговоров, – ответил я.
– Хорошо, пусть будет в среду, – согласился он.
Это был довольно торжественный выезд: впереди два мотоциклиста, затем лимузин Эдингера, в котором находились Эдингер, я и еще двое гестаповцев, как выяснилось в дальнейшем, инженер, специалист по связи, и радист, и, наконец, сзади открытая машина с охраной.
В продолжение всей дороги Эдингер самодовольно молчал, но, подъезжая к даче, внезапно обратился ко мне:
– Не указывайте мне местонахождения своей рации, Блейк…
По всей вероятности, ему очень хотелось поразить меня. Утверждающим жестом он указал на дачу с железным петухом.
– Здесь?
Кажется, я неплохо разыграл свое изумление, потому что у Эдингера вырвался довольный смешок.
– Видите, Блейк, нам все известно, – самодовольно произнес он. – Я лишь хотел проверить, насколько вы правдивы. – Он подошел к калитке и пригласил меня идти вперед. – Показывайте.
Я открыл двери и посмотрел под ноги: не было никаких следов, но и не было пыли; кто-то, кто был здесь после Железнова и меня, подмел пыль, уничтожая свои следы.
Мы прошли в кухню, спустились в погреб, я сдвинул бочку, и мы очутились перед передатчиком.
Я слегка поклонился Эдингеру.
– Прошу вас. – И не преминул слегка его упрекнуть: – А вы еще сомневались во мне!
Эдингер обернулся к инженеру:
– Ознакомьтесь, господин Штраус.
Инженер наклонился, радист подал ему отвертку, он быстро отвинтил какую-то деталь, осмотрел, заглянул еще куда-то. Все это делалось очень быстро, квалифицированно, со всем знанием предмета.
– Да, господин обергруппенфюрер, это английский аппарат, – подтвердил он. – Изготовлен на Острове.
– Тем лучше, – одобрительно сказал Эдингер и обратился ко мне: – Когда вы на нем работаете?
– Дважды в месяц, – объяснил я. – Четырнадцатого и двадцать восьмого, от четырнадцати до пятнадцати, одиннадцать и шесть десятых.
– О, вы совсем молодец! – похвалил меня Эдингер. – Теперь я понимаю, почему среда приятнее четверга. Сегодня четырнадцатое.
Он взглянул на часы, позвал радиста:
– Пауль!
Взглянул на меня:
– Позывные?
– «Rule Britannia!» – сказал я.
– Отзыв?
– «Britannia rules the waves!»
– Отлично, – сказал Эдингер. – Сейчас тринадцать сорок. Благодарю вас, господин Берзинь, за то, что вы выбрали такое подходящее время. Ганс, к аппарату! Слышали позывные… И затем переходите на прием.
Потянулись минуты томительного ожидания.
Ганс работал.
Я, конечно, понимал, что в этот день все было предусмотрено с обеих сторон, но все же облегченно вздохнул, когда заметил, что Ганс услышал ответ…
Эдингер властно указал мне на аппарат:
– Говорите!
Я стал вести разговор с помощью изученного мною кода, разговор от имени Блейка, о каких-то текущих делах, о положении в Риге, о всяких слухах, побранил немцев…
Эдингер и его сотрудники напряженно прислушивались и всматривались в меня.
– Это Лондон? – спросил Эдингер, когда я закончил разговор.
– Нет, Стокгольм, майор Хавергам, – объяснил я. – Резидент нашей службы, через него я связываюсь с Лондоном.
– Молодец, Берзинь! – еще раз похвалил меня Эдингер. – Порядка ради мы попытаемся запеленговать вашего Хавергама, но, я вижу, вы ведете честную игру…
В Риге он потребовал от меня код, и я по памяти написал у него в кабинете большинство условных обозначений, а затем, спустя день, привез ему аккуратно переписанную табличку.
– Отлично, Блейк, – одобрил обергруппенфюрер. – Теперь мы сами будем связываться с вашим Хавергамом, очередь за агентурной сетью. Если она будет того стоить, вы получите железный крест.
«Или пулю в затылок, – подумал я. – Кто знает, захотите ли вы и дальше возиться с Дэвисом Блейком!»
– Эту сеть не так просто подготовить к передаче, – уклончиво сказал я. – Но я постараюсь.
Однако Эдингер был так доволен моим подарком, что я мог еще какое-то время тянуть с передачей агентуры.
Что касается рации, мне больше не пришлось ее видеть; не знаю, что уж там передавали и принимали немцы, но, судя по тому, что Эдингер не высказывал мне никаких претензий, «майор Хавергам» находился на должной высоте. Тогда это меня даже слегка удивляло, и только впоследствии я убедился, что все, что ни делал Пронин, всегда делалось серьезно, основательно и так, чтобы никого и ни в чем нельзя было подвести.
Но, пожалуй, за исключением этого эпизода моя личная жизнь в течение всей зимы текла на редкость монотонно. Я действительно пытался обнаружить тщательно законспирированную агентурную сеть Блейка, и мои усилия не могли ускользнуть от внимания гестапо. Эдингер, считая, что я работаю на него, набрался до поры до времени терпения. Но мне тоже приходилось запастись терпением в ожидании благоприятного стечения обстоятельств, и если бы не вечера, которые я иногда проводил с Железновым, я бы ощущал свое одиночество очень остро.
Что касается времени, проведенного мною в Риге вместе с Виктором, его мне не забыть никогда.
Может быть, именно в Железнове наиболее полно отразилось все то, чем наделило людей наше советское общество: железная воля, непреклонность в достижении поставленной перед собой цели, неумение идти ни на какие компромиссы и в то же время удивительная мягкость души, необыкновенная скромность и пренебрежение своими личными интересами.
По отношению ко мне он был внимателен, деликатен, заботлив, трудно было найти себе лучшего товарища.
Помню, как-то сидели мы с Железновым вечером дома. Янковская только что ушла, поэтому Виктор мог без церемоний попить со мной чаю.
Где-то шли бои, где-то лилась кровь наших братьев, в самой Риге ни на мгновение не прекращалась невидимая ожесточенная борьба с гитлеровцами, но в комнате, где мы находились, все было спокойно, тихо, уютно, все настраивало на мирный лад.
И вдруг Виктор, закинув руки за голову, мечтательно сказал:
– До чего же мне хочется побывать сейчас на партийном собрании, на самом обыкновенном собрании, где обсуждаются самые обыкновенные вопросы!
С каким-то сыновним вниманием относился он к Марте; впрочем, привязался к Марте и я. Она была простой, хорошей женщиной, которая работала и у Блейка, и у других, у кого служила еще до Блейка, просто из-за куска хлеба; всей своей жизнью была она связана с трудовой Ригой, и, так как многие ее близкие пострадали от гитлеровцев, она, догадываясь о том, что и я и Виктор не те, за кого мы себя выдаем, относилась к нам с симпатией и все больше и больше становилась Для нас близким и родным человеком.
Гораздо сложнее складывались мои отношения с Янковской.
Можно сказать, что она относилась ко мне даже неплохо, оберегала меня, подсказывала, как вести себя с немцами, регулировала мои отношения с Эдингером и старалась сблизить с Гренером, – во всяком случае, делала все, чтобы никто не усомнился в том, что я Блейк. Многое, слишком многое связывало ее с этим человеком!
Шпион, резидент английской разведки, Блейк собирал в Прибалтике военную информацию, собирал для того, чтобы в случае возникновения пожара, в случае столкновения Германии с Советским Союзом Великобритания могла бы таскать из огня каштаны…
Свои обязанности он выполнял, должно быть, неплохо, судя по деньгам, которые перешли от него ко мне, но было, по-видимому, еще что-то, что он должен был сделать или делал и почему английская разведка решила законсервировать его в Риге на время войны и почему обхаживала его немецкая разведка; помимо текущей работы, он служил еще, если можно так выразиться, политике дальнего прицела.
И должно быть, слишком выгодна была эта игра, если Янковская после смерти Блейка не хотела из нее выходить. Думаю, что именно поэтому она, с одной стороны, подогревала ко мне интерес нацистов, а с другой – подавляла возникавшее против меня раздражение.
Но думаю также, что Янковская не ограничивалась тем, что играла роль моей помощницы; она, несомненно, была непосредственно связана с немецкой разведкой и выполняла какие-то ее поручения; об этом, несомненно, свидетельствовала ее близость с Гренером.
Это был небезызвестный ученый, книги которого имели хождение за пределами Германии. По своему характеру он был экспериментатором и обладал непомерным честолюбием; ради его удовлетворения, ради внешнего блеска он готов был манипулировать фактами так, чтобы произвести наибольший эффект и поразить современников своей талантливостью. Ученый в нем сочетался с актером; вероятно, эта особенность его характера и сблизила его с нацистами. Гренер пользовался личным покровительством Гитлера; они должны были нравиться друг другу: и тот и другой были позерами и страдали неукротимым тщеславием.
Что понесло Гренера из Берлина в Ригу, трудно было понять. В Берлине он высокопарно заявил, что желает находиться на аванпостах германского духа; формально он числился всего лишь начальником громадного госпиталя, фактически был царьком всех лечебных учреждений в оккупированных областях на востоке. Но и находясь на этих аванпостах, он похвалялся, что даже в Риге не прекращает своей научной работы.
Он был самонадеян, сух и сентиментален, любил музыку и цветы и любил, чтобы его считали добрым.
Он никогда не осуждал фашистских зверств, он как бы не слышал ничего ни о массовых расстрелах, ни о лагерях смерти; когда в его присутствии оправдывали жестокость немецких войск или истребление «низших» рас, он становился глухим, делая вид, что парит где-то в эмпиреях и интересуется только отвлеченной наукой. Но тем не менее в Риге упорно говорили о том, что профессор Гренер спас от уничтожения немало детей.
Иногда среди приговоренных к смерти женщин появлялись сотрудники профессора Гренера и забирали у них детей. Самых здоровых и самых красивых… Что тут можно было сказать? Профессор Гренер не мог спасти всех. Красота часто спасала людей, на то она и красота! Слухи о том, что на даче Гренера устроен чуть ли не настоящий детский сад, ходили и среди нацистов, и среди их жертв. Нацисты снисходительно усмехались: старый чудак, прихоть ученого. Матери же детей, взятых у них сотрудниками Гренера, благословляли профессора; возможно, что его имя было последним словом надежды, которое они произносили перед смертью.
Гренер был мне неприятен, уж слишком высоко поднимали его нацисты, но многое я был склонен ему извинить за этих детей, каким бы там он ни был честолюбцем, он все же оправдывал высокое звание врача!
Янковская часто бывала у него и иногда брала меня с собой.
Этот старый журавль был явно к ней неравнодушен; как только Янковская появлялась в его апартаментах, он начинал вышагивать вокруг нее на своих длинных ногах, предлагал ей ликеры и играл для нее на рояле.
Помимо квартиры в городе, Гренеру была отведена большая дача, принадлежавшая в прошлом какому-то латвийскому богачу. Гренер говорил, что дача нужна ему для научной работы. Во всяком случае, он не только пользовался дачей сам, но и устроил там свой детский сад, и эта отдаленная дача действительно была, пожалуй, наилучшим местом для спасенных им сирот.
Я на этой даче не бывал, но Янковская ездила иногда туда вместе с ним. Не знаю, насколько она была близка с Гренером, но, во всяком случае, вела она себя у него как хозяйка.
Сама она жила в гостинице, и ее домашний быт походил на быт небогатой артистки, приехавшей на непродолжительные гастроли; она мало бывала дома, почти не имела вещей, жила так, словно вот-вот соберется и навсегда покинет свое временное обиталище.
Иногда я находил возле ее дверей какого-то смуглого субъекта; в первый раз я не обратил на него внимания: мало ли всевозможных личностей околачивается в гостиничных коридорах; но когда увидел и во второй раз, и в третий, и в четвертый, я спросил Янковскую:
– Что это за тип сторожит у ваших дверей?
– Ах, этот… – Она кивнула, как бы указывая на него сквозь стену. – Это мой чичисбей: он оберегает и меня, и тех, кому я покровительствую.
Ее ответ, как обычно, ничего не объяснил, но, во всяком случае, подтвердил, что у Янковской были какие-то дела и знакомства, о которых я не имел понятия.
Я вообще мало что о ней знал. Я пытался ее расспрашивать, она скупо рассказывала. Отец ее был мелкий помещик, у них в деревне были только дом и сад, больше ничего. Отец кончил Краковский университет, по образованию он был филолог. Он служил в Варшаве учителем. В имение ездил только летом, как на дачу. Мать умерла, когда девочке исполнилось пять лет. От горя отец осмелел, стал всюду ходить, выступать, стал заниматься политикой. Он так много говорил о трудностях жизни, что к нему стали прислушиваться. Принялся писать в газетах. Его стали читать. Он говорил о Польше, как о жене, не позволял сказать о ней ни одного плохого слова. Он был безвреден и привлекал к себе внимание. Такие люди нужны в каждом парламенте. Его выбрали в сейм. Тогда он стал говорить слишком много. Его следовало сделать министром или избавиться от него. Его сделали дипломатом. Ведь он был филолог и знал языки. Янковская объехала с отцом множество стран. Отец принялся изображать из себя аристократа. Стал играть в карты… Тут Янковская что-то не договаривала. Должно быть, он продал какой-то государственный секрет, сделался агентом какой-то иностранной разведки, вероятнее всего английской: Англия всегда интересовалась Польшей. Потом он как-то странно умер. Внезапно, не болея перед смертью. Янковской было тогда восемнадцать лет. Она осталась без денег, без дома, без единственного близкого ей человека. За границей среди знакомых отца было немало «друзей» Польши. Они посоветовали Янковской вернуться на родину и осведомлять их обо всем, что там происходит. Они поддержали ее материально. Она была умна и смела и не дорожила собой. Она вела свободный и независимый образ жизни. Она нравилась мужчинам и расчетливо соглашалась сближаться с теми из них, от которых могла узнать что-либо интересующее ее друзей. После того как в 1939 году Польша была порабощена гитлеровцами, Янковская эмигрировала в Лондон. В 1940 году она приехала в Ригу помогать Блейку…
Связно о себе Янковская не рассказывала никогда, в жизни ее было много тайн, о которых она предпочитала ничего не говорить, многого она не договаривала, но постепенно, от случая к случаю, от фразы к фразе, я представил себе ее жизнь. Жизнь авантюристки!
Впрочем, это жизнеописание, воссозданное мною по ее рассказам, вызывало у меня некоторые сомнения…
Люди, подобные Янковской, умеют представляться кем угодно! С равным успехом она могла оказаться обруселой англичанкой, ополяченной француженкой или латвийской шведкой.
В тот день, когда события, участником которых мне довелось быть, стали разворачиваться со стремительной быстротой, как в каком-нибудь приключенческом романе, Янковская напомнила мне о моих волосах:
– Вы опять начинаете темнеть, – заметила она. – А вам не следует забывать о своей наружности.
Пришлось, как обычно, прибегнуть к испытанному средству многих неотразимых блондинок.
Когда я высох и порыжел, она пригласила меня поехать к Гренеру.
Выполняя указания Пронина, я никогда не отказывался от таких посещений.
У Гренера собиралось лучшее немецкое общество тогдашней Риги.
На этот раз было не очень много народа. Кто-то играл в карты, кто-то закусывал, сам Гренер то музицировал, то ухаживал за Янковской.
Время проходило спокойно, и даже безмятежно. Все держались так, точно такая жизнь будет продолжаться вечно.
Я стоял у рояля, перелистывал ноты и прислушивался к разговорам.
Вдруг в гостиной появился эсэсовский офицер.
Он подошел к хозяину дома и негромко что-то ему сказал.
Гренер побледнел, я это сразу заметил. Он вообще был бледный, желтоватый, его лицо отсвечивало старческой желтизной, и, несмотря на это, он заметно побледнел.
Он как-то судорожно дернулся, приблизился к Янковской, взял за руку, отвел на середину комнаты и что-то прошептал…
Мне показалось, что я разобрал слово «шеф».
Потом Гренер подошел к авиационному генералу, сидевшему за картами, прошептал что-то ему.
Тот немедленно поднялся и, не прощаясь, ничего не объясняя своим партнерам, тотчас пошел из комнаты.
Гренер развел руками и улыбнулся гостям:
– Извините, господа, но меня срочно вызывают к тяжелобольному…
Он всех выпроводил очень скоро.
Мы остались втроем – он, Янковская, я.
Он вежливо обратился к Янковской.
– Вы поедете со мной?
Она утвердительно наклонила голову.
– Я только переоденусь, – сказал он и пошел журавлиным своим шагом прочь из комнаты; через две минуты он появился в синем штатском пальто.
– Что случилось? – спросил я Янковскую, воспользовавшись минутным отсутствием Гренера.
– Хозяин! – серьезно сказала она. – Прилетел хозяин!
11. Голос из тьмы
От Гренера я вернулся домой один, Янковская куда-то уехала вместе с ним. Она появилась у меня на следующий день уже к вечеру. Вошла, поздоровалась, уселась в столовой, выпила даже чашку кофе, внешне вела себя, как всегда, но мысли ее витали где-то далеко. Против обыкновения она была на этот раз неразговорчива. Спустя час или два, скорее для того, чтобы нарушить ее сосредоточенное молчание, чем ради самого вопроса, я поинтересовался, собирается ли она к Гренеру; от меня она часто направлялась прямо к нему. Как бы проснувшись, она ответила, что профессора сегодня не застать ни дома, ни на работе.
– Сегодня он на приеме… – Она не договорила, прошла в гостиную, закрыла двери, прилегла на диван и закурила папиросу.
Вид у нее был усталый.
– Я переночую здесь, – просительно сказала она. – Не беспокойтесь, я не собираюсь вас совращать…
Она курила торопливо, жадно, захлебываясь дымом.
– Если хотите, я отвезу вас домой, – предложил я.
– Не стоит, мне пришлось бы подняться слишком рано. Да, Август, пришло время и для вас. Тот, кто вчера прилетел, хочет вас видеть, он велел привезти вас завтра к шести часам утра.
– А кто вчера прилетел? – спросил я. – Кто это такой?
– Хозяин, – повторила она свое вчерашнее определение.
Я, конечно, догадывался, что значит это слово, но все же не угадал, кто это мог быть. Скорее всего, думал я, это кто-нибудь из руководителей немецкой тайной полиции; я даже допускал, что это могли быть Гиммлер или Кальтенбруннер.
– А нельзя яснее? – спросил я.
Она было замялась, но потом – мне ведь все равно предстояла встреча с этим человеком – сказала:
– Это один из видных деятелей заокеанской державы, который может там почти все.
– Как, сюда явился президент? – иронически отозвался я. – Или государственный секретарь?
– Нет, – сказала Янковская. – Это один из руководителей разведывательного управления.
– И, по-вашему, он так могуществен?
– Да, – сказала Янковская. – Волнами и молниями он, может быть, и не повелевает, но нет на земле человека, которого не могла бы подчинить его воля.
– Однако! – воскликнул я. – Вы здорово его поэтизируете!
– Я убедилась в его силе, – просто сказала она. – Впрочем, я выразилась неправильно. Это сама сила.
– И с этой могущественной личностью мне предстоит завтра встретиться? – спросил я.
– Да, – сказала Янковская. – Идите отдохните, я разбужу вас. Вам предстоит нелегкий разговор.
– Еще один вопрос, если это, конечно, не секрет, – сказал я. – Каким образом эта могущественная личность очутилась в Риге?
– Он прилетел из Норвегии, – сказала Янковская. – А в Норвегию прилетел из Англии. А до Англии был, кажется, в Испании… Он совершает инспекционную поездку по Европе.
– Как же его зовут, если только это можно сказать? Янковская замялась:
– Впрочем, поскольку он сам вами интересуется… Генерал Тейлор.
– И его так свободно везде пропускают? – спросил я. – И немцы, и англичане?
– А почему бы им его не пропускать? – насмешливо возразила Янковская. – Господина Чезаре Барреса, крупного южноамериканского промышленника, убежденного нейтралиста, готового торговать со всеми, кто только этого пожелает!
– Но позвольте, вы сказали, его зовут Тейлор? – перебил я свою собеседницу.
– Да, для меня, для Гренера, и даже для вас он Тейлор, но официально он негоциант Баррес, озабоченный лишь сбытом своих говяжьих консервов.
– Значит, он прибыл сюда легально?
– Вполне! Он деловой человек и торгует со всеми, кто соглашается ему платить!
– Но ведь это же только маскировка? – допытывался я. – На самом-то деле он не торгует консервами?
– Почему вы так думаете? – Янковская пожала плечами. – Еще как торгует!
Я искренне удивился:
– Генерал разведки?
– Это не мешает ему быть владельцем крупнейших мясохладобоен, – снисходительно пояснила Янковская. – Деньги и политика всегда взаимодействуют…
То, что для меня было отвлеченным понятием, для нее являлось повседневной практикой жизни!
– Но что же для него важнее? – поинтересовался я.
– Как вам сказать… – Янковская на мгновение задумалась. – То, что в данный момент приносит наибольшую выгоду! В нем прекрасно сочетаются промышленник и генерал. Официально господин Баррес интересуется латвийской молочной промышленностью: заокеанские промышленники уже сейчас думают о захвате европейского рынка…
– А неофициально?
– А неофициально тоже беспокоится о рынках, только, конечно, генерал Тейлор действует несколько иными методами, нежели сеньор Баррес…
– Все-таки он рискует, ваш генерал, – заметил я. – Вряд ли его визит не привлечет внимания гестаповцев!
– Не будьте наивны, – упрекнула меня Янковская. – Был бы соблюден декорум! Одних обманывают, другие делают вид, что обманываются… У заокеанской державы везде свои люди. Не воображаете же вы, что шпионов рекрутируют только среди официантов и балерин? Министры и ученые считают за честь служить этой державе.
– Но ведь не все же продаются! – возразил я.
– Конечно, не все, – согласилась Янковская. – Но тех, кто не продается, обезвреживают те, кто продался.
– А зачем он пожаловал в Ригу? – поинтересовался я.
– Я уже сказала вам, сеньор Баррес интересуется молочной промышленностью.
– А на самом деле?
– На самом деле? Чтобы повидаться с вами! – насмешливо ответила Янковская. – А кроме… Неужели вы думаете, что я знаю что-либо о его делах и замыслах?..
Она вздохнула и пожелала мне спокойной ночи.
Об этом разговоре следовало незамедлительно поставить в известность Железнова, но, как назло, он отсутствовал, и я понятия не имел, где его искать…
В пять часов Янковская подняла меня на ноги.
Она сама довезла меня до улицы Кришьяна Барона и указала на большой серый дом.
– Минут пять нам придется подождать, – предупредила она. – Мистер Тейлор требует от своих сотрудников точности.
Ровно в шесть мы вошли в подъезд серого дома, поднялись на третий этаж и позвонили в одну из квартир… Впрочем, я запомнил ее номер – в квартиру № 5.
Дверь нам открыл человек в полувоенной форме, и я сразу подумал, что это офицер, хотя на нем не было никаких знаков различия.
Он небрежно кивнул Янковской и вопросительно посмотрел на меня.
– Август Берзинь, – назвала меня Янковская.
– Входите, – сказал человек во френче, ввел нас в респектабельную гостиную, на минуту скрылся, вернулся обратно и, приоткрывая следующую дверь, жестом предложил нам пройти дальше.
Мы очутились во мраке, но я тут же убедился, что это не так: на столе под темным абажуром горела маленькая лампочка вроде ночника, свет от нее падал только на стол, на котором она стояла.
– Садитесь, – услышал я хрипловатый голос. – Садитесь у стола.
Я подошел к столу, увидел низкое кресло, сел и точно утонул в нем: такое оно было мягкое.
Я стал напряженно вглядываться в том направлении, откуда раздавался голос…
Где-то я читал или слыхал, что имя руководителя Интеллидженс сервис известно в Англии только трем лицам – королю, премьер-министру и министру внутренних дел, – что принимает он своих сотрудников в темной комнате и для большинства людей является как бы невидимкой; вы можете находиться с ним где-нибудь бок о бок и не знать, что рядом с вами глава секретной службы Великобритании.
Мне вспомнилась сейчас эта легенда; возможно, подумал я, что деятели заокеанской разведки действительно заимствовали эту манеру у своих британских коллег.
Освоившись с темнотой или, вернее, с сумраком, царившим в комнате, я, насколько мог, рассмотрел своего собеседника. Напротив сидел человек среднего или, вернее, ниже среднего роста, очень плотный, даже полный; он был в темном костюме, лицо его смутно белело, в полусвете оно казалось даже прозрачным. К концу разговора, когда я привык к темноте и рассмотрел лицо этого человека лучше, оно оказалось столь невыразительным, что я не смог бы его описать.
– Я хочу с вами познакомиться, – произнес таинственный незнакомец. – Вас зовут…
– Август Берзинь, – поспешил я назваться.
– Оставьте это, – остановил меня незнакомец. Я усмехнулся:
– В таком случае, к вашим услугам Дэвис Блейк.
Незнакомец посмотрел в сторону Янковской.
– Вы знаете этого человека? – спросил он ее.
Я тоже обернулся в ее сторону; она села где-то в стороне у самой двери, но, едва этот человек к ней обратился, тотчас встала и почтительно вытянулась перед ним.
– Так точно, – по-солдатски отрапортовала она. – Господин Август Берзинь, он же капитан Блейк, он же майор Макаров…
Незнакомец отвел от нее свой взгляд и вновь повернулся ко мне.
– Так вот… – В его голосе звучало легкое раздражение. – Меня зовут Клеменс Тейлор, для вас это должно быть достаточно. Для меня не существует тайн, и я не могу терять времени.
– Госпожа Янковская советовала мне забыть, что я Макаров, – объяснил я. – Она настойчиво внушала мне, что я теперь только Дэвис Блейк, и никто больше.
– Госпожа Янковская – только госпожа Янковская, – холодно произнес Тейлор…
На одно мгновение он опять посмотрел в ее сторону. Должно быть, она понимала этого человека с одного взгляда.
– Я могу быть свободна, генерал? – почему-то шепотом спросила она.
Он ничего не ответил, и лишь по легкому шелесту открывшейся и тут же закрывшейся двери я понял, что Янковская выскользнула из комнаты.
– Госпожа Янковская – способный агент, но, как у многих женщин, эмоциональная сторона преобладает у нее над рациональным мышлением, – снисходительно заметил Тейлор. – Она хотела поставить вас в ложное положение, а это никогда не приводит к добру. Вы Макаров и должны оставаться Макаровым.
– Вы что же, советуете мне вернуться к своим и снова стать майором Макаровым? – спросил я.
– Да, – вполне определенно сказал Тейлор. – Только идиот Эдингер способен принять вас за англичанина, вы с таким же успехом можете сойти за египетского фараона. Ваша ценность в том и заключается, что вы Макаров.
– Я рад это слышать, мистер Тейлор, – отозвался я.
Но он тут же меня огорошил:
– Но вернетесь вы в Россию уже в качестве нашего агента. С этого дня вы будете работать на нас.
Он говорил об этом так, точно сообщал о решении, которое я и не подумаю оспаривать.
– Я понимаю вас, – ответил я, делая вид, будто не понял его. – Мы все союзники и делаем одно дело, и у нас одна цель – разгромить фашизм.
– Замолчите, – нетерпеливо перебил меня Тейлор. – «На нас» – это значит на нас, и фашизм тут ни при чем. Вы станете агентом нашей разведывательной службы и свяжете отныне свою судьбу с нами, а не с Россией.
– Позвольте, но как может генерал союзной страны… – в моем голосе звучало негодование, хотя мне уже вполне стала ясна истинная сущность моего собеседника, – делать такое предложение мне, русскому офицеру?
– Бросьте, мы с вами не на банкете, майор! – оборвал меня Тейлор. – Вероятно, вы изучали историю? Это на банкетах говорят красивые слова, а мы с вами находимся на кухне, где именно и готовятся блюда, которые подаются на стол народам. В конце концов, каждому в мире дело только до себя. – Он зевнул. – Попробуем быть трезвыми, майор, – продолжал он. – Мы знаем цену людям. Штабной офицер, майор, коммунист – это неплохое сочетание. Вы многое можете сделать. Мы заключим с вами как бы контракт: переведем на ваш текущий счет пятьдесят тысяч долларов и, кроме того, будем еженедельно выплачивать двести долларов, не считая вознаграждения за каждое выполненное поручение. Я не говорю о таких вещах, как какая-нибудь часть мобилизационного плана. За такие вещи мы не пожалеем ничего. В случае каких-либо политических перемен мы обеспечим вас своей поддержкой, и вы сможете занять у себя в стране видный пост. Впрочем, при желании вы сможете достигнуть этого поста и не дожидаясь политических перемен. Если за десять лет ничего не изменится, во что я мало верю, и вы почувствуете, что устали, мы поможем вам уехать из России…
Тейлор качнулся в мою сторону:
– Вас устраивает это?
– Нет, – сказал я. – У меня все-таки есть совесть.
Я, конечно, понимал, что тут бесполезно говорить о таких предметах, как совесть. Но мне казалось, что следует поторговаться и порисоваться, и именно в плоскости моральных категорий. Это всегда производит впечатление. Кроме того, надо было оттянуть время; этот генерал свалился на меня, как снег на голову, и мне показалось очень важным как можно скорее поставить в известность о его появлении Пронина…
– Вы перестали бы меня уважать, если бы я согласился на ваше предложение, – продекламировал я. – Конечно, я играю роль Блейка, к этому меня принудили обстоятельства. Но я не утратил веру в красоту, благородство и порядочность человека. Купить меня вам не удастся, я предпочту умереть, но предателем я не стану…
И вдруг Тейлор засмеялся тоненьким добродушным смехом, как смеются над тем, что, безусловно, подлежит осмеянию.
– Все это мне известно, – сказал он. – Патриотизм, благородство, честь! Все эти ценности котируются у интеллигентных людей, но есть нечто, перед чем блекнут и честь, и благородство, и любовь просто, и любовь к отечеству. Есть сила, выше которой нет ничего на свете…
Я отрицательно покачал головой.
– Не качайте головой, не изображайте из себя ребенка, – назидательно сказал Тейлор. – Я не открываю истин, об этом хорошо писал еще Бальзак. Деньги – вот единственная сила, которой ничто не противостоит в нашем мире.
– Вы полагаете, времена Бальзака еще не прошли? – спросил я не без иронии.
– И никогда не пройдут, – уверенно произнес Тейлор и еще раз с явным удовольствием повторил: – Деньги, деньги, и деньги! Ничто не может сравниться с могуществом золота. Я трезвый человек и не люблю бездоказательных суждений. Мы хотим и будем главенствовать в мире, потому что мы богаче всех. Слабость русских в том и заключается, что они воображают, будто миром движут какие-то идеи. Абсолютная чепуха! Миром движут деньги, а тот, у кого денег больше, тот и является хозяином жизни…
Все это говорилось столь просто, с такой будничной непререкаемостью, что у меня не возникало никаких сомнений в том, что Тейлор высказывает свои истинные убеждения.
– Коммунисты с презрением говорят о власти денег потому, – продолжал он, – что деньги не могут принадлежать всем, а тем, у кого их нет, не остается ничего другого, как их презирать. Но те, кому удается разбогатеть, быстро меняют свои убеждения.
Я не хотел бы пользоваться трафаретными сравнениями, но он смотрел на меня, как удав на кролика.
– Вы тоже измените своим убеждениям, как только разбогатеете, – убежденно сказал Тейлор. – А сделаться богатым помогу вам я, и не потому, что вы мне нравитесь, а потому, что мне это выгодно. Не думайте, что я щедр, это только дураки бросаются деньгами. Люди вообще дешевы, а низкие людишки дешевле всех остальных: стоимость рядового шпиона не превышает стоимости хорошей свиной туши. Но среди этого кордебалета есть примадонны, и им приходиться платить дороже, иначе они будут танцевать у другого антрепренера. Офицер советского Генерального штаба и коммунист, не имеющий в прошлом грешков перед своей партией… Такой товар стоит денег, и мы не постоим за ценой. – Мой собеседник добродушно рассмеялся. – У вас хорошие перспективы, майор! Домик на берегу Калифорнии, красивая жена, апельсиновая роща, вечная песня моря…
Он отодвинулся в тень, я почти перестал его видеть.
– Ну как, майор Макаров? – спросил он. – Договорились?
– А если я откажусь? – задал я вопрос в свою очередь.
– Тогда мы вас ликвидируем, – деловито ответил он. – Вы знаете слишком много, для того чтобы вас можно было отпустить, да и вообще незачем отпускать кого бы то ни было, кто может стать нашим противником. Вас убьют и похоронят еще раз. Конечно, для нас не составило бы труда изобразить вас изменником и предателем. Ваше имя покрылось бы позором, а ваши близкие подверглись бы в России остракизму. Но мы не будем этого делать. Я противник излишней театральности. Вас уберут тихо и незаметно. Но если вы станете работать с нами, я гарантирую вам блестящее возвращение на родину. Вы будете заключены в какой-нибудь немецкий лагерь смерти, откуда вам будет предоставлена возможность совершить героический побег. Вы вернетесь в Советский Союз, и вам будет обеспечено успешное продолжение вашей карьеры. Мы не будем торопиться и лишь спустя некоторое время установим с вами связь…
В общем, мой дальнейший жизненный путь был уже определен мистером Тейлором или кем-то из его помощников.
– А что требуется от меня? – спросил я.
– Ничего, – выразительно ответил Тейлор. – Мы сегодня же выдадим вам аккредитив на любой нейтральный банк, и все. Причем я рекомендовал бы вам выбрать Швейцарию, или даже лучше Швецию. Ну, а если вы вздумаете нас обмануть, вы в две минуты будете скомпрометированы.
– Я должен подумать, – сказал я. – Это слишком ответственно. Дайте мне несколько дней…
– Я вас понимаю, – с неожиданным для меня сочувствием отозвался Тейлор. – Бывают моменты, когда серьезному человеку нелегко сделать выбор между жизнью и смертью. Но я не могу дать вам даже одного дня. Сегодня после четырех я улетаю из Риги. В воздухе будет устроен специальный коридор… Поэтому… – Он прикинул в уме время. – Сейчас семь. В полдень вы явитесь обратно и скажете, какую команду мне отдать…
Несмотря на всю категоричность топа, мне показалось, что этот прожженный циник далеко не уверен в моем ответе.
– Идите, – сказал он.
Все тот же человек в полувоенной форме проводил меня из передней на лестницу.
Домой я, можно сказать, не шел, а бежал…
Но Железнов еще не вернулся!
Мне необходимо было встретиться с Гашке.
Я искал предлога…
И, как всегда, оказалось, что нет положения, из которого нельзя было бы найти выхода.
«Под каким предлогом я могу встретиться с Гашке?.. Ну под каким?» – думал я.
Из немцев никто не знал о нашем знакомстве…
И тут я вспомнил нашу встречу в букинистической лавке.
Пронин отлично понимал характер этих «европейцев» в эсэсовских мундирах…
Это был такой удобный предлог!
Действительно, разведчику могут пригодиться самые странные вещи. Янковская была права. Даже скабрезные картинки могли, оказывается, сослужить полезную службу!
Я кинулся к своему сейфу…
Конверт с картинками лежал все на том же месте, куда его положила Янковская в начале нашего знакомства.
На этот раз я внимательно пересмотрел снимки. Да, они могли понравиться любителям этого жанра…
Я сунул конверт в карман, спустился во двор, вывел на улицу машину и помчался в гестапо.
В комендатуре гестапо я был известен – время от времени господин Эдингер приглашал меня для назидательных бесед, – и, хотя в гестапо меня называли господином Берзинем, все, по-моему, знали, что на самом деле я Дэвис Блейк.
– К господину обергруппенфюреру? – любезно обратился ко мне дежурный офицер.
– На этот раз нет, – сказал я. – Мне нужен господин Гашке.
– А что у вас за дела к Гашке? – спросил офицер уже гораздо строже.
– Мне нужно совершить с ним некоторые обменные операции, – сказал я и рассыпал на барьере, за которым сидели сотрудники комендатуры, принесенные карточки.
Они вызвали целое ликование! От официального тона не осталось и следа.
– Обер Гашке любит такие штучки! – воскликнул офицер. – Сейчас его вызовут, господин Берзинь!
Он позвонил по телефону и попросил как можно скорее прислать Гашке.
Пронин не замедлил появиться. Он шел с недовольным лицом, сдержанный, строгий. Он точно не заметил меня.
– В чем дело? – спросил он дежурного офицера.
– Этот господин спрашивает вас, Гашке, – сказал офицер, ухмыляясь и указывая на меня. – У него к вам коммерческое дельце.
Пронин с невозмутимым видом приблизился ко мне.
– Что за дело?
– Видите ли… – пролепетал я, – я слышал, что у вас есть несколько книжек, приобретенных у здешних букинистов, определенного содержания. Если бы вы могли со мной поменяться…
И я с трогательной непосредственностью рассыпал перед ним свои картинки.
– О! – сказал Пронин с оживлением. – Где вы это достали?
С видом знатока он стал их рассматривать.
– Что же вы хотите за свою коллекцию? – деловито спросил он.
– Я слыхал, что у вас есть несколько французских книжек, – сказал я. – Если бы мы могли обменяться…
– Пожалуй, я бы на это пошел, – задумчиво сказал Пронин. – Сегодня вечером, после службы…
– Нет, мне нужны эти книжки именно сейчас, – настаивал я. – Я обещал достать их к одиннадцати.
– Какой это барышне вы хотите дать урок, господин Берзинь? – заметил кто-то из присутствующих. – Хотел бы я на нее взглянуть!
– А вы отлучитесь, Гашке, – посоветовал дежурный офицер. – Господин Берзинь на машине, вы слетаете с ним за полчаса, жалко упустить такой случай…
Пронин колебался.
– Если книжки мне подойдут, – добавил я, соблазняя Гашке, – я добавлю к карточкам несколько бутылок французского коньяка.
– Валяйте, Гашке! – сказал офицер. – Вечером вы нас угостите, я давно не пил французского коньяка.
Тогда Пронин как будто решился.
– Ладно, – сказал он. – Поедем. Я живу в общежитии гестапо.
Под общее одобрение мы покинули комендатуру и вышли на улицу.
Но Пронин заговорил со мной только тогда, когда мы очутились в машине и тронулись с места.
– Я бы сказал, вы довольно смело действуете, майор Макаров, – не слишком одобрительно заметил он. – Что там у вас стряслось?
– В Риге находится кто-то из генералов заокеанской разведки, – объяснил я, полагая, что удивлю Пронина. – Я только что от него.
Но Пронина, кажется, нельзя было удивить ничем.
– Догадываюсь, – коротко отозвался он. – Сегодня у нас в гестапо черный день. Все в Риге говорят о приезде видного промышленника из Южной Америки. Эдингер, конечно, осведомлен, кто это такой, и пребывает в большом миноре. Во-первых, в этом деле обошлись без него, а во-вторых, дали, вероятно, понять, чтобы он вообще не совал своего носа. Тут действуют фюреры покрупнее и посильнее Эдингера. Поэтому громы и молнии в данном случае он может метать только против своих подчиненных. Сам я, разумеется, не знал точно, кто прибыл, но можно было предположить…
– Нет, он говорил вполне откровенно, – объяснил я. – Генерал Тейлор.
Мы неторопливо двигались по городу.
– Ну а чего он хочет от вас? – насмешливо спросил Пронин. – Вербует в американскую разведку?
– Конечно, – отозвался я. – Хочет послать обратно в Россию и обещает мне там высокий пост.
– Нет-нет! – решительно сказал Пронин. – Вы еще нужны здесь. Соглашайтесь на все, но скажите, что на какое-то время задержитесь. Намекните на привязанность к Янковской…
Он попросил меня подробно изложить разговор с Тейлором, и тут выяснилось, что рассказывать мне почти нечего.
– Он больше занимался философией, – объяснил я. – Наподобие бальзаковского Гобсека поэтизировал власть денег, а практически… – Я пожал плечами. – Практически ничего.
Пронин усмехнулся.
– Что ж, он может позволить себе такую роскошь, у него найдется кому заняться техникой. Понимает, что новичков нужно идейно подковать. Но учтите, философия философией, а палец в рот ему не клади…
Мы доехали до общежития, Пронин скрылся на несколько минут в здании, вышел с книжками, бросил их на сиденье – ни он, ни я на них даже не взглянули, – и я повернул обратно.
– Кажется, все ясно, – произнес Пронин. – Соглашайтесь. Но Ригу пока что вы покинуть не можете. Скажите, что вам нужно собрать здесь ценную информацию, сочините что-нибудь…
Все это было ясно и мне самому, и я огорчился, что напрасно потревожил Пронина.
– Выходит, беспокоил вас зря, – заметил я. – До всего того, что вы сказали, мне следовало додуматься самостоятельно.
– Вы ошибаетесь, – ответил Пронин. – О таких вещах обязательно надо докладывать, я мог бы и не знать о приезде этого господина, а это очень важно. В нашей работе нельзя пренебрегать ничем. Этот случай надо использовать возможно лучше. Не исключено, что при втором посещении вы услышите что-нибудь конкретное…
Я довез Пронина до гестапо и отдал ему картинки.
– Ну а какой банк выбрать? – пошутил я на прощание. – Шведский или швейцарский?
Пронин опять усмехнулся.
– Я бы выбрал шведский, – шутливо посоветовал он в тон мне. – В данном случае я вполне солидарен с мистером Тейлором, шведский, по-моему, солиднее.
Он вышел из машины, махнул на прощание рукой и скрылся в подъезде, а я прямым ходом помчался на улицу Кришьяна Барона.
В знакомой передней сидели двое каких-то людей в синих комбинезонах, а тот, кто впускал меня в первый раз, вышел мне навстречу, улыбнулся как старому знакомому и повел в одну из комнат.
– Ну, что вы решили? – весело спросил он меня. – Жить или умереть?
– Если бы я решил умереть, я бы сюда не вернулся, – ответил я ему в том же веселом тоне.
– Вы правы, – согласился со мной провожатый. – Садитесь, вам придется подождать, – сказал он. – Мистер Тейлор освободится не раньше чем через сорок минут.
Но освободился он гораздо скорее.
На этот раз меня не пригласили в темную комнату. Тейлор сам вышел ко мне.
Больше он от меня не прятался.
Да, плотный человек ниже среднего роста и с таким невыразительным лицом, которое могло бы озадачить любого художника…
– Рад вас приветствовать, майор, – сказал Тейлор и даже протянул мне руку. – Теперь у нас будет деловой разговор.
Он по-мальчишески сел верхом на стул – лицом к спинке – и положил на нее обе свои руки.
– Идея госпожи Янковской превратить вас в англичанина годится только для немцев, – сказал он. – Я думаю, в данном случае госпожа Янковская руководствовалась личными соображениями. Ведь своей жизнью вы обязаны ей, это вы знаете. Но для нас Россия более трудна, чем Англия, и здесь мы не можем терять ни одной возможности. Мне кажется, вы можете стать отличным агентом. А пока что вы получите одно конкретное задание.
Он покровительственно посмотрел на меня.
– Вам понятно, чем занимался здесь Блейк? – спросил он и не дал мне ответить. – Все эти штучки с мелким шпионажем… Не в них дело! Он создал здесь агентурную сеть английской секретной службы, немногочисленную, глубоко законспирированную и способную выполнять любые ответственные задания. Эта сеть создана политикой дальнего прицела. Она особенно активизируется после войны. Если победят немцы, будет действовать против немцев, если победят Советы, значение ее будет еще важнее. Мы должны ее выявить и заставить работать на себя. Мы пытались купить этого несчастного Блейка, но в него слишком въелись дегенеративные предрассудки английской аристократии. Он отказался передать нам своих агентов, и его пришлось устранить. Но дело в том, что список, который он отправил в Лондон и который удалось достать для нас госпоже Янковской, не имеет реальной ценности. Несколько десятков распространенных фамилий. Людей с такими фамилиями тысячи, и мы не можем опросить тысячу человек, для того чтобы узнать, кто из них является агентом Интеллидженс сервис! К списку имеется какой-то ключ, но мы этого ключа не имеем. Госпожа Янковская вам поможет, и вы сделаете для нас эту сеть реальной…
Он вдруг поднялся и с несвойственной ни его положению, ни его возрасту быстротой вышел из комнаты и через несколько минут вернулся.
– Я вам тоже помогу, – сказал он. – Мы знаем фамилию одного из агентов Блейка. Этот агент был когда-то связан с нами. Он получит приказание явиться к резиденту английской секретной службы. Попробуйте при помощи этого человека поискать ключ. Мы вас не торопим. Но эта сеть нам нужна, и вы должны ее нам дать. А после этого отправим в Россию. В свое время мы поставим вас об этом в известность.
Неожиданно он перешел на специфический полицейский жаргон.
– Но смотри не вздумай крутить хвостом, или мы шлепнем тебя с двадцатого этажа! – многозначительно пригрозил он, обращаясь ко мне на «ты». – Ничего, ничего, не бойся, я же вижу, ты свой парень, и ты хорошо у нас заработаешь…
– Ну а на самом деле? – спросил я. – Какие гарантии я буду иметь в том, что в один прекрасный момент ваши люди не прижмут меня к стенке и не превратят в мокрое пятно?
Тейлор чуть-чуть улыбнулся.
– Я вижу, ты предусмотрительный парень, – с некоторым даже расположением промолвил он. – Что ж, это правильно…
Затем он покопался в кармане своего пиджака и вдруг решительно подал мне пуговицу – довольно большую круглую медную пуговицу, на поверхности которой было вытиснено изображение трехлистного клевера.
– Возьмите, – сказал он. – Потенциально вы представляете большую ценность, и я согласен дать вам некоторую гарантию. В прошлом такие пуговицы носили на своих куртках колорадские горняки, теперь их не делают. Мы скупили на складах остатки этих пуговиц и выдаем их некоторым своим агентам. Непонятно? Это, так сказать, символ, знак вашей неприкосновенности. Если наши парни прижмут вас при каких-нибудь обстоятельствах, покажите им эту штучку. Они оставят вас в покое, и, может быть, даже помогут. – Идите, – весело сказал он. – Возможно, мы никогда не увидимся, но наша забота и благословение бога будут теперь с вами.
Это было, конечно, достойное завершение нашего разговора.
– Да, кстати, – спросил он уже в последний момент. – На какой же банк выдать вам аккредитив?
– Я предпочитаю шведский, – сказал я.
– Вы разумный человек, – похвалил меня Тейлор. – Я сам храню некоторую часть своих денег в шведских банках.
Он пожал мне руку, и меня быстро выпроводили, хотя никакого аккредитива так и не дали.
Я вышел на улицу, достал пуговицу, посмотрел на нее, старинную литую медную пуговицу, каких в наше время уже не делают ни в одной стране, и подумал, что мистер Тейлор чересчур экономен, – он так хвастался и своим, и чужим богатством, что ему следовало бы делать свои пуговицы из золота.
12. Альбом для открыток
Не думаю, чтобы Янковская провожала мистера Тейлора при его отлете из Риги, но она, оказывается, видела его после моей встречи с ним.
Она появилась, когда уже стемнело, легкой, танцующей походкой вошла в гостиную, покопалась у себя в сумочке и небрежно, двумя пальчиками, протянула мне заклеенный конверт.
– Меня просили передать это вам.
Я разорвал конверт…
Напрасно я усомнился в честности мистера Тейлоре. Он был точен в делах и выполнял взятые на себя обязательства: в конверте находился аккредитив на один из шведских банков, делавший меня обладателем пятидесяти тысяч долларов.
– Вы довольны? – задорно спросила Янковская.
– А вам известно, что находилось в конверте? – поинтересовался я.
– Обеспеченное будущее, – уверенно произнесла она. – Я догадалась. Я не интересовалась суммой, но знаю, что мои заокеанские друзья умеют платить.
Я пренебрежительно пожал плечами.
– Ну, я думаю, они знают, за что платят…
– Ого! – воскликнула Янковская. – Впрочем, это неплохо – знать себе цену… – Она испытующе посмотрела мне в глаза. – Но помните, Август, люди Тейлора требовательны, они дотянутся до вас, где бы вы…
Я не был уверен, следовало ли сообщить ей о странном подарке, полученном мною от Тейлора, но я не вполне понимал его значение… Что действительно могла значить эта медная пуговица?.. Я почему-то не забывал о ней и время от времени нащупывал у себя в кармане…
Пожалуй, никто, кроме Янковской, не сможет объяснить значение этого подарка.
– Мистер Тейлор подарил мне странный сувенир, – сказал я и, разжав ладонь, показал пуговицу своей собеседнице.
Она пытливо вскинула на меня глаза.
– Он ведь объяснил вам что-нибудь?
– Он сказал мне, что это знак моей неуязвимости. Что его парни, если даже я стану им поперек дороги, не посмеют меня тронуть…
Янковская задумчиво посмотрела на меня.
– Он вам не солгал. По-видимому, вы чем-то расположили его к себе. Это действительно нечто вроде талисмана. Если вы даже возбудите какие-либо подозрения, агенты заокеанской разведки не посмеют вас тронуть, увидав эту штучку. Теперь, для того чтобы вас ликвидировать, требуется санкция самого мистера Тейлора.
– А может быть, здесь дело не только в расположении, – возразил я, – сколько в том, что даже самому мистеру Тейлору завербовать советского офицера потруднее, чем какого-либо короля?
– Вы правы, – немедленно согласилась Янковская. – Вы для него клад! – Все с тем же задумчивым видом она повертела в руках пуговицу. – Несомненно, вы относитесь к числу тех драгоценных агентов, которых очень трудно заполучить даже заокеанской разведке, – продолжала она. – Слишком большие надежды возлагаются на вас, чтобы какие-нибудь резиденты могли распоряжаться вашей жизнью.
– А у вас есть такая? – поинтересовался я.
Она нахмурилась. По-видимому, мой вопрос был или бестактен, или обиден.
– Нет, – сказала она не то с легким вызовом, не то с печалью. – Я могу обойтись без подобного талисмана. Мне не придется работать в такой сложной обстановке, как вам…
Она с любопытством всматривалась в меня, точно мы виделись впервые. У меня появилось ощущение, будто я предстал перед Янковской в каком-то новом качестве после свидания с мистером Тейлором.
Она как бы порхнула на диван и приветственно помахала мне рукой. Вообще она вела себя в этот вечер очень театрально, говорила с излишней аффектацией, принимала неестественные позы, никак не могла усидеть на месте. Думаю, что и приезд господина Тейлора, и мое приобщение к его ведомству возбудили ее нервы необычной даже для нее остротой положения.
– Кстати, я хочу дать вам один добрый совет, – дружелюбно произнесла Янковская. – Мне кажется, что вы все-таки недооцениваете значения своей пуговицы, а это, повторяю, могущественный талисман. Носите его всегда при себе. Всегда может случиться, что она выручит вас из большой беды.
– Хорошо, – сказал я и сунул пуговицу в карман пиджака.
Она улыбнулась.
– Вы еще меня вспомните!
– Вот что, Софья Викентьевна, – сказал я, переходя на сугубо деловой тон и стараясь по возможности делать вид, что инициатива по-прежнему остается за ней. – Этот самый Тейлор заявил, что вы поможете мне превратить в реальность какую-то фантастическую агентурную сеть. Не будем откладывать дело в долгий ящик. У вас есть список, к которому мы должны подобрать ключ…
Она посмотрела на меня не без удивления.
– Вы, кажется, действительно хотите оправдать полученные деньги?
Каким-то балетным жестом она пригласила меня пройти в кабинет, подошла к стене, сняла одну из акварелей Блейка, вставленную в очень узенькую рамочку, шпилькой, вынутой из волос, вытолкнула из рамки какой-то шпенечек и вытряхнула на стол скатанный в тонкую трубочку листок.
– Можно прочесть? – вежливо спросил я.
Янковская не ответила.
Я развернул листок.
Это был список фамилий на английском языке. Позже я их пересчитал: двадцать шесть фамилий с инициалами.
– Я не понимаю, что же здесь сложного? – удивился я. – По-моему, все ясно.
Янковская снисходительно улыбнулась:
– Если бы это было так. Попробуйте найдите в Латвии имеющегося в списке Клявиньша… Их тысячи! А инициалы означают что угодно, но только не имя и отчество…
Я с любопытством держал в руке крохотный листок бумаги, еще раз перечел фамилии, и вдруг совсем другая мысль пронизала мое сознание.
– Скажите, – спросил я Янковскую. – Неужели из-за этого листка и поплатился Блейк своей жизнью?
– И не только Блейк, – ответила она. – Вы тоже могли поплатиться, хотя имели к этому листку совсем косвенное отношение.
– Это так дорого? – спросил я, глядя на листок.
– Очень, – сказала Янковская. – В Советском Союзе за него тоже дали бы немалые деньги. Кажется, это Наполеон сказал, что хороший шпион стоит целой армии?
Она взяла листок и заботливо его расправила.
– Это все первоклассные агенты…
– Но почему же Блейк не пожелал продать этот список?
– Noblesse oblige! – произнесла она с иронией. – «Благородное происхождение обязывает»!
– И вы убили его, чтобы завладеть этим списком? Неужели для вас деньги дороже человека?
– Ах да при чем тут деньги! – с досадой ответила Янковская. – Просто те сильнее, они убрали бы и меня, как убирают всех, кто не желает с ними сотрудничать.
– А вы не боитесь, что Интеллидженс сервис не простит вам этого?
– А я и не собираюсь дразнить Интеллидженс сервис, – ответила Янковская. – В тот вечер, когда мы с вами познакомились, Блейк должен был переслать список в Лондон. В Англию возвращался крупный английский коммерсант, находившийся со своей женой в России в качестве туриста. Ночью он улетал в Стокгольм. Блейк не подпускал меня к списку. Я знала, что он должен пойти в ресторан отеля «Рим» и через день этот список очутился бы в тайниках Интеллидженс сервис. Блейк собрался на свидание. Я видела, что у него имеется два экземпляра списка. Один он должен был отдать, второй, вероятно, хотел сохранить для себя. Я предложила ему продать дубликат. Он засмеялся. Я пригрозила ему, сказала, что он рискует жизнью. Он ударил меня. Я застрелила его и пошла на свидание вместо Блейка. Сказала, что его пытались убить, что это, по-видимому, дело рук советской разведки, что раненый Блейк поручил мне отдать список…
– Таким образом, Интеллидженс сервис имеет список?
– Да, этот турист успел улететь, еще несколько часов, и он застрял бы здесь, – подтвердила Янковская. – Иначе меня не оставили бы в покое. А ключ к списку или изобретен в Лондоне, или отправлен туда раньше. – Она указала на листок: – Эта бумажка очень важна, но пока что ею нельзя воспользоваться.
– А что же мы с вами будем делать?
– К вам пришлют одного из тех, кто перечислен Блейком. Единственного, кто известен заокеанской разведке. Может быть, с его помощью мы отыщем ключ.
– Ну а скажите, на что заокеанской разведке английские агенты?
– Как вы не понимаете? – удивилась Янковская. – Тейлор и его люди всегда таскают каштаны из огня чужими руками! Блейк потратил несколько лет, для того чтобы подобрать своих агентов, а они приберут эту сеть к своим рукам и будут ею пользоваться.
– А тем все равно, кому служить?
– В основном да, – подтвердила Янковская. – Конечно, агенты Блейка – тоже люди не без принципов, но, в общем, это один принцип – ненависть к Советам, с этой точки зрения им почти безразлично, кому служить. Кто заплатит больше, тот и будет их хозяином.
– В таком случае вы тоже перепродались? Судя по вашей теории…
– Конечно, – перебила меня Янковская. – Но что касается меня, я предпочитаю служить не столько тем, кто щедрее, сколько тем, кто сильнее.
– Ну а если Интеллидженс сервис узнает о вашем предательстве? Вы не боитесь ее мести?
– Во-первых, не узнает, – равнодушно ответила она. – А во-вторых, тот, кто не захочет подчиниться Тейлору, отправится вслед за Блейком.
– Ну а почему же вы служите немцам? Или это тоже реальная сила?
– Немцы – сентиментальные дураки, – резко сказала Янковская. – Сила-то они сила, только не очень разумная. Пока что немцы выматывают Россию, и им позволяют это делать. Но, помяните мое слово, они тоже таскают каштаны для кого-то другого.
И тогда я задал ей один неосторожный вопрос:
– А не думаете ли вы, поклонница непреодолимой силы, что настоящая сила на той стороне, откуда пришел я?
– А вот этой силе я не подчинюсь никогда! – закричала она. – Сила, принадлежащая серому быдлу!..
Голос ее сорвался. Она бросилась в кресло и точно утонула в нем.
– И если вы, Андрей Семенович… – она почти никогда не называла меня этим именем, – если я замечу, что вы снова поглядываете на восток, клянусь, я убью вас собственными руками! – Она тут же встала. – Прикажите Виктору отвезти меня домой.
Я вызвал Железнова.
– Отвезите Софью Викентьевну, – распорядился я. – Ей нездоровится, поэтому не торопитесь, пусть она подышит свежим воздухом.
Железнов вернулся очень быстро.
– Я не заметил, чтобы она была больна, – сказал он. – Она не захотела ехать домой и приказала отвезти ее к Гренеру.
– Ну и слава богу, – отозвался я. – Значит, мы можем спокойно поговорить.
Я протянул ему аккредитив.
– Это что? – спросил он.
– Цена предательства, – пояснил я. – Мистер Тейлор решил, что в эту сумму я ценю Родину.
Я подробно рассказал о своей встрече, показал список, открыл тайну убийства Блейка.
– Да, поучительный разговор, – задумчиво заметил Железнов. – Теперь многое становится понятным: и почему тянут со Вторым фронтом, и откуда у немцев нефть…
Он попросил показать ему пуговицу, подержал на ладони и бережно вернул.
– Береги, это может пригодиться, – посоветовал он и как бы спросил самого себя: – Хотел бы я знать, есть ли еще такие пуговицы в нашей стране…
Затем он склонился над списком Блейка.
– Война когда еще кончится, нам до Берлина еще идти да идти, а они уже о другой, о следующей войне думают, – продолжал он размышлять вслух. – Политика дальнего прицела, сверхдальнего…
Он бережно скатал и спрятал драгоценный листок на прежнее место.
– Помнишь, – спросил он меня и почти слово в слово повторил Янковскую, – по-моему, это Наполеон как-то выразился, что один хороший шпион стоит иногда целой армии, так что в тайной войне эти двадцать шесть человек – немалая сила.
– Пока это только список, – заметил я. – К нему нет ключа.
– Но ведь к тебе кого-то пришлют? – возразил Железнов. – Не может быть, чтобы мы не достигли цели!
– А может быть, это псевдонимы? Может быть, этот список написан для отвода глаз?
– Правильно, все может быть! – Железнов засмеялся. – Однако Блейк поплатился за него жизнью. Теперь, когда мы имеем хоть что-то, мы обязаны взяться за работу, теперь есть над чем подумать, и мы обязаны решить эту задачу…
Ту короткую летнюю ночь мне не забыть…
За окном было темно, только в фиолетово-черном небе слабо мерцали редкие звезды. А у нас в комнате горел свет. Мы вспоминали Родину, говорили о нашей жизни, обдумывали свою работу, строили планы…
Мечтательное наше настроение нарушил какой-то шелест, донесшийся до нас с улицы, точно мостовую скребли огромной щеткой.
Мы выглянули в окно. Рассветало. Эсэсовцы с пистолетами в руках вели толпу женщин, подростков и стариков. Толпа была какая-то удивительно серая, безликая, призрачная; эсэсовцы в своих черных мундирах напоминали только что сработанных глянцевых оловянных солдатиков.
Куда они вели этих людей?..
Мы смущенно посмотрели друг на друга…
Наступил новый день, и у каждого из нас были свои обязанности.
– Ну, я пойду, – сказал Железнов и вышел из кабинета.
…Через день Железнов сказал:
– Видел Пронина. Доложил о твоей встрече с Тейлором. Просил передать ему копию списка. Говорят, это будет большой выигрыш, если удастся расшифровать…
А еще через день Марта сказала, что меня спрашивает какой-то человек.
Я с таким нетерпением ждал появления какого-нибудь незнакомца, что сразу поспешил к нему навстречу.
Мы вопросительно поглядели друг на друга.
– Господин Берзинь? – обратился ко мне посетитель.
– Он самый… – Я вежливо наклонил голову. – С кем имею честь?
Посетитель посмотрел на меня рыжими и липкими глазами.
– Арнольд Озолс, к вашим услугам.
– Раздевайтесь, – пригласил я его. – Прошу в кабинет.
Мы прошли в кабинет.
Озолс неторопливо опустился в кресло, минуту помедлил, сунул руку во внутренний карман пиджака, достал оттуда почтовую открытку, на которой были изображены незабудки, посмотрел на рисунок, посмотрел на меня, еще раз посмотрел на цветы, положил открытку на стол и прикрыл ее ладонью.
Разговора Озолс не начинал.
– Чему обязан? – церемонно сказал я.
– Скажите, у вас есть лошади? – неожиданно спросил он. – Выездные лошади?
– Нет, – сказал я. – У меня нет лошадей.
– А верховая лошадь?
– Нет-нет, – сказал я. – У меня машина.
– Может быть, у вас есть корова? – спросил Озолс.
– Нет, – сказал я. – И коровы у меня нет.
– Это плохо, – сказал Озолс. – Всегда лучше пить молоко от своей коровы.
– Я согласен с вами, – сказал я. – Но как-то, знаете, не обзавелся.
Озолс опять посмотрел на незабудки и перевел взгляд на меня.
– А свиней вы не держите?
– Не держу, – сказал я.
– Это тоже плохо, – сказал он. – В каждом доме бывают отходы, домашняя ветчина вкуснее.
– Хорошо, если вы считаете необходимым, – сказал я, – я постараюсь обзавестись поросенком.
– А собаки у вас нет? – спросил Озолс. – Вы не охотник?
– Пожалуй что охотник, – сказал я. – Но собаки у меня нет.
– Очень жаль, – сказал Озолс. – И кошки нет?
– Я не совсем вас понимаю, – ответил я ему тогда на вопрос о кошке. – Я не помню, какое количество животных описано Бремом, но смею вас заверить, что ни одного из них, к моему великому огорчению, у меня нет.
– Дело в том, что я ветеринарный врач, – с достоинством ответил Озолс. – Мне сообщили, что у вас заболело какое-то домашнее животное.
Он опять взял в руки свою открытку, с сожалением посмотрел на незабудки и задумчиво покачал головой.
– Очень жаль, по-видимому, произошло недоразумение, не смею вас больше задерживать…
И вдруг меня осенило! Я вспомнил, что где-то уже видел такую открытку с незабудками… Да ведь я видел ее у себя! В гостиной у Блейка валялось несколько альбомов для открыток… Я еще подивился, зачем этот эстет держал у себя такие мещанские альбомы с почтовыми карточками… В одном из них я видел точно такие же незабудки!
И тут я вспомнил, что много месяцев назад ко мне приходил заведующий каким-то дровяным складом и тоже все время вертел в руках перед моими глазами какую-то почтовую открытку…
– Одну минуту, господин Озолс! – воскликнул я и пошел в гостиную…
Я схватил альбом, перелистал, нашел открытку с незабудками и поспешил обратно в кабинет.
– Посмотрите, господин Озолс, – сказал я. – Какое удивительное совпадение: у меня такая же открытка, как у вас!
Озолс взял мою открытку, сличил со своей, затем выпрямился в кресле и с каменным лицом посмотрел на меня.
– Я не понимаю, господин Берзинь, для чего вам нужна была эта комедия? – с достоинством спросил он. – У других тоже есть нервы.
– Извините меня, Озолс, – непринужденно ответил я. – Но сперва у меня возникли сомнения…
– Какие же могут быть сомнения? Посмотрите сами.
Он подал мне обе открытки – не могло возникнуть сомнений в их идентичности.
– В последнее время столько неожиданностей… – Я виновато посмотрел в рыжие глаза Озолса. – Так что некоторая предосторожность…
– Какие неожиданности могут быть между нами! – Ироническая улыбка чуть тронула губы моего посетителя, он слегка вздохнул и выжидательно на меня посмотрел. – Я слушаю вас, господин Берзинь.
– Вам кто передал, что нужно явиться ко мне? – деловито спросил я, как бы проверяя своего посетителя.
Озолс приветливо улыбнулся:
– Один мой старый друг из-за океана. Ведь я…
В этом разговоре все следовало угадывать с одного слова.
– Ведь вы…
– Да, я провел там около восьми лет.
– Вы там работали…
– Тоже ветеринарным врачом… – Озолс самодовольно улыбнулся. – Но мне не один раз приходилось участвовать в подавлении забастовок сельскохозяйственных рабочих..
– И вы по-прежнему поддерживаете связи?
– К сожалению, нет. – Озолс опять улыбнулся. После того как я показал ему свою открытку, он превратился в воплощенную любезность: как-никак я являлся его начальником. – По возвращении в Латвию я все их растерял.
Я тоже вежливо ему улыбнулся:
– Но мы их восстановили…
Озолс утвердительно кивнул:
– Да, вы сумели найти меня.
– А что вы делаете сейчас?
– Как «что»? – удивился Озолс. – Лечу окрестных коров и собак.
– Нет, не в том смысле.
– А что же я могу сейчас делать? – еще больше удивился Озолс и неожиданно обнаружил проблески какого-то остроумия. – Мы будем ждать мирных весенних дней, когда опять возникнет нужда в агрономах и ветеринарах.
И правда, чем мог быть полезен такой Озолс капиталистической разведке? Мне совсем неясна была его роль. Сообщать, какие военные части движутся мимо его дома? Трудно было допустить, что такой шпион стоит целой армии…
Однако надо было как-то оправдать посещение Озолса, и не только для себя, но и для него.
– Видите ли, вы мне понадобились… – Я не знал, что ему сказать. – Наша служба проводит, так сказать, что-то вроде переучета. Кое-кто у нас выбыл, мы, так сказать, перестраиваем свои планы…
Озолс внимательно слушал.
– Поэтому хочется еще раз подумать, чем вы можете быть полезны.
Озолс молчал.
– Я обращаюсь к вам, господин Озолс, – повторил я. – Подумайте, чем вы можете быть полезны?
Озолс заерзал в своем кресле.
– Вряд ли я смогу быть вам полезен в чем-либо другом, кроме того, что уже было запланировано, – промолвил он с некоторой тревогой в голосе. – Ни стрелять, ни участвовать в каких-либо авантюрах… – Он покачал головой. – Нет, господин Берзинь, я узкий специалист, и вне своей специальности мне не хотелось бы участвовать ни в каких планах.
Я задумчиво протянул:
– А мы запланировали для вас…
– Сибирскую язву, господин Берзинь, – напомнил мне мой посетитель тоном, ясно говорившим, что мне нечего делать вид, будто я этого не помню. – При получении соответствующего указания я и двое моих коллег, которых вы знаете не хуже меня, сможем вызвать эпидемию сибирской язвы у домашнего скота во всей Прибалтике, а в случае необходимости с помощью кисточек для бритья перенесем ее и на людей…
Да, пожалуй, такой шпион стоил армии!
– Да-да, Озолс, я помню об этом задании, – сказал я, с интересом разглядывая своего невзрачного собеседника, который вдруг предстал передо мной совсем в ином качестве. – Но я предполагал, что вы и до этого сможете оказать кое-какие услуги.
– Нет, господин Берзинь, – решительно отозвался Озолс, не спрашивая даже, что я хотел ему предложить. – Я не умею ни убивать, ни похищать, и не хотел бы за это браться.
– Ну хорошо, – сказал я ему. – Очень рад был с вами встретиться.
– Отлично, – сказал тот и поднялся.
Но я еще не хотел его отпускать. Мне надо было узнать его адрес. Надо было узнать еще что-нибудь, что перекинуло бы цепочку к другим.
– Простите, Арнольд… Арнольд…
– Янович, – подсказал Озолс.
– Арнольд Янович, – повторил я. – Ваш адрес не изменился?
– Врачи и аптекари не должны менять адресов, – назидательно ответил он. – Иначе легко растерять клиентуру.
Как же узнать, где он живет?
– Вам когда передали о моем желании видеть вас? – спросил я.
– Это было три дня назад, – сказал он. – Но я не мог выехать сразу.
Значит, он встретился со своим американским другом в день отъезда мистера Тейлора из Риги…
– И долго вам пришлось добираться? – спросил я.
– Нет, – сказал он. – Как обычно.
– Отлично, – сказал я. – Я хочу только еще раз взглянуть на вашу открытку…
Нет, в ней не было ничего особенного, открытка как открытка: надпись «Carte Postale», место для марки, а на обороте – голубые незабудки.
Я не знал, надо ли ему дать денег, но решил не давать.
– Отлично, – сказал я еще раз, возвращая открытку. – Поезжайте домой. Желаю вам всего доброго. Если вы понадобитесь, мы поставим вас об этом в известность.
Мы церемонно раскланялись, и я проводил его до входной двери.
Затем вернулся в кабинет, взял открытку, извлеченную мной из альбома, и пошел в гостиную…
Это был, оказывается, не простой альбом!
В нем были открытки с изображением цветов. Астры, розы, жасмин, ландыши, гладиолусы…
Я принялся рассматривать эти открытки. На некоторых из них были написаны карандашом цифры, на открытке с незабудками, которую я предъявил Озолсу, значилась цифра 3481…
Индекс, под которым значился Озолс у Блейка?
Я принялся рассматривать другие альбомы, там были репродукции с разных картин, много всяких пейзажей, в одном из альбомов были открытки с видами Латвии, улицы, площади, всякие достопримечательности…
Возможно, для того чтобы отыскать ключ к списку, следовало узнать адрес Озолса, и это было не столь трудно: ветеринарного врача всегда можно отыскать в Латвии.
Я снова открыл альбом, в котором находились открытки с цветами, затем достал список Блейка и положил его рядом с открыткой с незабудками.
Озолс значился в этом списке восьмым по счету, Озолс Н. Е.
Но нет, это был не тот Озолс. Тот, который только что был у меня, – Арнольд Янович, а этот Н. Е. Я перевел взгляд на открытку с незабудками. Незабудки… Незабудки… Незабудки… Нет, товарищ Железнов, моя голова тоже кое-что варит.
Незабудка… НЕзабудка… Н. Е. забудка… Н. Е. – Озолс Н. Е. Озолс – Н. Е. забудка. Озолс – незабудка… Озолс А. Я. – незабудка.
Я отобрал все открытки, помеченные цифрами.
Цифры не говорили мне ничего. Цветы были кличками, опознавательными кличками всех двадцати шести агентов Блейка, но что значили цифры, я не догадывался.
Я опять взял список.
Ципстиньш Н.А., Блюмс Ф.И., Клявиньш Р.О., Миезитис Л.А.
Я перебрал открытки.
Н.А. Настурция… Настурцией и был Ципстиньш… Но как его зовут на самом деле?
Ципстиньш был Настурцией, Блюмс – Фиалкой, Клявиньш – Розой, Миезитис – Ландышем…
Но каковы были их настоящие имена?
Для ясности требуется сказать, что список был написан по-английски и названия цветов я тоже подставлял по-английски, и лишь для удобства читателей я показываю, как бы выглядел этот список на русском языке.
Предстояла работа, и довольно-таки кропотливая, но игра стоила свеч. Теперь-то я понимал, что сидел в Риге не зря: с господином Озолсом необходимо было познакомиться.
Он стоил наших усилий, невзрачный господин Озолс, он же незабудка, и, если это понадобится его хозяевам, он же сибирская язва!
13. Жонглер на лошади
Не стоит подробно рассказывать, как мы с Железновым работали над тем, чтобы дешифровать список Блейка. Лишь постепенно все эти фиалки и ландыши стали превращаться в реальных людей, имеющих определенные адреса и профессии.
Железнов согласился со мной, когда я высказал гипотезу о тождестве цветов и агентов Блейка, впрочем, это не было гипотезой, это было очевидно. Теперь следовало узнать адрес Озолса, а может быть, собрать и еще какие-то дополнительные данные, для того чтобы с помощью этих сведений найти и других людей, перечисленных в списке.
Железнов взялся это сделать через товарищей, с которыми был связан, но для этого требовалось, конечно, время.
Неожиданно на помощь пришла Янковская.
Она заезжала ко мне обычно или поздно утром, или под вечер, а иногда даже два раза в день; она все время держала меня в поле своего зрения.
В день посещения Озолса она появилась под вечер, хотя ее позднее появление не означало, что она не была осведомлена о визите Незабудки. Она следила за мной и вследствие профессиональной наблюдательности по незначительным деталям, обрывкам слов и незаметным вопросам создавала правильное представление о моем времяпрепровождении.
Она вошла, села, закурила, с любопытством взглянула на меня, ожидая, что я скажу, но я молчал, и она первой нарушила молчание:
– Был?
– Кто?
– Тот, кто должен был к вам явиться.
Не было нужды прятать от нее Озолса, наоборот, она могла помочь обнаружить и других агентов Блейка.
– Был.
– Кто он?
– Некий Озолс, ветеринарный врач.
Она сама достала список и нашла в нем Озолса.
– Вы узнали о нем какие-нибудь подробности?
– Да, его кличка – Незабудка.
Я показал ей открытку с незабудками и познакомил со своей догадкой.
Ей понравились цветочные псевдонимы. Она оживилась и утвердительно кивнула.
– Вы не узнали его адреса?
– Это могло вызвать подозрения.
– Правильно. По-видимому, это старый провокатор. Он сразу бы исчез. Но его адрес легко узнать.
– Через адресный стол?
– Конечно, нет. В адресном столе сейчас полная неразбериха, хотя немцы создали в нем видимость порядка. Вы должны использовать Эдингера. Попросите его узнать адрес…
– Эдингера?
– Разумеется. Он отыщет Озолса за несколько часов.
Она была дерзка и трезва. Эдингер мог найти Озолса без труда, а скрывать Озолса от Эдингера тоже не было необходимости.
Я тут же позвонил Эдингеру по телефону.
– Господин обергруппенфюрер? Счастлив вас приветствовать. Вы могли бы меня принять?
– Приходите завтра, Берзинь, – ответил он. – Вы мне тоже нужны.
– О, на этот раз я удовлетворю ваше любопытство, господин обергруппенфюрер…
– Хорошо-хорошо, – довольно сухо отозвался он. – Буду ждать.
Он действительно меня ждал и с первой же секунды моего появления в кабинете устремил на меня пытливый неодобрительный взгляд.
– Садитесь, Блейк, – сказал он. – Я слушаю вас, хотя вы мало чем оправдываете мое снисходительное отношение.
– Не так просто передать моих агентов другому хозяину, – обиженно возразил я. – Я восстанавливаю утраченные связи, перепроверяю всю сеть. Вы получите людей, которые действительно многого стоят…
– Но когда, когда? – нетерпеливо перебил Эдингер. – Вы злоупотребляете моим терпением, Блейк.
– Не позже как через две недели, – твердо сказал я. – Но мне нужно найти одного ветеринарного врача, некоего Озолса.
– А он в Латвии? – спросил Эдингер.
– Безусловно, – подтвердил я. – Озолс Арнольд Янович.
– Это что, ваш агент? – спросил Эдингер.
– Да. – Я свободно мог подарить Озолса Эдингеру. – Я утратил с ним связь, а запрашивать Лондон нецелесообразно. В современных условиях это может затянуться, я не рискую испытывать ваше терпение. Озолс поможет мне восстановить некоторые связи.
– Я вижу, вы беретесь за ум, – похвалил меня Эдингер. – Я прикажу найти этого Озолса.
Он по телефону вызвал гауптштурмфюрера Гаусса, и через минуту в кабинет вошел какой-то чиновник в черной эсэсовской форме, висевшей на нем мешком и явно обличавшей штатского человека.
– Господин Гаусс, – сказал Эдингер, – мне нужно найти некоего Озолса…
Эдингер вопросительно обернулся ко мне.
– Арнольд Янович, – подсказал я.
– Арнольд Янович, – повторил в свою очередь Эдингер. – Он служит где-то у нас в Латвии ветеринарным врачом.
– Как срочно это нужно? – скрипучим, деревянным голосом осведомился господин Гаусс.
– Задание особой важности, – сказал Эдингер. – Эти данные нужны лично мне.
Господин Гаусс поклонился и ушел, не промолвив больше ни слова.
– А теперь, Блейк, буду говорить я, – сказал Эдингер и зашевелил своими усиками, точно таракан перед неожиданным препятствием.
Он хотел казаться внушительным и, пожалуй, казался таким, но на этот раз он выглядел больным, чувствовалось, что он не в своей тарелке, хотя по-прежнему старался говорить резко и угрожающе.
– Я ценю вас, Блейк, – сердито сказал Эдингер. – Наша разведка наблюдает за вами вот уже шесть лет, и вы все время работали только на свою страну. Поэтому вы поймете меня, если я скажу, что пошел в полицию для того, чтобы служить Германии…
Я уже видел, что мне придется стать свидетелем очередного словоизвержения на тему о величии германского рейха, но на этот раз мне показалось, что Эдингер говорил не ради рисовки, на этот раз он нуждался в самоутверждении…
Увы, он был не из тех, кому можно было что-либо объяснить! Поэтому я молчал.
И так же, как всегда, Эдингер внезапно спустился с заоблачных высот риторики на залитую кровью землю.
– Как это ни печально, но я хочу огорчить вас, господин Блейк, – внезапно произнес он. – Вас окружают подозрительные люди, вы прикрываете коммунистов и партизан…
Я похолодел… Так, кажется, говорится в романах?.. Во всяком случае, я испытал весьма неприятное ощущение. Черт знает, что он мог узнать! Было бы глупо и обидно так просто, ни за понюшку табаку погибнуть в здешних застенках…
– Вы уверены в своем шофере? – строго спросил меня Эдингер. – У нас о нем самые неблагоприятные сведения. И то, что я сейчас говорю об этом, – свидетельство доверия, которое я еще не утратил к вам…
У меня немного отлегло от сердца, хотя я еще не знал, что нужно от меня Эдингеру.
– Не знаю, как он сумел провести такого опытного разведчика, каким являетесь вы, капитан Блейк, – упрекнул меня Эдингер, – но у нас есть данные о том, что некий господин Чарушин или тот, кто скрывается под этим именем, связан с рижским коммунистическим подпольем…
Но я уже взял себя в руки. В том, что говорил Эдингер, не заключалось ничего экстраординарного: всегда можно было ожидать, что гестапо нападет на след кого-нибудь из нас. Гораздо важнее было понять, почему он считает возможным или нужным сообщить мне о провале Железнова. Эдингер, как я полагал, опять играл со мной в доверие. Но поскольку он не сомневался в том, что я капитан Блейк, он пытался выяснить, не связан ли я, англичанин, с союзниками Англии по войне, с русскими партизанами и коммунистами, и, выдавая мне Железнова, давал возможность порвать эти связи, если они существовали. Для гестапо капитан Блейк был гораздо более значительной фигурой, чем шофер Чарушин; предоставляя мне возможность отмежеваться от своего шофера, тем самым гестапо пыталось сохранить меня для себя.
Поэтому Эдингер пошел еще дальше. В его глазках, совсем как у хорька, когда тот настигает свою жертву, загорелись желтые искорки, он лег грудью на стол и негромко сказал:
– Донесения о Чарушине лежат у меня в столе, и я совершенно доверительно скажу вам, что через день или два отдам приказ об аресте этого человека. Лично вы можете не беспокоиться: вас потревожат лишь на самое короткое время…
Что мне оставалось делать? Высказать свое недоверие Чарушину? Усилить подозрения Эдингера? Это не было бы полезно. Решительно взять под свою защиту? Тоже вызвало бы подозрения. Следовало лишь удивляться и удивляться.
– Удивительно! – воскликнул я. – Чарушин – отличный шофер, я очень им доволен. Он не вызывает подозрений даже у такой недоверчивой женщины, как госпожа Янковская!
Как раз у Янковской-то Железнов и вызывал подозрения. Я приплел ее потому, что она пользовалась значительным влиянием в нацистских кругах, но ответ Эдингера поверг меня в изумление.
– Госпожа Янковская! – насмешливо сказал он. – Хоть она и ваша сотрудница, знаете вы ее недостаточно. Кто вам сказал, что это не она направила наше внимание на вашего шофера?
Если в этом была хоть доля правды, то налицо предательство. Она действовала вопреки мне и против меня.
– Но позвольте, – возразил я. – Я наблюдал за Чарушиным достаточно тщательно. Он выполняет весьма серьезные поручения. Конечно, он не посвящен в мои отношения с вами, он убежден, что служит британским интересам…
– Вы серьезный разведчик, Блейк, но в данном случае этот Чарушин играет на ваших английских чувствах, – укоризненно сказал Эдингер. – Его подослали к вам, и если он вас еще не убил, то только потому, что ему удобно прятаться в вашей тени. Мы давно к нему присматриваемся. Впрочем, не буду скрывать: так же, как и к вам. Но если вас не в чем упрекнуть, ваш шофер уличен…
Вот когда я убедился, как был прав Пронин, удерживая меня от участия в каких бы то ни было делах Железнова, – он видел дальше и больше меня. Молодые бойцы часто ропщут, когда их держат в резерве, но опытные командиры лучше знают, кого и когда надо ввести в бой.
– Не смею больше спорить, – холодно произнес я, показывая, однако, своим видом, что я еще не вполне убежден Эдингером. – Я только прошу вас повременить с арестом: мне хочется самому убедиться в предосудительных связях Чарушина.
– Своей защитой Чарушина вы компрометируете себя! – раздраженно ответил Эдингер. – Вас как англичанина волнует не существо, а форма. Я заверяю вас, что с вашим шофером будет поступлено по закону. Положитесь на нас, предоставьте его собственной судьбе, поймите, для вас это наилучший выход…
Эдингера вообще трудно было переубедить, а в данном случае просто невозможно. По-видимому, он нацелился на Железнова очень основательно.
А может быть, и не только на Железнова! Но все это могло быть и провокацией, прямых улик против меня не имелось. Выполняя приказание Пронина, я вел себя очень осмотрительно, но мне могли неспроста сообщить о предстоящем аресте Железнова: исчезни Железнов, будет очевидно, что это я предупредил его…
Туг опять появился гауптштурмфюрер Гаусс.
Вероятно, когда Эдингер говорил Гауссу о «задании особой важности», он хотел показать мне образец немецкой быстроты и аккуратности.
– Разрешите, господин обергруппенфюрер? – спросил Гаусс деревянным голосом.
– Да-да! – сказал Эдингер. – Узнали что-нибудь? Гаусс молча подал Эдингеру узкий листок бумаги.
Эдингер взглянул на него и тотчас передал мне. На листке значилось: «Мадона, Стрелниеку, 14».
– Это все? – спросил Эдннгер.
– Адрес ветеринарного врача Озолса, – ответил Гаусс. – Он живет в Мадоне.
Возможно, подумал я, этот адрес и послужит ключом к списку…
Я поблагодарил Эдингера и поспешил откланяться. Мне не хотелось возвращаться к скользкому разговору о Чарушине.
– Помните, о том, что произойдет с вашим шофером, не знает никто, – предупредил меня на прощание Эдингер. – Вы еще будете мне благодарны.
– Можете быть уверены, господин обергруппенфюрер, – заверил его я. – Хайлитль!
Я отсалютовал Эдингеру поднятой рукой и заторопился вниз, в машину.
– Давай! – сказал я.
Железнов включил мотор и удивленно посмотрел на меня.
– Что это ты как будто не в себе?
– Плохи, брат, наши дела, – ответил я. – Гестаповцы собираются тебя арестовать.
Нельзя было не заметить: Железнов встревожился, но он тут же взял себя в руки.
– Как так? – спросил он.
– Предупредил сам Эдингер, – объяснил я. – Уж не знаю, донес кто-нибудь или они сами, но говорит, что гестапо располагает данными о твоих связях с рижским подпольем…
Железнов задумчиво покачал головой.
– Задача…
– Какая же тут может быть задача? – возразил я. – Медлить нечего, придется скрыться.
Железнов вздохнул.
– Не так это просто, и тем более непросто, что это может бросить тень на вас…
Мы обращались друг к другу то на «вы», то на «ты», в моменты, когда особенно остро ощущали нашу духовную близость, говорили на «ты», а когда возвращались к служебным делам, переходили на «вы», на этот раз «ты» и «вы» смешались в нашем разговоре.
– Вы недооцениваете важности возложенного на вас задания, – укоризненно сказал Железнов. – Ради него можно многим пожертвовать.
– Но ведь не тобой же? – перебил я его. – Что, если нам удрать вдвоем?
– Вы понимаете, что говорите? – резко возразил Железнов. – Мы не имеем права уйти, пока не обнаружим всех этих агентов. Вы понимаете, чем это может грозить после нашей победы? Это все равно, что оставить грязь в ране. Рану можно вылечить в месяц, а можно лечить десять лет.
– Посоветоваться с Прониным? – предложил я. – Он подскажет.
– Это конечно, – согласился Железнов. – Но, пожалуй, и Пронин здесь… – Он замолчал, видно было, что ему нелегко прийти к какому-нибудь решению. – Надо протянуть какое-то время и успеть… – Он не договорил и опять задумался. – Вот если бы удалось хоть на время отстранить Эдингера…
Железнов резко повернул машину за угол.
– Ну а как с адресом? – поинтересовался он. – Эдингер обещал узнать?
– Адрес в кармане, – сказал я. – Можно браться за поиски.
– Вот это здорово! – оживился Железнов. – Обидно будет, если меня возьмут…
Но я – то понимал, что это просто невозможно. Задание, разумеется, должно быть выполнено, но и жертвовать Железновым тоже нельзя. Нам опять предстояло найти выход из безвыходного положения…
И я подумал о Янковской. Почему бы не заставить эту даму послужить нам? Она недолюбливала Эдингера и была расположена ко мне, в ее расчетах я занимал не последнее место. Почему бы не бросить на чашу весов самого себя?
Я повернулся к Железнову.
– Поворачивай! – сказал я. – Двигай в гостиницу, к Янковской.
– Зачем? – удивился Железнов. – Дорога каждая минута.
– Пришла одна идея, – сказал я. – Попробуем побороться.
– А мне нельзя познакомиться с этой идеей? – спросил Железнов. – Как говорится, ум хорошо, а два…
Но я боялся, что он меня не одобрит, да и не был уверен, что сумею эту идею как следует изложить.
– Двигай-двигай! – повторил я. – Авось рыбка и клюнет…
Не могу сказать, чтобы Железнов чрезмерно доверчиво отнесся к моим словам, однако он подчинился и поехал к гостинице.
Янковская не отозвалась на мой стук, я подумал, что ее нет дома, но дверь оказалась незапертой и, когда я ее толкнул, поддалась.
Янковская спала на диване, поджав ноги. Она не услышала моего стука, но как только я, ничего еще не сказав, сел возле нее, она сразу открыла глаза.
– У меня неприятности, – с места в карьер заявил я. – Только что был у Эдингера. Он сказал, что установлены мои связи с партизанами…
Янковская сразу села, сон с нее как будто рукой смахнуло.
– Какая глупость! – воскликнула она. – Они ничего не поняли.
Этой фразой она выдала себя, но я не подал вида, что в чем-то ее подозреваю.
– Чего не поняли? – спросил я. – Кто?
– Ах, да ничего не поняли! – с досадой отозвалась она. – Ваш Чарушин в самом деле очень подозрителен, но вы-то, вы-то при чем? Самое ужасное в том, что если этот маньяк вздумает привязаться, от него невозможно отцепиться, он ничего не захочет признавать…
Она встала, прошлась по комнате, закурила.
– А вы-то чего нервничаете? – спросил я. – Ну арестуют меня, убьют, вам какая печаль?
– В том-то и дело, что вас нельзя арестовывать! – воскликнула она. – Тейлор мне этого никогда не простит!
Беспокоилась она, конечно, не столько обо мне, сколько о себе.
– Вот что, поедем к Гренеру, – решительно сказала она. – Надо что-то предпринять…
Она опять пришла в то деятельное состояние, когда трудно было ее остановить.
Мы спустились вниз.
Янковская раздраженно посмотрела на Железнова, сейчас она не пыталась скрыть своей неприязни к нему.
– Ах это вы? – враждебно сказала она и кивнула куда-то в сторону. – Вы нам не нужны!
Железнов вопросительно взглянул на меня.
– Вы нам не нужны! – вызывающе повторила она. – Выходите из машины!
– Ладно, Виктор, – сказал я. – Не стоит спорить с капризной женщиной.
Он вылез на тротуар.
– Я пойду домой, – сказал он.
– Куда хотите, – ответила Янковская. – У вас хватает дел без господина Берзиня.
Я не хотел ей перечить. Янковская была человеком действия, и, если бралась за дело, лучше было с нею не спорить.
– Садитесь! – почти крикнула на меня Янковская и села сама за руль.
Железнов пожал плечами и спокойно, как всегда, точно ему ничто не угрожало, пошел по улице.
Янковская, злая и стремительная, с места повела машину на большой скорости.
Мы нигде не могли настигнуть Гренера: его не было ни дома, ни в госпитале. Наконец мы узнали, что он находится в канцелярии гаулейтера. Нам пришлось ждать, когда он освободится. Мы вернулись к нему домой – Янковскую без разговоров впустили в квартиру – и принялись ожидать возвращения хозяина.
Янковская обзвонила все места, где мог появиться Гренер.
– Передайте господину профессору, чтобы он поскорее возвращался домой, – повсюду передавала она. – Скажите, что звонила госпожа Янковская.
Однако господин профессор явился сравнительно поздно.
– Что случилось, моя дорогая? – встревоженно спросил Гренер, войдя в гостиную и целуя Янковской руку. – Надеюсь, вы меня извините, меня задержал барон.
Он поздоровался со мной, и я бы не сказал, что очень приветливо.
– Мы разыскиваем вас уже часа четыре, – нетерпеливо сказала Янковская. – Надо срочно что-то сделать с Эдингером!
Гренер бросил беглый взгляд на меня и опять повернулся к Янковской.
– Может быть, вы разрешите предложить вам чашку кофе?
– Ах, да какой там кофе, когда я говорю об Эдингере! – нервно воскликнула она. – Давайте говорить о делах, а не о кофе!
Гренер опять неприязненно посмотрел на меня и вновь повернулся к Янковской.
– Но я не знаю… – промямлил он. – Господин Берзинь… Удобно ли…
– Ах, да ведь вы отлично знаете, что Берзинь – свой человек! – с досадой произнесла Янковская. – Генерал Тейлор заинтересован в нем не меньше, чем в вас!
Мне показалось, что замечание о нашей равноценности не доставило Гренеру удовольствия.
– Хорошо, дорогая! – послушно произнес он. – Если господин Берзинь осведомлен о ваших делах, давайте поговорим.
Он больше не смотрел на меня, но мое присутствие, я не ошибался, было ему неприятно.
– Эдингер начинает усердствовать сверх меры, – холодно сказала Янковская. – Вы как-то говорили, что хотели бы видеть на посту начальника Рижского гестапо своего друга Польмана и что можете это сделать. Мне кажется, пришло время доказать, что вы хозяин своего слова.
Гренер любезно улыбнулся.
– Я действительно хотел бы видеть в Риге своего друга Польмана, – согласился он. – И у меня достаточно связей, чтобы он получил в Берлине такое назначение. Но только не вместо Эдингера…
Он закивал своей птичьей головой.
– Только не вместо Эдингера, – настойчиво повторил он. – Эдингеру лично покровительствует Гиммлер, и, пока Эдингер не получил какого-либо повышения, Польману здесь не бывать.
– Ну а если Эдингера здесь не будет? – испытующе спросила Янковская. – Вы уверены, что на его место назначат Польмана?
– Так же, как и в том, что вижу сейчас вас перед собой, – уверенно сказал Гренер. – Но я не вижу способа избавиться от Эдингера.
Янковская холодно усмехнулась.
– О! Что-что, а способ устроить для него повышение найдется!..
Гренер опять закивал своей птичьей головкой.
– Я боюсь, вы переоцениваете свои возможности, дорогая…
– А вы недооцениваете возможностей заокеанской разведки, профессор, – холодно возразила Янковская. – Стоит дать команду, и обергруппенфюрер Эдингер взлетит так высоко…
– Увы! – не согласился с ней Гренер. – Ни на Гиммлера, ни на Гитлера генерал Тейлор никак не может повлиять!
– Но зато он может повлиять на самого господа бога, – насмешливо произнесла Янковская. – Ни Гитлер, ни Гиммлер не помешают отправить вашего Эдингера к праотцам.
– На это я не даю согласия! – крикнул Гренер. – Эдингер – честный человек, и я не хочу доставлять место Польману ценой человеческой жизни!
– А я с вами не советуюсь, как поступить с Эдингером! – крикнула в свою очередь Янковская. – Я спрашиваю вас, гарантируете ли вы, что в случае исчезновения Эдингера на его пост назначат Польмана?
– Что касается Польмана, я уверен, но, повторяю, я не согласен на устранение Эдингера… – Гренер впервые повернулся ко мне за все время этого разговора. – Господин Берзинь, или как вас там! Я надеюсь, вы не возьметесь за такое дело…
Он, кажется, решил, что это именно мне Янковская предполагает поручить устранение Эдингера. Но Янковская не позволила мне ответить.
– Да скажите же ему, что вы имеете особое поручение от Тейлора! – закричала она на меня. – Профессор все сводит к личным отношениям, но забывает, что есть интересы, ради которых приходится забывать о себе!
– Нет! Нет! И нет! – закричал вдруг Гренер, приходя в необычайное возбуждение. – Я ничего не хочу делать для господина Блейка! Вы испытываете мое терпение! Я предупрежу Эдингера…
И тут Янковская проявила всю свою волю.
– Не орите! – прикрикнула она на Гренера. – Ревнивый журавль!
И он не посмел ей ответить.
– Слушайте, – медленно произнесла она сдавленным голосом. – Эдингер – не ваша забота. Но если вы сейчас же не примете мер к тому, чтобы в Ригу был назначен Польман, я никогда – слышите? – никогда не уеду с вами за океан. Больше того, я наплюю на все, не побоюсь даже Тейлора – вы меня знаете! – и завтра же исчезну из Риги вместе с Дэвисом. Вместе с Дэвисом! Вы хотите этого?
И вот этого Гренер не захотел!
– Отто! Берндт! – взвизгнул он. – Где вы там?!
В гостиную влетел один из его денщиков.
– Кофе! Где кофе, наконец?! – визгливо забормотал он. – Сколько времени можно дожидаться? И госпожа Янковская, и господин Берзинь, и я, мы уже давно ждем…
Денщик – уж не знаю, кто это был: Отто или Берндт, – ошалело взглянул на Гренера и через две минуты – это была уже магия дисциплины! – внес в гостиную поднос с кофе и ликерами.
– Разрешите налить вам ликера? – обратился Гренер к Янковской.
По-видимому, это значило, что зверь укрощен.
– Налейте, – согласилась она и, совсем как кошка, лизнув кончиком языка краешек рюмки, безразлично спросила: – Вы когда будете звонить Польману?
– Сегодня ночью, – буркнул Гренер и обратился ко мне: – Может быть, вы хотите коньяку?
– Мы хотим ехать, – сказала Янковская. – У нас есть еще дела.
– Опять с ним? – сердито спросил Гренер.
– Да, с ним, – равнодушно ответила Янковская. – И еще тысячу раз буду с ним, если вы не оставите свою глупую ревность…
Она направилась к выходу, и Гренер послушно пошел ее провожать.
– Вы можете намекнуть своему Польману, – сказала она уже в передней, – что Эдингер чувствует себя очень плохо. И вы, как врач, весьма тревожитесь за его здоровье.
Мы опять очутились в машине.
– А теперь куда? – поинтересовался я.
– В цирк, – сказала Янковская. – Я хочу немного развлечься.
К началу представления мы опоздали, на арене демонстрировался не то третий, не то четвертый номер, но это не огорчило мою спутницу.
Мы сидели в ложе, и она снисходительно посматривала то на клоунов, то на акробатов.
– Вот наш номер, – негромко заметила она, когда объявили выход жонглера на лошади Рамона Гонзалеса.
Оркестр заиграл бравурный марш, и на вороной лошади в блестящем шелковом белом костюме тореадора на арену вылетел Гонзалес…
Оказалось, я его знал!
Это был тот самый смуглый субъект, который дежурил иногда в гостинице у дверей Янковской.
Надо отдать справедливость, работал он великолепно. Ни на мгновение не давал он себе передышки.
Лошадь обегала круг за кругом, а в это время он исполнял каскад разнообразных курбетов, сальто и прыжков. Ему бросали мячи, тарелки, шпаги, он ловил их на скаку и заставлял их кружиться, вертеться и взлетать, одновременно наигрывая какие-то мексиканские песенки на губной гармонике. Но самым удивительным было его умение стрелять. Это действительно был Первоклассный – да какое там первоклассный! – феноменальный снайпер. Гонзалес выхватил из-за пояса длинноствольный пистолет, и одновременно служители подали ему связку обручей, обтянутых цветной папиросной бумагой. Он взял их в левую руку, в правой держа пистолет. В цирке пригасили свет, цветные лучи прожекторов упали на арену, и наездник становился попеременно то голубым, то розовым, то зеленым. В оркестре послышалась дробь барабана. Лошадь галопом помчалась по кругу, а Гонзалес, не выпуская пистолета, хватал правой рукой диски, бросал вверх перед собой и, когда цветные диски взлетали к куполу, стрелял в них, продырявленные диски быстро плавно возвращались обратно, Гонзалес подхватывал их головой, и они повисали у него на плечах…
Этот человек имел изумительный глазомер и выработал необыкновенную точность движений!
Я с интересом наблюдал за его искусной работой… Не знаю почему, но мне вспомнился вечер на набережной Даугавы…
– Да, этот Гонзалес неплохо владеет пистолетом, – сказал я. – У меня такое чувство, точно я уже сталкивался с его искусством…
– Возможно, – согласилась Янковская. – Только это никакой не Гонзалес, а самый обыкновенный ковбой, и зовут его просто Кларенс Смит.
Он еще несколько раз метнул свои диски, выстрелил в них, поймал и спрыгнул с лошади. Вспыхнул свет, прожектора погасли, Гонзалес, или, как его назвала Янковская, просто Смит, принялся раскланиваться перед публикой.
Он остановил свой взгляд на Янковской, а она приложила кончики пальцев к губам и послала артисту воздушный поцелуй.
Как только объявили номер каких-то эксцентриков, Янковская заторопилась к выходу.
– Вы устали или надоело? – осведомился я.
– Ни то и ни другое, – ответила она на ходу. – Не надо заставлять себя ждать человека, которому еще предстоит серьезная работа.
Мы ожидали Гонзалеса у выхода минут пять, пока он, по всей вероятности, переодевался.
Он быстро подошел к Янковской и схватил ее за руку.
– О! – сказал он, бросая на меня колючий неласковый взгляд.
– Быстро! Быстро! – крикнула она ему вместо ответа.
Через минуту мы уже опять неслись по улицам сонной Риги, а еще через несколько минут сидели в номере Янковской.
– Познакомьтесь, Кларенс, – сказала она, указывая на меня. – Это Блейк.
– Нет! – резко сказал он. – Нет!
– Что «нет»? – спросила Янковская со своей обычной усмешечкой.
– Я не хочу пожимать ему руку. Он мой враг!
– Не валяй дурака, – примирительно сказала Янковская. – Никакой он тебе не враг.
– Ладно, останемся каждый при своем мнении! – ворчливо пробормотал Смит. – Что тебе от меня нужно?
– Поймать бешеную лошадку, – сказала Янковская.
– Кого это еще требуется тебе заарканить? – спросил Смит.
– Начальника гестапо Эдингера, – назвала Янковская.
– Ну нет, за такой дичью я не охочусь, – отказался Смит. – Потом мне не сносить головы.
– Тебе ее не сносить, – сказала Янковская, – если Эдингер останется в гестапо.
– Мне он не угрожает, – сказал Смит, посмотрел на меня прищуренными глазами и спросил: – Это вам он угрожает?
– Хотя бы, – сказал я. – Я прошу вас о помощи.
– Туда вам и дорога, – пробормотал Смит, придвинулся к Янковской и сказал: – Я бы перестрелял всех мужчин, которые вертятся возле твоей юбки.
– Надо бы тебе поменьше ерепениться, – сказала Янковская. – Это Шериф требует смерти Эдингера.
Я не знал, кто подразумевался под этим именем, но вполне возможно, что это был все тот же генерал Тейлор.
– Знаю я, какой это Шериф! – мрачно проговорил Смит и указал на меня. – Гестапо небось собирается кинуть этого парня в душегубку, и тебе хочется его спасти.
– Вот что, Кларенс… – Янковская вцепилась в его руку. – Если ты не сделаешь этого, тебе не видать меня в Техасе. Не будет ни дома на ранчо, ни холодильника, ни стиральной машины. Ищи себе другую жену!
– Все равно ты меня обманешь! – пробормотал Смит и закричал: – Нет! Нет! И нет! Пусть они подохнут, все твои ухажеры, может, я только тогда тебя и получу, когда тебе не из кого будет выбирать!
– Кларенс! – прикрикнула на него Янковская. – Ты замолчишь?
– Как бы не так! – закричал он в ответ. – Ты что же, за дурака меня считаешь? Ты думаешь, я забыл тот вечер, когда ты помешала его задушить? Теперь я и рук марать об него не буду, пойду в гестапо и просто скажу, что твой Блейк, или Берзинь, или как он там еще теперь называется, на самом деле русский офицер…
Янковская стремительно вскочила и подбоченилась, совсем как уличная девка.
– Пуговицу, Блейк, пуговицу! – крикнула она. – Нечего с ним церемониться! Покажите ему пуговицу!
Я послушно достал пуговицу и разжал ладонь перед носом Смита.
Янковская оказалась права, когда назвала эту пуговицу талисманом. Этот упрямый и разозленный субъект уставился на нее как завороженный…
Он с сожалением посмотрел на нее, потом на меня и, точно укрощенный зверь, подавил вырвавшееся было у него рычание.
– Ваша взяла, – выдавил он из себя. – Ладно, говорите.
– Двадцать раз, что ли, говорить?! – крикнула Янковская. – Тебе сказано: заарканить Эдингера, а иначе…
– Ладно-ладно! – примирительно оборвал он ее. – Говори, где, как и когда.
14. Ночная серенада
После вышеописанной драматической сцены последовал самый прозаический разговор.
Янковская и Смит хладнокровно и обстоятельно обсуждали, как лучше убить Эдингера, изобретали всевозможные варианты, учитывали все обстоятельства и взвешивали детали.
Проникнуть в гестапо было невозможно, и, кроме того, Эдингера окружал целый сонм сотрудников; напасть, когда он ехал в машине, было безнадежным предприятием: особняк, в котором он жил, охранялся не хуже городской тюрьмы…
Всего уязвимее была квартира некой госпожи Лебен, у которой Эдингер проводил иногда вечера.
Этот мещанин, всеми правдами и неправдами выбившийся, так сказать, в люди, считал, кажется, хорошим тоном иметь любовницу, во всяком случае, он не только не делал из этого тайны, но даже афишировал свою связь.
Сама госпожа Лебен была особой весьма незначительной, молва называла ее артисткой, возможно, она и на самом деле была маленькой актрисочкой, прилетевшей в оккупированную Ригу, как муха на запах меда, чтобы тоже поживиться чем можно из награбленных оккупантами богатств.
Она занимала квартиру в большом, многоэтажном доме и неплохо чувствовала себя под покровительством человека, внушавшего ужас местному населению.
Охрана не докучала своему шефу, когда он предавался любовным утехам, и Смит считал, что организовать на него охоту лучше всего в это время.
– Даже лошади глупеют от любви, – деловито констатировал Смит. – Завтра вечером я обратаю его за милую душу!
На том они и порешили.
На следующее утро я поинтересовался у Янковской:
– Что это за тип?
Она небрежно пожала плечами:
– Мой брави!
– Он имеет на вас какие-то права?
– Кто может иметь на меня какие-то права? Разве только чья-нибудь секретная служба…
Она усмехнулась, но ей не было весело, я это отлично видел.
– Ну а все-таки, что это за субъект? – настаивал я. – Что это за ковбой на службе у заокеанской разведки?
– Натура малозагадочная, – пренебрежительно отозвалась она. – Каким вы его видели, такой он и есть. Пастух из Техаса, отличный наездник и стрелок, считает себя стопроцентным янки, хотя, вероятно, в его жилах все-таки течет мексиканская кровь. Его умение вольтижировать и стрелять привлекло внимание какого-то проезжего антрепренера, и тот сманил его в цирк. Те же качества привлекли к нему внимание разведки. Ему дали несколько поручений, он их успешно выполнил. Работает он исключительно из-за вознаграждения, копит деньги. Поручения ему даются самые несложные, для выполнения которых не требуется быть мыслителем. Поймать, отнять, убить… Гангстер! Смел, исполнителен, молчалив. Большего от него и не хотят. У него одна мечта: накопить денег, купить в Техасе ранчо, построить дом, с гаражом, с холодильником, со стиральной машиной, и привести туда меня в качестве хозяйки.
Я испытующе взглянул на нее:
– А как вы сами относитесь к такой перспективе?
– Я его не разочаровываю, – призналась она. – Пусть надеется, так он будет послушнее.
– А когда вы его обманете?
– Тогда я буду для него недосягаема, – жестко сказала она. – Он уже не сможет меня убить.
– Ну, а если…
– Догадается? – Янковская улыбнулась. – Тогда…
Она щелкнула пальцами, и ее жест не оставлял никаких сомнений в том, что сама она не поколеблется пристрелить этого претендента на ее руку, если тот вздумает ей мешать.
Мы помолчали.
– Вы уверены, что все кончится успешно? – спросил я.
– Конечно, – сказала она без какого бы то ни было колебания. – Все предусмотрено.
Мне, пожалуй, не следовало бы присутствовать при расправе с Эдингером, но я хотел собственными глазами убедиться в том, что я и Железнов избавились от грозящей нам опасности.
– Я хотел бы это видеть, – сказал я.
– Не испугаетесь? – спросила она с легкой насмешкой.
– Нет, – сказал я. – Я не из пугливых.
– Вот это мне нравится, – одобрила она. – Вы входите во вкус нашей работы.
– Что вы хотите этим сказать?
– Сначала мы смотрим, а потом начинаем действовать сами.
– А как же мне увидеть нашу работу?
– Вы можете сесть в сквере и наблюдать издали, но как только все произойдет, сейчас же удаляйтесь. Никто не знает, что последует дальше.
Она передернула плечами:
– Дайте мне рюмку водки.
Все-таки она нервничала.
– До вечера, – сказала она на прощание. – Вечером я провожу вас в театр.
Она выпила водку и ушла.
Да, все эти люди делали, в сущности, одно дело, служили одному хозяину, и в то же время как же они ненавидели друг друга!
Если бы не Железнов, мне было бы гораздо тяжелее переносить постоянное общение с этими людьми и притворяться, что я один из них. Близость Железнова позволила мне в самых тяжелых обстоятельствах не утрачивать чувства локтя.
Еще до утреннего разговора с Янковской мы провели вместе с Железновым почти всю ночь.
Я рассказал ему о решении уничтожить Эдингера.
– Оно неплохо бы, – согласился Железнов и неуверенно усмехнулся. – Однако об этом придется доложить. Тут можно и напортачить.
Мы с тревогой спросили друг друга: даст ли наше начальство согласие на ликвидацию Эдингера, и захочет ли, в конце концов, и сумеет ли Смит устранить его – в какой-то степени от этого зависела наша судьба. Но не в характере Железнова было сидеть у моря и ждать погоды. Мы приступили к работе – следовало спешить, потому что, мы это чувствовали, над нами день ото дня сгущались тучи.
Мы держали перед собой адрес Озолса и просматривали открытку за открыткой.
На открытках с цветами были цифры, и на открытках с видами Латвии были цифры, но адрес и цифры нам никак не удавалось сочетать.
Мы долго бились над расшифровкой этих цифр. Шифры в наше время стали очень сложны, и такой опытный работник разведки, каким являлся Блейк, должен был пользоваться самым изощренным шифром. Поэтому я не буду описывать наших попыток раскрыть тайну цифровых знаков Блейка, а только скажу, что, несмотря на все наши старания, мы так ничего и не добились.
Когда мы почти уже совсем отчаялись, на Железнова вдруг снизошло вдохновение, – он принялся пересматривать открытки не с той стороны, где пишется текст и где написаны были цифры, а с лицевой, где напечатаны были картинки, он взглядывал время от времени на адрес и всматривался в улицы, площади и здания, изображенные на открытках…
– Подожди-ка! – вдруг закричал он. – Эврика! Он схватил адрес, прочел: «Мадона, Стрелниеку, 14», – потом подал открытку мне.
– Что здесь изображено? – спросил он.
На открытке виднелась какая-то провинциальная улица, я посмотрел на обратную сторону и прочел надпись: «Мадона, Стрелниеку».
Не был только указан номер дома, в котором жил Озолс…
Вместо того чтобы записать местожительство Озолса, дом засняли на почтовой открытке…
Незабудка жила на Стрелковой улице в Мадоне!
Оставалось только разгадать тайну цифр, но к утру мы не успели это сделать.
– Еще одна–две ночи, и все станет ясно, – сказал Железнов. – Если только раньше Эдингер или его преемник не отрубят нам головы.
Потом мы решили поспать хотя бы несколько часов, потом Марта позвала нас завтракать, потом пришла Янковская, и день завертелся обычным колесом.
Железнов с утра ушел из дома и вернулся только в сумерках. Я услышал на кухне его голос и пошел за ним, но не успел раскрыть рта, как Железнов оттопырил на руке большой палец: это без слов говорило, что все в порядке и что согласие на уничтожение Эдингера дано.
Мы с Железновым заранее решили, что на место происшествия пойду я один: рисковать обоим не следовало.
Янковская появилась очень поздно, наступила уже ночь.
– Пойдем пешком, – сказала она. – Машина будет только мешать.
Мы не спеша дошли до дома, в котором жила госпожа Лебен. Везде было очень темно, редкие прохожие торопливо проходили мимо.
Несколько наискось, шагах в двухстах от интересовавшего нас дома, находился сквер.
Мы сели на скамейку, Янковская положила мне на плечо руку. Нас можно было принять за влюбленную парочку.
– Это хоть и не кресло в партере, – сказана Янковская, – но отсюда все будет видно. Вы своими глазами убедитесь в том, что Эдингер больше не опасен.
Над нашими головами мерцали звезды, шелестела листва деревьев, пахло душистым табаком, обстановка была очень поэтичная.
– Я пойду, – сказала Янковская. – Я не слишком люблю цирковые номера…
Она оставила меня в одиночестве.
Я сидел и всматривался в громаду немого многоэтажного дома.
Госпожа Лебен жила на пятом этаже, и мне было интересно, как сумеет забраться туда неподражаемый Гонзалес.
Все, что затем последовало, было настолько необычно, дерзко и, я бы сказал, театрально, что, появись описание такого происшествия в приключенческом романе, обязательно нашлись бы критики, которые обвинили бы автора в неправдоподобии…
Но тут уж ничего не поделаешь! Никакая фантазия не может угнаться за жизнью, а люди с ограниченным мышлением не верят ни в межпланетные путешествия, ни в необычные ситуации, в каких не так уж редко оказываются люди…
Хотя и странно хвалить убийц, надо отдать справедливость Янковской и Смиту – они оказались мастерами своей профессии. Именно театральность, необычность и дерзость обеспечили успех покушения на Эдингера.
В полночь, может быть, несколькими минутами позднее, появился, как это ему и положено, сам дьявол, потому что в той преисподней, какой являлось рижское гестапо, Эдингер, несомненно, был дьяволом.
Он подъехал в машине в сопровождении нескольких эсэсовцев и тотчас скрылся в подъезде, один из эсэсовцев исчез в воротах, другой остался на улице, остальные шумно о чем-то посовещались и укатили обратно.
Эсэсовец, оставшийся на улице, постоял перед домом и затем двинулся в сторону сквера. Напевая какую-то лирическую песенку, он медленно зашагал по дорожке и, хотя был, по-видимому, в очень благодушном настроении, скорее по привычке, чем в силу какой-то особой настороженности, внимательно посматривал по сторонам.
Разумеется, он заметил меня.
Он приблизился и пальцем ткнул мне прямо в грудь.
– Кто такой?
– А вы кто? – ответил я ему, набравшись нахальства, но тут же поспешил добавить: – Стерегу шефа!
Чем-чем, а таким ответом нельзя было его удивить: всяких сыщиков, ищеек и соглядатаев хватало в ту пору в Риге!
Эсэсовец ухмыльнулся и понимающе кивнул в сторону дома.
– Голубки воркуют, а ты скучай… – Он сочувственно похлопал меня по плечу. – Сиди-сиди, а я схожу, пропущу рюмочку шнапса…
Он принял меня за сотрудника тайной полиции.
Он даже козырнул мне, вышел из сквера и скрылся за углом.
Около часа ночи из-за угла появился какой-то человек в черном плаще, в каких обычно выходят на сцену оперные убийцы.
То был ожидаемый мною Кларенс Смит, он же Рамон Гонзалес.
В этом пастухе из Техаса была какая-то врожденная артистичность, и, если бы он тратил свои способности не на шпионаж и убийства, возможно, он остался бы в истории цирка как большой артист…
Но – увы! – он любил только деньги и госпожу Янковскую, впрочем, последнюю, как мне казалось, несколько меньше, чем деньги!
Смит прошелся вдоль дома, посмотрел на окна верхнего этажа и поднес к губам какой-то темный предмет (я сперва не разобрал, что это такое), минуту стоял молча и вдруг издал нежный протяжный звук…
Это была простая губная гармоника!
Смит проиграл лишь одну музыкальную фразу и смолк, опять посмотрел вверх и скрылся в тени…
И вдруг откуда-то из темноты полились звуки одновременно задорной и грустной песенки…
Странная это была мелодия, вероятно, какая-нибудь мексиканская или индейская песня, давным-давно слышанная Смитом где-нибудь в пустынных, неприветливых прериях, и ее исполнение говорило о незаурядном таланте исполнителя.
Нежная и жалобная мелодия лилась, как серебристый ручеек, разливалась вдоль улицы, поднималась вверх, таяла в ночном небе. Песенка звала, завораживала, призывала…
Должно быть, так вот завораживают звуками своих дудочек укротители змей. Вероятно, это сравнение пришло ко мне позже, в тот момент я не думал ни о каких укротителях – меня самого околдовали эти звуки.
Но было в этой мелодии и что-то раздражающее, что-то опасное…
Кое-где осторожно хлопнули створки оконных рам, кто-то выглянул, распахнулись створки окна и на пятом этаже, и Эдингер (я не сомневался, что это он), движимый, вероятно, еще и профессиональным любопытством, высунулся из окна…
Дудочка сделала свое дело: змея высунула голову из корзины!
Должно быть, еще внимательнее, чем я, следил за всем происходящим Кларенс Смит…
Он вдруг появился из темноты, можно сказать, вступил на подмостки…
Я не мастер описывать эффектные сцены, но все происходило, как в американских фильмах, – вероятно, Смит насмотрелся в своей жизни немало голливудских боевиков. И хотя для описания всего того, что произошло дальше, потребовалось бы не более минуты, на самом деле все произошло еще быстрее. –
Песенка приблизилась ко мне, – ее исполнитель почти демонстративно продефилировал по мостовой перед домом, чем еще сильнее возбудил любопытство своих немногочисленных слушателей. Он даже как будто поклонился Эдингеру, снова поднес к губам гармонику и заиграл быстрый, веселый и, я бы сказал, даже насмешливый мотив…
Вероятно, Эдингер рассердился, что кто-то посмел нарушить его покой. Он перегнулся через подоконник и что-то закричал, всматриваясь в темноту…
В этот момент Смит прислонился спиной к стволу дерева, вскинул руку, и я услышал сдавленный крик…
Но выстрела я не услышал…
Господин Гонзалес пользовался бесшумным пистолетом! Вот когда мне стали понятны некоторые таинственные обстоятельства моей прогулки с госпожой Янковской по набережной Даугавы…
Вслед за выкриком Эдингера раздался женский вопль.
Артисту следовало убегать со сцены. Он это и сделал.
Я тоже поспешил покинуть сквер и скрыться в ближайшем переулке.
Дома Железнов ожидал моего возвращения.
– Ну что? – спросил он.
– Порядок, – сказал я.
Утром Железнов принес номер «Тевии» – газеты, выходившей в Риге в годы немецкой оккупации.
В газете было напечатано короткое сообщение о том, что начальник гестапо обергруппенфюрер Эдингер мужественно погиб при исполнении служебных обязанностей…
К вечеру вся Рига говорила, что Эдингер лично руководил захватом подпольного антифашистского центра и был убит некой Лилли Лебен, оказавшейся немецкой коммунисткой, специально засланной в Ригу для совершения террористических актов и под видом артистки варьете вкравшейся в доверие к обергруппенфюреру…
Торжественные похороны состоялись два дня спустя.
Впервые в жизни госпожа Эдингер плакала, не испросив на то разрешения своего мужа. Гиммлер прислал ей сочувственную телеграмму, а военный оркестр сыграл над могилой обергруппенфюрера «Стражу на Рейне».
15. В тени кактусов
Господин Вильгельм фон Польман не замедлил прибыть на освободившееся место: если профессор Гренер не имел возможности убрать Эдингера, то его влияния было достаточно, чтобы добиться назначения Польмана.
В квартире Гренера я познакомился с новым начальником гестапо через день или два после его прибытия.
Он не походил на своего предшественника ни внешне, ни внутренне. С виду он напоминал преуспевающего аптекаря или дантиста. Черные, коротко подстриженные, слегка вьющиеся волосы, большие, темные, немного навыкате глаза, крупный мясистый нос и пухлые, влажные губы…
Он был спокоен, сдержан, невозмутим, вежливо посматривал на всех сквозь роговые очки, любезно всех выслушивал.
Но не прошло и нескольких недель, как в своей деятельности Польман намного превзошел неуравновешенного Эдингера!
Эдингер, как рассказывали о нем его сотрудники, легко мог взбеситься при допросе какого-нибудь чрезмерно упрямого и неразговорчивого заключенного и собственноручно наброситься на него с кулаками или, цитируя Гитлера, прийти в раж, закатить глаза и буквально забыть все на свете. Напротив, Польман никогда не выходил из себя и никогда не снисходил до того, чтобы лично прикоснуться к лицу арестованного, но зато он классифицировал все виды пыток, которые применялись эсэсовцами, и особой инструкцией точно определил их последовательность. Польман запретил избивать подследственных кому попало и как попало, но зато увеличил штат специальных инструкторов и ввел в практику применение специальных инструментов для развязывания языков…
Словом, если Эдингер был, так сказать, воплощенная непосредственность, Польман был само хладнокровие и система. Кстати, следует сказать, что Польман вполне прилично играл на кларнете. Именно с музыки и началось наше знакомство при встрече у Гренера. Польман решил очаровать всех его гостей и исполнил на кларнете несколько старинных тирольских танцев. И, пожалуй, именно в связи с приездом Польмана я был наконец удостоен приглашения на дачу к профессору Гренеру.
– Дорогой Август, – проквакал он мне после ужина, – я буду искренне рад, если вы не откажетесь провести у меня за городом ближайшее воскресенье.
К себе на дачу Гренер приглашал только близких друзей, и это приглашение я объяснил не столько его дружелюбием, сколько вниманием, проявленным ко мне генералом Тейлором. Однако я не угадал: он пригласил меня потому, что приготовил, как он воображал, ошеломляющий сюрприз…
А сюрприз от господина Польмана я получил еще раньше.
На четвертый или на пятый день после появления Польмана в Риге Марта вручила мне простой серый конверт, в котором оказалась обычная повестка, вызывающая господина Августа Берзиня в канцелярию гестапо к 13 часам 15 августа 1942 года.
Конечно, вызов мог быть сделан и каким-нибудь мелким чиновником, неосведомленным о том, кем является господин Август Берзинь на самом деле, но, как затем оказалось, вызов был сделан вполне осведомленным лицом.
Я явился к тринадцати часам. В комендатуре потребовали документ, хотя отлично знали меня по предыдущим визитам к Эдингеру. Господин Польман наводил порядок и в самом гестапо.
Меня направили на второй этаж, там заставили подождать, переправили на четвертый, на четвертом снова заставили дожидаться, отправили на третий, на третьем отвели к кабинету Польмана и еще заставили подождать.
Мне это не слишком понравилось, но поднимать бунт не было смысла, – это было что-то вроде психический подготовки: мол, знай сверчок свой шесток. Наконец Польман пригласил меня к себе.
Он был все также спокоен и невозмутим, как и при встрече у Гренера.
Он слегка улыбнулся и пытливо посмотрел на меня сквозь очки.
– Если бы мы встретилась до войны, я бы не заставил вас дожидаться, – произнес он. – Если бы вы были только британским офицером, я бы немедленно направил вас в лагерь. Но поскольку вы являетесь нашим сотрудником, я пригласил вас к себе и принял в порядке очереди.
Он смотрел на меня, я сохранял полное спокойствие.
– Можете сесть, – сказал Польман в тоне приказания.
Я сел.
– Я вас вызвал затем, чтобы сказать, что мы вами недовольны, – продолжал Польман. – Я ознакомился с докладами обергруппенфюрера Эдингера еще в Берлине. Вы должны были передать нам свою агентурную сеть еще… – он извлек из-под руки какую-то крохотную шпаргалку, – еще в прошлом году. Потом вам дважды предоставляли отсрочку. Вы слишком затянули это дело. Я даю вам еще месяц, капитан Блейк. Если через месяц вы не передадите нам агентурной сети, я отправлю вас в лагерь как британского шпиона, причем на вашем документе будет сделана пометка: «Возвращение нежелательно». – Его улыбка сделалась еще любезнее. – Я советую оправдать наше доверие и хочу предупредить, что при мне в полиции не может быть такого беспорядка, как при обергруппенфюрере Эдингере. Если я говорю «месяц», это и значит месяц; если я говорю, что вы попадете в лагерь, вы в него попадете.
Это было сюрпризом и в том смысле, что обещало мне скорое возвращение домой: в лагерь я попадать не собирался, и, значит, за месяц необходимо было выполнить свое задание…
…Быть моим проводником на дачу к Гренеру взялась Янковская.
– Виктора мы не возьмем, – категорически сказала она. – Он не пользуется моим доверием.
Она появилась в воскресенье раньше обычного, оживленная, нарядная, В светлом летнем костюме какого-то блекло-фисташкового оттенка, в широкополой соломенной шляпе, украшенной фиалками…
Она потребовала, чтобы и я надел светлый костюм.
– Я хочу, чтобы сегодня все было очень празднично, – сказала она. – Может быть, это последний веселый день в моей жизни.
Предчувствие не обманывало ее: не много веселых дней оставалось у нее впереди.
Мы выехали на шоссе. Свежий ветер бил нам прямо в лицо. Мелькали пригородные домики.
– Куда мы едем? – спросил я.
– В Лиелупе! – крикнула она. – Мы будем там через полчаса!
Она сбавила скорость.
– Мы скоро расстанемся, – сказала она ни с того ни с сего.
Я удивился:
– Почему?
Она не ответила.
– Вы будете меня вспоминать? – вдруг спросила она вполголоса.
– Конечно, – сказал я.
Янковская не пыталась со мной заигрывать, она вообще больше уже никогда не предпринимала никаких попыток сблизиться со мной, но в это утро она была сама нежность. Она смеялась, шутила, вела себя так, точно к ней опять вернулись ее семнадцать лет.
Мы почти миновали Лиелупе, когда Янковская свернула в сторону, и вскоре поехали вдоль высокого кирпичного забора, из-за которого виднелись пышные купы деревьев.
– Вот мы и на месте, – со вздохом промолвила Янковская.
– Это дача Гренера? – удивился я.
Мы остановились перед высокими тяжелыми чугунными воротами, плотно зашитыми изнутри досками, выкрашенными черной краской под цвет чугуна.
Янковская попросила меня позвонить.
Сбоку у калитки белела кнопка звонка.
Я позвонил, из калитки тотчас вышел эсэсовец.
Он намеревался было о чем-то меня спросить, но увидел Янковскую, поклонился и пошел открывать ворота.
За воротами, когда мы уже въехали на территорию дачи, я увидел вышку, с которой просматривалась вся линия вдоль забора, на вышке стоял эсэсовец с автоматом.
От ворот тянулась аллея, очень широкая и очень чистая, уходившая в глубину парка. Мы медленно ее проехали. Налево показался двухэтажный дом, построенный в ультрасовременном стиле – серый куб с изобилием стекла и со стеклянными верандами наверху, выступающими, точно крылья самолета, над окнами нижнего этажа, чуть поодаль от дома виднелись два флигеля – должно быть, для прислуги или гостей, направо, за деревьями, открывался просвет, там тоже стояли какие-то постройки, а за ними раскинулся просторный луг…
Передо мной открылся самый настоящий аэродром!
Меня вдруг осенило.
– Скажите, Софья Викентъевна, – спросил я, – это и есть посадочная площадка, где приземлился наш босс?
– Вы догадливы! – отозвалась она, сопровождая свои слова обычным ироническим смешком. – Не могли же немцы принять его на одном из своих военных аэродромов!..
– Вообще странная дача, – заметил я. – Охрана, аэродром… – Я указал на дом и флигели. – А там какие-нибудь секретные лаборатории?
Янковская опять усмехнулась:
– Нет, дом действительно предназначен для Гренера, а во флигелях живут его питомцы.
И в самом деле, возле одного из флигелей я увидел детей: одни из них копались в песке, другие бегали.
Оказывается, молва не лгала: Гренер действительно устроил у себя на даче что-то вроде детского приюта. Этому чванному журавлю все же не чужды были человеческие чувства.
– Он здесь работает, – сказала Янковская, явно имея в виду нынешнего хозяина дачи. – Он большой ученый и много экспериментирует…
Она остановила машину перед домом – мы вышли, из подъезда опять показался какой-то эсэсовец, козырнул и повел машину куда-то за дом.
Гренер спешил уже навстречу Янковской:
– Мы ждали вас, дорогая…
Он поцеловал ей руку, поздоровался со мной и повел нас наверх. В очень просторной и светлой гостиной, уставленной цветами, сидели Польман и еще двое господ, которые, как выяснилось позднее, были высокопоставленными чиновниками из канцелярии гаулейтера Розенберга.
Оказалось, ждали только нас, чтобы приступить к завтраку.
Разговор за столом соответствовал обстановке. Мимоходом коснулись каких-то новых стратегических планов германского командования, с незлобивой иронией отозвались о последней речи Геббельса, а затем принялись рассуждать об абстрактной скульптуре, о превосходстве немецкой музыки над итальянской, о каких-то новых открытиях самого Гренера…
Я бы сказал, что все было очень мило, если бы от всех этих разговоров не веяло какой-то невероятной пустотой: обо всем говорилось столь бесстрастно, точно все темы были равно безразличны и неинтересны собеседникам.
Да, все было очень мило, но меня не покидало ощущение того, что всех находящихся здесь за столом людей связывала не только общность общественного положения, но и какие-то тайные узы, точно все здесь принадлежали к какому-то тайному ордену…
И у меня мелькнула мысль: не состоят ли все эти люди на службе у генерала Тейлора?..
За десертом подали шампанское, и, когда его разлили в бокалы, Гренер встал.
Он обвел взглядом своих приятелей, остановился на мне, и, когда заговорил, я понял, что именно меня собирался он поразить своим сюрпризом.
– Милые друзья! – сказал Гренер, сентиментально закатывая свои оловянные глаза. – Здесь, среди цветов, с освобожденной от всяких забот душой, я хочу обрадовать вас неожиданной вестью…
Он поднес к губам руку Янковской, и сразу все стало ясно.
– Я нашел себе подругу жизни, – сообщил он. – Госпожа Янковская оказала честь принять мое предложение, и скоро, очень скоро я смогу назвать ее своей супругой…
Старый журавль таял от блаженства. Бесспорно, Гренер не мог найти себе лучшей женщины. Янковская тоже не смогла бы устроить свою судьбу лучше, вместе с Гренером она получала положение в обществе, материальное благополучие, и, быть может, даже освобождение от своих бездушных господ.
Сама Янковская ничего не сказала, непонятно усмехнулась и позволила всем нам по очереди поцеловать свою руку.
Затем Гренер пожелал показать нам свою коллекцию кактусов.
Все вышли на громадную застекленную веранду.
Повсюду на специальных стеллажах стояли глиняные горшки со всевозможными кактусами. Здесь были растения, похожие на стоймя поставленное зеленое полено, и лежащие в горшках, точно груда серебристых колючих мячиков, и напоминающие растопыренную серую человеческую пятерню, и, наконец, столь бесформенные, что их уже ни с чем решительно нельзя было сравнить!
Генерал вел нас от растения к растению, с увлечением рассказывая, чем отличается один вид от другого и каких трудов стоило каждый из них выходить и вырастить.
Он коснулся пальцем одного из кактусов, вздохнул и не без кокетства указал на вторую дверь, выходившую на веранду.
– Когда мой мозг требует там отдыха, я прихожу к этим существам…
– Там ваш кабинет? – спросил один из гостей.
– Нет, лаборатория, – объяснил Гренер. – Я не мог не откликнуться на призыв фюрера помочь рейху в освоении восточных земель, но и здесь я продолжаю служить науке.
– А чем вы сейчас заняты, профессор? – поинтересовался гость. – На что устремлено ваше внимание?
– Я работаю над животными белками, – сказал Гренер. – Исследования по консервации плазмы…
Польман указал хозяину на закрытую дверь:
– Было бы крайне любопытно увидеть алтарь, на котором вы приносите жертвы Эскулапу!
Гренер снисходительно улыбнулся.
– Вряд ли моя лаборатория представляет интерес для непосвященных, – отозвался он, распахивая, однако, перед нами дверь лаборатории.
Большая светлая комната, ослепительная белизна множество стеклянной посуды…
Поодаль, у большою стола, стояли две женщины в белых накрахмаленных халатах; при виде нас они сдвинулись, по-солдатски выпрямились и смущенно поклонились, хотя Гренер почти не обратил на них внимания.
– Мои лаборантки, – сказал он, небрежно кивнув головой в их сторону.
И вдруг я заметил, что эти женщины как будто пытаются что-то скрыть, заслоняют что-то собой…
Позади них, вплотную придвинутый к большому столу, заставленному колбами, пробирками и пузырьками, стоял небольшой белый эмалированный столик на колесах, на каких в операционных раскладывают хирургические инструменты, а в лабораториях зоологов оперируют мелких животных.
Мне стало любопытно, что может скрываться под простыней, наброшенной поверх столика
Гренер проследовал своим журавлиным шагом мимо лаборанток и взял со стола штатив с пробирками, наполненными бесцветной жидкостью.
– С помощью этой плазмы мы сохраним жизнь многих достойных людей! – воскликнул он не без пафоса. – Ведь нет ничего драгоценнее человеческой жизни!
И в этот момент простынка, задетая Гренером, соскользнула со столика, одна из женщин тотчас подхватила ее и накинула обратно, но этого мгновения было достаточно, чтобы увидеть то, что скрывалось под простыней…
На столе лежал ребенок…
Гренер заметил мой взгляд, гримаса недовольства искривила его лицо.
– Извините… – Гренер слегка поклонился в нашу сторону. – Госпожа Даймхен! – позвал он одну из женщин. – На два слова.
Женщина постарше неуверенно приблизилась к Гренеру.
Как и всегда в минуты своего возбуждения, он зашипел и сердито что-то пробормотал, слегка повизгивая, как это делают во время сна старые псы.
Госпожа Даймхен побагровела.
Ужасная догадка промелькнула у меня!
– Простите, господин профессор, – обратился я к Гренеру. – Вы берете вашу плазму…
Гренер любезно повернулся ко мне.
– Да, мы экспериментируем с человеческой кровью, – согласился он. – Именно плазма человеческой крови дает богатейший материал для исследований…
Я не ослышался: Гренер невозмутимо и деловито признал, что этот ребенок принесен в жертву какому-то эксперименту…
Нет, мне никогда не забыть этого ребенка!
Игрушечное фарфоровое личико, правильные черты лица, черные шелковистые кудряшки, доверчиво раскинутые ручонки…
– Но позвольте… – Я не мог не возразить, пользуясь своей прерогативой свободолюбивого англичанина. – Английские врачи вряд ли одобрили бы вас! Приносить в жертву детей…
Гренер метнул еще один выразительный взгляд в сторону госпожи Даймхен.
– Вы чувствительны, как Гамлет, милейший Берзинь, – снисходительно произнес он. – Никто не собирался приносить этого ребенка в жертву, я только что сделал выговор госпоже Даймхен, это непростительная небрежность с ее стороны. Мы берем у детей немножко крови, но не собираемся их убивать. Наоборот, мы их отлично питаем, им даже выгодно находиться у меня. Эти дети принадлежат к низшей расе и все равно были бы сожжены или залиты известью. По крайней мере мы используем их гораздо целесообразнее…
Все же он был раздосадован неожиданным инцидентом и быстро повел нас прочь из лаборатории, пытаясь снова обратить наше внимание на новые разновидности кактусов.
Может быть, никогда еще в жизни мне не было так плохо…
И я вспомнил все, что говорилось о гуманизме профессора Гренера, вспомнил матерей, которые перед смертью благословляли его за спасение своих детей…
Должно быть, я недостаточно хорошо скрывал свое волнение.
Польман снисходительно притронулся к моей руке.
– Вы слишком сентиментальны для офицера, – назидательно упрекнул он меня. – Некоторые народы годятся только на удобрение. Ведь англичане обращались с индусами не лучше…
Но на остальных все, что мы видели, не произвело особого впечатления.
А мне чудилось, будто все кактусы на этой веранде приобрели какой-то розоватый оттенок…
С веранды Гренер повел нас в гостиную, играл нам Брамса, потом был обед, потом мы пошли в парк. Однако мысль моя все время возвращалась к ребенку…
Мы проходили мимо флигелей неподалеку от дома Гренера, Это были чистенькие домики, обсаженные цветами. Около них играли дети, тоже очень чистенькие и веселые. Женщина в белом халате следила за порядком.
– Как видите, они чувствуют себя превосходно, – заметил Гренер, кивая в сторону детей. – Я обеспечил им идеальный уход.
Да, я собственными глазами созерцал этот «идеальный» уход!
У многих детей руки на локтевых сгибах были перевязаны бинтами…
Маленькие доноры играли и гуляли, и счастливый возраст избавлял их от печальных мыслей о неизбежной судьбе.
– И много воспитанников в вашем детском саду? – спросил я.
– Что-то около тридцати, – ответил Гренер. – Мне приятно, когда вокруг звенят детские голоса. Они так милы… – Тусклые его глаза влюбленно обратились к Янковской. – Вкусу госпожи Янковской мы обязаны тем, что можем любоваться этими прелестными крохотными существами, именно она привозила сюда наиболее красивых особей…
Для характеристики Янковской не хватало только этого!
Возвращение мое с Янковской в Ригу было далеко не таким приятным, как утренняя поездка. Я молчал, и ей тоже не хотелось говорить.
Только в конце пути, точно оправдываясь, она спросила меня:
– Вы не сердитесь, Андрей Семенович? – И еще через несколько минут добавила: – Мне не остается ничего другого.
При въезде в город мы поменялись местами, я отвез ее в гостиницу и поспешил домой. Железнов уже спал, но я разбудил его.
Я рассказал ему обо всем: о поездке, об этой странной даче, о Гренере и Польмане, о кактусах и детях… Кулаки его стиснулись…
– Ты знаешь, когда Сталин назвал фашистов людоедами, я думал, что это гипербола, – сказал он мне. – Но мы видим, что это буквально так…
Всегда очень спокойный и сдержанный, он порывисто прошелся по комнате, остановился передо мной и твердо сказал:
– Нет, этого ни забыть, ни простить нельзя.
16. Свадебное путешествие
У Железнова в Риге было очень много дел, и я понимал, что работа его по связи рижских подпольщиков с партизанами могла прекратиться лишь одновременно с изгнанием гитлеровцев из Латвии. Зато с возложенным на меня заданием следовало спешить. Польман не хвастался, когда говорил, что не бросает слов на ветер, – в этом скоро убедилось все население Риги: там, где Эдингер пытался забрасывать удочки, Польман ставил непроходимые сети.
Постепенно Железнов раскрыл секрет таинственных цифр, и тогда он показался нам столь простым, что мы долго недоумевали, почему нам так упорно не давалась разгадка.
Для примера сошлюсь хотя бы на того же Озолса. На открытке с незабудками значилось число «3481», на открытке с видом Стрелковой улицы в Мадоне – «1843». Железнов всевозможным образом комбинировал эти цифры, пока не попытался извлечь из них число «14» – номер дома, в котором жил на Стрелковой улице Озолс. В числе «3481» это были вторая и четвертая цифры, причем читать число следовало справа налево; это же число значилось и на другой открытке, но только написанное в обратном порядке. Так мы, узнав сперва фамилии всех «незабудок» и «фиалок», установили затем, где эти «цветы» живут: город или поселок, улицу или площадь мы видели воочию, а номер дома заключался в обоих числах, которые связывали определенный цветок с определенным адресом. Нам оставалось только убедиться в реальности существования этих людей, так сказать, узнать их физически, узнать, как их полностью зовут и чем они занимаются.
В связи с этим мы с Железновым много поездили по Латвии, выезжали в маленькие города, на железнодорожные станции, в дачные местечки, встречались с этими людьми и все больше понимали, чего стоил наш улов.
Нет нужды подробно рассказывать о наших поисках и встречах, но о двух-трех стоит упомянуть, чтобы ясней стало, что это были за люди.
На одной из открыток был напечатан снимок вокзала в Лиепае, цифры, написанные на снимке, повторялись на открытке с изображением двух желтых тюльпанов. В списке Тюльпаном назывался некий Квятковский…
Мы нашли его на вокзале в Лиепае, он оказался помощником начальника станции. Я подошел к нему будто бы с намерением что-то спросить, показал открытку с тюльпанами, и этот Тюльпан сам потащил меня к себе домой. Дома он предъявил мне такую же открытку и спросил, что ему надо делать. Выяснилось, что может он очень многое: задержать или не принять поезд, что угодно и кого угодно отправить из Лиепае, и даже вызвать железнодорожное крушение.
Я поблагодарил его и сказал, что хотел проверить его готовность к выполнению заданий, которые он, возможно, скоро получит.
Действительно, по прошествии нескольких дней я представил ему Железнова, представил, разумеется, под другой фамилией, как своего помощника, от которого Квятковский будет непосредственно получать практические задания.
Железнов в свою очередь связал Квятковского с одним из руководителей партизанского движения, и Тюльпан, который отнюдь не питал добрых чувств ни к русскому, ни к латышскому народу, принял участие в подготовке нескольких серьезных диверсий на железнодорожном транспорте, убежденный в том, что выполняет поручения британского командования.
Еще более интересна была другая встреча.
На открытке была изображена Мариинская улица, одна из самых больших и оживленных торговых улиц Риги.
Адрес мы установили без труда: Мариинская, 39, Блюмс, и он же Фиалка.
В Блюмсе я узнал того самого заведующего дровяным складом, который приходил ко мне с предложением купить дрова. Я помнил, что он показывал мне какую-то открытку с цветами, но тогда я не придал значения его визиту и не запомнил, какие цветы он показывал.
Так вот, эта Фиалка оказалась «цветком» куда более серьезным, чем Тюльпан, и, по-моему, даже чем Незабудка.
Прежде всего этот маленький, кругленький человечек принялся меня экзаменовать, пока не убедился, что я действительно Блейк, – я уже достаточно вжился в этот образ, чтобы ни в ком не вызывать сомнений. Затем он стал упрекать меня в том, что я не хотел признать его, когда он ко мне являлся, – он запомнил все подробности своего посещения. Я сказал, что во время его посещения в соседней комнате у меня находился подозрительный человек, и я боялся подвести Блюмса. Кажется, я оправдал себя в его глазах. Выяснилось, что он приходил ко мне советоваться, как поступить с запасами бензина и керосина, находившимися тогда в городе: продать или уничтожить. И так как я не пожелал с ним разговаривать, предпочел, будучи коммерсантом, их продать.
В очень умеренной степени, правда, но я выразил удивление, какое отношение к бензину мог иметь заведующий дровяным складом, и узнал, что заведующим складом он стал после установления в Латвии Советской власти, а до этого был одним из контрагентов могучего нефтяного концерна «Ройял датч шелл», и связан со всеми топливными предприятиями в стране.
С этой Фиалкой, от которой шел густой запах керосина, я встретился два или три раза, он и при немцах, во всяком случае, до окончания войны, предпочитал оставаться заведующим дровяным складом, но, на мой взгляд, в буржуазной Латвии смело мог бы стать министром топливной промышленности. По своим связям, влиянию и пронырливости он без особого труда мог вызвать если не кризис, то, во всяком случае, серьезные перебои в снабжении прибалтийских стран горючим.
Материально Блюмс и при немцах жил с большим достатком: в его квартире было много дорогих ковров и хорошей посуды, немцы частенько захаживали к нему, и он занимался с ними какими-то коммерческими делами.
Короче говоря, люди Блейка в той тайной войне, которая постоянно ведется империалистическими государствами и в военное и в мирное время, были реальной силой, которую следовало учесть, в будущем обезвредить, и, может быть, даже уничтожить, а пока что использовать в борьбе против врага.
Но о том, как Железнов подключился к замороженной английской агентуре, как сумел связать с нею деятелей антифашистского подполья, как удавалось иногда заставить ее работать на нас, я рассказывать не буду, хотя об этом можно было бы написать целую книгу…
Из числа тех, кто значился в списке, мы не нашли троих, они не жили по адресам, указанным в картотеке Блейка. Когда-то жили, но уехали. Соседи не знали куда. Возможно, бежали куда-нибудь от войны: на запад или на восток, сказать было трудно.
По четырем адресам мы с Железновым так и не успели побывать: неожиданный поворот событий помешал нам это сделать, – а после войны из этих четырех человек нашли лишь одного Гиацинта.
К счастью, в нашу деятельность не вмешивались ни гестапо, ни Янковская. Гестапо не лишало нас своего внимания. Я не сомневаюсь, что после появления Польмана в Риге я все время находился под наблюдением, но, поскольку мною было получено приказание передать немцам свою агентурную сеть и я после этого принялся метаться по населенным пунктам Латвии, Польман должен был думать, что я спешу удовлетворить его требование. Что касается Янковской, то, после того как Гренер объявил об их помолвке, у нее прибавилось личных дел. Удовлетворение безграничного честолюбия Гренера должно было стать теперь и ее делом, и единственно, чего я мог опасаться, чтобы ей не пришла в голову идея каким-нибудь радикальным способом избавиться от меня как от лишнего свидетеля в ее жизни.
Поэтому, когда она появилась после нескольких дней отсутствия, я встретил ее с некоторой опаской: кто знает, какая фантазия могла взбрести ей в голову!
Она вошла и села на краешек стула.
Я внимательно к ней присматривался. Она была в узком, плотно облегавшем ее зеленом суконном костюме, ее шляпка с петушиным пером была какой-то модификацией тирольской охотничьей шляпы.
Она медленно стянула с пальцев узкие желтые лайковые перчатки и протянула мне руку:
– Прощайте, Август.
Она любила делать все шиворот-навыворот.
– Странная манера здороваться, – сказал я. – Мы не виделись три… нет, уже четыре дня.
– Вы скоро совсем забудете меня, – сказала она без особого ломанья. – Что я вам!
– Неужели, став госпожой Гренер, вы лишите меня своего внимания? – спросил я, чуть-чуть ее поддразнивая. – Я не предполагал, что ваш супруг способен полностью завладеть вашей особой.
– Не смейтесь, Август, – серьезно произнесла Янковская. – Очень скоро нас разделит целый океан.
Я решил, что это – фигуральное выражение.
– Мы с Гренером уезжаем за океан, – опровергла она мое предположение. – Мне жаль вас покидать, но…
Она находилась в состоянии меланхолической умиротворенности.
– Как так? – вполне искренне удивился я. – Как же это профессор Гренер отказывается от участия в продвижении на Восток?
– Видите ли… – Она потупилась совсем так, как это делают девочки-подростки, когда в их присутствии заходит разговор на смущающие их темы. – Гренер внес свой вклад в дело национального возрождения Германии, – неуверенно произнесла она. – Но, как всякий большой ученый, он должен подумать и о своем месте в мире…
Ее речь была что-то очень туманна!
– Впрочем, лучше спросите его об этом сами, – сказала она. – Он заедет сюда за мной, в конце концов мне теперь остается только сопутствовать ему…
Она выступала в новой роли.
Действительно, Гренер появился очень скоро. Полагаю, он просто боялся оставлять надолго свою будущую жену наедине с Блейком, у которого с таким трудом ее, как он думал, отнял.
Ученый генерал на этот раз произвел на меня какое-то опереточное впечатление. Он порозовел и сделался еще длиннее, движения его стали еще более механическими, он двигался точно на шарнирах, вероятно, ему хотелось казаться моложе и он казался себе моложе.
– Дорогой Август!
Он приветственно помахал мне рукой, подошел к Янковской, поцеловал ей руку повыше ладони. Янковская встрепенулась:
– Ехать?
– Как вам угодно, дорогая, – галантно отозвался Гренер. – Вы распоряжаетесь мной.
– Мне хочется чаю, – капризно сказана она и повернулась ко мне. – Вы позволите у вас похозяйничать?
Я позвонил.
Пришла Марта, враждебная, отчужденная, поздоровалась без слов, одним кивком, стала у двери.
– Дорогая Марта, – обратилась к ней Янковская, – не напоите ли вы нас в последний раз чаем?
Марта удивленно на нее посмотрела.
– Я уезжаю, – объяснила Янковская. – Мы никогда уже больше не увидимся.
Марта, кажется, не очень ей поверила, но, судя по быстроте, с какой сервировала чай, думаю, ей хотелось избавиться от Янковской поскорее.
Мои гости пили чай так, что чем-то напоминали балетную пару, столь согласованны и пластичны были их движения.
– Софья Викентьевна сообщила мне, что вы уезжаете, господин профессор, – сказал я. – Мне не совсем только понятно, кто же теперь будет опекать валькирий в их стремительном полете на Восток?
– Ах, милый Август! – сентиментально ответил Гренер. – Ветер истории несет нас не туда, где нам приятнее, а где мы полезнее.
Мне почему-то вдруг вспомнился Гесс, один из самых верных соратников Гитлера, которого ветер истории занес в Англию…
Я посмотрел на него оценивающим взглядом и вдруг заметил, как он с мальчишеским торжеством смотрит на меня поверх своей чашки. Старый журавль воображал, что отнял у меня Янковскую, и светился самодовольством.
– Да, дорогой Август, – не смог он сдержаться, – все позволено в любви и на войне.
– Что ж, желаю вам счастья, – сказал я. – Как же это вас отпускают?
– Да, отпускают, – многозначительно заявил Гренер. – Я улечу в Испанию, потом в Португалию, и уже оттуда за океан.
– Мы получим там все, – подтвердила Янковская. – Нельзя увлекаться сегодняшним днем. Предоставим войну юношам. Работу профессора Гренера нельзя подвергать риску. За океаном у него будут лаборатории, больницы, животные…
– Но позвольте, – сказал я, – заокеанская держава находится с Германией в состоянии войны!
– Не будьте мальчиком, – остановила меня Янковская. – Воюют солдаты, для ученых не существует границ.
– И вас там примут? – спросил я.
– Меня там ждут, – ответил Гренер.
– Мы не знаем, как это еще будет оформлено, – добавила Янковская. – Объявят ли профессора Гренера политическим эмигрантом или до окончания войны вообще не будет известно о его появлении, но, по существу, вопрос этот решен.
Я посмотрел на Гренера, во всем его облике было что-то не только птичье, но и крысиное, взгляд его голубоватых бесцветных глаз был зорким и плотоядным.
– Когда же вы собираетесь уезжать? – спросил я.
– Недели через две–три, – сказала Янковская. – Не позже.
– Но ведь перебраться не так просто, – заметил я. – Это ведь не уложить чемодан: у профессора Гренера лаборатории, сотрудники, библиотека…
– Все предусмотрено, – самодовольно произнес Гренер. – За океаном я получу целый институт. А что касается сотрудников, за ними дело не станет.
Но меня тревожил и другой вопрос, хотя он не имел прямого отношения к моим делам.
– А что будет… с детьми?
Все последние дни меня не оставляла мысль о детях, находившихся на даче Гренера.
– С какими детьми? – удивился было Гренер и тут же догадался: – Ах, с детьми… О них позаботится наша гражданская администрация, – равнодушно ответил он. – Они будут возвращены туда, откуда были взяты. В конце концов, я не брал по отношению к ним никаких обязательств.
Я промолчал. Было вполне понятно, какая участь ждет этих детей.
– Может быть, вы еще передумаете и останетесь? – спросил я, хотя было совершенно очевидно, что все уже твердо решено.
– Увы! – высокопарно, как он очень любил, ответил Гренер. – Муза истории влечет меня за океан.
– Увы! – повторила за ним Янковская, хотя каждый из них вкладывал в это междометие разное содержание. – Мы не принадлежим себе.
– Да, отныне вы будете полностью принадлежать заокеанской державе, – сказал я. – Мне только непонятно, чем это будет способствовать величию Германии.
Гренер пожал плечами.
– Наука не имеет границ… – Он посмотрел на часы и встал. – Моя дорогая…
Янковская тоже поднялась.
– Идите! – небрежно приказала она будущему супругу. – Я вас сейчас догоню!
Гренер церемонно со мной раскланялся, я проводил его до дверей.
– Так внезапно? – обратился я к Янковской, когда мы остались один. – Что это значит?
– Ах, Андрей Семенович, я загадывала иначе, – грустно ответила она. – Увы! Я ведь знаю, как много вы работали в последнее время. Для кого, вы думаете, старается Польман? Почему он вас щадил? Как только вы передадите свою сеть, вас отправят обратно в Россию. А я – я устала уже рисковать….
Она протянула мне руку, и я задержал ее пальцы.
– Мы еще увидимся? – спросил я.
– Конечно!
– Вы у меня в долгу, – упрекнул я ее. – Вы не открыли мне всех тайн, связанных с нашим знакомством.
– Вы их узнаете, – пообещала она. – Это еще не последний наш разговор.
Она задумчиво посмотрела на меня:
– Поцеловать вас? Я покачал головой.
Она вырвала свою руку из моей:
– Как хотите…
Она переступила порог и, не дав мне выйти на лестницу, резким толчком захлопнула за собой дверь.
Не успел я вернуться в столовую, как передо мной появился Железнов.
– Что это все значит? – нетерпеливо спросил он.
– Очередная лирическая сцена, – пошутил я. – Госпожа Янковская в одной из многочисленных ролей своего репертуара!
– Марта сказала, что они уезжают?
– Совершенно верно, – подтвердил я. – Господина Гренера сманили за океан жареным пирогом!
– Каким еще там пирогом? – с досадой отозвался Железнов. – Сейчас не время шутить.
– А я не шучу. Повторяется старая история. Совесть можно продать лишь один раз, а затем сколько ни одолжаться, придется рассчитываться.
Действительно, подумал я, куда делись все патриотические речи Гренера, как только он услышал хозяйский оклик?!
Но Железнов не склонен был заниматься отвлеченными рассуждениями.
– Неужели ты не понимаешь, как осложнится твое положение после отъезда Янковской? – с упреком сказал он. – Оберегая себя, она в какой-то степени вынуждена была оберегать и тебя. Ты был ширмой, за которой ей удобно было прятаться. Один ты вряд ли сможешь нейтрализовать Польмана и попадешься как кур в ощип…
– Мне кажется, ты сгущаешь краски. В конце концов я могу рискнуть…
– Мы можем рисковать собой, но не вправе рисковать делом! – резко оборвал меня Железнов. – Свое поручение ты, можно сказать, выполнил. Мы обязаны спасти тебя, но, признаться, очень жаль детей. Их тоже хотелось бы спасти. А кроме того, есть, кажется, еще одно немаловажное обстоятельство, которое может ускорить твое возвращение домой.
– Что же ты собираешься делать? – спросил я.
– Говорить с Прониным, – ответил он. – На этот раз он очень-очень нам нужен!
17. «У Лукоморья дуб зеленый…»
Через день или два после визита Янковской и Гренера в тех кругах Риги, где волею судеб и своего начальства пришлось мне вращаться весь последний год, заговорили о предстоящем отъезде профессора в Испанию. Его научные исследования, которые он не прекращал, даже находясь, как выражался он сам, на аванпостах германского духа, вступили в такую фазу, что потребовали всех сил ученого. Поэтому он решил на некоторое время уехать в далекую от войны страну, которая на самом деле являлась как бы испытательным полигоном для ученых гитлеровского рейха. Такова была официальная версия. А неофициально в Риге, посмеиваясь, говорили, что просто-напросто Гренер решил провести свой медовый месяц в Мадриде.
Истину знали немногие, знали, разумеется, в Берлине и два–три человека в Риге, мне о ней стало известно только в силу особых отношений, сложившихся между мной и Янковской.
Что касается Железнова, он был озабочен предстоящим отъездом новоиспеченной четы, по-моему, больше самого Гренера.
– В связи с этим отъездом ухудшается ваше положение, – говорил мне Железнов, – и очень хотелось бы как-нибудь помочь ребятишкам…
Железнов находился на опаснейшей работе, приходилось все время думать, как бы сохранить на плечах собственную голову, но этот удивительный человек меньше всего думал о себе.
– Пронин встретится сегодня с нами, – сказал мне через несколько дней Железнов. – Не уходите никуда, я слетаю в одно местечко…
Он исчез и сравнительно скоро явился обратно.
– Знаете Промышленную улицу? – спросил он меня. – По-латышски называется Рупниецибас. Запомните: Рупниецибас, дом 7, квартира 14.
– А что дальше? – спросил я.
– Сейчас запоминайте, а завтра забудьте. Ровно через час приходите по этому адресу. «Руслан и Людмилу» проходили в школе?
– Разумеется…
– Начало помните? – спросил Железнов.
– Там, кажется, посвящение есть, – неуверенно произнес я. – Посвящения не помню.
– Нет-нет! – нетерпеливо перебил меня Железнов. – То, что в школе учили: «У лукоморья дуб зеленый…»?
– «… Златая цепь на дубе том…»?
– Вот и хорошо! – облегченно сказал Железнов. – А то сейчас было бы некогда заучивать стихи. Я уже условился. Вы позвоните и скажете первую строку, вам ответят второй, дальше вы – третью, вам – четвертую, вы – пятую, а вам… Понятно?
– Понятно, – ответил я.
– Вот и ладно, – сказал он. – Помните: ровно через час! А я побегу…
И он опять исчез.
Ровно через час я поднимался по тихой и чистой лестнице дома № 7, а спустя минуту стоял у дверей квартиры № 14 и нажимал кнопку звонка.
Дверь мне открыла пожилая, неплохо одетая и представительная дама.
Она ничего не сказала и только вопросительно поглядела на меня. Я неуверенно посмотрел на нее и с довольно-таки глуповатым видом произнес:
– «У лукоморья дуб зеленый…»
Дама слегка улыбнулась и тихо ответила:
– «… Златая цепь на дубе том…»
Затем открыла дверь пошире и пригласила:
– Заходите, пожалуйста.
Я очутился в просторной передней. Дама тотчас закрыла за мной дверь и повела меня по коридору в кухню, там у плиты возилась какая-то женщина, одетая попроще.
– Эльза, – сказала дама, – проводите этого господина…
Эльза тотчас вытерла передником руки и, не говоря ни слова и не оглядываясь, открыла выходную дверь. Мы оказались на черной лестнице, спустились на улицу, миновали несколько домов, вошли в какие-то ворота и завернули за угол. Моя провожатая остановилась перед входом в какую-то полуподвальную квартиру, указала на дверь и пошла прочь, даже не поглядев на меня.
Я секунду постоял перед дверью, дернул ручку звонка и услышал дребезжание колокольчика.
Дверь тотчас отворилась, передо мной появился юноша, скорее даже подросток, в серой рабочей блузе.
– Вы к кому? – спросил он довольно недружелюбно, готовый вот-вот захлопнуть передо мной дверь.
– «…. И днем и ночью кот ученый…» – твердо сказал я. Подросток окинул меня внимательным взглядом и быстро пробормотал:
– «… Все ходит по цепи кругом».
Он выскочил во двор и, полуобернувшись в мою сторону, небрежно кинул:
– Пошли!
По черной лестнице этого же дома мы поднялась на второй этаж, паренек, не стучась и не звоня, решительно открыл незапертую дверь чьей-то квартиры, миновал кухню, в которой у окна, спиной к нам, стоял какой-то мужчина, не обративший на нас никакого внимания, остановился перед закрытой дверью, сказал: «Стучите», – и сразу покинул меня.
Дверь приоткрылась, из-за нее выглянула голубоглазая девушка.
– Вам кого? – спросила она.
– «Идет направо – песнь заводит…», – сказал я. Но она не успела мне ответить.
– «… Налево – сказку говорит…», – услышал я из-за двери знакомый голос.
Девушка выскользнула в коридор, я вошел в комнату и увидел… Пронина!
Неподалеку от него стоял Железнов.
– Здравствуйте, – сказал Пронин, при встречах в Риге он никогда не называл меня по имени.
– Прибыл в ваше распоряжение, – сказал я.
– Ну как дела? – спросил Пронин. – Рассказывайте скорее.
– Вероятно, вам уже докладывал товарищ Железнов. Можно сказать, успешно. С девятнадцатью познакомились лично, лицом к лицу, троих нет, исчезли неизвестно куда, с четырьмя еще не встречались.
– Значит, можно домой? – спросил Пронин.
– Это зависит от вас, товарищ майор, – сдержанно произнес я, хотя мое сердце сжалось от радостного предчувствия.
– Да, домой, – повторил Пронин. – Вы сделали большое дело. И, кроме того…
– Ну, без Железнова я бы ничего не добился, – убежденно ответил я. – Он многому меня научил.
– А ему и карты в руки, он специалист, – сказал Пронин, усмехнулся и кивнул в сторону Железнова. – Знаете, о чем он просит?
– Догадываюсь.
– А что скажете?
– Поддерживаю просьбу капитана Железнова. Если только возможно что-нибудь…
Пронин насупился.
– Да… – неодобрительно произнес он. – Оба вы специалисты…
На секунду воцарилось молчание.
– Придвигайтесь ко мне, – прервал молчание Пронин. – Давайте подумаем.
Кажется, это было единственное совещание, в котором мне пришлось участвовать за всю мою бытность в Риге.
– Спасти детей… – задумчиво произнес Пронин. – Вывезти с дачи, фактически превращенной в крепость… Невозможное дело! Вывезти чуть ли не целый детский сад из города, находящегося во власти гитлеровцев…
Пронин забарабанил пальцами по столу. Железнов и я молчали. В конце концов, решение зависело от Пронина.
– Однако докладывай, – обратился он к Железнову. – Что имеешь предложить?
– Самолет, – ответил Железнов. – Вызвать самолет.
План такой. Самолет посадить у дома Гренера. Ведь это же аэродром! Засекреченный аэродром специального назначения. Среди наших летчиков найдутся такие, которые и захотят и сумеют это сделать. Прохоров, Столярчук… Товарищ Макаров выполнил задание, его все равно надо перебрасывать обратно. Гестапо вот-вот нацелится на него. Вместе с ним забрать детей. И кроме того… Сами понимаете, что будет… Посадка произойдет ночью. Все будет сделано в течение получаса…
Пронин сосредоточенно рассматривал поверхность стола, точно на ней лежала карта или какие-нибудь чертежи.
Мы с опасением посматривали на Пронина: согласится или нет?
– Рискованное предприятие, – произнес он. – Аэродром или дача, как их там, охраняются. Крепко охраняются. Приземление самолета будет замечено. Эти стервятники кинутся туда в мгновение ока… – Он замолчал, а мы затаили дыхание. – Но рискнем…
Мы облегченно вздохнули.
– Риск – благородное дело, а в этом случае особенно благородное. Тем более что…
Он быстро посмотрел на нас, и в глазах его загорелся огонек.
Пронин жестом предложил нам сесть еще ближе.
– Но помните, ребята, все рассчитать, как в аптеке. Надо проявить максимум самообладания и выдержки. Макарову узнать, какая на даче охрана. Железнову сегодня же связаться по рации с командованием. Лично я советую такой вариант: когда наши бомбардировщики вылетят на задание, один из них, после того как сбросит бомбы, завернет на дачу. К тому времени надо быть уже там. На помощь Гашке особых надежд не возлагайте. Андрею Семеновичу подготовиться к возвращению. Захватите картотеку, открытки, список. Копию списка передадите мне: мало ли что может стрястись. Командовать операцией будет капитан Железнов. – Пронин строго посмотрел на меня. – Понятно, Андрей Семенович? Каждое слово Железнова – для вас закон.
Он встал, пожал нам руки.
– Идите, – сказал он мне. – Прямо во двор и на улицу. Виктор уйдет позже, вы еще его сегодня увидите.
Я опять миновал кухню, все тот же мужчина по-прежнему стоял у окна, рука его была засунута в карман. Только сейчас я догадался, что он, вероятно, охранял Пронина.
На улице, у ворот, тоже стоял какой-то человек – кто знает, свой или чужой. Я прошел мимо, он не последовал за мной.
Дома я выбрал нужные открытки, проверил список, переписал, спрятал в сейф.
К вечеру пришел Железнов.
– Ну как? – спросил я.
– Все в порядке, – сказал он как ни в чем не бывало. – Попробую связаться с людьми, к которым я возил вас в гости.
– К утру вернетесь?
– Навряд ли. Машину надо поберечь, – сказал Виктор. – А вы пока собирайтесь.
Через час он ушел. Я поехал искать Янковскую. В гостинице ее не было, мне сказали, что она почти не бывает у себя.
Я нашел ее по телефону у Гренера.
– Я хотел бы вас повидать, – сказал я.
– Приезжайте, – пригласила она.
– А ваш жених не будет недоволен?
– Он вернется нескоро, – объяснила она.
В квартире Гренера она чувствовала себя полной хозяйкой.
– Я готов к расчету, – сказал я. – Агентура Блейка у меня как на ладони.
– Правда? – обрадовалась она. – Я все время колебалась, получится или не получится.
– Кому же отдать список? – спросил я. – Польману?
– Ни в коем случае! – воскликнула она. – Вы должны отдать Гренеру, но можете передать мне, я сама вручу ему. Мы привезем хороший подарок за океан.
Но вдруг как бы облако печали пробежало по ее лицу.
– А может быть, повременить? – неожиданно предложила она. – Мне жаль вас. Как только вы отдадите список, вам предложат вернуться в Россию. Там все горит у Тейлора. Для вас найдется дело…
– Чему быть, того не миновать, – философски ответил я. – Попадете за океан и быстро все забудете.
– О нет! – сказала она. – Вас я не забуду.
– Полетите на самолете? – спросил я.
– Да. Сначала в Испанию. Но самолет пришлют из-за океана.
– И полетите со своего аэродрома?
– Да, Гренер сразу захватит все свои книги и материалы.
– А вам не помешают? – заботливо осведомился я.
– Кто? – удивилась Янковская. – Дачу охраняют эсэсовцы, а они подчинены Польману.
Я усмехнулся:
– Дачу или аэродром?
– И то и другое, – сказала Янковская. – О том, что там аэродром, почти никто не знает. Там всего десять эсэсовцев, и их еще ни разу не сменяли. Так что болтать было некому. А для того чтобы туда не проникли любопытные, достаточно и этого десятка…
Я узнал то, что нужно было узнать, да Янковская и не пыталась что-либо скрыть: она считала меня своим человеком, и ее самоуверенность усилил еще скорый отъезд за океан – она строила большие планы насчет своего будущего.
Она немного изменила себе только тогда, когда я совсем уже собрался уходить. Сев за стол, она подперла голову ладонями, жалостливо на меня посмотрела и сказала:
– Ох, Андрей, если вы все-таки попадете когда-нибудь за океан, разыщите меня, я сделаю для вас, что смогу…
Распрощались мы очень церемонно. В передней, помимо Янковской, меня провожал один из гренеровских денщиков…
И здесь, пожалуй, следует отметить, что все, что происходило со мной, с Железновым, с Прониным в течение этого года, не было следствием каких-либо случайностей – все было результатом правильных умозаключений, точного расчета, тщательной предусмотрительности и непоколебимой выдержки духа. У наших людей, с которыми мне приходилось общаться в оккупированной Риге, многому можно было научиться. Счастливый случай всего лишь один раз пришел к нам на помощь, и таким случаем на этот раз явилось отсутствие Железнова.
Ночью ко мне на квартиру нагрянули гестаповцы.
Польман не походил на Эдингера, ко мне в друзья он не набивался, не доверял мне, впрочем как и всем остальным, и предпочитал никого ни о чем не предупреждать.
Гестаповцы искали Железнова.
Это было естественно. Если Эдингер говорил мне о том, что гестапо подозревает Железнова в связях с советскими партизанами, знать об этом должен был не один Эдингер! Его смерть приостановила на некоторое время преследование Железнова, но постепенно все должно было завертеться своим чередом.
Со мной гестаповцы держались достаточно корректно. Они вломились в квартиру с обоих входов, но вели себя так, будто я их не интересую. Не найдя Железнова, они не стали делать обыска.
Меня только спросили:
– Где ваш шофер? Где господин Чарушин?
Я сделал таинственное лицо.
– Мне, кажется, господа, – сказал я, – что он бежал!
Думаю, гестаповцы были согласны со мной.
И то, что я был на месте, хотя Железнов исчез, выглядело как доказательство того, что я к его исчезновению не причастен.
Гауптштурмфюрер, командовавший нагрянувшей ко мне бандой, даже попрощался со мной.
Во всяком случае, было очевидно, что в отношении меня Польман никаких указаний не давал.
Утром ненадолго заехала Янковская.
– Где ваш Виктор? – прямо спросила она. Она, конечно, знала о ночном посещении.
– Кажется, он удрал, – виновато сказал я.
– Вот видите, – обрадовалась она. – Я вас предупреждала!
Железнов должен был вернуться примерно через сутки. Во что бы то ни стало требовалось предупредить его о том, что в дом ему возвращаться нельзя.
Когда Янковская уехала, я позвал Марту.
– У меня к вам просьба, – сказал я. – Господин Чарушин только случайно избежал ареста. Если он и я, дорогая Марта, не совсем вам безразличны, я попрошу вас помочь мне предупредить Виктора об опасности. Вполне возможно, что за нашей квартирой установлено наблюдение. Если бы вы попытались встретить Виктора! Он появится со стороны Мельничной улицы. Объясните, что ему нельзя приближаться к нашему дому. Пусть он назначит мне свидание…
Марта только молча кивнула и принялась одеваться.
– А вы не боитесь, Марта? – спросил я. – Не наведете гестаповцев на след Виктора?
– Не волнуйтесь, господин Берзинь, – рассудительно объяснила мне Марта. – Полиция поручает дворникам осведомлять ее обо всем, что происходит. Но ведь дворники-то в нашем городе латыши! У меня есть знакомый дворник, он поможет мне…
Я не знаю, как Марта встретилась с Железновым, у меня не было времени расспросить ее об этом, знаю только, что в сумерки она вернулась домой и деловито сказала:
– Господин Чарушин дожидается вас за углом, в воротах дома номер три, они просили захватить какой-то список.
Я вышел из дому, вывел со двора машину, поставил ее у подъезда, точно собирался куда-то ехать, сам поднялся обратно в квартиру, снова спустился по черному ходу во двор, выскользнул в переулок и, обойдя квартал, очутился возле дома № 3, где и нашел за воротами Железнова.
– Тебя ищут, – сказал я. – Что нам делать?
– Уже стемнело, – ответил он. – Рискнем, пройдемся.
Мы смешались с толпой и неторопливо пошли по улице.
– Как дела? – спросил я.
– Великолепно, – ответил он. – Послезавтра ночью самолет приземлится у дачи Гренера. Вы должны быть совершенно готовы часам к семи. Если до этого не получите от меня или Пронина каких-либо известий, выезжайте в половине восьмого, на углу, возле гостиницы «Даугава», задержитесь и заберете меня. Не смущайтесь, вероятно, я буду в эсэсовском мундире. Оттуда мы махнем с вами прямо в Лиелупе. Если нас с вами и будут искать, то, во всяком случае, не на даче Гренера.
– Пронин знает об этом? – спросил я.
– Знает, – коротко сказал Железнов. – И недоволен, что мы забыли о подставных лошадях…
Я ничего не понял:
– Каких лошадях?
– Читали «Три мушкетера»? – спросил Железнов. – Помните, д’Артаньян возвращается с бриллиантовой подвеской от герцога Бэкингема? Он не успел бы вернуться вовремя в Париж, если бы по дороге его не ждали подставные лошади. Пронин обещал о них позаботиться.
– Машина не лошадь! – возразил я. – Да еще такая отличная машина, какая имеется у нас. Мы домчим с вами до Лиелупе за двадцать минут!
– Не знаю, что практически имеет Пронин в виду, говоря о подставных лошадях, – отозвался Железнов. – Но можете быть уверены, говорит не зря. Вы еще не знаете этого человека!
Мы прошли мимо кафе, из дверей доносилась веселая музыка…
– Список у вас с собой? – осведомился Железнов. – Давайте, я передам копию.
Я незаметно сунул ему листок в карман.
– Значит, если ничего не произойдет, – повторил Железнов, – послезавтра, чуть позже половины восьмого, на углу, около гостиницы «Даугава».
Он отстал от меня и тут же нагнал снова.
– Еще два слова, – сказал он. – До своего отъезда отпустите Марту, пусть она куда-нибудь скроется, иначе ей не миновать гестапо.
Он был верен себе: в эти тревожные минуты он не забыл и о Марте.
Он опять отстал, а когда я спустя некоторое время повернул обратно, навстречу мне лилась обычная толпа прохожих, и среди них не мелькало ни одного знакомого лица.
18. «Племянница» гаулейтера
В назначенный день я начал собираться в дорогу. Утром спустился во двор, осмотрел и заправил машину, до блеска протер ветровое стекло, чтобы как можно яснее был виден наклеенный на него пропуск. Проверил и зарядил пистолет. Побрился. Зашил в подкладку брюк документы, добытые в Риге. В последний раз обошел квартиру, в которой прожил больше года. В последний раз съел обед, приготовленный Мартой…
Около трех часов я зашел к ней на кухню.
– Дорогая Марта, сегодня я покидаю Ригу, – сказал я. – Меня будут искать, и прежде всего будут допытываться у вас, куда я делся. Вам известно, что значат разговоры в гестапо. Мне кажется, вам надо уйти и не попадаться на глаза. Не сердитесь на меня за то, что я осложнил вашу жизнь…
– Не стоит извиняться, господин Берзинь. Вы старались не для себя, – ответила Марта, не изменяя своему обычному спокойствию. – Я все понимаю.
– Так уходите, Марта, – повторил я.
– Хорошо, господин Берзинь, – вежливо согласилась Марта. – Я сейчас соберусь.
Через полчаса она зашла попрощаться.
В сейфе оставалось еще несколько золотых безделушек: девушки господина Блейка в последнее время совсем редко посещали меня.
Я протянул их Марте:
– Возьмите себе, это может вам пригодиться.
– Что вы, господин Берзинь! – испуганно произнесла она. – Если госпожа Янковская узнает, мне несдобровать.
– Она не узнает, – сказал я. – Берите-берите, все равно это мне уже ни к чему.
Она взяла эти колечки и брошки с большой нерешительностью. Мы пожали друг другу руки, я проводил ее до дверей.
– Счастливого пути вам, – сказала она уже в дверях. – Да сохранит вас господь!
Я запер за ней дверь и остался одни. В пятом часу я позвонил на квартиру Гренера Янковской.
– Вы никуда не собираетесь вечером? – осведомился я.
– Нет, мы дома, у нас соберется несколько друзей, – сказала она. – Будем рады вам, Август…
– Я приду часам к десяти, – сказал я. – Кланяйтесь от меня профессору.
Я хотел обезопасить себя от неожиданного вторжения Янковской.
Вскоре после ухода Марты раздался звонок, я открыл дверь и увидел перед собой… Гашке!
Пронин быстро вошел и торопливо закрыл дверь.
Мы даже не поздоровались.
– Что-нибудь изменилось? – спросил я. Он, не раздеваясь, прошел в гостиную.
– Готовы? – спросил он. – Что собираетесь делать?
– Железнов говорил, что он докладывал вам, – ответил я. – В половине восьмого заберу его у «Даугавы», и сразу же двинем в Лиелупе.
– На чем? – нетерпеливо перебил меня Пронин.
– На моей машине, – сказал я. – Все подготовлено, машина заправлена…
– Далеко ли только уедете? – насмешливо спросил Пронин.
Они-таки появились, непредвиденные обстоятельства, которые предвидел Пронин!
– В связи с участившимися налетами советской авиации отдано распоряжение не выпускать из города ни одной машины без специального досмотра, – сказал Пронин. – И есть особое указание, касающееся вашей машины. Усилены контрольные посты, предупреждены полицейские. Вас задержат, как только вы очутитесь на окраине.
– Что же делать?! – воскликнул я. – Как вы это узнали?
Пронин укоризненно на меня поглядел:
– А для чего, вы думаете, находится Гашке в гестапо? Распоряжение было отдано еще вчера. Польман – хороший оперативный работник. Он приказал во что бы то ни стало найти Чарушина и установить наблюдение за вашей машиной.
– Значит, все провалилось?
– Нет, не значит, – сказал Пронин. – Укрыть вас, конечно, мы бы смогли, но самолет вызван, сделает посадку. Риск увеличился, людей подводить нельзя, надо добиваться успеха…
И тут-то вступили в действие «подставные лошади» Пронина, о которых он обещал позаботиться!
– Свободно передвигаться, да еще ночью, могут только военные машины и машины гестапо, – сказал Пронин. – Ни одной из таких машин у нас нет. Но вы получите машину, которую никто не посмеет остановить…
Пронин на мгновение замолчал, прежде чем удивить меня своими словами.
– Вы поедете в Лиелупе на машине гаулейтера, – сказал он. – На машине самого Розенберга! Она подойдет к вашему дому в половине восьмого, может быть, чуть позже. На шофера можете положиться. Захватите у «Даугавы» Железнова и поедете в Лиелупе. Самое трудное – достать машину, но, думаю, удастся. В машине будет находиться дама, она поедет вместе с вами. По дороге вы высадите даму по ее указанию. Шофера возьмете с собой. Рассчитывайте на него как на самого себя…
Пронин замолчал.
Очевидно, он еще раз взвешивал принятое им решение.
Я не видел Пронина таким. Дымка задумчивости пробежала по его лицу, затем он пристально глянул мне в глаза, точно еще раз взвешивая, чего я стою. И потом уже, отогнав от себя все сомнения, протянул мне руку.
– Вот что, майор Макаров, слушайте внимательно, – тихо произнес он. – Есть еще одно дело. Не через Железнова, а лично хочу я вам дать это поручение. Вам доверяется задание особой государственной важности…
Он достал из кармана небольшой сверток.
Это был какой-то предмет, похожий на большой металлический портсигар, к которому проволокой был привязан плотный серый пакет.
– Здесь документы исключительной важности, – объяснил Пронин. – Их содержание вам не должно быть известно, впрочем, как и мне. Я сам имею только очень приблизительное представление о бумагах, находящихся в пакете. Чем скорее они очутятся в Москве, тем лучше. Для их пересылки не жалко направить любого человека. Я остановил свой выбор на вас. Вы отдадите их в штабе армии, и оттуда они уже сами перешлют их. Но…
Пронин осторожно протянул мне сверток, указал на запор портсигара, обычную металлическую кнопку, украшенную темным зеленоватым камешком.
– Эта небольшая бомбочка имеет достаточно большую взрывную силу, – объяснил он. – Держите ее в кармане, не забывайте о ней ни на секунду. Могут произойти самые непредвиденные вещи, может возникнуть угроза, что вы попадете в руки противника. Так вот учтите: сверток в руки противника попасть не должен. Прежде чем это произойдет, вы нажмете кнопку, бросите сверток, и через секунду от документов не останется ничего.
Он опять заглянул мне в глаза:
– Понятно, майор Макаров?
– Так точно, – сказал я. – Прежде чем меня задержат, нажать кнопку.
– Так помните, вам вверена государственная тайна, но говоря уже о многих жизнях…
Теперь мне стали понятны некоторые недомолвки Пронина при разговоре о моем отъезде из Риги: должно быть, он и согласился на мой отъезд, имея в виду это поручение…
– Есть, товарищ начальник, – сказал я. – Враг к этому пакету не прикоснется.
– Ладно, – ответил Пронин. – Я вам верю. Но, смотрите, берегите себя…
Он заботливо посмотрел на мой карман, где очутился столь опасный и драгоценный сверток, и ободряюще кивнул.
– И еще вот что, – сказал на прощание Пронин. – Запомните мой совет. В нашей работе излишняя торопливость погубила не одного хорошего человека. Все надо взвесить и обдумать. Но порой наступает момент, когда уже некогда оглядываться. Сейчас как раз такой момент. Теперь только вперед, все время вперед. Помните: темп, темп! Теперь это решает успех дела. Понятно?
– Понятно, товарищ майор, – сказал я.
Он еще раз кивнул и, что-то вспомнив, с любопытством взглянул на меня.
– Да, а пуговицу свою вы не забыли? – с усмешкой спросил он.
– Нет, она при мне, – сказал я. – Сувенир генерала Тейлора!
– Ну, не совсем сувенир, – заметил Пронин. – Не возлагайте на нее больших надежд, но на всякий случай держите под рукой. Не зря же вам ее дали. Может статься, она сослужит свою службу.
Пронин выглянул в окно.
– Никого, – облегченно сказал он. – Пойду!
– Все-таки вы рискуете, товарищ майор, – упрекнул я его. – Заметят – несдобровать.
– Не волнуйтесь, я человек осторожный, – хладнокровно сказал Пронин. – С вашей квартиры снято наблюдение. Я немного в курсе оперативной деятельности гестапо. Все агенты брошены на поиски Чарушина. Немцы не слишком доверяют вам, но не подозревают того, что вы русский. Они убеждены, что после провала вашего шофера вы притаитесь и некоторое время носа не высунете на улицу… А что касается каких-нибудь случайных встреч, иногда приходится рисковать…
Совсем не в соответствии с моментом Пронин добродушно засмеялся.
– До свидания, – сказал он. – Кланяйтесь нашим.
И ушел, пренебрегая всеми страхами жизни.
Впоследствии, вспоминая о своих встречах с Прониным, я понял, что благоприятное стечение обстоятельств имеет, конечно, большое значение в таких делах, но еще большее значение имеет холодная и строгая предусмотрительность специально натренированного в этой области ума.
А что значило пребывание Пронина в гестапо и какую пользу приносил он, находясь там, я, пожалуй, вполне понял, только непосредственно ощутив его помощь…
Очень коротко я хочу рассказать о том, что происходило в течение двух часов, когда я ждал обещанной машины.
Действительно, на всем нашем пути к цели предусмотрительным Прониным заранее были приготовлены «подставные лошади», не всеми ими пришлось воспользоваться, но, если бы он о них не позаботился, нам не сносить бы голов…
…От меня Пронин отправился в один знакомый ему дом…
В этом доме его ждала дама. Он проводил ее на вокзал, где ей предстояло действовать уже без чьей бы то ни было помощи.
Находясь в самом волчьем логовище, Пронин был отлично осведомлен о всех обитателях этого логовища, знал всю их подноготную, все их семейные и дружеские связи…
Нужно было вызвать машину гаулейтера, но сделать это было не так просто. Машиной пользовались только сам гаулейтер и его семья. Шофер не мог выехать без специального вызова. Да и рискни он самовольно покинуть гараж, это привлекло бы внимание, не говоря уже о том, что он мог понадобиться хозяевам. Вызов машины не должен был возбудить никаких подозрений.
Сам барон находился в эти дни в Берлине, в его отсутствие машиной могла распоряжаться только баронесса.
В гестапо многие знали, что баронесса ждет к себе в гости племянницу баронессу фон Третнов, и ее-то Пронин решил выпустить на сцену…
Поезд из Кенигсберга только что пришел.
Очень красивая и элегантно одетая женщина остановилась перед кабинетом начальника станции, открыла дверь и, не затворяя, подошла к сидевшему за столом начальнику, надменно на него поглядела и опустилась в кресло.
– Господин начальник, соедините меня с домом барона Розенберга, – повелительно сказала она.
Приказание было отдано столь уверенно, что начальник станции не осмелился ослушаться: дама, по-видимому, не терпела возражений.
Он позвонил по телефону, правда, очень нерешительно: начальнику станции еще не приходилось тревожить гаулейтера.
– Попросите баронессу! – приказала незнакомка. – Скажите, что просит баронесса фон Третнов.
Она взяла у начальника телефонную трубку.
– Тетя? – сказала она спустя мгновение. – Это Ильза… Как «откуда»? Меня уговорил дядя. Почему «экстравагантно»? Я была в гостях у фон Шенбергов и решила заехать к вам… Вы пришлете машину?. Нет-нет, самой не надо, я на вас рассержусь, если поедете… Нет, багажа нет, он придет завтра. Шофер найдет меня в кабинете начальника станции…
Если бы можно было представить, чего стоил этот семейно-светский разговор той, которая называла себя баронессой фон Третнов!
Через четверть часа в кабинете начальника станции появился личный шофер гаулейтера Эрнст Штамм.
Но не все обстоятельства удавалось предвидеть даже самому Пронину!
Почти одновременно со Штаммом в кабинете появились господин Польман и какой-то хлыщеватый офицер из канцелярии гаулейтера..
Пронин недаром хвалил деловые качества Польмана. Не успела баронесса фон Третнов закончить разговор со своей тетушкой, как господин Польман был поставлен в известность о том, что машина гаулейтера выезжает за гостьей. Баронесса фон Третнов бы и влиятельной особой в берлинском обществе, и господин Польман, дипломат по характеру и карьерист по природе, решил самолично проводить столичную гостью в резиденцию гаулейтера. Он и в канцелярию гаулейтера сообщил о прибытии баронессы и для большей импозантности захватил оттуда себе компаньона.
Предполагалось, что Штамм встретит баронессу, заедет за мной, затем мы захватим Железнова и двинемся в Лиелупе. Появление Польмана, да еще не одного, спутало все карты. Теперь баронессе приходилось ехать к тетушке. Но гостья оказалась на должной высоте! Она любезно встретила Польмана и его спутника, позволила им приложиться к своей ручке и заторопилась к машине. Увы, Польман и его спутник собрались провожать ее до дома гаулейтера!
Та, которая называла себя баронессой фон Третнов, знала и мой адрес, и как меня зовут, – она же должна была за мной заехать, – и вследствие непредвиденного осложнения с ее стороны последовала импровизация, не предусмотренная никакими режиссерами.
– Ах! – воскликнула она, когда машина отошла от вокзала. – Мне надо заехать по дороге в одно место! – Она кокетливо посмотрела на Польмана. – Господин обергруппенфюрер, вы не знаете здесь Августа Берзиня?
Польман насторожился:
– А вы откуда его знаете, баронесса?
Баронесса подавила смешок:
– Одна моя приятельница…
Больше она не сказала ничего, перед господином Польманом открывалось широкое поле для догадок.
Баронесса достала из сумочки какое-то письмо, пробежала его глазами, сделала вид, что нашла искомое место, назвала Штамму мой адрес.
Штамм повел машину в указанном направлении и остановил ее перед моим домом.
– Здесь!
Баронесса фон Третнов поднялась было с сиденья.
– Не беспокойтесь, баронесса, – любезно обратился к ней Польман. – Господина Берзиня может и не быть дома, я сейчас узнаю и передам, что его желают видеть…
– Ах, нет-нет! – капризно воскликнула гостья. – Я не отпущу вас от себя! Мы попросим… – Она повернулась к шоферу. – Поднимитесь, пожалуйста, – обратилась она к Штамму. – Попросите господина Берзиня спуститься вниз, если, конечно, он дома…
Штамм взбежал по лестнице, позвонил.
С этой минуты я тоже вступил в игру.
Я уже давно ждал звонка, открыл дверь и увидел перед собой плотного пожилого человека в форме немецкого фельдфебеля. Он взглянул в свою очередь на меня. Описание, по-видимому, совпало с оригиналом.
– Это вас я должен отвезти в Лиелупе? – спросил фельдфебель.
– Да, – ответил я. – Поторопимся?
– Не спешите, – сказал он. – Знаете, кто меня послал?
– С вами должна быть дама, – сказал я.
– К сожалению, она не одна, – сказал шофер. – Кроме нее, в машине начальник гестапо и офицер из канцелярии гаулейтера: они увязались ее провожать. Мне велено передать, что баронесса фон Третнов просит вас спуститься.
– Как же быть? – спросил я.
– У вас, конечно, есть оружие? – спросил шофер. Я похлопал себя ладонью по карману.
– И у меня есть, – сказал шофер. – Я передам, что вы просите господина Польмана и его спутника подняться. Полагаю, мы с ними справимся, другого выхода нет.
Раздумывать было некогда.
– Зовите, – согласился я.
Штамм спустился и через минуту поднялся опять.
– Его не проведешь, – с досадой сказал он. – Польман говорит, чтобы вы сами спустились.
Заставлять даму ждать себя дольше было бы неприлично, я спустился. Штамм распахнул дверцу машины. Дама протянула мне руку:
– Господин Берзинь?
Я поцеловал ей руку и раскланялся с Польманом и незнакомым мне офицером.
– К вашим услугам, баронесса!
Мне показалось, что я ее где-то видел… Баронесса кокетливо посмотрела на своих спутников.
– Господа, мне необходимо посекретничать с господином Берзинем. Моя приятельница…
Польман неохотно вышел из машины, офицер последовал за ним. Они остановились неподалеку.
Рвануть, дать газ и умчаться под носом у Польмана было невозможно, он тотчас же организовал бы погоню, пристрелить его на улице тоже было нельзя.
– Как от него отвязаться? – вполголоса спросила меня та, которая называла себя баронессой фон Третнов.
– Черт его знает! – пробормотал я.
Положение, как говорится, было безвыходное, и тут я припомнил многочисленные намеки Янковской по поводу Польмана. Гренер был связан с заокеанской разведкой, а ведь именно Гренер добивался назначения Польмана в Ригу. Янковская все время называла его своим человеком. Вспомнил я и то, что говорил мне Тейлор, и решил воспользоваться своим талисманом. Янковская пророчила, что он выручит меня в трудную минуту.
– У меня есть одно средство, – сказал я незнакомке и подошел к Польману.
– Господин обергруппенфюрер, разрешите попросить вас на два слова.
– Что вы хотите? – недоверчиво спросил Польман, идя за мной.
Я остановился под фонарем, порылся в кармане и разжал ладонь со своей пуговицей.
– Вам приходилось видеть подобную безделицу?
Польман ничем не выразил своих чувств, но было непохоже, чтобы вид этой медяшки привел его в восторг.
– Откуда она у вас? – бесцеремонно спросил он.
– Купил у одного оборванца, – невозмутимо ответил я. – Я ведь коллекционирую пуговицы, милейший Польман.
– Сейчас не время шутить, – оборвал он меня. – Я слышал об этих трилистниках. Вы получили ее от этого…
Однако он не осмелился произнести имя Тейлора.
– От кого бы ни получил, трилистник, если мне не изменяет память, считается символом счастья. И я решил проверить свой талисман на вас!
В ответ на это Польман криво улыбнулся.
– Мне не все ясно в вашем поведении, капитан Блейк, но, судя по этой эмблеме, вам покровительствует…
Он опять не договорил, кто мне покровительствует. Тогда я перешел в наступление.
– У нас одни покровитель, – грубо сказал я. – Генерал Тейлор.
– Т-с-с-с! – зашипел на меня Польман. – Не называйте его!
– Вы мне мешаете, Польман, – произнес я как можно небрежнее. – У меня с баронессой особые дела.
– Подождите, войдем в подъезд, – остановил меня Польман и повернулся к своему спутнику.
Тот стоял с баронессой у машины.
– Кюнце, я поднимусь на несколько минут! – крикнул ему Польман. – А вы не отходите от машины…
Я понял, что и гостья, до тех пор, пока не будет сдана с рук на руки своей тетке, и, с этого момента, даже я сам – находимся как бы под конвоем.
Мы поднялись по лестнице и остановились на площадке перед моей дверью.
– Говорите! – раздраженно обратился ко мне Польман. – Чего вы от меня хотите?
Нет, убивать его не было расчета…
Если бы даже удалось убить и самого Польмана, и его спутника, в лучшем случае через какие-нибудь полчаса поднялась бы такая паника, что вряд ли нам удалось бы ускользнуть от погони.
Живого Польмана я еще мог нейтрализовать на какое-то время, но, мертвый, он принялся бы преследовать меня с места в карьер.
– Слушайте внимательно, Польман, – сказал я возможно более спокойно и деловито. – Я выполняю особо ответственную операцию по личному указанию…
Ладно, не будем его называть, вы знаете его имя! Попробуйте только ее сорвать! С нашим шефом шутки плохи…
Несмотря на слабый свет на лестнице, я заметил, что Польман побледнел от волнения.
– Вы хотите сказать, что вас решили…
– Вас не должно интересовать, что там решили, если не сочли нужным поставить вас об этом в известность, – произнес я возможно более пренебрежительно. – Забудьте, что вы начальник гестапо. Сейчас я вижу в вас сотрудника другого ведомства…
– А… список? – неуверенно спросил Польман. – До того как будет получен список…
– Список передан по принадлежности, – ответил я. – Мне уже дано другое задание!
– Гренеру?! – Польман с трудом сдержал свое волнение. – Он-таки обошел меня!
– Ну, это уж меня не касается, – примирительно заметил я. – А сейчас мне нужно, чтобы вы оставили меня с баронессой и захватили с собой своего фендрика…
Польман угрюмо покачал головой:
– А если я…
Я сдержанно ему пригрозил:
– Жалеть об этом придется не мне!
Он отвел от меня свои глаза.
– Хорошо, – неохотно согласился он. – Если резидент подтвердит ваши полномочия, я не буду мешать…
Я не знал, кого он имел в виду, но подумал, что скорее всего это мог быть Гренер.
После этого короткого, но выразительного разговора мы вернулись на улицу и подошли к машине.
– Дорогая баронесса, господин обергруппенфюрер приносит вам тысячи извинений, – галантно произнес я. – У него возникла необходимость срочно побывать в своей канцелярии, но он надеется, что ни с вашей стороны, ни со стороны вашей тетушки не встретится возражений, если он завтра заедет засвидетельствовать вам свое почтение
Польман только молча поклонился.
Баронесса милостиво пожала ему руку.
– Пойдемте, Кюнце, – промолвил Польман своему спутнику.
Я сел в машину, Штамм взялся за баранку, и мы поехали.
Я наклонился к шоферу:
– Я не знаю, как вас зовут…
– Штамм, – сказал он.
– Товарищ Штамм, – предупредил я его, – на минуту задержитесь у гостиницы «Даугава», а затем жмите изо всей мочи.
– Я знаю, – ответил он.
Та, которая называла себя баронессой фон Третнов, не вмешивалась в наш разговор и вообще не произносила больше ни слова.
Минут через пять мы подъехали к «Даугаве». Можно сказать, мы даже не остановились. Железнов сел в машину почти что на ходу. Он был в мундире гауптштурмфюрера, и я бы не сразу его узнал, если бы не был предупрежден о маскараде.
Я прекрасно понимал, что Польман не замедлит обратиться к Гренеру и что нам важен каждый час выигранного времени…
Мы мчались по улицам Риги, и я напряженно соображал, какое препятствие можно воздвигнуть на пути наших преследователей.
Дорога была каждая минута, но мне подумалось, что для задержки противника стоило пожертвовать даже десятком минут!
– Товарищ Штамм, поезжайте к цирку, – приказал я. – Остановитесь неподалеку и ждите. Я вернусь самое большее через четверть часа.
– Для чего это? – спросил Железнов.
– Потом! Потом! – бросил я ему. – Сейчас нет времени!
Штамм затормозил перед цирком, и я бегом устремился к артистическому подъезду.
– Где господин Гонзалес? – крикнул я на ходу какому-то цирковому служителю. – Проведите меня!
Я не видел Гонзалеса с того памятного вечера, когда он исполнял свою серенаду под окнами госпожи Лебен…
Он встретил меня в коридоре, одетый в темное пальто, накинутое поверх расшитого блестками камзола.
Гонзалес почти не изменился, разве чуть обрюзг и стал еще мрачнее.
– Добрый вечер, синьор Гонзалес, – поздоровался я. – Вы еще не отказались от госпожи Янковской?
– Что вы хотите этим сказать? – мрачно спросил он, не отвечая на мое приветствие.
– Мне некогда, но я решил оказать вам услугу, – сказал я, не обращая внимания на его тон. – Если вы еще не оставили намерения привести на свое ранчо госпожу Янковскую, вам следует что-то предпринять. Сегодня ночью Янковская и Гренер собираются покинуть Латвию, а господин Польман должен организовать их отъезд. Если вы поторопитесь, вы успеете еще ее задержать. Самое главное, помешайте Гренеру встретиться с Польманом!
– Не знаю, что побудило вас сообщить мне об этом предательстве, – произнес он свистящим шепотом. – Возможно, она пыталась обмануть вас, как и меня, но у вас не хватает характера для мести… – Он протянул мне руку. – Можете рассчитывать на мою благодарность! – И устремился к выходу, опережая меня.
Кто-то закричал ему вслед:
– Рамон! Рамон! А как же ваш выход?!
Но Гонзалеса уже след простыл…
Я не сомневался в том, что он не замедлит появиться в квартире Гренера и внесет немалую сумятицу. Появление Гонзалеса предвещало по крайней мере хороший скандал. Во всяком случае, он близко не подпустит Польмана к Гренеру, пока там разберутся что к чему. Я был убежден, что благодаря темпераменту техасца мы получим значительную фору во времени!
Машина ждала неподалеку от цирка.
Штамм коротко спросил:
– Ехать?
– И побыстрее, – ответил я. – Больше нам задерживаться нечего!
Штамм прибавил газу, и мы понеслись через город. Вся Рига знала машину гаулейтера. Мы неслись с такой скоростью, что шуцманы не успевали нас приветствовать.
– Однако вы заставили меня поволноваться, – упрекнул Железнов.
– Если бы ты знал… – только и ответил я.
Мы миновали пригороды Риги и вынеслись на шоссе.
– Все-таки желательно было бы объехать контрольные посты, – проговорил Штамм. – Будет лучше, если никто не увидит, в каком направлении ушла наша машина.
– А разве вы не знаете, где контрольные посты? –удивился Железнов.
– В том-то и дело, что знаю, – сказал Штамм. – Я всегда езжу мимо контрольных постов и не знаю, как их объехать.
– Вы сможете сориентироваться по карте? – спросил я Штамма.
Я достал карту окрестностей Риги, которая имелась у Блейка, мы задержались на минуту, выбрали дорогу, на которой была наименьшая вероятность с кем-либо встретиться, и помчались опять.
– Загляните под сиденье! – крикнул Штамм.
Под сиденьем мы нашли автоматические пистолеты – это оружие было посерьезнее того, что лежало у меня в кармане, – ракетный пистолет и несколько ручных гранат.
Мы тут же поделили между собой пистолеты и гранаты, и я как-то увереннее стал вглядываться в ночную тьму.
Штамм вел машину на предельной скорости.
Я посматривал на нашу спутницу…
Наконец-то я ее узнал! Это была та самая девушка, которая сопровождала Пронина в Межапарке. За то время, что я ее не видел, она сильно похудела, а нарядный костюм очень изменил ее внешность…
Я хотел ее спросить, помнит ли она меня, но она держалась столь отчужденно, что я так ее ни о чем и не спросил.
Приблизительно на полдороге к Лиелупе наша «баронесса» обернулась ко мне и указала на окно. Я помнил слова Пронина.
– Штамм! – крикнул я. – Стойте!
Он тотчас остановился. Наша незнакомка открыла дверцу. Вокруг была сплошная ночь, машина тонула в темноте, лишь где-то вдалеке мерцал слабый огонек.
– Прощайте, товарищи, – сказала наша спутница и выскочила из машины.
– Как вы будете добираться в такой темноте? – участливо спросил ее Железнов.
Мы только услышали, как под ее ногами зашуршал гравий, мелькнула неясная тень, и тут же пропала.
Я с опасением посмотрел в черную пустоту. Куда она пошла? Что ждет ее в этом мраке? Было тревожно на душе…
– Поехали, товарищ Штамм, – сказал Железнов.
Теперь, оставшись втроем, мы распределили наши роли, каждый должен был знать, что ему в том или ином случае придется делать.
Стремглав миновали Лиелупе, свернули на знакомую дорогу, и перед нами появилась высокая каменная ограда.
Над аркой горела лампочка, ворота были раскрыты.
– Что за черт! – воскликнул я. – Почему раскрыты?
– Ничего нет удивительного, нас ждут, – объяснил Железнов. – Надо полагать, Пронин позвонил и предупредил охрану, что на аэродром Гренера выехал гаулейтер.
Штамм сбавил скорость, и мы въехали в ворота. Навстречу бежал начальник охраны, эсэсовский офицер, с поднятой для приветствия рукой.
19. Полет на Луну
Я так назвал эту главу потому, что полет, описанный здесь, совершить было столь же трудно, как лететь на Луну…
Мы въехали в ворота, и они тотчас за нами захлопнулись. Штамм затормозил. Начальник охраны подбежал к машине. Занавески на ее окнах были задернуты, и нельзя было видеть, кто в ней находится. Железнов выскочил из машины и обменялся с начальником приветствиями.
– Господин лейтенант, барон просит немедленно собрать всю охрану, – сказал Железнов. – Он лично передаст свои инструкции.
– Где и когда? – лаконично спросил офицер.
– Здесь, немедленно, – распорядился Железнов. – Господин гаулейтер торопится.
По-видимому, такие внезапные приезды не были здесь редкостью: на аэродроме не один раз принимались самолеты с гостями, чьи посещения следовало хранить в тайне.
Минуты через три возле машины выстроились эсэсовцы: вместе с офицером их было одиннадцать человек.
– Все? – спросил Железнов.
– Все, – подтвердил офицер.
– А вон тот, на вышке? – указал Железнов.
– Он на посту, – объяснил офицер.
– На посту только один человек? – удивился Железнов.
– Да, – объяснил офицер. – Ограда обтянута поверху проволокой, через которую пропущен электрический ток.
– Позовите и часового… – распорядился Железнов. – Господин гаулейтер хочет лично проинструктировать все подразделение.
Офицер послал к вышке одного из эсэсовцев.
Затем все двенадцать человек выстроились прямо против машины. Железнов распахнул дверцу, и мы со Штаммом прошили их очередью из своих автоматов.
Железнов остался у ворот, а мы поехали к аэродрому.
По нашим расчетам, самолет должен был вскоре приземлиться.
Все было тихо и безлюдно: в эту ночь, очевидно, не ждали никого.
У края поля находилась какая-то будка.
Мы вошли туда, повернули выключатель. В тесной комнатке стояли стол и стулья, на стене чернел рубильник. Мы рискнули его включить и выключить: на поле на мгновение вспыхнули сигнальные электрические лампочки.
– Это удача, – сказал Штамм. – Я думал, придется сигналить ракетами.
С аэродрома поехали к домикам, в которых находились дети.
Там тоже было тихо. Мы зашли в одно из помещений.
Стояли кроватки, в них спали дети.
Их было что-то мало, часть из них уже успели куда-то деть…
В одной из комнат мы нашли трех женщин, уж не знаю, как их назвать: няньками, сиделками или надсмотрщицами.
Одна из них проснулась, когда мы вошли. Она стыдливо натянула одеяло до самого носа.
– Господин офицер! – воскликнула она, хотя я был в штатском платье, а Штамм в солдатской форме: вероятно, большинство здешних посетителей, в штатской ли они были одежде или военной, являлись офицерами.
Ее восклицание разбудило остальных. Женщины не понимали, зачем мы пришли.
– Пойдите, Штамм, поглядите, – сказал я, – не найдется ли для них подходящего местечка.
Штамм быстро отыскал какой-то чулан, в котором не было окон, но зато снаружи имелся большой, крепкий засов.
– Отличный бокс, – сказал он. – Как раз для таких, как эти.
Мы подняли женщин и загнали их в чулан.
– Если будете сидеть тихо, с вами ничего не случится, – строго сказал Штамм. – Но если вздумаете орать и безобразничать, мы вас расстреляем.
Одна из них принялась просить, чтобы их не запирали, клялась, что они ничего себе не позволят, но мы им не поверили.
В соседнем доме не оказалось никого – ни детей, ни взрослых.
На самой даче обнаружили двоих – кухарку и денщика, этих мы заперли в погреб.
Вернулись к детям, принялись поднимать их с кроватей, и отнесли в машину.
Перевезли и поехали к Железнову.
Он стоял возле вышки с автоматом в руках.
– Самолет запаздывает, – с досадой сказал он. – Неспокойно что-то…
Но тут мы услышали долгожданный рокот, и я со Штаммом поехал обратно на аэродром.
Штамм подъехал к будке, вбежал в нее.
Дети, сбившись кучкой, сидели в темноте, прижавшись друг к другу, как цыплята: кто-то плакал, кто-то спал, но большинство только сопели и молчали.
Штамм включил рубильник – в поле загорелись огоньки, и несколько минут спустя большой, тяжелый самолет побежал по полю.
Мы подъехали к нему на машине.
Самолет содрогался: пилот не заглушал мотора.
Он выскочил из кабинки, вгляделся в меня в темноте.
– Беда с вами, – сказал он. – Товарищ Железнов?
– Нет, я Макаров, – сказал я. – Железнов охраняет вход.
– Ну, здравствуй, – сказал он и назвался: – Капитан Лунякин.
– Видите ли, обстановка такова… – начал я.
Но Лунякин закричал:
– Какая там обстановка! Где ваш груз?! Где груз?! Давайте скорее, иначе все тут останемся!
Штамм по-немецки сказал, что пойдет за детьми.
Лунякин подозрительно на меня посмотрел.
– А это что за немчура? – спросил он.
– Это один товарищ, – сказал я. – Проверенный товарищ. Он идет за детьми.
– Ладно, коли проверенный, – сказал Лунякин. – Все пойдем, давайте грузить побыстрее.
Около него стояли уже два его помощника – штурман и радист.
– Где они? – спросил кто-то из них, по-видимому, они знали, в чем дело.
Мы все побежали к будке.
Скажем прямо, в эту ночь мы обращались с детьми не так, как принято в детских учреждениях: не было времени ни уговаривать, ни нежничать с ними, мы хватали их под мышки, по двое, и даже по трое, бегом тащили к самолету, запихивали в кабину и бежали за другими.
В это время со стороны ворот раздался выстрел.
– Это еще что? – спросил Лунякин.
– Не знаю, – сказал я. – Но ясно, что ничего хорошего.
– Поглядим! – сказал Лунякин.
Он оставил возле самолета штурмана, и мы вчетвером – Лунякин, радист, Штамм и я – помчались к ворогам.
Железнов стоял на вышке.
Мы подбежали к нему.
– Что случилось, Виктор?
– Приехали! – сказал он. – Первые гости!
Оказалось, что к воротам подъехала было легковая машина, но Железнов отогнал ее выстрелом.
Теперь машина стояла поодаль, в тени деревьев, и приехавшие пользовались ею как прикрытием.
Я всматривался, но людей различить было трудно.
Прикоснулся к руке Железнова:
– Как думаешь, кто это?
Он усмехнулся:
– Я же сказал: первые гости. Сейчас начнут прибывать!
Люди у машины чего-то выжидали… И вдруг мы услышали женский крик. Я сразу узнал: кричала Янковская.
– Август! Август! – кричала она. – Берзинь, откликнитесь!
Даже здесь, даже этой ночью она была верна профессиональным навыкам и соблюдала правила конспирации, не назвав меня ни одним из других моих имен.
Я поднялся на вышку.
– Я вас слушаю! – крикнул я и пригнулся, опасаясь выстрела.
– Не бойтесь, мы не будем стрелять! – крикнула Янковская.
В темноте взметнулось что-то белое… Она привязала к обломанной ветке носовой платок и подняла его вместо белого флага.
– Не стреляйте! – крикнула Янковская. – Я иду к воротам.
Она решительно пошла по дороге. Этого у нее отнять было нельзя: она была смелая женщина.
– Что вы хотите? – спросил я ее, когда она подошла к воротам.
– Разве так разговаривают с парламентерами? – насмешливо сказала она. – Впустите меня.
– Зачем? – спросил я.
– Неужели вы боитесь безоружной женщины? – ответила она. – Мне необходимо с вами поговорить!
– Впустим, – решил Железнов.
Он не стал слезать с вышки, и мы со Штаммом впустили Янковскую.
– Говорите, – сказал я. – Чего вы хотите?
– Мне надо говорить лично с вами, – сказала она. – Отойдем в сторону.
Она сошла с дорожки, и я невольно последовал за ней.
– Зачем вы приехали? – спросил я. – Кто с вами?
– Никого! – Она рассмеялась. – Кому же еще быть? Вы не представляете, какой спектакль устроил мой чичисбей. Вы здорово его растравили. Я приехала бы раньше, но Гонзалес никому не давал говорить, и я не могла понять, чего добивается Польман…
Она потянула меня за руку.
– Что вы собираетесь делать? – продолжала она. – Подозрения Польмана подтвердились. Гренер ни о чем не знал. Он не получал ни списка от вас, ни указаний от шефа…
Мне об этом можно было не сообщать!
– Для чего вы все это говорите? – остановил я ее.
– Для вас! – воскликнула она. – В течение нескольких минут Польман установит, куда последовала ваша машина, и все станет ясно. С минуты на минуту сюда прибудут специальные войска. Я хочу вас спасти. Все равно вам не прорваться через линию фронта. Помогите обезоружить команду самолета, и вам обеспечено прощение. Вас не пошлют в Россию. У вас будут деньги, положение, свобода…
Она принялась торопливо уговаривать меня, сулила всяческие блага, запугивала всевозможными ужасами.
Может быть, дорогой она еще воображала, что сможет меня уговорить, но, едва заговорив, я думаю, сразу поняла бесполезность затеянного разговора. Она торопливо повторяла фразу за фразой о красивой жизни, личной свободе и обеспеченном положении, но сама уже не верила в убедительность своих доводов. Она продолжала говорить, а в сознании ее зрело другое решение, потому что внезапно она отскочила от меня и выхватила из кармана пистолет.
У меня мелькнула мысль, что на этот раз она не пощадит Макарова, но нет, она целилась в Лунякина!
Не знаю, случайно она его выбрала или угадала в нем пилота, но этим выстрелом она могла погубить нас всех…
Она умела принимать молниеносные решения!
Одним прыжком я очутился возле нее и сбил с ног.
Ко мне подбежал Лунякин, и ремнями, снятыми с мертвых эсэсовцев, мы скрутили ей руки и ноги.
– Что там у вас, Андрей Семенович? – закричал Железнов.
– Янковская хотела его застрелить! – объяснил я, указывая на Лунякина.
Я приблизился к вышке и передал Железнову слова Янковской о том, что с минуту на минуту должны прибыть специальные части.
– Чего же вы медлите? – сказал он. – Не пропадать же всем. – Он поискал глазами Штамма. – Товарищ Штамм! – подозвал он его. – На два слова.
Они перекинулись между собой несколькими отрывочными словами.
– Так вот, товарищи, – внятно и не торопясь произнес Железнов, – решение принято. Экипаж возвращается в самолет, и товарищ Макаров тоже, а мы с товарищем Штаммом постараемся вас прикрыть.
– Ты можешь лететь с нами! – воскликнул я.
Железнов указал на ограду:
– Думаешь, эти не попытаются проникнуть сюда? А мы не знаем всех секретов здешнего аэродрома! Нельзя рисковать ни самолетом, ни людьми. Да и выезда мне никто не разрешал! Пока что мы не впустим тех, что за воротами, и будем задерживать тех, что прибудут…
– Нет, – сказал я. – Я не согласен! Ты полетишь с нами!
– Вы недостаточно дисциплинированны, товарищ Макаров, – сказал Железнов. – Но на этот раз номер не пройдет. Вас ждут в штабе армии. Понятно? Приказ командования! Посмейте ослушаться, и вас расстреляют за невыполнение боевого приказа!
Он тотчас от меня отвернулся и пожал руку Лунякину.
– Большое спасибо за помощь… – Голос его на мгновение перехватило, но он сейчас же оправился. – Передайте…
Но так больше ничего и не сказал.
– Майор Макаров, подмените шофера, – приказал он. – Садитесь.
Он указал головой в сторону Янковской.
– И заберите с собой эту особу, – сказал он. – Не-< зачем оставлять ее здесь, сдадите в особый отдел.
Он опять обернулся к Лунякину:
– Товарищ Лунякин, попрошу…
Пилот и штурман подошли к Янковской, подняли ее, как мешок, и довольно бесцеремонно сунули в машину.
– Товарищ Штамм, забирайте автомат и гранаты и лезьте на крышу, – сказал Железнов. – А я останусь на вышке.
Штамм поднял автомат.
– Пожми ему руку, – сказал Железнов.
Я простился со Штаммом, и он пошел к сторожке.
– А теперь торопись, – сказал Железнов. – Поцелуемся.
Мы поцеловались, я отвернулся и, не оглядываясь, побежал к машине.
И почти тут же услышал выстрелы…
Сперва несколько одиночных выстрелов, а затем частую непрекращающуюся стрельбу. Стреляли где-то в отдалении, за оградой. Выстрелы раздавались со стороны поля, но потом стрельба послышалась и со стороны дороги…
Я прислушался и вернулся к Железнову.
– Слышишь? – спросил я. – Что это может значить?
– Наши! – закричал Виктор. – Тут неподалеку действует одно партизанское соединение. Им послали приказ – подойти и обеспечить операцию. Следовательно, получили!
Кажется, не было в этой войне момента, когда нельзя было бы ощутить плеча товарища!
– Значит, порядок?! – воскликнул я. – Теперь и ты можешь с нами…
– Нет, не «значит», никто не разрешал мне покидать Ригу, – сердито откликнулся Виктор. – И вообще, товарищ майор, почему вы нарушаете приказ? В машину, на самолет, и попрошу больше не задерживаться!
Я не мог не подчиниться и побежал обратно к машине.
Однако на сердце у меня стало как-то спокойнее…
– Давай-давай, майор, теперь дорога каждая минута, – сказал Лунякин. – Что там за стрельба?
– Партизаны! – объяснил я. – Специально, чтобы обеспечить нашу операцию.
– Добро, – довольно сказал Лунякин. – Сейчас рванем!
Мы проскочили аллею и помчались через луг к самолету. Стрельба становилась все ожесточеннее, видно, бой завязался всерьез…
Специальные части напоролись на неожиданное сопротивление.
Я тормознул прямо с хода…
Штурман подбежал к машине.
– Долгонько.
– Ладно, – сказал Лунякин. – Ребят в сторожке не осталось?
Штурман помотал головой.
– Тогда по местам…
Летчики очень спешили. Янковскую бросили внутрь. Подсадили меня.
Через несколько минут мы оторвались от земли.
Когда мы набирали высоту, до нас донеся глухой взрыв.
Вскоре мы уже не слышали ничего. Впервые с момента выезда из Риги я взглянул на часы. Мне казалось, что прошло бесконечно много времени. На самом деле все наши перипетии заняли немногим более часа. Мотор рычал все яростнее: Лунякин набирал высоту. Я нащупал в кармане свой сверток и почувствовал, как во мне нарастает желание поскорей от него освободиться…
Земля под нами пропала совсем, и мы взмыли в черное бездонное небо.
20. Разговор начистоту
То, что произошло в Риге после нашего отбытия, стало известно мне лишь со слов Пронина, и много времени спустя.
Расставшись со мною, Польман отправился к Гренеру, но Гонзалес, как я и рассчитывал, очутился там раньше.
Из цирка он прямиком помчался на квартиру к Гренеру, где и узнал, что тот действительно женится на Янковской и готовится вместе с ней к отъезду, – об этом ему без всяких обиняков объявил сам Гренер и тут же приказал денщикам выбросить буянящего артиста вон.
Гонзалес впал в неистовство.
Тут как раз прибыл Польман, потребовал, чтобы Гонзалес его пропустил, но это только подлило масла в огонь.
На шум появились Гренер и Янковская, снизу принеслась охрана. У входа в квартиру произошла форменная свалка. Обезумевший от ревности Гонзалес с ножом кинулся на Гренера, Польман попытался вмешаться. Гонзалес замахнулся на Польмана, и кто-то из эсэсовцев, спасая своего начальника, пристрелил незадачливого ковбоя.
Во всяком случае, такова была версия, услышанная на следующий день Прониным, хотя он допускал, что Янковская сама могла воспользоваться возникшей сумятицей и собственноручно пристрелить Гонзалеса или же надоумить на это кого-либо из эсэсовцев. Ей была выгодна эта смерть: она разом избавлялась и от назойливого поклонника, и от свидетеля многих темных ее дел.
Все же Гонзалес успел ранить Польмана, рана, как выяснилось во время перевязки, оказалась неопасной, но в первый момент растерялись все, начиная с самого Польмана.
Гренер кинулся оказывать Польману помощь. Тот пытался еще во время перевязки узнать, насколько справедливы слова Блейка о передаче списка и новом задании, полученном от генерала Тейлора, но Гренер, поглощенный перевязкой, не сразу сообразил, чего добивается Польман, и, пока они дотолковались, прошло какое-то время.
Зато Янковская моментально все поняла, ей вспомнились мои расспросы об аэродроме, она выскочила из комнаты, кинулась вниз к машине Польмана и от его имени приказала шоферу везти ее в Лиелупе.
Нужно было во что бы то ни стало воспрепятствовать моему отъезду, а может быть, и уничтожить меня: вырвавшись из-под ее опеки, я тоже превращался в лишнего и опасного свидетеля ее дел…
Тем временем Польман выяснил наконец у Гренера все, что было нужно. Установить, куда проследовала машина гаулейтера Риги, не представляло труда, он немедленно отдал команду выслать к даче отряд специального назначения и тут же выехал сам…
Но история с Гонзалесом отняла достаточно времени, и, когда Польман устремился в Лиелупе, мы уже собирались в путь-дорогу.
О приземлении самолета Польман узнал уже на месте.
Прибыв в Лиелупе в тот момент, когда мы набирали скорость, он сразу поднял на ноги противовоздушную оборону и приказал прибывшим одновременно с ним солдатам атаковать дачу и сбить поднимающийся самолет…
Не их вина, что Лунякин ушел и от зенитного обстрела, и от высланных в погоню «мессершмиттов»!
Эсэсовцы еще прежде, чем кинулись в атаку, были обстреляны партизанами со стороны шоссе, а Железнов и Штамм, один с вышки, а другой с крыши сторожки, взяли под перекрестный огонь тех, кто пытался проникнуть за ограду.
И здесь о Штамме следует сказать особо.
Кто он такой, я узнал после войны. Механик машиностроительного завода, рабочий, сочувствовавший социал-демократам, он по возможности старался держаться подальше от политики. Приход нацистов к власти его не слишком обрадовал, но и не вызвал с его стороны особого протеста: он хотел посмотреть, что из этого получится. А когда увидел, стал держаться от политики еще дальше: поддерживать политику нацистов честному человеку было стыдно, а бороться против нее опасно. Когда началась война и Штамма мобилизовали в армию, было установлено, что политикой он никогда не занимался, и его назначили шофером, сперва в какую-то эсэсовскую часть, а потом в штаб охранных отрядов, и, наконец, он попал к гаулейтеру Риги.
Однако во время войны оставаться нейтральным было нельзя, приходилось или самому участвовать в убийствах и бесчинствах, или стараться этому помешать…
Неверно было бы сказать, что Пронин и Штамм случайно нашли друг друга.
Гашке внимательно присматривался ко всем, с кем ему приходилось сталкиваться в немецком тылу.
– Что должен делать в моих условиях честный человек? – спросил как-то Штамм у Гашке.
– Ну, знаете ли, честный человек должен сам ответить себе на этот вопрос, – уклончиво отозвался Гашке.
Постепенно они сблизились, и Штамм начал помогать Пронину сперва в мелочах, а затем и в серьезных делах.
И поэтому, когда пришла трудная минута, Пронин обратился к нему.
Пронин рассказывал, что, когда он пришел к Штамму и познакомил его с существом дела, тот ограничился немногими словами:
– О чем говорить, товарищ Гашке? Каждый честный человек обязан бороться против фашизма. Я отвезу товарищей в Лиелупе. Подумаем, как нам это организовать.
Однако он не только отвез нас, но и с оружием в руках прикрывал наш отъезд.
Конечно, долго сопротивляться Железнов и Штамм не могли, но на какое-то время задержали эсэсовцев. В конце концов эсэсовские пули настигли обоих, раненые, они принялись отходить в глубину парка… Сами бы они оттуда не выбрались, но их нашли партизаны и, отступая, унесли с собой.
Самолет, пилотируемый Лунякиным, избежав обстрела зенитных орудий и встреч с вражескими истребителями, приземлился в расположении нашей армии.
Лунякин совершил посадку и пошел доложиться своему командиру. Мы со штурманом вывели из самолета голодных и перепуганных детей и вызвали санитарные машины.
Медики опередили особистов: детей погрузили в машины – только мы их и видели.
Впрочем, одна женщина-врач с капитанскими погонами успела подойти ко мне и спросить:
– Это вы доставили детей?
– Пожалуй что и я, – признался я.
– Эх вы! – сказала тогда она. – Вас бы судить надо за такое обращение с детьми…
Но она, к счастью, уехала: накормить детей для нее было важнее, чем отдать меня под суд.
Потом из штаба армии пришел «виллис», мы со штурманом завезли Янковскую в особый отдел, я сдал свой пакет, доложился о прибытии и отпросился спать.
Меня вызвали в особый отдел на следующий день и в течение трех дней допрашивали в качестве свидетеля по делу Янковской, а еще через день я был вызван на заседание военного трибунала.
Я не буду подробно описывать этот суд, здесь не место для газетного отчета, скажу только, что суд шел по всем правилам, и даже без обычной спешки, свойственной судам в военной обстановке.
Янковская признала себя виновной в шпионаже.
– Да, это моя профессия, – заявила она. – Да, моя деятельность была направлена против Советского Союза.
В качестве свидетелей были вызваны Лунякин и я.
Председатель суда предложил мне рассказать все, что я знаю о Янковской.
В моем рассказе было много неясностей. Скорее я возбудил в членах суда любопытство, чем удовлетворил его. Гораздо больше своими показаниями я поразил Янковскую. Вероятно, она не ожидала, что я скажу всю правду, не скрывая собственных оплошностей и просчетов.
– Может быть, вы все-таки сообщите нам все обстоятельства своего знакомства с Макаровым? – обратился к ней председатель. – Это послужит на пользу делу и даже вам.
Янковская наклонила голову.
– Хорошо, – сказала она. – Хотя вряд ли мне от этого будет польза.
И она стала рассказывать…
Нет нужды полностью пересказывать показания Янковской, но, для того чтобы многое наконец стало понятным, придется вкратце вернуться к событиям того памятного вечера, когда мы с нею познакомились.
Да, собственно говоря, она с них и начала.
Она коротко и в общем правильно охарактеризовала обстановку, сложившуюся тогда в Риге, и очень просто объяснила загадочные явления, так поразившие меня, когда я впервые увидел эту женщину.
Буржуазная Рига всегда была сборищем шпионов, по своему географическому и политическому положению она занимала на западе такое же место, какое Шанхай, например, или Харбин занимали на востоке.
Янковская была связана с тремя разведками: в капиталистическом мире один шпион нередко работает на две, и даже на три, разведки одновременно, их называют «двойниками» и «тройниками». Янковская и являлась таким «тройником», хорошо понимая, какой из трех спорящих богинь должен отдать предпочтение умный Парис.
Блейк, разумеется, не знал всего этого о своей помощнице. Офицер английской секретной службы, он честно служил своему правительству, он и погиб потому, что принадлежал к тем англичанам, которые не хотели служить на побегушках у заокеанских дельцов.
Собирая военную информацию и выполняя поручения, связанные с подготовкой к войне, Блейк думал не только о предстоящей войне, но и о том, что будет после войны, он уже готовился к деятельности, которая и после войны помогала бы капиталистам извлекать свои прибыли и которая в наше время именуется «холодной войной».
Тревожная атмосфера, в которой действовали все эти крупные и мелкие агенты капиталистических держав, достигла особого накала в связи с появлением в Риге некоего господина Хэндшема, одного из представителей секретной службы Великобритании, который приехал в Ригу под видом богатого коммерсанта, путешествовавшего по Советскому Союзу вместе со своей супругой.
Хэндшему необходимо было встретиться с Блейком, но так, чтобы не бросить на последнего никакой тени. Через Янковскую Блейку было передано поручение встретиться вечером с Хэндшемом в ресторане: сразу после свидания ночным рейсом Хэндшем должен был вылететь в Стокгольм.
Янковской представилась единственная возможность перехватить сведения о подготовленной Блейком агентуре, на чем категорически настаивала заокеанская разведка, с которой к тому времени была основательно связана Янковская.
Янковская отлично понимала, что приказание достать список равнозначно приказанию убить Блейка. У нее, в общем, было безвыходное положение: не выполнить приказания – значило быть наказанной, то есть попросту убитой, убийство же Блейка грозило преследованиями со стороны Интеллидженс сервис. Янковская предпочла не сориться со своими заокеанскими начальниками.
На помощь она взяла Смита, который был приставлен к ней для выполнения отдельных поручений и которому она откровенно сказала, что придется убить Блейка – в таких делах от Смита нечего было прятаться. Смиту на это было тем легче согласиться, что он ревновал Янковскую к Блейку, впрочем, как и ко всем, с кем она общалась.
Но за деятельностью Блейка не менее тщательно наблюдали и немцы. После провозглашения в прибалтийских республиках Советской власти немцам, жившим в Прибалтике, была предоставлена широкая возможность репатриироваться. В связи с этим из Германии понаехали множество всяких уполномоченных по репатриации, и среди них было достаточно шпионов. Немецкие разведчики даже опекали Блейка, имея, конечно, на него свои виды, и всячески оберегали от посягательств заокеанской разведки.
События развивались в такой последовательности. Янковская передала Блейку, что его будут ждать вечером в ресторане отеля «Рим», а несколько позже предупредила Смита, что ей приказано убить Блейка. Вечером Янковская пришла к Блейку, между ними произошел неприятный разговор, и затем она его убила. В это время позвонил телефон. Янковская сказала, что господин Берзинь не может подойти и просит сказать, что от него нужно. Тот, кто звонил, не называя себя, сказал, что место свидания переносится, с господином Берзинем встретятся в назначенное время на набережной Даугавы. Янковская не узнала голоса Хэндшема, но она могла ошибиться. Если же это был не Хэндшем, то это могли быть только немцы.
Янковская вышла из квартиры Блейка, дошла до здания, занимаемого штабом нашего военного округа, и дождалась моего появления.
Еще впервые, увидев меня, она обратила внимание на мое сходство с Блейком, и в тот вечер решила использовать это сходство в своих интересах.
А обо мне ей стало известно вскоре после моего приезда в Ригу. Один из монтеров, обслуживавших здания нашего военного ведомства, сообщал ей о всех новых офицерах, появлявшихся в штабе.
С целью выпытать от меня какие-либо военные секреты она была не прочь познакомиться со мной, а если возможно, то и влюбить в себя, но повода для знакомства найти не удавалось.
Однако обстоятельства, в которых она запуталась вследствие своей сложной игры, заставили ее обратиться ко мне с просьбой проводить ее по набережной.
Если бы нам повстречался Хэндшем, она отошла бы к нему, объяснив, что за мной идет слежка. Мельком увидев меня и получив от Янковской список, Хэндшем не усомнился бы в подлинности Блейка.
Но едва появилась машина, как у Янковской исчезли всякие сомнения в том, что свидание на набережной назначено немцами, пронюхавшими о предстоящей встрече. Машина принадлежала одному из германских уполномоченных по репатриации. Немцы не могли не предположить, что Блейк передаст Хэндшему какие-то документы. Приняв меня за Блейка, они могли меня или захватить, или убить.
Поэтому Янковская и изобразила из нас влюбленную пару. Немцы помчались дальше, а Янковская заторопилась на свидание с Хэндшемом.
За Блейка принял меня Смит, который решил, что Янковской не удалось покушение. Они условились, что Смит пристрелит Блейка, если тот появится на улице. Смит предупредил свою сообщницу свистом, но Янковская предотвратила ненужное убийство.
Когда мы дошли до угла, Смит, издали следовавший за нами, убедился в своей ошибке, но снова выстрелил, заметив, как ему показалось, мою попытку похитить сумку Янковской…
На этом бы все и закончилось, не вздумай я отправиться в ресторан на поиски таинственной незнакомки.
Янковская нашла Хэндшема за столиком и сказала, что Блейк подвергся нападению и тяжело ранен. Хэндшем встревожился, но она успокоила его, сказав, что убийцам список похитить не удалось, и отдала ему один экземпляр списка, умолчав, разумеется, о другом. Она высказала предположение, что это – дело рук советской разведки. В это время появился я и, увы, не сумел скрыть своего внимания к Янковской. Хэндшем заинтересовался мною. Янковская сказала, что я офицер советской разведки, давно интересуюсь Блейком и ею, что она только что встретила меня на набережной, и вполне возможно, что это я и пытался убить Блейка.
Хэндшем приказал меня убрать, предупредив, что еще до отъезда проверит, как выполнено его поручение. Янковской не оставалось ничего другого, как опередить меня и отравиться к моему дому.
Она взяла с собой Смита, и они вдвоем притаились на лестнице. Смит и осветил меня сверху, когда я поднимался…
Покушение на мою жизнь совпало с первой бомбардировкой Риги. Янковская сразу догадалась, что означают донесшиеся до нее взрывы, и с обычной для себя быстротой решила сохранить мне жизнь.
В новой ситуации Блейк, послушный и ничего не знающий о ней новый Блейк, мог очень и очень ей пригодиться…
Идея выдать меня за Блейка озарила ее в то самое мгновение, когда она хладнокровно выполняла приказание Хэндшема. Можно сказать, эта мысль отвела ее руку от моего сердца, но… не от груди, если я в этой ситуации и нужен был Янковской, то только в беспомощном состоянии.
Она меня не убила, но тяжело ранила. Вытащить меня в бессознательном состоянии из дома с помощью Смита не представляло особого труда, они проделывали вещи и посложнее. Меня перевезли на квартиру Блей-ка, а труп Блейка забрал Смит. Утром этот труп, изуродованный настолько, чтобы не было заметно разницы между Блейком и Макаровым, был найден в одном из переулков под обломками дома, разрушенного немецкой бомбой. Одежда и документы подтверждали, что это Макаров. Макарова похоронили товарищи, а тяжело раненного Берзиня Янковская поместила в больницу.
Покуда Берзинь находился между жизнью и смертью, Рига была оккупирована немцами. Они и сами знали, кто скрывается под именем Берзиня, и Янковская поставила их об этом в известность, тем более что по линии заокеанской разведки ее непосредственным начальником стал профессор Гренер, давно уже связанный с этой разведкой.
В общем, все, о чем она рассказывала, было известно, и она мало отклонялась от истины.
Судебное разбирательство шло к концу.
Председатель суда, пожилой полковник в очках, бросил на меня вопросительный взгляд и больше для проформы спросил:
– Имеете что-либо добавить?
Я покачал головой:
– Нет, что же… Все правильно…
Да, все, что говорила Янковская, было правильно, и тем не менее она уходила от ответственности. Да, собирала информацию для одних, для других, мне даже спасла жизнь, во всяком случае после ее рассказа могло создаться такое впечатление, и если бы не покушение на Лунякина, которое она склонна была объяснить своей экзальтированностью, она могла бы даже рассчитывать на снисходительный приговор…
Но снисходительное отношение к таким преступникам – глубочайшая несправедливость по отношению к тысячам невинных людей, которыми играют и жертвуют себялюбивые и циничные личности вроде Янковской ради удовлетворения своих корыстных интересов!
– Правильно, – повторил я. – Но…
Председатель взглянул на меня.
– Госпоже Янковской следовало бы сказать о своем сотрудничестве с профессором Гренером, – сказал я. – Это сотрудничества заслуживает внимания суда!
– Суд не должен интересоваться моими отношениями с этим человеком! – запальчиво перебила меня Янковская. – Никто не имеет права касаться моей интимной жизни!
Ей очень, очень хотелось скрыть некоторые стороны этой жизни!
– А дети? – задал я ей вопрос.
– Что «дети»? – переспросила она.
– Дети, которых вы доставляли профессору Гренеру для его преступных экспериментов?
– Что-что? – переспросил председатель суда.
И я рассказал суду обо всем, что мне довелось видеть в оккупированной Риге.
И о повешенных на бульварах, и о подростках, угоняемых в Германию, и о детях на даче Гренера, и о том, что Янковская самолично отбирала детей для опытов своего ученого поклонника…
Председатель суда склонился над столом и принялся заново перелистывать следственное дело.
– Преступление против человечности, – сухо заметил он и повернулся к Янковской. – Что вы можете сказать по этому поводу?
Но у Янковской хватило храбрости усмехнуться.
– Макаров все это говорит из ревности, – сказала она, щуря свои дерзкие глаза. – Они с Гренером постоянно ревновали меня друг к другу…
Тут Янковская внезапно поднялась, какими-то совершенно умоляющими глазами посмотрела на своих судей и протянула ко мне руки:
– Андрей Семенович, ведь мы никогда уже с вами не увидимся! Не обижайтесь на меня! Но неужели вы способны забыть вечера, проведенные нами вместе?..
И я, правду сказать, смутился…
Председатель пожал плечами, провел ладонью по залысине и поправил очки.
Янковская не замедлила разъяснить сказанное.
– Как видите, майор Макаров не может отрицать нашей близости, – обратилась она к председателю суда, посматривая то на него, то на меня своими кошачьими глазами. – Только он спешит уйти от ответственности!
Председатель строго посмотрел на Янковскую и опять поправил очки:
– Что вы хотите этим сказать?
– Только то, что Макаров – такой же шпион, как и я, – отчетливо произнесла она звенящим и чуть дрожащим голосом. – И даже чуть покрупнее!
Янковская замолчала.
– Мы вас слушаем, – поторопил ее председатель. – Говорите-говорите!
– Он заслан сюда заокеанской разведкой, – с каким-то отчаянием произнесла Янковская.
И принялась рассказывать о моем свидания с господином Тейлором, о том, что я им завербован, о том, что я снабжал его ведомство ценной информацией и что это я выдал гестаповцам коммуниста и партизана, скрывавшегося у меня под фамилией Чарушина… Да, она сказала все это, пытаясь утопить меня вместе с собой.
– Чем вы это можете доказать? – холодно спросил председатель.
– Спросите его! – с какой-то пронзительностью выкрикнула она, как бы нанося мне удар. – Почему он скрывает, что в Стокгольме на его текущем счету лежат пятьдесят тысяч долларов?
Все-таки она была убеждена, что деньги – это самое главное в мире!
Она привела факты и думала, что мне от них никуда не деться, но я даже не успел обратиться к суду.
– Вы можете быть свободны, товарищ Макаров, – повторил председатель с неизменной холодностью в голосе, но в глазах его засветилась какая-то теплота. – Суду известно, кем санкционированы ваши переговоры с генералом Тейлором, а что касается денег, переведенных на ваше имя… – Председатель назвал даже банк, на который был получен аккредитив, слегка наклонился в сторону Янковской и продолжал уже как бы специально для нее: – Что касается денег, они были получены, по поручению товарища Макарова, и даже израсходованы, но только не на его надобности…
Я посмотрел на председателя суда, и он кивнул мне, давая понять, что я могу удалиться. Я пошел к выходу.
– Андрей Семенович! – внезапно услышал я за своей спиной дрожащий голос Янковской. – Все это неправда, неправда! Я все это говорила для того, чтобы вы разделили мою судьбу… Потому что… Да обернитесь же! Потому что я вас любила…
Но я не обернулся.
Я понимал, что ей хотелось исправить впечатление от своей лжи, но я хорошо знал, что и эти ее последние слова – такая же невозможная ложь, как и вся ее жизнь.
Эпилог
Вот, пожалуй, и все.
Сравнительно много времени прошло с тех пор, но из памяти никак не изгладятся события, описанные мною в этой рукописи.
Окончилась война, я встретился с девушкой, которую любил. Получив известие о моей гибели, она не поверила в мою смерть, а если немного и поверила, в ее сердце не нашлось места другому. Она терпеливо ждала меня. С неизменным волнением слушает жена мои рассказы о Риге, и только всегда хмурится, когда я называю имя Янковской…
Разыскал меня после войны и Иван Николаевич Пронин, мы встретились с ним у меня дома. Естественно, что первым долгом я тотчас осведомился о Железнове.
– Где он? Как он? Что с ним?
Но Пронин уклонился от прямого ответа на мои расспросы.
– Когда-нибудь после, – сказал он. – Это сложный вопрос…
И так ничего больше мне не сказал, и я понял, что дальнейшая судьба Железнова – это, очевидно, целый роман, который еще не время опубликовывать.
Потом мы коснулись нашей жизни в Риге, наших поисков, наших общих огорчений и удач.
– Ну а что сталось с вашей агентурой, знаете? – спросил Пронин. – Со всеми этими «гиацинтами» и «тюльпанами»?
– Те, кто уцелел, вероятно, арестованы? – высказал я догадку.
– Да, большинство арестованы, – подтвердил Пронин и усмехнулся. – Но трех или четырех не стоило даже трогать, на всякий случай за ними присматривают, хотя оставили их на свободе.
Мы еще поговорили о том о сем…
Я выразил и удивление, и восхищение быстротой и тщательностью, с какой Пронин сумел оборудовать рацию капитана Блейка.
Пронин снисходительно усмехнулся:
– Обычная практика. В таких обстоятельствах мы не то что английский передатчик, черта бы из-под земли выкопали…
Несколько лет спустя после этой встречи мне довелось проездом побывать в Риге, задержаться там я мог всего на один день.
Я походил по городу, он был по-прежнему красив и наряден, зданий, разрушенных войной, я уже не нашел, на смену им поднимались другие. Подошел я и к дому, в котором квартировал у Цеплисов, дом сохранился, но жили в нем другие жильцы.
Юноша, открывший мне дверь, сказал, что Цеп-лис работает в одном из сельских районов секретарем райкома партии.
Мне хотелось его повидать, но я не располагал временем на разъезды. По возвращении в Москву я написал Мартыну Карловичу письмо, и теперь мы с ним обмениваемся иногда письмами.
Попытался найти Марту, но я не знал, где ее искать, а в адресном столе Марта Яновна Круминьш не значилась.
Потом мне пришла в голову мысль съездить на кладбище. Я прошелся по аллеям, побродил между памятников и крестов и, удивительное дело, нашел собственную могилу: памятник майору Макарову сохранился в неприкосновенности.
Что еще остается сказать?..
По роду своей работы мне приходится следить за иностранной прессой, правда, я интересуюсь больше специальными вопросами, но попутно читаешь и о другом.
Профессор Гренер перебрался-таки за океан, у него там свой институт, он там преуспевает.
Мне пришлось как-то прочесть письмо нескольких ученых, опубликованное в крупной заокеанской газете, в котором они поддерживали венгерских контрреволюционеров и с нескрываемой злобой выступали против венгерских рабочих и крестьян, требуя обсуждения «венгерского вопроса» в Организации Объединенных Наций. В числе прочих под письмом стояла и подпись профессора Гренера.
Ну и в заключение еще об одной встрече с Прониным, которая имеет некоторое отношение к описанным событиям.
После всего того, что я пережил в Риге, нерушимая дружба связала меня с латышами, навсегда запечатлелись в моем сердце образы мужественных латвийских патриотов, и все, что так или иначе касалось теперь Латвии, стало для меня небезразлично.
Зимой 1955 года в Москве проходила декада латышского искусства и литературы, и Пронин пригласил меня посмотреть пьесу Райниса. Во время спектакля Пронин все время обращал внимание на одну актрису, называл ее, хвалил, подчеркнуто ей аплодировал, как это мы часто делаем по отношению к своим личным знакомым.
Потом он слегка меня толкнул и спросил:
– Неужели не узнаете?
Какое-то смутное воспоминание мелькнуло передо мной и растаяло.
– Нет, – сказал я.
– Неужели не помните? – удивился Пронин. – Баронесса фон Третнов!
– Так это была артистка! – воскликнул я.
– Рижская работница, – поправил меня Пронин. – Она и не помышляла о театре. Это товарищи после ее выступления в роли баронессы фон Третнов натолкнули ее на мысль об артистической карьере.
А в антракте Пронин велел мне посмотреть в правительственную ложу. Он указал на пожилого человека, беседовавшего в этот момент с одним из руководителей нашей партии.
– Тоже не узнаете? – спросил Пронин. – Букинист из книжной лавки на Домской площади.
Но я не узнал его даже после того, как Пронин сказал мне, кто это такой.
Так познакомился я с судьбой еще двух действующих лиц этого, так сказать, приключенческого романа…
И, кажется, можно поставить точку.
Кто-то это прочтет, переберет в памяти страницы собственной жизни, поверит мне, а может быть, и не поверит, а потом забудет…
Только мне самому ничего, ничего не забыть!
Осенью, обычно осенью, когда особенно часто дает себя знать простреленное легкое, я подхожу иногда к письменному столу, выдвигаю ящик, достаю большую медную пуговицу с вытисненным на ней листиком клевера, какие в прошлом веке носили на своих куртках колорадские горняки, долго смотрю на эту реликвию, и в моей памяти вновь и вновь оживают описанные мною события и люди.
1941–1957 гг.
Рига–Москва
Война майора Пронина
1
Льву Овалову было не суждено увидеть поля сражений Великой Отечественной. Нет сомнений, что полный сил писатель, как это было положено партийцу и участнику Гражданской, был бы отважным и вдохновенным военкором, если бы не был летом 1941 года отлучен от своих читателей и коллег, от родного дома, от профессии. В ссылке писатель уже мечтал о продолжении пронинского цикла. Прежде от рассказов он переходил к повести «Голубой ангел», теперь требовался роман. Настоящий шпионский роман о большой войне. Масштабы исторических катаклизмов соответствовали капитальной форме.
В ссылке Овалов замышляет перебросить майора Пронина во вражеский тыл. Летом 41-го немцам удалось оккупировать советскую Прибалтику. Трудно было найти более подходящий город для опасных шпионских игр, чем старинная Рига. Писателю приходилось бывать в этой республиканской столице, совсем недавно вошедшей в состав Советского Союза. Он представил себе судьбу советского офицера, которого война застает в Прибалтике. Любопытный факт – таким офицером в реальности был не кто иной, как Сергей Владимирович Михалков, всем известный писатель. Воспоминания Сергея Михалкова перекликаются с зачином «Медной пуговицы»:
22 июня 1941 года я находился в Риге, в гостинице «Черный орел». Вместе со мной здесь жила большая группа советских писателей и деятелей искусства: Семен Кирсанов, Григорий Александров, Любовь Орлова и другие. Мы приехали в Ригу как бы на экскурсию: посмотреть на тамошнюю жизнь, что-то купить, и вообще отдохнуть… Разговоры о каком-то авиационном налете, о войне… Кто-то где-то что-то слышал, но толком никто ничего не знает. Вдруг пронеслось:
– Будет выступать Молотов!
Все сгрудились возле приемника. Но пока слышались только какие-то радиопомехи, треск… Внезапно я уловил обрывки немецкой речи: «Всем немецким судам вернуться в порты…». И я понял – война.
Речи Молотова дожидаться не стал, вышел из гостиницы сразу на вокзал, чтобы купить билет до Москвы. Но в кассе мне вежливо сказали:
– Мест в спальном вагоне нет, в купейном вагоне – нет. Но если вы готовы ехать в общем, то – есть.
Я взял билет и вернулся в гостиницу. Здесь тоже царила полная суматоха, растерянность, спешка… Постояльцы кое-как упаковывали чемоданы, сообщали друг другу, как лучше, по их мнению, добираться до Москвы.
Я был спокоен. Вообще со мной часто так, – чем больше сутолоки, испуга вокруг – тем сдержаннее, собранней, рациональней я себя веду. Так и тогда… Не стал вместе со всеми ехать и охать, а спустился в ресторан, который продолжал работать, как обычно, заказал горячее блюдо, бутылку вина…
Потом решил зайти в ателье, где заказал накануне себе полдюжины сорочек – с моим ростом купить что-то подходящее из одежды – для меня всегда было проблемой.
– Ваш заказ, – рижанка вежливо и многозначительно улыбнулась, помедлив, – будет готов через два дня.
– Хорошо, – ответил я. – Зайду через два дня. – Глядя ей в глаза, конечно же, сообразил, что она хотела сказать мне на самом деле: «Вам, советским, жить осталось всего ничего, погибнете вот-вот… А еще о рубашках думаете!».
Вышел из ателье ровным шагом, чтобы не уронить себя и свою принадлежность к России в глазах женщины, явно приветствующей нападение фашистской Германии на мою страну.
Этот отрывок из воспоминаний Сергея Михалкова напоминает «Медную пуговицу» не только временем и местом действия, но и психологией отношений, характером героев. Такими они были, офицеры 1941 года – и сказка Льва Овалова может рассказать нам о том времени не меньше, чем иная быль. За Сергеем Михалковым, каким он предстает в собственных воспоминаниях, стоит такое же офицерское достоинство, такое же мужское жизнелюбие, как и за молодым героем «Медной пуговицы»: безукоризненные манеры и безукоризненный пробор в прическе. Надо ли напоминать, что и Сергей Михалков свои боевые награды заслужил в Великую Отечественную кровью и отвагой армейского поэта, а Гимн СССР на стихи С.В.Михалкова и Г.Г.Эль-Регистана прозвучал в новогоднюю ночь 1944 года – это был год освобождения нашей страны от захватчиков. Именно в 44-м году завершилась и блестящая рижская разведоперация майора Пронина, завершилась боем, в котором погиб Виктор Железнов – и славным партизанским авиаперелетом, да еще и детей, которых немцы использовали для своих медицинских опытов, удалось спасти, перевезти на нашу сторону линии фронта. Тут уже впору снова вспоминать Михалкова – было у него в военные годы стихотворение «Детский ботинок»:
Занесенный в графу С аккуратностью чисто немецкой, Он на складе лежал Среди обуви взрослой и детской. Его номер по книге: «Три тысячи двести девятый». «Обувь детская. Ношена. Правый ботинок. С заплатой». ……… Среди сотен улик – Этот детский ботинок с заплатой, Снятый Гитлером с жертвы «Три тысячи двести девятой».Сентиментально? И пускай. Это не мертвящая, но возвышающая сентиментальность. Такую высокую, трудную ноту берет и Лев Овалов в своем приключенческом романе.
Он не спеша подводит читателя к тайне немецкого профессора, слывшего большим покровителем детей. Когда наши подозрения сбываются – и мы видим, для каких изуверских опытов он собирает русских, латышских, украинских, белорусских, еврейских детишек – мы начинаем еще сильнее переживать за майора Пронина и его товарищей, мы ждем от них подвига, ждем победы.
Сюжет с детьми вообще можно считать крупной удачей Овалова: ореол защитников слабых, отныне витавший над головой майора Пронина, навсегда закрепил за ним сочувствие читателей. В приключенческом романе о войне не может не быть слезоточивых эпизодов: таковы законы героики. На рассказах о чудовищных преступлениях нацизма формировались гуманистические принципы многих поколений, их нравственный патриотизм, и можно только посочувствовать тем нашим соотечественникам, которые со временем перестали верить своим Оваловым и считали преступной именно советскую сторону… Этим самоедским бульоном напитывались только тяжкие комплексы и сомнения, больших достижений под флагом самобичевания не бывает.
Роман пришел к читателю в лучших мировых традициях: его печатали с продолжениями в иллюстрированном журнале «Огонек». Рисунки Петра Караченцова (современному читателю хорошо известен его сын – актер) поддерживали созданную писателем атмосферу захватывающего романа-аттракциона. Нынешним молодым людям оваловские ритмы «Медной пуговицы» напомнят гламурные подвиги Джеймса Бонда.
2
Время действия – Великая Отечественная война – определила героический мотив повествования. И все-таки, герой Овалова – молодой советский офицер, невольно ставший разведчиком под руководством майора Пронина. Он не похож на других подобных героев советской литературы и кинематографа. Фронтовики, ветераны разведки, нередко упрекали Овалова за «Медную пуговицу»: «Написано, конечно, занимательно, интересно. Не оторвешься. Но… Все было не так!» Ну конечно, роман «Медная пуговица» написан не для того, чтобы по нему изучали историю тайной войны. Это современная сказка про разведчиков – в гораздо меньшей степени реалистичная, чем «Семнадцать мгновений весны». Овалов не стремится ни к окопной правде, ни к документализму, ни к образу железного рыцаря революции без страха и упрека. Герой «Медной пуговицы» больше похож на фольклорного Ивана-царевича, чем на традиционного литературного и киногероя Великой Отечественной. Сначала он плывет по течению случайностей, управляемых демонической женщиной – шпионкой трех разведок Янковской. Ее образ стал новостью для читателей пронинианы. С начала тридцатых годов Лев Овалов считался «дамским мастером», создававшим запоминающиеся женские образы в производственных романах, но то был серьезный жанр, своего рода «красный Лев Толстой». В рассказах о майоре Пронине женщины редко выходили на первый план. Вспоминается живописная и грозная старуха Борецкая из рассказа «Синие мечи» – эта героиня, пожалуй, была удачей Овалова. Остальные дамы выполняли исключительно служебную функцию в головоломных сюжетах – роли жертв, благородных матерей и верных жен. Диета на женские образы издавна присуща приключенческой литературе. Известно, что не справлявшийся с женской психологией домосед Стивенсон заявлял, что в его новом романе «Остров сокровищ» не будет ни одной юбки – и почти сдержал обещание. Единственная дама в обществе безупречных джентльменов и «джентльменов удачи» – мать мальчика Джима Хоккинса – была бессловесной картонной фигурой. «Остров сокровищ» вошел в классику жанра, но в XX веке для шпионского романа требовалась дама с девизом «интим не исключен». Янковскую так влекло к советскому офицеру, что, если бы не его стойкость, в романе и впрямь не обошлось бы без интима. Впрочем, воздыхателей у великой шпионки хватало и без Макарова. В нее в той или иной степени влюблены все поголовно отрицательные герои романа – немцы, англичане, американцы. Она изворотливо лжет, плетет свою паутину, пока не сталкивается с более ушлым противником, имя которого наш читатель уже знает.
В образе главного героя, майора Макарова, Овалов воплотил свою любимую идею – воспитание разведчика в экстремальной ситуации. В двадцатые годы, соперничая с Роджерсом, красноармеец Ваня Пронин превратился в аса контрразведки майора Ивана Николаевича Пронина. Так и Макаров: месяц за месяцем он терпеливо набирается сил, наматывая на ус каждую подробность, каждую деталь – и, наконец, побеждает свою самоуверенную соперницу, освобождается от власти Янковской.
В каждом новом произведении о майоре Пронине великий контрразведчик демонстрирует новые таланты. В «Медной пуговице» к своей знаменитой терпеливости он прибавил невероятный артистизм разведчика, перевоплотившегося в гестаповца, в злейшего врага советской власти, которого ценят и уважают матерые гитлеровцы. И в месяцы тяжких поражений Красной Армии, в месяцы трагического отступления майор Пронин не теряет юмора, намекая о своем присутствии… скабрезной песенкой. Поначалу читатель ненавидит этого предателя Гашке, звероподобного и находчивого фашиста. Но очень скоро мы со спокойным сердцем узнаем в нем Ивана Николаевича Пронина – и понимаем, что в этой истории наша разведка не окажется посрамленной… Ошибаются те, кто считает, что в «Медной пуговице» Пронин ушел на вторые роли. Именно он стал архитектором замысловатой операции, именно он организовал работу красного подполья в Прибалтике – разве этих подвигов не достаточно для романа?!
Галерея немцев в романе заслуживает отдельного комментария. Принято считать, что до появления романа и сериала «Семнадцать мгновений весны» в советской традиции (и особенно – в приключенческом жанре) существовали только грубо карикатурные образы гитлеровцев. Это несправедливое мнение. Конечно, в годы войны немцев и их усатого фюрера по-скоморошьи и по-чаплински вышучивали. Но уже в фильме Ивана Пырьева 1942 года «Секретарь райкома» немецкий офицер Макенау, в исполнении М.Ф.Астангова, смотрелся достойным противником русского богатыря. Достойным, разумеется, не по своим нравственным качествам (фашист коварен и жесток), но хитростью и умом.
А уж в послевоенных фильмах немцы никогда не представали сплошь дураками и трусами. В легендарном «Подвиге разведчика» наряду с дурашливым офицером разведки, в эксцентрическом исполнении С.Мартинсона, советскому разведчику противостоят умелые профессионалы, способные провокаторы, расчетливо расставляющие силки. И такая расстановка отнюдь не была исключением из правил. И Овалов в своем романе представил немцев опасными, умелыми противниками. Конечно, писатель не упустил случая дать волю язвительному сарказму в описании закомплексованного гестаповца Эдингера. Эдингер – нервный садист, из-за своего непомерного честолюбия он становится легкой добычей советских разведчиков. Позже на смену Эдингеру приходит новый гестаповский чин, куда более хладнокровный.
Загадочный и всесильный Тэйлор – бизнесмен и шпион в невидимых генеральских погонах – необычная фигура для романа о Великой Отечественной. Это еще более опасный враг, чем немецкие изуверы – посланец «могущественной капиталистической заокеанской страны». Он осторожен, не демонстрирует бесчеловечных повадок. Тэйлор – земное мефистофельское воплощение золотого тельца. Он осознает себя посланцем могущественной низменной силы, которой все в мире подвластно. Одолеть эту силу почти невозможно: каждому человеку хочется продаться подороже, такова уж наша природа. По крайней мере, Тэйлор почти уверен в успехе. Костью в горле у него стоят только советские люди – эти наивные люди, преданные высоким словесам и потому не желающие торговать своим Отечеством… Бескорыстие – это то оружие, против которого Тэйлор бессилен. Перед человеком, равнодушным к материальным благам, всесильный генерал превращается в бумажного тигра… Таким человеком и оказывается офицер Макаров – как и Железнов, он олицетворяет советский образ жизни, секретное оружие непобедимых героев. Тэйлор давно уже купил с потрохами и английских разведчиков, и немецких гауляйтеров… Но советского офицера купить нельзя – этим мы сильны. Американец даже зауважал Макарова и крепко задумался о загадочной русской душе.
После выхода романа в рижском краеведении появилась новая тема: «Рига майора Пронина». Знатоки со смаком сверяют названия улиц, представляют себе, как на этом староевропейском фоне проходили бешеные погони, покушения, перестрелки. В романе сквозит любование прекрасным прибалтийским городом, его старинной и модерновой архитектурой, уютными дачными особняками и музейными дворцами-табакерками. Писатель любуется рижскими площадями и улицами, радуясь собственной идее поместить шпионский роман в такие выразительные декорации. Оккупированная Рига у Овалова выглядит вполне буржуазным городом, хотя постоянно подчеркиваются просоветские настроения латышских рабочих, уважительно упоминаются латыши-подпольщики, да и служанка Блэйка, молчаливая латышка, в кульминационный момент совершила настоящий подвиг.
Политкорректность романа напрашивается на аналогию с современным американским остросюжетным чтивом. Все успешные сверхдержавы в пору своего могущества наделены безошибочным инстинктом самосохранения. Поэтому советский писатель, как и современные американцы, бережливо относился к гражданскому миру в своей стране и не посягал на объединительную идею дружбы народов. Упоминание Райниса в финале романа показывает, что только в лоне советской культуры возможен расцвет национальной латышской культуры. Пропаганда? Агитация? Не без этого. Политические детективы не пишутся аполитичными авторами. Писательское мастерство Овалова позволило ему провести свои актуальные идеи ненавязчиво, не отвлекая читателя от сюжетных аттракционов, от приключений.
В Советском Союзе, несмотря на бурный успех огоньковской публикации, отдельное издание «Медной пуговицы» было заморожено до начала восьмидесятых. Когда с 1981 года стали выходить переиздания романа, – он снова стал любимым чтением миллионов, да и до этого в библиотеках нужно было занимать очередь за экземплярами «Огонька» с «Медной пуговицей». В курортных городах в избах-читальнях те «Огоньки» были протерты до дыр читательскими пальцами. Роман охотно издавали по всему миру – только в Германской Демократической Республике за короткое время вышли три издания «Медной пуговицы». Роман был переведен также на польский, монгольский, китайский и вьетнамский языки, а в двух социалистических странах – в ЧССР и Венгерской Народной Республике – по телеэкранам с успехом прошли сериалы, снятые по его мотивам. Советские киношники побаивались обращаться к роману, который, по слухам, вызвал раздражение Н. С. Хрущева. И когда Никита Сергеевич уже был пенсионером союзного значения это продолжалось.
Сегодня популярный, но обделенный киноуспехом роман снова вызывает зрительский интерес. Первая отечественная экранизация «Медной пуговицы», в рамках телесериала по всему пронинскому циклу, над которым сегодня работает режиссер Е.В.Малевский, будет приурочена к шестидесятилетию Победы.
3
Читателей «Медной пуговицы» увлекала необычная экзотически-порочная атмосфера, которую Овалов изобретательно поддерживал на протяжении романа. Липовая агентура английского резидента Блэйка–Берзиня, состоявшая из очаровательных модисток, воспринималась как весьма эксцентрическое явление. Есть в романе и фениморкуперская американская линия, напоминающая удалой вестерн. Горячая голова, циркач, влюбленный в Янковскую, невольно помогает советским разведчикам… Обращают на себя внимание и другие симпатичные детали: советский офицер Макаров коротает вечера за чтением Марселя Пруста – и, разумеется, в подлиннике. Еще фантазию молодого читателя будоражили фривольные картинки, которые теперь попали в арсенал майора Пронина. С их помощью Пронин в образе гестаповца Гашке обманывал немцев, заодно и развращая их пикантными фотографиями красоток… А уж Янковская с ее демоническим обаянием так и просилась на киноэкран. В эпилоге романа автор поспешно проводит суд над шпионкой трех разведок – и судья презрительно выносит строгий приговор. Этот финал выглядит несколько натянуто – кажется, что таким образом автор просто борется с возможным читательским сочувствием к яркой женщине. Можно сказать, что в финале Янковскую клеймят в педагогических целях… В эпилоге положительные герои романа встречаются на декаде латвийского искусства в Москве. Здесь-то и выясняется, кто больше других рисковал жизнью в подполье… Старые герои – заслуженные люди, победители – встречаются в праздничной мирной обстановке. Счастливый конец омрачен гибелью одного из центральных героев пронинианы – Виктора Железнова. В «Медной пуговице» он показал себя первоклассным чекистом. Макаров заметил, что Железнов воплотил в себе все лучшее, что присуще людям послереволюционной формации, советским людям. И такой человек, конечно, не дрогнул под пулями, спасая товарищей, спасая измученных нацистами детей. После смерти Железнова мы уже никогда не увидим и майора Пронина…
Поседевший, немного обрюзгший Пронин наденет генеральские погоны и вернется в Москву, в контрразведку. В качестве генерала он вернется и на страницы нового оваловского романа.
Арсений Замостьянов
1
«Трусы умирают в своей жизни много раз, а храбрый человек умирает только однажды».
(обратно)


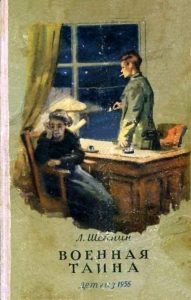
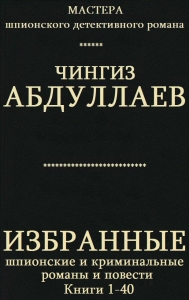
Комментарии к книге «Медная пуговица», Лев Сергеевич Овалов
Всего 0 комментариев