Франсин Мэтьюз. Клуб «Алиби». Роман
Посвящается Кейт Мисиак, в благодарность за прекрасные годы
ПРОЛОГ. 12 марта 1940 г.
В душной комнате рядом с площадкой перед ангаром сидели в ожидании девять человек, точнее, десять, если считать завернутого в одеяло ребенка, спавшего на руках у молодой итальянки. Три женщины, шестеро мужчин, все разных национальностей, и бронзовое месиво из пропеллеров за замерзшим окном. Все пассажиры уже дошли до той степени отчаяния, что были готовы покинуть Осло посреди ночи и в разгар зимы. В воздухе чувствовалась сдерживаемая ожесточенность, усталость и зарождающаяся истерика. Никто не разговаривал.
Жак Альер сидел рядом с дверью, прислонившись спиной к стене, в одной руке была зажата вечерняя газета, другая спрятана в карман. В неотапливаемой комнате было морозно, но его кожу покрывали капельки пота, а рука в кармане сжимала пистолет.
Часы показывали три минуты после полуночи. Самолет должен был вылететь в 12.07. У Альера забрали паспорт десять минут назад и так и не вернули. Человек по имени Демерс, у которого был весь его багаж, странным образом исчез с аэродрома, и это была только одна причина из многих, вынуждавших Альера нервно потеть. Он ненавидел летать. Когда он брался за эту операцию, он просил, чтобы его забрала подводная лодка из Бреста. Или эсминец из Тонсберга. А получил самолет на восемь мест с обледенелыми крыльями и без намека на оружие.
Он молился о том, чтобы ему разрешили подняться на борт, хотя Альер был не из тех, кто верит в Бога. Не сейчас.
Это был худой человек с мягкими чертами лица, в добротном драповом пальто и в очках, как у банкира. Лет ему было, наверное, около сорока пяти. Он был типичным европейцем и выглядел потрясающе мирно в это военное время. Он отвел взгляд от проклятых часов (Демерса все еще не было) и начал равнодушно разглядывать других пассажиров. Двое мужчин спорили о политике по-голландски. Застенчивый парень, почти подросток, выглядел взволнованным, барабанил пальцами по ручке кресла и стряхивал пепел с сигареты на линолеумный пол. Женщина с седыми волосами флегматично ела маринованную селедку из вощеной бумажной коробки, купленной в одном из магазинов Осло. Никто не разговаривал. Никто не переглядывался. Только высокий крепкий светловолосый парень в безукоризненном пальто из верблюжьей шерсти уставился, с легкой улыбкой на губах, на молодую итальянку со спящим ребенком.
«И кто мог бы его обвинить?» — подумал Альер с раздражением. Она была прелестна, меховой воротник легко касался ее чуть вспыхнувшей румянцем щеки, собранные в узел темные волосы блестели из-под шляпы. На ней были перчатки из страусиной кожи, ее плечи были ссутулены, возможно, от холода, или она просто заботливо, словно Мадонна, склонилась над своим ребенком. Было ли ей хотя бы двадцать? Ее паспорт и билет лежали позади нее на деревянной скамейке. Как и Альер, она бежала в Амстердам в сумраке ночи.
«Вернись», — мысленно убеждал он ее. — «Езжай на север, езжай на запад, куда угодно, только не домой». Он бросил взгляд на ее рот, изогнутый, как скрипичный ключ, и на ее необычайно голубые глаза на фоне загорелой кожи ее лица. Светловолосый парень, расположившийся напротив, смотрел в том же направлении.
— Мадам, — вкрадчиво сказал он по-итальянски, — кажется, вы совершенно продрогли. Может, сигарету? Что если я прикурю ее для вас?
Девушка не обратила на него внимания, даже не подняла головы. Альер позлорадствовал над пренебрежением, которым одарили светловолосого, внешне походившего на норвежца или даже англичанина, но на самом деле, как уже знал Альер, он был немцем — широкоплечим безупречным немцем в гражданской одежде, прогуливающимся по аэродрому, откуда он, Альер, собирался сбежать. Факт присутствия немца означал то, что Альер уже практически мертв. Демерс и багаж не появятся.
Он бросил свернутую газету в урну и направился к двери, ведущей на посадку. Один из них отправлялся в Перт, другой — в Амстердам. Винты завывали на холоде, пилотов беспокоил лед. Была вероятность, что их всех отправят по домам, и предложат попытаться улететь завтра. Для Альера это будет означать вооруженный эскорт на обратном пути во французское представительство. Затолкают во вражеский автомобиль, а потом пуля — в висок после стольких часов допроса? Он продолжал пристально смотреть в окно зала ожидания, стискивая за спиной руки в перчатках. Сознание движения. Что-то происходит. Надвигалось что-то ужасное.
Почти две недели назад он поднялся по мраморным ступеням Министерства вооруженных сил и получил фальшивый паспорт на девичью фамилию своей матери. Фрайсс. Он был Майкл Фрайсс из Зальцбурга, сорок один год, банкир, которому дела нет до этой странной войны между Францией и немцами, продолжающейся вот уже семь месяцев без единого выстрела. Той ночью он сел на последний поезд через границу, идущий в Амстердам, и затем понемногу перемещался на север, в Стокгольм, и, наконец, в Осло. В крохотном заснеженном городке рядом с горами Телемарк пять дней длились переговоры, сопровождавшиеся богатыми обедами, признаниями в вечной дружбе и рискованной пропагандой французского флага. Уклончивые советы в дипломатической миссии — никого из обычных дипломатов не посвятили в тайну, и свет, горевший всю ночь в корпусе немецкой разведки за садовой оградой.
— Вы знамениты, — заявил ему французский посол, криво улыбаясь. — Все хотят поговорить с вами. Наши люди поняли это с того дня, как вы покинули Париж.
Это была расшифровка полученной по радио информации из Германии: «Любой ценой перехватить подозрительного француза, путешествующего под фамилией Фрайсс». Но чего посол так и не удосужился сообщить ему, так это то, что Альера предали еще до того, как он сел в ночной поезд в Амстердам.
«Кто?» — спрашивал он себя. — «Шпион в офисе Дотри? Кто-нибудь из банка?»
Вдруг вдалеке раздался звук полицейской сирены: настойчивый, он становился все ближе и громче.
«Возможно, это был кто-то из лаборатории. Один из людей Жолио. Или чертова Демерса. Наверное, он уже продал багаж».
— Мистер Фрайсс, — раздался рядом голос.
Он обернулся и увидел бесстрастное лицо норвежского пограничного контролера. Женщина в безупречной униформе. Ее подстриженные волосы были такие светлые, что казались почти белыми. Она протягивала ему стопку бумаг, но он не обратил внимания на ее руку. Полицейская сирена была слышна уже у самого входа на аэродром. Рукоятка пистолета, влажная от пота, провернулась в руке. Через несколько секунд дверь распахнется, и, натыкаясь друг на друга, ворвется группа людей, стремясь скорее схватить его. Возможно, у него будет время, чтобы сбить с ног одного из них — может быть, того большого немца, — но там были женщины, и спящий ребенок на руках Мадонны…
— Ваш паспорт и билет в Амстердам, — настаивала пограничный контролер. — Все в порядке. Вы можете пройти на посадку.
Он посмотрел поверх ее головы и встретился глазами с немцем. Он все еще слегка улыбался, и все так же снисходительно смотрел на юную итальянскую принцессу, которая уже поднималась со своего места, прекрасная и безразличная. «Он даст мне уйти, чтобы последовать за мной», — подумал Альер. — «Но дальше я его не поведу».
Он взял паспорт и билет из рук женщины и, не проронив ни слова, распахнул дверь. Проходя, итальянка бросила на него мимолетный взгляд своих пленительных голубых глаз. «Хоть одно утешение перед смертью», — подумал Альер. Затем он и светловолосый последовали за ней на холод.
С самолетами возникла путаница. Большой черный «даймлер» проехал по посадочной площадке и встал между ними. Под крыльями беспорядочно бегал человек и что-то беззвучно кричал, игнорируя пропеллеры. Его водитель достал из машины внушительное количество чемоданов. Полиция с сиренами теперь стихла за воротами. Она сопровождала «даймлер» по улицам Осло вплоть до рейса на Амстердам. Альер почувствовал, как его лицо заливает краска, а руки сжимаются в кулаки: «Вот что такое надежда. Страх и сжатые кулаки». Он узнал опрятно одетого черноволосого человека, прогуливавшегося у фюзеляжа. Он узнал чемоданы. Водитель Демерса загружал их в самолет на Перт.
Альер посчитал чемоданы, насколько позволяла темнота и расстояние. «Тринадцать», — подумал он. — «Пожалуйста, Господи, пусть их будет тринадцать».
Демерс задел головой верблюжье пальто немца: в прохладном ночном воздухе запахло сигаретами и виски.
— Извините, глубокоуважаемый сэр, — он говорил по-норвежски с немецким акцентом, как испорченный ребенок. — Какой из этих самолетов на Амстердам? Я уже опоздал? Мне нужно во что бы то ни стало сесть на самолет в Амстердам!
Они стали обсуждать место назначения обоих самолетов, право даймлера находиться посреди площадки, избыток полицейских и желание прибыть вовремя. Альер продолжал идти. Он не оглядывался. Итальянка с недовольным выражением лица села на самолет в Амстердам, ребенок у нее на руках теперь истошно кричал. Билет Альера упал на пол. Он достал второй — на Перт — из нагрудного кармана.
Когда амстердамский пилот уже стал готовиться к отлету, Альер поймал взгляд блондина немца под светом фонарей: без шляпы, с полами пальто, развевающимися, словно крылья, он отчаянно бежал вслед не за тем самолетом.
Из-за тумана маршрут пришлось сменить. Как он и предполагал.
Они приземлились на рассвете в городке, о котором Альер никогда не слышал, где-то на восточном побережье Шотландии. Небольшое поле, довольно пустынное, окна зала ожидания занавешены. Пилот принес ему чаю. Из вежливости он попытался его выпить.
— Вы слышали? — спросил его один человек. — Немцы сбили тот самолет. Тот, который улетел в Амстердам прошлой ночью.
Альер подумал о молодой итальянке, о двух мужчинах, споривших по-голландски, о ребенке, который, должно быть, плакал. Скорее всего, пламя возникло в кабине пилота, и тот попытался потушить его. Долгое и тяжелое падение в Северное море.
Он поставил чашку.
— Что у вас во всех этих чемоданах? — с любопытством спросил пилот. — Драгоценности норвежской короны?
Альер посмотрел на него. Правда нарушила бы его безопасность, но пилот все равно ни за что ему не поверил бы.
— Вода, — ответил он.
АМЕРИКАНСКИЙ БИЗНЕС. Понедельник, 13 мая 1940 г.
Глава первая
Потом они будут вспоминать ту весну, одну из самых прекрасных из тех, что они видели в Париже. Цветение сплетенных фруктовых деревьев, запах липового цвета, каштаны раскрывали свои листья ровными рядами на Елисейских полях, шелковые наряды торопящихся на обед женщин, трепещущие, как крылья, на ветру — все это обладало опасной сладостью, как абсент. Салли Кинг, которая к тому моменту жила в городе уже три года и могла считаться кем-то вроде знатока, заявляла, что даже когда идет дождь, Париж восхитителен. Улицы сияли под потоками дождя, несмотря на пыль или бензин, или неприятные запахи в открытых туалетах. Они сверкали, и в этом было что-то болезненное и суицидальное.
Той ночью она пробиралась сквозь поток людей на Понт Нёф, через самое узкое место крошечного острова, похожего на плот посреди Сены. Она уже пробилась через затор около книжных ларьков на набережной Турнелль. Она не могла идти быстро, потому что французские каблуки ее вечерних туфель постоянно застревали между камнями мостовой. Было темно, совсем темно, и она бы не отказалась от такси, но его нигде не было. Паника чувствовалась в согнутых плечах и слишком быстрой ходьбе парижан, некоторые их них оборачивались, несмотря на свой страх, и рассматривали ее: Салли Кинг, высокая и угловатая, вся ее красота заключалась в неправдоподобно длинных ногах и линиях стройной фигуры под платьем, похожим на конфетную обертку.
Она жила среди них достаточно долго, чтобы улучшить свой школьный французский, и чувствовала, как сеются страх и слухи. Они прорвались через границу. Немцы уже в Седане. Армия отступает…
Новости проносились по городу обжигающим ветром. О них шептались на северных окраинах, рассказывали друг другу друзья. Погруженные в темно-синий сумрак приглушенного уличного освещения улицы полнились полуправдами и преувеличениями, и большинство людей двигалось на юг. Салли пробивалась на север, к Правому берегу, в прелестную маленькую квартирку с видом на Лувр. Дом Филиппа Стилвелла.
Она ждала его за столиком с прекрасным видом на Нотр-Дам, одна у всех на виду, в «Серебряной башне», не самом любимом ее ресторане, но точно самом дорогом. Обычно женщины не ходили в ресторан без спутников, но Гастон Массон, управляющий «Башни», привык к странностям американцев. Пускай остальные посетители строили предположения о стоимости платья Салли, ее, вероятно, низкого морального облика и причины почти часового ожидания человека, который так и не появился, на фоне Сены она смотрелась как минимум живописно и потому дорого. Ее лицо с высокими скулами и чересчур широкой улыбкой было знаменитым. Салли была необычайно высокой. Она носила противогазную сумку вместо ридикюля и платье из прошлогодней коллекции Скиапарелли — дань экономии в военное время. Шокирующий розовый шелк в кислотно-зеленую крапинку.
— Возможно, мистер Стилвелл задерживается, — Массон посмотрел на нее, извиняясь. — Если немцы прорвались через наш фронт, если они уже перешли реку Маас или даже находятся на пути к Бельгии… то у юриста, должно быть, много работы.
«Но только не сегодня вечером», — думала Салли, переходя старый мост. — «Сегодня вечером он должен предложить мне выйти за него замуж».
Записку принесли в пять часов вечера — ее доставил один из курьеров из конторы «Салливан и Кромвелл», так как в ее квартире в Латинском квартале не было телефона.
«Салли, дорогая, я, возможно, немного опоздаю на ужин сегодня вечером, у меня встреча с сотрудником компании…. Попроси Гастона посадить тебя и принести бутылку шампанского»…
«Жена юриста», — думала она, — «должна иметь привычку к подобным вещам». Но Филипп так и не пришел, и подобное было на него совсем непохоже.
Перейдя через мост, она остановилась в нерешительности. Слева от нее грозно возвышалась темная громада Лувра. Без привычных ярких огней город казался пустынным и призрачным, а бредущие по улицам люди походили на армию мертвецов. Салли услышала пронзительный вой сирены воздушной тревоги и звон бьющегося стекла. Где-то зарыдала женщина. По ее голым рукам побежали мурашки, и Салли ощутила, как она одинока, как уязвима. Ей следовало бы направиться в бомбоубежище, но за время долгих восьми месяцев «странной войны»[1] на Париж не упало ни одной бомбы, поэтому она распрямила плечи и пошла к Филиппу.
Другая бы на ее месте засомневалась. Подумала бы, что он не появился, потому что не любит ее. Но эта простая мысль никогда не приходила в голову Салли. Она хорошо узнала Филиппа за те долгие месяцы, что они провели вместе прошлой зимой, когда ее работа внезапно закончилась, и вопрос о ее будущем повис в воздухе. Она знала, что ему пришлось поволноваться не одну неделю, и что это было как-то связано с «С. и К.» — его работой в юридической конторе «Салливан и Кромвелл».
Они познакомились в августе прошлого года, когда Филипп впервые приехал в Париж, заблудился на улице Камбон в поисках входа в «С. и К.» и по ошибке зашел в Дом Шанель, находившийся в доме 31. Салли спускалась по знаменитой лестнице — Коко любила подиум — к ожидавшим ее внизу восхищенным женщинам и мужчинам. Это была осенняя коллекция Мадмуазель, та самая, которая, как оказалось, на годы задала тон в моде. На Салли было одно из тех маленьких черных платьев Коко, очень шикарное и актуальное; именно Шанель сделала черный цвет модным, тогда как ранее он всегда считался строго траурным. В том августе цвета были ужасающие, словно предвестники польской трагедии, все, как выхлопной газ или обугленная сталь.
Филипп смотрел показ, стоя в дверном проходе, и когда к нему подошла одна из работниц салона, то, он, заикаясь, спросил что-то по поводу покупки для своей матери. Салли согласилась поужинать с ним, хотя во время сезона модных показов она никогда плотно не ела. Это было началом романа, который привел ее к этой последней ночи, пустому стулу напротив снежного бельевого поля скатерти, таинственной пелене парижских улиц. «Встреча с сотрудником фирмы», — сказал он. И что-то пошло не так.
«Филипп», — думала она, страх пронизывал ее насквозь. — «Филипп».
Она провела всю зиму и весну у себя в квартире в Латинском квартале, надеясь на другие новости — вражда закончится и Гитлер уйдет. Она повторяла правила, которым Коко учила ее последние три года. Ее внутренний голос звучал не слишком изящно: «Если поднять талию спереди, будешь казаться выше. Если понизить со спины, то можно скрыть обвисший зад. Опусти край платья сзади, так оно будет лучше сидеть на бедрах. Все дело в плечах. Женщина должна скрестить руки, когда с нее снимают мерки: так платье не будет стеснять ее движений».
Он жил на перекрестке Рю Риволи и Рю Сент-Оноре. Старые постройки из известняка окаймляли двор, а высокая двойная дверь целый день была открыта настежь. Бывший «hotel particulier»[2], раньше принадлежавший какому-нибудь уже умершему аристократу, а теперь поделенный на квартиры. Не самый престижный адрес, но Филипп был иностранцем и к тому же слишком молод, чтобы об этом знать. Он хотел жить в сердце Парижа, с видом на реку из окна гостиной, с криками точильщиков ножей под его окнами, со звоном церковных колоколов, по ночам врывающимся к нему в спальню каждый час. Треснувшие доски и скрипучий паркет. Зеркала такие мутные, что походили на олово. Салли жила в Париже дольше, но Филипп больше любил город, любил душевность его закусочных, гортанные акценты и птичьи клетки на Иль Сент-Луи. По воскресеньям утром они распахивали ставни и, облокотившись на подоконник и почти свесившись над мостовой, глазели на мир до рези в глазах.
Ей оставалось пройти еще четыре квартала, когда она увидела толпу машин из «prefecture de police»[3]. Двойная дверь Филиппа была открыта настежь. Подобрав полы своего шелкового платья и придерживая противогазную сумку, она побежала в неудобных босоножках, ремешки которых врезались ей в ноги.
Он был привязан за запястья и щиколотки к стойкам кровати из красного дерева, все его обнаженное тело было в крови. Она стояла у входа в спальню, слегка раскачиваясь — полиция все еще не замечала ее присутствия — и смотрела на него: приоткрытый рот, испуганные серые глаза, неестественно бледные торчащие ребра. Обезьяньи подмышки, грудь и пук волос в паху, блестящий от влаги. Эрекция не ослабла, даже после смерти. Пенис Филиппа был покрасневший и возбужденный, как-то в машине она коснулась его. Плеть лежала, забытая на ковре. Там был еще один человек, тоже голый, но ей он был не знаком, он был повешен на люстре. Пальцы его ног были в ужасных мозолях, суставы — желтого цвета.
Ее рот скривился и она, похоже, что-то выдохнула по-английски — скорее всего, имя Филиппа, — потому что один из французских офицеров повернул голову и увидел ее, такую неуместную здесь, в ярко-розовом платье. Он нахмурился и прошел через комнату, загораживая ей картину происходящего.
— Уходите, мадмуазель.
— Но я знаю его!
— Сожалею, мадмуазель. Вам нельзя быть здесь. Антуан! Vite![4]
Ее резко схватили за руку и вывели из квартиры, мимо дивана, на котором они с Филиппом ели ужины из фаст-фуда, мимо ставней, которые они распахивали, мимо пары бокалов, наполненных наполовину. Мусорная корзина была перевернута, несколько осколков стекла были разбросаны по потертому обюссону[5]. Ее провели мимо свисавшей с люстры страшной фигуры прямо в коридор, где ее начала бить судорожная дрожь, молодой человек, Антуан — на нем была обычная униформа жандарма — стоял в неуверенности, придерживая ее за локоть.
— Салли.
Она узнала этот тихий голос. Макс Шуп, руководивший парижским офисом «С. и К.», в элегантном французском костюме, с отсутствующим выражением глаз. Конечно, они должны были позвать Макса. Она повернулась к нему, как ребенок поворачивается, чтобы уткнуться в передник матери, хныча и закрыв глазами.
— Салли, — сказал Макс снова, положив руку на ее худое плечо. — Я сожалею. Я бы хотел, чтобы ты этого не видела.
— Филипп…
— Он мертв, Салли. Он мертв.
— Но как?… — он оттолкнула Шупа, открыла глаза и пристально посмотрела на него. — Какого черта…
— Полиция сказала, что это был сердечный приступ, — ему было неудобно за то, что нужно было сказать и то, чего словами не выразишь; причину появления плетки и определенные обстоятельства. Предположения о причине смерти двух мужчин наводили на мысль об оргазме. Но Макс Шуп был не из тех, кто допускал неловкость. Он сохранял спокойствие, и его лицо было бесстрастно, как если бы он говорил о погоде.
— Кто, — спросила она с трудом, — висит на люстре?
Шуп прикрыл глаза тяжелыми веками.
— Мне сказали, что он из одного из клубов на Монмартре. Ты… знала о Филиппе?
— Что он был… что он… — она запнулась, не веря своим словам.
— Моя бедная девочка, — сжав губы, он вывел ее из квартиры, к каморке консьержки этажом ниже. В тот момент не помешал бы хороший глоток бренди.
— Понимаете, — настаивала она, когда он остановился перед дверью в комнату старушки и собрался постучать, — это — не то, о чем вы подумали. Не то.
Глава вторая
Представление в «Фоли-Бержер» закончилось только в полночь, так что Мемфис не удалось попасть в клуб «Алиби» раньше часа ночи. Спатц точно знал последовательность событий: лимузин и водитель, мальчик с ягуаром на поводке, Рауль, маячащий на фоне, как шпион: его руки всегда были рядом с задницей его жены. И сама Мемфис: выше, чем обычные парижанки, стройнее, более подтянутые мышцы под темно-зеленым вельветовым платьем были такими же упругими и гладкими, как и ее большая кошка за спиной. Она остановится в задрапированном дверном проеме, рассматривая толпу: клуб «Алиби» был настоящим boite de nuit[6]. В нем было около десятка столов, поэтому эффект будет впечатляющим. Все обернутся. Все мужчины и женщины встанут и будут аплодировать ей только за один факт ее существования, за дуновение экзотического секса, которое она привнесла в это место, за беспокойную ревность.
Спатц видел все это раньше, месяц за месяцем пребывая в рабстве у Мемфис, продлившемся дольше, как ему казалось, чем любое из его развлечений. Он был доволен тем, что сидел в одиночестве с сигаретой и нетронутой тарелкой устриц непомерно высокой стоимости. За стенами клуба Алиби толпились сотни людей, но только сорок смогут пройти за веревочные ограждения — и только Спатцу выделили отдельный столик в углу по его желанию. Беззаботное покровительство Спатца окупало все счета. Тот факт, что он был немцем и официально считался всеобщим врагом, не принимался во внимание. Его французский был безупречен, и он ни на что не обращал внимания.
Это был широкоплечий, хорошо одетый экземпляр: Ганс Гюнтер фон Динкладж, избалованный сын смешанного происхождения, сын Нижней Саксонии, светловолосый и дьявольски обаятельный. Спатц по-немецки значило «воробей». На первый взгляд это имя ему не подходило, пока кто-то не заметил его привычку бросаться из одной крайности в другую, перепрыгивать с жердочки на жердочку. В течение последних нескольких лет он официально считался дипломатом, сотрудником посольства Германии, но посольство теперь было закрыто из-за войны, и Спатц находился в свободном полете. Он провел зиму в Швейцарии, а потом вернулся обратно в Париж в гости к кузену, жившему в шестнадцатом округе. Он развелся с женой много лет назад по причине несовместимости. Его враги выяснили, что у нее были еврейские предки.
Он не добился ничего значительного в свои сорок пять лет, за исключением отличной игры в поло в Довилле.
Девушка в колготках в сеточку разносила джин, но он предпочитал скотч. Он только что обхватил ладонью толстое стекло бокала, ощущая в руке его приятную тяжесть, как какой-то незнакомый человек скользнул на свободное место рядом с ним.
— Это частный столик.
— Мне плевать, — отрезал человек. — Я охочусь за тобой вот уже несколько часов, Динкладж, тебя поразительно трудно отыскать.
Спатц оценивающе взглянул на него. Нелепый и маленький, с усами, похожими на зубную щетку, по одежде может сойти за служащего высшего звена; влажные и пронзительные глаза шантажиста. Он подумал, что знает имя этого человека.
— Вы Моррис, — заключил он. — Эмери Моррис, я прав? Вы работаете на старика Кромвеля где-то рядом с отелем Ритц.
— «Салливан и Кромвель», — поправил Моррис. — Нью-Йоркская юридическая фирма. Я их партнер.
— Позвоните мне завтра домой. Здесь я делами не занимаюсь.
Эмери Моррис недовольно посмотрел на него.
— Вам придется сделать исключение. Это дело чрезвычайной важности.
Но Спатц не обращал на него внимания. Он поднялся на ноги, его пристальный птичий взгляд был обращен ко входу и к высокой черной богине, появившейся за занавесом.
Приехала Мемфис.
— Какого черта значит, что Жако здесь нет? — она тяжело дышала сквозь свою редкозубую улыбку, натренированную днями и ночами перед огромным позолоченным зеркалом, висевшим в ее салоне на улице Трех Братьев, ее темное лицо терялось в тени. Ее не беспокоило, что кто-то мог увидеть, как она, голая, строит гримасы и вертится перед зеркалом в полный рост и в то время, как Рауль или, может, кто-нибудь другой, наблюдает за ней: «Я всего лишь черная девчонка с холмов Теннеси, я не знаю, как я буду выживать в этом большом белом городе; думаешь, мне стоит надеть белую маску и заставить французов делать, как Мемфис, чтобы все носили белые маски, как будто однажды мы собираемся умереть от голода или холода».
— Я говорил тебе, — ухмыляясь, пробормотал Рауль, но пальцы его рук нервно сжались в карманах. Это была фальшивая зазывная ухмылка человека, который держит все ниточки в своих руках, за исключением Мемфис, хотя он ошибочно полагал, что и ее веревку он тоже держал, но уже очень давно это был не он. «Он не появится, детка. Пойдем отсюда. У меня мурашки по телу от стояния здесь. Нам нужно успеть на поезд».
— Я никуда не еду, — прошептала она, глядя на лысого мужчину, сидевшего в первом ряду, на его глупый, как у ищейки, вид, один из ее обычных клиентов; она полагала, что его звали М. Дюпликс. «Я покажу свое обычное шоу». Она качнула своим высоким телом прямо по направлению к Дюпликсу и погладила его гладкую голову своей рукой в перчатке, напевая вполголоса что-то, чему когда-то давным-давно учила ее мама — славный малыш Иисус, когда же это было? Этим летом Мемфис исполнилось двадцать шесть, и годы остались всего лишь ниткой бус на ее шее. Первый раз она вышла замуж в тринадцать. Побег через шесть месяцев и второе замужество, на этот раз в Чикаго. Танцовщица в Париже в семнадцать. В двадцать — уже звезда, турне по Скандинавии и в Берлине, где вся полиция была мобилизована на ее защиту, дегенератки, какой она тогда была. Последний раз она вышла замуж за человека, который организовывал ее парижское турне и сделал ей имя: Рауль, французский еврей, тридцати девяти лет, с вьющимися черными усами и бесконечными историями о российской аристократии, о тех связях, которые он потерял где-то по дороге. С ее телом и по-детски сладким голосом и его мозгами они много лет во времена Великой депрессии делали деньги из воздуха. Мемфис никогда не покидала шоу. Мемфис никогда не переставала танцевать. В четыре часа она была на балу на Елисейских полях, в «Фоли-Бержер» в десять и в клубе «Алиби» в час ночи, и если она спала, то об этом не знал никто, кроме ее любовников, свернувшись калачиком на дорогих простынях поздним утром. Мемфис зарабатывала пением на ужин себе и Раулю. Рауль владел клубом «Алиби», это было единственное, что держало их вместе, несмотря на бесконечные пререкания из-за денег и незнакомцев, перед которыми Мемфис не могла устоять. Он терпел вереницу ее мужчин из-за денег, которые она ему приносила, и из-за того, что они развлекали ее; Мемфис требовала слишком много внимания для одного мужчины и не могла оставаться одна. Так что в своем роде Рауль тоже не переставал танцевать.
Они оба были чужаками, аутсайдерами, негритянка из Теннеси и еврей, обустраивая свою жизнь в самом шикарном городе мира дерзостью, джазом и прекрасной одеждой. Фашисты любой национальности ненавидели Мемфис и Рауля, ненавидели их импровизации, которые они продавали, словно кокаин, на улицах Монмартра. «Дегенеративная музыка» — так они называли это. — «Союз полуобезьян и евреев, которые дрессируют их для циркового представления». Фашисты ненавидели немца Курта Вейля, ненавидели Ирвинга Берлина и Диззи Гиллеспи и Жозефин Бейкер, и они даже открыли официальную выставку дегенеративной музыки, чтобы доказать это. На обложке каталога был изображен черный трубач-джазист с желтой еврейской звездой на лацкане пиджака. Мемфис вставила страницу со своим именем в рамку и повесила на стене клуба Алиби.
Она продолжала напевать вполголоса, как кукла в нарядном платье, девчонка, которая прыгнет к тебе на колени и будет заниматься любовью всю ночь. Она выдыхала мелодию, и ее голос то забирался вверх, то спускался вниз сквозь сигаретный дым и томные вздохи, проходя через все звуки, что, как казалось Раулю, были в распоряжении ее диапазона; у него были последние записи, которые доставлялись на самолете из Нью-Йорка так же, как другие импортировали икру. Мемфис никогда не пела одну песню дважды, если только клиент не платил ей за это. Мемфис всегда заставляла их платить, кем бы они ни были, и все и каждый любили ее за это, любили за дерзкую непосредственность, за бесстыдные запросы, за нахальную жадность. Мемфис, легким жестом берущая чек на тысячу франков, Мемфис, берущая реванш за все годы закрытых перед ней гостиниц и столовых и эксклюзивных туалетных комнат, куда могли войти только белые, и она пела, совершая все это. Вне сцены она была чем-то безжизненным, на сцене свет придавал ее коже блеск, и она казалась чем-то сияющим, пламенным, самая белая черная женщина на этой планете. В редкие дни, когда она не могла выступать, — не было голоса, болело горло от переутомления — она нервно ходила из угла в угол, словно собака в клетке.
Все знали, что нацисты прорвались через линию фронта в Седане, а Рауль был уверен, что они направлялись прямо в клуб «Алиби».
«Нам нужно успеть на поезд, — сказал он, — Пока не постучали в дверь, детка. Пока не появятся полицейские дубинки, пока бездна не развернется и никто и ничто уже не сможет спасти нас. Ты знаешь, что они делают с евреями и черными, как Жако? Желтые звезды. Розовые треугольники. Депортации и трудовые лагеря. Неудивительно, что Жако так и не пришел на работу».
Она посылала воздушные поцелуи постоянным посетителям и строила глазки Спатцу, покачивая попой в направлении него, показывая ему, что она только его, его куколка с электрическими пальцами и голосом, который мурлыкал в его мечтах, даже когда она пыталась подавить панику внутри себя. Мемфис не уедет, нет, сэр, неважно, сколько нацистского дерьма ворвется в Париж наутро, неважно, сколько будет плакать и умолять Рауль. Мемфис остается. Полный город солдат означало полный город денег — клуб, полный открытых карманов, это значило, что эта девочка рождена, чтобы править миром. Мемфис оставалась, вне зависимости от того, остается Рауль или нет. Если она снова убежит, она погибнет.
С маленькой приподнятой платформы, служившей сценой в клубе «Алиби», ее слышали все. Вот что нравилось ей в этом месте: когда она открывала рот, весь мир умолкал. Она усаживалась на табурет в центре и пела.
— Странно, — пробормотал Спатц себе под нос, глядя на нее сквозь клубы сигарного дыма, напоминавшую статую в круге света, — Жако нет. Он всегда ошивается рядом, когда она поет. Фон в галстуке и фраке. Интересно, он что, заболел?
— Он мертв, — решительно сказал Эмери Моррис, — Я пришел сюда, чтобы рассказать вам об этом. Мертв в квартире на Рю Риволи. Я сам его видел.
— Один?
— Нет. С одним из наших людей.
Это признание многого стоило Моррису, и мгновение Спатц не мог понять, что произошло. У юриста в Париже была репутация острожного человека. Эмери Моррис был чрезвычайно уважаем и непоколебимо надежен. У него была жена, жившая где-то на окраине, и он не пил даже за здоровье друзей. Никаких сексуальных связей. Никакого намека на чувство юмора. Спатц прощупывал слабости людей, с которыми он встречался, и предположил, что у Морриса отсутствует воображение.
Жако — огонь кабаре, беззаботный гомосексуалист. Найден мертвым вместе с американским юристом. Спатц натужно улыбнулся.
— Я в шоке.
— Вы знаете, кем он был, — жестко продолжал Моррис, — жалким маленьким извращенцем — …он брал деньги за то, что…
— По правде говоря, я удивлен, что американцы тоже в его вкусе. Несмотря на все эти плетки и жестокости, Жако был снобом. Я полагаю, это ваш человек убил его?
Глаза Морриса за изящными очками в проволочной оправе блеснули.
— Может быть, наоборот. Это грязное дело и мы должны любой ценой сохранить его в тайне от газетчиков. С этими новостями о войне, слава Богу, самоубийство гомосексуалиста — явно не материал для первой полосы.
— Но ваш мертвый юрист?
Моррис понизил голос.
— Вот почему я пришел поговорить с вами. У нас проблема.
К тому времени, как она закончила петь, его уже не было, и Мемфис так и не заметила, как он ушел: яркий свет слепил ей глаза, и она не видела ни людей, ни накрытых столов вокруг. Она пела около часа, затем выпила бокал шампанского — и оно обожгло ей горло, вот уж совершенно неподходящий для вокалиста напиток, но бокал так элегантно смотрелся в ее руке, и к тому же работал на имидж. Он поболтала с завсегдатаями, скользя между столиков, она не хотела смотреть на Рауля за ее спиной, который, должно быть, был в ярости от нетерпения, его голова была заполнена расписаниями поездов. Она проклинала Жако за то, что он предал ее; она должна была пойти домой пораньше и там все начнется снова: Рауль, который хочет убежать, Рауль, который пугает ее. Рауль.
На ее плечо легла чья-то рука — но это был ни Спатц, ни ее муж, это был Ан Ли — водитель-вьетнамец, которого она держала за его экзотичность и важность в изящной униформе. Он поклонился, извиняясь.
— Мистер Рауль взял машину. Он сказал, чтобы я отдал Вам это, мадам.
Она выхватила у него листок бумаги, торопливо посмотрела в него. Дома в Теннеси были люди, которые осмеливались говорить, что она даже не умеет читать, но второй муж Мемфис научил ее, и она все время училась, все время читала; она говорила по-французски и читала парижские газеты. Сегодня вечером ее глаза немного устали от дыма и позднего времени, или это было потому, что она снова паниковала, еле передвигая ноги в туфлях, в прекрасных туфлях с открытым мысом из кожи ящерицы и змеи, которые она купила на Рю Сент-Оноре.
«Детка, Жако мертв, у двери полицейский, если мы окажемся замешаны в этом деле, нам никогда не уехать из Парижа. Детка, закрой клуб и возьми деньги, когда завтра утром откроется банк, потом расскажи всем, что мы надолго уезжаем в отпуск, потому что Мемфис Джонс не будет петь для немцев. Встретишься со мной в Марселе как можно скорее. Я буду ждать в отеле Англетер.
Р.»
Она раздавила бумажку каблуком.
— Возьми большую кошку, — сказала она Ан Ли, — и езжай домой. Сегодня вечером Мемфис будет веселиться до упаду.
Глава третья
Салли Кинг лихорадило. Майская ночь была холодной, и она позволила Максу Шупу зажечь для нее сигарету, пока он сажал ее в такси. Теперь машина тряслась по улице Сент-Оноре, и пепел падал прямо на шелк. Салли это не волновало. Она больше никогда не наденет этого платья от Скиапарелли: она ненавидела его ярко-розовый цвет, его рои жучков, непристойные, как тело Филиппа в его последний момент; пепел был чем-то вроде траура.
Макс заплатил водителю, чтобы он отвез ее обратно к ней домой, но в темноте бурливших улиц, где толпы людей несмотря на поздний час все еще отчаянно пробирались в южную часть города, Салли вдруг ощутила острый приступ клаустрофобии. Признаки истерии и отчаяния, которые она заглушила стаканом бренди в каморке у консьержки, теперь снова пытались выбраться на поверхность. Она закрыла глаза и закурила, стараясь прояснить голову.
«Мы подозревали, что Филиппа кто-то беспокоил, — сказал Макс Шуп в той проклятой комнате над внутренним двором, в котором пахло горелой колбасой и плесенью. — Филипп вел себя странно. Он везде подозревал заговор. Может быть, это потому, что он сам чувствовал себя виноватым».
Она постаралась совместить этот образ с тем Филиппом, которого она помнила, постаралась вспомнить последний раз, когда она видела его — два дня назад, когда он энергично шел через площадь Восге. На подстриженных деревьях только начинали появляться листья, где-то кто-то упражнялся в пении сопрано, и голос закручивался изящной спиралью над старой площадью, отдаваясь эхом в куполообразных арках. Он пробежал несколько метров до того места, где она стояла, обнял ее, не беспокоясь о том, что кто-нибудь увидит. «Весна в Париже, — воскликнул он. — Кто сказал, что сейчас война?»
Филипп виноватый? Филипп подозрительный?
Она ничего не сказала Шупу о записке, которую прислал ей Филипп, о встрече с сотрудником фирмы. Даже Салли было ясно, что он провел это время совсем по-другому. Воспоминания о его распростертом теле, о ярком и твердом пенисе, о застывших глазах, смотревших куда-то позади нее, — все это не давало ее разуму покоя. Сигарета в руке задрожала.
— Главное, — сказал Макс, — это скрыть правду от его родителей. Уилсон Стилвелл судья в городе Криссейк. Ни тени скандала — ради его семьи. Ты будешь сопровождать тело домой?
Тело, в двадцать восемь лет Филипп — труп.
Она уставилась в окно, затуманенное дымом сигареты, как будто и сам Париж умер. Толпа полуночных бродяг не иссякала на улице Девятого моста, водитель выругался на них и неожиданно развернул машину в обратном направлении. Он повернул на запад, на Рю Риволи, в противоположном направлении от Латинского квартала. Салли была слишком обессилена, чтобы возражать.
— Я хочу, чтобы ты уехала из Европы, Салли, — сказал Макс. — Пока не начался весь этот ад, понимаешь? Завтра я поговорю с кем-нибудь из посольства…
Посольство.
Они добрались до площади Согласия, там находилось здание американского консульства, где располагались государственный отдел, армия и несколько работников Коммерческого отдела. Хотя здание было совсем новое, оно выглядело заброшенным и одиноким в темно-синем блеске фонарей. Консульство выдавало визы и занималось такими хлопотными делами, как репатриация мертвых, но посол Буллит жил в другом месте, в элегантном доме, подаренном американской нации. Даже немцы не раздражали Билла Буллита, американский посол продолжал наливать шампанского любому, кто поднимал бокал. Салли познакомилась с ним на рождественском приеме в посольстве: лысый, с располневшим брюшком, он с видом знатока разглядывал ее с ног до головы. На ней тогда было то же самое платье, что и сейчас.
— Водитель, — сказала она твердо. — Я передумала. Отвезите меня на авеню Д'Илена, в дом посла Буллита.
Именно Джо Херст получил возможность поговорить с самой знаменитой американкой в Париже, той, которую фотографировал сам Хорст, чье лицо сияло на обложке «Вог» во время осенних показов 1939 года, невозможно высокая молодая женщина с высокими скулами и широкой улыбкой. Ее узнала жена одного из сотрудников государственного отдела посольства, когда она в одиночестве поднималась по ступенькам, не будучи приглашенной на вечеринку в честь премьер-министра Пола Рейно и французского министра вооруженных сил Эдуарда Даладье, которые все время меняли посты и сердечно презирали друг друга. Мимс Тарноу вспомнила Рождество, вспомнила шокирующее розовое платье, кроме того, в ней было достаточно снобизма, чтобы чувствовать себя выше Салли Кинг, она поняла, что просто обязана сообщить об этом помощнику Буллита, Роберту Мерфи.
Мерфи вертел в руке зажигалку, пока Мимс, шепча ему на ухо, указывала головой на дверь в фойе, где несколько французских гостей уже надевали пальто. Буллит был известен под именем «Шампанский Билл» за свои щедрые вечеринки, но из-за сегодняшних новостей из Седана ни у кого не было настроения веселиться; кроме того, жена Даладье отказалась разговаривать с Рейно. Салли Кинг нерешительно остановилась в дверях, ее лицо было белым и неподвижным. Сумка с противогазом свисала с плеча, словно шикарный аксессуар, на подоле платья у нее осталось черное пятно, как будто она задела где-то автомобильное крыло.
Мерфи был в нетерпении. «Невинные, — думал он. — Невозможно невинные. Им нельзя оставаться одним на улице».
— Выясни, чего она хочет, Джо, — вполголоса сказал он секретарю, стоявшему молча по правую руку от него. — Спорю на тридцать франков, что возвращения домой.
Джо Херст жил в Париже около полутора лет. До этого он жил в Москве. Еще раньше — в Женеве и Найроби. Ему было тридцать пять лет, образование получил в Йельском университете, сын дипломата. Он говорил на пяти языках. Его жена неожиданно ушла от него прошлой зимой, и никто в посольстве не мог забыть этот факт. Это проявлялось в неловких жестах сочувствия или плохо скрываемом веселье. Только Буллит, у которого было много женщин, который жил во дворце на утесе с видом на Босфор со знаменитой Луизой Брайант — только Буллит верил в то, что карьера Херста еще не закончена. Остальные ждали, когда станет известно о его отправке домой.
Херст прошел по мраморному полу с равнодушным видом, сунув руку в карман: высокий мужчина в вечернем костюме, слишком худой для своих широких плеч, ястребиный взгляд темно-серых глаз, обезоруживающих своей прямотой. Девушка в платье из прошлогодней модной коллекции подалась назад, когда он приблизился. На ее лице был заметен страх.
— Мисс Кинг? Джо Херст, — он качнулся — одна из тех европейских привычек, которую он приобрел в детстве, — и подал ей руку. — Мы встречались на рождественской вечеринке.
— Неужели? — ее голос был хрупким, как рисовая бумага. — Я не помню. Я ищу посла Буллита.
— Боюсь, посол занят. Быть может, я могу помочь?
Он играл свою обычную роль: хорошо воспитанного дипломата, слишком хорошо, чтобы обидеться на вторжение без приглашения. Но его мозг напряженно работал, глаза ловили выражение замешательства на лице девушки, пряди волос, выбившиеся из ее шиньона. «Словно, она ударилась головой, — подумал он. — Или ее изнасиловали где-нибудь в темном углу. Что, черт возьми, с ней произошло?»
— Три стакана, — сказал она невпопад. — Я действительно не заметила их сначала, но позже, когда я ехала в такси, я вспомнила. Два на подоконнике. И один разбитый в мусорной корзине. Это ничего не проясняет, не более чем слова Шупа.
Херст нахмурился.
— Вам нехорошо, мисс Кинг?
Ее веки закрылись, и она слегка покачнулась, пальцы судорожно теребили противогазную сумку. Она носила ее вместо вечерней сумочки, как все.
Он взял ее за локоть и, не говоря ни слова, провел ее в одну их комнат, обитых деревом, в другой стороне от фойе; личные комнаты с каминами, в которых ничего не горело, полками с книгами в кожаных переплетах.
Она упала в кресло и уставилась на свои туфли.
— Что такое? — мягко спросил Херст. — Что случилось?
— Филиппа убили, — сказала она.
Глава четвертая
Человек, известный под простым именем Жако, жил в разных местах, но в течение последних семнадцати лет он называл своим домом Париж. Как любой неискушенный молодой человек из провинции, он поселился в пансионе, где еду подавал безразличный повар; он был полон надежд получить место в какой-нибудь известной танцевальной труппе — может быть, Дягилева, — потому он оправдывал плохое качество питания тем, что это помогало ему поддерживать фигуру. В свои тридцать, надолго отложив мечту о балете, он получил роль в клубе «Шахерезада» и насладился коротким романом с очаровательным Сержем Лифарем, самым известным балетным танцовщиком в Париже, а затем и первыми лучами своей молодой славы. В этот же период Жако пристрастился к кокаину, что разрушительно сказалось и на его внешнем виде, и на содержимом его карманов. Мировая экономическая депрессия последних лет и его собственный все увеличивавшийся возраст разрушили юношеские мечты: за последние несколько лет Жако опустился со свиданий на бульваре Хауссманн и шампанского до двухкомнатной квартиры в наполненном крысами квартале в двадцатом округе недалеко от кладбища Пер Лашез.
Макс Шуп приехал в бедную квартирку Жако в два часа ночи, отделавшись от полиции и их назойливых вопросов в квартире Филиппа Стилвелла. Это они рассказали ему о том, кем был повешенный, и сообщили его адрес. Шуп уже почти заканчивал осмотр немногочисленных вещей Жако.
В одном углу главной комнаты находились плита и раковина; Жако завесил их драпировкой из линялого вельвета. Диван из похожего материала, поцарапанный деревянный стол, служивший как для коктейлей, так и для обедов, книжная полка с несколькими книгами и фотографиями — на одной из них был Лифарь в профиль и его автограф. Портрет Кокто. Боа из перьев, надетое в одном из спектаклей много лет назад. Это было место общего пользования, и Шуп не нашел там ничего интересного.
Внутренняя комната была личной, однако и здесь Жако дал полет своей фантазии. Стены были разлинованы шелком цвета полночного синего неба, кровать убрана a la polonaise[7]. На письменном столе — модернистская скульптура — может быть, Браке, может, копия — смотрела в узкое окно. Оно выходило на ничем не примечательную аллею и автомойку напротив.
Шуп огляделся; у него составилось яркое впечатление о плотском аппетите и сексуальном одиночестве хозяина; и затем он сдался и заглянул в письменный стол.
Он был пунктуальным человеком, с большой долей самоконтроля: человек исключительно интеллигентный и проницательный, который мог бы руководить целым народом. Вместо этого он стал юристом в Париже, где жизнь была элегантна, и он имел полную свободу. Он был зарегистрирован в Нью-Йорке: Макс Шуп, Амхерст, 1910 год, Колумбийский суд. В Париже он мог быть кем угодно: преступником, обольстителем, строителем и разрушителем миров. В Париже, со своей французской женой, он мог даже не быть американцем.
По работе он носил перчатки. Его глаза даже не напрягались в темноте; с собой у него был маленький карманный фонарик с голубым светом; с тонким, как проволока, лучом. Он сложил в стопку множество бумаг и счетов, которые покойный оставил огромными кипами на столе. Он искал что-то, чего не мог назвать, но мог узнать, когда увидит. Шуп был спокоен — Шуп всегда был спокоен — но он думал о времени. Полиция могла приехать в любой момент.
Он только что отошел от стола и открывал дверь бельевого шкафа, когда во входной двери повернулся ключ.
Ключ? В руках полиции или друзей?
Шуп замер. Его седая голова могла быть видна в окне, но ни один человек не смог бы разглядеть ее в узком проеме, так как улица была тридцатью футами ниже.
Он бесшумно скользнул в шкаф.
А что, если это полиция? Что тогда?
Тогда его найдут. Будут вопросы. Но Макс Шуп, американский гражданин, партнер-управляющий парижского офиса компании «Салливан и Кромвель», мог отговориться от всего.
Его ноги стояли на паре старых кожаных туфель. Он затаил дыхание и напряг слух, чтобы не пропустить ни единого звука за дверью шкафа.
В квартире раздались шаги пары ног. Свет, стаккато, торопливые и неуверенные шаги. Это не полиция.
— Жако? Иу-ху, крошка…
Женский голос — богатый и звонкий, американский голос. Шуп слегка приоткрыл дверцу шкафа и увидел Мемфис Джонс, она в нетерпении остановилась спиной к спальне: Шуп не сомневался, что она размышляла, куда делся ее партнер по танцам. Он мог просто дождаться, пока она уйдет.
Но она расстроила его планы: внезапно она повернулась и неторопливо направилась в сторону спальни. Она больше не искала Жако; на ее очаровательном лице легко читалась другая цель. Шуп уловил запах роз, смешанный с сигарным дымом, когда она проходила мимо. Вдруг она сорвала с кровати простыни и начала шарить руками под матрасом. Шепча проклятия, она направилась к столу.
Аккуратные стопки, в которые Шуп сложил бумаги Жако, не привлекли внимания этой женщины; она рассыпала их, как листья. Затем она внезапно повернулась и распахнула дверь шкафа.
Они уставились друг на друга.
— Мисс Джонс, — узнал он, — какое удовольствие.
— Какого черта ты здесь делаешь, белый? И откуда ты знаешь мое имя? Дерьмо, — она отошла на два шага к кровати, ее ярость моментально остыла.
— Нет такого человека в Париже, кто бы не знал, как вас зовут, — если бы у него была на голове шляпа, он бы снял ее перед ней. Ирония была одним из сильных мест Шупа.
— Я спросила, кто вы.
— Макс Шуп. Юрист.
Было ясно, что это имя ничего ей не говорило. Глаза джазовой певицы сузились.
— Что вам было нужно от Жако?
— Я мог бы спросить то же самое у вас.
— Он не пришел на работу сегодня вечером. Я плачу этому человеку зарплату и хочу видеть его в клубе, понимаете?
— Конечно. Но Жако мертв, мисс Джонс, и я не думаю, что вы искали под матрасом его тело.
Ее глаза широко открылись.
— Жако занял у меня денег пару дней назад. Теперь они мне нужны.
«Она не задает вопросов по поводу его смерти и не скорбит о нем», — подумал Шуп.
— В квартире нет денег, и скоро здесь будет полиция. Вряд ли вам захочется, чтобы полицейские обнаружили вас здесь.
Она запрокинула голову и рассмеялась. Ее смех был такой детский и веселый, что он вздрогнул.
— Вы думаете, я вчера родилась, мистер? Вы думаете, Мемфис такая девушка, которая делает то, что ей говорят? Я не уйду без своих денег, а если полиция будет задавать вопросы, я отправлю их к своему адвокату. А мистер Макс Шуп сможет им рассказать, почему он прятался в шкафу у Жако?
Он всмотрелся в ее лицо: настойчивое и расчетливое, ни следа от бессонной ночи. Она была сильна по своей природе, эта Мемфис Джонс, упрямая и поглощенная своими мыслями.
Шуп решил, что она может быть полезна.
— Сколько? — спросил он, доставая свою чековую книжку.
— Чтобы хватило на билет до Марселя. Скажем… две тысячи франков.
— Вы можете купить билет и за пару сотен.
— Но поезд уходит сегодня. Все хотят уехать на юг сегодня. И я не буду ждать до завтра. Нет, сэр.
— Я удивлен, — медленно сказал Шуп. — Девушка вроде вас должна сразу ухватиться за возможность очаровать миллион солдат.
— Может, вы и правы, — согласилась она, — за исключением того факта, что мой муж уехал прошлой ночью, забрав все деньги до последнего пенни, которые нам удалось скопить. «Иди завтра в банк, Мемфис. Скажи им, что мы уезжаем». Только банки на этой неделе не платят ни гроша по еврейским счетам, потому что скоро придут немцы, и банкиры полагают, что на них тут же как с неба свалится море честно заработанных наличных, понимаете, что я имею в виду? Сегодня нет счетов, до которых могла бы добраться эта маленькая девочка. Вы даете мне деньги, мистер, и я ухожу.
— Это не так просто.
Она подняла голову, ее взгляд выражал неодобрение. Шуп предположил, что он относится к тому типу мужчин, которые время от времени появлялись в ее клубе: с деньгами, в годах, с похотливыми желаниями под белыми крахмальными воротничками. Она думала, что знает, чего он хочет.
— Думаете получить кусочек сладкой попки Мемфис, мистер? Если это так, я должна вам сказать, что я не продаюсь за какие-то две тысячи франков. Быть может, в целом мире нет таких денег, за которые я согласилась бы продаться вам.
Шуп раздумывал над предложением и над последствиями. В его мозгах рисовались все возможности, которые женщина может предложить в определенные часы ночи.
— Мне нужна информация, — сказал он осторожно, — об одном из ваших людей.
— Их много, мистер. Она присела на кровать Жако и скрестила ноги, состроив глубоко скучающий вид.
Он достал ручку и чековую книжку из кармана. Поставил четкую подпись под суммой в тысячу долларов — этого достаточно для получения наличных в офисе «Американ Экспресс». При курсе примерно тридцать франков за доллар Мемфис этого хватило бы, чтобы уехать туда, куда она пожелает.
Он поднес чек к ее носу.
Ее глаза, красивые и теплые, как только что приготовленная карамель, на мгновение встретились с его взглядом; он почти потерял свою решительность и про себя умолял ее взять чек.
— Кого вы имеете в виду?
— Немца, — мягко ответил он, вкладывая чек ей в руку. — Того, кто ходит в ваш клуб. Он называет себя Спатц.
Глава пятая
— Итак, парень был геем, — размышлял Буллит, когда его длинная черная машина повернула на запад к Булонскому лесу, — а девушка не смогла этого принять? Дерьмо. Салли Кинг — одна из девушек Коко и должна понимать.
Посол достал золотой портсигар из кармана своего парадного пиджака; Джо Херст предложил зажигалку. Посольство уже закрывалось, Салли отправили на такси одну, последние гости медленно спускались по ступенькам, когда Буллит неожиданно положил руку на плечо Херста и приказал ему: «Поедешь со мной».
Это могло бы означать час верховой езды в Булонском лесу перед завтраком — одна из постоянных привычек Буллита — но сегодня вечером он предпочел машину с водителем и поездку на запад, в коттедж, который он арендовал в Шантильи. Буллит ненавидел одиночество. Даже в короткие минуты походов в туалет.
Под его подбородком сверкнуло желтое пламя и осветило его умное и суровое лицо. Он происходил из одной из лучших семей в Филадельфии, настоящая голубая кровь старого образца — и временами Буллит походил на гангстера. Эта смесь воспитания и суровости влекла к нему женщин, как мух.
— Она и не притворяется, что ничего не понимает, — спокойно ответил Херст. — Она не отрицает обстоятельств смерти. Ее беспокоит наличие третьего стакана в комнате, где всего два тела.
— Стакан был разбит, — сказал Буллит презрительно. — Что ты делаешь, Херст, когда разбиваешь стакан? Выбрасываешь осколки и достаешь новый.
— Но зачем вообще использовать стекло? Судя по всему, эта ночь больше подходила для вина из бутылок или кальяна. Я согласен с мисс Кинг: здесь что-то не сходится.
— Салли довольно симпатичная, — заключил Буллит, — хочешь задрать ей юбку?
— Я бы хотел отправить ее обратно в Штаты на первом же корабле, — ответил Херст. — С телом, если возможно.
— Я знаком с pere[8] Стилвелла. Судья с большой буквы, должен сказать. Такой стыд. Этот малый — гомик — работал на «Салливан и Кромвелл», я так понимаю?
— Да. И поэтому это чрезвычайно интересно, — сказал Херст равнодушно. — Братьям Даллс.
Братья Даллс.
Джон Фостер и Аллен: один — самый высокооплачиваемый юрист в мире и управляющий партнер в «Салливан и Кромвелл», а другой — новый партнер в той же самой компании. Оба имеют связи на разных континентах и учились в Принстоне.
Буллит окончил Йельский университет. Он презирал братьев Даллс.
— Бог мой! — фыркнул он обиженно. — Ты видел эту нескончаемую дрянь, которую печатает Фостер в «Нью-Йорк Таймс»?
— Да, сэр. Видел.
Газеты посылались дипломатической почтой и обычно приходили через неделю после выхода.
— Даллс назвал Рузвельта предателем своего класса! Он настаивает, что мы недопоняли нацистов — и должны были взамен выбрать его друга Линдберга. Он провозглашает свободный рынок и прощение долгов как основу мирного сосуществования. Мир катится в ад, а все, о чем думает Фостер — как заработать на этом денег. Он всегда был маленьким меркантильным дерьмом, этот Фостер.
— Я не знал, что вы знакомы, сэр, — безразличным голосом проговорил Херст.
— И не один год. Эта скотина появилась в Версале в 1918 году, не как делегат, не как член госдепартамента. Как юрист.
Буллит присутствовал на Версальской конференции, конечно, как официальный участник переговоров в свите президента Вудроу Уилсона.
— Его отправление из Нью-Йорка было настоящей аферой, и он сорвал самую важную дипломатическую конференцию со времен Ватерлоо, — посол выпустил колечко дыма, и у него во рту остался горький привкус. — В итоге мы все уехали домой и оставили Фостера одного. Он сделался незаменимым для Объединенных сил как инструмент компромисса. Знаешь, почему он мог идти на компромисс, Джо? Потому что в Фостере Даллсе нет ни намека на принципы. Теперь немцы платят ему за то, что он рассказывает, как мы давили на него в Версале. Даллс — самый главный нацист в Нью-Йорке — и самый богатый. Мы должны были бы пристрелить его за treason[9].
— Но его брат…
— О, Аллен в порядке, — кончик сигареты описал в темноте яркую дугу. — Конечно, изменяет своей жене направо и налево. Мне нравятся парни, которые знают, как жить. Очень плохо, что он оставил госдепартамент ради «С. и К.», но, говорят, ему нужны были деньги. Он покупает своей жене украшения всякий раз, когда испытывает угрызения совести. Сомневаюсь, что нынешняя зарплата государственного служащего позволяет покупать Тиффани.
Или Баленсиага, или Картье, Херст подумал, что это камень в огород и его собственной бывшей жены. Буллит был богат; он никогда не думал о таких мелочах, как зарплата.
— Аллен знает, что Франция скоро развалится, как карточный домик, теперь, когда немцы перешли границу, — холодно добавил посол.
Это было совсем не то, что он говорил буквально час назад на собрании министров французского правительства; для них посол Буллит был слишком оптимистичен. Большинство сегодняшних гостей казались расстроенными, словно кучка биржевых маклеров в «черный вторник». Буллит постарался воодушевить их громкими фразами о сильном духе французов. Наполнял их бокалы шампанским. Осыпал комплиментами женщин. Рейно и Даладье, а также министр обороны Рауль Дотри без надежды говорили об уличных боях за сердце Парижа. Делал предположения, что Уинстон Черчилль, который был назначен премьер-министром Великобритании всего за три дня до этого, пришлет еще войска. Они планировали официальную делегацию в Нотр-Дам де Пари: ради защиты страны они дошли и до молитв Богу, который определенно должен был оказаться французом, и отправил бы немцев восвояси.
— Если Франция падет, Англия потонет через несколько недель, — продолжил Буллит. — И у нас будет Освальд Мозли в доме номер 10 по Даунинг Стрит и королевская семья, ищущая защиты. Самое главное — это доставить британский флот в Канаду, как я уже говорил Рузвельту, конечно, только для его ушей. Не дай Бог произнести какой-нибудь ценный совет на публике! Нам придется сохранять нейтралитет, спаси нас Господи, из-за таких людей, как Фостер Даллс.
В свою очередь Джо Херст встречался с Фостером только однажды, во время безмятежного лета на Лонг-Айленде в начале тридцатых годов: он курил трубку, был сдержан до антипатии и эмоционален, как мертвая рыба. Херста наняли, чтобы учить детей Аллена Даллса играть в теннис — и этот парень действительно гулял направо и налево: он соблазнил красивую русскую теннисистку, жену его хорошего друга. Фостера уважали больше всех в Нью-Йорке, а страдалец Кловер Даллс был, по общему мнению, признан святым, но Херсту действительно нравился Аллен, который был так же жесток, как и его брат, но он прятал свою беспощадность под маской очарования, покоряя детей и взрослых одним только движением брови. Херст поддерживал отношения с Алленом все эти годы, потому что благодаря письму от этого человека он чувствовал себя частью аристократической элиты: «Мой друг Херст. Он не последний человек в посольстве». В последние месяцы письма из Нью-Йорка приходили очень быстро, и Херст понимал, что Аллен беспокоится. О положении дел в Европе. О положении дел в «Салливан и Кромвелл». О душевном состоянии его брата…
— Как бы я хотел вставить этому Фостеру, — мечтательно размышлял Буллит. — Опозорить его фирму во всех мировых газетах. «Мертвый юрист из «Салливана» в сексуальном вертепе» или что-нибудь еще в этом роде. Но, конечно, этого делать нельзя. Нужно думать о семье молодого человека.
Билл Буллит мог представить Филиппа Стилвелла как гомосексуалиста, но у Филиппа Стилвелла были хорошие деньги и хорошие связи, а в мире Буллита приоритет подобных вещей был абсолютным.
— Мисс Кинг уверена, что Стилвелла убили, — заключил Херст.
— Вот дерьмо, — повторил посол.
— Она показала мне записку, которую он прислал ей этим вечером. Она была у нее в противогазной сумке.
— Клятва в вечной страсти? Неумирающая любовь? Да брось ты, Джо. Мужчины врут женщинам с самых первых минут, начиная с райского сада. Особенно если он гомик.
«Салли, дорогая, сегодня вечером я, возможно, немного опоздаю на ужин, у меня встреча с сотрудником компании… — прочитал Херст вслух. — Нельзя позволить делу Ламона продолжиться; это аморально, это нелегально и это потопит всех нас».
Посол нахмурился. «Ламон. Ламон?»
— Роже Ламон, — дополнил Херст. — Еще один выпускник Принстона. Еще один юрист из «С. и К.». Он покинул фирму в сентябре и вступил в Британские экспедиционные войска. Возможно, сейчас он отступает из Седана.
— Какого черта, что общего Ламон имеет с этими двумя мертвыми гомиками?
— Мисс Кинг полагает, что Филипп наткнулся на что-то грязное в бумагах Ламона, — терпеливо объяснил Херст. — Что-то, чего он не должен был видеть. Она думает, что Стилвелл был опасен для людей у власти. Она полагает, они так заткнули ему рот.
— Это кто-то из фирмы Фостера Даллса?
Херст кивнул.
Где-то в ночи завыла сирена воздушной тревоги. Буллит исчез в тени своей большой машины.
— Выясни это, — сказал он.
Глава шестая
Эмери Моррису было около пятидесяти лет. Благодаря большой доле благоразумия и постоянному труду, он достиг высокой позиции в жизни. Если бы его попросили описать точные размеры и место этой позиции и параметров, которые она включала, Моррис начал бы колебаться или возражать. Он бы ушел от ответа. Он был не из тех, кому нравится, когда определяют его место. Хотя в случаях с законом Эмери Моррис добивался точности, в личном плане его настоящее было очень туманно.
Но за удовольствие занимать такую позицию приходилось соблюдать ряд неукоснительных правил. Одно из них состояло в том, чтобы освободиться от всех личных связей. Связи, по мнению Морриса, означали контроль над ним тех людей, которых он презирал. Его жена, брак с которой был продиктован его бизнесом, включалась в эту категорию.
Похожие правила применялись и к его клиентам. Их дела требовали применения гения Эмери Морриса, и если ему хорошо компенсировали его время и умственные усилия, то он соглашался. Личность человека, оплачивавшего счет, — был ли он привлекательным или отталкивающим, добрым или злым, — была неважна. Моррис делал свою работу. Он один решал, какие стандарты устанавливать и как их соблюдать.
Третий закон Морриса состоял в том, что каждый день он должен был спать ровно восемь часов. Именно под давлением этого закона он сейчас беспокоился, заплатив за такси на улице Камбон в двенадцать минут третьего утра. Он смертельно устал, и это была вина Филиппа Стилвелла.
Он подождал, пока огни такси исчезли за углом. Все было мертвенно тихим в этот час: и недвижная ограда площади Вендом, и тихие ворота Ритц, и закрытые витрины ювелирных магазинов, и пьедестал обелиска, укрепленного, чтобы статуя Наполеона не упала под ударами немецких бомб. Весь Париж спал, но не здесь, где единственный луч света пробивался сквозь непроглядную темноту отеля Ритц. Моррис никогда не ощущал Париж как живое существо, так что он повернулся спиной к площади и вставил ключ во входную дверь офисного здания, проклиная покойного Стилвелла и Роже Ламона, который, должно быть, сражался сейчас с врагом где-то на фронтах Седана. Многие считали, что Ламон и Моррис были друзьями. Это предположение удивило бы их обоих.
Он глубоко зевнул, поднимаясь по непокрытым ступеням. Второе такси за час. Там должны быть коробки, которые очень тяжело унести одному. Ему придется позвать водителя.
Спатц не видел, как ушел Эмери Моррис. Эти двое мужчин не обменялись ни рукопожатиями, ни любезностями. У выхода из клуба «Алиби» они разошлись в разные стороны, один по направлению к такси, другой — в противоположную сторону, сунув руки в карманы, как будто они незнакомы. Это равнодушие однажды могло стать решающим.
Как человек, вынужденный перемещаться ночью по городу в условиях светомаскировки, Спатц носил в кармане фонарик со стеклом, покрытым темно-синей краской. Ночь была безлунная, однако он не стал включать фонарик. Его птичьи глаза блестели, а светловолосая голова была наклонена слегка вперед, как будто он подслушивал какой-то секретный разговор. Спатц любил это время ночи в Париже, эту свободу улиц, когда все старые дома и жизни людей, обитающих в них, принадлежали только ему. Для него никогда не было более желанного королевства, чем это.
Карьера немца началась с серии запутанных историй, выгодных продаж и покупок, шантажа, эмоций и потерь, которым не было числа. По дороге он думал о висевшем на люстре Жако и о том, как этот американец по фамилии Моррис не моргая быстро произносил слова, которые обжигали Спатцу щеку, словно пули. В его голове звучал мурлыкающий голос Мемфис Джонс, она будет в ярости утром, когда увидит, что он сбежал.
Он шел ровно тридцать три минуты по совершенно бесцельной траектории, похожей со стороны на круги — сужая и сужая ее по направлению к цели, с которой он еще не определился. Он мог бы сделать большой круг и вернуться в шестнадцатый округ, но его двоюродная сестра, чья квартира там находилась, сейчас не спала, а ему не хотелось встречаться с ней. Война изменила их раньше равнодушные отношения, потому что у их голов появилась цена. Месяцами он жил в убеждении, что ничего по-настоящему ужасного случиться не может: прорыв немецкой армии в Седане поставил под вопрос его будущее. Конечно, по-другому, нежели думал Эмери Моррис.
Проблема Морриса была видна, как на ладони. Юрист надеялся, что Спатц замолвит слово о Филиппе Стилвелле вышестоящим лицам в Берлине; но Спатц не торопился этого делать. Стилвелл был мертв. Из возможностей, которые оставил молодой человек, можно было извлечь гораздо больше.
Он остановился в задумчивости на Рю Сент-Жак как раз в тот момент, когда колокола Сент-Северин и Сент-Жульен-де-Павр прозвонили два тридцать. Большое дерево акации на площади Вивиани было таким же древним, как и колокола. Он покурил немного, ощущая, как весенний воздух дрожит вокруг него, как будто он погрузился глубоко в воду. В безмолвии, последовавшем за перезвоном колоколов, он неожиданно понял, что его взгляд сосредоточен на окне одной квартиры в доме напротив, в двух этажах над землей слева от входа. Синий блеск пронзил тьму. Мелькнул силуэт, темный силуэт во мраке. Подруга Стилвелла все еще не спала.
Спатц улыбнулся про себя, удивляясь неумолимому воздействию подсознания, которое привело его точно в то место, куда и предполагал Эмери Моррис, и затушил сигарету. Пересекая улицу, он начал насвистывать фрагмент песни, что-то из репертуара Мемфис.
Три пачки бумаг стояли на полу перед Эмери Моррисом: те, которые ничего не значили, те, которые он хотел сохранить и те, которые нужно уничтожить.
Он обыскал каждый уголок на столе Роже Ламона, перебрал коробки, аккуратно сложенные за стойкой мадам Ренар, он даже взломал непрочный замок маленького кабинета Стилвелла. Дипломы застенчиво висели на гипсовой стене, портреты родителей в черно-белых рамках, рекламный снимок девушки, появившейся на Рю Риволи несколько часов назад — Моррис встретил Салли только однажды в баре Ритц, и она ему не понравилась с первого взгляда; ни одна порядочная женщина не позволит так выставлять свое тело, день за днем стоя покорно перед фотографами, как корова на бойне. «Корова», — пробормотал он, и его белые руки заскользили по оберточной бумаге. — «Дрянь. Проститутка». Удушливый запах пота и поражения щекотал ему ноздри.
Прошла сорок одна минута, и тогда он понял, чего не хватало. Папки, которой он не открывал. Папки, которой не было.
На мгновение он замер посреди офиса Филиппа Стилвелла. Конечно же, молодой дурак украл ее у Ламона, но что он с ней сделал?
И тут его осенило, это было ясно, как день.
— Девчонка, — сказал он.
Она пересматривала все, что написал ей Филипп за последние восемь месяцев: одинокие записки, неподписанные фрагменты, странная открытка, оставленная им на ее подушке, словно его красивый, беззаботный почерк мог исчезнуть, как исчезло его дыхание или свет в его глазах. Она сохранила большинство его записок, глупо надеясь, что когда-нибудь они станут дороги ей, когда она достанет их с чердака дома в Коннектикуте со словами: «Это с тех времен, когда я познакомилась с твоим отцом в Париже, до войны».
Она пила «Перно», потому что его любил Филипп, и ей нужно было что-нибудь, что связывало бы ее с ним. Паника охватила ее, словно студеная океанская волна, в ту секунду, когда она закрыла дверь своей квартиры, паника, причиной которой мог быть поздний час или вид тела Филиппа, который не шел у нее из головы. Но ей казалось, что наиболее вероятная причина паники кроется в ее абсолютной уверенности, что она снова осталась одна, без перспектив или денег, или помощи, когда немцы уже маршировали по территории Бельгии. Салли ощутила приступ головокружения и плакала, сидя на полу поджав ноги, так как она ничего не ела, и лакричное пламя алкоголя быстро воздействовало на мозг. Она паниковала, потому что не знала, как она теперь останется в Париже, и ей не хотелось возвращаться — ни в Денвер, ни в незнакомый дом на Раунд Хилл, к женщине, которая, конечно, будет обвинять ее просто потому, что она, Салли, была здесь, в Париже, а Филипп умер.
Когда раздался стук в дверь, он так напугал ее, что Салли пролила «Перно» на халат. Наверное, Таси, подумала она, имея в виду женщину, жившую по соседству, русскую эмигрантку по имени Анастасия, которая зарабатывала себе на жизнь, оказывая эскорт-услуги в одном из ночных клубов. Таси работала все время и никогда не спала, ее квартира была наполнена сигаретным дымом и паром от самовара. Она могла по звуку шагов определить, что Салли не спит, и когда она откроет дверь, там должна стоять Таси с сигаретой в руке, идеально подведенными глазами и надеждой на рюмку водки. Салли открыла рот, чтобы позвать ее, но остановилась. Сегодня вечером ей не стоит встречаться с Таси.
Второй стук был громче, властным и не терпящим отказа.
— Мадмуазель Кинг? Это полиция. Откройте дверь, пожалуйста.
Вздох, который издала Салли, был похож на рыдания. Значит, они все прояснили. Она не сошла с ума. Они, наконец, поняли, что Филиппа убили, и что вся сцена на Рю Риволи была всего лишь маскарадным фарсом. Может, это человек из посольства сказал им: если французов не волнует правосудие, то американцев оно волнует.
Салли вытерла мокрые глаза рукавом и направилась к двери.
В коридоре было темно, словно выкрашенные синей краской лампочки перегорели, но она заметила вечерний костюм, доброе лицо и то, что мужчина, казалось, улыбался, когда тянул обе руки к ее шее. Она начала задыхаться и у нее потемнело в глазах, словно у женщины в приступе любви.
Глава седьмая
Джо Херст не спал с тех пор, как Дейзи ушла от него. Сложно представить, но он привык к защищающему, словно кожух, голосу его жены, привык прятаться за стенами ее мира, нечто вроде пятого бизнеса, связанного с обработкой дерева. Во всем этом был какой-то незаметный комфорт. Сейчас, в отражающей эхо высоте комнат с обоями в полоску на Рю Лористон, он был погружен в себя, слишком задумавшись о тишине и своей неспособности заполнить ее. Он ловил собственные случайные взгляды в зеркалах, таинственные и незнакомые. Он прошел уже шестнадцать сотен квадратных футов по квартире в банном халате и тапочках, по неосвещенным комнатам, напевая нестройный мотивчик.
На рассвете после смерти Стилвелла Херст, напевая, бродил по квартире с чашкой кофе в руке. Он составил список вопросов и теперь старательно заучивал их наизусть, словно школьник, который зубрит Шекспира.
1. Был ли у секретарши Стилвелла список его встреч?
2. Кто-нибудь спрашивал у консьержки Стилвелла, видела ли она его самого или его гостей?
3. Был ли третий мужчина (или женщина)?
4. Что они пили из стеклянных бокалов?
5. Как умер Стилвелл? (Разве у 28-летнего мужчины бывают сердечные приступы???)
6. Почему юристы парижского филиала «Салливан и Кромвелл» все еще строят рабочие планы на май, если Фостер Даллс закрыл офис еще в прошлом сентябре?
Он мог бы подумать еще как минимум о дюжине более сложных деталей, требующих исследования, но они быстро улетучивались из его головы на все четыре стороны из-за настойчиво преследовавшего его образа Салли Кинг.
Прошлой ночью он видел на ее лице не только страдание, но и острое, на грани истерики, жажду справедливости. Любила ли она Стилвелла? Или это была просто любовь «по расчету» — билет домой, чтобы освободиться от зависимости от Коко Шанель? Были ли Салли и Стилвелл просто удобной парой друг для друга — гомосексуалист и карьеристка — или они были любовниками?
Херст искал ответы на вопросы о природе любви, но отдавал себе отчет, что его собственные заботы — бесцельное шатание по коридорам философии — не имели ничего общего с Филиппом Стилвеллом. Два человека были мертвы, а немцы приближались. Особенность дела Салли Кинг была очевидна.
Он поставил чашку на стол — блюдце потерялось где-то в одной из его поездок — и снова углубился в чтение бумаг, за которыми застал его парижский рассвет. Письмо, датированное более чем тремя годами назад, описывало события осени 1935 года.
«…самое ужасное в том, что нам приходится продолжать представлять немецких клиентов в то время, как в Нью-Йорке фирмы уже закрыли свои офисы и ужесточили отношения со своими агентами во Франкфурте, Мюнхене и Берлине… Я объяснил своему брату, что его преданность людям, с которыми он остается друзьями не одно десятилетие, вполне понятно, но такая дружба может быть очень условной в сложившихся обстоятельствах… Личные интересы не должны стоять выше общественных… Он утверждал, что это дело принципа, основанное на интеллекте и опыте, и что всех этих трудностей не было бы, если бы не неуравновешенные и беспечные лидеры… Но принять такое отношение Национальной социалистической полиции к нашим еврейским клиентам по всему миру, не говоря уже о наших еврейских партнерах, невозможно…»
Аллен Даллс.
Херст почти слышал сухой, отработанный голос, сардонические фразы со скрытым жестоким подтекстом. Аллен Даллс был человеком с холодной головой и умел контролировать свои эмоции, что, с точки зрения Херста, было гораздо предпочтительней, чем способность его брата ничего не чувствовать.
В зале заседаний совета директоров «С. и К.» в тот день случилась ужасная сцена, когда Фостера Даллса заставили закрыть филиал в Берлине. Аллен хотел поговорить с ним наедине и убедить его. Он говорил ему о том, что не стоит угождать нацистским клиентам, в то время как эти же клиенты делают евреев козлами отпущения. Но Фостер отказался слушать младшего брата, поэтому Аллен предложил проголосовать всем партнерам — и выиграл.
Некоторые утверждают, что Фостер даже плакал.
Затем он записал это решение задним числом в документах фирмы за 1934 год.
Аллен поднял этот вопрос в своем письме к Херсту спустя все эти годы не потому, что ему нравилось копаться в грязном белье брата, а потому, что он был не из тех, кого успокоит ложный мир. Берлинский филиал был закрыт, и большинство юристов оттуда уехали. Не обратно в Нью-Йорк, конечно, а в Париж…
«…конечно, Джо, я был бы благодарен тебе за любое предупреждение об изменении обстоятельств…»
Что точно имел в виду Аллен? Предупреждение о вторжении немцев? Своевременная информация о падении Франции? У Аллена были друзья в Вашингтоне, которые сообщали ему новости, еще до того, как что-то случалось. Для этого Аллену не нужен был секретарь в Париже. Херст снова взял чашку, уже пустую, и представил себе Даллса, каким он его помнил. Безжалостный взгляд из-под очков в стальной оправе. Аккуратные усы. Чувственные губы. Нервные пальцы. Даллс уже должен был знать о том, что Филипп Стилвелл мертв, его партнер Макс Шуп должен был немедленно послать телеграмму в Нью-Йорк. Что-нибудь неопределенное, подробности в личном письме. Херст представил себе, как Даллс берет машину с водителем — изменение во времени давали такую возможность — и направляется в имение Стилвелла в Коннектикуте, чтобы передать новости.
Чувствовал ли он приближающуюся угрозу? Знал ли он, что этот скандал — и его избежание — зависели от способности его фирмы заставить замолчать Салли Кинг?
Ее нашла Таси Волконская, возвращавшаяся на рассвете из клуба «Шахерезада».
Дверь в квартиру Салли была приоткрыта, и в затемненный коридор лился синий свет. Таси слегка постучала по дереву и позвала bonjour[10], хотя ей больше всего хотелось проскользнуть в свою квартиру. Но Салли не отвечала, и она забеспокоилась. Она вошла в маленькую студию.
Квартира была вверх дном.
Бумаги, шарфы, одежда и книги лежали в беспорядке на полу, продукты в жестяных банках, зерна кофе и чернила были вывалены и вылиты на ковер. Даже нижнее белье Салли было брошено на один из стульев Луи Кинце, те самые, которые они с Филиппом нашли на блошином рынке и покрасили в белый цвет в духе Элзи де Вульф. Сама Салли лежала, словно королева, на диване, который служил ей и кроватью. С некоторым раздражением Таси поняла, что она уснула, несмотря на весь этот беспорядок, как шаловливый ребенок. И тут она увидела фиолетовые следы на шее Салли.
Она осторожно пробралась через комнату в своих танцевальных босоножках. Некоторое время она в нерешительности стояла над распростертым телом, словно боялась потревожить умершую. Глаза были закрыты, и Таси посчитала это хорошим знаком, так как у всех трупов, которые она видела до этого, глаза были широко открыты. Он подняла одно запястье Салли и попыталась нащупать пульс.
Позже, когда консьержка мадам Кольбаут перестала кричать, когда сирена скорой помощи затихла вдали, направляясь в больницу для иностранцев, Таси задержалась в пустой квартире Салли и закурила. Было трудно понять, с чего начать. Она подняла пару книг, поставила их на аккуратные полки возле стены, вернула на место вазу и выбросила увядшие цветы, фрезии, купленные на рынке в Иль Сент-Луи — это, должно быть, ее Филипп подарил ей; белые цветы разных сортов всегда наполняли ароматом коридор. Может, это ее любовник поставил ей эти синяки и сбросил с полок книги?
Сквозь сигаретный дым Таси начала пробираться к двери. Салли могла так и не проснуться, она могла умереть enfin[11], а потом приедет ее семья, чтобы выяснить, чья это вина. Она придирчиво осмотрела квартиру в поиске… чего?
Диван, гардероб с настежь распахнутыми дверцами, ширма, за которой Салли одевалась, зеркало в полный рост. Пара стульев Луи Кинце. Газовая горелка, редко использовавшаяся, и раковина. Общая ванная была в конце холла.
Взгляд Таси упал на противогазную сумку, брошенную, словно кусок угля между гардеробом и зеркалом. Она часто завидовала тому, что у Салли был противогаз, противогазы выдавали всем парижанам, но далеко не всем иностранцам. Иметь с собой такую сумку означало принадлежать к избранным. Она снова подумала, где Салли могла взять ее. Филипп, решила она с досадой — и потянулась за сумкой.
Внутри был свернутый противогаз — резиновая горгулья — документы Салли, ее carte d'identite[12], подтверждающая, что она была нейтральной американской гражданкой. Светловолосые девушки должны были быть осторожны в эти дни: было известно, что повсюду — немецкие шпионы, их называли «пятая колонна», и поэтому блондинов постоянно останавливала полиция.
Она отправила Салли в больницу без удостоверения личности, это станет проблемой для бедной девушки; но tant pis[13], Салли ни за что не удастся доказать, что Таси копалась в ее вещах; ее считали мертвой, когда ее увозила карета скорой помощи. Таси положила удостоверение в карман — ее знакомая еврейка могла отдать все что угодно за нейтральные документы. Она еще покопалась в сумке в поисках паспорта. На дне лежало сорок девять франков мелочью. Сигареты. Пудреница. Помада ярко-розового цвета.
И единственная визитка, на которой было написано: «Джозеф В. Херст, Посольство Соединенных Штатов Америки».
Таси поджала губы и взяла карточку за уголок. Ближайший телефон был в табачном магазине на углу улицы Сент-Жак, и звонить скорее всего было еще слишком рано. Она должна сделать что-нибудь более подходящее ко времени. Сварить кофе. Решить раз и навсегда, как и что рассказать.
— На Салли Кинг напали.
Буллит поднял взгляд от стола, где он изучал передачу из Белого дома, и посмотрел на фигуру в дверях. Херст стоял, опершись руками о косяки двери и вытянув голову вперед, словно борзая. Посол боролся с искушением оторвать ему голову за вторжение, но его заинтриговало яростное выражение лица молодого человека. Буллит никогда не видел, чтобы Херст выходил за пределы своих дипломатических манер — даже когда они разговаривали наутро после катастрофического отъезда Дейзи. Буллит восхищался почти английским равнодушием Херста к боли. Сегодня он стал свидетелем далеко несдержанного поведения.
— Садись.
Херст не обратил на него внимания, меря шагами широкий турецкий ковер, который Буллит отыскал на базаре и положил перед столом в память о дворце на Босфоре.
— Она в больнице для иностранцев с проломленным черепом и синяками на шее, как будто кто-то пытался задушить ее. Они не теряли времени, не правда ли?
— Они?
— Те, кто убил Стилвелла! Вы не можете отрицать взаимосвязи, сэр! Женщина, которая звонила, — соседка — сказала, что квартира Салли была перевернута вверх дном.
«Итак, теперь Салли?»
Буллит задумался и произнес:
— Что-нибудь украли?
Херст в нетерпении пожал плечами.
— Бог его знает. Она еще не пришла в себя — она может никогда… Мы столько времени потеряли!
— Ты думаешь, здесь есть связь с бизнесом «Салливан и Кромвелл»?
— Конечно!
— Или случайное нападение на женщину, которая пришла домой слишком поздно и одна?
Херст недоверчиво уставился на него.
Буллит погрузился в свое большое кресло и взял инструкции Рузвельта, лежавшие слева от него. Его очки для чтения лежали справа.
— Предоставь это мне, Джо. Что скажет полиция о смерти Стилвелла?
Тем утром Херст приехал в посольство ровно в семь тридцать, и Буллиту сказали, что молодой человек даже не дождался кофе и уехал с французом по имени Пети в prefecture de police[14]. Полное имя Пети было Пьер Дюпре, язвительный метис, который носил темно-синий берет и работал последние десять лет в посольстве. Он сам рассказал послу о поездке.
— Это точно то, что мы ожидали, — настаивал Херст, — Смерть Стилвелла — случайность, а его подруги — самоубийство. Потом последует вскрытие.
— Но ты же не веришь этому.
Херст наконец подошел к самому столу Буллита.
— Мисс Кинг рассказывает нам свою версию, сэр, и несколько часов спустя ее чуть не убили. По ее квартире — словно бульдозером прошлись. Кто-то что-то искал. Что-то, что они уже и не надеялись найти.
— Чего ты от меня хочешь, Херст? Чтобы я позвонил премьеру Рейно и попросил объяснений?
— Вы могли бы позвонить суперинтенданту полиции, сэр.
Со стороны двери в кабинет посла послышался сухой кашель, прервавший их беседу. Херст обернулся, Буллит удивленно вскинул брови, увидев своего помощника Роберта Мерфи.
— Что такое, Боб?
Мерфи бросил взгляд на лист бумаги.
— Мы получаем отчеты о перегруженных поездах голландских и бельгийских беженцев, прибывающих на Северный вокзал. Эвакуационные поезда Красного Креста, полные женщин и детей. Большинство из них — ранены или мертвы.
— Мертвы?
— Немцы, вероятно, взорвали железнодорожные пути. Несмотря на тот факт, что на поездах было написано «Дети. Красный Крест», — глаза Мерфи встретились со взглядом Буллита. — Выживших отправляют в больницы, сэр. Я хотел бы, чтобы Херст отправился по госпиталям — поговорил, с кем сможет — чтобы выяснить, что знают эти люди о наступлении нацистов. Это единственные подлинные свидетельства с фронта, которые мы можем получить.
— Чертовы сукины дети, — пробормотал Буллит, а затем внимательно посмотрел на Херста, — Джо, почему бы тебе не начать с больницы для иностранцев?
— Только возьму шляпу, — тихо сказал он.
— Еще одно, сэр, — прервал его Мерфи, когда Буллит снова сел разбирать телеграмму от президента. — Я понимаю, что в такое утро, как это, подобное будет неуместно, но он не захотел уходить.
— Кто?
— Мистер Макс Шуп, юрист из «Салливан и Кромвелл». Он хочет вас видеть.
Глава восьмая
То, как он стоял в ожидании у двери, напомнило Херсту кардинала: наблюдая молча и глядя оценивающе из-под тяжелых век. Макс Шуп пришел на бой и только что выиграл первый раунд. Билл Буллит согласился встретиться с ним.
— Макс. Какое удовольствие, — Буллит поднялся и протянул ему руку. — Полагаю, мы не встречались с самого рождественского приема. Как дела у Одетт?
— Хорошо, господин посол, — ответил Шуп, — хотя, конечно, она переживает из-за немцев. Она помнит 1914 год.
— Отправьте ее на время обратно в Нью-Йорк.
Шуп натянуто улыбнулся.
— Я сомневаюсь, что она поедет.
— Вы знакомы с моим секретарем, Джо Херстом?
— Мы встречались на Рождество.
Шуп сел на стул, абсолютно игнорируя молодого человека.
Херст горел неприятием к нему. Он хотел схватить Шупа за белый воротник и спросить: «Кто из вас пытался задушить ее прошлой ночью?»
— Что мы можем для вас сделать, Макс? — спросил Буллит.
Юрист положил шляпу на коленку, аккуратно сложил руки.
— Ну, Билл, у нас в «С. и К.» случилась неприятность. Один из наших молодых сотрудников прошлой ночью внезапно скончался от сердечного приступа.
— Филипп Стилвелл.
— Значит, вы знаете. Полиция…?
— Полиция, — согласился Буллит. — Херст уже говорил с Сюрете.
Тщательно пряча глаза, Шуп скользнул взглядом по лицу Херста. Херст почувствовал, как расчетливый интеллект юриста прощупывает его, словно руки в перчатках. Он решил озадачить его.
— Прошлой ночью мисс Кинг приходила в посольство и рассказала нам, что ее жениха убили.
— Убили? — выражение лица Шупа не изменилось. — Какое странное утверждение. Я полагал, что он… переутомился.
— Сейчас она в больнице с проломленным черепом, — подытожил Буллит.
— Бог мой, — легкая дрожь пробежала по телу юриста, но он тщательно скрыл это, повернувшись в кресле. — Что случилось?
— Кто-то пытался задушить ее, — сказал Херст. — Этот человек что-то искал. Квартира мисс Кинг перевернута вверх дном. Вы знаете, чего он хотел, мистер Шуп?
Макс Шуп не ответил.
Херст медленно пересек комнату и остановился возле кресла Шупа.
— Ваш юрист мертв, его подруга серьезно ранена. Это не совпадение. И нельзя просто отмахнуться от этого. Лучше будет, если вы расскажете нам, что происходит в «Салливан и Кромвелл», пока не погиб кто-нибудь еще.
Шуп скривил рот.
— Мне так и хочется сказать, что на все дальнейшие вопросы я буду отвечать только в присутствии своего адвоката. Но я сам юрист, не так ли? Так что этот номер не пройдет.
Он определенно защищал кого-то или что-то: коллегу, юридическую фирму, себя? Херст ждал, его взгляд был сосредоточен на неподвижном лице юриста. Он буквально чувствовал, как Шуп составляет свои осторожные ответы.
— Можете ли вы пообещать мне, что все сказанное мною, не покинет пределы этой комнаты?
— Нет, — с сожалением покачал головой Буллит. — Мой первый долг — служить президенту, Макс, и ты это прекрасно знаешь. Но я могу сохранить твое доверие, не нарушая его — и я это сделаю. Слово джентльмена.
— Если у меня будет хоть один повод поверить, что Филиппа Стилвелла убили и что в этом замешаны вы, — сказал Херст, — я сделаю, черт, все возможное, чтобы увидеть вас на виселице, мистер Шуп. Слово джентльмена.
— В этой стране для этого используется гильотина, — Шуп придержал шляпу за край пальцем, не меняя выражения лица. — Очень хорошо, я воспользуюсь этой возможностью. Вы знаете, что Фостер Даллс, наш управляющий партнер в Нью-Йорке, официально закрыл парижский филиал в прошлом сентябре, когда между Германией и Францией была объявлена война.
— Но вы все еще каждый день ходите на работу. И прошло восемь месяцев. Что вы там делаете?
— Превращаем сено в золото. Пока немцы не ворвались во Францию и не превратили его в дым.
— Что это значит?
— Еврейский бизнес, еврейские банки. Еврейские компании, которые управляют некоторыми из самых влиятельных корпораций в Европе. Миллионы долларов активов и биржевые и финансовые взаимоотношения будут поставлены под угрозу, когда нацисты вторгнутся во Францию, что, как мы все знаем, они и сделают через несколько недель.
— Но Гитлер конфисковал у евреев бизнес, — возразил Херст. — Так произошло повсюду: в Чехословакии, Австрии, Норвегии, самой Германии.
— Точно, — согласился Шуп. — Именно поэтому последние восемь месяцев мы работали день и ночь от имени наших еврейских клиентов. Подделывая бумаги, по которым все их активы и финансовые и деловые материалы в настоящее время принадлежат владельцам из нейтральных стран. Из Швеции, например. Испании или Португалии. А в некоторых случаях даже из США.
— Вы думаете, нацисты потерпят это, когда проследят происхождение бумаг?
Шуп мягко взглянул на него.
— Национал-социалистическое правительство всегда уважало собственность нейтралов. Фокус в том, чтобы заполучить достаточно нейтралов на свою сторону. Мы должны найти партнеров-финансистов, готовых исполнять функцию поддерживающих компаний в смутный период. Это было сложно. Фальшивая передача прав имеет определенную долю риска — или губительное увлечение благотворительностью. Семья Валленберг очень помогла нам в Швеции, но они крайне практичны, и мы не можем быть уверены, что они будут соблюдать договоренности после окончания войны.
— Как это?
— В каждом случае существует негласное условие о том, что когда война закончится, еврейские партнеры получат свои активы обратно.
— И ваши еврейские клиенты готовы пойти на это?
Шуп кивнул.
— Некоторые да. Те кто работали с нами дольше всех, и те, которые отчаялись. Есть и другие… Я заметил, нежелание верить в самое худшее. Желание считать, что Франция остановит немцев и бизнес пойдет своим путем, как прежде. Своим я нарисовал другую картину будущего, но не все они следуют моим советам.
— Даллс в курсе того, что вы делаете?
— Да, — улыбнулся Шуп. — В конце концов это — бизнес. Фостер знает, как делать деньги, лучше, чем кто-либо в мире.
Буллит засмеялся.
— Не только он.
— Филипп Стилвелл работал над проектом по переводу еврейской собственности? — спросил Херст.
— Да.
— Мог ли кто-нибудь убить его из-за этого?
Шуп сложил руки, словно Поуп, провозглашающий доктрину невиновности.
— Убить Филиппа, чтобы предотвратить перевод имущества некой компании, вы хотите сказать? Конечно, есть менее радикальные способы. Например, подождать недельку до прихода немцев и совсем нас прикончить.
— Вы были в квартире Стилвелла прошлой ночью, — настаивал Херст. — Почему?
— Филипп просил меня прийти. Он хотел обсудить личное дело.
— Дело Роже Ламона.
Впервые Шуп сам того не желая скользнул взглядом по лицу Херста. Он не ожидал такой атаки; он думал, что полностью удовлетворил их этим бредом про перевод имущества.
— Дело Ламона нельзя продолжать, — процитировал Херст. — Это аморально, это нелегально, и это потопит всех нас.
— Я не думал, что вы шпион, мистер Херст, — Шуп резко поднялся со своего места. — Это был частный разговор между Филиппом и мной. Я думал, что имею дело с честными людьми.
Херст достал из нагрудного кармана сложенный лист бумаги.
— Стилвелл послал это мисс Кинг перед смертью. Она отдала это мне прошлой ночью. Он был еще жив, когда вы приехали на Рю Риволи вчера ночью?
Шуп колебался. Он бросил взгляд на Билла Буллита, который сидел в своем кресле за столом и смотрел в потолок, терпеливо ожидая развязки драмы. Шуп вздохнул.
— Если вы говорили с Салли, вы знаете, как я нашел его, — он провел тонкой ладонью по глазам, вспоминая. — Я не мог поверить, я никогда не думал, что Филипп… Сначала я решил, что это самоубийство. Нечто, чем он решил бросить мне вызов, хотя никогда в жизни я не смогу сказать, почему. Но теперь я уже не знаю…
«Так как если он действительно был убит, ты — подозреваемый номер один», — подумал Херст.
— Кто-нибудь еще был в квартире, когда вы пришли туда?
— Нет. Дверь была приоткрыта. Я вошел и увидел тело, висящее на люстре и скорчившееся в очень странной позе, мужчина с высунутым языком; я никогда не видел ничего подобного, даже во время последней войны, и я позвал Филиппа. Не получив ответа, я заставил себя войти в спальню….
— Он был теплым?
Брови Шупа слегка поднялись.
— Простите?
— Вы касались кожи Стилвелла? Он был еще теплым?
— Я… Да, я дотронулся до шеи Филиппа, слева, мне кажется, и попытался нащупать пульс. Ничего. Но он был теплым, да.
— Что вы тогда сделали? Налили себе выпить?
— Что? Нет, боюсь, я… ушел. Я пошел вниз поискать консьержку, мадам Блум, и попросить ее вызвать полицию. А все остальное вы знаете.
Последовала короткая пауза.
Затем Буллит уронил стул и спросил хрипло.
— Ламон. Как насчет Ламона?
— Я не знаю. Я никогда о нем не слышал. Филипп был мертв.
— Но вы наверняка догадываетесь, — квадратная голова Буллита угрожающе наклонилась вперед, глаза, не мигая, смотрели прямо в лицо Шупу. — Расскажите мне об этом парне. Он из Нью-Йорка, верно?
— Да. Изучал юриспруденцию в университете Колумбии. До этого Принстон. Капитан университетской команды. Не был женат, но всегда пользовался популярностью у женщин — одна из причин, по которой он переехал в Европу. Роже отказался от партнерства прошлой осенью и уплыл в Канаду. Британцы дали ему звание майора, я полагаю.
— Как воспринял это старый Фостер Даллс?
Шуп колебался.
— Конечно, Фостер не интересовался этим. Но, думаю, и не одобрял. Он разослал предупреждение о том, что те, кто уйдет из фирмы, чтобы отправиться на войну, по возвращении не будут приняты на прежнюю работу.
Буллит разразился смехом на всю комнату.
— Настоящий патриот и джентльмен, не правда ли? Боже ты мой.
— Но этот бизнес, — продолжал нажимать Херст, — аморальный и нелегальный, который потопит вас всех, и о котором Стилвелл хотел поговорить? Что это?
Теперь Шуп заметно напрягся. Он продолжал что-то защищать.
— Одним из заданий Филиппа в последние месяцы было архивирование папок, которые хранила фирма. Большинство из них принадлежало Ламону. Он привез их с собой из Германии, когда закрыли берлинский офис.
— Ламон работал в Берлине? — быстро спросил Херст.
— Несколько лет. — Шуп посмотрел на Буллита. — Роже руководил восстановлением немецкого офиса после прошлой войны. Долговые платежи американским банкам. Что-то в этом роде.
— Затем он приземлился в Париже со списком нацистских клиентов, когда берлинский офис закрыли, — сделал вывод Буллит. — И он уехал восемь месяцев назад, как только началась война с Францией, чтобы убивать тех же самых немцев. Интересно.
Шуп наклонил свою седую голову.
— Я спрашивал Морриса об этом, но он не смог объяснить.
— Морриса? — повторил Херст.
— Эмери Морриса. Одного из наших поверенных. Эмери работал с Роже Ламоном в Берлине и знал его дольше всех.
— Понятно. Что случилось с бумагами Ламона, мистер Шуп? С теми, которые архивировал Филипп Стилвелл?
Юрист закусил губу, словно пытаясь проглотить слова.
— Я искал их сегодня, — ответил он, — но они просто… исчезли.
Позже, в те несколько минут, что оставались у него перед поездкой по городским больницам, Херст сел и набросал телеграмму Аллену Даллсу в Нью-Йорк.
Глава девятая
После занятия любовью Мемфис снова погрузилась в тяжелое подобие сна, раскинувшись, обнаженная, лицом вниз, распластав руки, как пугало, не обращая внимания на Спатца или на солнечный луч, который уже пробивался сквозь тяжелые занавески. Кровать была антикварная, как и вся мебель в квартире графини, слишком большая для изящных форм семнадцатого века, но не для королевы амазонок или ubermensch[15] из Нижней Саксонии. Ей снился пенис Спатца, она чувствовала его, толстый, мощный и сверхудовлетворяющий, и когда она, раздвинув ноги, изогнулась, чтобы поймать ритм, она явственно ощутила, как его пенис становится острым — как человеческая плоть превращается в сталь — как он, словно кинжал наносит удары и пронзает ее плоть. Она закричала.
И тут же села, дрожа, все еще находясь в полусне.
Спатц не пошевелился.
А она действительно кричала? Или страх, который прятался у нее внутри, сдавил ей горло? Она уставилась на Спатца — профиль идеальной формы, каскад светлых напомаженных волос, морщинки в уголках глаз. У нее была привычка разглаживать эти морщинки кончиками пальцев, потому что возраст был единственным слабым местом мужчины; Спатц был, возможно, на двадцать лет старше ее, и дряблость его кожи была единственным недостатком его прекрасной аристократической внешности. Но она обхватила себя руками и думала: «Почему я боюсь тебя? Потому что ты немец? Или потому, что у тебя на ладони пятно крови?»
Она натянула простыню на грудь и снова легла тихо, как мышка, и продолжала думать. Кровь могла появиться от чего угодно: из-за пореза или занозы. Да, прошлой ночью он уехал из клуба «Алиби» не попрощавшись, и где его носило после этого до того момента, как она появилась в этом доме по улице Фабур в четыре утра, но это не означало, что он ушел и ранил кого-нибудь. Она отбросила мысль о смерти Жако, бегстве Рауля и нашествии немцев — нашествии немцев…
Спатц был немцем, да, но нацистом ли? Нет. Он никогда не принадлежал к числу тех, кто третировал своих женщин и называл это политикой, когда подбивал им глаз. Этот толстозадый юрист и все его вопросы окончательно прогнали сон Мемфис.
— Что именно делает Спатц в немецком посольстве?
— Оно закрыто, мистер, с тех пор, как началась война. Спатц — человек с собственными средствами. Как и большинство моих мужчин.
Она вспомнила, как лежала на кровати Жако, как темно-зеленый бархат ее платья смешивался с синим шелком покрывала, и как Макс Шуп расхаживал по комнате, словно судья.
— Встречается ли он с кем-либо в клубе «Алиби»?
— Он встречается со мной. Спатц — постоянный посетитель. У него свой столик. И это недешево, скажу я вам.
— С кем он проводит время? С другими немцами?
— Иногда. Иногда с французами, иногда с англичанами. Сегодня вечером он был с американцем — худощавый невысокий парень с усами, как у Гитлера. Не знаю его имени.
— Я знаю, — сказал Шуп.
Мемфис плотнее завернулась в простыню, вспоминая каменное лицо юриста. Выражение, которое, как ей казалось, бывает у ку-клукс-клановца перед тем, как его лицо исчезнет под капюшоном, взгляд обвинителя. Какие-то двадцать простых вопросов и чек на тысячу долларов у нее в руке исчезли во внезапном приливе страха, и ей захотелось поскорее убраться из комнаты покойного.
Поэтому она рассказала ему то, чего юрист не просил ее рассказывать, слова сами слетали с ее губ.
— Американская крыса, тот, кто уже не выпьет шампанского со Спатцем сегодня вечером? Только один раз я видела его за кулисами клуба «Алиби», он занимался мастурбацией с красавчиком Жако в его гримерной.
Салли Кинг очнулась в больнице для иностранцев от света весеннего солнца, который лился через больничное окно. Она поморщилась и отвернулась: боль, словно молния, пронзила ее череп.
— Салли, — услышала она где-то рядом голос: добрый, но с нотками назидания, как голос учителя или родителей, — Мисс Кинг.
Неохотно она снова открыла глаза. Прямая длинная, как дорожка для боулинга, только в три раза шире, палата, а в самом конце — дверь. Кровати, на которых лежали женщины, стояли по обе стороны вдоль стен комнаты. И один мужчина, который сидит на стуле, скрестив ноги, с букетом лилий в руке. Взгляд Салли скользнул по его лицу, которое показалось ей смутно знакомым.
— Джо Херст, — напомнил он ей. — Мы встречались в посольстве прошлой ночью.
— Конечно…
Она попыталась сесть и зря. Ее глаза слипались, и она аккуратно, словно яичную скорлупу, погрузила свою голову на подушку на больничной кровати, судорожно вспоминая. Ей хотелось пить, она ощущала пульсирующую, непрекращающуюся головную боль, и такое смущение, что пыталась сообразить в одежде она или нет.
— Что случилось?
— Я надеялся, вы мне расскажете.
Теперь голос был приятно удивленным с примирительными интонациями, голос любовника, отвергнутого в пылу раздражения.
— Было темно, — громко сказала она. — Кто-то разбил лампочку в коридоре. Он схватил меня за шею.
— Кто?
Она пожала плечами и попыталась сосредоточиться.
— Я похожа на знойную красотку, мистер Херст?
— Кровавые преступления стали очень часты в это время. Вам повезло, что вы остались живы.
— Я потеряла сознание.
— Не по своей воле. Вы помните, как он выглядел? Человек в коридоре?
— Высокий. Выше меня, что встречается нечасто. Может, шесть футов. И сильный. Его руки были, как тиски. Но кроме этого…
— Молодой? Старый?
— Ни то, ни другое. Есть вода?
Он встал и потянулся за кувшином, затем наполнил стакан, держа его своими тонкими, длинными пальцами. Все это время они молчали. В наступившей тишине Салли смотрела на Херста, движения которого были необычайно экономными. Он показался ей спокойным: Херст демонстрировал отличное самообладание.
Он послушно подождал, пока она допила, а потом спросил:
— Волосы светлые? Темные? Усы есть? Или борода?
Она боролась с глупым желанием расплакаться.
— Светлые. Усов и бороды нет.
— Рабочий? Бандит?
— В вечернем костюме… Английский пошив, не французский, — воспоминание пришло к ней внезапно, как неожиданный подарок. — У него был белый шелковый шарф на шее. И глаза были блестящие, как у птицы. Они сверкнули, когда он взглянул на меня.
Джо Херст не стал сразу задавать следующий вопрос. Он достал из нагрудного кармана носовой платок и предложил его Салли. Значит, она плачет; должно быть, это реакция на боль или на то, что к ней вернулось сознание, или на осознание того, что произошло с Филиппом — внезапно воспоминание о мертвом теле Филиппа снова вернулось к ней, и она заплакала еще сильней, охваченная беспомощным отчаянием.
— Это из-за Филиппа? — она всхлипывала, вытирая лицо. — Это из-за него они пытались убить меня?
— Я думаю, они что-то искали в вашей квартире, — сказал Херст. Веселость и уверенность исчезли из его голоса, и он снова превратился в бесстрастного дипломата. Она сочла, что не очень уместно возвращать ему промокший платок, который он дал ей, и потому крепко сжимала его между пальцами. «Он искал что-то. Копался в моих вещах».
— Значит, — сказала она осторожно, — что бы они ни искали, этой вещи не было в квартире Филиппа. Иначе он не пришел бы ко мне.
— Возможно, это так. Филипп отдавал вам что-нибудь на хранение, мисс Кинг? Документ? Что-то из юридической фирмы, может быть?
Она покачала головой.
— Ничего, даже кольца.
Графиня приехала в свою парижскую квартиру в десять часов утра и остановилась у входной двери с собственным ключом в руке. Ее шофер Жан-Люк вынимал ее вещи из багажника автомобиля, который она предпочитала водить сама, и почтительно стоял вместе с ее горничной на расстоянии трех футов за спиной графини, пока она возилась с непокорным ключом. Когда она распахнула дверь и, пройдя в фойе, начала снимать перчатки и шляпу, на ее изящном кукольном личике были заметны следы усталости из-за раннего часа отъезда и смены часовых поясов, из-за удручающих новостей с фронта, которые она узнала по приезде в город. Жан-Люк остановился в дверях квартиры графини и произнес равнодушно: «Мадам».
Она повернула голову и, ей хватило несколько шагов, чтобы оказаться рядом с ним: с неподвижным от изумления лицом она рассматривала спящую в ее кровати пару. Вызывающе пахло сексом, выпивкой и табаком.
— Очень хорошо, Жан-Люк, положи сумки в комнату господина Ле Конта, — сказала графиня ровным голосом, но, когда отвернулся, он подумал, что ему послышалось взрывное «batard»[16], сказанное графиней шепотом.
Глава десятая
Как и многим парижанам, Пьеру Дюпре надоел долгий экономический кризис, и он наполовину симпатизировал Гитлеру. Это было не потому, что социалисты под руководством Блума не давали никаких поблажек Франции — может быть, сейчас было самое время дать фашизму шанс. И в этой войне, в которую они ввязались, все из-за чьего-то обещания Польше, стране, которую Пети никогда не видел и никогда не хотел видеть! Безусловно, сепаратный мир был выходом из ситуации. Больше никаких боев с Англией, которых он повидал достаточно, когда ему было семнадцать, и он работал врачом в траншеях где-то под Верданом. Нет, Пети уже говорил Херсту: отдайте Эльзас Адольфу и верните парней домой.
Но из-за отступления французской армии этим утром он был в раздражении. Вспоминал старые времена. Себя самого, с открытым ртом, во Фландрии, и облако горчичного газа в воздухе.
Во всем были виноваты дети, он был уверен в этом, — все эти пустые, испуганные и глупые лица, смотревшие на него из окон госпиталя. Им было от полутора до двенадцати лет, некоторые из них теперь сироты и живут в чужом городе, их безопасный голландский мирок превратился в ад под атаками мессершмиттов. Медсестры рассказали ему, что многие матери погибли — голландки, фламандки — они подставляли под пули себя, защищая детей. Пети был знаком звук пули, проходящей через плоть, отскакивающей от стальных рам и врезающейся в пухлое кожаное сиденье. Пять поездов было обстреляно, когда они убегали на юг через Бельгию, и морг заполнялся быстро; для опознания на Лионском вокзале была организована временная площадка. Конечно, некоторые семьи были просто разделены: мать в больнице, дети оставлены где-то в окровавленных вагонах; но в той парижской суматохе, и при том давлении, которое оказывало правительство, требуя, чтобы всех беженцев немедленно отправляли в провинцию, как знать, встретятся ли они когда-нибудь?
— Что слышно, Пети? — спросил Херст, выезжая в большой машине из больницы для иностранцев. — Кто-нибудь из нас выберется живым?
— Вам нужно собирать вещи, босс, — ответил он. — Сейчас. Взять машину и бежать на юг, пока не закрыли дороги. Это не ваша война.
— Буллит мне не позволит. Для него это — предмет гордости: «Ни один американский посол никогда не бежал из Парижа». Что означает, что никто из сотрудников не может уехать. Он пообещал ФДР[17] не высылать его, если правительство распустят. Я думаю, он надеется на мученическую смерть на баррикадах нацистов. Он уже продиктовал письмо президенту, которое следует отправить в случае его смерти.
— Это не тема для шуток, — возразил Пети, — Вы слишком молоды, чтобы помнить прошлую войну. Чертовы фрицы — просто мясники, поверьте мне. Конечно, мы будем защищать город до последнего вздоха, но танки… Если фронт уже прорван…
— Есть одна большая проблема с линией Мажино, — объяснил Херст. — Она не такая длинная. Рядом с Арденнским лесом есть небольшая брешь, и если Гитлер отправит свои танки туда, мы все обречены. Те кто сидят там, дома, представляют себе нечто вроде Великой китайской стены, а на самом деле граница с Бельгией — это всего лишь ряд оборонительных башен с сигнальными флагами и азбукой Морзе. Вы, французы, привыкли к окопной войне и пехоте. Но грядущая война будет в воздухе.
Воздушная война. Это означало бомбы, старинные здания Парижа будут разрушены, как на кадрах польских кинохроник, которые видел Пети. Клоки волос и обломки костей, воткнувшиеся в кожаные сиденья поездов, трехлетние дети, раненые и парализованные ниже пояса. Пети достал кисет с табаком и папиросную бумагу, одной рукой закрутил сигарету, а другой ощупал пистолет в кармане. Он взял его с собой, чтобы защищать босса; говорили, что беженцы воруют машины и откачивают бензин. Пети нравилась машина босса, темно-синий «Бьюик 37», привезенный из Нью-Йорка на корабле «Нормандия», двухместный, с откидным верхом, с задним сиденьем и хромированной решеткой радиатора, широкой и длинной, как нос океанского лайнера. «Уехать из Парижа. Собраться и уехать. Я не смогу смотреть, как "бьюик" прошьют очередью из автоматов».
— Если немцы придут с воздуха, лучше, если у нас будут те самолеты, которые обещал l'ambassadeur[18], — предположил он, внимательно Посмотрев на Херста. — Говорят, их две или три тысячи. Ожидаются со дня на день.
Херст не ответил. Он обгонял запряженную лошадьми повозку, груженую мебелью, но, в любом случае, ответить было нечего. Хвастаясь, Буллит рассказал премьер-министру Рейно, что Соединенные Штаты могут предоставить им воздушный флот, но у Рузвельта не было двух тысяч самолетов, чтобы одолжить их Франции и даже Черчиллю, не говоря уже о нейтралитете Америки, о движении Линдберга[19] «Америка прежде всего» и о борьбе президента за переизбрание на осенних выборах. Пети понимал, что из-за Атлантики помощи ждать не приходится. Но когда его copains[20] или соседи просили, он намекал на то, что это — секретные сведения. План на случай непредвиденных обстоятельств. Уверенность, на которую у него не было права. Он предупредил свою Эммелин, чтобы та в любой момент была готова уехать на побережье.
Парижский морг находился там же, где и всегда, сразу за набережной Рапе в двадцатом округе, недалеко от Лионского вокзала, куда прибыл один из обстрелянных бельгийских поездов, груженый ранеными и убитыми. На другом берегу Сены напротив морга в радиусе двух миль находились пять больниц, и Херст должен был посетить их все. Он вел машину, а Пети бормотал что-то о мессершмиттах и Вейгане[21] и марш по марнским болотам[22] двадцать лет тому назад. Херст наполовину слушал, наполовину следил за движением, которое было плотнее обычного. Париж пребывал в движении, по улицам ехали машины с привязанными к крышам матрасами. У некоторых из автомобилей были бельгийские номера, но большинство тех, кто мог уехать из Брюсселя на юг, уже сделали это, промчавшись через город под покровом темноты. Он вспомнил о жене, которая осталась в Риме и которую он не любил. Последний раз он получил он нее весточку месяц назад, когда Норвегия сдалась немцам. Она пребывала в отчаянии, так как у нее не было документов, чтобы уехать в Нью-Йорк, и спрашивала, не может ли Херст или посольство помочь ей. Он не ответил тогда на ее письмо, и теперь, глядя на беженцев, везущих вещи на тележках и колясках, он чувствовал угрызения совести и свою вину.
Он оставил машину прямо перед моргом, Пети встал перед машиной, подняв пистолет, как будто в любой момент из-за угла могли выскочить нацисты.
— Не волнуйтесь, босс, — сказал старый француз, пожевывая сигарету уголком рта. — Я постерегу машину.
— Буллит — твой босс, — повторял ему много раз Херст. — Боб Мерфи — твой босс. Согласно этому тотемному столбу я располагаюсь ниже.
Но Пьер Дюпре не обратил на это внимания, и обращение «босс» накрепко прилипло к нему, несмотря на все попытки Херста.
Одно время морг был знаменит своим анатомическим театром, salle d'exposition[23], где тела выкладывались на мраморные плиты, омываемые снизу холодной водой Сены, природный способ охлаждения. Более миллиона туристов каждый год собирались поглазеть на это жуткое зрелище, некоторые из них получали почти сексуальное удовольствие от увиденного. Но в 1907 году salle закрыли, да и эротические пристрастия Херста были из другой области. Везде стояли носилки, некоторые были прикрыты, некоторые выставлены для опознания: женщины любой внешности и возраста, бессмысленно глядящие в никуда. Хорошо одетые женщины, женщины, которые успели накраситься, прежде чем посадить своих детей в поезд Красного Креста и направиться в Париж, женщины, которые, быть может, мечтали о посещении магазинов на Рю Сент-Оноре, перед тем как взять билеты и стать беженцами. Женщины в возрасте, одетые в черное, женщины, которым было не больше двадцати. Одна девушка лежала лицом вниз, черные вьющиеся волосы спутались на затылке. Херст посмотрел на ее острые выступающие лопатки из-под летнего платья; смотрел на ее бледную кожу. Ему не хотелось видеть ее лица.
— Стилвелл, — произнес человек в белом халате с планшет-блокнотом в руке, провожавший его в передний зал. — Доктор Мориак проводил вскрытие. Tant pis[24], доктор ушел обедать.
Херст оставил Пети сторожить «бьюик», окруженный толпой мальчишек, чьи родители еще не выслали их из Парижа, и проследовал за доктором в кафе рядом с железнодорожной станцией. У Мориака были мягкие черты лица, роскошные усы и голова в форме яйца, как у Буллита, и сияющая торпедообразная лысина. Он предложил Херсту присоединиться к обеду из жареного ягненка, бобов, молодого картофеля и белого вина из Лотарингии; от еды Херст отказался, но присел на стул напротив доктора.
— Вы хотите знать, когда отдадут тело, да? — мягко сказал Мориак, отправляя в рот кусочек нежного розового мяса. — Его семья — в Америке?
— Для посольства это — обычное дело, — согласился Херст. — Но посол лично заинтересован в этом деле.
— Понятно. Ему нравятся pedes[25]?
Херст проигнорировал провокацию и произнес:
— Посол знаком с отцом Стилвелла.
Мориак надул губы, кивнул и принялся за картошку.
— Что вы хотите знать?
— Как он умер?
Карие глаза доктора взглянули прямо на него с нескрываемым злорадством.
— Он затрахал себя до смерти.
— Доктор…
— Хотите подробностей? Молодой человек умер от сердечного приступа. При осмотре его сердца можно было понять, что оно всю его жизнь не отличалось особым здоровьем. Возможно, повреждение сердечных клапанов вследствие перенесенной в детстве болезни. Ревматический полиартрит. Скарлатина. Не могу сказать. Касательно содержимого его желудка, то я бы добавил, что он проглотил столько порошка из шпанской мухи, что хватило бы и слона свалить.
Увидев выражение непонимания на лице Херста, доктор нетерпеливо добавил:
— Вы называете их шпанскими мушками. Считается, что они стимулируют потенцию, так? Но это средство местного применения, просто для d'excitation[26], не для приема внутрь. У молодого Стилвелла должно было быть сильное расстройство кишечника перед тем, как он умер. Воспаление внутренних органов очень сильное. Также это объясняет и то, почему пенис был все еще активен после смерти. Он был просто naif[27] или дурак, и поплатился за это.
— Мог ли он проглотить это ненамеренно? Скажем… в напитке?
Мориак пожал плечами, работая челюстями.
— Возможно. Желудок был не слишком полным. Остатки обильного обеда, бифштекс.
— Какие-либо следы насилия на теле?
— Конечно, его били, но мы должны принимать во внимание, что это нормально для той компании, в которой его нашли. Его руки были связаны, я видел шрамы на запястьях. Шрамы кровоточили, так что он вряд ли получал удовольствие от подобных забав.
У Херста все сжалось внутри. Связан и отравлен, возможно, он стал невольным свидетелем повешения человека по имени Жако, и его слабое сердце, готовое выскочить из груди от страха, — вот последние моменты жизни Стилвелла. Может, ему рот заткнули, чтобы он не кричал?
— Если я принесу вам бокал из квартиры Стилвелла, вы сможете определить, был ли напиток отравлен шпанскими мушками?
Мориак допил вино.
— Вы путаете меня с химиком, monsieur le diplomate[28]. Советую вам обратиться к этому специалисту. А я должен возвращаться к работе. Как вы заметили, морг переполнен — гнусные немцы — я уезжаю из Парижа сегодня ночью.
— Les vacances[29]? — спросил Херст с иронией.
— Mais oui[30], — Мориак был невозмутим. — К другу, его дом расположен на границе с Испанией. Я сообщу полиции, что смерть Стилвелла произошла вследствие естественных причин. Можете отправлять его домой, когда захотите.
Глава одиннадцатая
— Мистер Моррис уже пришел? — спросил Макс Шуп.
Мадам Ренар, женщина, которая действительно была управляющей парижского филиала «Салливан и Кромвелл», чуть не подпрыгнула, когда Шуп неожиданно появился за ее столом. Она ненавидела его бесшумную походку, ей казалось, что он за ней подглядывает. Почти двадцать лет ее идеально завитая светловолосая голова склонялась, как при молитве, за столом в приемной, придавая жалкому интерьеру здания некоторый шик. Мадам не жаловала американцев — инфантильных, постоянно подтрунивавших друг над другом, слишком громко разговаривавших, с чересчур раскованными и фамильярными манерами. Своим стандартам она выучилась от матери, неприступной женщины, и в кровати Томаса Кромвелла — старшего партнера-основателя «С. и К.», который открыл парижский филиал прежде всего для собственного удобства. Мсье Томми, как называла его Джейн Ренар, большую часть жизни провел в своей огромной квартире на Булонском бульваре, пережил невзгоды гражданской войны, переехав в Ритц, после чего три года тому назад уплыл в Нью-Йорк, чтобы никогда уже не возвращаться. А мадам Ренар в своем безупречном платье осталась, и весь мир превратился в предмет ее презрения.
Кроме Макса Шупа. От одного только оценивающего взгляда его глаз у нее начинали бегать мурашки на спине.
— Мсье Моррис не счел нужным появиться, — ответила она. — Мсье Кэнфилд все утро отвечал на звонки его клиентов. Пришло сообщение от жены Морриса. Я положила его вам на стол.
Шуп заглянул в открытую дверь кабинета Фрэнка Кэнфилда, был слышен тихий разговор, которым, видимо, он был занят. В остальных комнатах было темно. Кабинет Роже Ламона был пустым, Филиппа Стилвелла — тоже; комната Моно пустовала с тех пор, как французский юрист завербовался в армию. «Штат сокращается один за одним, — подумала Джейн Ренар. — Скоро и мне надо будет подумать об уходе».
— Есть какие-нибудь следы пропавших папок?
Она холодно уставилась на Шупа.
— Нет. У них же нет ног. Они не могут сначала прятаться, а потом появиться, когда мы меньше всего этого ожидаем. Документы украли из этого офиса. Это более чем очевидно. Может, когда мсье Моррис придет, он нам расскажет, зачем.
Брови Шупа изогнулись, удивившись ее дерзости. У него даже и в мыслях не было, что она кого-то подозревает после пропажи документов.
— Думаю, — осторожно произнес он, — вам нужно зайти ко мне в кабинет. Мне нужно надиктовать вам телеграмму. В Нью-Йорк.
Она взяла карандаш и блокнот и проследовала за ним в кабинет и направилась к любимому деревянному креслу, несколько отстоявшему от стены, чтобы с угрожающим и бескомпромиссным видом сесть перед прекрасным бидермайерским[31] столом Шупа. У него было столько секретов, у этого Шупа, его молчание стоило так дорого. Она тихо сидела и внимала с видом молящегося. Немцы приближаются, и все американцы скоро побегут домой. Она почти физически ощущала панику отъезжающих, которая витала в кабинете Шупа.
Он закрыл дверь кабинета, взгляд механически скользил по сообщению от жены Эмери Морриса: «Муж нездоров и останется дома до выздоровления».
— Вы распространили сообщение о смерти мистера Стилвелла? — спросил он таким тоном, как будто говорил о прогнозе погоды или обеденном меню в Ритце.
На безупречном лице мадам Ренард появился первый изъян; появились морщинки и глаза наполнились слезами.
— Бедный мальчик. Это из-за сердца, правда? Кто знал? Он казался таким здоровым и сильным. Мой отец ушел из жизни так же…
— Да, хорошо, — оборвал ее Шуп. — Сегодня утром я говорил с посольством. Все уже готово. Репатриация останков. Вы закажете венок. Что-нибудь для семьи, с именами сотрудников. Соболезнования. Его можно будет отправить вместе с гробом.
Она сделала короткую запись карандашом в блокноте.
— Я прослежу за всем.
— Что-нибудь еще пропало? — спросил Шуп. — Что-нибудь, кроме вещей Ламона?
— Я не прочесывала помещение. Денег не взяли. Ящики не сломаны. У того, кто это сделал, был ключ.
— Ваш ключ?
— Возможно дубликат.
— Вы знаете об этой конторе больше, чем кто-либо. Вы знаете, в каких коробках полазили, каких из работ Ламона не хватает…
Ее глаза сузились, как у сиамской кошки.
— Месье Шуп, вы же не хотите сказать, что я прервала свой сон и отправилась грабить офис посреди ночи? Если на то пошло, то у меня и так хватает дел по дому, прежде чем эти чертовы немцы ворвутся в Париж и сделают нашу жизнь ничтожной, вы понимаете? Я могу сейчас же уйти!
Она нервно забарабанила пальцами.
— Мне нет нужды дожидаться месье Морриса, и объяснять, что он сделал с собственностью фирмы. Меня это не волнует, comprendez-vous[32]?
Ее проницательность — этой пятидесятилетней женщины с чувственностью работницы борделя, кипящей под строгим костюмом — насторожила его. Шуп не хотел сосредоточивать свое внимание на Моррисе. Или примешивать его к исчезновению документов. Или к смерти Стилвелла. Он не даст мадам Ренар повода распускать слухи среди сотрудников.
Он сидел на своем стуле, соединив кончики пальцев и наклонив седую голову — идеальный образ стареющего юриста — и думал о роли в этом деле Мемфис Джонс. О том потоке слов, который она вылила на него прошлой ночью, и о галерее образов, которую они разбудили: Моррис на коленях в строгом костюме от Сэйвил Роу, и пенис танцора кабаре в его руках. Тот же самый танцор, повешенный в комнате Филиппа Стилвелла. Шуп пожевал губами, словно пробуя на вкус вино. Главное, по его мнению, было не в том, чтобы понять, а в том, чтобы локализовать проблему. И свести до минимума ущерб для фирмы.
— Мне просто интересно, Джейн, знаете ли вы, какие документы исчезли.
Она продолжала сидеть прямо на стуле, ее ухоженные пальцы сжимали блокнот.
— Все документы мистера Стилвелла… И… папки «Ай Джи Фарбениндастри».
— «Ай Джи Фарбен», — повторил он. — Немецкая фирма.
— Да.
Шуп почувствовал внезапный приступ тошноты. Чтобы подавить его, он достал нож для писем и принялся задумчиво вертеть его в руках, словно мог прочесть будущее по его полированной поверхности. «Салливан и Кромвелл», особенно Роже Ламон, были юрисконсультами международного картеля химических мануфактур, одной из которых была «Ай Джи Фарбениндастри». В картель также входили американская фирма, «Элайд Дай энд Кемикал Индастриз»; бельгийский концерн «Сольвей и К°»; а также британская химическая компания. Четыре корпорации имели большие запасы на складах друг друга, а руководящие чины были настолько перемешаны, что их едва можно было различить; но все эти отношения рухнули восемь месяцев назад под топором войны. «Ай Джи Фарбен» перестала быть клиентом «С. и К.». Украденные папки теперь представляли интерес только для историков. Но только ли для них?
— За неделю до отъезда месье Ламона документы были в работе, — добавила мадам Ренар.
Несмотря на эмбарго фирмы на немецкий бизнес. Шуп перевел взгляд с ножа для бумаг на лицо женщины.
— Почему?
Она пожала плечами.
— Я узнала бы об этом последней. Месье Ламон никогда не прибегал к услугам секретаря. Он печатал все сам, vous voyez[33].
Он вспомнил эту привычку Ламона, шутки, которые был вынужден терпеть этот нью-йоркский житель, сравнения с машинистками и военными корреспондентами, печатающими новости с фронта — предположение о том, что на самом деле это его мемуары, или «Великий американский роман», который он сочиняет за закрытой дверью своего кабинета. Он всегда относился ко всему со свойственной ему мудростью, не позволяя Джейн Ренар делать за него его работу.
«Это Джейн, — подумал Шуп, — это она распустила слухи о том, что Ламон презирает женщин».
Шуп был юристом по ценным бумагам. Он разбирался в финансах, а не в химикатах. Он никогда не работал с Ламоном, Моррисом или их клиентами. Но как управляющий партнер парижского филиала он должен был быть в курсе всех дел, которые проходили через его контору. Что производила «Ай Джи Фарбен»? Красители, конечно. Нитраты. Это был новый способ извлекать никель из золота — Ламон работал над этим патентом несколько лет назад. И Моррис тоже.
Нелегально. Аморально. Потопит нас всех…
Тот надоедливый тип в офисе Буллита — Херст. Он задавал сложные вопросы. У него назойливые манеры и он не отступит — Шуп знал такой тип людей. Всегда попадались клиенты, которые не шли на компромисс, которые не понимали, что жизнь всегда возвращает то, что было потеряно, что фирмы и войны существуют, несмотря на интересы отдельных людей и их смерти…
— Как насчет телеграммы, месье Шуп? — спросила мадам Ренар. — Той, которую вы собирались мне продиктовать в Нью-Йорк?
Он уставился на нее, как будто видел ее в первый раз. «Фирмы и войны, — подумал он, — они должны существовать».
— Мистеру Джону Фостеру Даллсу, — начал он. — Ходят слухи, что вчера немецкая армия перешла реку Мез. Точка. Прошу разрешения закрыть филиал и как можно скорее эвакуировать персонал фирмы из Парижа. Точка…
Консьержка Филиппа Стилвелла была горбатой седоволосой женщиной по имени Леони Блум. Она пристально и подозрительно посмотрела на Джо Херста, когда тот постучал в маленькую дверь, выходившую во двор красивого старого здания, где жил Филипп Стилвелл, и спросила его, не немец ли он.
— Американец, — ответил он на своем дипломатическом французском, — из посольства.
— Он — шишка из Вашингтона, ты, старая мышь, — ворчал Пети за спиной Херста. — Немец, скажешь тоже!
Он часто сталкивался с такими невежественными людьми, как мадам Блум, и полагал, что «босс» взял его с собой именно для этой цели.
Она повернулась к стакану, в котором хранились ее искусственные зубы, решительно вставила их себе в рот и ответила на вульгарном французском, которым разговаривал Пети:
— Я подала документы на визу два месяца назад. Хочу навестить свою племянницу в Америке. И с тех пор я ничего не получила. Ничего! Думаю, вы пришли, чтобы вручить мне все лично?
— Вы подавали на визу?
— Конечно! Два месяца назад! А вы об этом ничего не знаете? Никто ничего не знает, когда дело касается старой еврейки, и приближаются нацисты. Но у меня есть племянница! И она живет в Нью-Джерси! Вы не можете запретить мне навестить ее!
— Не буду даже пытаться. Я не из консульского отдела, — объяснил Херст. Он достал свою визитку и протянул ей. — Я пришел поговорить о вашем квартиранте. Филиппе Стилвелле.
— Бедный мальчик, — сказала она коротко. — Вы пришли куда надо. У меня есть кофе. Коньяк.
Он попросил Пети остаться у машины, а затем последовал за Леони Блум в темное и тесное помещение, которое она называла домом.
— Бедный Филипп, — повторила она, доставая чашки и бокалы. — Всегда был таким хорошим мальчиком. Всегда таким уважительным. И так закончить…
Она остановилась на секунду и внимательно посмотрела на него, зажав в руке бутылку коньяка.
— Вы знаете, как он умер?
— Я знаю, каким его нашли.
— Ужасно, — она покачала головой. — Я видела. Когда тот адвокат позвал меня — месье Шуп. Он трясся, как лист на ветру. Бледный, как гусиное перо. И неудивительно! Я до сих пор не могу в это поверить.
— Вы не знали, что мистер Стилвелл был…
— Pede[34]? Нет. Он любил ту девушку, красивую, которая показывает одежду. А потом такое зрелище и в моем доме! Это неправда. Я не верю в то, что случилось с бедным Филиппом.
— Я тоже, мадам Блум. Поэтому я здесь.
Она налила Херсту немного коньяка и предложила ему черный, как нефть, кофе. Из вежливости он попробовал и то, и другое. И был приятно удивлен качеством напитков.
— Они опечатали ее, — сказала она, — квартиру Филиппа. Только я могу провести вас туда.
Если это был намек на взятку, то Херст его проигнорировал.
— Полиция возвращалась?
— Нет, — под ее взглядом Херст сделал еще глоток коньяку. — Вы говорили, что не из консульского отдела, но, может быть, вы там кого-нибудь знаете?
— Конечно, — ответил он.
— И без сомнения, вы точно знаете, где сейчас немцы, и когда отходят последние поезда в Шербурский порт?
Херст засмеялся.
— Я знаю о продвижении немцев не больше вашего, мадам Блум. Но я могу представить, что вы уже выучили расписание.
— Мой брат живет в Мюнхене, месье. Ему семьдесят восемь лет. Я уже два года ничего о нем не слышала. Говорят, что он в трудовом лагере. В трудовом лагере! Что он может там делать, я вас спрашиваю, в семьдесят восемь лет? Копать канавы? — она вдруг схватила его за рукав. — Я должна уехать из Франции. Никто мне не поможет, месье. Но я должна уехать из Франции, вы меня понимаете? Моя племянница…
— Где живет ваша племянница, мадам?
— Это место называется Байонн, — она произнесла название на французский манер; оно было похоже на французское, подумал Херст.
Он достал из кармана записную книжку и открыл ее на чистой странице.
— Напишите ее имя и адрес. Я попробую узнать насчет визы для вас.
Мадам Блум пристально посмотрела на него. Херст понял, что она ему не доверяет. Возможно, ей слишком много раз обещали помочь и забывали об этом в ту же секунду. Он подумал, что если Филипп Стилвелл ей что-то обещал, он уже не может это исполнить.
— Напишите, — сказал он, — даю вам свое слово.
Она налила себе еще и залпом выпила.
Через десять минут он стоял в светлой комнате с высоким потолком, которую так любил Стилвелл, невольно думая о том, как смотрелась Салли на фоне этих стен.
В комнате царил беспорядок, мебель сдвинута по углам, чтобы можно было пронести носилки, ковер истоптан чужими ногами. Полиция убрала оба тела и сделала их фотографии, произвела нужные измерения, а все остальное оставила нетронутым. Подразумевалось, что кто-нибудь из юридической конторы или Салли соберут вещи Филиппа и отправят их домой.
Он прошел через гостиную, сознательно избегая пространства под люстрой, где был повешен человек с Монмартра, и занялся изучением стеклянных бокалов.
— Вы всегда сидите за своим столом на входе, мадам Блум? — спросил он консьержку.
— Я сижу там с девяти утра до ужина, — сказала она, стоя в дверях, — что обычно бывает в шесть часов. Я слушаю радио — оно помогает мне убить время.
— Вы видели мистера Стилвелла вчера?
— Он ушел чуть позже девяти — он был такой веселый, всегда здоровался со мной — затем я видела, как он вернулся где-то около трех часов. Это было странно. Он пришел слишком рано.
Херст достал белый носовой платок из кармана и аккуратно поднял один из бокалов. На дне осталось немного сиропа карамельного цвета. Во втором бокале было то же самое. Он повернулся и поискал мусорную корзину, которую описала Салли — это должно было быть нечто перевернутое на ковре, содержимое разбросано по полу. Он ничего не нашел. Возможно, полиция все забрала.
— И вы видели, как пришел Макс Шуп?
— Адвокат? Он пришел сразу после того, как я решила пойти поужинать.
— Где-то в шесть, — предположил Херст.
— Примерно без пяти минут.
— Не в половине пятого?
Она подняла брови.
— Нет, месье. Я сказала, перед ужином.
Но их встреча была назначена на четыре тридцать. Странно.
— Когда приехал второй человек?
— Какой?
— Парень, который умер вместе со Стилвеллом.
Она опустила глаза.
— Я не знаю. Полиция спрашивала то же самое. Это, должно быть, произошло где-то между тремя и шестью часами, когда появился мистер Шуп, да? Я же не всегда сижу за столом. Может быть, меня отвлек торговец, он принес посылку для мадам Ле Камьер, на третий этаж, у которой недавно родился ребенок. Все эти шаги! Он торопился, и я согласилась отнести цветы мадам и остановилась на минутку полюбоваться ребенком…
В квартиру Филиппа Стилвелла могло войти сколько угодно людей, подумал Херст, и спокойно убить его. Даже Шуп мог это сделать. И вернуться в шесть, чтобы обеспечить себе алиби.
В раздражении он прошел в спальню и уставился на разобранную кровать. Он то представлял голову Салли на подушке, то туманный образ Стилвелла, связанного и лежавшего на кровати с эрекцией, как у слона. Но страха он не чувствовал. Даже если Стилвелл превратился в привидение, то здесь его все равно нет.
Он повернулся к мадам Блум.
— Мне нужно взять с собой эти стеклянные бокалы в гостиной. Не могли бы вы принести мне сумку?
Она нехотя сделала ему это одолжение. В ее отсутствие он снова принялся бродить по квартире. На этот раз он думал о том, как ответить на утреннюю телеграмму, которую он нашел на своем стуле после обеда.
ФИЛИПП СТИЛВЕЛЛ ЗАНИМАЛСЯ ФИНАНСОВЫМИ СДЕЛКАМИ: БАНКОВСКИМИ, ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. ТОЧКА. НЕ ЗНАЮ МИСТЕРА ЛАМОНА ЛИЧНО, НО УВЕРЕН, ЧТО ОН СТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК. ТОЧКА. ПАРИЖСКИЙ ОФИС НАДО ЗАКРЫТЬ КАК МОЖНО СКОРЕЕ И ЭВАКУИРОВАТЬ ПЕРСОНАЛ. ТОЧКА. ИЗБЕГАЙТЕ ПОСРЕДНИКОВ И ОБРАЩАЙТЕСЬ ЛИЧНО КО МНЕ. АЛЛЕН ДАЛЛС
Херст нашел мусорную корзину за креслом в дальнем углу гостиной. Она была абсолютно пуста.
Он опустился на колени, пошарил по ковру и, когда порезался осколками стекла, то не смог сдержать торжествующего крика. Вырвав страницу из записной книжки, он сложил ее пополам и собрал мелкие осколки. Затем он скрутил бумагу и положил в карман.
— Месье, — Леони Блум появилась в дверном проеме с хозяйственной сумкой в руках, — Вы спросите про мою визу?
— Конечно.
— Тогда я вам кое-что расскажу, — она облизала губы, обнажив ровные, как у лошади искусственные зубы. — Это пришло. С утренней почтой.
Она достала конверт из манильской бумаги.
— Месье Стилвелл отправил это письмо два дня назад. Сегодня оно вернулось. Его не смогли доставить по адресу.
Конверт был тяжелый и толстый, как будто в нем было много документов. Херст посмотрел на адрес.
— Месье Жак Альер, — прочитал он вслух. — Банк Парижа и Нидерландов.
ФРАНЦУЗСКАЯ ИНТРИГА. Вторник, 14 мая 1940 г. — среда, 15 мая 1940 г.
Глава двенадцатая
Жак Альер больше не работал в Банке Парижа и Нидерландов. Ему выдали униформу и на время войны перевели в неудобный тесный офис на цокольном этаже Министерства вооруженных сил. Окна, находившиеся на уровне земли, были заклеены черной бумагой и обложены мешками с песком, по цвету и форме напоминавшими сосиски. В комнате была плохая вентиляция, и воздух был наполнен сигаретным дымом и запахами других людей. Все это сильно напоминало ему траншею, где он провел большую часть 1917 года.
Альер все еще страдал клаустрофобией после прошлой войны, и теперь он вспотел, прочитав утреннее письмо, которое было отложено и забыто в суматохе дня. Потный, с сигаретой, догоревшей до его пальцев, он прилагал усилия, чтобы сохранить нормальное выражение своего лица с мягкими чертами.
Для тех, кто должен был нести дежурство на случай наступления немцев, были установлены походные кровати, хотя было всего четыре часа дня, и ходили слухи о начале контрнаступления французов. Альер надеялся, что отпустят домой, даже если ему придется возвращаться во время воздушной атаки. Он бы закричал, если бы его заставили находиться в этой душной комнате с печатными машинками, стучавшими, как пулеметные выстрелы.
— Танки уже пробились через наши укрепления, — говорил кому-то Дотри за дверью. — Пробили бетон, как стекло, и заодно всех наших лучших людей. Мы отступаем. Нам нечем защитить Париж, кроме двух миллионов тел.
Тоже мне контрнаступление.
Альер не отрывал глаз от газеты, сидя за утренним кофе в своем любимом кафе. А другие в тот момент кричали, погибая под колесами немецких танков.
Пепел сигареты обжег ему кожу. Вздрогнув, он сложил бумажку вчетверо и бросил в мусорное ведро. Заголовок на последней странице внезапно привлек его внимание.
— Альер, — министр в нетерпении хлопнул дверью его кельи. — Моп Dieu[35], только вы можете читать новости, когда весь мир рушится!
— Тот американец, — он сунул заголовок под нос Дотри. — Его нашли мертвым в своей квартире. Это же не несчастный случай? Как и исчезновение моего прикрытия по пути в Норвегию?
Темные глаза Дотри пробежали строчки и безобидную фотографию Филиппа Стилвелла.
— Немцы напали на твой след. У нас есть осведомитель, peut-etre[36], даже не один. Что означает, что ты и вся лаборатория Жолио будете на пути из Парижа уже на рассвете, понимаешь?
Альер кивнул, облегчение прохладной волной растеклось по его телу. «Все, что угодно, лишь бы уехать отсюда». Тут он понял, что широко улыбается Дотри, как идиот, и его внутренний крик перешел в истерический хохот.
Он шел прямо в лабораторию «Коллеж де Франс»: ряд комнат, где Фредерик Жолио-Кюри возился со своим странным аппаратом и своими чудаковатыми друзьями. Альер никогда раньше не интересовался физикой, пока восемь месяцев назад молодой американец, лежавший теперь в парижском морге, не пришел к нему в Банк Парижа и Нидерландов. Он постучал в его дверь со странной улыбкой на лице и пачкой документов под мышкой. «Извините, месье Альер, но мне сказали, что вы являетесь менеджером по инвестициям, который отвечает за «ГидроНорск». Если у вас есть минутка, я хотел бы поговорить…»
Затем последовала краткая лекция о достижениях в области физики, скорость и количество возникновений которых можно было сравнить с продвижением немецких самолетов за последние месяцы. Об открытии немца по имени Отто Хан, что атом урана может распадаться надвое. Предположение датского ученого Нильса Бора на лекции в старом колледже Стилвелла о том, что когда такой атом распадается, он запускает цепочку, обладающую гигантской силой и мощнейшей энергией. Слово «бомба».
— «ГидроНорск» производит тяжелую воду, — терпеливо объяснял молодой Стилвелл, — Вы знаете, что это очень сложное производство, и очень недолговечный продукт, так что некоторые люди — и один из них ваш нобелевский лауреат, Жолио-Кюри — полагают, что эта вода может снизить скорость частиц. Контролировать их. И этой цепной реакцией можно управлять…
Альер занялся делом «ГидроНорск» для того, чтобы наточить зубы в банковских делах. Это была небольшая компания, расположенная на берегу отдаленного залива где-то на севере, не проявлявшая интереса ни к кому, кроме ученых, которые производили их тяжелую воду. Банк Парижа и Нидерландов владел 65 процентами их акций.
— Пусть Альер возьмет «ГидроНорск», — сказали банковские менеджеры, уверенные в его невежественности. — Вряд ли он это осилит.
Он осилит, но для Филиппа Стилвелла.
Газеты сообщали о том, что американец был просто «найден мертвым», ничего об убийстве или даже насилии, но Альер задумался, энергично шагая на окраину Сен-Жермен, подвергся ли Филипп насилию перед своей смертью.
Если бы он заговорил, если он выдал хотя бы одну десятую того, что было у него в голове, всем им уже грозила бы опасность. Возможно, решение Дотри о переезде пришло ему в голову слишком поздно.
«Кто был осведомителем? Кто? Кто? Кто-нибудь из министерства, один из иностранцев в лаборатории Жолио, или сам Жолио…?»
Альер зашагал быстрым шагом, не обращая внимания на любопытные взгляды прохожих или на то впечатление, которое он производил: ищущий чего-то худой человек, безобидный, в испарине.
Неподалеку от входа в Люксембургский сад он вдруг остановился, словно у него под ногами взорвался патрон.
Навстречу ему, опустив голову, шел Фредерик Жолио-Кюри с выражением невероятной сосредоточенности на волевом лице. Он шел по одной из тропинок сада, словно в мире ничего больше не существовало, кроме уравнения, которое он мысленно решал.
Перед тем как окликнуть физика по имени, Альер заколебался. Он бросил взгляд на часы. Уже час или два как стемнело.
Он пошел вслед за ним.
Ее выписали из больницы для иностранцев, так как она настаивала, что чувствует себя хорошо, и доктор согласился, что двоение у нее в глазах прошло. В любом случае, больница нуждалась в еще одном свободном месте. Он слышала истории об обстрелянных поездах, как их оттаскивали на обочину по пути из Бельгии во Францию, выбрасывая убитых и раненых, растерянных и плачущих детей. Она ловила обрывки фраз на французском, неуверенно шагая по комнате в халате, за ней наблюдали фламандка и голландка. Большинство из тех, у кого были менее серьезные травмы, сидели на стульях около ординаторской, и Салли поняла, что они провели там весь день. Если бы ее не привезли до рассвета, с ней бы не стали столько возиться.
Она мельком взглянула на бланк, который ей дали подписать, в висках стучало. Ее отправили в больницу без одежды и противогазной сумки, что означало, что при ней не было ни документов, ни денег, но она поняла, что в больнице действовала гибкая система; сколько беженцев находилось в подобном положении?
— Вы отправите мне счет? — спросила она, стараясь говорить с достоинством.
— Он уже оплачен, — ответил медсестра, — джентльменом, который позвонил и сказал, что заберет вас домой.
Херст, подумала Салли, ее сердце екнуло, и она оглянулась, но увидела суровую фигуру Макса Шупа, который проходил через двойные двери коридора.
Она постаралась придать лицу невозмутимое выражение, хотя ее сердце забилось быстрее. Шуп был одет в темное пальто и аккуратно завязанный белый шелковый шарф, и на секунду она снова пережила то мгновение, когда стояла в дверном проеме своей квартиры, а к ее горлу тянулась пара рук.
— Салли, дорогая, — он протянул ей руку, она была сухая и прохладная на ощупь. — Я так сожалею о случившемся. Одетт очень зла на меня. Я ни за что не должен был отпускать вас той ночью одну домой.
— Но что вы могли сделать? — резонно ответила Салли.
— Да, — он надул губы. — Я понимаю, вы не поехали сразу к себе домой. Вы заехали… в посольство.
— Да, — Салли вспыхнула, впервые осознав, как воспринял Макс Шуп ее импульсивный визит в резиденцию посла — хотя она и не доверяла Шупу и подозревала в убийстве каждого работника «С. и К.». Но кем он ее считает: маленьким ребенком, которого надо контролировать и выговаривать за то, что она не послушалась папочку? Ее смущение переросло в гнев. Мужчины, они всегда пытаются руководить моей жизнью…
— Тем вечером, увидев Филиппа, мне стало так одиноко, — четко произнесла она. — Все эти французские полицейские, они выгнали меня из комнаты, даже не ответив на вопросы… Мне нужно было поговорить с кем-нибудь из американцев. Беспристрастный слушатель.
— Я понимаю, — взгляд Шупа равнодушно блуждал по изгибам ее шеи, как будто он разглядывал барельефы в Лувре. — Не очень умно оставаться одной. Я пообещал Одетт привезти вас прямо к нам, чтобы вы могли нормально поесть и выспаться на удобной кровати. Вы взяли с собой свои вещи?
— Я лучше поеду домой, — ей было стыдно за свою грубость, — я очень устала, Макс. Сегодня из меня плохая компания, и из вещей у меня только этот халат.
— Глупости, — его холодные пальцы схватили ее за локоть. — Одетт не будет со мной разговаривать, если я приеду без вас. Она одолжит вам какую-нибудь одежду.
В ее душе появилась тень сомнения. От него невозможно было отделаться, тем более он оплатил больничный счет. Конечно, все из-за Филиппа: Шуп хотел помочь невесте Филиппа, если не смог предотвратить убийство.
— Меня не убедили, — сказала она быстро, когда они спускались по лестнице, — факты насчет смерти Филиппа. В гостиной были бокалы…
— Обо всем этом уже позаботились, — прервал ее Шуп, — я говорил с полицией сегодня утром. Они признали это несчастным случаем. Они готовы вернуть останки.
— Но…
Он холодно посмотрел на нее.
— Скандала не будет, Салли. Я забронировал тебе билет до Нью-Йорка на торговом корабле «Клотильда», который отходит из Шербура. Вы отплывете вместе с телом Филиппа на борту в четверг днем.
— В четверг? Я не готова уехать из Франции всего через два дня. А как же моя работа… и все мои вещи…
— Я отправлю кого-нибудь к вам на квартиру, чтобы все собрать, — сказал Шуп. — Вы останетесь с нами до отъезда.
— Но мне нужно домой!
— Зачем? — его взгляд пронзил ее, так что она невольно отступила назад, схватившись рукой за стену.
— Вы что-нибудь оставили там? Что-нибудь важное?
В ее голове, словно предупреждение, зазвучал голос Джо Херста.
«Филипп что-нибудь оставлял вам на хранение, мисс Кинг?»
— Документы и паспорт, — сказала она Шупу. — Они были у меня в противогазной сумке. И мне нужна одежда…
Лицо адвоката расслабилось.
— Насколько я понимаю, вашу сумочку украли. Вы не найдете документы. Но Одетт будет рада походить с вами по магазинам.
В конце концов, она молча пошла с ним. И сразу же начала думать о побеге.
Глава тринадцатая
Графиня Луденн так и не попросила горничную распаковать вещи. Она не стала обсуждать с поваром меню, но, когда она, держа в одной руке сигарету, села со своим двоюродным братом обедать, из ее уст не вылетело ни одного резкого слова. Она наклонила голову, когда черная богиня уходила в своем бархатном вечернем платье, но ничего не сказала, обнаружив Мемфис в своей кровати. Фон Динкладж проводил девушку до двери.
— Давай уедем из Парижа, — быстро проговорила Мемфис, когда он поцеловал ее в щеку. — Найди машину, Спатц. Увези меня отсюда. Никто тебя не тронет, ты же немец.
— Встретимся в клубе сегодня вечером, дорогая.
Она схватила его за ворот пиджака. Но больше не смогла произнести ни слова. Она вдруг поняла, что, похоже, ее власть имеет свои пределы, и она растерялась, осознав это. Как ребенок, который слишком долго просидел на утомительной вечеринке.
— Я буду там около полуночи.
Он мягко подтолкнул ее к выходу, поправил галстук, глядя в декоративное настенное зеркало, которое занимало почти всю стену, и вернулся к графине.
— Ты, определенно, устроился, как дома, — раздраженно произнесла она.
— Разве она не прекрасна?
Он задрал свою птицеподобную голову, блестя напомаженной золотой головой.
— Она джазовая artiste[37].
— Понятно, — она затушила сигарету о край своей чашки и уставилась на пепел. — Я надеялась, что у тебя хватит ума уехать отсюда, Спатц. До моего возвращения. Слуги не любят этого, ты же понимаешь — немец в доме, а хозяин на фронте.
Он засмеялся, в возбуждении подошел к подоконнику и оперся на него.
— Тебя никогда не заботило мнение слуг.
— Нет, — их глаза встретились. — Хорошо, в таком случае, мне это не нравится. Немец в доме, когда хозяин на фронте.
— Скоро весь Париж будет заполнен немцами.
— И ты мне это говоришь? У тебя еще хватает наглости находиться в моем доме.
— Это не наглость, — поправил он ее. — Это шарм. В любом случае, мы всегда говорили друг другу правду…
Она позволила ему взять ее за подбородок и заглянуть в свои глаза, Спатцу, который всегда заботился только о себе.
— Это не значит, что мне нравится, когда повсюду — немцы, — сказал он резонно. — Я не просил их приходить. Так в чем же дело? Ты не обижена на мой… маленький спектакль?
— Я напугана, и все, — резко сказала она, стоя на расстоянии от него в центре гостиной. — Джек в Париже, ты знаешь?
«Джеком» мог быть любой из сотни разных людей, неважно какого социального уровня, или из какой страны, но для графини и Спатца это имя означало только одного человека, и это был Чарльз Генри Джордж Говард, двадцатый граф Саффолка, который как-то играл в поло со Спатцем в Довилле.
— Сумасшедший граф? Это имеет какое-то отношение к британскому правительству, полагаю.
— К Британскому директорату научных и промышленных исследований. Он, быть может, и дикий, абсолютно сумасшедший, — но он предупредил меня держаться от тебя подальше, Спатц. И сказал, что ты замарал руки.
— Нелл, он думает только о паре револьверов, которую он называет «Оскар» и «Женевьева», — его голос был необычно легким, — и пьет шампанское с утра до вечера…
— Джек сказал, что ты в опасности.
Беззаботное выражение на его лице испарилось.
— Слава Богу, нет.
— Тогда какого черта ты тут делаешь, когда нацисты наступают? Что ты собираешься делать, Спатц? Скоро бежать будет уже некуда. И ты не сможешь работать на них. Не сможешь.
— Тогда, возможно, я договорюсь с Джеком, — предположил он.
Она была предельно спокойна.
— Что ты имеешь в виду? Ты будешь помогать… британцам?
Он пожал плечами, словно крыльями.
— Если будет такая возможность. Если будет, что продать.
Она скривила рот.
— Бог мой, какие же у тебя иногда бывают грязные мысли. Для тебя нет ничего и никого святого?
— Ты, например, Нану, — это было ее детское прозвище, как напоминание о далеком прошлом.
— О, прекрати.
— Ты могла бы мне помочь.
— Я? — она повернулась к нему с недоверием. — Как я могу помочь? Джек помешан на науке!
— Ты знаешь людей, — он обнял ее за плечи и развернул к себе, — Ты могла бы достать мне кое-что для продажи.
— Так вот почему ты еще здесь, да? Чтобы использовать меня, — она сделала долгую паузу. — Хорошо. Говори, что я должна делать.
В конце концов она отправила Жан-Люка за машиной и уехала ночевать в отель.
Человек по имени Ганс фон Галбан видел, как она стояла на тротуаре перед открытой дверью машины, с отсутствующим выражением лица. Графиня его не знала, одежда была слишком велика для его худого тела, его карие глаза-буравчики постоянно блуждали. Она не узнала его и даже не посмотрела в его сторону. Он был сражен ее темными, блестящими волосами, обрамлявшими подбородок, и ее изящным профилем. Но затем со ступенек спустился немец и поцеловал ее в щеку, и тогда фон Галбан с некоторым отчаянием подумал: «Ах!». Спатц всегда умел очаровывать самых красивых женщин.
Эти двое мужчин встречались пятью годами ранее, когда они оба приехали в Париж, как беженцы едут в лучшие места, туда, где можно говорить по-немецки, не произнося: «Хайль, Гитлер». Спатц отлично говорил по-французски, а фон Галбан вечно чувствовал себя чужаком. У них было одно и то же имя, и одна и та же любовь к джазу. И пристрастие к прогулкам по Монмартру. Они встретились в клубе «Алиби», задолго до появления там Мемфис Джонс, во время перерыва между выступлениями, когда особенная радость говорить на родном языке разбудила в них простую и внезапную симпатию. Но если бы фон Галбан знал, что в действительности представляет из себя Ганс Гюнтер фон Динкладж, он бы вряд ли стал с ним дружить. Несколько анекдотов, пара историй. Этот мир спекуляций и инсинуаций, в котором Спатц чувствовал себя, как рыба в воде, был знаком и ему, но он никогда к нему не принадлежал.
Теперь фон Галбан стоял на тротуаре со шляпой в руке и болезненной бледностью на лице, удивляясь, зачем он пришел. Его французский всегда подводил его в моменты смущения.
— Ганс, — Спатц перешел через дорогу и протянул руку. Нацистское приветствие не для него.
— Я… надеюсь, я тебя не побеспокоил.
— Нет. Я хотел пойти выпить. Присоединишься?
— С удовольствием, — он беззвучно повернул голову в сторону незнакомой женщины, которая скользнула в машину, махнула на прощание рукой и выехала на улицу.
— Моя двоюродная сестра, — пояснил Спатц, — Графиня Луденн. Я жил у нее, пока она была в Бордо, но она неожиданно вернулась сегодня утром.
— А теперь снова уезжает?
— Она беспокоится о своем муже. Он на фронте.
— Ах, — выдавил фон Галбан. Он слышал о сестре Спатца. Но не знал о существовании мужа.
— Ты выглядишь болезненно, Ганс, — Спатц запрокинул свою светловолосую голову. — Жолио-Кюри слишком уж загружает тебя в этой лаборатории.
— Если бы только это!
Он растерянно посмотрел на широкий бульвар, удивляясь тому, что улица была совершенно безлюдной. Остальная часть города целый день была заполнена толпами людей, беженцев с севера с бледными лицами и усталой походкой, пробиравшихся вместе с детьми, собаками на поводках, одеждой и всем их нехитрым скарбом на тележках. Тележки! Для Ганса это было невероятно и удивительно, но он был парализован своей нерешительностью: остаться и поддерживать Жолио до последнего или бежать, как об этом просила его жена. Анник все равно бы уехала без него, прямо сейчас она должна была отвозить девочек к родителям за город, она сказала, что он сможет приехать к ним, когда найдет способ обеспечить им безопасность. Он не знал, как рассказать об этом Спатцу, Спатцу, который смотрел на него так, словно никто и ничто не могли потревожить его внутреннего покоя. Он был прекрасно одет и искал место, где бы выпить, как будто вся его жизнь была одним сплошным праздником.
Спокойствие квартала Пасси было нарушено внезапным шумом мощного мотора. Длинная и блестящая машина двигалась на юг по Рю де Лонгшамп.
— Бельгийцы, — заключил Спатц, — завтра они будут в Испании. У них всегда много денег, и они уезжают от проблем на своих быстрых машинах. У тебя есть машина, Ганс?
Фон Галбан покачал головой, страх сдавил ему горло.
Они шли, не произнося ни слова, по красивым и ухоженным улицам шестнадцатого округа, по Рю де Белль-Фейль, по проспекту Виктора Гюго. Площадь Трокадеро кишела автомобилями, фундамент дворца Шайо был завален мешками с песком. Спатц остановился, сунув руки в карманы брюк, и уставился на массивное здание. Оно было построено всего несколько лет назад и относилось к фашистскому стилю в архитектуре.
— В Испании о физике и говорить нечего, — сказал фон Галбан, заканчивая диалог, который был начат некоторое время назад.
— Скоро ее и здесь не останется, — Спатц отбросил окурок, — все к этому идет. Ты уезжаешь, потому что путь к славе лежит где-то еще, а ты тщеславен. Мы оба это понимаем, Ганс. Твоя жена не хочет, чтобы ты остался и работал на Гиммлера и его людей.
Генрих Гиммлер, как они оба знали, командовал СС — элитным и криминальным подразделением нацистской партии. Несколько месяцев тому назад Гиммлер и СС вынесли такой жестокий обвинительный приговор еврейским физикам, что даже Вернер Гейнзенберг — не еврей и самая большая надежда Германии по части атомной бомбы — думал, что его карьера кончена. В мире под командованием Гиммлера для Ганса фон Галбана будущего не было.
Казалось, что Спатц уже знает все самое важное, и Ганса это не удивляло. Уже несколько лет молва связывала праздного повесу Воробья с адмиралом Вильгельмом Канарисом, главой абвера — сети немецкой разведки. Спатц был шпионом. Как еще ему так легко удалось бы попасть в немецкое посольство в Париже? Как еще он мог приезжать и уезжать, словно наследник королевского трона, свободный от конвенций и ожиданий, и от нужды зарабатывать себе на жизнь? Перелетная птица. Именно поэтому они стояли на перекрестке, уставившись на громаду образца фашистской архитектуры, потому что Спатцу нужно было знать то, о чем знал Ганс.
— Ты хороший физик, Ганс, — сказал Спатц задумчиво. — Один из лучших, когда-либо рождавшихся в Европе. Конечно, ты австриец, но аншлюс сделал различие незначительным. Теперь мы все счастливые братья, живущие в Рейхе, да? На самом деле проблема в том, что твоя мать еврейка, и поэтому ни одно немецкое или австрийское учреждение не сможет нанять тебя, не нарушив закона. Verboten[38]. Ценой жизни.
Он не стал дожидаться согласия фон Галбана.
— Так что твое решение стать полностью французским гражданином и жениться здесь, возможно, было правильным. Или было бы таковым, если бы французы не решили возобновить последнюю войну вместо Гитлера. Ты знаешь, что у армии Альянса нет танков? Что они противостоят самой большой танковой армии, которую когда-либо видел мир? Ты Знаешь, что самолеты люфтваффе превосходят французские в соотношении десять к одному?
— Черчилль пошлет британские самолеты.
— Черчилль бережет каждый самолет. Они нужны ему, чтобы предотвратить вторжение в Британию. Если Франция сдастся.
Фон Галбан облизал губы.
— За границей ходит слишком много слухов. Не знаешь, чему верить.
— Пока кто-то не прочитает телеграммы, — сказал Спатц безжалостно. — Немецкое посольство закрыто, как мы оба знаем, и поверь мне, в этом городе действует подпольная немецкая сеть. Я каждый день с ними общаюсь.
— Твоя верность родине может быть под подозрением, — сказал фон Галбан в ответ. — Бог знает, что ты имеешь в виду под словом… подпольная.
— Ложь. Правда, — Спатц нетерпеливо пожал плечами, словно крыльями. — Зависит от дня. Годами я жил, опустив голову и держа свою задницу подальше от Берлина, Ганс. Но теперь Берлин стоит у меня на пороге, и, думаешь, мне это нравится? Думаешь, я хочу видеть мальчиков в форме feldgrau[39], марширующих по Елисейским полям?
— Но, — он подыскивал слова, его голова всегда была занята числами, — ты только что сказал…
— Что я покупаю время. Да. Если они поймут, что я сотрудничаю с ними, они, возможно, оставят меня в покое на достаточно долгое время, чтобы я успел сделать свои дела. Моя двоюродная сестра знает людей из британской дипломатической миссии.
Быть немцем — плохая шутка, подумал фон Галбан. Вот Спатц: типичный ариец, с подтянутой фигурой и золотой головой. Но мать Спатца была британкой, его бывшая жена была еврейкой, и, как и у самого Ганса, у Спатца была благородная приставка фон в фамилии. Любой намек на аристократическое происхождение, и ты становился зерном для мельницы Гитлера. Против Ганса фон Динкладжа существовало три компрометирующих факта, и любой из них мог быть известен в Рейхе.
Фон Галбан двинулся дальше, бесцельно, словно его ноги могли спасти его.
— Gott in Himmel[40], что же мне делать, Спатц?
— Решить свое будущее. Потому что полжизни уже прошло, и я думаю, что люди задумаются об этом через пару дней. К тому времени ты должен быть уже где-нибудь в другом месте.
— Но у меня нет денег. Нет машины. Только жена и двое детей.
— Канарис тебя не защитит? — спросил он.
Босс Спатца ненавидел Гитлера, как и все в абвере.
Спатц посмотрел на фон Галбана.
— А министр Дотри тебя защитит?
Фон Галбан кротко вздохнул. Спатц знал даже об этом: что работа Ганса в лаборатории Жолио была под защитой Рауля Дотри и Министерства вооруженных сил. Непроизвольно лицо Жолио, худое и скуластое, возникло у него перед глазами: глаза Жолио, пронзительные, как у Бога. «Ни слова, — говорил великий человек, — ни слова о том, что мы делаем, не должно выйти за пределы этой комнаты».
— Может быть, — предположил Спатц, — мы могли бы защитить друг друга.
— Как?
— Объединив наши усилия, — он остановился на мгновение, сосредоточив взгляд на кончике своей сигареты. — У меня есть деньги. Допуск к транспорту. Я могу вывезти Анник и твоих девочек. А у тебя…
— …есть информация, — закончил Ганс. У него перехватило горло так, что он едва мог говорить. — Информация, за которую определенные люди готовы заплатить. Ты ведь это планировал, Спатц. Да?
Воробей сунул свою золоченую зажигалку в карман.
— С той самой ночи, когда твои люди украли мою воду в Норвегии, — ответил он.
Глава четырнадцатая
Джо Херст уставился на конверт, лежавший у него на столе, массивные углы конверта из манильской бумаги были слегка изогнуты от неаккуратного обращения и слишком долгого путешествия. Он не знал, как поступить с этим конвертом, посланным два дня назад человеком, который теперь уже мертв. Он попытался разгадать намерения Стилвелла: взял у Леони Блум конверт и поехал в главный офис банка Парижа и Нидерландов, где спросил Жака Альера. Но ему сказали, что месье больше не работает в этом банке.
Конец истории, больше никакой информации.
Потом он подумал о Салли Кинг, возможно, теперь это письмо принадлежало ей так же, как и этому таинственному Альеру, и он позвонил в больницу для иностранцев.
— Она уехала, — сказала медсестра, — Ей позвонил джентльмен. Он оплатил ее счет.
Один в своем кабинете в консульстве, борясь с приступами ревности, Херст приступил к решению проблемы недоставленного письма.
«Джентльмены не читают чужих писем», — думал он, глядя на небрежный почерк. Генри Стимсон, дипломат, который придумал это высказывание, не признавал шпионства ни в каком виде. Стимсон сжег бы письмо Стилвелла и больше бы о нем не вспоминал.
Херст достал украшенный гравировкой нож для писем и вставил серебряное лезвие под клапан конверта.
Тут раздался стук в дверь: мягкий, сдержанный, как поцелуй в ухо. «Стучит женщина, — подумал он с надеждой. — Салли?» Он быстро убрал конверт Стилвелла в ящик.
— Войдите.
В дверном проеме появилась голова.
— Мистер Херст, полагаю?
Он вежливо поднялся и кивнул.
— А вы?
— Эмери Моррис. Из юридической фирмы «Салливан и Кромвелл», — он был коренастый, ухоженный, но чересчур чопорный. — Боб Мерфи сказал, я могу войти…
— Пожалуйста, — Херст пододвинул стул, — Вы знаете Боба?
— Думаю, все знают Боба, — заключил Моррис. Он нагнулся и втащил в дверь большую картонную коробку. — Я как-то работал на него по одному пустяковому делу.
— Вы по поводу Филиппа Стилвелла, не так ли? Морг согласился выдать его тело. Ваша фирма должна решить, хотите ли вы заказать место на корабле для его останков, и если так, то вам понадобится помощь нашего консульства. Конечно, нужно нанять сотрудника похоронного бюро и купить гроб…
Моррис посмотрел на него из-за своей коробки; его ноздри над щетинистыми усами подергивались.
— Передайте это управляющему партнеру, мистеру Максу Шупу. Я не спешу возвращаться в офис «Салливан и Кромвелл».
— Да? — Херст посмотрел на него с любопытством.
— А что касается останков молодого Стилвелла, то мне наплевать на это, сэр.
— Понятно, — он не пригласил его снова сесть. — Чем могу быть полезен?
Моррис улыбнулся.
— Нет, нет, мистер Херст. Вопрос в том, что я могу сделать, чтобы помочь вам.
— Прошу прощения?
— В этой коробке, — юрист слегка подтолкнул ее ботинком, — лежат документы из кабинета Филиппа Стилвелла, которые скопились там за последние несколько месяцев. Я выкрал их прошлой ночью, взял на себя эту ответственность, потому что, если бы не я, то Шуп сделал бы это. И Шуп, мистер Херст никогда бы не отдал их вам. Он бы их сжег. Эти документы уничтожат Макса Шупа.
— Каким образом? — Херст опустился на свой стул.
— В них записано, со всеми подробностями, как Шуп систематически нарушал Акт об американской нейтралитете, содействуя и подстрекая французское правительство в нынешней войне.
Херст разразился смехом. Они все поддерживали и подстрекали французское правительство, но не афишировали этого.
— И вы принесли эти документы мне?
— Американскому посольству следует знать, — резко сказал Моррис, — что Стилвелл был орудием в руках Шупа. На дружеской ноге с французами. Такое сотрудничество в условиях войны вряд ли укладывается в рамки политики «Салливан и Кромвелл». Мистер Фостер Даллс закрыл парижский филиал в прошлом сентябре именно для того, чтобы избежать такого рода инцидентов. Шуп врал Даллсу. Использовал собственные симпатии и интересы для прямого давления на американский закон. Стилвелл был его орудием.
— Почему вы не пошли с этим к Фостеру Даллсу?
— О, я еще сделаю это, — уверил его Моррис. — Карьере Шупа в «С. и К.» пришел конец. Но жизнь в Париже такая нестабильная, после того как немцы перешли Мез, все разбегаются отсюда на все четыре стороны. Думаю, что консульство — лучшее место для хранения доказательств. В случае если Шуп задумает бежать. Не дожидаясь, пока его осудят.
— За что? За нарушение Акта о нейтралитете?
— Нет, нет, мистер Херст, — быстро улыбнулся Моррис. — За убийство Филиппа Стилвелла.
В коробке оказалось восемь папок, по одной на каждый месяц войны, в них лежал довольно странный набор документов, какой только мог себе вообразить Херст: бумаги, исписанные Стивеллом от руки, имеющие смысл только для их автора, статьи, вырезанные, кажется, из научных журналов, короткие сообщения, подписанные М. Ш., похоже, были от Макса Шупа; письма, адресованные в Банк Парижа и Нидерландов.
Все сводилось к списку дат, который Херст нашел в последней папке и был написан Стилвеллом от руки.
Март, 1939 год
Богемия и Моравия присоединены к Германии. Пометка: этот регион является единственным источником урана в Европе, теперь он под немецким контролем.
Жолио и коллеги показывают, что расщепление атома урана одним нейтроном приводит к эмиссии больше нейтронов, чем один. Возможна цепная реакция, можно использовать как источник энергии… или взрыва.
1 апреля 1939 года: Жолио получает телеграмму от своего американского коллеги, который просит его прекратить публикации результатов экспериментов из-за начала войны в Германии.
1 мая 1939 года: Жолио получает 5 патентов на строительство и использование ядерных реакторов. Ассистенты фон Галбан и Коварски.
Июнь, 1939 год: Более пятидесяти статей опубликовано по всему миру о расщеплении атома. Эксперименты становятся опасными.
Сентябрь, 1939 год: Я приезжаю в Париж. Франция и Британия объявляют войну Германии.
Ноябрь, 1939 год.
Жолио забрали на военную службу. Капитан, Первая группа, Научное исследование.
Министр французского правительства Дотри закупает 400 кг урана у компании «Метал Гидрид Инк.», Клифтон, штат Массачусетс (клиент «Салливан и Кромвелл»). Также скуплен весь запас тяжелой воды, хранящийся на складе «ГидроНорск» в Норвегии. (65 процентов «ГидроНорск» принадлежит Банку Парижа и Нидерландов. Клиент «Салливан и Кромвелл»).
Клиенты просят совета «С. и К.». Шуп передает дело мне.
Выясняется, что тяжелая вода уже выставлена на продажу вторым акционером «ГидроНорск», «Ай Джи Фарбениндастри» (25 процентов акций, клиент «Салливан и Кромвелл». См. документы Роже Ламона).
Март, 1940 год: банковский служащий успешно проводит переговоры по ссуде акций «ГидроНорск» Франции.
Апрель, 1940 год:
Немцы захватывают Норвегию и оборудование «ГидроНорск».
Май, 1940 год
Война начинается на линии Мажино.
Предупредить Жолио об опасности его циклотрона.
На этом список обрывался.
Херст продолжал сидеть за столом молча, в руках у него были записи Стилвелла. Он почти ничего не понимал в физике, но помнил только, что как-то не так давно Буллит рассказывал об Альберте Эйнштейне. Этого человека выгнали из Принстона, и он был козлом отпущения во всех смыслах. Несмотря ни на что, он написал письмо прямо Рузвельту, предупредив его о том, что немцы работают над созданием атомной бомбы. Фунт или два этого взрывчатого вещества могли уничтожить такой город, как Нью-Йорк.
Как сказал Буллит, Рузвельт не знал, стоит ли серьезно относиться к заявлению Эйнштейна. Большинство ученых, с которыми консультировался президент, сказали, что способа создания такой бомбы не существует.
Пока Филипп Стилвелл и французы не нашли его.
— Макс Шуп способен на убийство, — спокойно сказал Буллит, когда Херст поймал его у него в кабинете. — Думаешь, в заявлениях Морриса есть доля правды?
— Пока ничего, что можно было бы доказать. Но документы полны записей об исследованиях атома. Французских исследованиях.
— Это, должно быть, Жолио-Кюри? — Буллит налил себе стакан воды. Он весь день уничтожал ненужные документы, выбрасывая их в мусорную корзину, так что у него двоилось в глазах.
— Вы его знаете?
— Немного, по-моему, он получил Нобелевскую премию за свое обаяние. Симпатизирует чертовым коммунистам. У него в лаборатории работает русский.
— И собирается сделать бомбу, — сказал Херст, — которая в состоянии сравнять с землей Берлин. Или Нью-Йорк.
— Это невозможно, — Буллит поставил стакан на стол. — Мы проверяли.
— Жолио-Кюри не согласился бы. И поскольку немцы на пути в Париж…
Кабинет посла был полон сигаретного дыма, и Херст мог едва различать Буллита сквозь густой туман: куполообразная голова, безупречный костюм, ухоженные пальцы и ногти, Буллит не был дураком, но его запросы были бесконечны. Он не спал целыми сутками, так что его нельзя было обвинять, думал Херст, в невежестве в области науки, такой абстрактной, что в ней разбирались человек десять.
— Немцы уже захватили Чехословакию — главный источник урана в Европе, — продолжил он. — Норвегия тоже в их руках, а это единственное место в мире по добыче тяжелой воды. Теперь они идут на Париж. У Жолио имеется единственный циклотрон на всем континенте, и только его мозги могут создать бомбу. Думаю, нам стоит побеспокоиться, сэр. Думаю, нам нужно сообщить президенту.
Буллит вновь наполнил стакан.
— Расскажи это британцам, Джо. Мы даже не участвуем в войне.
— Полагаешь, Рузвельт видит это в таком же свете?
— Рузвельт больше обеспокоен отступлением союзных войск на реке Мез, — ответил посол, — и тем фактом, что Уинстон Кровавый Черчилль прилетает в Париж на конференцию в четверг. Он думает, что сможет снова отправить французов сражаться. Он еще не знает, что на границе дыра шириной в сто километров, и немцы просачиваются через нее, как дерьмо в канализацию. Никто их не остановит.
— Французское контрнаступление…
— Это полная ерунда, — Буллит достал пачку писем и бросил их в огонь. — Я видел премьер-министра Рейно час назад. Он уже почти сдался. Завтра я отсылаю весь персонал и семью в Бордо. Оттуда ты сможешь заказать билеты в Англию, даже в Нью-Йорк.
Херст ожидал этого.
— Я могу заказать билет, сэр?
— Я хочу, чтобы ты был в Бордо, Джо, — рявкнул Буллит. — Здесь мне будут нужны Кармел Оффи и Мерфи, а также пара охранников и телеграфистов. А ты, Стив Тарноу и остальные должны уехать. Бессмысленно погибать тут.
— Но мы даже точно не знаем, является ли Париж целью немцев? — взорвался Херст. — С фронта нет точных отчетов. Танки могут двигаться на запад, в сторону Ла-Манша.
— У меня нет времени ждать новостей, которые могут и не прийти, — Буллит глубоко закашлялся, как заядлый курильщик. — Рейно ищет пути отступления для правительства, куда-нибудь в Оверн, и если он эвакуирует своих людей, то и я должен это сделать.
— Оверн?
— Виши, если быть точным. Премьер-министр уверен в том, что немецкие танки не смогут преодолеть горы Центрального Массива.
— А как же защита города, улица за улицей, как он заявлял?
— Это работа для армии, а не для чиновников, — глаза посла, плоские и твердые, как стекло, посмотрели на Херста. — Найди Пети. Возьмите консульские машины и организуйте сопровождение по дороге на Бордо. Уезжайте не позже завтрашнего вечера, самое позднее — в четверг утром. Защитите женщин и детей, если сможете. Дорога займет много времени.
Херст прикинул в уме. Ему придется заботиться о почти пятидесяти женщинах и детях, плюс большое количество надоедливых помощников, каждый из которых будет пререкаться насчет вещей и привилегий и того, какой корабль будет ждать их в Бордо. Им будет нужна еда. Перерывы на то, чтобы умыться. Бензин, которого сейчас в Париже не найти.
— А что с Филиппом Стилвеллом? — спросил он. — Он все еще лежит в парижском морге.
Буллит неопределенно махнул рукой.
— Шуп забронировал место для его тела на корабле, который уходит из Шербура в четверг. Он сказал мне это сегодня днем.
— Господи Иисусе, — пробормотал он, — А Салли?
— Почему бы тебе не пригласить ее в романтическую поездку? — предложил посол. — Я слышал, винный край прекрасен в это время года.
Он взял «бьюик» и поехал прямо на Рю Сент-Жак, надеясь застать ее дома. Но консьержка уже легла спать, и когда он бросил камешком в первое попавшееся окно, это оказалась Таси, соседка, которая появилась в передней.
— Салли так и не вернулась из больницы, — сказала она, щуря сонные глаза.
— Ее выписали сегодня днем.
— Тогда она, может быть, уехала из города.
— Без вещей?
Таси пожала плечами, ее утомляла назойливость этого мужчины.
— На нее напали, месье. Она напугана. И потом, pauvre Philippe[41], его фото было во всех газетах…
— Она не сказала ни слова?
Таси положила свою тонкую руку ему на плечо и поежилась.
— Так холодно на улице, месье, хоть и весна. Хотите зайти? Я приготовлю вам настоящий русский чай…
— Вы знаете кого-нибудь из друзей Салли? Женщин или… мужчин, например, у кого она может находиться?
— Ее единственным другом был Филипп, понимаете? Peut-etre[42], она поехала в отель.
— У нее нет денег, — сказал он резко, его раздражение росло.
Чего же ищут эти глупые женщины, убегая одни и без защиты? Дейзи сделала то же самое — выпорхнула из двери со смехом, дрожавшим на губах. Никакого поцелуя на прощание, ни адреса для писем. Его вина, конечно, его тяжкий грех, что его жена сбежала в пропасть жестокости, без надежд на спасение. Он потерял ее. И он терял Салли. Расстроенную, напуганную, раненую Салли…
Тогда, в больнице для иностранцев, по ее щекам текли слезы. Человек, который схватил ее за шею…
Херст оставил Таси записку и триста франков. Но у него не было уверенности, что Салли их получит.
Глава пятнадцатая
Когда Жолио поймал ее взгляд в Люксембургском саду где-то около пяти вечера, она резко повернула на дорожку, ведущую к бульвару Сен-Мишель. Он подумал, что увидел привидение — или, скорее, злой дух: воплощение всех его желаний.
Это не могла быть Нелл. Нелл во плоти, в Париже…
Он остановился на мгновение, прищурил глаза, следя за ней, пока она шла под сводами молодых вязов. Ее талия, тонкая и изящная, могла принадлежать любой женщине, как и ноги; но две детали словно прокричали ее имя сквозь годы разлуки и недоверия: шейные позвонки, такие хрупкие под широкополой шляпой, и та решительность, с которой она шагала по тротуару. Ее каблуки стучали в такт: свет, тень, свет, тень. Из фонтана струилась вода, и все мысли вылетели у него из головы в ту секунду, когда он узнал ее.
Он позвал ее. Нелл.
Шаги не замедлились, ее голова была опущена, она задумалась. Она определенно шла к бульвару. Может быть, у нее была там встреча. Но вдруг ему пришло в голову, что она тоже его увидела; причем раньше, чем он ее; и намеренно зашагала своим английским шагом как можно быстрее, стараясь убежать.
Он побежал, его бумаги шелестели на ветру, карандаш, который он держал за ухом на случай заметок, упал на землю. Он снова позвал ее, и стайка голубей разлетелась из-под его ног.
Она повернула голову, одна рука инстинктивно схватилась за ремешок сумочки. Она замерла, ожидая его.
— Рикки.
Это было ее имя; никто больше не звал его так. Для всего мира он был Жолио, для коллег — Фредерик. Фред для матери и жены. Le professeur Joliot-Curie[43] для студентов, которые слушали его лекции в Коллеж де Франс в четырех кварталах отсюда. Рикки было имя, которое она дала ему пятнадцать лет назад в Берлине, опьяненная джином и недосыпом, прислонившись спиной к стене клуба, в который они пошли по ее настоянию, когда все уже ложились спать. «Рикки, — сказала она, — мне нужна твоя зажигалка. Мне нужно прикурить сигарету».
Тем вечером 1925 года она была одета, как мужчина, в хороший английский костюм, одолженный у брата: благородная Нелл Брейскорт, дочь графа, шлялась по задворкам Берлина в компании фриков-полиглотов. Для нее это было нетипично — разговоры о радии и модели Бора и квантовых скачках — и Жолио чувствовал ее скуку, которая, словно кошка, легла между ними. Всего двадцать один год, а уже такая усталость от жизни. Она заставила его почувствовать, как неуместен и как невозможно стар он был на самом деле.
— Что ты тут делаешь? — спросил он, задыхаясь.
— А что, Люксембургский сад твой? Никому больше нельзя и шагу сюда ступить?
— Нелл…
Улыбка заиграла на ее губах, в ней было что-то ядовитое.
— Ты так и не изменился, Рикки. Вечно эта импульсивность. Как будто я оскорбляю общественную нравственность, прогуливаясь здесь.
— Ты знаешь, что это неправда, — он говорил с ней по-английски, хотя давно уже этого не делал, и языком он владел неуверенно. Он был удивлен, а потому подыскивал слова и спотыкался.
— Так прекрасно снова видеть тебя, Нелл. Ты выглядишь… очень хорошо.
Она постарела, этого он не мог отрицать: безупречное очарование юности покинуло ее, оставив только подтянутую кожу, подчеркивавшую красоту ее щек и бровей и ложбинки над голубыми глазами. Ей должно было быть чуть больше тридцати пяти, подумал он. Ее фигура не изменилась: легкая, подтянутая, она была в отличной форме, — фигура примерной спортсменки. Как ей это удавалось, он никогда не понимал: Нелл редко сдерживала себя или подчиняла дисциплине.
— Спасибо, — решительно сказала она. — Я не демонстрирую свои проблемы окружающим. У тебя, похоже, все хорошо, я угадала? Все еще корпишь над своими атомами или чем-нибудь еще в этом роде?
— Да, — этот вопрос вернул его к реальности: лаборатория, дела, которые его ждали, война. На секунду его охватило желание все ей рассказать: дать словам вылиться, рассказать о напряжении в его жизни в последнее время, как угроза немецкого вторжения заставила его сделать выбор под слепящим светом лампы следователя, словно тень, спроецированная на белый экран. Но были две вещи, ради которых стоило перенести все сожаления и компромиссы, — безупречность его работы и его дети.
Он рассеянно кивнул, глядя поверх ее плеча. Он не осознавал, что она хмурится, ищет глазами его лицо, пока она не заговорила.
— Давай, я куплю тебе выпить, Рикки. На бульваре. Мы сможем там поговорить.
Если бы он сам заказал себе коньяк, он непременно оказался бы мерзким, и он едва ли заметил бы то, что обожгло ему горло. Даже владельцы кафе отправляли все содержимое своих кладовых подальше от города для сохранности. Но Нелл требовала хорошего качества: ее domaine[44] в Бордо снабжало торговцев винами, и она знала каждого в радиусе двадцати миль от Сены, от старого Эдуарда из Собора и Элоизы из кафе Флор до легендарного Андре Терраиля из Серебряной Башни. Она точно знала, что было запасено в погребе у них под ногами, и уверенно сделала заказ, причем ее французский акцент был где-то даже лучше, чем его английский.
— Ты в Париже на отдыхе? — спросил он, когда остались одни за столом, сидя точно напротив входа в Сорбонну, и на виду у его коллег, которые могли бы удивиться, почему нобелевский лауреат пьет днем с женщиной, которая не является его женой. — Приехала походить по магазинам? Или к друзьям?
— В разгар немецкого нападения? — она зажгла сигарету. Руки Нелл. Тонкие, художественные и изнеженные. Руки его жены покрывали ожоги от радия.
Она посмотрела на него сквозь сигаретный дым.
— Я должна привезти обратно в Бордо партию бочек вина прежде, чем нацисты их конфискуют. Очень дорогих, из неверского дуба. Двадцать из них уже в нанятой машине. Ты, наверное, думаешь, что от меня нет никакой пользы, что я из тех красивых паразитов, которых ты привык ненавидеть, Рикки. Но нельзя руководить виноградником только благодаря привилегиям и приятной внешности.
— Бертран…
— Мой муж на фронте, — эти простые слова встали, как щит перед ее лицом: Мне не нужно твое сочувствие.
— Я не знал.
— Конечно, нет. Мы же не переписывались, — она погасила сигарету, хотя только что зажгла ее. — Бертран не писал уже несколько недель. Думаю, ему не разрешают. Что, без сомнения, означает, то место, где он сейчас, просто ужасно.
— Ты все еще так его любишь?
— Бог мой, нет. Я просто не люблю, когда меня игнорируют, Рикки, и ты это знаешь. А разве ты бросил меня не поэтому — не потому что это больно?
Рука Нелл потянулась к пепельнице, и свет майского солнца осветил ее каштановые волосы. Все их отношения ожили: ревность, предательство и страдание. Он хотел обхватить ее шею своими пальцами и сказать ей, раз и навсегда, что она больше не будет принадлежать никому другому. Неважно, сколько времени прошло. Неважно, с кем они спали и жили.
— Ты заметил, что в этих проклятых местах остались одни старики? — сказала она непринужденно и перевела взгляд с улицы на приближающегося официанта. — В Бордо то же самое. Ни одного дееспособного рабочего, чтобы производить вино. А будет еще хуже. Salut[45].
Она сделала это так, как он запомнил: янтарная жидкость была выпита в одно мгновение. Затем она поставила бокал — ничего, кроме капли остатка на дне — и спросила:
— Как Ирен?
Это была уловка. Вспомнить о жене и застыдить его. Но верность никогда не была его проблемой: Нелл первой его оставила, пятнадцать лет назад, на платформе поезда с собранным чемоданом и билетом, который он методично кромсал об рельсы, пока не поранил руку. О ее замужестве он прочитал в газетах.
— Ирен нездоровится. Она уехала в Бретань на лечение. С детьми.
— Ты меня изумляешь.
Ирен пугала многих людей. Держала их на расстоянии вытянутой руки своей репутацией гения. Молчаливостью и самодостаточностью. Ужасной одеждой.
Он думал, что Нелл считала ее занудой.
— Она бежит не от войны, — объяснил он. — Это наша… большая проблема. Лейкемия. Ее мать умерла от этого. Ирен тоже этим страдает.
— А ты?
Он пожал плечами.
— Я слишком занят, чтобы болеть. Меня тоже призвали в прошлом сентябре. Как Бертрана.
— Только ты в безопасности в Париже.
— Ненадолго. Мой фронт в лаборатории.
— Бог мой, — пробормотала она. — Не та ли это бомба, о которой я слышала? Расщепление атома?
Конечно, Нелл знала. Она была непохожа на других. Она выросла среди физиков, ее брат был главным из них — благородный Ян Брейскорт, который учился вместе с Резерфордом в Кембридже. Ян послал поздравительную телеграмму, когда в 1935 году Жолио-Кюри получил Нобелевскую премию. Но слова Нелл вернули его к осознанию того, какую жизнь он сейчас вел. Безнадежная секретность. Патенты, которые он потерял. Немцы на границе и вещи, о которых он не мог рассказать даже своей жене.
— Атомной бомбы не существует, — шепнул он.
Нелл запрокинула голову и рассмеялась.
Он отставил бокал с коньяком и поднял руку, подзывая официанта.
— Я могу сделать для тебя что-нибудь, пока ты в Париже? Я знаком с Раулем Дотри — министром. Он может узнать вести о Бертране.
— Останься со мной, — неожиданно сказала она. — В этот раз я не убегу, обещаю тебе.
Он посмотрел на нее.
Слова были произнесены так тихо, будто не были сказаны вовсе. В ее осторожном выражении лица уже было возражение. Она была готова к тому, что он не обратит внимания на ее слова.
А если бы она не убежала столько лет назад — к Бертрану и его титулу и замку в Бордо — что тогда? Сошел бы он с ума, желая и ненавидя ее одновременно, пока смерть не освободила бы его от себя самого? Он был одержим. Одержим. Ее капризами и ее очарованием, ее отказом от малейших уступок, ее сладким и притягательным запахом. Он мог бы съесть ее целиком в той кровати на Рю Мартан.
«Иди в лабораторию, Жолио. Там все белое и стерильное, не то что эта хрупкая шея под твоими зубами».
Он слишком много заплатил за коньяк.
Нелл исчезла сразу же, как только они вышли из кафе. Они разлетелись, как листья по тенистому саду.
Глава шестнадцатая
Ганс фон Галбан видел во сне лабораторию Жолио, когда в дверь позвонили: водяной пар на стенках стеклянного цилиндра, Жолио в белом халате, руки в карманах. Комната позади лаборатории была видна смутно — Коварски называл ее кельей Жолио. Коварски стоял слева от Жолио, огромный и сгорбленный, пальцы, как колотушки, его лицо — типичная русская смесь брутальности и сумасшествия. Жолио с благоговением говорил о частицах, как крошечная траектория может быть пройдена через конденсацию на стекле, Божья рука, рассыпающая капли. Фон Галбан попытался прервать — не дать Жолио нажать на клапан — но было уже слишком поздно. Механическая часть бесконтрольно подпрыгнула. Стекло разлетелось на куски, чего никогда раньше не было, Жолио закричал, закрыв руками глаза, между пальцами текла кровь.
«Цепная реакция, — подумал фон Галбан, — Бог мой, это убьет нас всех».
Он сел на кровати, тяжело дыша, в ушах звенело.
— Что такое, cher[46]? — промурлыкала жена, не проснувшись до конца, не заботясь об ответе на вопрос, а просто потревоженная его уходом. Так она относилась ко многим вещам.
Он откинул одеяло и поискал одежду — у него была привычка спать голым. Анник свернулась калачиком, ее светлая голова отливала серебром в лунном свете, и тут же уснула. Часы на прикроватном столике показывали час девятнадцать ночи.
«Звуки в ночи, — подумал Ганс. — Стук в дверь». Он ждал его месяцами. Но не может быть, чтобы немцы уже были здесь.
Он прошел в переднюю, его мускулы напряглись. Снова раздался звон, настойчивый, как траектория частицы. Звук раздражал его барабанные перепонки.
Он с треском открыл дверь, ожидая ботинка в дверном косяке, сильного удара, который припер бы его к стене, и солдат в черном, которые ворвались бы в квартиру.
Ничего.
Он вышел в коридор. В доме было тихо — ни звука с улицы. Все спят. Тут из-под земли вырос француз.
— Месье фон Галбан?
— Да?
— Жак Альер. Министерство вооруженных сил.
Альер. Он знал это имя: Альер работал в Банке Парижа и Нидерландов, одном из крупнейших банков Франции, могущественном и находящемся под защитой правительства. Теперь Альер был лейтенантом армии. Шпионом.
— Простите, что беспокою вас в этот поздний час, но я не смог найти le Professeur[47] Жолио-Кюри, и…
— Вы были в лаборатории? — резко оборвал его фон Галбан.
— Там темно и закрыто.
— У него дома? На юге — в Антони. Это окраина Парижа, ближе к пригороду Орли. Жолио нравилось жить подальше от лаборатории, так он отвлекался от работы, когда мог.
— Я был там час назад. Его нет.
— И вы нашли меня. Как?
— Министерство в любое время должно знать, где находятся его ведущие ученые, vous comprendez[48], — Альер пожал плечами и развел руками. — В нынешней ситуации…
В нынешней ситуации надо держать иностранцев под присмотром. Они все нас ненавидят.
Фон Галбан отступил назад и позволил Альеру войти. У него не было другого выбора.
Лабораторию «Коллеж де Франс» разместили под землей, под Министерством вооруженных сил, в сентябре, сразу после объявления войны. Работа Фреда Жолио — нобелевского лауреата Жолио — вот что было главным. Что сделало ее более трудной, по мнению фон Галбана, так это назначение ведущими ассистентами русского и австрийца. Они же были соперниками в войне. Подозрительно.
Его и Коварски уже выслали из Парижа, пока этот дурак Альер, банкир, mein Gott[49], по виду которого можно было судить, что он не способен был и мухи обидеть, находился с секретной миссией в Норвегии. Коварски отбыл на остров Белль-Иль, с побережья Бретани, а фон Галбан в Покероль, на Средиземное море. Чтобы быть уверенными, что они не спрячутся от французов или от предательства, о котором они пока не знали.
— Жолио, наверное, вызвали в Бретань, — фон Галбан чувствовал в своих словах немецкие нотки, безошибочный признак иностранца. — Там его дети, не так ли? Его жена тоже, надо полагать, там. Вы знакомы с Ирен?
— Только понаслышке, — Альер неопределенно пожал плечами. — Я звонил в Арквест. Его нет в Бретани.
Фон Галбан изучал собеседника. Альер, должно быть, нервничал; наверное, находился под впечатлением убранства его квартиры, комнаты в модернистском стиле, дизайном которой занималась Анник, хромированные столы и кожаные стулья, он сохранял завидное спокойствие, взгляд его карих глаз сосредоточился на лице фон Галбана.
— Я пришел спросить, нет ли какого-нибудь еще адреса, где можно найти Жолио-Кюри.
— Скажите мне, что случилось, — спросил фон Галбан прямо. — Сегодня днем перед уходом из лаборатории Фред выглядел как обычно. Позвоните туда утром, около девяти, хорошо? Уверен, вы сможете с ним поговорить.
— Когда вы видели Жолио-Кюри последний раз, герр доктор?
Фон Галбан вздрогнул от обращения.
— В четыре. В полпятого, может быть. Он должен был отнести письмо директору колледжа. Но не вернулся.
— Его видели в кафе на бульваре Сен-Мишель в полшестого. Он ушел с женщиной, и она не была его женой. С тех пор никто не знает, где он. Вы понимаете теперь, почему я спрашиваю другой адрес.
«Как это будет по-французски, — подумал фон Галбан. — Как я глуп, что не догадался». Женой Жолио была только туманная лаборатория и этот магнетрон, который он собрал из деталей, присланных из Швейцарии. «Что если он в кровати с какой-нибудъ женщиной? Какое дело до этого мне или этому французскому шпиону?»
— Я не могу вам помочь, — коротко ответил он. — Если все так, как вы говорите, он мог поехать в отель. Или к этой женщине домой. Приходите в лабораторию утром.
Последовала пауза.
— Или, может быть, я смогу ответить на ваши вопросы?
Альер продолжал изучать его, предполагая, что видит перед собой человека, внутренне спокойного и способного контролировать себя и свои эмоции. Его лицо ничего не выдавало, но молчание говорило само за себя. Француз думал, насколько он мог доверять ученому с немецким именем, этому человеку Фреда Жолио, слишком опасному в случае кризиса.
— Я гражданин Франции, — уверил его фон Галбан, все еще возбужденный от гордости и гнева. — Моя жена — француженка. Мои дети — тоже. Мои симпатии на стороне Франции. Я живу и работаю здесь уже много лет.
— У вас есть ключи от лаборатории?
— Конечно.
— Тогда вам следует как можно быстрее одеться. Поступил приказ до рассвета вынести оттуда все — все, вы понимаете? И если нам повезет, Жолио присоединится к нам там.
— Ты помнишь ночь в Биркмир парке? — спросила его Нелл. — Когда мы сидели на черепичной крыше, Рикки, дожидаясь восхода солнца?
Как он мог это забыть? Дом ее отца, в каменных стенах которого родилось и умерло несколько поколений английских аристократов, флюгера на башенках пронзили не один век. У семьи Нелл всегда были проблемы с деньгами, и черепица на крыше была поломана, но они в три часа утра стащили несколько одеял из старого бельевого шкафа, они двое и ее брат Ян с бутылкой красного вина, и слушали приветственную тишину в пятидесяти футах над землей, а внизу в это время в лисий капкан попало какое-то маленькое животное. Болотистая страна, пологая, как Голландия, пропитанная влагой, от потопа спасают только дамбы. Ее отец не хотел футболиста с крючковатым носом и мускулистой фигурой для своей Нелл. Графу нужны были деньги. У Жолио их не было.
Теперь она сидела у окна в своей комнате в Крийоне, одетая только в его рубашку. Она подобрала босые ноги, уперлась подбородком в колени и думала об этом, другом рассвете, пока под ними просыпалась площадь Согласия и по улицам шуршали шины первых автомобилей. Ночью они занимались любовью долго, лежа в дремоте и просыпаясь от дикого голода, который Жолио удалось испытать только однажды в жизни. Люди Бертрана всегда дежурили в Крийоне, и Нелл следовало бы быть осторожней и не приводить его сюда; но, возможно, понял он, что она так и хотела, чтобы все знали, что мадам графиня делает то, что ей заблагорассудится. Она была англичанкой: для нее не существовало авторитетов.
— Ты вернешься? — спросила он — В Биркмир? Теперь, когда немцы приближаются?
— Я хочу, чтобы они пришли, — пробормотала она. — Я до смерти устала от этой странной войны. Я хочу, чтобы все решилось. Нет, я не вернусь. Будет ли виноградник французским или немецким — мне все равно. Если я останусь, смогу принести пользу здесь. Ты будешь смеяться, Рикки, но мне начала нравиться фамилия де Луденн. И у меня ее не отнять. Не отнять.
Ее голос оборвался на полуслове, и в этом звуке он уловил все страхи прошлой зимы, новости из Седана, где, может быть, уже сейчас ее муж был мертв, безнадежность и тягость ожидания. Он протянул руку, чтобы погладить ее по голове, но она встала, отвернулась от него и быстро пошла в ванную. Ей не нужно было его сочувствие. Все равно что соль сыпать на рану.
Вот что изменилось в Нелл: появилась внутренняя жесткость, скрывающаяся под ее красотой. Может, это пришло с возрастом или возникло от равнодушия со стороны Бертрана, или от отсутствия детей, но стремление к выживанию было заметно в ее глазах. И ему было больно видеть это.
Она включила воду. Он хотел было забрать рубашку, которую она скинула на плиточный пол, и сбежать, пока она в ванной. Это было бы освобождением от демонов, которые захватили его ночью, от ее кожи под его руками, от мягких изгибов ее тела. С облегчением остаться в одиночестве.
Если во Франции было общепринятым иметь любовницу, Жолио-Кюри был исключением из правил. Он был верен Ирен с первого дня их встречи в 1925 году — она была занята экспериментом, проводимым ее кафедрой в радийной лаборатории, куда его тогда только что наняли в качестве ассистента Марии Кюри; он, Фред, был уязвлен и озлоблен после разрыва с Нелл. Он ухаживал за своей женой на прогулках в лесах Фонтенбло; и во время лыжных поездок в Альпы, где она разделась и предложила ему свою девственность; и в доме ее матери в Бретани, где он учился ходить под парусом; и в лаборатории, где они оба проводили опыты, труднообъяснимые постороннему. Ирен не волновали обычные для женщин вещи: украшения, одежда или интриги. С детства ее воспитывали два самых выдающихся ума в области физики и тем самым тренировали ее мозг. Когда Фред думал об Ирен, она представлялась ему творением Пикассо в его кубистский период, части ее тела были массивны, лицо лишено эмоций. Она считала его хорошим способом заиметь детей — «этот выдающийся эксперимент», как она это называла. Теперь у них их было двое.
Ирен продолжала работать в лаборатории во время беременности — и вместе с ним получила Нобелевскую премию в 1935 году. Его чаще называли ее именем, чем его собственным, и хотя он находился немного позади своей жены, она была его пропуском и залогом уважения. Фредерик Жолио, который завалил свой первый экзамен, когда ему поставили нулевую оценку в младшей школе, мало интересовался научными заведениями Франции. Но Фредерик Жолио-Кюри — связанный с самой знаменитой женской фамилией во Франции, был человеком, которого никто не мог оставить без внимания.
«Для чего я все это сделал? — спрашивал он себя теперь, все еще ощущая мягкость кожи Нелл на своих руках. — Ради успеха? Ради карьеры? Было что-то еще. Партнерство. Жизнь. И я люблю ее. Но не до безумия…»
Дверь ванной открылась. Нелл стояла там, теплая и молчаливая с ястребиным взглядом. Он медленно подошел к ней. И сорвал с нее полотенце.
Глава семнадцатая
Шупы жили в богатых комнатах на Рю де Монсе с видом на один из входов в парк. Они жили там уже около двадцати лет, без детей, и внутреннее убранство их квартиры приобретало тот типичный французский налет патины, который приходит с безупречным вкусом и неограниченными средствами. Одетт Шуп идеально подходила своему дому, как будто ее специально подобрали вместе с севрским фарфором в качестве украшения. Она была невысокая, оживленная и шаловливая, ее манеры немного походили на мадмуазель Шанель, чей салон она опекала. Салли узнала платье из джерси, которое было на Одетт: она сама носила такое во время прошлогодних осенних показов.
— Бедная девочка, — быстро сказала Одетт, коснувшись ухом, вместо своих прохладных губ, щеки Салли. — Ты так пострадала. Тебе нужно принять горячую ванну, поднос с ужином принесут тебе в комнату, и сразу лечь в постель. Завтра мы отправимся по магазинам и соберем тебя в дорогу домой, oui[50]?
Она не стала спорить ни с Одетт, ни с Максом, пока они ехали из больницы до парка Монсе.
— «Клотильда», — повторил он, — Шербурский порт, четверг. Твои билеты ждут тебя в кассе рядом с доками.
Он ничем ей не угрожал; она даже физически не могла представить себя в опасности; и все же каждая клеточка ее существа противилась его планам. Для Макса Шупа было жизненно важно, чтобы она держалась подальше от своей квартиры на Рю Сен-Жак, важно, чтобы послезавтра она поднялась на борт торгового корабля вместе с телом Филиппа. Салли не нравилось, когда люди, старше ее по возрасту, пытались управлять ее жизнью. Ее отец однажды пытался, и она просто уехала из страны. Теперь она все больше хотела помешать планам Макса Шупа и остаться.
Ванна оказалась очень кстати, ужин — обычное magret de canard[51] с бокалом хорошего бургундского, комната, которую Одетт выделила для нее, — идеальное сочетание розовой и зеленой парчи. Эти цвета напомнили Салли о ее платье от Скиапарелли, и она долго лежала, не сомкнув глаз, даже после того, как весь дом оказался погружен в сон, и на Сан-Филипп дю Руле прозвонили колокола. Можно было сбежать от Одетт завтра в одном из переполненных людьми магазинов на бульваре Хауссманн, или, возможно, она могла бы отлучиться на минутку во время чаепития в Фашон, но когда колокола прозвонили три, она скинула одеяло и бесшумно ступила на ковер.
Квартира состояла из множества комнат: спальни в одном конце, широкая гостиная, комнаты слуг и кухня на другом. Салли тихо закрыла дверь своей спальни и спустилась в холл в одежде, которую дала ей Одетт. Пара забавных тапочек выпала у нее из рук.
Замок от входной двери не издал ни звука, когда она открыла его; все еще не дыша, она вышла на улицу. Голубой отсвет уличных фонарей спускался на нее с неба, словно святое сияние.
До Оперы ей не попалось ни одного такси, но в любом случае, у нее не было денег. Жуткая тишина мира вокруг усиливала звук ее шагов, пока ей не начало казаться, что здания действительно дрожат, когда она проходит мимо них. Главная опасность заключалась в том, что ее одиночество могло привлечь в первую очередь не воров, а жандармов, которые, конечно, потребуют у нее документы. У Салли их не было. Она держалась подальше от широких бульваров, передвигаясь по переулкам и узким улицам.
Почти в половине четвертого утра она перешла через Сену по мосту Александра Третьего, в темном небе высились купола Лес Инвалиде, луна уже зашла. Вдруг ее внимание привлекло какое-то движение, словно птица пролетела под сводом: она остановилась на мгновение у парапета и посмотрела наверх. Словно гром, зловеще загудел самолет. Должно быть, он был немецким — никто больше не отважился бы на такой полет в этот час над спящим Парижем, обнаженный город лениво лежал под звездами. Салли застыла с поднятой вверх головой, ожидая свиста падающей бомбы и вспышки огня.
Над узкими улочками Латинского квартала уже занимался свежий золотистый рассвет, когда она в последний раз закрыла дверь своей квартиры и вышла, крепко зажав чемодан в руке. Она улыбалась, потому что на маленьком столике в ее квартире-студии Таси оставила ей письмо от Джо Херста и триста франков, и теперь, слава Богу, она сможет купить себе чашку кофе. Тон записки Херста был сугубо официальным: «Если вы получите это, немедленно свяжитесь со мной через консульство», — но все равно было приятно, что он о ней подумал.
Щиколотки Салли болели после долгой ходьбы по улицам, и скоро чемодан показался ей очень тяжелым: но из ее головы тяжесть ушла и вместе с ней прошла и неуверенность. У нее было легко на сердце, как будто она перерезала некую веревку, которая ее связывала. Она плыла в открытое море.
По тротуарам брели люди с чемоданами в руках. Никто из них не выглядел таким радостным, как она. И что за причина была у нее для такой неуемной радости? Человек, за которого она собиралась замуж, умер. Ее город был на грани разрушения. Но, подходя к старой квартире Филиппа (мадам Блум в это время уже встала и подметала площадку перед огромными дверями во двор), она принялась тихонько напевать.
Глава восемнадцатая
— Я не понимаю ничего из того, что вы все делаете, — говорил Альер отрешенно, пока фон Галбан готовил кофе на газовой горелке, стоявшей в углу лаборатории. — Мое руководство говорит мне, что делать. C'est tout[52].
«Лжец, — про себя ответил фон Галбан, — тебе хватило знаний физики, чтобы в прошлом месяце объяснить все это британцам в Лондоне. Т.П. Томсон и Олифант и Кокрофт — они сказали, что это невозможно, и кто теперь крадет наши работы. Наши коллеги и конкуренты. Наши союзники в этой войне».
— У нас у каждого есть свое metier[53], — безразлично отозвался он. — Я лично ничего не понимаю в финансах. У меня всегда проблемы с деньгами.
— Но это, наверное, из-за жены! Женщины всегда тратят больше, чем им следует, n'est-ce pas?[54] Ваша жена француженка, как вы сказали, правда?
«Ты знал это еще до того, как позвонил в мою дверь, Альер, ты все знаешь обо мне, и этим непринужденным трепом меня не обманешь. Я помню, как меня послали в Поркероль, пока ты искал приключений в Норвегии. Я помню стыд и страх, когда моя жена отказалась поехать со мной и отвезла детей к матери. Ее взгляд».
Он повернулся, поднял бокал и предложил кипящий напиток своему врагу.
— Не думаю, что у вас есть молоко, — мрачно сказал Альер.
Фон Галбан не ответил. Над Парижем занимался рассвет, переливаясь весенними красками, они сидели уже три часа: собирая лабораторные бумаги и канистры от тяжелой воды, которые Жолио хранил в колледже уже месяц. Их было всего двадцать шесть, сделанных вручную в Норвегии для специальных целей и сложенных в тринадцать ящиков: снова работа Альера. Канистры ждали своей очереди у двери в лабораторию, готовые к перевозке, если найдется транспорт.
Обогащенный ураном металл был более щекотливым делом, и фон Галбан отказался подпускать Альера к коробкам, в которых он хранился. Французу пришлось поверить ему на слово, что все четыреста килограммов были собраны и пересчитаны.
— Циклотрон нельзя передвигать, — сказал он Альеру. — Производство магнита в Швейцарии заняло два года. Он стоит слишком дорого и весит тонну. Вы никогда не разберете его.
— Это единственный циклотрон в Европе, — отрезал Альер. — Мы не можем позволить, чтобы он попал в руки немцев.
Попивая кофе, фон Галбан думал теперь не о магнитах и частицах, а о Жолио: о незнакомой женщине, поднимавшейся над ним в экстазе. О невозможном счастье плоти. Думал о том, как это все будет разрушено, и что он является пособником этого разрушения.
— Эти имена, — настаивал Альер. — Год за годом. Эти открытия. Ферми, итальянец. Нобелевская премия. Нильс Бор, датчанин. Нобелевская премия. Альберт Эйнштейн, человек без страны или из всех стран сразу — Нобелевская премия. Тот немец, его нерешительность, принципы. Как его зовут?
— Гейзенберг. Вернер Гейзенберг.
— Один из немногих, как я полагаю, который не является евреем.
«Он думает, что я от души рассмеюсь? — подумал фон Галбан. — Соглашусь, что еврейские физики, как Гитлер называет их, — недоразумение и фарс? Ненависть нацистов к еврейским физикам — это самая большая надежда всего мира, потому что так нацисты убьют любую науку, которая помогла бы им выиграть эту войну».
— Ферми потратил свою Нобелевскую премию на то, чтобы бежать с женой из Италии, — сказал он Альеру. — Они уехали, как преступники, ночью, с полным чемоданом наличности, и отправились в Нью-Йорк. Вот до чего дошел лауреат в наши дни.
Альер хранил молчание, его взгляд из-под очков сосредоточился на чашке кофе.
— Моя мать еврейка, — сказал фон Галбан уже громче. — Поэтому мой отец сбежал в Швейцарию, а я не могу найти работу в родной стране. Я говорю об Австрии, как вы понимаете. Может быть, вы не знали, месье Альер, что Австрия со времен аншлюса тоже закрыла свои двери для еврейских умов.
— О, я знал, — быстро ответил Альер. — По этой причине вы попросили французское гражданство и дорогую французскую жену. Вы давно с ним работаете, je crois[55]?
Под «ним» подразумевался Фред, обольститель незнакомок, любитель русских и запретных евреев: le Professeur[56] Жолио-Кюри.
— Пять лет.
— Ах. И у него есть патенты на весь этот… бизнес, я полагаю? Или он уже подал заявку?
«Бизнес» был слишком аморфным словом для разработок в области атомной энергии. Они обсуждали это в прошлом октябре и договорились: ученые тоже должны иметь права на плоды своей работы. Интеллектуальная собственность.
— Мы все подали заявки на патенты, — сказал фон Галбан устало. — Фред, я и Лев Коварски. Мы ведь команда?
Напрасные слова. Команда могла распасться уже завтра, по одному слову этого человека. Улыбка французского банкира была доброжелательной: Альера беспокоила, как полагал фон Галбан, доверчивость Фреда. Знал ли банкир о документе с печатью, который они подписали и отдали в Академию наук? Схема ядерной реакции, первая в мире?
«Кто бы из нас, Коварски или я, мог бы вернуться в свою родную страну, — думал фон Галбан, — и продаться высшему покупателю. Пошел ты, Альер. У моего ума нет приказчиков. Ты не можешь им командовать. В этой войне каждый еврей сам за себя».
Они услышали его раньше, чем ключ бесполезно завертелся в замке открытой двери лаборатории, и его длинный нос показался за стальной перегородкой; они услышали его, потому что он пел.
Фон Галбан видел все: страх, который внезапно появился в глазах Фреда, последовавшая за этим сдержанность. Одежда, которую он не менял со вчерашнего дня и в которой отражалась его дотошность и придирчивый вкус — Фред, являвшийся лучшим образцом предательства, чем можно было бы выразить словами. В его глазах фон Галбан снова увидел силуэт незнакомой женщины, плотское удовольствие, и дрожь пробежала по его телу. Gott in Himmel[57]. Бедный Фред.
В первую очередь Жолио подумал о самой вероятной причине их нахождения в лаборатории на рассвете.
— Ирен? — спросил он. — С ней что-то случилось? С детьми?
— Я говорил с мадам Жолио-Кюри несколько часов назад, — любезно сказал Альер. — У нее все хорошо. Конечно, она была обеспокоена, когда я заикнулся, что не могу вас найти. Mais, assez bien[58]…
Фон Галбан смотрел на друга, прикрыв глаза тонкой ладонью, его губы шевелились в проклятии или молитве.
— Тогда зачем вы пришли? — пробормотал он. — Что сегодня, Альер?
— Выполняю приказы, — сказал банкир. — Дотри сказал, что все оборудование из лаборатории нужно отправить в Оверн, Жолио, включая, конечно, вас.
* * *
Когда наступило утро, Жолио понял, что у него дрожат руки — то ли от кофе фон Галбана, то ли от ощущения паники. Он так долго жил устоявшейся жизнью: молочная повозка, приезжавшая к дому Энтони, голубоватая жидкость, которую разливали из бидонов в емкости домохозяек. Ирен настаивала на том, что молоко нужно сначала прокипятить, чтобы не было угрозы туберкулеза, и горничная всегда отлынивала от этой непонятной работы. Дети в школьной форме, с причесанными и блестящими волосами. Его рабочая одежда, лежавшая на краю их двуспальной кровати, ее одежда, почти такая же: белая рубашка, словно из католической школы, бесформенная черная юбка с широким поясом на случай, если она много съедала и могла объесться. Две пары простой обуви, что-то все время потертое. Так могло продолжаться бесконечно, они оба были погружены в науку, но началась война. Война надолго разлучила их, внесла в их жизнь хаос.
Фон Галбан пошел домой рассказать своей жене об эвакуации лаборатории, но когда Жолио провожал его до двери, он остановил его в проходе и пробормотал:
— Фред, мне очень жаль. Я не хотел, чтобы этот человек нарушал наш покой…
— Это не твоя вина, Ганс.
Он кивнул, пряча глаза от Жолио. Он был скрытным человеком, и никогда не стал бы задавать вопросов, но эта неясность так и останется между ними, и недоверие будет расти.
Неожиданно Жолио сказал:
— Я был со старой подругой. Старой… страстью.
Это было единственным словом, которое подходило Нелл.
— Я знал ее до Ирен. Любил ее… О, Боже, Ганс. Я такой дурак.
— Нет, — сказал он мягко, — ты не дурак. И ты не должен был мне рассказывать.
— Она англичанка. Замужем за графом. Я, может быть, больше никогда ее не увижу…
Ноздри фон Галбана на мгновение раздулись, и он спросил с внезапной нервозностью:
— Не… графиня де Луденн?
«Merde[59], — подумал Жолио. — Уже все кругом знают».
— Будь осторожен, Фред, — сказал фон Галбан. — Ее двоюродный брат — нацистский шпион, и, думаю, он как-то был и ее любовником…
Теперь он слушал Жака Альера, как банкир-лейтенант говорил о войне и безопасных местах, но у него пред глазами стоял образ Нелл: Нелл, словно скрученная пружина страсти, Нелл, словно пламя.
— …имея в виду город Виши, — говорил Альер. — Рейно и Даладье полагают, что если между нами и их танками будет Центральный горный массив, мы определенно выстоим.
— Я не знаю ни одной лаборатории в Виши, — произнес Жолио.
— У вас достаточно времени, чтобы поискать ее для вашего аппарата, — Альер пил маленькими глотками кофе, словно у радиоактивности был вкус, который можно было определить, кислый или сладкий. — Жизненно важно вывезти воду и уран из Парижа, n'est-ce pas?[60] Я связался с управляющим Банка Франции в Клермон-Ферран — столице Оверна — и он готов хранить в своем сейфе все, что я ему скажу. Это для вашей воды. Полная секретность и полная безопасность, никаких вопросов.
«Банковский сейф, — с сарказмом подумал Жолио. — Я в руках финансистов, для них это еще один товар. Как я смогу установить свой циклотрон в стальном сейфе, в окружении вкладчиков? Но я забыл. Циклотрон недвижим. Циклотрон остается. Это означает, что и я тоже».
— Сегодня вечером мы сначала отправим канистры в Оверн, а вы можете последовать за ними с остальным оборудованием из лаборатории, когда ваша жена вернется из Бретани, — предложил Альер. — Я одолжу вам дом, места в нем хватит и для вашего персонала и для их семей.
— Анри Моро должен взять воду, — сказал Жолио. — Он — мой заместитель здесь, в Колледже, и у вас не должно быть сомнений насчет его надежности — его отец играл ведущую роль в прошлой войне. Его звали «Маршал французской науки». Моро очень хорошо знает Оверн. Но ему будет нужен грузовик.
— Я знаком с месье Моро, — сказал Альер.
«…Вплоть до размера его нижнего белья, — подумал Жолио. — Вы измерили все наши места? Вы до миллиметра изучили то, чем мы гордимся? Пошли к черту ты и твоя вынужденная наглость».
— А уран? — спросил он. — Он должен отправиться вместе с водой. Я не могу без него выполнять некоторую важную работу.
— Вода и металл должны храниться отдельно, — сказал Альер. — Ваша наука представляет опасность для мира.
Жолио, привыкший к осторожности, посмотрел на безобидного банкира и почувствовал странное желание рассмеяться. Наука была неотделима от опасности. Мать Ирен умерла из-за экспериментов, ее тело было облучено радием, и было предопределено, что Жолио последует за ней. Все Кюри жили жизнью наполовину прекрасной, наполовину мертвой.
— Вы хотите, чтобы во время войны я ничем не занимался? — резко сказал он. — Моя работа не может продолжаться без сырья. Я полагал, это понятно.
— Ваша работа важна, bien sur[61]. Поэтому нужно держать ее вне досягаемости немцев. Ваша работа, как вы это называете, может уничтожить мир, Жолио.
— Глупости! Еще нет доказательств, что это возможно, что могут сделать эти атомы… Может, топливо для электричества для целой страны… Тепло для всей Европы зимой…
— Сравнять с землей город, такой, как Париж, — безжалостно заключил Альер. — И похоронить под его развалинами все живое вокруг.
Жолио покачал головой.
— В какой банковский сейф вы поместите уран?
— Министр хочет увезти его из Франции, может быть, в одну из наших колоний в Северной Африке. Наша работа сейчас состоит в том, чтобы просто доставить его в Марсель. И ждать указаний.
— Уран опасен, — сказал Жолио. — Никто, кроме специально подготовленного ученого, не может трогать его. Я должен буду послать Коварски. Или фон Галбана.
— Нет.
— Вы полагаете, — настаивал он, повышая голос, — что Коварски и фон Галбан слабое для вас звено, для Дотри? Они знают все то же самое, что знаю я.
— Тогда они будут интернированы, — сказал Альер тихо. — Их посадят под замок. Другого решения нет.
— Вы запрете и их жен и детей?
— Если будет необходимо.
— Тогда и меня тоже заприте. Я отказываюсь сотрудничать. Я отказываюсь… одалживать себя для дела, которое подразумевает предательство моих друзей.
Альер ничего не сказал, пряча глаза под очками.
— Но, возможно, предательство уже совершилось.
— Что вы имеете в виду?
— Была утечка информации, — терпеливо сказал банкир. — Мы знали, что какое-то время шпион продавал наши секреты. Кто-то в министерстве, возможно. Кто-то здесь. Я тоже под подозрением, уверен в этом, и тот факт, что я выжил во время поездки в Норвегию, непростителен. Я не должен был выжить, а вода никогда не должна была покидать пределы Осло. Но я сделал это, и утечка продолжается. И мы думаем, что продолжится. Пока у немцев будет информация, которая им нужна. Мы все будем живы — нас будут держать на поводке — под наблюдением, как лабораторных крыс.
Жолио тяжело сглотнул.
— Какого типа утечки?
Альер пожал плечами.
— Чем меньше вы знаете, тем лучше. Но уверяю вас, очень вероятно, что кто-то из вашего персонала — кто-то со знаниями и степенью ответственности — систематически предает вас. Я думаю, мы можем назвать несколько имен, да? Тот русский, Лев Коварски. Австриец, Ганс фон Галбан. Возможно, простите меня, вы сами или ваша жена. У вас обоих есть профессиональные интересы и, кроме того, вы симпатизируете коммунистам.
— Фон Галбан должен взять уран, — сказал Жолио твердо, — можете послать ищейку, если хотите, езжайте сами, мне нет никакого дела. Но позвольте дать ему шанс проявить себя. Беспочвенные подозрения убьют его, они повиснут над его жизнью, как облако ядовитого газа. Я не поступлю так с Гансом. Он слишком хороший физик.
— Я сомневаюсь, что министр на это пойдет.
Губы Жолио скривились.
— У министра нет выбора. Говорю вам, лейтенант Альер, передайте Дотри, что я буду устанавливать свои правила.
Когда банкир ушел, Жолио понял, что должен позвонить Ирен.
Они разлучались только в исключительных случаях, и общались обычно письмами. Однако ему нужен был телефон, а в здании был только один, в деревянной будке в главном холле. Чтобы сделать звонок, нужно было продиктовать номер национальному оператору, который переводил звонок на Арквест, который потом перезванивал ему в ответ, уже держа на линии Ирен. Голос его жены удивил его: безжизненный, ослабленный туберкулезом, голос пожилой женщины.
— Прости, что Альер побеспокоил тебя прошлой ночью, дорогая.
Он был рад, что она не видела его лица.
— Ничего, — сказала Ирен покладисто. — Я не спала. Я знала, что ты, наверно, пошел прогуляться. Я знаю твои привычки. Ты совсем не отдыхаешь, когда дети и я далеко.
Как легко она решила проблему за него, подумал он. Он уже заранее придумал лживую историю: немецкий бомбардировщик неожиданно появился в небе, завыли сирены воздушной тревоги, он отправился в общее бомбоубежище под булочной у дома Антони, все они сидели плечо к плечу в темноте, вдыхая запах теплого хлеба. Ирен бы это понравилось, она бы рассказала детям, как их папа сохранял спокойствие, когда бомбы падали с неба, но в конце его воображение иссякло, его намерение не понадобилось, он просто отправился прогуляться в полночь.
— Я забыл о времени, — сказал он. — Работал.
Она закашляла так сильно, что, будь она меньше, ее разорвало бы пополам. На ее носовом платке выступила кровь. Лицо было мертвенно бледным.
— Возвращайся домой, — быстро сказал он. — И привези детей. Я скучаю по нашей жизни.
Он просидел в пустой лаборатории еще около часа, уточняя свои планы. Потом он позвонил Нелл в отель Крийон.
Глава девятнадцатая
Те, кто видели Мемфис Джонс в «Фоли-Бержер» или часами стояли на входе в клуб «Алиби», были обречены на разочарование. Мемфис была сама не своя. Прошлую ночь она провела одна дома.
По клубу ходили слухи, что Рауль убил партнера своей жены и сбежал на юг Франции, опередив полицию, нацистов или и тех и других. Мотив был неясен, потому что никто не думал, что Жако будет крутить шашни с Мемфис — все знали, кем он был, но можно было предположить, что pede[62] пришел к Раулю, и убийство явилось следствием самообороны. Парижский морг выдал тело Жако в среду утром, за ним никто не пришел. Блистательный garson[63] из boite de nuit[64], похоже, мог оказаться на кладбище для нищих.
Мемфис узнала все это от Ан Ли, вьетнамского шофера. Он принес ей поднос в постель в десять часов утра в среду: пенистое горячее молоко, кофе, фарфоровую тарелку с дольками апельсина. Утреннюю почту, в которой не было ничего, кроме счетов.
Мемфис равнодушно просмотрела почту, грудь прикрывала лишь батистовая простыня, словно она не замечала присутствия Ан Ли; но она заметила в его неподвижности какой-то новый тип молчания, внимательный и суровый. Он напомнил ей большую кошку, ягуара, спавшего на краю ее кровати, они оба были, готовы к атаке.
— Скажи работникам морга, что мы хотим похоронить Жако по высшему разряду, расходы значения не имеют, а чек отошлите мистеру Раулю, — сказала она. — Потом позвони в клуб и вели всему персоналу прийти на похороны. Когда бы они ни состоялись.
— Мадам придет? — спросил Ан Ли.
— Конечно. Убедись, что они пройдут днем, а теперь мне нужно кое-куда поехать сегодня утром. И еще, Ан Ли, пришли Мадлен. Я хочу принять ванну после завтрака.
— Мадлен уволилась вчера.
Она с опаской посмотрела на него: в его черные глаза, которые она никогда не могла разгадать. Рауль уехал, а теперь и Мадлен. Сколько времени назад он оставил и ее? Но она только сказала:
— Глупая сука. Думаешь, Мемфис не может сама принять ванну или одеться. Зачем мне нужна Мадлен? Дерьмо.
— Теперь, когда хозяин уехал, Мадлен сказала, что денег больше нет, и никому из нас платить не будут. Она уехала, чтобы работать fille de joie[65] в борделе, в одном из закрытых домов в Клиши. В «Сфинксе», кажется. Когда прибывает столько немецких солдат…
— Она будет прозябать там до конца своих дней. Глупая Мадлен. Она думает, быть проституткой — это так здорово, что ее жизнь станет мечтой? Увольте. А ты, Ан Ли, иди и выгуляй Роско.
Роско был ягуаром. В своей гибкой скользящей манере он подобрался к его ногам, свернув хвост и сложив тяжелые лапы. Он не смотрел на Мемфис, не искал ее внимания, для него она уже умерла. «Отдам его в зоопарк, — решила она, откусывая дольку апельсина, сок тек по ее губам. — Я не могу взять кота на юг в Марсель, в Северную Африку, на корабль в Штаты».
Роско спрыгнул на пол на мягких лапах и начал важно расхаживать возле Ан Ли. Им обоим были небезразличны ее планы. Но они скорее умрут, знала она, чем позволят ей управлять ими.
Час спустя она выходила из такси у консульства Соединенных Штатов. Она не позволила бы Ан Ли отвезти ее, не позволила бы ему догадаться, что она уже отчаялась получить билет домой и найти кого-нибудь, кто сказал бы ей, что все будет хорошо. Она боялась потерять его, последний голос в пустом доме, где в комнатах и коридоре царило эхо, ее стильные каблучки стучали по полу. Она думала, что Ан Ли исчезнет, когда она вернется с Рю де Труа Фрер. Она велела ему отвезти Роско в зоопарк. Взглядом шофер дал понять, что он считает это обычной изменой — обмен одного создания на другое — пахнувшей рабством и смертью. У нее не было времени на его глупости. Она боролась за выживание.
— Я хочу видеть посла, — сказала она громко француженке, которая принимала посетителей на входе в консульство. — Скажите мистеру послу, что к нему пришла Мемфис Джонс.
Женщина повернула свой французский нос в направлении ее платья, великолепное изделие из бисера и шелка, более подходящее для вечернего выхода и сидевшее на ней плотно, как банановая кожура. Платье не произвело на нее впечатления, она вышла и вернулась с человеком, который, к сожалению, не был послом.
— Роберт Мерфи, — сказал он, протягивая руку. — Посол сейчас в Елисейском дворце на консультации с французским правительством.
Мемфис была непреклонна. Она не позволила Роберту Мерфи проводить ее в свой кабинет, подальше от любопытных глаз посольских служащих. Она стояла посреди мраморного вестибюля и требовала билета домой. Безопасный переезд. Билет в каюту первого класса на следующий океанский лайнер из Франции.
— Океанские лайнеры больше не ходят, — учтиво сказал Мерфи. Только транспортники и торговые суда.
— Вы хотите знать, что случится, мистер, если Мемфис Джонс поймают нацисты? На улицах Канзас-сити вспыхнут восстания. Пламя вспыхнет в каждом доме самых престижных кварталов Нью-Йорка. На ваших руках будет кровь, мистер, ваших и вашего прекрасного посла, и весь мир будет спрашивать, какого черта вы делали в Париже, когда величайшая джазовая певица Европы пришла просить помощи. Понимаете?
Мерфи кивнул. Он уверил ее, что сам поговорит с Буллитом. Но Мемфис чувствовала, что в воздухе пахнет жареным, она видела беспорядочно сваленные стулья и коробки в элегантном вестибюле. Консульство определенно закрывалось. Мерфи предложил ей поехать на вокзал Сент-Лазар. Он знал, что там женщинам дают билеты на поезда, хотя лучше было бы для этого быть матерью с ребенком, но, может быть, ей дали бы один билет?
Мемфис села на стул у дверей кабинета Буллита и заявила, что будет ждать. И тогда она услышала презрительное нигер, но не от Мерфи, а от женщины, которая уничтожала бумаги в кабинете, дверь которого была третьей от входа, тощая, как рельса, сука из высшего класса в кашемировом костюме.
— Уехали бы они обратно в Африку, — вполголоса сказала Мимс Тарноу француженке в приемной. — И перестали бы позорить американцев по всему миру. Я бы сама купила ей билет в Танжер, если бы у меня не было десятка лучших способов потратить мелочь.
Мемфис хотелось расцарапать тонкий нос этой женщины, окунуть ее головой в туалет, было желание дать Мимс Тарноу в глаз и заставить ее просить о пощаде. Но ее колени вдруг стали ватными, и она опустилась на свой стул, вспоминая женщину, которая обварила ей руки кипятком, когда ей было восемь лет, и она работала посудомойкой, вспоминала мужчину, который бил ее от нечего делать рядом с мусорными баками в прачечной ее матери, задирая ей юбку на голову, пока не показывались белые трусы, и шлепая своей широкой плоской ладонью по ее попе, и давился от смеха, другой рукой держа ее за волосы, и она телом чувствовала его эрекцию. Она вспомнила все это и еще сотню мерзких вещей, годы шелка и комфорта сразу забылись, ее щеки пылали от отвращения, и голос внутри нее кричал: «Какого черта, ты думаешь, эти белые помогут тебе, Мемфис? Они все — нацисты, только в другом обличье».
Она вышла из консульства через черный ход и спустилась по широким мраморным ступенькам на мостовую, осторожно ступая каблуками там, где в ступеньках были щели. Перед ней расстилалась площадь Согласия, словно место для религиозных обрядов, в середине стоял обелиск, а она остановилась в растерянности и понимала, что не может больше думать.
— Мадмуазель, — раздался голос за ее спиной. Она обернулась. Голос принадлежал пожилому французу с усами и в берете, его глаза были влажны.
— Пьер Дюпре к вашим услугам, — человек приподнял берет и снова надел его на свои седые волосы. — Вы должны знать, что американцы уезжают завтра. Все, кроме Буллита и нескольких сотрудников, отправятся на рассвете. Они надеются попасть в Бордо. Я мог бы найти вам место в машинах, везущих багаж. Среди носильщиков. Не слишком шикарно, но…
— Нет, спасибо, — сказала она отрывисто. — Я сама найду дорогу. Я всегда так делаю.
И она поймала такси до «Алиби».
Глава двадцатая
Салли слишком устала, чтобы обращать внимание на мисс Тарноу, которая нарисовалась перед ней в фойе консульства, в ее руках были книги с кодами из кабинета ее мужа. Мимс должна была бросить их в костер, разведенный на заднем дворе консульства, но Салли преградила ей путь, не обращая внимания на полный раздражения взгляд, появившийся на лице этой женщины.
Салли повторила еще раз, теперь уже громче:
— Мне нужно видеть мистера Херста. Пожалуйста. По срочному делу.
— Джо на встрече с британскими чиновниками из МИД, — быстро сказала Мимс. — Приходите позже.
Если консульство будет открыто позже, подумала Салли, если костер на заднем дворе будет все еще гореть утром. Плохо скрываемая паника читалась в лице каждого, кто спешно покидал здание; кашемировый свитер Мимс потемнел от пота. В консульстве пахло, как в жилище зверей в зоопарке, оно было наполнено страхом и неуемной дикостью.
Она попыталась пройти сквозь мрачную и бормочущую толпу отчаявшихся людей, крича Je suis americaine[66] вооруженным охранникам, контролировавшим вход в посольство в разгар этого последнего рабочего дня. Американская военная полиция из Департамента вооруженных сил дежурила на заднем дворе, так что Мимс Тарноу могла спокойно жечь книги, и никто не смог бы украсть эти последние галлоны топлива из запасов консульства. Буллит нанял снайперов для дежурства на крыше на случай, если толпа начнет бесчинствовать, когда главный вход будет окончательно закрыт. Посол подозревал, что со стороны агентов-коммунистов будет провокация.
Салли не собиралась уезжать.
Она взяла мадам Блум за руку. Леони Блум взяла с собой несколько дорогих ей вещей: платок, в котором она молилась, чтобы соблюдать шабат в Новом Свете, несколько фотографий, немного помятых от времени, и золотые зубы своего умершего мужа. Она вышла вместе с Салли час назад и шла по переполненным людьми улицам со старой кожаной сумкой, навстречу обещанию, которое вчера дал ей Джо Херст и о котором он забыл. Обещание дать ей визу.
— Мы подождем, — сказала Салли Мимс Тарноу.
В вестибюле некуда было сесть. Салли подошла поближе к мраморной колонне, чтобы высвободить для себя немного пространства подальше от толпы. Между ней и внутренним коридором стоял солдат с ружьем. Француженка из приемной ушла со своего места, может быть, уже уволилась. Мимс не на шутку разозлилась — Салли больше никогда не пустят ни в одну из ее женских организаций — и зацокала своими каблуками к выходу во двор. Ее силуэт чернел на фоне языков пламени.
Салли подошла к вооруженной охране в коридоре и начала выкрикивать имя Джо Херста.
День Херста начался рано с чашечки эспрессо в кафе с аптекой по соседству. Макс Шуп может отправлять тело Стилвелла из Шербура завтра, если ему так хочется, но Джо Херст все еще искал убийцу. После ознакомления с бумагами Стилвелла он понял, что правду нужно скрыть. Он не был близко знаком с аптекарем, у которого был хищный взгляд парижанина, ждущего новостей с фронта — но аптекарь взял завернутые в бумагу осколки стеклянного бокала, которые Херст собрал с ковра в квартире Стилвелла, и согласился их исследовать. Херст сказал ему, что время поджимает, и там может быть яд.
Из аптеки он поехал в Сюрете и нашел там детектива, который вел дело Стилвелла. Он отдал этому человеку — его звали Фош — два стеклянных осколка, подобранных им на Рю Риволи.
Детектив был в ярости.
— Это просто невозможно, чтобы консьержка позволила вам войти в квартиру месье Стилвелла! То, что вы из посольства, ничего не значит. Ничего!
— В наши обязанности входит контроль за тем, что к каждому американцу во Франции относятся в соответствии с законом, — ответил Херст. — Проверьте отпечатки пальцев на этих осколках.
Реакция на эту просьбу была менее бурной, чем он ожидал. С начала войны для каждого жителя Парижа стали обязательными идентификационные карточки и отпечатки пальцев для полиции. Что означало, что и отпечатки Макса Шупа тоже были в базе данных. И Стилвелла, и Жако. И Салли Кинг.
— Закон — ничто в сложившихся условиях! — воскликнул Фош. — Это был несчастный случай, если не самоубийство. На бокале окажутся отпечатки двух мертвых pedes[67]. И мы узнаем только, что они пили вместе перед смертью. Bon[68]. Я могу сказать вам то же самое и без анализа отпечатков. Это ваша американская одержимость le roman policier[69].
— Может, и так, — согласился Херст на своем учтивом французском, — но вы все равно сделаете анализ отпечатков. Если вы откажетесь, monsieur l'ambassadeur[70] поговорит по телефону с министром юстиции, который имеет привычку обедать раз в неделю с l'ambassadeur в его замке в Шантильи. И вы, мой друг, отправитесь на фронт стрелять из ружья в нацистов быстрее, чем успеете сказать vas te faire foutre[71].
Или иди ты к черту на более понятном языке.
Фош сказал сердито, что посмотрит отпечатки.
Теперь Херст ждал телефонного звонка с новостями из аптеки или Сюрете, что-нибудь, что дало бы ему ниточку, чтобы зацепиться и найти убийцу. Его пульс бился учащенно, в задымленном кабинете он слушал, как представитель британского МИДа зачитывает акт о Фредерике Жолио-Кюри.
— Я объездил всю Францию за последний месяц, — говорил чиновник, медленно и растягивая слова, — в поисках такого человека, как ваш Фред. У меня есть список, вы понимаете какой. Длинный, как ваши руки, — британец вытянул руку в сторону Джо Херста, манжет отогнулся, и стала видна татуировка на запястье в виде свернувшейся кольцом змеи. — Сливки научного общества Франции. Нам нужно в обязательном порядке перевезти их в Англию, пока Гитлер не прибил их, как крыс. Я готов обещать им почву под ногами, продать на углу улицы свою старую мать, я готов вытащить «Оскара» и «Женевьеву» и зарядить их — а вы только сидите здесь и ждете. Манны небесной… что документы сами упадут вам в руки. Бог здесь не поможет, Херст. Бога нет.
— Если бы это было правдой, Джек, я бы сам продал коробку с документами прямо немцам, — ответил Херст мягко.
Чарльз Генри Джордж Говард, двадцатый граф Саффолк, известный среди своих друзей как Сумасшедший Джек, частью потому, что он никогда не вел себя, как пэр, частью потому, что это имя подходило ему: с татуировкой, хромающий от старой травмы на охоте, широкоплечий, с колючими усами. В другом возрасте он мог бы уйти в море и участвовать в морских сражениях. В этом возрасте он был женат на танцовщице кабаре из Альгамбра и имел степень по фармакологии в Эдинбурге. Наркотики были ответом его века на зависимость капитана.
Граф влил в себя третий бокал шампанского — только алкоголь придавал ему сил — и положил ноги на стол Херста. «Оскар» и «Женевьева» — пара дуэльных пистолетов, поражавших своей красотой, висели на стене кабинета. Вокруг него были разложены пачки бумаг, большинство с логотипом «С. и К.». В затруднительном положении посла Буллита — позвонить президенту Рузвельту или в посольство Британии по поводу французской атомной программы — был виноват Сумасшедший Джек: официальный представитель в Париже Его Королевского Величества и Британского научно-промышленного комитета.
Херст признавал, что этот титул является хорошим прикрытием для шпионажа. В который раз он жалел о том, что в США нет такой службы. Но ее не было и не было много лет: вместо нее были только Джо Херст и Пьер Дюпре.
— Вы разбираетесь в физике? — спросил он.
— Совсем немного, — сказал Джек, поднося к глазам один из документов Филиппа Стилвелла. — Но мне нравятся бомбы. Я занимаюсь взрывными работами в свободное время. Нет ничего лучше, чем поднять на воздух гору старых шин на заднем дворе. Разгоняет кровь, не так ли?
— Что-нибудь есть в этих документах? Я имею в виду то, что может указать на убийцу?
Граф осушил стакан.
— Нет, сэр, но я отправлю их Г. П. Томсону в Лондон. Он в два счета в них разберется. Ладно, бутылка пуста! Мне пора.
Он встал, поморщившись, когда его хромая нога коснулась ковра Херста, и ловко собрал бумаги в стопку. Ум графа, по мнению Херста, был таким же быстрым, как у фокусника. Вся остальная болтовня — немного о Вудхаузе, немного о Джилберте и Салливане — была просто для отвода глаз.
— Я не уверен, что могу отдать вам эти бумаги. Они не… — Херст замолчал, услышав что-то, что мог услышать только он. Женский голос, выкрикивающий его имя.
Он быстро встал и вышел за дверь.
Он видел только ее лицо вдалеке в коридоре, она сопротивлялась крепкой хватке консульского охранника, ее лицо было совершенно бледным, за исключением двух красных пятнышек на скулах. Все-таки она пришла к нему.
— Салли!
Охранник тащил ее подальше от глаз Херста, подняв руку, чтобы успокоить эту женщину на грани истерики. Она не умерла. Картины, которые он представлял себе — хрупкие лопатки под легким весенним платьем на цементном полу парижского морга — были кошмарным сном для других.
Он бросился к ней.
— Мисс Кинг! Как вовремя. Я не уверен, что вам когда-либо приходило в голову, что мы можем волноваться, здесь, в посольстве, когда узнали, что произошло с вами два дня назад, мы должны были убедиться, что с вами все в порядке. Я не думаю, что вы собирались связаться с нами. Пока вам снова не понадобилась помощь, я прав?
Он заметил, как она вздрогнула от резкого звука его голоса, от гнева на его лице, и почувствовал разочарование после триумфа. Его не заставишь обманом заботиться об этой девушке, уехавшей с первым попавшимся человеком, оплатившим ее счета, которая была слишком глупа, чтобы сидеть тихо, когда люди вокруг нее умирали, как мухи. Он не сможет пережить еще одну Дейзи в дверях с его сердцем в руках.
— Я — нет, никогда… — пробормотала она. — Я получила ваше сообщение. У себя в квартире. Вы просили связаться с вами — Я привела мадам Блум…
Он перевел взгляд с ее обреченных глаз на старую женщину за ее спиной. И вдруг вспомнил вчерашнее обещание. И почувствовал ужасный стыд.
— Конечно. Виза. Салли, я прошу прощения…
— Не говорите глупостей, — сказала она осторожно, но твердо. — Это полностью моя вина. Я не знала, что должна докладывать обо всех своих перемещениях посольству. Сегодня ваша помощь мне не нужна, мистер Херст, мне вообще вряд ли нужна чья-либо помощь, но мадам Блум в ней нуждается. Вы свободны?
— Да.
Выходя из кабинета Херста, Сумасшедший Джек откровенно скользнул взглядом по фигуре Салли. Он помахал рукой Херсту: папки Стилвелла были зажаты у него под рукой.
— Салли, никуда не уходите, — сказал Херст. — Мне нужно поговорить с вами.
— Естественно, я подожду мадам Блум.
Не глядя в его сторону, она прислонилась к стене и стала похожей на ребенка, который сдерживается, чтобы не заплакать.
— Прошу прощения, — сказал он еще раз. И повел Леони Блум через хаос консульского отдела.
Глава двадцать первая
После нескольких неверных поворотов и непристойных реплик Жолио с трудом разыскал склад Нелл. Улицы района Центрального парижского рынка были узкими, и на них можно было найти все, что только можно себе представить: свиные потроха и деревянная тара для упаковки, брикеты сена и бидоны с маслом, сырные круги и коровьи ноги. Рынок был нутром Парижа, огромный, под открытым воздухом в тени Сент-Юсташ, которая простиралась на несколько кварталов по округе. Рынок был уставлен складами, по краю располагались печи булочников и винные погреба. Дворы мясников уже залиты кровью в этот ранний утренний час, полно разнообразной домашней птицы, криками в последний раз приветствовавшей солнце, подвешенные за лапки тушки кроликов с остекленевшими глазами, покрытый золой свежий козий сыр, и повсюду резкий винный запах яблок. Люди, бродившие по рынку, сильно отличались от тех, которых Жолио привык встречать в районе Коллеж де Франс: в бесформенной одежде, с покатыми плечами и шаркающей походкой; чернорабочие с полей или складов, для которых базарный день был древней и священной традицией; женщины с широкими и крепкими, как речной утес, руками, только и мечтающие о том, как бы открутить шею гусю или разделать печенку. Его грузовик осторожно прокладывал себе дорогу через толпу людей, уже сворачивавших свои лавочки и самодельные ларьки. Блеяли привязанные к стойкам козы. Этих людей, похоже, совсем не волновала война, хотя их сыновья ушли на фронт много месяцев тому назад — как и у этих подвешенных кроликов, их мир перевернулся с ног на голову. Все, кого увидел Жолио на Центральном рынке, были старше шестидесяти. Те, кто был моложе, уже находились в другом месте с оружием в руках.
Он медленно двигался вперед в поисках улицы, о которой говорила ему Нелл, и где был въезд на склад, думая по пути об урожаях и земледелии, о нехватке рабочих рук в сельской местности и как очень скоро это скажется на питании его детей, неважно, дойдут нацисты до Парижа или нет. В детстве Жолио также пережил войну и хорошо помнил ноющее чувство голода в желудке. Сегодня, однако, когда Элен и Пьер были в Бретани или, может быть, уже на пути домой, он испытывал необычную отрешенность, сидя в кабине грузовика и возвышаясь над остальным транспортом, изолированный от шума и запахов рыночных витрин, один в своем заблуждении.
Как только Жак Альер ушел из лаборатории, Жолио аккуратно перелил тяжелую воду, все двадцать шесть канистр, в стерильные стеклянные сосуды. Он наполнил канистры обычной водой из-под крана и поставил на место, где, как ожидалось, Альер их и найдет. Потом он погрузил тяжелую воду в кузов грузовика, присланного полчаса тому назад Министерством вооруженных сил, официальная военная машина скучного зеленого цвета. И только затем отправился на поиски Нелл.
Он остановился перед широкими деревянными дверями и нажал на гудок. Последовала пауза, затем проигнорированные Жолио проклятия, одного из торговцев, которому он загородил проезд, затем двери распахнулись. В дверях стояли двое пожилых мужчин и смотрели на него. Он обратился к ним из окна кабины.
— Я к мадам графине, — сказал он. — Она меня ждет.
Тот, что стоял к нему ближе кивнул и отступил. Жолио осторожно въехал внутрь, не желая искать Нелл, не желая выдавать пульсирование в его висках и сухость во рту.
Она стояла перед массивной стеной из винных бочек, связанных веревками, прижавшись носом к деревянной бочарной доске, отодранной от остальных досок, и закрыв глаза. Впитывая неуловимый аромат, о котором Жолио даже и не мечтал, впитывая аромат дуба. Но, услышав звук мотора, она повернула голову и пошла к нему навстречу, а он остановил машину и заглушил двигатель. По ее взгляду и выражению лица он понял, что она крепко держит себя в руках; теперь это был бизнес, они стояли на виду у рабочих ее виноградника, которых она вызвала из Бордо, чтобы они забрали бочки. Он не должен протягивать к ней руки, обнимать ее, вдыхать аромат ее волос.
Он стоял неподвижно, ожидая. Она была в брюках, он никогда их на ней не видел, и эффект был одновременно экзотический и неожиданно эротический. Одежда из габардина и стрижка делали ее похожей на пай-мальчика.
— Я уже не ждала тебя, — сказала она ему. — Анри готов к отгрузке.
— Я не знаю Центрального рынка.
— Естественно. Ты же из тех, кто всегда закупается в супермаркетах? Или твоя жена это делает. Несмотря на твою преданность к коммунистам. Ну да ладно, что тебе от меня нужно?
Она была настроена на суровое с ним обращение. Притворялась, что прошлой ночи не было, безжалостно обрывая связь.
— Отошли своих людей. Анри. И другого.
— Почему?
— Потому что я прошу тебя, Нелл.
Она задержала взгляд, раздумывая, уступать ему или нет, потом неожиданно повернулась и громко сказала по-французски:
— Дуб хороший. Не лучшее качество и, конечно, не то, за что я заплатила, но у меня нет выбора. Бог знает, если в этом году урожай будет такой же ужасный, как и в прошлом, какая, к черту, разница, во что мы разольем вино. Начинайте грузить.
Он последовал за ней по ступенькам и через дверной проем склада в маленький безлюдный офис, где Нелл нацарапала свою подпись на накладной, а затем упала в кресло.
— У тебя найдется сигарета?
Он достал сигарету и зажег.
— Ты сказал, что хочешь, чтобы я отвезла для тебя что-то. В Бордо.
— Да, так.
Она выпустила колечко дыма.
— Мой коллега — фон Галбан… знает твоего кузена. Немца. Как его зовут?
— Ганс Гюнтер фон Динкладж, — ответила она. — Один из моих друзей детства.
Он содрогнулся, услышав последнее слово, подразумевая под ним множество плотских образов: губы мужчины скользят по ноге Нелл, возбуждают ее, Нелл запрокинула голову, ее зубы обнажились.
— Наши матери — сестры. Мы росли вместе в Биркмере, но я потеряла с ним связь, когда Спатц поступил в университет. Потом я вышла замуж и приехала сюда, — коротко проговорила она.
«Потом ты вышла замуж. После пяти месяцев страсти в моей постели. И никаких воспоминаний о Рикки и пустом перроне».
— Фон Галбан говорит, что… кузен… живет с тобой.
Она захлопала глазами в нетерпении.
— О, мой бог. Рикки, не начинай. Не надо этой твоей душераздирающей ревности, у тебя дома твоя Снежная Королева и двое детей. Не сейчас. У меня есть более важные дела.
— Ты попросила меня остаться прошлой ночью. Ты, Нелл. Если хочешь знать, Я не привык ложиться в постель с любой понравившейся мне женщиной. Мне было нелегко на это решиться, для меня это кое-что значит, это был не просто секс…
— А теперь ты мучаешься, тебя терзают угрызения совести, и ты хочешь, чтобы я сказала тебе, что все в порядке. Но я не сделаю этого, Рикки. Я не ложусь в постель с каждым, кто встречается на моем пути, и я возмущена твоим намеком на то, что я, мол, сплю с мужчиной, которого считаю своим братом, словно я отпетая шлюха. Так что иди к черту, Рикки, и вези то, что у тебя там в грузовике, домой, идет?
— Прости меня, Нелл.
Она затушила сигарету и не смотрела на него.
— Я не спрашиваю тебя, что ты делаешь или могла бы делать со своим кузеном. Я спрашиваю, что ты ему рассказала.
— Рассказала ему? — она взглянула на него, ее пальцы замерли над пепельницей.
— Он враг, Нелл. Ради бога, что он делает в Париже? Полиция, должно быть, ежедневно останавливает его и проверяет документы.
— О, я не думаю, что все так плохо, — холодно произнесла она. — Он не носит форму, и большую часть своей жизни провел во Франции. У него произношение лучше, чем у меня. Полиция интересуется им не чаще раза в неделю. А когда его останавливают, он дает им мой адрес. Говорит, что он родственник. Просто в гостях.
— В гостях? Sacre bleu[72], он же нацистский агент, не так ли?
— Не позволяй ревности захватить тебя, Рикки, — она лениво разглядывала его. — Спатц сам по себе. Он искренне ненавидит Гитлера и его людей, и, полагаю, он серьезно подумывает о том, чтобы работать на Альянс, так что пока не докладывай о нем своему министру.
— Нелл…
— Лучше побыстрее расскажи, зачем ты сюда приехал.
Она не проявила никакого участия, не дала ни единого повода, который бы объяснил этот переход от Альера к женщине, с которой он не виделся и не разговаривал много лет и имел все причины сомневаться в ее верности.
— Нам нужно вывезти из Парижа некоторые лабораторные материалы. До того, как придут немцы.
— А у меня есть грузовик, отправляющийся на юг.
— В Бордо, куда надо доставить наши материалы.
— Почему?
— Там порт. Он лучше защищен, чем Кале, и если в конечном счете нам понадобится отправить что-ни будь в Англию…
— Не проси меня перевозить уран, — резко оборвала его она. — Я не сделаю этого. Мое вино еще сто лет будет оставаться радиоактивным, а у меня и так полно проблем. На мировом рынке цены на вино из Бордо сейчас вдвое меньше, чем они были десять лет назад, к тому же на качество вина повлияли химические снаряды с прошлой войны, которые мы до сих пор выкапываем из земли, и нашествие виноградной тли, мое domaine[73] уже несколько лет не приносит прибыли. Бертран давно бы продал его, если бы я не настояла, если бы я не взяла его полностью под свою ответственность и не довела бы качество до соответствия требованиям Appellation Controlee[74]. После стольких лет усилий, Рикки, война отбирает у нас рабочих и бросает их под немецкие пули, у нас забрали медный купорос для присыпки виноградной лозы…
— Я не стал бы просить тебя перевозить уран, — сказал он мягко. — Это вода, Нелл. Двадцать шесть стеклянных емкостей с водой, собственноручно запечатанных мною. Если тебя остановят и будут обыскивать, разбей их и вылей воду на землю, поняла?
— В последние секунды перед арестом? — она попыталась засмеяться, но ее голос оборвался, и она закрыла дрожащей рукой рот.
— Тебя не остановят. Пожалуйста, Нелл.
Она кивнула, не отнимая руки от губ.
— Как только ты благополучно прибудешь в Бордо, ты напишешь своему брату Яну в Кембридж. Попроси сотрудников Кавендишской лаборатории выделить место для емкостей. На случай, если мы не сможем остановить немецкую армию.
— Это конец, да? Неважно, какими смелыми словами мы будем бросаться. Я не выдержу этого, Рикки.
Тогда он потянулся к ней, обнял, чего он давно ждал, и молча держал ее в объятиях, зарывшись лицом в ее волосы. «Здесь, в конце всего, я клянусь тебе своим разумом, своим рассудком. Я отдаю тебе свою душу, Нелл, которая и так всегда принадлежала тебе».
— Что будет с тобой? — спросила она. — Они тебя арестуют? Отправят в лагеря?
— Не знаю.
— Поехали со мной, — она вцепилась ему в плечо. — Поехали со мной и твоей водой. Мы доставим вас в Бордо. Или в Кембридж, если надо.
— Нет.
— Рикки…
— У меня есть дети, Нелл. Жена, которая сейчас на пути домой.
Ее руки опустились. Она отступила на шаг.
— То есть ты добровольно идешь в руки немцам? И согласен с тем, что они собираются с тобой сделать?
— У меня есть выбор?
— Выбор есть у всех. Только твой выбор никогда не совпадал с моим.
Глава двадцать вторая
Наступил вечер и краски весны на улицах и в небе поблекли. В нижней части Монмартра у фуникулера ветер гонял выброшенный лист кондитерской бумаги с остатками белой и липкой глазури. Усталые, неряшливо одетые люди — бродяги, как казалось Спатцу, — сидели, привалившись спинами к уличным фонарям, тупо глядя куда-то вдаль. Беременная женщина с двумя детьми, пожилой мужчина в кепке разносчика газет и с ногой, перевязанной испачканным кровью бинтом. Рана от шрапнели. «Мессершмитт». Спатц понимал логику немецкого Высшего командования: заставить миллион людей в панике бежать из низин на юг, заполнить главные дороги Франции, въезды и выезды и лишить войска Альянса любых возможностей для маневров — но он почувствовал, что ему хочется ссутулить плечи и не обращать внимания на пристальные взгляды. Он смотрел только на носы своих ботинок.
Вдруг женщина спросила его по-французски:
— Пожалуйста, месье. Вы не подскажете, где я могу переночевать?
Она была одна, но не относилась к fille de joie[75], искавшей заработка. Ее простое хлопковое платье было испачкано кровью и чем-то еще, похожим на грязь, еще больше грязи было на скулах, а пальцы опущенных рук конвульсивно сжались. Он отшатнулся от нее, от ее облика, который вызывал в нем чувство вины.
— Вы пытались на одном из вокзалов? Думаю, что власти города установили там кровати, — сказал он.
— Как мне туда добраться?
Он повернулся и указал на метро, вход из стекла и железа.
— На стене есть карта.
— У меня нет денег, — просто сказала она, констатируя факт. — Вчера меня обокрали, после того как самолеты улетели.
— Вы одна?
— Со мной только мои дети.
Спатц оглянулся. Кроме той усталой беременной женщины, которую он видел раньше, не было больше никого с детьми.
— Где же они?
— Я забыла. Mon Dieu[76], я забыла. Я похоронила их своими собственными руками у дороги. Они оба умерли! Mon Dieu, mes enfants…[77]
Ее глаза закрылись, рот открылся, и она опустилась на брусчатку, так как у нее подкосились колени. Ощутив внезапный приступ ужаса, Спатц попятился, бросив несколько банкнот к ее ногам. Его руки дрожали.
В этот сумеречный час Монмартр находился в движении, появились женщины в платьях и принялись подметать измазанные рвотой и грязью пороги, из кухонь доносились резкие звуки патефона. По большей части на бродяг, которые, словно одуванчики, появлялись то тут то там, внимания не обращали; что же еще делать, когда их так много? «Прекрасный антураж для самоубийства», — подумал Спатц, вспоминая ту полубезумную от горя мать, он не выносил Монмартр при свете дня.
Клуб «Алиби» был втиснут в угол площади Тертр, где продолжали гореть яркие неоновые огни и кричащие красные вывески. Площадь была безлюдна, только один человек потягивал что-то за столиком кафе, Спатц рассматривал его: мягкая шляпа, скромное пальто, большие усы, глаза, глядевшие мимо газеты на Спатца, с деньгами, слишком большими для такого образа жизни. Спатц поднял голову и вошел в клуб.
Он услышал пение Мемфис.
Это было что-то печальное, что-то из репертуара Билли Холидей, подобные мелодии Мемфис никогда прежде не исполняла. Это был не героиновый коктейль: Мемфис пела о мире, придуманном Коулом Портером — о богатой белой женщине, танцующей до рассвета, и о шампанском в постель. Но сегодня ее голос пронзал его позвоночник острыми ногтями, и он стоял неподвижно в пустом зале, глядя на пустые столики, перевернутые стулья, и волочащуюся по полу белую скатерть. Она пела у себя в гримерной. Мужчина — совершенно непохожий на праздного посетителя уличного кафе — с важным видом сидел на приподнятой над уровнем пола сцене.
— Моррис, — сказал Спатц.
— Фон Динкладж, — узнал его американец. — Я надеялся, что вы придете.
— Я не бываю здесь в этот час.
Спатц снял свою фетровую шляпу и положил ее на стол. Достал портсигар.
— Значит, это я вызвал вас. Благодаря той женщине в задней комнате.
Спатц холодно поднял на него глаза.
— Мы обязательно, — продолжил Моррис, спрыгивая со сцены, — должны поговорить. Вы так не думаете? Ради большей пользы для Рейха и наших жизней?
— Чего вы хотите, Моррис?
— Мои документы, — ехидно улыбнулся юрист. — Я полагаю, они у вас. Пожалуйста, присядьте.
— Мне от вас ничего не нужно.
Моррис вздохнул, как человек, который долго терпел.
— Я говорю о бумагах Филиппа Стилвелла, украденных из папок моей фирмы, которые, как я полагаю, вы затем стащили из квартиры его любовницы, когда чуть не убили ее два дня назад.
Спатц сосредоточился на том, чтобы зажечь спичку, не повредив пальцы.
— В той комнате не было документов.
Юрист сжал губы, когда Спатц бережно поднес пламя к сигарете, кончик «Данхилла» засветился теплым огнем, ему было совершенно безразлично.
— Я послал вас туда, чтобы вернуть себе свою собственность. Но вы слишком долго где-то пропадали, и сегодня я поехал туда сам. Русская шлюха пустила меня в комнату за скромное… вознаграждение. Я внимательно их искал.
— И ничего не нашли.
— Я хочу вернуть то, что принадлежит мне.
Моррис положил руки на стол: маленькие, беспощадные, влажные от желания. В одной руке он держал короткоствольный пистолет.
— Если вы не будете помогать мне, фон Динкладж, я буду вынужден прибегнуть к помощи друзей, — настаивал юрист. — Ваша… подруга явно не арийского происхождения. Она украсит рабочие лагеря фюрера.
— Вы теряете время. Я не видел ваших документов. Я не брал их. Я не знаю, где они находятся.
— Вы знакомы с рейхсфюрером Гиммлером? — спросил Моррис.
Спатц был спокоен. Его глаза скользнули по лицу юриста: маленькие влажные глазки, сжатые губы со злобной ухмылкой.
— А вы? — спросил он.
— Наши пути пересеклись. Я имел возможность оказать ему… некоторую услугу. Рейхсфюрер предпочитает говорить, что он передо мной в долгу. Смею надеяться, что Великий человек прислушивается к моему мнению.
— Глава СС никому ничем не обязан. Если вы считаете иначе, вы не доживете до завтра.
— Ха! Очень хорошо, фон Динкладж! Аплодирую вашей проницательности!
— Так вы потеряли бумаги Гиммлера? Неудивительно, что вы так обеспокоены. Я бы не хотел сообщать Великому человеку, как вы его зовете, такие новости.
— Я ничего не говорил ни о Гиммлере, ни о каких-либо документах, — пистолет качнулся в руке Морриса. — Ничего.
— Вам и не нужно было, — Спатц закурил сигарету. — Если бы у меня были эти бумаги, я бы продал их вам за хорошую цену. Поверьте мне. Но у меня их нет. Тогда где они?
— Все нити ведут к его подружке, — сказал Моррис в раздражении. — Я уверен.
— Почему?
— Потому что Стилвелл никогда бы их не уничтожил, и я искал уже везде. На фирме, в обеих квартирах…
Через тонкие стены доносилось пение Мемфис.
«…я ничего не знаю о голубых небесах, мистер, мое небо серо… потому что мой мужчина оставил меня…»
Спатц думал о ее теле, которое он так любил, как мягкие изгибы ее плоти могут быть уничтожены в горниле Сашенхаузена, как ее могут разорвать на части грубые руки тысячи мужчин.
— Если бы Альянс получил бумаги Гиммлера, — возразил он. — Я не дал бы вам и трех часов после того, как нацисты захватят Париж.
На это Эмери Моррису было нечего ответить. Они оба знали о жестокости Великого человека.
— Очень жаль. При таких отношениях, когда сам Гиммлер прислушивается к вашему мнению, вы могли бы многое сделать, если прийдут немцы. Вы были бы нужны. Показать лучшие бордели города, например. Однако теперь у вас есть только один выбор — бежать.
— A y вас другой выбор? — бросил Моррис.
— Я никогда не видел тех документов. Я сторонюсь Гиммлера и ему подобных, как чумы, — Спатц внимательно смотрел на него. — Конечно, я все еще могу вам помочь.
— Как?
— Вы ищете подругу Стилвелла, верно?
Моррис алчно подался вперед.
— Следуйте за телом. За трупом Стилвелла. Его или похоронят на французской земле, или отправят на родину на корабле. Подружка определенно поедет с ним. Вам нужно только позвонить в парижский морг и узнать о планах на похороны.
Юрист вскочил.
— Спасибо, фон Динкладж.
— С этого момента, друг мой, — сказал он язвительно, — вы оставите Мемфис Джонс в покое.
Человек, пивший аперитив в маленьком кафе на площади Тертр, уже давно осушил свой бокал. Он сидел на площади, служившей когда-то передним двором Бенедиктинского аббатства. Несколько веков тому назад здесь стояли орудия пыток и виселицы, а теперь это было место для греха и кофе. Инстинкт самосохранения предостерег его от того, чтобы заказать второй бокал «перно»: он не обедал, и от алкоголя в пустом желудке чувствовался дискомфорт. Бокал, как и газета, были выбраны для прикрытия, как повод пребывания одинокого человека в пустом уличном баре.
Он просмотрел военные новости, смесь бравады и слухов — «Великая французская армия с отчаянным бесстрашием противостоит немецким атакам», пропущенная правительственной цензурой в отчаянной попытке заполнить страницы газет, и вежливо отклонил предложение проститутки, словно тень скользившей по Рю Сент-Венсан.
Дверь клуба «Алиби» открылась, и оттуда вышел Эмери Моррис.
Юрист выглядел солидно: отличный, сшитый по фигуре костюм, одна рука в кармане брюк, взгляд устремлен вперед. Он быстро зашагал по тротуару, не обращая внимания на наблюдателя из кафе, который поднялся из-за стола и пересек площадь с таким расчетом, чтобы столкнуться с американцем. Только когда незнакомец поравнялся с ним, Моррис посмотрел в его сторону с невозмутимым выражением лица.
— Месье Эмери Моррис?
— Да?
— Этьен Фош. Surete National[78]. Прошу следовать за мной. У нас есть к вам вопросы касательно смерти вашего молодого коллеги, месье Филиппа Стилвелла.
На мгновение Моррис замер, словно плохо понимал значение его слов. Потом он вынул руку из кармана брюк и в упор выстрелил из пистолета в Фоша.
Пуля вошла детективу в живот. Он изумленно посмотрел на Морриса, инстинктивно потянулась к его пиджаку. Юрист. Такой маленький человек…
И револьвер выстрелил снова.
Глава двадцать третья
— Где мадам Блум? — спросила Салли, увидев, что Херст возвращается по коридору консульского отдела один.
— Я отправил ее домой с посольским водителем. Она очень устала, и ночью в городе ей ни за что не поймать такси. Все вышли на улицы.
— Я знаю. Я пришла сюда пешком, помните?
— Тогда я отвезу вас, — сказал он, — куда захотите. Но только не в вашу квартиру. Там небезопасно.
— Вы много на себя берете, мистер Херст, — она наклонилась и взяла чемодан. — Но мне не нужна машина. Я могу сама дойти до Латинского квартала.
— И ждать, пока убийца снова позвонит в вашу дверь? Не будьте дурочкой, Салли. Вы достаточно пострадали.
— Бог мой, — пробормотала она. — Что за мужчины? Вы и Шуп. Все время указываете мне, что делать…
— Макс Шуп?
— Он забрал меня вчера из больницы. Потом передал меня в руки своей жены. Ночью я сбежала от них. Не люблю, когда другие пытаются руководить моей жизнью, мистер Херст. Особенно мужчины.
— Вы были с Шупом?
Эта возможность не приходила ему в голову. Он был растерян. Она не сбежала с незнакомым парнем, каким-нибудь приятелем из прошлого. Он думал о Салли, а видел Дейзи. Ясное осознание собственной ревности — и того, как она исказила его способность трезво мыслить — на мгновение лишили Херста дара речи.
— На мой счет часто заблуждаются, — натянуто сказала Салли. — Я ношу эти невероятные изделия, шифон и шелк, бриллианты. С высокой прической, маленькая вуаль прикрывает один глаз. Перчатки. Я выгляжу, как мечта, мистер Херст. Мужчины думают, что я мечта. Они и предположить не могут, что я выросла на ранчо на Крайнем Западе, что, если понадобится, я могу оседлать лошадь и скакать два дня без перерыва. Большинство мужчин и не подозревают, кто я на самом деле. Это мечта, за которую они платят — Шанель, Скиапарелли — но Филипп видел больше, чем просто шелковые платья. Филипп понимал меня. И все равно любил меня…
— Разве мог он поступить по-другому?
Херст взял у нее чемодан. Она позволила ему это. Сегодня не было слез, только жестокость, но по бледности ее лица он догадался, что она на краю.
— У меня для вас кое-что есть, — сказал он. — Это принадлежало Филиппу. Идемте со мной, и мы поговорим об этом.
Он отвез ее прямо на свою квартиру на Рю Ларистон. С другой женщиной и при других обстоятельствах ситуация была бы отвратительная: Джо Херст сознательно соблазняет девушку, которой некуда больше пойти. Однако, зная Салли, он понимал, что ее мало заботила мораль. Ее прекрасные черты скрывали недюжинный здравый смысл и внутреннюю силу. Когда он сказал ей, что ей ни за что не найти свободного гостиничного номера в Париже, наводненном беженцами, она без звука согласилась.
— Шуп все равно нашел бы меня в отеле, — она ела «Камамбер», который он поставил перед ней вместе с чашкой кофе. — Первым делом он пошел бы искать меня туда.
— Вы прячетесь от него? — Херст сосредоточенно размешивал сахар на дне шейкера для мартини. Им обоим нужно было выпить чего-нибудь крепкого, и коктейль из виски напомнил ему о лете, проведенном на Лонг-Айленде, о Дейзи в платье с бретельками и в широкополой шляпе. Он представлял изящные плечи Салли Кинг, выглядывающие из яркого шелка. Снова мечта. Лучшие дизайнеры Парижа многое бы отдали за это.
— Шуп хочет, чтобы я уехала из Парижа. «Так мы избежим скандала, Салли», — она очень похоже изобразила голос юриста. — Он хочет, чтобы я завтра утром отправилась в Штаты вместе с телом Филиппа.
— Значит, вы знаете об этом.
— «Клотильда». Филиппа вывезут из морга завтра утром. Билеты я должна забрать в кассе на причале в Шербуре. Вместо себя я отправлю домой мадам Блум.
— Нет!
Он сердито посмотрел на нее, все дневные передряги снова дали о себе знать.
— Ей нужно уехать. Я остаюсь в Париже, мистер Херст.
— Зовите меня Джо.
Она взглянула на него с улыбкой.
— Полагаю, что уже могу вас так называть. Учитывая, что сегодня ночью я буду спать в вашей кровати.
— Послушайте, Салли, — он подал ей коктейль и подождал, пока она попробует. — Вы должны отплыть на этом корабле завтра. Не сидите здесь и не ждите, пока немцы убьют вас.
Эти безжалостные слова заставили ее замереть.
— Они, правда, придут?
— В любое время.
— Тогда, — она медленно проглотила последний кусочек сыра так, словно могла поперхнуться, — всем плевать на Филиппа, не так ли? Я имею в виду то, что он был убит. Они спишут все на самоубийство. Мы никогда не узнаем…
— Кто в этом виноват? — Херст пожал плечами. — Я сделал все, что мог. Фармацевт сказал мне, что напиток Филиппа был отравлен шпанской мушкой. Я заставил полицию проверить отпечатки пальцев. Но когда из Парижа все бегут, не думаю, что мы можем рассчитывать на большее.
Этим днем он не получил вестей от Фоша. Херст боролся с желанием позвонить в полицию.
— Вы тоже бежите? — резко спросила Салли.
— Не по своей воле, — вопрос застал его врасплох. — Буллит приказал мне утром отправляться в Бордо сопровождать сотрудников посольства.
Херст наблюдал ее реакцию после известия о его отъезде — каждый американец в Париже уезжал на юг или на запад — и залпом выпила коктейль.
В выражении ее лица читалось, что мир становится все страшнее. Он почувствовал желание дотронуться до нее, но немедленно подавил его. Он ничего не значил для Салли, просто еще один мужчина, который не был Филиппом Стилвеллом.
— Поезжайте в Шербур, — мягко сказал он. — Так будет лучше. Правда.
Она подала ему пустой бокал.
— Какая она была?
— Кто?
— Женщина на портрете.
Он провел столько времени, бродя по комнате среди ночи, когда нигде не горел свет, что уже почти забыл красоту этой гостиной — деревянная обшивка стен в стиле Людовика Шестнадцатого, собранные вместе шелковые занавески. Эскизы, сделанные масляной краской, красовались над камином.
— Она… оказалась проще, чем я мог представить.
Он снова наполнил бокал Салли.
— Ваша жена?
— Какое-то время. Он ушла от меня месяцев шесть тому назад.
Салли могла бы сказать, как делали это многие его знакомые: «Мне очень жаль» или «Как она могла так поступить?» — но она не стала нарушать воцарившееся между ними молчание. И он нарушил его первым.
— Я разочаровал ее. Сначала в браке, а потом после ее ухода.
— Как это?
— Вы говорили об ошибочном представлении о женщине, как о мечте. Я думаю, у меня так было с Дейзи.
Он никогда никому не рассказывал о сомнениях и чувстве вины, о том, что он думает о своей жене. Дипломат не должен позволять себе подобных слабостей.
— Я не люблю, когда вокруг толпа, — несколько судорожно произнес он. — Я всегда был самодостаточным. Но Дейзи любила вечеринки. Танцы. Восхищение окружающих. Здесь в Париже она вращалась в богемном кругу: писатели, художники, — он указал на портрет. — Это работа одного из них. Перед тем, как она сбежала в Рим с каким-то анархистом.
— Вы вините себя, Джо, — заключила Салли. — Это еще одна ошибка. Женщины сами делают выбор, так что иногда нам приходится учиться жить с этим.
— Она написала мне месяц назад. Просила помощи. Я так и не ответил на письмо. А теперь… — его взгляд, исполненный вины, встретился глазами с Салли, — никто не может ее найти. Я связывался с посольством в Риме. Вы можете в это поверить? Джо Херст ищет сбежавшую жену по всем тайным каналам межправительственной связи Штатов. Так трогательно. Каждый раз, когда я вижу кого-нибудь из беженцев…
— Вот почему вы были таким злым, — она медленно поставила коктейль на стол. — Сегодня днем. Вот почему вы отчитали меня посреди посольства. Вы не смогли спасти Дейзи, так что, ради бога, вы пытаетесь спасти меня. Но это другой случай, Джо.
— Это правда, — сказал он. — Например, я точно знаю, куда вы направляетесь. Знаю, какое у вас место на корабле, отправляющемся в Штаты. Завтра вы едете в Шербур, Салли.
— Что вы хотели мне показать? Это принадлежало Филиппу?
Ему хотелось сказать ей, что она не сможет уходить от этой темы всю ночь, но он заманил ее сюда обещанием показать конверт из манильской бумаги. Он достал его из своего портфеля и положил его ей на колени.
— Ваша мадам Блум отдала мне это вчера. Это, возможно, последнее письмо Стилвелла. Адрес вам о чем-нибудь говорит?
— Жак Альер? — она покачала головой. — Может быть, клиент. Спросите Макса Шупа.
— Я не могу этого сделать. Потому что это будет именно то, чего хочет Шуп.
Она внимательно посмотрела на него: идеальное лицо.
— Вы думаете, Филипп умер из-за этого, — вдруг сказала она.
— Да. Думаю, что тот, кто напал на вас, искал именно это.
Она бросила конверт на коктейльный столик, как будто от него шел неприятный запах.
— Откройте его.
Он оторвал клапан конверта, вытащил тонкую пачку бумаг и вслух прочитал то, что было написано на верхнем листке.
«13 мая 1940 года
Дорогой месье Альер,
Вы просили оригинал письма, которое положило начало моим противозаконным поискам в документах моего коллеги. Оно здесь, вместе с некоторыми странными документами, которые я обнаружил в архиве. Держите их в безопасности вместе с остальными бумагами и, ради бога, покажите все это кому-нибудь из сильных мира сего в Министерстве Вооруженных сил, Дотри или кому-нибудь еще, если вы все еще общаетесь с ним после Норвегии. Ни у кого здесь не хватает смелости заняться этим.
Сердечно ваш, Филипп Стилвелл»
— Оригинал письма, как он его называет, на немецком языке, — добавил Херст. — Подписан Роже Ламоном.
— Я не читаю по-немецки.
— До конца года этот язык, вероятно, станет официальным языком Европы, — с иронией заключил Херст. — К счастью, я его знаю.
«12 мая 1939 года
Рю Камбон, Париж
Мой дорогой Юрген,
Я был очень рад получить от тебя в прошлом месяце весточку и узнать, что все мои старые друзья в Берлине смогли выжить при нынешней системе. Я понимаю, какой риск ты взял на себя, отправив это письмо с посыльным. Я попрошу нашего общего друга выступить в той же роли, когда буду отправлять ответ. Я не люблю официальной цензуры, и меня пугает, что ты не можешь избежать ее даже в случае с простой дружеской запиской.
Я тоже с большой нежностью вспоминаю наше путешествие по Швейцарии. Я надеюсь, что очень скоро мы снова встретимся за кружкой хорошего пива с ароматным сыром и расскажем друг другу о том, что произошло за последние два года, не беспокоясь о том, что кто-нибудь может нас услышать.
Я потрясен известием о твоем назначении на фабрику «Людвигсхафен». Это крупное предприятие. Я надеюсь, что напряжение и запросы нынешней ситуации не истощили тебя. Постарайся найти время для себя, старина, или ты не сможешь быть никому полезен.
Касательно твоего запроса: я понятия не имею, почему тебя попросили поставить такое большое количество герметичных контейнеров с оксидом углерода[79] для главной канцелярии службы безопасности рейха. В конце концов, это абсолютно бесполезное вещество, конечно, за исключением твоего научного исследования, но даже в этом случае оно имеет лишь ограниченную ценность. Может, они имели в виду диокисид углерода[80] для бара, чтобы делать напитки! Но на деле сами канистры поставляются другой компанией — «Маннесманн Реренверке», ты, кажется, говорил — что наводит на мысль о более организованной деятельности, нежели пара клоунов с сифоном содовой. Кто-то в отделе закупок Института криминальной технологии подписывает огромное количество счетов. Если тебя это действительно волнует, и, судя по осторожности, с какой ты отнесся к отправке этого письма, это действительно так, я постараюсь узнать, чем я могу помочь, находясь здесь.
Наилучшие пожелания Дагмар и детям,
Роже Ламон»
— Я не понимаю, — сказала Салли. — Монооксид углерода? То, что выходит из выхлопной трубы автомобиля?
— И это вещество можно легко найти на любом шоссе и в любом городе мира. Так зачем же покупать его в таких объемах?
Она пожала плечами.
— Что еще у вас есть?
— Нечто, похожее на официальный меморандум, — сказал он, доставая еще один лист бумаги, — из Министерства внутренних дел Германии. Датировано августом 1939 года. Оно о чем-то, что называется… как бы это перевести? Комитет рейха по научному изучению наследственных и врожденных заболеваний. В общем, если у вас рождается ребенок с любым типом дефекта, вы должны зарегистрировать его там. Так говорится в письме.
— И?
— И я не имею понятия, что общего оно имеет с письмом Ламона. Кроме того, что в конце стоит подпись «От Юргена». Может, документ «Юргена», находящийся у Ламона.
— Дальше, — сказала Салли, допивая коктейль.
— Список больниц, насколько я могу судить. «Штутгартское самаритянское учреждение: Замок Графенек. Центр медицинской помощи: Бернбург-на-Зале. Линц: Замок Хартхейм. Центр медицинской помощи: Зонненштайн-бей-Пирна». Вам о чем-нибудь говорит?
— Филипп никогда о них не упоминал, если вы это имеете в виду.
— И, наконец, — Херст взял в руки четвертый листок, похожий на копию счета. — Заказ на покупку парка автобусов от имени «Благотворительного общества транспортировки больных». Генеральный штаб, Берлин.
— Это все?
Херст помахал пустым конвертом.
— Но Филипп просил Альера держать эти бумаги в безопасности вместе с остальными, что означает, что есть что-то еще, — возразила Салли. — Недостающие части головоломки.
— Думаете, дополнительные части помогли бы?
— Вряд ли Филиппа убили из-за автомобильного выхлопа.
— Похоже, что кое-кого убили именно из-за этого.
Херст протянул вырезку выцветшей газеты из одной из папок. Квадрат, старательно вырезанный ножницами. Это была фотография человека со спокойным лицом, ни молодого, ни старого, в черных очках инженера.
«Юрген Гебл, — гласила подпись. — Управляющий «Ай Джи Фарбениндастри», Людвигсгафен. Убит 25 августа 1939 года».
Глава двадцать четвертая
Тем вечером никому не хотелось есть: ни Жолио, ни молодому Моро, бледному от волнения и с тенью усталости на лице, ни фон Галбану, ни огромному русскому, которого они называли Леу (произносится как Лев). Они стояли под светом лабораторных огней вокруг карты, которую Жак Альер расстелил на столе для экспериментов.
Альер принес свежего хлеба и пару кусков хорошего сыра из магазина рядом с министерством. Еще он принес несколько бутылок белого бургундского и привел с собой двух военных полицейских с оружием, которые внимательно разглядывали физиков, пока он говорил.
— Вы, месье Моро, знаете Оверн, я так понимаю?
— Когда я был маленьким, у дедушки с бабушкой был там дом.
Моро был моложе остальных. С торчащим подбородком и растрепанными волосами он казался крайне взволнованным, на грани истерики.
— Дороги, я боюсь, лучше не стали, — продолжил Альер. — Следуйте по основным магистралям. Сначала через Орлеанские ворота — в Орлеан, а там поворачивайте на Бурже и Лимож. Из провинции Лимузен вы сможете проехать на восток к Клермон-Ферран. Тогда вы доберетесь до Центрального массива к рассвету.
— Мой папа обычно пользовался дорогой на Дижон, — возразил Моро. — Дальше на Лион и потом на запад…
— Но при той мощи, с которой немецкая армия продвигается в этой части страны, — мягко сказал Жолио, — разумнее будет сделать так, как говорит Альер.
— Мы не вернемся? — Коварски с вызовом посмотрел на них из-под своих густых черных бровей.
— Это риторический вопрос, мой дорогой Леу, или вы действительно хотите это знать? — спросил фон Галбан с иронией.
Русский пожал плечами.
— Как хочешь. Я лично уверен, что чертовы немцы не остановятся, пока не доберутся до Атлантики. Раз дейтерий в Оверне, найдем ли мы хорошее место для временного жилища? Найдем ли место для диффузионной камеры Жолио?
Альер с облегчением протер очки. Он боялся какой-нибудь сцены — что Коварски начнет беспокоиться о безопасности своей семьи, поднимет вопрос об интернировании; что Коварски и фон Галбан откажутся подчиняться. По поводу судьбы этих иностранцев решение еще не было принято — министр был очень обеспокоен наступлением танков и настойчивой рекомендацией Рейно поберечь свои драгоценные самолеты на случай более мощного наступления немцев. У него не было времени на этих двух ученых. Однако Альер подозревал измену.
— Министр Дотри разрешил арендовать подходящую виллу, где вы можете разместить свой персонал и оборудование, — ответил он. — Временно, конечно. Как только обоснуетесь на месте, можете привозить свои семьи. Но сначала вода. Филиал Банка Франции, подвал которого мы собираемся использовать, находится здесь, на Рю Грегуар де Тур, — он указала ручкой на карту Клермон-Ферран. — Управляющий — месье Бойе. Вы должны обозначить воду как Продукт Z. Бойе понятия не имеет о том, что это на самом деле.
— Я беру свою собаку, — вдруг сказал Коварски. — Борзую. Он горло порвет любому немцу, который приблизится к грузовику. Вы любите собак, Моро?
— Если ты его вымоешь.
— А вы, Жолио? — Коварски повернулся к нему. — Что вы будете делать, пока мы с риском для жизни будем пробираться по сельским дорогам?
— Я буду упаковывать лабораторные приборы, — ответил Жолио. — Выбирать, что оставить, а что отправить.
— Циклотрон?
— Это невозможно.
Коварски смачно выругался. Он любил циклотрон Жолио так же, как кто-то любит женщин или машины.
— Вы и месье Моро большую часть пути проделаете сегодня вечером, — взгляд карих глаз Альера был сосредоточен на лице русского. — Будете подменять друг друга за рулем. Жоффрой и Мелез, — он кивком указал на вооруженных охранников — поедут в кузове грузовика вместе с канистрами с водой. У них есть приказ убивать каждого, кто попытается украсть их. Если врагов будет больше, они уничтожат канистры.
— У меня тоже будет персональная защита? — спросил фон Галбан банкира.
— Насчет этого существует небольшое разногласие.
— Я сказал лейтенанту Альеру, что не могу нести ответственность за вредное воздействие радиации, — сказал Жолио мягко. — Ты знаешь, Ганс, что мы, работающие с ураном каждый день, — уже мертвецы, но эту цену мы платим во имя науки. Но можем ли мы просить невинных солдат, таких, как эти, — театральным жестом он указал на Жоффроя и Мелеза, — разделить нашу участь? Провести ночь по соседству с ядом в замкнутом пространстве? Взять на себя ответственность уничтожить его, и как, ради бога, они будут это делать без смертельного ущерба для своего здоровья, в случае захвата нацистами? Я не хочу пачкать кровью свои руки. И не хочу взваливать это бремя на тебя, Ганс. И это все, что я сказал лейтенанту.
Он был искренен, несмотря на жесты и возвышенность слов, и он хотел, чтобы бедный Ганс смог увидеть за искусственностью его речи желание защитить его. Желание полного доверия. Ради Ганса и его права ехать одному на юг, делать все, что он считает нужным с ураном, Жолио был готов на все. Он не мог бы оказать фон Галбану большего доверия, даже если бы вверил его заботам своего сына, позволил бы ему отправить Пьера одного на корабле из Марселя. Он хотел, чтобы фон Галбан знал это, сегодня, стоя в окружении незнакомых людей. На случай, если, как сказал Коварски, никто из них не вернется назад.
— Сколько урана нужно перевезти? — спросил банкир.
Они уставились на него в удивлении, думая, что он знает.
— Четыреста килограммов. Мы приобрели его около шести месяцев назад в Америке.
— Не природный уран?
— Металл, — поправил фон Галбан. — Это относительно новый процесс — производство высокоплотной формы, что означает, что нейтроны перемещаются по меньшей траектории.
— А они перемещаются?
— По цепной реакции, — Жолио смотрел на фон Галбана, а не на банкира. — Тебе понадобится еще один грузовик. Альер достанет.
— Конечно, — банкир взял свой портфель и вынул оттуда конверт. — Министр согласился, чтобы вы отвезли этот опасный металл один, герр фон Галбан, потому что на этом настоял le prefesseur[81] Жолио-Кюри. Но мы оставляем за собой право, vous-voyez[82], руководить вашими перемещениями. Прочитайте то, что находится внутри конверта, и затем сожгите его. Никто, кроме вас, не должен видеть этих инструкций.
Фон Галбан пристукнул каблуками и кивнул головой — на манер австрийского аристократа — и слишком поздно понял, что он вполне мог крикнуть «Хайль, Гитлер!».
— Ганс, — сказал Жолио несколько минут спустя, когда фон Галбан уже собирался уходить: собрать вещи, поцеловать жену на прощание, прочитать и сжечь министерское письмо, — неважно, что говорят люди Дотри, у тебя только одна миссия. Спрячь его где-нибудь в безопасном месте, где никто не сможет его украсть и он никому не сможет навредить. И не говори мне, где он, пока война не закончится.
Жолио засиделся в лаборатории до темноты, боясь, что когда он выйдет из Коллеж де Франс, его ноги сами понесут его сквозь сумрак в отель «Крийон». Он не хотел искать Нелл и услышать ее отказ, он не хотел узнать, что ее там уже нет.
Он взял табуретку и установил ее в дверном проеме комнаты, в которой находился его циклотрон — огромная машина, первая в Восточной Европе, От своих друзей из Германии он знал, что нацистское правительство хотело достать такой. Они вторглись во Францию, чтобы заполучить его. Он генерировал потоки дейтронов мощностью до семи мегаэлектронвольт — мощность, которую превышала только машина из Беркли, где Лоуренс изобрел циклотрон. Ученый по фамилии Пакстон — коллега Лоуренса — приезжал во Францию, чтобы помочь Жолио соорудить излучатель. Магнит был изготовлен в Швейцарии на заводе «Оерликон». Это была выдающаяся машина, достойная нобелевского лауреата и его жены. Жолио ненавидел мысль о том, что его разберут на части и отправят куда-нибудь в Далем или Берлин.
— И какую проблему ты решал, гуляя всю ночь? — вдруг раздался голос за его спиной.
Он обернулся, увидел ее бледное лицо, расплывчатое в приглушенном свете: тяжелую копну ее черных волос, ее немигающий взгляд. Во время эксперимента Ирен могла смотреть, не моргая, очень долго: его жена могла убедить в существовании любой природной аномалии и тут же выдать теорию ее существования. Он не мог даже сказать, понимает ли она, что такое любовь.
— Я думал, как защитить от нацистов самое важное.
— Твой циклотрон?
Он покачал головой:
— Тебя. Элен. Пьера.
— Но разве люди так уж критически важны, Фред? Одиночки по сравнению с массами?
У нее получился научный каламбур — критическая масса. Когда-то его забавляли подобные вещи, ему нравилось подмечать ее наблюдательность. Но сегодня вечером он чувствовал себя слишком уставшим и одиноким, чтобы искать спасения в чем-то интеллектуальном.
— Мы все умираем, — продолжила она резонно. — Только наши открытия переживут нас. Наука будет жить, после того как убьет нас всех.
Ирен была больна гораздо больше, чем он сам, ее анемия и хронический туберкулез были постоянными причинами для беспокойства, она соблюдала строгую диету, и ее физическая активность была ограничена. Это была Ирен, которая считала изучение смерти более полезным, чем изучение любви.
— И каково твое заключение? — сказала она резко. — После долгих прогулок в ночи?
— Вопрос состоит в том, оставаться или уехать, Ирен, — сказал он просто. — Остаться означает столкнуться с последствиями жизни под немецким правлением в надежде, что Франция выживет, или уехать. И предложить наши способности другим.
— Я никогда не уеду из Франции. Я не хочу быть похороненной в чужой земле.
Она отвернулась и пошла к двери. Решительная и непоколебимая, как смерть, которая уже держала ее за руку.
— Где дети? — спросил он ей вслед.
— В Арквесте. С Татин. Пока все не прояснится… здесь.
Татин была их няня. Он вспомнил маленькие лица своих детей, Элен и Пьера, с букетами блестящих желтых лютиков.
— Это мудро, — сказал он.
Она обернулась и посмотрела на него еще раз.
— Графиня Луденн в Париже, — сказала она. — Ты знал?
Глава двадцать пятая
Когда Спатц позвонил в дверь, фон Галбан собирался: несколько свежевыстиранных рубашек, аскотский галстук, на всякий официальный случай, два костюма и лабораторный халат, который он всегда надевал во время работы. Он бросил в оставшуюся у него после окончания швейцарской школы-пансиона сумку «Природа, отчеты» (из Академии наук) и последний выпуск «Физического журнала», в котором была и его небольшая статья — «Mise en evidence d'une reaction nucleaire en chaine au sien d'une masse uranifere»[83] — в соавторстве с Коварски и Жолио. Но на самом деле он не об этом. Его жена стояла в дверях, глядя на него изучающе. Он чувствовал себя, как ночной вор.
— Ты возьмешь саксофон? — спросила Анник.
«Это был символ всего легкомысленного и обычного, что могло бы быть уничтожено войной, — подумал фон Галбан, — блестящий медный инструмент, который он очень любил. В часы досуга, когда дети спали, он играл на нем, наполняя лестничную клетку причудливыми мелодиями. Он был слишком чопорным, чтобы играть джаз, слишком старомодным и формальным, человек методов и классификаций, немецкая эмоциональность, всегда собранный, с поднятой головой, поэт жесткой формы. Почему он вообще занялся музыкой, почему она рассказывала ему о том, чего с ним никогда не произойдет?» Ответ крылся в его крови. Не австрийской, не европейской, а той, что была гораздо старше. Эта кровь напоминала ему о солнце пустыни, бурном восточном базаре, торговцах верблюдами, женских бедрах, плавно двигающихся в свете масляных ламп. Его еврейская кровь играла в нем в часы его импровизаций.
— Там, куда я еду, саксофон не понадобится, — ответил он.
— А куда ты едешь?
Он бросил в сумку пакет с нижним бельем.
— Я расторгла наш договор аренды сегодня утром, — сказала Анник торжествующе. — Я уведомила мадам Жанн. Мы уедем прежде, чем эти чертовы немцы уничтожат Париж, прежде, чем начнут падать бомбы. Слава богу, мои родители могут позаботиться обо мне, тогда как мой муж полуариец отказывается это делать.
— Анник…
Но она отвернулась от него и вышла из комнаты. В тишине раздался тревожный звук дверного звонка, где-то засмеялась дочь.
Он присел на край кровати. У него не было ответов на вопросы жены, он не знал, сколько пробудет там и когда вернется. Не мог посоветовать ей, как поступить: остаться ли в Париже? Бежать ли в Понтуаз? Если бы не Жолио, не Министерство вооруженных сил, не уран, ждавший перевозки через море, — он бы собрал свою семью и отправился бы в Англию или Америку на любом маленьком самолете: куда-нибудь, куда немцы еще не добрались. Он не мог сказать этого Анник: у него не было самолета, и он должен был подчиняться Жолио. Ни единой возможности. У него была приличная зарплата в лаборатории, но ее едва хватало на то, чтобы одевать Анник в том стиле, который парижанка считала для себя пристойным. Он аккуратно вел ежемесячные счета, редко позволял себе излишества, но они всегда были в долгах. Ни одного запаса, ни одного резерва, ни одного свободного места на последних кораблях, уходящих из французских портов.
— Ганс, — произнесла она вдруг, стоя в дверном проходе.
Он поднял глаза и увидел ее раздувающиеся от гнева ноздри, она была в такой ярости, что ей было даже сложно дышать.
— К тебе посетители.
— Кто?
— Тот немец с нашей свадьбы. Может быть, он хочет завербовать тебя. И такая женщина…
Он подумал о кузене. Может, какое-то сообщение от Жолио. Он быстро встал, слишком быстро для Анник, которая презрительно фыркнула. Но рядом со Спатцем в гостиной стояла не графиня Луденн.
— Бог мой, — сказал он удивленно, уставившись на Мемфис: дорожный костюм из вышитого шелка, перчатки из страусиной кожи, туфли из кожи змеи. Она выглядела великолепно, как богиня, спустившаяся с горы в их скромное жилище — убогую обстановку из хромированных трубок и черной кожи. Она улыбнулась, и все его мысли были о той ночи, когда он увидел ее в «Фоли-Бержер»: танцующую с обнаженной грудью и поясом из бананов вокруг талии.
— Добрый вечер, фон Галбан, — произнес стоявший рядом с ней Спатц. — Прости меня за то, что напугал твою прекрасную жену. Ты собираешься уезжать, я вижу? По работе?
— Что-то в этом роде.
— И куда ты едешь?
«Ты проедешь прямо в Марсель по западной дороге через Тур, как только окажешься к югу от Оверна повернешь на восток, а в Марселе немедленно сядешь на миноносец «Фудроянт» под командованием капитана Бедойе. Отдашь свой груз капитану и немедленно возвращайся в Париж…»
Он сжег письмо из министерства, как ему и было приказано.
— Я не могу сказать тебе, Спатц.
— Ах. А вы, ma belle[84]?
Яркая светлая шевелюра и блестящие птичьи глаза теперь были направлены на Анник.
— Вы едете с ним?
— Моя жена уже обещала своим родителям, — сказал фон Галбан жестко.
— Понятно.
Спатц с мгновение рассматривал Ганса, как обычно четко отслеживая подводные течения и то, чего не было сказано.
— Времени мало, дружище, я не буду злоупотреблять твоей добротой и терять его. У меня есть предложение — для тебя и твоей жены, я должен сказать…
Анник громко вдохнула.
— Для меня? Вы и меня хотите завербовать? Ну, это уже слишком!
— Я совсем позабыл о вежливости, — с сожалением сказал немец. — Мадмуазель Мемфис Джонс — Анник фон Галбан. Доктор фон Галбан.
Мемфис элегантно театральным жестом отставила назад ногу, и фон Галбан проговорил быстро:
— Конечно. Очень приятно. Большая честь…
Анник тактично кивнула.
— Мадмуазель Джонс должна уехать из Парижа, — продолжил Спатц. — У нее, как и у вас, мадам фон Галбан, совершенно нет желания развлекать немцев. Необходимо, чтобы она добралась до Марселя как можно скорее. И я подумал о тебе, мой дорогой.
Фон Галбан нахмурился.
— У мадмуазель Джонс есть машина, но нет водителя. Она никогда не училась вождению. Кстати, бензина у нее тоже нет. Конечно, для того, кто путешествует по государственным делам… Ты, как я полагаю, направляешься на юг?
— Как ты узнал?
— Моя кузина рассказала мне, что Жолио перевозит лабораторию, — ответил Спатц равнодушно. — Никому из вас нет смысла ехать на север или на восток…
— Поэтому ты решил, что на юг.
Спатц улыбнулся.
— Когда ты поедешь сегодня вечером, ты не возьмешь с собой мадмуазель Джонс?
Вопрос был настолько неожиданным, что фон Галбан поперхнулся. Открыв рот, он уставился на своего друга.
— Ее компания может оказаться полезной, — мягко сказал Спатц. — Вернее, ее машина. Твой официальный автомобиль — ты ведь едешь один, я прав? — привлечет ненужное внимание. Но если ты поедешь на юг на машине мадмуазель Джонс… в качестве сопровождающего лица знаменитой певицы… никто не будет задавать тебе вопросов. Ты намерен развлечься в подходящей компании, зачем еще ехать в Марсель в это время года?
Анник издала нетерпеливый звук, наполовину отвращения, наполовину ревности.
— Решительно, это слишком! Я никогда не участвовала в твоих гулянках, mon cher[85], в тех местах на Монмартре, где ты бываешь, но если ты собираешься ехать с этой девицей, если ты подкупил этого человека, чтобы обмануть меня в моем собственном доме…
Фон Галбан бросился к ней: взгляд его карих глаз в отчаянии умолял ее, но Спатц опередил его. Со своей природной грацией он сунул руку в карман пиджака и достал пачку таких банкнот, каких фон Галбан никогда не видел, и предложил деньги Анник, как если бы он был паж, а она — королева.
— Я знаю, что такая семья, как ваша, где маленькие дети, а отца отсылают по делам, которые слишком опасны для того, чтобы говорить о них вслух, может оказаться в большом затруднении. Как знать, вдруг все банки закроются? Вдруг окажется слишком поздно покидать Париж? Пожалуйста, мадам фон Галбан. Примите это скромное выражение моего уважения, — у него хватило смелости погладить ее по плечу, — ради ваших девочек.
Фон Галбан видел, как она попыталась посчитать сумму в толстой пачке, понимал, что она прикидывала в уме возможности, которые могут дать ей эти деньги и какие ужасы ждут ее, если их не будет. Потом ее рука, подобно атаке змеи, резко выхватила банкноты из руки Спатца.
— Ради девочек, — сказала она натянуто. И ушла в спальню к детям.
Втроем они стояли в тишине, пока дверь за ней не захлопнулась.
Фон Галбан понял, что вспотел, его сердце учащенно билось. Он ни на что не соглашался, но все уже случилось! Он брал с собой эту незнакомую женщину — этот объект мужских желаний, эту сирену — с собой в Марсель сегодня ночью. Он должен был вести ее машину. Он должен был вступить в тайный сговор и обмануть министра вооруженных сил, Рауля Дотри, и спустить под откос свой официальный автомобиль где-нибудь за пределами Парижа. Ничего не было сказано, но все уже было решено. Он услышал свой собственный голос, как он начал составлять план, почувствовал головокружительную силу обмана, работу системы, которая загонит его в ловушку, вряд ли дав ему шанс.
— Машина… она где? — услышал он свой собственный вопрос.
— На Рю де Труа Фрер, — это была первая фраза, которую произнесла Мемфис Джонс. Ее хриплый голос завораживал, шелест акцента, напоминал о сигаретном дыме и пении.
— Встретимся на вокзале Монпарнас, — сказал он Спатцу. — В полночь. Для меня будет редким удовольствием сопровождать твою подругу на юг.
БРИТАНСКАЯ ОПЕРАТИВНОСТЬ. Четверг, 16 мая 1940 г. — Вторник, 18 июня 1940 г.
Глава двадцать шестая
Медок, где Нелл жила большую часть последнего десятилетия, находился к северу от Бордо. Это песчаный, продуваемый всеми ветрами участок земли, на западе граничащий с лесами Ланд, а на востоке — с рекой Жиронд. Вдали за полосой хвойных лесов и лентами дюн виднелся Атлантический океан. Главная дорога, прямая и узкая, проходила через обедневшие маленькие деревушки и вела к морскому порту Ле-Вердон-сюр-Мер. Это было место, полное тихих пляжей и соленых лагун, одиноких птиц на диком побережье, мест для кэмпинга, которые заполнялись летом и пустовали все остальное время. Ходили слухи о появлявшихся здесь контрабандистах, о пересечениях Ла-Манша при свете луны, о том, как люди выживают, борясь со штормами и занимаясь рыбной ловлей. Самая легендарная земля в истории виноделия Франции лежала на юге Медока, там, где имения Марго, Лафит, Латур и Мутон-Ротшильд производили свое знаменитое вино. Но имение Луденн находилось строго на севере, почти вплотную примыкая к Жиронд, и качество производимых там вин было удостоено лишь базового апелласьона[86] Медок. Эти вина называли cru bourgeois[87] — вина среднего класса — и их качество из-за земли, на которой они производились, никогда не поднималось выше.
Муж Нелл, Бертран, который унаследовал замок с прекрасными стенами розового цвета и сорока восемью гектарами виноградников, не любил Луденн. Он был слишком захудалый, слишком далекий и в нем напрочь отсутствовал всякий шик. По соседству находились поля, нашпигованные оставшимися со времен войны снарядами, когда Ле Вердон использовался для высадки американских десантников и постоянно обстреливался немцами. Речные доки прогнили и провисли. Он пытался продать поместье, пока не приехала Нелл со свежими идеями и энтузиазмом после замужества. Это место напоминало ей о болотистой местности, где она выросла, с заливными пастбищами и чайками. Она сразу же поняла, что Бертран ненавидит его и что это место может стать поводом для ссоры между ними. Нелл была непримирима: она остается со своими разношерстными работниками и виноградниками, кишевшими филлоксерой. Когда Бертран дарил ей драгоценности, она продавала их и вкладывала деньги в виноградник. В теплицах рядом с замком она скрещивала старые французские сорта и выносливые американские саженцы. Она научилась удобрять почву виноградников медным купоросом. Она провела электричество, восстановила полуразрушенные винный склад и бродильню — постройки, где производилось вино. И установила настоящую английскую ванную в доме. Бертран, любивший Париж, джин и «Век Джаза» даже после Великой депрессии не считал подобные вещи неуместными, дарил украшения другим женщинам и все реже приходил домой. Но для Нелл Луденн стал королевством. Он разливал по бутылкам одиночество класса «гран крю»[88].
Она уже тосковала по нему, когда громыхающий грузовик вез ее по окраинам Бордо. Они ехали уже шестнадцать часов и покрыли расстояние более четырехсот миль из Парижа через Шартр, Тур и наконец Пуатье, и дальше в Ангулем. Максимальная скорость грузовика была около тридцати миль в час. В темноте ночи Нелл и ее водитель, Анри, наткнулись на нескольких беженцев и не видели ни одного намека на присутствие немцев. Как будто здесь почти не было войны. Только Анри постоянно боялся, что кончится бензин. Он запасал бензин в жестяных канистрах задолго до поездки и не понимал, почему Нелл настаивала на том, чтобы ехать окраинами. По шоссе было бы быстрее, дорога там лучше и ровнее. Он вел грузовик в состоянии крайней тревоги, большую часть ночи постоянно переводя взгляд со счетчика топлива на быстро пустевшие канистры.
Нелл подумала, что у Жолио-Кюри был доступ к бензину через Министерство вооруженных сил. Но она не хотела спрашивать его об этом. Она была зла на Рикки — он потревожил ее одиночество, и этого она не могла ему простить. Когда она вызвала его из прошлого, в тот день на бульваре Сен-Мишель, это была ее прихоть: проверка ее власти над ним. Она сделала это, потому что ее попросил Спатц. Она думала приручить Рикки и снова бросить его, как раньше, и рассказать Спатцу все, что тому было нужно. В отличие от Рикки и Бернарда, немец ничего ей не обещал, никогда не просил ее о верности, он предавал ее с той же частотой, с какой она предавала его. Она понимала Спатца: он был энергичным и одиноким, как и она.
Она никогда не понимала Рикки. Ее желание владеть им и иметь над ним власть — обладать жгучим взглядом его глаз, огнем его прикосновений — было, как рана, которую она постоянно бередила. Он отдал ей стеклянные емкости с водой. Второй шанс на отношения, обещание. Она не стала просить его о топливе.
— Мадам графиня не хотела бы остановиться и выпить кофе? — Жан-Люк заглянул в пространство между двумя передними сиденьями, почти уперевшись подбородком в колени, на его плече мирно спала горничная Нелл. Нелл оставила свою прекрасную машину Спатцу и теперь везла пожилого шофера домой. Жан-Люк был слишком стар, чтобы идти на фронт, слишком стар, чтобы искать другую работу, и она хотела, чтобы он находился в безопасности. Но для поездки на юг на двух автомобилях бензина было недостаточно, поэтому надобность во втором шофере отпала. Немцы заберут все, что на колесах, даже велосипеды, когда войдут в Париж. Пусть лучше Спатц поедет на ее любимом автомобиле с двумя сиденьями.
— Я бы убила за чашку кофе, — ответила она. — Но нам нужно как можно быстрее попасть домой. Так ведь, Анри?
Старик только пробурчал. Слова, как и бензин, лучше было не тратить зря.
Они ехали по окраине Бордо, томившемся под весенним солнцем и соленым ветром с моря. Они ехали все время на север по каменистым возвышенностям Марго, пересекая реки Пойяка и холмистое плато Сен-Эстеф, и, когда они повернули к Жиронд, сердце Нелл учащенно забилось. Неважно, что осенний урожай был худшим из всех, что она помнила, что у нее не было никакой надежды улучшить качество вин, потому что все рабочие ушли на фронт. Она была дома.
Однако она с удивлением обнаружила, что на посыпанной гравием подъездной аллее ее уже ожидает несколько машин.
Если говорить точно, то машин было три. Один грохочущий черный «даймлер» непонятно какой модели, аккуратный маленький спортивный автомобиль синего цвета и серебристый «Роллс-Ройс» с водителем в униформе.
Последний автомобиль принадлежал даме, возглавлявшей эту небольшую группу. Она была стройной и высокой, ее губы были строго поджаты, на руках — перчатки. Светловолосая, с ясным взглядом, в коротком приталенном пиджаке и бриджах для верховой езды, казалось, она намеревалась этим утром прокатиться верхом, а не ехать по раздолбанным дорогам на север к малознакомым людям. Эта женщина жила в пятидесяти милях от Мутон-Ротшильд, и у нее не было привычки менять свой распорядок дня ради кого бы то ни было. Она настолько не любила перемены, что даже не взяла фамилию своего мужа, барона Филиппа де Ротшильда, ее титул позволял это. Для своих друзей она и после свадьбы оставалась прежней виконтессой Элизабет де Шамбур.
На нескольких аристократических приемах во времена, когда Бертран относился к Луденну более серьезно, Нелл перекинулась с ней лишь парой слов. Элизабет де Шамбур де Ротшильд не принадлежала ее кругу. И поэтому Нелл рассердилась еще до того, как грузовик остановился, и сразу же начала напряженно думать, что от нее нужно виконтессе.
Рядом с группой находилось двое детей, может, четырех и шести лет, игравших на гравии вокруг высохшего фонтана, и девушка, которая, похоже, присматривала за ними. За виконтессой Элизабет стояло трое мужчин: темноволосые, элегантные, утонченные, похожи на иностранцев. Их взгляды следили за грузовиком, пока Анри вел его по разбитой подъездной аллее. Никто из троих не пошевелился, когда Жан-Люк выпрыгнул из кабины и придержал дверь для своей хозяйки.
Нелл не сразу вышла из грузовика, несмотря на то, что хозяйка поместья Мутон-Ротшильд продолжала ждать ее на полуденном солнцепеке. Вместо этого она сказала Анри:
— Отгони грузовик к винному складу. Я хочу, чтобы дубовые бочки поставили в помещение первого года, понятно? Кувшины с водой, которые мы привезли из Парижа, нужно поставить в погреб вниз. Подальше, хорошо? Загородите их ненужными бутылками с вином плохого качества, которые никто не возьмет. Comprends?[89]
— Oui, — буркнул Анри.
Нелл вышла из кабины, и грузовик тут же тронулся и медленно, невыносимо медленно, поехал прочь, увозя свой секретный груз.
— Мадам виконтесса, — Нелл произносила слова по-французски с присущей ей грацией, хотя все ее тело болело от долгой поездки, и она мечтала о ванне. — Мои извинения. Мой дворецкий не должен был оставлять вас на улице.
— Так захотели дети, — равнодушно отрезала Элизабет де Шамбур. — На самом деле мы думали, что вас нет дома, и уже собирались уходить. Могу я представить вас своим друзьям? Графиня де Луденн — Джулиан де Кайпер, из Голландии.
Один из мужчин, самый старший, как показалось Нелл, протянул ей руку:
— Enchante[90].
— …и его двоюродные братья — Мойзес и Эли Лёвен.
Эти двое просто кивнули. Никто из них не подошел к ней.
— Мистер де Кайпер приехал со своей семьей. Он и Лёвены прибыли на корабле два дня тому назад в порт Ле-Вердон, сбежав из Амстердама от немецкой армии.
— Значит, им повезло, — сказала Нелл.
— Джулиан и Мойзес старинные друзья моего мужа, — неожиданно Элизабет де Шамбур перешла с французского на английский. — Я не могла не принять их, когда они объявились на пороге моего дома. Но я привезла их к вам, Нелл, потому что мне нужна ваша помощь. Не буду скрывать, я — на грани отчаяния.
— Понимаю, — Нелл изучала лицо виконтессы. — Они… евреи?
Виконтесса кивнула. Всем было известно, что она, в отличие от своего мужа, происходила из благородного французского рода и была христианкой.
— Банкиры самого высшего уровня. У барона большое количество сделок с ними.
Барон. Нелл почувствовала озноб — следствие бессонной ночи или, может быть, сила воспоминания: когда она видела его в последний раз, барон Филипп де Ротшильд гонял на «Бугатти» с предельной скоростью на гонках в Ле-Мане, руки на руле, на губах сардоническая улыбка. Он был совершенно бесшабашным, очаровательным интеллектуалом, любителем собак и женщин, который шагал по созданному им поместью в плаще рыцаря. Он был вторым сыном в семье известных английских банкиров, и Нелл однажды видела его мельком на скачках в Эскоте. Но она не была знакома с ним лично и не была вхожа в круг его приближенных. И хотя ей было безразлична Элизабет де Шамбур, она многое бы дала за возможность уделить Филиппу де Ротшильду пару часов. Ни один человек в этом мире — хоть через триста лет — не мог сравниться с бароном.
— Где сейчас ваш муж?
— В Париже. Он предложил свою помощь Рейно. Они не позволят ему уехать теперь, когда наступает немецкая армия… А ваш муж? Граф?
— На фронте, — Нелл ответила медленно. — Барон знает, что вы здесь? Препоручаете его друзей заботам малознакомого человека?
Взгляд Элизабет де Шамбур стал надменным, как будто ее обидел ответ Нелл, и она собиралась немедленно уехать на своем «Роллс-Ройсе», но затем она покачала головой.
— Он думает, что я оставлю их в Мутоне. А там моя дочь, она еще так молода! Если нацисты захватят Париж, они захватят и Мутон. Вы знаете, что они это сделают. Они забирают все, что принадлежит… евреям.
— И если вы будете укрывать беженцев, вам не поздоровится, — медленно произнесла Нелл. — А в Луденне их никто искать не будет. Это не такая добыча, как Мутон-Ротшильд. Да к тому же река — рядом, если ваши друзья задумают бежать.
— Вы все понимаете! — воскликнула женщина и схватила Нелл за руку. — Я знала, что вы поймете.
— Неужели? — она посмотрела на молчаливую группку мужчин: по выражению их лиц она поняла, что они прекрасно знают английский и сообразили, что их продают. — У меня есть цена. За мою помощь.
— Что же это?
— Рабочие. Мутон и другие поместья — Латур, ваши родственники в Лафит, Майлы в Лаланд — разобрали оставшихся рабочих и никого нам не оставили. В этом проклятом месте я не могу найти ни души. Коммуна Сен-Изанс опустела.
— Но до урожая еще далеко!
— Мне нужно сцедить вина. Улучшить их. У меня масса работы в бродильне, а занимаемся ей только я и еще трое.
Женщины смотрели друг на друга, ни одна не желала уступать. Элизабет де Шамбур поджала губы.
— Вы, англичане, — сказала она жестко, — ничего не делаете бескорыстно.
— Как и банкиры, — Нелл улыбнулась троим мужчинам, дети бросали камушки в ее осушенный фонтан. — Принимайте мои условия, виконтесса, или мы не договоримся.
Глава двадцать седьмая
На ней был серый шерстяной костюм, который подарил ей Мейнбохер[91] после своего последнего показа прошлой осенью. Костюм не очень соответствовал майской погоде, но он был шикарный и, по мнению Салли, очень подходил для того, чтобы следовать за катафалком.
Она стояла на тротуаре перед парижским моргом, пристально глядя на длинную черную машину с квадратной задней частью и тонированными стеклами, на ее странный груз — куполообразный саркофаг, похожий на громадную сигару — там лежал Филипп, нашпигованный в морге всевозможными химикатами, бесстрастный, с закрытыми глазами. Она представила, каким он был вечером того понедельника — с застывшим взглядом, полным ужаса от спектакля, который устроила ему Смерть. Или она представляла Филиппа в этом сигароподобном ящике: руки сложены на груди, словно в молитве, отсутствующее выражение на лице. Оба воспоминания были одинаково далекими и некстати. Душа Филиппа оставила тело, словно пару старых брюк, и уплыла.
Ночью (с понедельника она редко спала по ночам, всего час или два) она ощущала его шепот, назойливый, словно комар.
Салли. Салли. Обрати внимание, Салли.
— На что? — смогла она пробормотать и проснулась в незнакомой спальне, в темноте с осознанием того, что Филиппа больше нет.
Эта война, которая была всего лишь слухом в ту ночь, когда он умер, вдруг разверзлась, словно бездна и поглотила его. Хотя насильственная смерть одного человека в сущности пустяк, когда миллионы были вынуждены бросить свои дома и бежать от войны по дорогам Бельгии и Франции, подставляя под пули собственных детей. Но страшная смерть Филиппа всегда будет довлеть над Салли, ее жестокость не померкнет никогда. Правосудие должно свершиться, и она была готова помочь. Может быть, тогда он перестанет тревожить ее сон.
К обочине подъехала вторая машина, тоже черная и внушительная, с шофером с благодушным лицом и в униформе. Именно в эту машину она должна была сесть вместе с пожилой консьержкой мадам Блум, и именно эта машина должна была отвезти их обеих в Шербур.
Водитель катафалка курил, прислонившись к двери машины. Он обменялся парой любезностей с водителем лимузина, что-то насчет погоды и чертовых немцев, Салли точно не слышала. Один из шоферов был не очень старым, непонятно, как он избежал отправки на фронт, но Салли заметила, что он держит правую руку у груди, словно она плохо двигалась, и Салли представила, как рана, полученная им в двадцатые годы, привела к тому, что теперь он вынужден возить умерших.
Мадам Блум опаздывала. Водитель лимузина уже дважды посмотрел на свои часы. Салли стояла в позе манекена, отставив ногу и сжимая в руках сумку. Чемодан стоял у ее ног. Она со скучающим видом смотрела в ту сторону, откуда должна была появиться мадам Блум. Это была красивая женщина, чья вялость объяснялась переменой настроения. И никаких забот.
Ее равнодушный покой нарушил Джо Херст, появившийся из недр морга с консульскими бумагами в руках. Его долговязая фигура двигалась с безотчетной грацией, как будто, когда его никто не видит, он танцует под мотив, который только он умеет насвистывать. Его лицо, однако, было мертвенно бледным и под глазами были фиолетово-серые тени. Такое лицо, подумала Салли, будет у него до самого конца войны — лицо вечно ответственного за то, что он не смог спасти. Как и она.
Бросившая его женщина за многое несла ответственность.
Она внезапно почувствовала приступ вины: слишком уж ее интересовали превратности судьбы Джо Херста, учитывая, что совсем недавно она потеряла жениха. Осознание своей жизни и новый прилив энергии, когда в десяти футах от нее — разлагающееся тело Филиппа, заставили ее щеки вспыхнуть.
— Мадам Блум еще нет, Джо.
— Может быть, она нашла еще с десяток вещей, которые ей необходимы в Байонне, — быстро произнес он, — и пытается засунуть их в чемодан. Новости с фронта не очень хорошие. Трудно точно определить, куда направляются немцы: на юг на Париж или на запад, к морю. Возможно, что и туда, и туда. В любом случае, вам нужно сесть на этот корабль в Шербуре сегодня. Это может оказаться вашей последней возможностью уехать.
— Нет, — сказала она.
— Я уезжаю из Парижа через сорок минут. Шуп и все сотрудники «Салливан и Кромвелл» уже на пути в Бордо. Уже через неделю у любого эмигранта-американца не будет шансов выбраться из Парижа. Вы будете пытаться уехать без машины и бензина, а деньги будут постепенно заканчиваться. Не глупите. Садитесь на тот корабль вместе с телом Филиппа. Езжайте домой.
У нее слезы навернулись на глаза, все ее тело горело, горло сжалось, как у капризного ребенка.
— Сколько вы прожили в Париже, Джо?
Его застали врасплох.
— Полтора года.
— Я прожила здесь четыре года. Это шестая часть моей жизни. Это самая прекрасная жизнь, которая у меня была. В Париже я могла стать Золушкой или злой мачехой, если бы захотела, я могла стать принцессой любого королевства. Я никогда не уеду обратно. Туда, где я всего лишь чья-то дочь. Всего лишь Салли Кинг.
— Вы сможете вернуться, когда закончится война, — Херст обнял ее за плечи, от этого прикосновения она почувствовала непривычное замешательство.
— К тому времени я уже выйду замуж за какого-нибудь болвана, — сказала она, — и буду весить фунтов на сто больше.
— Садитесь на корабль, — он отпустил ее. — Мне нужно, чтобы документы Филиппа Стилвелла были перевезены в Нью-Йорк, Салли. Это единственный способ доставить их туда.
— То, что мы читали прошлой ночью? Думаете, они имеют какую-то важность?
— Из-за них кто-то убил Филиппа.
Слова повисли в воздухе. Салли невольно посмотрела на катафалк.
— Мне нужно, чтобы вы доставили их Аллену Даллсу в нью-йоркский офис «Салливан и Кромвелл». Он выяснит, что они значат. Ваш корабль дойдет до Манхэттена быстрее, чем любая почта.
Он уже все за нее решил: как она пересечет Атлантический океан со своими пустыми мечтами и доставит для него эту посылку. Но все же она заметила боль в его голосе. Ему это тоже чего-то стоило.
— Доставка документов, возможно, все, что вы можете сейчас сделать для Стилвелла, — мягко сказал он. — Единственный способ восстановить справедливость.
— Дайте мне их, — сказала она и направилась к похоронной машине.
Наконец, появилась Леони Блум, задыхаясь от тяжести чемодана, который ей пришлось везти на метро. Руки Леони покрывала испарина. Херст усадил ее во вместительный лимузин, услышал слова сочувствия, которые она говорила Салли, которая прилагала все усилия, чтобы пожилая женщина чувствовала себя уютно. Салли не смотрела на Херста, но когда он прощался с ней, то под вежливостью он ощутил безжизненность, лихорадочность отчаяния. Ему было все равно, будет ли она плакать всю дорогу через океан, главное, что она уехала.
Он стоял на тротуаре, провожая взглядом обе уезжавшие машины — ему казалось, что они двигались очень медленно, — и проклинал тот день, когда Салли ступила на порог посольства.
— Вот это взгляд, — мечтательно сказал Пети, стоя у капота «бьюика». — Симпатичная маленькая штучка, босс.
— Она не маленькая, — отрезал Херст, — и любит покойного.
Только он взялся за хромированную ручку двери машины, как услышал, что кто-то окликнул его по имени. Он обернулся к моргу, вглядываясь в поток идущих по тротуару людей. Вдруг снова раздалось: Херст.
Незаметная фигура, почти неразличимая среди толпы и серых фасадов: серая шляпа, такая же, как и у остальных. Внимание привлекали только глаза Макса Шупа, заставляя Херста замереть на месте. Они горели яростью и злобой.
— Она уехала?
— Салли? Несколько минут назад.
Юрист неожиданно и грубо выругался.
«Он знает, что бумаги у нее, — подумал Херст. — Он знает».
— Вы не могли предупредить ее?
— О чем?
— Эмери Моррис, — Шуп подошел к краю тротуара и, прикрывая глаза, посмотрел на запад. — Он в бегах. Разыскивается за убийство.
Глава двадцать восьмая
Утром того дня, когда война ступила на землю Франции, Мемфис проснулась в маленькой комнате с покрытыми белой штукатуркой стенами под самой крышей гостиницы в Алис-Сте-Рен. Она подумала, что это странное название для деревни, затерянной между холмами — Алис Святая Королева, когда никто из ныне живущих даже не мог точно припомнить, кто это. Деревня насчитывала примерно пятьсот человек прежде, чем большинство мужчин были отправлены на фронт. Обычная фермерская деревушка неподалеку от Дижона, знаменитая своей огромной бронзовой статуей Версингеторикса на центральной площади. Ганс рассказал ей, что Версингеторикс — это старый хрыч, который погиб в сражении против Цезаря, казалось, что любая статуя во Франции служит напоминанием какой-нибудь забытой и кровавой истории.
Солнечный свет проник сквозь ставни, и ветер принес аромат роз. Но не свет и не запах разбудили ее. Это был звук мотора — ревущего где-то высоко, повторяющиеся звуки выстрелов, и голоса людей, доносившихся через открытое окно. Она встала, быстро подошла к окну и выглянула.
Жиль Мартен стоял напротив гостиницы вместе со своим сыном-подростком, который не смотря на возраст уже работал в баре. Прошлым вечером хозяин гостиницы молча рассматривал ее, словно думал, что она упала с неба, может быть, с Марса, глядя на ее сияющую кофейную кожу и парижскую одежду. Его жена тут же поинтересовалась, а не пришел ли фон Галбан вместе с немецкой армией, но получив отрицательный ответ, она внимательно изучила его французские документы и пробормотала что-то насчет Пятой Колонны и того, что о нем нужно сообщить в жандармерию. Ганс спокойно объяснил, что он гражданин Франции, житель Парижа, что он везет мисс Джонс в Марсель, где она должна выступать, и по взгляду владельцев гостиницы он понял, что они решили, что это будет что-то вроде стриптиза, с голой грудью, как на парижских плакатах двадцатых годов. Жена решительно положила руку на плечо Рене — это был сын — и увела его на кухню. Сначала Жиль убеждал, что свободных комнат нет, что гостиница переполнена, хотя Мемфис знала, что город опустел из-за войны, ведь Седан был всего в нескольких сотнях миль на север. Ганс достал немного денег Спатца и вручил их французу. Тема была закрыта. Нашлось даже не одна, а две комнаты.
На некотором расстоянии позади Жиля и Рене стоял Ганс, словно он только что вышел из гостиницы после завтрака. Он щурил глаза от солнца, а на его лице было то выражение предосторожности, которое Мемфис уже научилась распознавать. Он шел по жизни с осторожностью, словно каждый день был огромным холодным прудом, куда он был вынужден сначала осторожно опустить палец и проверить, не укусит ли его какое-нибудь отвратительное чудовище. Она начинала привыкать к нему после стольких дней в его машине, или скорее, ее машине, набитой чемоданами, картонками и парой сумок, а Ганс аккуратно рулил, преодолевая плотное движение. Они были в дороге почти три дня после той торопливой встречи в среду ночью дома у Ганса: тот беспорядочный отъезд из ее пустого дома на Рю де Тру а Фрер. Спатц молча курил, а все ее костюмы, боа из перьев, украшенные блестками бюсты и шляпы были кое-как уложены в чемодан фирмы «Виттон», оставалось еще слишком много пар туфель, а также нужны были сумки для ее музыкальной коллекции.
— Откуда у тебя эти деньги? — с недоверием спросил ее Спатц, когда она пересчитывала наличные, взятые в офисе «Американ Экспресс».
— У одного из своих друзей, — спокойно ответила она. — Ты его не знаешь.
Вряд ли она рассказала бы ему, что речь идет о юристе по имени Шуп. Воспоминания о том ужасном ночном разговоре в комнате Жако и отблеск смерти во взгляде Шупа до сих пор заставляли ее вздрагивать. Но она спокойно обналичила чек.
— Ты используешь всех и каждого, не так ли, детка?
— Так же, как и ты используешь меня, — ответила она. — Думаешь, я не знаю, что ты заставляешь того парня, Ганса, ехать на моей машине ради своих интересов? За кем ты следишь, Спатц? За мной или за немцем?
— Ганс — австриец. И он будет присматривать за тобой. Я хочу, чтобы ты благополучно уехала из Парижа.
Он подошел и встал у нее за спиной, когда она швыряла украшения в сумочку. Она подняла голову и встретилась глазами с отражением его горящего птичьего взгляда в зеркале. Он погладил ее по плечу. У нее побежали мурашки.
— И пока будешь в пути, моя дорогая, — сказал он, — я хочу, чтобы ты была со мной на связи. Звони мне отовсюду, где есть общественный телефон. Говори мне точно, где ты находишься. Просто на случай, если мне придется… спасать тебя.
Больше всего за долгие часы путешествия Мемфис удивило спокойствие Ганса фон Галбана. Австриец, возможно, и воспринимал мир как нечто, готовое поглотить его в любую минуту, но за рулем ее машины он чувствовал себя вполне комфортно: редко говорил, деликатно молчал, никогда не надоедал. Большую часть своей жизни она все время кого-то развлекала: она развлекала своих братьев и сестер, когда ей было три года, и в тринадцать, когда в первый раз вышла замуж, в Лондоне и на Манхэттене, и на Елисейских полях. Она пришла к мысли, что мужчины — идиоты с вечно открытыми ртами, жаждущие, чтобы какая-нибудь женщина покачала перед ними своей грудью. Ганс был другим. Он разговаривал с ней как с человеком, у которого в голове есть мозги. Для нее это было открытием.
— Как вы стали друзьями со Спатцем? — спросила она его в тот первый вечер, когда они повернули в противоположном направлении от того, которое предписывало ему министерство, и двинулись строго на восток, прямо в лапы наступающей немецкой армии. В общих чертах его план заключался в том, чтобы проехать кратчайшим путем до Марселя и побыстрее вернуться домой к своей жене и детям, а быстрее всего это можно было сделать, двигаясь на восток и на юг. Он принимал во внимание тот факт, что даже закованные в броню дивизионы не смогут преодолеть столько миль за два дня, да к тому же ходили слухи, что немцы направлялись в сторону Ла-Манша. Он ехал по окраине Шампани, поворачивая на Труа и Дижон, но не рассчитывал, что вся французская армия рассыпалась, словно гонимые ветром листья, к югу от Арденн, а контрнаступление в Труа и остальных городах Шампани было провалено: все дороги были забиты изможденными людьми, джипами и деревенскими жителями, пробиравшимися в Париж. В среду в ночной темноте Гансу удалось проехать немного вперед, под конец они поехали по обочине и наблюдали с трудом передвигавшиеся колонны ослабевших солдат. Стволы ружей блестели в лунном свете. Мемфис открыла бутылку коньяка, которую она взяла с собой в дорогу, и они передавали ее друг другу, обтирая горлышко бутылки одной из ее перчаток.
— Я стал другом Спатца в тот день, когда понял, что никогда не смогу стать французом, — сказал он. — Гражданства и жены-француженки не достаточно. Когда твое одиночество невосполнимо, когда большинство людей тебя просто не замечают, даже от звука родного языка слезы наворачиваются на глаза. Думаю, вы тоже это испытали, мисс Джонс?
Они говорили по-французски, потому что он плохо знал английский, а она совсем не говорила по-немецки, но когда она услышала его слова, у нее все внутри сжалось. Она сказала, что ей все равно, вернется она когда-нибудь в Теннеси или останется в Париже до конца своих дней, но временами ей хотелось только одного: сидеть за столом своей матери влажным июльским утром, уперевшись локтями в мятый бумажный пакет, и лущить горох в большую миску. Ей нравилась та еда, которую умела готовить только ее мать, она хотела услышать певучий местный говор ее пыльной захолустной улочки — речь, которая лишила ее детства, заставила ее уехать из своего города и звучала в самых страшных ночных кошмарах. Она слишком хорошо понимала, что имел в виду Ганс фон Галбан: иногда даже враг бывает спасением, если он зовет тебя по имени.
Враг стоял на площади прямо перед гостиницей Жиля Мартена, в сорок три минуты восьмого утра, в субботу, восемнадцатого мая. Трое солдат в форме, которую Спатц называл feldgrau[92]: серые шерстяные мундиры и блестящие черные ботинки до середины икры. На головах у них были шлемы и защитные очки, а на руках — толстые черные перчатки. Они приехали на трех мотоциклах — юный Рене открыто восхищался этими сложными механизмами немецких машин. Глядя из окна, Мемфис понимала, что эта троица являлась авангардом огромной силы. Они были слишком самоуверенны: эти трое уже завоевали город, просто войдя в него. Там, откуда они пришли, таких было много.
Один из них, их командир, как показалось Мемфис, говорил по-французски, и довольно громко, словно компенсируя этим свой ужасный акцент. Она поняла, что он настаивал, чтобы все оставшееся население Алис-Сте-Рен собралось и ушло из города до того, как прибудет немецкая армия. Также ему нужен был бензин для мотоциклов. С этим точно была проблема: Ганс и Мемфис уже выяснили, что в Алис-Сте-Рен совсем не было топлива. По правде говоря, во всей деревне была всего одна машина. Ганс стащил немного топлива глубокой ночью со склада в окрестностях Труа, но это было позавчера, и Мемфис уже начинала волноваться по поводу предстоящей дороги: подъем через гористую местность Гренобля.
Жиль попросил Ганса перевести, и с уже знакомой Мемфис осторожностью Ганс сделал шаг вперед и заговорил по-немецки. В этот момент откуда-то из глубины площади раздался выстрел: одиночный резкий ружейный выстрел. Один из немецких мотоциклистов рухнул на землю.
Офицер посмотрел на упавшего человека — кровь хлестала из раны на его шее, второй солдат склонился над распростертым телом, качая головой, а потом недолго думая неожиданно схватил Ганса, Жиля и Рене и вытащил их на середину площади, построив таким образом стену из людских тел между ними и неизвестным снайпером. Мемфис видела, как немец что-то пробормотал Гансу, который в свою очередь перевел это Жилю Мартену. Хозяин гостиницы закричал по-французски, высоко и отчаянно.
— Прекратите огонь! Выходите и сдайте оружие! Если не сделаете этого, будут последствия!
Тишина воцарилась над Алис-Сте-Рен. Мемфис смотрела на маленькую группу людей, стоявших под солнцем, словно статуи. Птица села на голову Версингеториксу и лениво расправила крылья.
Немецкий офицер достал нож из кармана и перерезал Рене горло от уха до уха.
Жиля убили выстрелом в голову.
Глава двадцать девятая
Было сложно решить, что сжечь, а что оставить. Альер велел ему начать сортировку исследовательских отчетов, которые он составлял для министерства, сохранить точные данные в папках и ящиках, но уничтожить сами отчеты с их грузом ответственности. Именно это и должен был делать Жолио. Он даже соорудил в лаборатории подальше от опасных химикатов идеальную комнату поджигателя: стальной барабан, в котором раньше, должно быть, хранилось нечто важное, а теперь, пригодный только для огня и пепла. Он привык делать адские машины. Каждый физик был отчасти механиком, привыкшим возиться с игрушками, и Жолио не был исключением. Он построил собственную диффузионную камеру. Установил свой электрометр Хоффмана. Выдувал и резал стекло. Собрал циклотрон. Все это примеры его терпеливой способности в пустую тратить время — теперь все это нужно прекратить. Сознавая тщетность собственной жизни, он стоял теперь на коленях перед столом, окруженный бумагами и неспособный решить, что бросить в огонь. Может быть, его Нобелевскую речь?
Там и нашел его Сумасшедший Джек.
Жолио никогда не встречался с Сумасшедшим Джеком. Обычно лоцманом графа Саффолка был Альер — его пропуск в Коллеж де Франс. Уничтожив однажды бумаги «Салливан и Кромвелл», граф очень быстро нашел Жака Альера благодаря своим контактам в британском посольстве и нескольких французских министерствах. Сумасшедший Джек знал, что у французских парней будут планы на такую звезду, как Фредерик Жолио-Кюри, не говоря уже о его жене, и было жизненно необходимо расстроить их замыслы.
— Графу Саффолку можно доверять, — вполголоса сказал Альер Жолио, когда Сумасшедший Джек поднимал трубки и заглядывал в мензурки, счастливый, как моллюск во время прилива. — У меня приказ от министерства содействовать ему во всем, вы понимаете?
Была суббота, конец дня. Ирен не пришла в лабораторию: она отдыхала дома в Антони. Жолио было неловко перед ней, и он был исключительно вежливым. Он боялся любых попыток начать разговор, который мог бы волей-неволей заставить его выдать свою любовь к другой женщине. Она больше не говорила о Нелл после того самого первого вечера, как будто все, что должно было быть сказано, они уже и так поняли. Она могла ощущать терзавшее его чувство вины, так же, как она отчетливо представляла любую научную теорию прежде, чем приступить к ее доказательству. Вот почему она оставила детей в Бретани. Она не хотела отравлять им жизнь. Он стал внезапно и навечно радиоактивен.
— Я так понимаю, что тяжелую воду удалось вывезти из города? — спросил граф.
Жолио раздраженно посмотрел на Альера. Банкир утвердительно кивнул. Это была правда. Прошлым утром в семь часов Моро разбудил Жолио телефонным звонком, сообщив, что он и Коварски находятся в Клермон-Ферран; продукт Z был извлечен из банковской ячейки Банка Франции, сам Моро был на пути в Париж, а Коварски подыскивал подходящее место для временной лаборатории в Оверне, но это была уже закрытая информация. Не просто конфетти, которым можно осыпать любого гипотетического незнакомца. Несмотря даже на то, что канистры Моро были ловушкой.
— Очень хорошо, что вы учитываете запасы «ГидроНорск», — заключил Сумасшедший Джек, — Очень проницательно. Дальновидно. Мы были бесконечно рады, когда Альер приехал в Лондон и сообщил нам об этом. Мы бы сами не могли сделать лучше. А потом, когда немцы волной захлестнули Норвегию…
— Зачем вы пришли? — прервал его Жолио.
Англичанин оперся о металлическую табуретку и достал из кармана своего твидового пиджака кусок салями. Держа в руке маленький ножичек, он сосредоточил на колбасе все свое внимание.
— Я приглашаю вас в Кембридж, старина. Лаборатория Кавендиша идеально подходит для человека вашего уровня и вашей репутации. Я могу предложить вам любую помощь в профессиональном плане, жилье и переезд к вам жены и детишек, а также уважение и сотрудничество с лучшими умами Англии. А вы сможете считать, что боретесь с джерри[93] вместо того, чтобы идти прямо в немецкий капкан.
— Бесспорно, немцы добьются своего, — Жолио взглянул на Альера, но его лицо было бесстрастно. — Это может быть очень долгая война.
Граф покачал головой.
— Уважаю ваши чувства. Это демонстрирует искренность и все такое. Но к чему отчаяние? Ваш человек Рейно сказал в четверг нашему премьер-министру, что его армия сдалась. У него не было другого выбора, как покинуть корабль. Практически сделал Черчиллю выговор за то, что тот не послал больше самолетов! Я никогда не видел «старика» в таком раздражении. Я бы не сказал, что он ограничился только руганью.
Жолио положил бумаги, которые он держал, и подошел к окну лаборатории.
— И у вас все еще есть этот план насчет бомбы, — задумчиво произнес граф. — На то, чтобы получить на нее патент. Я думаю, мы все согласны, что не можем допустить, чтобы хоть частичка — ха! это не каламбур — оказалась бы в руках Джерри.
— Рейно никогда не сдаст Париж, — сказал Жолио.
— Но он дал инструкции нашему министерству, vous-voyez[94], готовиться к отправке в Тур, — вставил Альер. — Отсюда я могу сделать вывод, что каждая ветвь французского правительства имеет свои планы на эвакуацию. У нас есть люди, которые до сих пор жгут бумаги в Министерстве вооруженных сил. Вы должны быть готовы, Жолио.
— Я согласен ехать в Клермон-Ферран.
— Этого может быть недостаточно. Вы понимаете, что вы сами — ваши мозги — представляют для Франции большую опасность, чем ваша тяжелая вода и ваш циклотрон? Если вы попадете в руки немцам? Мы не можем гарантировать вам безопасность, mon ami[95]. Или безопасность Ирен и детей. Мы даже не можем гарантировать, что вывезем вас. Но граф делает все возможное.
Жолио обернулся и посмотрел на банкира.
— Возьмите моих мальчиков, — сказал он. — Возьмите фон Галбана и Коварски. Они первоклассные ученые, и им нужна работа. Немцы их просто убьют.
— Не сомневайтесь, они так и сделают, — согласился Сумасшедший Джек. — Только не думайте, что они не убьют и вас, Жолио, как только выяснят все, что им нужно знать. Эти немцы невероятно рациональны. Чертовски рациональны.
Он закончил нарезать колбасу и предложил Жолио кусочек. Возможно, граф и смахивал на Берти Вустера, но Жолио понял вдруг, что англичанин не был опереточным персонажем, не был дураком.
— Сколько у меня времени на то, чтобы принять решение? — его взгляд задержался на графе и его татуированной руке, державшей блестящее лезвие ножа.
— Я дам вам день-два, — заявил Сумасшедший Джек. — Если джерри не явятся сюда первыми.
Глава тридцатая
В понедельник, двадцатого мая, немецкие самолеты снова совершили налет на Шербурский порт.
Капитан приказал всем спуститься с палубы корабля внутрь, но не в трюм, который был забит грузом, потому что «Клотильда» являлась торговым судном, а в самый низкий пассажирский отсек. Верхняя палуба была завалена мешками с песком на случай обстрела. Кругом, повсюду находились французские военные суда, начиненные противовоздушным оружием: время от времени они подбивали немецкий самолет, который, к общей радости всех наблюдателей, падал в море, словно превращающийся в пепел феникс.
Их бомбили четвертый день, с утра в пятницу, когда Салли и мадам Блум поднялись на борт, и Салли с трудом переносила вонь и жару внутри «Клотильды», устав от сотен отчаявшихся людей, которые, сломив сопротивление голландской команды, поднялись все-таки на борт.
Салли и мадам Блум приехали на тринадцать часов позже указанного в расписании отбытия, с трудом пробиваясь по дороге в Шербур через колонны отступавших солдат, большинство из которых были англичанами. Изможденные люди провожали катафалк взглядами, в которых угадывались остатки уважения к умершим, но оба длинных черных автомобиля двигались через колонны боевых машин со скоростью улитки. Поездка, которая должна была занять четыре часа, все затягивалась и затягивалась, пока не сгустилась тьма и мадам Блум не захрапела в углу лимузина, а Салли была готова кричать от нетерпения. Они подвезли нескольких солдат, парней лет восемнадцати-двадцати, безмятежно болтавших, пока машина пробиралась к Шербуру в темноте вечера. Салли запомнила их имена только для того, чтобы забыть их, она слышала слухи о продвижении немцев, видела легкую дрожь пальцев, когда они салютовали ей, выходя из машины. Все перемещались в сторону Ла-Манша, подгоняемые нацистами.
В три часа утра они съехали на обочину, чтобы водитель мог поспать. Обе машины были припаркованы у перекрестка, ведущего куда-то сквозь яблоневые заросли Нормандии. Леони Блум что-то бормотала во сне, и Салли задремала. Тут раздался прерывистый звук, а потом яростная пулеметная очередь: «мессершмитты». Она тут же проснулась и закричала.
Когда самолеты исчезли, дороги были усеяны телами и машинами. Повезло тем, кто нырнул в канавы, некоторые машины были перевернуты. Но безмолвные фигуры посреди шоссе говорили сами за себя. Она попала под дождь смерти, но ни одной капли на нее не попало.
— Зачем они это делают? — мадам Блум была в ярости. — Как они смеют? На дороге же женщины и дети!
— Они расчищают дороги, — сказала Салли. — Для своих танков и военных машин. Это самый эффективный способ. Мы должны куда-нибудь свернуть с этого шоссе.
Их водитель — пожилой, испуганный, со слезами на глазах — повернул лимузин на обочину и съехал на боковую дорогу. Весь остаток ночи они ехали в неизвестном направлении через яблоневые рощи.
* * *
— Я бы на его месте спустила бы эту чертову лодку на воду и использовала бы любую возможность, — говорила Леони Блум, сидя в трюме «Клотильды». — Мы можем умереть здесь, как и по дороге в Саутгемптон или Фолкстоун. Чего он ждет?
— Приказов, — Салли достала из сумочки и протянула старушке еще вполне чистый носовой платок. Они уже больше часа находились в своей каюте. И так перегруженная команда организовала им еду: воду и крекеры. Салли понятия не имела, где может быть их багаж.
— Капитан сказал, что у него есть приказ командования французского флота не выходить в море. Это единственная причина, по которой мы все еще стоим на якоре с самой пятницы. Бедняга капитан теперь себе не принадлежит.
Она говорила с капитаном всего два раза. Он устал и уже отчаялся, потому что не мог попасть домой в Голландию, оккупированную теперь немцами, не оказавшись под обстрелом немецкого флота или не лишившись своего его корабля. Он хотел добраться до безопасной Англии. Перевести дух день или два. Решить, как бороться дальше и что вообще ему лучше делать.
Он отказывался принять на борт гроб с Филиппом, и Салли отдала ему все деньги, которые у нее были. Теперь гроб стоял в отсеке для хранения мяса — в холодильнике, хотя капитан, которого звали Лидерс, выключил генератор ради экономии энергии. Она не хотела думать о теле Филиппа в трюме. Вместо этого она сказала мадам Блум:
— Мы не останемся здесь насовсем, вот увидите. Расскажите мне о своей племяннице. Ей около сорока, вы говорили? У нее двое детей?
— Двое мальчиков, — поправила Леони Блум. — Давид и Саул. Растут, как сорная трава. Она послала мне фотографии… Саул похож на моего брата, из Мюнхена. Я не слышала ничего о нем уже почти два года…
Салли знала все об этом старике из Мюнхена, которого отправили в трудовой лагерь. Мадам Блум рассказывала о нем с утра до вечера, словно ее брат, лица которого она больше никогда не увидит, был символом ее решения уехать из Европы, окунуться в неизведанное в свои семьдесят шесть лет. Салли не прерывала ее. Ее собственные мысли были в Бордо вместе с Джо Херстом. Он должен был уже добраться до города со всем домашним скарбом и ноющими детьми. Может быть, все оставшиеся американцы были уже в море, на пути в Нью-Йорк, пока Салли дрейфовала в водах Атлантического океана с бесценной папкой Херста в руках и телом возлюбленного в ящике.
Но она была по-своему верна Джо. Не зная точно, где ее багаж, находясь среди толпы людей, осаждавших борт судна, непредназначенного для перевозки пассажиров, она спрятала конверт из манильской бумаги под венком из увядших белых цветов, который для Филиппа заказали в «Салливан и Кромвелл». Она считала, что там, в холодильнике, вместе с телом документы будут в безопасности.
«Клотильда» дрогнула.
— Бог мой, — выдохнула мадам Блум и схватила Салли за руку. — Нас подбили! Чертовы немцы хотят нас потопить!
— Нет.
Салли прислушалась.
— Думаю, это моторы, а не бомбы. Мы движемся.
Пробираясь на палубу, она хотела видеть французский берег, когда «Клотильда» будет выходить из порта Шербура, вдохнуть соленый воздух и горелый запах дыма, смотреть до боли в глазах, не отрываясь, на этот кусочек земли, где старые дома на набережной стоят прямо в море, смотреть на стрельбу с соседних судов и на голландских моряков. Было важно попрощаться со страной, которую она оставляла. «Клотильда» качалась из стороны в сторону, немецкий самолет пролетел совсем низко над головой Салли, но она бесстрашно смотрела на его брюхо, видя лицо прицеливающегося стрелка.
— Ложись! — закричал моряк, но он говорил по-голландски, и она не поняла его слов.
Немецкий самолет пролетел над их головами, не выстрелив.
— Я больше не буду бояться умереть, — сказала она громко, глядя на исчезающий за горизонтом самолет. — Ничто не может быть хуже, чем уехать из Франции.
— Но вы не уезжаете, — вдруг произнес голос: мягкий, вкрадчивый голос. — Разве вы не слышали? Капитан приказал причалить к берегу. Нам нужно эвакуировать армию. Если прежде немцы не потопят нас.
Она повернулась и уставилась на говорившего: опрятный, несмотря на лишения последних четырех дней, с влажными, пронзительными глазами над коротко стриженными усами.
— Простите, — сказала она. — Мы знакомы?
Он улыбнулся и кивнул.
— Эмери Моррис. Я работал с Филиппом, в «Салливан и Кромвелл».
Глава тридцать первая
Нелл стояла в прохладном центре бродильни — длинного темного сарая, где хранилось молодое вино — и наблюдала, как старый Анри наполнял бочки. Это был методичный процесс, проводившийся почти ежедневно, потому что стареющее вино испарялось: из отверстия вынималась стеклянная пробка, в бочку доливалось вино, таким образом предотвращая попадание кислорода. Этим бочкам было несколько лет, и сделаны они были из древесины, отобранной в лесах Тронкэ, не то, что те, новые из неверского дуба, которые она привезла из Парижа. Те бочки предназначались для урожая, который будет собран через четыре месяца, для винограда, который еще не был посажен, для вина, которое еще не было сделано. В большинстве виноградарских хозяйств Медока, принадлежавших Нелл, использовали только старые дубовые бочки, смягченные и пропитанные годами содержавшимся в них вином, но она считала, что дуб надо подвергнуть процессу старения — это мнение она переняла у барона Филиппа из поместья Мутон-Ротшильд. Дерево впитывало вкус и запах, и это увеличивало скорость старения. Ей было трудно убедить Анри в том, что ее инстинкты ее не подводят, и только время могло рассудить, что лучше — новая рискованная технология или верность старым традициям.
В замке Луденн из красного винограда производилось «Каберне Совиньон», «Мерло» и немного «Пети-Вердо» и «Мальбека». Анри менял соотношение от года к году, увеличивая или уменьшая количество того или иного вина в зависимости от качества винограда. Он делал это с пятнадцати лет. Еще в раннем детстве, едва научившись ходить, он вместе с отцом обходил виноградники. У сына Анри не было таланта винодела, не было шестого чувства, подсказывавшего, что получится из неопределенной массы через двадцать лет. Но девятнадцатилетний внук, казалось, родился с винной пробкой во рту, и, когда пришло время, Анри постарался пристроить мальчика в Луденн. Юный Роже был сейчас где-то в Арденнах, на фронте под командованием Бертрана.
— Я поручил новеньким опрыскивать сорта «Мерло», — сказал Анри молча наблюдающей за ним Нелл. — Баронесса послала нам немного медного купороса вместе со своими людьми. Спасибо ей. Весь купорос, похоже, конфискован Министерством вооруженных сил. У нее в Мутоне, наверное, целый склад. Конечно, благодаря барону. Только Ротшильд может добыть купорос в это военное время.
— Они хорошо работают?
Анри посмотрел на нее из-под густых бровей.
— Вы имеете в виду новеньких? Они знают, с какой стороны лозы растет виноград. Она прислала вполне здоровых людей, если вы об этом. Они справятся.
Через день после того, как Нелл согласилась приютить Джулиана де Кайпера и братьев Лёвен, из Мутон-Ротшильд прибыли пятеро рабочих винодельни: двое мужчин лет шестидесяти, пятнадцатилетний мальчик и две женщины неопределенного возраста. Нелл немедленно поручила их Анри, который выделил им места для сна над винным складом. Последние несколько дней он давал им много поручений и постепенно выяснял, на что они способны: этот поможет сцеживать вино, этот сможет терпеливо стоять с миской казеина, пока Анри очищал вино двухлетней выдержки, а тот будет прививать растения в питомнике. Он не перегружал работой женщин и обменивался шутками с мужчинами; мальчика он тут же взял под свое крыло.
У Нелл осталось совсем мало дел. Она проводила время в размышлениях о том, как она заплатит этим людям еще пять зарплат, и где найти пропитание для ее быстро расширявшегося хозяйства. Включая всю прислугу, гостей из Голландии и рабочих винодельни, выходило двадцать человек.
— Мне нужно что-нибудь продать, — тихо проговорила она, возвращаясь по посыпанной гравием подъездной аллее к замку. — Может быть, картину. Серебро. Я найду покупателей в Бордо.
За тридцать ярдов до входа она ненадолго остановилась. Из раскрытого окна доносились звуки скрипки — грустные, меланхоличные и легкие. Это был Эли Лёвен, самый молодой из трех евреев из Амстердама. Профессиональный музыкант, который упражнялся и упражнялся много часов подряд, словно освоив этот сложный пассаж из Берлиоза, он смог бы контролировать то, что с ним происходило. Нелл закрыла глаза, слушая как звуки скрипки смешиваются с шумом листвы и птичьим щебетом где-то вдалеке.
— Я не знал, что ты устраиваешь концерты в Луденн, — произнес позади нее голос.
Она резко повернулась: слух ее не подвел.
— Что ты тут делаешь, Спатц?
Он ехал на ее миниатюрной машине к югу от Парижа, продвигаясь урывками в течение последних двух дней, и было очевидно, что он вез какие-то новости.
— Я ничего не знаю о том, что происходит, — сказала она. — У меня есть радио, но наши новости такие глупые — повторяют домыслы и слухи. Что происходит в Париже?
Спатц запрокинул голову, отбрасывая свои гладкие светлые волосы со лба.
— Ничего особенного. Рейно все еще на месте, но армия полностью сдалась. Я подбросил столько французских солдат по дороге, что впору тягаться с самим Гитлером. Как патетично.
— Но ты должен знать больше! Твои люди…
— Рассказали мне, что армия твоего мужа сдалась три дня назад на окраине Руана, — медленно сказал он. — Бертран в плену, Нелл.
— Сдалась? — она покачнулась, и Спатц поддержал ее за руку. — Но почему?
— Не было другого выбора. Ты и понятия не имеешь, каково это Нану. Целые батальоны окружены. Несколько подлецов, кому удалось добраться до берега, находили лодки и спускали их на море. Они не вернулись.
Нелл посмотрела вокруг себя невидящим взглядом и ощупью пошла к каменной скамье под огромной медокской сосной. Скрипка в доме умолкла. Она представляла, что братья Лёвены с опаской смотрят из высоких окон на светловолосого незнакомца рядом с графиней, холодея от мысли, что их предали.
— Ты даже не знаешь, жив ли он, ведь так? — спросила она. — Только то, что они сдались.
— Я выясню, где он сейчас. Я знаю, что ты беспокоишься о Бертране, и не важно, что было между вами в прошлом…
— Да, — она подняла глаза. — О боже. Анри. Его внук Роже служит у Бертрана. Мне нужно ему рассказать…
Спатц кивнул.
— Я подожду тебя в гостиной. Я большую часть ночи провел за рулем и очень устал. Твоя экономка все еще здесь? У тебя есть яйца?
Гостиная.
Смутные воспоминания о скрипке — двое детей, играющих в саду за домом — заставили Нелл подняться на ноги. Ее сердце учащенно билось, она представить не могла, что Спатц мог бы сделать с той информацией, которую она собиралась сообщить ему. Она только знала, что слово чести — защитить своих беженцев, просто из соображений приличия, дружбы, о сделке с Элизабет де Шамбур было забыто.
— Мне нужно тебе что-то рассказать, — медленно произнесла она. — У меня гости, Спатц.
Глава тридцать вторая
Спустя более недели со дня отъезда из Парижа вслед за колонной из пятнадцати машин и двух фургонов, доверху набитых людьми и багажом, Джо Херст въехал в Бордо. Был субботний день, двадцать пятое мая. Поездка, которая должна была занять два дня, продлилась гораздо дольше из-за неожиданной эпидемии кори, вспыхнувшей в районе Орлеана. Оставив семерых детей и еще двух взрослых на карантине в деревне Шатодэн и не имея возможности найти временное жилье для еще сорока американцев, Херст бездельничал в палаточном лагере и переживал из-за потерянного времени. Он постоянно звонил в Париж с единственного общественного телефона в Шатодэн: в офис Буллита, в офис Шупа, в штаб-квартиру в Сюрете — всем, кто мог хоть что-то сообщить о ходе розыска убийцы Филиппа Стилвелла. Но новостей не было — Морриса не нашли. Что означало, что если Салли Кинг не села на корабль, она все еще в опасности.
В тот субботний день, когда над Бордо нависли дождевые тучи, а срок действия полномочий Джо Херста заканчивался, он был зол, как дьявол. Ему надоели ноющие и бестолковые дети. Ему хотелось быть в гуще событий. Он был одинок, несмотря на то, что его окружали люди. Он хотел тишины и бутылку хорошего красного вина — «Марго» 1929 года, если возможно. Он оставил колонну на Эспланад де Кинконс, оживившиеся дети бегали друг за дружкой между фонтанами, и направился под платанами к американскому консульству.
Оно располагалось во внушительном здании восемнадцатого века недалеко от префектуры Бордо — здания муниципалитета и канцелярии. Генеральный консул был суетливым маленьким человечком по фамилии Ноакс. «Пишется через "а"», сразу предупредил он Херста. Прежняя жизнь консула вращалась вокруг дегустаций, переговоров с продавцами и экспортерами вин и рекомендаций лучших сортов и винодельческих хозяйств американским туристам, путешествующим по его провинции. Он жил в самом консульстве, и его холостяцкое существование было вполне счастливым: он не был готов к войне и к предъявленным ею требованиям. По правде говоря, он был в панике.
— Да, я получил письмо от посла — мистера Буллита — дней пять тому назад, в котором он уведомил меня о вашем возможном прибытии, — сказал он, когда Херст предъявил ему свою визитку, — но я боюсь, что мало чем смогу вам помочь. Город переполнен людьми, ищущими жилье и возможность вернуться домой. Знаете, навигация через Ла-Манш заканчивается в шесть и семь, и не важно откуда судно — из Нью-Йорка или Саутгемптона, и при условии, что немцы грабят любой корабль, который осмеливается высунуть свой нос из порта.
Херст слушал его и очень надеялся, что Салли села на борт «Клотильды» в Шербуре. В это время она уже должна была подплывать к Нью-Йорку.
— Нет, нет, мой дорогой мистер Херст, — единственный возможный выход — это вернуться назад в Париж, — уверял его Ноакс. — Там вам будет гораздо удобнее, и когда эта глупая ссора с герром Гитлером уляжется…
— Ничто не заставит меня отправиться обратно в Париж с этими людьми, — ответил Херст.
Только благодаря безграничному терпению он смог продолжить этот разговор. После бокала «Марго» 1934 года, а не 1929-го, он узнал, что Годдард Ноакс кое-что сделал для эвакуации посольства: он посоветовался с британским консулом в Бордо, который предложил ему разместить людей в одном из винодельческих хозяйств за пределами города, где-нибудь на севере в устье реки Жиронд. Херст только усмехнулся этому наивному предложению.
— У нас есть палатки, — сказал он. — Так что проблем не будет.
— Надеюсь, и деньги у вас тоже есть, — с поразительной дальновидностью заключил Ноакс. — В Медоке не осталось ни одного владельца виноградников, который бы не пострадал. Урожай тридцать девятого года был ужасным — крестьяне настаивают, что урожай плохой из-за войны. И рабочих рук так не хватает…
— Мы закупим продукты здесь, в Бордо, — предложил Херст. — И одежду, если понадобится. Нам только нужно место, где мы дождемся корабль, и ваша помощь в обеспечении безопасности нашего переезда.
Ноакс нацарапал несколько слов на клочке бумаги.
— Лучшее, что я могу вам предложить — это связаться с компаниями, которые занимаются транспортировкой вин за океан. Их офисы размещены здесь, и каждый год они перевозят грузы через Атлантику. Скажете, что вы от меня. Если вы им хорошо заплатите, они отправят телеграмму в Нью-Йорк и выяснят, когда в Ле Вердон отправляется следующее крупное судно. Только не покидайте набережную, пока оно не придет. Иначе вы не попадете на борт.
Херст взглянул на лист бумаги: два адреса торговых корабельных компаний.
— А третий адрес? — спросил он, пытаясь разобрать почерк Ноакса. — Замок…
— Луденн, — ответил Ноакс. — Это небольшое местечко, вдали от дороги, но имеет прямой выход к реке. Очень подходяще для вас. Не из тех крупных винодельческих хозяйств, и не производит ничего такого особенного, кроме «крю буржуа», но сейчас оно пустует. Им владеет англичанка. Она сможет разместить у себя пятьдесят американцев, особенно если у них есть наличные. Графиня Луденн не особенно расточительная.
— Она будет знать о нашем прибытии? — спросил Херст.
Ноакс слегка улыбнулся.
— В поместье нет телефона. Может, лучше предстать перед графиней fait accompli[96], а?
Херст ошибался. Салли была не в Нью-Йорке.
В тот самый момент, когда он думал о ней, она держалась за поручни «Клотильды» и говорила Леони Блум:
— Посмотрите на них. Тысячи и тысячи. Мы не сможем взять их всех…
Торговый корабль покачивался на волнах у причала Кале. Побережье было черным, словно кишело муравьями: рота за ротой прибывали французские солдаты, которые бежали на запад от немецких дивизионов, пока у них под ногами не кончилась земля. Были слышны удары немецких орудий, над причалом с воем кружили «мессершмитты». Теперь в воздухе были и другие самолеты — британские истребители, которых всегда было слишком мало против черной тучи немецких самолетов, но они вгрызались с флангов в «мессершмитты», и время от времени подбивали вражеский самолет, который в дыму и огне падал в море под возгласы потрясенных наблюдателей с борта «Клотильды». Иногда «муравьи» открывали огонь со своих позиций на берегу, то тут, то там мелькал французский tricoleur[97], но с течением дня становилось понятно, что люди на берегу уже в панике.
— Бедные мальчики, — тяжело вздохнув, сказала Леони Блум. — Бедные, покинутые души. Мы должны сделать для них все, что можем.
Они с Салли выбрались из вонючего трюма, чтобы увидеть бой. Если смерть придет, они обе решили встретить ее под открытым небом, как пилоты самолетов королевской флотилии. Отдав швартовы в Шербуре «Клотильда» повернула на север, а не на запад, и последние несколько дней шла вдоль берега. Французские военные корабли, базировавшиеся в Шербуре, были отосланы на юг, в Гибралтар, где они могли быть в относительной безопасности. Немецкие бомбардировщики обстреливали порты, а немецкие подлодки бороздили Ла-Манш. Их целью, как объяснил Эмери Моррис, было напугать французов и заставить их сдаться.
— У них приказ не позволить Черчиллю высадить свой десант, — сказал юрист. — Они потопят все, что только появится в этих водах.
Итак, «Клотильда» двигалась на север с черепашьей скоростью, вставая на якорь по ночам в уединенных норманнских бухтах, экипаж закрывал собой любую искру или проблеск, который мог возникнуть на судне, как будто этот корабль был ноевым ковчегом и единственным шансом человечества на выживание после потопа.
— Готовьтесь спустить шлюпки, — кричал капитан Андерс на ломаном французском в громкоговоритель. — Все пассажиры внизу!
— Не собирается же он взять всех этих солдат на берегу, — неуверенно сказала Салли. — Бог мой, они настолько отчаялись, что готовы потопить все его лодки.
Леони Блум не ответила. Она пристально смотрела на Эмери Морриса, который стоял в десяти футах от них, тоже держась за поручни, и внимательно разглядывал берег. Он курил сигарету, на его лице играла легкая ироничная улыбка.
— Мне не нравится тот человек, — прошептала она Салли.
— Моррис? Но он работал с Филиппом. Он юрист.
— Мне он не нравится, — повторила пожилая женщина. — Он смотрит на тебя. Нехороший у него взгляд.
Салли охватил приступ страха. Она не хотела развивать фантазии мадам Блум, но знала, что эта женщина имела в виду: Моррис следил за ней. На «Клотильде» была толпа в четыреста человек, а ему все время удавалось держаться поблизости. Она застала его однажды с ее сумкой в руках, и он оправдался тем, что боялся, что ее вещи остаются без присмотра на таком большом корабле, как этот, где среди пассажиров может оказаться много воров. В его тоне чувствовалась фальшь, он слишком интересовался ее вещами, и она поняла, что от него исходит опасность.
«Документы Филиппа, — думала она. — Ему нужны документы Филиппа».
У нее не было поводов подозревать Морриса. Он объяснил, что просто пытается попасть в Нью-Йорк, что его жена уехала раньше, и он ехал к ней. Однажды ночью, когда ей и мадам Блум удалось заснуть в своей крошечной каюте, она проснулась за несколько часов до рассвета уверенная, что слышала звук закрывающейся двери. Она была убеждена, что кто-то был у ее кровати и шарил под матрасом потными ладонями. Ее охватил страх и чувство неминуемой гибели, и Салли больше не смогла заснуть. За завтраком она не стала рассказывать Леони о происшествии.
Шлюпки были уже спущены, и матросы направляли их по водам Кале. Салли смотрела, как первые лодки причаливали к берегу, солдаты не могли дождаться их прихода и прыгали в воду им навстречу. Крики матросов и отчаявшихся людей были похожи на крики чаек. Лодка, еще одна, некоторые почти затопленные; матросам «Клотильды» все меньше удавалось сдерживать толпу веслами, один из них упал за борт и его место тут же оказалось занято солдатом, лодка повернула и поплыла к кораблю, груженная людьми.
— Они готовы утонуть, лишь бы не попасться в руки немцам, — пробормотала она.
— Большинство из них утонут, — сказал равнодушно Моррис за ее спиной. — Капитан рассказал мне, британцы передали по радио, что ищут любое доступное судно, рыболовецкое или любое другое, чтобы вывезти своих людей из Данкирка. Кажется, это немного севернее нас. Берег полон трусов. Во всем мире не найдется столько кораблей, чтобы спасти их всех.
— Вы хотите, чтобы немцы победили, да? Вы как все эти… отчаявшиеся. Вам нравится смотреть на боль. Вам нравится… смерть.
Он бесстрастно разглядывал ее, в уголках его жестких усов играла знакомая улыбка, и в этот миг она поняла, как он смотрел, как умирает Филипп, как страх и боль Филиппа удовлетворяли его сексуальное возбуждение, поэтому он осквернил тела двух мужчин и оставил их в этом отвратительном состоянии прежде, чем уйти домой к своей ничего не подозревавшей жене. Она все поняла, хотя Моррис не сказал ни слова. У нее засосало под ложечкой от этой уверенности и от осознания того, что его присутствие на судне не случайно и что она, быть может, подвергалась теперь самой большой опасности в своей жизни.
Но почему? Что такого было в бумагах Филиппа, что толкнуло Морриса на убийство?
— Моя дорогая, — сказал он мягко. — Я знаю, что ваша смерть доставит мне много удовольствия.
Салли услышала и потеряла его слова в жутком свистящем шуме, который наполнил воздух, словно демон пронесся над морем и поднял волну, чтобы потопить «Клотильду». Торпеды — их было две, выпущенные с борта курсировавшей вдоль берега немецкой подлодки — прошли сквозь стены трюма, набитого пассажирами, сквозь котельную, разломили винт на две части и взорвались огнем и дымом, уничтожив капитанский мостик и убив капитана, следившего за возвращением первой шлюпки.
Глава тридцать третья
Фамилия немецкого офицера была Краусс, а его капрала звали Багг. Краусс ехал вместе с Мемфис на переднем сиденье, а Багг и фон Галбан расположились сзади. Они разговаривали и часто останавливались, чтобы Краусс мог объявить о приближении Третьего рейха на каждой деревенской площади, где могли его слышать, пока Багг воровал бензин там, где его можно было найти. У Краусса был приказ добраться до Марселя раньше его армии, и для него это стало своего рода игрой, проверкой, на сколько миль он сможет опередить армию. Он часто оставлял после себя труп как визитную карточку: «здесь был Краусс». Фон Галбан решил, что этот человек нездоров.
Солдаты оставили свои мотоциклы в Алис-Сте-Рен на главной площади рядом с телом владельца гостиницы. Ганс подумал, что они хотят забрать машину Мемфис, багаж и все остальное, но когда они узнали, кто она — Краусс увлекался джазом в университетские годы — они взяли ее, как живую игрушку, экзотическая добыча завоевателей. Она настояла, чтобы Ганс ехал с ними; и поскольку он был австриец по рождению, немцы решили, что его французские документы были фальшивыми. Он был в некотором роде шпионом рейха, пятая колонна. Он и Мемфис больше боялись потерять машину и все ее содержимое, чем поездки с Крауссом, и поэтому уезжали, оставляя позади мертвого парнишку с перерезанным горлом, его мертвого отца с выражением ужаса на лице и женщину, причитавшую над их телами.
Они ехали уже несколько дней.
Краусс избегал больших городов, где местное население могло запросто убить его, и ехал по сельским дорогам долины реки Роны. Их дни походили один на другой: остановка на обед, запугивание местного населения приближением немецкой армии, кража еды и бензина, расстрел тех, кто жаловался. Обычно они ехали, пока не наступал вечер, потом они останавливались, Багг разбивал лагерь где-нибудь в безлюдном месте, а Краусс начал подводить итоги своих действий, отмечая свое продвижение по Франции на карте и гадая, где сейчас может быть его дивизион. Он полагал, что после Марселя он в одиночку захватит Северную Африку, но его военная карта заканчивалась Средиземным морем. Он рассказывал о том, как изучает географию своего перемещения, о превосходстве немецкой расы и о неизбежности тысячелетия рейха. После того, как они съедали что-нибудь из того, что украл Багг, Краусс приказывал Мемфис петь. Она всегда соглашалась.
Фон Галбан многое узнал о Мемфис Джонс за последние дни. Как она выжила, например. Как она пробивала себе дорогу на вершину мира, населенного негодяями. Видя, как она улыбается Крауссу, наблюдая как она очаровывает этого бездушного убийцу в идеально скроенной форме, фон Галбан понял, что для Мемфис все мужчины были одинаковые. Они были грубые, они разрушали все, к чему прикасались, они убили бы ее, как обрывают лепестки роз, или мужчины, которых можно было использовать. Именно так Мемфис всегда и жила. И именно фон Галбан, который мог и не выжить, находил эту ситуацию странной и страдал в глубине души.
Только несколько раз ему удалось обсудить с Мемфис их положение, потому что они никогда не оставались одни. Ночью или Краусс или Багг шли в караул, а днем они все находись в машине. Только в людных местах было легче всего переброситься парой слов. Когда Краусс кричал на своем ломаном французском на деревенских площадях Виллар-ле-Домб или Перуж или, через несколько дней, в Гриньян, а Багг стоял рядом с ним, Ганс мог шепотом переговорить с Мемфис.
— Мы никогда не доберемся до Марселя, мисс Джонс. Нас застрелят раньше.
— Я бы хотела позвонить Спатцу, — бормотала она. — Он просил меня позвонить. Он будет волноваться.
Пока они ехали через долину Роны или поднимались выше в Альпы, фон Галбан строил планы. Было непросто сбежать без транспорта. Он не мог нести чемодан, полный урана, ящик, который Мемфис назвала своим, когда Краусс проверял ее багаж. Она показала немцу свои боа из перьев и сумки, полные пластинок, и когда он устал смотреть на женские штучки, она беззаботно заметила, что в том чемодане только ее туфли. Мемфис обожала туфли. Фон Галбан знал, что нужно было угнать саму машину. Бросить этих двух немцев и бежать. Но Краусс спал с ключом в кармане.
Ганс не принимал в расчет Мемфис. Но у нее были свои планы.
— Я права, сегодня ведь воскресенье? — промурлыкала она, когда машина ехала по дороге в Воклюз. — Двадцать шестое мая? И куда только время бежит?
Краусс заверил ее, что так и есть. Был шестнадцатый день их вторжения во Францию. Двадцать шестое мая.
— Это же мой день рождения! Мне двадцать шесть двадцать шестого! Нам нужно устроить вечеринку, капитан! — она повернулась и широко улыбнулась Баггу. — Когда доберемся до следующего города, найдите несколько бутылок вина, слышите? Красного вина. Это единственная услуга, которую вы можете оказать Мемфис. Девочка собирается устроить праздник.
Ганс заметил, что Краусс упорно избегает выпивки. Может быть, он предпочитал пиво или не доверял себе или своим пассажирам, окажись они под влиянием алкоголя. Он поздравил Мемфис с днем рождения, но ничего не сказал по поводу поисков вина в деревушке Шатенёф-дю-Пап, которая, несмотря на свое название[98], оказалась довольно маленьким населенным пунктом для целей Краусса. Когда они приехали на площадь Портай и Краусс вышел из машины, Багг стоял за его спиной с оружием наготове, Ганс сделал шаг вперед и прошептал:
— Мисс Джонс. У вас, правда, день рождения?
— Черт, нет, конечно. Но нам надо порадовать этих мальчиков как следует, понимаете, о чем я говорю?
Он понимал. Также он знал, что Краусс непредсказуем. Под воздействием алкоголя он мог стать еще хуже. Но когда Багг вернулся со своей обычной охоты, неся хлеб и сыр и целый ящик вина, фон Галбан постарался сделать довольный вид. Багг даже стащил бокалы. Первую бутылку они открыли по пути в Авиньон.
Она пела «Ain't misbehavin'», и лиричная сладость мелодии, ее пленяющее очарование подействовало на них. При свете костра Мемфис покачивалась в костюме, в котором она выступала в «Фоли-Бержер», с блестками на груди и треугольником шелка сзади. Она никогда не надевала это в клубе «Алиби», и фон Галбан был сражен неукротимой силой, которой веяло от ее тела.
Они пили весь следующий час, хотя он внимательно следил за своим бокалом. Багг придерживал бутылку шеей и пил вино прямо из горла, напевая мотив по-немецки. Краусс лежал около костра, его глаза сузились, когда он смотрел на Мемфис. Она потянула его танцевать, и фон Галбан заметил ее разочарование, потому что Краусс все еще твердо стоял на ногах и отлично контролировал себя. С тем же внимательным взглядом узких глаз он потянулся к Мемфис и, приблизившись, крепко схватил ее за грудь рукой.
Фон Галбан увидел, как по лицу Мемфис промелькнул шок, но ее улыбка стала только шире, а тело скользило, касаясь Краусса, словно жидкость. Губы Краусса прикоснулись к ее шее, и он прикусил ее кожу. Ганс поднялся, не в состоянии больше смотреть. У него засосало под ложечкой от страха и еще от чего-то, чему он завидовал.
Багг тоже стоял там, следя взглядом за Мемфис. Прежде чем Ганс успел что-то сказать или остановить его, тот бросился к Крауссу и ударил его бутылкой «Шатенеф-дю-Пап» по голове.
Краусс должен был упасть, как камень. Но вместо этого он схватил Багга за горло и принялся душить его.
С выражением ужаса на лице Мемфис отступила назад, глядя, как Багг задыхается. Когда Краусс отбросил обмякшее тело своего унтер-офицера, она повернулась и нетвердой походкой, спотыкаясь, пошла прочь. Фон Галбан услышал, как ее стошнило.
Он стоял без движения, прямо за светящимся кругом костра, пока Краусс проламывался сквозь кусты за ней. Потом он кинулся к телу Багга в поисках оружия.
Глава тридцать четвертая
Посредником между Нелл и остальными голландцами стал скрипач Эли Лёвен. Дело было не в языковом барьере — все они говорили по-французски — но остальные шестеро держались в стороне. Это выглядело как будто она землевладелица, а они ее арендаторы. Эта холодность одновременно раздражала и забавляла ее: она никак не могла понять, считают ли голландские банкиры ее недостойной их общества или себя недостойными компании графини.
Они были безупречно вежливы за обедом, не жалуясь на однообразие еды, что, видимо, не было для них чем-то неожиданным. Но и были неприветливы. Когда в первые дни Нелл пыталась завести разговор об их жизни в Голландии, их планах на будущее, у нее ничего не получилось. Даже девушка по имени Матильда не отвечала Нелл. Это была младшая сестра Джулиана де Кайпера. Его жена умерла несколько лет назад. Откровенно говоря, еще три дня тому назад Нелл думала, что Матильда немая.
Но она отметила отличное качество одежды девушки, что говорило само за себя: эти вещи определенно сделаны в Париже. Костюмы мужчин были из Лондона — Нелл всегда безошибочно определяла английский крой — и они вели себя, как люди с положением и имеющие определенный вес в этом мире.
Только Эли Лёвен, похоже, понимал, как ничтожен их вес теперь, когда нацисты оккупировали Голландию. Пустота в его глазах говорила о том, что назад возврата не будет.
На следующее утро после визита Спатца — Спатца, который обращался с голландскими евреями с равнодушным очарованием, заполняя долгие паузы анекдотами про Амстердам и своими высказываниями о Рембрандте, — Нелл решила, что ей жизненно необходимо собрать военный совет. Звуки скрипки снова зазвучали, стоило Спатцу покинуть замок по гравиевой аллее на машине Нелл. Она пошла на звук скрипки, пока не нашла Эли Лёвена на террасе. Его глаза были закрыты, а длинные, чувствительные пальцы скользили интуитивно, как у слепого.
Она подождала, пока он отнял подбородок от инструмента и посмотрел на нее.
— Что вы играете?
Она хотела спросить другое, но с тех пор, как приехал в Луденн, он все время повторял один и тот же отрывок, и эта одержимость вызвала любопытство Нелл. Они же все-таки были людьми.
— «Смерть и Дева». Шуберта. Чем я могу вам помочь, графиня?
— Я бы хотела поговорить с твоим братом. И с мистером де Кайпером. Вы не могли бы найти их и попросить спуститься ко мне на chai[99]?
Молодой человек посмотрел на кончики своих пальцев и на следы от струн на них.
— Боюсь, я не понимаю значения слова «chai».
— Это пристройка, винодельня. Я пойду туда сейчас, чтобы убедиться, что там нет никого из работников.
Она повернулась, не дождавшись ответа. Когда она шла к cuverie[100], то прислушивалась, не зазвучит ли скрипка снова, но на террасе было тихо.
Они появились пятнадцать минут спустя: подчеркнуто осторожные трое мужчин в темных пиджаках. Эли был без скрипки. Ожидая их, Нелл прислонилась к массивной дубовой бочке, и в воздухе витал запах виноградного сусла и брожения.
— Вы знаете, что мой двоюродный брат герр фон Динкладж — немец, — сказала она напрямую. — Он не солдат, и я не сказала бы, что он нацист, хотя и состоял в партии года два назад. Иначе он не смог бы сделать карьеру.
— Он шпион? — спросил Джулиан де Кайпер.
— Думаю, да, — ответила она, их взгляды встретились. — Я не знала, что Спатц приедет в Луденн, и у меня не было времени скрыть от него ваше присутствие. Я попросила его держать это в секрете. Но я не могу обещать, что он так и сделает.
— Немцы захватят Францию так же, как и Голландию, — сказал Эли. — Они не остановятся, пока не дойдут до моря. Но вы же понимаете, графиня, что нам больше некуда ехать?
— Я слышала, — медленно произнесла Нелл, — о том, что немцы делали с людьми в Польше. С людьми, которые были…
— Евреями, — закончил за нее де Кайпер. — Я тоже слышал об этом. Их убивали тысячами, расстреливали прямо у вырытых могил.
— Я думаю, нам нужно разработать план, — сказала Нелл. — Найти место, где вы можете спрятаться. Лучший выбор — здесь.
— Здесь? — Эли изумленным взглядом обвел бочки, большие, в человеческий рост. — Я не понимаю.
— Это комната для вина выдержки первого года, — объяснила Нелл. — Здесь смешивается вино с последнего урожая и выдерживается в дубовых бочках. Под этим складом погреб. Любой немец, который приедет в Луденн, конечно, его найдет, ведь они будут искать вино. Но они возьмут бутылки, а не бочки. Даже немцы не так глупы.
— Я хочу посмотреть ваш погреб.
Она провела их вниз по лестнице, в прохладные, похожие на грот, недра под каменными сводами, где лежали тысячи сложенных Анри бутылок, ожидавших, когда их откроют или продадут. Погреба тянулись на сотни ярдов под строениями бродильни и под самим замком, под зелеными лужайками на берегу реки Жиронд, под дорогой — широкие рукотворные пещеры, настоящее сердце поместья Луденн. Они заканчивались на берегу реки, у затвора шлюза, откуда бочки можно было перекатить на суда. Жиронд всегда была главным route du vin[101] для виноделов.
— Я привезла эти бочки из Парижа десять дней назад, — сказала она Эли, ведя троих мужчин мимо выставленных Анри рядов с бочками. — Они пустые. Я покупала их для урожая этого года. Но я здесь приберегла несколько штук, чтобы спрятать там вас, Матильду и детей…
— На весь остаток войны? — выпалил Джулиан де Кайпер.
— По крайней мере, пока опасность не минует. Пока немцы не пойдут дальше…
Де Кайпер отвернулся, его руки дрожали.
— Бог мой, — пробормотал он. — До чего мы дошли!
Спустя три дня прибыли американцы.
Джо Херст ехал во главе процессии на своем красивом голубом «бьюике» прямо от Эспланад де Кинконс. Ему оставалось только дождаться, пока Ноакс, консул, напишет письмо с указаниями графине Луденн, прежде чем собрать игравших у фонтанов детей и их разморенных солнцем родителей. От Бордо до той части Медока, где жила Нелл, было около часа езды, и Херст понимал, что если она согласится принять пятьдесят беженцев, они будут расставлять палатки уже в сумерках. Он велел каждому взрослому из их группы сдать для графини по триста франков, надеясь, что этого будет достаточно.
Когда прибыла вся группа, Нелл в одиночестве пила чай в столовой. Чай был той британской традицией, от которой она не могла отказаться, хотя и жила уже во Франции много лет. Вдруг послышался звук подъезжающих машин, и на мгновение у нее ком подкатил к горлу. Она была уверена, что Спатц ее предал.
— У вас что, приемные дни в Луденн? — спросил Эли Лёвен, стоя в дверном проеме. — Или во Франции еще остались туристы?
Нелл поставила чашку на стол и вышла навстречу прибывшим.
В наступивших сумерках семьдесят человек искали убежища в ее замке. Она не стала объяснять американским дипломатам присутствие голландских гостей в комнатах замка. Все-таки это была не американская война.
— Вам нужен корабль? — повторил агент. — Чтобы пересечь Ла-Манш? С тем же успехом вы можете спросить, можем ли мы доставить вас в Нью-Йорк. Или на Луну. Вы не слышали новостей, месье?
Был вторник, двадцать восьмое мая, Херст находился в одной из корабельных контор Бордо, рекомендованных Ноаксом. За время, проведенное в Луденне, ему удалось отчасти восстановить хорошее настроение, но скептицизм в голосе агента и недоверие на грани насмешки к ситуации вывели его из себя.
— Нет. Я не слышал радио. Что случилось?
— Немцы добрались до Ла-Манша. Все доступные суда ушли в Данкирк. Объявлена общая эвакуация. Они говорят, что более полумиллиона солдат бились за место на узкой полоске у воды. Полмиллиона! А теперь скажите мне, что мы не проиграли войну.
— Вы хотите сказать, что в Бордо нет кораблей? Вообще нет? А торговые суда? Трансатлантические пароходы? Мы обойдем Ла-Манш и отправимся прямо в Нью-Йорк, если нужно.
Агент разозлился.
— Пожалуйста, месье. Вы утонете прежде, чем покинете Ле Вердон.
— Немецкие подлодки?
— Несколько дней назад они торпедировали в Кале голландский пароход, «Клотильду».
— Что вы сказали?
Херст схватился за стол, он похолодел. «Салли, — кричал его разум. — Салли. Это я заставил тебя ехать».
— Я упомянул об этом, — продолжил агент, с любопытством глядя на Херста. — потому что сегодня утром привезли выживших. Они сейчас в prefecture[102], у них проверяют документы…
Херст выскочил из дверей конторы прежде, чем агент успел закончить фразу.
В зале ожидания префектуры находилось пятьдесят девять человек: двадцать девять мужчин, двенадцать детей и восемнадцать женщин.
Салли Кинг среди них не было.
Глава тридцать пятая
Когда торпеда поразила корабль, взрывной волной Салли выбросило с палубы «Клотильды» в море.
Падала она долго. Если бы она стояла на борту пассажирского лайнера, например «Нормандии», она бы точно не выжила. Но «Клотильда» была судном меньшего класса, и расстояние от палубы до воды у нее было равно высоте прыжка с вышки. Ее тело содрогнулось, когда женщина ударилась о воду. Когда она падала, то испытала лишь удивление, борясь со своей инерцией, восемь футов, двенадцать футов, в ушах болело. Она ушла на двадцать футов под воду и выскочила на поверхность.
Когда ее голова оказалась над поверхностью воды, она закричала — скорее от шока, что осталась жива, чем от чего-либо другого. Салли протерла глаза.
Объятая пламенем «Клотильда» тонула. Корма была уже под водой, нос судна был высоко задран, а в воздухе раздавался треск огня и слышались крики людей, оставшихся на корабле. Салли огляделась в поисках Леони Блум.
Рядом с ней плавали обломки трюма. Кругом были тела людей и тюки намокшего сена из стойла, и одна лошадь, задрав морду, отчаянно плавала кругами. Леони Блум не было. Вдруг она увидела нечто знакомое: куполообразную крышку гроба.
Он качался на волнах в нескольких ярдах от того места, где женщина ударилась о воду. С одного конца гроб был приоткрыт, и оттуда виднелись носы ботинок Филиппа. Пока она смотрела на это, волна захлестнула открытую часть, и ящик пошел ко дну, словно затопленный корабль.
«О, Боже, — подумала Салли, безуспешно пытаясь подплыть к нему. — Я никогда не найду тебя в этой воде… твоя мать… я обещала ей доставить тебя домой…»
Она нырнула, глаза щипало от мутной воды, ее обступил мрак, в котором плавали мертвые люди и их вещи; волосы развевались, словно водоросли, все медленно опускалось, поднимая миллионы пузырьков. Гроб утонул. Ее охватила отчаянная душевная боль, женщина начала задыхаться и с полным ртом воды, заполнявшей ее легкие, повернула к поверхности.
Его больше не было, совсем. Она так и не смогла уберечь его от убийц, которые отняли у него жизнь; Морриса, Шупа и всех прочих из «С. и К.» больше беспокоили деньги и молчание, чем участь Филиппа. Кругом ложь, все напрасно. Правосудие. Она ничего не смогла сделать.
Салли ударилась затылком обо что то твердое.
Спасательная шлюпка.
Она оглянулась, вытянув руку. В этой шлюпке должен был быть кто-нибудь из команды или из французских солдат, которых «Клотильда» должна была забрать на борт с берега Кале, но она оказалась перевернутой. Перевернутый корпус шлюпки походил на скорлупу ореха. Пальцы Салли царапнули по дереву, которое стало скользким от воды и свежей масляной краски, которой экипаж регулярно покрывал корпуса спасательных шлюпок. Морское течение пыталось утащить ее под перевернутую лодку, если бы ему это удалось, она бы погибла, так как ей вряд ли удалось бы побороть огромный вес и выбраться из-под лодки. Она просунула пальцы в щель между планками и крепко уцепилась за корпус лодки.
Салли потеряла свои туфли, когда ударилась о воду. И она молотила босыми ногами под мокрым хлопком ее весеннего платья. Но вдруг ее ноги чего-то коснулись.
Кого-то.
За противоположный край лодки цеплялся еще один человек, как и Салли вцепившийся в корпус.
С надеждой она закричала:
— Эй! Есть кто-нибудь? Вы можете добраться до меня? Можете помочь мне перевернуть лодку?
Казалось, ее компаньон рассмеялся.
Чья-то рука схватила ее за запястье: сильная, жесткая и жестокая рука, которая изо всех сил старалась оторвать ее пальцы от спасительного дерева.
— Бедная мисс Кинг, — прохрипел Эмери Моррис, — я разве вам не сказал, что ваша смерть доставит мне огромное наслаждение?
В водах Кале разыгрывалась странная драма: оба они держались за двенадцатифутовую деревяшку и боролись руками и ногами. Крутя лодку, словно обеденный стол, Салли хваталась за планширь, если не могла достать до киля. Раз от раза Моррис кряхтел от напряжения, и Салли казалось, что он начинает уставать. Ее ноги и руки коченели в холодных водах Атлантики.
Он хотел поймать ее, добраться до ее борта лодки быстрее, чем она доберется до его борта. Моррис зря тратил силы: море могло убить ее быстрее, чем он. Темнота сгущалась, и пошел дождь. Горящий остов «Клотильды» пошел ко дну, и в образовавшийся водоворот засосало все, что находилось в радиусе двадцати ярдов: тела, ящики, лошадь. Салли и Моррис оказались вне этой опасности и не имели возможности спасти тех пассажиров, которые упали с носа в последние секунды — течение Ла-Манша уносило их на юг, все дальше от огней Кале. Салли знала, что около корабля находились и другие лодки, шлюпки, полные голландских матросов и французских солдат, в которых не было места для выживших. Спасения там искать бесполезно. Она все больше уставала, ее охватывала паника, темнота сгущалась, хрип Морриса становился все отчетливее и ближе, и она почти сдалась.
И тут Салли вспомнила о Филиппе.
— Зачем вы убили его? — выкрикнула она. — Почему Филипп должен был умереть?
— Потому что он не мог заниматься только своим делом, — ответил Моррис. — Совал нос в мои документы. Задавал вопросы.
— «Ай Джи Фарбен». Умерший немецкий инженер.
— «Ай Джи Фарбен», — с сарказмом повторил он. — Только те, у кого есть сила воли, могут делать свое дело. Но раз вы все знаете об этом, вы читали мои бумаги. Филипп отдал вам их?
Он был совсем рядом. Салли решила, что пора прекратить борьбу.
Она подождала, пока он обогнет корму, чтобы она смогла посмотреть ему в лицо и увидеть его глаза. Его удивила ее внезапная капитуляция, его руки замерли на остове лодки, и он уставился на нее.
— Филипп отдал документы в американское посольство, — сказала она ему. — И они уже отправлены Аллену Даллсу в Нью-Йорк. Скоро весь мир узнает о ваших делах.
Конечно, это была ложь. Документы находились на дне моря, но Моррису не нужно было знать, что он в безопасности. — Вы в розыске за убийство.
Его лицо исказила конвульсия. Что это — злоба? Или смех?
Салли набрала воздуха в легкие и нырнула под лодку.
Стало очень темно, купол днища пересекали планки сидений, но между этим куполом и поверхностью воды остался воздушный пузырь. Она оказалась под днищем, от одного борта лодки до другого было четыре фута. Моррис мог бы подождать, пока она выберется наружу, или последовать за ней — одно из двух. Женщина надеялась, что он нырнет за ней, и она будет готова его встретить.
Она ошибалась.
Внезапно днище лодки вдруг ударило ее по голове, притапливая ее; ей было так больно, что еще немного, и она потеряла бы сознание. Салли отчетливо представила себе Морриса, взобравшегося на лодку всем весом своего обессилившего тела, притапливая лодку, чтобы не дать ей уйти. Чтобы утопить ее.
Она ощупью добралась до киля и нащупала его лодыжку.
Тот брыкнулся, но Салли схватилась за ногу обеими руками и потянула ее вниз.
Всем своим весом он навалился на лодку. Он не был ни крупным мужчиной, ни худощавым, но отчаянно, словно моллюск, вцепился в дерево. Салли потянула еще, и лодка вместе с вцепившимся в нее Моррисом накренилась.
Он прекрасно сознавал, что происходит, но инерция оказалась слишком большой. Неожиданно подпрыгнув, словно пробка, лодка вернулась в прежнее положение.
Потеряв опору, Моррис с криком упал в море.
Салли, продолжавшая держать его за ногу, ушла под воду. Он яростно ударил ее ногой по голове. Резкая боль обожгла ее мозг. Она разжала пальцы.
Темнота дезориентировала ее. Она не знала, плывет ли она наверх, к поверхности, или погружается глубже в море. Ее легкие были готовы лопнуть, она уже видела смерть, чувствовала, как стальной обруч сдавливает ей грудь, ей хотелось пить воду так, словно это был воздух.
Наконец Салли достигла поверхности. Струи дождя хлестали по лицу. В другое время море напугало бы ее. Но не сейчас.
Она жадно хватала воздух ртом. Спустя несколько секунд она принялась оглядываться в поисках Морриса.
Он показался на поверхности в десяти футах от нее, он не мог дотянуться до лодки. Она наблюдала, как он закричал, вскинул руки и камнем пошел ко дну.
«Бог мой, — подумала она. — Он не умеет плавать!».
Осознание того, что именно она стащила его с лодки, пронзила ее, и она бросилась грести, стараясь сократить то расстояние, которое их разделяло. Она не могла просто наблюдать, как другой человек идет на дно, как подбитый корабль. Сквозь дождь и темноту она звала Морриса. Лодка, за которую они так боролись, исчезла в волнах. Салли кричала снова и снова, морская вода заливала ей рот, пока она не потеряла голос.
Ее силы были на исходе. Моррис утонул.
Она плыла по течению, одна в огромном море. От сильнейшего холода она не чувствовала ног, а ее тело пронизывал животный страх. «Это как уснуть, — подумала она, — как погрузиться в ночь навеки». Салли вдруг подумала, что теперь они оба будут лежать здесь: она и Филипп.
С теплой грустью она подумала о Джо Херсте. Он, наверное, будет винить себя.
Глава тридцать шестая
Фон Галбан мчался через Авиньон, словно это был ад, и все демоны собрались в ревущих колесах его машины, он ехал по тихим улицам Сен-Реми, мимо Арля и вниз, вдоль Роны к болотам Камарг. Все поселки или одинокие беленые хижины, руины построек, принадлежавших еще римлянам, были скрыты светомаскировкой под чернильным небом Кот д'Азура.
Он знал, что там, в водах, бурливших внизу, под этой скалистой дорогой, могли оставаться немецкие военные корабли, немецкие подлодки. Он ехал с закрашенными фарами, от которых шел дьявольский синий свет, встречных машин не было, ни одного грузовика, ни даже велосипеда, и только когда на часах высветилось двадцать три минуты шестого утра, он увидел одиноко шагавшую по обочине женщину, которая погрозила кулаком вслед его мчавшемуся на Марсель автомобилю.
Мемфис закуталась в одну из своих вечерних накидок, первую, которая попалась ей под руку, просторную, из черного бархата. Сначала Ганс думал, что она спит, но, потом почувствовал, что она дрожит, ее челюсти плотно сжаты, а лицо неподвижно.
Краусс догнал ее в двенадцати футах от костра, и к тому времени, как фон Галбан забрал оружие у мертвого капрала, немца было уже не оттащить от тела Мемфис. Он уткнул ее лицом в землю и насиловал. Мемфис орала, как резаная, фон Галбан криками пытался отвлечь Краусса, но тот не обращал на него внимания. В конце концов, Ганс поднял револьвер и в упор выстрелил в основание его черепа.
Краусс всей тяжестью навалился на Мемфис, его пенис так и остался в ее теле. Фон Галбану стоило усилий оттащить его мускулистое тело от нее, его собственные руки отказывались работать, пальцы скользили по телу немца. Мемфис отползла в сторону, как подбитая птица, с усилием поднялась на ноги и, спотыкаясь, пошла в лес, словно боялась, что фон Галбан может и ее убить. Когда он подошел к ней, он не произнес ни слова. Он даже не пытался притронуться к ней.
Она свернулась калачиком. Ей казалось, что, обнимая свое тело, она снова почувствует себя хорошо, станет чьей-то любимой малышкой, а не будет просто куском мяса. Словно окаменев, они просидели в темноте ночи почти час, вокруг них пахло кровью.
— Марсель, — сказал он, когда в море показался остров, где находился замок-тюрьма Иф. — Там они нас не найдут.
Возможно, немецкие солдаты, взявшие их машину, были мертвы, но немецкая армия была где-то у них за спиной, и ни Мемфис, ни фон Галбан не чувствовали себя в безопасности.
— Выпусти меня из машины, — прошептала она. — Мне нужно выйти из этой машины.
Он думал об одной проблеме, пока был за рулем. Ее муж должен был находиться в гостинице «Англетер», но прошло столько времени, что фон Галбан подозревал, что он уже уехал в Северную Африку. С другой стороны у него был приказ найти «Фудроян» и передать уран капитану Бедойе. Но никакое поручение не казалось ему важнее той женщины, которая дрожала сейчас на заднем сиденье автомобиля.
— Думаю, вам нужен доктор.
Она с яростью затрясла головой.
— Со мной ничего страшного. Горячая ванна и чашка кофе вылечат меня.
— Мисс Джонс, — он замедлил ход и остановил машину на узком уступе над утесами; под ними, алое от первых лучей утреннего солнца, простиралось греко-романское поселение Массилия. — Будет лучше, если я найду вашего мужа, не так ли?
— К черту Рауля.
— Или мы позвоним Спатцу. Вы же хотели позвонить Спатцу.
— Его тоже к черту, — замерзшими пальцами она расстегнула воротник своей бархатной накидки. — Если у Германии такие планы на Францию, я в этом не участвую, ясно?
Он молча кивнул. Ее кожа, там, где ее было видно из-под накидки, сияла. Ее профиль был такой же античный и вечный, как и тот старый город, который лежал внизу, как профиль Клеопатры.
— Что вы хотите, чтобы я сделал?
— То, зачем вы приехали на юг, мистер, — ответила она. — У меня своя дорога.
Пока занимался рассвет, он молчал. Она перестала дрожать, но продолжала лежать, свернувшись калачиком и укутавшись в свою бархатную накидку. В конце концов она посмотрит на него, осознает все, что произошло, что он стал свидетелем ее изнасилования и убил ее обидчика, он, кто не испытывал подобной жестокости, спокойно застрелил человека насмерть. Со временем она поймет, что он тоже был напуган до смерти.
Мемфис спросила:
— Что у вас в том чемодане, про который вы сказали, что он мой?
— Четыреста килограммов урана, замурованного в свинце.
Она отвернулась. Мемфис была слишком усталой, ей было больно, да к тому же она и понятия не имела, что такое уран.
— Они убили бы нас обоих, если бы узнали, что мы везем, — сказал он. — Это стоит этой чертовой войны, мисс Джонс.
Она поднесла руку ко рту и принялась грызть ногти.
Он смотрел в сторону, на море.
— Я бы ни за что не спас бы его без вас. Я бы не добрался до Марселя живым. Но если бы я мог освободить вас от этого ужаса, мисс Джонс, смерть или бесчестие были бы ничем по сравнению с этим.
На деньги Спатца она получила ванну и кофе в отеле, который был, конечно, не «Англетер», а местечко потише, на Рю де Оливье. Фон Галбан подошел к стойке регистрации с беззаботной уверенностью человека, который убил врага в ближнем бою, агент и представитель знаменитости, укутанной в черный бархат, не обращая внимания на комментарии из-за стойки по поводу его испачканной кровью одежды.
— Мисс Джонс желает сесть на корабль до Северной Африки. Но она хочет отдохнуть перед путешествием. Два номера, пожалуйста.
В итоге вид багажа и дорогого авто у входа убедили управляющего отеля найти для Мемфис свободный номер. Фон Галбану они выделили номер на первом этаже, который обычно резервировался для слуг.
— Есть корабли в порту? — спросил он.
Маленькие черные глазки служащего скользнули по нему, отмечая предательский акцент, и пожал плечами:
— Французский флот, месье, снялся с якоря три дня назад. Но ваши подлодки все еще в водах Ла-Манша.
«Не мои подлодки», — хотел он сказать, но у него уже не было сил на объяснения. Он не был немцем, но чувствовал себя соучастником. Он стоял рядом и смотрел, как насилуют женщину.
Мемфис проспала девять часов. Она заказала обед в номер. Фон Галбан провел это время, прогуливаясь по докам в тщетных поисках «Фудрояна» и думая, что же ему теперь делать. Он не мог сидеть и ждать, пока придут немцы, и не мог вернуться в Париж с этим опасным грузом. Его пугала даже мысль о том, чтобы сесть в Марселе на корабль и навсегда потерять свою семью.
Перед сном он получил записку от Мемфис, которая просила его зайти.
— Что вы собираетесь делать с этим чемоданом? — спросила она. Она была одета в шелк и сидела на диване. — Вы не можете вернуть его обратно в Париж.
— Может быть, я выброшу его в море.
— Я еду в Касабланку. Месье Этьенн, что сидит за стойкой администратора, сам купил мне билет, в четыре раза дороже. Это сделка военного времени. Думаю, он боится вашего акцента.
— Вы сообразительная, мисс Джонс. Знаете, как выжить.
Она посмотрела на него.
— Я должна была умереть. Мы оба это знаем. Я так и не сказала вам спасибо. Так и не сказала, так что говорю это сейчас: едем со мной.
— В Касабланку?
— Вы можете взять и свой чемодан. Отвезти его куда следует.
— Мисс Джонс…
— Я не жду ответа сегодня. Но нам нужно как можно быстрее заплатить тому человеку, если нам нужен билет, понимаете?
Он подумал об Анник и своих дочерях. О Жолио-Кюри той последней ночью в лаборатории: «Спрячь его где-нибудь в надежном месте, где никто не сможет украсть его и где он никому не сможет повредить».
— Спасибо, — сказал он ей. — Я подумаю, что нам делать.
Глава тридцать седьмая
Лицо агента корабельной компании за последние несколько дней еще больше похудело и выглядело более усталым, и Херст заранее знал, что скажет в ответ.
— Нет кораблей? — спрашивал он.
— Non et non et non[103], — отвечал тот. — Вы же не идиот, мистер американец. Откуда будут корабли в Бордо, если все европейские суда в Данкирке? Уже пять дней как маленькие рыболовные лодки и частные суда курсируют туда-сюда между Англией и Францией, но на берегу еще остаются сотни тысяч людей. Все они французы, их оставили здесь, потому что, кто бы сомневался, судами управляют англичане, и в первую очередь они вывозят своих. Это так по-английски, да? Развязывают эту войну с немцами, а потом бегут…
Он на секунду остановился, выражение его лица изменилось.
— Bonjour[104], мадам графиня.
Для поездки в Бордо Нелл надела один из своих приталенных парижских костюмов и шляпу, поля которой ниспадали, словно пальмовый лист. Это была не та женщина, которую Херст видел шагавшей по своим виноградникам на прошлой неделе, останавливающейся поболтать с посольскими детишками или странными голландскими беженцами, парируя предположения Мимс Тарноу ироничным движением бровей. Мимс была уверена, что ее пригласят в замок на чай или, может быть, позволят принять настоящую ванну, но Нелл так же была уверена, что не сделает этого.
— Bonjour, месье Вантен, — оживленно произнесла она. — Я, как видите, не сбежала.
— Конечно, графиня. Я не вас имел в виду…
— Может быть, вы будете столь любезны и отправите телеграмму в Лондон или Нью-Йорк о тех трансатлантических судах, которые ожидаются здесь через несколько недель? Мы через час проверим, узнали ли вы что-нибудь, хорошо?
— Oui, с'est bien[105], — ответил он, его лицо горело. — Мадам, меня так огорчила новость о пленении графа. Мы все очень сожалеем…
— Спасибо, месье.
Она произнесла эти слова уверенно, но когда они вышли из маленького кабинета, Херст заметил, что губы ее сжались.
— Вы останетесь здесь? — спросил он, когда они шли к набережной. — Даже если скоро всему здесь придет конец?
— Куда мне еще ехать? Луденн — мой дом.
— Я думал, ваша семья в Англии.
Она пожала плечами.
— Они не в большей безопасности, чем мы здесь. И я никогда не уеду, не узнав ничего о Бертране и Роже.
— Вашем муже и…
— Внуке Анри. Анри присматривает за всем виноградником, но живет он только ради Роже. Я чувствую себя такой виноватой, — ее лицо перекосила гримаса внезапной, острой боли. — Мальчику всего девятнадцать. Он присоединился к армии Бертрана сразу, как только началась война. Бог знает, что могло случиться с ним в руках этих людей. Мы даже не знаем, убит ли он или…
Они дошли до городской набережной, шумной и торговой, с выстроившимися вдоль нее красивыми городскими домами. Река в этом месте была настолько узкой, что казалось, до противоположного берега можно добросить камнем, спокойный водный поток, совершенно не похожий на широкую, стремительную и глубокую реку, каким был Жиронд на севере.
— Я кое-чем обязана Анри, — продолжила она. — Он много лет присматривал за Луденном, даже когда Бертран… он для меня не просто наемный рабочий. Он и Роже моя семья.
Херсту показалось, что ее больше заботит maitre de chai[106], чем муж. Нелл выросла в крупном поместье, где отношения между землевладельцем и наемными рабочими были вечными и крепкими. Она видела себя в центре этой группы людей, которые провели в Луденне всю свою жизнь. Нелл несла ответственность. Она не могла сбежать.
— Для вас все по-другому, — сказала она. — Это не ваша война. Вы должны ехать домой как можно скорее.
— Именно это я и сказал Салли Кинг, — сказал он, глядя на реку. — Но она хотела остаться. Как и я, она знала, что ее дом здесь. Я не должен был…
Он опустил слова «вмешиваться в ее жизнь». Он рассказал Нелл о «Клотильде»: об ударе торпед, об объятой пламенем палубе. Он представлял как Салли тонет в волнах…
— Вы вините себя, — заключила Нелл.
— Конечно, я виню себя!
— У нее была необычная внешность. Я часто видела ее фотографии в журналах.
— Салли была не просто девушкой с хорошеньким личиком.
— Вы были в нее влюблены?
Он нервно засмеялся.
— Я ни разу не позволил себе задать этот вопрос. Не было времени, да и это казалось эгоистичным во время немецкого вторжения.
— Но когда весь мир на краю гибели, — настаивала она, — самое главное — правда. Ответьте на мой вопрос, Джо. Просто для себя. Даже если она умерла.
Он уловил страсть в ее голосе и удивился. Было ли это из-за Бертрана? Или из-за кого-то еще?
— Слышите, — сказала она, вдруг взяв его за руку, — на той рыбацкой лодке. В конце набережной. Они просят о помощи.
— Должно быть, из Данкирка. У них носилки на борту. Но почему они привезли беженцев сюда? Они должны везти их в Англию.
— Может быть, они французы, — сказала Нелл и побежала.
Херст побежал за ней. Он знал, что она подумала о муже или, может быть, о Роже, надеясь, что сообщения лгут, что армия не сдалась и что их отвезли на берег, как и многих других. У него защемило сердце из-за того, как она боролась за надежду, когда та, казалось, уже умерла. И тут он остановился.
Рыбаки несли носилки: на них была худощавая фигура в промокшем платье, глаза закрыты, лицо бледное, как смерть.
— Салли, — прошептал он.
Прежде, чем в переполненном коридоре госпиталя Бордо появился доктор, прошло три часа, но Нелл настояла на том, чтобы ждать вместе с Херстом. Нелл заставила рыбаков все рассказать, как они спускали на берег остальных пострадавших, подобранных в последнем плавании у берегов Бретани: взвод заблудившихся французских солдат, которых немцы загнали далеко на юг Данкирка и троих людей, которых выбросило на берег в разных районах. Одной из них была Салли. В сумерках течение Ла-Манша отнесло ее на юг и выбросило на берег где-то в районе Кот д'Альбатр в Нормандии, где она ударилась о скалы.
Солнечным воскресным утром ее нашел мальчик, который отправился искать солдат на берегу, она, словно мертвая, лежала, уткнувшись лицом в прохладный песок, омываемая холодным весенним прибоем. Херст слушал историю, которую рассказывал рыбак с тяжелым акцентом жителя Медока, и представлял себе девушку в морге, как волосы каскадом рассыпаются по ее тонкой шее и лебединый изгиб лопаток под тонким хлопковым платьем.
Она не умерла. Однако она находилась без сознания с того времени, как ее привезли в деревню Фекамп четыре дня назад. Это все из-за скал, сказал рыболов, из-за известняковых утесов на побережье. Это также объясняет и то, что ее рука сломана.
Ее левая рука, распухшая и покрытая синяками, была неестественно изогнута, словно она пыталась дотянуться и уцепиться или оттолкнуться от скал, и за это они ее сбросили. На ее лице и ногах тоже были раны и кровь. Долгое пребывание в холодной морской воде вызвало воспаление легких, и ее лихорадило, дыхание было хриплым и болезненным. Херст хотел посидеть рядом с ней, но, видя, как под дрожащими от мучающих ее кошмаров веками дико вращаются ее глаза, он вставал и шагал, пропихивая свое длинное худощавое тело через толпу ожидающих раненых.
— Вам нужно найти Ноакса, — быстро сказал ему Нелл. — Он должен связаться с ее семьей. Сообщить им, что она жива. Они, наверное, слышали о «Клотильде». Они будут наводить справки.
Теперь он знал, что ему нужно делать, к тому же это помогло ему занять еще час времени. Когда он вернулся из американского консульства, Салли еще не пришла в себя. И он шагал взад-вперед, борясь с желанием позвать доктора.
То рыболовецкое судно встало на рейде на севере, у берегов Дьеппа, чтобы забрать группу отчаявшихся солдат, экипаж транспортной колонны, который бросил машины и припасы, оставив себе только оружие и ящик вина для моральной поддержки. Их путь на берег лежал через Фекамп, где они узнали, что в больнице находится женщина в критическом положении. Немецкая армия была уже рядом с Дьеппом, так что рыбаки решили забрать и Салли.
— Состояние тяжелое, — сказал им доктор. — Плюс пневмония. Мы зафиксируем руку. Но вряд ли мы сможем сделать что-либо еще.
— Она будет жить? — спросил Херст.
— Послушайте, месье, — сказал доктор резко, — Я перестал брать на себя роль Бога с тех пор, как пришли немцы.
Глава тридцать восьмая
Спатц был зол, шагая по берегу Марселя в поисках Мемфис и фон Галбана, но не подавал вида. Никакого раздражения в гениальной улыбке «воробья», открытый и обаятельный взгляд.
Он считал себя знатоком человеческих характеров, но в последние несколько дней проницательность его сильно подвела. Нелл соблазнила Жолио-Кюри, но отказалась предать его, и когда Спатц напомнил ей, что ему нужна информация, если он собирается продаться англичанам, она сказала, что их старый друг, Сумасшедший Джек, уже все знает о французской бомбе.
Это здорово пошатнуло его положение.
Нелл знала больше, чем говорила, но она была одержима своими евреями и ей наскучила физика. Она утаивала любовь, как скрывают болезнь, думал Спатц. Ему нужно было подумать, как контролировать ее. Предметом шантажа могла стать свобода Жолио или Бертрана.
К этой пятнице, тридцать первого мая, он приехал в Марсель в поисках Мемфис. Сначала он увидел ее машину.
Блестящий седан стоял за охраной, отделявшей марокканский корабль от толпы провожающих и безумствующих людей, желавших взобраться на борт. Фон Галбан стоял, прислонившись к переднему крылу машины, спиной к напиравшей толпе беженцев. Он, наверное, думал о людском море позади него, об оскорбительных выкриках и мольбах на семи разных языках; выражение его лица было горделивым, даже слишком. В машине оставался всего один чемодан, и Спатц понял, что этот чемодан принадлежит фон Галбану, он помогал ему загрузить его той ночью, когда они уезжали из Парижа. Там внутри должен быть уран. Значит, фон Галбану не удалось. Он не доставил его.
Настроение поднялось, и Спатц, поправив шляпу, начал пробираться сквозь толпу. Ему нужно было всего лишь пробормотать что-нибудь по-немецки, зная о пугающей силе этого языка, и он мог раздвинуть толпу, словно Моисей — Красное море.
Фон Галбан достал из нагрудного кармана билеты. Шум на набережной изводил его: портовые грузчики и матросы, пассажиры и их друзья, которые пришли попрощаться, тычки в спину. Беженцы. И он понял, что теперь он был одним из них, у него нет возможности ни выполнить поручение, ни вернуться домой. Он ощутил головокружение, будто стоял на подоконнике открытого окна, и у него не было другого выбора, кроме как прыгнуть. Ему нужно было преодолеть расстояние в восемь футов от причала до судна и взойти на борт. Возвращаться назад было безумием. Его депортируют в трудовой лагерь, как только он попадет в Париж.
— Привет, старик, — сказал Спатц.
Кордон впустил его так же легко, как распахивались перед ним двери клуба «Алиби». Он улыбался Гансу, но фон Галбан почувствовал, как в воздухе пахнуло опасностью, такой резкий пороховой запах.
— Как ты нас нашел?
Спатц пожал плечами.
— По кровавому следу.
Фон Галбан был поражен тем, как беспечно это было им сказано. Он подумал о двух убитых немцах и слабо кивнул.
— Где она?
— Осматривает свою каюту. Мисс Джонс очень беспокоится о своем багаже.
— Это точно, — он достал сигарету и предложил одну Гансу. — Но твой багаж остался, — заключил он. — Ты не едешь с ней?
— Как Анник? — спросил фон Галбан. — Как мои девочки?
— Хорошо.
— Они уже добрались до родителей?
Спатц не ответил. Их взгляды встретились. В глазах Спатца была какая-то насмешка, это напоминало то, как смотрит кошка, когда играет с мышкой.
— Чемодан, — продолжил Спатц, — когда я помогал тебе грузить его в Париже той ночью, то я подумал, что он тяжелый, как свинец. Я прав?
Он почувствовал шум в ушах, и понял, что слишком устал, чтобы бороться, чтобы продолжать притворяться.
— Спатц, зачем ты сделал женщину своим личным шпионом? Почему ты сам не сел позади меня в машину, если хотел узнать, что я везу?
— Потому что ты ни за что бы не согласился взять меня, — резонно ответил немец, — и не открылся бы мне так, как Мемфис. Я знал, что так будет. Я всегда этим пользовался.
В одну секунду вся картина предстала перед мысленным взглядом фон Галбана: женщина, ранимая, страдающая, несмотря на свое неповиновение, его вину и сожаление. Свою наивность, когда он полагал, что разделить опасность — значит разделить и правду. Он переложил уран из своего чемодана в ее, потому что считал, что это единственный шанс вывезти его из Франции. Он доверил джазовой певичке будущее французской науки. Чтобы отдать его в руки ее любовнику при первой возможности.
Она спускалась к ним по трапу, лучезарно улыбаясь, словно Спатц — единственный мужчина в мире, которого она когда-либо желала, словно весь этот день можно было считать прожитым не зря только потому, что он приехал. Фон Галбан наблюдал за происходящим, и ему показалось, что даже недовольные крики отчаявшихся людей за его спиной стихли на мгновение, словно в животном преклонении перед внешностью Мемфис, дурманящей дикостью ее взгляда, который мог заставить замолчать даже войну.
— Привет, малыш, — нежно сказала она и обняла Спатца, — Моей кровати хватит и для двоих.
Глава тридцать девятая
— Вы здесь неплохо устроились, — заявил Жак Альер, войдя в гостиную «Клер Ложи».
Вилла находилась на улице Рю Этьенн-Долле, не в самой бедной части Клермон-Ферран. Разместив «Продукт Z», как Альер предпочитал его называть, Моро и Коварски принялись прочесывать город в поисках свободного дома. «Клер Ложи» был летней резиденцией, которой владела одна семья из Парижа. Риэлторы были только рады сразу получить наличные в это неспокойное время, и Моро подписал контракт об аренде на месяц.
За следующие две недели дом, благодаря Коварски, преобразился. Свою собаку — волкодава по имени Борис — он разместил в гостиной, где уже была собрана и работала половина лаборатории Жолио. Обеденный стол теперь использовался для экспериментов. Даже на кухне в углу была установлена газовая горелка для импровизированной сварки и выдувания стекла.
Коварски не брился уже много дней. Казалось, он никогда не снимает лабораторного халата, в одном кармане которого всегда лежит кусок хлеба, а в другом — очки для чтения. Он был счастлив оттого, что убежал от войны и мог теперь спокойно работать. Он рассказал Альеру, что старается запустить то, что он называл дивергентной цепной реакцией, в смеси окиси урана и тяжелой воды. Альер догадывался, откуда Лев взял дейтерий[107], но решил не спрашивать его об окиси урана.
— Вы слышали что-нибудь о своем коллеге, герре фон Галбане?
— Ни слова, — радостно сказала Коварски. — Но у Ганса все хорошо. Он появится. Как дела в Париже?
— Tres mal[108]. Вы слышали, что бельгийцы сдались?
— Три дня назад. Двадцать восьмого мая. У меня включено радио, — Коварски больше любил слушать свои пластинки, которые ему удалось привезти с собой на юг в грузовике вместе с волкодавом. Ему нравились русские композиторы-экспериментаторы, негармоничные и противоречивые, как беспорядочное движение ядерных частиц.
Он откусил кусок хлеба.
— Чертовы бельгийцы. Сами распахнули парадную дверь, а британцы удирают через черный ход, — он пожал плечами. — Что если немцы не пойдут на Париж?
— Со стороны правительства были совершены большие ошибки, — сказал Альер медленно, как будто эти слова были государственной изменой. — Vous n'avez aucune idee…[109]
Как рассказать ученому о плохой работе разведки, ошибочных выводах, пререканиях и страхах стариков? Это больше не имело значения. Все в Министерстве вооруженных сил знали, что война проиграна. Через несколько дней правительства уже не будет. Почти по всем дорогам в Арденнах шли танки, а два миллиона французских солдат были убиты или попали в плен. Только французы еще во что-то верили.
— Тогда это великая страна, — вздохнул Коварски. — Я никогда раньше не видел Оверна. Моро здесь вырос. Он любит эти горы. Даже воздух здесь другой, Альер. Более насыщенный и свежий. Скорей бы уж привезти сюда семью.
Альер мог бы рассказать Коварски, что он — на волосок от интернирования, и вся его семья тоже; однако хотя он уже сталкивался лицом к лицу со смертью в норвежском аэропорту, в других ситуациях он был трусом. Когда ночью за Коварски придут, его уже здесь не будет.
— Не посылайте за своей женой, — посоветовал он. — Вам скоро придется уезжать.
— Но я уже сказал ей, что мы приехали в «Клер Ложи» на месяц!
— Надеюсь, — резко произнес Альер, — что вы больше не будете произносить название этого дома вслух. Особенно когда общаетесь с Жолио. Если вам нужно будет назвать место, говорите «Рю Этьенн-Долле». Так безопаснее.
Коварски запрокинул голову и расхохотался, но в этот момент раздался стук в дверь, и они замолчали, уставившись друг на друга. Было уже девять часов вечера, и весь город погрузился в кромешную тьму из-за приказа о затемнении.
Волкодав поднялся и подошел к двери.
— Моро? — прошептал Альер.
Коварски покачал головой.
— Он вернулся в Париж. Чтобы помочь Жолио уничтожить лабораторию.
— Кто же тогда?
— Лучше спросить.
Альер в панике смотрел, как Коварски пошел вслед за своей собакой к двери. В кармане его пальто был пистолет, но он оставил пальто в своей «Симке», у него не было времени выгрузить багаж. Ему вдруг очень захотелось, чтобы пистолет был сейчас у него в руках.
Борис заныл, как ребенок, и Коварски резко открыл дверь.
— Ганс? — он раскинул руки для объятий, словно медведь. — Как я рад тебя видеть! Значит, ты не погиб, когда отправился на юг, а?
Альер видел лицо фон Галбана, оно было слишком белым и призрачным в черном проеме двери. Света не было ни на пороге, ни при входе на виллу, ни на улице Рю Этьенн-Долле, и позади фон Галбана была только черная бездна овернской ночи.
Фон Галбан казался слишком скованным и неестественным, казалось, он прирос к порогу, и когда он заметил Альера, то его взгляд исполнился ужаса.
Альер понял, что нужно уходить. Но было уже поздно.
Негнущимися ногами фон Галбан шагнул в дверной проем, вытянув руки к Коварски. За его спиной стоял еще один человек — высокий блондин, которого, к своему ужасу, Альер знал.
Последний раз он видел его два месяца тому назад той холодной ночью в Норвегии, он бежал за самолетом.
Мужчина улыбался, не обращая внимания на Альера. Возможно, он уже забыл самолеты, летевшие в Перт и Амстердам, молодую итальянку, погибшую над Северным морем. У него в руках был пистолет.
— Мне жаль, Лев, — пробормотал фон Галбан. — Мне так жаль. Он пришел за водой, да?
Глава сороковая
Когда четыре дня спустя Альер, наконец, добрался до Фредерика Жолио-Кюри, физик стоял на мощеной булыжником площадке позади физической лаборатории и смотрел, как горят документы.
Он уже разделался с бумагами, накопившимися за шесть лет, все было брошено в пламя после того, как он пришел к убеждению, что все это больше нет смысла хранить. Самая важная информация была у него в голове или давно опубликована, если остальные его записки канут в небытие, будет даже лучше. Вакуум, который он оставит после себя, даст возможность другим ученым что-то открыть, изобрести, наивно считая себя первооткрывателями.
Он вытащил из кармана лабораторного халата пачку писем. Последние десять лет они лежали вместе с его лабораторными записями и были слишком компрометирующими, чтобы хранить их среди носков и нижнего белья. Его взгляд скользнул по собственному имени, написанному небрежным почерком Нелл, по проставленным в Англии штемпелям. Среди отчаяния и обреченности ему так не хватало ее голоса.
Жолио вдруг подумал, а что если Ирен прочитала все эти слова много лет тому назад. Теперь это уже не имело значения. Нелл уже не была его территорией, его морем, по которому он пускался в плавание. Он променял эту тайну на право видеть своих детей.
Он швырнул письма в огонь.
Когда Альер рассказал ему о немце из Норвегии, который появился из-за спины фон Галбана, Жолио не сразу раскрыл ему правду о том, что тяжелая вода в действительности находилась в винодельческом хозяйстве в Бордо. Он слушал Альера молча, слушал, как он винил во всем себя, рассказывал о предательстве среди иностранцев, о своей ненависти к фон Галбану, которого бросили в Овернскую тюрьму, как только его немецкий друг уехал с водой. Когда Альер закончил, Жолио произнес:
— Отпустите его.
— Вы с ума сошли? — вскрикнул Альер в ярости. — Вы так и не видите правды, enfin[110], когда она практически лежит у вас в кармане?
— Отпустите его, — повторил Жолио. — Очевидно, что нацисты угрожали расправиться с его семьей. Или возможно со мной. Да, скорее всего, со мной. Я должен был быть убит каким-нибудь ужасным образом, а фон Галбан так не вовремя проявил благородство.
Альер беспомощно уставился на него, мягкое выражение лица банкира было искажено ужасом. Жолио сказал:
— Это всего лишь вода, Жак.
— За которую я чуть не заплатил своей жизнью!
— Дважды. Я знаю. И я благодарен за это. Но прямо на наших глазах вся страна катится к чертям. Мы сделали все, что могли. Мы проиграли.
— Нас предали.
Жолио слегка покачал головой.
— Нас нашли. И ничего больше. Ставкой была не жизнь Ганса, он из тех, кто с готовностью умер бы. Но он никогда не стал бы играть с чужой жизнью. Я знаю этого человека, Жак. Я его знаю.
— Вы не можете ошибиться, не так ли? — проворчал Альер. — Великий Фредерик Жолио-Кюри, нобелевский лауреат, человек, женившийся на славе ради своей карьеры…
Не оборачиваясь, Жолио спросил:
— Вы нашли уран?
— Что?
— Уран, который фон Галбан должен был доставить на французский военный корабль. Он сказал вам, где он?
— Он отказался.
«Молодец», — подумал Жолио, и ушел.
Он отыскал Сумасшедшего Джека в номере отеля Мерис, развлекающегося с тремя женщинами. Жолио предположил, что это — filles de joie[111], или, быть может, хористки из «Фоли-Бержер». Он вспомнил, как Альер говорил, что касательно женщин, вкусы графа был разнообразным и идеалистическими. Он отклонил предложение выпить шампанского, но не отказался от ломтика фуа-гра. Граф проводил женщин до двери, держа в каждой руке по бутылке.
— Ну, — сказал он, снова сев за обеденный стол и положив ноги на соседний стул, — решили смыться? Бежите в Англию?
— Нет.
Взгляд Жолио упал на кусочки теплого хлеба на столе, и понял, что прошло уже много дней, с тех пор когда он последний раз ел нормально. Нехватка продовольствия началась после того, как большинство бакалейщиков и булочников позакрывали свои лавки; начиная с первого июня бегство жителей из Парижа было весьма значительным.
— Кто-то же должен остаться во Франции. Иначе нам начнет казаться, что она всегда принадлежала Германии.
Сумасшедший Джек улыбнулся, и Жолио рассматривал чувственный изгиб его губ, говоривший о его чувстве юмора и жестокости. Поколения близкородственных связей были в ответе за эксцентричность этого человека и его острый ум.
— Знаете, я мог бы уехать в Данкирк, — сказал граф. — Или удрать от «мессершмиттов» через Ла-Манш. Я не собираюсь ждать тут немцев, чтобы они меня повесили. Но если в ближайшие несколько дней вы передумаете, дайте мне знать. Я все устрою для вас и вашей семьи.
Он протянул ему хлебницу. Жолио взял кусочек.
— Прежде всего, — сказал он, — мне нужно судно.
Сумасшедший Джек засмеялся.
— Вам и всем чертовым французам. В эту самую минуту двести тысяч ваших соотечественников ищут корабль, и я с сожалением вынужден сказать, что им не повезло.
— Мне нужно не для себя. Это для тяжелой воды, которую мы вывезли из Норвегии. Ее нужно отправить в Англию, пока Франция не пала.
Взгляд ярких голубых глаз графа встретился с его взглядом.
— Как я понял, вы провернули какую-то махинацию.
— Я отправил в Оверн канистры с обычной водой.
— Правда? — присвистнул Сумасшедший Джек. — Жолио-Кюри, вы просто гений.
5 июня: Черчилль отозвал все свои штурмовики с территории Франции, будучи убежденным, что французские воздушные базы сдадутся в любой момент. Ирен сочла подобный поступок истинно британским, L'Albion perfide[112], так как британцы отказывались направлять свои суда в Данкирк теперь, когда все английские солдаты были спасены. Сотни и тысячи бельгийцев и французов все еще оставались на берегу.
— Я ни за что не поеду в Англию, — поклялась она. — Я не позволю, чтобы моих детей воспитывали англичане.
9 июня: посол Билл Буллит отправил одного из своих оставшихся помощников в Лиссабон, чтобы достать двенадцать пулеметов для защиты посольства, уверенный, что коммунисты примутся грабить город, как только подойдут немцы.
Через час после завтрака уставший и взъерошенный Моро вернулся в Коллеж де Франс; всю ночь он провел за рулем, пробираясь навстречу толпе беженцев, направлявшихся на юг. Он приехал, чтобы помочь Жолио собраться и чтобы забрать свою жену. Он сказал, что на дорогах миллионы людей. Может быть, больше.
Он был ученым и привык оперировать точными сведениями.
Французское правительство собралось и довольно неожиданно уехало. Весь день министерства выбрасывали свое имущество из окон, кое-где поднимались столбы дыма, словно проводилось повсеместное сожжение документации. К ночи красивые каменные здания опустели, а бюрократы были уже на пути в Тур. Парижане все еще сидели в уличных кафе в наступившей темноте, заказывая напитки, если не было еды.
Ирен сняла все свои деньги из Парижского банка и хорошенько спрятала их в чемодане среди белья.
10 июня: премьер-министр Пол Рейно, уверив Франклина Рузвельта, что французы «будут сражаться на подступах к Парижу, мы будем держать оборону в одной из провинций и бороться, а если нам придется уехать, мы закрепим наши позиции в Северной Африке и будем продолжать борьбу», уехал из города тихо, как вор.
Ирен написала письмо няне своих детей, но не смогла послать его по почте в Арквест — почты опустели. Она отправила его поездом к подруге, которая жила на юге от города, собиралась в Бретань, и пообещала, что письмо будет доставлено.
Они с Жолио уже много дней не получали никаких вестей о своих детях. А немцы были уже в Бретани.
11 июня: Муссолини объявил войну Франции и Англии.
Остатки лабораторного оборудования были отправлены на юг, в Клермон-Ферран: гальванометр, ионизационная камера, спектроскоп. Жолио отправил в Оверн десять ящиков с оборудованием общей стоимостью около двухсот тысяч франков. Он был уверен, что с тем же успехом мог просто выбросить все это на помойку. Как узнать, доедет ли все это до места назначения.
Альер пришел попрощаться. Он ждал еще долго после того, как Министерство вооруженных сил покинуло Париж, надеясь, что он сможет убедить Жолио отправиться прямо в Бордо, а оттуда на корабле в Англию. Жолио ничего не сказал ему ни о предложении Сумасшедшего Джека, ни о канистрах с простой водой.
— Я освободил вашего коллегу, — сказал Альер, — из тюрьмы в Риоме.
— Почему?
Банкир отвернулся, не в силах смотреть в глаза Жолио.
— Ваш уран был доставлен во французское посольство в Марокко. Его привезла женщина, черная американка, в чемодане, полном туфель.
— Понятно. Так он в безопасности?
— Да, — Альер с трудом сглотнул. — Но у нас есть сведения… из надежных источников… что ваши исследовательские отчеты, копии которых вы сожгли, те копии, которые были отправлены в министерство, были найдены немцами.
От неожиданности у Жолио все внутри перевернулось.
— Где?
— На рельсах рядом с Шарит-сюр-Луар. Mon Dieu[113]. Они словно специально были оставлены там.
— Вы хотите сказать, что они были проданы.
Альер кивнул.
— Значит, утечка информации — ваш немецкий шпион — в министерстве, а не в моей лаборатории.
— Похоже на то.
Жолио пристально уставился в сумерки в открытую дверь лаборатории. Моро тщательно упаковывал вещи в багажник своего «Пежо», как будто чем тщательней он будет это делать, тем быстрей он сможет выбраться из Парижа.
— Завтра мы уезжаем, — сказал он.
Уже стемнело, когда они с Ирен наконец закрыли двери лаборатории. Весь день было темно: на берегах Сены горели нефтеперерабатывающие заводы. С неба сыпалась черная сажа, одевая в траурный черный цвет молодые листья каштанов. Волосы Жолио и вся поверхность его машины были в маслянистой копоти от горящей нефти. Сообщалось, что немцы всего в пятидесяти милях от города.
Моро и его жена ждали отправления их небольшой колонны. Ирен взяла из лаборатории немного золота и платины, для кого-то драгоценность, но для физика — незаменимый материал для работы. В свинцовом ящичке был упакован один грамм радия, доставшийся ей от матери. Она постоянно кашляла, маслянистая взвесь, висевшая в воздухе, оседала на ее слабых легких и застревала в горле; напряжение последних нескольких дней вымотало Ирен, и ее спокойное лицо было измучено волнением и болью. Садясь за руль «Пежо», Жолио не сказал ни слова, надеясь, что она, возможно, поспит, когда они выедут на открытую дорогу.
Он отъехал от Коллеж де Франс около трех часов дня. Латинский квартал и бульвар Сен-Жермен были пусты, оно и к лучшему. Моро старался держаться следом, так как мотор его «Пежо» был не таким мощным. Они повернули на бульвар Распайль, направляясь в Порт д'Орлеан, и тут им пришлось остановиться.
Перед ними раскинулось море машин, направлявшихся на юг, не только в сторону Орлеана, но и направление на север тоже было забито машинами. Бульвар был заполнен желающими покинуть Париж, но никто не двигался. Несколько жандармов тщетно размахивали оружием, на их лицах была паника.
«Они удивляются, — подумал Жолио, — почему они не могут уехать».
Он открыл окно и спросил:
— Насколько большая пробка?
— Двести миль, месье, — ответил жандарм.
Ирен закашлялась.
Машина продвинулась еще на дюйм вперед.
Жолио смирился и ждал.
В четыре часа утра он понял, что за последние двенадцать часов он смог проехать двадцать миль со скоростью пешехода. Поток людей в машинах тащился по обеим сторонам Рут Насиональ № 20, по широкому шоссе, которое вело из Парижа на юг Франции. Ему хотелось выйти из «Пежо», взять с собой ящик с граммом радия мадам Кюри, завернутый в его рубашку, и пешком идти в Оверн.
— Говорят, что идея заблокировать шоссе беженцами принадлежит генералу Вейгану, — равнодушно заметила Ирен, — чтобы держать немцев в Париже. Расчистка дорог займет несколько дней.
Жолио слышал ее слова, возможно, он даже пробормотал ей что-то в ответ, но тут он услышал шум моторов, словно разрезавших небо пополам.
— Пригнись! — закричал он, когда над их головами пролетели «мессершмитты».
Из нарастающего рева послышалось «ра-та-та» пулеметов, обстреливавших неподвижные машины, заполнившие Рут Насиональ; ужасное стаккато сыпалось градом, в темноте можно было даже разглядеть массивное очертание самолета и огонь, извергавшийся из его орудий. Машина Жолио стояла в крайнем правом ряду, и он успел лишь дернуть руль и съехать в кювет, но автомобиль рядом с ним был расстрелян — он видел, как задергалось тело водителя, когда пули впивались в него.
Ирен закричала — низкий, гортанный звук, который перешел в безостановочный кашель. Она согнулась пополам. «Пежо» сильно накренился, и Жолио насчитал три самолета, семь, потом он больше уже не мог считать, и шум вдруг стих.
Машина наполнилась звуками тяжелого дыхания Ирен и Жолио.
— Моро, — выдохнула Ирен.
Жолио открыл дверь, пошатываясь, вышел из машины и бросился назад к тому месту, где он в последний раз видел «Пежо», принадлежавший Моро. Его там не было.
— Моро! — позвал он с отчаянием в голосе. — Моро!
Он огляделся. От искореженных машин доносились стоны, видны были языки пламени. Кто-то полз к нему на коленях через изрешеченные машины…
Он увидел машину Моро, она уткнулась передом в кювет на противоположной стороне, Моро неуклюже лежал на руле. Его жена склонилась над ним.
— Думаю, он без сознания, — сказала она, когда подошел Жолио. — Удар при аварии. Не думаю, что его застрелили.
— Нам нужно свернуть с этого шоссе, — пробормотал Жолио.
* * *
Тем, кто оставался, помощи ждать было неоткуда. Не было никакой возможности послать за помощью. Жолио ехал со скоростью пешехода, надеясь, что впереди перекресток, где он сможет повернуть. Глаза Ирен были закрыты, она заговорила всего раз, чтобы спросить, не могла бы она выйти по нужде где-нибудь в поле. Жолио пришлось ждать почти час прежде, чем ему удалось снова тронуться в путь, и он уже отчаялся куда-либо уехать с этого места. Солнце было уже высоко, когда он помог Ирен выбраться из машины и перелезть через ограждение шоссе. Она присела в траве, не обращая внимания на то, что почти все жители Парижа находились в дюйме от нее. И тут снова послышались звуки летящих самолетов.
— Ирен, — закричал он. — Ложись!
Он спрятался за припаркованную машину и ждал. Но «ра-та-та» так и не последовало, только нарастающий гул мотора, словно жужжание нескольких тысяч ос, садившихся где-то рядом с ним.
Он поднялся, ища жену.
Она лежала на земле, закрыв руками голову. За ней в поле садился самолет. Из самолета с трудом вылез мужчина, потому что одна нога у него была повреждена, и его огромная фигура с трудом помещалась в кабине.
— Сумасшедший Джек, — прошептал Жолио.
И он через поле побежал к нему.
Глава сорок первая
Лихорадка спала на третий день, когда Херст почти потерял надежду.
Каждое утро он проезжал пятьдесят миль из Бордо в Луденн, с Пети, который сидел рядом с ним на пассажирском сиденье. Старый француз закупал провизию в городе: еду, уголь для костра, молоко, если мог найти его, и ехал обратно к американцам, лагерь которых стоял под соснами замка, пока Херст дежурил в переполненной больничной палате. После обеда Пети возвращался и вез Херста обратно в лагерь, где Херст лежал на жесткой земле, глядя на июньские звезды, в полной уверенности, что Салли умрет на рассвете. Он не спрашивал Пети, как ему удавалось доставать бензин для «бьюика», а старый француз никогда не рассказывал ему об этом.
Врачей беспокоил перелом костей черепа Салли и возможный отек мозга. Она очень сильно похудела, ее выступающие кости выглядели скорее болезненно, чем элегантно, кожа стала грубой от обезвоживания. Ее мучали кошмары. Много раз Херст слышал, как она кричала имя Морриса.
Когда он больше не мог выносить этого, он выходил из больницы и шел вниз, к докам. Он разговаривал с рыбаками, надеясь узнать подробности того, что случилось с Салли, и видел ли кто-нибудь из них Эмери Морриса. Но никто не видел. Теперь, когда Бордо наводнили толпы беженцев, трудно было вообще кого-либо найти. После одной из таких печальных прогулок он вернулся обратно в больницу и увидел, что Салли открыла глаза.
— Джо, — хрипло произнесла она, — ты тоже умер?
С того момента он начала понемногу поправляться, хотя память к ней вернулась не сразу. Прошло еще два дня прежде, чем она смогла рассказать ему о торпедах и о том, как умер Моррис, о признании юриста в убийстве Филиппа — и потом, ужасаясь при воспоминании об этом, про гроб в волнах Ла-Манша и утонувших в нем документах.
Она каждый день спрашивала, есть ли у Херста какие-нибудь новости о Леони Блум, но новостей не было. Старушка пропала.
Он старался пресекать все разговоры о войне, думая, что это лишь сделает ее еще более раздражительной оттого, что она прикована к постели, но в пятницу, четырнадцатого июня, он больше не мог ограждать ее от этого. Он приехал в больницу и услышал по радио о триумфальном шествии немецкой армии по Елисейским полям.
— Они ведь не остановятся там, да, Джо? — по ее лицу текли слезы, словно Филипп снова умер.
Херст подумал о Билле Буллите, прятавшемся от воздушных налетов в посольском винном погребе, и сказал:
— Нам нужно уходить, Салли. Как только ты будешь в состоянии двигаться. Со дня на день из Нью-Йорка ожидается судно, пароход «Милуоки», и мы все собираемся попасть на него.
— Нет, только не корабль, — слабо протестовала она.
— Ты же не можешь перейти Атлантику пешком.
— А как насчет гидросамолета «Клипер»[114]?
— Тебе все равно нужно попасть в Лондон. Это значит, что придется сесть на корабль. И вообще, разве может случиться что-либо страшнее того, что ты уже перенесла.
Она покачала головой.
— Уж лучше я вернусь в Париж и буду жить среди немцев, чем снова доверю свою жизнь морю.
— Прежде всего, — успокоил ее он. — Нужно поставить тебя на ноги. Сегодня я забираю тебя домой, в Луденн.
Ее лицо просияло, и, казалось, новая надежда вдохнула в нее силы после всех ее терзаний из-за потери документов, деталь, о которой Херст должен был сообщить в американское посольство при первой же возможности. Но долгий переезд по узким и ухабистым дорогам был очень труден, и когда он, наконец, остановился у двери замка, она снова потеряла сознание.
— Совсем без сил, бедняжка, — сказала Нелл, помогая Херсту нести Салли наверх по широкой мраморной лестнице. — Она будет в состоянии отплыть в понедельник?
— В понедельник? — повторил он.
— Агент из корабельной компании прислал уведомление. Ваш «Милуоки» ожидается семнадцатого.
— Боже мой, — сказал он. — Ей придется.
В сумерках воскресного вечера послышался шорох шин по гравию и Херст понял, что у них гости.
Он не спеша шел к дому, чтобы поужинать вместе с Салли, которая уже могла сидеть, а ее аппетит был вполне приличным для человека, сумевшего обмануть смерть, как по аллее к дому подъехала маленькая зеленая «симка».
Звуки скрипки Эли Ловенса, доносившиеся из открытого окна замка, стихли.
Херст остановился под соснами. Он знал полуразвалившиеся автомобили рабочих виноградника, знал грузовик Анри и все машины ближайших соседей. Но никто из них не ездил на «Симке».
Массивная входная дверь замка тихо щелкнула и закрылась. Он поднял взгляд. Вглядываясь в сумерки, на пороге стояла Нелл. На ней была рабочая одежда, а ее лицо казалось маленьким белым пятном.
Боковые двери «Симки» одновременно распахнулись, и из машины вышли два человека.
— Привет, — весело произнес Сумасшедший Джек, обращаясь к Нелл. — Сколько лет сколько зим. Как дела, старушка?
Глава сорок вторая
Тем же вечером Фредерик Жолио-Кюри поцеловал свою жену в прохладный лоб, поправил лампу так, чтобы при чтении свет не резал ей глаза, и спросил:
— Ты в порядке?
Она холодно посмотрела на него, лежа на крахмальных белых простынях. Не она придумала отправить ее в санаторий, спешно найденный в маленьком городке Дордонь. Это была идея Альера, Альера, который появился неизвестно откуда тем воскресным днем, когда они только устроились на вилле Клер-Ложи. Банкир подъехал к Фреду и Моро, когда те шли по центральной улице к Пюи дё Дом, залитой ярким июньским солнцем, и рассказал им, что всего несколько часов назад французская армия окончательно сдалась. Теперь ничто уже не заставит немцев повернуть. Они двинутся из Оверна на Клермон-Ферран. Остается совсем немного времени, чтобы добраться до Бордо, чтобы найти корабль.
Именно тогда Фред представил англичанина, назвавшего себя графом, и рассказал банкиру об обмане с тяжелой водой, как он передал воду своей любовнице, конечно, так он ее не назвал, но Ирен все знала. Она знала его много лет и заметила легкое подергивание его век, когда он произнес имя графини. Он обманул правительство так же, как и свою жену, и на мгновение Ирен пожалела, что тяжелая вода в безопасности, и Фред будет по-своему вознагражден за свой обман. Но Альер был очень рад, обнял Фреда и расцеловал его, словно если он только мог, то вручил бы этому человеку медаль, а потом долго жал руку англичанину. Граф сообщил им, что нашел корабль, которое перевезет воду, шотландское судно «Брумпарк», стоящее в порту Бордо и отправляющееся через несколько дней в Саутгемптон.
— Вы можете найти корабль, — сказала она язвительно, — чтобы перевезти мировые запасы тяжелой воды. Вы, англичане, охотно бы это сделали. А как насчет наших парней, а?
— Ирен, — успокоил ее Фред. — Вспомни, сколько мы должны лорду Саффолку.
Это была правда. Граф посадил свой самолет в поле рядом с Рут Насиональ и вытащил их всех из смертельного капкана, из машин, которых в любую минуту могли атаковать «мессершмитты», затем он перевез их в Оверн и благополучно посадил самолет на летной полосе в Риоме, где их ждал Коварски с машиной, но Ирен это больше не волновало. Жолио бросил «Пежо», и Бог знает, будет ли у них когда-нибудь еще машина. Может быть, сейчас «Пежо» уже в руках немцев.
— Certainement[115], вы должны попасть на этот корабль, — обратился Альер к Коварски и фон Галбану. — Вы будете иметь честь передать дейтерий британским властям. Теперь во Франции вам делать нечего. Жолио…
Фред отказался обсуждать иммиграцию в Англию. Разговор зашел о женах и детях, о том досадном обстоятельстве, что часть из них находилась в самых разных местах, многие из которых теперь уже являлись захваченной врагом территорией. Моро был бледен и молчалив, он нервно поглядывал на жену, которая ничего не сказала, быть может, ей понравилась идея переехать в Лондон и прогуляться по тамошним магазинам.
Ирен громко обвинила их всех в предательстве Франции, в том, что они бегут, как трусы, но ее дыхание сбилось, и она снова начала кашлять судорожно, почти теряя сознание от ненависти к войне, к своему больному телу, к мужу, который никогда по-настоящему не любил ее.
Когда она снова пришла в чувство, то обнаружила, что лежит на этой кровати: личная палата в частном санатории, никаких звуков стрельбы или криков, чистое и хорошо освещенное место для того, чтобы спокойно умереть.
— Этот человек хочет, чтобы ты ехал в Англию, — сказала она Жолио. — Ты оставил меня здесь, так что можешь бежать.
— С тобой все будет хорошо? — повторил он.
— Конечно. У меня есть все, что мне нужно. Кроме любви. Ты приедешь завтра?
— Если смогу.
Она с трудом поднялась:
— Ты едешь к ней, да? К той английской шлюхе в Бордо?
— Я еду помочь перевезти воду. Альер и граф уже там.
Она легла и повернулась к нему спиной. Он заслуживал смерти за все, чем она так дорожила, без единого слова прощения, и она надеялась, что так и будет. Снова начались спазмы, и она потянулась за стаканом воды.
Он коснулся ее волос и уехал.
Было три часа утра, когда Жолио добрался до Луденна на машине Коварски. Он осторожно почти ощупью пробирался по тихой темной улице к дому. Он никогда там прежде не был — это было владение другого мужчины — и даже теперь чувствовал волнение.
Он заметил странные куполообразные очертания палаток, расположенные между замком и виноградниками, но так и не понял, зачем они здесь. Было уже очень поздно, он устал, и мучился от чувства вины и опасной эйфории от новой встречи с Нелл.
Он поднялся по каменным ступенькам и взялся за ручку входной двери.
Она открылась в ответ на его прикосновение.
Он толкнул вперед массивную дубовую дверь и сделал шаг в темноту. Его каблуки неожиданно громко стучали по мрамору. Он на мгновение остановился, в горле пересохло. Его можно было принять за вора. Ему нужно найти гостиную и поспать там, на диване или на полу, не будя прислугу.
Вдруг в темноте над ним зажглось пламя свечи.
Он поднял глаза.
— Рикки, — выдохнула она. — Мне сказали, что ты приедешь.
Она начала спускаться по ступенькам, странное и незнакомое создание, одетое в белое, со свечой в руках и блестящими глазами.
Он неподвижно стоял посреди комнаты и позволил ей подойти.
Глава сорок третья
Людей перевозили из порта Бордо, находившегося на узкой реке Гаронн, на корабли, отогнанные в устье реки Жиронд, на плоских, похожих на баржи судах, обычно использовавшихся для перевозки винных бочек. Рыбаки и рабочие из Бордо делали все возможное, чтобы увезти всех беженцев из Франции. Это было облачное утро понедельника семнадцатого июня, и немцы уже пришли во Францию.
Штурмовики низко проносились над пришвартованными кораблями и баржами, набитыми пассажирами, и без колебаний сбрасывали на них бомбы. Иногда они промахивались, но судов на реке было столько, что большинство бомб попадали в цель, и какая-нибудь лодка взрывалась веером осколков и людских тел. Это был настоящий расстрел, и Джо Херст думал, что вряд ли кому-нибудь из них удастся уцелеть.
— Я не поеду, — откровенно сказала Мимс Тарноу. — Вы сумасшедший уже потому, что предлагаете это. У нас здесь дети!
Она посмотрела на него с ненавистью, обняв одной рукой сына, как будто Херст хотел сделать его пушечным мясом. Он не ответил Мимс, его взгляд был сосредоточен на небольших судах, до отказа заполнивших порт. Увидеть «Милуоки» было невозможно — пароход был слишком далеко в устье. Он надеялся, что капитан их ждет.
Тем утром он привез Салли Кинг на своем «бьюике» в Бордо. Мимс и остальные американцы последовали за ними, ругая приказ Херста оставить свои машины и багаж на попечение консула Ноакса, чтобы отправить их через океан позже. Херст велел Пети слить топливо из баков всех машин, как только они будут припаркованы около консульства. Ему нужен был бензин, чтобы отправить Буллиту в Париж.
— Спорю на что угодно, Ноакс продаст наш «Крайслер» немцам, — язвительно сказала Мимс Тарноу своему мужу Стиву. — Может, лучше остаться?
— Мимс, — вставил Херст. — если вы не хотите пообедать здесь вместе со всей немецкой армией, прекратите жаловаться и садитесь на судно.
— Что такого ужасного в этой немецкой армии? — ответила Мимс. — Не мы же с ними воюем. Мы всего лишь невинные свидетели.
— Скажите это бомбардировщикам, — пробормотала Салли.
Одно из плоских, похожих на баржу, судов пришвартовалось к каменному причалу перед кафе, где они все столпились. На носу судна, словно резная фигура для украшения корабля, стоял не местный рыбак, а настоящий моряк в белой униформе, и на его груди красовалась надпись «Милуоки».
— Слава Богу, — произнесла Мимс. — Наконец-то появился хоть кто-то, кто знает, что делать.
Она схватила своего сына за плечо и три чемодана из ее обширного багажа и поспешила вперед. Остальные американцы последовали за ней.
Херст осторожно обнял Салли, так как ее рука была в гипсе, и сказал:
— Пора.
— Нет, — ответила она.
— Так надо.
— Откуда ты знаешь? — в гневе она повернулась к нему. — В прошлый раз, когда ты сказал, что мне надо сесть на корабль, ты ошибся. Я устала быть благоразумной. Я устала делать то, что мне говорят. Я изменилась.
Тут воздух прорезал свист бомбы. В сотне ярдов вверх по реке набережная взорвалась градом камней и обломков дерева. Баржа покачнулась от набежавшей волны, все закричали.
— Иди! — закричал Херст, толкая Салли в руки матроса. Стив Тарноу и еще двое перепрыгнули все увеличивающееся расстояние между набережной и баржей, под весом их тел баржа опасно накренилась. Матрос отступил назад, держа Салли, и оба они исчезли в массе людей, заполнявших нос судна. Тарноу удержал равновесие и потянулся к швартову.
Херст бросил ему конец веревки. Он помахал на прощание.
Вдруг он увидел Салли, ее лицо было белым, ее взгляд был прикован к нему. Он не сказал ей, что остается.
Она отчаянно выкрикивала его имя. Матрос с «Милуоки» взял ее за здоровую руку, но она рванулась вперед, освобождаясь, и бросилась к корме.
Херст понял, что она собирается делать.
— Салли, нет! — закричал он. — Нет!
И в первый раз с тех пор, как они встретились, она его не послушала и прыгнула.
Жолио проснулся, когда последняя американская машина покинула Луденн.
Бледное пятно солнечного света на потолке и скомканная простыня, которой он укрывался. Место, где спала Нелл, было пусто. Он коснулся простыни — она была холодной.
Он оделся и вышел из комнаты. Нельзя, чтобы его здесь нашли, слуги или другие постояльцы — Альер и Сумасшедший Джек. Он не знал, в чем причина этого импульса, хотел ли он защитить себя или Нелл, себя или Ирен.
Он тихо спустился по мраморной лестнице и пошел на звуки голосов, доносившихся из кухни.
Это было помещение в старомодном стиле с дубовыми столами и голыми белыми стенами: когда-то здесь кипела работа, не то что теперь. Он подумал, а часто ли сюда приходила Нелл, и почему она сочла подходящим устроить графа здесь. Сумасшедший Джек чувствовал себя как дома, опершись на стол локтями и глядя на расстеленную перед ним карту Бордо. «Оскар» и «Женевьева», заряженные, лежали рядом.
— «Брумпарк» сейчас пришвартован у набережной Бордо, — произнес граф. — Я хочу привести вверх по Жиронду сюда, в Луденн, небольшое судно и, когда стемнеет, перенести туда наши емкости с водой. Не хотелось бы, чтобы бомбардировщики застали нас за переноской каких-то подозрительных вещей.
— Какие бомбардировщики? — спросил Жолио, стоя в дверном проходе.
Три головы разом повернулись в его сторону. Нелл улыбнулась своей таинственной улыбкой, но он не смог распознать ее под взглядом стольких глаз сразу.
— Вы здесь! — воскликнул Альер и встал со своего места. Только он один побрился сегодня утром и выглядел подчеркнуто опрятным. — Признаюсь, я и не надеялся на это, Жолио. Где фон Галбан и остальные?
— В пути. Я приехал прямо из Дордонь. Я оставил жену в санатории, который вы нашли.
— Бедная женщина, — произнес Сумасшедший Джек. — Жуткий кашель. Туберкулез?
Жолио кивнул:
— У вас уже есть план?
— Да, есть. Я привожу сюда судно, пока вы и Альер сторожите емкости и ждете подкрепления. «Брумпарк» выходит на рассвете, капитан никого ждать не будет. Надеюсь, ваши ребята справятся.
— Где вода? — спросил Жолио.
Той страстной ночью он ни разу не вспомнил о поводе своей поездки, и так и не спросил Нелл, надежно ли она спрятала его драгоценный груз. Теперь он очнулся от своих снов, и ему казалось, что та ночь ему лишь привиделась.
— Именно по этой причине мы устроили наш Военный совет на кухне, — тихо сказала Нелл. — Пойдемте. Я покажу.
Она зажгла масляную лампу и провела их через дверь в дальнюю часть кладовой.
— Все погреба в Луденн связаны между собой под землей. Эти ступеньки ведут в главный погреб замка, где мы храним бутылки, которые не собираемся продавать, те, которые были положены туда отцом и дедом Бертрана.
— А портвейн есть? — вдруг с интересом спросил Сумасшедший Джек.
— Почти нет. Зато есть очень хороший «Лафит», — ответила Нелл сухо. — Если нам повезет этим вечером, я открою одну бутылочку. Джентльмены?
Они последовали за одиноким светом ее лампы вниз, в сводчатые недра замка, холод тут же пробрал Жолио до костей. Они шли вперед, проходя одну темную нишу за другой, наполненную пыльными бутылками. Один раз им встретился отпечаток следа чьей-то ноги, и Жолио представил себе мышь и ее нору среди урожая пятидесятилетней давности. Тишина и спертый воздух напомнили ему склеп, и он понял, почему Нелл любила Луденн, почему он имел священную власть над ней. Это был ее храм, ее хлеб и вино. В ее занятии с ним любовью прошлой ночью тоже был свой ритуал, подумал Жолио, они не говорили об этом, но оба понимали, что это могло быть в последний раз.
Неожиданно коридор стал шире, свет фонаря стал ярче.
— Это выход из бродильни, — сказала Нелл. — Он соединяется с туннелем, ведущим из дома. Если мы пойдем дальше, впереди вы увидите ворота шлюза.
Массивные бочки, пахнущие поджаренным хлебом — Жолио узнал новое дерево, за которое она заплатила целое состояние, чтобы привезти их из Парижа. Из-за рядов бочек доносился шум реки. Спуск вел к люку с железной решеткой.
— В устье бывают приливы и отливы, — сказала Нелл. — Эти ворота могут быть открыты только при низком уровне воды. И поэтому вам надо подождать до темноты.
— А мои емкости? — спросил Жолио.
Она повернулась и посмотрела на него, ее лицо было неподвижно.
— Упакованы в солому. Я велела Анри открыть две бочки и спрятать их там. Он запечатал крышки, так что никто не догадается. Мы сможем скатить их вниз по холму прямо на судно к Джеку, когда он приведет его сюда.
Жолио кивнул.
Теперь им оставалось только ждать.
Он провел большую часть дня за сочинением писем детям, надеясь, что кто-нибудь сможет их доставить.
Сумасшедший Джек исчез на своей зеленой «Симке», уехал в Бордо, но Альер бродил вокруг замка, вступая в беседы с остальными постояльцами Нелл — евреями из Голландии — и подробно обсуждая творчество Шуберта. Жолио заметил, как взгляд Эли Лёвена повсюду следовал за Нелл, даже когда вежливо слушал Альера, вцепившись пальцами в инструмент, и Жолио подумал: «Ну вот. Еще один повержен».
Он отправился погулять среди виноградников и нашел детский домик для игр, сделанный из двух плоских камней и сломанных бочарных клепок. Внутри сидели мальчик и девочка, приехавшие с голландцами, и которые уже вполне сносно говорили по-французски прожив всего несколько недель в Луденне. Жолио сплел для девочки венок из маргариток и покатал мальчика на спине. Были слышны взрывы бомб и грохот орудий, доносившиеся с юга недалеко от Бордо, и удивлялся спокойствию детей.
Ближе к вечеру, пока не стемнело, он спустился к реке, чтобы проверить, если ли прилив. Он был поражен, увидев, сколько кораблей собралось на реке Жиронд, целый флот, и заметил среди этой массы одно маленькое судно, у руля которого стоял Сумасшедший Джек.
Жолио побежал к причалу Луденна.
— Держи, приятель, — позвал его граф.
Он выглядел как настоящий пират, его татуировки были особенно заметны в свете заката, а за ремень его брюк были заправлены пистолеты. Он широко улыбался, получая удовольствие от своего приключения, которое нравилось ему больше, чем любая другая служба на передовой. Жолио схватил веревку. Он провел достаточно много времени на каникулах в Бретани и знал, как вязать морской узел. Уровень воды теперь был настолько низким, что док находился на уровне плеча англичанина.
— Фон Галбан приехал? Моро и русский?
Жолио покачал головой:
— Они могут и не приехать. Слишком много немцев между нами и Оверном.
— Это как ловить рыбу в бочке, — радостно согласился граф. — Давай-ка откупорим бутылочку вина Нелл, а потом погрузим воду, ладно? Прилив будет низким.
Они пошли к темнеющему силуэту замка, Жолио старался не отставать от графа.
— Я знаю Нелл уже чертову кучу лет, — признался Сумасшедший Джек. — Мы выросли вместе. У нас были веселые дни. Я был на ее свадьбе с Бертраном, хотя после мы не виделись. Что я хочу сказать, Жолио: она рассказал мне о тебе.
— Рассказал тебе что? — спросил он.
— Что ты для нее, как пламя для мотылька, самое опасное, что с ней когда-либо случалось, что-то вроде того. У нее к тебе страсть, что ли. Я подумал, что ты должен знать.
— Спасибо, — с трудом произнес Жолио. — Я тоже знаю Нелл очень давно.
— Я полагаю, ты не пользовался еще своим влиянием на нее? Заставишь ее сесть на «Брумпарк», когда он придет? Мне не по себе от того, что приходится оставлять ее немцам. Может случиться самое худшее.
— Если бы я мог хоть как-нибудь на нее повлиять, — ответил Жолио. — Я бы убедил ее остаться здесь навсегда.
— Понятно, — сказал граф. И они пошли к дому молча.
* * *
Ужин уже заканчивался — Анри удалось поймать несколько кроликов, и повар потушил их в вине — когда все замерли, прислушиваясь к звуку приближавшихся машин.
— Фон Галбан, — Жолио сорвался со своего места и бросился следом за Нелл в гостиную.
Она стояла в дверях, когда первые немецкие машины остановились у входа, и из одной из них, вдыхая сладкий ночной воздух, вышел Спатц.
Он поднял руку и улыбнулся.
— Хайль Гитлер, — сказал он.
Глава сорок четвертая
— Быстро, — выдохнула Нелл. — Иди назад в дом. Найди голландцев. Отведи их в туннель как можно быстрее. Делай, как я тебе говорю, Рикки!
Жолио повернулся и бросился в столовую.
— Немцы, — пробормотал он. — Пять машин, минимум. Нам нужно скорее уходить.
Сумасшедший Джек собирался вытащить «Оскара» или «Женевьеву», но Альер схватил его за запястье и произнес:
— К воротам шлюза. Vite[116].
Жолио развернулся. Он побежал к задней лестнице рядом с кухней, прислушиваясь к звуку беззаботной беседы у входа в замок. Нелл в самой аристократический манере болтала что-то по-французски, как будто она не была англичанкой и врагом этих двенадцати мужчин, вторгшихся в ее дом.
— Привет, Спатц, дорогой, — услышал он ее голос, и подумал про себя: «Ее кузен. Неужели Нелл нас предала?»
Эли Лёвен стоял молча в коридоре верхнего этажа, касаясь пальцами стен, словно был проводником звука через толстую штукатурку.
— Найдите вашу семью, — прошептал Жолио. — Спускайтесь через черный ход. Пока еще не поздно.
— Дети, — сказал Эли. — Дети. Их нет дома.
У Жолио перехватило дыхание.
— Я позабочусь об этом, я знаю, где они могут быть. Идите. Быстрее. В подвал.
Она провела их в столовую и извинилась за то, что ужин был уже окончен. Потом позвонила в колокольчик, чтобы вызвать горничную, которая не пришла, напуганная вторжением. Нелл пригласила их всех сесть, так как они, должно быть, очень устали после такой долгой поездки, она сама принесет им немного вина и еды, и почувствовала, что Спатц последовал за ней, когда она направилась в кухню.
Кухня была пуста. Но она знала, что любой ценой она не должна пускать его в эту часть дома, потому что это был единственный путь для побега. Она повернулась и положила руки на его добротный шерстяной пиджак. Нелл прижалась к его груди и затянула его в каморку дворецкого.
— Какого черта ты здесь делаешь? — спросила она.
Он улыбнулся ей, с обычной беспечностью в птичьем взгляде, и поцеловал ее в лоб.
— Милая Нелл, — сказал он. — Ты отрада для моих усталых глаз. Сколько смертей я повидал с тех пор, как мы встречались последний раз…
— Но почему? Разве ты не должен быть в Париже?
— Я спасаю свою грешную душу, — ответил он беззаботно. — Подлизываюсь к гестапо. Сейчас за твоим обеденным столом сидят одни из самых жестоких людей Германии, Нелл, и им нужен твой виноградник. Твой винный погреб. Твой дом. Я отдал им все это в обмен на помилование. В конце концов, они же Нация Победителей.
Она сделала шаг назад, комок стоял у нее в горле.
— Что?
— Ты знала о том, что два миллиона французских солдат пропали без вести или захвачены в плен? Что почти две тысячи погибло? Двести тысяч ранено? И это всего за шесть недель. Немецкая военная машина — это то, чему я не могу противостоять.
— Спатц…
— Луденн — это все, что я мог им предложить, Нану. Потому что ты меня подвела. Ты должна была найти что-нибудь для продажи, — он потряс ее за плечи. — Но никто больше не хочет помогать маленькому Спатцу. Черная девочка — моя циркачка — украла уран, когда я вывез ее из Франции, а я в нее верил, Нелл, я махал рукой ей на прощание в порту Марселя, а она в это время увозила чемодан, который должен был остаться у меня. Потом я захватил дейтерий Жолио, но и это оказалось чертовой ошибкой — я забрал из Клермон-Ферран бочки с обычной водопроводной водой и отвез их немецкому командованию. Они смеялись надо мной, Нелл, после того, как проверили первые три канистры. Они смеялись надо мной почти всю дорогу до Берлина, и я скорее умру, чем вернусь туда, ты понимаешь? Я продам свою мать, я бы продал и своих детей, если бы они у меня были, и я даже продам тебя, Нелл, прежде чем встречусь с Гитлером на родине. Comprends?[117]
— Oui, — ответила она, ее тело было холодным, как лед. — Я понимаю. Но я не могу отдать тебе Луденн. Он не мой.
— Те люди в столовой все равно его заберут. Этим утром они создали Оккупационную зону вместе со стариком Петеном[118] — теперь он вместо премьер-министра Рейно, стал комнатной собачкой фюрера — и это уморительно, ты бы посмеялась, если бы увидела карту; на ней отмечены лучшие винные районы Франции. И твой — среди них. Так что собирай свои вещи, пока мои друзья за ужином не решили, что им нужно и твое белье тоже, моя дорогая. Или, быть может, ты сама. Ты бы могла доставить сносное удовольствие кому-нибудь из них, пока Бертран не приедет…
— Не делай этого, Спатц. Не продавай свою душу…
Он подошел к ней, поцеловал ее грубо в губы, прокусив нижнюю до крови.
— У меня нет души, дорогая. Так что собирайся, пока я не продал им твоих жалких маленьких евреев.
* * *
Затаив дыхание, он ощупью спустился вниз по черной лестнице, слушая, как рушится мир Нелл.
Когда Спатц укусил ее губу, он чуть было не бросился вперед, чтобы придушить Спатца, но сдержал свой гнев и подумал: «Наука, Рикки. Голос разума. Это то, что тебе сейчас нужно».
В том, как он проигнорировал страдания Нелл, было что-то от бесстрастности Ирен. Хлопнула дверь каморки дворецкого, высокий светловолосый немец пошел назад, развлекать своих шакалов, а Жолио продолжил спуск в подвал. Он бежал по темному туннелю, затем резко повернул налево, где выход из бродильни вел за пределы дома. Он слышал голоса: Альер и голландские банкиры спорили насчет бочек.
Через помещение для вина первого года выдержки он выбрался из замка в июльскую ночь.
Почему дети ушли из дома?
Он вспомнил о своих собственных дочери и сыне, Элен было тринадцать, а Пьер на несколько лет младше, и оба уже столько пережили из-за жестокости взрослого мира. Маленькие де Кайперы уже слишком много знали о бегстве и смерти; в их жизни было слишком много непостоянства, что они решили, наконец, сделать свой собственный дом. Он казался им гораздо надежней, чем все то, что могли предложить им взрослые.
Когда Жолио их нашел, они дрожали, спрятавшись под камнями и досками, их одежда была влажной от сырого морского воздуха. Шести, может быть, четырех лет от роду, и они испуганно смотрели на него из своего укрытия.
— Les allemands[119], — прошептала маленькая девочка, прижавшись к брату. — Они пришли за папой.
* * *
— Вам надо вести себя очень тихо, — мягко сказал Джулиан де Кайпер своей дочке и посадил ее в большую дубовую бочку, — и даже когда бочка покатится, ты не должна кричать. Обещаешь?
Девочка кивнула, ее тетя Матильда села в бочку следом за ней и обняла детей руками. Maitre de vin[120] Анри укутал ее одеялом, которое он принес из своего дома, и Жолио мельком увидел склоненную голову Матильды, когда старик закрывал бочку крышкой.
Анри появился без предупреждения несколько минут спустя после того, как Жолио появился у ворот шлюза с детьми. Сумасшедший Джек чуть не прострелил седую голову управляющего, бесшумно двигавшуюся в темноте тоннеля. Анри объяснил, что графиня приказала ему находиться у люка при низком приливе, так как груз надо спустить вниз по течению в Бордо. Он не привел с собой никого из рабочих из Мутона и не задавал вопросов, даже когда дорогие новые дубовые бочки были открыты и в них разместились постояльцы графини.
— Плохие новости, — пробормотал старик, забивая крышки бочек Эли, а потом Мойзеса Лёвена. — Говорят, Мутон и Лафит сегодня ночью захвачены немцами. Барона Филиппа бросили в одну из тюрем Петана. Но их они не получат, а?
Никто ему не ответил. Вдруг послышался приближавшийся к ним топот ног. Казалось, будто вся немецкая армия пришла в движение, направляясь прямо к воротам шлюза.
— Быстрее, — сказал Сумасшедший Джек. — Бочки!
И бочка с Матильдой медленно покатилась к реке.
Нелл бежала через бродильню, вниз по ступенькам в помещение для выдержки вин, ее сердце бешено колотилось. Спатц повел нацистов в винный погреб Луденна, и, поскольку немцы все еще ждали ужина, им это казалось отличным способом убить время. У завоевателей было праздничное настроение. Они хотели насладиться добычей.
Спатц повел их вниз по ступенькам из кухни в погреб, а Нелл, только за дверью исчезла последняя фигура в форме, скользнула в холл, выскочила через входную дверь и побежала через лужайку. В погреба Луденна можно было попасть из разных мест.
Ей нужно было преодолеть большее расстояние, чем нацистам, но она бежала, а они останавливались в каждой нише, чтобы рассмотреть бутылки и этикетки, рассуждая об урожаях и о том, что немецкое пиво, конечно же, лучше французского вина.
Она слышала эхо их голосов, разносившееся по подвалу, когда, словно тень, неслась по проходу, ведущему в дом. Еще через несколько ярдов она добралась до ворот.
Раздался выстрел, и она подалась назад от внезапной боли в правом плече. «"Оскар", — подумала она в отчаянии. — "Женевьева"». Она потрогала рану и почувствовала, как по пальцам струится теплая кровь.
— Ты идиот! — закричала она в ярости по английски, добравшись, наконец, до Сумасшедшего Джека. — Ты приведешь их сюда, как стаю волков.
Тут голоса за ее спиной стихли, и снова послышался топот.
— Быстрее на судно, — скомандовала она четверым: Альеру, Жолио, Анри и графу, когда они в ужасе уставились на нее.
— Нелл, у тебя кровь!
— С ними Спатц, — продолжала она. — Он узнает тебя, Джек, и если это случится, вы все — покойники. Быстрее на борт!
Альер схватил Жолио, который, казалось, не мог двигаться, и затянул его в последнюю бочку. Они быстро покатили его к большой барже, стоявшей у шлюза, которая раскачивалась, так как начался прилив.
— Фон Динкладж? Бог мой, я не видел эту скотину с того дня, как мы играли в поло в Довилле, — сказал граф. — Этот мошенник всегда жульничал. — Он поднял свой пистолет, как будто измеряя расстояние между врагами и рекой.
— Я возьму это, — сказала Нелл и взяла у него пистолет здоровой левой рукой. — Теперь идите. Я их задержу.
В конце концов, ее убил не Спатц, когда она, держа наготове пистолет графа, стояла перед люком, ведущем к Жиронду. Спатц носил гражданский костюм, и его пистолет лежал в кармане пиджака скорее ради лоска. Он не смог остановить нацистского офицера, который поднял руку и в упор выстрелил в графиню Луденна.
Бывают мгновения, когда надо делать выбор, и оно наступило.
Глава сорок пятая
— Вы остаетесь?
Альер повернулся и внимательно посмотрел на человека, который, сунув руки в карманы, стоял на причале. Широкоплечий и мускулистый, с глубоко посаженными глазами. Он говорил на безупречном французском, но небрежность его одежды натолкнула Альера на мысль, что он, должно быть, иностранец. За ним стояла женщина, у которой была сломана рука.
— Да, — ответил он. — Как и вы, месье…?
Человек протянул руку:
— Джо Херст. Американское посольство. А это — мисс Салли Кинг. Наши уехали из Бордо вчера.
— Понятно, — сказал Альер. Он кивнул женщине.
— Мы жили в палатках в замке Луденн, — продолжил Херст. — Я видел вас там, в воскресенье вечером. Вы приехали на зеленой «Симке». С графиней все в порядке?
Альер бросил взгляд на Жолио-Кюри, который стоял обреченно на краю набережной в добрых двадцати ярдах от них, и сказал тихо:
— Я думаю, что сейчас ее уже точно ничто не беспокоит…
— Пожалуйста, передайте ей мои наилучшие пожелания, когда снова ее увидите, месье…
— Жак Альер, — он протянул ему свою руку. — Министерство вооруженных сил.
Что-то изменилось в лице американца. Он быстро перевел взгляд с набережной на «Брумпарк», который только что отчалил и направлялся обратно в Гаронд со всем оборудованием французских ученых на борту. Но заговорила Салли Кинг.
— Альер! — сказала она. — Значит, вы должны были знать Филиппа!
— Pardon, mademoiselle?[121]
— Филиппа Стилвелла. Моего жениха. Он послал вам кое-какие бумаги перед смертью, — она вдруг замолчала и посмотрела на человека по фамилии Херст.
Альер снял очки.
— Le pauvre Philippe[122]. Примите мои соболезнования, мисс Кинг. Он был убит, да?
— Да, — уверенно сказала она. — И бумаги, о которых я говорила, исчезли. Они утонули в водах Ла-Манша, когда корабль, на котором я плыла, атаковала подлодка.
Он посмотрел на Жолио-Кюри, который мыслями был совершенно в другом месте, теперь Альер уже ничего не мог сделать для этого человека, после того как тот отказался от предложения Сумасшедшего Джека бежать в Лондон. И он медленно пошел прочь от реки, его работа была закончена.
— Что это были за документы, s'il vous plait[123]?
— Список поставок оксида углерода[124], — Херст сделал шаг в сторону и обнял девушку Стилвелла. — Один список немецких санаториев и больниц. Что-то об автобусных маршрутах. Некролог инженера-химика по имени Юрген Гебл, который работал на компанию «Ай Джи Фарбен»…
Альер поднял воротник пальто. «Брумпарк» становился все меньше, и голос Сумасшедшего Джека разносился на фоне гула немецких бомбардировщиков. Граф пел морскую песню. Он принял бочки с тяжелой водой на борт «Брумпарка», если бы корабль подбили, взрыв уничтожил бы воду до того, как она попала бы в руки врага. Но Альера больше не волновала тяжелая вода или люди, плывшие вместе с ней.
— Вы расскажете нам, почему погиб Филипп? — Салли старалась перекричать рев самолетов. — оксид углерода? Я понимаю, что для вас это ничего не значит по сравнению со всем этим… — она показала на остатки взорванных лодок в порту и руины набережной. — Одна смерть по сравнению со столькими… но для меня…
— …а для вас это как если бы наступил конец света, — сказал Альер. — И вы надеетесь найти справедливость. Bon[125]. Ваш жених был убит, потому что были люди, которые не хотели, чтобы мир узнал о том, что он обнаружил. Что эти немцы… — он посмотрел через плечо на хаос, творившийся на реке Гаронн, — словно заразный скот убивают своих же граждан, если у них находят дефекты. Жертв полиомиелита. Психически больных. Эпилептиков и больных туберкулезом. Пенсионеров или детей — неважно. Их увозят от родных якобы для «специального лечения», а потом вы просто получаете по почте свидетельство о смерти.
— Бог мой, — пробормотал Херст. — Но нельзя же…
— Делать эвтаназиию людям? Так они называют это в Берлине. Это слово означает «прекрасная смерть». Раса Победителей должны выглядеть безупречно, пока она завоевывает мир, mon ami[126]. Так что обладающие специальными полномочиями люди привозят на автобусах эти «ошибки медицины» в определенные центры — чаще всего в больницы — где их запирают в комнаты и подводят по трубкам оксид углерода. Медленная и мучительная смерть, мистер Херст. Заслуга «Ай Джи Фарбен». Они получают с этого большую прибыль.
— Это отвратительно, — сказала Салли Кинг тихо. — Это… бесчеловечно. Если это правда…
— О, это правда, смею вас уверить. Тот инженер, Юрген Гебл, узнал об этом. Он хотел выяснить, куда идет весь этот оксид углерода. Он видел детей десяти и четырнадцати лет, которых выводили из автобусов. Поэтому его нужно было убить. Банда «головорезов-коммунистов», кажется, их так звали, забила его до смерти той же ночью, когда он возвращался домой. Это все есть у меня в папке.
— Это нужно остановить. Если бы вы это опубликовали…
— Ваш Филипп тоже так думал, — Альер повернулся. — Особенно потому, что «Ай Джи Фарбен» была клиентом «Салливан и Кромвелл». Его возмущало, что для американских юристов убийство невиновных — просто выгодная сделка. Кое-кто из его фирмы не хотел, чтобы правда открылась. И потому Стилвелл тоже должен был умереть. Самое ужасное, что мы так и не узнаем, кто это сделал.
— Эмери Моррис, — сказала женщина. — Ему заплатили в «Ай Джи Фарбен».
Альер кивнул.
— Его старый партнер Роже Ламон, отказался продолжать работу с «Ай Джи Фарбен». Юрген Гебл был другом Ламона.
— Но если Моррис должен был убить Стилвелла, — размышлял Херст. — если молчание столь важно, нацисты, должно быть, все еще продолжают этим заниматься. Травят людей газом.
— В разгар вторжения во Францию? — Альер нервно рассмеялся. — Зачем убивать гражданских, когда можно убить столько солдат Альянса? Они продают топливо для «мессершмиттов».
Вдалеке, за пределами порта, оранжево-черным пламенем разорвался снаряд. «Брумпарк» был уже не виден.
— Мистер Альер, — сказала Салли Кинг, — мы остаемся здесь, Джо и я. И мы хотели бы помочь вам в этой войне.
— В таком случае, мадмуазель, — ответил он, — я подыщу вам работу.
И они направились в самое сердце оккупированной Франции.
ЭПИЛОГ
Расшифровка допроса Фредерика Жолио-Кюри, нобелевского лауреата и члена Коллеж де Франс, генералом Эрихом Шуманном, профессором военной физики Берлинского университета, научным советником генерала Кейтеля. Генералу Шуманну помогали доктор Курт Дибнер, физик-ядерщик, Институт физики Кайзера Вильгельма, и Вольфганг Гентнер, физик, ученик Жолио-Кюри с 1932 по 1935 гг. Допрос проходил в Коллеж де Франс 13 августа 1940 года. Расшифровщик Дитер Вольфе.
Вопрос: Где тяжелая вода?
Жолио: Я погрузил ее на английский корабль в порту Бордо.
Вопрос: Как называется корабль?
Жолио: Понятия не имею. Я слышал, что ваши бомбардировщики потопили его через несколько часов после того, как он покинул порт.
Вопрос: Наши записи показывают, что вы приобрели некоторое количество металлического урана у Соединенных Штатов. Где он сейчас?
Жолио: Этот уран забрало Министерство вооруженных сил. Спросите у них, что они с ним сделали. Я полагаю, у вас есть шпион в министерстве?
Вопрос: Не играйте с нами, доктор Жолио. Вы лучше всех знаете, где находится уран.
Жолио: Министерство рассказало бы мне об этом в последнюю очередь. Боюсь, они мне совсем не доверяют. Я же коммунист.
Он получал удовольствие от допроса, ему нравилось так отчаянно врать, хотя ему всегда было очень сложно обманывать. Шуманн выбрал правильное слово — он играл с ними, бросая им вызов, заявляя, что знает о шпионе в министерстве и демонстрируя свое полное равнодушие к правде. Это была проверка его любви и верности Нелл и Франции.
— Подумайте хорошенько, Фред, — предупредил его Вольфганг Гентнер наедине, когда остальные вышли. — Они могут сделать вашу жизнь невыносимой, вы же знаете. Я попросил их оставить меня с вами в лаборатории, чтобы я мог защитить вас, но я не знаю, как долго мне позволят здесь быть. Однажды у меня уже были проблемы из-за моих демократических наклонностей.
— Бедный Гентнер, — с искренним сожалением он похлопал старого друга по плечу. — Может, увидимся позже, на бульваре Сен-Мишель? Я не обещаю рассказать тебе правду. Но мы могли бы поболтать о наших детях.
Гентнер грустно улыбнулся:
— Те люди вернутся. Они не оставят вас одного. Им нужен ваш циклотрон и ваша экспертиза. Больше всего им нужен ваш ум.
— Не думаю, что даже нацисты смогут найти способ украсть его.
Гентнер повернулся к двери.
— Вы ошиблись насчет шпиона в министерстве. Я понимаю, что источником их информации был кто-то из своих. Будьте на чеку, Фред. Теперь вы уязвимы со всех сторон.
Он остался один в лаборатории, своей пустой лаборатории, без оборудования, которое было его жизнью. Кто-то из своих. Ирен еще не вернулась после лечения в Дордони, он понимал, что они оба откладывали встречу как можно дальше.
У него был месяц до возвращения детей из Бретани и выписки Ирен. Месяц на то, чтобы залечить раны и продолжить жить, как раньше, как будто войны не было, как будто его собственная жена, рискуя уничтожить мир, не передавала его исследования в руки немцам.
«Удивительно, — думал он, выключая свет в лаборатории и выходя на встречу с Гентнером в том же самом кафе, в котором когда-то сидел с Нелл, — на какие преступления может пойти человек ради любви».
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Вымышленных персонажей, населяющих эти страницы: Салли Кинг, Джо Херста, братьев Ловенсов и семьи де Кайпер — может ждать любая развязка. А вот что произошло с остальными героями, которые были списаны с реальных людей того времени.
Сумасшедший Джек, двадцатый граф Саффолка, через несколько дней после отплытия из Бордо благополучно привез тяжелую воду на «Брумпарке» в Саутгемптон. С логикой, понятной только британцам, воду отдали на хранение библиотекарю Виндзорского замка. Сумасшедший Джек погиб год спустя после описанных в романе событий, во время попытки обезвредить бомбу.
Фредерик Жолио-Кюри поддерживал подпольное движение Сопротивления, позволив им по ночам использовать его лабораторию для производства бомб, несмотря на то, что к нему в Коллеж де Франс были приставлено четверо немецких ученых. После войны он вступил во Французскую коммунистическую партию. Его роль как первопроходца в ядерной физике и даже само его имя помнят немногие. Возможно, причиной тому, его многочисленные попытки наладить связь между советскими учеными и Западом во времена «холодной войны», его политические убеждения вызывали подозрения у Соединенных Штатов и некоторых его коллег в Европе. Он умер в августе 1958 года.
Ирен Жолио-Кюри работала в лаборатории на протяжении всей Второй мировой войны, поддерживала и разделяла политические взгляды мужа. Она умерла от лейкемии весной 1956 года. Доказательств того, что именно она сдала своего мужа в руки немцам, найдено не было. Тайна утечки информации из Министерства вооруженных сил не раскрыта до сих пор.
Работая в Кембридже, Ганс фон Галбан и Лев Коварски сделали большой вклад в британские исследования в области атомной энергии и вернулись во Францию после окончания войны. Их карьера в области физики сложилась хорошо.
Жаку Альеру удалось выжить в войне, и он вернулся к банковскому делу.
Роже Ламон был убит немецким снайпером во время британского отступления в Данкирке. Он был единственным из партнеров «Салливан и Кромвелл», кто был убит в ходе Второй мировой войны, хотя воевали многие из сотрудников. В память о нем, как о выдающемся гребце, в университете Принстона, в помещении, где хранятся лодки, была установлена мемориальная доска.
«Ай Джи Фарбениндастри» продолжила свою работу в области военной химии, перейдя от поставок оксида углерода к производству «Циклона-Б», препарата, который применялся для массовых убийств заключенных в газовых камерах Аусшвитца и других концентрационных лагерей. После Второй мировой войны компания была реорганизована и теперь известна под названием БАСФ[127]. Документы об использовании оксида углерода для эвтаназии и о роли «Ай Джи Фарбениндастри» в принятии Гитлером «окончательного решения»[128] хранятся в архивах компании.
Ганс Гюнтер фон Динкладж — для друзей просто Спатц — переждал войну, продолжая играть роль тайного агента. Он жил в гостинице «Ритц», где однажды в холле встретил Коко Шанель. Шанель говорила, что ее восхищает беглый французский Спатца и его отличные костюмы, и несмотря на двенадцатилетнюю разницу в возрасте, они стали любовниками. Шанель переехала в номер Спатца в «Ритце» (немцы выселили Шанель из ее собственного номера) и стала горячей сторонницей оккупации. Еще до освобождения Парижа в августе 1944 года Спатц сбежал на Восток. Шанель обвинили в пособничестве врагу, арестовали и подвергли допросу. Она и Спатц снова встретились в Швейцарии, где жили в изгнании много лет, после чего их пути разошлись. Шанель вернулась в Париж в 1953 году в возрасте семидесяти лет и после пятнадцатилетнего перерыва снова открыла свой дом моды коллекцией, которая поразила весь мир весной 1954 года.
О последних годах жизни Спатца почти ничего неизвестно.
Замок Луденн до сих пор находится на берегах реки Жиронд в Медоке, но вот уже много лет ни графы, ни графини им не управляют. Семья Джилби, знаменитые и богатые британские производители джина, купила поместье в конце девятнадцатого века, и оно до сих пор принадлежит ее наследникам. Несмотря на то, что вино по-прежнему остается «крю буржуа», оно хорошего качества.
Мутон-Ротшильд во время войны был захвачен немцами. Барон Филипп де Ротшильд отправлен в тюрьму Виши, откуда он сбежал в Англию и присоединился к де Голлю. Его жена, виконтесса Элизабет де Шамбур, во время войны жила в Париже, где в последние дни французской оккупации ее арестовало гестапо и разлучило с дочерью Филиппин. Несколько недель спустя Элизабет де Шамбур была убита в концентрационном лагере «Равенсбрюк».
Вернувшись в Мутон после освобождения Франции, барон Филипп потребовал у рабочей партии немецких военнопленных компенсировать причиненный поместью ущерб и построить новую дорогу через парк. После чего барон называл эту дорогу «Дорогой Восстания».
Образ Мемфис Джонс был создан на основе жизни джазовой певицы и легенды кабаре Жозефин Бейкер, которая бежала из Парижа в Северную Африку во время немецкого вторжения и присоединилась к сторонникам де Голля, став агентом. Позже де Голль наградил Бейкер за преданность, и она продолжала жить в Париже до самой смерти в 1975 году. У нее было огромное количество любовников на протяжении всей жизни, и она усыновила нескольких детей разной этнической принадлежности, которых называла «радужная семья».
Посол Уильям Буллит исполнял обязанности заместителя мэра Парижа по снабжению, когда французское правительство оставило город немцам. Он стал свидетелем капитуляции французской армии, и ему было приказано встречать шампанским немецких оккупантов, когда те вошли в Париж, несмотря на всю его ненависть к нацистам. Он уехал из Европы в июле 1940 года и больше не получил назначения при Рузвельте. Несмотря на дружбу с президентом, грубоватый стиль Буллита и его любовь к сплетням раздражали и отдаляли от него президента не меньше, чем его надежды занять место секретаря военного флота. Здоровье Буллита подорвала автомобильная авария, его фрейдистское исследование Вудроу Уилсона было подвергнуто резкой критике, и он умер от рака в 1967 году.
Макс Шуп закрыл парижский филиал «Салливан и Кромвелл» и на последнем корабле из Бордо отослал своих коллег домой в Нью-Йорк. Он и Одетт уехали из Парижа в Швейцарию, где он занимался разведывательными операциями для Управления стратегических служб под руководством своего бывшего партнера по «Салливан и Кромвелл» Аллена Даллса. После войны он вернулся в Париж и присоединился к международной фирме «Братья Кудер». Он умер в 1956 году.
Джон Фостер Даллс служил Государственным секретарем при Дуайте Д. Эйзенхауэре и был уверен, что когда-нибудь в его честь назовут аэропорт. Его брат оставил место партнера в «С. и К.» в 1940 году и ушел в Управление стратегических служб. Аллена Даллса отправили в Берн, в Швейцарию, в декабре 1942 года, и следующие три года он руководил разведывательными операциями по всей Европе, используя во многих случаях старые связи по «Салливан и Кромвелл». Талант Аллена к интригам и обманам, который раньше выручал его только в случаях с женой, нашел свое применение в шпионаже, и после войны он был назначен руководителем центральной разведки. Даллс руководил этой организацией десять лет во времена «холодной войны». Может быть, дольше, чем кто-либо другой.
Позже Аллен Даллс открыл небольшой бар, где в самом сердце Вашингтона могли встречаться агенты, сейчас на его месте Международный музей шпионажа.
Он назвал его «Клуб "Алиби"».
Примечания
1
Период Второй мировой войны между сентябрем 1939 до мая 1940 года. — Примеч. ред.
(обратно)2
Частный отель (фр.).
(обратно)3
Отделение полиции (фр.).
(обратно)4
Быстро! (фр.).
(обратно)5
Тип французского ковра. — Примеч. ред.
(обратно)6
Ночным заведением (фр.).
(обратно)7
В польском стиле (фр.).
(обратно)8
Отцом (фр.).
(обратно)9
Измену (фр.).
(обратно)10
Доброе утро (фр.).
(обратно)11
Совсем (фр.).
(обратно)12
Удостоверение личности (фр.).
(обратно)13
В любом случае (фр.).
(обратно)14
Полицейское управление (фр.).
(обратно)15
Сверхчеловека (нем.).
(обратно)16
Полукровка (фр.).
(обратно)17
Франклину Делано Рузвельту.
(обратно)18
Посол (фр.).
(обратно)19
Линдберг, Чарлз Огастес (1902-1974), авиатор, общественный деятель; был одним из основателей Комитета «Америка прежде всего» и занимал пронацистские позиции. — Примеч. ред.
(обратно)20
Приятели (фр.).
(обратно)21
Максим Вейган (1867—1965)— французский генерал, был одним из организаторов французского нацистского движения 30-х годов двадцатого века. — Примеч. ред.
(обратно)22
Сражение на реке Марна 5-12 сентября 1914 между англо-французскими и германскими войсками во время Первой мировой войны. — Примеч. ред.
(обратно)23
Зал экспозиций (фр.).
(обратно)24
В любом случае (фр.).
(обратно)25
Гомосексуалисты (фр.).
(обратно)26
Возбуждение (фр.).
(обратно)27
Наивный (фр.).
(обратно)28
Месье дипломат (фр.).
(обратно)29
Каникулы (фр.).
(обратно)30
Ну да (фр.).
(обратно)31
Бидермайер — направление в декоре первой половины девятнадцатого века, в нем отражались как демократизм, так и обывательские воззрения и вкусы бюргерской среды. — Примеч. ред.
(обратно)32
Понимаете? (фр.).
(обратно)33
Вы же видите (фр.).
(обратно)34
Гомосексуалист (фр.).
(обратно)35
Бог мой (фр.).
(обратно)36
Может быть (фр.).
(обратно)37
Певица, артистка (фр.).
(обратно)38
Запрещено (нем.).
(обратно)39
Защитного цвета (нем.).
(обратно)40
Боже мой (нем.).
(обратно)41
Бедный Филипп (фр.).
(обратно)42
Может быть (фр.).
(обратно)43
Профессор Жолио-Кюри (фр.).
(обратно)44
Поместье (фр.).
(обратно)45
За здоровье (фр.).
(обратно)46
Дорогой (фр.).
(обратно)47
Профессора (фр.).
(обратно)48
Вы понимаете (фр.).
(обратно)49
Боже мой (нем.).
(обратно)50
Да (фр.).
(обратно)51
Утиное филе (фр.).
(обратно)52
Это все (фр.).
(обратно)53
Дело (фр.).
(обратно)54
Не так ли? (фр.).
(обратно)55
Я полагаю (фр.).
(обратно)56
Профессор (фр.).
(обратно)57
Бог мой (нем.).
(обратно)58
Но, все хорошо (фр.).
(обратно)59
Дерьмо (фр.).
(обратно)60
Не так ли? (фр.).
(обратно)61
Естественно (фр.).
(обратно)62
Гомосексуалист (вульг.) (фр.).
(обратно)63
Мальчик (фр.).
(обратно)64
Ночного заведения (фр.).
(обратно)65
Проститутка (фр.).
(обратно)66
Я — американка (фр.).
(обратно)67
Гомосексуалистов (вульг.) (фр.).
(обратно)68
Хорошо (фр.).
(обратно)69
Детективные романы (фр.).
(обратно)70
Месье посол (фр.).
(обратно)71
Пошел ты! (вульг.) (фр.).
(обратно)72
Святые небеса (фр.).
(обратно)73
Поместье (фр.).
(обратно)74
Государственный контролирующий орган, оценивающий качество вина (фр.).
(обратно)75
Проститутка (фр.).
(обратно)76
Бог мой (фр.).
(обратно)77
Бог мой, мои дети… (фр.).
(обратно)78
Национальная полиция (фр.).
(обратно)79
Угарный газ.
(обратно)80
Углекислый газ.
(обратно)81
Профессор (фр.).
(обратно)82
Вы видите (фр.).
(обратно)83
Об особенностях ядерной реакции в цепочке атомов урана (фр.).
(обратно)84
Моя дорогая (фр.).
(обратно)85
Мой дорогой (фр.).
(обратно)86
Апелласьон — название участка земли, где производится то или иное вино определенного качества.
(обратно)87
«Крю буржуа» — подкатегория «гран крю», категории, означающей высшее качество почв и виноградной лозы.
(обратно)88
«Гран крю» — вина высшей категории.
(обратно)89
Понимаешь? (фр.).
(обратно)90
Очень приятно (фр.).
(обратно)91
Мейнбохер (Мэйн Руссо Бохер) — американский модельер.
(обратно)92
Униформа солдат-пехотинцев защитного цвета.
(обратно)93
Фашистская Германия, фашисты. — Примеч. ред.
(обратно)94
Понимаете (фр.).
(обратно)95
Друг мой (фр.).
(обратно)96
Как есть (фр.).
(обратно)97
Трехцветный флаг (фр.).
(обратно)98
«Новый замок Папы» (фр.). — Примеч. ред.
(обратно)99
Винный склад (фр.).
(обратно)100
Бродильне (фр.).
(обратно)101
Винным маршрутом (фр.).
(обратно)102
Префектуре (фр.).
(обратно)103
Нет и нет, и нет (фр.).
(обратно)104
Добрый день (фр.).
(обратно)105
Да, хорошо (фр.).
(обратно)106
Управляющем виноградником (фр.).
(обратно)107
Тяжелый водород. — Примеч. ред.
(обратно)108
Очень плохо (фр.).
(обратно)109
Вы и понятия не имеете… (фр.).
(обратно)110
Наконец (фр.).
(обратно)111
Проститутками (фр.).
(обратно)112
Коварство Альбиона (фр.).
(обратно)113
Бог мой (фр.).
(обратно)114
«Боинг-314 Клиппер» — гидросамолет первой международной авиакомпании США «Пан-Американ», которая в 1939 году первой организовала трансатлантическую линию Нью-Йорк — Саутгемптон (Англия). — Примеч. ред.
(обратно)115
Конечно (фр.).
(обратно)116
Быстро (фр.).
(обратно)117
Понимаешь (фр.).
(обратно)118
Петен, Анри Филипп Бенони Омер (1856-1951), французский военный и политический деятель.
(обратно)119
Немцы (фр.).
(обратно)120
Управляющий винодельней (фр.).
(обратно)121
Простите, мадмуазель? (фр.).
(обратно)122
Бедный Филипп (фр.).
(обратно)123
Пожалуйста (фр.).
(обратно)124
Угарный газ.
(обратно)125
Хорошо (фр.).
(обратно)126
Друг мой (фр.).
(обратно)127
«Бадише анилин унд содафабрик АГ», химический концерн ФРГ. — Примеч. ред.
(обратно)128
Окончательное решение еврейского вопроса. — Примеч. ред.
(обратно)

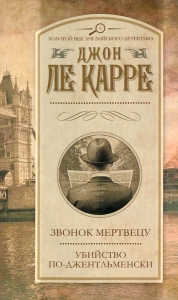


Комментарии к книге «Клуб «Алиби»», Франсин Мэтьюз
Всего 0 комментариев