Сергей Абрамов Летная погода
Глава первая
В стороне от Профсоюзной улицы на лесном участке близ санатория «Узкое» трое мальчишек охотились за грибами. Стоял не по-летнему прохладный август, хотя солнце лишь чуть-чуть отклонилось к западу. Несмотря на близость городской окраины, здесь властвовала завораживающая лесная тишина. Пробиваясь сквозь мелкий молодой орешник, мальчишки, смолкнув, остановились: человек преградил им дорогу. Он висел на кустах, будто упал откуда-то сверху. Орешник не подпустил его к земле, низко согнувшись под тяжестью тела.
— Мертвый, — испуганно сказал один. — Кровищи-то сколько! Всю спину залило.
Двое других растерянно отошли от кустарника.
— Айда в милицию.
— Где ты будешь отделение искать? Пошли в «Узкое». Там у ворот милицейский пост.
Минут через пятнадцать после вызова бригада МУРа уже прибыла. Возглавлял ее дежурный по городу капитан милиции Саблин.
— Районщики уже здесь, — сказал водитель.
— Им ближе ехать, — уточнил следователь прокуратуры Фадеев.
Действительно, машина районного отделения внутренних дел только что припарковалась у табачного киоска на шоссейке, ведущей к санаторию. Местный оперуполномоченный вместе с начальником уголовного розыска, не оглядываясь, шагали к орешнику. Вызвавшие всю эту бригаду мальчишки указывали им путь. Вероятно, они чувствовали себя героями.
К человеку, примявшему телом кусты, никто не подходил — ждали медицинского эксперта. Дежурный врач Лина Еремина не задержала экспертизы. Вывод ее был краток и категоричен.
— Убийство. Глубокая ножевая рана в спине. Смерть наступила предположительно около часу назад. Убили его, должно быть, на дороге или на лужайке перед кустарником, а тело потом бросили на кусты. Помогите мне перевернуть его, — обратилась она к Саблину.
Убитый был человеком лет шестидесяти с лишним. Чисто выбритое лицо его окаймляли две глубокие складки. Седые волосы, взъерошенные кустами, лезли на лоб.
«Умер около часу назад, — подумал Саблин. — Может, еще ворочался на кустах, пытаясь подняться. Значит, до появления мальчишек убийца имел по крайней мере полчаса, чтобы скрыться».
А эксперт-криминалист тем временем уже обыскивал тело. Ничего своего убийца не оставил, не нашлось и ничего, позволяющего определить личность убитого. Ни бумажника, ни документов, ни денег в карманах не обнаружили. Только два полтинника и мелочь вместе с грязным носовым платком, ставочный билет с ипподрома с большой цифрой 5 в боковом пиджачном кармане да фотокарточка какого-то молодого парня.
— Дай-ка сюда снимок, Матвей, — заинтересовался Саблин.
Интеллигентное лицо. Молод. Тридцати еще нет, наверно. Хороший костюм. Кто это? Убийца? Но убийца не оставил бы своей фотокарточки. На обороте отпечатки пальцев.
— Оставь-ка пока мне эту карточку, — сказал он эксперту, осторожно засовывая снимок в целлофановый пакет. — Пальчики потом проверим. Да и щелкни разок «Поляроидом»: мне снимок убитого тоже понадобится.
Эксперт снял крупно лицо убитого, камера автоматически проявила и отпечатала снимок. Саблин взял его вместе с ипподромным билетом.
Спокойно сидевшая рядом немецкая овчарка Индус не выражала никакого интереса к происходящему: она покрутилась около кустарника, потом присела, подняв морду к хозяину, взвизгнула осуждающе.
— Какие уж следы, — поморщился проводник, — когда кругом все затоптано.
Начальник районного отделения угрозыска явно не без скрытой радости обменялся взглядом с местным оперуполномоченным.
— Задачка сложная, — вздохнул он. — Дело, конечно, МУР берет?
— Возьмем, — сказал Саблин. — Вы все возвращайтесь. Тело — в морг. А я здесь побуду немножко. Есть необходимость.
Что за необходимость, у Саблина и не спрашивали. Только следователь прокуратуры лукаво заметил:
— Сыщик проснулся?
— Да он и не спал. Сейчас спросишь: дежурство? Да, дежурство. Вместе с тобой до завтрашнего утра.
«В какую сторону убийца мог выйти, — думал Саблин. — К табачному киоску? Едва ли: слишком заметно. Но спросить все-таки надо».
Киоскер был мрачен и молчалив. На Саблина он даже и не взглянул.
— За истекший час мимо вас кто-нибудь проходил? — спросил Саблин.
— Видел некоторых. А что?
— Запомнился кто-нибудь?
— Нет. Привык не вглядываться в прохожих. Даже тех, которые подходят ко мне, не помню. Свойство профессии.
Вероятно, их было двое: убийца и его жертва, размышлял Саблин. Троих заметил бы даже нелюбопытный киоскер. Шли, видимо, по дороге к санаторию. Она же ведет в близлежащее Ясенево. Оттуда идти сюда смысла нет: там ведь лесной массив ближе, и убийце незачем было искать так далеко уединенное место. Дорога пустынна, прохожих и машин мало. Убийца мог отстать на полшага и ударить ножом сзади. Должно быть, это рослый и сильный человек, способный перенести тело от дороги в глушь и швырнуть его на кустарник. Но где он вышел? Ведь это не загородный, а московский лес, и встречи с прохожими неминуемы…
Нашлись и прохожие. Минуту-две спустя из того же леса выбралась на лужайку немолодая женщина с рыжей собакой колли. Саблин представился и спросил, не видела ли она кого-нибудь.
— Видела, — охотно откликнулась она, — трех мальчиков, грибы искали. Милиционера на мотоцикле: он часто объезжает лесок по дорожкам. И еще мужчину с портфелем. Возможно, шел к санаторию. А вы кого-нибудь ищете?
— Ищу, — согласился Саблин, но о недавнем убийстве рассказывать ей не стал. Мужчину с портфелем он, быть может, найдет в санатории.
Милиционер ждать себя не заставил, вырулил из-за церкви и сразу же остановился: Саблин был в форме.
— Не знаю, товарищ капитан, — откозырял старшина. — Ничего не слыхал, был по ту сторону участка.
— А кого видели?
— Двоих, бок о бок шли. По этой дороге, от Профсоюзной. Лиц не разглядел, только взглядом окинул. Немолодые. Шли медленно, будто гуляя.
— Где именно?
— По той же дороге. Впереди, не доезжая киоска.
— Еще кого?
— Опять же парочку. Только это знакомые: дочь слесаря из жэка Катерину Смирнову с ее парнем. Учащийся из ПТУ. Да они близко. Сидят в старой беседке.
Саблин знал эту беседку и нашел ее тотчас же. Парочка целовалась, не стесняясь прохожих. Но Саблина сейчас же углядели и отодвинулись друг от друга.
— Мы никого не трогаем, — смутилась девушка.
— Вижу, — сказал Саблин. — А кого вы видели, когда шли сюда и здесь сидели?
— Никого, — отрезал парень. — Час просидел здесь, ее дожидаясь, — он указал на соседку.
— А я видела, — вмешалась девушка. — Двух стариков обогнала. С Профсоюзной шли. Один, правда, помоложе, коренастый, рослый в серой болонье, другой ростом пониже в пиджаке. Лиц не запомнила. Да и, честно сказать, не вглядывалась.
— В каком пиджаке? — спросил Саблин. — В темном? Светлом?
— Боюсь обмануть, товарищ капитан, не помню.
— Криков, стонов не слышали, когда сидели?
Оба сразу сказали:
— Нет.
* * *
Это было первое крупное дело Саблина с тех пор, как его приказом по министерству перевели в Москву. Успех капитана в розыске древнерусской иконы начала пятнадцатого века, украденной шайкой мошенников, обеспечил ему должность старшего инспектора Московского уголовного розыска. Загадочное убийство в одном из лесопарков Москвы и было именно таким делом, в котором майор Лиховец, непосредственный начальник Саблина, захотел проверить способности нового сыщика. Тем более что он в этот день был дежурным по городу.
Майор едва ли ошибся. Терпеливый, внимательный, никогда и никуда не спешивший, тщательно проверяющий все узнанное и найденное, капитан Саблин был именно тем человеком, кто на вопрос: «Что за профессия — сыщик?» — отвечал, не задумываясь: «Это не профессия, это — призвание».
Убийца мог уехать на другой конец города? Конечно. Но он мог вернуться домой, если жил по соседству. Есть ли жилые дома вблизи санатория? Есть. Надо проверить.
Четыре жилых дома обошел Саблин, заглянув в каждое домоуправление с одним и тем же вопросом:
— Знакомы ли вам эти лица?
И показывал две фотокарточки: убитого и человека, фотоснимок которого был найден в его кармане. И слышал везде один и тот же ответ: нет. Дальше идти было некуда, дальше — лес.
Но еще оставался санаторий, милицейский пост у которого и вызвал бригаду МУРа.
— Кто-нибудь из отдыхающих или гостей проходил за этот час в санаторий? — повторил свой вопрос Саблин.
— Проходил, — гласил ответ. — Сейчас же после появления мальчишек. Отдыхающий в санатории член-корреспондент Академии наук профессор Светлицкий. Повидать его можно. Только сейчас обед, и все отдыхающие в столовой.
Беспокоить Светлицкого за обедом Саблин не стал, подождал в холле, со всех сторон увешанном подлинниками старых фламандцев, французов и российских передвижников: до революции здесь было поместье князей Трубецких, сохранившее кроме картин и образцы мебели прошлых веков. После своего увлечения древнерусской иконописью капитан с интересом рассматривал увиденное. За этим занятием и застал его профессор Светлицкий.
— Вы меня ждете, товарищ? — спросил он.
— Вас. Вы единственный, кто возвращался после полудня из города: мне сообщили об этом в милицейской будке у входа. Мы расследуем убийство, происшедшее в это время в здешнем лесу. Вы шли пешком. Может быть, слышали крик или стон и прошли мимо, не обратив внимания?
— Ничего не слышал и никого не убивал.
— Я не подозреваю вас, профессор, — усмехнулся Саблин. — Меня лишь интересует, кого вы видели на вашем пути.
— Мальчишек, бегущих мимо, я видел, а еще раньше, у поворота дороги с Профсоюзной, встретил человека — седого, старого, но не дряхлого, даже чем-то напоминающего меня. Только я не выношу этих сизо-серых плащей. Они и от дождя не предохраняют, и уродски скроены.
— Вы могли бы опознать его, если увидите?
— Если он будет в том же плаще — да. Завтра опознаю, через неделю опознаю, а за больший срок не ручаюсь.
«Один вероятный свидетель есть, — подумал Саблин. — Только вероятный, да и то с оговорками. Надо искать».
Глава вторая
Утром, сменившись с дежурства, Саблин поехал на ипподром: все-таки шанс опознать убитого. Стоило подождать сводки происшествий: вдруг да появится пропавший без вести. Хотя тут ждать можно было долго: а вдруг у убитого родственников нет? А вдруг он пенсионер, на работе его не хватятся?..
Однако результат обнаружился уже в канцелярии ипподрома.
— Наш конюх, Ефим Ильич Колосков, — сказала, едва глянув на карточку, секретарша. — На работе его, кажется, нет. Может, заболел? Справьтесь у конюхов…
В первом же тренотделении, куда заглянул Саблин, все подтвердилось.
— Наш, Ефим, — сказал один из конюхов, седой высокий старик. — А почему он так голову запрокинул?
— Мертв, — ответил Саблин.
— Не может быть! Я же его вчера здоровым видал, живехоньким…
— Когда?
— Говорю: вчера. Утром. С шести часов здесь торчали.
— А в два часа его убили, — сказал Саблин. Здесь он мог раскрыться: убили не на ипподроме, а в шести километрах отсюда.
— С кем он ушел? — продолжал Саблин.
— Сейчас узнаем. Володька! — крикнул первый конюх.
Из третьего стойла выглянул лохматый парень лет девятнадцати в клетчатой ковбойке и джинсах, заправленных в резиновые до колен сапоги.
— Чего? — спросил он недовольно и не отходя от двери. Оттуда пахло сеном, конским потом и неубранным вовремя навозом.
— Тебя участковый требует. Допрашивать будет, куда ты Ефима дел?
— Ходил я к нему в обед, — сказал парень, по-прежнему не двигаясь с места. — Дома его нет, и дверь на замке. А за что это меня допрашивать собираются?
— Я не ваш участковый, а инспектор уголовного розыска, — представился Саблин. — И никого допрашивать не буду. Просто спросить хочу кое-что, потому что веду дело об убийстве вашего товарища по работе, Колоскова Ефима Ильича.
Володька подошел ближе, растерянный и недоумевающий. Сообщение Саблина его потрясло. Он даже ни о чем не спросил. Спросил первый конюх:
— Где же это его прихлопнули?
— Извините, товарищи, — сказал Саблин, — спрашивать буду я. Вчера с утра Колосков был на работе. Когда же и с кем он ушел?
— После полудня его не было, — ответил уже Володька. — А ушел он один. Он всегда один уходит. Ни с кем не общается.
— Значит, и друзей у него не было?
— Нет, — ответили оба.
— Ни в одном тренотделении, — добавил Володька. — А со мной вообще не считался. Командовал, как в строю.
— А почему ему тобой не командовать? — сказал первый конюх. — Кто ты есть и кто он? Лучшим конюхом считался. И, честно говоря, по справедливости. Призовых лошадей вырастил: и Жар-птицу и Воронца. В этом году Огонька в дербисты вывел. Не дружил с ним, а скажу: не зря его из Одессы выписали.
— Ну, допустим, друзей не было. А врагов?
Конюхи, вспоминая, переглянулись. Помолчали.
— А из-за чего враждовать-то? — пожал плечами старик. — «Козла» с ним не забивали, на троих не соображали, детьми не роднились. Да и не было у него детей-то. И ставку одну получал. Старый человек, тихий, неразговорчивый Никого не обидел, никому не грубил. А Володькой командовать умеючи надо: парень задиристый.
— Где вы были вчера после обеда? Скажем, от часу до двух? — спросил Володьку Саблин.
— Весь день в стойле был. Как и все здесь.
— Что верно, то верно, — подтвердил старый конюх. — Может, из Одессы кто?
Саблин насторожился:
— Что — кто?
— Приезжали как-то разок, другой. Наездники приезжали. Вы к главному зоотехнику наведайтесь.
— А из наездников кто с его лошадьми работает? — Саблин прежде всего искал внутренние связи, внешними займется потом.
— Сейчас Плешин Михаил Иваныч, — охотно откликнулся конюх. — Он и Фильку и Огонька тренирует. С одной конефермы жеребцы. Призовые.
Еще одна линия, задумался Саблин: наездники, жокеи, конефермы, аукционы, лошади. Но раздумывать долго было нельзя. Спрашивать надо, пока отвечают с готовностью. Он и спросил:
— А где мне повидать Плешина?
— В больнице он. Пятьдесят первая, — подал голос Володька. — Аппендицит у него.
— Давно лег?
— Третий день уж лежит.
Придется поехать, решил старший инспектор. Но еще на ипподроме не все было закончено. Он записал фамилии опрошенных и пошел через поле к трибунам.
* * *
А кто может опознать человека на фотокарточке, найденной в кармане убитого? Ни в управлении, ни в конюшнях его не опознали. Посоветовали у кассирш спросить: может быть, завсегдатай? День был небеговой, и кассирш Саблин нашел в буфете.
Кассирш было трое. Они пили кефир, закусывая его бутербродами с сыром. Взглянули на него с любопытством: что понадобилось от них франтоватому милиционеру с погонами капитана?
— Я из уголовного розыска, — отрекомендовался он.
— Ого! — сказала одна. — Чем можем помочь мы господину Мегрэ?
— Только мы никого не убивали, — откликнулась другая.
Третья смотрела выжидательно, молча отхлебывая кефир. Саблин вынул фотокарточку:
— Не узнаете ли вы этого джентльмена? Может быть, примелькался вам на трибунах?
Кассирши долго и пристально всматривались. Но ни одна из них его не признала.
— Разве запомнишь их, мелькающих у окошка кассы. Может быть, игрок, может быть. Только не из тех, кто нам уже надоел.
Молчавшая кассирша, допив кефир, вдруг вспомнила:
— А вы у Зойки спросите. Она придет сейчас. По-моему, это ее клиент.
Зоя Фрязина, лет двадцати пяти на вид, высокая, синеглазая, с круто взбитой платиновой прической, отчего она казалась еще выше, красивая даже в сером рабочем халате, действительно входила в буфет.
— Поспеши, Зоя, — не очень дружелюбно позвали ее кассирши. — Тобой МУР интересуется.
— Почему бы это? — спросила Зоя. Даже нотки удивления не было в ее голосе.
Саблин протянул ей тот же фотоснимок.
— Узнаете? — спросил он.
— Откуда у вас эта карточка? — нахмурилась Зоя.
— На работе спрашиваю только я. А я на работе, — настойчиво повторил, как и ранее в тренотделении, Саблин.
— А если я не отвечу?
— За отказ дать свидетельские показания я могу вас привлечь к ответственности.
Такой оборот разговора кассиршам понравился. Они даже зааплодировали.
— Не трещите, бабы! — оборвала их Зоя и обернулась к Саблину: — Вы шутите?
— Нет.
— Так что же я должна засвидетельствовать?
— Вот эту личность, — Саблин еще раз предъявил фото.
— Не вам чета. Тридцать лет — и уже доктор наук, Максим Каринцев. Старший научный сотрудник Института новых физических проблем.
— Игрок?
— Я бы не сказала. Играет нечасто и не в каждом заезде. Лошадей знает и редко проигрывает.
«С вашей помощью?» — хотел было спросить Саблин, но не спросил. Зоя сама сказала:
— Я не размечаю его программы. Это делает кто-то другой с ипподрома. Либо конюх, либо наездник.
— У него здесь есть знакомые? — поинтересовался Саблин.
— Многие. Только мне он их не назвал.
— Недавно познакомились?
— Не очень давно. Прошлой осенью в Кисловодске. Я подружилась с его приятельницей. Марина Цветкова, художница из Дома моделей.
Зоя отвечала если не с испугом, то с повышенной осторожностью. Понимала, что заинтересованность инспектора уголовного розыска далеко не случайна. Откуда у него эта карточка? Может быть, нашел ее на трибунах? Но тогда проще было отдать ее ей, а не проявлять излишнее любопытство. Но Саблин продолжал задавать вопросы.
— И вы часто с ними встречаетесь?
— Нечасто, но встречаюсь.
— Большая компания?
— Не очень.
— Ученые?
— Возможно. Но я лично встречаюсь с Максимом обычно в компании с Дином.
— А кто этот Дин?
— Из американского посольства. Что-то там по культурным связям. Но превосходно говорит по-русски. Дин — это имя, а фамилия Хэммет. Вполне порядочный, по-моему, даже просоветски настроен.
— Знаешь, Зойка, — вмешалась одна из кассирш. — На дерби я видела твоего Дина вместе с Колосковым из тренотделения.
— Что ж, и ему, может быть, понадобилось разметить программу, — отрезала Зоя.
Значит, еще не слыхали о гибели Колоскова, подумал Саблин, но информировать их не стал. Ему еще потребовалось зайти в отдел кадров, прояснить прошлое Колоскова. А прошлое это было небезынтересным. В краткой справке, открывавшей досье Колоскова, значилось:
«В 1941 году не эвакуировался из Одессы. Якобы опоздал к отходу парохода, увозившего людей и лошадей с ипподрома. В оккупированной Одессе пошел служить полицаем 28-й одесской оберфельдкомендатуры. С гестапо связан не был. В 1948 году был осужден на десять лет в исправительно-трудовой колонии строгого режима. В 1953 году был освобожден по амнистии. С мая 1954-го — конюх Одесского ипподрома. В 1974 году по ходатайству наездников был приглашен на работу в Москву».
«Следы ведут в прошлое», — вспомнил Саблин много раз читанную им реплику. Да, ведут. И, видимо, там, где оно начиналось, следует их искать.
Но у инспектора еще не был закончен розыск в Москве.
Глава третья
Продолжился он в коммунальной квартире на Беговой, где жил конюх. Старший инспектор явился с обыском вместе с экспертом научно-технического отдела Матвеевым и сержантом Дудко. В качестве понятых пригласил соседей по квартире, мужа и жену Захаровых, также работавших на ипподроме. Пока сержант вскрывал замок двери убитого, Саблин поинтересовался их взаимоотношениями с Колосковым. Давно ли они жили вместе с ним в общей квартире? Оказалось — давно. Ее предоставила им администрация ипподрома.
— Трудный жилец?
— Что вы! Тихоня. Слова лишнего не скажет, все молчком. Ничем не беспокоил.
— Не грубил?
— Никогда. Только угрюмый был, неласковый. Ни к нам не ходил, ни мы к нему не ходили.
— Кто-нибудь ходил все-таки?
— Наездник заходил. Плешин Михаил Иваныч. Больше, пожалуй, и никто.
— Один еще заходил, правда, — вмешалась жена Захарова. — Ни Ефима, ни мужа дома не было. Только я одна и торчала на кухне. Высокий и в плечах широк. Бритый! Волос не видела, он не сымал шапки: дело зимой было. Чужой, не с ипподрома. Не наш.
— Пожалуй, и я его на Беговой видел, — вспомнил муж. — У самого дома. Он в такси Ефима запихивал, а сам к водителю сел. Из окна, правда, смотрел…
— Когда это было? — вздрогнул Саблин.
— Да в тот самый день, когда Ефим не вернулся. После полудня. Минут не помню.
— Опознаете, если встретите?
— Может, и опознаю.
— Да и я, пожалуй, не ошибусь, — сказала жена.
А ведь это находка, задумался Саблин. В сопоставлении со Светлицким еще два неколеблющихся свидетеля. Только с мотивом будет труднее.
— Готово, Юрий Александрович! — позвал Саблина эксперт. — Вскрыли без взламывания.
Комната Колоскова полностью отражала характер хозяина. Два скаковых седла и беговая сбруя, подвешенные на свободной от окон стене, большая картина маслом, натянутая на подрамник, бесчисленное множество старинных олеографий и нынешних литографий в рамках-самоделах, а то и просто вырезанных из журналов и прибитых к стене ржавыми кнопками, без пояснений выдавали натуру и призвание профессионала-конника. Лошади, лошади, лошади, скакуны и рысаки, тренированные для рысистых испытаний и скачек конкура и выездки, отвоевали все пространство обоев. «Крепыш, Квадрат, Зейтун, Анилин, Ихор, Петушок», — читал подписи Саблин. Для бывшего хозяина комнаты снимки эти были иконами.
— Все пальцы хозяйские, — пояснил эксперт, исследовав отпечатки на ручке двери, недопитом стакане с водой, на клеенке стола и дверцах шкафа, — а вот с окурками повозимся.
Под столом было разбросано полкоробки недокуренных папирос.
— Он всегда был таким неряхой? — спросил у Захарова Саблин.
— Наоборот! — воскликнул тот. — Аккуратист. Вы только на стены поглядите.
— Может быть, волновался, — подумал вслух Саблин. — Или курил не он?
— Интересно получается, — заметил эксперт, — когда мы уезжали с места преступления, я увидел окурок. Даже машину остановил, чтобы подобрать. Тот же «Беломор», и так же изжеваны и смяты папиросы. Может быть, убитый курил или убийца.
Обыск ничего не дал, только кратенькую записку на листке из блокнота:
«Заходил. Не застал. Со здоровьем плохо. Врачи настаивают на операции. Придется в больницу лечь. Митрий».
— Кого на ипподроме зовут Митрий? — спросил Саблин.
— Плешина. Он сейчас Огонька работает.
— Так он же Михаил Иваныч?
— Давно это случилось. Когда еще поддужным у самого Рожкина был, так тот и повелел ему Митрием зваться. Сам-то он тоже был Михаил Иваныч. Чтобы не путали. Ну и повелось: Митрий да Митрий. Классный наездник. Призер.
* * *
Накануне Плешину сделали операцию. Когда Саблин вошел к нему, набросив на плечи белый халат, он лежал на спине, сложив руки на груди.
Саблин назвал себя, но удивления не вызвал.
— Что сделал страшного? — спросил Плешин, не двигаясь.
— Не вы, но кое-кто сделал.
— С Огоньком что-нибудь?
— С Огоньком все нормально, но конюх его убит.
— Ефим?
Саблин кивнул.
— Как же так? Неужели лошадь? — Плешин даже попытался подняться.
Саблин осторожно надавил ему плечо, прижав к подушке. Испуг перехватил наезднику горло.
— Лежите, лежите. Сейчас все расскажу. Не лошадь. Не четырехногое, а двуногое. Человек. А кто, мы пока еще не знаем. Только ищем.
— Где? На ипподроме?
Саблин рассказал, где и как было обнаружено тело убитого.
— Что я должен сделать? — спросил Плешин.
— Рассказать о нем. Как можно больше и как можно подробнее. О его личности, личной жизни, о друзьях и недругах, о знакомстве и встречах. Играл или не играл. Помогал ли кому выигрывать. И не старайтесь его защищать или оправдывать. Это ему уже не поможет.
— Что я могу рассказать о нем? — вздохнул Плешин. — Превосходный конюх, влюбленный в свое ремесло. Я бы даже сказал, искусство. С инстинктивным чутьем лошади. Даже в жеребенке почувствует будущего призера… Вы у него на квартире были? Ведь это не комната, а молитва о лошади. Он был по-своему даже религиозен. Только богом его был конь. Или орловский рысак, или чистокровный ахалтекинец. В любой конюшне мира ему бы цены не было. А вот о личности ничего не скажу. Не знаю. И никто на ипподроме не знает. Замкнутый, неразговорчивый, никогда ни о чем беседы не начинал, если вопросов не было. Уважительный, но, как бы вам сказать…
— Неласковый?
— Точно. С Володькой, подручным его, излишне строг был, потому что ревновал к нему любимую лошадь. Когда Володька Грацию отрабатывал, даже сердился. И, между прочим, напрасно. Володька к нам конюшенным мальчиком пришел, а сейчас у него такое же чутье лошади, как у Ефима. Я бы не Захарова к Огоньку конюхом поставил, как, наверное, главный зоотехник решит, а Володьку. Ему тоже скоро цены не будет.
Володька не интересовал Саблина, но он выслушал. Только спросил:
— А были какие-нибудь недруги у Ефима?
— На ипподроме? Не было, конечно. Любить не любили — молчунов ведь в любом коллективе не жалуют, но ненавистников у него не было. Так что на ипподроме убийцу не ищите, таких гадов у нас нет.
— А о прошлом его, Ефима, что-нибудь известно?
— О прошлом он никогда ничего не рассказывал. Прошлое его известно только в отделе кадров. Ходили слухи, что он в оккупированной Одессе был, за что-то потом сидел, но, когда его спрашивали об этом, он молчал, как испуганный. А вероятно, все в порядке было, если его из Одессы на службу выписали.
— Из Одессы, — задумчиво повторил Саблин. — А кто-нибудь с Одесского ипподрома к вам приезжал?
— Бывало. Этой весной приезжал Глотов Иван Фомич, мой однокашник. Вместе у Карамышева азы проходили. Великий наездник был. Кстати, Ванька вместе с Линейкой приезжал. Хорошая резвушка. Ее Пятигорск купил.
— Как он с Колосковым?
— Никак. Ефим о нем и не вспомнил. Даже на испытания Линейки не пришел. Иван, понятно, обиделся. Так и уехал, не прощаясь.
— Я объяснил вам, что меня интересует, — сказал Саблин. — Вы не учли двух вопросов. Первый: помогал ли он кому-нибудь выигрывать в тотализаторе? И второй: о его знакомствах за пределами ипподрома.
Плешин ответил с виноватой улыбкой:
— Отвечу на второй вопрос сразу. То, что происходит за пределами ипподрома, меня не трогает, не волнует, не задевает и не тревожит. Я говорю не о событиях в мире, а о житейских мелочах. Я не интеллектуал, а только лошадник. И это не ограниченность, а страсть. В этом смысле я похож на Ефима и потому не знаю ничего о его знакомствах. Да и были ли они, не убежден. Теперь отвечу и на первый вопрос. Вы, вероятно, имеете в виду разметку программ? Этим занимаются у нас все: и знающие толк в лошадях, и ни хрена не понимающие в них, вроде билетных кассирш. Занимаются и за деньги, и по знакомству. Размечал ли программы Ефим? Не знаю. Может, и размечал: почему же не заработать пятерку или десятку? Одно знаю точно: он сам, как и я, никогда не играл. Верующий лошадник не приемлет тотализатора. Ни Ситников, ни Насибов, выигрывая, не думали о денежных выдачах в кассах тотализатора. Их сердце согревал лишь тот счастливый миг, когда их кони проходили первыми призовой столб. Их лошади, а не они сами. И я так думаю, хотя далеко не всегда прихожу первым. Не осуждайте и не хвалите нас: мы, как буддисты, отдаем сердце одному богу без отца и без сына — коню.
Саблину не хотелось уходить, хотя он и получил ответы на все предполагавшиеся вопросы. Он опять заглянул в то спортивное Зазеркалье, в тот волшебный мир вчерашних Крепышей и Квадратов и нынешних Абсентов и Анилинов, арабских скакунов и чистопородных орловцев, которое он видел в комнате Колоскова и в котором слово «Лошадь» пишется с прописной буквы.
Но и этот допрос мало что дал Саблину. Может быть, ответ надо искать среди неизвестных знакомств Колоскова? Или в оккупированной Одессе? Или ответ связан с человеком, фотография которого найдена в кармане убитого?
* * *
Из больницы Саблин поехал в Дом моделей к художнице Марине Цветковой. У нее он надеялся получить ответ на вопрос: почему фотопортрет физика Максима Каринцева очутился в кармане убитого? Да еще в день убийства и совсем новенький.
— Да, я знаю этого человека. И знаю, что вы уже спрашивали о нем у Зои Фрязиной, — сказала художница.
— Допустим, — согласился Саблин, отметив про себя, что Зоя рассказала подруге о его визите. — И давно его знаете?
— С прошлого лета. Познакомились в Крыму.
— Бываете на бегах?
— Редко. Не увлекаюсь тотализатором.
— А Каринцев играет?
— Иногда. Он слишком занят для таких развлечений.
— А если играет, то по размеченной программе?
— Да. Он отдавал ее кому-то на ипподроме.
— Фрязиной?
— Едва ли. Зоя редко угадывает.
— Может быть, Колоскову?
— В первый раз слышу эту фамилию.
Саблин очень надеялся на этот вопрос, но ответ разочаровал его.
— Тогда скажем иначе. Ефиму? — вновь спросил он.
— Кому?
— Вы слышали это имя? От Каринцева хотя бы.
— Никогда.
— А почему его фотокарточка оказалась в кармане у Колоскова?
— Понятия не имею. Кто этот Ефим Колосков?
— Конюх, — улыбнулся Саблин.
— Так почему же вы, старший инспектор уголовного розыска, идете ко мне, художнице Дома моделей, спрашивать о делах какого-то конюха? Что-то случилось на ипподроме? Допускаю. Но уверяю вас, что ни я, ни доктор технических наук Максим Каринцев не имеем к сему никакого отношения. Может быть, ваш конюх украл эту карточку или нашел ее на трибунах? Так идите на ипподром и задавайте там свои вопросы.
«Значит, Фрязина ничего не рассказала ей ни об убийстве конюха, ни об этой злосчастной карточке, — подумал Саблин. — Интересно, почему? Очень интересно!..»
— Тогда простите, — сказал он художнице. — Я охотно воспользуюсь вашим советом.
Глава четвертая
Человек вошел в будку телефона-автомата, плотно прикрыл за собой тяжелую дверь, бросил в щель двухкопеечную монетку, сверяясь с клочком бумажки, набрал номер.
— Але! — сказал он с хрипотцой, то ли естественной — простыл, то ли с намеренной. — Але! Дом литераторов? Там у вас рядышком дипломат сидеть должен. Американский. Есть такой? Кликните его, будьте ласковы, это с парка звонят, с таксомоторного… — подождал, переминаясь с ноги на ногу. — Але! Это вы? Тут какое дело: все утверждено, деньги выделяют… Ага. Ага… Ждать?.. Ладно, дело привычное, подождем… — повесил трубку, стукнул кулаком по автомату: монетка назад не выскочила, глубоко провалилась. — Дело привычное, — повторил он, ни к кому, впрочем, не обращаясь, вышел из будки, пошлепал растоптанными сандалетами по горячему асфальту.
* * *
Гриднев выбрался из тесного зальчика Дома литераторов — Малого зала, как он именовался в пригласительном билете, закрыл за собой дверь и облегченно вздохнул: слава богу, отсидел свое на этой говорильне. На «говорильню» Гриднев обещал прийти, сейчас понимал: опрометчиво обещал, но слова не нарушил, даже выступил, сообщил миру пару «мудрых» мыслей. Тема «говорильни» — роль детективной литературы в идеологической борьбе — сама по себе интересна, и Гридневу было что сказать: любил он детективы, много и охотно читал, благо английским владел в совершенстве. Но, скучно начавшись, разговор скучно и продолжился. Чувствовалось: неинтересно было братьям писателям, тем более в ресторане раков подавали, случай здесь нечастый.
Раки Гриднева не привлекали, честно говоря, не умел он их есть, побаивался живых, не видел вкуса в вареных. Посему решил позвонить на службу, вызвать машину, а до ее прихода посидеть в кафе, выпить чашку кофе, выкурить сигарету, народ посмотреть: какие они, писатели…
Телефон был на столике администратора, женщины могучей и неприступной на вид. Гриднев двинулся было к ней, на ходу обдумывая, как бы свою просьбу покуртуазнее выразить, поджентльменистей, чтобы растаяла неприступная, как телефон зазвонил и администраторша взяла трубку.
— Цедеэл, — сказала она баритоном и повторила раздраженно: — Ну, Дом литераторов, Дом литераторов. Кого вам?.. — выслушала, отстранила трубку, огляделась, увидела кого-то поодаль — аж засветилась вся: — Господин Хэммет! Дин! Вас к телефону…
Хэммет?.. Гриднев с интересом взглянул на человека, который, вовсю улыбаясь, спешил к телефону. Интересный мужик, «фактурный», — говорят про таких. Не слишком высокий, так — роста среднего, элегантный, но не с иголочки, а чуть помятый, точнее — обношенный в самый раз. Галка, жена Гриднева, сказала бы: не одежда на нем, а он в одежде. Точно. Что еще? Легкая седина. Легкий загар. Легкая сутулость. Легкий акцент:
— Откуда, Аленочка?
— Вроде из такси, Дин, — неприступная администраторша растеряла всю неприступность: видать, любили здесь «легкого» иностранца, заочно Гридневу известного.
— Говорите, — Хэммет взял трубку. — Слушаю… — помолчал, покивал невидимому собеседнику, подвел итог: — Значит, все в порядке?.. Ну, ждите. Ждите, я появлюсь.
Он повесил трубку и посмотрел на Гриднева:
— Вам позвонить?
— Если можно.
— Аленочка разрешит. Да, Аленочка?
— Только недолго, товарищ, — по-прежнему улыбаясь, сказала администраторша.
Гриднев позвонил в гараж и вызвал машину. Поблагодарив «неприступную», он подошел к Хэммету, рассматривающему витрину с фотографиями.
— Спасибо за протекцию. Не будь вас, хозяйка телефона вряд ли бы допустила меня до него.
Хэммет с готовностью, будто он только и ждал реплики, откликнулся:
— Аппарат служебный. Но пользуются им многие. Аленочка только на вид строгая.
— Хорошо вы говорите: Аленочка…
— Неправильно?
— Скорее: Аленушка… Но так тоже неплохо. Ласково.
— Я еще много делаю ошибок в русском.
— Англичанин?
— Американец.
— Работаете здесь?
— Я дипломат. Служу в посольстве. Рядочком.
— Рядышком.
— Спасибо за поправку… А вы писатель?
— Если бы!.. Бюрократ от литературы.
— Это как?
— Филолог. Специалист по англо-американской детективной литературе.
— О-о! — явно обрадовался Хэммет. — Родственники души!
— Родственные души, точнее. А вы любите детективы?
— Кто их не любит?
— Моя жена.
— Женщины практичны. А детективы — дело романтиков.
— Это вряд ли. Какая романтика в убийствах?
— При чем здесь убийства? Романтика — в поиске, в отборе вариантов, в дедукции. Романтика, если хотите, в тайне, которой окутано преступление.
— Тайна романтична, если романтична разгадка, итог поиска. А какой итог у преступления? Наказание. И в нем нет никакой романтики.
— Знаю, читал: Достоевский, загадка русской натуры.
— Русская натура здесь — пришей кобыле хвост.
— Как, как?
— Поговорка. Иначе: ни при чем тут натура. Разве в вашем Нью-Йорке за преступление не предусмотрено наказание?
— Я из Чикаго.
— Ну, в Чикаго, в Сан-Франциско, в Далласе…
— Кстати, о Далласе. Не предусмотрено. Убийца Кеннеди так и не найден.
— Убийца-то найден. И наказание предусмотрено — законом. Только между законом и жизнью бо-о-льшая пропасть. Кто за убийцей стоял, те скрыты.
— И я об этом. Такова система.
— Какая система?
— Государственная.
— Странный вы дипломат. Ругаете свою систему, ее же и представляя, ей же служа.
— Кто вам сказал, что я ее ругаю? Я ею восхищаюсь.
— Тем, что она позволяет убийцам быть безнаказанными?
— Безнаказанными — нет. Недоказанными, непойманными — да.
— Непойманный убийца — это слабость полицейского аппарата.
— Полицейский аппарат не всесилен. Разве ваша милиция всех преступников славливает?
— Ловит. Нет, не всех. Но у нас существует понятие: неотвратимость наказания. Карманный воришка может оказаться до поры везучим. Но повезет раз, два, десять, а на одиннадцатый он будет, как вы говорите, словлен.
— Воришка… А убийца?
— У нас убийство — самое страшное преступление. Оно — редкость, по сравнению со статистикой убийств в Соединенных Штатах. И конечно же ни одно не остается нераскрытым. Дело в сроках.
— И конечно, здесь — заслуга вашей системы. Социалистической.
— Не вижу повода для иронии. Да, заслуга. Это у вас Диллинджер или Аль Капоне — национальные герои. У нас бы они были врагами нации.
— У нас, у вас… Мы — как на диспуте. Я правильно сказал?
— Правильно. Так у нас и есть диспут. Мини-диспут. О преимуществах детективной литературы. Кстати, ваши лучшие писатели — детективисты очень озабочены поимкой преступника. И если он не ловится, то обвиняют они именно систему.
— Не все.
— Я же сказал: лучшие. Не Спиллейна же к ним причислять.
— А чем плох Спиллейн? Его герой — сильная личность.
— Мерзкая личность. Синдром вседозволенности.
— Опять система виновата?
— А то! Вон у нас, слышали, наверно, ходил один с топориком, сильная личность. Всем миром ловили.
— Милиция не справилась?
— Милиция и справилась. Людям тошно было: живет среди них гадина. Вот и помогали милиции, как могли.
— Знаю: дру-жин-ни-ки…
— Не только. Попроситесь по вашим каналам на Петровку, в музей милиции. Там вам расскажут подробности.
— Спасибо, попрошусь. Так ведь не пустят?
— А вы очень попроситесь. Скажите, что пишете диссертацию на тему, скажем, «Сравнительный анализ работы чикагской полиции и московской милиции в их связи с населением представляемых городов». Красиво?
— Вы шутник, мистер филолог.
— Я серьезен, как никогда. Благодарю вас за беседу, господин Хэммет. Мне пора.
— А может, по рюмке водки?
— Это бы можно, только мне и вправду пора.
— Не смею захватывать.
— Задерживать, господин Хэммет, задерживать…
* * *
Забавный мужик, думал Гриднев, сидя в машине. Как он в простачка славно играл? Наша система, ваша система… Ай, Хэммет, ай, дипломат! Хорошо, что посмотрел на него, так сказать, своими глазами. Хоть известно теперь, с кем вести заочное сражение, проверить на практике теорию детектива. Кстати, а что он в Доме литераторов делает? Хотя, скорее всего, он не солгал: просто их «контора» действительно находится «рядочком», вот и бродит атташе, «родственников души» улавливает.
Машина остановилась у подъезда. Гриднев машинально взглянул на свои окна: свет горит, значит, Галка дома.
— Завтра к семи, товарищ полковник? — спросил шофер.
— К семи, — кивнул Гриднев. — Спокойной ночи.
Глава пятая
Гриднев просматривал очередную сводку МУРа у себя в кабинете на улице Дзержинского. Среди преступлений, зарегистрированных в сводке, одно привлекло его внимание: убийство конюха Московского ипподрома Е. И. Колоскова. Именно Колоскова видели в компании с Хэмметом в его ложе на трибунах во время пятого и шестого заездов. То, что Хэммет — агент ЦРУ, органам безопасности было известно давно. Но ни задержать, ни выслать его как персону нон грата пока не было оснований. Колосков, вероятно, подсказывал Хэммету, какую лошадь надо играть, — так, кажется, на жаргоне «тотошников», — но могло быть и другое.
— Ну что ж, попробуем, — сказал Гриднев своему заместителю и другу майору Корецкому. Его он еще знал мальчуганом, подобранным воинской частью.
— Что именно? — спросил тот.
— А не взять ли нам дело об убийстве бегового конюха?
— Знаю о нем. Его ведет в МУРе старший инспектор Саблин.
— Вот с ним и возьмем.
— Почему? Фамилия нравится?
— Фамилия как фамилия. Звонкая.
— Очень звонкая, — усмехнулся Корецкий.
— Не понимаю.
— Саблин был комбриг или начдив, участник бунта левых эсеров. Правая рука Спиридоновой.
— Погубит тебя образование, Корецкий… Хотя, пользуясь твоими ассоциациями, могу продолжить: у меня был другой Саблин. Боевик из группы Седого в одесском подполье.
— Ладно, сдаюсь, — засмеялся Корецкий. — Но объясни все-таки, почему мы вмешиваемся в дела уголовного розыска?
— Хотя бы потому, что конюха Колоскова как-то засекли в обществе Дина Хэммета, — сказал Гриднев.
— Тебя тоже засекли вчера в том же обществе.
— Мы же знакомы, в конце концов. Вот и захотелось поспорить. И еще учти, что в сводке пометка есть: в кармане убитого найдена фотокарточка Максима Каринцева.
— Ого-о, — протянул Корецкий. — Это уже информация к размышлению, как говаривал незабвенный Штирлиц. Стоит побеседовать с Саблиным?
— Точно. Кстати, я уже его вызвал. В десять ноль-ноль. Он, наверное, в бюро пропусков сейчас…
Но Саблин уже постучал в дверь кабинета.
— Входите, — сказал Гриднев, оглядывая спортивную фигуру Саблина. — Не удивлены нашим приглашением?
— Нет, — спокойно ответил Саблин. — Вероятно, из-за фото Каринцева?
— Точно. Где-то здесь наши ведомства, может быть, и соприкасаются, кто знает. А проверить нелишне. Вот и будете работать с нами. С вашим начальством я договорился. Познакомьтесь: майор Корецкий, ваш напарник на время следствия. Покажите ему свое искусство.
— Искусство? — удивленно переспросил Саблин.
Гриднев пояснил:
— У сыщика и следователя, разведчика и контрразведчика, у каждого все свое, но есть и общее. Это творчество. Убедил? Ну а теперь расскажите о вашем творчестве. Что выяснилось по делу Колоскова?
Саблин рассказал.
Гриднев слушал и, казалось, мысленно взвешивал все услышанное. Кое-где одобрительно кивнул, кое-где поморщился.
— Опросы людей вокруг места преступления полезны, потому что отметают ненужные версии. Допрос наездника колоритен, но многого вам не дал. Только наметил личность убитого, но на след убийцы не вывел. Свидетелей, могущих опознать убийцу, вы нашли, но это поможет лишь тогда, когда вы предъявите его для опознания. Неудачна беседа с художницей Цветковой, как вы провели ее в Доме моделей. Вас сковал один вопрос: почему фотокарточка физика Каринцева оказалась в кармане убитого конюха? Оказалось, что она не знала ни конюха, ни о том, что он был убит. Все остальные вопросы ваши ни к чему не вели. Бывала ли она на бегах? Бывала. С Каринцевым? С Каринцевым. Играл ли он в беговом тотализаторе? Играл. Что вы узнали по сути дела? Ничего.
— Я это понял уже во время допроса, — согласился Саблин. — Честно говоря, мне было стыдно. Так провалить разговор!..
— А вам понятно, почему вы его провалили? Потому, что не учли роли, какую в этих событиях мог сыграть Каринцев. Может быть, даже не по собственному желанию и воле. Не учли и взаимоотношений художницы и физика. О них следовало знать.
Саблин, не обижаясь, слушал Гриднева. Ему нравился этот высокий полковник, чем-то похожий на Жукова первых военных лет, пожилой, но моложавый, чисто выбритый, коротко стриженный «под полечку», как стригутся обычно немолодые люди.
— И еще кое-что, — добавил полковник. — Вам не приходила в голову мысль о том, что разгадка убийства конюха может быть скрыта в его далеком прошлом? Был ли он в плену или в оккупации?
— В оккупации был. Служил полицаем в одесской комендатуре. После войны за службу у гитлеровцев был приговорен к десяти годам в исправительно-трудовой колонии. Через шесть лет освобожден по амнистии.
— Выясняли по нашим каналам?
— Нет. Меня информировали в отделе кадров на ипподроме. Я уже собирался ехать в Одессу.
— Похвальное намерение. Обратитесь к полковнику Евсею Руженко.
— Следовало бы еще раз поговорить с Мариной Цветковой, — виновато замялся Саблин.
— Вам с ней больше общаться не надо: слишком начудили первый раз. С ней познакомится Корецкий. А вы езжайте в Одессу. Руженко поможет. Он в курсе всех оккупационных мерзостей. Во-вторых, поройтесь в судебном архиве: ведь суд, наверное, был в Одессе. В-третьих, разыщите Тимчука. Он крановщиком в Одесском порту работает, а был когда-то, как и Колосков, полицаем. Но вовремя в партизанское подполье ушел. Ведь и я тогда там был, а Колоскова-полицая не помню. Большая полицейская шайка была, но люди, конечно, разные. Кто поневоле втянут, кто из желания пограбить вдосталь, а кто и из гестапо послан был. На суде, конечно, могли и не разобраться: дело давнее. Ведь по горячим следам шли, кто-нибудь и уйти сумел. Или с немцами, или в глухомань. Уже тогда гитлеровцы к нам эту падаль забрасывали. И сколько их мы выловили!.. Свяжитесь с Тимчуком — не пожалеете.
* * *
В Одесском управлении государственной безопасности Саблина принял полковник Руженко.
— От Гриднева? Александра Романовича? — обрадовался он. — Звонил он мне. Значит, опять архивы подымать будем.
— Меня интересует дело Колоскова Ефима Ильича, бывшего одесского полицая, осужденного в сорок восьмом году и амнистированного в пятьдесят третьем, — пояснил Саблин.
— Помню, — сказал полковник. — Судилось трое: Колосков, Закирян и Лобуда. Я и следствие тогда вел. Посмотрите в архиве Одесского городского суда. Я позвоню. Только Лобуду судили заочно: бежал из-под следствия. Кто-то помог. Потом мы нашли кто. Заброшенный в Измаил гитлеровский агент Хребтов. На следствии он показал, что Лобуда погиб при попытке уйти за границу: утонул якобы, переплывая Дунай в районе Килии. Мы проверяли, но точно установить его гибель не удалось. Кстати, не понимаю, почему он бежал. С гестапо связан не был, как и его сотоварищи. Ну, получил бы свою десятку и — баста, мог бы жить честно. А суд, учтя бегство и два убийства при побеге, приговорил его к высшей мере. Однако за границей что-то о нем не слышно: может быть, затаился у нас где-нибудь, как затаились некоторые. Найдем в конце концов, отыщется след Тарасов.
В архиве городского суда Саблин нашел искомое дело. Суд не установил связи подсудимых с гестапо. Ни Колосков, ни Закирян советских людей не пытали и не расстреливали. Им вменялась только служба в полиции, незаконные аресты, обыски. Даже прокурор не требовал более десяти лет заключения. «Подсудимые Е. И. Колосков и А. Г. Закирян выселили семьи Соболевых и Гринько, захватили их квартиры и все принадлежавшее им имущество, — читал Саблин в обвинительной речи прокурора Михайлика, — произвели незаконный обыск в квартирах Миронова и Кривоносова, отправили на принудительные работы в Германию всех учительниц бывшей школы-семилетки № 24 на улице Свердлова, врачей родильного дома на улице Бебеля Смирнову, Пепельную и Карасик, переплетчицу Владычину, домашних хозяек Наживину, Орлову и Клименкову…» Список незаконных арестов, обысков и высылок, учиненных подсудимыми, в одной только речи прокурора насчитывал десятки фамилий, названных свидетелями обвинения.
Саблин скопировал также показания Лобуды, данные им следователю до своего бегства.
«— Имя?
— Павло Лобуда.
— Возраст?
— Родился в восемнадцатом.
— Образование?
— Ремесленное училище.
— Специальность?
— Слесарь.
— Почему пошли работать в полицию? Разве слесари в порту не требовались?
— Полицаем работать легче.
— И выгоднее?
— Это тоже учитывалось.
— На сигуранцу работали?
— Никак нет. В гражданской полиции.
— А в гестапо?
— Тем более.
— Не лжете?
— Найдите свидетелей.
— Мертвые ничего не скажут.
— Найдите живых.
— Найдем в документах гестапо.
— Говорят, их сожгли перед тем, как смыться из города.
— А откуда вам это известно?
— Слухами тюрьма полнится».
Далее рукой следователя старшего лейтенанта Руженко было написано:
«В найденных списках тайных и явных осведомителей гестапо имя Павло Лобуды не упоминается».
* * *
Тимчука Саблин нашел быстро: он действительно работал крановщиком в порту. Пушистые седые усы его ничуть не старили.
— Двухпудовой гирей помаленьку балуюсь, — похвастался он.
Разговаривали они в «Гамбринусе», пивном баре на Дерибасовской, названном так в память купринского. Тимчук, только что закончивший смену в порту, пригласил туда москвича:
— За кружкой пива и вспоминается лучше…
Саблин не возражал: жара в Одессе держалась адская.
— Гриднев сказал мне, что в дни оккупации вы были полицаем, — начал разговор Саблин.
— Був, — сказал Тимчук и тотчас же повторил по-русски: — Чего же скрывать: был. Но только в первые дни, пока не вывел в катакомбы Александра Романыча Гриднева. Там и остался, в боевой группе Седого.
— Меня вот что интересует, — продолжал Саблин. — Вы, конечно, и на процессе полицаев присутствовали?
— На каком? Их несколько было.
— Когда Колоскова и Закиряна судили.
— Пришлось. Свидетелем вызывали.
— Но я хочу вас спросить о том, которого на суде не было. О Лобуде.
— Был такой зверюга. Знаю. В другой фельдкомендатуре служил. Незнаком, но слыхивал.
— В частности, интересуюсь его работой в гестапо. В списках осведомителей его нет. Но ведь были и такие, которых гестапо использовало неофициально. Под кличками.
— Чего не знаю, того не знаю. Знал бы, сказал на суде… Так он при побеге двух из нашей охраны убил. Все одно — вышка.
— Кто убил — неизвестно. Может быть, их пристрелил его сообщник, тайком проникший в тюрьму, — вспомнил Саблин прочитанное судебное дело.
— Може, и тот постарался. Только без Лобуды не обошлось. Классно стрелял, говорят…
Глава шестая
К Марине Цветковой Корецкий проехал домой.
— Господи! — раздраженно воскликнула Марина. — И опять о карточке Максима?
— Опять, — послушно согласился Корецкий. — Что ж поделаешь, следствие.
— Так я же не убивала вашего конюха! И Максим не убивал. А вы подозреваете!
Корецкий выждал минуту и мягко, даже с виноватой улыбкой, вежливо пояснил:
— Мы пока никого не подозреваем, но хотим избавить от подозрения хороших людей. Мы ценим и уважаем товарища Каринцева как выдающегося ученого, но нас, честно говоря, интересует эта загадочная связь с ипподромом.
— Ничего загадочного, — отрезала Марина. — Я хожу на бега только потому, что меня приглашает Максим. А он — бывший конник-спортсмен, в детдоме воспитывался близ конефермы. К верховой езде приучен с детства. Вот и ходит на ипподром — больше смотреть, чем играть. Потому, может быть, знает и вашего конюха.
Корецкий выслушал и осторожно переменил тему, вернее, чуть-чуть сдвинул ее.
— У вас общая компания с Фрязиной и ее спутником?
— С Динни Хэмметом?
— Именно.
— Опасное знакомство?
— Нет, почему же? Пока неопасное, — подчеркнул Корецкий.
— Трудное у вас ведомство. Все-то вы подозреваете… А вы не смотрите, что он из американского посольства. Умный, интеллигентный и, по-моему, порядочный человек. И отнюдь не враг. Я Даже удивляюсь, зачем его держат в посольстве. Ему многое у нас нравится больше, чем в Америке, например газеты. Сдержанная разумная информация, а у них рекламная свистопляска с антисоветским душком. Так он говорит. Я не знаю американских газет, но мне нравится его критическая настроенность.
— И вы ему верите?
— А почему бы нет? Многие американцы настроены критически к порядкам в Штатах. И если он один из таких, то почему бы нам не дружить? Зойка, конечно, тряпичница, вцепилась в него намертво. «Березка» ей, видите ли, нужна, бар валютный, парфюмерия из Парижа. Ну а мне и Максиму Хэммет интересен просто как собеседник. Много знающий и многое видевший. Надеюсь, я рассеяла ваши подозрения?
— Допустим, что так, — подытожил встречу Корецкий.
* * *
В эту ночь Гридневу не спалось. Не принимал снотворного, чтобы не втягиваться, но не спалось. Не знал — почему. Работы много, но ее всегда много. Есть, конечно, и неразрешенные еще проблемы, но ни одна из них не должна бы укорачивать ночь. А все ж ворочался, раздраженный. Думал о том, что тревожило последние дни. В поле зрения попал молодой талантливый физик Максим Каринцев. Тревожит, да — это точное слово, именно тревожит его неожиданная дружба с Хэмметом из американского посольства. Может быть, Каринцев — это первая карта разведчика? Необходимо обезопасить ученого. На работе и дома, в научных и личных контактах. Почему возникает связь с ипподромом? Корецкий нашел объяснение: Максим — бывший конник-спортсмен, привычка к лошадям с детства. Почему в дружеской компании Каринцева оказывается любовница Хэммета? Тоже можно объяснить: Зоя старая подружка Марины Цветковой. Почему фотокарточка Максима была в кармане убитого конюха? И это, вероятно, в конце концов выяснится. А тревога не проходит. Требует новой проверки, требует!
И Гриднев с утра после бессонной ночи поехал в НИИ, где работает Каринцев. Принял его директор, профессор Боголепов, крайне удивленный тем, что одним из его питомцев заинтересовались органы безопасности.
— Сейчас объясню, профессор, — сказал Гриднев. — Только один вопрос: имеет ли плановая разработка темы Каринцева оборонное значение?
— Бесспорно.
— Так вот, мы отнюдь не подозреваем Каринцева в каких-либо антисоветских акциях, а желаем предотвратить такие акции со стороны врагов нашего народа и государства. Сейчас Каринцев становится центральной фигурой вашего института и со своими исследованиями легко может стать объектом вражеских интересов.
Профессор задумался.
— А есть опасность?
— К сожалению, есть.
— Вы понимаете, в чем сложность? — вздохнул профессор. — Лазеры далеко еще не познанная полностью область физики. А Максим — новатор, талант с несметным богатством новых идей. Да и биография его привлекательна: сирота, потерявший мать при своем появлении на свет, рано брошенный отцом, неизвестно где доживающим, детдомовское детство, блестящая карьера на учебном поприще, где еще ребенком его принимают в старшие классы, кандидатская диссертация, защищенная в двадцать два и докторская через четыре года — все это и формирует наше отношение к нему как ученому.
— Но личность человека — это не только его дело…
Профессор почти виновато опустил глаза:
— Согласен с вами. Максим не общественник. Он даже не подал заявления в партию, мотивируя это тем, что партийность в какой-то мере сузит круг его научных интересов.
— Будем откровенны, профессор. Он не адепт так называемого инакомыслия?
— Не думаю. Говорил о нем с секретарем партийной организации. Он тоже этого не думает. Но твердо настаивает, что дальнейшая работа Каринцева должна протекать в обстановке строжайшей секретности.
— Нас это вполне устраивает, профессор.
— Могу добавить. Вы сказали: личность. Но ее формируют не только социальные и научные качества, но и характер. Максим взрывчатый, но добрый и обаятельный человек. Можно допустить его ссору с директором — мы часто ссоримся, допускаю и его недоброжелательство к своим научным противникам, какую-нибудь дерзкую выходку на открытом партийном собрании — такие тоже были, и Максим потом извинялся и каялся, но не допускаю в нем ни лжи, ни карьеризма, ни потребительской алчности. И полностью исключаю, полковник, измену Родине. Такие люди не изменяют.
* * *
Корецкий зашел к Гридневу, когда тот листал справочник Академии наук СССР, содержащий список академиков и членов-корреспондентов.
— Кого ищешь, Александр Романович? — спросил Корецкий.
— Оппонентов Каринцева.
— А есть такие?
— Узнал о них от Боголепова, когда он рассказывал о новациях Каринцева. Оборонный их смысл мне понятен, а в научном оформлении я, конечно, профан. Но, оказывается, плановая разработка темы Максима была принята ученым советом большинством при двух голосах против. Возражали профессор Венедиктов и член-корреспондент академии Косых.
— Хочешь связаться с ними? Но это же научные дебри…
— Хочу прощупать их отношение к Каринцеву. Важно знать не только мнение друзей, но и недругов.
— Вероятно, они исходили из шекспировского тезиса: «Стремясь к лучшему, мы часто портим хорошее».
— Откуда это?
— Из «Короля Лира».
— Мудрец. Должно быть, они рассуждали именно так. Вот ты и явись, как Лир, к обоим. По очереди.
Профессор Венедиктов принял Корецкого в университете в перерыве между лекциями…
— Как вы, профессор, знающий работы физика Каринцева, относитесь к плановой разработке его темы в НИИ?
Ответ на этот вопрос был для Корецкого безразличен, но он предполагал возможность задать второй вопрос: достаточно ли честен Каринцев в своей научной работе, нет ли в его характере следов авантюризма, неоправданной самоуверенности или обмана?
— Вы не стесняйтесь, — сказал он Венедиктову, — не бойтесь, что я не пойму научных терминов. — И тут он несколько в одесской манере, с повторениями, задал первый научный вопрос. Профессор Венедиктов улыбнулся и ответил вполне вразумительно:
— Мнение мое запротоколировано на заседании совета. Вам остается только прочесть протокол.
Корецкий сыграл растерянность и смущение, как бы показывая, что он этого протокола не читал. И задал второй вопрос, сознательно споткнувшись на словах «авантюризм» и «самонадеянность», и тут же поправился на «самоуверенность», а слово «обман» произнес почти шепотом. Тут профессор задумался.
— Было бы неправдой, если бы я ответил вам утвердительно. Ни излишней самоуверенности, ни авантюризма в его работе, конечно, нет. Я только считаю, что он ошибается.
Другой оппонент, членкор Академии наук СССР профессор Косых, на сакраментальный второй вопрос ответил так:
— Какой вздор! Откуда вы почерпнули такую информацию? Никогда так не думал и не думаю. Просто считаю, что он слишком торопится. А в науке спешить не следует. Каринцев, безусловно, талантливый и честный ученый. Надеюсь, что он и сам поймет свое заблуждение.
Когда Корецкий вернулся с ответами двух оппонентов Максима, Гриднев сказал:
— Я так и думал. Ответы честные, если только вопрошаемые сами не ошибаются. Не всегда в поисках лучшего можно утратить хорошее. Если в ребенке уже формируется характер взрослого, поеду в его страну детства.
Глава седьмая
Но в этот день Гриднев в Туркмению не поехал. Его задержало полученное из Одессы письмо.
— От Евсея Руженко, — сказал он Корецкому. — Прочтешь, поговорим.
Корецкий прочел.
«Посылаю тебе, Александр Романович, прелюбопытный документ, который тебя должен заинтересовать. Я разрешил прибывшему от тебя капитану милиции Саблину изучить дело Колоскова и Закиряна, которое, как ты помнишь, я подготовил для судебного разбирательства. Вместе с ними должен был быть судим и третий их соучастник, некий Павло Лобуда, бывший полицай в оккупированной Одессе. Но ему удалось бежать, застрелив двух солдат внутренней охраны с помощью впоследствии разоблаченного абверовского агента Хребтова. Бежали они в город Измаил, где и была разоблачена в 1954 году гитлеровская агентура. Во-первых, Хребтов признался, что Лобуда был осведомителем гестапо, а во-вторых, сообщил, что он погиб, переплывая Дунай в районе Килии. Но при вторичном допросе абверовец уже перед смертью — он умер в тюремном госпитале от рака прямой кишки — добавил кое-какие детали. Копию этого допроса, как ты сам понимаешь, я не стал показывать Саблину: при всей своей полезности он все же работник не нашего ведомства. Вот я и посылаю ее тебе.
Вопрос. Кто входил в вашу группу?
Ответ. Я вам представил список.
Вопрос. Кто из них заброшен с вами?
Ответ. Никто. Все — местные жители.
Вопрос. Почему вы решили осесть в Измаиле?
Ответ. Собственно, не в Измаиле, а в Вилкове.
Вопрос. Почему?
Ответ. Из-за близости пограничной заставы.
Вопрос. Чем же вас радовала такая близость?
Ответ. Полагал, что местному жителю легче нечаянно перейти границу.
Вопрос. А румынских пограничников вы не боялись?
Ответ. Полагал, что и они не будут придирчивы к местному жителю.
Вопрос. Какую цель перед вами ставили?
Ответ. Осесть на долгожитие. На связь не выходить. Ждать.
Вопрос. Был ли пароль для связного?
Ответ. Был. „Мне бы дядю Колю“. Отзыв: „Дядя Коля в отъезде“. И еще вопрос: „Кому тогда должен отдать?“ И другой отзыв: „Отдай мне. Меня Серафимом кличут“.
Вопрос. Кто-нибудь приходил?
Ответ. Да. Год назад.
Вопрос. Может быть, Лобуда?
Ответ. Нет Лобуды. Утонул в Дунае при попытке переплыть на румынскую сторону.
Вопрос. Где плыл?
Ответ. Ближе к Килии. Там пограничники более рассеяны. Так нам казалось тогда. Ну и ошиблись.
А это, Романыч, второй допрос — годом позже, в тюремном госпитале.
Вопрос. Вы хотели сделать признание?
Ответ. Да.
Вопрос. О чем?
Ответ. Солгал следователю на первом допросе. Теперь умираю. Скрывать незачем.
Вопрос. Что скрывать?
Ответ. Лобуда жив. Он не переплывал Дуная. Утонул Квилиану, бывший при немцах рыбацким старостой.
Вопрос. А где Лобуда?
Ответ. Где-то в вашей колонии для уголовников. Под кличкой „Юркий“.
Вопрос. Каким образом он там оказался?
Ответ. Мы сымпровизировали кражу двух бочек дунайской сельди. Его и подставили как виновника.
Вопрос. А цель?
Ответ. При первом удобном случае он должен был бежать из колонии.
Вопрос. Куда?
Ответ. Выбор предоставлялся ему. Кличка сохранялась. Ищите Юркого.
Вот и все, Александр Романович. Могу добавить: Юркий год спустя действительно бежал из колонии. Розыск его до сих пор ведется по каналам МВД и до сих пор он нигде не объявился. Должно быть, где-нибудь осел тихонько и работает. Может быть, даже честно работает — до тех пор, пока за границей о нем не вспомнят и не дадут команды действовать. Когда включится Юркий, не упусти момента».
Корецкий прочел и долго молчал, пока его не окликнул Гриднев.
— Что молчишь?
— Думаю. Не исключено, что он в Москве и уже вышел на связь.
— Почему?
— Потому что включился в игру Хэммет, а ему нужен для этой игры связник. Это может быть и Юркий. И еще потому, что безмотивных убийств не бывает. Если они не случайны. Только у одного человека есть мотив для убийства Колоскова. Предположи, что Юркий побывал на бегах и попался на глаза Колоскову. Что предпримет связник, которым дорожат за границей? Или завербовать, если есть мотив для вербовки, или устранить.
— Я не вижу в твоей цепочке места для Каринцева.
— Каринцев — дичь, за которой охотятся. Если он попадет в силки, понадобится связник. Вот тебе и роль для Юркого.
* * *
Саблин приехал в тот же день, когда происходил этот разговор. Он включился в ход его прямо с разбега. Но его доклад о деле Колоскова и Закиряна подтвердил уже известное.
— Словом, на убийцу ты вышел, — сказал Гриднев.
— Лобуда? — спросил Саблин.
— Лобуда.
Саблин заметил, как Гриднев и Корецкий переглянулись.
— Предполагаете или знаете? — спросил он.
— Кое-что знаем.
— По своим каналам?
— Они у нас глубже, — усмехнулся Гриднев. — Между прочим, кличка у него Юркий. Ты его портрет привез?
Саблин выложил на стол две небольших, одноформатных, снятых по форме карточки.
— Сняты в сорок девятом году, — сказал он.
— Очень уж молодо выглядит, — вмешался Корецкий. — Но узнать можно, если только он не прибегнул к пластической операции. Размножь в лаборатории МУРа. Пусть у каждого участкового будет. Скажи, что крупный белобандит с этой физией ходит.
— Мне кажется, я что-то похожее видел, — вгляделся Гриднев.
— Где?
— Не помню.
— Не у Боголепова ли?
— Честно, не помню.
— Это там, где тот парень работает? — спросил Саблин.
Гриднев посмотрел настороженно и осуждающе.
— У того парня, между прочим, есть имя и фамилия. Знаешь что? Проведи-ка ты денек в этом НИИ. Поброди по коридорам, в лаборатории загляни. Может, что и выглядишь. А я тем временем на денек слетаю в Туркмению. Детство «того парня» проверить. Действительно ли он конник-спортсмен и на ахалтекинских жеребцах ребенком гонял?
Остаток дня Саблин провел в максимовском институте. В лабораторию Максима его не допустили: секретна. Пробежался по коридорам, посидел в буфете. На него не обращали внимания. Сидит чужой парень за столиком, ну и что? Мало ли кто здесь шатается. Может, от студенческой экскурсии отстал и вдруг закусить захотелось. Или из техжурнала какого-нибудь, тоже здесь шастают. До Саблина доносились обрывки разговоров, как всегда в общем шуме, бессвязных, не объединенных ни формой, ни содержанием.
— …Вы под математической зависимостью понимаете формулу… что же вы будете делать с такой формулой?
— …Теория теорией, а как на самом деле?
— …В качестве оценки эффективности работы всего коллектива сотрудников можно взять, например, сумму эффективностей…
— …А что это означает в терминах графа?
— …Почему мы применяем теорию графов, а не теорию графинь?
Есть тут и шутники, слушал и комментировал про себя Саблин. Но чаще слышались обрывки других разговор, весьма далеких и от науки, и от профессии:
— …Такие джинсы теперь уже не носят…
— …Фильм — отвальный, сходи, не пожалеешь…
— …Взяли по сто пятьдесят, а тут его жена звонит…
Но кефир был выпит, пирожок съеден, и Саблин опять побрел по коридорам. В одном из них он и увидел, по словам Гриднева, «что-то похожее». Высокий старик шел с черной папкой к директору. Была у него пресловутая косая сажень в плечах и жирная шея, туго стянутая мягким воротником.
— Кто это? — спросил Саблин идущую мимо девушку.
— Паршин. На подпись к директору идет, — сказала она.
Нет, не он, подумал Саблин. Нет ни казацких усов, ни впалых под ними щек. Лобуда должен был выглядеть постарше. Шрама на виске у него тогда не было. Но ведь усы можно сбрить, щеки с годами могли и вспухнуть. А почему постарше? Гриднев же не постарел, а ведь Гриднев ему ровесник, и глубоких морщин у него нет, и седина только по краям волосы тронула. Все же это не Лобуда. Не та схожесть, какую увидеть хочется. Может быть, в отдел кадров заглянуть?
В кадрах дали личные дела и Максима и Паршина. У Максима все коротко. Возраст — 32 года. Образование — физико-технический институт. Ученая степень — доктор технических наук. Специальность — новые свойства лазерной техники. Приказы о поощрениях и награждениях.
У Паршина еще короче. Возраст пенсионный. Подходяще: не слишком глубокий старик. Лобуде тогда было не больше двадцати пяти лет. Образование — экономическое. Не подходит: Лобуда окончил только ремесленное училище. И специальность не та, Лобуда слесарь, а Паршин бухгалтер. И на оккупированной немцами территории никогда не был, и родом он из Ростова, а не из Одессы… Не та схожесть, не лобудовская. И Саблин и Гриднев знакомы с физиономистикой, но почему Гриднев увидел «что-то похожее», а он, Саблин, не видит. Значит, даже приблизительного опознания нет.
Глава восьмая
Путешествовать на восток — дело неблагодарное, особенно если командировка невелика, каждый час дорог. А тут — извольте: в десять утра взлетел в Домодедове, почти четыре часа проторчал в самолете, приземлился в ашхабадском аэропорту, а там на электрических часах — шестнадцать ноль-ноль, солнце на закат отправилось. Два часа съело поясное время.
— День пропал, — с грустью сказал Гриднев.
Лунолицый, улыбчивый, невысокий гриб-боровик — круглое брюшко полковничий китель распирает, вот-вот пуговицы оторвутся — Рахим Алтыев, гридневский однокашник по академии, засмеялся довольно:
— Я же тебя, торопыгу, знаю. Не пропал у тебя твой день драгоценный, не плачь, подружка. Сейчас чайку попьем, дыньку покушаем и — пожалуйте в Мары, в сорок градусов жары, — увесисто хлопнул друга по плечу. — Как рифма?
— Слабовато. Не Пушкин…
Они шли по горячим, впитавшим в себя туркменский зной бетонным плитам, и Гриднев расслабленно думал о том, что Рахим и вправду знает его как облупленного, изучил за двадцать с лишним лет дружбы и совместной работы и конечно же предусмотрел подходящий рейс в Мары, забыв о гостеприимстве, которое непременно предполагает и горячую шурпу, и рассыпчатый плов, и шашлык, и долгие многочисленные тосты. Впрочем, стол в депутатской комнате был накрыт к обеду.
— Походный вариант, — сказал Алтыев. — У нас есть полтора часа времени — не густо. Но пообедать-то тебе надо. Ты когда назад?
— Как обернусь… Надо же директоршу отыскать, договориться о встрече.
Алтыев плюхнулся в кресло, расстегнул китель и ворот форменной рубахи.
— Тяжело встречать начальство: жарко в параде… — И, вроде бы между прочим, добавил: — Бывший директор детского дома, а ныне персональный пенсионер Дурсун Мурадовна Мамедова ждет тебя сегодня, — тут он посмотрел на часы, — в девятнадцать тридцать по местному времени у себя дома. Тебя встретят и отвезут к ней… — И заторопился: — Давай-давай, обед ждать не хочет.
— Спасибо, Рахим…
И Гриднев опять с благодарностью подумал о предусмотрительности Алтыева, да что там предусмотрительности — о заботливости его: все по часам просчитал, простоя не допустил.
— А за что спасибо? Я, подружка, из корысти стараюсь. Завтра утром в Ашхабад вернешься, жена плов сварит, долго обедать будем… — И, ловя невысказанные возражения друга, хитро улыбнулся: — Очень долго обедать будем, до самого московского рейса…
И, уже прощаясь с Гридневым у трапа маленького Ан-24, спросил серьезно:
— Зачем сам прилетел, раз такая спешка? Неужто наши люди побеседовать с ней не смогли бы?
— Смогли бы, Рахим, кто сомневается. Да только подопечный наш, Каринцев, очень меня интересует. Хочется покопаться в нем, в детстве его, и поподробнее, поглубже. Какой разговор пойдет с Мурадовой — еще не ведаю. А что услыхать от нее хочу — тоже пока не знаю…
Точно в назначенное время (силен Алтыев в математике!) белая «Волга» притормозила у глинобитной стены, окружавшей крохотный двор, в глубине которого притулился маленький дом с плоской крышей. По дорожке, укрытой от зноя крышей из виноградной лозы, навстречу Гридневу шла старая женщина в длинном темно-вишневом платье, глухой ворот которого держала массивная серебряная брошь, усыпанная крупными сердоликами.
— Дурсун Мурадовна?
— Жду вас, предупреждена, — она говорила по-русски с заметным акцентом, как человек, выучивший язык уже в зрелом возрасте, и не без труда. — Проходите в дом, дорогой гость.
Комната, в которую она привела Гриднева, была обставлена спартански скудно: старенький потертый текинский ковер на полу, обеденный стол, не покрытый скатертью, четыре венских стула вокруг, у окна — видавший виды КВН-49, первенец отечественной промышленности, с пузатой линзой, ничуть, как помнил Гриднев, не улучшавшей изображения. И единственное украшение комнаты — книги, заполнившие стеллажи вдоль всех стен.
Хозяйка подождала, пока гость усядется на жесткий стул, сама села напротив, села очень прямо, уложила на неполированную доску стола большие узловатые руки, которые, видно, не только книги да тетради перелистывали, но и землю копали, обрабатывали, и лопату знали, и мотыгу, и жар печи или костра.
Маленькая, тоже старая женщина — сестра? — в таком же темном платье бесшумно вошла, поставила на стол пиалушки, вазочку с дешевыми конфетами, разлила чай и, оставив пестрый чайник, так же бесшумно скрылась.
— Слушаю вас. — Мамедова смотрела внимательно и серьезно, понимая, что гость издалека приехал не чаи распивать, и нет смысла терять время, занимать его разговором о погоде, о видах на урожай хлопка или еще о чем-нибудь необязательном, пустом.
— Дурсун Мурадовна, я хочу расспросить вас об одном из ваших воспитанников, давних воспитанников.
— У меня их было много. Кто это?
— Максим Каринцев. Помните такого?
Тут Мамедова улыбнулась, даже не улыбнулась — просто чуть дрогнули уголки губ, будто воспоминание о Максиме было приятным и легким.
— Помню. Он хороший мальчик, хороший. Он меня тоже не забыл, поздравляет со всеми праздниками.
— Каким он был?
— Я же сказала: хорошим… — она не спросила Гриднева, зачем ему нужны сведения о Максиме: раз спрашивает — значит, надо. Восток чурается праздного любопытства: если гость захочет, сам объяснит свой интерес. — Максим был одним из лучших…
— Послушный? Учился хорошо?
— Нет, не так. И слушался не очень, и учился по-всякому. Ему было семь лет, когда его привезли из дома ребенка. Он уже умел читать, писать и считать. А вскоре мы перевели его во второй класс. И уже тогда я знала, что он — человек.
— Человек?
— Как это?.. — она поискала слово. — Личность. Характер. Сильный духом.
Не слишком ли — о семилетнем пацаненке? Ну, одаренный, легко усваивающий. Гриднев сдержал улыбку, но Мамедова поняла его удивление.
— Именно так: сильный духом. Взрослые считают, что у детей нет определенного характера, что их можно лепить, как статую. Не лепить, нет. Брать камень и отсекать лишнее — да. Но ведь камень уже есть, и в камне — основа.
Несмотря на восточную витиеватость, мысль казалась достаточно ясной. Кого-то из великих, помнил Гриднев, спросили: когда надо начинать воспитывать ребенка? Великий поинтересовался: а сколько ему лет? И, узнав, что уже пять, посетовал: вы опоздали ровно на пять лет.
— Он владел обостренным чувством справедливости, — говорила Мамедова, и Гриднев уже не обращал внимания на ее странноватый русский: владел вместо обладал. Словарный запас ее достаточно велик, говорит, не задумываясь, лишь иногда вставляет не слишком подходящее слово — так то не беда.
— Он никогда не хотел компромиссов, — говорила Мамедова, и перед Гридневым мало-помалу возникал образ сначала ребенка, потом мальчишки, подростка — незаурядного, непростого, которому в жизни очень повезло на воспитателя. Другой бы начал ломать его, пользуясь терминологией Мамедовой, отсекать от камня почем зря, а Дурсун Мурадовна делала свою «скульптурную работу» исподволь, постепенно, не мешала Максиму стать человеком, но помогала в том.
Учился он очень хорошо, легко, но неровно. И тройки были, и пятерки. Спрашивали: почему тройку принес? Отвечал: неинтересно было. Так если неинтересно, значит, не нужно? Утверждал, как отрезал: значит, не нужно. Это было не нужно ему, а он четко знал, чего хотел, и школьный физик не чаял в нем души, хотя Максим и на любимом своем предмете выкидывал иной раз такие фортели, что старичок физик за голову хватался. К блестящим шарам школьной электрической машины — гордости небогатого физкабинета — прицепил провода, а концы подвел к клетке с морской свинкой, из зооуголка принес. Раскрутил машину, и… свинка не снесла эксперимента…
— Я наказать его обязана. Мне свинки не жалко, хотя откуда нам взять еще одну, денег мало, на мебель не хватало, на одежду, а ту свинку нам подарили. Мне страшно, что он живое хотел убить. Зачем так сделал, говорю? А он молчит, в сторону смотрит, совсем мальчишка еще. А потом мне сказали: плакал он сильно, свинку жалел. И вот что еще. Тогда ему двенадцать было. Коней он любил. Недалеко от нас конеферма была: ахалтекинских скакунов воспитывали Ну, четверо наших вместе с ним в добровольные конюхи напросились. Мы не возражали: все-таки трудовое воспитание. Вставал в пять утра и вместе с однокашниками на конюшню бежал. Как заправский конюх работал, навоз убирал, коней кормил, объезжать их научился. Некоторые потом бросили: трудно, говорят, а он до конца учебу прошел. В шестнадцать лет как профессиональный ездок скакал. А дружба человека с конем у нас ценится.
Гриднев не записывал ничего, просто слушал. Да и к чему записи — не очерк же ему о Максиме писать. Просто хотелось понять: откуда он взялся, талантливый физик и спортсмен-конник Максим Каринцев.
Друзей у него было немного, хотя детский дом в Байрам-Али выглядел этаким небольшим Вавилоном, где легко ужились ребята многих национальностей. Но Каринцев не искал легкой дружбы, не участвовал в коллективных шалостях и даже пакостях, к коим так склонен школьный нераздумывающий возраст. Однако его уважали и, когда он вступил в комсомол, легко выбрали комсоргом. Вероятно, многие потом пожалели о своем выборе: комсоргом Максим был трудным. Трудным для тех, кто вступил в комсомол бездумно: все идут, и я туда же.
— Странный мальчик: он искренне верил в лозунги. Знаете, мы сами, старые люди, за эти лозунги жизнь клали, а сегодня вроде со стыдом о них говорим, с усмешкой. Вроде, зачем громкие слова? А Максим не считал их громкими, он их правильными считал. Он за них горло перегрызал…
— Перегрызал? — удивленно вставил Гриднев.
— Фигурально, — Мамедова четко произнесла чужое слово. — Хочу вспомнить историю с Первомаем…
А история оказалась удивительной. После первомайской демонстрации, после митинга на площади детдомовцы вернулись домой, отнесли красные флаги и плакаты в кладовку — до следующего праздника. Максим, как комсорг, отвечал за это имущество, принимал его по списку — детдом небогат, любая вещь на учете, — и вдруг оказалось, что двух флагов недостает. Кто не сдал? Выяснил, выспросил. Оказалось, двое парней купили мороженое — кое-какие деньги водились, в колхозе подрабатывали, — увлеклись им да и забыли флаги на лавочке. Послал их искать. Да только разве найдешь: кто-нибудь унес, в хозяйстве пригодится. Ну, суд да дело — комсомольское собрание. И Максим требует исключить парней из комсомола…
— Он тогда в десятом классе был, уже взрослый. И они тоже не маленькие: из девятого. Сказал так: они забыли о самом святом для каждого человека, а комсомольца — особенно. Они забыли, что несли красные флаги, за которые кровь проливалась. А они мороженое ели и о флагах забыли. Ну, может, не совсем так сказал, давно это было, но, похоже, все-таки так.
— Исключили? — поинтересовался Гриднев.
— В том-то и дело, что не исключили. Разделились голоса. Большинство против исключения голосовало. Объясняли: не война сейчас, не революция, а забыли парни не символ, а просто самодельный флаг, который сами, может, и сделали. Ну, один забыли — другой смастерят.
— А Максим?
— А он кричал: революция всегда, а если ты ее историей считаешь, то не комсомолец ты, а мещанин, гнать тебя надо. И в райком пошел, требовал, чтобы не утверждали решения комсомольского собрания, чтобы все-таки исключили.
— И не поняли и там?
— И там не поняли. Успокаивали, говорили: они и так все прочувствовали. Я хорошо об этом знаю, я потом сама в райкоме чуть ли не ночевала, в обком ездила, с Максимом говорила, уговаривала его…
— О чем уговаривали?
— Тут самое страшное, совсем непонятное. Максим в райкоме сильно кричал, наверно, оскорбил секретаря. Тот ему сказал: за такие слова сам билет на стол положить можешь. А Максим достал билет и положил: не хочу, сказал, с тобой в одном комсомоле состоять.
Вот так номер! Гриднев знал, что Каринцев не член партии, не вступает в ее ряды, хотя товарищи из парткома института уже заговаривали с ним об этом. Помнил Гриднев, что и комсомольцем Максим вроде не числился. А тут вот оно как получилось…
— И я ему говорила: опомнись, возьми билет назад. И из обкома товарищ приезжал: понимали, что парень чистый, хороший, неиспорченный, таких ценить надо. А Максим — ни в какую…
— А как вы сами, Дурсун Мурадовна, эту историю оцениваете? На чьей вы стороне?
И тут Мамедова впервые улыбнулась, с гордостью какой-то, и сразу осветились изнутри ее глаза, и, хотя побежали по щекам морщинки, показалось Гридневу, будто моложе она стала.
— Так это же я его воспитывала. С того дня, как он к нам пришел, воспитывала.
Не утерпел Гриднев, подпустил шпильку:
— И тех парней, что флаги забыли, тоже вы?
А она словно и не заметила укора.
— Тоже я, — сказала спокойно, даже улыбаться не перестала. — И они хорошие ребята, добрые, современные, умные. Ребята и ребята — что с них возьмешь. А Максим — другой.
— Камень другой, основа?
— Совсем другой камень, — кивнула она. — Очень крепкий.
…Наутро Гриднев улетел в Ашхабад, где был вновь встречен полковником Алтыевым и умыкнут им к обильному достархану, настолько обильному и вкусному, что в московский самолет Гриднев грузился с опаской: не вышло бы перевеса.
Друзья поцеловались на прощание, помяли друг друга. Алтыев только спросил — впервые за весь день:
— Не зря съездил?
— Не зря, — ответил Гриднев.
И уже в самолете сам себе подтвердил: не зря. Теперь он, пожалуй, знал точно: Каринцев не предаст. Хэммету там делать нечего. А раз так, значит, можно на Максима рассчитывать — когда время придет.
Глава девятая
Во время пребывания Гриднева в максимовской «стране детства» Саблин связался с Корецким.
— Почему мрачен? — спросил тот.
— Потому что ничего не узнал.
— В лабораторию Максима наведался?
— Она сейчас на замке, который ни одна фомка не откроет. Личное дело его в отделе кадров смотрел. Ничего особенного. Возраст, образование, научные степени, награды и премии. Ни единого черного пятнышка.
— А побродил по коридорам?
— Побродил. Даже в буфете посидел. Треп вообще, и научный треп в частности.
— Немного, — вздохнул Корецкий.
Ну, что рассказать ему, думал Саблин. О своих сомнениях и колебаниях? О том, что «похожее» оказалось совсем непохожим?
Но Корецкий этим и сам поинтересовался:
— То, что Гридневу показалось, углядел?
— Видел в коридоре нечто похожее. Не Лобуда. Просто рослый, кряжистый полустарец.
— А кто он в институте? — спросил Корецкий.
— Главный бухгалтер. Фамилия Паршин. Классный работник, сказали. Лет двадцать главным работает. И родом из Ростова, не из Одессы.
— Можно годами жить по чужому паспорту. Бывают этакие казусы. У гестапо и абвера был великий набор таких паспортов.
Но Саблин не уступал сомнениям. На что опереться? Только на подозрения и случайную схожесть? Привести мужа и жену Захаровых в бухгалтерию НИИ и спросить: он или не он?
— Ну что ж, — задумался Корецкий, — придется взять под наблюдение и Паршина. Приглядеться поближе, связи прощупать, досугом поинтересоваться. Женат ли, вдов или холост, есть ли друзья женского или мужского пола. Ходит ли на бега или играет в карты. Широко ли живет, сколько и откуда прибавляет к ставке. Вот тогда, может быть, и понадобятся свидетели для опознания. А тебе, капитан, я думаю, потребуется новая командировка.
— Куда?
— В Армению, друг, в Ереван. Закиряна найти и погулять с ним по его полицейскому прошлому. Он тебе больше, чем Тимчук, расскажет: поближе к Лобуде был. Хорошо бы до этой поездки фото Паршина иметь. Авось пригодится.
* * *
Закиряна Саблин нашел с трудом. В поселке близ озера Севан, где жила семья его сына, инспектору сказали, что старик сейчас в Ереване, гостит у внука, игрока республиканской команды «Арарат». Живет он в новом доме неподалеку от стадиона «Раздан». Здесь уж искать не пришлось. Лучшего бомбардира футбольной команды высшей лиги знал каждый мальчишка.
Саблину открыла тоненькая красивая армянка лет двадцати.
— Вы к Армену? — ничуть не удивилась она. — Вы, наверное, из Москвы, из газеты. Но он сейчас на поле. Готовится к матчу со «Спартаком». Поезжайте на «Раздан», там его и застанете.
— Простите, — извинился Саблин, — но мне нужен не Армен, а Вартан Закирян. Я был у него на Севане, а там меня к вам направили.
Тут она удивилась, даже испугалась чуть-чуть.
— Дедушку редко спрашивают. Особенно здесь. Что-нибудь случилось?
— Ничего не случилось, — засмеялся Саблин. — Просто поговорить надо. Для этого и приехал.
— Он во внутреннем дворике под чинарой сидит. В такую жару только в тени и отдохнешь…
Саблин поморщился: в тени на скамейке небось старики со всего дома собрались. Но оказалось, что ошибся. На раскаленном солнцем каменном дворике в единственном густом уголке тени действительно сидел Закирян. И сидел один.
Саблин не узнал старика. Никакого сходства не нашел он в нем с фотокарточкой, которую переснял из судебного дела. И тотчас же подумал, что такое же несходство будет и в случае с Лобудой. Слишком плохо и слишком молодыми тогда их снимали. Молча присел рядом, причем старик Закирян не обратил на него никакого внимания, даже не повернулся, не взглянул. Только когда заговорил Саблин, в глазах его блеснула искорка интереса.
— Из-за этого вы из Москвы ехали, — усмехнулся он.
— Из-за этого, — подтвердил Саблин.
— Вы бы Колоскова спросили. За ним не в Армению ехать.
— Колосков убит.
И опять Закирян не удивился.
— А теперь моя очередь. Лобуда со свидетелями рассчитывается, — сказал он. — Только мы двое и знали, что он от гестапо работал.
— Почему же на суде не сказали?
Закирян поднял брови. Они были у него пегие: черные с густой проседью.
— Так на суде я десятку получил, а у Лобуды суд страшнее. Молчишь — живи, проговоришься — гроб заказывай. Нашли убийцу-то?
— Пока еще нет. Ищем. И найдем, если поможете.
— Чем помочь? Я его сто лет не вижу. Где он таится, в какой личине, знать не знаю. В Москве, думаю, если Ефима шлепнул.
Закирян говорил резко, медленно, почти без акцента, короткими фразами. Как рубил. Слушать его было легко и неутомительно. И Саблин напомнил:
— Может, вы расскажете про свою полицейскую жизнь? Главное — о встречах с Лобудой. О его повадках, о характере, о связях с гестапо.
— О его связях с гестапо я никому не рассказывал… — Не глядя на Саблина, Закирян проговорил, словно думал вслух: — Не боюсь Лобуды. Теперь нисколечко.
— А почему боялись?
— Очень уж легко он людей порешал. Пулей в голову. Из пистолета навскидку. Идем, скажу, по улице. По улицам тогда мало ходили, опасаясь каждого встречного. Вроде нас, подразумеваю. Ну, видим: идет прохожий. Тихонечко идет. Рук в карманах не держит, глаза опущены. А Лобуда меня локтем в бок. Кажется, знаю этого человека, говорит. Я в ответ: что в том особенного? А то, говорит, что он меня тоже знает. Ну и что, спрашиваю. А то, говорит, что таких я в живых не оставляю. Мало ли что про меня он скажет, если власть переменится. Вскинет пистолет, хрясь! И нет человека. Раз десять при мне так было. И Колосков это тоже видал. Потому и грохнул он Колоскова. За то, что мог Ефим о нем Советской власти сказать. Не зная, кто убил, прямо вам скажу: Лобуда.
Саблин молчал, как бы подталкивая Закиряна: продолжай, не тяни, все интересно. И старик продолжал:
— Не все полицаи, конечно, работали на гестапо. Мы с Колосковым немецкого начальства побаивались. Хватало румынского. Городской голова Пынтя нас по лицу лупил, ежели низкого поклона от нас при встречах не видел. Но той лютости, как в гауптштурмфюрере из гестапо жила, у Пынти не было. А гауптштурмфюрер в каждой фельдкомендатуре своих людей имел, вроде Лобуды. Потому и на суде при Советской власти не только мы с Колосковым, но и кое-кто в зале о Лобуде промолчал, как только узнали, что он сбежал. Вот вам и характер его. А о делах что ж? О них на суде говорилось. Арестовывали, с обысками по квартирам ходили, людей в Германию высылали. Хорошо, что суд вышку не дал, десяткой ограничился. Да и по амнистии срок скостили. Потому и Лобуды не страшусь.
— А вы сумеете опознать Лобуду, если мы его вам покажем живехоньким?
Замолчал Закирян, опустил глаза, вспоминая.
— А вы поезжайте в Одессу, дело мое найдите и на карточку посмотрите. Может, смотрели?
— Смотрел, — сказал Саблин.
— Узнали, когда стариком увидели?
— Не сразу, — признался Саблин.
— Вот то-то и оно. Меняет нас возраст. Таким, как я его помню, Лобуды уже нет. А как он выглядит сейчас, не знаю. А если он еще и пластическую операцию сделал?
— Поглядим. Проверим, где ему могли такую операцию сделать.
— Как проверишь? За хорошие деньги нашел частника. Поди, узнай.
— Это не просто операция, отец. Нужно не кромсать лицо, а создать несхожесть, — пояснил Саблин. — Без хирурга-косметолога не обойтись. Был нос прямой — станет с горбинкой. Были пухлые губы — утоньшатся. Был острый подбородок — округлится. В Америке за такую операцию сотни тысяч долларов платят.
Саблин импровизировал. Он понятия не имел о пластических операциях. Но мысль, брошенная Закиряном, дошла. А если Лобуда нашел такого косметолога, понадобится другой косметолог, чтобы опознать следы операции.
— Не будем гадать, отец, — закончил он свой диалог с Закиряном, — возьмем Лобуду — тебе по обоим адресам телеграммы пошлем. Приедешь?
— Не побоюсь, — твердо сказал старик.
* * *
С аэродрома Саблин помчался к Гридневу. О Паршине он уже говорил Корецкому, значит, Гриднев тоже знает. А на доклад полковнику хватило материала о Закиряне.
— На опознание приедет, — резюмировал капитан свое сообщение о поездке в Армению. — Только боится, что опознать не сможет из-за возрастных изменений. Предположил, что Лобуда мог сделать пластическую операцию.
— Где? — перебил Гриднев. — В Измаиле или в Одессе? Вы, конечно, проверите. Другие места пребывания Лобуды в Советском Союзе нам не известны. Закирян тоже ничего о них не знает. С чего же вы начнете розыск?
— Мне думается, — замялся Саблин, — что все-таки с Паршина.
— Я видел его. К сожалению, вы правы. «Что-то похожее» — еще не сходство.
Вошел Корецкий.
— Сядь, — продолжал Гриднев. — Разговор пойдет о Паршине. О Закиряне советоваться незачем. Все ясно. Лобуда действительно был связан с гестапо и лично уничтожил все доказательства этой связи при отступлении немецко-фашистских войск из Одессы. Тогда же было, вероятно, согласовано и его пребывание в СССР в качестве абверовского или гестаповского разведчика. Может быть, рассчитывалось и длительное оседание его у нас. Для опознания Закирян приедет, хотя и не уверен, что сможет его опознать. Боится, что помешает пластическая операция. Мог ее сделать Паршин?
Корецкий ответил сразу же:
— За двадцать лет его работы главным бухгалтером у Боголепова никаких изменений в его лице, кроме чисто возрастных, не произошло. Меня в этом уверил начальник отдела кадров, который тоже работает двадцать лет. Такую операцию Паршин мог сделать и раньше, но мог и не делать совсем. Та же причина, что останавливает и нас: возраст и отсутствие ранней фотодокументации. Если бы мы сделали у него обыск, то, вероятно, тоже ее не нашли бы. И никакой умышленности в этом заподозрить не сможем: многие люди не хранят старых снимков. Есть и еще одно у него укрытие — профессия. По немецким анкетам был слесарь, причем обманывать оккупантов он не посмел. А у нас двадцать лет уже работает главным бухгалтером. Главным! Для этого специальные знания нужны, слесарь так легко в главного бухгалтера не превратится. Значит, более двадцати лет назад Паршин где-то на специальных курсах учился, вуз мы уже не предполагаем. Но что все это нам дает? Нуль. И это — если допустить, что Паршин — Лобуда. А если нет?
— Что мы знаем о нем за вчерашний день? — спросил Саблин.
— Немногое. Идя утром на работу, купил в булочной кекс за восемьдесят копеек. В соседней аптеке получил заказанные накануне порошки. Никуда не заезжая и ни с кем не общаясь по дороге, приехал в институт на автобусе № 116. На работе пробыл весь день. Ушел в восемнадцать ноль-ноль после звонка. Домой прибыл на том же автобусе, так же ни с кем не общаясь. Из дома не выходил. Что мы вообще о нем узнали? Тоже не густо. Одинок. В анкете записано: холост. Женских связей не установлено. Друзей нет. В гостя не ходит и к себе не зовет. Выписывает только «Правду». Книги берет из библиотеки. Мы просмотрели его библиотечный формуляр. В основном приключенческая литература и детективы. Не играет ни в домино, ни в карты. Раз в неделю ходит в кино. Преимущественно на дневной сеанс по субботам. Кинотеатр у него напротив, только перебежать дорогу. Лечится в той же поликлинике, к которой прикреплены работники института. Лечащий врач — Земскова. Никаких серьезных заболеваний у него за годы ее работы в поликлинике она не наблюдала. Мы заглянули и в его больничную карточку: грипп, легкий катар желудка, глаукома тоже в легкой форме, частые жалобы на бессонницу. Примерно все.
Саблин слушал и запоминал. Он подивился точности этой характеристики, раскрывающей личность. Сумма обобщенных мелочей создавала духовный облик человека. Если б он, Саблин, был актером, то перед ним, в сущности, намечался характер, которому не хватало только слов, чтобы получился сценический образ.
— А как зовут Паршина? — спросил Гриднев с потаенным подтекстом, словно это имя для него имело свое значение.
— Серафим Петрович, — сказал Корецкий.
— А вы помните отзыв к паролю абверовского агента в Измаиле: «Мне отдашь. Меня Серафимом кличут»?
— Так ведь это отзыв для самого агента.
— Его мог заимствовать и Лобуда. Конечно, Паршиных с таким именем и отчеством в Москве не меньше десятка. Думаю, придется проверять каждого. Кроме того, капитан, вы забыли о кличке «Юркий». Вот и проверяйте. Корецкий займется Паршиным с его однофамильцами, а вы, Саблин, по своим каналам поищите Юркого. Наблюдение за нашим Паршиным продолжать.
Глава десятая
Гриднев один. Галка ушла на просмотр французского фильма, который он уже видел. Читать не хочется. Мешают раздумья, бегут обгоняющие друг друга мысли, связанные с задачами, поставленными ему работой. Их две. Уберечь Максима от возможных происков способного на грязное дело врага. И вторая: найти заброшенного резидента, десятки лет таившегося под маской честного советского работника, но каждую минуту готового действовать по приказу хозяев. Является ли таким резидентом бывший гестаповец Лобуда, может быть укрывшийся под личиной Паршина? Есть и третья задача, которая может стать первой. Связаны ли два имени: Хэммет и Лобуда или, возможно, Хэммет и Паршин? Если поступит приказ хозяев, то Хэммету обязательно потребуется агент для связи с Максимом, если тот поддастся на шантаж или посулы. Но Максим — чистый, честный и порядочный человек, что уже известно. Не зря он, Гриднев, ездил в Туркмению, проследив всю линию жизни Максима Каринцева с детских лет, когда формируется и воспитывается характер. Только одно непросветленное пятно в этой жизни: отец. Где он жил и где доживает, кем стал и как умер, если скончался, никому не известно. Но, может быть, эту тайну купил или получил от своих хозяев Хэммет? Иначе чем же объяснить его настырную пляску вокруг Максима? Не каждый научный талант интересует чужого разведчика, а только тот, кого можно напугать иль купить. Максим не из тех, кто продается, но если отнять у него науку, как он поступит? И есть ли такая сила у Хэммета, чтобы эту науку отнять?
Прожурчал звонок: телефон у Гриднева звучал чуть-чуть приглушенно. Звонил Корецкий.
— Работаешь? — спросил он. — Не оторвал?
— Так, от раздумий. Есть новости?
— Никаких. Максим днюет и ночует в институте. Даже койку в кабинете оборудовал. В буфете всегда кто-нибудь из его мальчиков дежурит. Кофе всю ночь горячий. С Хэмметом пусто. Вчера засекли его встречу с Зоей Фрязиной. Почему-то днем, когда он еще на работу не выходил. Часа полтора просидели в кафе «Хрустальном» на Кутузовском вблизи его дома. Должно быть, у него ночевала. А потом он из посольства до ночи не вылезал. С Паршиным то же, что и вчера. До прихода на работу и до возвращения домой по дороге ни с кем не общался. Заходил в булочную и в гастроном. Постоял в очереди за сосисками. Домработницы у него нет, завтрак и ужин готовит себе сам. Ты что молчишь?
— Думаю. Не ошибаемся ли мы с Паршиным?
— Вполне возможно. Двадцать лет почти добровольного одиночного заключения — это своеобразный героизм навыворот. Без приятелей, без собутыльников, без женщин. Единственная дань одиночеству — выпивка без партнера. В гастрономе сегодня он три бутылки армянского коньяку купил. Или о нем забыли в хозяйском доме, или списали со счета. Или он — честный человек, только бирюк по характеру.
— Меня не образ жизни его смущает, — сказал Гриднев. — Затаишься, изменишься, баб бросишь, запьешь с тоски, если в любой судебной инстанции тебе высшая мера давным-давно обеспечена. А если мы ошибаемся, то что в этой жизни удивить может? Многие так живут. Нет, меня имечко смущает, Корецкий. Из пароля оно или не из пароля, случайно или преднамеренно? Не зря мне хотелось проверить: искомый ли этот Серафим или нет.
— Сегодня я пытался сделать это. Сначала искал только Паршиных Серафимов Петровичей. В девятимиллионном московском муравейнике их оказалось довольно много. Не десяток и не два, а поболе. Конечно, их можно проверить, потребуются только люди и время. А зачем? Ведь фамилию-то мы взяли с бухты-барахты, только потому, что абрис его фигуры и черты лица «чем-то» напоминают убийцу конюха. Но можем ли мы предъявить это обвинение главному бухгалтеру Института новых физических проблем?
— В этом институте, Корецкий, как в уравнении, слишком много неизвестных. — Гриднев сводил к формуле их задачу. — Неизвестен замысел Хэммета в связи с открытием Каринцева. Неизвестно, как будет он осуществлять этот замысел. Неизвестно поведение Максима в этой дуэли. Неизвестно, почему его карточка оказалась в кармане убитого конюха. Неизвестно, связано ли это убийство с личностью бывшего гестаповца Лобуды. Неизвестно, возродился ли он в облике институтского бухгалтера Паршина. И неизвестна заэкранная роль Паршина в институте.
— Может быть, Саблин проверит Юркого?
— Еще одна неизвестность, — резюмировал Гриднев. — Где Лобуда получил эту кличку? В одесской тюрьме, откуда его освободили румыны, или в осведомительном отделе гестапо, где не хотели демаскировать румынского полицая?
* * *
Саблин с утра поехал к себе на Петровку, 38. К Лиховцу он дошел не сразу. Помешали старые друзья-приятели, коллеги и сослуживцы: расспросы, приветствия, просьбы позвонить, приглашения.
— Почему пропал? — встретил его Лиховец. — Надо докладывать. Дело-то ведь и за нами числится.
— Сложное дело, товарищ майор, — опустил глаза Саблин. — Боком проходит по госбезопасности. Да и не я один им занимаюсь.
— А как работается с Александром Романовичем?
— С умным человеком и работать интересно, товарищ майор.
— Наслышан. Убийцу-то хоть нашли?
— Почти что, товарищ майор.
— «Почти что» не термин для прокураторы.
— В прокуратуру рано. Пока вот к вам пришел.
— Возвращаешься или докладываешь?
— Ни то, ни другое. Хочу узнать, кто у нас в курсе старых, довоенных дел?
— В архив иди. К твоему счастью, Кочергин еще не на пенсии.
Подполковник Кочергин помнил еще Шейнина. Помнил он не только старых криминалистов, но и их поднадзорных, помнил многие нашумевшие в прошлом «дела», громкие клички, уже исчезнувшие давние уголовные специальности. К нему и обратился, представившись, Саблин.
— Что вас интересует, товарищ капитан? — осведомился подполковник.
Саблин вкратце объяснил ему суть розыска, порученного ему в органах безопасности.
— Уголовник, может, и не крупный, потому что еще молодой, лет двадцати с небольшим, а может быть, и в «законе» с нажитой уже репутацией, потому что был отмечен одесским гестапо. Кличка «Юркий». Дана, возможно, в одесской тюрьме, где находился в заключении в начале войны, а быть может, и в других тюрьмах, ибо есть предположение, что одесская тюрьма далеко не первое его заключение. Есть и другое предположение, частично уже проверенное. В конце войны его забрасывает к нам гитлеровская разведка и для получения законного права жительства он под кличкой «Юркий» возвращается к своему уголовному прошлому, преднамеренно попадается на каком-нибудь незначительном преступлении, отбывает свой срок заключения в колонии и по выходе завязывает легально и надолго.
Так уточнил Саблин свое объяснение.
— Давно завязал? — спросил подполковник.
— Скажем, четверть века назад.
— Где?
— Предположительно в Москве или в Подмосковье. Но только предположительно.
— Крупных уголовников с такой кличкой я что-то не припоминаю. Но ваш случай, так сказать, уникальный и требует специального розыска. Думаю так, — Кочергин полузакрыл глаза, как бы пытаясь извлечь продолжение из своей многогранной памяти, — искать надо двумя путями. Или крупных уголовников, завязавших в конце пятидесятых годов в Москве или Подмосковье: если таких было несколько, он — в их числе. Или, допустим, другой путь: найти «крупнача» — а ваш ведь не из «мелочи» — под кличкой «Юркий», неожиданно появившегося в уголовном мире в конце войны или в первые послевоенные годы. Появиться он мог не только в Москве, но, возможно, и в Ленинграде или в другом крупном городе страны. Искать придется не только у нас, но и на Огарева, 6. Однако вы не беспокойтесь, я это сделаю. Давно у меня не было таких интересных заданий. Вы с кем связаны в органах?
— С полковником Гридневым.
— Вот так. Пусть он мне денька через два позвонит. Мне по этому розыску тоже звонить придется. И в Ленинград, и в Ростов, и Украину потревожить. Везде такие же памятливые старики есть.
* * *
Гриднев позвонил Кочергину через два дня. Кочергин доложил сразу же:
— Поручение органов безопасности, данное мне через находящегося в вашем распоряжении капитана милиции Саблина, выполнено, к сожалению, не полностью. Отсутствует фотодокументация. Излагаю. В пятьдесят первом году военкоматом города Верея Московской области был снят с учета демобилизованный из армии старшина Чернушин Н. В., кавалер медалей «За боевые заслуги» и «За оборону Одессы», тридцати четырех лет от роду. Вскоре, однако, личное дело Чернушина в военкомате было украдено вместе с двумя фотокарточками и, за отсутствием его в городе, не могло быть восстановлено. В пятьдесят втором году тот же Чернушин был задержан при попытке ограбления товарного вагона с медикаментами на станции Очаково Московско-Киевской железной дороги, был судим и приговорен к четырем годам заключения в исправительно-трудовой колонии обычного режима. Суд учел при этом участие подсудимого в Великой Отечественной войне и полученные им боевые награды. Однако у следствия были документы, позволявшие подозревать участие подсудимого в других преступлениях, в частности в ограблении брошенных квартир в Ленинграде в сорок восьмом году. Впрочем, суд не счел достаточными эти документы, и прокурор обвинения не поддержал. Н. В. Чернушин отбыл срок заключения в колонии, сокращенный ему до трех лет за хорошее поведение. По рекомендации же Управления уголовного розыска Московской области он был зачислен на штатную работу в райсовете города Руза, откуда через два года уволился, выехав в неизвестном направлении. У меня все, товарищ полковник.
— Простите, — остановил собеседника Гриднев, — а в судебном деле или в райсовете остались его фотокарточки?
Ответ Кочергина был столь же категоричен:
— Вынужден вас огорчить, товарищ полковник. Они аккуратно вырезаны и в той, и в другой документации. С чьей помощью — установить нельзя. Но кем и зачем — мы можем догадываться.
— Вы правы, товарищ подполковник, — подумав, ответил Гриднев. — У меня к вам только один вопрос: кем был зачислен в райсовет бывший подсудимый Чернушин?
— Бухгалтером.
— Кем? — закричал Гриднев. — Бухгалтером?
— Основы бухгалтерии, товарищ полковник, он изучил в колонии. Говорят, что, не отрываясь от своей основной работы, все выучил. Очень старался.
Когда Гриднев рассказал присутствовавшим Саблину и Корецкому о том, что поведал ему Кочергин, оба ахнули.
— Все! — закричал Корецкий. — Плевать нам на фотокарточки! И без них ясно, как Лобуда стал Чернушиным, а Чернушин превратился в Паршина. Юркого Кочергин не назвал, но разве важно, под какой кличкой Чернушин грабил квартиры эвакуированных в Ленинграде? Зато мы знаем фамилию, обеспечившую ему право жительства в Подмосковье. Нет доказательств, что именно он обернулся Паршиным? А выученная им бухгалтерия? Расчетливый предатель знал, что ему понадобится не слесарная мастерская, не медали, Александр Романович. Такого волка можно и сейчас заарканить.
— Рановато, Корецкий. Мы еще не знаем, как Чернушин стал Паршиным. Прокуратура не поддержит обвинения: бухгалтерия — не доказательство. Правда, следствие выяснит путь от Чернушина к Паршину, но задерживать его пока нельзя. Не включена еще вражеская разведовательная машина. Пока только наблюдение, Корецкий и Саблин. Подключите всю группу! Наблюдение систематическое и круглосуточное. Не проморгать!
Глава одиннадцатая
Максим Каринцев, освободившийся наконец от дел, радостно помчался в Дом моделей к Марине Цветковой. Здесь его знали и без вопросов пропустили в зал художников-модельеров.
— Явление первое: те же и Максим Каринцев, — отметила Марина без особого удивления. — Что означает сие вторжение без звонка и без оправданий? Целую неделю к тебе не могла дозвониться: сказали, что ты живешь в институте и не подходишь ни на какие звонки.
— Разве тебе не объяснили? Я же просил.
— Твои мальчики не очень внимательны. Хорошо, что я догадлива и не сошла с ума.
— Сегодня первый день свободы, — несколько смущенно пояснил Максим. — Начальный опыт удался. Общая радость.
— Водородную бомбу открыл?
— Кое-что другое. Будем радоваться вместе.
— Как?
— Поехали на бега. Хочу посмотреть на лошадок.
Марина нерешительно взглянула на лежащий перед ней карандашный набросок платья.
— У меня эскиз еще не закончен. Лучше порадуемся у меня дома. После бегов. В ресторане не задерживайся. Поужинаем вместе. Кстати, милиция два раза допрашивала меня о твоей карточке.
— Не понимаю. О какой карточке?
— Которую нашли в кармане убитого конюха.
Максим непонимающе заморгал глазами.
— Какого конюха? И почему убитого?
— Понятия не имею, — пожала плечами Марина. — Сначала меня допрашивал один следователь, потом приехал другой. И оба спрашивали об одном и том же. У какого-то конюха с бегов, кем-то убитого, почему-то нашли в кармане твою фотокарточку.
Максим понял:
— Должно быть, у Ефима, который программы мне размечал. Я ее и подарил ему вместе с четвертной с выигрыша. А где он убит? В конюшне?
— Не знаю.
— Лошадь убила?
— Нет, кажется. Судя по разговору со следователем, человек. Его-то и разыскивают.
— А тебя почему допрашивали?
— Потому что я с тобой знакома. Твоя ведь карточка.
— Все узнаю у Зойки. Она, конечно, в курсе, — сказал Максим.
* * *
На ипподром Максим прибыл уже в разгар состязаний. Оживление на трибунах достигло своего апогея, в холле центральной трибуны шла обычная суета, в ресторанном зале то и дело освобождались и занимались столики. На противоположном табло за кругом показывались уже немалые выдачи, в ложах и на открытых площадках толкались завсегдатаи. Максим приметил знакомые фигуры известных журналистов, художников, актеров. Зою он нашел в кассе.
— Давно не виделись, Максим, — обрадовалась она, — поспеши: немногие, но знающие разыгрывают шестую. Не упусти. Есть смысл рискнуть. Крупно играют.
— Кого?
— Лебядкина на Ласточке. Шанс есть.
— Пропущу. Меня вот что интересует. Что с Колосковым?
— Ничего. Похоронили.
— Я же ни черта не знаю. Что произошло?
— А что с людьми происходит, когда их убивают? Помер.
— На ипподроме убили?
— Нет. Где-то в лесу.
— За что? И кому это понадобилось?
— Не знаю. Милиция ищет. Мне твою карточку показывали, что у него в кармане нашли. Я назвала тебя. Не подвела?
— Не говори глупостей. Я ее сам ему подарил. Здесь кто-нибудь что-нибудь знает?
— Не информирована. Спроси у Плешина. Он свободен сегодня. Посмотри в членской.
Максим прошел по трибунам, заглянул в конюшни. Плешина он нашел в тренотделении. В это время Володька как раз привел Огонька с тренпробежки в конюшню.
— Я ничего не знаю, товарищи, — сказал Максим. — Когда я отсутствовал, к вам беда пришла. Ефима убили. Кто? Где?
— Ножом в спину. В лесу каком-то. А кто — неизвестно, — проговорил Володька. — Говорят, до сих пор ищут.
— Я со следователем встречался, — прибавил Плешин. — Человек умный, опытный, знающий. Он все о знакомствах Ефима спрашивал. А какие у того знакомства? Программки разметить или о лошадях поговорить. Я тут одно вспомнил, только, дурак, следователю не сказал. В последнее время Ефим боялся кого-то. Запираться стал на ночь. Двойной замок заказал. Я и внимания не обращал: чудит, мол, старик что-то. А он не раз, как зайдешь к нему вечером, вроде бы испуганно спрашивал: не ходил ли, мол, кто-то у двери или под окнами? Значит, был такой, кто мог на Ефима озлобиться.
Ничего больше от друзей Максим не узнал. Вернулся к Зое удрученный, почти с физической болью в сердце.
— Разметить программку? — предложила она.
— Зачем? Я лошадей лучше тебя знаю.
— Я с зоотехником советовалась, на кого он сегодня рассчитывает.
— Не буду играть. Расстроило меня это убийство. Бессмысленное и обидное. Такого мастера потерять!
— Найдут другого, — зевнула Зоя. — Погоди, не уходи. Почему пропадал так долго? Как успехи?
— Успехи есть, но не для информации.
— А для банкета?
Максим вздернул брови: рано еще о банкетах думать. И есть ли у него такое право на славословие в свою честь. Нечестно даже подумать об этом. Но ответил рассеянно и нехотя:
— Слишком много народу придет. Не банкет, а бал.
— А если просто суарэ интим? Для меня и Маринки.
— Для троих можно.
— Плюс Динни, — осторожная нотка просьбы озвучила реплику Зои.
Максим поморщился:
— Я почти не знаю Хэммета. Шапочное знакомство.
— Для меня близкое.
— Тогда где-нибудь в ресторане. Лучше за городом. И в обеденное время, когда народу поменьше. Скажем, в Архангельском. Организуй. Ты это умеешь. И не спеши. Дотяни хоть до воскресенья.
* * *
Максим и Марина ждали машину у Дома моделей. Зоя звонила, что они приедут с европейской точностью к четырнадцати ноль-ноль.
— Я не спросила ее, какая у них машина, — сказала Марина. — А если это будет машина Хэммета?
— Какая разница, — пожал плечами Максим, — поедем на той, какая прибудет. Два места в каждой современной машине найдутся.
— Я бы не поехала на твоем месте на посольской машине. Не боишься осложнений?
— Поехать на посольской машине еще не означает, что я продал Пентагону свое открытие.
— Но повод для сплетен бесспорный.
— А я плевал на все сплетни. Пусть сплетничают, если нравится…
Зоя с американцем приехали на такси. Хэммет вышел из машины, поздоровался и сказал не без намека:
— Я нарочно заказал такси, чтобы не стеснять вас машиной с дипломатическим номером. Зоя с водителем, а мы втроем потеснимся, потерпим. Как говорит русская поговорка, в тесноте, но не в обиде.
— Да не в обиде, — поправил Максим. — Речевая замена союза «но».
— Я до сих пор не знаю русской грамматики, — с извинительной ноткой произнес Хэммет.
Когда стояли на разворот, Зоя, обернувшись к сидевшим сзади, сказала:
— Едем в Архангельское. Столик уже заказан. Будет медвежатина, Кстати, предупреждаю: ни Максиму, ни Динни платить не придется. Динни гость, Максим герой дня, а мы с Мариной хозяева. Все решено, возражения не принимаются.
— Решено так решено, — усмехнулся Максим, — возражаю лишь против «героя дня». Термин неопределенный, незаслуженный и лишенный всякого смысла.
— Имеется в виду неоткровенная информация о неких успехах в физике.
— Поздравляю, — обаятельно улыбнулся Хэммет, протягивая руку.
— Нет, уж увольте, — отмахнулся Максим. — По физике у меня была тройка, даже до трех с плюсом не дотянулся. Поздравлять не с чем.
— Ну что ж, — подарил Хэммет собеседникам еще одну из своих улыбок, — поговорим тогда о дружбе народов. Место для застольной беседы уже совсем близко.
Он язвит или дурачится, подумал Максим. А впрочем, о чем же им говорить о Хэмметом? О международных событиях? Но у обоих, вероятно, совсем различная оценка этих событий. О науке? Едва ли такой разговор годится для ресторанной беседы. О литературе? Наверное, Хэммет опять будет восторгаться Достоевским и Чеховым, как он это уже сделал на их первой встрече на каком-то научном банкете. Причем оказалось, что Чехова он знает только по «Трем сестрам», а с прозой его, как он сам признался, «увы, незнаком». Зато он тотчас же упомянул Замятина и Булгакова, чем сразу привлек внимание своих русских собеседников. Нет, тут Максим повторяться не будет. Но ведь надо же говорить о чем-то с этим обрусевшим американцем. Стоп, Максим! Определение неточное. Хэммет американец не обрусевший, а просто хорошо говорящий по-русски, как дельно подготовленный советолог. Об этом он рассуждать не будет: специально выдрессирован для обаяния и привлечения русских сердец. Интересно, что же он напишет, вернувшись в Штаты, подумал Максим, уже направляясь вместе со спутниками через ресторанный зал на веранду, где их ожидал специально выбранный Зоей в тенистом уголке накрытый столик. Здесь было уютно, не по-ресторанному тихо: оркестр начинал свою работу только вечером.
Хэммет огляделся кругом — на кустовую поросль, на расходящиеся лесные лужайки, на оранжевый от солнца песок дорожек.
— Чудесные у вас окраины! — воскликнул он.
— Не все, — заметил Максим. — Вспомните фильм «С легким паром».
Посмеялись.
— У однообразия вашей архитектурной новизны есть свое оправдание, — сказал Хэммет. — Вы ухитрились освободить от ада коммунальных квартир, я не подсчитывал — сколько, но, вероятно, миллионы московских жителей. Я не поклонник вашего планового хозяйства, но оно дает вам возможность бросать любые суммы на самую нужную отрасль промышленности.
— Вы и при капиталистическом строе ухитряетесь делать то же самое, — не без лукавства откликнулся Максим. — На сколько миллиардов вы подняли свой годичный военный бюджет?
— Хватит политики, Максим, — поморщилась Марина.
— Ну, будем, как американцы, за обедом говорить о погоде.
— Вы ошибаетесь, Максим, — поправил Хэммет. — О погоде за столом обычно говорят англичане. Есть тысячи тем, мадемуазель Марина. Например, искусство. Ваше искусство. Живопись. Скажем, ваш любимый художник? Называем только мировые имена.
— Начнем с вашего, Дин.
— Дали.
— Я бы назвала Врубеля. Но это, пожалуй, слишком уж старомодно. Сальватор Дали мне тоже нравится. Сознательное сочетание реального с ирреальным.
А что мне сказать, думал Максим. О чем же говорить? О работе, о жизни. О событиях вокруг него. Волнует, по-настоящему волнует, например, убийство мудрого старика-лошадника. Кого он обидел и кому помешал? Но об этом не хочет говорить даже Зоя. Тем более Марина и Хэммет, его не знавшие. А их волнует болтология под медвежатину.
— О чем задумались, Максим? — спросил Хэммет. — О своих научных исканиях?
— Я ничего не ищу, Дин. Все уже найдено.
— А выгодно это или невыгодно?
— Кому, Дин?
— Государству.
— Вы прагматик, Дин.
— Не возражаю. Вы учились у Ленина, а я у Дьюи. Был такой, может быть, знакомый вам американский философ.
— И чему же вы у него научились, Дин? Отвергать классовое строение общества и противопоставлять теории практику в американо-барышническом ее понимании?
— Не ссорьтесь, джентльмены. Не надо, — осторожно вмешалась Зоя.
— А мы и не ссоримся, — подхватил Хэммет. — Мы просто по-дружески обмениваемся философскими посылками. Дружба не противоречит разнице вероисповеданий.
— Я не религиозен, — усмехнулся Максим.
— А в церковь заходишь, — задела его Марина. — Все действующие церкви Москвы на машине объехал.
— Потому и захожу, Маринка, что хочу увидеть внутри не склад строительной тары, а памятник древнерусского быта. Только в нашей православной церкви он и сохранился. А на него иногда любопытно взглянуть.
— А я люблю церковь как художник, — сказала Марина. — И церковь преимущественно древней постройки. Ведь Василий Блаженный или кремлевские храмы потрясают именно своим внешним архитектурным обликом. А что внутри — музей или склад, или пусть даже сам патриарх служит, — уже не имеет значения. Мне важна просто архитектура, с бытом или без быта, все равно.
Хэммет молчал, ожидая паузы, чтобы вмешаться: новая тема его почему-то радовала. Спорить с Мариной никто и не собирался, и очереди своей он не упустил.
— Меня, как иностранца и квакера, в русской церкви интересует все: и архитектура и обрядность религии. Я уже не раз бывал в церкви, но только в Москве. В Загорске же, вашем религиозном центре, никогда не был и, представьте себе, не решаюсь поехать туда один. Мне нужен знающий спутник.
— Напишите в патриархию и попросите гида, — предложил Максим. — У них есть же отдел внешних сношений.
— Мне нужен не церковник, а образованный русский интеллигент. Как вы, например. Умоляю! Подарите мне часа полтора в Загорске.
Максим не отказался. Идея прогулки в Загорск ему нравилась, любил он бывать в этом старом русском городе, славном своей историей.
Глава двенадцатая
Паршин подсчитал на калькуляторе суммы, которые будут затрачены на плановую разработку опытов Максима Каринцева в течение года, записал итог на листке из блокнота и положил его в потайной карман на пиджачной подкладке. Все делалось аккуратно, с расчетом и — пока без страха. Потом так же педантично скрепил все памятные записки, прибрал на столе, запер в сейф платежные ведомости и подождал минуту, пока не раздался звонок, извещающий об окончании работы. Так поступал Паршин все двадцать лет, просиженные в кабинете с эмалированной дощечкой с надписью «Главный бухгалтер».
Домой он пошел один, ни с кем не задерживаясь и никому не сказав до свидания. Старые работники привыкли к этому издавна, а новым объясняли, что главный бухгалтер молчалив, строг, неулыбчив и что такова уж манера его общения с сослуживцами, а точнее, что никакого общения нет, кроме обязательного по службе. Начальство его уважало, ценило и не стремилось к его духовному приобщению. Зачем? Ведь на него никогда и ни от кого не поступало ни одной жалобы.
По дороге домой он тоже ни к кому не обращался, разговаривал только с кассиршами и продавцами, когда покупал что-нибудь, а покупал он немного — что понадобится к завтраку или к ужину. Исключение делалось только для коньяка: он выпивал полбутылки в день, давно привык к этому и почти не пьянел, только туманилась голова, отодвигались тайные помыслы и тревоги. А они возникали, потому что у него кроме бухгалтерии было и другое занятие. Каждый вечер, в определенный час он включал приемник и ловил не Би-би-си и не «Голос Америки», а одну известную только ему волну, чтобы услышать и расшифровать задание. А заданий не поступало. Двадцать лет приемник молчал, потому что других волн, в том числе и советских, привычных и надоевших на службе, Паршин не слушал, предпочитая для развлечения старенький телевизор «Рекорд». И все-таки давно ожидаемое задание наконец поступило, но не по забитому радиоволнами эфиру, а по обычному городскому телефону, для которого тоже был свой пароль.
Итак, пароль был сказан и задание получено: ждать. До четверга на будущей неделе, когда ученый совет института утвердит плановую разработку темы физика Каринцева. Если утвердит, зайти в первый же телефон-автомат и в названный час позвонить по номеру в Дом литераторов и попросить к телефону некоего иностранного дипломата, находящегося поблизости. В самом деле, кто станет прослушивать телефон администратора Дома литераторов? Никто, бессмысленно это. А стало быть, тому дипломату опасности нет. И ему, Паршину, тоже. Если не утвердит совет тему, не звонить и снова ждать безответно. А по утверждении регулярно сообщать о ходе работ группы Каринцева по указанным впоследствии телефонам и адресам. Личной связи с говорившим не поддерживать и не добиваться. Надо будет — она состоится.
С тех пор в сердце Паршина проник нестерпимый и неутихающий страх. Потребовалось уже не полбутылки, а побольше, чтобы заглушить его мутным, дурманящим опьянением. До сего времени он не вспоминал своего прошлого — с бабами, картами, самогоном и кровью расстрелянных. Привык жить один, безлюдно и безмолвно. Было время, с отчаянной осторожностью приводил к себе случайных женщин, стараясь при этом не попадаться никому на глаза. А сейчас и от этого отвык. Так и жил, как было приказано давним и чужим, а не институтским начальством. Жил без риска, потому что прошлое было отлично замаскировано, а если и пришлось однажды рискнуть — заставила все-таки судьба злодейка, — так все обошлось без опасных свидетелей.
Но страх пришел в ту минуту, когда он заметил одну и ту же следовавшую рядом с его автобусом «Волгу». Он даже номер ее запомнил: 45–64. Она то обгоняла автобус, по опять почему-то оказывалась рядом, соблюдая какую-то закономерность в подражании его маршруту. Когда он заметил ее по выходе из гастронома, почему-то решил: за ним следят. Почему? Он не мог понять. Кроме телефонного звонка к нему домой и его ответа из автоматной будки, когда за ним никто не следил и никто не подслушивал, в жизни его не произошло никаких перемен. И все же появилась зловещая «Волга». Быть может, придумал он себе слежку, а «Волга» — случайная, не имевшая никакого отношения к страшившему его ведомству. Так думал он, старался думать, а страх рождал новые подозрения. Он замечал и другие автомобильные номера. Казалось, за ним следили настойчиво и обдуманно, не пропуская ни одного его передвижения по городу. Он тщетно ломал голову: что подметили, до чего докопались? В своем давнем прошлом был уверен: оно забаррикадировано от всех подозрений. Если засвечен его недавний риск, непонятно — почему его не задерживают, не обыскивают, не обвиняют? Он стал запоминать и стоящие у тротуара «Волги», подозревая каждую в слежке, даже не взглянув на номер. В конце концов притерпелся: что ж поделаешь? Бежать некуда — найдут. Рассказать при следующем парольном звонке — бросят на произвол судьбы. Так бывало, он знает. А потом, где гарантия, что «Волги» эти треклятые — не бред параноидальный, рожденный манией преследования? И хотя не считал себя сумасшедшим, а все ж мыслишка эта успокаивала. Хихикал за коньячком: совсем спятил, Паршин…
И вот прозвучал наконец этот звонок. Пароль и отзыв названы. Надо молчать и слушать.
— В семь вечера возьмите свою машину — она у вас есть, хотя вы ее и прячете, — и следуйте по Минскому шоссе вплоть до Кунцева. Недалеко от Кунцева вас нагонят и некоторое время поедут рядом. Не старайтесь разъехаться или обогнать спутника. Ждите его действий. Все. — И повесили трубку.
Была суббота. Паршин сидел дома, на стенных часах пробило шесть. Пора! Пока он дойдет до стоянки своей машины, пока доберется до Минского шоссе… Самое время выходить, не задерживаясь.
Машину он взял, даже не посмотрев, следует ли за ним очередная «Волга». Десятки следуют, не подозревать же их все. Да если и следует, что с того? Захотел прокатиться главный бухгалтер, вот и все! Шоссе набегало летящими навстречу огнями, дорожными указателями, силуэтами высотных домов, светящимися витринами. Наконец он почувствовал, что его «догнали». Именно почувствовал, потому что догоняющих машин было много, догоняли и уходили, а эта осталась рядом, как приросла. Ни водителя, ни человека, сидящего рядом, он даже не разглядел, только услышал довольно отчетливо через открытое окно:
— Не дергайтесь. Держитесь вплотную. Слушайте. Постарайтесь проникнуть в лабораторию Каринцева. Повод у вас есть. Вы главный бухгалтер, один из руководящих работников института. Имеете право. Походите, посмотрите, послушайте. Спросите, как идут дела, даже если вас нелюбезно встретят. Вы хозяин: ведь разработка-то плановая. А посмотрев и выслушав все, что удастся, перескажете нам. Вам позвонят через неделю и назначат место встречи. Ничего не записывайте, мне нужно только ваше мнение о ходе работ группы Каринцева. Есть ли движение вперед и есть ли у группы надежда на это? А сейчас мы уйдем далее по шоссе, а вы отправляйтесь обратно на первом же повороте.
Паршин так и сделал, пропустив вперед не «Кадиллак» и не «Бьюик», а желто-серую, похожую на такси «Волгу». Заметив только, что у говорившего с ним очки пол-лица закрывали. У первого светофора повернул назад и поехал домой.
* * *
— А я вчера засек Хэммета вместе с Паршиным в девятнадцать пятнадцать на Минском шоссе, — сказал Гриднев зашедшему в его кабинет Корецкому.
Тот обомлел:
— Каким образом? Лейтенант Ермоленко вчера следовал за Паршиным до Кунцева, где оба и повернули обратно. Ермоленко утверждает, что Паршин нигде не останавливался и не выходил. Кстати, заметьте: имеет собственный «жигуленок», а ездит на работу в метро и на автобусе. Может быть, вы ошибаетесь, Александр Романович? Не мог Хэммет встретиться с Паршиным. За Хэмметом наблюдал капитан Хомутов. Я еще не говорил с ним, но…
— И не говорите. Ошибаетесь вы. Я снял с наблюдения Хомутова. Увидел его на улице Чайковского. Смотрю, наша машина. Догнал, спросил капитана через окошко, кого это он преследует. Он говорит: Хэммета. Едет впереди на «Волге» с дипломатическим номером. Ну, я и отпустил его, сказал, что прослежу сам. Догнал американца у поворота на Калининский, пристроился с той же скоростью метрах в сорока сзади, ехал так почти до Кунцева, пока не заметил, что он притормаживает, пристраиваясь к соседней машине, идущей рядом. Ясно, что эта встреча преднамеренная и краткая — для какой-то информации. Меня сразу же заинтересовало: кому? Я обошел их с другой стороны и разглядел за рулем Паршина. Тут же сообразил, что встреча непродолжительная, видимо, инструктивная и явно рассчитанная на то, что ее не заметят. Так и оказалось. Ермоленко не обратил внимания и проследовал за Паршиным до его дома. Похоже, он и меня не углядел. Так он тебе и доложил, — перешел Гриднев на неофициальное «ты». — «Никуда не заезжал, ни с кем не встречался». Но распекать его не надо. То, что заметил я, Ермоленко заметить не мог. Он не видел Хэммета.
— А ты понимаешь, что значит твоя удача? — спросил Корецкий. — Чемпионский шахматный ход.
— Не преувеличивай, — сказал Гриднев.
Однако задумался. Действительно ли это только случайность? Нет, конечно. Был и расчет. С той минуты, когда он узнал от Хомутова, что тот преследует Хэммета. Был расчет и тогда, когда он увидел две будто слипшиеся друг с другом машины. Без расчета он не смог бы опознать Паршина. Но был ли это расчет победителя? Решил ли он хотя бы одну из стоящих перед ними проблем? Нет, пожалуй… Так он и ответил Корецкому.
— Решил, — упрямо настаивал тот. — И главную. Паршин — связной Хэммета. Разве это не шаг к победе?
— Шажок. Паршин связной Хэммета. А что дальше? Будем следить за Паршиным. А мы и так следим. Ничего умнее нам и не остается. Но есть же и другие проблемы. Разве доказано, что Лобуда — это Паршин? И разве доказано, что Паршин — убийца Колоскова? Многое еще нужно доказать, майор. И доказательств пока не вижу.
— Мы еще не до конца использовали Саблина, — сказал Корецкий.
— Что верно, то верно. Дело об убийстве конюха недопустимо закисло.
— А если мы докажем, что Паршин убийца, а следовательно, и то, что Лобуда — это Паршин, будем ли мы спешить с арестом? Молчишь? То-то и оно! Если уж ты шахматными терминами заговорил, то в партии Хэммета есть две фигуры: Максим и Паршин. И обе нам нужны.
«В одном Корецкий, пожалуй, прав, — думал Гриднев, — мы не станем спешить с арестом Паршина, даже если тайна убийства Колоскова будет раскрыта. Нам нужно разоблачить Хэммета и спасти Максима, если только его можно спасти. Но нам важно и разоблачить немецко-фашистского агента с фамилией Лобуда. Только „связной Хэммета“ — это старческие слезы в суде и несколько лет в колонии строгого режима, а если он к тому же и Лобуда, то у него нет права на жизнь. Подождем с арестом, но тайну убийства конюха все же откроем. Пошлем-ка Саблина к соседям Паршина по этажу. Он в однокомнатной квартире живет. Корецкий говорит: там целый этаж однокомнатных. Есть у кого поспрашивать о молчаливом соседе».
Глава тринадцатая
Саблин обошел двенадцать квартир — одна против другой по всему этажу. В каждой спрашивал, кто из живущих здесь воевал, где воевал, как войну закончил. Мало кто назвал Паршина, но знали его все, и общая характеристика была почти одинакова. Разными словами в каждой квартире сказали в общем одно: неприятный человек, неразговорчивый, недружелюбный, угрюмый, невежливый, даже заносчивый.
— Почему заносчивый? — спросил Саблин домохозяйку Серову.
— Я недавно здесь живу, из Гранатного переехала. Ну и выбрали меня старшей по этажу. К маю решили мы сообща в складчину паркет в коридоре и на площадке натереть. Подсчитали — работа, мастика, воск — меньше рубля на квартиру приходится. Пошла я к нему. Позвонила. Открыл. А дверь на цепочку замкнута. С вас, говорю ему в щель, семьдесят пять копеек причитается, пол в коридоре натереть. Он помолчал, скривился, ушел в комнату, а дверь закрыл, будто я воровка какая. А потом сунул мне через цепочку рублевку мятую с присловием: сдачи не надо! Поутру в лифте встретились, так даже здрасте не сказал, как пень лесной промолчал.
В шестьдесят четвертой квартире в том же коридоре Саблина ожидала находка. Именно так и можно назвать информацию, которую он получил у хозяйки дома, медицинской сестры Меркурьевой.
— Меня не интересует ни личность Паршина, ни его поведение, — сказала она — Но один эпизод, имеющий или не имеющий к нему отношения, мне хочется вспомнить. Тем более что случилось это только вчера вечером, когда его не было дома. Позвонил ко мне один задрипанный старичок — не старичок, но и не моложавый, этак лет на пятьдесят с гаком. Одежонка измятая, сапоги стоптанные, физиономия небритая, седой. Чернушина, говорит, мне позови. Нет у нас, отвечаю, никакого Чернушина. Проспись, говорю, и по чужим квартирам не шастай. А мне, говорит, этот адрес дали, и никаких, мол, гвоздей. Из Ростова я, и он это знает. Ну, сами понимаете, — это я уже вам рассказываю, — меня любопытство остановило дверь перед ним захлопнуть. А какой из себя этот Чернушин, спрашиваю. Повыше меня на голову, говорит, да поширше в плечах, прибавь к моим четверть метра. Да скуластый он и глазки махонькие. Не Паршин ли, спрашиваю: что-то в описании похожее есть. Нет, говорит, Чернушин. А Чернушина я не знаю. Он и ушел. Сказал: опять на вокзале ночевать. Не знаю уж, зачем вам все это рассказываю, товарищ капитан, просто вспомнилось.
Саблин знал, что в их деле бывают такие случайности, которые иной раз все решают, с головы на ноги ставят. И наоборот. У всех в жизни они бывают. Только не замечаешь их. Прошла бы и Меркурьева, если б не заглянул к ней Саблин… Нет, ничего и никого упускать нельзя, коли розыск ведешь, любой человек может неожиданно стать если и не главным свидетелем, то таким, кто следствие к истине подтолкнет, сам того не ведая…
* * *
— Если мы найдем этого визитера, — сказал Корецкий, — то откроется еще одна тайна Паршина Вот и рассудите. Вы, товарищ полковник, случайно засекли встречу Хэммета с Паршиным, заранее обусловленную их договоренностью. Ваша случайность тоже была заранее обусловлена предварительной встречей с капитаном Хомутовым. Открытие Саблина в квартире Меркурьевой обусловлено его служебным заданием. А визит бродяги к Меркурьевой обусловлен его осведомленностью в личности Паршина и откровенными поисками ночлега. Жизнь, дорогой мой начальник, — это цепь случайностей, обусловленных закономерностями. Диалектика — великая сила…
— Оговорим еще одну закономерность, дорогой философ, — решил Гриднев, подумав. — Поезжайте к ночи на поиски ростовского гостя Меркурьевой. В Ростов можно попасть по-разному. Выбирайте любой маршрут, начиная с Казанского. Ну, и Курский, конечно, и Киевский, и Павелецкий…
Корецкий и Саблин решили начать с Казанского вокзала.
— Товарищ полковник слишком уверен, — задумчиво сказал Саблин. — Лично я сомневаюсь. Обнищавший вор мог найти крышу и в городе.
— Мог и уехать, — поддержал Корецкий, тоже не очень верящий в счастливый исход поисков.
Всю ночь проездили зря. Облазили все вокзалы, в том числе и те, на которые из Ростова не попадешь, обошли все пассажирские залы ожидания, но ростовчанина, описанного Меркурьевой, так и не нашли. Несколько раз — с помощью дежурных милиционеров — проверяли документы у каких-то, казалось, подходящих людей, но все это были пассажиры, где-то работавшие и действительно ожидавшие поезда. Не вспомнили об искомом бродяге и в камерах хранения, и в отделениях железнодорожной милиции.
— Куда теперь?
— На Петровку, 38. Там уже рабочий день начался. Попробуем найти его крышу в Москве, — вздохнул Саблин.
В Управлении уголовного розыска нашли майора Лиховца. Саблин представил Корецкого и объяснил суть дела.
— Не можете без нас, мастера-начальники, — засмеялся Лиховец. — Включимся и мы. Поможем. Откуда он, говорите? Из Ростова. Ну что ж, позвоним ростовским коллегам. — Взял трубку, дозвонился. — Майор Лиховец у телефона. МУР. С кем говорю?
Ростовский дежурный назвал себя.
— Вот и отлично. Будем знакомы. У вас тут сбежал один мужичок с ноготок. Давний и потертый. — Майор в точности повторил подсказанное ему описание. — В таком виде по улицам ходит. Крышу ищет.
— Похоже, Шитиков. Только позавчера сбежал из-под стражи. Мы ориентировку посылали. Возьмете — к нам перешлите. Грешки у него немалые.
— С кем он в Москве связан?
— Есть у вас наши, ростовские. Братья Сорины, Александр и Виктор. И дамочка есть, тоже ростовчанка, по паспорту Захаркина, по кличке «Цыганка». Поищите у нее: она за трешницу в день у нас когда-то угол сдавала. Говорят, завязали все трое, как будто работают. Во всяком случае, не слыхать о них.
В информационном центре разыскали адреса ростовчан. Сорины работали грузчиками на станции Очаково, там же и проживали. К Захаркиной надо было ехать через весь город. Она работала дворником в Тушино.
Начали с Сориных. Заехали в отделение милиции, где их ждал заранее предупрежденный оперуполномоченный. Он и повел их к братьям, рассказывая по дороге:
— Знаю их, как же. Мои подопечные. Да только, товарищи, они и вправду в завязке. Никаких сигналов. Вот только пьют, как лошади…
Жили братья в одной комнате, которую им сдавала вдовая старуха весовщица со станции. Она-то и открыла двери, вежливо поздоровалась с оперуполномоченным.
— Спят они. Назюзюкались и дрыхнут… — сказано это было явно неодобрительно… Видно, надоели братишки даже терпеливой хозяйке.
Будить Сориных было нелегко: спали пьяные, даже не раздеваясь. Разбудили только старшего, Виктора. Младший так и не проснулся.
— По шестьсот граммов вчера приняли, извините. Работка была тяжелая: мебель в контейнерах прямо с фабрики целый день на путях грузили. Чем провинились? С милицией у нас полный ажур.
— Не ночевал ли у вас некий Шитиков? — спросил Саблин.
— Приходил старый дятел. Не пустили. Сами на птичьих правах живем. К Захаркиной поезжайте. Ей легче своих приголубить: постоянная прописка у нее, как у дворничихи.
Поехали к Цыганке. Несмотря на то что время было дневное, дворничиха тоже спала.
— Везет нам, — удивился Корецкий.
— Здесь профессиональное, — заступился за неведомую Цыганку Саблин. — Встает посередь ночи, метлой намашется, вот и отдыхает…
Разбудить ее с помощью дверного звонка не сумели. Пришлось долбить в дверь ногами, пока ее не открыла толстая сонная женщина, ничем, впрочем, цыганку не напоминающая.
— Чего надо?
Вопрос был явно бессмысленным, потому что видела она перед собой двух знакомых работников милиции, своих, так сказать, районных, один из которых к тому же не раз и не два штрафовал ее за излишнюю «доброту». А тут еще двое с ними, в штатском. Раз такой кворум, то, значит, не за ней пришли, слабой женщиной…
Так она рассудила про себя и без всякой волокиты спросила:
— Небось Серый нужен?
— Он, Шитиков, — подтвердил Корецкий.
— Никакого Шитикова не знаю, а Серый здесь. Водочки выпил и кочумает. Берите его, товарищи власть, устал он от вас бегать.
Похоже, Шитиков и вправду устал бегать от милиции. В оперативке значилось, что проходил он в Ростове по мелкому делу о трамвайной краже, украл чего-то по мелочи — стар стал, руки не те. И светило-то ему всего-ничего, да и привык он к колонии: там все же кормят три раза в день, спишь под одеялом. А ведь сбежал почему-то, умудрился…
Разбудили его, он и не сопротивлялся. Даже умиротворение некое на лице означилось: мол, конец моим мытарствам, отдохну, как человек. Пока на Петровку ехали — спал. А приехали, попросил Саблина:
— Вы меня, граждане начальники, сейчас допросите.
— Это можно, — согласился Саблин. — Только что вас допрашивать? Мы вас в Ростов этапируем, там и допросят, если надо будет. А мы вас о другом поспрошаем, коли не против.
— Это я-то? — возмутился Шитиков. — Да я с дорогой душой, Все скажу. Я ведь чего сбежал? По привычке. У них там в уборной решетка на окне оторвалась. Думаю, как не убечь? Ну и убег…
— По привычке и срок себе увеличили.
— Да что мне срок? Мне он в радость, срок этот. Шестьдесят восемь мне стукнуло, стар, как пень трухлявый. На что жить на воле? Пенсию вы мне платить не станете, не выслужил. Работать идти некуда, разве — сторожем ночным, да кто же меня с мильеном судимостей охранять социмущество взять вздумает. Идиетов нету. Так в колонии и дотяну. При кухне.
— А к Чернушину зачем шли?
— К Юркому? Думал, переночевать пустит.
— Вы его откуда знаете?
— Да-авно-о знаю, еще когда он в Одессе полицаями командовал. Только звали его тогда по-другому: Лобуда. А я ни нашим, ни румынам не служил, вором был, вором и в немецкую Одессу приехал, когда в ней еще румыны правили. Тут меня Колосков и взял — нынешний беговой конюх, а в те времена полицай у губернатора Алексяну. Ну, посадили меня, когда я комиссионный магазин очищал. Румыны тоже сажали за воровство, только Лобуда, присмотревшись ко мне, своей властью меня на свободу выпустил. «Не трусь, воряга, — сказал он мне, — румынам ты служить не будешь, в гестапо тебя не возьмут: мелковат. А я тебя и от высылки в Германию освобожу, и от тюряги. Мне служить будешь, если свое воровское мастерство не забыл».
— Ну и как служилось? — спросил Корецкий.
— Профессионально. Замки вскрывал, ключи от сейфов собственноручно подтачивал, обкрадывал те квартиры, которые официально нельзя было обчистить. Обокрал, например, полицмейстера Георгиану, когда он с женой в ресторане пировал, а горничная меня в дом впустила. Ну, я ее для вида так веревками обкрутил, что, как говорится, ни вздохнуть, ни охнуть. Вот и вынес все бриллианты, которые Георгиану у одесских ювелиров без отдачи занял, — серьги, брошки, запонки, портсигары. Все это горничной-стерве с ее любовником Лобудой досталось, ну а мне премия в марках, тоже не мелочь в те времена. Так и жилось мне, пока Лобуда не исчез из Одессы. Румыны с немцами на запад драпанули. Что же мне оставалось? В освобожденных городах нашим мастерам тоже неплохо жилось. Конечно, чуть что и — расстрел. Но опытные хлопчики на армию не жаловались: героев-бойцов обмануть куда легче, чем профессиональных ментов. Когда в Одессе они появились, перекочевал в Ростов, места привычные. Ну и налетел на Лобуду. Об этом забудь, сказал он мне, теперь иначе зовусь, запомни: Чернушин Серафим Петрович. Возьму, сказал, тебя в свою банду. Воровское мастерство твое помню. Думаю, пригодишься: замок вскрыть сумеешь. Раз сумел, два сумел, а в третий раз в колонию упекли на десять лет. Отсидел полсрока — бежал. Еще посадили. Пятнадцать вышло с отсиженными, только двух лет не досидел — амнистировали. Вернулся к родной профессии. Обжился, состарился, прошло время, о Чернушине ни слуху ни духу…
— Кто ж помог отыскать? — спросил Саблин, с интересом слушая рассказ о безжалостно растраченной жизни.
— Колосков.
Вот и все, подумал Корецкий. Отыскался след Тарасов. Что найдено в Одессе, подтверждено в Армении, а итог подведен в Москве. Линия Лобуда — Чернушин — Паршин скреплена по всем разрывам. Только нужно еще прояснить убийство конюха.
Первым сделал это Саблин.
— А как Колосков узнал о Чернушине?
— Так он узнал об этом еще в одесской тюряге, когда Лобуду вместе с ним замели, как бывшего полицая. Сам Колосков потом мне об этом рассказывал. Встретил, мол, его на тюремной прогулке, а он мне шепотом: сбегу я отсюда, Ефим. А на воле, говорит, может, и встретимся. Нашел, спрашиваю я Ефима. Не искал, говорит, а встретился тут же, в конюшне: разметить программу пришел, как артист вырядился, и папиросы «Герцеговина флор» курит. В то время такие папиросы все ответственные курили.
— Тогда же он и адрес сказал? — спросил Саблин.
— Не-ет, — протянул Шитиков. — Не тот человек Чернушин, чтобы душу открывать. Произошло это много лет спустя, совсем недавно, когда я снова в Москву приехал. Денег — ни копья. Куда идти подкормиться? В беговой ресторан к Ефиму. Смотрю, он грустный, как ива плакучая. Отчего, почему? Хочу, говорит, повиниться перед Советской властью. Обманул я ее на суде, не признался, что связан был с гестапо. Скрыл и мучаюсь от тоски, даже горло схватывает. Так и Чернушину, говорит, сказал, когда тот опять на бега приехал программку разметить. Позавчера это было. Ну и дал он мне свой адресок, чтоб по душам свободно поговорить. Только я решил твердо: пойти пойду, а от него в милицию. А какой адресок, спрашиваю Ефима. Он мне назвал и улицу, и дом, а номер квартиры я позабыл. Позвонил в крайнюю. Открыла мне тетка злющая и говорит, что ни в одной квартире по этажу никакого Чернушина нет. А где Чернушин, мне и сто лет неизвестно.
Протокол допроса перепечатали в двух экземплярах, дали подписать оба Шитикову, а майору Лиховцу Корецкий сказал:
— Этот мужичок с ноготок нужен нам как главный свидетель, потому и задержите его отправку в Ростов. Мое начальство сегодня же все согласует с вашим…
* * *
Гриднев с каменным лицом три раза прочитал протокол допроса Шитикова, только руки его чуть-чуть дрожали. Корецкий и Саблин молча ждали.
— Спасибо, ребята, за самую важную, пожалуй, находку. Образцовая работа. Обоим — Знак качества. Теперь о деле. Первая часть его уже решена полностью. Паршин — предатель, Паршин — бандит в прошлом и убийца в настоящем уже — ясней ясного. Есть и доказательства, документальные и свидетельские. Можно взять его сразу, и высшая мера ему обеспечена. Но придется подождать: он еще не сыграл последней роли — связного у разведчика ЦРУ. Роль не главная, но существенная для нас. Она раскрывает игру Хэммета и его хозяев.
— А Колосков, умирая, даже не знал, что его убивает не Чернушин, а Паршин, — сказал Саблин.
— Колосков не знал, что он умирает, — поправил Гриднев. — Он просто умер без страха и боли. Паршин ударил ножом, как учили в гестаповских тренингах. А вы, друзья, сейчас твердо запомните: дело еще только подходит к завершению. Не оступитесь. Осталось, думаю, всего несколько суток, но каждые сутки — это тысяча четыреста сорок минут. И ни одной минуты не должно быть потеряно.
Глава четырнадцатая
— Алло, Максим! Это Динни. Третий раз напоминаю вам о Загорске. Этим вы поможете Америке узнать что-то, что пока известно немногим.
«Господи, как он мне надоел со своей квакерской дурью! — подумал Каринцев. — Хочет сравнить патриаршество, уходящее корнями в четвертый век, с протестантской сектой, когда-то эмигрировавшей из Англии. Не мне хвастаться православием или осуждать его, когда я верю только в науку. Но нельзя же отказываться в третий раз от однажды данного обещания…»
И Максим ответил:
— Ладно, Дин. Раз обещал — едем. Заезжайте за мной завтра на своей машине часов эдак в одиннадцать. Я не боюсь дипломатических номеров, — тут он не преминул вспомнить недавнюю «подколку» Хэммета.
Хэммет приехал ровно в одиннадцать, мягко притормозил у тротуара, где его уже ждал Максим, перегнувшись через сиденье, распахнул перед ним дверцу:
— Я вам сверхпризнателен за ваше согласие, Макс. («Для него я уже Макс», — мысленно отметил Максим.) Вам очень не нужно было обижать отказом Америку! — сопроводил он улыбку приветствием-упреком.
— «Очень не нужно» по-русски не говорят. «Не нужно» — это предикат — понятие, определяющее предмет суждения. В приставке «очень» оно не нуждается.
— Я готов учиться у вас русскому языку.
— Но я не готов быть учителем, Дин. Очень занят физикой. Кстати, вот тут слово «очень» вполне уместно.
— О, я понимаю вас, хорошо понимаю, Макс. И как успехи, если не секрет?
— Секрет, Дин.
Хэммет даже за рулем не снимал прежней улыбки: keep smiling — верное кредо американского «самоделателя» — «selfmademan».
— А что-нибудь не секретное, доступное читателям американской газеты, могли бы сказать? Ну, какой-нибудь ясный всем закономерный процесс…
Максим, вспомнив что-то, тоже подержал улыбку вместе с ответом.
— Ясный всем? Тогда зачем же это печатать? Пожалуйста, если настаиваете. Скажем, имеется определенная зависимость между интенсивностью вспышки и всеми параметрами электрической реакции. Устраивает?
Хэммет снял улыбку, поджал тонкие губы и, не глядя на сидящего рядом Максима, сказал в стекло:
— Не считайте американских читателей идиотами, Макс. Не хотите говорить о своей работе — закроем тему. Я не шпион.
И замолчал. Молчание это продолжалось почти полдороги до Загорска. Максим насвистывал, Хэммет гнал с повышенной скоростью, стрелка спидометра дрожала у деления 110. Наконец Максиму это надоело.
— Не глупите, Хэммет. Не вкладывайте ваше плохое настроение в скорость автомашины. Инспектор ГАИ не пощадит дипломата.
— Не обижайтесь и вы, Макс. Я ведь мог оказаться невеждой и послать ваш школьный постулат, скажем, в «Вашингтон пост».
— И американским газетчикам он мог показаться открытием.
— Наши газетчики, Макс, обычно кончают высшую школу.
— Не будем спорить, Дин, о разумности вашей газетной пропаганды. Сделаем то, что вы уже предложили. Закроем тему.
Закрыли. Обменивались репликами о людях, знакомых обоим, о виденных в последнее время фильмах, о привычках русских и американцев, о дорожной автоинспекции. Хэммет хвалил московскую и ругал нью-йоркскую, хотя от московской он имел гораздо больше неприятностей из-за своих нью-йоркских автопривычек. Поговорили и о лошадях, что сразу растопило ледок, накопившийся меж ними во время поездки. Хэммет оказался знатоком, помнившим всех мировых послевоенных дербистов, и не путал стипльчеза с выводкой, а скачки с рысью. У Максима тоже оказалось, что вспомнить. И вдруг он заговорил об убийстве Колоскова. Не знал, почему ему захотелось сказать об этом Хэммету, — просто сказалось и все. О том, что нелепо погиб старик. Непонятно, загадочно.
Хэммет почему-то удивленно спросил:
— Откуда вы знаете?
— Марина сказала, а ей — Зоя. Я и на ипподроме был. Жалеют старого конюха. Все спрашивают друг друга: почему?
— Кто убийца?
— Не знаю, конечно. И на ипподроме не знают. Говорят, что ищут. Угрозыск работает.
— А вы знаете, что это значит? — Хэммет спросил с еще большей настороженностью. Даже губы скривил. — Слежка, вот что это значит.
— За кем?
— Не притворяйтесь, что не понимаете. За всеми, с кем он встречался. За вами, например. За мной. Зоя говорит, что она на работу боится ходить. Туда и обратно. Всюду с эскортом.
— Глупости болтает ваша Зоя. Так ей и передайте. А уж за вами — это даже, извините меня, чушь. Вероятно, оговорились.
— Насчет угрозыска согласен: оговорился. Но КГБ меня из виду не упускает.
— Странно слышать это от дипломатического работника, — сказал Максим. — А то, что вы говорите, — это, простите, уже из области слухов о русской военной угрозе. Той же масти карта.
Хэммет внезапно замолчал и не открывал рта до тех пор, пока не остановил свою машину уже в Загорске у Лавры, на автомобильной стоянке.
Выйдя из машины, он с той же приклеенной улыбкой сказал Каринцеву:
— Пошли, благо храм открыт.
Из дверей Успенского собора доносились печальная музыка и негромкое пение хора. Шло богослужение. Максим не знал — какое, но, судя по черному гробу на черном постаменте, видимо, панихида. Хор исполнял грустное, типичное для православной духовной музыки панихидное песнопение. Хэммет протолкался вперед, ближе к гробу. Максим не пошел за ним: церковь — не автобус, а кроме того, ему отлично видно лицо мертвого, высветленное смертью, и тело его в гробу, укутанное в черное облачение. Хоронили, видимо, монаха или иеромонаха, потому что служил архиепископ или митрополит, судя по расцвеченной золотым шитьем ризе и большой панагии на груди.
— Кого хоронят? — спросил Хэммет у соседей.
Ему ответили.
— Кто служит?
Ему тоже ответили.
Максим не слышал ответов — они произносились шепотом, а вопросы Хэммета в молитвенной тишине собора звучали до неприличия развязно и громко. Максим начал уже пробираться к выходу, но Хэммет догнал его.
— Уходите, Макс? Я тоже. В сущности, ваше богослужение со всей его театральностью не сравнить с нашей квакерской простотой.
— Переменим тему, Дин. Я безбожник.
— Тогда закусим. Говорят, поблизости есть пристойный духан.
— Духанов нет. Есть рестораны.
— Вот и зайдем в один, где народу поменьше.
Зашли. Народу действительно было немного: день будничный, деловой. Выбрали одинокий столик, стоявший в стороне от других. При этом Хэммет о чем-то поговорил с официантом.
— Что вы ему сказали, Дин? — спросил Максим.
— Обычное. Просил меню.
— Неправда, Дин. У меня хороший слух. Вы просили к нам никого не подсаживать. Почему?
— Для дружеской беседы слушатели — помеха.
Пока Хэммет, выбирая меню, совещался с официантом, Максим задумался.
«Для чего он меня сюда привез? Для дружеской беседы? Но, во-первых, мы не друзья, а, во-вторых, для такой беседы не требуется ехать за сто километров. Мне он сказал, что ему нужен не церковник, а просто образованный русский интеллигент, знающий все — от „а“ до ижицы. Но какой же я специалист по русской истории, древней иконописи и православному богословию? Смешно! К тому же он не раз бывал здесь, по всей видимости. Да и не спрашивал он у меня ни о чем, а сам я желания не проявил языком болтать. С какой же целью он меня обманывал? Выпытать что-то о моем открытии? Зоя же могла сказать ему о моем характере и о том, что мне не надо объяснять, в чем суть секретности. Но он напросился. По дороге затевая какой-то странный разговор о слежке, на что-то намекал. Была ли цель у этой поездки? Видимо, была. Значит, „дружеская беседа“ все-таки состоится? Должно быть. Послушаем, как он раскроется…»
— Вы чем-то недовольны, Макс?
Каринцев пожал плечами. Дурацкий вопрос. Если Хэммет человек не глупый, а он, вероятно, действительно умен, только играет простака, значит, он мог сообразить, о чем размышлял Максим после этой никчемной поездки.
— А вы никогда не думали, Макс, о своем отце?
«Вот оно! Начинается».
— Вы привезли меня в Загорск только для того, чтобы задать этот вопрос?
— Не только для этого, Макс. Есть у нас и другие дела. Но мне бы хотелось, чтоб на этот вопрос вы ответили.
Каринцев посмотрел в упор в холодные, стреляющие глаза. Если так, он может спокойно ответить.
— Я не знаю отца, Хэммет. Никогда не видел его. Даже на фотокарточке.
— А ведь он все знает о вас, Макс. И ваши карточки есть у него, начиная со студенческой и кончая совсем недавней. Об этом стоит подумать, Макс. Много и глубоко подумать. Я опять что-то неправильно говорю по-русски? Нет? Но у вас, вероятно, есть вопросы.
— Прежде всего, зачем мне все это?
— А вы послушайте, что я вам расскажу. Над этим надо крупно подумать.
Максим уже не поправлял хэмметовской лексики. Он молча ждал.
— Отец ваш живет сейчас в штате Иллинойс, в городе Чикаго. Он переехал туда из Германии, куда бежал из России накануне войны. В России же он работал представителем крупной германской фармацевтической фирмы. По национальности — немец, служил в Германии в частях СС, получил звание гауптштурмфюрера и в этом качестве был прикомандирован к штабу власовской РОА, как хорошо знающий русский язык. Что вы думаете об этом, мой почти чистокровный ариец?
Да, это было действительно непредсказуемое. Поверить в это, не проверив, Максим не мог.
— У вас есть доказательства? — спросил он.
— Безусловно. Иначе я бы не начинал с вами этого разговора.
«Что ж, — подумал Максим. — Дадим бой».
— В детском доме, где я вырос, об этом не знали и не знают. Мать моя умерла при родах, не назвав отца. Все, что вы говорите, или пакостная ложь, или шантаж без достаточных оснований.
— Основания есть. И мы на них опираемся.
— Вы? Американское посольство?
— Нет. Центральное разведывательное управление.
— Не знал, с какой гадиной имею дело. Но тем хуже для вас. Правдивость вашей информации — синоним той пакостной лжи, о которой только что было сказано.
— Меня вы не оскорбите, Макс, потому что вы нам нужны. Если хотите узнать подробности, слушайте. В детдоме не могли найти вашего отца, потому что он был в Берлине. Мы нашли его после войны. На студенческих карточках, которые раздобыли ему геленовские агенты, ваше лицо — это копия лица вашей матери. Так сказал нам ваш отец. Кстати, его и, следовательно, ваша фамилия — Мальберг.
— Все? — спросил Каринцев.
— Нет, еще не все. В детдоме действительно ничего не знали, но у вашей матери были знакомые, у которых можно было что-то узнать. И мы нашли одну из ее школьных подруг, кто знал о ее связи с русским немцем, провизором или аптекарем, а на самом деле абверовским агентом, проникшим в Россию под маской представителя немецкого фармацевтического концерна. И учтите, что мы вам предъявим и ваши фотографии вместе с портретом вашей покойной матери, и письменные показания ее школьной подруги, и завизированное заявление Мальберга о том, что именно вы — его сын.
Вооружены, подумал Максим. Что же они от него хотят?
— Допустим, только допустим, что вы не лжете, или не ошибаетесь, или, скажем, ваши хозяева не осведомили вас, что это расчетливая выдумка, сфабрикованная в штабах ЦРУ, — сказал спокойно Каринцев, — то с какой целью все это мне рассказано? Что вы от меня хотите и чем угрожаете в случае моего отказа?
Хэммет снова приклеил знакомую улыбку:
— Начнем с отказа. В этом случае мы не будем объявлять советской контрразведке и научной общественности о вашем отце. У нас есть более сильное средство. Мы передадим эту историю в Западной Германии одному из наиболее читаемых шпрингеровских журналов со всей необходимой документацией, чтобы весь мир узнал, кто работает над военными секретами русских. И мы изложим все это, как разоблачение вашего правительства, с ведома которого нацистский последыш Мальберг под псевдонимом Каринцева привлекается к секретной военной работе. Пусть скажут, что это клевета. Не скажут. Что я работник ЦРУ, опровергнет мой дипломатический паспорт, а поведанную Шпрингером историю, пусть даже преувеличенную и опровержимую, выручит такой густой соус правды, что с вашей научной карьерой будет сразу покончено.
Максима словно ударило электрическим током. Ответных слов не было.
— А предлагаем мы следующее. В случае вашего согласия на сотрудничество в одном из нью-йоркских или швейцарских банков на ваш счет сразу же зачисляется некая сумма. За это вы только будете передавать нам результаты каждого вашего опыта, математически зашифрованные. В случае неудачи конечного итога вашей работы никаких требований к вам не предъявляется, а в случае удачи на ваш текущий счет в том же банке зачисляется еще некоторая сумма. Согласитесь, что мы не жулики и не шантажисты, а деловые люди, не тронутые пороком скупости. И добавлю, что в том и в другом случае вам будет предоставлено американское гражданство, если вы сможете приехать в Соединенные Штаты.
Что мог думать честный боксер, которому предложили сказочный гонорар, если он не встанет с пола в нокдауне при счете десять? А если встанет, то его ждет пуля в затылок на выходе с ринга. Думай, Максим. Арбитр еще не начинал счета. Может быть, есть еще силы встать.
— Я не могу так сразу ответить, — сказал он. — Мне нужно подумать.
Приклеенная улыбка стала естественной. Хэммет был явно доволен.
— Подумать можно. Только недолго. Скажем, сутки. Завтра жду вас в машине в это же время у арки на четной стороне Кутузовского проспекта. Домой, конечно, поедете на такси. Думать надо в одиночестве.
Глава пятнадцатая
Каринцев думал всю дорогу до самой Москвы, закрыв глаза, чтобы не отвлекаться придорожным пейзажем. Сидел он сзади водителя в уголке, чтобы не затевать пустых разговоров. Настроение было подавленное и ненастное, как дождливый день. Он думал не о предложении Хэммета, мысль о предлагаемых за предательство миллионах даже не мелькнула в его сознании. Нет, он думал о реальности угроз. Конечно, ни государство, ни наука не будут задеты провокацией шпрингеровского журнала. Такие провокации практиковались и разоблачались не раз. Но история, придуманная ЦРУ, может задеть лично его, Максима. Институт, скажем, откажется от плановой разработки его темы: недругов и конкурентов у него в институте немало, и коллективные их наветы позволят добиться цели. Ну и пусть добьются. Не в этом, так в другом институте можно найти право на открытие. Да и не собственная участь беспокоила Максима. Он знал и верил, что никакое отцовство не замарает биографию воспитанника детского дома, защитившего докторскую диссертацию до тридцати лет. Он просто не хотел такого отцовства, не верил в него, всей душой отметал. Он знал, что имя, отчество и фамилию ему придумали в доме ребенка, куда его привезли уже после рождения, и под этими утвержденными в загсе данными он поступил в детский дом, окончательно создавший его духовную личность. Мать не назвала его отца, потому что была в глубоком обмороке, когда рожала, а в таком состоянии ее принесли прохожие с улицы. И умерла, унеся с собой тайну его рождения. То была правда жизни, а рассказанное Хэмметом заставляло задуматься. Не мошеннический ли это трюк ЦРУ? Сделали ставку на Максима? Сделали. Нужен он им как ученый? Нужен. Стали копать. Родился в Туркмении, в туземном, как они напишут, роддоме. Мать умерла при родах, отец неизвестен. Стали искать человека с биографией погрязнее. Нашли. Абверовский агент до войны, эсэсовец, прикомандированный впоследствии к штабу предателя Власова. Может быть, даже ускользнувший от нюрнбергских следователей. Именно его и снабдили карточками Максима, чтобы письменно показать, что его «сын» — вылитая мать в дни их сожительства. Кто подтвердит это сожительство? Оказывается, школьная подруга его матери, которую они якобы где-то нашли. А не выдумали ли они ее, как выдумали абверовского «аптекаря» Мальберга? Можно ведь найти и роддом, где умерла мать, сестер, принимавших ребенка, и людей, знавших «аптекаря» Мальберга. Кто же может сделать это? Он сам, Максим, если бросит работу. Но можно ли ее бросить сейчас, когда каждый опыт — это находка? И можно ли ее бросить тогда, когда шпрингеровский журнальчик выплеснет эту мерзопакость на своих скандальных страницах? Нет, нельзя. Он должен быть вооружен для борьбы. Знанием, уверенностью и волей. Кто-то должен помочь ему. Впрочем, он уже знал кто.
* * *
Через два часа после приезда Каринцева с Хэмметом в Загорск Корецкий получил извещение, что Каринцев, просидев около часа с американцем в ресторане, возвращается домой на такси. Один.
— Что бы это значило? Может быть, сделка не состоялась?
Гриднев по привычке ответил с раздумьем:
— Допустим и другой случай. Вербовка состоялась, но оба, в целях конспирации, разъезжаются поодиночке. А может, вербовки и не было: Хэммет все еще проверяет жертву. Изучив Максима, я полагаю, что на предательство он не пойдет. Ну а если у Хэммета есть возможность шантажа? Мы этого, к сожалению, не знаем…
— Отец?
— Допустимо.
— А может быть, он приедет к нам?
— Если вербовка состоялась, для него это — лучший выход. Позвони-ка на всякий случай дежурному в пропускную и закажи пропуск на имя Каринцева. Пусть пропустит без всяких документов.
Через час секретарь сообщила Гридневу:
— К вам просит разрешения войти товарищ Каринцев.
— Пригласи его.
Максим начал совсем уже неожиданно:
— Разрешите доложить, товарищ полковник, меня принуждали стать предателем нашей Родины. Простите за пафос.
— Кто? — спросил Гриднев.
— Некий Дин Хэммет. Работник американского посольства в Москве. Говорил он со мной откровенно и настойчиво, по-видимому даже не сомневаясь в моем согласии. Вас это не удивляет, товарищ полковник?
— Нет, конечно. Хэммет — агент Центрального разведывательного управления. Это его работа, только прикрытая дипломатическим паспортом.
— И вы это знаете?
— Неофициально.
— Не понимаю, — недоуменно заметил Максим. — Есть же способ избавиться от таких субъектов. На дипломатическом языке, кажется, он называется персона нон грата.
— Пока мы не уличим эту персону в разведоперации, международное право на его стороне.
— Считайте, что уличили. Мне предлагали за успешный результат моих опытов американское гражданство плюс счет в любом американском банке. Неудачу обеспечивал аванс, причем о результате каждого опыта я должен буду сообщать им по конспиративной связи.
— Он не скуп, — улыбнулся Гриднев. — На чем же они зацепили вас? На выходе из рядов комсомола или на отказе от членства в партии?
— На отце. Мать умерла при родах, не назвав отца, когда ее только что принесли с улицы. — Далее Максим рассказал все, чем угрожал ему Хэммет, добавив и свои размышления по дороге к Москве.
— Хитро задумано, но с прорехами, — сказал Гриднев. — Вам бояться нечего, и шпрингеровская провокация не потревожит ни государство, ни науку. Такие штучки нам преподносились не раз, и всегда провокаторы и лжецы умолкали с позором. И я думаю, что вы правы в своих подозрениях. Абверовского разведчика Мальберга в Туркмении не было. Ни до войны, ни во время войны. Может, где-то такой молодчик и окопался, но на советской территории его не было. Это я вам как старый чекист скажу. Можем еще по спискам проверить для верности. И болтовню такого эксгауптштурмфюрера, подсказанную ему цеэрушниками, всерьез принимать не следует. Сомнительна и версия с подругой вашей покойной матери. Эти школьные подруги обычно рождаются в голове таких мастеров провокации, как хозяева Хэммета. Кстати, о нем. Когда назначена ваша встреча?
— А надо ли мне с ним встречаться?
— Обязательно. Согласитесь на сотрудничество, но без всяких письменных обещаний. Когда ваш ближайший опыт?
— В понедельник.
— Значит, через три дня. Отлично. На такую сделку они согласятся. Вы им нужны. И не пугайтесь угроз. Самое главное, узнайте у него, как будет оформлена связь. Нам нужно знать точно: кто, когда и где передаст ему ваши формулы. Не беспокойтесь об их судьбе: в Америку они не поедут, даже в копиях. После разговора с ним сообщите все мне. Только по телефону…
По его уходе Гриднев вызвал Саблина и Корецкого. Исповедь Каринцева была изложена кратко и вразумительно.
Корецкий вскочил:
— Если его все-таки выследили, жизнь парня может оказаться в опасности. Ермоленко ехал за ним и тоже ничего не заметил. Но и он мог ошибиться. Помчусь сейчас за Максимом, наверное, только что взял такси на ближайшей стоянке. Нагоню его: маршрут известен. Институт и квартира в одном районе.
И ушел. Саблин молча ждал распоряжений Гриднева.
— Вот что, Юра, — сказал тот, протягивая Саблину записку с адресом. — С первым же рейсом летите в Ашхабад и оттуда в Байрам-Али. На записке адрес детского дома, где вырос и воспитывался Максим Каринцев. Узнайте у директора — это очень почтенная, умная и добрая женщина, — из какого родильного дома привезли сюда безымянного младенца, получившего здесь имя, отчество и фамилию. Объясните ей, что появился самозваный отец Каринцева, и друзья Максима поручили вам обличить мошенника, так как мать Максима умерла при родах без сознания, не назвав ни своего собственного имени, ни фамилии отца. В роддоме поспрошайте врачей и медсестер, работавших там в сороковые годы и вдруг да помнящих о безымянной женщине, умершей при родах. Случай нечастый и, вероятно, запомнившийся. Побывайте также в городском управлении милиции и узнайте у старожилов, не работал ли в городе до войны аптекарь или фармацевт-немец, бесследно исчезнувший накануне войны, и не была ли его фамилия Мальберг. Все.
Саблин ушел, и Гриднев задумался. Вспомнились поездка в Туркмению и все услышанное там. К сожалению, не все. Он мысленно упрекнул себя в том, что не узнал ничего о личной жизни матери Максима. Ведь жила-то она, наверное, в том же городе и ходила по тем же пескам мимо тех же дувалов. Где-то училась в детстве и школьных подруг имела. Не откликнулось это живое на ее смерть и ничего не узнали о ней, а могли бы узнать. Он не думал, что ЦРУ оказалось дальновиднее и настырнее в своих поисках. Перед ними был тот же белый, никем не помеченный лист бумаги. Но они нашли легенду, с которой можно было подойти к Максиму и которая чуть не сломила его. Правда, темных пятен в ней виделось много больше, чем истины, и высветлить их оказалось не столь уж затруднительно. То, что в Туркмении до войны не было гитлеровского разведчика, Гриднев знал от своего начальника, служившего в то время в тамошних органах безопасности. Тот много рассказывал ему о борьбе с антисоветскими элементами со времен басмаческих белобандитских налетов. Были тут и наемники Интеллидженс-сервис, и шахские агенты, пробиравшиеся через иранскую границу, и байские ошметки, и торговцы анашой, и просто контрабандисты. Но абверовская разведка до этих далеких песков не добралась, хотя Гитлер уже задумывался о создании вассального Туркестана на месте нынешних советских республик. О том, что Мальберг был выдумкой, говорит и его отсутствие в списках немецких советников власовской РОА, хорошо известных советской разведке. Нет, Гриднев взвесил все «за» и «против» хэмметовской легенды и пришел к убеждению, что шпрингеровская провокация обречена на провал.
Он встал, подошел к окну и взглянул на площадь. Она жила, как всегда в такие летние вечера, когда закат еще не окрасил неба. Где-то радуется Хэммет, подсчитывая проценты с миллионов, которые достанутся Каринцеву. Увы, не достанутся. И сожалеть о том будет не Каринцев, а Хэммет.
Глава шестнадцатая
В половине третьего в лаборатории Каринцева раздался звонок. Максим снял трубку.
— Алло, Макс, — услышал он знакомый голос. — В три вас жду. Машина будет стоять в Малом Каретном. Там довольно пустынно для шумной Москвы. Въезд с Каретного ряда. Найдете.
Машину Каринцев нашел легко. Она стояла у пустого тротуара между невысокими и невзрачными домами, рожденными, должно быть, еще в девятнадцатом веке, стояла как элегантный сверхмодный гость из конца следующего столетия. Дверцу машины не пришлось открывать, Хэммет выскочил сам.
— Счастлив вас видеть, Макс. Полон благодарности римским Паркам.
— Пакс вобискум, — насмешливо сказал Каринцев.
— Почему по-латыни? По ассоциации с богами судьбы?
— Нет, просто не хочется марать родной язык в разговоре с вами. Не понимаете по-латыни — перейдем на английский.
— Садитесь в машину, — уже сухо произнес Хэммет, пропуская Максима. — Тротуар — не место для деловой беседы.
Автомашина выехала на Каретный ряд и двинулась к центру.
— Судя по тому, что вы пришли, да еще обозленный, — сказал Хэммет, — значит, полный порядок!
— Вынужден согласиться на сотрудничество с вами, — сквозь зубы процедил Каринцев, — но с одним условием…
— Каким?
— Никаких письменных обязательств. Просто передаю вам формулы каждого опыта.
— Не выйдет. Есть общепринятый в специальных службах порядок.
— Тогда запускайте свою шпрингеровскую пакость. Кто кому нужен: я вам или вы мне?
— Это ваше последнее слово? Подумайте.
— Незачем. Остановите машину, и я вылезу. Без прощального ритуала.
— Не будем ссориться, — пыхнул Хэммет сигаретой. — Я посоветуюсь. У меня тоже есть свое начальство. И очень строгое. А пока поработаем на ваших условиях. Когда у вас следующий опыт?
— В понедельник. У вас еще два дня страданий, — засмеялся Максим.
— Над чем смеетесь?
— Над вами. У меня есть еще два дня для раздумий, а у вас нет. Поэтому ждите и не плюйтесь. У вас скверная привычка брызгать слюной, когда произносите ваше «ти-эйч». А в английском языке этих «ти-эйч» навалом.
— Вы думаете, ваш английский лучше?
Максим ответил насмешливым, пренебрежительным взглядом:
— Я стажировался в Кембридже и научился беречь слюну. Впрочем, давайте о деле. Какой будет связь?
— Связь проста и бесхитростна. Вы будете передавать формулы Зое, — перешел уже на русский Хэммет.
Максим усмехнулся со злостью:
— Втянули девчонку в грязное дело?
— О Зое не беспокойтесь, — сказал Хэммет. — Личных встреч у вас с ней не будет. Марине скажете, что поссорились, Впрочем, Марине она сама объяснит. Формулы будете передавать ей в закрытом конверте в беговой кассе. Кстати, учтите, что я тоже не буду встречаться с Зоей. Она будет передавать конверты третьему лицу так, что для нее риск еще уменьшится.
Максим заинтересовался: для чекистов новое лицо — новые загадки. Почему Хэммет усложняет, когда все так неприхотливо: Максим — Зоя — Хэммет.
— Зачем третье лицо, когда двух достаточно? Зою легко можно вывести из игры.
— Оставьте советы Марине. С третьим лицом вам встречаться нельзя…
— Ладно, остановите машину, — сказал Максим после длительного раздумья, — все уже ясно. И мне пора.
— Я довезу вас, — с неискренней любезностью предложил Хэммет, но Каринцев только махнул рукой.
— Личное знакомство отменяется. Мы — чужие. Ты меня забудь, как поется в песне. Приветы — через Зою, договорились? — И вышел из машины.
* * *
В Ашхабад Саблин прилетел, как и Гриднев, в конце рабочего дня, когда солнце еще палило, но без ярости. Полковника Алтыева он нашел в его кабинете. Тот пил зеленый чай из цветастой пиалы. Саблину он показался постарше, чем Гриднев, и не столь подтянутым и щеголеватым.
— Садись, джигит, зеленого чайку попьем, от всех болезней лечит и в жару полезен. И рот пока на замке держи: представился, и хватит. Твой полковник вчера звонил, и я уже все про все знаю. Никаких абверовских разведчиков у нас в Туркмении ни до войны, ни во время войны не было: все архивы облазил, ничего подходящего не нашел. И аптекаря Мальберга тоже не было, ни в Ашхабаде, ни в Байрам-Али. У нас, правда, Фальберг был, но не аптекарь, а оператор на киностудии. И родился он во время войны, в Израиль уехал в прошлом году. Отец его жив и здоров и у меня недавно был, очень печалился: пишет, мол, сын и жалуется, плохо ему и нельзя ли назад. Только «назад», как известно, не всегда получается.
Алтыев допил чай и спросил:
— Хорош чаек, а? И вкус, как у христова вина, из воды превращенного. Погоди. Не спеши. Еще есть время послушать старшего. Справлялись мои лейтенанты и в доме ребенка в Байрам-Али. Был такой случай, говорят, когда из роддома туда ребенка без фамилии принесли. Неизвестная женщина, должно быть из аула пришедшая, умерла от родов, не дав ребенку ни имени, ни отчества. Вот туда и слетай: есть вечерний рейс. Времени много, Ашхабад посмотри.
В Байрам-Али Саблин сразу же поехал в дом ребенка, куда был привезен младенец еще без имени, но с будущим доктора физических наук Максима Каринцева. И старожила нашел, нынешнюю старшую сестру Русакову, вспомнившую этот эпизод.
— Случилось это весной сорок второго года, — рассказала она, — на моем дежурстве, когда к нам из родильного дома младенчика принесли. Я еще совсем девчонкой была, но с младенчиками уже обращаться умела. Милиционер сказал, что мать его при родах скончалась и ее никто не знает и за младенчиком никто не пришел. Составили, говорит, акт о передаче вам, распишитесь в приеме и завтра в загсе зарегистрируйте. А имя, отчество и фамилию вам самим придумать придется, так как мать без сознания померла и об отце ничего не сказала. Ну, стала я фамилию придумывать. Вижу, русский мальчик, не туркмен, значит, фамилию русскую надо. Подумала: Найденов от найденыша, Приемов от приемыша. Вижу, нехорошо ему всю жизнь с такой фамилией жить. А на дежурстве я книжку читала о военном летчике-герое, и звали его в книжке этой Максим Каринцев. Вот и решила: книжный — придуман, а живой пусть с такой же фамилией будет расти. А отчество по-ленински задумала: Ильич. Лучше не назовешь. Назавтра все со мной согласились, даже поблагодарили за сообразительность, да так и в загсе записали: Максим Ильич Каринцев. А на шестом году его в детдом отвезли: шибко умен стал, читать, и писать, и считать выучился не хуже взрослого.
— А вы про мать его ничего не знаете? — спросил Саблин.
— Нет. Только думаю, что не из аула она, как в роддоме решили, а приезжая, русская, и, должно быть, одинокая, из эвакуированных. Я сама из эвакуированных, но такой что-то не помню.
— Еще один вопрос у меня, — сказал Саблин. — Не помните ли вы провизора из аптеки по фамилии Мальберг? Может быть, в медпункте или тоже из эвакуированных?
— Не слыхала о таком, ни девчонкой, ни в наше время.
Саблин простился, поблагодарил за помощь и, обойдя глиняный высокий дувал, побрел по центральной улице в городскую милицию. Начальника управления майора Мухтарова он нашел в крохотном садике за дощатым столом, на котором едва помещались две половинки огромнейшего розового арбуза. Невысокое широколистное дерево, склонившееся над ним, едва давало тень этому запыленному уличному оазису.
— Согласен, — в ответ на кивок Саблина сказал майор, — пыли много, машин много, тени мало, а сахарный арбуз один. Садись, капитан, приобщайся к арбузу, пока он не истек кровью в моем животе. Не благодари.
Саблин, доев кусок арбуза, спросил:
— С вами полковник Алтыев из Ашхабада не говорил?
— О провизоре Мальберге? Очень много и очень долго. Только напрасно. Не было в Байрам-Али аптекаря Мальберга. Я все справки навел, всех старожилов созвал, и все одинаково сказали: нет! Всех эвакуированных по спискам тоже проверил: нет! Доедай арбуз и на самолет успеешь, в Ашхабад слетаешь, поклон Алтыеву передашь.
Глава семнадцатая
В час ночи на квартире у Паршина зазвенел телефон. Паршин взял трубку и услышал знакомый голос:
— После двух часов ночи у вас в доме все гасят свет. Меня это устраивает. Буду у вас в два тридцать.
Ровно в два тридцать еле слышно прожурчал звонок в передней. Хэммет вошел, аккуратно закрыв за собой дверь, огляделся. Собственно, разглядывать было нечего: пустая прихожая, вешалка о трех крючках на стене, счетчик электрический, лампочка без абажура. То ли бедность, то ли аскетизм.
— Здравствуйте, Паршин. Мне вам представляться незачем, — сказал Хэммет. — Иностранный дипломат, и с вас хватит.
Паршин, мягко ступая тапочками, принес коньяк и кофе. Помолчали, потом Хэммет продолжил:
— Вам тоже представляться не надо, товарищ Паршин. Все ваши превращения нам известны. Одесский полицай и гестаповский осведомитель Евсей Лобуда, заброшенный в конце войны в СССР, окончивший абверовскую школу агент Юркий, самодеятельный бандит-налетчик Чернушин, и вновь агент иностранной разведки Серафим Петрович Паршин. Биография сочная и надежная. Что скажете?
— Я свою биографию знаю. К делу.
— Ваша деловитость меня радует. Итак, какие настроения в группе Каринцева? Сколько опытов проведено и какие успехи?
— Три опыта. Настроения в группе, я бы сказал, развеселые. Боголепов подписал еще ассигнование лаборатории на сумму в пятьдесят тысяч рублей.
— На какие материалы?
— Неизвестно. Меня Каринцев запросто выгнал из лаборатории. С этакой насмешливой улыбочкой: не суйте нос не в свое дело, отчитываться будем потом. У нас, мол, своя бухгалтерия. Видимо, успехи есть.
— Пытались расспрашивать?
— Пытался. Молчат, сукины дети, как коммунисты на допросах. Им бы гвоздики под ногти, проговорились бы!
Хэммет презрительно усмехнулся:
— Это вы без гвоздиков на Лубянке проговоритесь. Поэтому слушайте Каринцева. Вы не финансовый хозяин института. Значит, поищем для вас другую роль. Скажем, связного. Тут главное — избежать слежки. Выследят — провалитесь. И чем дольше вы прослужите бухгалтером, тем дальше вы будете от лубянских ищеек. Никакой самодеятельности. Тихий, незаметный, нелюбопытный, неразговорчивый — вот ваш облик, его и носите. Только никогда не забывайте оглянуться вовремя и поймать на лету нужное слово. Вот так и будем работать. Понятно?
Паршин слушал, а думал о своем. Он считал, и не без оснований, что за ним следят, но не знал почему, на чем он «сгорел», и боялся сказать об этом иностранному дипломату — чужому человеку, холодному. Он надеялся на свой опыт преследуемого хищника и был убежден, что сумеет запутать след, когда приблизится погоня.
— Вы любите лошадей? — вдруг спросил Хэммет.
— Лошадей? — недоуменно переспросил Паршин. — Вообще-то я к ним равнодушен.
— Придется полюбить. Будете ездить на бега и делать ставки, если понравится. Когда-то, вероятно, вы были везучим картежником. Вот и осваивайте новый опыт. Тем более, как я знаю, вы туда не впервые пойдете, друг Колоскова. Так? Да вы не бледнейте, не бледнейте. Не найдут, уверен: вы — мужчина во всем везучий. А задание таково. Через три дня после очередного опыта Каринцева подойдете на бегах к кассе Зои Фрязиной — она в членской работает — и возьмете от нее запечатанный конверт. Не вздумайте вскрывать его — это письмо не для вас, а для меня. И ждите моего звонка об условиях автомобильной прогулки. Тогда и передадите. Как в первый раз, помните?
* * *
Гриднев и Корецкий уже второй час обсуждали поездку Саблина. А тот слушал, поддакивая и комментируя лишь тогда, когда его комментарий требовался. Корецкий с его привычкой вмешиваться в любой разговор, его интересующий, даже завидовал этой выдержке Саблина, столь необходимой для следователя. А ведь они все трое были и следователями, и экспертами, и просто сыщиками, несмотря на разницу званий, возраста и характеров. Но только Саблин, младший из них, умел слушать, как настройщик роялей.
— Ну а теперь повторим все, что мы имеем. Твое слово, Корецкий. А мы с Саблиным будем вмешиваться.
— Шантаж Хэммета провокационен, — начал Корецкий. — Абверовского разведчика Мальберга ни до войны, ни в годы войны в Туркмении не было. Не было и провизора Мальберга в аптеках Ашхабада и Байрам-Али. Не существует в природе и школьной подруги матери Максима, так как не установлена ни личность матери, ни школа, где она училась. Провокация Хэммета разоблачена и документально: двойным следствием полковника Алтыева из госбезопасности и начальника городской милиции в Байрам-Али майора Карли Мухтарова.
Гриднев задумался: все это он уже знал. Корецкий только подытожил эпопею Каринцева. Максим уже полностью очищен от грязи, если ЦРУ выльет ее на страницы какого-нибудь шпрингеровского журнальчика. В сущности, дело, начатое контрразведкой, подходит к концу. Завтра в беговой день Зоя Фрязина получит конверт с формулами от Максима Каринцева. В воскресенье следующий беговой день, когда Паршин получит этот конверт от Зои. Пока это — только предположение. Гриднев знает о ночном визите Хэммета к Паршину от лейтенанта Ермоленко, но о сути разговора только догадывается. Возможна и прямая связь Хэммета через Зою. Но Максим говорил о третьем лице. Мы уже знаем о нем и понимаем, для чего понадобился Хэммету этот ночной визит. Труднее угадать день и час передачи. Максим тотчас же сообщит о своей встрече с Зоей. Значит, необходимо круглосуточное наблюдение за Фрязиной, Паршиным и Хэмметом. Может быть, операция будет закончена в день и час совместной автомобильной встречи, как это уже проводилось цеэрушником и бухгалтером? И нелегко будет их взять после того, как конверт попадет в карман Хэммета. Собственно, взять — дело техники. Как, впрочем, и уличить. Четкое наблюдение, съемка автовстречи длиннофокусной оптикой и — арест с поличным. Надо решить: кто, где, когда, с кем.
Решили через два часа — план был выработан, и роли размечены.
* * *
Максим подошел к кассе Зои с аккуратным конвертом в руке. Он уже знал, что Зоя куплена Хэмметом, но сдержать невольного чувства жалости все же не мог.
— Передайте дальше, Зоенька, — сказал он, протягивая конверт.
Мелькнувший страх в глазах Зои сменило недоумение. Видимо, не сказал ей Дин, что главной скрипкой в хэмметовском концерте будет чистенький в ее глазах Максим Каринцев. Пусть, мол, полюбуется, как покупаются в Советском Союзе таланты. Что ж, подумал Максим, придется сейчас играть эту роль.
— Кому? — спросила Зоя.
— Вы отлично знаете кому, — ответил он с наигранной наглостью.
— Значит, и вас купили? — уже не испуг — насмешка звучала в ее голосе.
— Кто же откажется от десяти миллионов, Зоенька? У нас в Советском Союзе таких денег не платят.
Невольная жалость в сердце Максима, с какой он подходил к кассе, уже исчезла. Исчезла и насмешечка Зои.
— И столько миллионов за одно открытие? — шепот ее был неконспиративно громок.
— А что вы думаете? — продолжал играть роль подпольного миллионера Максим. — За следующее возьмем еще столько же.
— И не боитесь?
— А вы?
— Выхода не было, — она оглянулась кругом, не подслушивают ли их у кассы, и придвинулась на локтях к окошечку. — Дин уже давал мне кое-какие поручения. Я сдуру выполняла их, и теперь он говорит, что за одно это мне меньше трех лет не дадут. Так не все ли равно, три или пять. Я ведь только ваши конвертики передаю, сидя в кассе.
— На языке контрразведки это называется связью, — сказал Максим и тут же подумал, что даже из жалости пугать Зою не следует. Одно неосторожное слово, и он может сорвать операцию. И добавил: — А связь у Хэммета отлично налажена. Сойдет благополучно, уверен.
* * *
Встреча Каринцева с Фрязиной была зафиксирована наблюдением. А еще через полчаса Максим сообщил о ней Гридневу.
— Передал конверт, Александр Романович. Взяла без трепета. Только удивилась, что передатчик — я. Значит, Хэммет не сообщил ей об этом.
— У них своя конспирация, Максим Ильич. Разговаривали?
— Немножко. Все-таки жаль девчонку: ни за что пропадает.
— Не будьте сентиментальным, Максим Ильич. Знала, на что шла.
— Может, принудили?
— Следствие выяснит. Себя не выдали?
— Уверен.
— Держите связь, если произойдет что-то непредвиденное.
Ничего непредвиденного произойти не могло. Круглосуточное наблюдение за участниками операции «Формулы» — так ее обозначили — продолжалось. Наблюдатели точно и скрупулезно «вели» своих подопечных.
— …Вышел Паршин. Проходит мимо линии стоящих у тротуара машин. Разглядывает внимательно почему-то черные «Волги». На мою белую внимания не обратил. Видимо, подозревает слежку. Буду держаться подальше. Купил папирос. Возвращается в институт…
— …Говорит Хомутов. Хэммет идет пешком из американского посольства вниз по улице Чайковского. Следую за ним… Сворачивает на проспект Калинина. Никаких встреч. Позвоню позже…
Еще звонок.
— …Звонит Ермоленко. Фрязина только что села на свой автобус, на котором обычно возвращается домой. Поеду за ним до ее дома…
И еще звонок.
— …Опять Хомутов. Хэммет задержался в гастрономе. Проследил за ним в магазине. Ни с кем не беседовал. В отделе вин купил вермут и бутылку сибирской. У выхода поцеловал руку киноактрисе Верестовой. О чем-то пошептались. Вышел на улицу, взял такси. Следую за ним…
Круглосуточное наблюдение работало, как часы. Ни один шаг наблюдаемых не оставался без внимания.
Глава восемнадцатая
Гриднев в воскресенье сменил на дежурстве Корецкого. Тот не пошел домой, остался поспать часок на диване: сегодня, видимо, предстояли решающие события. Они начались со звонка Саблина.
— Сейчас на ипподроме засек передачу конверта Паршину. Встреча была минутной. Он что-то сказал Фрязиной, она молча передала конверт.
Хэммет расчетлив, подумал Гриднев, заставил два дня девчонку ходить на работу с конвертом только для того, чтобы Паршину не встретиться с Каринцевым. Другое дело, что они явно, пользуясь пословицей, чешут левой ногой правое ухо. Очень усложнена цепочка: Максим — Зоя — Паршин — Хэммет. Можно было бы Паршина «сократить». Зоя — полуофициальная дама дипломата. Хотя не исключено, что Хэммет перестанет с ней встречаться — из конспирации. Пока так и есть: встреч не было. И все же это — ошибка «умного» Хэммета. С Зоей ему встретиться куда безобиднее. Хотя, впрочем, она-то не ведает, кто такой Паршин. Для нее он — старичок, знающий пароль… Да ладно, бог с ним, с Хэмметом, прав он или не прав. Все равно — суть едина…
Саблин продолжал:
— На ипподроме Хэммет не задержался. Сел в машину и поехал по Беговой к Ленинградскому проспекту… Буду звонить по ходу следования.
Гриднев снял трубку внутреннего телефона:
— Дежурный Евгеньев свободен? Дайте его немедленно. Евгеньев? Возьмите капитана Ратомского и поезжайте к Ленинградскому проспекту. Свяжитесь с Саблиным. Он где-то в этом районе. Оружие обязательно.
Пять, десять, пятнадцать минут. Голос Евгеньева:
— Он едет к дому Паршина. Присоединяемся, как приказано.
Голос Хомутова:
— Хэммет почему-то едет на Беговую. Не понимаю зачем. Ждите звонка с ипподрома.
Гриднев:
— Следите, но не упускайте. Он едет не за конвертом.
Корецкий проснулся, послушал Гриднев а и спросил, потягиваясь:
— Какого черта он поехал на бега, раз конверт уже у Паршина?
— Откуда тебе известно, где конверт? Ты же спал.
— Я и во сне все слышу. Неужто к Зоечке? А я-то думал, что у них все завязано, раз он Паршина в дело ввел… Похоже, последует звонок с ипподрома Паршину. Тот, наверное, уже дома. Хорошо бы узнать, о чем этот звонок.
— Вот ты и узнай, как только позвонит Хомутов, — сказал Гриднев. — А пока он не позвонил, выясни номер автомата на ипподроме.
— Там их с десяток.
— Узнай все. Но, по-моему, он будет звонить у входа. Там сейчас народу меньше.
* * *
Во время заезда у касс всегда пусто. И Хэммет выбрал именно этот заезд, чтобы подойти к Зое.
— Передала конверт? — спросил он.
— Час назад. Я очень боюсь, Дин.
— Страх — не эмоция для разведчика. Но ты еще приготовишка, и тебе можно простить. Но дальше больше — буду наказывать. Мне тоже будет несладко, если ты влипнешь.
— Значит, все-таки могу влипнуть?
— Если только будет шумно у кассы. Выбирай заезд, когда все на трибунах. Не ошибись.
— А если Максим влипнет?
— Макс не влипнет. Он вне подозрений. За ним могут следить только для прикрытия. А на ипподроме он — завсегдатай. Не ошибется. Да и за тобой нет слежки — я проверил.
— А третий? Кто он?
— Не любопытствуй зря. Меньше знаешь — меньше рискуешь. Он тоже станет завсегдатаем.
— Когда увидимся?
— Позвоню. Терпи, милая, надо выждать. А сейчас мне нужно позвонить. Где нет очереди к автомату?
— Звони у входа на ипподром. Там безлюдье.
Хэммет позвонил Паршину:
— Конверт у вас, знаю. Передадите сегодня в восемь на Минском шоссе. Примерно там же, где уже встречались на автомобильной прогулке. Я буду один на «Волге» с московским номером 43–27. Запомните. Примерно полвосьмого проеду у арки. Следуйте за мной, пока я не заторможу и не окажусь рядом. Бросите конверт в открытое окно.
* * *
Этот разговор был засечен капитаном Хомутовым, и содержание его стало известно Корецкому.
— Встреча назначена на восемь вечера на Минском шоссе, — доложил он Гридневу. — Способ тебе уже знаком, Александр Романович. Но учти, я хочу быть с тобой.
Слишком много народу, подумал Гриднев. Саблин, Евгеньев и Ратомский ожидают Паршина на двух машинах. Они ведут киносъемку. Мы с Корецким плюс Хомутов преследуем Хэммета. Хомутов тоже снимает встречу. Четыре машины против двух запломбируют все шоссе. А ведь там еще будут машины, такси, грузовики… Черт-те знает, что предпочтет Хэммет — тесноту или пустоту? После передачи конверта Паршин уйдет вперед или свернет на первом же повороте. Так или иначе, две машины Саблина пойдут за ним. Здесь все ясно. А вот нам придется потруднее. Главное, чтобы дипломат не успел уничтожить конверт…
— Ладно, — сказал он, — поедешь шофером. Будем брать Хэммета после передачи конверта.
— Авария? — спросил Корецкий.
— Другого выхода не вижу…
После этого Гриднев вызвал Саблина по радио:
— Дежурите?
— Втроем.
— Надеюсь, не под окнами Паршина.
— Мою «Волгу» из окна не увидишь, а Евгеньев с Ратомским вообще на другой стороне. Паршина они только в бинокль видят.
— Не рискуйте. Дежурить вам придется до семи, когда, вероятно, он выйдет. Может быть, даже раньше. Не упустите. С питанием порядок?
— Полный.
* * *
Паршин сидел за стаканом молока и глядел на него с отвращением. Сейчас ему был нужен коньяк. Но предстояла еще автопрогулка, в которой он не имел права на встречу с ГАИ. Чистота езды и мастерство водителя — вот что от него требовалось в этой поездке, и… опыт канатоходца, который рискует ходить по канату без лонжи. Допив молоко — есть ему ничего не хотелось, — подошел к окну посмотреть, не следят ли. Он ничего не рассказал о слежке Хэммету, уже не пугавшей его. Пугало другое: он знал, как расправляются его хозяева со старыми, рискующими провалом разведчиками. Другие хозяева, не те, что были тогда, в войну, а все ж такие же, ничем не отличные от тех. Устранят и — пожалте бриться… Как устраняют теперь, он, правда, не знал. Но знал другое: достаточно анонимной весточки о нем в любое отделение милиции и — конец! Не нужно даже гадать о приговоре: полицай, налетчик, шпион — какое уж тут гадание. Открыл окно: кроме его собственной — никакой другой машины. Догорающий день пугал чистотой, прозрачностью. Надежд на вечерний туман нет. Электрический свет на шоссе засветит все: и стыковку машин, и передачу конверта. Паршин вдруг почувствовал стеснение в груди и еле ощутимую немоту левой руки. Взял в рот таблетку валидола, с которым не расставался. А что впереди, он знал: болезнь века — инфаркт. Подумал уже не о предстоящей операции, а об обреченно прожитой половине жизни. И может, лучше неожиданно просто грохнуться на пол, чем тебя грохнут из автомата свои или чужие…
Поглядел на часы: без четверти шесть. Еще час — и погоня за «Волгой» номер 43–27…
* * *
Саблин поймал по радио машину Гриднева:
— Александр Романович, вы? Следуем за Паршиным. Сейчас у СЭВа. Вы где? Уже на Дорогомиловской. Догоним…
Неожиданно — откуда бы? — пошел мелкий дождик. Мостовая засверкала отражениями электрических фонарей.
— Скользко ему будет пристраиваться к Паршину, — заметил Корецкий.
— Паршин проехал. Обогнал нас, — сказал Гриднев, оставив без внимания замечание Корецкого.
— Узнали машину?
— Я номер узнал. А паршинский хвост опаздывает.
— Слишком много машин. Как бы нам не помешали.
— Разберемся.
Проехали арку, венчающую конец Кутузовского проспекта. Говорят, она была когда-то в конце улицы Горького у Белорусского вокзала. Одессит Гриднев не помнил ее: бил врага в одесском подполье, воевал в действующей армии и попал в Москву, когда ее остатки были свалены во дворе архитектурного музея во дворе Донского монастыря. Тут, на Кутузовском, она, конечно, уместнее, как торжественный символ Отечественной войны двенадцатого года. Но сейчас он промчался мимо, даже ее не заметив. Дождь лил сильнее, и мостовая стала зеркалом, в котором смешались огни «Волг», «Жигулей» и «Москвичей». Как в кино, когда показывают погоню в дождь. Паршин шел впереди, отставая от Хэммета на несколько метров. Их отделяли от Гриднева две или три машины. Где-то рядом должен быть Хомутов, подумал Гриднев.
Еще три километра. Машин стало поменьше, и в пляске огней на мокром шоссе им удалось подобраться к Паршину. Теперь все шли гуськом: Хэммет, Паршин, Корецкий.
— Хомутов, ты где? — Гриднев включил радиотелефон.
— Здесь я, Александр Романович, иду за ними.
— Не пропусти передачу конверта.
— Камера — на всех парах. Не пропущу.
— Когда Паршин начнет приравниваться к Хэммету, — сказал Гриднев Корецкому, — обгоняй их, но особо не отрывайся. Будем ловить момент.
Снова включил радиотелефон:
— Саблин, как у вас?
— Порядок, — ответил немногословный Саблин.
— Паршин за вами.
— Знаю, — сказал Саблин и отключился.
Гриднев внимательно следил за паршинской машиной: вот-вот увеличит скорость. Увеличил. Отставая на полкорпуса, уже идет рядом.
— Корецкий, — предупредительно напомнил Гриднев.
— Вижу.
Корецкий нажал на акселератор, и «Волга» рванула вперед, перестроилась в левый ряд, пошла впереди Хэммета, И Гриднев не видел, как «жигуленок» Паршина поравнялся о хэмметовской «Волгой», пошел справа от нее, потом Паршин протянул руку и бросил конверт в открытое окно «Волги». Все это заняло считанные секунды. Гриднев потом подсчитал их, — ровно шесть! — когда смотрел эпизод, снятый сразу с двух камер — Хомутовым и Саблиным. Хорошо снятый, несмотря на скупое — дождь! — освещение…
* * *
Паршина взяли просто. Он заметил погоню и понял, что ему не уйти. Щемящая боль в груди затуманила сознание, и он увидел впереди не асфальт дороги, а коридор одесского гестапо с идущим навстречу гауптштурмфюрером Гетцке. Встряхнул головой, будто разгонял видение, замигал указателем правого поворота, перестроился, пошел к тротуару, встал.
— Вы арестованы, — сказал Саблин, открывая дверцу водителя.
Паршин не отозвался. Он сидел, закрыв глаза и запрокинув голову на сиденье. Руки безжизненно висели по бокам.
— Обыщи его, нет ли оружия, — произнес подошедший сзади Ратомский. — Мне что-то не нравится этот обморок.
Саблин нашел зажигалку и фляжку с коньяком. Оружия не было. Паршин открыл глаза.
— Нитроглицерин, — попросил он одними губами, — в кармане.
— Сделано, — ответил Саблин, сунув ему в рот таблетку из тюбика, найденного в лицевом кармане пиджака. Минуту спустя боль отпустила сердце.
— Я давно заметил слежку, — проговорил Паршин, уже оживая. — А свернув, понял, что это конец.
— Почему же вы подарили нам Хэммета? — улыбнулся Ратомский. — Ведь вы могли сказать ему, что за вами следят.
— Надоело быть на побегушках у барина. Мне опять в тюрягу, а ему житье царское?
— Почему опять?
— Хватит, поехали, — оборвал его Саблин: ему не понравился этот псевдодопрос в машине. — Евгеньев поведет свою машину. Ты за рулем, а я с Паршиным. Ему еще надо отлежаться от сердечного приступа.
* * *
С Хэмметом тоже не пришлось повозиться. Говоря об аварии, Гриднев имел в виду стандартную ситуацию. Корецкий резко тормозит, машина Хэммета врезается им в багажник, и дипломат конечно же не успевает уничтожить пакет. Как в кино! Однако обошлось без кинематографических параллелей. Обе машины остановил у кинотеатра «Минск» красный сигнал светофора — обычная ситуация. Корецкий мгновенно выскочил из машины и бросился назад, рванул дверь:
— Руки на руль!..
А справа уже сидел запыхавшийся Хомутов. Их машина стояла позади.
— Успокойтесь, господин Хэммет. Сопротивление бесполезно.
— У вас нет права меня задерживать, — со злостью сказал Хэммет. — Машина дипломатическая.
— У вас не дипломатическая машина, господин Хэммет, — оборвал его Корецкий. — Вы забыли, что едете на «Волге» под городским номером 43–27.
— Вы об этом знаете? — искренне удивился Хэммет.
— Скорее — вижу. Будьте добры, подвиньтесь, пожалуйста.
Хэммет пересел назад, рядом с ним устроился Хомутов. Корецкий сел за руль, и тут только красный свет светофора сменился зеленым. Инспектора ГАИ никто ни о чем не предупреждал, об операции он и не ведал, значит, она заняла не более тридцати секунд. Ловко!
Корецкий тронул машину и пошел на разворот. Следом за гридневской «Волгой».
Хэммет молчал. В конце концов, он имел право на раздумье. Да никто и не торопил его. Откуда чекисты узнали время и место его встречи с агентом? Ведь он говорил из случайно выбранного автомата. Значит, за ним следили. Да, чекисты работать умеют.
— А задерживать меня вы не можете. Я подчиняюсь международному праву. Я дипломат, — сказал он.
— Вы были им, пока не занялись разведывательной деятельностью, — сухо сказал Корецкий. — Теперь, к сожалению, вы только персона нон грата, если согласится на это наше Министерство иностранных дел. Сейчас мы отвезем вас к нам, убедим в том, что деятельность ваша не соответствует статуту международного права, и вызовем представителей посольства и МИДа.
Хэммет замолчал снова и молчал всю дорогу до площади Дзержинского.
Глава девятнадцатая
В кабинете Гриднева Хэммет решил, что может вести себя развязнее. Он в точности знал, что ему угрожает. Так почему бы и не поговорить умному человеку с умными людьми.
— Я вас узнал, — сказал он Гридневу. — Помните, в Доме литераторов?
— Помню, — кивнул Гриднев.
— Хорошо поговорили.
— Продолжим?
— Нет никакого желания. Чем это я нарушил международное право?
— Хотя бы тем, что без разрешения вашего посольства вмешались в наши внутренние дела.
— Как? — сыграл удивление Хэммет.
— Вот в этом конверте находятся переданные вашим агентом формулы секретного опыта лаборатории доктора физических наук Каринцева в Институте новых физических проблем.
«Как они узнали, что Паршин агент? — подумал Хэммет. — Он был засекречен, как невидимка. Может быть, поговорить прежде о нем, а о Максе позже?»
— Почему вы думаете, что он агент? — спросил он.
— А хотите очную ставку?
— Когда, сейчас?
— А когда бы вы думали?
Хэммет вздохнул. Значит, Паршин уже в их руках. Но он же скажет все, что они хотят. Пусть. Он устроит ему маленькую пакость.
— Нет, говорить нам не о чем. Вы знаете хотя бы частично его биографию?
— Превращения одесского полицая: Лобуда — Чернушин — Паршин?
И об этом знают! Но у него есть еще козырная карта — Максим Каринцев.
— А вы знаете, кто нам юридически передал эти формулы? Откуда тянется цепочка к Лобуде — Паршину?
— Знаем, — подвел итог Гриднев. — Он сделал это по нашей просьбе.
На Хэммета было страшно смотреть. Глаза сузились, щеки ввалились…
Но есть еще шпрингеровская штучка. Есть!..
— Нет, — понял его Гриднев. — История, которую вы придумали в ЦРУ для шантажа Максима Каринцева, — липа! На фальшивые ваши документы мы представим свои, действительные. Изобретенный вами абверовский разведчик Мальберг ударит по цеэрушнику Хэммету.
— Подготовились? — с горьким сарказмом протянул Хэммет. Что ему оставалось? Только умолкнуть и ждать прибытия официальных лиц. Умный человек не мог показать своего ума. — Вероятно, и кинофильм сняли?
— Хотите посмотреть? — спросил Гриднев.
— Не хочу, — отрезал Хэммет.
* * *
Через день в том же кабинете состоялась очная ставка. В один ряд были поставлены четыре стула. На них сидели четверо людей примерно одного роста и одной комплекции в похожих по цвету, не новых, но и не очень заношенных костюмах, но с разными лицами. Один — лысоватый блондин с примятым, как у боксера, носом; другой — с сединой на висках, шатен; третий, моложавее других, с пегими космами и трехдневной небритостью, но все безусые, как и Паршин, А тот сидел — с каменным лицом — третьим слева.
— Пригласите Шитикова, — сказал Гриднев.
Шитиков, облаченный в ватник, старые засаленные штаны и кирзовые сапоги, но вымытый, побритый, прежде всего взглянул на сидящих: ради кого его сюда привели? Он долго всматривался в каждого, раза два прошел мимо ряда и сказал:
— Пусть встанут.
Встали.
Он снова обошел их, подолгу стоял у каждого, подошел опять к третьему слева и засмеялся:
— Не опускай головы, кореш. Все под богом ходим. Разрисовки на тебе нет, знаю. Никогда не любил на животе голых баб расписывать. В Германии это не принято, тоже знаю. Но укрыться от меня не сумел. Постарел старый кореш, но мордочка та же, сытая. Что Лобуда, что Чернушин, не спрячешься. Готово, начальники, спекся.
— Подождите в приемной, — сказал Гриднев и, когда Шитиков вышел, пригласил Закиряна.
Старик Закирян выглядел даже моложе сидевших. Подстриженный, чисто выбритый, в хорошо сохранившемся старом костюме, только что доставленный самолетом из Еревана, прежде всего огляделся, поклонился Гридневу, сидевшему за столом, кивнул Корецкому и любезно улыбнулся знакомому ему Саблину. На людей, сидевших по стеночке на стульях, он смотрел долго. Ему труднее было узнать полицейского знакомца из оккупированной Одессы. Слишком много лет прошло. Против Паршина он остановился, задумался, помолчал.
Паршин сидел, прикрыв глаза. В груди прорастала знакомая боль. И ему захотелось помочь старику Закиряну.
— Что колеблешься, полицай? Я-то тебя сразу узнал.
Закирян закрыл лицо рукой и вновь поклонился Гридневу.
— Прошу извинить меня, товарищ полковник. Он оказался умнее. Память часто стирает прошлое.
— Вы свободны, товарищ Закирян, — улыбнулся Гриднев. — Обратный билет в Армению получите у дежурного. — И, обернувшись к Корецкому, добавил: — А Шитикова отправьте на Петровку: пусть этапируют его в Ростов. А затем продолжим опознание. Всем сидящим надеть плащи и шляпы.
Приготовившиеся к опознанию натянули сине-серые болоньи и шляпы из мятого псевдофетра.
— Попросите профессора Светлицкого, — передал дежурному Гриднев.
Вошел человек, чем-то действительно похожий на Паршина. Вошел и растерялся, увидев ожидающих опознания людей.
— Встаньте, чтобы профессор лучше разглядел вас, — распорядился Гриднев.
Профессор поглядел издали на вставших людей. Подошел ближе и, стесняясь своего недоумения, сказал Гридневу:
— Внешне один из них так и выглядел, товарищ полковник. Трудно вспомнить какой… Попробую.
Он прошел мимо всех, заглядывая каждому в лицо. Потом еще раз вернулся к Паршину. Тот отвел глаза. Стеснение в груди ложилось камнем, сопровождаемое тупой, сверлящей болью. Кого они ищут и где он видел этого человека? Кажется, на автомобильной дороге в «Узкое». Значит, ищут убийцу Колоскова. А убил его он, Паршин…
— Должно быть, все-таки этот. Я уже говорил тогда вашему товарищу, что он чем-то похож на меня. Видите эти скулы и подбородок. Пожалуй, это вернее всего он.
Паршин вдруг осел, полуоткрыл рот, испустив глухой свистящий выдох, колени его согнулись, и тело как-то неуклюже рухнуло на пол. Профессор Светлицкий нагнулся, пощупал пульс, опустился над упавшим, рванул раскрытый ворот рубахи, приложил ухо к сердцу, послушал и встал.
— Все, — сказал он. — Конец.
— Умер? — вскрикнул Гриднев.
Светлицкий пожал плечами, словно удивился, что кто-то сомневается в его диагнозе.
— Можете мне верить. Я кардиолог.
— Он еще в машине чувствовал себя плохо. Не говорил, но вел себя странно. То и дело расстегивал и застегивал ворот рубахи. Дергал почему-то левым плечом, — сказал Саблин.
— Это вы виноваты, — произнес Светлицкий, обращаясь к Гридневу. — Заставили меня участвовать в спектакле и обрекли на смерть, может быть, невинного человека. Ведь мое опознание, вообще говоря, не было точным.
— Было! — подтвердил Гриднев. — До вас его опознали еще двое. Ведь он убил не одного человека, а десятки советских людей. Бандит и убийца и в конце концов затаившийся агент вражеской разведки. Это он сам казнил себя. Двадцать лет жизни в глухом одиночестве, без друзей и семьи. Двадцать лет ожесточенного страха перед разоблачением. Двадцать лет ненависти без раскаяния и беспробудное пьянство по ночам. Добровольная казнь в страхе перед законом.
Эпилог
С Фрязиной все обошлось без хлопот. Ее арестовали во время обеда в столовой ипподрома. Тихо подошли, пригласили следовать за собой и увезли. Она только просила разрешения позвонить Хэммету, но ей отказали. Выглядела она спокойно: видимо, предчувствовала конец.
А Хэммет?
Арестовать его не могли: он числился в штате посольства. Объявили персоной нон грата и выслали. Обвинение было столь серьезно, что он даже не искал защиты у посольства. Он знал, что ему поставят в вину в ЦРУ. Провал агента, халатное и неумелое руководство операцией, незадачливую организацию шантажа русского ученого, нерасчетливость и промахи в отношениях с советской контрразведкой.
Улетал он на самолете Аэрофлота, совершающем рейсы по линии Москва — Вашингтон. Гридневу очень хотелось приехать в аэропорт, выйти на открытую галерею вокзала, посмотреть на Хэммета. Однако не поехал. Уж слишком это смахивало бы на стандартные концовки «шпионских» романов: седой полковник с удовлетворением наблюдает, как идет, понурившись, проигравший сражение враг… Гриднев не любил «шпионских» романов. Он просто набрал телефон справочной Аэрофлота, поинтересовался: не отменяется ли рейс. Нет, сказали, не отменяется, улетит по расписанию.
Да и с чего бы ему отменяться: небо над Москвой чистое, безоблачное, солнце вовсю жарит. Гриднев подумал: славно, что погода удалась летная, видимость — миллион на миллион, как говорят авиаторы.



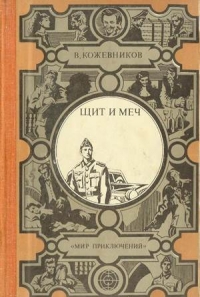

Комментарии к книге «Летная погода», Сергей Александрович Абрамов
Всего 0 комментариев