Фред Варгас Течет Сена
Спасение и свобода
Расположившись на общественной скамье перед комиссариатом 5-ого парижского округа, старый Васко плевался оливковыми косточками. Пять очков за попадание в фонарный столб. Он ждал появления высокого светловолосого полицейского с рыхлым телом, который каждое утро выходил полдесятого и с угрюмым видом садился на скамью. В данный момент старик, профессиональный портной, был действительно на мели. Кроме того, как он заявлял на каждом шагу, век виртуозов иглы закончился. По крайней мере, агонизировал.
Косточка пролетела в двух сантиметрах от металлического столба. Васко вздохнул и сделал еще несколько глотков из горлышка литровой бутылки пива. Июль стоял жаркий, и с девяти часов он уже испытывал жажду, а тут еще оливки.
Уже более трех недель, как старый Васко облюбовал эту скамейку: каждое утро за исключением воскресенья; он уже дошел до того, что стал узнавать немало сотрудников в этом комиссариате. Это было неплохое развлечение, намного лучше, чем он рассчитывал, и поразительно, как эти люди суетились. А ради чего, спрашивается? Как бы то ни было, с утра до вечера они мельтешили, каждый по-своему. За исключением маленького смуглого комиссара, который всегда ходил очень медленно, как если бы двигался под водой. Он выходил несколько раз на дню. Старый Васко говорил ему пару слов и смотрел, как тот удаляется вдоль улицы, чуть покачиваясь, руки в карманах помятых брюк. Такие типы не гладят свою одежду.
Большой светловолосый полицейский спустился по ступеням подъезда около десяти часов, потирая пальцем лоб. Он или набегался за утро, или у него болит голова, или комиссариату досталось крупное дело. Такое могло заставить их пошевеливаться. Васко знаками показал ему на свою погасшую сигарету. Но лейтенант Адриан Данглар, казалось, не торопился подойти, чтобы дать прикурить. Он пристально рассматривал стоящую около скамьи большую деревянную вешалку, на которой висел грязный пиджак.
— Тебя эта штука беспокоит, брат? — спросил старый Васко, показывая на вешалку.
— Что за дерьмо ты тут поставил на улице? — воскликнул Данглар, приближаясь.
— К твоему сведению, это дерьмо называется лакеем и служит, чтобы вешать костюм. Тебя в полиции этому не учили? Видишь, на эту планку ты вешаешь брюки, а сюда аккуратно помещаешь пиджак.
— И ты собираешься оставить это тут на тротуаре?
— Нет, месье. Я нашел его вчера на свалке на улице Гран-Шомьер. Вечером я унесу его к себе, а утром принесу снова. И так далее.
— И так далее? — воскликнул Данглар. — Но для чего, Боже мой!?
— Чтобы вешать костюм. Или просто беседовать.
— Но так ли необходимо развешивать все это посреди улицы?
Данглар бросил взгляд на старый поношенный пиджак.
— А что делать? — возразил старик. — Я на мели. Этот пиджак пошит одним из лучших портных Лондона. Хочешь увидеть этикетку?
— Ты мне ее уже показывал, эту этикетку.
— Один из лучших портных, я тебе говорю. Из хорошей ткани, а погляди на подкладку, которую я вшил. Позавидуешь моему английскому костюму. Потому что по тебе видно, что любишь хорошо одеваться. Ты — человек со вкусом.
— Ты не можешь оставить тут эту штуку. Это запрещено.
— Она же никому не мешает. Не начинай действовать как полицейский, не люблю, когда на меня давят.
Лейтенант, в свою очередь, не любил, когда его учат. И у него болела голова.
— Ты уберешь отсюда своего лакея! — твердо заявил он.
— Нет. Это мое добро. Мое достоинство. Нельзя забирать это у человека.
— Тебя заставят это сделать! — воскликнул Данглар, поворачиваясь к старику спиной.
Старик почесал голову и смотрел, как его собеседник уходит. В это утро на монетку можно не рассчитывать. Бросить лакея? Подобную находку? Об этом не может быть и речи. Пиджак действительно висит разглаженный. И, главным образом, эта штука составляет ему компанию. Это правда, что он с ума сходит от скуки, сидя каждый день на этой скамье. Светловолосый полицейский, кажется, просто не желает понимать подобные вещи.
Васко пожал плечами, достал из кармана книжку и начал читать. Бесполезно ждать прохода маленького смуглого комиссара. Он прибыл на рассвете, как обычно. Можно видеть, как его тень проходит перед окном кабинета. Этот много ходит, часто улыбается, охотно разговаривает, но, похоже, в карманах у него не так много деньжат.
Данглар вошел в кабинет комиссара Адамберга с двумя таблетками в руке. Адамберг знал, что тот ищет воду, и протянул ему бутылку не глядя. Между пальцами он держал листок бумаги и обмахивался им как веером. Данглар достаточно хорошо знал комиссара и по его лицу понял, что утром случилось что-то интересное. Но он не был в этом уверен. У них с Адамбергом были слишком разные понятия о том, что называть «интересным». Например, комиссар находил достаточно интересным сидеть и ничего не делать, в то время как на Данглара подобное навевало смертную скуку. Лейтенант бросил подозрительный взгляд на лист белой бумаги, который порхал в руках Адамберга. С привычной гримасой он проглотил таблетки и бесшумно закупорил бутылку. По правде говоря, он уже привык к этому человеку, хотя его раздражали манеры комиссара, совершенно не совместимые с собственными. Адамберг полагался на инстинкт и верил в силу человека, Данглар полагался на разум и верил в силу белого вина.
— Старикан со скамейки перешел все границы, — сообщил Данглар, ставя бутылку.
— «Васко да Гама»?
— Вот именно, «Васко да Гама».
— И какие границы он перешел?
— Мои.
— Ага. Это точнее.
— Он приволок большую вешалку, которую называет лакеем, и повесил на нее тряпку, которую называет пиджаком.
— Я видел.
— И он собирается сидеть рядом с этой штуковиной в общественном месте.
— Вы попросили его от нее избавиться?
— Да. Но он заявил, что это — его достоинство, и мы не можем отбирать его у человека.
— Естественно, — пробормотал комиссар.
Данглар только развел свои длинные руки и вернулся в комнату. Уже почти месяц этот старикан, который, помимо прочего, требовал, чтобы его называли Васко да Гама, как будто и без того он не стал бельмом на глазу, выбрал в качестве своей летней резиденции скамью напротив. Он там ел, спал, читал и наплевывал рядом целые кучи оливковых косточек и фисташковой скорлупы. И уже по меньшей мере месяц комиссар оберегал его, словно тот был из фарфора. Данглар неоднократно пробовал выдворить Васко, чей контроль он находил не то чтобы подозрительным, но утомительным, и каждый раз Адамберг увиливал, говоря, что следует подождать и старикан сам уйдет с этого места. На дворе стоял уже июль, а Васко да Гама не только оставался на месте, но и притащил лакея.
— Долго будем оберегать этого старика? — спросил Данглар.
— Он не наш, — ответил Адамберг поднимая палец. — Неужели он так вас раздражает?
— Он мне дорого обходится. И он меня раздражает тем, что целый день бездельничает, глазеет на улицу и собирает кучу мусора, которую рассовывает по карманам.
— Мне казалось, он что-то делает.
— Да. Он берет веточку, кладет ее в конверт и убирает в портфель. Вы называете это делать что-то?
— Это что-то, но я говорю не об этом. Я полагаю, что одновременно он делает что-то еще.
— И именно для этого вы позволяете ему там оставаться? Это вас интересует? Вы хотите это знать?
— Почему бы нет?
— Действительно ли нужно тратить на это лето и кучу времени.
— Почему бы нет?
Данглар вновь проиграл. Мысли Адамберга уже занимало что-то другое. Он играл листом белой бумаги.
— Тут одно дело, Данглар, надо разобраться.
Адамберг, дружелюбно улыбаясь, протянул ему кончиками пальцев лист. Бумага содержала только три строчки, составленные из маленьких вырезанных букв, тщательно и ровно приклеенных.
— Анонимное письмо? — спросил Данглар.
— Вот именно.
— У нас их куча.
— Это немного отличается: здесь никого не обвиняют. Прочитайте, Данглар, это вас развлечет, я знаю.
Данглар нахмурил брови и принялся читать.
4 июля
Месье Комиссар,
Возможно, у вас и смазливая морда, но в сущности вы — настоящий дурень. А что касается меня, я убил совершенно безнаказанно.
Спасение и свобода
X
Адамберг рассмеялся.
— Мило, не так ли? — спросил он.
— Это розыгрыш?
Адамберг перестал смеяться. Он раскачивался на стуле и мотал головой.
— У меня не создалось такого впечатления, — сказал он наконец. — Эта штука меня очень интересует.
— Потому что там сказано, что у вас смазливая морда, или потому, что настоящий дурень?
— Просто потому что здесь говорится обо мне. Вот есть убийца, если все это правда, и он что-то говорит. Убийца, который говорит. Который совершил тихое незаметное преступление, чем он очень гордится, но для которого оно бесполезно, если ему никто не аплодирует. Провокатор, эксгибиционист, неспособный не выставлять напоказ собственную грязь.
— Да, согласился Данглар. — Это банально.
— Но в этом и трудность, Данглар. Можно надеяться на другое письмо, но он так же может и остановиться, решив, что хватит выносить грязь на всеобщее обозрение и будучи слишком осторожным, чтобы продолжать. Делать нечего. Решение за ним. Это неприятно.
— Можем спровоцировать его. Через печать?
— Данглар, вы никогда не можете ждать.
— Никогда.
— Это недостаток. Ответить — значило бы уничтожить наши шансы на получение другого письма. Именно обман движет нашим миром.
Адамберг встал и посмотрел в окно. Он глядел на улицу и Васко внизу, который рылся в матерчатой сумке.
— Васко нашел какое-то сокровище и прячет его, — тихо заметил он. — Спущусь-ка я на минутку, Данглар. Я вернусь. Снесите письмо в лабораторию и скажите им, что я держал его за верхнюю часть.
Адамберг не мог оставаться в помещении весь день. Ему нужно было двигаться, смотреть, наблюдать. Это помогало ему думать. Ставить перед собой задачу и решать ее в лоб он уже давно отказался. Его действия предшествовали мыслям и никогда наоборот. Так и с этим старым Васко да Гама. Его радовало, что тот все еще остается на своей скамье, но он не мог бы сказать почему. Он там был — вот и все. А поскольку он там был, для этого должна была существовать веская причина. Однажды он узнает, какая, оставалось лишь ждать, что она проявится в свое время. Однажды, шагая куда-нибудь, он узнает почему.
Как, например, с этим письмом. Данглар прав — это просто одно из многих анонимных писем. Но ему оно казалось странным и немного тревожным. Его не беспокоило, что его обзывают дураком, да и не удивляло — нет, он часто сам называл себя так. Например, когда склонялся за компьютером или когда возвращался после двух часов ходьбы, неспособный сказать, о чем он думал. Или когда не мог сказать, идет ли буква G до или после K, без необходимости тихо проговорить про себя весь алфавит. Но что об этом может знать убийца? Очевидно, ничего. Необходимо, чтобы пришли другие письма. Эта проделка — не шутка. Но он не смог бы сказать, почему. Убийство, совершенное где-то и о котором никто не знает. В настоящее время убийца высунулся, сочетая осторожность и хвастовство. Похоже на то. Одновременно у Адамберга возникло неясное ощущение, что он угодил в ловушку. Когда после прогулки он вернулся к комиссариату, то повторил, что нужно повысить внимание и что начинается нечто гадкое. «Постоянная осторожность, — пробормотал он. G идет раньше K».
— Разговариваешь сам с собой?
На него с улыбкой смотрел Васко да Гама. Старик, который впрочем был не очень стар, самое большее — семьдесят, с красивой худощавой головой на плечах под густыми, довольно длинными волосами, тронутыми сединой. Свисающие усы скрывали губы, но большой нос, влажные глаза, высокий лоб, хаотичные речи и книга стихов, небрежно положенная на скамье, делали его немного похожим на карикатуру сбежавшегося Мыслителя. Под рубашкой торчали острые лопатки. Адамберг не считал, что все это маскарад, в это утро он предпочитал быть настороже во всем.
— Да, я говорю сам с собой, — сказал Адамберг, садясь на скамью. — Даю себе небольшие советы.
— Хочешь оливку? Пять очков, если попадешь.
— Нет, спасибо.
— Хочешь печенье?
Васко тряхнул перед собой картонную коробку.
— Не голоден? Это хорошие галеты, ты же знаешь. Я купил их для тебя.
— Они не настоящие.
— Не настоящие, но что плохого о них поговорить.
— Что ты здесь делаешь?
— Сижу. Нет глупых занятий.
— Почему ты садишься здесь?
— Потому что здесь скамья. Здесь или в другом месте…
Адамберг вздохнул.
— Тебе нравится сидеть напротив комиссариата? — спросил он.
— Там перемены. Там движение. А затем, как везде, привязанность. Я привязываюсь очень быстро. Однажды я привязался к креветке. К кролику тоже, но креветка, ты представляешь? Через день я менял ей воду в тазу. Приходилось тратить соль, поверь мне. Итак, она была довольна в своем тазу. Именно здесь действительно убеждаешься, что креветки и люди — это близкие существа. Твой светловолосый коллега, тот, у которого нет плеч, набросился на меня этим утром. Не из-за креветки, которая уже умерла, а из-за этого лакея. Блондин напорист, но я его очень люблю, а кроме того, он щедр. Он задает бесконечные вопросы, он волнуется, и это создает шум волн, я узнаю эти звуки. Ты, с другой стороны, создаешь шум ветра. Это видно по твоей походке, ты следуешь за своим дыханием. Я бы трижды подумал, прежде чем попытаться тебя в чем-нибудь переубедить. Слушай, взгляни на спичечный коробок, который я раскрасил. Здорово, не так ли?
Васко, верный одному из своих главных пристрастий, тщательно опустошал свои карманы и раскладывал содержимое на скамье и на тротуаре, как если бы он видел все это впервые. А карманы, крайне многочисленные, содержали неисчерпаемые запасы предметов, которые было трудно определить. Адамберг взглянул на маленький помятый и раскрашенный картонный коробок.
— Откуда ты знаешь эти вещи о Дангларе или обо мне? — спросил он.
— А так. Я — поэт, всё со мной говорит. Не зря же меня назвали Васко. Путешествия происходят там, — добавил он указывая на свою голову.
— Ты уже об этом говорил.
— Это забавное путешествие. Представь на секунду большую грязную лужу с водой на тротуаре. Представил?
— Очень хорошо.
— Отлично. Приближается твой светловолосый друг, видит лужу. Он останавливается, он рассматривает ее и он ее огибает, идет заниматься своими делами. Ты, вообще не видишь этой лужи, но ты проходишь мимо нее по наитию. Это совершенно другое восприятие мира. Понимаешь? Это как с волшебством. Блондин не верит в магию. Совершенно. Видишь эту маленькую голову на фотографии? Не повреди, это мой отец. А там — ты будешь поражен — моя мать. Я похож на нее, правда? Я сделал ей маленькую позолоченную рамку. А это фотография неизвестного, которую я нашел на земле. Не спрашивай у меня, кто это. А это Валантен. Мой отец спас мою бабушку от турок, так далеко. Маленькая веточка дерева. Слушай, иду я вчера, а эта маленькая веточка падает мне на волосы. Осторожно, не сломай. А вот желтая складная пепельница. Ее дала мне девушка в кафе, и я больше никогда не видел этой девушки. А вот еще маленькие ножницы, просто не знаю, как они ко мне попали.
— Могу я их взять?
— Ах нет! Не ножницы! Слишком полезные. Возьми пепельницу, если хочешь. Или вот, держи, наручные часы.
— Спасибо, я не ношу часов.
— Однако! Ну и дуралей.
— Да. Мне об этом уже сказали этим утром.
— В самом деле? В газетах говорят противоположное.
— Ты знаешь много вещей, Васко. Действительно.
— Черт возьми. Я редактирую собственную газету и даже продаю ее. Приходится читать и другие, чтобы быть в курсе. Два месяца тому назад о тебе писали — с фотографией и всеми атрибутами. Тебя уважают. Правда. Я, если бы меня уважали, шил бы шелковые костюмы, лучшие, чем в Лондоне.
— Ты действительно портной?
— Да, портной. Но клиент редок, профессия агонизирует. Хочешь, прочитаю эту статью о тебе? Или ты о ней знаешь? Она у меня в кармане.
— Ты считаешь нормальным носить с собой статью, которая касается меня?
— Это не из-за тебя. Из-за бедного парня, которого бросили в Сену, нищего с моста Анри IV, которого называли «Десяткой бубен». Друг. Честное слово, я и не знал твоего имени прежде, чем прочел статью. Ты поймал его убийцу за три недели. Ловко, не так ли?
— Не знаю.
— Да, они считают тебя ловким. Что бы там ни было, у тебя талант на эти штуки. У меня вот есть талант к поэзии, каждому свой крест. Уверяю, у меня есть талант к поэзии, я пишу для своей газеты. Только, чтобы писать стихи, надо есть, ты это знаешь. А сейчас я на мели.
Адамберг дал Васко все монеты, которые были в кармане.
— Возвращаешься на работу?
— Да.
— На всякий случай, знай, что перед дверью твоего комиссариата — отвратительная лужа. Берегись. Большой блондин ее хорошо пометил.
Адамберг поблагодарил его и медленно пересек улицу.
В течение двух следующих недель никаких анонимных писем в комиссариат не приходило. Жан-Батист Адамберг, который начал караулить время доставки корреспонденции с рвением, на него не похожим, прошел через все фазы обманутой любви, надежды и размышлений. Он был уже на последнем этапе, то есть бунта и презрения, и отныне старался выглядеть равнодушным, когда в бюро доставляли пакет писем.
Сообщение из лаборатории оказалось разочаровывающим. Ни бумага, ни конверт, ни клей не выявили ничего любопытного. Буквы были вырезаны ножницами маленького формата, но не бритвой. Никаких следов пальцев. Никаких орфографических ошибок. Буквы, вероятно, вырезались из местной ежедневной газеты «Голос центра». Это ни к чему не вело, так как конверт был опущен в Париже, а эту газету можно найти на всех вокзалах. Можно было предположить, что автор — человек образованный и аккуратный. Эти крохи информации не вели никуда, Адамберг выучил их наизусть.
Мечтательная беззаботность комиссара редко нарушалась бурлением уголовных дел. Он спокойно занимался документами в ожидании развязки. Если необходимо, он мог ждать недели или месяцы, прежде чем устремиться к цели, что сильно раздражало Данглара. Он мог целиться спокойно. В течение года в армии он стал снайпером, и его начальники таскали его с турнира на турнир, как идиота. Он провел год, стреляя в нарисованные квадратики. Его никогда не учили целиться. Он никогда не тренировался. Когда наступал момент, он медленно упирал оружие в плечо, целился и стрелял. Хорошее дело — он убивал лишь картонку. Он стремился действовать подобным образом и со своими расследованиями, держаться подальше от форсированных маршей, а затем, в последний момент, прицелиться. Он считал, что ощутит момент, когда убийца пересечет его территорию, что существует тот или иной способ это узнать, и тогда он начнет действовать. Данглар утверждал, что это глупости.
Адамберг был с ним совершенно не согласен и внимательно следил за своей территорией, позволяя взгляду плыть как сеть под волнами. Но на этот раз все шло несколько по-иному. Он плыл не так хорошо. Не было ни расследования, ни преступления. И ради простого письма, в котором его обозвали дурнем, он расстроился и занервничал. Именно по этой причине, считал он, этот тип с самого начала получил преимущество.
Напротив, отсутствие писем ничуть не возбудило в Дангларе ни малейшего интереса к приходу курьера. А вот присутствие Васко да Гама, всегда располагавшегося на своей скамье, с каждым днем раздражало его все больше. Каждый вечер Васко уносил лакея, на котором в настоящее время помимо старого пиджака висели почти в пару ему брюки.
Прибытие Васко вчера утром с торшером просто уничтожило Данглара. Этот торшер высотой с человека имел покрытую ржавчиной стойку и темно-зеленый металлический абажур. Из окна коридора Данглар видел, как Васко сделал ему знак рукой, разложил на скамье коробку с галетами и пакет с фисташками и поставил торшер напротив лакея, как будто для того, чтобы свет падал удобнее для чтения. Васко обращался со своим барахлом с нежностью, которой то не заслуживало. Он отступил на несколько шагов, чтобы оценить вид своего нового салона, разложил пластиковые пакеты на земле, поровней расставил какой-то мусор, который достал из карманов и скрупулезно просмотрел, и приготовился читать. Приклеившийся к стеклу Данглар разрывался между подавляемым желанием задержать старика за бродяжничество и нарушение общественного порядка и стремлением пойти и усесться рядом на скамью на солнышке и под этим торшером, который не работал. Он слышал как подошел Адамберг. Комиссар встал рядом и прижал лоб к стеклу.
— Он сказал, что приобрел кое-что из обстановки, — заметил Адамберг.
— Надо убрать отсюда этого старого сумасшедшего. Он меня раздражает. Я из-за него нервничаю.
— Не сейчас. Возможно, он не безумен.
— Уже говорили с ним? Вам не показалось, что он съехал с катушек?
— У каждого свой крест, как он утверждает. Когда он принес лакея?
— Сегодня будет шестнадцать дней.
— И потом пришло письмо.
Данглар посмотрел на него, не понимая.
— И что из этого?
— Ничего. Вижу, что вчера он принес торшер.
— И?
— А сегодня пришло письмо.
Данглар недоверчиво посмотрел на Адамберга и пожал плечами.
— Торшер не имеет ничего общего с письмом.
— Конечно, — согласился Адамберг. — Это просто совпадение, но мы не можем его игнорировать.
— Если постараться, можем.
— Ладно. Но прочтите письмо, Данглар.
Письмо и конверт уже были помещены в пластиковый пакет. Буквы оказались наклеены так же тщательно, как в предыдущем письме.
20 июля
Месье Комиссар,
Ждали новостей от меня? Да, конечно. Вот еще волосок, который я бросаю вам. Как полицейский, вы дурак. Вы не можете меня взять. Вы меня не беспокоите. Для меня вы уже проигравший.
Спасение и свобода
X
— Смесь грубости и чванства, — прокомментировал Данглар.
— Этому типу необходимо поговорить, вот он и продлевает вексель. Пишет маленькими буквами, которые необходимо приклеивать. Он терпелив и методичен. В конце буквы стоят так же ровно, как в начале. Без сомнения, он говорит правду. Он, должно быть, колебался, прежде чем написать снова, отпустить сцепление. Он должен был взвесить за и против, выбрать между риском и желанием. Конверт помялся, он находился в кармане. Либо этот тип размышляет прежде чем перейти к делу, либо он едет в Париж, чтобы опустить письмо. Оно ушло из другого почтового отделения. Он поменял почтовый ящик.
— Вы верите в преступление?
— Не знаю. Мне кажется, что да.
— Мы не знаем ни где, ни когда, ни кого.
— Я понимаю, Данглар. Мы не собираемся переворошить всю Францию. Мы беспомощны. Если только не придерживаться некой исходной точки.
— В письме?
— На улице. Исходная точка, которая смотрит на нас уже полтора месяца со скамьи напротив.
Данглар тяжело сел, опустив плечи.
— Нет, — выдохнул он.
— Именно так, старина. Так случилось, что этот тип оказался там. Обе вещи связаны.
— Это притянуто за уши, — грубо пробормотал Данглар. — С начала лета это — единственные значительные события. Но то, что они произошли, не значит, что они связаны. Черт возьми, нельзя же смешивать все!
Адамберг взял лист бумаги и стал рисовать стоя. С тех пор как комиссар занял эту должность, Данглар видел, как он что-то набрасывал на сотнях листков. Иногда случалось, что вечером Данглар находил один из них в корзине для бумаг. Адамберг составил целую серию древесных листьев и перешел на фрагменты лиц и рук.
— Возьмите, — сказал Адамберг, протягивая листок Данглару, — я написал ваш портрет. Я ухожу. Вернусь.
Конечно, он вернется. Зачем постоянно повторять это? Без сомнения, рассуждал Данглар, потому что он опасается, что однажды не захочет возвращаться и направится прямо в горы.
Данглар услышал как дверь комиссариата тихо закрылась, и увидел, как Адамберг вышел на улицу, неряшливо одетый, руки в карманах. Впервые Адамберг сделал его портрет. Он бросил осторожный взгляд на рисунок — одним глазком, — затем второй, более уверенный. Казалось, этот портрет призван был примирить его с самим собой, и это взволновало его. Данглар легко начинал нервничать. Он решил, что чтобы побороть эту слабость, нужен бокал белого вина. В действительности именно постоянное волнение заставляло его опрокидывать бокал за бокалом. До полудня Данглар был больше неработоспособен.
В течение недели прибыли три новых письма, опущенных в различных кварталах Парижа. Адамберг был настолько доволен, что часто насвистывал, не делал замечаний Данглару относительно белого вина по утрам, и рисовал больше обычного. На стене были приколоты пять писем в пластмассовых пакетиках. Он не мог с ними расстаться. Данглар сказал комиссару, что тот отравлен убийцей, и Адамберг промолчал. Он периодически вставал, останавливался перед стеной и перечитывал письма. Данглар смотрел на него.
23 июля
Месье Комиссар,
Очевидно, вы никуда не пришли. Вы напрасно читаете и перечитываете их, вы знаете, что у вас нет никаких шансов. Ваше смятение меня радует. Я думаю о новом преступлении. Полицейские — такие дураки. Я совершу его в свое время, не вдаваясь в тонкости. Что скажете на это? Возможно, я вас предупрежу.
Спасение и свобода
X
— Витиеватый стиль, — пробормотал Адамберг. — Тяжелый, тягостный. Почему, вот вопрос.
Его взгляд переместился на следующее.
26 июля
Месье Комиссар,
Мои письма вас разочаровывают. Ничего, что позволило бы вам ухватиться за первую ниточку, которая привела бы ко мне. Кроме того, знайте, что моя внешность заурядна: обычные глаза, обычные волосы, отличительные признаки отсутствуют. У меня нет ничего, чтобы вам предложить.
Спасение и свобода
X
И, наконец, последняя:
28 июля
Месье Комиссар,
Начинаем лучше узнавать друг друга, не правда ли? Жаль, что я не могу читать. День очень пасмурный. Бесполезно вам пенять: вы — тупица, но тут любой потерпел бы неудачу. Я приготовил удар с точностью до четвертинки волоска. Никакого непонимания между нами: я — убийца, вы — полицейский, нам не суждено встретиться.
Спасение и свобода
X
Адамберг переходил от одного письма к другому, насвистывал, становился на то же место. Сейчас убийца больше не мог не писать, он успокоился. Но он больше почти ничего не выдал. Он без сомнения желал бы ограничиться тем, чтобы писать для собственного удовольствия, но не обнаруживая себя. Он колебался между оскорблениями и откровенностью, достаточно раздраженный, чтобы осмелиться, достаточно хитрый, чтобы сдерживаться. У Адамберга создалось впечатление, что его признания были продиктованы некоей заботой, желанием заручиться его снисхождением. Как если бы этот тип считал, что нельзя злоупотреблять временем и вниманием другого, не предлагая маленькую компенсацию взамен. Подарочки, которые не стоили много, но которые позволяли их автору продолжать переписку.
— Это повежливей, — заметил Адамберг.
— Больше ничего не заметили? — спросил Данглар.
— Заметил. Волосы.
— А, вы это заметили?
— Они были там со второго письма. Он упоминает о волосах почти везде. Он чересчур много о них думает, этот парень.
— В последнем письме, он не использует слова «волос».
— Он пишет «четвертинка волоска» — это одно и то же.
Данглар пожал плечами.
— Также нет ничего в письме от 23 июля, — заметил он.
— Да, но будем рассуждать. «Не вдаваясь в тонкости» звучит в одной из наших поговорок как «Не расщепляя волосок на четыре». Следовательно имеется волос и в этом письме — в завуалированном виде.
Данглар что-то проворчал.
— Да, Данглар. Все точно. Слово появляется, исчезает, но идея остается.
— Забавно, — вздохнул Данглар. — Забавно интересоваться волосами.
— Точно. Очень любопытно. Что еще?
— Даты отправления: 23, 26, 28. Не похоже, чтобы этот тип мог жить далеко и приезжать через день в Париж, чтобы опустить корреспонденцию. Он должен жить в столице или окрестностях. Можно купить «Голос Центра» на всех вокзалах. Установить наблюдение за вокзалами?
Адамберг покачал головой. Сейчас Данглару комиссар не нравился, хотя обычно он считал его довольно красивым. Данглару всегда не нравилось, когда комиссар был с ним не согласен. Лейтенант все время упрекал себя в непостоянстве и размышлял об относительности эстетических суждений. Если красота сразу же исчезает, когда ты сердишься, какой шанс у нее выжить в этом мире? И на чем основывать устойчивые критерии настоящей красоты? И где оказывается эта отвергнутая настоящая красота? В несравнимой форме? В соединении формы и идеи? В идее, которая предполагает форму?
— Дерьмо, — пробормотал Данглар. — Хочу пить.
— Не сейчас. Мы были на вокзалах. Не думаю, что наш тип обязан жить в Париже или в его окрестностях. Пять конвертов путешествовали в кармане. Такой аккуратный человек, как он, не затруднится пройти несколько аллей и приехать, ради безопасности. Не может быть и речи о том, чтобы терять время на вокзалах. Мы ничего не выиграем, если начнем оттуда.
— Но нужно ли начинать вообще? Надо ли заниматься этими пятью дерьмовыми письмами?
— Это надо обдумать, — сказал Адамберг, вытаскивая новый листок бумаги из своего ящика.
Комиссар некоторое время рисовал, в то время как Данглар молча вернулся к размышлениям о красоте.
— И это возвращает нас к Васко, — сказал Адамберг.
— Он ничего не принес после торшера, и, однако, было три новых письма. Видите, тут нет ничего общего.
— Нужно начинать с Васко, — повторил Адамберг.
— Это не имеет смысла, — резко проговорил Данглар.
— Ничего страшного, смыслом займемся позже. Мне нужно знать, почему этот человек решил расположиться лагерем перед нашей дверью.
— Сейчас он уже ушел со своим барахлом.
— Ничего, это может подождать до завтра.
Вечер был очень теплым. Можно было гулять в рубашке. Данглар снова вспотел, поднимаясь по лестнице с покупками. Он купил картофель и сосиски на ужин детям и еще землянику. Через два дня пятеро детей уезжают на каникулы. Он еще не думал, как проведет это короткое одиночество. Он думал, главным образом, что будет много спать и много пить — что невозможно было проделывать с легким сердцем перед сердитыми взорами дочерей. Данглар чистил картофель — он оказался способным на это. Он думал о торшере Васко да Гама. Было бы любопытно увидеть комнату, где жил этот старикан, на улочке 14-ого округа. Васко показывал ему черно-белую фотографию, и комната оказалась так захламлена, что невозможно было понять, где пол, а где потолок. Васко уточнил, что «низ здесь», и, смущаясь, перевернул фотографию. Адамберг ничего из него не вытрясет завтра. Адамберг — сумасшедший. Самое время, чтобы сентябрь принес настоящие дела. Лето прошло под шелест потоков бумаг, звуки автомобильных рожков и фантастических допросов. По его мнению, для Адамберга лето прошло впустую. Лучше бы он уехал в свои горы вместо того, чтобы ходить кругами, как хищник, вокруг этих пяти несчастных писем. То есть, мелкий хищник, мысленно поправился он, — не очень большой, вроде рыси, скажем так. Данглар недовольно прищелкнул языком и сложил картофель в миску, чтобы промыть. Нет, Адамберг не имел ничего общего с рысью, он не так подтянут, как кошачьи. Сейчас он, должно быть, гуляет с карандашом в кармане. Данглар даже немного позавидовал.
Адамберг прогуливался по набережным Сены. Как большинство провинциалов, он любил эти прогулки, в то время как парижане в основном замечали, что там пахнет мочой. Сильная дневная жара нагрела камни парапета, на которые он сел. Комиссар терпеливо ждал грозы. Она началась с резкого порыва ветра и с маленьких капелек воды, которые хотели его напугать. Но, в конечном счете, было все. Гром, сдвоенные молнии, настоящий потоп. Сидя и положив руки на парапет, Адамберг старался не упустить ничего. Мимо бежали мокрые люди. В тот вечер он остался один на берегу Сены. Вода уже текла потоками под ногами. Весь этот грохот звучал музыкой после тех дней, когда он только и делал, что подшивал документы, ждал почтальона и смотрел, как Васко да Гама плюется косточками. Брюки прилипли к бедрам. У него возникло ощущение, что он не может больше шевелиться, поскольку погребен под массой воды, но, в то же время, он и центр, и повелитель бури. Эта огромная власть, полученная бесплатно и без усилий и заслуг, восхищала его. Адамберг вытер струи воды с лица. Если бы убийца мог найти свои четверть часа славы в каждой грозе, как он, если бы он действительно чувствовал себя Богом в каждый ливень-потоп, как он, то без сомнения никогда никого бы не убил. Надо полагать, что грозы оставляют убийцу безразличным, и это действительно было плохо. Комиссара беспокоило объявленное второе убийство. Адамберг чувствовал, что эта угроза не пустое бахвальство, что кто-то действительно может быть в опасности. Но кто, где, когда? Привлекал именно этот призрачный аспект расследования, которое шло из ничего, из вакуума, из темноты.
Глубоко удовлетворенный, Адамберг слушал, как гроза уходит и шум дождя переходит в более спокойный регистр. Он пошевелил руками, словно чтобы проверить, не ушли ли и они. И, словно возвращаясь из очень далекого мира, он принялся осторожно подниматься по ступеням, чтобы вернуться на набережную. Он знал, в каком кафе Васко проводит начало вечеров, садясь за любой столик, мешая разговаривать обедающим и стараясь продать свой «еженедельник», написанный и разрисованный от руки. Комиссар многократно следовал за ним за последние пятнадцать дней, ничего не говоря Данглару, который не созрел настолько, чтобы заинтересоваться стариком. Но это придет — Адамберг полностью доверял Данглару. Каждый раз Васко заканчивал вечер в этом относительно дорогом американском баре, где он знал всех и где дошел до того, что бесплатно ужинал, заработав за несколькими столиками.
Вначале Адамберг зашел к себе домой. Он вытерся, переоделся в сухое, а затем, как всегда пешком, направился в американский бар. Было одиннадцать с половиной часов. Пианист играл, посетители ужинали, несколько одиноких посетителей ожидали кого-то, Васко разложил содержимое своих карманов на столе и с сосредоточенным видом рассматривал его, — все было нормально. Адамберг, достаточно измотанный переживаниями, которые задала ему эта буря, устало упал на стул и сделал заказ. Васко повернулся и внимательно посмотрел на него. Адамберг попивал вино из бокала и опустошал корзинку с хлебом, ожидая заказ. Он не сделал Васко никакого знака подойти. Он знал, что тот и так подойдет к его столику.
Довольно быстро после этого Васко начал сворачивать свои дела. Это всегда требовало много времени. Он складывал всякие мелочи по конвертам, которые затем помещал в пакетики из ткани. Затем он убирал все это, пакетик за пакетиком, в зависимости от размеров кармана. Собрав все, он подошел, уселся напротив Адамберга и вновь принялся все выгружать. Адамберг слушал его комментарии, молча продолжая есть. Эта толпа разнородных предметов и объяснений, которыми их окружал Васко, словно гипнотизировала. Вновь появились фотографии отца, матери, неизвестного, Валантена, раскрашенный спичечный коробок, веточка, желтая пепельница, а затем фотография его комнаты, в которой комиссар не мог отличить верх от низа, что раздражило Васко, заметившего, что все полицейские одинаковы, кусочки бумаги, покрытые неразборчивыми записями, попытки карикатур, кусочки ткани, катушка льняной нити, оливковые косточки, истертые до блеска. Адамберг видел, как стол понемногу покрывался этим священным барахлом. Размягченный этим зрелищем, он подумал было, как и Данглар, который считал бесполезным допрашивать старика, что невозможно найти правильный подход к подобному типу. Если бы комиссар находился в комиссариате, то без сомнения отказался бы от допроса. Но в этом баре после еды он вполне мог просто беседовать с Васко, ни о чем конкретно не заботясь.
Он не перебивал старика, который теперь украшал свои комментарии разрозненными цитатами из стихов и анекдотами. Адамберг не знал никого, кто мог бы так быстро перескакивать с одной темы на другую. Он уже пять раз подливал тому в бокал вино. Общительность Васко росла. Он похлопывал Адамберга по плечу, повторял, какой тот умный и удивительный, и его сопротивление падало. Но Адамберг ясно ощущал, что, как бы тепло не вел себя с ним Васко, внутренний инстинкт заставлял его остерегаться полицейского. И, несмотря на вино, он съежился, когда Адамберг начал спрашивать по-серьезному.
— На этот раз, Васко, я хочу получить ответы. И скажу даже, они мне необходимы. Не хочу слышать, что ты сидишь там потому, что там скамья. Это неправда. Тебе неуютно на этой скамье — это бросается в глаза. Как только бьет пять часов, ты срываешься с места, как школьник после последнего урока. Ты там не ради собственного удовольствия.
— Ты ошибаешься. Знаешь, сегодня женщина на улице потеряла конвертик, я тебе об этом говорил? Знаешь, конвертик, маленький платочек, который кладется в нагрудный карман. Она его потеряла где-то на ходу, и он опустился мне на колени, как птица. Я тебе его покажу. Как птица.
— Потом покажешь. Что за глупостями ты занимаешься на этой скамье? Зачем ты приходишь туда, ради Бога!?
— Ни для чего. Я путешествую. Скамьи, это мои суда. Именно поэтому меня называют Васко. Хочешь галет? Поднимаем грот и вперед!
Васко погрузил руки в карманы в поисках своего пакета галет.
— Не нужно галет. Ответь на мой вопрос.
— Он мне не нравится, твой вопрос. Неприятно, когда с тобой так разговаривают.
Адамберг ничего не ответил, поскольку Васко был прав. Комиссар откинулся на теплом стуле, и оба мужчины сидели молча. Адамберг ел. Васко раскладывал и перекладывал свои сокровища на столе, как если бы играл какую-то абсурдную шахматную партию, при этом он покусывал внутреннюю часть щек. Адамберг нашел это трогательным.
— Ты — старый болван, — прошептал он, — и никудышный поэт, и дерьмовый путешественник, и бахвал.
Васко поднял на комиссара мутный взгляд.
— Ты считаешь себя очень сильным, очень хитрым, играя идиота на своей скамейке, — продолжал Адамберг, — но в действительности ты не видишь дальше своего носа, и поэтому твое судно кончит тем, что превратится в обломки кораблекрушения в камере моего комиссариата.
— Почему ты так ругаешься? О чем ты?
— Убери свое дерьмо, — внезапно скомандовал Адамберг, сдвигая рукой разложенное на столе. Ты волнуешься, как малое дитя, над своими цацками, и мы не можем говорить. Убери это дерьмо, я тебе говорю!
— Но почему это ты начинаешь мне приказывать?
— Я не собираюсь тебе приказывать, Васко, я собираюсь тебе кое-что открыть. Кое-что такое большое, что заставит тебя оглохнуть как от сильного ветра с моря, и такое, что затрясет твой плот, за который ты цепляешься: знаешь, что происходит у нас, полицейских, с тех пор как ты там расположился? В тот день, когда ты принес своего лакея? Письма, мой старый приятель, письма от убийцы, в которых он высмеивает нас, письма парня, который убил и который собирается снова убить, письма уверенного в себе негодяя, который хорошо спрятался. Видишь, все совсем не так уж забавно. И все это в то время, как ты располагаешься лагерем напротив нас. Ты мне не веришь?
— Нет, — сказал Васко, спешно рассовывая свои сокровища по конвертам.
— Не спеши, Васко, — сказал Адамберг, поймав его за рукав.
Он достал из пиджака фотокопии пяти писем и положил перед Васко. Старик взглянул на документы и отвернулся. Адамберг насильно засунул их ему в руку, не говоря ни слова. Васко просмотрел их с упрямым видом, а затем оттолкнул.
— Это мне ни о чем не говорит, — загремел он. — Не хочу влезать в ваши дела.
— Ты не понимаешь, Васко: ты уже там, в моих делах. И речь не о том, чтобы знать, хочешь ты туда влезть или нет, а о том, сможешь ли ты оттуда вылезти. Потому что, как ты можешь убедиться, ты уже по горло в дерьме.
— Ты думаешь, это именно я тебе пишу?
— Что именно ты вырезаешь буквы маленькими ножницами, которые в твоем кармане, и именно ты выравниваешь их так же тщательно, как раскладываешь свои сокровища. Да, мы можем так подумать.
Васко в волнении затряс головой.
— Итак, кто-то хочет повесить убийство на тебя. Выбирай. Думай.
— Ты не такой, как я думал, — заметил старик с отвращением.
— Ну да.
— Я думал, что все, что ты любишь в жизни, это ходить по улицам и не надоедать никому.
— Нет. Я люблю надоедать всем. А ты нет?
— Возможно, — проворчал Васко.
— И я не люблю, когда кого-то убивают. И не люблю, чтобы мне об этом сообщали, независимо от того, какая у меня рожа. И не люблю типа, который пишет мне эти письма. И не люблю, когда что-то заявляет о себе, как о непобедимом, разве что гроза и только во время самой грозы. И не люблю, когда ты строишь из себя идиота. И не люблю полицейских. И не люблю собак.
Адамберг беспорядочно сложил все пять записок и небрежно сунул их в карман.
— Тебя не это нервирует, — сказал Васко. — Попытайся не нервничать.
— Я нервничаю, когда хочу. Представь себе, у меня есть для этого причины. Кого-то где-то хотят убить, и моя работа — этому помешать. Посчитаешь ли ты это смешным или не смешным, тем не менее, это моя работа. И у меня нет ничего, с чего начать эту работу. Ничего кроме, возможно, тебя. А ты — ты молчишь. Ты надуваешь щеки, потому что это очень благородно — не выдавать его полицейским. А это не тот случай, когда можно играть в благородство, потому что ты — моя единственная исходная точка, единственная!
— Впервые мне говорят, что я — исходная точка, — сказал Васко. — Мне это льстит, признаюсь.
Недовольный Адамберг сложил свои приборы на тарелке. Он медленно провел рукой по лицу, потирая щеки и лоб, как будто для того, чтобы успокоить нервы. Васко, сдвинув брови, чесал голову обеими руками,
— Ты сказал, что кто-то убит?
— Похоже на то.
— Кто?
— Я об этом ничего не знаю.
— А я, я-то здесь при чем?
— Убийца, козел отпущения, гротескная фигура, простое совпадение или вообще ничего. Выбирай. Думай.
Адамберг опустошил свой бокал и оставил две купюры на блюдце. Он почти успокоился.
— Я ухожу, — заявил он. — Оставляю тебе свой адрес на случай, если решишь помочь. Если надумаешь, не откладывай. Можешь прийти ночью. Бывай.
Он медленно вышел, толкнув тяжелый турникет, а Васко остался перед запиской с адресом и грудой хлама, разбросанного на столе.
Адамберг лег спать, стараясь ни о чем не думать. Ему самому не очень нравился способ подталкивать Васко, заявляя, что кроме него зацепиться не за что.
Ночь была слишком теплой, чтобы ложиться под покрывало. Комиссар растянулся на кровати, надев шорты на тот маловероятный случай, если Васко придет.
Васко неподвижно просидел в баре до закрытия, даже не подсаживаясь к столикам последних выпивающих. Ему очень нравился маленький смуглый комиссар, но он не любил полицейских. Отец, который бежал от турок и покинул Армению, оставил ему в наследство древнюю швейную машинку, недоверие к любым законным властям и нескольким рулонов твида. Васко покусывал усы и размышлял. С другой стороны, маленький смуглый человек не отпустит его, пока не получит ответ. Васко собрал свои сокровища и рассовал их по карманам. Он не вернулся к себе домой, а ходил до рассвета, прежде чем решиться позвонить в дверь комиссара.
Оба мужчины сидели на кухне перед кофейником. Васко попросил хлеба и сардин, чтобы можно было макать хлеб в банку. У Адамберга не было сардин.
— Нужно всегда иметь сардины, — заметил Васко с упреком. — На всякий случай.
— Я не предусмотрительный человек.
— Я пришел к тебе, потому что ты считаешь, что у меня есть что-то, что ты хочешь знать. Но мне нечего тебе предложить.
«Нечего тебе предложить». Адамберг бросил быстрый взгляд на старика. Это было почти в точности, как заканчивалось четвертое письмо. Конечно, Васко прочел письма в баре. Но мог и воспроизвести фрагмент, потеряв бдительность. Адамберг окончательно проснулся.
— Если бы я не пришел, — продолжал Васко, — ты продолжил бы воображать Бог знает что. Ты — исключительно упертый тип.
— Итак, — спросил Адамберг, — почему ты сидишь на этой скамье?
— Исключительно упертый. Но ты прав, я скучаю на этой скамье.
— Тебе платят?
Васко что-то проворчал.
— Тебе платят за то, что ты там сидишь?
— Да, мне платят! Доволен? От этого никому ничего плохого, дерьмо.
— Ничего плохого, но все-таки расскажи.
— Вечером я был в баре. В том баре, о котором ты знаешь. Мне передали записку.
— Она у тебя?
— Нет.
— Любопытно, ты же хранишь абсолютно все просто по привычке.
— Неправда. Я сортирую, я тщательно сортирую.
— Хорошо, ты сортируешь, извини. Продолжай.
— Мне писали, что для меня есть работенка. Я должен ждать около телефонной кабины на следующий день в два часа.
— Какая кабина?
— Улица Ренна. Что было делать?
Васко погрузил хлеб в чашку и долго размачивал. Затем он выловил его пальцами.
— Раздался звонок. Работа была не пыльной, и, как я тебе уже говорил, уже несколько месяцев у меня не было больше заказов на костюмы, даже чтобы подшить края. Отрасль агонизирует. Я согласился. Ничего плохого, я же говорю.
— В чем состоит работа?
— Быть на скамье. Со мной законтактируют.
— С тобой войдут в контакт? Перед комиссариатом?
Васко пожал плечами.
— А что? Среди полицейских всякие типы имеются. Парень от тебя мог бы мне сплавить адресок, пакетик дури да мало ли что.
— И с тобой контактировали?
Васко улыбнулся и зажег сигарету.
— Беспокоишься за свою команду? Нет, брат, со мной не контактировали.
— И после этих нескольких недель тебе это не показалось странным?
— Мне плевать. Каждую пятницу две тысячи под моим ковриком. У меня есть коврик в виде страуса. Так что видишь, работа не пыльная. К счастью, комиссариат меня развлекает.
— Кто тебе позвонил? Мужчина? Женщина?
— Не знаю. Мужчина.
— Он назвал себя?
— Никаких имен.
— И ты никого не видел?
— Никого.
Адамберг встал и обеими руками уперся в спинку стула.
— Твой рассказ пустышка, — сказал он.
— Он тебе не понравился?
— Нет. Он не полон.
— У меня больше ничего нет.
— Я тебе не верю, Васко… но ничего страшного. Когда ты действительно поймешь, к чему все идет, когда ты действительно испугаешься, придет и остальное. Сколько еще ты должен «работать» на этой скамье?
— Мне должны сообщить, когда все закончится. А теперь я пойду, нужно быть пунктуальным.
Васко встал и машинально проверил, не оставил ли чего-нибудь на столе.
— До скорого, — сказал Адамберг.
Адамберг принадлежал к людям, которые опасаются спать слишком долго. Встать позже восьми — значит подвергнуться какой-то опасности, искушать дьявола. Но в это утро, вопреки всем ожиданиям, он вновь заснул после прихода Васко. Чтобы наверстать упущенное, он проделал путь почти бегом и, запыхавшись, прибыл в комиссариат к половине одиннадцатого. Он остановился около скамьи Васко. Старика там не было. Обеспокоенный, комиссар пошел искать Данглара.
— Васко? Вы видели его в это утро?
— Не видел. Исчез в тот самый день, когда вы хотели его допросить. Это не случайно.
Адамберг взглянул на Данглара, листавшего страницы отчета.
— Вы, случайно, не приказали ему свернуть лагерь? Вы же не любите этого старика.
Данглар пожал плечами.
— Очень люблю. Но не люблю, когда за мной следят.
— Он ни за кем не следит. Он ждет, что с ним «законтактируют».
Данглар поднял голову.
— Я допросил его на рассвете, — сказал Адамберг. — Все именно так: он согласился сидеть — ему платили, чтобы он был там, но он не знает кто.
— Лжет.
— Очевидно.
Данглар отложил документ и задумался, прижимая карандаш к носу верхней губой.
— Вы думаете, он убежал, чтобы его больше не допрашивали?
— Возможно. Если только его «работодатель» не увидел его со мной и не наделал ему неприятностей.
— Возможно.
— Если только он не пишет письма сам. Если только он не испугался.
Данглар нахмурил брови и заставил на этот раз карандаш скатиться с переносицы до подбородка. Адамберг внимательно смотрел на это. Он попробовал сам, но карандаш тут же упал.
— Я продолжаю думать, — сказал Данглар, — что письма и он — две разные вещи. Нужно быть чокнутым, чтобы приходить и смотреть на результат своих посланий.
— Но это же вы сказали, что он съехал с катушек.
Данглар тяжело поднялся в три приема: торс, зад, ноги.
— Это правда, — сказал он. — Но автор анонимных писем — это всегда такой скрытный тип, который наносит удары издалека, который действует из укрытия. Васко же выставлен тут как музейный экспонат уже несколько недель. Как можно это соединить? Как может это происходить одновременно? Быть одновременно и позади и впереди?
Адамберг покачал головой, а затем взглянул на стол. Стоя, он неторопливо просматривал корреспонденцию, но внезапно остановился. В руках он держал шестое письмо. «Вот уж действительно», — прошептал он с восхищением. Этот тип не умеет останавливаться. Значит, ему конец. Потому что он, Адамберг, будет выжидать до конца мира, а не как это тип.
31 июля
Месье Комиссар,
Женщина на Восточном вокзале? Вы довольны? В сущности, это правда, что вы дурак. Мне нужно отлучиться по делам. Жаль, не смогу написать сразу же.
Спасение и свобода
X
— Заговорил, — прошептал Адамберг.
Он быстро подошел к Данглару и положил документ на стол.
— «Женщина на Восточном вокзале». Найдите мне ее, Данглар, как можно скорее. Я не знал, что было убийство на вокзале.
Данглар получил информацию через полчаса. Семью неделями раньше нашли женщину разбившуюся на железнодорожных путях. Несчастный случай. Она была пьяной, без сомнения упала с моста и погибла при падении. Была рассмотрена возможность драки — без доказательств. Самоубийство — также без доказательств. Дело сдано в архив.
— Навестите коллегу из 10-ого округа и соберите все, что сможете, об этой женщине. Как ее звали?
— Колетт Верни. Она жила одна, без…
— Вы мне все расскажете потом. Я убегаю искать Васко.
— Вы знаете, где он?
— Да, знаю. Полагаете, я оставил этого типа тут в засаде и ничего не узнал о нем? Не проследил за ним, чтобы узнать, где он живет? С кем знаком? Чем занимается?
Данглар смотрел на комиссара, не говоря ни слова, изумленный и немного восхищенный.
— Данглар, вы же прекрасно знаете, что я не делаю глупости без причины и я не безумец. Реальность совсем не проста, и вы это знаете лучше, чем кто бы то ни было.
Адамберг улыбнулся ему и махнул рукой прежде, чем выйти.
Комната, где жил Васко, располагалась на седьмом этаже в доме без лифта. Адамберг и два его помощника двинулись вдоль первого коридора, в котором стоял запах масла и пота, затем в абсолютно темный второй, в котором перегорели лампочки.
— Открывай, Васко, — тихо произнес комиссар, стуча в дверь, перед которой лежал серый коврик в виде страуса.
— Открывай, — повторил Адамберг. — Я получил письмо для тебя.
Дверь приоткрылась, и Васко бросил живой взгляд на обоих помощников, которые окружали Жан-Батиста Адамберга.
— Ты не один?
— Впусти меня, они останутся снаружи.
Комната Васко оказалась намного хуже, чем показывала фотография. Это было не пространство, предназначенное для жизни, а емкость, скопление, перенасыщение предметов, между которыми приходилось пробираться, чтобы иметь возможность жить. Адамберг остался стоять, мысленно измеряя комнату и медленно поворачивая голову из стороны в сторону.
— Что ты ищешь? Что у тебя есть?
— Ты не пришел на скамью в это утро?
— Нет. Ты меня сбил с толку своими рассказами.
— А работодатель? Ты его предупредил?
— Да не знаю я его, я же тебе говорил. И затем я собираюсь прекратить эту штуку. Это больше не забавно, как раньше, после этих твоих угроз, твоих писем. Я не напрашиваюсь на приключения.
— Но они уже есть. Сейчас мы знаем, о ком говорит убийца. Речь идет о женщине, которая разбилась на железнодорожных путях на Восточном вокзале два месяца тому назад, прямо перед твоим прибытием. Совершенно пьяная. Ее звали Колетт Верни.
Васко сел на неустойчивую кипу журналов и смотрел на Адамберга, впервые чуть испуганный.
— Ты ее знал? — тихо спросил Адамберг.
— Нет, — надулся Васко. — Не имею с этим ничего общего.
— Я ничего не знаю, Васко, кроме тебя, кроме писем и кроме этой женщины. Расскажи мне о парне, который заказал тебе эту работу.
— Я о нем ничего не знаю, я же тебе говорил.
— Ты действительно болван, Васко, потому что этот парень, он не собирается тебя защищать, поверь мне. И, если я не ошибаюсь, он уже окунул тебя во все это с головой.
Адамберг сделал знак своим помощникам, которые в ожидании курили в коридоре.
— Пороемся в этой комнате, — сказал он им. — Месье не возражает.
Мужчины нервно осмотрелись.
— Начинаем здесь, здесь, здесь и там, — сказал Адамберг, показывая на несколько свободных или почти свободных пространств паркета. Ищем ножницы, бумагу, газеты и клей. Сейчас ты увидишь, — добавил он, поворачиваясь к Васко, — подарочек, который тебе сделал твой наниматель.
Спустя двадцать минут, полицейские нашли все под половицей.
Адамберг крепко схватил Васко за руку.
— Теперь ты понимаешь, Васко? Ухватываешь? Да или… черт бы тебя побрал?
Адамберг отпустил его, оставив сидеть на куче газет, и пошел осматривать дверь.
— К тебе легко войти?
— Да, — сказал Васко, пожимая плечами. — Я поэт, я путешественник, я не собираюсь запирать двери и вешать замки. О нет. Надо, чтобы все двигалось, чтобы все плавало, чтобы циркулировало. Давай поднимем грот и с Богом.
— Что ж, по крайней мере, есть один, кто не постеснялся и приходил к тебе циркулировать. Уж не знаю, сыграла ли свою роль поэзия. Пойдем. Я собираюсь поговорить об этой женщине.
Васко надел пиджак, разгладил его, лихорадочно проверил содержимое всех карманов, переложил несколько пакетиков, конвертов, коробочек из другого пиджака в этот, натянул носки, проверил, как сидят брюки, разгладил воротник.
— Идем, Васко, — повторил Адамберг со вздохом.
Адамберг не собирался вести Васко для допроса в комиссариат. Это казалось ему нецелесообразным и даже ошибочным. Казалось, что Васко мог разговаривать только на открытом воздухе или в кафе. Когда Адамберг беседовал с ним «в интерьере»: у себя на рассвете или в его комнате сейчас, — из этого немногое удалось извлечь. «Путешественник» между стенами терял всю свою словоохотливость, он мрачнел. В сущности Васко, возможно, был прав: скамья могла быть судном, почему нет? Почему бы тогда не поговорить в свое удовольствие на палубе. Стоит хорошая погода, и они могут расположиться на скамье. Адамберг сделал знак Васко сесть на носу корабля и позвал с улицы Данглара. Данглар высунул из окна недовольную голову, готовясь к обороне.
— Данглар, захватите что-нибудь для записей и присоединяйтесь к нам, — крикнул Адамберг. — Поговорим внизу, — уточнил он.
Только сидя на скамье, Данглар заметил отсутствие лакея, а главное — торшера. И, как ни странно, ему их не доставало, главным образом, негоревшего торшера. Он хотел бы, по крайней мере раз в жизни, делать записи на солнце под сломанным торшером, по крайней мере однажды испытать это ощущение, чтобы рассказать об этом детям. Он чувствовал, как его мигрень улетучилась, и уселся, подготовив перо. Он знал, почему Адамберг поручал ему делать все записи: комиссар писал медленно и тщательно, притом что рисовал быстро.
— Хорошо, — сказал Васко, — я готов.
Данглар посмотрел на старика. Его сопротивление было сломлено. С задумчивым и покорным видом он пережевывал оливку. Женщина, разбившаяся на железной дороге, должна была потрясти его и заставить сменить тон. Под внешней бравадой скрывалась серьезность. Прямая спина, немного дрожащие губы, но острый взгляд, — Васко хотелось поговорить.
Адамберг же откинулся на спинку скамьи, обратил лицо к солнцу, успокоился и вернулся на свой обычный уровень медлительности, то есть, сильно ниже среднего.
— Вот что, — тихо сказал он Васко, — дело в том, что сегодня мне не нужен твой обычный разговор: никакой поэзии, никаких анекдотов, никаких маленьких историй, никаких трогательных картинок из жизни, никакого пафоса — нет. То, что мне нужно, Васко, это портрет убийцы. Портрет человека, который платит тебе, чтобы ты притаскивал свою задницу под наши окна. И мне не нужна ни страсть, ни скрупулезность, ни что-то подобное. Для этого слишком поздно.
— Я понял, — кивнул Васко. — Но я видел его только два раза. Я не знаю его имени, клянусь тебе.
— Опиши его. Какая у него голова на плечах?
— Голова негодяя.
— «Голова негодяя», — опять поэзия. Нужно быть нейтральным и серьезным, Васко, нужно, чтобы через два часа я смог опознать его на улице.
— Я тебе говорю: голова негодяя. Он мертвенно-бледен, с очень тонкими и очень черными волосами, а зубов не видно. Он неплохо одет, но это не английский покрой. Пиджак у него итальянский, в этом никаких сомнений, марку рубашки не распознать, а брюки французского покроя трехлетней давности. Что до пояса, я могу уточнить, я знаю поставщиков.
Данглар с сомнением посмотрел на Адамберга.
— Да, — кивнул ему Адамберг, — запишите все.
Комиссар раскинул руки и закрыл глаза. Данглар быстро и неразборчиво писал, следуя за потоком слов Васко. В конечном счете оказалось, что старик знает немало вещей об этом парне с головой негодяя. Эти были лишь детали походки или одежды, но их скопление образовало небольшую кучу, которая обращала на себя внимание. Похоже на то, как скопление барахла в карманах Васко заставляло смотреть на него внимательнее. Из слов старика постепенно вырисовывался человек. И — немаловажная деталь — он без сомнения из Дрё [1]. Васко видел, как тот достал из портфеля билет на поезд туда и обратно. В конце полутора часов с затекшей от авторучки рукой Данглар подумал, что есть шансы поймать этого убийцу. Он бросил новый взгляд на комиссара. Адамберг как всегда зажмурил глаза и, казалось, дремал на жаре, безразличный к болтовне путешественника и к мукам, испытываемым помощником. Но Данглар знал, что ни одно слово от комиссара не ускользнуло. В своем мнимом оцепенении Адамберг улыбался.
Адамберг бросил на Дрё четырех человек, снабженных подробным описанием и фотороботом. Он приказал начать с вокзала, где проходящие ежедневно пассажиры относительно известны. Затем прочесать рестораны, бары, табачные киоски, парикмахерские и так далее. Его коллега из 10-ого округа также выделил двух человек для поисков в окрестностях Восточного вокзала и в местах, где бывала Колетт Верни. Сейчас о ней знали больше. Сорок три года, не замужем, красивое лицо с глазами чуть на выкате, хаотичная смена работы, регулярные попойки и, согласно ее соседям из мрачного дома на улице Двух вокзалов, периоды тоскливого одиночества или буйные эпизоды, сопровождаемые большим шумом и дикими выходками.
В Дрё служащий на вокзале узнал мужчину, но он не знал ни его имени ни адреса. Он видел, как тот проходил мимо и садился в такси. Парикмахер также его узнал. Клиент не заходил уже давно, возможно шесть месяцев, наверное, он переехал. Начали осматривать окружающие здания с помощью полицейских из Дрё.
В течение всего августа Данглар ждал с надеждой и нетерпением, в то время как Адамберг занимался обычными делами без всякой суетливости. Лишь в момент доставки почты он чуть напрягался, но затем это проходило. Убийца больше не писал. К 20-му числу Адамберг больше не дожидался почтальона и все чаще отправлялся на прогулки. Он объяснил Данглару, что с 15-го числа нужно спешно пользоваться последним летним теплом вместо того, чтобы корпеть в помещении комиссариата.
И действительно, с утра 27-го погода испортилась. Адамберг, стоя руки за спиной, долго смотрел в открытое окно, как дождь омывает тротуары. С начала этого дела было очень мало гроз. И комиссар жалел об этом. Именно в месяцы жатвы можно думать о Боге каждый вечер, а в другие остается быть полицейским каждое утро.
Он решил выйти без пиджака. Именно так он любил встречать дождь.
— Данглар, если вы свободны, пойдемте со мной, — он мимоходом сунул голову в дверь соседнего кабинета.
Данглар покачал головой, надел плащ и взял зонтик. Он предпочитал не задавать вопросы, чтобы не рисковать получить унизительный ответ. Он слишком хорошо знал Адамберга и этот способ решать некоторые дела, непроизвольно выматывая коллег до тех пор пока, внезапно, комиссар не приходил в движение, причем действовал он очень быстро и не давал объяснений. В начале Данглар опрометчиво думал, что комиссар хранит молчание и улыбается из чисто оскорбительной извращенности. В действительности, если Адамберг ничего не объяснял, то просто потому, что об этом не думал. Но Данглара, сжимающего обеими руками зонтик под сильным ливнем, все еще обижало, что он должен следовать за Адамбергом, не зная куда и зачем.
В промокшей рубашке, которая прилипла к телу, Адамберг укрылся под узким портиком старого здания.
— Здесь живет Васко, — объяснил он, без церемоний выжимая одежду. — Поднимаемся на седьмой, — добавил он.
На сей раз Адамберг постучал и сразу вошел, не дожидаясь ответа. Дверь была открыта.
— Привет, — коротко бросил он.
Он засуетился, чтобы освободить два места для себя и Данглара, а затем сложил две стопки газет такой высоты, чтобы сесть.
— Вот. Теперь можно и побеседовать, — заметил он. — Ты, Васко, валяешься на постели, не выходишь из дома и прекрасно себя чувствуешь.
Васко сел на помятой постели, отложил книгу, на заглавие которой Данглар бросил быстрый взгляд, и, прислонившись к стене, посмотрел на обоих мужчин с любопытством и опаской.
— Что такое? — спросил он. — Вы его прижали.
— Это ты думаешь, что его прижали, — сказал Адамберг.
— Где? В Дрё?
— Нет, не в Дрё. Ни в Дрё, ни где бы то ни было. Поймали ветер, Васко, пустоту.
— Дерьмо, — пробормотал Васко.
— Твой портрет того парня не настоящий, — продолжил Адамберг.
— Почему…
— Нет, не настоящий. Слишком поэтический, если хочешь знать мое мнение.
Васко зажмурился, чтобы лучше понимать. Данглар тоже.
— Ну, так что? — продолжал Адамберг. — Больше не подаешь признаков жизни? Забываешь друзей?
— Мне нужно было прийти? — спросил Васко дрожащим голосом.
— Нет, но мог бы написать. Письмо. У нас больше нет от тебя новостей. Стало не так весело. Скучаем.
Он замолчал. Данглар сделал непроизвольное движение, в результате которого на пол упало несколько рулонов ткани.
Васко пододвинул к себе пепельницу, запрятанную в одной из складок покрывала, и добросовестно раздавил окурок.
— В самом деле, — сказал он немного дрожащим голосом. — Ты — упорный дьявол. Да, дьявол. Где ты сейчас?
— В самом конце.
— Что ты знаешь?
— Все.
— Скажешь?
— У тебя есть младший брат.
— Это правда, — сказал Васко, вновь зажигая сигарету.
— Вы с ним близки.
— Это правда.
— Но в нем ничего хорошего нет.
Васко кивком подтвердил справедливость этих слов.
— Портной, как и ты, но все деньги тратит на женщин. Он груб с ними, даже жесток. Он не выносит, когда ему отказывают, это выводит его из себя. Достаточно, ему выпить и чтобы женщина сказала «нет», чтобы твой брат распустил руки.
— Да, — тихо сказал Васко. — Это чистая правда.
— Но он — твой брат, и ты поддерживаешь его больше, чем кого-либо другого.
— Он — слабый, — пробормотал Васко, словно извиняясь.
— В начале июня — 5-го, если быть точным, — он звонит тебе утром. Он убил женщину, и просит тебя о помощи.
— Да, — сказал Васко, теребя ткань из рулона. — Он вышел с нею накануне вечером. Они вернулись оба пьяные. Когда он такой, то себя не контролирует. Он вспомнил, что она отказалась идти с ним и что он кричал на нее на мосту через железнодорожные пути. На следующее утро, проснувшись, он не помнил больше ничего ни о путях, ни о девице, которая защищалась и которую он ударил. Когда он узнал, что она упала вниз и погибла, он обратился ко мне.
— И ты его защитил.
Васко снова покачал головой, глаза его были полны слез.
— Ты решил выбрать идиота-полицейского и начать его понемногу мистифицировать. Понемногу ведя меня к ошибке, заставляя меня самого строить версию, провоцируя маленькими полупризнаниями, мелкими насмешками и окончательной исповедью и портретом убийцы. Никто тебе никогда не платил, чтобы ты туда ходил, это очевидно. Именно ты писал письма, именно ты все сделал. Хорошо сделал, Васко, но не совершенно. Стиль кричал о подделке. Главным образом, волосы. Но все-таки это сработало: два месяца назад я был убежден, что фоторобот, полученный с твоей помощью, поможет найти убийцу с вокзала, этого мертвенно-бледного человека с тонкими губами, человека из Дрё, человека в итальянском пиджаке. Я мог бы искать этого типа очень долго, не так ли, Васко? Но тебя это совершенно не волновало.
— Совершенно.
— Когда твой брат оказался спасен под прикрытием этих ложных следов, твоя работа была сделана. Спасение и свобода. Ты ушел со скамьи, успокоился. Через некоторое время дело было бы закрыто из-за того, что не смогли найти замечательного убийцу из Дрё.
Васко всхлипнул и вытер нос рукой. Адамберг пожал плечами.
— Не жалей о нем, — сказал он. — Твой брат этого не стоит, это я тебе говорю. Гвоздя не стоит.
Васко посмотрел на него и сжал челюсти.
— В конечном счете, — процедил он сквозь зубы, — всегда появляется тупой полицейский. Всегда откопает мерзость — сейчас или позже. Я правильно написал о тебе.
Адамберг улыбнулся, вытянул ноги и развел руки. Он казался довольным.
— Ты тревожился по-пустому, — сказал он. — Целых два месяца ты ломал комедию впустую. Видишь, твоя поэзия бесполезна. Но действительно были красивые моменты. Мне это нравилось. А затем ты превзошел себя, — добавил Адамберг, — принеся лакея и торшер, и поставив их рядом, как двух влюбленных на улице. Ты не одолжишь их нам на разок, так как я уверен, что Данглар, в сущности, о них жалеет.
Он, улыбаясь, кивнул Данглару. Поскольку Васко с застывшим лицом сидел и молчал, Адамберг встал, подошел к его постели и потрепал по плечу.
— Никто не пострадает, — тихо сказал он, кладя руку около шеи старика. — Это не твой брат ее убил.
Васко медленно поднял глаза на Адамберга.
— Это не твой брат, ты меня слышишь? Убийцу взяли вчера — это любовник Колетт, одержимый, который преследовал ее. Сейчас он в комиссариате 10-ого округа, и он признался во всем. Жестокий с женщинами, но это не твой брат.
Васко встал с постели и протянул дрожащие руки к Адамбергу.
— Нет, никакой лирики. Васко. Просто дай мне торшер для нашей конторы, если хочешь. Но я так понимаю, что тебе будет его не хватать.
Васко устремился в угол и взял прибор, стоящий около ног лакея. Адамберг передал его Данглару, который благодарно поклонился.
— Но, тем не менее, — рискнул Васко, — где были вы, полицейские, с этой погибшей женщиной на вокзале?
— Нигде. Несчастный случай. Сдано в архив.
Васко оперся на своего лакея и некоторое время оставался неподвижным.
— Так, убийцу, — сказал он, — никогда бы не нашли?
— Если бы ты не пришел надоедать нам? Нет, никогда.
— Ага, видишь, — сказал Васко улыбаясь, — поэзия тоже для чего-то годится.
Попрощавшись с Васко, полицейские спустились по лестнице, и Адамберг захотел обсушиться, прежде чем идти с ответным визитом к коллеге из 10-ого округа. Данглару это казалось разумным, его огорчало видеть промокшую и измятую одежду комиссара. Данглар покачал головой. У Адамберга была походка парня, которому наплевать на всех.
Лейтенант предложил обсохнуть на солнечной террасе кафе и воспользоваться этим, чтобы глотнуть белого вина. Вскоре оба уже устраивались за столиком, и Данглар суетился размещая между ними торшер на пологом тротуаре. К ним подбежал официант.
— Вы не можете ставить эту штуку сюда перед кафе, — сказал он. — Немедленно уберите ее.
— Нет, — ответил Данглар. — Это, чтобы лучше видеть. Это — мое добро, мое достоинство.
Ночь зверей
Поэтому, если бы люди не раздували целую историю вокруг Рождества, было бы меньше трагедий. Люди по необходимости разочаровываются. И это приводит к драме.
Оставшись один в кабинете, комиссар Адамберг неразборчиво писал, расположив блокнот на бедрах, а ноги положив на стол. Он встал на ночную вахту вместе с Деньо, который дремал в приемной. Было 24 декабря, особый день, и все остальные парни находились снаружи. Они собирались праздновать приход зимы. Меньшая часть из них не упустила бы эту возможность ни за что на свете, а большая — просто не могла от этого отвертеться.
Для Жан-Батиста Адамберга все было по-другому: он опасался Рождества и готовился к нему. Рождество и сопутствующая череда несчастных случаев, Рождество и сопутствующий легион драм. Рождество, ночь зверей.
Неизбежно.
Адамберг медленно встал, подошел к окну и прижался лбом к запотевшему стеклу. Снаружи гирлянды лампочек бросали короткие вспышки на тела нищих, сжавшихся от холода в закоулках. Он попытался сосчитать, сколько денег сгорело таким образом за три недели в парижском небе, и ни одна монетка не упала в карман бродяг. Рождество, ночь разделения.
Он отложил блокнот и карандаш, поставил на угол стола две тарелки, достал бутылку вина, проверил содержимое духовки и позвал Деньо.
Неизбежно, что люди сильно раздражаются. Напряжение этого длинного периода, к концу которого должен засверкать отдых, давит им на нервы. Уже пять недель старый дед с белой бородой и в красном костюме оккупировал стены, глядя на всех жизнерадостно и многообещающе. Он неутомим, этот старикан. Лицо его, однако, выглядит так, словно он не просыхал всю свою жизнь. Но, ничего не скажешь, крепкий старикан. Кроме того, кажется, не чувствует холода. Никогда никакого насморка. Блаженный герой в великолепных красных сапожках.
С появлением этого старикана, напряжение растет скачками. Вся подвергнутая нападению страна съеживается и готовится к неизбежному ликованию.
Рождество приходится на день, который ничем не отличается от остальных. Но со всех сторон озабоченные и безмолвные существа в новых одеждах направляются к полюсам ликования. Каждый думает о других. Каждый озабочен подарками. Рождество — ночь подарков, большой передышки.
В Рождество все бранятся, большинство рыдает, часть разводится, а некоторые кончают жизнь самоубийством.
И лишь очень малая часть, но достаточная, чтобы заставить попотеть полицейских, убивает. Это — такой же день, как другие, но гораздо хуже.
Обмотав обе руки газетами, Адамберг осторожно достал блюдо из духовки. Деньо с недоверием смотрел на все это.
— Что это? — спросил он.
— Не знаю.
За исключением трех или четырех детских воспоминаний Адамберг был мало чувствителен к кулинарным изыскам. Он ел то, что находил, — иногда одно и то же в течение двух месяцев подряд. Он достал упаковку и протянул своему коллеге.
— Название ужина написано сверху, — сказал он.
— Это не рождественский ужин.
— Тем лучше. Отдохнем.
Деньо был новым сотрудником — из Шамбери. Чувствительный и аккуратный, он демонстрировал качества, которые беспокоили Адамберга. Комиссар опасался, что тот не проявит стойкости. И, в конце концов, полиция не должна ассоциироваться с парнем, который твердо верит в гуманизм.
Адамберг разломил батон и протянул половину молодому лейтенанту. Комиссар хранил детские деревенские воспоминания о жизни без излишеств, но Деньо не любил разломанный хлеб. Однако ему пришлось примириться.
Некоторое время мужчины ели молча.
— Поневоле люди доходят до крайности, — сказал Адамберг. — Шесть недель они изнемогают, чтобы обеспечить себя лучшим, чтобы продемонстрировать успех, чтобы измотать себя ради великого вечера. Поневоле они не выдерживают. Они срываются, они на взводе.
Деньо с сомнением покачал головой. Он еще верил в Рождество.
Адамберг открыл бутылку и без успеха предложил своему коллеге. Деньо не пил.
— А ты? — поинтересовался комиссар. — У тебя есть семья? Радостно ли встречаешь этот праздник?
Деньо сжал губы.
— Я обижен на всех.
— А, — протянул Адамберг.
— Вы тоже? — спросил Деньо.
Адамберг покачал головой.
— Нет. Мои живут в горах, там, — сказал он показывая в направлении Пиренеев. Они мне пишут. Одна из моих сестер прислала мне вчера нечто вроде животного из ткани, размером четыре сантиметра. Не знаю, что бы это могло быть.
Адамберг отложил вилку, порылся в нагрудном кармане старого черного пиджака и достал из него серый шар размером с мандарин. Он показал предмет своему коллеге, а затем осторожно поставил его на стол между ними.
— Ты бы сказал, что это бегемот?
— Я бы не настаивал. Может быть, лесная мышь?
— Мне нужно знать наверняка, потому что у сестры все всегда имеет скрытое значение. Она очень занудная.
Оба полицейских закончили еду молча, Деньо подобрал все, что можно, вилкой, Адамберг — большими кусками хлеба.
Крупная женщина перевалилась через парапет Национального моста и упала в черные воды Сены. Река текла быстро, подгоняемая холодным ветром. Никого на улицах, никто этого не видел. Кафе закрыты, такси нет, город опустел. Рождество — внутренний, домашний праздник. Никто не слоняется по улицам. Даже неисправимые отшельники вновь группируются по комнатам с двумя бутылками и четырьмя какими-нибудь идиотами. Одиночество, скитание, переносимое — иногда даже сравнительно легко — в остальное время года, внезапно кажется настоящим позором. Рождество позорит одиноких. И вот до полночи каждый нашел себе приют. Крупная женщина качалась в воде, и никто не вмешивался.
К четырем часам ночи Адамберг вышел из-за стола, чтобы сварить кофе. С десяти часов им пришлось лишь шесть раз подниматься по тревоге в своем секторе. Двое мужчин и женщина были госпитализированы в результате обсуждения за праздничным столом перспектив развода. Два других парня заканчивали ночь в комиссариате: мужчина, налитый под завязку красным вином, который желал во что бы то ни стало выйти через окно четвертого этажа, чтобы улететь с порывом ветра, и булочник, накачавшийся ромом и решивший убить соседей по этажу за нарушения тишины. Оба практически не оказали сопротивления и сейчас спали в камере в комиссариате.
Третьего мужчину отличал специфический английский шик и запах хорошего виски. Его подобрали, когда он с удобством возлежал поперек тротуара — руки под головой, очки и карта города лежали с одной стороны, обувь аккуратно стояла с другой. Его поместили в камеру к двум остальным, чтобы проспался и протрезвел, но он упрямо оставался стоять с двух часов и требовал вешалку, чтобы повесить костюм. Камеру вымыли из шланга, и на бетонных скамьях, на полу, стенах, облицованных белой плиткой, струилась вода. Гигиеническая и вынужденная процедура, которую лейтенант Брюс, жесткая деловая женщина, равнодушно проделала в девять часов. Идя со своим кофе, Адамберг увидел, что мужчина, накаченный красном вином, проснулся. Комиссар протянул ему между прутьев бумажный стаканчик.
— Выпейте.
Мужчина кивнул, сделал глоток и шумно откашлялся.
— Похоже, я хотел выйти через окно? — спросил он.
Адамберг подтвердил.
— И похоже, это не был цокольный этаж в Исудёне?
— В Париже, четвертый этаж.
— Да, они так и говорили. И это может быть правдой. Я спрашиваю себя, что они добавляют к вину. Ты знаешь, что они добавляют к вину?
— В вино.
— Да? Это уже немало, заметьте.
— Пейте, — повторил Адамберг.
— Я желал бы вешалку, комиссар, — вмешался шикарный человек, от которого пахло виски.
Это был большой и красивый мужчина приблизительно сорока лет с римским профилем, седыми висками, элегантный и неустойчивый, величественный и суетливый.
— Есть крючок на стене, — сказал Адамберг.
— Он деформирует воротник.
— Это смертельно?
— Не смертельно, но деформирует воротник.
— Ложитесь, — посоветовал Адамберг. — Поспите. Угомонитесь. Дайте нам покой с вашей вешалкой.
— Скамьи мокрые.
— Именно поэтому я вам рекомендую постелить пиджак.
— Это испортит ткань.
— Видели мой? Он изношен. Но я в нем уже двадцать лет.
— Я видел. Но вы — полицейский, я — нет.
— Светский танцор? — спросил Адамберг после молчания. — Преподаватель грамматики?
— Я — эстет, который смягчает и исправляет недостатки этого мира. Я выявляю кривые и обратные кривые архитектуры нашего мироздания, как на земле, так и на небе.
— Я сказал бы, что вы, главным образом, пьяны.
— Я желал бы вешалку.
— Вешалки нет.
Деньо присоединился к Адамбергу перед кофейным автоматом.
— Похоже, на сегодняшнюю ночь всё, — сказал он. — Не так уж суматошно, учитывая обстоятельства.
— Все успокоится только дня через три или четыре, — ответил Адамберг. — В Рождественскую ночь нет никого, чтобы замечать трупы, понимаешь? Они появятся позже. Нужно, чтобы все протрезвели. Это требует некоторого времени. Те, кто ошибся окном, те, кто ошибся дверью, постелью, улицей, женщиной, те, кто ищут свои пиджаки, своих мужей, свои вешалки, своих бегемотов. Нужно немного подождать.
Мощная река, еще более полноводная после осенних дождей, носила в своих объятьях крупное тело женщины всю ночь с 24 на 25 декабря, вновь подхватила его вечером 26 и оставила на заре 27-го под узким мостом Архиепархии у левого берега.
Адамберг принял вызов утром, почти в девять. День только начинался.
Комиссар сжимал в руках телефонную трубку. Он стеснялся звонить лейтенанту Данглару. Данглар по утрам был недееспособен и чувствителен к насилию. Адамберг осторожно положил трубку. Он щадил Данглара. Вид плавающего тела был, разумеется, неприятен. Женщина должна была умереть более двух дней тому назад — в Рождественскую ночь. В этом он был почти уверен.
Адамберг взял с собой Деньо. В конце концов, именно с ним он начал дежурство.
— Что я тебе говорил? — заметил Адамберг, держа руки на руле. — Надо было ждать.
— Ничто не указывает, что она умерла 24-го.
— Да нет же, Деньо. Все именно так: Рождество, ярмарка желаний. Запреты рвутся, барьеры падают. Некоторые желают бегемота, другие оплачивают женскую шкуру.
Деньо пожал плечами.
— Да, — спокойно повторил Адамберг. — Увидишь!
Он поставил машину на тротуаре, поднял красно-белые пластиковые ленты, которые преграждали доступ к набережной Монтебелло, и спустился по ступеням к реке. Деньо осторожно следовал за ним по грязной лестнице. Деньо был помешан на чистоте, безумно боялся микробов и все четыре года, как он стал полицейским, старался, чтобы никто этого не заметил. Он натянул перчатки и надвинул на нос шарф. Воздух был влажный, дул холодный ветер. Перед ним шел Адамберг — с голыми ладонями, без шляпы, куртка распахнута и воротник расстегнут, — он шагал спокойно и уверенно. Этот мужик никогда не мерзнет, совсем как Пер Ноэль [2].
Адамберг остановился около тела, потирая руки. Два агента, судебный эксперт, парни из лаборатории. Деньо узнал Вашера, бесстрашного фотографа, который зарывался в самую глубину этого ужаса объективом своего фотоаппарата не моргнув глазом. Именно его часто вызывали в тяжелых случаях, и он стал символом чего-то гадкого. Деньо остался позади с наветренной стороны, нос закутан в шарф.
— Я бы сказал, два или три дня, — произнес судебный эксперт. — Это дает нам время смерти в ночь с 24 на 25.
Адамберг бросил быстрый взгляд на Деньо. Деньо понимающе кивнул в ответ. Да, верно, Рождественская ночь — ночь зверей. Адамберг такой. Он знает все, он предупрежден. Ему этого достаточно, — как-то говаривал Данглар, потягивая пиво.
— Я дам тебе официальный отчет завтра, — продолжал врач.
— А на твой взгляд?
— Банальное самоубийство.
— Ты не знаешь.
— Женщину?
— Нет. Я про то, что это не банальное самоубийство.
Эксперт пожал плечами.
— Она умерла потому, что утонула, — продолжал он. — Я приведу тебе доказательства.
— Возраст?
— Пятьдесят, шестьдесят. Она бросилась с моста. Ушибы, она без сомнения столкнулась с опорой моста. Хочу сказать, что она не бросилась с берега. Она приплыла откуда-то с верховьев, ее принесла река.
— Можно ее переместить? — спросил Адамберг у парней из лаборатории.
— Мы закончили. Можете переворачивать.
Адамберг надел перчатки и с помощью одного из техников перевернул тело. Невольная гримаса отвращения появилась на его лице.
Оба мужчины молча рылись в одежде. На женщине было обычное голубое платье под шубой. В карманах ключи, портмоне, никаких бумаг. Без обручального кольца, блестящих драгоценностей, но золотые наручные часы.
— Это не вечернее платье, — сказал Деньо. — Может, это было не 24-го?
— 24-го, — упорно повторил Адамберг.
— Недостает одной туфли.
— Я вижу, старина.
— Она в воде.
— Мы прочешем драгами сектор. Деньо, ты пройдешь вверх по реке, осматривая правый берег. Вызови Данглара, чтобы он помог тебе на левом берегу. Я беру на себя мосты. Она могла упасть с моста Толбиак, с Национального моста или дальше еще, в Шарантоне. Ищем сумочку, ищем документы, ищем, кто это такая. И ищем туфельку, как для Золушки.
— Для Золушки было наоборот, — скромно заметил Деньо. — Там как раз была туфелька, а искали женщину.
— Ладно, допустим, — сказал Адамберг.
Деньо был не только добродетельным, но и добросовестным. Он не допускал неточностей, в то время как Адамберг ими жил.
— Туфелька могла упасть и остаться выше по течению, — заметил Деньо.
— Мы не собираемся обшаривать дно Сены до самого истока в Мон-Жербье-де-Жон, — сказал Адамберг. Ищем только под этим мостом.
Врач закрыл свой чемоданчик, тело уложили на носилки, поместив в пластиковый чехол. Адамберг удалился, медленно диктуя распоряжения по мобильнику. Затем он спрятал телефон в пиджак, натолкнулся при этом на бегемота сестры и поднял глаза к мосту.
— Работенка обещает быть трудной, будьте к этому готовы, — сказал он Деньо. — Очень трудной. Возможно, мы ничего не найдем.
— Я не понимаю.
— Убийство, — объяснил Адамберг, разводя руки. Это чистое четкое убийство. Работенка потруднее, чем камни дробить.
— Убийство?
— Но ведь туфелька, Деньо, черт побери.
— Говорят, она в Сене.
— Это ты так говоришь, — заметил Адамберг, качая головой. — Тело распухло, и вторая туфелька намертво держится на ноге. Та, которую мы ищем, не в Сене. Она упала, когда убийца переваливал труп, убийца ее и взял.
— Никаких доказательств, — тихо пробормотал Деньо.
— Нет, никаких доказательств. Жаль, что эта другая туфелька не захотела ничего нам рассказать. Ты представляешь, Деньо, как информативна обувь? Что можно узнать по ней о людях? Да почти все, в сущности. Возможно, что наши мысли находят отражение в обуви.
Жан-Батист Адамберг медленно осматривал пятый мост, мост Берси, когда ему позвонили из службы розыска пропавших без вести. Он укрылся за парапетом и заткнул второе ухо пальцем.
— Говорите громче, старина!
— Анни Рошель, — кричал полицейский. — Об исчезновении заявили сегодня утром в восемь тридцать.
— Кто заявил?
— Ее соседка, подруга. Она должна была прийти к ней вчера вечером, чтобы проводить Рождество. Она не пришла. Описание подходит.
Тремя часами позже, Адамберг присоединился к Деньо и Данглару в кафе на улицы Вуйе, расположенному напротив дома покойной. Женщину опознали. Анни Рошель, пятьдесят шесть лет, не замужем, родилась в Лилле.
— Что еще нам известно?
— Она росла около Лилля в маленькой деревне. В двадцать лет приехала в Париж работать горничной. Десять лет тому назад ее брат забрал ее оттуда и купил ей Отель-де-ля-Гард, недалеко отсюда — тридцать две комнаты. У брата есть деньги.
— Он живет в Париже?
— Да. Других родственников у нее нет.
— Сумка? Туфелька?
— Ничего.
— В данный момент, — сказал Данглар, — туфелька должна доплыть до Руана.
Адамберг молча покачал головой.
— Раз уж об этом зашла речь, — неуверенно вмешался Деньо, — Сена не берет начало в Мон-Жербье-де-Жон.
Адамберг озадаченно посмотрел на лейтенанта.
— А что берет начало в Мон-Жербье-де-Жон?
— Луара, — робко сказал Деньо.
— Это правда, Данглар? Луара?
Данглар кивнул.
— Сена, — почти неслышно продолжал Деньо, — начинается на плато Лангр.
— Никогда о таком не слышал. А вы знали про это плато Лангр, Данглар?
— Да, — подтвердил Данглар.
Адамберг задумчиво покачал головой.
— Во всяком случае, — заявил он, — жертва прибыла ни с плато Лангр ни с Мон-Жербье-де-Жон. Она прибыла с улицы Вуйе. Заканчивайте ваше пиво, Данглар, и мы поднимемся к ней.
— За нами, — сказал Данглар, оттопырив большой палец, ее брат. Он возвращается из морга.
— Потрясен?
— Да, кажется.
— Часто ли они виделись с ней?
— Один-два раза в неделю.
— Расскажите мне о нем.
Данглар порылся во внутреннем кармане пиджака и достал карточку.
— Его зовут Жермен Рошель, он вырос в той же деревне около Лилля. Ему шестьдесят три года, одинок. Как и сестра, скажем, но он все-таки мужчина. Но он преуспел. Импорт-экспорт консервированных овощей, большой завод в Лилле, крупное состояние, обосновался в Швейцарии и вернулся десять лет тому назад. Он продал дело, реализовал собственность, ушел на покой и живет на ренту в Париже.
— На широкую ногу?
— Весьма. Возвратившись во Францию, он купил этот отель для сестры.
— Почему не раньше?
— Она жила с парнем, которого он ненавидел. Подлец, по его словам. Они не виделись в течение двадцати лет — до тех пор, пока она не бросила того парня.
— Его имя?
— Ги Вердийон. Он был администратором в отеле, где работала Анни.
— Что она делала вечером 24-го?
— Поужинала с братом в большом ресторане на улице Опера. У нас есть свидетели — водители грузовиков. Он проводил ее и оставил на углу ее улицы около полуночи.
Адамберг взглянул на брата. Неповоротливый мужчина с короткими руками и в крупном сером пальто обхватил руками лысую голову.
Осмотр квартиры Анни Рошель начался в пять часов и шел медленно и рутинно. «Ищем сумочку», — сказал Адамберг. Он снял со стены гостиной большую рамку, составленную из мозаики детских фотографий. Школа, причастие, дни рождения, родители, первая машина, купание в море. Жермен Рошель, тяжело опустившийся на бархатный стул, смотрел на все это. Адамберг поставил рамку на пол.
— Это не из праздного любопытства, — сказал он. — Мне нужно составлять представление обо всех.
— Там не какие-то «все», — ответил Рошель. — Это мои родители.
Полицейские покинули здание через час — без сумочки. Адамберг держал подмышкой рамку с детскими фотографиями. Рошель, ссутулившись, последовал за ними.
— Для чего это? — спросил Данглар, движением подбородка указывая на рамку.
— Не знаю, — ответил Адамберг. — Мне она понравилась. Я увожу Рошеля для составления протокола. Идите в отель, опросите весь персонал и, главное, найдите мне эту пропавшую сумочку.
Данглар вернулся в комиссариат вечером, записав свидетельские показания одиннадцати служащих Отель-де-ля-Гард. Деньо прибыл к двадцати часам. Ни на каком мосту, ни на каком берегу туфельки не обнаружилось.
— Она у убийцы, — сказал Адамберг.
— Кто? — спросил Данглар.
— Туфелька.
Данглар покачал головой и сел, уронив свои мягкие плечи.
— Эта женщина убила себя, — заявил он. — Служащие подтвердили свидетельство брата: Анни Рошель шла по наклонной. С начала осени — меланхолия, молчание, резкость, бессонница и внезапные перемены настроения.
— Если бы это было так, сейчас все были бы в Сене. Обувь у убийцы. И сумочка тоже.
Данглар подточил карандаш, разбросав несколько деревянных стружек.
— Управляющая сказала, что Анни Рошель хотела вернуться в сельскую местность своего детства — около Лилля. Разве это не знак? Она хотела вновь увидеть…
Данглар прервался и взглянул на записи.
— …«маленький черный дом, где она росла с братом». Разве это не причина, по которой хочется броситься в воду? Маленький черный дом на севере?
Данглар вновь положил листки на стол и открыл пиво.
— Она прыгнула со своей сумочкой, — сказал он. — Сумочкой и туфелькой. В настоящее время они уже миновали Руан. Они плывут к Гавру.
— Не бросаются в воду с сумочкой, Данглар. Оставляют след о себе. Письмо на столе, сумочку на мосту, следы своего существования. И эта пропавшая сумочка — не мелочь. Убийца сохранил ее.
— Почему?
— Чтобы в ней порыться. Уничтожить документы, избежать неприятностей.
— Я хотел бы получить вешалку, — неожиданно раздался печальный и простуженный голос.
Данглар внезапно повернулся к камере.
— Он вернулся, этот парень?
— Да, — со вздохом произнес Адамберг. — В одиннадцать часов его обнаружили за рулем машины полумертвым. Он пожелал сделать маленькую передышку между двумя вечеринками. Он хочет вешалку.
— Опять этот помятый воротник?
— Опять.
Адамберг медленно направился к камере.
— Я забыл ваше имя.
— Шарль. Шарль Санкур.
— Шарль. Вы же не держитесь на ногах. Ложитесь. Поспите.
— Сначала вешалку.
— Шарль. У меня на шее убийство. Убийство в Рождество, в первобытную ночь. Очень неприятная вещь, гораздо неприятнее, чем помятый воротник пиджака. Дайте же мне покой. Спите. Закройте рот.
Шарль бросил на комиссара тяжелый взгляд римского императора, разочарованного своей преторианской гвардией.
— У вас, однако, глаза человека который видит, что мелочь оказывается важной для большого дела. Между смешным и великим расстояние тоньше ногтя.
— Спите, Шарль.
Адамберг вернулся за стол, где Данглар делал пометки на дневных допросах.
— Она умела плавать? — спросил комиссар.
— Это не имеет значения, — ответил Данглар. — Сена такая холодная, что не спастись. Ее шуба, во всяком случае, была достаточна, чтобы утянуть ее на дно.
— Справедливо.
— Она убила себя. На Рождество все убивают себя, и лишь некоторым удается этого избежать.
Адамберг взял блокнот и некоторое время неразборчиво писал.
— Когда мы хотим очутиться в Сене, Данглар, мы не бросаемся над опорой. Мы бросаемся в воду между двумя опорами. Она не прыгала, никогда.
Данглар прикусил губу. Он забыл про ушибы. Он представил себя ночью, на парапете, над рекой.
Конечно же, он бросился бы между опорами. Он посмотрел на Адамберга и согласно кивнул.
— Убийца ее знал, — продолжал комиссар. — Это мужчина. Нужна сила, чтобы убить и перекинуть через парапет такую грузную женщину, как Анни. Когда он ее бросал, туфелька осталась в его руке. Он сунул ее в сумочку и ушел.
— Почему он не бросил туфельку в воду?
— А-а.
Адамберг нарисовал карандашом еще что-то.
— Потому что обувь была повреждена во время борьбы, — сказал он мягко. — На ней эти следы, возможно, остались. Убийца не хотел рисковать.
Данглар с напряженной шеей допил свое пиво из горлышка.
— Эта женщина никому не мешала, — сказал он, отодвигая бутылку. — Всем заправлял брат. В отеле ее не любили, но не ненавидели.
— У нее были деньги.
— Именно к брату возвращались эти деньги. И у него их в двадцать раз больше, чем у Анни.
Адамберг вздохнул, взял рамку с фотографиями, которая стояла на полу, и стал ее молча рассматривать.
— Я хочу помочиться, — сказал серьезный мужской голос из камеры.
— Там есть дыра в полу, — сказал Данглар. — За небольшой стенкой.
— Я не хочу мочиться в дыру, — заявил Шарль Санкур. — Я хочу мочиться в туалете. И, если возможно, я хотел бы, чтобы мне дали вешалку.
Данглар встал, напрягшись, но Адамберг взглядом остановил его. Он положил рамку на стол и пошел открывать дверь камеры.
— Сопроводите его, Данглар, — сказал он.
Мужчина вышел из камеры и величественными, но нетвердыми шагами последовал за Дангларом, высоко держа голову. Адамберг пошел за тремя стаканчиками кофе, с которыми через некоторое время медленно вернулся. С порога кабинета он увидел Шарля, который ждал его, расположившись на стуле его помощника и потягиваясь.
Адамберг поставил кофе и перевернул рамку фотографиями вниз.
— Где Данглар? — спросил он.
— Освобождается от пива, — ответил Шарль.
Одной рукой Адамберг подтолкнул мужчину к камере, защелкнул замок и протянул кофе.
— Долго я тут еще пробуду? — спросил Шарль.
— До вытрезвления.
— Я могу протрезветь и в другом месте.
— Не за рулем. Такие дела.
— Тогда, я охотно взял бы вешалку.
— Дерьмо!
— Знаю. У вас на руках убийство. Тем хуже, я буду спать стоя, как лошадь.
И Шарль закрыл глаза, прямо как статуя.
Адамберг внимательно изучал протоколы допросов. Данглар заснул.
После часа таких занятий комиссар потряс своего помощника.
— Любовник? — спросил он. — Вам говорили о любовнике?
— Нет. Никого, кроме этого Ги — администратора, который исчез.
— Надо его найти.
— Его больше нет во Франции. Могут пройти месяцы, пока его найдут.
— Завтра повторно вызовем брата. Он может нам рассказать о нем.
— Он это уже сделал.
— То, о чем не говорил. Я уверен, Данглар, у этого типа, как говорится, весь зад во лжи.
— Браво! — внезапно произнес Шарль.
Адамберг повернул голову к камере. Оттуда, стоя и скрестив руки на груди, на него смотрел Шарль.
— Все еще не спишь? Со всем тем, что загрузил в себя?
— Вопрос профессии, терпения, — каждому свое.
— Он просто такой, — внезапно сказал Данглар, — пьян или не пьян. Я больше не поведу этого щеголя.
— Браво за что? — спросил Адамберг.
— Брат лжет, — ответил Шарль.
Адамберг положил руку на плечо Данглару, чтобы заставить его сесть, и подошел к камере.
— Сначала вешалку, — заявил Шарль, требовательно протягивая руку через решетку. — А затем — правда.
— Осторожно! — воскликнул Данглар. — Завтра он расскажет обо всем газетчикам, и вы будете выглядеть идиотом.
— Со мной такое часто случается, — вздохнул Адамберг.
— Сначала вешалку, — повторил Шарль, все еще протягивая руку.
— Поищите в гардеробе, — сказал Адамберг, глядя на Данглара. — Возьмите большую деревянную вешалку.
Взбешенный Данглар вышел, хлопнув дверью, и вернулся двумя минутами позже с вешалкой, которую швырнул на стол.
Адамберг взял ее и вложил в напряженную руку. Шарль снял пиджак, брюки, разгладил их и повесил вешалку на крючок. Затем, в белой рубашке и трусах, он сел на влажную скамью и сделал приглашающий знак Адамбергу.
— Входите, комиссар. И принесите мне эту рамку с фотографиями. Вы уж простите, если скамья влажная, — здесь скрупулезные служащие, которые преувеличенно заботятся о комфорте заключенных.
Адамберг сел, и Шарль взял рамку.
— Здесь, — сказал он, указывая пальцем на одну из фотографий, — вот брат, ему одиннадцать лет, он стоит на газоне со своими товарищами перед первым причастием. Согласны?
Адамберг кивнул.
— А там, — продолжал Шарль, передвигая палец, — в небе летит птица.
Шарль поставил рамку на пол.
— Это — профессиональная фотография, — продолжал он. — Птица отчетливо видна — белозобый дрозд, Turdus Torquatus alpestris. Самец, очень хорошо узнаваемый по белому полумесяцу, который пересекает зоб.
— А-а, — протянул Адамберг ничего не выражающим голосом. — Хочу вам верить.
— Можете.
— Давайте, старина. Продолжайте. Я дал вам вешалку.
— Этот вид встречается только на юго-востоке Франции. Его не встретишь к северу от Луары. Эта фотография сделана не в Лилле. Этот человек не вырос в Лилле. Он лжет.
Адамберг несколько секунд сидел молча, не шевелясь, сложив руки на животе, вытянув ноги и чувствуя, как ягодицы начинают мерзнуть от влажной скамьи.
— То есть, вы говорите, что брат не является братом? — спросил он.
— Но он хотел бы, чтобы так считали, — ответил Шарль. — Вся эта рамка — только монтаж, трюкачество.
Данглар вошел в камеру с новым пивом и сел на скамью напротив.
— Где может быть брат? — спросил он. — В Швейцарии?
Адамберг взял рамку и стал рассматривать лицо мальчика вблизи.
— Умер, — сказал Адамберг. — Этот парень — любовник, администратор. Они с ней избавились от брата десять лет тому назад, взяли его имя и его деньги. Купили отель.
Шарль кивнул.
— Что вы думаете об этой системе мокрых скамей? — спросил он у Данглара.
— Думаю, что это для заморозки зада. Полицейская система.
— Не очень дружелюбна, а?
— Дискомфорт и унижение, — сказал Данглар, — это и есть главная идея вытрезвительной камеры. Чем хуже идея, тем дольше ее применяют. Вы — журналист?
— Орнитолог.
— Очевидно, — кивнул Адамберг.
Комиссар медленно встал, потирая ладонями холодные брюки. Он вновь взял рамку и рассмотрел маленький белый полумесяц, который украшал зоб летящей птицы.
— Сущая мелочь, — сказал он, — разрушила великий обман.
— Вот именно, — кивнул Шарль.
Арестовали Жермена Рошеля — то есть, Ги Вердийона — на рассвете. В десять минут двенадцатого он потел под внимательным взглядом Шарля Санкура, который, вцепившись в прутья и все так же в рубашке и трусах, получил молчаливое право присутствовать при допросе.
Мотив для убийства Анни Рошель? Ссора, деньги и шантаж, но Вердийон не желал этого допускать. Он твердо держался одной версии: он бросил тело сообщницы в воду потому, что она ему надоела. Данглар посчитал этот аргумент слабым. Нет, ответил Адамберг. В ночь Рождества в этом нет ничего удивительного.
Рождество, первобытная ночь.
К часу, Шарль вышел из комиссариата с безукоризненным воротником и промокшей задницей.
— Он забыл свою вешалку, — сказал Адамберг.
Он снял ее с крючка и зашагал вслед за мужчиной в белом пластроне, который вышел на улицу.
— Это не его вешалка, — возразил Данглар для проформы.
Он очень хорошо знал, что ему ответил бы Адамберг. Он ответил бы: «Но конечно же, это его вешалка». Перечить Адамбергу было его делом. Маленьким делом, слов нет. Но малое способно разрушить великое. Вот такая история. А Данглар уже давно это знал.
Пять франков за штуку
Это был конец, в этот вечер ему не продать больше ни штуки. Слишком холодно, слишком поздно, улицы опустели, было почти двадцать три часа на площади Мобер. Мужчина сместился вправо, толкая перед собой тележку, руки напряжены. Эти разболтанные тележки из супермаркета не отличались точностью хода. Необходима была вся сила рук и глубокое знание устройства, чтобы удерживать его на прямой. Тележка была упрямой, как осел, норовила свернуть вбок, упиралась. Приходилось ее уговаривать, ругать, толкать, но, как и осел, она позволяла таскать уйму товара. Упрямая, но верная. Он называл свою тележку Мартеном — из уважения к работе, которую проделывали ослы в прошлом.
Мужчина припарковал свою тележку около столба и привязал ее цепочкой, к которой прикрепил крупный колокольчик. Если бы мальчишки-мерзавцы попытались стибрить груз губок во время его сна, он нашел бы, что им сказать. В этот вечер ему удалось продать пять губок — просто конец света! Это дало двадцать пять франков, да еще шесть оставалось со вчерашнего дня. Он достал спальный мешок из пакета, подвешенного под брюхом тележки, улегся у входа в метро и съежился. Невозможно идти греться в метро — пришлось бы оставить тележку на площади. Таким образом, когда у тебя есть животное, проходится идти на жертвы. Он никогда не оставил бы Мартена снаружи одного. Мужчина спросил себя, а как поступал бы его прадед, когда переходил из города в город со своим ослом, обязан ли он был укладываться около своей скотинки в полях с чертополохом. Ответа все равно на было, потому что у него не было ни прадеда, ни какого-либо другого родственника. Но это не мешает об этом думать. И когда он об этом думал, он представлял себе старика с ослом, которого звали Мартеном. Что перевозил этот осел? Возможно, селедку, или эльбёфское сукно, или бараньи шкуры.
Ему приходилось возить на продажу множество этих всяких штуковин. Столько, что под ними уже сломались три тележки. Этот осел был из четвертого поколения. Именно он первый начал возить губки. Когда он обнаружил эту залежь выброшенных губок в сарае в Шарантоне, то понял, что спасен. 9732 люфы, он их пересчитал, поскольку с самого детства любил цифры. Помножить на пять франков. Больше запрашивать невозможно, потому что у губок не было хорошей родословной. Итак, 48660 франков, мираж, океан.
Но за четыре месяца, в течение которых он возил губки из сарая в Шарантоне в Париж и толкал Мартена по всем улицам столицы, он продал в точности 512 губок. Никому они были не нужны, никто не останавливался, никто и не смотрел ни на его губки, ни на тележку, ни на его самого. При таком темпе ему потребуется 2150,3 дня чтобы разгрузить сарай, то есть шесть лет, запятая, семнадцать сотых, в течение которых придется таскать своего осла и себя самого. Цифры — это был его конек. Но никто не обращал внимания на его губки за исключением пяти человек в день. Это совсем не много: пять проклятых человек из двух миллионов парижан.
Свернувшись калачиком в спальном мешке, мужчина подсчитывал процент покупателей губок среди парижан. Со своего места он увидел, как остановилось такси, из него вышла женщина — очень тонкие ноги, затем пальто с белом мехом. Разумеется, в его процент не входит подобная женщина. Возможно она даже не знает, что это губка — как она разбухает, как сжимается. Она обогнула его, не видя, прошла мимо, двинулась вдоль противоположного тротуара, набрала код на входе в здание. Тихо подъехала серая машина, осветила ее фарами и затормозила около нее. Водитель вышел, женщина повернулась. Продавец губок встревоженно нахмурился. Он вполне способен был узнать парней, которые охотятся за женщинами, и это было не в первый и не и в последний раз, когда ему хотелось их убить. Благодаря тому, что он возился с тяжелыми и непокорными тележками, он заработал себе руки грузчика. Раздалось три выстрела, и женщина рухнула на землю. Убийца вернулся в машину, завел двигатель и уехал.
Продавец губок распластался как можно ниже у входа в метро. Старая куча одежды, валяющаяся на холоде, — именно это увидел убийца, если вообще туда посмотрел. На этот раз эта ужасная незаметность, свойственная рядовым работягам, спасла ему шкуру. Извиваясь и дрожа, он выскользнул из спального мешка, скатал его и спрятал в пластиковый пакет под брюхом тележки. Он приблизился к женщине, склонился к ней в темноте. Кровь испачкала шубу, сделав жертву похожей на молодого тюленя, забитого на припае. Он встал на колени, взял сумочку и быстро открыл ее. В окнах загорался свет — в трех, затем в четырех. Он бросил сумку на землю и побежал к своей тележке. Полицейские припрутся быстро, вопрос минут — это шустрые парни. Лихорадочно он рылся в карманах в поисках ключа от замка на цепочке. Ни в брюках, ни в куртке. Он продолжал рыться. Бежать? Бросить Мартена? Предать такого выносливого и такого верного товарища? Он вывернул все свои восемь карманов, прощупал рубашку. Полицейские, черт бы их побрал, полицейские со своими вопросами. Откуда взялись губки? Откуда взялась тележка? Откуда пришел мужчина? В бешенстве он дергал тележку, пытаясь оторвать ее от металлического столба, и колокольчик глупо и весело трезвонил среди ночи. И очень быстро: сирена, и беспорядочный бег людей, а затем короткие отрывочные фразы, эффективная и проклятая энергия полицейских. Мужчина занялся своей тележкой, засунул руки в кучу губок, и слезы потекли из его глаз.
Через полчаса на него набросилась целая свора полицейских. С одной стороны, он был важным парнем — единственный свидетель бойни, и его берегли, его расспрашивали, интересовались его именем. С другой стороны, он был всего-лишь кучей старого тряпья, и его трясли, ему угрожали. И самое худшее, его собирались везти в комиссариат одного, а он всеми силами цеплялся за тележку, крича, что, если ее не привезут вместе с ним, он не скажет им ни слова, а скорее лопнет. Сейчас улица была освещена прожекторами, стояло множество машин с мигалками, мелькали фотографы, появились носилки, какие-то приборы, везде обеспокоенный шепот, телефоны.
— Проводим этого парня пешком до комиссариата, — раздался голос неподалеку.
— С тележкой, полной дерьма? — спросил другой голос.
— Я считаю, что да. Сломайте замок. Я к вам присоединюсь через двадцать минут.
Мужчина с губками повернулся и посмотрел, что за полицейский отдал этот приказ.
Сейчас он сидел напротив него в плохо освещенном кабинете. Тележку поместили во дворе комиссариата между двумя большими машинами под непосредственным наблюдением хозяина.
И теперь мужчина ожидал, съежившись на стуле, стаканчик кофе в руке и пластиковый пакет на коленях.
Телефоны все время звонили, кто-то постоянно входил и выходил — доклады, инструкции, приказы. Общая тревога, потому что упала женщина в мехах. Уверен, что если бы речь шла о Монике, даме в киоске, которая каждое утро позволяла ему читать новости при непременном условии не открывать газету до фальца, поэтому он знал мир лишь наполовину, никогда не проникая до сердца, — так вот, будь это Моника, не бегало бы из кабинета в кабинет десять полицейских, как если бы всю страну залил потоп. Мирно ожидали бы перерыва на кофе, чтобы прогуляться до киоска и констатировать ущерб. И не трезвонили бы на весь мир. А для женщины в белом на уши встало полстолицы, несколько он понял. Для этой маленькой женщины, которая никогда не сжимала в руках губку.
В данный момент полицейский, похоже, ответил на все телефонные звонки. Он провел рукой по щеке, тихо сказал что-то своему помощнику и долго смотрел на задержанного, как если бы пытался разгадать всю его жизнь, ничего не спрашивая. Он представился как главный комиссар Жан-Батист Адамберг. Полицейский попросил документы, и у мужчины взяли отпечатки. И все это время полицейский неотрывно смотрел на него. Его будут спрашивать, его заставят говорить обо всем, что он видел с тротуара. Не рассчитывайте! Он был свидетелем, единственным, неожиданным свидетелем. Его не трясли, с него сняли пиджак, усадили с теплым кофе. Подумать только! Свидетель, редкий предмет, игрушка. Ожидают, что он проболтается. Не рассчитывайте!
— Вы спали? — спросил комиссар. — Когда это произошло, вы спали?
У полицейского был приятный, интересный голос, и человек с губками оторвал взгляд от кофе.
— Собирался спать, — уточнил он. — Но всегда что-то отвлекает.
Адамберг взял кончиками пальцев его удостоверение.
— Туссен, Пи. Это ваше имя — «Пи»?
Человек c губками гордо выпрямился.
— Мое имя растворилось в кофе, — сказал он с некоторой гордостью. — Только это и осталось.
Адамберг продолжал смотреть на него, не отвечая и ожидая, что человек, как всегда, прочитает ему всю поэму до конца.
— На Праздник всех святых [3] мать принесла меня в приют. Она записала мое имя в большую книгу. Кто-то меня обнял. Кто-то другой поставил свою чашку на эту книгу. Имя стерлось из-за кофе, осталось только две буквы. Но «пол мужской» не растворилось. К счастью.
— Должно быть, это был «Пьер»?
— Осталось только «Пи», — твердо сказал мужчина. Моя мать возможно и написала «Пи».
Адамберг покачал головой.
— Пи, — кивнул он. — Как долго вы живете на улице?
— Раньше я был ножовщиком, ходил из города в город. Затем продавал чехлы, пятновыводители, насосы для велосипедов, носки и нитки. В сорок девять лет я оказался на панели с грудой водонепроницаемых часов, заполненных водой.
Адамберг снова посмотрел на удостоверение личности.
— Оно действует десятую зиму, — заметил Пи.
Затем он напрягся, готовясь к шквалу обычных вопросов о происхождении товара. Но ничего не произошло. Комиссар откинулся на своем стуле, поднял руки к лицу, словно для того, чтобы его разгладить.
— Настоящий кавардак, не правда ли? — спросил Пи с полуулыбкой.
— Никакого кавардака, — ответил Адамберг. — Все зависит от того, что вы нам скажете.
— Был бы подобный кавардак, если бы это была Моника?
— Кто такая Моника?
— Дама в киоске, дальше на проспекте.
— Хотите правду?
Пи покачал головой.
— Так вот, для Моники не было бы ничего подобного. Кавардак только ради этого маленького расследования. Не были бы двухсот человек, которые жаждали бы знать, что вы видели.
— Она, она меня не видела.
— Она?
— Женщина в мехах. Она обошла меня как кучу трепья. Она меня даже не видела. Тогда почему я должен был это видеть? Нет причины, как аукнется, так и откликнется.
— Вы ее не видели?
— Только куча белого меха.
Адамберг наклонился к нему.
— Но вы не спали. Выстрелы должны были вас насторожить, не так ли? Три выстрела, это сильный шум.
— Не в этом дело. У меня тележка, за которой надо следить. У меня нет места, где жить.
— Ваши следы на сумочке. Вы ее брали?
— Я ничего не взял из нее.
— Но вы приблизились к ней после выстрелов. Вы видели.
— И что дальше? Она вышла из такси, она обогнула мою кучу трепья, прибыл парень на драндулете, трижды бабахнул по куче меха, и баста. Ничего другого я не видел.
Адамберг встал и сделал несколько шагов по комнате.
— Ты не хочешь помочь, это так?
Пи прищурился.
— Вы говорите мне «ты»?
— Полицейские говорят «ты». Это повышает эффективность.
— Значит, и я могу говорить «ты»?
— У тебя нет для этого оснований. Тебе незачем повышать эффективность, так как ты не хочешь ничего говорить.
— Вы будете меня бить?
Адамберг пожал плечами.
— Я ничего не видел, — сказал Пи. — Это не мое дело.
Адамберг прислонился к стене и смотрел на него. Мужчина достаточно потрепанный: недоедание, холод, вино — они огрубили лицо и согнули тело. Борода была еще наполовину рыжей и подрезана ножницами как можно ближе к щекам. У него был маленький женский носик и голубые глаза, окруженные морщинами, выразительные и живые, которые не могли выбрать между бегством и перемирием. Но еще немного, и этот парень положит на пол свой пакет, вытянет ноги, и они смогут побеседовать, как два старых приятеля в вагоне поезда.
— Можно курить? — спросил Пи.
Адамберг согласился, и Пи опустил руки в пластиковый пакет, откуда, отодвинув старый красно-синий спальный мешок, вытащил сигарету из кармана куртки.
— Жаль, — сказал Адамберг, не шевелясь у стены, — эта твоя история про кучу трепья и кучу меха, кувшин из обожженной глины и железный горшок. Ты хочешь, чтобы я тебе рассказал о том, что под тряпьем и под мехами? Или не хочешь этого знать?
— Грязнуля, продающий губки, и важная женщина, которая никогда их не покупала.
— Человек в дерьме, который знает кучу всего, и женщина без сознания с тремя пулями в теле.
— Она не умерла?
— Нет. Но если мы не поймаем убийцу, он закончит свое дело, можешь не сомневаться.
Человек с губками нахмурил брови.
— Почему? — спросил он. — Если бы напали на Монику, на следующий день ничего бы не продолжалось.
— Говорю же, что это не Моника.
— Кто-то важный, не так ли?
— Кто-то из тех, кто на самом верху, — сказал Адамберг поднимая указательный палец, — недалеко от министерства внутренних дел. Поэтому и кавардак.
— Ладно, меня это не касается, — сказал Пи, повышая голос. — Я не на балансе министерства и я не участвую в вашем кавардаке. Мой кавардак — это продать 9732 губки. И никого мои кубки не касаются. И никто не придет мне на помощь. И никто, совсем никто наверху, не спрашивает себя, что можно было бы сделать, чтобы я не отморозил себе яйца зимой. И теперь им нужна моя помощь? Чтобы я сделал их работу, чтобы я их защитил? И у кого губки, у них или у меня?
— Лучше иметь 9732 губки, чем три пули в теле.
— Да неужели? Я в этом не так уверен. И вы хотите, чтобы я вам рассказал, комиссар? Да, я видел что-то. Да, я видел как парень стрелял, да, я видел его драндулет!
— Я уже знаю, что ты видел все это, Пи.
— В самом деле?
— В самом деле. Когда человек живет на улице, то следит за всеми, кто приближается, особенно перед тем, как заснуть.
— Вот и скажите там наверху, на самом верху, что есть Пи Туссен, у него есть губки, которые надо продать, и у него есть нечто другое, чем заняться, чем помогать женщинам в белой шубке!
— И слишком маленьким женщинам?
— Она не слишком маленькая.
Адамберг пересек комнату и остановился перед Пи, засунув руки в карманы.
— Не обращай внимание на это, Пи, — медленно произнес он, — наплюем на то, чем она является. Наплюем на ее пальто, ее министерство и всех этих типов, которые греют себе задницу, не думая о таких, как ты. Это — их дерьмо, это — их мерзость, и мы не собираемся этим вечером отмывать их от трех пуль твоими губками. Потому что этой грязи она наворотила горы. Горы шлака, это называется. Ты дурак, Пи, и хочешь, я скажу тебе почему?
— Я тебе не мешаю.
— Эти шлаковые отвалы, представь себе, возникли не сами по себе.
— Кроме шуток?
— Они возникли благодаря идее, что на земле одни люди значительнее других. Что так было и так будет всегда. А я скажу тебе замечательную вещь: это неверно. Никто не важнее других. Но ты, Пи, ты этому веришь, и поэтому ты такой же дурак, как другие.
— Но я ни во что не верю, черт побери.
— Неправда. Ты считаешь, что эта женщина важная, важнее, чем ты, и поэтому молчишь. Но я тебе сегодня говорю лишь о женщине, которая может умереть, и ни о чем другом.
— Ерунда.
— Любая жизнь стоит любой жизни, устраивает это тебя или нет. Ее, твоя, моя и Моники. Это дает нам уже четыре. Ты добавляешь шесть оставшихся миллиардов — вот и считай.
— Ерунда, — повторил Пи. — Идеи.
— Я живу идеями.
— А я живу губками.
— Это не так.
Пи замолчал, и Адамберг вновь уселся за стол. После нескольких минут молчания он встал и надел куртку.
— Пойдем, — сказал он, — пройдемся.
— На таком холоде? Мне здесь хорошо, тепло.
— Я не могу думать не на ходу. Спустимся в метро. Походим по перронам, придут полезные мысли.
— Во всяком случае, мне нечего вам сказать.
— Знаю.
— Во всяком случае, метро закроют. Они нас выставят наружу, я знаю эти дела.
— Меня не выставят.
— Привилегии?
— А то!
Адамберг медленно шел по пустынному перрону станции «Кардинал Лемуан» в направлении Аустерлица. Он молчал, голова опущена, а Пи шагал чаще, стараясь не отставать, потому что этот полицейский, хотя и полицейский и стремящийся спасти шкуру женщины в пальто, был, тем не менее, человеком из приличного общества. И компанией — а это редкость, когда постоянно приходится толкать перед собой тележку. Адамберг посмотрел как между рельсами пробежала мышь.
— На самом деле, — вдруг сказал Пи, беря под руку своего спутника, — у меня тоже есть мысли.
— О чем?
— О кругах. О рождении. Возьмем, например, пуговицу на вашей куртке, вы знаете, что она круглая?
Адамберг пожал плечами.
— Не знаю, замечал ли я эту пуговицу.
— Я тоже. И эта пуговица, я бы сказал, имеет пятьдесят один миллиметр в окружности.
Адамберг остановился.
— И это продвигает нас… к чему? — спросил он серьезно.
Пи покачал головой.
— Даже полицейский мог бы разглядеть в этом ключ нашего мира. Когда я был маленьким, в школе при приюте меня называли 3,14. Ухватываете шутку? Пи? 3,14? Диаметр круга, умноженный на 3,14, равен длине окружности? Такая вот мелочь, но она стала важной в моей жизни. Возможно, это удача свыше, что мое имя растворилось в кофе. Я стал числом, и не каким-попало числом!
— Я понимаю, — сказал Адамберг.
— Вы не можете охватить того, что я знаю. Потому что пи работает с любым кругом. Это открыл один грек. Хитрющими были эти греки. Вот твои часы, ты можешь узнать окружность твоих часов, если это тебя интересует. Твой бокал для вина, если захочешь знать, какую окружность ты пьешь. Колесо твоей тележки, окружность головы, печать в мэрии, дырка в твоей обуви, серединка маргаритки, дно бутылки, шары для игры. Мир состоит из кругов. Вы об этом думали? Итак я, Пи, я знаю о них о всех, этих кругах. Задайте вопрос, если не верите.
— Маргаритка?
— С лепестками или только сердцевина?
— Середина.
— Двенадцать миллиметров днем. Мы говорим о довольно крупной маргаритке.
Пи сделал перерыв, чтобы его информацию можно было по достоинству оценить.
— Вот, — заметил он, качая головой. — Это моя судьба. А какой самый большой круг, последний круг?
— Окружность Земли.
— Да, вижу, вы поняли. И никто не может знать окружность Земли, не используя пи. В этом вся хитрость. Таким образом, я стал ключом этого мира. Скажете, к чему это меня привело?
— Если бы решил мое дело, как ты решаешь круги, это было бы что-то.
— Я не люблю диаметр.
— Я понял.
— Как зовут ту женщину?
— Никакого имени. Запрет.
— А, в самом деле? Она тоже… тоже потеряла свое имя?
— Да, — сказал Адамберг улыбаясь. — Но у нее не осталось даже начала.
— Хорошо, тогда дадим ей число, как и мне. Это будет милосерднее, чем говорить о ней как о «той женщине». Назовем ее «4.21», потому что, она… она взяла главный приз.
— Если хочешь. Будем говорить 4.21.
Адамберг привел Пи к маленькому отелю, расположенному в трех улицах от комиссариата. Он медленно вернулся в кабинет. Там его уже полчаса ждал уязвленный эмиссар министерства. Адамберг знал его — молодой блестящий, агрессивный и трусливый.
— Я допрашивал свидетеля, — сказал Адамберг, бросая куртку кучей на стул.
— Вам потребовалось много времени, комиссар.
— Да.
— Узнали что-нибудь?
— Окружность сердцевины маргаритки. Довольно крупной маргаритки.
— У нас нет времени чтобы развлекаться, думаю, вам это хорошо объяснили?
— Трудный парень, и у него в сущности есть для этого основания. Но он знает кучу вещей.
— Срочность, комиссар, и у меня есть приказ. Вас не учили, что любого «трудного» парня можно расколоть меньше, чем за четверть часа?
— Да.
— Чего вы ждете?
— Когда он простит.
— Вы знаете, что я могу забрать у вас дело?
— Если на него давить, он не станет говорить.
Помощник секретаря положил кулаки на стол.
— Тогда как?
— Он поможет нам, если мы поможем ему.
— И что он хочет, черт побери?
— Заработать на жизнь, продавая губки. 9732 гнилые губки по пять франков за штуку.
— И все? Просто купить у него эти испорченные губки!
Помощник секретаря быстро посчитал в уме.
— Утром у вас будет пятьдесят тысяч франков в восемь часов, — сказал он вставая. — И поверьте, я иду на это одолжение вам только из-за ваших блестящих характеристик. Я хочу иметь информацию самое позднее в десять часов.
— Полагаю, вы действительно не поняли, господин помощник секретаря, — сказал Адамберг, не шевелясь на своем стуле.
— Что именно?
— Парень не хочет, чтобы его купили. Он хочет продать свои губки. 9732 губки. Людям. 9732-м людям.
— Вы смеетесь или что, комиссар? Вы, возможно, воображаете, что я собираюсь продавать губки этого парня? Что я собираюсь послать всех государственных чиновников бегать по улицам?
— Это не подошло бы, — спокойно сказал Адамберг. — Он хочет продать свои губки. Сам!
Помощник секретаря наклонился к Адамбергу.
— Скажите мне, комиссар, случайно губки этого парня не волнуют вас больше, чем жизнь этой…
— 4.21, — закончил Адамберг. — Это ее кодовое имя здесь. Мы не произносим ее настоящего имени.
— Да, так лучше, — сказал помощник секретаря, внезапно понижая голос.
— У меня есть кое-что вроде решения, — сказал Адамберг. — Для губок и для 4.21.
— Он согласится?
Адамберг пожал плечами.
— Возможно.
В семь тридцать утра комиссар постучал в дверь номера Пи Туссена. Продавец губок уже встал, и они спустились в бар отеля. Адамберг поставил кофе и протянул Пи корзинку с хлебом.
— В моей комнате был божественный душ, — сказал Пи. — Двадцать шесть сантиметров — окружность струи внизу. Прямо хлещет человека. Как там?
— Что?
— Ну, 4.21.
— Выкарабкивается. За нею присматривают пять полицейских. Она произнесла несколько слов, но ничего не помнит.
— Шок, — сказал Пи.
— Да. У меня ночью возникла одна мысль.
— И у меня, я тут кое-что записал.
Пи откусил бутерброд и стал рыться в кармане брюк. Он достал бумагу, сложенную вчетверо, и положил ее на стол.
— Я там все отметил, — сказал он. — Горло парня, его странный вид, одежду, марку драндулета. И номер машины.
Адамберг поставил чашку и уставился на Пи.
— Ты запомнил номер его машины?
— Цифры — это мой конек. С рождения.
Адамберг развернул бумагу и быстро просмотрел ее.
— Спасибо, — сказал он.
— Не за что.
— Я должен позвонить.
Адамберг вернулся через несколько минут.
— Понеслось, — сказал он.
— Ты думаешь о том, что с этим номером вам поймать парня — раз плюнуть? Схватите днем.
— Ночью я кое-что придумал, чтобы продать твои губки.
Пи скривил лицо в гримасе и сделал глоток кофе.
— Да ну, я тоже, представь себе. Я их засовываю в тележку, я ее толкаю в течение года и прошу людей их купить за пять франков штука.
— Другая мысль.
— Новая морока! Ну, теперь у вас теперь есть вся информация… А хорошая идея?
— Странная.
— Полицейская хитрость?
— Человеческая: дай что-нибудь взамен пяти франков.
Пи положил руки на стол.
— Хорошо, но у них есть губка! Скажите, вы меня принимаете за нечестного человека?
— Они гнилые, твои губки.
— Ну и что? Им же болтаться в грязной воде. Не завидная судьба — быть губкой.
— Ты даешь губку и кое-что еще.
— Что?
— Ты пишешь их имя на парижской стене.
— Что-то не схватываю.
— Каждый раз, когда кто-то покупает у тебя губку, ты пишешь его имя краской на стене. На одной и той же стене.
Пи нахмурил брови.
— И я, я располагаюсь перед ней с товаром?
— Вот именно. Через полгода у тебя будет большая стена, покрытая именами — что-то вроде гигантского манифеста покупателей губок, объединение, почти памятник.
— Смешные вы люди. Что вы хотите, чтобы я делал у этой стены?
— Она не для тебя. Для людей.
— Но они пройдут мимо, эти люди.
— Не пройдут. Возможно, около тебя и тележки выстроится очередь.
— С чего ради, скажите на милость?
— За компанию и немного просто так. Это уже немало.
— Потому что им этого захочется?
— Ну, не настолько, как ты думаешь.
Пи погрузил хлеб в кофе, откусил кусочек и погрузил снова.
— Не могу решить, дурацкая эта идея или что-то замечательное.
— Я тоже.
Пи закончил кофе и скрестил руки на груди.
— И вы полагаете, что я мог бы написать и свое имя? — спросил он. — Например, внизу справа, как если бы я подписал весь этот базар, когда он будет закончен?
— Если тебе так захочется. Но придется оплатить губку. В этом вся соль.
— Это-то понятно. Вы меня принимаете за жулика?
Пи размышлял еще, не шевелясь, в то время, как Адамберг надевал куртку.
— Знаете что, — сказал Пи, — есть загвоздка. Дело, в том, что у меня нет никакой стены.
— У меня тоже. Я добыл ее этой ночью у Министерства внутренних дел. И поведу тебя ее посмотреть.
— А Мартен? — спросил Пи, вставая.
— Кто такой Мартен?
— Ну, моя тележка.
— Да, конечно. Твой Мартен всегда будет под бдительной охраной полицейских. Он видел исключительные события, которые дважды в жизни не повторяются. Береги его.
У двери часовни Адамберг и Пи молча рассматривали высокую стену одинокого серого здания, заканчивающуюся крутой крышей.
— Это государственное? — спросил, наконец, Пи.
— Они не пожелали дать мне Трокадеро.
— Еще бы.
— Можно рисовать поверх, — сказал Адамберг.
— Да. Одна стена стоит другой.
Пи приблизился к зданию, прощупал ладонью поверхность.
— Когда я могу начать?
— Краски и лестницу получишь завтра. А затем крутись сам.
— Могу я выбирать цвета?
— Ты тут командуешь.
— Я возьму для краски круглые горшки. Это даст мне диаметры.
Мужчины пожали друг другу руки, и Пи поморщился.
— Ты не обязан этого делать, — напомнил Адамберг. — Возможно, это дурацкая идея.
— Мне она нравится. Через месяц у меня уже будут имена до середины бедер.
— Что тебя беспокоит?
— 4.21. Она знает, что именно я, Пи Туссен, нашел мерзавца, который стрелял в нее?
— Узнает.
Адамберг медленно удалялся, руки в карманах.
— Эй! — закричал Пи. — И вы полагаете, она придет? Полагаете, она придет ко мне купить губку? Оставить свое имя?
Адамберг повернулся, поднял глаза к серой стене и развел руки, выражая полное недоумение.
— Ты сам это узнаешь! — крикнул он. — А когда узнаешь, скажи мне!
Он махнул рукой и продолжил свой путь.
— Именно ты пишешь историю, — прошептал он, — а я… я приду ее читать.
КОНЕЦ
Примечания
1
Дрё (фр. Dreux) — город во французском департаменте Эр и Луар (Орлеана), на реке Блэз, в 74 км на запад от Парижа — Википедия.
(обратно)2
Французский Дед Мороз.
(обратно)3
Туссен (Toussaint) — Праздник всех святых — (фр.).
(обратно)
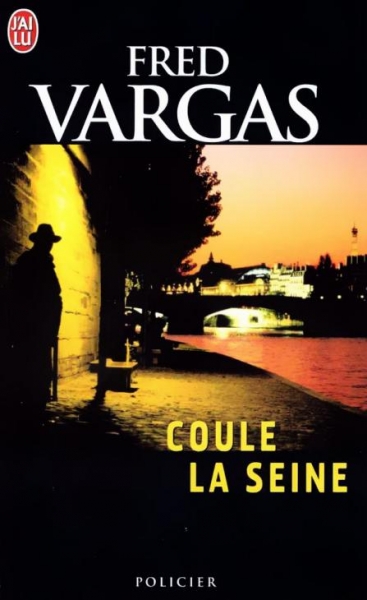



![Дело без свидетелей [журнальный вариант]](https://www.4italka.su/images/articles/527616/primary-medium.jpg)

Комментарии к книге «Течет Сена», Фред Варгас
Всего 0 комментариев