I Я, Иван Варравин
Газета легко дала мне эту командировку, оттого что письмо было поразительное:
«Молодые друзья! Я обращаюсь к вам, в комсомольскую прессу, после того, как отправил в Москву заявление: «Прошу освободить меня от должности Председателя Совета Министров нашей автономной республики и — одновременно — отозвать из Верховного Совета».
Я поступил так не потому, что чувствую за собою какую-то вину. Все проще: талантливый человек, которого я поддерживал, сидит в тюрьме по обвинению в особо крупных хищениях. Так как я еще не получил ответа на мое обращение, хотел бы встретиться с молодым журналистом и порассуждать вместе с ним о житье-бытье, покуда в моих руках находятся необходимые архивы. После этого журналисту следует обратиться в прокуратуру, а уж потом — в колонию, где отбывает срок Василий Пантелеевич Горенков. В его деле, как в капле воды, отражаются проблемы нашей сегодняшней жизни.
С уважением,
Каримов Рустем Исламович».
…С трудом протолкавшись сквозь аэрофлотовский тоннель, что ведет на посадочную площадку (как же мы умеем организовывать очереди!), я устроился возле иллюминатора. Нет большего счастья, чем наблюдать взлет, ощущая таинственность мгновенья отрыва огромной махины от бетона и переход людской общности в новое, небесное состояние, которое несколько десятилетий тому назад казалось утопией, несмотря на то, что еще в прошлом веке Жюль Верн старался такого рода сказку представить своим читателям вполне возможной былью…
Однажды моя подружка по газете Лиза Нарышкина выискала у Лескова поразительный пассаж о том, что Писемский литературное оскудение прежде всего связывал с размножением железных дорог, которые полезны торговле, но для художественной литературы вредны.
Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, замечал Писемский, и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда — все скользит. А бывало, как едешь в Москву на «долгих» в общем тарантасе, да ямщик тебе попадет подлец, и соседи нахалы, и постоялый дворник шельма, а «куфарка» у него неопрятище, — так ведь сколько разнообразия насмотришься! А еще как сердце не вытерпит — изловишь какую-нибудь гадость во щах, — да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя на ответ вдесятеро иссрамит, так от впечатлений просто и не отделаешься… И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, — ну, разумеется, густо и в сочинении выходило. А нынче все это по-железнодорожному — бери тарелку, не спрашивай, ешь, — пожевать некогда; динь-динь-динь — и готово, опять едешь, и только у тебя всех впечатлений, что лакей сдачей обсчитал…
Лесков на это приводил в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудностию содержания.
Сто лет как прошло, подумал я, а давешние споры не кончены: оренбургское литературное объединение бранит столичное — мол, не расстилаются перед изначалием, а ведь только через него можно сделаться писателем! Москвичи изучают теперь лишь Пастернака с Гумилевым да Мандельштама, перед классикой не немеют — стыд и позор! Странное мы сообщество, право! Постоянно боремся за единообразие, непременно хотим, чтобы лишь наше мнение сделалось всеобщим: я — прав, остальные — дурни или того хуже. Триста лет ига сменились тремястами годами собственного крепостничества. Многие у нас ныне сердятся, когда крепостничество называют рабством, мол, «клевета на народ», ан, увы, не клевета, а факт истории. Замалчивать историю то же, что лгать больному или туберкулезника лечить от простуды. Неосознанное предательство так же опасно, как и заранее спланированное. Да и четверть века — с двадцать восьмого по пятьдесят третий — тоже даром не прошли, родился стереотип нового страха, надежда лишь на того, кто все знает, все понимает и все умеет, ощущение собственной малости и незащищенности, разве такое можно оставлять вне исследования? Масоны — масонами, а история — историей: владелец типографии Новиков, брошенный матушкой Екатериною в каземат, был обвинен в масонстве, но против чего он выступал? Против самодержавия, за свободу мужику.
…Между прочим, отчего при полете в Варшаву — а это всего два часа — курить в салоне разрешается, а когда пилишь в Сибирь шесть часов, не моги?.. Салтыков-Щедрин? «Хорошо иностранцу, он и у себя дома иностранец»?
Я дождался, когда погасло табло, самолет пробил дождевые облака, распластался над белым туманом и словно бы остановился, набрав девятисоткилометровую скорость. Расстегнув свою сумку — чудо что за сумка, можно слона затолкать, — я достал конспекты и принялся — в который уже раз — систематизировать выписки.
Честно говоря, я не знаю, что у меня получится из того, что уже сделано: во всяком случае, методологически я сопряг эпизоды нашей экономической бестолковщины (а может, осознанного саботажа) с тем, что писал в свой последний год Ленин: «Всячески и во что бы то ни стало развить оборот, не боясь капитализма, ибо рамки для него у нас поставлены (экспроприацией помещиков и буржуазии в экономике, рабоче-крестьянской властью в политике) достаточно узкие, достаточно «умеренные».
Словно бы ожидая возражений со стороны догматиков, Ленин идет дальше: «Нам надо не бояться признать, что… еще многому можно и должно поучиться у капиталиста».
Или: «Система смешанных обществ есть единственная система, которая действительно в состоянии улучшить плохой аппарат Наркомвнешторга, ибо при этой системе работают рядом и заграничный и русский купец. Если мы не сумеем даже при этих условиях подучиться и научиться и вполне выучиться, тогда наш народ совершенно безнадежно народ дураков».
Из плана брошюры о продналоге: «Свобода торговли для: а) развития производительных сил, б) для развития местной промышленности, в) для борьбы с бюрократизмом…»
То есть, выходит, личная инициатива противополагалась Лениным бюрократии? Значит, он искал экономические формы борьбы против нее, понимая, какая это страшная угроза для революции?
«Советские законы очень хороши, — пишет он далее, — потому что предоставляют все возможности бороться с бюрократизмом и волокитой, возможность, которую ни в одном капиталистическом государстве не предоставляют рабочему и крестьянину. А что — пользуются этой возможностью? Почти никто! И не только крестьянин, громадный процент коммунистов не умеет пользоваться советскими законами по борьбе с волокитой, бюрократизмом или таким истинно русским явлением, как взяточничество. Что мешает борьбе с этими явлениями? Наши законы? Наша пропаганда? Напротив! Законов написано сколько угодно! Почему же нет успехов в этой борьбе? Потому, что нельзя ее сделать одной пропагандой, а можно завершить, если только сама народная масса помогает. У нас коммунисты, не меньше половины, не умеют бороться, не говоря уже о таких, которые мешают бороться».
И — резко: «Мы живем в море беззаконности… Общий итог: местная бюрократия — есть худшее средостение между трудящимся народом и властью».
Как посыл для размышления — вопрос и вывод: «Каковы экономические корни бюрократизма?.. Раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие оборота между земледелием и промышленностью…»
А затем — о культуре: «От всеобщей грамотности мы отстали еще очень сильно и даже прогресс наш по сравнению с царскими временами (1897 годом) оказался слишком медленным. Это служит грозным предостережением и упреком по адресу тех, кто витал и витает в эмпиреях «пролетарской культуры». Это показывает, сколько еще настоящей черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы… Мы не заботимся или далеко не достаточно заботимся о том, чтобы поставить народного учителя на ту высоту, без которой и речи быть не может ни о какой культуре: ни о пролетарской, ни даже о буржуазной».
А когда мы прибавили жалованья учителям? Лишь когда поняли, что эта профессия стала непрестижной. Только неудачники шли в пединституты, те, кто не смог попасть в другой вуз, а ведь именно в руках учителей — моральное здоровье народа, особенно если матери работают наравне с отцами. В течение более чем шестидесятилетия народный учитель получал месячный оклад, на который нельзя купить даже пару хороших зимних сапог, а уж о создании личной библиотеки и думать нечего — цена хорошей книги на черном рынке известна. Что же происходило? Головотяпское забвение ленинского наказа? Или осознанная ставка на торможение знаний? Значительно легче приказно управлять человеком, знающим лишь азбуку и навык счета. Лишь ученик, воспитанный эрудированным педагогом, может, более того, обязан спрашивать! А кто был в состоянии — в недавнем еще прошлом — ответить на вопросы культурной, подготовленной личности?
Но не только это забыли у Ленина. Никто серьезно не проанализировал его работу о Рабоче-крестьянской инспекции, в которой он, в частности, предлагал резко сократить штаты наркома Сталина: многочисленные контролеры-инспекторы подрывают — по Ленину — «всякую работу по установлению законности и минимальной культурности».
Ленин был намерен вынести вопрос о Народном комиссариате рабоче-крестьянской инспекции (штаты разбухли, права неограниченны) на съезд партии… Не успел. Другие — не захотели или не смогли…
…Не очень-то мы анализировали национальную проблему, скорее даже поступали в пику Ленину, словно бы ему назло. А ведь он писал в последних работах: «Мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже больше того — незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений, — стоит только припомнить мои волжские воспоминания, как у нас третируют инородцев… Тот грузин[1], который пренебрежительно относится к этой стороне дела, пренебрежительно швыряется обвинением в «социал-национализме» (тогда как он сам является настоящим и истинным не только «социал-националом», но и грубым «великорусским держимордой»), тот грузин, в сущности, нарушает интересы пролетарской классовой солидарности, потому что ничто так не задерживает развития и упрочения пролетарской классовой солидарности, как национальная несправедливость, и ни к чему так не чутки «обиженные» националы, как к чувству равенства и нарушению этого равенства, хотя бы даже по небрежности, хотя бы даже в виде шутки…»
…Я начал снова и снова перечитывать последние ленинские тома после того, как наткнулся на стенографические записи его секретарей. Эти документы потрясли меня, сам по себе напрашивался вывод, что те месяцы, когда больной Ильич лежал в Горках, оказались временем его самой напряженной политической борьбы. Силы, увы, были неравные: он — болен, противники — полны силы.
Вспомним запись секретаря Ленина: сделана тридцатого января двадцать второго года:
«24 января
Владимир Ильич вызвал Фотиеву и дал поручение запросить у Дзержинского или Сталина материал комиссии по грузинскому вопросу и детально их изучить. Поручение это дано Фотиевой, Гляссер и Горбунову[2]. Цель — доклад Владимиру Ильичу, которому это требуется для партийного съезда. О том, что доклад стоит в Политбюро, он, по-видимому, не знал. Он сказал: «Накануне моей болезни Дзержинский говорил мне о работе комиссии и об «инциденте», и это на меня очень тяжко повлияло…» В субботу спросила Дзержинского, он сказал, что материалы у Сталина. Послала письмо Сталину, его не оказалось в Москве.
Вчера, 29 января, Сталин звонил, что материалы без Политбюро дать не может. Спрашивал, не говорю ли я Владимиру Ильичу чего-нибудь лишнего, отчего он в курсе текущих дел? Например, его статья об РКИ указывает, что ему известны некоторые обстоятельства…»
1 февраля (запись Фотиевой):
«Сообщила, что Политбюро разрешило материалы получить… Владимир Ильич сказал: «Если бы я был на свободе (сначала оговорился, а потом повторил, смеясь: если бы я был на свободе), то я легко бы все это сделал сам…»
9 февраля (запись Л. А. Фотиевой):
«Утром вызвал Владимир Ильич. Подтвердил, что вопрос о Рабоче-крестьянской инспекции он вынесет на съезд…»
12 февраля (запись Л. А. Фотиевой):
«Владимиру Ильичу хуже. Сильная головная боль. Вызвал меня на несколько минут. По словам Марии Ильиничны, его расстроили врачи до такой степени, что у него дрожали губы. Ферстер[3] накануне сказал, что ему категорически запрещены газеты, свидания и политическая информация. На вопрос, что он понимает под последним, Ферстер ответил: «Ну вот, например, Вас интересует вопрос о переписи советских служащих». По-видимому, эта осведомленность врачей расстроила Владимира Ильича. По-видимому, кроме того, у Владимира Ильича создалось впечатление, что не врачи дают указания Центральному Комитету, а Центральный Комитет дал инструкции врачам».
5 марта (запись М. А. Володичевой):
«Владимир Ильич вызвал около двенадцати. Просил записать два письма: одно — Троцкому, другое — Сталину…»
Первое письмо начиналось так: «Уважаемый тов. Троцкий! Я просил бы Вас взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии…» Троцкий ответил отказом: «болен».
Второе письмо было резким, яростным даже: «Уважаемый т. Сталин! Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен так легко забывать то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения…»
(Еще в декабре двадцать второго, когда Ленин продиктовал письмо Троцкому с просьбой поддержать его в борьбе против Сталина за сохранение монополии внешней торговли, Сталин, на которого, как на Генерального секретаря ЦК, была возложена личная ответственность за соблюдение режима лечения Ленина, позвонил Крупской и, обругав ее, угрожал разбором дела на Контрольной комиссии. Крупская написала письмо Каменеву: «Лев Борисович… Я в партии не один день. За все тридцать лет я не слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова… Интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину… О чем можно и о чем нельзя говорить с Ильичем, я знаю лучше всякого врача, так как знаю, что его волнует, что нет, и во всяком случае, лучше Сталина… В единогласном решении Контрольной комиссии, которой позволяет себе грозить Сталин, я не сомневаюсь, но у меня нет ни сил, ни времени, которые я бы могла тратить на эту глупую склоку».)
…Когда проанализируешь аппарат ленинского Собрания сочинений, то становится ясным следующее: первый серьезный приступ болезни случился после длительной борьбы Ленина против некоторых членов Политбюро ЦК, настаивавших на отмене монополии внешней торговли, и конфликта в Тбилиси между Закавказским крайкомом и группой грузинских большевиков во главе с Мдивани и Махарадзе: двенадцатого декабря 1922 года Ленин долго беседовал со своим заместителем Рыковым, Каменевым и Цюрупой о распределении между ними обязанностей по Совету Народных Комиссаров, с Дзержинским обсуждал положение в Тбилиси, с торговым представителем в Германии Б. Стомоняковым говорил о монополии внешней торговли. А на следующий день, тринадцатого декабря, наступил кризис. Тем не менее, несмотря на запрет врачей, Ленин писал письма Троцкому (его союзнику по борьбе за монополию внешней торговли) и Сталину (противнику). Шестнадцатого декабря в состоянии его здоровья наметилось еще более серьезное ухудшение, паралич правой руки и ноги. Понимая, что ситуация тревожная, Ленин начинает диктовать «Письмо съезду», требуя, в частности, сменить Сталина на посту генерального секретаря. Декабрь, январь, февраль и март двадцать третьего он работает практически каждый день, после того как он узнал о подробностях инцидента в Тбилиси, когда Троцкий пренебрежительно отказал ему в поддержке против Сталина. Прослушав о вопиющей бестактности Сталина по отношению к Крупской, Ленин теряет речь, из последних сил тренируется, чтобы научиться писать левой рукой. Двадцатого января двадцать четвертого Надежда Константиновна читает Ильичу резолюции тринадцатой партконференции. По воспоминаниям Крупской, слушая ее, он стал волноваться, назавтра его не стало. Какая строка резолюции насторожила Ленина? В чем он заметил то — особенно тревожное, — что проецировал на будущее? Если удастся найти историков, влюбленных в математику, и математиков, живущих историей, такой союз, закрепленный логикой компьютера, сможет дать ответ — хотя бы приблизительный — на этот вопрос…
Заново изучив те проблемы, которыми занимался Ленин перед тем, как болезнь свалила его, я снова и снова думаю: все ли должен был обсуждать Ильич из того, что выносилось на повестку дня? К примеру, семнадцатого ноября двадцать второго года заседание Совета Труда и Обороны. Повестка дня: урегулирование цен, передача десяти тракторов управлению мелиорации на Мугани, конкретные мероприятия в связи с реализацией урожая… Восемнадцатого ноября: беседа с делегатами конгресса Профсоюзного Интернационала, поручения Горбунову: прислать доклад о работе Мичурина, передать предписание Кржижановскому войти в СТО об ирригационной системе в Туркестане, послать запрос Серебровскому о нефтяной концессии. Назавтра — беседа с заместителем председателя Высшего совета народного хозяйства Смилгой о введении хозяйственного расчета в промышленности. Двадцать первое: председательствует на заседании Совнаркома, несколько раз выступает по поводу пересмотра Положения о Главном концессионном комитете, обсуждается проект о Центральном Комитете по перевозкам, вопросы о пропаганде на восточных языках, о финансировании Гидроторфа, об учреждении сметы Наркомсобеса. За неделю перед болезнью участвует в заседании Политбюро, вносит дополнение к проекту постановления по докладу комиссии Госснабжения и поправки в проект постановления о взаимоотношениях между наркомом просвещения и его заместителями. Дебатируются вопросы о конференции по разоружению, об экспорте хлеба, о сельхозкредите, о фонде заработной платы на декабрь двадцать второго года, о слиянии аппаратов Наркомпрода и Наркомфина, о посылке инженеров за границу…
…Предел человеческих нагрузок определялся теми, кто знал ужас засасывающей текучки. Отчего не восстали? Почему не упросили добром поберечь себя для дел отправных — на многие годы вперед, — которые без него нельзя решить? Почему он проводил решения Совнаркома об обязательности отпусков для Рыкова, Цюрупы, Горького? Отчего никто из тех, кто окружал его, не потребовал того же для него, Ильича? Просьбе он бы не подчинился, решению ЦК — непременно…
…С его смертью образовался трагичный перерыв в шестьдесят лет: хозяйственный расчет, инициатива, свобода предпринимательства возвращены к жизни только в восемьдесят шестом. Лишь у гения мысль раскованна и опережающа, а сколько их, гениев, рождает человечество?!
II Я, Каримов Рустем Исламович
Наверное, это плохо, что я верю в физиогномику и вывожу суждение о человеке после первой же встречи. Такое входит в прерогативу блистательного врача — да и то если он изучил все анализы больного. Увы, время сельских докторов кончилось (надеюсь, пока что), медицина раздроблена на «направления», пульмонолог не слишком силен в заболеваниях верхних дыхательных путей, терапевт не очень-то компетентен в остеохондрозе, а это ныне так же страшно, как рак или инфаркт — сидячий образ жизни, перепад давлений, стрессы — зажмет сосудик, ведающий подачей крови, и приходится оперировать глаз, а надо было подкрасться к первопричине — к тайне отложения солей в загривке. Человеческий организм — сложнее самого современного спутника, сконструирован совершенно поразительно, все системы взаимодействуют без команд с пункта слежения, будто какие-то таинственные компьютеры заложены в нас с рождения.
Словом, лицо этого кряжистого, неповоротливого Варравина мне понравилось. Как и его руки — большие, надежные, неспешные в движениях. Глаза очень живые, лишены той закрытой неподвижности, которая свойственна людям нашего аппарата. Желание понять точку зрения руководителя предполагает наработку чисто актерских способностей — сдержанность, медлительность в словах, умение выражать мысль с подтекстом, который позволит в любой момент только что сказанную фразу повернуть совершенно в другое направление, если обнаружится хоть тень несогласия в замечаниях или даже мимике начальника. В последние месяцы наиболее смышленые бюрократы стали применять новую тактику: порыв, чуть смягченный повтор наиболее острых абзацев из газет, однако без конкретностей, взгляд и нечто: время такое, что тот, кого сегодня разнесли в пух и прах, завтра — неведомо какими путями — меняет стул на кресло и получает два телефонных аппарата вместо одного.
Понравилось и то, что Варравин безо всяких околичностей спросил, скоро ли мне предстоит покинуть этот премьерский кабинет, никаких танцев на паркете, воистину, быка надо брать за рога.
Я ответил, что сие от меня не зависит. То, что я считал своим гражданским долгом сделать, — сделал, засим — воля избирателей и тех инстанций, которые меня и рекомендовали премьером, и утверждали.
— Скажите-ка, Рустем Исламович, — неторопливо, подыскивая слова, начал Варравин, — а почему вы так настойчиво поддерживали осужденного Горенкова?
— Поддерживал? Я и сейчас его поддерживаю. Наша с ним методология сходится, а метод — основа мысли и поступка.
— Я боюсь абстрактных формул, — заметил Варравин, посмотрев на меня изучающе, с внезапно возникнувшей внутренней отстраненностью. — Если почитать газеты прошлых лет, то, судя по такого рода абстрактным формулам, в державе царила тишь, да гладь, да божья благодать…
— Так я ведь в то именно время воспитывался, товарищ Варравин. Мое несогласие с прежним временем рождалось постепенно, не сразу, в борениях с самим собой: «На что замахиваешься, пигмей?! Наверху поумней тебя люди сидят…» Живем не в безвоздушном пространстве, вашему поколению придется еще не один раз иметь дело с теми, кто сформировался в прошлом… Рассказывают, что году в пятидесятом кто-то из окружения пожаловался Сталину на писателей… Тот отрезал: «Других у меня нет, приходится иметь дело с существующими…»
— Любите Сталина?
В общем-то, я ждал этого вопроса. После двадцатого съезда и после того, как сместили Никиту Сергеевича, я немало рассуждал об этом. Когда кончился двадцать второй съезд, я был определен в своей позиции, потом, прочитав мемуары военачальников, конструктора Яковлева, ухватился за их свидетельства в пользу Сталина, как за соломинку, — нет ничего трагичней, чем терять веру в кумира. Возвращение к Сталину было у меня далеко не однозначным, безвременье брежневской поры отмечено и положительным фактором: в обществе зрели вопросы. Да, ответов на них не давали, более того, судили за то, что вопросы слишком уж резкие: «не надо раскачивать лодку, дадим народу пожить спокойно, все устали от шараханий», тем не менее вопросы неудержимо зрели и каждый был обязан дать на них ответ — самому себе, во всяком случае, — потому что экономика катилась в пропасть, положение складывалось критическое…
— Я по глазам вижу ваше отношение к генералиссимусу… Вы читали переписку Сталина с Рузвельтом и Черчиллем?
— Читал, — ответил Варравин.
— Ну и как? Сталин там выглядит серьезным политиком?
— Он выглядит серьезным политиком.
— А если так, то мы должны хранить респект к нему, как к лидеру, стоявшему у руля антифашистской борьбы?
— Он мог стать у руля этой борьбы в тридцать девятом году, если бы не заключил договор с Гитлером.
— Ой ли! Ну, ладно. Допустим, эта тема для разговора, но вы ответьте на мой вполне конкретный вопрос столь же конкретно. Обязаны мы хранить респект к лидеру, который стоял у руля всенародной борьбы против Гитлера?
— Народ победил нацизм, а не Сталин.
— И это верно, — ответил я. — Только вы по-прежнему уходите от прямого вопроса. У нас, к сожалению, традиционно сильна привычка судить, не ведая, бранить, не читая, хвалить, не имея на то достаточных оснований.
Варравин спросил разрешения закурить, достал пачку «Явы» (самые ненавистные мне сигареты, табачная индустрия намеренно травит сограждан: как можно продавать людям эту зловредную вонь?!), затянулся, пустил сизый дым к потолку и ответил:
— Что ж, вы меня вынудили ответить вам в положительном плане: мы обязаны хранить респект к тому лидеру, который возглавлял антифашистскую борьбу.
— У вас есть какие-то личные основания крепко не любить Сталина? Не отвечайте, если неприятно. Скажу про себя: у меня все основания его обожествлять: отец — из безграмотной семьи, — закончив Институт красной профессуры, стал секретарем райкома в тридцать восьмом, а в сорок первом ушел на фронт, получил Героя, после войны работал заместителем министра сельского хозяйства… Я с ним, кстати учась на экономическом, крепко спорил: он говорил, что только максимум вложений в сельское хозяйство даст нам изобилие, а я утверждал, что колхознику надо гарантировать свободный труд на земле, щедро за него платить, а не опутывать чудовищными налогами… Мы разошлись с отцом — а он был замечательным, очень чистым человеком — по всем экономическим позициям еще до пятьдесят третьего года… Но это так, к слову… Второй вопрос-ответ: зачем Сталину понадобилось уничтожать в тридцатых годах, да и после пролетарский состав партии, интеллигенцию, пришедшую в революцию с Лениным? Зачем вместо этой когорты он привел к лидерству молодых руководителей, девяносто пять процентов которых происходило из бедных крестьянских семей? Не из справных хозяев, а именно из бедняцких горлопанов… Они, кстати, и стали во главе страны после ухода Хрущева: «тишь да гладь» — вот оно, безвременье… И у меня возник следующий вопрос: приводил ли Сталин выходцев из бесхозных крестьян к руководству рабочей державой осознанно? Или это произошло стихийно? Если это был осознанный политический маневр, тогда речь должна идти о термидоре, подмене одного метода мышления другим, в чем-то противоположным… Тридцать седьмой год… Может быть, Сталин не смог удержать стихию доносов, оговоров и сведения счетов? Но допустим ли сам повод для массовых репрессий, то есть сведение личных счетов с теми членами Политбюро, которые работали вместе с ним начиная с семнадцатого года и по двадцать шестой — в случае с Троцким, Каменевым и Зиновьевым? Или по тридцатый — я имею в виду Бухарина, Рыкова и Томского. Ведь процессы тридцатых годов тщились доказать, что Ленин в Политбюро был окружен немецкими и японскими шпионами, — с самого начала революции! Лишь он один, Сталин, был чист и верен идее… И я с ужасом говорю себе: но ведь и это уже было в нашей истории! При Иване Грозном было! Он убрал всех политических противников, кто помнил его юношеское беспомощное худосочие… А следом за этим начались массовые казни, — опричнина сладостно искала, кого бы потащить на плаху, показания выбивали, людей пытали, мучили, унижали… Не поэтому ли Сталин попросил Эйзенштейна сделать фильм об Иване? Далее я спрашиваю себя: каков был резон для Сталина уничтожать цвет Красной Армии? Не только командование во главе с Тухачевским, Якиром и Уборевичем, но даже командиров дивизий — Рокоссовский-то чудом спасся, фразочку «нашли время в тюрьме сидеть, воевать надо» Сталин сказал ему в трагические дни… Неужели он всерьез верил в заговор полковников и капитанов? Полагал, что все они хранят память о Троцком, первом председателе Реввоенсовета? И потому оголил все границы страны? Значит, он верил в «доброту» гитлеровцев? А истым ленинцам не верил? В чем же дело? Вот вам, товарищ Варравин, мои вопросы… Их множественность надежней односторонности… Что же касается экономических методов Сталина, то здесь я — самый крутой его противник… Не знаю, помните ли вы, что до пятьдесят четвертого года наше крестьянство не имело паспортов и не могло вольно уехать из обираемой налогами деревни? Реанимация крепостного права? А как еще прикажете называть?
Варравин закурил новую сигарету, не спрашивая более разрешения, заметно успокоился, расслабился даже. Нынешние борцы за демократию не очень-то слушают противную точку зрения, сразу норовят прилепить ярлык. Воистину демократии надобно учиться, не один год на это потребен, поколение как минимум…
— Практически я не согласен ни с одним из ваших положений, — заметил он, — но мне светит то, что вы размышляете вслух и не хотите ни к кому подлаживаться… Поэтому разрешите перейти к следующему вопросу: в чем вы согласны с осужденным Горенковым?
— Буду отвечать несколько вразброд, оттого что в душе слишком много накопилось… Вы сюда прилетели? Или чухали поездом?
Варравин нескрываемо удивился, в этом сказалась его молодая доверчивость:
— Конечно, прилетел! Кто ж ныне ездит? Времени не хватит на главное.
— Согласен. Но и в аэропорту, и на вокзале вы столкнулись с одной и той же проблемой: нет носильщиков. Вас это не очень-то волнует, сумку набок и — вперед. А женщина с ребенком и двумя чемоданами? Я предложил начальнику вокзала — естественно после введения закона об индивидуальной трудовой деятельности — выступить по местному телевидению с обращением к молодежи: «Кто хочет заработать, может прийти на перрон и без всякой формалистики, уплатив два рубля налога за бляху — хороший навар для социальных нужд коллектива станции или аэропорта, — начать обслуживать пассажиров». Мне в ответ: «У нас народ не пользуется услугами носильщиков, мы опрашивали». — «А почему пользуется в Москве? Может, людей надо приучать к сервису? У нас ведь его нет». — «Придет какой жулик с чужим паспортом и начнет чемоданы воровать!» — «У вас милиция есть, будет чем заняться». — «Она-то займется, а ответственность нам нести, платить из своего кармана». — «Хорошо, давайте закажем тележки, пассажир платит рубль, берет ее напрокат, сам себя обслуживает». — «Стащут все тележки в один день». — «Возьмите в залог паспорт». — «Металла нет, фондируемый товар…» Что это такое, по-вашему? Ужас обломовского мышления? Ладно, пошли дальше… На вокзальной площади вы теперь легко возьмете такси — конкурент давит, «личный извоз». Но вот вы приехали в центр. Где намерены заночевать? Мест в гостиницах, понятно, нет. А домашние пансионаты до сих пор не открывают, люди по-прежнему боятся, одна центральная газета одержимо стращает читателей ужасом «нетрудовых доходов». Я предложил нашей прессе напечатать об этом проблемную статью. Мне ответили, что запросят Москву. «А зачем? Разве у вас нет личного мнения по этому поводу?» — «В законе о пансионатах сказано недостаточно ясно». Пошли дальше… Вы закончили работу в десять вечера — где перекусить? Негде, все закрыто, только шаромыги в подъездах давят на троих. Где домашние столовые? Нет их, как и не было. И не будет, пока мы не перестанем считать, сколько заработал владелец такой столовой. Трагедия в том, что мы постоянно считаем чужие деньги, вместо того чтобы заработать свои… Ладно… Назавтра вы приходите в ту организацию, куда вас командировали… А там говорят, что поступило предложение от венгерской или там австрийской фирмы переоборудовать линию, через два года будем получать чистое золото. «Ну и когда начинаете?» — задаете вы вопрос. Вам ответят, что это никому не известно, оттого что согласовать и утвердить должны Госплан, Минфин, Госстандарт, Внешторг, Госснаб, и так далее и тому подобное… Вы изучаете предложения, присланные партнерами, очень интересно, просите перепечатать, вам отвечают, что машинистка по-немецки ни бум-бум, а разрешение на множительную технику, которая торчит на углу каждой улицы в любом европейском городе, получить весьма трудно… Вы просите связать вас по телефону с Веной, хотите обсудить конкретные детали предложения, но вам отвечают, что автоматом пользоваться запрещено, надо делать заказ на завтра… Ничего себе ускорение, а?! Сколько мы теряем миллионов человеко-часов, товарищ Варравин, вы себя этим вопросом озадачивали?!
— Озадачивал. Но мне эти вопросы решать труднее, чем вам.
— Вот мы с вами и подобрались к главной проблеме. И проблема эта называется «личность». Знаете, кто сейчас сидит в колониях нашей автономной республики? Наравне с жульем — наиболее смелые торговые работники, строители и директора совхозов. Они неугодны бюрократической броне, думают по-своему, принимают личностные решения, а этого аппарат не любит, ему удобны покорные исполнители, не более. Но ведь личность невозможна без гарантий… В свое время я написал докладную записку. Мне ответили, что это общие рассуждения. Где реальные предложения? Я внес реальное предложение создать в нашей республике индустрию туризма — как советского, так и иностранного. Мне ответили, что нет фондов на стройматериалы для отелей. Я возразил: «Позвольте нам заключить договор с иностранными фирмами». — «Пришлите документацию». Послал. Через три месяца последовал ответ: «Необходимо обсчитать позиции». Обсчитал, хотя всегда пользуюсь ленинской фразой: «Главное ввязаться в драку, а там видно будет». Ответа пока нет. Если бы испанские и французские бизнесмены столько лет тратили на изучение и просчет документации, не видать бы им туристского бума, который дает сорок процентов государственного бюджета… Внес предложение ликвидировать в нашей республике овощные базы — ненужный, громоздкий посредник: либо базы переходят совхозу, заключившему прямой договор с торговлей, либо торговле. «Пришлите документацию и соображения о трудоустройстве персонала оптовых баз». Послал, жду ответа.
— Но ведь это саботаж перестройки, — сказал Варравин.
— Фраза Иосифа Виссарионовича, — возразил я. — Легче всего вынести безапелляционный приговор, но будет ли от этого польза делу? Я знаю наши министерства, главки, тресты, у людей множество разумных предложений, но — молчат! Отчего? Боятся? Или совестятся проситься на прием к премьеру — нескромно? Раньше ждали вызова, настало время реального дела — не готовы, замерли… То мы вас триста лет в ярме держали, то русско-немецкие государи — вас вместе с нами, то Сталин учил винтиковой механике беспрекословного исполнения приказа, спущенного сверху, — не до инициативы… Я читал в газете предложение: освободить первые этажи от множества мелких организаций, чтобы сдавать в аренду под кафе, танцзалы, клубы по интересам, — живые деньги пошли б Советам депутатов… Ответ один и тот же: «А куда денем людей, работающих в ненужных организациях?» Инициатива, право на индивидуальный труд, все замечательно… А почему же до сих пор нет разрешения на регистрацию кооперативных строительных фирм? «Шабашники за длинным рублем погонятся, государство останется без рабочих рук». — «А не забирайте фонд заработной платы у стройтрестов. Если рабочий государственного предприятия получит не только свою заработную плату, но и ту, что причиталась его коллеге, который ушел в кооператив, он же горы своротит… На чем угодно можно экономить, только не на оплате за добрый труд…» Ну и что? А ничего… Внес предложение разрешить строительство кооперативных больниц и клиник. «Не замахивайтесь на бесплатную медицину, это достижение социализма!» Значит, кооперативную квартиру можно строить, а больницу — нет? Бесплатное жилье — тоже завоевание социализма, но ведь придется скорректировать вопрос оплаты — понятно, подняв заработную плату или же помогая людям получать дополнительный заработок…
— Вы честно говорите, — заметил Варравин. — Спасибо вам за это.
Не скажу, чтоб мне были безразличны эти его слова, нет. Они мне были приятны. Поэтому я и продолжил:
— А теперь о Горенкове… Как только опубликовали проект закона о социалистическом предприятии, он собрал совещание, попросил отдел труда и зарплаты, плановиков и снабженцев принести все постановления и приказы, коими те руководствовались. Принесли сотни папок. И он, оглядев их, сказал: «На макулатуру! Преступно в наше время жить запретами сорок шестого года!» Сколько же пошло на него жалоб! Главный плановик подал в отставку, перешел в другой трест и айда строчить по всем инстанциям: «Самоуправство». Писал и мне. Я лично возглавил комиссию, навет отмел. Но ведь помимо меня существует еще немало инстанций… Потом возьмите дело с росписью Дворца культуры, который он сдал на семь дней раньше срока… Москва спустила ему на это дело сто тысяч. Горенков обратился в местное отделение Союза молодых художников и подписал с ними договор на двадцать тысяч — и ребята счастливы, и его коллектив, потому что на сэкономленные деньги он построил тридцать садовых домиков и премировал ими передовиков. Немедленно возникли контролеры: «Где экономия, отчего не думаете о государственных интересах?» — «Государство — это мы». Разве такое прощают? «Превышение премиальных фондов, самоуправство, экономический произвол, в городе зарплату нечем платить, а он дома раздает!» «Работайте, как наш коллектив, — будет чем платить зарплату!» И — весь ответ. Словом, когда я был в отпуске, его арестовали, за месяц успели сломать слабаков, те дали показания, а Горенков в суде не произнес ни слова: «Разбирайтесь без меня». Обиделся. А в драке обижаться нельзя. И его смяли. Впрочем, не его — тенденцию. И это очень тревожно…
— Вы готовы продолжать борьбу за Горенкова?
— Бесспорно. На любых уровнях. Однако, надеюсь, вы понимаете, что это не просто: на многих ключевых постах сидят те же самые люди, которые истово служили концепции Леонида Ильича и верного ему Михаила Андреевича. Тем не менее я готов, поэтому и подал в отставку, чтобы не было упреков в том, что, мол, давлю авторитетом.
III Я, Иван Варравин
В комнате для свиданий я сидел уже десять минут. Зарешеченное окно, привинченный к полу табурет и обшарпанный канцелярский стол, ничего больше. Я привык к тому, что такая мебель обычно скрипит и качается, писать неудобно, а писать, видимо, предстояло много, поэтому приладился коленями, загодя попробовав, как можно будет работать, но, к удивлению своему, обнаружил, что маленький столик был словно вбит в пол, никакого шатания. Впрочем, ничего удивительного, подумал я, в каждой колонии есть слесарные мастерские. Недоделки местной промышленности надежно исправляют за решеткой. Впору внести предложение: «Создадим кооперацию между промышленностью и тюремным ведомством» — колонии, как промежуточный этап между фабричными разгильдяями и требовательным покупателем, стопроцентная гарантия качества.
Сержант ввел в комнату невысокого человека в бушлате. Тупорылые башмаки, нога не по росту большая, сорок четвертый размер; советские джинсы с выпирающими коленками, заштопанный свитер домашней вязки (жена с ним развелась: «Будь он проклят, никогда не прощу того, что он сделал, детям ненависть завещаю и внукам»); лицо запоминающееся; серебряная седина — так некоторые женщины красятся, — подбородок с ямочкой, запавшие щеки и внимательные глаза прозрачно-зеленого цвета.
— Вы Горенков Василий Пантелеевич? — спросил я, смутившись самого вопроса, слишком уж он был неравным, начальственным.
— Я, — ответил Горенков, чуть усмехнувшись.
— Меня прислали из газеты… Мы разбираемся с вашим делом… Я неделю работал в городской прокуратуре.
— У вас сигареты нет? — перебил он меня. — Угостите, пожалуйста.
Я протянул ему пачку «Явы», он закурил:
— То, что там работал чужой, я понял позавчера: вызвал помощник прокурора, предложил пройти медицинское обследование, «мы вас сактируем»… У меня подозрение на туберкулез, есть основание выпустить… Но, как понимаете, я отсюда добром не выйду, только если лишат гражданства и вышлют…
— Вас тут на какую работу поставили?
— Лесоповал.
— По профессии вы инженер-экономист?
— По профессии я дурак. Знаете, что такое дурак? Думаете, глупый недоросль? Не-а. Дурак — это тот, кто верит в правду, в слова, произносимые с трибун, — вот что такое дурак. Когда эта профессия вымрет, мы погибнем. Окончательно. А пока еще в стране есть дураки, можно надеяться, что отчизна не развалится…
…Мама часто рассказывает мне про отца. Его арестовали в сорок девятом. Раненого осенью сорок первого взяли в плен, в концлагере он вступил в Сопротивление, ему поручили войти во власовскую Русскую освободительную армию, работал в их газетах, отступал вместе со штабом Власова в Прагу, там участвовал в его пленении, получил за это орден Красного Знамени, а в сорок девятом забрали как изменника родины… Его реабилитировали в пятьдесят четвертом, через год родился я, а когда мне исполнилось два, он умер от разрыва сердца. Хоронили его с воинскими почестями, были речи и огромное количество венков. Когда я стал комсоргом в классе, а потом секретарем, мне приходилось часто выступать на встречах и конференциях. Сначала это все было в новинку, я волновался, подолгу писал конспекты речей, но потом пообвыкся, наработал несколько расхожих стереотипов и научился не заглядывать в бумажку — это особенно нравилось, поэтому на журфак меня рекомендовал горком комсомола. Весною семьдесят восьмого я писал курсовую. Мама предложила устроить встречу с Надеждой Петровной, директором их библиотеки, — она и ветеран войны, и кандидат философии, и отец ее был участником штурма Зимнего, словом, кладезь информации, прекрасный типаж для большого интервью. Надежда Петровна пришла к нам — у нее матушка парализованная и очень капризная, а жили они в одной комнатушке. Мы начали работать, просидели долго, а когда я, проводив ее домой, вернулся, мама сказала: «Ванечка, а не поменять ли тебе профессию? Ты ведь совсем не умеешь слушать». — «Это как? — опешил я. — Я спрашивал, она отвечала, я набрал поразительный материал». — «У тебя в глазах не было интереса… Надежде Петровне было с тобой скучно. Ты просто спрашивал, а она просто отвечала. Ты не болел ею. А твой отец к каждому человеку относился как к чуду, он любовался собеседником, придумывал его, открывал в нем такое, что тот сам в себе и не предполагал… Твой отец был настоящим журналистом, потому что верил в тайну, сокрытую в каждом, с кем встречался. Просто слушать — ничего не значит, Ваня… Просто слушать и просто говорить — это безделица. Если ты живешь словом, произносимым другим, тогда ты не журналист, а так… Репортер должен быть влюбчивым человеком, понимаешь?»
…Я потом долго тренировался перед зеркалом, говорил с несуществующими собеседниками, наигрывал доброту во взгляде, репетировал улыбки, гримасы сострадания, сочувствия, жадного интереса. На первых порах помогало, но все перевернулось, когда я напечатал в молодежке очерк о дворовых хулиганах и их главаре Сеньке Шарикове. Меня поздравляли — «гвоздевой материал». Вечером в редакцию пришла его мать: «Что ж мне теперь делать, когда Сеньку посадили? У меня двое малышей, я по ночам работаю на станции — на двенадцать рублей больше платят за ночные дежурства… С кем мне детишек оставить? Они ведь, когда просыпаются, плачут, воды просят, на горшок надо высадить, а Женя и вовсе писается, подмывать надо, это ж все на Сеньке было… Тимуровцев хоть каких пришлите…»
…Я провел с детьми Шариковой две ночи, добился освобождения Сеньки (начальник отделения милиции на меня не смотрел, играл желваками, мужик совестливый, пенсионного возраста, терять нечего).
— Вообще-то, — говорил он скрипучим, безнадежно-канцелярским голосом, — сажать надо не его, а ваших комсомольских говорунов. Что ребятам во дворе делать? Ну что?! Спортплощадки нет? Нет. Подвалы пустые? Пустые. Но танцзал — ни-ни, запрещено инструкцией… В библиотеке интересные книги на дом не дают, да и очередь на них… Придет какой ваш ферт в жилете и айда ребятам излагать о Продовольственной программе или про то, как в мире капитала угнетают детский труд… А у Сеньки с его братией от вашего комсомольского занудства уши вянут… Им — по физиологии — двигаться надо, энергию свою высвобождать… А вы — бля-бля-бля, вперед к дальнейшим успехам, а его мать девяносто три рубля в месяц получает… На четверых…
Назавтра я отправился в ЖЭК. Начальница только вздохнула: «На какие шиши мы спортплощадку построим? Живем в стране «нельзянии», все расписано по сметам: тысяча — на уборку, три тысячи — на ремонт, и точка. Пусть мне даже ремонт не нужен, жильцы за подъездами глядят, не позволяют корябать стены гвоздями, так ведь все равно эти деньги мне никто не разрешит перебросить в другую статью, а сама я пальцем не пошевелю — кому охота смотреть на небо в клеточку?! У нас, молодой человек, исстари заведено: что сверху спущено — то и делай, а сам не моги… Холопы и есть холопы! А смело вам так говорю, потому что являюсь инвалидом труда, на хлеб с молоком хватит…»
Вот тогда я вспомнил мамины слова про то, как отец придумывал себе людей. Наверное, это было для него средством защиты: выдумав в каждом встречном добрую тайну, не так безнадежно жить. Действительно, человек творец собственного счастья, только одни воруют и покупают дорогую мебель, а другие придумывают мир хороших людей, чтобы пристойно вести себя на земле — между прошлым и будущим. И то и другое у всех одинаковое, только жизни разные…
— Василий Пантелеевич, — сказал я Горенкову, — ваше дело изучает экспертная комиссия… То, что я смог понять, говорит за то, что вы ни в чем не виновны.
— Правильно. Но меня не удовлетворит амнистия, списание по болезни, изменение статьи… Я требую сатисфакции…
— Вы в своих жалобах не упоминали имен… Хотите назвать тех, кто судил вас?
— Этих винить нельзя — бесправные люди… Их положение ужасное. Они ведь программу «Время» смотрят, «Правду» читают… Всех теперь зовут к перестройке, смелости, инициативе, но ведь те, кто меня судил, по сю пору живут законами, которые призваны карать за инициативу и смелость. Бедные, бедные судьи! Я их жалею… А обвиняю я нашего замминистра Чурина — он одобрил мои предложения, позволил начать эксперимент до того, как это было введено в отрасли, я поверил ему на слово, без приказа. А когда нагрянули ревизоры — слишком большая прибыль пошла, слишком быстро я начал сдавать объекты — и увидели, что я перебрасываю деньги из статьи «Телефонные переговоры» на премиальные, из графы «Роспись стен» на соцбытсектор, борец за решения двадцать седьмого съезда Чурин отказался от своих слов и сказал, что я на него клевещу, никакого разрешения он не давал.
— Можно несколько вопросов?
— Давайте. Только если я начну очень уж заводиться — остановите. Злость, знаете ли, от сатаны, от нее слепнешь и теряешь логику.
— Объясните, как вам удалось за год вывести трест из прорыва?
— В деле все есть.
— Ваши показания написаны очень нервно, Василий Пантелеевич, — ответил я. — Вы ж их в тюрьме писали.
— Можно еще сигаретку?
— Оставьте себе пачку.
— Спасибо… Так вот, я собрал рабочих самого отстающего СУ, начальника у них не было, но главный инженер — золотой парень… Сто сорок в месяц, кстати, получал… А пьянь меньше чем за триста палец о палец не пошевелит: сядут на кирпичи, газетку развернут и читают передовицы… Ладно… Собрал я их и объявил: «Чтобы построить семнадцатый дом, надо освоить семьсот тысяч… По плану мы должны сдать объект в конце третьего квартала. Я прикинул, что каждый день стоит две тысячи. Если сдадите дом по высшему качеству на день раньше срока — две тысячи ваши, премию распределяйте сами. На десять дней раньше срока управились — делите двадцать тысяч». Меня на смех: «Это что ж, мы по тысяче можем премию получить?» — «Если на месяц раньше обернетесь — по полторы…» До ночи говорили, не верили мне люди: веру убить недолго, сколько ее раз у нас убивали, а вот восстанавливать каково? Но все же подписали мы договор: от имени треста — я, от стройуправления — треугольник… Дом принимала общественность, а не только комиссия. Телевидение потом приехало. В газетах писали… Второй дом сдало двенадцатое СУ — тоже по моему принципу: все, что сэкономили — во времени, — ваше. После этого подписали договор со всеми СУ, а тут — стук в дверь, час ночи, все как полагается: расхищал соцсобственность в особо крупных масштабах, добровольное признание спасет от вышки, признайтесь, что руководство стройуправлений от своих премий золотило вам лапу… Я ведь и Лениным поначалу защищался, про тантьему говорил, то бишь процент от прибыли, и не простой, а валютный, и про то, что надо учиться у капиталистов хозяйствовать, и приводил цитаты с двадцать седьмого съезда, а мне клали на стол закон, принятый в тридцать девятом году, и спрашивали: «Где, кто и когда его отменил?» Я поначалу попер: «Читайте газеты, слушайте телевидение, там про это каждый день говорится!» — «Мы живем для того, чтобы следить за выполнением законности, а вы ее нарушили… Газеты и телевидение — лирика, сегодня одно, завтра — другое, насмотрелись за тридцать лет всякого… Отвечать вам не перед редакцией или телевидением, а перед буквой действующего закона».
— Передохните, — предложил я, заметив, как бумажно побледнел Горенков. — Пауза не помешает.
Он усмехнулся:
— Мне пауза не помешала… Тринадцать месяцев в тюрьме — нужная школа, избавляет от иллюзий… Если бы все действительно хотели перестройки, инициативы, рывка вперед, давно бы опубликовали закон, отменяющий все запреты, коими так славилась Русь-матушка. Человек — винтик, ему дозволено выполнять только то, что предписано начальником, инициатива — штука опасная, можно не совладеть, да и чувство собственного достоинства появляется в людях, как с ними управишься?! Особливо если ты необразованный осел и рос так, как принято: со стула — в кресло, а оттель — в кабинет, и не потому, что голова светлая, а из-за того, что тебя — к собственной выгоде — просчитали те, кто расставляет кадры… Карнавал петрушек, ей-богу… Не сам себя человек делает, а его сановно назначают те, кто создает для себя послушное исполнительское большинство, — безмолвное и тупое.
— А почему заместитель министра Чурин не был вызван в судебное заседание? — спросил я.
— А почему он не был вызван к следователю? — Горенков пожал плечами.
— Да потому, что отказался от самого факта встречи со мной. Не был я у него на приеме — и все тут…
— Вы к нему как попали?
— Меня вызвали в Москву телеграммой.
— А кто ее подписал?
— Откуда я знаю, — Горенков, не сводя с меня глаз, полез за новой сигаретой. — Предсовмина Каримов пригласил, сказал, что, мол, из Москвы телеграмма: в связи с назначением начальником треста прибыть на беседу.
— К кому?
— К заместителю министра.
— Какому?
— Об этом я его не спросил.
— Почему?
— Да разве я думал, что через год в острог сяду? Знай я прикуп, жил бы в Сочи… Вот вы ставите вопрос, а я снова себя казню: как же не учены мы закону! Отчего англичанин без юриста шага не ступит, а мы про кодекс вспоминаем, лишь когда на нары сядем?! Почему?!
Я хотел ответить ему, что эту тему исчерпал в своем творчестве такой знаток нашей истории и права, как Василий Белов, но, решив не вдаваться в литературные хитросплетения, уточнил:
— Значит, телеграмма с вызовом пришла не в трест?
— Должность эта — номенклатура Совета Министров, туда и сообщили…
— Кто подписывал ваше назначение?
— Чурин.
— А разве можно подписывать, не побеседовав с тем, кого назначаешь на такую работу?
— Значит, можно, если ему следователи поверили… Он сказал, что обо мне «доложил аппарат». И все. «Я верю своим товарищам по работе, вполне компетентный коллектив единомышленников».
— А кто с вами из его «единомышленников» беседовал?
— Чуринский помощник, потом главный технолог и начальник управления кадров Хрипов.
— А почему вы их не вызвали в суд?
— Зачем? Они же не давали мне разрешения на эксперимент. Я и не просил их вызывать… Кадровик и есть кадровик — что скажут, то проштемпелюет.
— Вы хорошо знакомы с Рустемом Исламовичем Каримовым?
Горенков насупился:
— Тоже интересуетесь, сколько я ему давал в лапу? Следователь сулил снять с меня три года, если я дам ему такие показания…
— Я бы сказал вам правду, Василий Пантелеевич… Я стараюсь не лгать, мозг утомляет… Мне очень симпатичен Каримов…
— Будете держаться этого мнения, даже если его посадят? А посадят его, видимо, скоро… И — поделом…
— Почему?
— Потому что идеалистов надо карать, они убивают веру, без них спокойнее жить…
IV
ВЧграмма
«Полковнику Костенко
угро МВД СССР
Во время очной ставки с бывшим первым заместителем МВД Чурбановым бывший секретарь Бухарского обкома Рахматов показал, что некий пенсионер Завэр продал ему уникальное кольцо дымчатого топаза, работы неизвестного уральского ювелира начала прошлого века, представляющее музейную ценность.
Имя человека, который свел Рахматова с Завэром, неизвестно, внешние данные: крепкого телосложения, примерно пятидесяти лет, лицом похож на дьякона — усы и бородка, волосы с сединою, расчесаны на пробор, роста примерно ста семидесяти пяти сантиметров, особых примет на лице нет, говорит с придыханием, быстро, несколько аффектированно. Первая встреча состоялась на выставке работ дизайнеров.
Просим по возможности срочно установить указанного Завэра, а также человека, организовавшего его контакт с Рахматовым.
Прилагаем фоторобот Завэра, сделанный нами на основании показаний Рахматова.
Сообщаем, что купля-продажа состоялась возле касс Киевского вокзала.
Подполковник Вакидов».
V Я, Валерий Васильевич Штык
Больше всего меня интересуют неопознанные летающие объекты. Те, которые отказываются допускать самое возможность их существования, сродни шовинистам: «Во вселенной есть только одна Земля — наша, а на этой Земле мы — самые талантливые люди».
Когда я первый раз принес на отборочную комиссию картины, посвященные инопланетянам, Савелий Эммануилович досадливо махнул рукой:
— Вы так хорошо начинали, Штык… Настоящий реализм, прекрасная композиция, зачем вам эти фантазии?
— Постепенно я привык к тому, что мою новую живопись заворачивали, не пускали на выставки, но много ли мне надо? Мастерскую я уже получил, — хоть и в цокольном этаже, но достаточно светлую, два издательства подбрасывали книги — на иллюстрацию, какие-никакие, а деньги. С красками, правда, трудновато, цену теперь повысили вдвое, на большую вещь приходилось копить пару месяцев. Летом это не трудно, теперь огурцы появились в магазине, нарежь, залей кефиром, — вот тебе и прекрасная пища на день. А зимой я становлюсь прожорливым, мороз действует на меня каким-то странным образом: хочется лечь в койку, укрыться тулупом и три раза в день уминать сковороду картошки, жаренной на подсолнечном масле с луком.
…Поначалу меня очень хвалили, особенно когда я писал передовиков из моей деревни Кряжевки. Даже «Советская культура» напечатала пять лет назад статью, не говоря уж о «Художнике». Пару моих вещей ежегодно приобретала закупочная комиссия, жил как Крез, но постепенно — это случилось, когда Люда подарила мне роскошное издание Сальвадора Дали, — я начал рассматривать и себя, и свою мастерскую, и тех, кто ко мне приходил, как-то со стороны, а точнее — сверху. Очень удобная точка обзора. Если настроить себя, открывается интересный ракурс, чаще всего совершенно неожиданный. Отдельность — не такое уж плохое понятие, коли его верно трактовать. Рерих — отделен, потому и значителен. И вот тогда-то я заново переосмыслил фразу Толстого о том, что человек состоит из знаменателя и числителя — как дробь. Точно. Это особенно заметно именно сверху, чуть слева, но обязательно при хорошем свете.
Постепенно я сам себе показался мелюзгою, — с этими моими стожками на поле, с тетей Надей, которую я больше всего любил писать, усадив ее на завалинку вместе с внучкой Николая Саввича — девушка рисовала цветными карандашами и поэтому безропотно мне позировала. Не помню, кто из наших писателей прошлого века сказал, что, мол, жизнь может такую завитушку под ребро дать, что из человека — хоть и старого мушкетного пороха — все рояльное воспитание в один момент выскочит. Так со мной и случилось.
…Люда в ту пору приходила ко мне редко, не знаю уж почему, наверное, увлеклась кем, она любит заметных, я не ревнив, бог дал — бог взял. Это не к смерти надо прикладывать, а к любви, все не так горько. И как-то дождливой, серой ночью я ощутил внезапное и легкое воспарение. Летать я боюсь, ни разу в жизни не летал, нет ничего прекраснее поезда (можно было б, я бы экипаж пользовал, только за экипаж, наверное, посадят, у нас все, что не как у всех, наказуемо. Никто так не привержен одинаковости, как мы). В каком-то кино, где показывали горящий самолет, я похолодел от ужаса, наблюдая, как аэроплан натужно отрывался от земли, — вот-вот упадет, страх господень… Я много раз смотрел этот фильм, потому что там был четко показан момент отрыва машины от земли, я этим любовался, как классической композицией, такие бы в академии ставить, любо-дорого писать, нынешний обязательный бархат с яблоками и кувшинами мало кому нужен. Когда и это запрещалось — было интересно, а если теперь заставляют, — чего же предписанным любоваться, велика охота… Ну, я и подумал в ту ночь: а вот как эти несчастные инопланетные насекомые воспринимают нас, вылезая из своей тарелки? Они ж прыгучие, эти прозрачные инопланетяне, скачут, наверное, высоко, обзор хороший, ветер можно увидеть, а это самое трудное — написать ветер, его только в августе можно понять, в горах, возле могилы Волошина, в Коктебеле… Вот тогда я и увидел будущую картину всю целиком: сидит на земле инопришелец, обхватил тоненькие свои ножки длинными рученьками и с такой тоскою смотрит на открывшийся ему ландшафт, что словом и не выразишь… Вообще словом не очень-то много выразишь, оно — блудливо, его легко на себя обернуть; картину — трудней, а музыку и вовсе нельзя. Для меня Бах большая загадка, чем транзистор, хоть и этот ящик черт знает что такое: заклепочки, картоночки, проводочки, а включил — Америку слушаешь в Кряжевке, несмотря на то, что сосед, Егор Романович, каждый день сигнализирует куда следует: «Русскому человеку надлежит свое слушать, чужое — грех». И еще я увидел задник моей картины, загадочная картина мироздания, наша крохотная планетка затерялась между махинами, а внизу — библейская равнина, затиснутая между коктебельскими горами. И ветер шумит, и пахнет вокруг свежим сеном… Не только инопланетянин — пришелец. Человек — тоже, оттого — грустно нам жить, тоска томит, душа хочет чего-то неведомого, а где его взять? В самом себе человеку все ведомо…
Я сделал наброски (хотя не люблю их, школярство, вещь надо ощущать в себе, как мать — дитя), пошел в комбинат, попросился в Крым, мне предложила поездку в Среднюю Азию, писать галерею хлопкоробов, хорошие деньги, и осень как раз подходила, фрукты дешевле.
Сунулся в издательства. Тоже отказали, хотя выслушали доброжелательно.
Подумал было на потребу западным дипломатам побаловаться цветными шарами, абстракцией, но — не лежит у меня к этому душа, я — предметник, верю лишь тому, что вижу в себе и ощущаю.
Сделал я для соседского клуба несколько портретов углем, заплатили три сотни, купил билет в Феодосию и отправился в Коктебель. А когда вернулся, тут ко мне Виктор Никитич Русанов и заглянул:
— Ах вы, правдолюбец мой дорогой! Оглянитесь вокруг себя! Поглядите, как устроились ваши сокурсники, Гриша и Вениамин! Удар — забрали деньги и пишут что хотят, в свое удовольствие… А вы? Нет в вас их оборотистости, жаль…
Вообще-то я разговоры не люблю, слушать — слушаю, но беру только то, что интересно, остальное пропускаю сквозь уши, мне слова не мешают, не музыка ведь, только она меня всего забирает… Некоторые пишут под музыку, а я не могу, это как в церкви стругать доску, особенно во время пасхальной заутрени.
Я полюбопытствовал, чем занимается Виктор Никитич, он легко представился, мол, реставратор, «неужели не помните, мы с вами познакомились у Целкова, лет десять тому назад». Я помнил всех, с кем встречался у Целкова — память художника мучительная, все в голове храним, — но если человеку хочется, чтобы мы были знакомы, то и пусть себе, какой от этого вред? Вот он-то, Никитич, и предложил:
— Есть у меня кое-какие ходы, можно брать заказы на оформление новостроек, договор — не менее как на пятьдесят тысяч, но, ясное дело, вы получите пятую часть, остальную надо раздать, зато десять косых на земле не лежат, а вам они дадут возможность писать то, что вы почитаете нужным…
Я что-то слыхал про такие операции. Заманчиво, конечно, но поинтересовался:
— А отчего вы именно ко мне с этим пришли?
Русанов огладил усы и проникновенно, с некоторой даже торжественностью ответил:
— Валерий Васильевич, вы родом из Кряжевки, а я из Видного — небось помните?
Как не помнить, конечно, помню, я там много писал, оставался ночевать, только вроде бы Русановых в деревне не было, хотя, может, он по матери оттуда, какая разница?
— И договор можете по форме заключить? — спросил я.
Он вытащил из кармана три бланка, подписанных десятью закорючками, с печатью уже:
— Если согласны — дадите мне доверенность на ведение ваших дел, оформим у нотариуса, главное — право распоряжаться кредитом. Больше никаких забот, напишите номер сберегательной кассы, через месяц получите деньги, представив, конечно же, эскизы.
А у меня и сберкнижки-то не было. Ну, ладно, у нас и на рубль книжку открывают, рупь в хорошем хозяйстве не помеха…
— Погодите, но я хоть должен взглянуть на то здание, которое мне предстоит оформлять…
— И это пожалуйста, — он папочку открыл, развернул склеенные скотчем листы бумаги и расстелил их на полу, презрительно отодвинув ногой кастрюльку, в которой я варил себе чай.
— Ну, а что я должен для вас писать? Я сейчас увлечен инопришельцами, Виктор Никитич… Это, наверное, не подойдет…
— Конечно, не подойдет, — рассмеялся Русанов. — А вот ваша дипломная картина вполне пригодится… Только надо бы вдали за полями, в лучах июньского заката дать провода электропередачи и далекий абрис завода…
— И мне это подписывать? — спросил я.
— Тут уж ваше право… Мы к вам присоединим еще двух художников, надо своим помогать, тем более старики, немощны, пусть и подпишутся, какая, в конце концов, вам разница? Деньги есть, вот и готовьте свои картины на выставку — инопришельцами сейчас заинтересуются, все позволено, только вам ли, русскому мастеру, растрачивать себя на такие сюжеты?
…И ведь, между прочим, он меня не надул… Ну, там какая-то неувязка вышла с двумя тысячами, то ли я налоги недоплатил, то ли еще что, но ведь это не главное: семь с половиной мне отслюнявили, а работал я всего три месяца, красили другие люди, совершенно мне неизвестные, расчеты с ними вел Виктор Никитич, а я, счастливый, ушел в свою новую картину.
Хотя что такое счастье? Даже Даль с Ожеговым дают различные толкования данному понятию, а философский словарь, который про все знает, этот вопрос и вовсе обходит своим бдительным вниманием.
Порою Русанов приходил с пачкой индийского чаю — трезвенник, алкоголем брезгует — и, наварив чифиря, пускался в рассуждения. Особенно часто это с ним бывало после заключения очередного договора, — он приткнулся к строителям и бензинщикам, золотая жила, объемы росписи большие, хороший бизнес.
Больше всего его волновал вопрос о том, как можно наладить людей жить в добре, в согласии со Словом.
— Редко кому удается быть истинным человеком, — говаривал он, отхлебывая черный навар быстрыми птичьими глотками. — А что такое человек? Это по идее приближение к Создателю, к Отцу… Но ведь подражать ему в частностях не означает того, что мы по-настоящему повторяем Создателя. Скольких вы знаете людей, которые чтут свой духовный опыт? Да хоть одного назовите — порадуюсь! Он у людишек юркий, опыт-то духовный, от любой мелочи может перевернуться: прочел сегодня одну книжку — тянет вести себя подобно ее героям, поглядел завтра кино какое — хочется совсем другого… Множественность — греховна, ибо мы малы и безвольны, Валерий Васильевич… Мы живем в постоянном духовном колебании, как камыш осенью, мы спокойно относимся к тому, что приятель какой или книжка могут перевернуть нас внутри, — разве с такими людьми дело сделаешь? Только незыблемость постулатов! Если мы пронзим каждого этими едиными для всех ипостасями, глядишь, сдвинемся с мертвой точки.
Я слушал его, перебивая редко, потому что думал о своем, говорунов побаиваюсь: летуны, земли не чувствуют, от земли идет добровольная дисциплина, а от таких — казарма и концлагерь. Тем не менее всяк человек — человек, пусть себе говорит, может, ему облегчиться надобно, а я от него ничего, кроме добра, не имел, он мне руки развязал для главной работы, как не выслушать?
Впрочем, когда он очень уж начинал багроветь и требовал единомыслия всех людей, я напоминал ему о Сталине, надменные его слова о нашем русском долготерпении, что-то бесовское было в этом, — посадил в лагеря самых работящих да умных, самих честных пострелял, и — нате вам — хороший народ, потому как все сносит… Вообще-то о Сталине я думаю с состраданием: воистину вырвался человек — силою случая — к высшей власти, был поначалу окружен высверком талантов, поэтому и жил в страхе, постоянно ожидая конца своему царствию… Оттого, видно, и сделал ставку на бюрократов, которые ему — за пакеты — служили верой и правдой… Он же их из грязи в князья вывел, у нас в Кряжевке был дядя Степа, работать не любил, все больше глотку на собраниях драл, так ведь его, голубя, в тридцать седьмом сначала председателем колхоза сделали, а потом в исполком перевели, а в тридцать девятом он уж в областной партии секретарствовал, а во время войны стал замнаркома, хоть и пень пнем, но — сноровистый, нутром понимал, что надо кричать, где и когда… Вот такие-то и держали страну… Выдвиженцы… Но — бессребреник был… Детей — Ваню и Колю — воспитывал в строгости, никакого баловства, однако наша дорога в ад вымощена их благими намерениями, чем же еще?!
— Ах, милая душа, Валерий Васильевич, — быстро, словно бы у него были заготовлены ответы на все случаи жизни, откликался Русанов, — нравственные ипостаси нашей жизни никем не могут быть исправлены, кроме как создателем. Законы морали нельзя ни изменить, ни улучшить… Они существуют? Да, существуют. Значит, обязательны для каждого… Сталин ведь не всех казнил, тех, кто веровал, следуя воле его, — возвышал…
— Ой ли?! Вон нарком внешней торговли Розенгольц даже после того, как его к расстрелу приговорили, кричал: «Да здравствует товарищ Сталин!»
— На то он и Розенгольц, — усмехнулся Виктор Никитич. — Меня это не удивляет… Однако я не лишаю его права на покаяние, которое всегда искренне… Но мы ныне лишены этой привилегии, слишком много людишек расплодилось, особенно чужих, далеких нам пород, вот что тревожно… А покаяние возможно только в пустынном одиночестве… Курортник, уплывший в море на маленькой лодочке, тоже одинок, но в его душе живут все те, кого он любит. А вот когда наступает душевное одиночество, когда ты — злыми чарами — отторгнут от того, кто создал нас, тогда начинается трагедия… Это особенно приложимо к нам, художникам: талант развивается в пустынном уединении, только характер — в схватке с себе подобными.
Слушая его, я еще больше заряжался верою в то, что делаю. Я мечтал писать одиночество и ветер, но порою заключения Русанова тревожили меня своей ограниченной жестокостью.
Не скажу, чтоб я был постоянно спокоен все то время, что работал в команде Русанова, внутри что-то жало, но я получил право на ту работу, о которой мечтал, однако. все кончилось, когда ко мне пришел Иван Варравин…
VI
«Главное управление уголовного розыска
полковнику Костенко В. Н.
Рапорт
Покинув квартиру, Завэр отправился в библиотеку Ленина, где заказал книгу о ювелирах Европы. Сделав ряд выписок, он спустился в буфет. Позвонив по телефону, разговаривал с некоей Глафирой Анатольевной в течение пяти минут, рассказывая, в частности, о ювелирных аукционах в Швейцарии, где «Фаберже» стал цениться еще выше. Пообещав составить список наиболее уникальных бриллиантов и провести сравнительную экспертизу с нашими ювелирными изделиями, заверил: «Ах, о чем вы, Глафира Анатольевна, я это делаю без всякой корысти, и не унижайте меня, пожалуйста! Позвольте старому ветерану ощущать свою нужность перестройке, я живу ей, как и вся страна!»
После этого, купив винегрет и чашку кофе с молоком, он позавтракал и поехал на Киевский вокзал. Возле пригородных касс, во время покупки билета, к нему подошел неизвестный мужчина — крупного телосложения, в сером костюме, блондин с голубыми глазами, нос прямой, подбородок волевой, чуть выпирающий, особых примет на лице нет. Поскольку у касс было много народа, нам не удалось сфотографировать предметы, которыми обменялись Завэр и неизвестный. Однако бесспорно то, что Завэр передал предмет в форме конверта. Неизвестный же отдал ему предмет значительно больший по объему, напоминающий книгу, который Завэр быстро положил в свой портфель.
Неизвестный с Завэром ни о чем не говорил и, выйдя из толпы, отправился к стоянке такси, сел в автомобиль ММТ 42–19 и поехал на Фрунзенскую набережную, дом 42. Попросив такси его обождать, вошел в подъезд. Наши сотрудники сразу же вошли во двор, установив, что черный ход из этого подъезда заколочен. В течение часа мы ожидали неизвестного, однако он не появлялся. Тогда я принял решение проверить подъезд. Было установлено, что дверь на чердак легко открывается и по чердаку можно пройти к другим подъездам, которые имеют черный ход во двор.
После двенадцати часов наблюдения за подъездом мы пришли к выводу, что неизвестный нами упущен.
Капитан Коровяков».
VII Я, Иван Варравин
— Здравствуйте, это из редакции… Не могли бы соединить меня с товарищем Чуриным?
— У товарища Чурина совещание.
— Когда позвонить?
— Около часа.
— Это как понять «около»? Без десяти? В час десять?
— Около часа. Это все, что я могу вам сказать, товарищ.
Голос у секретаря был несколько раздраженный, хотя я чувствовал, как женщина борется с характером. Мне казалось, что она вот-вот сорвется на привычный крик в коммунальной кухне. Смешно, у нас количество коммуналок все же уменьшается, а в Нью-Йорке стремительно растет: на летучке наш собкор рассказывал, что теперь многие жители Манхэттэна, где небольшая двухкомнатная квартирка стоит не менее шестисот долларов в месяц, пускают квартирантов — все не так много платить.
Около часа секретарь ответила («секретарша» — гнусно, продолжение одностороннего «ты», барское неуважение к профессии), что товарищ Чурин отъехал в Госплан, но если у меня срочное дело, можно позвонить его помощнику, товарищу Кузинцову, он не откажется помочь, любит прессу.
Очень хорошо, что он любит прессу, подумал я, только перед тем, как просить Кузинцова посодействовать мне в организации встречи с его боссом, надо поехать в «Экономичку» и поговорить со стариком Маркаряном.
Когда я был совсем молодым (по-моему, молодость кончается в двадцать шесть лет, возраст гибели Лермонтова), у меня была дурацкая привычка идти напролом. Я был убежден, что система вопросов, подготовленная накануне беседы с интересовавшим тебя человеком, позволит принять абсолютно точное решение. Пару раз я крепко срезался — расписал прохиндея как борца за справедливость, а честную женщину, но, видно, закомплексованную (когда пила чай, локти держала чуть не у пупка, свидетельство закрытости, не руки, а какие-то роботы), высмеял как ретроградку. С тех пор я на всю жизнь сделал вывод: только избыточная информация, собранная по крупицам, а не рожденная собственными эмоциями, может быть основой для мало-мальски серьезного анализа.
К сожалению, у нас нет справочников, типа американских «Ху из ху»[4], поэтому приходится искать знакомых интересующего тебя человека. Подкрадываться, щупать с разных сторон, довольствоваться намеками. Впрочем, умеем читать между строк, понимая молчание собеседника — наша горестная привилегия, традиция, будь она неладна! Когда я готовил материал о том, как местная власть душит частника (откуда у нас это дикое слово? Без части нет общего, частное — это личное), кто-то посоветовал пойти в «Экономичку» к Маркаряну: человек, который обладает феноменальной памятью, аналитик, неудачник пера, но как никто другой знает хитросплетения связей в нашем чиновном мире.
И на этот раз он встретил меня хмуро, повторил, что без взятки разговаривать не станет, надоело донкихотствовать. Я пригласил его в кафе — он берет только «арабика» со сливками — и рассказал кое-что о Горенкове, заместителе министра Чурине и его помощнике Кузинцове.
— Погоди, сынок, — остановил меня Маркарян, когда я начал углубляться в суть дела. — Погоди… Как этого Чурина зовут?
— Арсений Кириллович. А что?
— Для начала тебе надо понять, как Чурин переехал в Москву? Мы же дети Византии, Ваня. Нас нельзя рассчитывать, исходя из западноевропейского прагматизма… Перемещения у нас таинственны… В подоплеке их может быть вражда или, наоборот, симпатия… Представьте себе, что Чурин стоял поперек пути своего прежнего начальства… Молодой, сорок семь, в соку, инженер, грамотный строитель, со своим мнением… Новые времена — не ровен час, громыхнет на партконференции по боссу, не отмоешься, повалит. Что делать? Повышать, двигать в Москву, нажимать на все кнопки, вводить в действие связи, хвалить врага на каждом углу, ратовать за продвижение растущего кадра в центр… Это — один путь. Второй: министр действительно был заинтересован в толковом заместителе, перетащил его в первопрестольную, дал самый боевой участок… А сколько лет министру? Каково его положение в Совмине? Что пишет о нем пресса? Это, так сказать, основоположения. Без понимания этого фундамента ты не разберешься с тем, отчего Чурин отдал на закланье человека, вытащившего отрасль из прорыва, того, кому надо присваивать Героя, а не в карцер купорить… А может, этот самый Горенков ему не отдал…
— Нет, — я даже отодвинулся от Маркаряна. — Нет, такого быть не может!
— Все может быть, Ваня. Все. Запомни, пока государство платит работнику не процент от той прибыли, что он принес обществу, а за занимаемый стул, может быть все. Заместитель министра — бедный человек, Ваня, он получает не более пятисот рублей, столько же, сколько хороший сталевар или шахтер… А за дубленку жене ему надо отдать, как и всем, — тысячу… Может, Горенков этот самый не пригласил товарища Чурина стать соавтором изобретения, всяко может быть, не ярись, не надо, слушай старика… Еще вот что… Горенков был единственным в отрасли? Или еще кто проводил такой же эксперимент?
— Единственный, — ответил я. — И с ним эксперимент закончился.
Маркарян удовлетворенно кивнул и заказал себе еще один кофе:
— Очень важная информация, Ваня. Ответь мне в таком случае: кому мог угрожать успех его эксперимента?
— Рустем Исламович Каримов прямо говорит: «Бюрократии…»
— Каримов? Это Предсовмина?
— Да.
Маркарян недовольно поморщился, отсёрбал серыми, нездоровыми губами курильщика пену с кофе и заметил:
— Не надо дозировать информацию, Ваня. Мне неинтересно фантазировать. Надо выдавать полный залп, все, что у тебя есть. Тогда будем на равных.
— Каримов считает, что сейчас выстроился коррумпированный блок бюрократов. Министерства не намерены без боя сдавать позиции, любая инициатива должна быть ими рассмотрена и утверждена.
— Вот что, Ваня… Ты не ходи к Кузинцову… Или если уж идти, то по-хитрому: «Пишу статью о вашем шефе, человек отвечает за огромный участок народного хозяйства, строительство — наш прорыв, что думает о будущем тот, от кого зависит реформа и перестройка…»
— Хочу жить не по лжи, Геворк Аршакович…
— А я, выходит, только и мечтаю существовать как Змей Горыныч?! Почему вы, молодые, так горазды на обиды?
— Я же правду сказал…
— Думаешь, твоя правда не может обидеть собеседника? Не обижает только абстрактная правда. А она отстаивается по прошествии времени, единственно истинный критерий правды — годы, Ваня… Кто сказал, что журналистика бескровна? Я сломан оттого, что начинал в ту эпоху, когда ценилась эластичность совести. Я был полон идей, как и ты, ярился на бардак, тупость, страх, а сделать ничего не мог… И нечего валить на цензуру — внутри каждого сидел цензор, это самое страшное… А сейчас, когда настало то время, о котором все мечтали, я оказался пустым, меня выжгло изнутри… Ваше поколение еще не до конца сломано, ты в газете шесть лет, из них два года упало на гласность, вам потомки памятник воздвигнут в центре столицы: «Правде — от благодарных сограждан»… А мы… Удобрение, коровяк. Я бы не смог себя переступить, я бы не пошел на комбинацию во имя правды… Ты — можешь. Пока что — во всяком случае… Попробуй переть на Чурина, но, думаю, тебя к нему не пустят. Тогда хитри с Кузинцовым. И — набирай информацию, Иван, дои его… А я постараюсь тебе помочь через друзей… Нас начнут гнать метлою года через три, когда сровняется шестьдесят, и, кстати, правильно будут делать, но пока мы готовы служить вам, вроде бы как замаливать собственные грехи.
Назавтра секретарь сказала, что товарищ Чурин эти два дня будет занят на научной конференции, затем он выезжает на Украину, так что лучше бы мне позвонить в конце следующей недели.
— А товарищ Кузинцов остается в столице? — спросил я. — Или будет сопровождать шефа?
— На Украину он, конечно, полетит с Арсением Кирилловичем, а эти два дня Федор Фомич на хозяйстве, можете связаться, дам прямой телефон.
…Кабинет Кузинцова был маленький, но обжитой: деревянные панели, дубовые подоконники, изящный столик с кофейником, интересные книги в стеллажах (не те, что торчат в иных начальственных шкафах, — обязательные тома избранных произведений, справочники, несколько альбомов и уйма нечитаных брошюр) — Достоевский, Гоголь, Шолохов, Сергеев-Ценский, томики всемирной литературы, поэзия Смелякова, Рубцова, Ахматовой, фотоальбомы о памятниках архитектуры Смоленска, Пскова и Новгорода.
И сам Кузинцов тоже был обжитым, кряжистым, доброжелательным. Только мне показалось странным, что помощник заместителя министра носил волосы, словно хиппи, до плеч, и то и дело оглаживал бородку и усы, — я привык к тому, что аппаратчики тщательно подстрижены, подчеркнуто скромны в одежде, ничего выделяющегося, устойчивый стереотип одинаковости.
— Нуте-ка, давайте, давайте, — окающе рассыпая быстрые слова, приветливо начал Кузинцов, — помогу, чем могу, преклоняюсь перед пишущими, сам грешил в молодости, было дело! Постараюсь ответить на ваши вопросы, товарищ Варравин…
— Какой я пишущий, — я начал неторопливо прилаживаться к собеседнику. — Я репортерящий… И вопрос у меня крутой: что мешает перестройке в вашей отрасли?
— Эх, милый мой человек, да вам блокнота не хватит записать все наши беды! Бюрократия, страх мыслить по-новому, неумение быть инициативным… Это — главное. Но есть и объективные причины… Дрянная оснащенность промышленности, перебои в поставках, нехватка цемента, пролетов, шифера — а как без этого строить?
— Про то, что плохо, сейчас знают все… Какова программа? Где выход из прорыва?
— Простите за стереотип, но выход я, как и все, вижу в повышении сознательности, каждодневной воспитательной работе, разъяснении смысла перестройки, ну и, конечно, в рычагах материального стимулирования…
— А что важнее? Повышение сознательности или материальное стимулирование?
Кузинцов как-то странно покрутил головою, потом, кашлянув, заметил:
— Эти понятия нерасторжимы. Перекос в одно из двух направлений чреват неуправляемыми последствиями…
— А как же бытие, которое определяет сознание?
— Надо быть тщательным в формулировках… Не просто бытие, но именно общественное определяет уровень сознания… Следовательно, общественное бытие включает в себя и сознательность.
— Ну, а если резче: «человек есть то, что он ест»? Как быть с этим постулатом?
— Сразу видно, что со мною беседует сторонник «деловых людей».
Сказал он это с несколько сострадательным сожалением, которое таило в себе затаенную снисходительность.
— С вами беседует марксист, — ответил я. — Если все ставить на сознательность, уповать на идеальное в человеке, — тогда пришло время заключить конкордат с Ватиканом и Загорском, там испокон веку материальное считалось суетным, только идея, духовность… Но ведь сытые свободные люди на баррикады не выходят, только голодные.
— И Сусанин, и Каратаев были крепостными, то есть, по вашей логике, голодными и бесправными, однако же шли на баррикаду, но только не против отчизны, а за нее.
— Экстремальность ситуации, борьба с иноземными захватчиками — не довод в споре… Разин и Пугачев, кстати, придерживались иной точки зрения… Да и теорию пораженчества в войне империалистов не кто-нибудь выдвинул, а Ленин…
— Ах, молодежь, ах, спорщики, — Кузинцов мягко улыбнулся, — куда уж с нашим склерозом за вами угнаться, сразу осадите! Не подумайте, что я противник материального стимулирования… Обеими руками — «за». Могу познакомить с приказами, только что подписанными товарищем Чуриным: смелее премировать передовиков, не бояться увеличивать заработки рабочим. Но вы же знаете, какая рутина противостоит нам — особенно на местах. Люди живут прежними стереотипами, боятся, как бы кто не разбогател… Такой уклад мышления в один день не поломаешь.
— А сколько дней кладете на то, чтобы этот уклад поломать?
— Я боюсь слова «ломать», товарищ Варравин, — ответил Кузинцов после долгой паузы. — Вы ведь не застали ломок. А я пережил. Упаси вас бог от крутых ломок, лес не рубят, а щепки летят…
— Ваша заработная плата зависит от успеха отрасли?
— Да никак! Ежеквартальную премию служащим кое-как натягиваем, но прямой связи нет, этот вопрос в процессе исследования… Может, вас интересуют конкретные эпизоды? Я готов помочь в меру сил, какие-то имена — передовики, отстающие, ворюги, анализ их деятельности, — мы внимательно следим за происходящим в отрасли.
— Меня интересует дело инженера Горенкова…
— Кого, кого? — лоб Кузинцова свело морщинами. — Горенкова? Помогите-ка, что-то вертится в голове, а вспомнить не могу.
— Был у вас такой начальник треста в Загряжске…
— Ах, это который сидит?! Оборотистый хозяин, но, знаете ли, хапуга высшей марки, прямо-таки бизнесмен из Нью-Йорка, акула…
— А почему его поддерживал ваш шеф?
— Да никогда он его не поддерживал, — отрезал Кузинцов. — Его другой человек поддерживал.
— Можете назвать имя этого человека?
— Обидно, конечно, но — назову. Кузинцов, Федор Фомич, его поддерживал, ваш покорный слуга, говоря иначе. Я его и назвал кандидатом в начальники треста, я и приказ на него писал…
— А товарищ Чурин?
— Видите ли, я ведь здесь работаю двадцать три года, здесь защитился, как-никак доктор, чем высоко горд, здесь прошла половина моей сознательной жизни, так что мне в коллективе верят.
— Значит, ваш босс подписал приказ о назначении, не встретившись с Горенковым?
— А — зачем? Я же встречался. Мне — простите за то, что повторяюсь, — коллегия министерства верит… В техническом отделе его принимали, в кадрах тоже. Я с ним два дня просидел над плановыми заданиями, вывели общую стратегию, обговорили узловые вопросы, но кто мог знать, что он начнет диктаторское самовольство?
— Вы дали санкцию на начало эксперимента по самофинансированию и самоокупаемости?
— Преступник всегда ищет, на кого бы сложить грех. Да и потом, я лишен такого рода полномочий…
— А кто мог дать ему такое разрешение?
Кузинцов пожал плечами:
— Министр, коллегия, Чурин, наконец… Но ведь Горенков был утвержден опросным порядком, приказ пустили по кругу…
— То есть товарищ Чурин таких санкций ему не давал?
Кузинцов отрицательно покачал головой:
— Нет. К Чурину идут через меня, я был бы в курсе.
— Значит, кто-то из двух врет, — сказал я.
— Горенков или я? Вас так надо понимать?
— Горенкову веры нет, он осужден, — сказал я. — Либо врете вы, либо Каримов из Совмина республики. Он утверждает, что Чурин принимал Горенкова, высоко хвалил и говорил с ним об эксперименте…
VIII Кузинцов Федор Фомич
«Неужели началось, а? — подумал он. — Да, видимо. Ну и что? Никто не гарантирован от судебных ошибок. Я не наследил ни в малости — Горенкова посадили в результате ревизии местных контролеров».
…Ужас надвигающихся перемен Кузинцов понял первым, когда еще в министерстве никто не почувствовал того зловещего, неприемлемого для служилых людей, что было сокрыто в понятиях «перестройка», «хозрасчет», «демократия», «гласность».
Он кожей ощутил, что эти — казалось бы, пропагандистские — термины на самом деле означают для него конец прекрасной полосы жизни, спокойной и надежной, когда все было выверено и заранее предопределено.
Любой визит министра союзной республики, приезжавшего два раза в год, чтобы пробивать фонды и корректировки к плану, сопровождался подарками, — кто хрустальную вазу вручит, кто ящик с вином, кто набор копченостей. Ни о какой взятке и речи не было, просто у нас исстари принято приезжать в первопрестольную с гостинцем, кто ж иначе посмеет завалиться в гости, разве нехристи одни, юркота. Замминистры из республик приезжали чаще, раза по три, а то и четыре, — тоже не с пустыми руками, не говоря уж о начальниках главков и трестов. Вопрос о санаториях в Прибалтике или на Кавказе для верных друзей и нужных контактов решался по телефонному звонку в республиканские министерства. В свою очередь нужные люди в долгу не оставались: будь то медицина, ширпотреб, парное мясо, соленая рыба, крабики там всякие, содействие детям приятелей при поступлении в институты, устройство своих людей в загранкомандировки. Причем все делалось чисто дружески, никаких там тебе такс, люди сами знают, что у нас в цене, чувством благодарности народ, слава богу, не обделен, с молоком матери всосал: не отблагодарить благодетеля — грех! Зимние сапожки или там какой завалящий японский двухкассетник в любом загранкооперативе для специалистов стоят сущую ерунду — отстали, ох отстали, чего греха таить, — а здесь нужны большие сотни, а откуда их взять, если отмусоливают двести рублей в месяц, будь ты хоть семи пядей во лбу.
…Кузинцов успел защитить докторскую за месяц до того, как в науке началась реформа: спасибо Чурину, тот организовал в ВАК письма строителей, поди не прислушайся к мнению рабочего класса, тем более диссертация была посвящена управленческой реформе. Впрочем, написал он ее двадцать лет назад, после провозглашения Косыгиным Щекинского эксперимента, но когда эксперимент задушили — не тот человек провозгласил, — пришлось положить работу в стол. Публиковал статьи и обзоры, набирал научный капитал, чаще всего выступал в областной прессе, в тех регионах, где разворачивались особенно грандиозные проекты. Потом, наблюдая за тем, как в стране начало шириться патриотическое движение по сохранению старины и уважительности к народной памяти — особенно во время подготовки площадок под новые комплексы, — почувствовал: вот оно! Надо срочно переориентировать диссертацию, дописать главу о необходимости координации строительных работ с историками, археологами, творческими союзами.
Будучи по природе своей холодным логиком, Кузинцов прежде всего думал о будущем, вопросы, связанные с тем, что ушло, его не волновали, однако он точно просчитал, что блок с носителями идеи уважительного отношения к отечественной истории выгоден ему. Идею поддерживают крупные ученые, художники, писатели, общественные деятели, такие люди нужны, в бизнесе не сведущи, доверчивы, — за ними как за каменной стеной.
Начал присматриваться к тем, кто стал во главе неформального общества по охране памяти «Старина». Остановился на доценте Тихомирове — человек достаточно странный, истеричен, но цепок и поворотлив, к тому же — трибун, умеет зажигать молодежь. Его поддержка — при благоприятной ситуации — может оказаться бесценной. Правда, Кузинцова несколько беспокоила национальная зашоренность доцента: он категорически отрицал опыт новой архитектуры, предложенный литовцами и армянами, считая нецелесообразным перенимать его: «Хватит, натерпелись с Корбюзье»; болезненно воспринимал работы Зураба Церетели в Москве: «Есть Грузия, пусть там и экспериментирует!» Кузинцов понимал, что русская интеллигенция наверняка одернет его. Видимо, если он и впредь не сможет контролировать себя, соблюдая рамки приличия, его рано или поздно переизберут, но Кузинцов твердо знал: надо ковать железо, пока горячо, пока в руках у человека сила. Решил покатить пробный шар, чтобы все стало на свои места: чему-чему, а этому чиновничья жизнь научила его отменно.
Уникальный Петровский штоф тяжелого цветного стекла и набор стаканов, сделанных по спецзаказу в экспериментальной мастерской министерства, Тихомиров принял легко, с детским восхищением: «Хоть и не люблю этого монарха, но отношу себя к числу тех, кто не вычеркивает персоналии из отечественной истории… Полагаю необходимым пропагандировать не только радищевское путешествие, но и встречное, пушкинское, из Москвы в Петербург… Да и Пуришкевича должно судить не только по его речам в Думе, но и по тому, что он сделал во имя России вместе с Юсуповым и великим князем Дмитрием, убрав Распутина… А уж коль скоро Герцен у нас в таком почете, то отчего замалчиваем Хомякова с Аксаковым? Однобокая информация — штука опасная, негоже преклоняться только перед домашними гегельянцами! Своих мыслителей, слава богу, немало, есть чем гордиться, и надобно еще поглядеть, кто на кого больше влиял — мы на Европу или она на нас».
Прочитав дописанную Кузинцовым главу, Тихомиров предложил включить несколько строк о деятельности секретаря МГК Лазаря Моисеевича Кагановича («Он же «Мойсеевич», наши тоже встречаются «Моисеевичи», обязательно поставьте «й», это необходимое уточнение — человек, лишенный чувства почвы, хасид»). Кузинцов заметил, что в таком случае надо писать и о Сталине с Молотовым, которые возглавляли ЦК и правительство. Тихомиров отмахнулся: «Они были игрушками в его руках, к тому же Молотов женился на Полине Соломоновне, сами понимаете, куда идет ветвь». Кузинцов включил несколько намекающих цитат из выступлений ряда историков архитектуры; на открытую конфронтацию не решился — неизвестно еще, куда пойдет дело.
Когда Тихомиров обмолвился, что негде дописать заказанную статью, дома шумно, приехали родственники, Кузинцов сразу же определил его в Прибалтику, в тихий дом отдыха. Система связей с нужными людьми продолжала функционировать, хотя пришлось попросить у доцента официальное ходатайство на бланке — раньше такие пустяки решались телефонным звонком, ничего не попишешь, дань времени. Все устроится, пару лет пройдет, пыль уляжется, вернемся на круги своя, только б сейчас удержаться, только б не дать порваться цепи, один за всех, все за одного, иначе нельзя…
Через месяц Тихомиров сказал, что его помощник, отменный специалист по русской керамике и фарфору Савенков, лишен сколько-нибудь серьезной производственной базы: «А ведь на нем лежит огромная ответственность — восстановить утраченные орнаменты, секреты рисунка, все то, что составляло гордость наших мастеров». Кузинцов сразу же предложил замкнуть Савенкова на экспериментальную мастерскую Гуревича в Москве, творят чудеса, прекрасная техника, только-только закупили в ФРГ.
Тихомиров покачал головой: «Доверчивая вы душа, Федор Фомич! Да разве можно отдавать восстановление нашего фарфора Гуревичу? Нет уж, лучше мы в Сибирь подадимся, есть люди, которые поддержат нас и словом и делом. Национальным искусством должен заниматься свой человек… Нет, нет, я лишен предрассудков, пусть себе Гуревич работает, но не надо ему входить в наше предприятие, пусть занимается современностью, если вы убеждены, что он делает это честно и во благо обществу».
Кузинцов ответил тогда, что есть база в Поволжье, стоить, правда, будет значительно дороже: и транспортные расходы, и размещение специалистов, и согласование пройдет труднее — местные власти весьма ревнивы к столичным вторжениям, — придется походить по коридорам администрации.
Тихомиров только рассмеялся: «Никаких хождений не будет, скажите, кто должен подписать бумагу и на чье имя… Кстати, как фамилия поволжского директора? Потапов? Хорошо. А как зовут жену? Ее девичья фамилия? Быкова? Годится. Я не шовинист и чту искусство всех народов — у кого оно исторически существовало, — но, согласитесь, смешно было бы, учи англичан театральному искусству русский режиссер!»
Кузинцов хотел было заметить, что англичане по сю пору учатся у Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова и Таирова, но понял, что делать этого не следует: порою лицо доцента — во время бесед о национальном — замирало, покрывалось мелкими старческими морщинками, глаза останавливались, делаясь какими-то водянистыми, прозрачными, словно наполнялись невыплаканными слезами. Собеседника в такие моменты Тихомиров не слышал, говорил с маниакальным устремлением, словно бы продолжая с кем-то давний спор, который никак не может закончить.
Бумагу, которую Кузинцов продиктовал Тихомирову, тот подписал во всех инстанциях за три дня, — немыслимое дело. Заметив нескрываемое удивление на лице собеседника, посмеялся:
— Милый Федор Фомич, это все не штука… Дайте время, развернемся так, что все барьеры сломим! Мы еще свою удаль не выказали миру, обождите — выкажем, громко выкажем…
Подписи на бумаге свидетельствовали: Тихомиров имеет такие выходы, о которых Кузинцову и не мечталось, хотя он, за долгие двадцать три года службы в своем маленьком кабинетике, обитом теплыми деревянными панелями, оброс связями со всеми министерствами.
И сейчас, анализируя беседу с Варравиным, он вдруг ясно понял, что потушить дело с Горенковым в зародыше может только один человек — доцент Тихомиров.
Выслушав просьбу Кузинцова о встрече, Тихомиров ответил, что днем будет занят, встреча с архитекторами, составление плана мероприятий «Старины» на летние месяцы, так что освободится не раньше семи, готов заглянуть. Кузинцов сказал, что в семь будет стоять у входа.
— Нет, нет, не надо, Федор Фомич! Я могу задержаться, а вы будете в вестибюле ждать, я себя стану чувствовать в высшей мере неловко, закажите пропуск, — боюсь ощущать себя связанным во времени.
…Кузинцов вышел на улицу, неторопливо прогулялся по городу, думая о том лишь, как бы не испугать Тихомирова. Если солгать в малости — доцент ощутит это своим внутренним локатором, а потеря такого контакта невосполнима. Упаси господь стать его врагом, — с его-то связями сомнет в момент, а человек он подвластный настроениям, интригабельный, женственная натура, от пылкой привязанности может мгновенно перейти к яростной неприязни. Но и обо всем с ним говорить нельзя, есть какие-то вещи, в которых и самому себе нельзя признаваться, иначе душу разъест ржавчиной, погибнешь от вечного неспокойствия. Не зря ведь раковые больные интуитивно отторгают самое возможность болезни. На Западе люди бездуховны, врачи там теперь открыто говорят пациенту, что у него рак, а ведь не каждому дано пережить такого рода стресс, не всякая правда угодна человеку, в этом с Горьким можно согласиться, действительно, некоторая правда разит наповал… Вот, Хрущев открыл правду на двадцатом съезде, ну и что? Сколько душ искалечил… Сделали Сталина богом, ну и оставаться б ему таким, все равно убиенных не воскресишь, да и надо ли? Наш человек без святой веры в авторитет верховного вождя жить не может, такова уж история, — куда ни крути! Нам нужны пряник, страх и кнут. Всяческие демократии не по нашу душу — жаль, об этом в открытую нельзя сказать, сразу книжку отберут, а куда без нее?! Учителем в ПТУ? Да еще и не примут, если сверху звонка не будет. Выпал из номенклатуры — поминай как звали, был человек — нету! А нынешние выборы руководителей? Разве мы готовы к этому? Надо постепенно, десятилетиями подводить наш народец к такому, а тут — раз, два, и — валяй! Страху нет, руки тянут вразнобой, вольница… Ивана Грозного помним, оттого что боялись, а кто отдаст должное Александру Второму — освободителю, подписавшему рескрипт о свободе крестьян? Да никто не помнит! Подняли бедолагу бомбой, порвали в куски, — демократии дыхнули! При Николае Первом не посмели б, декабристов так скрутил, что десятилетиями никто и пикнуть не смел, элита жила в радость, а мужику что надо? Хлеб имел, молочка перепадало, незачем всем навязывать то, к чему ты, достигший, допущен.
…Не отдавая себе отчета в том, что его потянуло в ЦУМ, Кузинцов тем не менее зашел в универмаг и, словно подталкиваемый кем-то, поднялся в отдел электротоваров, купил маленький самовар, вернулся в министерство, снял кофейник-экспрессо с маленького столика, а вместо него водрузил самовар, заменив при этом чашечки на хрустальные стаканы. Чай, по счастью, был у дежурного по коллегии индийский, от старых времен, когда были на прикрепленке к Елисеевскому.
…Тихомиров ни разу не перебил Кузинцова, слушал вбирающе, тех вопросов, которых так страшился Федор Фомич, не задал, от чая отказался — «грешным делом выпил бы чашку крепкого кофе, измотался за день, сил нет», потом сокрушенно покачал головой:
— Ладно, не печальтесь, вопрос решим, вы даже с лица спали… Завтра, кстати, помогите Виктору Никитичу Русанову еще раз покопаться в вашем архиве: надо тщательно посмотреть проекты, разработанные для заповедных мест России, и снять ксероксы с подписями тех, кто визировал и утверждал. Что же касается Каримова, то составьте на него обновленную справочку… Хочешь мира — готовься к войне… Наши арийские праотцы умели формулировать мысль емче, чем мы: издержки революционных сдвигов, плебс говорлив, аристократия — медальна.
Закрыв глаза — устал, лицо побледнело, — Тихомиров тихо, с горечью заключил:
— Хорошая фамилия Варравин… Что-то удалое в ней есть, широкое… Жаль парня, но если мешает, придется ломать, иного выхода в создавшейся ситуации нет, вы правы.
IX Я, Иван Варравин
Редактор моего отдела Евгений Кашляев пришел в редакцию год назад, до этого руководил культурой в горкоме комсомола. В свое время он прославился тем, что пригнал бульдозер, который снес выставку абстрактных гениев. После этого Кашляев резко пошел в гору, из инструкторов сразу переместился в замзавы, начал кампанию против вокально-инструментальных ансамблей, — страшнее кошки зверя нет, в стране с мясом ни к черту, детям на Севере молоко по карточкам давали, а он заливался соловьем: «Уничтожим чужеземные влияния, наша культура не приемлет пугачевскую пошлятину и кривлянья Леонтьева с его джинсовыми самоцветами!» Кому-то его кампания нравилась: «Парень мыслит как патриот, чтит традиции, молодец». Кашляев разогнал самодеятельных джазистов, во Дворцах культуры выступали одни лишь танцовщицы в сарафанах и певцы в картузах — жалкое подражание высокому искусству хора Пятницкого, ни лада замечательного коллектива, ни настоящей фольклорной памяти, подделка. Понятно, на концерты гоняли пенсионеров, молодежь пряталась в подвалы, исподволь появились рокеры и панки — копирование американских рок-групп, но если те состоялись на том, что выступали против вьетнамской войны, то наши, ничегошеньки об этом не зная, выли и кричали, гнусавя так, что и слов-то понять нельзя. Тем не менее молодежь танцевала вместе с ними, улюлюкала, стонала от восторга. Тогда Кашляев отправился в пригород — туда, где раньше были деревеньки, снабжавшие московские рынки зеленью. Столица эти деревеньки поглотила, но дух перелопатить не смогла — ни пролетарский, ни крестьянский. Бизнес там делали старухи, копаясь в огородах, молодежь с земли бежала, не выгонишь на грядки. Поговорив с «юными пролетариями» из клуба культуристов, Кашляев привел их — одетых в белые рубашки, черные костюмы и аккуратные галстуки — на подвальные вечера рокеров: «Если милиция отказывается разогнать эту нечисть, сами наведем порядок». Началась драка, семерых увезли в больницы. Кашляева с грохотом сняли, но, поскольку он номенклатурный, ему не предложили устраиваться на работу, а перевели к нам в газету — на перевоспитание, у вас, мол, коллектив хороший, парень поймет свои ошибки.
Узнав об этом, мы отправились к главному. Тот, однако, ответил, что вопрос решен не им, обсуждению не подлежит: «В конце концов, от вас теперь зависит все. Климат таков, что мастодонтов мы не потерпим». Наш главный на переломном возрасте — сорок два года, в это время комсомольские работники ждут перемещения, очень ответственный момент, нельзя допустить ни малейшей ошибки, десятки глаз внимательно тебя изучают, резкие движения или, более того, необдуманные решения могут повлиять на всю дальнейшую жизнь. Терпенье — это гений.
Мы тем не менее потребовали общего собрания. У нас сильная коллегия, все из пишущих, пробивались сами, — никаких там пап или волосатых дядиных рук, рабочая косточка, только редактор иностранного отдела из профессорской семьи, потомственный интеллигент.
…Кашляев сидел возле окна, спиною к свету, но все равно были заметны синяки у него под глазами и отечная, нездоровая бледность. Мы высказали ему все, что о нем думаем: немотивированное запрещение рождает протест. Никто из нас не поклоняется абстрактной живописи, но делать из нее главную угрозу социализму — значит ни черта не понимать в реалиях сегодняшней жизни. Опасность — в другом: как только разрешили выставки авангардистов, они перестали быть борцами за свободу искусства. Нет ничего легче запрета, но никогда еще в истории запрет на то, что кому-то не нравится, к добру не приводил. Нам тоже не очень-то нравится визг рокеров, но не лучше ли предложить молодежи такие песни, танцы и развлечения — телевидение, кстати, ищет в этом направлении, — которые оставят рокеров в меньшинстве. А пока молодежи негде проводить время, пока ей не подсказали, как выпустить энергию (повтори какой взрослый движения детей, что носятся во дворе, — умрет от истощения, ученые просчитали это на ЭВМ), пока комсомол проводит свои помпезные слеты и митинги, но реально не помогает молодым найти себя, — мы не вправе уповать на конформистские запреты. Было время, когда милиция хватала тех, кто ходил в узких брюках, потом сажали за клеши, а чего добились? То, что молодежь набралась тюремного ума-разума? Словно сами подталкиваем их к тому, чтобы с понятием «власть» постоянно связывалось зловещее слово «нельзя». Как новый редактор отдела Кашляев может руководить нашей работой, если мы придерживаемся противоположных взглядов на происходящее в молодежной среде?
Главный на этом собрании не был, сказал, что не может не принять участия в коллоквиуме, проводимом Академией наук, взял туда одного из фоторепортеров и пообещал сам написать отчет — «будет интересно». Раньше на эти встречи ездил обозреватель из отдела науки. Ладно, пусть себе, но так взвешивать каждый шаг — с ума можно свернуть или инфаркт заработать.
Вел собрание наш первый заместитель Павел Гунько, его к нам перевели из Львова, парень моего возраста, тридцать один год, с хорошим пером; резок, когда дело касается правды, не терпит вихляний и околичностей.
— Давай, товарищ Кашляев, — сказал он, после того как все высказались. — От твоего ответа зависит исход дела. Коллектив теперь вправе поставить на голосование вопрос: можешь ли ты возглавлять отдел? И я не буду перечить в этом коллегам, несмотря на то, что ты утвержден бюро, — если уж гласность, то для всех…
— Я скажу несколько слов, — Кашляев поднялся, судорожно, как-то даже по-детски вздохнул и сжал кулаки так, что мне послышался хруст костяшек. — Я вот что хочу спросить товарищей: является ли сплетня, оговор, донос неизбежным, более того, необходимым спутником демократии и гласности? Думаю, ответ однозначен — нет, такого рода гнусь компрометирует тот процесс, который мы с вами так приветствуем, — перестройку, рождение нового гражданского мышления… Я хочу спросить также вот еще о чем: отменяет ли дальнейшее расширение демократии…
Гунько усмехнулся:
— Демократия — не брюки, ее нельзя расширять или сужать… Если есть, так есть, а нет — так и нету,
— Верно, — согласился Кашляев, — вы тут сидели на живом слове, вы бритвой режете, я так не умею, аппаратчик… Но все же я кончу формулировать мой вопрос, согласившись с твоей коррективой, товарищ Гунько: отменяет ли гласность необходимость комсомольской дисциплины и норм демократического централизма? Думаю, нет. Во всяком случае, я такого постановления не читал. Между тем не я был инициатором запрета ВИА, я лишь выполнял постановление бюро. Имел ли я право отказаться? Вы скажете: «Да, имел». Но тогда я и вас спрошу: «А вы, каждый из вас, отказались бы, очутившись на моем месте?» Почему вы печатали на страницах вашей газеты разгромные статьи — и против абстрактников, и против Леонтьева, и против рок-ансамблей?! Почему не отказались публиковать то, с чем не согласны? Кто может доказать, что я, именно я, пригнал бульдозер на выставку левой живописи? Вы там были? Читали документы, подписанные мною? Или слышали? Я не понимаю абстрактную живопись и не люблю ее — да, это так, я этого не скрывал, не скрываю и впредь скрывать не намерен, и когда вы захотите печатать статьи в поддержку этого, с позволенья сказать, направления, я буду требовать опубликования противной точки зрения. Да, я люблю Бетховена и Моцарта, да, я плачу, когда слушаю Чайковского, да, я воспитывался в Воронеже, и для меня «Летят утки» — самая нежная песня. Выступая против рок-ансамблей, я хотел привить молодежи любовь к непреходящему, вечному! Да, мне отвратительны «металлисты», доморощенные панки, увешанные цепями, но кто докажет, что я был поклонником «люберов»? Наверное, я виноват в том, что бездумно соглашался со всякими решениями, проштемпелеванными круглой печатью… Видимо, я слишком ретиво выполнял то, что надо было микшировать… Но сейчас все умны, все демократичны, все прогрессисты… Это легкая позиция — отшвырнуть ногою того, кто тебе почему-то неугоден, про кого что-то, где-то, кто-то не так говорит… Но как это вписывается в нормы демократии? Вот и все, что я хотел ответить. А просить я хочу о следующем: пусть будет создана комиссия, которая расследует мою работу в отделе культуры, пусть повстречаются с молодыми художниками-реалистами, с обществом молодых поэтов, со студией бального танца, с дизайнерами и модельерами… И еще… Наверное, процесс, происходящий нынче, потому и называется перестройкой, что он дает возможность всем и каждому — включая тех, кто раньше в чем-то добровольно заблуждался, — именно перестроить себя… Не репрессии, не тройки и особые совещания, не ссылки и травля на открытых собраниях, но именно атмосфера доброжелательности, товарищеской помощи, взаимовыручка, — вот что такое для меня пере… пере…
Кашляев побледнел еще больше, медленно опустился на подоконник и тяжело рванул воротник накрахмаленной рубашки. Девушки бросились к нему с водой, приехала неотложка, вкатили пару уколов, не до голосования… Впрочем, я не убежден, голосовал бы я против после его выступления — при всем том, что там было много чуждого мне, какие-то пункты опровергнуть было невозможно, особенно про то, что мы все тоже были хороши, чего уж грех таить…
После того собрания Кашляев бюллетень не взял, хотя врачи требовали, чтобы он провел в постели хотя бы неделю, приходил в редакцию первым, уходил последним, как-то алчно влезал во все дела, рукописи наши не правил, только высказывал соображения, какие у него возникали, — часто весьма дельные, он хорошо чувствует слово, относится к нему бережно, хотя выступает против излишней телеграфности стиля: «Мы все устали без воздуха».
— Отбей у главного лишние сто строк для нашего отдела, — сказал я ему, — тогда появится место для воздуха. Думаешь, мы его не ценим?
— Попробуем, — ответил Кашляев. — Но это надо решить не бюрократической бритвой в секретариате, а парой таких материалов, которые сделают нашу просьбу оправданной.
Один из таких материалов сделал я — удалось найти ветерана, награжденного орденом Красного Знамени на пятый день войны. Старик жил в сарае, исполком отказывал ему в жилплощади за то, что он якобы продал свою квартиру в городе, а он ее никому не продавал, прописал туда дочь, а та, по прошествии трех лет, турнула старика на улицу, — Шекспир потому и гениален, что писал сюжеты, которые непреходящи во времени, круто мыслил англичанин, нашим бы так литераторам, а то ведь все плачут и стенают, хоть бы один вышел с программным произведением, предложил возможный путь выхода из тупика, нет, все охи да вздохи.
Второй материал написал Кашляев. Честно говоря, написал неплохо, — задрал министра финансов за то, что тот до сих пор не издал единого разъяснения для тех, кто переходит на самофинансирование и самоокупаемость. Полнейшая неразбериха, а при нашем исконном рвении «тащить и не пущать» делу перестройки наносится громадный урон, промышленность топчется на месте, особенно строители. Его статью вывесили на красную доску, а Павел Гунько похвалил Кашляева на летучке.
И командировку в колонию, к Горенкову, пробил мне тот же Кашляев. Сначала хотели отправить нашего сибирского собкора, чтобы сэкономить на транспортных расходах, но Кашляев стеною встал на заседании редколлегии:
— Это тема Варравина, он и должен туда лететь, в конце концов, существует журналистская этика, давайте будем ей следовать не на словах, а на деле.
Напутствуя меня, Кашляев посоветовал:
— Если Горенков действительно получал такие бешеные премиальные, как ответили из местной прокуратуры, — бей наповал, гад и сутяга. Если же это не подтвердится, защищай до последнего…
Когда я вернулся из Загряжска, именно он договорился с главным о трехдневном отпуске, чтобы я мог толком отписаться. Как всегда, в три дня я не уложился, я вообще-то здорово разбрасываюсь, это моя беда: до этого я три месяца собирал материалы по Новосибирску, — там псевдоученые дурачат мозги студентам, прикрываясь святыми для каждого из нас понятиями о народной памяти. Полез в справочники и сразу же споткнулся о барьеры, потому что мне понадобились материалы о власовцах, министерстве пропаганды Геббельса, речах черносотенцев в Государственной думе. Пока главный написал ходатайство в институт военной истории, архив, пока все это стало обкатываться по нашим бюрократическим волокам, я увлекся сказочной темой — музыканты создали хор церковных песнопений на старославянском, молитвы шестнадцатого века, мороз дерет по коже, только у негров есть подобные «спиричвелс», скорбь и надежда, правда, если у негров солирует певец — особенно велик был Армстронг, — то у нас многоголосье, ощущение космической надмирности, прощание с суетной устремленностью землян.
Меня все ругают за то, что я разбрасываюсь, все, кроме матушки. Образцово-показательная мама, честное слово: «Никогда не делай то, что тебе в тягость. Твой отец говорил, что журналистика — это искусство, оно требует огромной отдачи и многия знания, что рождают многия печали… Отец тоже метался, всегда писал одновременно три, четыре статьи, одно подталкивает другое, все в мире взаимосвязано, отдельность закончилась, когда изобрели паровоз, это утопия — вернуть сказочное патриархальное прошлое, всегда надо осваиваться в новых условиях, думая, как их приспособить к себе, а не раствориться в них… Писатель, просто фиксирующий происходящее вокруг него, никогда не станет великим, надо навязывать окружающему свою мечту, а мечта всегда несет в себе добро». — «Гитлер тоже был бо-ольшим мечтателем…» — «Нет, Гитлер не был мечтателем, Ванечка. Он был маниаком, кликушей. На определенных этапах это угодно толпе, изверившейся в возможности найти выход из тупика добром, разумом, анализом… Тогда главное — найти врага, чужака, от которого все беды… Как ни странно, это очень объединяет середину, лишенную собственной точки зрения… Отец верно говорил: «От фашизма — чьим бы он ни был по национальной выраженности, — есть только одна панацея: культура, причем не казенная, школьная, а широкая, демократическая».
Кашляев прочитал мои наброски к материалу о Горенкове залпом:
— Но это же только часть, — задумчиво сказал он, — какое-то ощущение айсберга, много недоговоренностей, линия уходит в вопросительные знаки.
— Собираю информацию, — ответил я. — Чурин, этот замминистра, от меня прячется, пришлось базлать с Кузинцовым…
— А это кто такой?
— Помощник. Кашляев удивился:
— Не твой уровень. Чем тебе интересен помощник?
— Интересен… Доктор наук, кстати говоря..
— Как его зовут?
— Федор Фомич… А что?
— Да ничего, фамилия больно расхожая… Кстати, мне неясно, какое отношение ко всему этому делу имеет Каримов? Ты будь поаккуратней, все же пока еще он премьер-министр автономной республики, возможны национальные амбиции…
— По-твоему, критиковать надлежит только русских? Башкиры, евреи и литовцы — неприкасаемы? Какой же мы тогда интернационал?
— Я тоже так считал… Пока не нагрелся.
— На чем?
— Руководителем ансамбля «Ритм» был Юозас Якубайтис, начался визг, мол, шовинизм, и все такое прочее. Так что поаккуратнее с Каримовым, мой тебе совет… Есть Горенков, им и занимайся..
— Он — звено в цепи.
— Какой цепи? — Кашляев пожал плечами. — Не буди химеру всеобщей подозрительности.
— У меня факты. А как говорил наш великий кормчий, факты — упрямая вещь.
— Я не вижу фактов. Я вижу фрагменты.
— Правильно. Ты видишь кирпичи, готовые к кладке, но еще многого не хватает, и нет раствора… Я в поиске, забросил сети, на днях придут ответы — с именами, телефонами, ссылками на документы… Отобьешь мне еще пару дней свободы?
— Попробую. Но не обещаю: запарка в связи с конференцией, будет много работы… Мой тебе совет, — повторил он, — обозначь тему, повесим дело на прокуратуру, пусть они пишут развернутое объяснение, в конце концов, ты не частный детектив…
Кашляев все же отбил мне еще один день. Утро я провел у старика Маркаряна — он передал мне целое досье: «подарок от старика молодому волку, дерись, Ванюша, пока молод!» Когда мне исполнилось тридцать, я сидел у иллюминатора АН-24, выбив командировку на БАМ, в небе сочинил стихи: «Мне тридцать, мне тридцать, мне скоро шестьсот, минул мой последний молоденький год…» А что, правда, после тридцати все мы едем с ярмарки, Пушкин себя ощущал стариком, а сколько уже написал?! Писарев? Погиб в двадцать три… Добролюбов? До тридцати не дожил… А Лермонтов? Будь проклято мое разгильдяйство, не умеем мы работать, обломовы, маниловы, только б облегчить душу в застолье, сплошные соловьи… Вот они, издержки демократии: работай не работай, все равно зарплата капает, да и народ у нас добрый — сегодня я тебя накормлю, завтра ты меня, так всю жизнь можно просвистеть, никакого страха за завтрашний день.
После второй встречи с Маркаряном, бесед в Академии архитектуры (выяснилось, что именно Чурин подписывает заказы художникам на оформление новых объектов), разговоров по телефону с Каримовым (он мне дал свой домашний номер, «жена не так страшна, как секретарь, у тех врожденный инстинкт охранения шефа, звоните в любое время»), я пришел к Кашляеву и, разложив блокнот (коплю на карманный диктофон, только покупать надо с мини-кассетами, а они дорогие, фарцовщики дерут по-черному, сорок рублей за штуку), рассказал ему всю версию будущего материала.
Слушал он меня внимательно, даже несколько затаенно, поинтересовался, в какой мере надежны статистические выкладки о той прибыли, что дал эксперимент Горенкова, спросил, не было ли в деле анонимок, на основании каких улик его посадили, и в общем-то концепцию мою одобрил.
— Только свободных дней я тебе больше не дам, — добавил он. — Вкалывай здесь, запарка, надо читать полосы.
Полосы так полосы. Я работал в своем закутке после восьми, когда в редакции оставался только дежурный заместитель главного, отдел информации, секретариат и «свежая голова». Сладкое время для сочинительства, чашка кофе, тишина, ожидание завтрашнего шквала новостей, раньше такого никогда не было, газету лениво просматривали, теперь начали читать по-настоящему, ощущение постоянной нарзанности, словно бы покрыт пупырышками, бегун перед стартом, одно слово — жизнь…
…Маркарян позвонил утром, когда я, прочитав нашу полосу, норовил вернуться к горенковскому делу. В это как раз время заскочил Кашляев — надо свести воедино наши с ним правки, — а старик Маркарян бубнил в трубку:
— Запиши фамилию: Русанов, Виктор Никитич… На него впрямую не выходи, но присмотрись через архитекторов и реставраторов…
— Как, как?! — переспросил я — в трубке что-то трещало. — Виктор Никитович, говоришь?
— Да. Только ты о нем особливо не распространяйся, ребята из «Времени» считают, что он завязан на строительную мафию — кому дать заказ на роспись здания, кого — по разным причинам — отвести.
…Кашляев дождался, пока я кончил говорить со стариком, — мою правку принял рассеянно, хотя было о чем спросить, но не стал, ушел к себе, а меня вскоре вызвали на пятый этаж. Вернувшись, я удивился: блокнота со всеми записями по делу Горенкова, Каримова, Кузинцова на столе не оказалось, хотя я вышел всего на двадцать минут. Я посмотрел в столе, портфеле, — блокнота не было.
Что за чертовщина, подумал я, куда он мог деться? Спустившись в секретариат, я поглядел там, поспрошал девушек, не оставлял ли ненароком блокнотика, потом отправился по коридорам. В отделе информации Коля Сидоров сказал, что ко мне заходил Кашляев: «Больше у тебя никого не было, дверь у меня постоянно отворена, я бы запомнил, зайди кто чужой».
Не знаю, что меня подтолкнуло, но я отправился к Лизе Нарышкиной. После того как мы расстались, наши отношения приобрели новое качество, в них появилась та прочность, какой раньше, странное дело, не было. Она — по моей просьбе — позвонила Кашляеву, чтобы тот зашел с материалом: «Десять минут я тебе обещаю, — улыбнулась она мне, — он не вырвется, я его задержу».
…В кабинете Кашляева на столе лежал плоский «дипломат» с номерным кодом-защелкой. Я попробовал открыть ее — не поддалась, заперто. В редакции запирать «дипломат»? Да еще на код? Зачем? Я достал из кармана перочинный нож, чуть нажал на винт, прокатал цифры, услышал легкий щелчок, открыл крышку и увидел свой блокнот. Секунду я раздумывал, потом позвонил Лизавете и попросил задержать «пациента» еще на десять минут.
— Ладно, — ответила она, — сделаю.
Я сбегал к себе, взял камеру, заряженную пленкой «400» — хоть в темноте снимай, — перещелкал свой блокнот, проглядел его еще раз, чтобы навсегда вбилось в память, захлопнул крышку «дипломата» моего босса и поставил прежние цифры.
Вернувшись в свой закуток, я набрал телефон Гиви Квициния. Он работал в седьмой юридической консультации, вел дела, связанные с защитой бандитов и щипачей.
— Старик, ты мне нужен, — сказал я. — Сейчас. Немедленно. В редакции.
— Что-нибудь случилось?
— Да.
— Но ты был трезвым?
— Старик, я продал мотоцикл, все страшнее, чем ты думаешь.
…Перед началом летучки Кашляев заглянул ко мне:
— Слушай, может, ты выправишь письма строителей — я в запарке, а на летучку нельзя не идти…
— У меня блокнот пропал, — сказал я, не глядя на него: в такие моменты человека можно и не наблюдать, ты его кожей чувствуешь…
Кашляев спокойно ответил:
— Возьми у меня.
— Что?!
— У меня их в столе полно…
— Ты не понял: пропал блокнот со всеми материалами по делу Горенкова.
— Да ладно тебе, — он махнул рукой. — Разбери ворох гранок, что валяется на столе, кому он нужен…
— Я перебрал все, — ответил я. — Все, понимаешь? А без этого блокнота мой материал горит синим огнем. Там имена, цифры, факты.
Кашляев присел на подоконник (отчего-то он очень любит это место, часто устраивается возле открытого окна, страшно смотреть — откинется назад, и все), потер виски тонкими пальцами с коротко обгрызанными ногтями, сосредоточенно о чем-то задумался, а потом сказал:
— Главное — сохраняй спокойствие. В крайнем случае, я выбью тебе повторную командировку в Загряжск…
— Крайний случай имеет место быть прямо сейчас, — ответил я. — Или материал будет, или на нем надо ставить точку. По моей вине. Из-за паршивого разгильдяйства. Оправдания себе я не вижу…
Кашляев сорвался с подоконника, бросил на ходу, чтобы я ждал его: «Иду к главному»; вернулся через двадцать минут всклокоченный, бледный:
— Мы, отдел, скинемся! Ты сможешь полететь в Загряжск! Я первым дам тебе четвертак.
Он сказал это с неподдельной искренностью, глядя мне в глаза — само товарищество и честность, — и в этот именно миг мне стало так страшно, как никогда в жизни не было.
Х
«Главное управление уголовного розыска
полковнику Костенко В. Н.
Рапорт
В 19 часов 52 минуты ювелир Завэр вышел от Глафиры Анатольевны Руминой, тещи журналиста Ивана Варравина, и отправился к кассиру универмага Тамаре Глебовне Аристарховой, где провел сорок три минуты.
После этого он, по-прежнему не входя ни с кем в контакт, сел на троллейбус и возвратился домой, в то время, как Аристархова поехала с реставратору Русанову Виктору Никитовичу. Встреча продолжалась тридцать одну минуту, после чего Аристархова возвратилась домой, а Русанов, взяв такси, отправился к Кузинцову Ф. Ф., в квартире которого провел десять минут, не отпустив при этом водителя двенадцатого таксопарка Никулькова П. Н.
Старший лейтенант Ступаков Н. А.»
XI Гиви Квициния
С Варравиным он подружился при весьма трагических обстоятельствах: пришла анонимка, а время было такое, что этот фольклор высоко ценился и был весьма лакомым. Анонимщик писал, что следователь районного управления внутренних дел Квициния помогает своим единокровцам в «кепи-аэродромах» налаживать подпольные связи с рыночными перекупщиками фруктов.
Еще до начала разбирательства (анонимочка была разослана в пять адресов — управление кадров милиции, горком партии, редакции, все как полагается) Гиви Квицинию от работы в отделе отстранили. Он не мог взять в толк: «За что?! Ведь все знают, что я никогда никого не патронировал, торговцев бежал как огня, занимался бандитами, как не стыдно верить заведомой клевете?» Его не уволили из органов милиции, нет, просто не допускали до работы, жалованье платили исправно, здоровались сдержанно, когда входил в комнату, коллеги моментально прекращали деловые разговоры по телефону и закрывали папки с документами.
Так продолжалось неделю; появилась первая седина — в тридцать три года рановато, отец стал седеть в сорок пять; пришел к начальнику районного управления:
— Товарищ полковник, как долго может продолжаться проверка? Отчего меня ни разу не вызвали на собеседование? То был на Доске почета, а теперь — лишился доверия, разве так можно? Неужели вера в донос выше духа товарищества?
— Выбирайте выражения, — сухо ответил полковник. — Трудящиеся имеют право сигнализировать куда угодно, подписываясь или не подписываясь, — это их право. А наш долг во всем разобраться.
— Может быть, мне подать рапорт об увольнении?
— Вы что, запугивать меня вздумали?! Неволить не станем! Сигнал трудящегося дороже амбиций сотрудника!
…Когда Варравин — по указанию редколлегии — приехал в управление, никто толком ему ничего не рассказал, ответы были уклончивые, мол, разбираемся, не торопите события, да и потом мы не обязаны отчитываться перед прессой, органы на то и существуют, чтобы находить правду и стоять на страже закона, разберемся — поставим в известность.
Квициния рухнул; купил коньяку, крепко выпил, написал рапорт об увольнении; на работу ходить перестал. Его сосед по комнате Саша Ярмилов, молоденький лейтенант, негромко посоветовал Варравину:
— Поглядите дело Уфимцева, его вел Квициния в позапрошлом году, гад высшей марки, слог анонимки похож на его, пусть сличат почерки. Он, я помню, говорил Гиви, что, мол, «кепи-аэродромы» и в Москву пробрались, нация жуликов, у них деньги на кустарниках растут, поработали б, мол, как мы… А Гиви ему ответил, что грузинский марганец, чай, виноград, Черноморское побережье и автомобилестроение вносят вполне весомый вклад в бюджет Родины, нахлебником себя считать не может, отнюдь… «Кепи-аэродром» мне тогда врезался в память, вот в чем дело…
Пока дело Уфимцева удалось поднять из архивов — Варравин положил на это семь дней, хотя, если бы не требовалось девять подписей, можно (нужно, черт возьми!) было бы ограничиться одним, — Квициния был задержан в нетрезвом виде и уволен за полным служебным несоответствием.
Сличение почерков автора анонимки и объяснений, которые Уфимцев писал на следствии, доказало их идентичность. Тем не менее, поскольку был факт задержания в нетрезвом виде — кого интересует, что это случилось вследствие незаслуженного, унизительного оскорбления, — Квицинии лишь изменили статью «По собственному желанию, в связи с переходом на работу в адвокатуру».
После весны восемьдесят пятого ему предложили вернуться в управление. Он отказался: «В конце концов, адвокат — тот же следователь, ищет правду, защищает невиновного, подвергает сомнению доводы противной стороны».
Впрочем, заехав как-то к Варравину (они сдружились. Гиви всегда помнил, что начальник управления звонил в редакцию, жаловался «на чересчур заносчивого репортера, позволяет себе необдуманные замечания весьма двусмысленного свойства»), Квициния признался:
— Вано, я доволен работой в адвокатуре, клянусь. Особенно если удается отстоять мальчишку, который щипнул по дурости в троллейбусе десятку, — такого от тюрьмы надо спасать, оттуда вернется уркой, потерян для общества, да и не каждый бандит — бандит. Если вдуматься, мы еще мало отличаем — кто стоял рядом, а кто грабил… Но, честно тебе скажу — без оперативной работы, без ощущения схватки, когда надо взять мерзавца с финкой или обрезом, — я тоскую.
— Знаешь, я смотрел один гениальный фильм, — задумчиво откликнулся Варравин, — про молодого американского адвоката… Он бился против прокурора и судьи за бедную старуху, ему угрожали, требовали, чтобы он отступился от нее, намекали, что защита бабки помешает его последующей карьере — сюжет американцы умеют крутить, ни одного пустого кадра, — а тот стоял на своем и доказывал присяжным невиновность старухи. Ее оправдали, адвокат обрушился — в полном изнеможении — в высокое кресло, бессильно опустил руки на выпирающие колени. Камера стала отъезжать, и мы наконец поняли, что имя этому адвокату — Авраам Линкольн, великий президент Америки… Так что зри вперед, Гиви… Я, например, убежден, что мы накануне судебной реформы, — нет ничего надежнее решения присяжных, это демократично, гарантия от предвзятости судьи и двух заседателей. «Двенадцать рассерженных мужчин». Помнишь этот фильм?
— Помню, — ответил Квициния. — Я же не жалуюсь. Просто я тебе открыл сердце.
Варравин закурил неизменную «Яву» и тихо прочитал:
Жасмин еще не отцветет, Когда приедем мы на дачу, И грозы первые весны Еще дождями не отплачут. Мы что-нибудь пока да значим, Запас надежды не иссяк, И смех беззлобный не растрачен, И разговором до утра Мы нашу дружбу обозначим…[5]— Кто это? — спросил Квициния.
— Лиза Нарышкина, — ответил Варравин.
Помолчав, Квициния спросил:
— Ты к Ольге звонишь?
— Нет.
— Ты же любишь ее.
— Поэтому и не звоню.
…Квициния был единственным, кто знал о трагедии Ивана. Ему пришлось это узнать поневоле, потому что, кроме него, никто не мог установить истину, — помог навык детектива.
…Варравин влюбился в Ольгу как только познакомился с нею. Девушка поразительной красоты, резкая в суждениях, мыслившая изнутри, по-своему, она вошла в его жизнь сразу и, как он считал, навсегда. Они поженились через три месяца. Первые полгода были самыми счастливыми. Иногда, правда, Оля мрачнела, взгляд ее черных, широко поставленных глаз делался тяжелым. «Что с тобою, солнце?» — «Ничего, просто устала». Однажды он застал ее в слезах: она сидела возле его письменного стола. Нижний ящик, в котором хранилась корреспонденция, был открыт, в руках у нее была связка писем от Лизаветы. «Настоящие мужчины, — сказала Оля, — перед свадьбой уничтожают письма и фотографии любовниц». — «Лизавета мой друг, я не скрывал этого и расстался с нею задолго перед тем, как увидел тебя. А вот рыться в чужих письмах — дурной тон». — «Я считала, что, когда мужчина и женщина живут вместе, нет ничего чужого, все общее».
Ольга поднялась, набросила на плечи плащ и ушла. Иван выбежал на лестницу, крикнул в пролет: «Не глупи, не надо так!» Она ничего не ответила: хлопнула дверь парадного, настала гулкая пустота, тяжкая безнадежность, ощущение беспомощности. Она позвонила поздно вечером:
— Я устала, разламывается голова, останусь ночевать у мамы.
Не пришла Оля и на следующий день: «Температура, лучше я полежу здесь». — «Я приеду». — «Не надо, наверное, грипп, заразишься». Он позвонил в двенадцать.
— Оленька спит, не хочу ее будить, — ответила Глафира Анатольевна.
И черт его дернул поехать к ней! Он никогда не мог простить себе этого — мальчишка, выдержки ни на грош. Ольги у матери не было. Вот тогда-то он впервые узнал, что такое боль в сердце, — прокололо сверху вниз и садануло в плечо.
— Ваня, ты не вправе подозревать Олечку, — сказала Глафира Анатольевна. — Она пережила шок, когда нашла у тебя письма девки.
— Это не девка, — ответил Варравин, — а мой друг по работе. Оля все знала о ней, я никогда ничего не скрываю от тех, кому верю. То есть люблю.
— Только не подумай чего плохого, — сказала Глафира Анатольевна. — Ольга сейчас у гадалки, ей взбрело в голову, что ты не любишь ее и не верен ей. Это бывает у женщин, особенно в ее положении…
— Каком положении?
— Она ждет ребенка, Ваня.
— Где эта чертова гадалка?! — Варравин поднялся. — Назовите адрес!
— Если ты хочешь ее потерять — можешь поехать туда. Лучше я позвоню… Хочешь?
Она набрала номер и каким-то другим, не обычным своим властным голосом, а просяще, заискивая, сказала:
— Томочка, приехал Ваня… Он волнуется, может невесть что подумать, дайте трубку Оле.
— Ты хочешь проверить, где я? — спросила Ольга глухо, словно сомнамбула. — У меня нет дружков, у меня никого до тебя не было, а если ты думаешь, что здесь есть кто-нибудь, кроме женщины, которой я очень обязана, тогда уезжай домой и забудь меня.
И — положила трубку.
…Гиви Квициния выяснил, кто была эта самая «Томочка», — кассирша из магазина, ворожит, гадает, видимо, владеет навыками гипноза, климакс, муж бросил, на руках остался приемыш, взяла в детдоме, у девочки развился рахит, весной страдала астмой, надо было возить в Крым, Тома подрабатывала, женщины к ней шли вереницей. Кликушество, понял тогда Иван, особенно сильно развивается в тех, кто лишен в жизни надежды, интереса и веры. Колода карт делается главным советчиком. Пусть в сердце одно, но если все карты выпали наперекор тому, что думаешь, — поступи так, как легли пиковые короли и бубновые десятки.
…Примирение было трудным: что-то сломалось в их отношениях, тем не менее Иван вернул Ольгу, выполнял все ее прихоти, угадывал любое желание, думал, что с рождением ребенка все наладится.
Однажды он сделал два ролика портретов Ольги, получилось замечательно. Изумительное лицо жены — ставшее особенно прекрасным во время беременности — казалось хорошей графикой. Одно фото он увеличил, забрал к себе в редакцию: «Повешу над столом, пусть все завидуют, какая ты у меня красивая». Назавтра вечером застал Ольгу затаенной, чужой: «Да что же с тобой?!» Оля молчала, смотрела на него тяжело, отсутствующе. Глафира Анатольевна позвонила ночью:
— Ваня, послушайте меня… Я сегодня была у вас в редакции — Олиного портрета на стене нет. И в столе тоже… Да, я открывала ваш стол, простите… Вы отдали его Лизе? Неужели вам не страшно за будущее вашего ребенка? Вы же не знаете, на что способны соперницы, — сглаз беременной женщины может привести к трагедии…
— Сейчас я за вами заеду, — сказал Варравин. — Я буду у вас через двадцать минут, я такси возьму, и мы поедем в редакцию вместе!
— Не надо туда ездить. Портрета нет.
— Есть! — Иван сорвался на крик. — Вы с ума, что ль, обе сошли?!
— Нет, — услышал он за спиною тихий голос Ольги. — Ты сделал страшный грех, Иван.
Он швырнул трубку:
— Одевайся! Одевайся, я говорю! И едем со мной! Сейчас же, немедля!
Он привез ее в редакцию. У подъезда уже стояла Глафира Анатольевна. Он уговорил вахтера пропустить их — ночью требовался пропуск на каждого входившего в здание, днем еще можно просквозить, не так бдительны; поднялся к себе в закуток, открыл дверцы шкафа, сбросил на пол три тома Даля, схватил четвертый, раскрыл его — портрет Ольги был под прессом — ровнял его перед тем, как отдать в окантовку.
— Держите, — сказал он. — Пока Лиза не понесла ворожить!
Он спустился вместе с женщинами, открыл дверь такси, протянул шоферу трояк:
— Отвези дам, приятель.
И, повернувшись, чуть не бегом бросился в редакцию, только б не видеть лицо той, кого он так беззаветно и гордостно любил: если верят кому угодно, любой сумасшедшей кликуше, но только не тебе, кто любит тебя и тебе верен, нет и не может быть отношений: фальшь, моральное нездоровье, психопатия.
Вот тогда-то он снова позвонил Гиви Квицинии и рассказал ему все без утайки. Тот не появлялся неделю, потом пришел с коньяком и плавлеными сырками:
— Иван, с Олей что-то случилось, она всецело верит сумасшедшей бабе, а та, мне сдается, мстит тем, кто счастлив, красив и умен. Что бы ты ни говорил, как бы ни молил — ничего не поможет. Разве что дай взятку этой самой Томке. Или — если сможешь — застращай ее.
…Вот он-то, Гиви, и приехал в редакцию к Варравину; выслушав, пообещал подумать. Ночью позвонил Ивану:
— Слушай, а кто такой Русанов?
Со сна Иван не сразу понял:
— Какой Русанов? Я не знаю такого.
— Твой шеф Кашляев был у него до полуночи, а после они отправились… Куда бы ты думал? К Томочке, гадалке, ничего колечко, а?
XII
«Главное управление уголовного розыска
полковнику Костенко В. Н.
Рапорт
Во время наблюдения за квартирой В. Н. Русанова, которую посещает Завэр, нами был замечен человек, который, судя по всему, также вел наблюдение за объектом, заинтересовавшим нас в связи с его участившимися контактами с ювелиром.
«Наблюдатель» появился через полчаса после того, как Завэр покинул Русанова, и спустя семь минут после того, как к Русанову приехал неизвестный молодой мужчина, отправившийся вместе с ним на улицу Чайковского, дом 16, строение 3, к лицу, которого не удалось установить, поскольку наблюдатель зашел в подъезд перед нами.
Выяснилось, что неизвестным наблюдателем является член коллегии адвокат Г. А. Квициния, в прошлом сотрудник уголовного розыска, уволенный по собственному желанию. В его личном деле есть данные, что он был связан с перекупщиками овощей и фруктов на Центральном рынке.
Старший лейтенант Никифорский».
«Приказ № 24–06 по управлению уголовного розыска.
Объявить выговор старшему лейтенанту Никифорскому А. Н. за клевету на бывшего сотрудника угро Квициния Г. А., который, как это явствует из материалов проверки, никогда не был связан с перекупщиками.
Полковник Костенко».
XIII Я, Русанов Виктор Никитович
Доцент прав: как и все те, кто воспитывался в горькой сиротской безотцовщине, я до сих пор в общении с женщинами страдаю от парализующей стыдливости. Когда я прочитал стихи Евтушенко, где он писал, как кровать была расстелена, а после, в другом стишке, как женщина жалуется, что мужчина любит ее молча, мне сделалось так пакостно, словно кто подсмотрел за тобою в замочную скважину. Эти строки показались мне до того безнравственными, что я решил было написать в журнал, но потом понял, что письмо никто не напечатает. С ними надо бороться иначе — сплоченной массой единомышленников.
Мое естество протестует против того, когда в кино показывают, как раздевается женщина. То, что должно быть потаенным, интимным, нельзя выносить на всеобщее обозрение! Помню, как я мучительно краснел, когда к нам на урок рисунка впервые пришла натурщица. Больше всего я тогда боялся, что она будет совершенно голой: все восставало во мне против этого, все мое безмолвно кричащее существо…
Наверное, поэтому первый брак и кончился так скоро. Виноват, конечно, я: не уследил, когда Лидия начала читать этого самого Ремарка, — намеки, бесстыдные разговорчики, бесконечная пьянка, ненадежная зыбкость отношений; потом пристрастилась к дергающейся, чуждой нашему строю чувствований поэзии тех, кто в конце пятидесятых ворвался в «Юность», поэтому, наверное, и ночью постепенно стала непозволительно ищущей, не по-женски смелой. Как-то она сказала: «Между двумя все возможно и все чисто». А я сразу вспомнил те порнографические фильмы, которые мы смотрели на даче у Кузинцова, и с ужасом подумал: «Неужели и она способна на такое?»
…После нее я жил схимником почти полгода, а потом пригласил в мастерскую молоденькую девушку с Казанского вокзала: приехала из Омска, надо было взять билет в Симферополь, стояла в очереди всю ночь без сна, в гостиницу не попасть, ну, я ее и отвез к себе.
Она изумилась тому, что я художник, решила, что все картины, собранные здесь, — мои; угостил ее ужином, дал выпить, а потом предложил позировать: «Разве двадцать пять рублей за сеанс помешает?» Ну, и напозировался! Потом пять дней искал, к кому обратиться: в венерологический диспансер идти нельзя, останется клеймо, надо найти своего врача, а где такого сыщешь?! Связи нужны, всюду нужны связи, без них — ни шагу!
С тех пор меня словно бы отрубило от женщин, но постепенно цепенящая стыдливость исчезла, — я до сих пор сладостно помню, как было с той девицей, но страх остался, непереступаемый страх.
…Когда я встретил на улице Ольгу, мне показалось, что мир остановился, так она была красива любимой мною законченной, строгой красотой.
…Я часто размышлял, отчего я так активно не приемлю Сарьяна, импрессионистов, всех этих «бубно-валетов». И пришел к выводу: в их работах нет завершенности. Они не дают целостной концепции, которая никому не позволит додумывать свое, нечто такое, что может изменить существующую данность, то есть натуру. Искусство — это определенность, абсолютное воплощение замысла. Только тогда это твое становится обязательным общим. Когда живописец, вроде Ренуара, тщится дать солнце через блики в траве, я задаю вопрос: «А умел ли он написать реальное светило?!» Ухищрения никогда не выявят правды, только суррогат.
…Ольга шла по Никитскому бульвару. Была ранняя осень. Листва казалась золотой, трепещущей. Ощущение всеобщей гармонической красоты еще более подчеркивалось ее лицом, словно бы вбиравшим в себя и детский гомон, и воркованье голубей на песчаных дорожках, и тихий говорок старушек, сидевших на скамейках.
Я шел, ощущая странную, словно бы магнитную силу, которая исходила от нее. Мне казалось, что это не я иду, а нечто таинственное, спрятанное в самой моей сокровенной сути, следует за девушкой, подчиняясь ее властному зову.
Я вошел в подъезд следом за нею, успел заскочить в лифт, почувствовал, что краснею (в мои-то годы!), нажал кнопку «семь», на два этажа выше ее, пятого. Выскочив из лифта, замер у пролета: она отпирала дверь семнадцатой квартиры… Больше всего я боялся, что она пришла в гости к подруге; о мужчине и думать не мог, ибо во мне родилось покорное ощущение принадлежности этой красоте. Позови такая — пойду на край света, все к ее ногам брошу. Андрий Бульба бросил родину, и только черствый человек, лишенный искры творчества, не поймет его порыва…
Я пробыл на площадке седьмого этажа до ночи. Когда останавливался лифт и приезжали жильцы, приходилось, словно какому дурачку детективу, делать вид, что ищу нужную квартиру. Дождался, пока в дверь моей красавицы постучала седая, со следами былого шарма, женщина. Моя открыла ей. Я услыхал ее голос: «Здравствуй, мамочка». Я успел заметить, что моя была в открытом, коротеньком халатике. Сердце забухало, лицо побагровело. Я на цыпочках спустился вниз, остановившись возле ее двери, и замер, стараясь услышать, о чем там говорят, но дверь была обита толстой ватиновой клеенкой с отвратительным запахом презерватива.
…Доцент встретил меня в шлафроке и с чубуком, хотя никогда в жизни не курил, только посасывал для вида.
Спросил, голоден ли я; «не отказывайся, не девица, чай», отвел на кухню, там тетушка накрыла стол — соленья у них поразительные, а такого кваса с хреном, каким здесь угощают, нет нигде в России…
— Погоди, — сказал я, — сейчас и кусок в горло не полезет… Мне надобно с тобою поговорить.
— Сейчас, Витенька, один момент, милок, — пропела тетушка. — Подогрею калачи, масло с ветчинкой поставлю и удалюсь, секретничайте себе на здоровье.
…Доцент выслушал меня и тихонько засмеялся. Он смеялся странно: его сухое лицо с запавшими щеками и длинным хрящеватым носом было недвижно, глаза, как всегда, укоризненны, только тело мягко колыхалось, и порою он казался мне кипящим чайником — вот-вот вода шипуче польется на конфорку.
— Что, любви все возрасты покорны? — доколыхал он свой вопрос и сочувственно вздохнул. — Неужели проняло?
— Иначе б не пришел.
— Ах, Витя, Витя, святой человек, сколько раз я тебе говорил: заведи какую кралю, денег хватит, чтоб содержать, навещай ее, услаждайся, тогда только будешь гарантирован от увлеченности, подобно этой… Такая увлеченность убивает дух, Витя… Она размягчает, забирает те силы, что надобны святому делу.
— Любовь только укрепляет силу для нашего дела, — ответил я. — Мир спасет не только красота, но и любовь…
— Ты его не замай, — отрезал доцент. — Не поминай всуе, не надо, особенно если примеряешь такие слова на себя… Объясни, чего от меня хочешь? Сватом, что ль, отправляешь?
— Ах, как жестоко ты говоришь! Столько отстраненности в твоем голосе, холода, даже какого-то безразличия…
Лицо доцента помягчало:
— Сколько ей лет?
— Молодая… Я не знаю… Очень молодая…
— Это как — «очень молодая»? Пятнадцать?
— Ты же знаешь мои моральные устои… Как можно?! Года двадцать два… Она само совершенство, понимаешь? В сердце каждого мужчины до старости живет образ той, в кого он всегда влюблен! И умираем мы с этим образом прекрасной дамы в сердце, так и не встретив ее… А я — встретил!
— Ну, хорошо, Витя, хорошо, я понимаю… Ты же знаешь, я готов помочь, чем могу, всегда и во всем… Что я должен сделать?
— Не знаю… Я пришел тебе душу излить.
Доцент неожиданно рассердился:
— «Душу излить», «душу излить»! Мы души друг дружке изливаем, жалимся на жизнь, а сволочи — действуют! Чего ж тогда других винить?! Значит, сами в своих бедах и виноваты! А ну, соберись! Как гимназист, право… Сделай ее фотографии, много фотографий, на улице снимай, народ теперь объектива не шарахается, все смелые, увеличь и поедем к Томке — можешь потешаться сколько хочешь, а я проверял ее в деле!
Через два дня я пришел к доценту с фотографиями. Посмотрев, он ахнул:
— Увели красавицу под венок?! Умыкнули царевну-лебедя?! Бедненький ты мой!
Да, фотографировал я мою Ольгу в ЗАГСе, где она сочеталась браком со здоровенным вахлаком по фамилии Варравин.
Доцент снова посмотрел фотографии и, ткнув своим костистым пальцем в профиль женщины, стоявшей рядом с моей, спросил:
— А это кто?
— Ее мать.
Доцент снова заколыхался в смехе. Я посмотрел на него с укоризной. Он положил руку мне на плечо:
— Я знаю матушку твоей…
— Откуда?! — я изумился.
— Нужный контакт, — ответил доцент неопределенно.
— Давно их знаешь?
— Давно.
— А мою?
Доцент отрицательно покачал головой:
— К нужным домой не ходят, Витя, не мне тебе это объяснять… Да, интересно…
— Что интересно-то?! Что?! От такого громилы женщина добром не уходит! Ему тридцать, а мне?! Что здесь интересного?
— Интересно то, Витя, что на этом деле я могу матушку твоей привязать к нам крепко-накрепко. Извини, конечно, что я о деле, но ведь не будь нашего дела, у тебя б времени на влюбленность не осталось, пришлось бы думать о хлебе насущном, который не очень-то сопрягается с возвышенными чувствами. Едем, — он поднялся. — Не кисни, едем.
И мы поехали к Тамаре…
…Сначала я не мог понять, отчего доцент держится за нее мертвой хваткой. Будучи человеком поразительной деловой сметки, он прекрасно знал, что любой человек — не то, что принятый в наше дружеское сообщество, но даже близко к нему допущенный, — может оказаться чрезвычайно опасным.
Человек по природе своей чрезмерно подвижен и, в силу своей доброты, несмотря на внешнюю недоверчивую замкнутость, тем не менее слишком легко сходится с разного рода людьми, — особенно если возьмет рюмку. Каждый, кто не прошел проверку, — тьма тьмою, потемки, внимание и еще раз внимание. Раньше община гарантировала абсолютное знание всех, кто был собран ею и обихожен, но с тех пор, как Столыпин подписал себе смертный приговор, разрешив мужику выход из традиционного братства в самостоятельность, — все пошло наперекосяк, веры нет никому… Вон, нынче все поминают Никиту Сергеевича, мол, какие-никакие, а стал хрущобы строить с отдельными квартирами… А что в этом хорошего?! Отдельность разобщает людей, начинают таиться, а в коммуналке не потаишься — все на виду! И как хорошо жили! Как помогали друг другу! Ах, боже ты мой, очередь возле нужника! Ну и подождешь! Торопливость, кроме горя, ничего не дает…
Не все те, кто разделяет наши убеждения, входят в круг друзей так легко, как кажется… Тренер Антипкин имеет свои связи, знает, как наладить проверку, не обижая при этом человека: поглядят мальчики из его спортклуба, послушают разговоры в кругу знакомых те, кому мы верим, вот и вырисовывается картина, словно негатив в плоской баночке при красном свете. Не подходит — мы и разговора не начнем, зачем попусту сердце травмировать? Мы исповедуем доброту, и так слишком много народ терпел, хватит…
Доцент как-то заметил: «Вы только вдумайтесь в то, что несет с собою такая, казалось бы, безобидная категория, как «семейный подряд»? Нам буренушек в телевизоре показывают, счастливые семьи, детишки граблями балуются возле двухэтажных коттеджей, — рай, да и только! О главном-то не говорят! А суть этого главного в том, что нацию уводят от того, чем ей сейчас пристало заниматься, — возвращением к своему историческому изначалию. Ее калачом манят, отдирают от наших седин, учат не нашей, а чуждой вольности, когда любой червь, набив карман, мнит себя личностью. А поди управься потом с такой личностью! Поди брось ей клич! Пошлет тебя эта личность куда подальше, и весь разговор! Наш народ надобно держать в строгости и безусловном равенстве: все живут одинаково, все как один, кроме элитарного слоя, несущего ответственность за историческое развитие. Пусть французы или там какие англичане живут как хотят… Мы будем жить так, как жили наши предки… И с этого нас не свернуть… Сейчас к нам прислушиваются, но как только все эти «кооператоры» и «семейники» наберут силу, начнут разъезжать на «Жигулях» и смотреть цветные телевизоры, как только директора станут сами распределять заработки в заводе и подписывать договоры без санкций сверху, — все, конец! Чурины тогда не нужны, они станут безвластными, а через кого ж мы станем финансировать наше Общество? Обрез, что ль, в руки брать?!»
Я возражал ему, говорил, что народ сам задушит «кооператоров», мы не любим тех, кто «якает» и выскакивает вперед, наша сила — в артели, руководимой Патриархом, иного пути не примем.
— Э, — доцент только махнул рукой, — Витя, добрая душа! Все то, что противно традиции, надо было пресекать в зародыше! Не случайно лучшие семьи дворянской Руси голосовали против столыпинского закона о выходе из общины. Люди большой культуры, они понимали, что нельзя давать силу черни, позволять простолюдинам жить без приказа, они к демократии еще не готовы, просвещать их и просвещать!
Антипкин, присутствовавший при разговоре, — уж кому верить, как не ему, — стукнул ладонью по столу:
— Тех, кто поднимает руку на святые принципы, пора гнать на лесоповал!
…Помню, именно после этого разговора мы с доцентом и отправились к Тамаре. В такси он сказал:
— Поверь, Витя, нам в руки пришла новая Елена Блаватская. Сейчас об этой женщине говорить не принято, — провидица, маг, — она могла делать все… Почитай газеты прошлого века — ахнешь… Поищи у дядюшки, право, стоит… В журналах печатали «Страницы старого дневника» полковника Олкотта, он эту женщину-мага наблюдал вблизи. Феномен! А знаешь, сколько раз Тамара говорила мне правду о том, что будет?! Всегда сбывалось, всегда! Я убежден, что духовная воля обладает творческой силой… Смысл магии — а гадание первый шаг на пути к ней — в умении направить свою волю к достижению того, что кажется божественным предначертанием… Я не о черной магии говорю, это все же греховно, я имею в виду светлую…
Я посмеялся тогда над доцентом. Он не обиделся, очень спокойно заметил:
— Витя, а ты вспомни историю человечества… Ведь сначала появились маги и лишь потом — ученые. И тех и других чернь считала — да и поныне считает — придурками… Но науке повезло: она опередила магию в практических результатах, и на ее базе возникли ремесла… Вот тогда наукой и стало выгодно заниматься… Раньше-то ученого интересовало только одно: отчего происходит то-то или то-то… А сейчас? Нет, он с техникой сросся, отошел от теории, от мысли отошел, его теперь интересует, как бы поскорее сделать то, что от него требуют… Наука стала ремеслом, а тот вакуум, который остался после нее, снова заполнят маги, новые маги, поверь…
…Тамара тогда бросила карты и начала говорить — сначала спокойно, а потом распаляясь все больше и больше, словно бы спорила с кем; иногда замирала, вывалив на нас глаза; говорила размыто, но, если настроиться, можно было обернуть ее слова как раз на то, что мы обсуждали с доцентом. Сначала я был довольно скептичен, но, постепенно, чем больше она говорила, тем отчетливее я начал ощущать блаженное растворение в ее воле. Я подстроил себя под нее, я это умею, иначе нельзя иметь дело с людьми, и начал постепенно угадывать в ее путаных фразах то, что относилось именно ко мне…
И я до конца уверовал, что она вещунья, когда исчезли все звуки улицы: ни автобус не пыхал своими пневматическими дверями, ни машины не тормозили, даже детские крики шли мимо сознания, как бы отдельно от этой темной комнаты, увешанной тяжелыми картинами в старинных рамах.
…Тамара мазанула тяжелым взглядом лицо Ольги, положила свою руку, словно бы сделанную из теста, на фотографию, замерла, а потом тихонько рассмеялась:
— Здесь без серой магии не обойтись… А в этом деле необходима помощь…
— Какая? — спросил я.
— Надо узнать, когда красуленька родилась, час рожденья, день, месяц, место… Какой предпочитает цвет? Самую любимую ее песню надо знать, потому что в музыке человек не лжет, происходит совпадение колебаний воздуха с волнами твоего существа, растворение в гармонии… Доцент, затаенно слушая Тамару, молча кивнул.
— Какую детскую игрушку помнит, — продолжала между тем Тамара, — ту, что в кроватку рядом с собой укладывала на ночь, как ее называла ласкательно…
И тут вдруг я понял, как она работает! А еще больше подивился тому, что доцент ищуще ей внимает! Дай мне такую информацию, я любого сломаю! Люди впечатлительны, назови какому встречному на улице имя его любимой собачонки, что с детства в сердце хранит, скажи, что завтра любимая его песня «Рябинушка» в час ночи прислышится, так человек этот либо свернет с ума от страха, либо за мной на край света пойдет…
…Позвонив от Тамары на работу Глафире Анатольевне, матушке моей Ольги, уговорившись о встрече, доцент тогда заметил:
— Все же загадочен этот мир, Витя… Смотри: дед Завэр начал полегоньку от Кузинцова отходить, норовит иметь дела непосредственно с Чуриным, то есть — нас побоку… А ведь он без Глафиры — ноль без палочки, та дает ему наводки на ювелирный товар, больше — некому… Теперь — не отвалит дед, наша Томочка подскажет Глафире, что, мол, треф толкает ее к греху, от друзей уводит… И — все! Не уведет! Я гадал, гадал, как вернуть все в прежнее русло, а тут происходит твоя негаданная встреча с красавицей, а красавица эта дочка нужной нашему делу дамы, а дама за дочь будет нам каштаны из огня таскать, — как же все хитро сплетено в мире, а? И все — в нашу пользу! Тебе — Ольга, нам — Глафира с ее цацками, вот ведь судьба, Витюш, вот знамение!
…Я никогда не был так счастлив, как в тот день, вечером, сидя у себя в Чертанове: позвонил доцент и проворковал: «Ну, поздравляю, Витюш! Твоя от вахлака ушла! Подруга попусту не обещает, сейчас матушка у вещуньи, она ей про тебя вольет! Жди и надейся, Витюша, нежная моя душа, стыдобушка ты моя горемычная».
Я жду. Теперь я убежден, что будет так, как хочу я. Нет, я не эгоист, я не рушу ее счастье — какое у нее может быть счастье с человеком, который и дома-то в маленькой своей конуре не бывает?! Счастье дам ей я — неземное, возвышенное, чистое. Красота должна быть окружена красотой, иначе разнесет ее по ветру, поломает, как березоньку на ветру, а это непростительно, — нельзя калечить совершенство, оно принадлежит всем, словно пейзаж, написанный рукою высшего мастера…
XIV Я, Лизавета Нарышкина, она же Янина
— А кто же тебе меня назвал, Янушка, сиротинушка, краса моя ненаглядная? Кто дал адрес? — Тамара говорила ласково, мягко округляя слова, но при этом глаза ее были чуть тревожны, хотя она, видимо, старалась делать все, чтобы они излучали ласку. — Ко мне ведь с улицы не ходят, а коли и заглядывают, так лишь из отделения милиции… Колдунью ищут… А какая я колдунья? Просто стараюсь помочь несчастным женщинам чем могу — наваром ли трав, тихим ли словом…
— Мне ваш адрес дала Галя Чепурнова, вы ее от дурных снов пользовали.
— Галя Чепурнова? Это такая беленькая, что ль? С родинкой на левом веке?
— Нет, наоборот, черненькая. На цыганочку похожа. Она в ансамбле танцует, ее муж бросил, вот и случилась у нее беда со сном… Да вы позвоните ей, девятьсот восемьдесят семь — ноль три — девяносто девять.
Тамара стремительно набрала номер, хотя я видела, как она старалась быть неторопливой, вроде бы совершенно незаинтересованной в этой женщине.
Галя действительно захаживала сюда, поверив в Томины чары. Я ей советовала: «К Владимиру Ивановичу Сафонову обратись, про него в газетах ученые с респектом пишут, экстрасенс, причем не берется за то, что ему неподвластно; а вот страшные сны, ишиас, мигрени снимает прекрасно и фантастически диагностирует ладонями». — «Так я и пойду к мужику со своими бабьими бедами!» — «Помнишь Лиду из нашего класса? Она пошла. И ничего, не провалилась сквозь землю. Лучшие СОСы, между прочим, мужики, надо отдать им должное, в них есть та кряжистость, которой так недостает нам. И потом мы более интригабельны, перепады настроений, вздор всякий в голову лезет…»
Я забыла про этот разговор, потому что над карточными гаданиями потешаюсь, хотя обожаю раскладывать пасьянс наудачу, но ведь пасьянс — это женские шахматы, и потом интересно разглядывать лица дам, во мне это с детства, с тех пор, как я жила у бабушки и мучила ее по вечерам игрою в «пьяницу» и «акулину», до сих пор люблю эти игры, тайком играю с Наташкой. Журналистка и хирург дуются в «пьяницу», смех.
Я совершенно забыла про встречу с Галей на улице Горького (она выходила из кафе-мороженого с каким-то фирменным седоголовым старцем), забыла про то, как она шепнула: «Ты смеялась, а Томка мне нагадала иностранца, вот и сбылось, поди к ней, она тебе вернет Ивана!» Мура какая! Возвращать мужчину безнравственно. Если любовь ушла, ее ничто не вернет, ворожи не ворожи! Принцип совпадаемости магнитного поля сильней заговоров, а физическая совместимость вообще не понята учеными, во всяком случае, биологи не договорились ни с невропатологами, ни с теми, кто изучает этику человеческих взаимоотношений.
И вдруг этой ночью, хотя какое там ночью, утром, в пять, позвонил Иван. Я отчего-то ужасно испугалась. Я очень боюсь таких звонков, к беде. В жизни каждого человека начинается пора утрат; у Игоря, ветерана нашего фотоотдела, сначала умер дядя, потом мама, вскоре брат. Пришла беда — открывай ворота… Отец плакал, как маленький, когда смотрел картину Алексея Габриловича «Футбол нашего детства». Отец не воевал. Когда кончилась Отечественная, ему было шестнадцать, но память о том времени — единственное, пожалуй, что может вызвать у него слезы, а сам онколог, человек лишенный сантиментов, прагматик, такой уж он у меня, лучше не бывает. То же случилось и у него: сначала от рака легких умер друг, вместе учились в школе, не пил, не курил, а вот поди ж ты: через месяц как косой выкосило еще семерых — инфаркт, инсульт, инфаркт, инсульт. Отец позвонил мне: «Хочу поспать у тебя несколько ночей, разрешишь? Нервы как веревки, жду очередного звонка». Это были прекрасные семь дней, я и его научила играть в «пьяницу», а пасьянсом он просто заболел: «Необходимо во время ночных дежурств… Помнишь, поэт Яшин написал: «Те, кто болели, знают тяжесть ночных минут, утром не умирают, утром опять живут…» А со смертью каждого больного, пусть даже не ты его вел, умираешь и ты, какая-то твоя часть, затаенная частичка веры в справедливость… Умирают-то прежде всего самые талантливые, дураки живучи, как сколопендры…»
Я подняла трубку, предварительно откашлявшись: почему-то мне показалось, что говорить сонным голосом нетактично. Отец всегда шутил: «У тебя мой дурацкий характер, Лисафет, ты все берешь на себя, в наше время трудно жить таким совестливым, затопчут, оглядывайся, длинноносая, пример предков поучающ». Голос у Ивана был жухлый, чужой, словно он заболел тяжелой ангиной.
— Что случилось, старик?
— Это продолжение моей просьбы задержать Кашляева… Тут такие раскручиваются дела — ни словом сказать, ни пером описать… Можно, я к тебе приеду? И не один — с Гиви…
…И вот я называю Томочке телефон Галки. Я застала ее на репетиции. Слава богу, не на гастролях, седой фирмач ее бросил, исхудала, скулы торчат, как у голодного татарчонка, глаза пустые, совершенно потухли, хотя если не знать ее, такого не скажешь — два горящих уголька, но я-то помню ее другой, у человека глаза меняются постоянно, в них надо вглядываться, только тогда поймешь человека, вглядываться не спеша, исподволь, не пугая пристальностью, мы все так устали от выискивающей пристальности…
На прощанье, кстати, Галка сказала: «Она велела принести ей щетину Ганса: «Все мужчины оставляют на лезвии, сними незаметно и принеси, он будет твоим навсегда»… А Ганс — немец, они ж аккуратные, он свою бритвочку мылом моет… Мыл… Потом попросила завезти самый любимый его подарок… Отнесла замшевую куртку… А он все равно уехал… Вот так-то… Сука она, эта Томка… Вообще мир полон сук и кобелей, мечтаю вернуться в семнадцатый век, хоть инквизиция, но все же рыцари были, да и людей не так много, есть где спрятаться… Пусть Томка звонит, я скажу, что ты от меня…»
— Галчоныш, — Тома чуть не пела, голос воркующий, — ты что ж носу не кажешь? Как у тебя дела? Ну! Вот видишь… А тут ко мне Яночка пришла… Да? Подружка? Все сделаем! Ты ж знаешь, у меня слово верное… Это, кстати, твой новый телефон, что ль? Ах, так… Ну, приходи, чайку попьем, а за Яночку не тревожься, все будет хорошо.
Она гадала мне достаточно долго, кое-что, кстати, сказала верно, прямое попадание: «Постоянно думаешь о бубновом короле», а Иван светлый, и я о нем думаю постоянно, но ведь, наверное, каждая женщина постоянно думает о том, кого любит…
— У твоего бубнового кто-то есть, Яночка, держи ухо востро, крестовая дама постоянно ложится рядом с ним, и девятка пик не отходит, я не жалую такую карту… Хотя, если надо, мы отвадим ее, это я быстро делаю, но — не люблю, да и сил тратишь столько, что потом хоть в санаторию уезжай…
— Я отблагодарю, — сказала я. — Я на все готова…
— Думаешь, я из-за денег? — Тома вздохнула. — У меня призвание есть: делать людям добро. Во власти изверилась, в церкви священники служат, как в главке каком, кто остался утешителем? Мы, меченые.
— Это как?
— А так. У кого от бога метина… А теперь смотри мне в глаза, Яночка. Расслабься и смотри мне в глаза. В зрачки, я по дужке болезнь вижу и хворь выгоняю…
— Я не переношу гипноза, — сказала я. — У меня рвота начинается.
— А кто тебе сказал, что я гипнотизирую?
— У меня отец онколог, я про это знаю.
— Где он лечит?
Она неотрывно смотрела в мои зрачки, и мне захотелось сказать ей, что папа лечит в онкологическом центре, но он никакое не светило, а самый рядовой врач, его всегда все отодвигали, хотя для меня нет более редкостного доктора на земле, но ведь я пристрастна, он мой отец, несчастный человек, фантазер и бессребреник, подкаблучник, мама вытворяет с ним бог знает что…
— Где он лечит? — повторила Тома еще тише. — В какой клинике?
— В Тобольске, — превозмогая себя, ответила я. — Там при мединституте есть клиника, может, слыхали?
— Да ты расслабься, маленькая, расслабься, ишь какая длинноносая, волосы-перышки, расслабься, Яночка…
Так я тебе и расслаблюсь, подумала я. Отец учил меня напрягать мышцы спины, когда становится трудно и настроение могильное. Стойка, говорит он, это костяк человека, в жизни самое важное ритм и стойка.
Тамара положила свою пухлую ладонь на мою руку, придвинувшись еще ближе.
А я смогла подумать: «Она чего-то боится. Она очень испугана». И подумала я об этом отчетливо и совершенно спокойно, и после этого до конца убедилась в правоте слов Ивана, что сейчас мне надо ей подыгрывать, я обязана стать податливой и медленно, чуть вяло, но в то же время четко отвечать на все ее вопросы. А в том, что она начнет меня спрашивать, я не сомневалась. И — не ошиблась.
— Ты уснула, девочка, — еще тише сказала Тома, — тебе спокойно и тихо, скажи мне теперь, маленькая, что у тебя на сердце камнем лежит?
— Любимый…
— А как его зовут?
— Иван, — ответила я очень медленно.
— А по профессии он кто?
— Репортер…
— Иван, говоришь? А фамилия у него какая?
— Варравин.
Я ощутила, как дрогнули толстые пальцы Тамары. Она придвинулась еще ближе:
— Яночка, птаха моя, так ведь он не любит тебя. Он только себя любит, бессердечный он, злой, выкинь его из памяти, не рви себе душу… Ты небось и домой к нему ходишь, да?
— Хожу.
— Принеси мне, что он пишет, я его почерк посмотрю да отведу от тебя, бедненькой.
— Принесу.
— А как батюшку твоего зовут?
— Владимир Федорович.
— Кто, ты говоришь, он по профессии?
— Врач.
— Значит, тебя как с именем-отчеством величать?
— Янина Владимировна…
— А матушка твоя где?
— С ним, где ж еще…
— В Томске?
— В Тобольске…
— А ее как зовут?
— Ксения Евгеньевна…
— Ты на кого больше похожа?
— На мать, — ответила я после некоторой паузы, потому что мне хотелось сказать ей правду, но отчего-то мне казалось, что именно эту правду я открывать ей не вправе.
— У тебя кто до Ивана был?
— Никого…
— Ах ты, бедненькая моя рыбонька, — Тома утешала меня деловито и заученно, не отводя тяжелого взгляда от моих зрачков. Она словно бы входила в меня своими глазами, не зря не люблю людей с мерцающим взглядом, в них есть что-то властное, демоническое. — Ничего, мы твоему горю поможем, мы накажем того, кто надругался над твоей чистой и доверчивой любовью… Твоя боль сразу стихнет, свободной себя почувствуешь… Хочешь стать свободной?
— Хочу, чтоб он со мной был.
Тома подошла еще ближе, так близко, что я ощутила тепло ее лица:
— А зачем ты себя Яной называешь, деточка, когда ты есть Лиза Нарышкина? Тебя кто этому подучил?
И я ответила:
— Иван Варравин.
XV Я, Тихомиров Николай Михайлович
Самым сильным впечатлением моего детства был тот день, когда нам дали большую светлую комнату в квартире доктора Вайнберга. Это произошло на седьмой день после того, как немцы вошли в наш Свяжск и расстреляли всех евреев. Квартиры, где раньше жили райкомовцы и энкавэдисты, они заняли под офицерскую гостиницу, в исполкоме стала комендатура, в милиции разместилось СД, а квартиры евреев бургомистр Ивлиев распределил между теми, кто лишился крова после бомбежек.
Мы жили в бараке около станции, но он сгорел. Выкопали землянку. Там умер младший брат, Арсений, — воспаление легких, сгорел в три дня, лекарств не было, аптеки закрыты, больницу взяли под солдатский госпиталь, к кому обратишься?!
После землянки двадцатиметровая комната, обставленная красным деревом, казалась мне сказочным замком, я даже по паркету ходить боялся, не только башмаки снимал, но и носки, ступал на цыпочках.
Второй раз я испытал потрясение, когда бургомистр Ивлиев открыл занятия в школе. Нас построили на лужайке, где раньше стоял гипсовый бюст пионера. Ивлиев пришел с офицером, который понимал по-русски, и стал говорить с нами как с друзьями, не кричал и не делал замечаний.
— Вот мы и начинаем с вами учиться в школе, которую предоставили наши дорогие немецкие освободители, принесшие нам спасение от большевистского ига. Вы еще маленькие, вы не понимаете, какой ужас пришлось пережить вашим родителям, бабушкам и дедушкам в ту пору, нашей многострадальной Родиной правили большевики, масоны и евреи. Раньше вас учили, что каждая нация, мол, хорошая, все люди братья, и все такое прочее. Да когда же русскому человеку жид пархатый был братом?! На занятиях в новой школе вы узнаете, что после октябрьского переворота на шею русскому человеку сел большевик, латыш, китаец и еврейский комиссар! Так или не так, дети?!
Света Каланичева пискнула:
— А у Марины папа комиссар, но ведь она русская…
— У какой Мариночки папа комиссар? — сразу же спросил немец.
— У Марины Цветковой, ее вместе с евреями расстреляли в овраге…
— Значит, не Цветковы они, — заметил Ивлиев, — а обыкновенные Блюмины… А по-неме… По-еврейски «блюмен» — значит «цветы»… Они маскировались, чтоб скрытно править народом… Сколько таких было «Рыбкиных», а они на самом деле «Фиши», всяких там «Горных», а они самые что ни на есть «Берги»…
— «Берг» — немецкая фамилия, — заметил немец. — Это не типично для евреев. Эйслеры, Фейхтвангеры, Левитаны, Чаплины, Пискаторы, Эренбурги, Блоки — понятно любому, — евреи, лишенные права на жизнь… Мы, солдаты великого фюрера Адольфа Гитлера, не боимся правды, потому что сражаемся за свободу человечества, за новый порядок на земле… Да, мы не боимся правды, и поэтому я скажу вам, дети, что мы знаем о тех разговорах, которые пока еще идут среди ваших родителей. Мы терпеливая нация, мы умеем ждать, но не очень долго. Понятно?
Ивлиев зааплодировал:
— Понятно, понятно! Ясней ясного, господин майор! У нас детишки смышленые! Ну-ка, дети, похлопаем нашему гостю…
Никто хлопать не стал, всех нас сковал холодный ужас, — хлопать фашисту, немцу проклятому…
Ивлиев подскочил к старшеклассникам, они стояли справа от нас, и стеганул пощечину Васе Кобрякову:
— Начинай! — крикнул Ивлиев. — Самый старший, а ума ни на грош!
Майор сказал:
— Не надо бить детей, господин бургомистр… Они были отравлены заразой интернационального большевизма… Их надо перевоспитывать лаской. До свиданья, дети. Я не обиделся на вас. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете нашу правоту…
…Потом в нашем городе стала выходить газета на русском языке. Редактором немцы привезли Григория Павловича Довгалева, он был раньше нашим соседом, работал на мясокомбинате. За месяц перед тем, как началась война, его посадили. Моих родителей вызвали на допрос, следователь здорово их трепал, — не перегружали ли они возле нашего барака по ночам мясо с одной полуторки на другую. Мама сказала, что скрип тормозов слыхала, а видеть ничего не видела. С милицией лучше дел не иметь, держись от власти подальше.
Потом выяснилось, что Довгалев хранил пятьдесят тысяч в сарае тети Глаши Чубукиной, под старыми дровами, собака нашла, милицейский пес с черной полосой на загривке.
Через десять дней после того, как пришли немцы, Довгалев вернулся домой как «политический», рассказал, что сражался против большевиков в подполье, вскоре исчез (говорили, в рейх, на курсы), а приехал через четыре месяца, чтобы издавать «Новое слово России».
В первом выпуске газеты он рассказал о героическом пути, пройденном великим фюрером Адольфом Гитлером, о его беспримерной борьбе против мирового большевизма, который есть демоническое зло, ниспосланное на землю злыми силами. Он писал о том замечательном порядке, который царствует в рейхе, как там дружно трудятся рабочие, предприниматели и крестьяне, — полная свобода и равенство, никаких тебе колхозов, и в лесу урночки для мусора стоят, не то что наши хляби.
На второй странице газеты Довгалев напечатал две главы из «Протокола сионских мудрецов» — тайный заговор евреев, желающих завоевать весь мир.
В послесловии — мама эту газету читала вслух, очень тихо, вечером, когда мы забирались под одеяло с Пашей Крупенковым (его бабушка работала в депо по ночам, оставляла внучка нам, дом не топили, буржуйки ставить не разрешала комендатура, только одна надежда на то, чтоб согреться под одеялом, а сверху еще дедову доху набрасывали), — Довгалев учил: «Наши предки, погубленные ленинскими большевиками, патриоты «Союза русского народа», уже в девятьсот десятом году писали: «Надо лишить жидов технических знаний, ремесленных, медицинских, фельдшерских, зубоврачебных, юридических и преградить им всякую возможность получать образование…» Мы этого сделать не смогли, и нас постиг разрушительный ужас революции… Это сделал Адольф Гитлер, спасший Европу от жидомасонов, мечтавших о мировом господстве… Посмотрите, как было построено фойе в нашем Дворце культуры? В форме шестиугольной звезды. Чей это знак? Жидов. Кто строил Дворец культуры? Архитектор Федоров, а на самом деле Федер, масон. А кто превратил в склад церковь на Успенье? Жидовские комиссары, кто же еще?!» Я помню, как мама охнула:
— Господи, да ведь это довгалевский племяш Юрка в ней склад обустроил! Чего ж он такое порет, господи?!
Все эти статьи, политинформации на уроках шли как бы мимо нас, были вчуже. Я горько плакал ночью по Вовке Какузину и Лене Сорц, которых убили с родителями в лесу, а я с ними дружил, тетя Лиля, мать Вовки, угощала нас леденцами, жили мы в одном бараке, двери напротив, ничего в них особенного не было, люди как люди, только мы сладкие творожники любили, а они — соленые, вот и вся разница.
А потом было еще одно потрясенье, когда немцы и полицаи нашего батюшку, отца Никодима, расстреляли, — он у себя в подвале трех евреев прятал и раненого комиссара Демьянченко.
После этого-то мы с Герой Куманьковым и написали на листочках старой бумаги — тетрадок не было, нам три штуки в месяц выдавали — «Смерть фашистским изуверам» и расклеили по заборам, когда шли с занятий. Темнело рано, но комендантского часа еще не было. А через два дня нас с Куманьком забрали в полицию.
Там нас сильно били, но физическая боль была не столь ужасной, сколь дикой казалась возможность завтра пойти по улицам босиком, через сугробы, как батюшка Никодим, и стать перед строем черных.
Потом заявился немец, обер, что ли, наших полицаев разогнал, только одного оставил, в немецкой форме со значком «РОА» на рукаве, и на своем жестяном русском — лучше б уж по-своему говорил через переводчика — тихо произнес:
— Тихомиров, ты обречен, но сначала на твоих глазах будет расстреляна мать.
В голове у меня зазвенело, тело резко потянуло вбок, потом почернело в глазах, и я обвалился в обморок.
Привели меня в себя нашатырем. Фашист сидел в той же позе, по-прежнему рассматривая свои квадратные ногти, а русский в немецкой форме был рядом со мной, поглаживал голову…
— У тебя есть спасение, — сказал он. — У тебя и твоей несчастной матери. Ты готов сделать то, что мы тебе скажем?
И я ответил:
— Да.
— Молодец, — сказал немец. — Умница.
Мне тогда исполнилось четырнадцать лет, сорок четвертый год, февраль.
Сразу после того как немцы бежали, мать подхватила меня, и мы пошли по большаку на восток, чтобы быть подальше от тех мест, где немцы меня опозорили перед нашим городком. Куманька расстреляли, потому что он отказался говорить на площади и подписать для газеты, что это его комиссары из лесу понудили сделать, а я…
Под Энгельсом у нас была родня, там мы и осели, благо стояло много свободных домов, с тех еще пор, как раскассировали республику и всех немцев выселили в Казахстан.
Когда пришло время получать паспорт, мать-покойница, пусть ей земля будет пухом, пошла со мной в отделение: «Отец нас бросил, когда я еще беременная была, прошу дать юноше мою фамилию». Так я и стал Тихомировым, а то быть бы мне Крыловским, а ведь батя мой с рыбацкой шаландой в Турцию ушел, с тех пор ни слуху ни духу…
Он не был — мать говорила — ни антисоветчиком каким, ни белым, ни кулаком, просто хотел работать так, как умел, а ему не давали: сюда сунешься — «представь справку», туда — «а кто разрешил?». Запил мой батя, которого я и в глаза не видел, а потом жахнул шапку оземь да и ушел за счастьем, обещал: если обустроится, даст знать, но весточек от него не было, а может, не передавали их нам, время-то крутое, начало тридцатых, массовая коллективизация, карточная система, голод, нехватка жилья — по три семьи в одной комнате ютились, такое из памяти колом не вышибешь. Вообще-то детское — самое что ни на есть въедливое в человеке, неистребимое… С тех пор, например, как «тарелка» — мы так репродуктор называли — сообщила о перелете Валерия Чкалова через Северный полюс, я заболел мечтою стать летчиком. Неважно каким — военным, полярным, гражданским, — но только б поднимать в небо аэропланы.
И когда я кончил школу — а кончил я ее с серебряной медалью, — сразу же отправил документы в летное училище.
Меня вызвали на собеседование. Седой майор Левантович Михаил Григорьевич спросил, отчего я так хочу в небо, летал ли когда на самолете, видел ли хоть один авиапарад, кого из дважды Героев Великой Отечественной — сталинских соколов — могу назвать по памяти (я назвал всех), дал заполнять анкеты. Я вышел из классной комнаты счастливым, сел в зал, где толпились абитуриенты, и, подвинув себе чернильницу, стал писать ответы на вопросы… И сразу же споткнулся: «Меняли ли фамилию, если «да», то где, когда и с какой целью». Я почувствовал, как у меня кровь прилила к щекам, а пальцы, наоборот, похолодели. Перелистав пятистраничную анкету, понял, что пропал, увидав такие вопросы: «Имеете ли родственников за границей, если «да», то где, с какого времени они там проживают, подробный адрес и профессия» и «Находились ли вы на территории, временно оккупированной немецкими захватчиками, если «да», то с какого времени и подробный адрес проживания».
Я скатал анкету в трубочку и выскользнул из гудящего зала: пошел в парк культуры, что на берегу реки, купил за тридцатку «эскимо», сел на скамейку, крашенную зеленой масляной краской. Кто-то положил газеты, их смыло дождем, но остались целые строчки и заголовки на дереве. Один я прочитал: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц!» — и крепко задумался.
Любопытно, сейчас уже, анализируя себя со стороны (этот прибабашенный Штык, по словам Никитича, парит, рассматривая предметы с высоты, мы с ним похожи в этом), я пришел к странному выводу: наша особость проявляется в том, что мы разнимся даже от предков, арийцев седой старины. Праотцы жили вне понимания важности прошлого: при том, что они славились математиками, философами, архитекторами, их совершенно не интересовало то, что было перед ними. Поэтому ни Греция, ни Рим не знали такой, например, науки, как археология. Там не существовало и устремления в будущее: летосчисление вели только по Олимпиадам, да и это было данью плебсу, который жаждал зрелищ. Практически время для древних не существовало, и, когда Цезарь решил создать свой календарь, его противники увидели в этом скрытый ход к установлению в Риме династической империи, а ведь любая империя прежде всего чтит время, потому что в нем выражена идея длительности правления династии. Кстати, именно из-за этого убили Цезаря, — нельзя дерзать на традиции. Даже если они не канонизированы, все равно в душе каждого живет высшая тайна нации…
Видимо, опыт, заложенный в генетический код определенными периодами нашей истории, угоден будущему, поскольку учит вдумчивой осторожности, толкает к тому, чтобы семь раз отмерить, прежде чем резать. Прав Бисмарк: «Русские медленно запрягают, да быстро едут».
Я удостоверился в исторической правоте нашей неторопливой постепенности сравнительно недавно, когда впервые в жизни уверовал в то, что достиг наконец состояния длительной надежности. Поскольку миром правит один процент мыслящих особей, остальные — инструментарий, ими пользуются, то, следовательно, лишь в нас, состоявшихся, заключена движущая сила общества… Но свою идею надо открывать не сразу и, конечно, не всем, но лишь интеллектуалам, связанным единством крови и принадлежностью к одной почве.
Но, увы, правда такова, что даже среди этого процента избранных далеко не все гении. А что такое гений? Провидец. Толкователь неизвестного доныне. Нет гениев среди историков — они устремлены в прошлое, обращают его к своей честолюбивой выгоде, и лишь те, что вырываются в сферу политики, могут использовать факты прошлого для утверждения своего, видимого им, будущего. Такова же участь филологов и искусствоведов. Возможность приближения к гениальности дана математикам, литераторам, живописцам, химикам, архитекторам, физикам, политикам. Все. Остальные — побоку. Следовательно, из нашего процента к высшим пикам бытия могут прорваться тысячи, не более. Но эти тысячи начинают восхождение с отрицания привычного, — такова жестокая логика развития, и как ни беспощадна была доктрина Гитлера, в ней существовало свое здравое зерно. Если бы он смог пересилить себя и, как хотел вначале, отправил всех евреев на Мадагаскар — пусть бы грелись себе на райском острове, — если бы не понастроил Освенцимов, если бы не грешил против славян, которые не менее арийцы, чем немцы («руссы» — «пруссы», очевидное братство крови), неизвестно еще, чем бы кончилась вторая мировая…
…Так вот, именно там, в парке культуры на берегу Волги, в маленьком Вольске, я понял, что мне дороги в будущее нет, пока — во всяком случае. Власть не обманешь, особенно нашу, которая пуще всего радеет о проверке; дело для нее вторичное, главное, чтоб все по графам сходилось. Риск, с которым связаны ложные сведения в анкете, бесполезен и кончится ссылкой — в лучшем случае.
…Я вернулся домой в Энгельс и устроился на завод. Я зажался, жил тихо, нигде не возникал, взносы за комсомол платил исправно, самообразовывался — читал что ни попадя, особенно историю. Я ощутил приближение перемен, когда начали бить изменников-космополитов, литературных критиков еврейской национальности, а потом, после расстрела членов Еврейского антифашистского комитета, объявили, что еврейские врачи травили русских людей. Нам немцы рассказывали, как до революции Бейлис в Киеве резал русского ребенка, чтобы пустить христианскую кровь в свою пасхальную мацу. Неважно, что его оправдали, оправдать все можно, а врачи, агенты «Джойнта», действовали научно, потаенно, — значит, верно Ивлиев говорил: «Тайный заговор против нации»? Тогда-то я и выступил на заводском собрании, потребовав открыть молодежи историческую правду о еврейском заговоре против нашего народа.
Было это в январе пятьдесят третьего, а в апреле, после смерти Сталина, врачей реабилитировали, оповестив в газетах, что все это была клевета и покушение на дружбу народов, — доктора Лидию Тимошук, которую славили за бдительность — ей орден дали за то, что евреев разоблачила, — смешали с грязью, да еще заместителя министра безопасности Рюмина арестовали…
В тот же день я уехал из Энгельса, подался сначала в Сибирь, оттуда на целину, заработал медаль, а уж после этого поступил на искусствоведческое отделение.
Никогда не забуду, как в конце шестидесятых, когда из Польши начали выселять евреев, объявив их сионистами, один старик, видимо, из партийных ветеранов, горестно рассуждал в поезде: «Ну, ладно, евреи во всем виноваты — так и в царской России было, так Генри Форд считал, так Гитлер проповедовал, — по их милости рабочие мало получают и продукты дороги, но где гарантия, что, выселив их, мы получим вдосталь мяса и автомобилей, не проведя революционные реформы в экономике?! Ведь если жизнь трудящихся и после выселения не улучшится, тогда народ обвинит коммунистов и рабочую власть в том, что они не компетентны! Кто за это будет в ответе? На кого тогда валить вину за наши неудачи? На нас, русских?! На коммунистов?!»
Тогда-то я и понял до конца свою линию. Мне от этой власти ничего, кроме страха, не досталось, все свое взял горбом, ей наперекор. Пусть себе эта власть телепается, как хочет. Управимся без нее, рецепты есть.
…Преподаватель по истории искусства Мария Францевна Гирш — в аспирантуре она опекала меня, как крестная мать, — говорила: «Заметьте себе, Миша, что человечество, в массе своей, трагически беспамятно. Говорят, «Иваны, не помнящие родства». Это русофобия. Джоны родства не помнят, Пьеры тоже, не говоря уж об итальянцах… Разве что только иудаисты и мусульмане чтут память… Да, да, не спорьте! Когда итальянцы вспомнили о речах Цезаря, Катилины и Цицерона? Тысячелетия прошли! Очнулись лишь после крушения инквизиции! А Эль Греко? Он стал достоянием человечества в конце прошлого века. Когда цивилизация устает от прогресса, когда выступает бессилие после очередного взрыва новаций, тогда лишь люди обращаются к прошлому, ища в нем вечность и спокойствие… А еще мы тщимся обрести в ушедшем успокоение непрерываемости рода… Но, повторяю, это наступает в пору усталости человечества, после катаклизмов и открытий, когда утвердилась новая форма мышления… Именно в такие годы забытые — древность, старина — становятся самыми дорогими акциями, вложением капитала с получением невиданных процентов, беспроигрышно! Будь я стяжательницей да имей еще деньги — все бы вложила в старинную живопись, иконы, книги! Выставьте на аукцион записку Плутарха! Вам уплатят десять миллионов, не меньше! И ваше имя войдет в историю, вас назовут хранителем памяти человечества, простят корыстный интерес, станут чтить, как нового Мецената… Но, увы, все это сопрягаемо с политикой, с честолюбивыми устремлениями несостоявшихся художников или пророков… Да, да, не спорьте… Гитлер запретил удобный и понятный современный алфавит, понудив немцев вернуться к готическому… Он отринул блистательную литературу двадцатого века и заставил нацию оборотиться к рунам и былинам, считая, что только великое прошлое — даже если его и не было — приведет к еще более великому будущему… Это, кстати, свойственно всем малообразованным людям, лишенным серьезного знания и интеллигентности… Личностное честолюбие приводит к краху человека, а национальное, обретшее форму мессианства, грозит существованию нации. Да, не спорьте! Именно имперские амбиции Древнего Рима привели его к крушению. А Карфаген? Византия? Национально-мистические претензии Испании? А Польша — «от моря и до моря»?! А наша война против Японии в девятьсот четвертом году? «Шапками закидаем»?! Вот и закидались… А как отомстил Гитлеру его национальный мистицизм?! Не Гитлеру — немцам?! Прошлое — инструмент будущего, Миша… Не каждый умеет работать с таким взрывным материалом… Если вы будете строго следовать правде, факту, истине, вас предадут анафеме и лишь потом, по прошествии столетий, вспомнят с благодарственной памятью. Если же вы решите получить сиюминутную отдачу, следует забыть о хирургичности предмета истории и обернуть факты к собственной выгоде… Вас вознесут… Высоко вознесут… Но потом низвергнут, и вашим потомкам станет трудно жить на земле, их станут чураться, как Ирода…»
Слушая ее, я, пугаясь самого себя, думал: «После нас — хоть потоп… Да и детей у меня не будет — голод и страх так просто не проходят… А не справедливее ли получить то, что можно, при жизни? Не уповая на благодарственную память тех, кто придет спустя столетия? Да и придут ли?»
Как сейчас помню, разговор этот состоялся в декабре шестьдесят четвертого, вскорости после того, как свалили Никиту. Люди настороженно присматривались к тому, что происходит. Включив на полную мощность приемники, обсуждали возможные изменения в стране, строили догадки. Несчастные мы, ей-богу, словно одеялом придушены, — главное, чтоб все было тихо, благообразно и величаво.
…Поняв, что дерзостным начинаниям Хрущева пришел конец, я и спросил себя: «Что ж мне-то, Михаилу Тихомирову, делать? Раньше жили страхом вперемежку с восторгом перед гением Сталина, потом поверили в перемены Никиты, а теперь как?» И я ответил себе: «Сам думай, подсказки ждать не от кого». Ответ я нашел не скоро, но — нашел.
…Когда разгромили авангардистов, все и всех позапрещали, внезапно появилась талантливая поросль суздальских художников: живопись яркая, сочная, голубая, очень русская. Но и этих ребят стукнули: «Слишком много церквей и седой старины, где радость свершений сегодняшнего дня?!» Ребята были крутые, хорошего закала, — не дрогнули, муку приняли гордо, гнули свое, перебиваясь с хлеба на воду.
Вот тогда, памятуя о беседе с Марией Францевной, я и пошел на риск: организовал их выставку в Институте, устроил распродажу, поделился с ними по-братски — вот он, путь: ставить на тех, кто умеет держать удары, чист в позиции и понимает, что связь времен неразрывна: без прошлого нет будущего.
Каждому — свое. Господь лишил меня дара писать или ваять, но умом — не обделил.
И — постоянно думая о своем будущем — я обратился к прошлому, посвятив кандидатскую диссертацию теме «Традиция и искусство».
После того как отменили графу про то, был ли ты в оккупации (не моя вина, не я, а власть допустила немца до Москвы и Сталинграда), решился поехать в первую туристскую поездку. И такая меня обуяла тоска и боль за несчастную Россию, когда я попал к побежденным немцам и увидел, как они давно живут, каков их достаток и уважительность друг к другу, что подумал: «Никогда нам из дерьма не выбраться и нечего ноздри раздувать, что, мол, богоносцы, избранные! Прокляты мы богом, истинно так! За то, что легко своих Перунов сожгли, за то, что в семнадцатом церкви рушили и памятники валили, за то, что легко прощали зло! Не отмыться нам вовек!»
Вот тогда-то, опираясь на опыт с суздальцами, я и решил: только деньги могут дать человеку истинную духовную свободу, все остальное — иллюзия… Тогда же появились Витя Русанов и Кузинцов, тогда и начал крутиться бизнес с художниками, тогда и ощутил наконец надежность. Матушке дачку купил, себе кооператив построил, жил как хотел… Найди художника, помоги ему — он отблагодарит, внутри они чистые, хоть и шельмы…
А тут — на тебе, новое время! Права личности. Определенные послабления в линии. Свобода слова, газеты распоясались, гласность, будь она трижды неладна! И — как следствие — рушатся надежно отлаженные связи, рождается страх, что вновь грядет нищета.
Народ — что? Народ дурак. Ему надобно постоянно втолковывать: кого — любить, а в ком видеть затаенного ворога, однако не всегда просто вести такую работу: и среди тьмы есть головы. Умные сразу просекут, что в конечном-то счете речь идет о рынке, заработках, — в первооснове всех людских начинаний сокрыт золотой телец, никуда не денешься, греховны… А вот поди, скажи открыто, что если у своего берешь — он снесет, наш человек все стерпит, а попробуй у чужого выдери?!
…Врать можно другим, себе — преступно. Если сейчас проиграем, все будет кончено: как-никак шестой десяток, начинать сначала поздно. Удержание достигнутого — сродни войне. Или — они, или — я, третьего не дано. Индивидуальный труд, кооперативы, поддержка личной инициативы, право на заработок — есть то объективное зло, которое рушит нашу цепь, где каждый, разрешающий, обязан получить свое. А если разрешать не надо? Если в Конституцию запишут параграфы о том, что дозволено всем? Сидеть разрешающим на свои двести рублей и дома топор точить?! С топором на танк не выйдешь… Право для всех — гибель нам, элите, избранным, тем, кто достиг высшего блага властвования: не позволить, запретить, умучить справками, бумажками, доверенностями… Мы лучше знаем, что нужно нашему народу несмышленышу… Столетия должны пройти, прежде чем он научится демократии, не для нас это, мы силе покорны, а не праву, кнуту, а не закону.
…Кузинцову сказал лечь на грунт, Русанову строго-настрого запретил ездить к Чурину на дачу, слишком повадился, про Завэра забыть всем — наверняка сгорит. Старик не понимает, что времена изменились, связи не помогут, скорее наоборот.
Терпение, только терпение! Именно сейчас и надо перенести центр борьбы за себя в клубы, на дискуссии организованной нами «Старины»: власть припугнуть — великое дело. Случись какая беда, есть отговорка и обращение к общественности: «Мстят за слова правды!» Пусть попробуют тронуть, ныне скандалов не хотят — демократия! Главное — точно определить врага, от которого художника могу сберечь я, один я и никто больше. Сюзерен невозможен без феодала. Понятие «благородность» связано со словом «поддержка», «защита», «протекция», ничего в этом зазорного нет.
Вот пусть Русанов и рванет Варравина на своей мине. Томка уже Глафиру Анатольевну подготовила, — напишет заявление, слава богу, персоналочку у нас до скончания века будут чтить и холить, без нее нельзя: у тех, на Западе, светская хроника, а у нас открытое собрание, все вблизи, страсти наружу, лобное место, где еще такое есть?!
Кашляев парень с головой, подготовит почву в своей редакции, турнут этого Варравина коленкой под зад, пополнит ряды неудачников — вот к нам и придет, больше-то некуда…
…О том, что с каждой сделки, заключенной Русановым, он получал пятую часть, Тихомиров запрещал себе и думать. Тем не менее подстраховался: сберкнижки «на предъявителя» завещал после смерти активистам своей «Старины», мол, не о себе радею, о нашем общем деле. Пройдет смутное время — переписать книжечки не поздно, пять минут делов. Постоянно повторял: «Мы работаем в рамках советского законодательства, никаких отступлений не потерплю, как и от норм пролетарского интернационализма. Наши враги — сионисты и масоны, и не наша вина, что все они относятся к лицам известной национальности».
…Нет, говорил он себе, я — неуязвим! Линия защиты абсолютна, выдержка и еще раз выдержка. Главное — переждать смуту, потом мы свое возьмем, главное — сохранить цепь: идея (я), поиск художников (Русанов), подготовка почвы (Кузинцов), подписание заказа на роспись зданий (Чурин), бриллиантики для дополнительных услуг (Иуда Завэр и Румина), «Старина» (страховка предприятия общедоступной идеей). Все четко, точно и отлажено. Так держать!
XVI Мы, Лизавета, Иван и Гиви
Самое удобное время зайти в кафе — причем мало-мальски пристойное, а таких в Москве раз-два и обчелся, — утро.
Лениво прикрывая рвущийся в зевоте рот, официант (их тут пять, вот дурство-то, проклятие штатного расписания, держали б двух, платили зарплату за четверых, было б обслуживание) спросил, чего желают гости. Иван ответил, что желает счастья. Официант посмотрел на него с недоумением, которое сменилось обидой:
— Вы со своими приятелями шутите, со мной не надо, я нахожусь на работе.
Когда он принес кофе (времени на это ушло минут десять), Иван сказал:
— Я не убежден, что Гиви скоро управится, Лисафет. Волшебница по телефону звонить не станет: они пугливые, боятся, что их подслушивают, кино понасмотрелись, значит, отправится к кому-то сообщать о тебе, поэтому расскажи еще раз — самым подробнейшим образом, — все, что там произошло…
Лиза с тоской посмотрела на табличку, запрещавшую курить.
— Ты никогда не думал, отчего в нас заложена страсть делать друг другу неудобства? Ну почему не открыть кафе для курящих? Нет! «Нельзя» — и вся недолга! Дисциплина — разумна, а бестактность, тяга к казарме, границ не знает… Ладно… Словом, поначалу мне не было страшно, я даже почувствовала к ней какую-то бабью симпатию… Вам это не понять, мы ж несчастнее вас, поэтому в чем-то едины, — Лиза усмехнулась, — некие, знаешь ли, бабомасоны… Но у нее резко изменилось лицо, когда она стала меня колоть… Она обладает навыком гипноза, это точно… Думаю, я ей сказала только то, что мы обговорили… Я помню, как она испугалась в конце… Я не убеждена, что на какой-то миг не потеряла над собою контроль, — отец объяснял про гипноз достаточно подробно… Гитлеризм начался с массового гипноза, с обращения к национальному инстинкту, поиску общего врага, от которого все «беды»… Я дрогнула, когда она, уверившись, что овладела моей волей, спросила, отчего я называю себя Яниной, а не Лизой Нарышкиной… Мне страшно стало… Но я постоянно держалась — как за спасательный круг — за наш с тобой давний разговор: отчего царская семья, последние Романовы, не делали ни одного шага без подсказки ясновидящих? То им месье Филипп давал указания, то Распутин. Помнишь?
— Я все помню, Лисафет, — ответил Иван и погладил ее по щеке.
— А чего ж тогда меня бросил?
— Считаешь, что любовь сродни воинской присяге? Раз и навсегда? На всю жизнь? Как же тогда быть со свободой? С правом личности? Другое дело, были бы у нас дети… Да и то… Анна Каренина… Увлечения Пушкина… Жизнь Анатоля Франса… Тот же Хемингуэй… Ведь не только мужчины перестают любить… Женщины тоже увлекаются другими…
— Много реже, Ваня… Как правило, увлечение другим наступает после того, как у женщины возникли подозрения, в чем-то изуверилась, показалось, что ее мужчина перестал быть таким, как прежде, менее внимателен, неласков, замкнут… Вот тогда мы и пускаемся в рейд, — она вздохнула, — по далеким тылам врага… Но ведь мы слабей вас…
— Значит, равноправие — фикция? Не может иметь равные права заведомо слабый и утвержденно сильный? Это идеализм, выдача желаемого за действительное… Я беседовал с интересным ученым, биологом, так он утверждал, что женская физиология не сопрягается с теми нагрузками, что мы на вас взваливаем. Он, например, вместе с математиками просчитал, что оптимальный вариант рабочего дня женщины — пять часов. После пяти часов бедненькая перестает приносить пользу общественному делу, потому что думает, чем накормить мужа, как вовремя взять ребенка из детского садика, где занять очередь и купить мяса подешевле и без костей, поэтому общественное дело проходит мимо ее внимания…
— На журналисток это не распространяется, — заметила Лиза, вздохнув.
— Распространяется, — отрезал Иван. — Если есть муж и дети…
Лиза снова с тоской посмотрела на пачку сигарет. Иван, однако, не заметил этого ее взгляда, продолжал устало:
— Женщина не может себя переломить: верх берет инстинкт материнства и дома… Нонешние радетели национального духа из «Старины» винят всех, кого ни попадя, в том, что у нас падает рождаемость, но не желают проанализировать статистику: шестьдесят процентов американских и бельгийских женщин не ходят на службу, а занимаются домом, воспитывая детей и ублажая кормильца! Может быть, нам лучше подумать, как увеличить заработную плату отцам трех детей? Так, чтобы наши женщины могли посвятить себя дому? А вопли про то, что у нас намеренно «спаивают» народ?! Бесстыдно это и преступно по отношению именно к народу… Ведь тот, кто хорошо зарабатывает, — не пьет! На машину копит, на дачу, путешествие! Пьют от безнадеги, Лисафет, дураку ясно… «В вине истина» — это выражение не масоны придумали, издревле идет, надо серьезно изучать первоисточники, исследовать историю — объективно, компетентно… Истерика с историей несовместимы, хоть и пересекаемы… Это я, между прочим, так отвечаю на вопрос — отчего царской семьей управляли кликуши… Да потому, что даже Романовы были лишены гарантированного права на новые мысли и целесообразные поступки… Царь был бесправен, Лисафет!
— Ой ли?! Почему?
— Потому что слово «конституция» приводило его в ужас! «Верховный хранитель традиции», переписывавшийся с женой на английском или немецком, не на родном, — был неуч, университет не посещал, методике мыслительного анализа приучен не был: что ему вдолбили наставники, вроде серого кардинала Победоносцева, то он и повторял: «православие, самодержавие, народность». А что это за «народность», когда народ был лишен права на мысль, слово и дело? Романовы не хотели принять даже ту помощь, что шла от умеренных монархистов, — а ведь Гучков с Милюковым держали большинство в Думе и мечтали о сохранении трона, сделав его конституционным… Но государь не мог принять помощь снизу, — ведь он был не коронован на царство, а помазан, вот он и хотел получать советы сверху, потому и верил в чудо, прозрение, а в себя и свой народ верить не мог — по традиции. Некрасова наши нынешние правые пока еще не очень-то подозревают в чужекровии, а ведь он писал, мол, мужик что бык: втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттудова не выбьешь… Страсть к порядку — а он в нашем огромном государстве необходим — выродилась в жестокость, Лисафет… Делом державу объединять боялись, — народится слишком много сильных. Вот и держали тотальным страхом да запретом… А какой порядок можно навести, запрещая все и вся? Я почитал дискуссии тех, кто за индивидуальный труд и семейный подряд, с теми, кто боится «обогащения»… Зачем нянчится с дремучими представлениями? Не проще ли распубликовать, сколько миллиардов долларов мы уплатили одной лишь Америке за зерно, а в Штатах, — Иван усмехнулся, — кроме семейного подряда иного не существует… Ну, и кто обогатился в результате того, что фермерская семья возделывает землю? Государство, Соединенные Штаты, кто же еще… Реформе об индивидуальном труде противятся болтуны-бездельники, неучи, для которых социализм — это молочные реки и кисельные берега… Старые контролеры и маразмирующие догматики вопят: «Если человек живет в хорошем достатке — значит, он враг социализма!» А что, социализм — это общность нищих?! Кому такой социализм нужен? Социализм — это братское содружество мыслящих, свободных и обеспеченных людей, в этом я вижу истинный смысл равенства… С дураком и лентяем равняться не хочу. Есть право на заработок — для всех без исключения, — пусть и зарабатывают! А не болтают!
— Ты чувствуешь, — сказала Лиза, — как страна поляризуется на тех, кто за реформу и ее противников? А мы не научены действовать, растворяем себя в кухонных дискуссиях… А надо действовать, Ваня! Надо предпринимать что-то! Дремучая, консервативная кодла едина, а мы? При нашей постепенности мышления, пристрастии к старым догмам все может случиться…
— Что ты имеешь в виду?
Лиза снова с тоской поглядела на вывеску, предупреждавшую о запрете на курение, потом медленно, с какой-то школьной безнадежностью, подняла руку. По прошествии нескольких минут официант разрешил себе заметить ее; подошел, по-прежнему позевывая.
— Товарищ, у меня к вам просьба, — Лиза достала из кармана курточки трояк, — принесите пепельницу, а? Пока ведь в кафе никого нет…
Парень трешницу смазал в карман, лицо помягчело.
— Не я этот дурацкий запрет вывесил, девушка… Сыпьте пепел в блюдце… Но если кто придет, я маленько поругаюсь, не взыщите…
Когда парень отошел, Лиза посмотрела на Ивана:
— А если б мы с тобой были из общепита? Если б провоцировали этого парня? Такого рода провокация законом не запрещена, наоборот, поощряема… Что тогда с ним будет?
— Ты здорово осунулась.
Лиза улыбнулась:
— От страха.
— За полчаса так похудеть?
— Некоторые перегорают за десять минут… Стресс на каждого по-своему действует… Как Оля?
— Там плохо. Ей впору менять фамилию Варравина на царицыну — Романова… Она и думать-то перестала: что Тома скажет, то и сделает…
— Хочешь, я с ней поговорю?
— С ума сошла… Она твоего имени не может слышать, белеет…
— Она не верит, что у нас все кончилось?
— Не верит.
— Ты ее по-прежнему любишь?
Иван достал «Яву», тщательно размял сигарету, с ответом медлил, потом, собравшись, молча кивнул и, словно бы пересиливая нечто, ответил:
— Да.
— Ты это сказал мне? Или себе?
— Не знаю. Меня объял ужас, когда Оля и ее мать получили сообщение от этой самой Томы, что ты ворожишь над ее фотографиями… Нельзя любить человека, если не веришь ему… И его друзьям…
— Я не друг… Я — женщина.
— Что, женщина не может быть другом?
Лиза закурила новую сигарету и, подняв на него свои серые глаза, спросила:
— Думаешь, мне легко быть твоим другом?
— Хорошо постриглась.
— Ты же любил, чтобы я стриглась коротко…
— Времена меняются, Лисафет… Почитай стихи…
— Новые?
— Да.
Лиза читала очень тихо, как бы рассказывая:
Ты исчез очень рано, Ты ушел на рассвете. Негатив неудачи Майским солнцем засвечен. А костюм Коломбины Брошен был на кровать, Ночь исчезла бесследно, Но не хочется спать. Если с каждой потерей Мы теряем по сну, Я отныне, наверно, Никогда не усну.Иван вздохнул:
— Поедем на вокзал, а? Там пол-литра можно у таксистов купить… Так захотелось жахнуть, что просто сил нет…
— Когда Оля должна рожать?
— Я по-вашему считать не умею…
— Наверное, в сентябре, — сказала Лиза. — У меня такое предчувствие.
Иван снова погладил Лизу по щеке. Она круглолицая, щека словно отлита для его ладони. Лиза мучительно оторвалась от его руки, попросила у официанта еще чашку кофе, достаточно неестественно глянула на часы, поняла, что Иван заметил это, усмехнулась:
— Знаешь анекдот про безалкогольную свадьбу?
— Нет.
— Встает тамада, обращается к молодым: «Дорогие супруги, милые гости, ну-ка, нащупаем вены… Нащупали? Приготовим шприцы! Готовы? Горько!»
— Могильный юмор.
— Да уж, не Джером К. Джером… Где же Гиви?
— Я тоже начинаю волноваться…
— Не знаю почему, но мне кажется, что эта самая Тамара и те, кто с ней связан, готовы на все. Ты нащупал какое-то средостение и, незаметно для самого себя, скорее всего неосознанно, ступил ногой в гадючник… Когда Тамара сказала: «Доченька, ты посоветуй своему дружку: не стоит меня замать, это ему горем обернется», — мне стало не по себе…
Иван досадливо махнул рукой:
— Что она может сделать?
— Тебе — ничего. А Ольге?
Иван положил на край стола спичечный коробок и, резко поддев его большим пальцем, посмотрел, какой стороной упал.
— Сходится, — сказал он. — Порядок… Если я не смогу вернуть Ольгу, попрошу тебя снова стать моей подругой… Слово «жена» у меня теперь прочно ассоциируется с понятием «несвобода».
— У меня тревожно на душе, Иван… Честное слово… При всех моих недостатках — флегма, лишена склонности к истерии, — я ощущаю в воздухе что-то тревожное…
И как раз в это время пришел Гиви.
— Люди, тут дают что-нибудь поесть? — спросил он. — Я намотался за эти два часа, как олень…
— Яичницу, думаю, сделают, — сказала Лиза. — Рассказывай скорей, что было…
…Тамара поехала в Мытищи, там зашла в клуб культуристов, поговорила с тренером Антиповым и, не отпустив такси, вернулась домой. Бросив занятия, Антипов отправился на Красноармейскую, в дом сорок, в квартиру, где живет Бласенков, Виталий Викентьевич. Пробыл у него минут десять и вернулся к себе. Когда Гиви попросил записать его в члены клуба культуристов, Антипов ответил, что здесь принимают только местных, «да и потом, в вашем народе наш спорт не популярен, не выдержите нагрузок».
После этого Гиви поехал в милицию. Заместителем начальника угрозыска, по счастью, был однокашник, капитан Хмелев, он-то и помог справкой: Бласенков Виталий Викентьевич, пенсионер, привлекался в сорок пятом по недоброй памяти пятьдесят восьмой статье, пункт первый, измена родине. Судила, однако, не тройка, а трибунал. С сорок третьего по сорок пятый Бласенков служил у Власова, был инструктором в пропагандистском лагере Дабендорф Русской освободительной армии, освобожден по амнистии в пятьдесят третьем…
Гиви говорил громко, жестикулируя, уплетал глазунью из трех яиц, и ни он, ни Иван с Лизой не обратили внимания на двух молодых людей, которые устроились возле двери, попросив кофе и пирожных. «Наполеоны» ели сосредоточенно, а вышли — расплатившись заранее — лишь после того, как убедились, что беседа трех друзей закончилась.
(Молодые люди были культуристами Антипова. Старшему было двадцать четыре года, Антипов Игорь, брат тренера. Младшему только что сровнялось двадцать, Леня Шевцов. Оба работали грузчиками в гастрономе.)
XVII
«ВЧграмма
Подполковнику Вакидову
угро МВД Узбекистана
Прошу предъявить к опознанию подследственному Рахматову фотографию Кузинцова. По нашему мнению, его внешность близка тому внешнему портрету, который дал Рахматов на очной ставке с подследственным Чурбановым.
Полковник Костенко».
«ВЧГрамма
Полковнику Костенко
угро МВД СССР
В предъявленных фотографиях Рахматов опознал гр. Кузинцова, заявив, что этот человек свел его с Завэром во время открытия выставки дизайнеров.
При этом Рахматов добавил, что Завэр — перед тем как отойти к Кузинцову — беседовал с неизвестным мужчиной, крепкого телосложения, очень высокого роста, русого, с волевым лицом и ямкой на подбородке.
Фоторобот создать не удалось, потому что Рахматов, по его словам, видел означенного человека мельком, всего один раз, как и Кузинцова.
Подполковник Вакидов».
XVIII Я, Иван Варравин
Папку с донесениями отца, которые он отправлял в Москву из училища пропагандистов РОА Власова в Дабендорфе (что в сорока километрах от Берлина, между Рансдорфом и Клинике), принес мне работник архива. На нем был черный сатиновый халат, в таких у нас ходят уборщицы, но опирался он на элегантную трость с дорогим набалдашником слоновой кости.
Я остался один в комнате, где стояло несколько письменных столов. Чернильницы были школьные, неразливайки, сделанные из металла. У нас такие были только в первых классах, потом заменили на современные.
Я открыл папку, сразу узнал округлый почерк — хоть и стремительный, летящий, но в то же время твердый, буква стоит отдельно от буквы. Сердце сжало не только от тоски по отцу, но и от бесконечного ощущения невосполнимости, которое возникает, когда навечно ушел человек, не доделавший то, что мог сделать только он.
Сначала я пролистал все странички, их было двенадцать. Я представил себе, как же невероятно трудно было ему писать, находясь среди тех, кто окружал его те долгие годы, подумал о людях, которые несли эти странички по улицам гитлеровского Берлина, передавали другим, тем, кто отсылал их дальше. Возникали видения холодной затаенности, лезвие бритвы, один неверный шаг — и пытки в подвалах…
«Власов не сразу предложил свои услуги немцам, — писал отец. — В течение нескольких недель с ним работал капитан армейской разведки Вильфрид Карлович Штрик-Штрикфельд, прибалтийский немец, уроженец Риги, говорящий по-русски без акцента. Он входил в ту секретную группу, которая пыталась привлечь на сторону фюрера таких генералов, как Лукин, Карбышев, Музыченко. Смысл достаточно смелой комбинации Штрика, разыгранной им с Власовым, заключался в следующем: «Рейхсминистр восточных территорий Розенберг — путаник… Он влияет на фюрера в том смысле, что все русские являются «унтерменшами», «недочеловеками». Кстати, журнал Геббельса под таким же названием продают только немцам. Мне, как немецкому офицеру и другу России, стыдно за их безнравственные антирусские публикации… Только вы, Андрей Андреевич, можете повлиять на Гиммлера — чтобы Геббельс прекратил выпуск своего журнала, а СС запретили избиение русских пленных в лагерях». Штрик работал с Власовым более двух месяцев, делая ставку на то, что генерал закончил саратовское духовное училище, а затем прошел дипломатическую школу, являясь в течение нескольких лет военным советником РККА у генерала Чан Кайши. Поначалу Штрик не затрагивал вопрос о создании РОА, но лишь нажимал на тяжкое положение пленных, подталкивая, таким образом, Власова к поступку, носящему чисто гуманный характер: «Пожалейте русских солдат, Андрей Андреевич, вспомните слова Господа о милосердии и любви к ближнему, только вы можете спасти их от голода и болезней». Власов на это ответил: «Товарищ Сталин, отправляя меня командовать армией под Москвой в сорок первом, наоборот, советовал: «Солдат жалеть не надо, а беречь — надо»… Да и как я помогу солдатам?» Лишь после этого Штрик-Штрикфельд и открыл карты: «Если вы обратитесь к пленным с предложением создать истинно национальную Россию, объявите всему миру об организации РОА, Гиммлер неминуемо выпустит из лагерей ваших пленных».
Вскоре такое обращение, подготовленное в отделе «Армии Востока» генерала Гелена, было принесено Власову, и он его подписал… Серьезное влияние на Власова оказывает генерал Благовещенский, который воспитывает в лагере Вульдхайде примерно триста русских подростков, чтобы использовать их для разведывательной и пропагандистской работы в тылу Красной Армии… Несмотря на обращение Власова, пленных из лагерей не выпустили, но создали школы пропагандистов несуществующей РОА в Дабендорфе, Риге и Хаммельбурге. Именно в Хаммельбурге была создана ячейка национал-социалистической рабочей партии, которую возглавили Филиппов и Мальцев. Генерал Трухин, начальник штаба Власова, в разговоре с полковником Владимиром Боярским заметил, что Мальцев сотрудничает с абвером, являясь функционером Народно-трудового союза, НТС, с которым, по словам Трухина, «нам не по пути. Они хотят реставрации прежнего строя, а мы будем строить новую Россию в братском союзе с германским народом, исповедуя национальный принцип, а никак не сословный». Кстати, именно поэтому Власов отказался включить генералов Краснова и Шкуро (казачьи войска) в свои ряды, заметив: «Молодые красноармейцы, изувеченные большевистской пропагандой, решат, что мы вошли в блок с белогвардейцами, а наше движение чисто национальное…»
…Читая донесение, я вспомнил, как мама рассказывала о долгой беседе отца — после того, как он вернулся из тюрьмы, — с режиссером Романом Карменом. «С Власовым я встретился под Волховом, — рассказывал Кармен, — за несколько дней перед тем, как он попал в кольцо, и за месяц перед тем, как сдался. Мы провели всю ночь в его землянке накануне моего отъезда; знакомы были давно, с Китая еще. Он был у меня на свадьбе с Ниной тамадой и посаженым отцом, так что говорили на «ты»… Стол был скромный: вареная картошка, банка мясной тушенки и бутыль самогона… Как рефрен у меня до сих пор в ушах звучат его слова: «Ромка, все равно мы победим, что бы ни случилось! Как бы страшно ни складывалась обстановка, мы сломим фрицам шею, если только с нами будет товарищ Сталин… Если судьба и дарила России гениев, то в его лице мы имеем самого выдающегося…»
Когда люди говорят правду? Когда лгут? Что их подвигает на ложь? «…Передаю фрагменты программы пропагандистов РОА, утвержденной в генеральном штабе Кейтеля, после предварительной корректуры в СС… Смысл ее в том, чтобы разорвать СССР, посеяв национальную рознь. «Теоретический курс» состоит из двух разделов. Первый, основополагающий, посвящен истории НСДАП, Гитлеру, расовой проблеме и еврейскому вопросу. Затем следуют занятия по теме: «Россия и большевизм». Главная часть — ознакомление слушателей с историей русского народа и его четкой миссией в развитии востока Европы; роль и значение патриотов Союза русского народа, созданного в 1905 году доктором Дубровиным и депутатом Думы В. Пуришкевичем; доблестная борьба русского народа против «большевистского владычества» с 1917 года по наши дни. Потом слушатели осваивают такие темы, как: «Идеологический гнет в СССР», — чуждые нации идеи мировой революции и большевизма прививались всем, начиная со школы, поэтому необходимо разрушить стереотипы и вернуться к истории, написанной до 1917 года; «Борьба власти против населения» — непрекращающееся сопротивление русской нации большевизму. В этой героической борьбе участвуют все слои русского населения; «Внешняя политика СССР» — ее направленность к завоеванию мира большевиками; как результат — ненужная русскому народу кровопролитная война, развязанная англо-американскими империалистами за торжество мирового еврейства; «Еврейство в России» — тайный заговор евреев и масонов против русской нации, ритуальные убийства русских детей, совершенные евреями, большевики как орудие в руках масонов; необходимость «окончательного решения еврейского вопроса» в России наподобие германской программы, разработанной фюрером; «Англия — исторический враг России», — участие Англии в Крымской войне, в русско-турецких войнах, в войне 1905 года с Японией; Англия хочет ослабить русский и германский народы, чтобы поработить их, ее главное оружие — масоны, управляемые евреями; «Русский народ и германский народ» — общие черты нашего развития; древние связи между народами-богоносцами; «СССР и Германия» — резкая вражда большевиков к победоносной идеологии национал-социализма; разговоры Молотова о дружбе в 1939 году, а на деле — стремление захватить территории, пока Германия занята войной с мировым еврейством; коварное нападение большевиков на Германию 22 июня 1941 года». Далее идут тезисы к каждому пункту. Например: «Понятия нация, народ, отечество, семья враждебны большевизму, однако русская семья и русский народ не поддались сатанинской воле к разрушению». «Русская семья спасена от гибели благодаря здоровому инстинкту нации. Русская молодежь сохранила традиции своего народа… Те слои молодежи, которые заражены коммунизмом, должны очиститься от этого антинационального злоучения».
…Я вспомнил, как неделю назад Лиза принесла мне программу диспута, организуемого обществом «Старина», основные темы: «Почему утеряны наши традиции», «Влияние сионистско-масонских заговорщиков на отечественную культуру», «Зловещая роль Англии как матери мирового масонства».
Мама рассказывала, что в недобрых сороковых, когда началась вакханалия Лысенко против вейсманистов-морганистов, а потом стали искать «безродных космополитов» с нерусскими фамилиями и бороться против «мракобесия кибернетики», отец написал письмо Суслову: «Критика приобретает власовский привкус, очень знакомые формулировки». Через неделю его арестовали… Вакханалия кончилась после смерти выпускника духовной семинарии, в марте пятьдесят третьего, однако началась снова — исподволь — в конце шестидесятых… В восемьдесят пятом затаились… А сейчас? Кому на пользу?
Еще одно сообщение отца в Центр: «Привожу выдержки из сборника «Воин РОА», выпущенного ведомством Геббельса: «РОА — явление необычайное потому, что это армия русская, то есть национальная по форме и существу, точно так же, как и доблестная германская армия. Наша задача: воссоздание Российского национального государства. Принципы его строительства вытекают из традиций русского воинства, осиянного Георгием Победоносцем и овеянного многовековой славой нашей седой старины. Корни этих традиций уходят в историю. Армия генерала Власова есть единственная сила, которая может восстановить славное прошлое нашей нации»…
…Передают, что генерал Малышкин сказал группе офицеров штаба РОА, что Власов пытается противостоять нажиму немцев, осуществляемому через Штрик-Штрикфельда, который, например, постоянно подчеркивает, что «задача освобождения Украины от большевиков будет отдана Повстанческой Армии батьки Мельника», и вообще «Украина никогда не будет частью России, но лишь германской территорией». То же самое относится к Закавказским освободительным соединениям — регионы Азербайджана, Грузии и Армении станут немецким протекторатом, наравне с Туркестаном. «Ничего, главное победить большевиков, заключить почетный мир с немцами, — заметил генерал Малышкин, — а по прошествии времени наша доблестная РОА вновь вернет России ее исконные земли… Главное — стать на ноги, там видно будет… Розенберг хочет видеть Россию зауральской провинцией, без ресурсов туземных окраин, лишенной выхода к Черному морю, но ведь такое невозможно, только мы знаем, как держать в руках инородцев…» Видимо, осведомители СД сообщили об этой «программе» гестапо, поэтому теперь в новых пропагандистских публикациях максимум внимания уделяется вопросам «нравственности» и «духовности», чтобы отвести мысли членов РОА от технического прогресса, индустриализации и строительства, ибо именно это определяет реальную степень рациональной независимости государства. Рассказывают, что эксперты Розенберга, Геббельса и Гиммлера провели совещание в генеральном штабе на Викторианштрассе, посвященное корректировке лекций и газетных публикаций для РОА в связи с созданием КОНРа — Комитета освобождения народов России. Полковник военной разведки ОКВ Мартин информировал собравшихся, что необходимо пересмотреть некоторые позиции НСДАП о «славянских недочеловеках». Более того, думая о перспективе, следует дозированно поддерживать «великорусский дух» среди пропагандистов РОА, широко информируя об этом сотрудников «украинского отдела», работающего с УПА, а также пропагандистов Туркестанского легиона (мусульмане) и Закавказских объединений. Это, по мнению полковника Мартина, не может не вызвать встречного националистического движения среди окраинных народов. Вот, например, выдержки из «памятки» РОА: «Новые направления мировой мысли выдвинули задачу возрождения нравственных идеалов. Разочаровавшись в спасительности многочисленных рецептов социальных прожектеров, передовые люди поняли, что обновление общественной жизни должно начинаться с совершенствования духовности… Человек, семья, нация — таковы ступени нашего естественного объединения… Никакой прогресс техники и материального производства не может обеспечить людям счастья… Покорение воздуха привело к массовой гибели женщин и детей… Успехи химии дамокловым мечом газовой войны висят над современным человечеством… (Передают, что этот абзац вписал лично Штрик-Штрикфельд, заметив полковнику генштаба Мартину: «Люди Власова эмоциональны, их надо всячески направлять в русло дискуссий по общим проблемам, отводить от реальных дел и планов».) «Духовный упадок приводит к измельчанию культуры… Массовые выпуски современной культуры означают падение наших духовных ценностей… Будем мы и дальше катиться по наклонной плоскости духовного регресса? Или повернем человечество к вершинам Духа? Особой остроты этот вопрос достигает в нашей нации. Основной поиск нашей души — поиски справедливости и правды. Наша философия чужда прагматизму и суете технического прогресса, мы прилежны этической философии. Этика изучает не столько существующее, сколько то, что должно быть, не мир реальный, но мир идеальный… В этом наша особость… В 1641 году в Париже была издана книга «Жизнь высшего общества», в которой сообщалось, что, мол, «появился надоедливый обычай мыть руки и лицо. Есть даже чудаки, которые иногда моют ноги»… Между тем у нас уже в старину создалась традиция содержать свое тело в чистоте…»
…А как же Радищев, подумал я. Неужели он клеветал на мой народ, описывая страшные условия, в которых жили крепостные? А Салтыков, Успенский, Лесков? Горький? Помяловский?
…В одном из последних донесений отец писал: «Гиммлер наконец принял Власова… Беседа проходила с глазу на глаз в течение двух часов… Власов окончательно утвержден председателем Комитета освобождения народов России… Сделано это не без активного, хотя и незримого нажима генерального штаба, особенно генералов Гелена и Хойзингера, которые считают, что сейчас необходимо печатать как можно больше фотографий Власова вместе с Гиммлером, Риббентропом и Кейтелем на страницах итальянских, норвежских и датских газет, чтобы создать для западных союзников иллюзию единства «свободных» русских с национал-социализмом… Несмотря на то, что антисемитская пропаганда Геббельса в последнее время приобрела совершенно болезненные формы, особенно после того, как Красная Армия вышла к границам рейха, Власов теперь не очень часто повторяет лозунг о необходимости «тотального решения еврейского вопроса», порою даже опускает слово «тотальное». То же и по отношению к нашим политработникам: «Мы намерены судить далеко не всех комиссаров, но только злостных приверженцев еврейско-масонского большевизма…» По поводу «большевистско-жидо-масонского заговора» особенно надрывается поручик Бласенков Виталий Викентьевич. Он перешел на сторону немцев в сорок третьем, как только попал на фронт, до этого служил в Ташкенте, родился в Мытищах, там и кончил школу. В пропагандистскую роту РОА поступил после того, как предал старшего политрука Извекова, казненного гестапо, — был руководителем большевистских пропагандистов в концлагере. Говорят, что он был учеником бывшего батальонного комиссара Зыкова, главного идеолога Власова, утверждавшего, что в Москве он служил в «Известиях» до того, как был расстрелян его зять, народный комиссар просвещения Бубнов. Однако после того, как Зыков был казнен СД, поскольку его заподозрили в полукровстве, Бласенков первым начал выступать против этого «жида», требуя проверки всего состава пропагандистов РОА на предмет обрезания, а также промера циркулями черепов и ушей, что, по мнению Розенберга, позволяет распознать степень скрытого еврейства… Однако профессора РОА — Аскольдов из Ленинграда, Львов, ведущий курс истории, Андреев, читающий основы теологии, а также Осипов, преподающий курс критики основ марксизма-ленинизма, — называют такого рода приборы смехотворными: «Речь должна идти о генеральной деевреизации мира». Профессор Андреев, кстати, считает основной заслугой власовского движения то, что на захваченных большевиками у немцев русских территориях евреи не возвращаются на секретарские должности в райкомы: «Почему бы нам вообще не побрататься на этой основе с наступающей Красной Армией?» На что Бласенков ответил: «Она вас пулеметами побратает, не выдавайте желаемое за действительное…»
Любопытно, что поручик Бласенков в последнее время обрушивается не только на большевиков, но и на немцев: «Они готовы сдаться американцам, нас бросят на произвол судьбы, спасение в наших руках!». Он словно бы провоцирует гестапо. Кстати, не он один сейчас норовит попасть в концлагерь, чтобы выйти оттуда страдальцем, — алиби на будущее.
(Я долго разбирал несколько слов, написанных карандашом напротив абзацев, посвященных Бласенкову. Точно определил подпись: «В. А.». Потом разобрал и другие слова — все сомкнулось. Отец не мог понять, кто писал на него доносы, я — понял… Спустя тридцать лет после его смерти.)
«Штрик-Штрикфельд намекнул Власову, — продолжал отец, — что после его «Пражского обращения» о необходимости борьбы русского народа против большевизма целесообразнее всего уйти в отставку. Возможно, это будет грозить вам концлагерем, но ведь западные политики уже изучают вашу антибольшевистскую, глубоко национальную программу… Кто знает, что может произойти в ближайшем будущем, когда фюрер уступит власть реальной силе?»
…Я долго держал ладони на этих листочках бумаги, как бы ощущая руки отца. Потом аккуратно завязал папку с грифом «хранить вечно», сдал ее архивариусу с тросточкой и отправился в читальный зал архива Октябрьской революции. Здесь я заказал материалы по делу «Союза русского народа» доктора Дубровина и речи депутатов Государственной думы… Работал я с ними допоздна.
Вернувшись в редакцию, я достал из стола афишку, приглашавшую желающих посетить диспут «Старины» по проблемам сегодняшнего дня. Ведущим был указан доцент Тихомиров…
XIX Я, Валерий Васильевич Штык
Этот Варравин не понравился мне с первого взгляда. Я сам закомплексованный и поэтому терпеть не могу себе подобных. Хоть он и говорит объемно, хорошим языком, по-русски, без опостылевшего жаргона и не подгоняет с ответом, но вопросы его излишне жестки, меня от такого прагматизма коробит, да и слишком резко он формулирует предмет своего интереса, ставя себя в какое-то начальственное положение, будто я к нему нанимаюсь на работу. Не понравилось мне и то, как Варравин спросил:
— Отчего же до сих пор, несмотря на гласность, ваши работы об инопланетянах не выставляют в серьезных залах?
В этом его вопросе была и снисходительность, и жесткость, и затаенное желание с первой же минуты верховодить в беседе. Ну, я и ответил:
— А вам, собственно, какое дело до моего творчества? Я вас не приглашал, пришли без предварительной договоренности, а если вы действительно репортер, то вам должно быть известно, что художники у нас пока что своих выставочных залов не имеют, только организации. Вот вы к ним с этим вопросом и обращайтесь.
— Обращался, — ответил Варравин и достал пачку «Явы».
— Нет уж, пожалуйста, табак спрячьте, я не курю и другим не позволяю, это — грех.
Варравин кивнул:
— Один из грехов.
Сигарету он сунул в рот, но, понятно, закурить не посмел.
— Что у вас еще? — спросил я. — Я занят, ваш визит неожиданный, а у меня время расписано по минутам.
— Я буду краток, — пообещал он. — Как вы считаете, сажать человека в тюрьму — греховно? Более греховно, чем сигарета? Или — так, суета, от тюрьмы да от сумы не уйдешь…
— В связи с чем вы спросили об этом? — я теперь испытывал к нему уже нескрываемую неприязнь.
— Вы в Загряжск летали?
— Ездил. А в чем дело?
— Вы там встречались с директором строительного треста Горенковым?
— Не помню я, с кем встречался. Я туда не встречаться приехал, а посмотреть объем работы и утвердить эскиз.
— Утвердили?
— Нет.
— Почему?
Мне сделалось стыдно за то, что я покорно, по-бычьи, отвечал на вопросы этого человека. Я ощутил себя так, словно лишился чувства перспективы, а такое было присуще только античным живописцам, они не хотели никому диктовать свое видение, только современные пейзажи с их глубиною навязывают зрителю единый порядок. Не хочу никому ничего навязывать, но не желаю, чтобы и мне навязывали чужую волю, хватит.
— А вообще-то по какому праву вы меня допрашиваете? — поинтересовался я, внимательно разглядывая посетителя.
Он ответил мне тем же, но изучать меня начал не с лица, а с формы ушей, а у меня плохие уши, прижатые и маленькие, Люда говорила, что такие уши не могут быть у талантливого человека, уши — суть человека, мини-человек, изначалие… Я поднялся.
— Извините, но время у меня кончилось. До свиданья.
Варравин не двинулся, сосредоточившись на моем левом ухе. Какая-то гоголевская ситуация, смех и ярость.
— До свиданья, — повторил я. — Полагаю, вы достаточно воспитаны, чтобы понять меня.
— Сядьте, — насупился Варравин. — Вы, видимо, очень добрый человек и не очень-то понимаете тот мир, в котором живете. Я поясню ситуацию, вы не станете меня прогонять… В Загряжске арестован и осужден директор треста Горенков, — кстати, очень на вас похож, такой же незащищенный… Трагично: незащищенный руководитель, правда?
Я не хотел продолжать разговор, но что-то подтолкнуло меня возразить ему:
— Вы не понимаете смысла трагедии. Мы наивно считаем ее сгустком действий, хотя античные авторы видели в ней пассивное начало, любая активность противоречила самому смыслу трагедии, я уже не говорю о форме… Ритуальный плач на похоронах…
— Такую трактовку можно оспаривать… Каждый период истории имеет свою трагедию. Зачем загонять себя в рамки? Но я о другом: ваш соавтор, вернее тот, кто должен был стать соавтором, сообщил в партконтроль, что Горенков запросил с него десять тысяч за подписание с вашей бригадой договора на роспись домов…
— Это кто ж?
— Кризин. Он же с вами работал?
— Если Кризин написал такое, вы к нему и обращайтесь. У меня взяток никто не просил, — ответил я и вдруг съежился, в который уж раз вспомнив, как Виктор Никитич оформил нотариально соглашение, по которому я уполномочивал его вести от моего имени все финансовые переговоры, хотя загодя знал — от него же, что буду получать лишь часть положенной мне по договору суммы: чем не взятка?
— Вы что-то хотели добавить? — спросил Варравин, медленно поднимаясь. — Или мне показалось? Между прочим, к Кризину я ездил. Он отказался со мной говорить — старческое недомогание, сердечные колики и все такое прочее… Он инвалид?
— А какое это имеет значение?
— Большое. Он не поехал на суд в Загряжск — именно по состоянию здоровья. Но подтвердил здесь под присягой, что Горенков — грязный вымогатель… И хотя следователь этот эпизод отчего-то в суд не передал, невиновного человека упекли на двенадцать лет строгого режима… Хотите, я расскажу вам, что он делал в своем тресте? Вы ведь пишете инопришельцев оттого, что в землянах изверились? Разве не это подвело вас к той теме, которую вы смогли разрабатывать только после того, как стали расписывать новые комплексы — особенно в Сибири? Раньше-то у вас, говорят, даже не было на что купить краски и кисти…
Меня снова взорвало:
— Вы что, досье какое собираете?! Может, вы не из газеты вовсе?!
— Вы говорите не то, что думаете, Валерий Васильевич. Стыдно… Вы ведь от бога художник, в вас талант… Ну отчего мы все падки на такие слова?! Зачем верим им?! Любое слово — ложь, его надо пропускать сквозь, оставляя в себе только то, что может помочь живописи!
— Расскажите о том человеке, которого арестовали, — сказал я, не очень-то и желая этого.
И он начал рассказывать, перекатывая обсосанную сигарету из одного угла рта в другой…
Странно, когда он заметил, что этот директор премировал лучших рабочих и инженеров садовыми домиками, сэкономив деньги на договоре со мною, я подумал, что, имей я право сам заключить договор, я б больше десяти тысяч с него не взял, работа того не стоит, не я ж пишу, наемники. Но одновременно с этой мыслью возникла — вне моего сознания и воли — другая: «А вообще-то какое он имел право дарить дома?» Поскольку этот вопрос родился помимо меня, темно и недобро, я, продолжая слушать Варравина, начал обдумывать возможные варианты ответов самому же себе и вдруг ужаснулся: откуда во мне этот рабский ужас? Отчего мы лишаем человека права на то, чтобы сделать добро другим?! Почему я сразу решил, что такое невозможно? Более того — наказуемо?! Откуда это сладостное тяготение к запрету?! А оттуда, что воспитывался я не в воздухе, а на земле и видел все не сверху, как сейчас, а снизу! А память-то у людей воспреемственная! Разве я забуду, как наш бригадир, тетя Зина, ничего не могла сделать без команды председателя Громова?! А тот был тоже повязан: безоглядно выполнял все указания, что ему отзванивали из райцентра, — сколько чего посеять, в какие сроки и каким количеством техники. Ослушаешься хоть в малости — сразу комиссия, партбилет на стол, иди в поле! А как же в былые времена мужики — без всяких указаний — хлеб родили?! Впрочем, график Федотов говорил, что и раньше указания были, только не из района, а от помещика или его управителя. Вот и отбили охоту думать! Делай что велят, и вся недолга. Лишь при Столыпине позволили выходить из общины, чтоб быть самому себе хозяином, да при Ленине, когда ввели нэп… Сразу вырос справный мужик, трудяга, землю чтит, сам себе голова, в доме достаток и надежда, и оттого — достоинство, как с такими управиться дураку-бюрократу? Пошлют его, чиновника, на хутор бабочек ловить, и весь разговор. Потому и называли умных и работящих кулаками, потому и сослали в Сибирь, а остальных впрягли в привычную общину: что сверху предписано, то и выполнять, не умничая. Все верно, но отчего во мне до сих пор живет темная страсть не позволить? Почему я, именно я, Валерий Штык, а не какой там бюрократ, сразу же подумал об этом директоре: «Нельзя, нарушение»? Горазды мы все валить на власть да на Запад, а сами-то, сами? А в том, наверное, все дело, подумалось с отчетливой, надмирной ясностью, что я, Валерий Штык, сам по себе — никто, червь навозный! Вот если меня Союз поддержит, да Худфонд утвердит, да комиссия пропустит, тогда я, собрамши двадцать бумажек, чего-то, глядишь, и смогу, да и то со скрипом. В любой миг каждый бюрократ может отослать за новой бумажкой, чтоб было по форме удостоверено: блондин, а никак не брюнет. Неважно, что и так видно, а может, ты крашеный! А издай держава закон, что личность есть основа любого коллектива, что личность правомочна на поступки, — как бы вмиг все изменилось! Ан — не вмиг, — возразил я себе. Только к рабству быстро привыкают, потому как в подоплеке его страх, а к свободе привыкнуть трудно, у ней врагов предостаточно, все те, кто бумажки переписывает, — главный ей враг, ибо понимает: лишись он права свою закорючку поставить — и конец ему, пшик, ноль без палочки! А сколько миллионов таких в державе?! У нас ведь только при Петре коллегии были, а так — или приказные дьяки, или думные, только никогда не было деловых. Завсегда верховная власть определяла не одну лишь главную идею, но и мелочи — что можно людишкам делать, а что заказано.
Когда Варравин стал рассказывать, как этот самый Горенков объявлял конкурс между строительными управлениями — кто хочет взять подряд, кто обещает скорей управиться с делом, больше сэкономить — не только для казны, но и для своих же работяг, — я снова подумал, что такое невозможно. Кто позволит? Идет против всего, к чему привыкли! Так только на Западе можно: объявляет муниципалитет конкурс на такую-то сумму, чтоб сделать, скажем, аэродром в такой-то срок и при отменном качестве, — вот фирмы и бьются, и никто их не планирует, у самих голова на плечах! И никто не отдает приказов: «Столько-то людей будут строить здание, а столько техники отправить на бетонное поле». И никто не спускает указаний, сколько цементу расходовать и какими гвоздями доски прибивать, — люди сами думают, на то они и личности… Если б я мог спокойно участвовать в таких конкурсах, как горенковские, я б, глядишь, на землю вернулся! Меня в небо-то потянуло, когда на нашей планете, на одной шестой ее части, настало такое безветрие, что тиной запахло, болотом… Вот мне и захотелось увидеть ветер в горах, и чтоб был он напоен запахами свежего сена… По-прежнему не предлагая Варравину присесть, я спросил:
— Этот директор без разрешения такие дерзкие новшества стал вводить? Или имел санкцию на дерзость?
— А — потребна?
— Только на спокойствие и привычность санкций не требуется… Живи, как жил, пропади все пропадом, мы ж расписаны, по ящичкам рассованы — чтоб для учета было удобней! Да за одно то, что этот ваш Горенков…
— Наш Горенков, — тихо, но достаточно резко перебил меня Варравин. — Не мой, а наш. Если б победила его линия, вам бы жилось лучше… Мне… Всем нам.
— Повторяю, — раздражаясь еще больше, повторил я, — за одно то, что он подписал договор с молодыми художниками, сам с ними рядился, сам утверждал эскизы…
— Неправда. Сам он ничего не утверждал. Он с эскизами этих молодых художников вышел на общее собрание строителей, потом устроил выставку для общественности района и только после этого утвердил…
Я посмотрел на него с сожалением:
— А художественный совет где? Закупочная комиссия? Это только Суриков и Врубель без художественных советов жили, да и то потому, что филантропы существовали! А у нас филантропом может стать только начальник овощной базы… Но за эту филантропию ему еще пять лет добавят к приговору… Я никак в толк не возьму: зачем телевидение показывает то усадьбу Некрасова, то Ясную Поляну, то пушкинский домик? Это ж разлагающе действует на наших деятелей искусств! Нам ведь можно иметь только одиннадцать метров жилплощади на рыло, да двадцать как члену творческого союза, — ни метром больше, хоть тресни! Большое искусство в тесноте не создается! Только отрыжка и ужас! Вон, Кафку почитайте! Для животворного искусства потребен простор и право на уединенность.
— Согласен, — ответил Варравин. — Правильно говорите, ценим массу, а не единицу, — оттого все беды…
Гипнотизер, что ль? Повторил мои мысли, я ж об этом только что думал. Или, может, сам с собою вслух начал говорить?
— Собственно, я кончил излагать историю нашего Горенкова, — заключил между тем Варравин. — История государства есть суммарность человеческих биографий, дневников, уголовных дел, исповедей, Валерий Васильевич… Никто не вправе рассуждать об истории своей страны, мира, пуще того, иных цивилизаций, если человек не пережил в себе самом его собственное время и собственную в нем роль. Если этого не случилось — художник уподобится паучку, скользящему по болотной воде…
— Это вы про меня? — неприязнь к этому человеку сменилась интересом: хорошо посаженная голова, хотя очень короткая шея, наверняка кто-то из предков был мясником; смотрит без зла, с суровым доброжелательством, слушая — слушает, а не думает свое, такие глаза интересно писать, хотя и не иконные они, а маленькие. Тем не менее есть что рассмотреть, добрые глаза, честно говоря. Окружить бы их на холсте пишущими машинками, такой холод, такая безнадега, забавный контрапункт — тепло супротив холода.
Варравин на мой вопрос ответил не сразу, снова прилип к моим ушам, нельзя так разглядывать натуру, я ж его не обижал своей пристальностью, вскользь изучал, а он лупится, зря эдак-то.
— Да. Про вас. Я к вам пришел после того, как навел справки о вашем творчестве, отчего ушли в затворничество, что подтолкнуло к отказу от прежней манеры живописи… Иначе б я не решился на беседу, потому что формально вы относитесь к числу врагов Горенкова, то есть наших врагов…
А чего ж тогда не спрашиваешь про Русанова, подумал я. Если так глубоко копаешь, то наверняка должен знать. Кризина мне Виктор Никитич подставил, чтоб не пугать фининспекторов заработками… Если коллектив много берет — куда еще ни шло, а когда один человек — нет, такого наша душа пережить не может, первобытные коммунисты, чтоб всеобщее равенство и никто, кроме вождя, не высовывался, вмиг голову снесем…
Я не стал торопить его с вопросом о Русанове, хочет — пусть сам спрашивает, а я помаракую, что ответить.
— Вы ничего не хотите мне сказать? — спросил Варравин, засовывая блокнот в карман. — Точнее: вы намерены войти в борьбу с греховным?
— Телефон оставьте…
— А вы Русанова спросите, — ответил Варравин. — Я думаю, он знает все мои координаты…
«Наблюдатели», которых тренировал культурист Антипов, сообщили мастеру, что «репортер» пробыл у «маляра» сорок минут. После ухода гостя «маляр» отправился к соседу, станковисту Вениамину Раздольскому. Тренер Антипов, массировавший Тихомирова три раза в неделю, сообщил об этом благодетелю (вытащил его из грязного дела с малолетками именно он, Тихомиров). Тот прервал массаж, потому что Раздольский был из стана врагов.
…Тихомиров не знал и не мог знать, что Штык просил у Раздольского подсолнечное масло, свое кончилось, а очень захотелось жареной картошечки, — разволновался во время беседы, задело, а нет лучшего закусона к стакашке, чем жареная картошка. …Через полчаса Тихомиров зашел к Русанову:
— А дело-то пахнет керосином, Витя.
Трое неизвестных напали на Штыка в подъезде; били его по голове, зверски. Оглушив, сняли часы, вывернули карманы, взяли ключи от мастерской, похитили там эскизы, сделанные для Загряжска, фотографии, переписку с Русановым, а также все деловые бумаги, отперли гараж, выгнали «москвичек» и были таковы!
…По странной, но счастливой случайности хирургом в клинике, куда привезли обескровленного Штыка, был Роман Шейбеко, посещал вернисажи, живопись художника ценил: он-то и должен был сделать все, чтобы спасти ему жизнь, — о большем не мечтал, слишком изуродован череп, били изуверы, знавшие толк в анатомии…
XX Я, Арсений Кириллович Чурин
Да, то, что должно было случиться, не могло не случиться. То, чем брюхатела Россия многие уже годы, свершилось.
Лет еще десять назад и я мечтал о перестройке, ах как мечтал о том, что сейчас происходит, как бешено ярился тупости бюрократии, легионам контролеров, тьме запретов — бессмысленных, традиционно бессмысленных, а потому столь страшных, разрушающих экономику на корню…
Помню, как я был потрясен «Сказаниями иностранцев о России». Делал эту книгу не кто-нибудь, а самый что ни на есть русский патриот, высочайшего уровня интеллектуал, знал иностранные языки, много жил в Европе, а потому считал, что правда, пусть самая горькая, может помочь родине куда больше, чем умильные слезы по поводу дремучей старины, когда все было тихо, и спокойно, и прекрасно… Да никогда у нас не было тихо и спокойно!
Помню, как доктор истории, покойный Пересыпкин, выступая перед активом, произнес фразу, заставившую меня съежиться: «Все мы по праву восторгаемся подвигом русских людей, пришедших на Куликово поле, но отчего не хотим озадачить себя вопросом: как случилось, что малочисленная Орда смогла одолеть Московию? Только потому, что нас разъедали амбициозные междоусобицы. Это — корень трагедии, и мы обязаны говорить об этом честно, хоть русскому сердцу и больно слышать такое, — значительно легче и успокоительнее свалить вину на кого-то другого, пусть все кругом виноваты, только мы правы… А ведь междоусобицы на Руси есть прямое следствие византийского влияния, вот бы о чем нам подумать. Мы восприняли религию той империи, которая стояла на грани крушения, не в силах предложить новые идеи конгломерату наций и религий, определявших суть и смысл Константинополя…»
Я потом проанализировал ситуацию в нашей области — я тогда был начальником строительного главка — и вдруг с явственным холодным ужасом увидел, что наши коалиции, группы, фракции — даже в районе, не говоря уж о городе, — разъедают, как ржа, общественное здоровье народа. Вспомнил «искровца» Курочкина, того самого, из прутковской команды: «Ах, какая благодать кости ближнего глодать!» Ну, не прозрение ли?!
Потом, уже перебравшись в Москву, я увидел у приятеля книгу «Поэты «Искры» и сразу бросился на Курочкина. И снова сжался, прочитав у него — одного из идейных авторов первой «перестройки», которая вот-вот, казалось, начнется в России после отмены рабства, — стихи: «Повсюду торжествует гласность, вступила мысль в свои права, и нам от ближнего опасность не угрожает за слова. Мрак с тишиной нам ненавистен, свободы требует наш дух, и смело ряд великих истин я первым возвещаю вслух! Порядки старые не новы, и не младенцы старики, больные люди не здоровы и очень глупы дураки. Мы смертны все без исключенья, нет в мире действий без причин, не нужно мертвому леченья, одиножды один — один. Для варки щей нужна капуста, статьи потребны для газет, тот кошелек, в котором пусто, в том ни копейки денег нет. День с ночью составляют сутки, рубль состоит из двух полтин, желают пищи все желудки, одиножды один — один… Эпоха гласности настала, везде прогресс, но между тем блажен, кто рассуждает мало и кто не думает совсем…» А потом мне открылся Дмитрий Минаев, выпускник Дворянского полка: «Великий Петр уже давно в Европу прорубил окно, чтоб Русь вперед стремилась ходко, но затрудненье есть одно — в окне железная решетка…» И еще одно меня захолодило, его же, о «Последних славянофилах»: «…пронесся клик: «О смелый вождь, пробей к народности ты тропу, лишь прикажи: каменьев дождь задавит дряхлую Европу! Иди, оставь свой дом и одр, кричат славянские витии, и все, что внес в Россию Петр, гони обратно из России! Верь прозорливости друзей: назад, назад идти нам надо! Для этих западных идей безумны милость и пощада».
Я, помню, даже оглянулся тогда, — так стало страшно! И ведь было отчего: спустя сто двадцать лет та же самая групповщина, интеллигенты разделены на тех, у кого «аэробика» вызывает истерические судороги («от нее все беды России, и Продовольственная программа не решена»), и на тех, кто понимает, что врожденный консерватизм — в конце двадцатого века — грозит державе не понарошку, а трагически. Ведь люди разбиты надвое: одни видят в Петре гения, другие — антихриста, пустившего в империю западных ворогов, всяких там Растрелли да Лефортов… А про то, что Ломоносов вышел из Петровых ладоней, помнить не хотят, а он ведь не в Туле учился, а в Саксонии…
Наверное, тогда именно я и решил: выхода нет. Если сто двадцать лет назад не смогли удержать страну на пути реформы, после того, как отменили рабство, урезонили цензуру, объявили право на слово, то почему сейчас успеем? Блюстители «святой старины», которых вполне устраивал застой, ныне развернули свои когорты против всего нового. Крепкие люди, хоть и грамотой не блещут, зато объединены общей программой отрицания, отнюдь не утверждением нового…
…Видимо, к тому трагическому, что случилось со мною, я был достаточно подготовлен всем своим опытом. Я не знал, что такое мздоимство, — в том смысле, как об этом говорится сейчас. Я раньше никогда не брал деньгами, хотя мог бы получать сотни тысяч — только б согласился. До тех пор, пока фонды распределяются сверху, пока кадровые назначения утверждаются узким кругом, пока выдвижение на ключевой пост своего человека представляется в общем-то нормальным явлением, — «подарок», «благодарность», «особое внимание» не могут просто так исчезнуть. До тех пор, пока работа человека оценивается не рынком, но бумажными показателями, взятку истребить не удастся.
Раньше я мог ненароком заметить в застолье, что не в силах купить жене дубленку, — «позор легкой промышленности, а еще гордимся тем, что были прародителями романовских тулупов». Можно было не сомневаться: через день-два Леле привезут шубку. Похвалишь на зональной выставке какой сервиз, постоишь возле него, не скрывая изумления, — после окончания работы выставки непременно доставят домой, скажут, мол, чашка какая разбилась, поэтому пустили в продажу как некондиционный товар, стоит семнадцать рублей сорок копеек, а ему цена триста с гаком. А перебравшись в Москву — это совпало с новыми веяниями, которые принес с собою Андропов, — понял, что положение круто изменилось…
Вот тогда я и принял Виктора Никитича Русанова, тогда и положил в карман конверт с пятью тысячами — всего за шесть букв, за подпись «А. Чурин», утвердившую договор с бригадой художников-оформителей жилого квартала, положенный на мой стол Кузинцовым. Впрочем, помощник довольно изящно закамуфлировал все это необходимостью поддержки патриотически мыслящих реалистов, хотя мне было ясно, что речь идет о шкурных интересах: поддержка доверчивых живописцев, людей не от мира сего, гарантировала сладкую жизнь пустомелям, стенавшим о страданиях отчизны от чуждых традициям сил. Человек ищет камуфляж, пытаясь оправдаться перед самим собою, — внутри себя каждый норовит остаться честным…
Поняв, что Русанов постепенно начал обрушиваться в падучую — порою национальный пунктик лишал его здравомыслия, — я и заметил Кузинцову, что надо поискать новых художников, особенно чем-то обиженных. Тогда они и предложили Штыка. Я посмотрел репродукции его работ; талантлив; одобрил. Тем не менее Русанов попросил и этого живописца писать лубочные штампы. Я снова вспомнил поэтов «Искры» — нет надежды на дремучих. Тот, кто уповает на возврат к прошлому, как на панацею от бед настоящего, — обречен.
А после того как забрали Юру Чурбанова, я понял — надо уходить, спасения нет. Леля уже много лет пила втемную, это не моя вина, а беда, я любил ее, люблю и сейчас, но женский алкоголизм неизлечим, я консультировался с Кубиковым, прекрасный врач и настоящий друг, сказал, что дело безнадежно. Дочь вышла замуж за геолога, уехала с ним в Сибирь — наперекор моей воле. Матери пишет, что счастлива, родила двух девочек, в Москву возвращаться не намерена. С каждым месяцем, не то что годом, я ощущал приближение старости, хотя мой отец называл пятидесятилетних — мальчишками: «Пора мужского расцвета, только сейчас и жить».
Когда я работал в провинции и обком стали бомбардировать жалобами из тюрем, я — по поручению бюро — отправился в городской острог и ужаснулся тому, что увидел: вонь, темнота, средневековье… Однако подполковник, водивший меня по казематам, построенным в конце прошлого века, убежденно говорил, что иначе невозможно. «Я тут посмотрел кино про американскую тюрьму, с телевизором и телефоном… Нельзя такие фильмы у нас показывать, разлагает людей. Тюрьма — инструмент страха, неотвратимость кары, только этим можно удержать от рецидива… Ужас воспоминаний о том, что несет с собою наказание, — лучшая гарантия от преступленья».
…В последние недели мне то и дело вспоминались эти темные коридоры с непередаваемым, тошнотворным запахом карболки. Я отдавал себе отчет в том, что так или иначе конец наступит, а этот конец означает камеру, где сидят обросшие люди с ужасными лицами — пустоглазые, агрессивные, грубые… Я не знал, сколько у меня рассовано денег по тайникам на даче, во всяком случае, там были сотни тысяч, а кому они будут нужны, когда все кончится?
…С ювелиром Завэром меня познакомил Кузинцов. Произошло это случайно — старик консультировал строителей, разрабатывавших проект новой афинажной фабрики. Он мне и уступил бриллиант старинной работы о четырех каратах за семьдесят косых, показав швейцарский прейскурант: подобный камень, но худшей огранки за бугром стоит пятьдесят две тысячи франков.
Загряжский проект, поломанный Горенковым, должен был дать мне еще пятнадцать тысяч. Пять таких камушков обеспечат там безбедное существование. Конечно, уходить как изменник я не мог, это ударит по Леле, она того не заслужила. Вот и выносил в бессонной ночной тиши свой план: командировка за границу, прибытие, интервью, деловые переговоры, просьба о паре часов отдыха на море. Оставил на песке одежду с паспортом — и был таков. Я как-то попал на пляж в Италии. Приехали вечером, после окончания трудных переговоров: по городу, даже по центру, все ходят в купальных костюмах, никто за это в отделение милиции не волочет, живут люди сами по себе, не приближаясь друг к другу, отдельность. Магазинчики, в которых продают рубашки, костюмы, баретки всех размеров, расположены в тридцати метрах от берега. Вошел в трусах, а через двадцать минут сел в поезд одетым, — ищи ветра в поле…
Год назад, во время заключения контракта, я помог главе фирмы Артегасу. После этого он звал к себе, сулил показать страну так, как ее никто из иностранцев не видел. Адрес его вызубрил, телефон тоже, такому консультант необходим, а кто, как не я, смогу рассказать ему, как надо вести с нами дела?! Пусть дома поднимают кампанию: «Куда пропал заместитель министра Чурин?!» Пусть ищут. А я утонул, нет меня, прощайте…
Я понимал, как это ужасно: потерять родину на шестом десятке, но отдавал себе отчет и в том, что конец неумолимо надвигается, а смотреть на русское небо через намордники тюремных окошек ни у кого нет особого желания. Поэтому пора кончать. Время. Надо готовить себе командировку за рубеж, а это не просто…
…Павел Михайлович, наш куратор, слушал меня внимательно, кое-что записывал на маленьких листочках бумаги, тщательно их нумеруя. Особенно — я заметил — его интересовал вопрос о восстановлении Вологды, единственный памятник деревянного зодчества в Европе, который гибнет на глазах, а липучая бюрократия до сих пор не может обратиться к народу, пригласить так называемых шабашников, — за пару бы лет сделали город столицей мирового туризма.
— А при чем здесь Испания? — поинтересовался Павел Михайлович. — Я согласен, вопрос с Вологдой надо решать безотлагательно, но Испания при чем?
— В стране басков совершенно изумительные деревообрабатывающие заводы, ни одна щепка даром не пропадает… А вологодские власти стенают, что нет у них ни фондов, ни средств… Надо пригласить испанцев или итальянских специалистов по обработке леса, договориться о совместном предприятии и начать работу, ведь мы получили права, надо их реализовывать… Культура деревянного строительства — с нашими-то запасами леса — преступно забывается… кто не захочет иметь вдоль линий железных дорог — особенно в Сибири и на Дальнем Востоке — деревянные кафе, бары — нет, нет, не пивные! — пусть молочные, пусть соками торгуют, только б было где уютно посидеть, поговорить с друзьями… А разве плохи деревянные клубы? Улицы уютных домов-срубов? Говорим о необходимости строительства малых городов, а все равно тянет в гигантоманию: дай цемент, шифер, кафель… А ну — нет их пока! Так что ж — сидеть и ждать у моря погоды? Самые фешенебельные дома в Скандинавии — деревянные… То же — в Западной Германии, Швейцарии… А мы все уповаем на спасительный кирпич, хотя выборочная порубка леса прямо-таки необходима для сохранения нашего зеленого богатства… Без подъема общей культуры не сдвинемся мы с мертвой точки… И без права руководителя на вариантность решений…
— Мы же дали такие права руководителям, спустили директивы!
— В том-то и беда, что снова спустили директивы, Павел Михайлович! Но ведь не спущенная директива, а право гарантирует не статистическое, а реальное движение… Я каждый день сотни бумаг отфутболиваю на согласование… А ведь пишут-то люди инициативы! А я согласовываю, согласовываю, увязываю, примеряюсь, страхуюсь…
— Так не надо попусту страховаться…
Павел Михайлович снял трубку «вертушки», соединился с Иваном Федоровичем: «Хотел бы посоветоваться по поводу возможности реализации положения о смешанных предприятиях в нашей отрасли… Да… Именно… А когда он вернется? Так, может быть, к Андрею Филатовичу? Думаете, неудобно? Хм… Ладно, я доложу наши соображения…»
О чем я колгочусь, подумалось мне тогда. Я говорю с таким же живым трупом, как и я сам. Он тоже ходит под инструкциями и директивами, тоже ждет указаний сверху… Бедные мы, бедные! Но ведь каков парадокс: я, думающий ныне о себе, строящий свою личную комбинацию, забываю обо всем, когда речь заходит об общем деле! В чем моя вина?! В том, что я рвался в бой, а меня не пускали?! Но разве это вина?! Я жертва! Обыкновенная жертва, как и тысячи руководителей моего кроя и силы! Жертва я, а не злодей! Нас всех давит потолок, всех — от каменщика до министра! Мы до сих пор сторонимся открыто говорить о заработке, все шепчемся, что, мол, овес дорожает, на одну зарплату не проживешь… Откуда у нас это жуткое желание ограничить заработок окружающих?! Экономия? Да какая же это, к черту, экономия? Ведь на этой гнетущей уравниловке теряется энтузиазм и вера в возможность перемен! Математика проста, как мычание: рабочий на конвейере не довернет гайку, сущая, казалось, ерунда, а это ведь рекламация, гигантские убытки! А плати ему процент от выручки, знай он, что нет потолка, — он бы гайку эту обсасывал, на зуб пробовал! Да о чем я, черт меня подери! Мне надо выбить себе командировку, надо подвести Павла Михайловича к тому, чтобы он позвонил министру, а тот должен назвать мою фамилию, и он ее назовет, — никто, кроме меня, не имеет таких связей с фирмами по обработке дерева, никто!
…Я никогда не чувствовал себя так ужасно, как в октябре, в тот день, когда посадили Горенкова. Честно говоря, посадили-то меня самого, мою идею упрятали за решетку! Но кто толкнул его под руку отказать бригаде Русанова?! Кто?! А никто, ответил я самому себе. Время толкнуло. Но, по счастью, время новое, а законы старые, можно попридержать тех, кто рвется вперед: «Иди, как мы все, по камням и не выдрючивайся»…
…Я знал условия игры: если хочешь поехать в командировку за рубеж — готовь осаду начальства выгодной темой переговоров, а сам стой в стороне, всячески выказывая при этом свою незаинтересованность в вояже. Очень важно быть выверенным и точным в реакции на предложение: «Остались хвосты по сдаче в эксплуатацию жилых комплексов в Тюмени, нет времени, пусть поедет кто другой из замов…» Хотя стоит только помянуть Тюмень, как со мной сразу же согласятся, боевой регион, нет, Тюмень упоминать нельзя. Мы все плачем по Нечерноземью, но скажи, что отстает, к примеру, Пенза, — дело пройдет, а с Тюменью нельзя обращаться вольготно, действительно, пошлют другого. Каждое слово должно быть заранее взвешено, обсмотрено со всех сторон, каждый нюанс имеет решающее значение… Сначала наверх идет записка, в которой ставится вопрос и выказывается не только компетентность, но и смелость, столь угодная духу времени, с элементами жесточайшей, в чем-то сенсационной критики. Такую бумагу запомнят. Потом надо организовать унылый документ аппарата о том же самом, но с перечислением работ, которые невозможно выполнить по объективным причинам; а уж после этого выступление на общем собрании с разгромом унылой бумаги и повторение собственных предложений, — дело, считай, начнет крутиться. Конечно же, и тут без бумаг не сдвинешься, — сначала записка об оформлении, характеристики, объективки, ожидание решения, словом, все, как полагается (в двадцатых-то годах легко путешествовали: большевики в эмиграции настрадались, их на Запад не тянуло, да и потом тогда мог уехать каждый, кто хочет). Затем, конечно, начнутся беседы, составление плана, согласование оптимальных цен, анализ всех статей возможного предварительного соглашения — месяцы уйдут, бессонные месяцы, когда каждая ночь наступает как ужас… Никогда не забуду, как однажды в Мадриде испанский коллега извинился передо мной: «Дорогой дон Чурин, не сердитесь, я должен покинуть вас на сегодняшний вечер и завтрашнее утро, только что позвонили из Лондона, очень интересное предложение, я заказал билет на вечерний рейс, — иначе пропустим выгодную сделку…» Да пусть бы мне предложили в Лондоне бесплатный проект нового домостроительного комбината, — все равно раньше чем через месяц не выеду, если вообще почтут целесообразным отправить меня: «А отчего ему предложили? Нет ли там чего-нибудь такого-этакого?!» И отправят вместо меня дубину стоеросовую, а в любом деле важнее всего личный контакт, без него — конец, сколько времени потратится на притирку, даже в семье до конца дней отношения строятся, а уж в бизнесе — тем более…
…Я пал, потому что меня — после многих лет пребывания в креслах — обуял страх… Именно страх… Я мучительно, постоянно думал о том, что будет со мною, если я допущу какую-то оплошность, явственно представлял себе ужас снятия с работы, то роковое утро, когда за мной не придет машина и надо будет толкаться в метро, отправляясь на работу в какую-нибудь строительную контору, идти через чавкающую грязь, спотыкаться на плохо струганном полу барачного коридора, освещенного тусклой лампой, мерзнуть возле плитки, включенной тайком от пожарной инспекции, — тех не колышет, что холодно и сыро, есть инструкция, что не положено, — вот и не позволю… Решись я собрать бригаду шабашников — золотые мужики, трудяги, — жил бы в радость и зарабатывал от души, но ведь поздно, ставки сделаны. Страх въелся в меня постепенно, исподволь. Он входил вместе с привычкой к льготам: хороший санаторий, двусменная машина, лечебное питание, отменная поликлиника. Вообще-то льготы эти нормальны, потому что государство освобождает меня от суеты, разрешая всего себя отдавать работе. Не может руководитель стоять в очереди за мясом — он тогда не о деле будет думать, не об общем благе, а о том лишь, как бы управиться с бытом… Эх, мать ты моя родная, наладили б сервис, дали б людям возможность бесстрашно, по-честному калымить — не было бы этого разъедающего страха за будущее. Алогичные мы люди, честное слово! Кому охота перевыполнять план? В следующем году тебе этот перевыполненный, добытый кровью план сделают нормой… Никакого резона вкалывать, лучше придержать, работать вполсилы… Откуда на нас такая напасть? Зажать, не пустить, не разрешить заработать? Зависть присуща всем народам, но те считать умеют: «Я ему разрешу, но зато и получу с него от души». А — мы неподвижны: «Не дам», и вся недолга…
…Вскоре после нашей беседы Павел Михайлович сказал, что вопросы я поднял интересные, «будем решать, давайте конкретные предложения». Тогда-то я и понял: близится поездка, надо готовиться, тогда-то снова встретился с Завэром — тайком от Кузинцова — и попросил у него самый уникальный камень.
Старик отдал изумруд старинной работы, в бриллиантах. Я передал ему сто тысяч, большую часть того, что мне заработал Русанов. Хотя, нет, заработал я, лично я, он только принес, в моей власти наложить резолюции «да» или «нет», резолюция к законам здравого смысла приложима далеко не всегда, и до тех пор, пока я вправе черкать красным карандашом в верхнем левом углу служебных документов, в моих руках будущее. Но жизнь есть жизнь, она внесла свои коррективы. То, о чем я мечтал, — свершилось, но я — волею судеб — оказался среди врагов того, что могло бы дать мне вторую молодость. Ан — нет, не выйдет, ставки сделаны.
XXI Я, Роман Шейбеко
Начало операции было трудным. Штык желтел на глазах, уши сделались плоскими, длинными, словно бы он носил тяжелые серьги, хотя все то время, пока его раздевали, мыли и поднимали в операционную, они были маленькими, по-заячьи прижатыми к кровоточащему черепу.
Он начал желтеть, когда мой коллега, анестезиолог Вали-заде, сделал страшные глаза:
— Кислород кончился!
Я уже приступил к трепанации, Гринберг работал с рваными ранами на груди и брюшине. Если кислорода не дать через несколько минут, Штыка ждет неминуемая смерть.
Я понял, что просить операционную сестру Клавочку бесполезно, она ничего не сможет сделать. Такой случай у нас не первый уже: слесарь клиники получает сто десять, за такие деньги смешно требовать тщательности в работе, наверняка совместительствует, — наша «экономия» похожа на неразумную плюшкинскую скаредность. Глупо экономить на спичках, а у нас даже на нитках экономят, — больных порою нечем зашивать. Скажи кому, не поверят, но ведь правда!
Сорвав перчатки и маску, я бросился на пятый этаж — там стоял запасной баллон, — взбросил его на плечо и ввалился в лифт для больных. Дядя Федя, отставник, пришедший к нам, чтобы не помереть от непривычного сидения дома, подсобил, подключили кислород, и я, облившись йодом, вернулся к операционному столу, с ужасом ожидая худшего.
— Сердце работает, — сказал Вали-заде, — дыхание стало улучшаться.
…Если человек перестает удивляться — он кончен как личность.
Профессионализм, казалось бы, должен убивать это великое чувство — стимулятор творчества. Никогда не забуду, какое впечатление произвел на меня рассказ Твардовского о печниках, напечатанный в «Огоньке», — вот настоящая проза, гимн профессионалу, что не устает удивляться собственному труду, который холодную избу делает родимым домом…
…Врач ныне подобен священнику. Никому так не исповедуются, как нам: мы готовы отпустить больным все грехи, только б выздоровел… Сколько историй рассказывают они, всматриваясь в твои глаза, желая выведать приговор себе! Один пациент — когда я успокоил его ложью — вспомнил, как Александр Трифонович с детским недоумением прочитал Указ о награждении его орденом Трудового Красного Знамени в день шестидесятилетия, а сколько тогда геройских звезд раздавали литературным пигмеям, скольких голых королей представляли стране «тонкими психологами, стилистами и создателями нового жанра прозы и поэзии»?! Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Твардовский не потерял редкостного дара удивления, он горько переживал обиду, а ведь это стресс, который трудно перенести художнику, живущему правдой, а не спасительным компромиссом… Никогда не забуду седого поэта, который привез к нам на операцию матушку. Огромные голубые глаза его были странно остановившимися, вечно удивленными.
— В трудные сороковые, — чеканно, словно рубя прозаическую фразу на поэтическую строку, говорил он, — когда начался шабаш и черные силы доморощенных расистов ловили космополитических ведьм, маленький, ссохшийся от затаенного страха, Михаил Светлов сидел в ресторане Дома литераторов — его профиль отражался на стене словно молодой месяц — и грустно смотрел на проходивших мимо боссов. Один из них заметил в глазах поэта нечто такое, что понудило его остановиться: «Миша, не смотри так, смени гнев на милость». Светлов ответил: «Только этим и занимаюсь с утра до вечера, наверное, потому пока еще жив»…
…Я вскрыл череп художника Штыка и поразился странной форме его мозга и чрезвычайно большому объему… Боже мой, красно-бело-темная масса клеток, включающая в себя миллиарды функционально расписанных по должностям крох, рождала видения чужих планет, пришельцев, тревожную затаенность Вселенной… Отчего равные возможности, данные человеку природой, столь загадочно разделяются между миллиардами простых смертных и теми, кто видит больше, чувствует отчетливей, мыслит прозорливей?!
Какое счастье быть акушером или спортивным врачом, — каждый твой жест несет изученное облегчение болящему… А здесь?! Как быть здесь?! Я получил право на вторжение в святая святых цивилизации, в мысль человеческую… Справлюсь ли? Да, ответил я себе, ты обязан справиться, иначе Штык умрет. Ну и что? — спросил я себя. Я ужаснулся этому вопросу. Мы часто ужасаемся правде, проще обойти ее, отодвинуть, сделать более удобной для себя, чтобы не отвечать бескомпромиссно и резко. Но, быть может, Штык потеряет тот дар, которым его наделила природа? Тогда и жизнь станет ему в тягость, более того, сделается ужасной, потому что память о таком прошлом, которое невозвратимо, превращает жизнь в ад.
Господи, помоги мне, сказал я себе уже после того, как начал работу. Она будет долгой, часов шесть. Я всегда молю о помощи — не себе, а тому, кто недвижно лежит на столе. Нельзя не помочь тому, за кого молишь. Нет, ответил я себе, увы, даже бог помогает только сильным.
…Штыка били очень сильные люди, которые достаточно хорошо знают анатомию, били для того, чтобы сделать художника калекой, беспамятным уродом. Так могут бить люди, имеющие медицинское образование… Или же массажисты… Патологоанатомы… Хотя кто может помешать инженеру или шоферу приобрести учебники и самому изучить наиболее уязвимые, болевые точки человеческого тела? Как это страшно — приобретать учебник, кладезь знаний, чтобы превращать талант в беспамятливую убогость… Наверное, предмет зависти и ненависти более всего расписан в литературе потому именно, что мир населен множеством сальери, которые плотно окружают маленьких моцартов. Пушкин смог так написать свою поэму, потому что он сам
— Моцарт… Как же этот маленький африканец чувствовал зависть бездарей, которая, подобно петле, медленно душила его! И мы еще говорим о справедливости! Хотя один доморощенный гад убеждал меня, что все происходящее справедливо: если бы Пушкин не умер вовремя, глядишь, написал бы такое, что перечеркнуло всю его литературу, Линкольн мог пойти на компромисс с работорговцами, а Джордано Бруно начал бы преподавать богословие.
Я, помню, спросил: было ли справедливо появление Гитлера? Может быть, истории угодно, чтобы он умер чуть раньше? Скольких маленьких Эйнштейнов, Толстых и Сличенко он бы не успел сжечь в газовых печах…
Этот же гад говорил: «Рома, каждая нация должна петь, говорить, писать и снимать фильмы на своем языке и про свои проблемы». Тогда я спросил: что делать с книгой «Наш человек в Гаване»? Ведь Грин англичанин, а не кубинец… И почему бы не выбросить из «Войны и мира» главы, посвященные Наполеону? Пусть бы об этом сочиняли французы… Да и какое имел право Лев Николаевич — по вашей логике — писать «Хаджи Мурата»?
— Дыхание больного нормальное, пульс ровный, — сказал Вали-заде, не отрывая глаз от своих аппаратов.
…Я помню, какое впечатление на меня произвело посещение Руана, города Флобера. Там есть музей, один зал посвящен хирургии прошлых веков. Поразителен графический триптих: больной перед операцией пьет стакан спирта; сама операция — предметно и безжалостно показывается, как несчастному (не очень люблю слова «пациент» или «больной», все мы «пациенты» и «больные» — в той или иной степени) пилою отрезали ногу, и он смотрел на это глазами, полными ужаса, рот разорван истошным воплем; третья часть гравюры — отпиленная нога в корзине, бедняга истекает кровью, хирург зашивает культю. Жестоко? А какая правда бывает добренькой?
— Давление? — спросил я Клаву.
— В пределах нормы.
— Возьмите кровь, пусть посчитают на компьютере…
Этот японский компьютер мы выбивали полгода: пока-то получили валюту в Госплане и Министерстве финансов, потом включился Внешторг, начал запрашивать предложения в своих представительствах, а люди умирали, умирали, умирали… Поразительно: общество коллективистов, а разъединены по тысячам сот! Между нами стоят высоченные заборы, а надзиратели, смотрящие за тем, чтобы кто не перепрыгнул, обложены на своих вышках миллионами инструкций — что можно, где нельзя… Дышать — можно, все остальное надо утвердить.
Когда я предложил свой метод операции, все документы и обоснования отправили на консультацию трем профессорам. Один из них поддерживал меня, два других в упор не видели… Конечно, они выступили против… А ведь речь шла только о том, чтобы напечатать в нашем вестнике! Пусть бы хоть дискуссия началась! Нет! Все новое положено душить в зародыше… Свобода мысли и слова! Надо б скорректировать: «Свобода проконсультированных слов и утвержденных мыслей…»
Интересно: я весь отдан операции, погружен в таинство открывшейся мне материи, являющейся субстанцией Валерия Васильевича Штыка. Годы наработали автоматизм движений, хотя каждая операция — это новый штурм тайны, но мысль мне неподвластна и многомерна. Я фиксирую лишь отдельные ее фрагменты, они пролетают сквозь мое сознание, и я не уверен, придут ли они ко мне еще раз… Я — ладно, рядовой хирург, а вот сколько мыслей проходило сквозь Склифосовского, Пирогова, Спасокукоцкого, Юдина, Боткина?! А сколько мыслей Пушкина, Толстого, Блока, Маяковского прошли сквозь них и канули в вечность? Американцы держат при каждой мало-мальски серьезной личности двух «скрипт-герлз», секретарей-стенографисток: ни одно слово, ни одна даже случайная мысль не оказываются потерянными, да и карманные диктофончики имеют, которые весят двести граммов и продаются на каждом углу, а не из-под полы у фарцовщиков… Смешно… Профессия, которая обречена на исчезание в тот самый день, когда государство вернет золотой червонец, который можно менять на проклятую свободно конвертируемую валюту… Не надо искать виновных там, где виноваты сами…
— Кровь в пределах нормы, — шепнула Клавочка, — пока все идет хорошо.
— Постучите-ка по дереву, — посоветовал я ей, чувствуя, что мой старый и верный дружочек и на этот раз верно чувствует ход работы…
После того как Штыка увезли в реанимацию — я управился за пять часов, быстрее, чем думал, — мы поднялись в ординаторскую и поставили чайник. За то, что семья спасенного принесла тебе букет, теперь перестали сажать, как за взятку, но если б контролеры пронюхали, что Потапов, которого мы вытащили из клинической смерти, подарил нам две банки «липтона», не миновать всем нам скамьи подсудимых. Между прочим, за такую операцию, что мы ему сделали, он бы на Западе уплатил не менее пятидесяти тысяч долларов, а тут — две банки и пять лет срока в тюрьме, вот логика, а?! Я понимаю, продавали б этот самый «липтон» в магазине, можно было б и отказаться от подарка, но ведь нет его, днем с огнем не найдешь!
Вали-заде сидел сгорбившись, опустив длинные руки между острыми коленками, — почему-то у большинства восточных людей очень тонкие ноги. Клавочка прислонилась к стене и, достав маленькое зеркальце, рассматривала свое лицо с некоторой долей умиления. Я колдовал над чаем. Гринберг прилег на кожаный диванчик, а Саня Протасов, приходивший к нам на помощь, когда меняли капельницы, замер у окна, наблюдая, как размытый рассвет становился реальным утром, серые тона неба делались голубоватыми, и в них угадывалось бело-розовое. Утреннее солнце совершенно не похоже на вечернее: казалось бы, какая разница, утро или ночь, и там и тут центром является светило, но отчего восходы отмечены печатью молодости и надежды, а любой закат ассоциируется с усталостью! «Утомленное солнце нежно с морем прощалось…» Казалось бы, вульгарщина, а может быть, именно в этой строчке никому не известного автора текстов для танго и было то открытие, к которому еще не подкрались ученые? Может быть, действительно солнце устает за день? Отдает слишком много энергии суматошной земле, погруженной в свои крошечные — не его масштаба — заботы? Доктор Холодов прав: почему не допустить гипотезу, что Земля — это гигантский спутник, магма — топливо, а все мы — обитатели межпланетного корабля? Если существует мир трех измерений, то отчего не допустить возможность существования царства пяти или шести неведомых измерений, жителям которого и само солнце-то кажется букашкой? Рассматривают Вселенную под микроскопом, как неведомо малую величину…
— Каждая операция такого рода, — сказала Клава, — оставляет на моем лице три новые морщинки. Я подсчитываю.
— У тебя характер веселый, — откликнулся Вали-заде. — Смеешься много, оттого и морщинки… Была бы помоложе на десять лет — женился б.
— С таким жуиром, как вы, я бы очень быстро исплакалась, — сказала Клава. — По-моему, Люда с седьмого этажа потеряла из-за вас сон.
— Она потеряла сон из-за «Волги», — усмехнулся Гринберг. — Вали, объясни, отчего у вас, мусульман, такая страсть именно к «Волгам»?! Мы, евреи, тяготеем к маленьким машинам, предмет мечтаний — «Жигули»…
— Вы пуганые, — ответил Вали-заде. — А мы на подъеме, у нас аятолла Хомейни, зеленое знамя Корана одолеет красное знамя дерзновенного большевизма…
Чай у меня получился отменный, как всегда. Конечно, я, как и каждый мужчина, подвержен хвастовству, но в данном случае я не грешу, истинная правда, когда выйду на пенсию и если к тому времени не задушат индивидуальный труд, открою домашнее кафе. Ириша станет делать вареники, полтавская хохлушка, чудо что за вареники, я, наверное, и верен ей потому, что она готовит так, как никто другой в мире… Мне вдруг стало стыдно этой мысли — пусть даже горделиво-шуточной, — но ведь мысль так же невозможно вычеркнуть из бытия, как и слово. Пословица про то, что написанное пером нельзя вырубить топором, вполне распространяется и на мысль, пожалуй, еще в большей даже мере…
— Между прочим, — возразил я Гринбергу (хороший врач и парень приличный, но дикий зануда), — ты забыл ту притчу, которую я единожды рассказывал…
— Какую? — спросил он. — Я заношу все ваши притчи на скрижали.
— Про баню и раввина…
— Вы такую не рассказывали, — ответил он. — Про раввина я бы запомнил непременно. Я весь внимание, босс…
— Так вот, евреи решили в своей деревне построить баню…
— Когда это евреи жили в деревне? — Клавочка рассмеялась.
Вали-заде вздохнул:
— Последние десятилетия наша история стала умалчивать, что до революции евреи в России не имели права жить в городах и обитали в черте оседлости.
— Ой, правда?! — Клава искренне удивилась. — Вот бедненькие! Ну, так что про баню?
— А про баню вот что, — продолжал я. — Одни евреи отчего-то считали, что пол не надо стругать, а другие требовали класть тщательно обструганные доски. Раввин выслушал тех и других: «Евреи, не надо ссориться: каждый из вас прав по-своему. Давайте доски обстругаем, но класть их будем необструганной стороной вверх…» Вы спросите, к чему это я? К тому, что прав я: езжу на «Москвиче»…
— Ну и ну! — рассмеялся Гринберг. — Он ездит на «Москвиче»! Он ездит на «симке»! Ваш новый «Москвич» целиком срисован с французской модели, стыд и срам!
Через два часа Штык разлепил бескровные губы и посмотрел на меня с трезвой, пугающей задумчивостью, — словно бы не был только что под наркозом.
— Где вы? — спросил я его тихонько, чтобы понять — понимает он происходящее или нет.
Штык ответил:
— В… аду…
А что, верно. Ну, может, все же чистилище? Ад у меня ассоциируется с другими учреждениями.
— А как вас зовут?
— Ш… Ш… Штык, — ответил он, пришлепывая пересохшими губами. — Пусть сюда срочно п… придет Варравин… По… по… пока я не у… у… умер…
— Если ночью не умерли, сейчас будете жить…
Закрыв глаза, он прошептал:
— Нет… У м… меня мысли с… ска… скачут… Не дер… держатся… Очень б… быстрые…
— Кто такой Варравин?
— Р… репор… тер… Он нам нужен…
— Нам? — переспросил я.
— Вам тоже, — ответил Штык и закрыл глаза. — Только не об… манывайте меня, б… будет поздно…
Оперативник из МУРа, ожидавший конца операции, отошел перекусить. Я спустился вниз, рассказал Вали-заде, Потапову, Клавочке и Гринбергу об этом странном разговоре, заметив:
— Работу мы сделали отменную, я боялся, что Штык станет недоумком… Помните, я показывал на кровоподтек? Я его больше всего боялся… Скажите на милость, получилось, а?!
Клава села к телефону, набрала «09» и попросила номера московских редакций. Ей ответили, что больше трех справок за один раз дать не могут. Почему? Отчего мы такие жестоко-неповоротливые? Кто дал право заставлять Клаву, измученную после операции, вертеть диск пять раз, постоянно натыкаясь на короткие гудки? Я взял трубку из рук Клавы:
— Милая девушка, вас тревожат из института Склифосовского… Мы врачи, звоним по неотложному делу после тяжелой операции. Зачем вы так? А вот если бы вы к нам попали, а мы бы предложили вам рассказывать, что с вами случилось, трем разным врачам с перерывом в полчаса?
— А я на красный свет улицы не перехожу и попадать к вам не собираюсь, — отрезала девица и дала отбой. Ну, гадина, а!
Вот тогда-то я и позвонил старому приятелю, полковнику Славе Костенко из угрозыска.
XXII Я, Иван Варравин
Главный редактор вызвал меня вечером, когда я вернулся из архива, и молча протянул письмо с прикрепленной к нему форменной бумажкой, — явно из отдела писем, только не нашего, а сверху.
Письмо было отправлено по трем высшим адресатам. Писала Глафира Анатольевна, мать Оли.
В общем-то я сразу понял, в чем дело, ознакомившись с первым абзацем. Я не ошибся: «Издевательство над беременной женой», «вправе ли человек с таким моральным обликом работать в комсомольской прессе», «как соотнести святое слово «перестройка», а она ведь и морали касается, с тем, что любовники — Е. Нарышкина и мой зять, отец ребенка, которого носит под сердцем дочь, — на страницах газеты призывают к справедливости и честности, к духовности и моральной чистоте, а на самом деле глумятся над этими святыми для каждого советского человека понятиями». Ну, и все в таком роде: как я унижал Ольгу рассказами о моих прошлых любовницах, не таясь, продолжал с ними встречаться, не ночевал дома, а потом и вовсе выгнал из квартиры несчастную женщину — такое действует убойно.
— Ну и что? — спросил я, вернув письмо главному с резолюцией на бланке: «Разобраться и сообщить».
— Тебе видней, — ответил он. — Даже будь это неподписной текст, я бы и то не решился бросить в мусорную корзину: речь идет о беременной женщине.
Раньше я называл главного, как и было принято в молодежной газете, по имени и отчеству, конечно же на «вы». Он старше меня на девять лет, шеф, член бюро и все такое прочее. Я не очень задумывался, что в такого рода отношениях заложена холопская покорность — с одной стороны и барская всепозволенность — с другой. Я осознал эту ситуацию именно сейчас, каким-то внезапным, жарким озарением.
— А ты позвони моей жене, Оле, — сказал я главному, спокойно, без малейшей демонстрации перейдя на «ты». — Пригласи ее к себе, побеседуй. Спроси, отчего у нас случился разлом? А потом послушай меня.
— Хорошо, — главный, не дрогнув лицом, кивнул. — Вполне разумное предложение, принимаю… Давайте телефон вашей жены, записываю…
Он перешел на «вы» так же мягко, никак не выказывая слом его отношения ко мне. Я продиктовал номер:
— Оля сейчас живет там.
— Давно?
— Четыре месяца.
— Вы предпринимали какие-то шаги, чтобы ее вернуть?
— Да.
— Какие именно?
— Это мое дело.
— Так или иначе, но вам придется рассказать об этом на собрании…
— Я не буду рассказывать об этом на собрании.
— Почему же? Вопрос ведь поставлен… Не считайте, что я сразу же стану на сторону вашей тещи, я отношусь к вам с уважением и ценю вас как одаренного журналиста… Но я не могу пройти мимо этого, — он кивнул на письмо, — человеческого документа… Да и коллектив меня не поймет…
Ну и формулировочка! Горазды же мы на змейство, попробуй возрази, — «на коллектив замахиваешься»?! Я на ханжество, замахиваюсь, не на коллектив.
— Значит, звонить не хотите?
— Отчего же? Я поручу это Василию Георгиевичу…
Вася Турбин, он же Василий Георгиевич — секретарь нашего партбюро, ему двадцать семь лет, хороший парень, прошел на выборах единогласно, редкий случай.
— Хотите, я приглашу его? — поинтересовался главный.
— Хочу. Он еще не читал?
— Нет. Я ждал разговора с вами…
— Очень хочу, — повторил я. — Надеюсь, этика позволит мне присутствовать при его разговоре с Глафирой Анатольевной?
— Не знаю… Посоветуемся…
Наш секретарь пожал мне руку: «Привет, старик, я тебя сегодня искал, куда запропастился?», обернулся к главному: «Что случилось?» Тот молча протянул ему письмо.
Вася прочитал стремительно, лицо его пожухло, словно цветок на солнцепеке. Он поднял на меня голубые глаза, в которых была нескрываемая растерянность, и тихо спросил:
— Это правда, Иван?
— То, что мы не живем с Ольгой, — правда. Все остальное — ложь. Мне кажется, это звено в провокации со стороны тех, кого я сейчас вытаптываю.
— Кого вы сейчас вытаптываете? — спросил главный. — Загряжское дело, о котором мне говорил Кашляев?
Я поинтересовался:
— Он говорил, что дело это путаное? И что лучше бы нам вообще в него не лезть, пока не разберется прокуратура? Правда?
Вася опередил шефа:
— Точно, он мне так говорил.
— Я в этом не сомневался, Вася. Я спрашиваю Анатолия Ивановича… Главный откинулся на спинку кресла:
— А вам не кажется, что разговор у нас принял не тот оборот, товарищи?
Меня так и подмывало рассказать, как Кашляев похитил мою записную книжку, как он с нею отправился к реставратору Русанову, тот — к доценту Тихомирову, а уж вместе, кодлой, они посетили Томочку, гадалку, которая каким-то образом четко вычислила, что мать Ольги, Глафира Анатольевна, возглавляет сектор экспорта драгоценных камней, вот ведь паучья сеть?! А где факты? Слишком тяжело обвинение, оно не имеет права быть бездоказательным…
Именно поэтому я отдавал себе отчет в том, что говорить обо всем этом главному нельзя, — может дрогнуть, стал пугливым накануне ухода с комсомольской работы. Был бы инженером каким, врачом — все профессия, а какая у него, бедняги? Умение ощущать тенденцию? С этим сейчас не проживешь, а до пенсии еще семнадцать лет, черт знает что может произойти.
Не то, чтобы я не доверял нашему главному, нет. Он человек беззлобный и в общем-то достаточно честный. Сейчас он оказался в сложном переплете, поэтому передал письмо Глафиры Анатольевны нашему секретарю, чтобы тот вел дело, — действительно, пахучее. А всякий скандал в коллективе ложится пятном на шефа, традиция круговой поруки.
Нет, сказал я себе, сейчас ничего нельзя открывать: выдержка и еще раз выдержка. Сегодня вечером я пойду к Штыку. Я не обладаю ясновидческим даром, но глаза людей меня редко обманывали: я растворяюсь в них, позволяю им завладеть мною, — только так и возникает единение. Чрезмерное доверие собственному «я» разобщает людей. Нельзя верить в свою правоту до тех пор, пока ты не отдал себя правде оппонента. Я чувствовал: в конце нашей беседы Штык что-то хотел открыть мне, но то ли я повел себя неверно, то ли он не принял окончательного решения, — замолчал наглухо. Сегодня я скажу ему всю правду. Да, это рискованно, но иного выхода нет. Я верю талантливым людям: это особые моральные структуры. Мы, правда, чрезмерно щедры на титул «талант», сколько у нас было «выдающихся», а прошли годы, не десятилетия даже, — и памяти никакой не осталось, только досадливая обида: зачем ничто обертывать в золоченые одежды? Впрочем, прежде всего стоит обижаться на себя. Сами покорно принимали ложь, заведомо зная, что это низкий обман. Глядишь, какой оборотистый репортер соберет свои записки в книгу, нацедит повестушку, — картонная конструкция, ни слова, ни характера, глядишь, блеснет пару раз по телевизору с угодным комментарием, — и уже «большой мастер», поскольку наверху высказано такое «мнение», а поди поспорь с мнением — не выйдет, оно ведь не писаное и не распубликованное, оно — мнение… Эх, матерь наша Византия, когда ж мы из себя выжжем рабство, когда научимся быть собою самими?! Никогда, ответил я себе поначалу. Мне стало страшно этого ответа, и я спросил себя, отчего же так? И я ответил себе, что рабство изживаемо лишь через закон и открытость, через гарантированную конституцией обязанность выражать неугодную точку зрения. Параграф, гарантирующий право, был утвержден в тридцать шестом году сталинской конституцией, да что-то все больше сажали за неугодное мнение, не прислушиваясь, а уж если и прислушивались, так для того лишь, чтоб поставить к стенке… А сейчас? Сколько раз газета предлагала предоставить читателю право определять угодных им авторов и тиражи их книг… Но ведь даже фамилии писателей, выдвинутых на обсуждение, до сих пор конструируются в министерствах, комитетах и союзах… Их, кстати, можно понять: коли смирились с заведомой ложью — «у нас одиннадцать тысяч писателей», — то извольте каждого обеспечить книжкой, хоть заранее известно, что читать ее никто не станет. А как же иначе? Иначе нельзя, безработица будет, а это супротив наших правил, да и потом, что скажут недруги из стран капитала?!
А Штык — талант… Картина, что стоит у него в углу, совершенно поразительна, такая в ней скорбь и столь огромен вопрос, что просто диву даешься, как можно сотни страниц уместить в один холст! Действительно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Штык потому еще талант, что стыдится своей работы, ищет в твоих глазах реакции на нее, полон сомнений, построенных тем не менее на внутренней убежденности в своей изначальной правоте…
Нет, я не могу сейчас ничего говорить, даже Васе. Хотя то, с чем столкнулся Квициния и что узнал я, так страшно, так чудовищно, что я не вправе ни на кого перекладывать даже части своих мучительных сомнений. Преследователь всегда не прав. Если я хоть в чем-то ошибусь, я буду последним подонком. Фашизм — это когда обвиняют невиновного, заведомо зная, что он невиновен.
— Позвони, Вася, — сказал я. — Думаю, я не помешаю твоему разговору с автором письма… С моей тещей… Наоборот, сразу же отвечу на любой возникший вопрос…
— Как, Василий Георгиевич? — несколько рассеянно поинтересовался главный.
— Да в общем-то, — чуть запинаясь, словно бы превозмогая себя, не спуская при этом глаз с главного, сказал Вася, — такого рода беседу я проведу не по телефону, а лично, с глазу на глаз…
Анатолий Иванович развел свои руки, словно бы насильно приставленные к его грузному телу, показывая всем своим видом, что он готов принять любое решение секретаря парткома, и чуть придвинулся к столу, дав понять этим ничего, казалось бы, не значащим жестом, что аудиенция окончена… В коридоре Вася сказал:
— Не думай, что я спасовал, старик… Письмо дрянное, согласен… Поэтому лучше, если я сейчас поеду к этой Глафире Анатольевне, а потом встречусь с Олей… Только, пожалуйста, скажи мне — чтобы я был тверд в позиции, — у тебя с Лизой действительно ничего нет?
— То есть как это нет? — удивился я. — Конечно, есть…
— Значит, в этом твоя теща права?
— Я очень дружу с Лизой… Дружу. Понимаешь? А если меня вынудят развестись, можно будет подумать о том, чтобы сойтись с ней по-настоящему… Женитьба? Нет… Это не для меня, хватит… Женщины удивительно быстро осваиваются с имперским чувством собственности…
В своей конурке, складывая материалы в папку, я заметил записку, написанную рукой Лисафет: «Тебя строчно ждет у Склифосовского художник Штык». И стихи, написанные строкою, как проза: «Идут дожди, с утра туман и холод, но ты плиту зажги, пока еще ты молод — чуть подожди… На улицах потоки, а мне пора, я завожу часы, ко мне они жестоки, и режут руки лезвия минут больнее всех стеблей осоки…»
Я бросился к Лизе, но ее не было, сказали, что ее срочно вызвал какой-то грузин. Гиви, понял я. Видимо, очень важно, если она мне не написала, а скорее не захотела ничего писать — из-за Кашляева.
…В институте Склифосовского дежурил молодой врач. По счастью, он читал мою статью о том, как сейчас исподволь зажимают людей, пошедших в сервис, — всех, кто взял лицензии на автообслуживание, извоз, пансионат (было множество откликов; высшее счастье для репортера, когда его работа вызывает поток писем) и, хотя этот хирург был совершенно не согласен со мною — «реставрируем капитализм», — он позволил пройти в палату к Штыку, сообщив при этом, что у него уже был какой-то полковник Костенко из угрозыска, но врачи разговор прервали, потому что подозревают у раненого отек легких.
…Штык дышал тяжело, широко открывая рот, меня узнал как бы не сразу, потом кивнул и начал шамкающе спотыкаться на буквах:
— Наверное, умру… Русанов… Пусть тебе дадут мой ключ из костюма… Если нет — у Коли Ситникова… На втором… этаже… семь… Скажи, я велел принести нотариальные… бумаги… Русанова… В столе… Там и сбер… сберкнижка… Поймешь… Его п… письмо уп… пало… под ящ… ики… Русан брал четвертую… часть… В Загряжске от… отказали… Горенков… А Чурин… не знаю… Только… помню… Русанов о нем… гов… о… р… Иди…
Ситников оставил у себя мой паспорт, несмотря на то, что я два раза достаточно подробно изложил ему суть дела: Штык просит срочно привезти ему нотариальные бумаги и сберегательную книжку из стола.
— А что записку не написал? — спросил Ситников.
— Он еле живой! У него капельницы, все руки исколоты…
— Вот ужас-то, а?! — бородатый Ситников вздохнул. — А ведь били его в трех метрах от моей площадки! Какого такта человек?! Никого не хотел тревожить криком, хотя мы все до утра работаем, выбежали б…
Я не стал возражать Ситникову, хотя знал, что Штыка почти сразу же оглушили. Но он так хорошо сказал о своем товарище. Как же редко мы говорим о людях хорошо, все больше с подковыркой или снисходительностью…
Я вошел в мастерскую Штыка, свет включать не стал, хотя начинались сумерки. Было здесь пепельно-серо, затаенная грусть постоянного одиночества, принадлежности не себе, но идее, незримый дух творчества. Пепельницами здесь были консервные банки, чайником — кружка грязно-коричневого цвета. Сковородка не чищена, одноконфорочная плитка, обшарпанная дверь, что вела во вторую комнату, где я видел только край кровати, застеленной солдатским одеялом…
Я сразу вспомнил маму, которая умела сараюшку, что арендовала для нас на лето в Удельном, за какие-то три часа превратить в уютную комнату, освещенную низким абажуром. Она привозила с собою маленькие копии Серова и Коровина, зелено-красный плед, шкуру какого-то козла, турочки для кофе — много ли надо, — но облик жилья становился совершенно особым, артистичным. А здесь… Значит, понял я, личной жизни у Штыка тоже не было. Видимо, настоящий талант не может разрывать себя между полотном (книгой, партитурой) и женщиной, которая дарит нежность, организовывает уют, но одновременно занимает то место, которое ей кажется необходимым занять в жизни того, кого любит… Неужели одиночество — спутник истинного артиста? Может, истинная правда никого к себе не подпускает? Испытывает художника на прочность: «Готов ли ты пожертвовать собою во имя того, чтобы приблизиться ко мне? Готов обречь себя на схиму?»
Я подошел к старому, рассохшемуся столу, потянул на себя ручку ящика, выдвинул его и поразился абсолютной, искусственной его пустоте, будто отсюда специально забрали все до единой бумажки…
Я выдвинул — один за другим — маленькие ящики в тумбочке; здесь тоже все было пусто; опустился на колени, чтобы посмотреть, не провалился ли какой документ на пол — Штык говорил о письме Русанова, — и в тот момент, когда я склонился, словно при челобитной, моя шея ощутила прикосновение руки — снисходительно потрепывающее, исполненное налитой силы…
XXII Я, Каримов Рустем Исламович
Меня до сих пор поражают слова: «Такой молодой, всего шестьдесят, а инфаркт…» Все же на Востоке совершенно иная градация возраста; для нас пятьдесят лет — начало старости. В сорок семь отец был седым, как лунь, а мне было двадцать пять, и у меня уже был сын, Мэлор — «Маркс — Энгельс — Ленин — Октябрьская — Революция», — «М», «э», «л», «о», «р»… Я стал стариком в сорок шесть лет, когда мальчик погиб в Афганистане, его разрезали автоматной очередью, и он не успел оставить мне внука… Я тогда переходил на ногах инфаркт, я чувствовал его по тому, как постепенно немела левая рука, становясь неподатливо-электрической, как било тупой болью за грудиной и приходилось бегать в туалет, потому что то и дело подступали приступы изнуряющей тошноты. Я не пошел в нашу спецклинику. Вообще-то я туда никогда не ходил и Мэлора не приписал к ней: если уж справедливость — то во всем, выборочной справедливости не существует, фарс. Чтобы не раздражать коллег, я объяснил, что хочу сделать все городские клиники современными, поэтому и расписал себя по районам: зубы лечил в Ленинском, ежегодное обследование проходил в Октябрьском, а давнюю травму ноги лечил у хирурга Кубиньша в Кировском… Любопытно, когда у нас началась эпидемия раздачи имен городским районам? Раньше — я это прекрасно помню — Ленинский район был Сталинским, Октябрьский — Молотовским, а нынешний Кировский — там у нас заводы, связанные с транспортным машиностроением, — Кагановичским. Но и до этого, в двадцатых, были другие названия, хотя тогда было всего два района: Зиновьевский и Бухаринский. Я как-то предложил переименовать все кардинальным образом — раз и навсегда: район Набережных, район Пролетарских заводов и Центральный район. На меня посмотрели с некоторым недоумением, и я был вынужден обернуть свои слова в шутку, что вызвало всеобщее облегчение. Но ведь будущие историки легко вычислят, что районы, совхозы и заводы имени XXII съезда раньше назывались именами Сталина, Молотова, Маленкова или Кагановича… Переименовали б совхоз в «Дубравы», «Сосновый бор», «Тихое озеро» — вопросы б не возникали, а так — оставляем после себя огромное поле для переосмысления, с молодежью работать боимся, учебники истории по своей сути антиисторичны, растет беспамятное поколение…
Кстати, после того как я открепился от обкомовской больницы, нам за пять лет кое-как удалось переоборудовать клиники во всех районах, хотя для этого пришлось прибегнуть к дипломатической игре: попросил нашего первого секретаря провести решение, обязывающее меня курировать здравоохранение на местах (без бумажки — таракашка, устного согласия недостаточно), и, с развязанными руками, я начал атаковать тот же обком и Совмин республики (я тогда был министром социального обеспечения), выбивая деньги, фонды, дефицит. Именно тогда я и встретился с Горенковым. Мне сразу же понравилась (хотя, честно говоря, поначалу я несколько испугался) его резкая манера:
— Сколько у вас денег на строительство седьмой поликлиники?
Я ответил.
— Пробейте разрешение сэкономленные средства распределить между моими рабочими и инженерами — тогда возьму объект в план и сдам раньше срока.
Я ответил, что такого рода постановка вопроса не сообразуется с общепринятыми нормами нашей экономики.
Горенков только посмеялся: «В письме к своему заместителю Льву Борисовичу Каменеву — это который из троцкистско-зиновьевской банды диверсантов и шпионов — Ленин рекомендовал перевести на тантьему нашу бюрократическую сволочь, а тантьема, как известно, процент со сделки. Заметьте, я у вас этого не прошу, а ставлю вполне пробиваемые условия… Я, знаете ли, из рабочей семьи, отец был виртуозом-токарем, Левша был, что называется, так вот мне за русского рабочего обидно, когда мы на строительство отелей иностранцев приглашаем и не можем умильно нарадоваться, как они качественно и быстро строят. А вы поинтересовались, сколько им в день платят? Нет? Я отвечу: сто пятьдесят рублей. Плати мы своему строителю семьсот рублей — он бы качественней любого француза построил! Техники нет? Придумал бы, на то голова дадена… Словом, если пробьете, — звоните и заезжайте утречком, позавтракаем вместе. Без выполнения моего условия помочь ничем не смогу».
— Обяжем постановлением, — сказал я тогда ему. — Проведем через Совмин.
— Ну и что? Будет еще один долгострой… Дело решает его величество человек, а не бумажное постановление.
Меня тогда поразила раскованность этого начальника СМУ: в голосе его не было и тени робости, хотя говорил он с министром, а у нас приучены блюсти табель о рангах. Имя Каменева произнес нескрываемо уважительно, без угодного тому времени надрыва. Заинтересовало меня и его странное предложение приехать «позавтракать». Этот мой интерес был изначально окрашен подозрением: у нас немало мафий, но строительная — одна из самых сильных, поэтому, договорившись — с громадным трудом, — что Госплан оставит СМУ Горенкова десять процентов от сэкономленных им денег — в случае, если сдаст поликлинику в срок, по самому высокому качеству, — я позвонил ему через две недели и сказал, что предмет разговора обретает реальные черты. «Когда можно приехать на завтрак?»…
— То есть? — искренне удивился Горенков. — Завтра! Чего ж время базарить?!
Поскольку я предполагал, что разговор может принять неожиданный (скорее, наоборот, ожидаемый) характер, я пригласил с собою заведующую отделом здравоохранения горисполкома Бубенцову, и мы отправились в СМУ.
Прежде всего меня поразил кабинет начальника: роскошный, но деловой, в высшей степени функциональный. Я никак не предполагал, что в длинном бараке, облагороженном, словно шведский дом, вагонкой, можно расположиться так красиво и достойно.
После первых приветственных слов я поинтересовался, разумно ли тратить дефицитную вагонку на то, чтобы так обихаживать временный барак.
— Я достаточно уважаю мой народ, чтобы не позволять ему жить в грязи, — ответил Горенков резко. — Хотите, чтобы люди научились ценить собственное достоинство в хлеву? Если у Станиславского театр начинался с вешалки, то и у нас работа начинается со штаба. Тем более вагонка эта на воздухе только высохнет как следует. А кабинет мой сделан из некачественного дерева, люблю столярить, по субботам настругал панели, сам проолифил, сам подобрал по тонам — премиальные себе за это не выписывал…
Галина Марковна Бубенцова, следуя моему настрою, словно бы пропустив мимо ушей слова Горенкова, поджала губы:
— У нашего министра кабинет в два раза меньше вашего…
— Значит, плохой министр, — Горенков рассмеялся. — Не умеет работать, коли сидит в дрянном помещении…
— Ну, знаете ли. — Бубенцова посмотрела на меня с ищущей растерянностью, ожидая поддержки, достаточно резкой. Я поинтересовался:
— Наверняка в молодости увлекались Чернышевским? Особенно «Что делать?»…
— Почему в молодости? — Горенков перевел смеющийся взгляд с Бубенцовой на меня. — В молодости нам прививают ненависть к классике, к ней возвращаешься в зрелости уже.
— Кто ж это вам прививал ненависть к классике? — Бубенцова продолжила наступление еще жестче.
— Советская школа, — Горенков отвечал, не скрывая уже улыбки. — За пять часов надо понять всего Чернышевского… Это ж самый настоящий цитатник из «великого кормчего»! Настругали абзацев и заставляют зубрить… Вместо того чтобы пару дней почитать вслух «Что делать?» и объяснить, почему эта книга современна и поныне… Лучше рассказать один эпизод из жизни Николая Гавриловича, чем бубнить хронологию его биографии.
— Ну уж простите, — Бубенцова снова посмотрела на меня, по-прежнему ища поддержки, — вы прямо какой-то ниспровергатель…
— Так ведь не Черчилль написал: «Я пришел в мир, чтобы не соглашаться». Горький… А его пока еще не запрещали… Ну что, перекусим?
Не дожидаясь нашего ответа, он поднялся из-за прямоугольного стола и толкнул рукой стену позади себя. Она легко поддалась, и мы увидели маленькую комнату отдыха, стол, накрытый крахмальной скатертью, вышитой красным узором, самовар и калачи, масло в красивой вазочке и варенье.
— Прошу, — сказал он. — Честно говоря, я ждал министра без свидетеля, поэтому мы быстренько изыщем третий прибор для нашей очаровательной дамы…
Вот тогда-то, за чаем, он и высказал мне свою доктрину, которую Бубенцова — в машине уже — расценила как «кулацкую».
— «Деньги»! «Деньги»! «Заработки»! — грустно говорила она. — Словно бы это самое главное в жизни советского человека! Не надо переносить на нас западный образ мышления…
— Вам бы не помешала прибавка к жалованью рублей на сто? — поинтересовался я.
— Я работаю не ради жалованья.
— Так откажитесь от того, которое получаете, в пользу уборщиц вашего отдела.
Бубенцова грустно посмотрела на меня:
— Они получают в два раза больше, чем я, им разрешено совместительство.
— Зато у вас бронь в аэропорту, бесплатная путевка в хорошие санатории, удобная квартира в центре города с окнами в тихий зеленый двор…
— Так я это отслуживаю ненормированным рабочим днем, Рустем Исламович…
— Думаете, Горенков уходит с работы в пять? Я навел справки: его рабочий день начинается в половине восьмого, а заканчивает он его в девять.
— Значит, имеет корысть…
— Но ведь в этом же могут обвинить и вас. Вы тоже работаете ненормированно… Стоит ли бросаться обвинениями? Тем более что деньги Горенков требует не для себя, а для коллектива.
— Надо еще посмотреть, какую он премию получит.
— Согласен. Только зачем заранее считать человека жуликом? Или вас раздражает его независимость? А вы вспомните, что он говорил: «Я за кресло не держусь, погонят — пойду столярить на пилораму! Нет ничего приятнее, чем общение с деревом, стружки — кудри, а запах какой!» Образно говорит, не находите?
— Он играет, Рустем Исламович, — возразила Бубенцова. — Он не живет сам по себе, открыто. Он придумал роль…
— Если даже и так, мне его роль нравится. Она, во всяком случае, прогрессивна. И то, что он перевел своего шофера на грузовую машину, сам сел за руль служебки, а деньги за высвободившуюся штатную единицу отдал машинисткам, — умно, потому что дает СМУ экономию во времени: заставьте самозабвенно трудиться девушку, получающую девяносто рублей в месяц! Вы задумывались, как можно жить на девяносто рублей?! Это же издевательство над достоинством человека… Девяносто рублей…
Бубенцова тогда чуть не взмолилась:
— Но нельзя же все мерить деньгами, Рустем Исламович! Нас засосет вещизм, мы растеряем идеалы…
— А что, нужда — лучший гарант для сохранения идеалов? Неужели вам не хочется купить себе красивое платье? Машину? Мебель?
— Конечно, хочется, — Бубенцова ответила впервые за весь разговор искренне, а не подстраиваясь под принятое мнение. — Но ведь если нельзя, так лучше об этом не думать!
— А почему, собственно, нельзя? Горенков утверждает, что можно. И я с ним согласен. Мы уперлись лбом в догму и ничегошеньки вокруг себя не видим. А время уходит… Что стерпим мы, то наши дети терпеть не будут — вот вам и девальвация идеи… Мы уже потеряли поколение, Галина Марковна. Не пора ли организовать «министерство по делам молодежи»?
— Это так, — согласилась Бубенцова. — Молодое поколение чрезмерно избаловано.
— Не избалованы они. Желание сделать жизнь ребенка более счастливой, чем та, которую пережили мы, — естественно. Другое дело, они войны не знали. Так что ж, нам кнопку нажать, что ли?
— Вы не правы, Рустем Исламович, — задумчиво сказала Бубенцова. — В них появилась моральная черствость. Почему мы, родители, радуемся, если они счастливы — в учебе ли, работе, любви. А для них наша жизнь… личная жизнь… пустое. Мы вроде бы не имеем права на счастье…
Я посмотрел на ее лицо: сорок пять, не меньше, но еще сохранились следы былого шарма. Видимо, увлечена кем-то, а дети — против. Детский эгоизм (или ревность, это — одно и то же) самый открытый и беспощадный… Ничего не попишешь, сама виновата, видимо, слишком открыто любила своих детей, растворяла в них себя… А Мэлорчик, подумал я. Случись у меня увлеченность другой женщиной. Разрыв с Зиной. Да разве б он простил?! А я? Я бы простил отцу все, ответил я себе. Но я бы все простил ему только потому, что боялся его. Очень любил, но пуще того боялся.
…Вернувшись в министерство, я позвонил в районный комитет ДОСААФ и попросил записать меня на курсы профессиональных шоферов. Через пять месяцев получил права, за это время — с боями — добился передачи ставки своего шофера в парк грузовых машин Минздрава, у них полный завал, и начал обслуживать себя сам, а ведь министру положена двухсменная машина, триста рублей в месяц отдай шоферам и, как говорят, не греши.
Тогда именно у меня и начались трудности с нашим первым секретарем. Мое назначение премьером нашей автономной республики прошло наперекор его воле, предложила Москва…
…И вот на завтра у нас назначен внеочередной пленум обкома, и среди вопросов, стоящих на повестке дня, обозначено: «разное». Это значит, что моя просьба об отставке удовлетворена, будем выбирать нового главу правительства.
Я собрал свои личные вещи, в кабинете их накопилось довольно много. После того как мы с Зиной переехали из старой квартиры в маленькую, чтобы не было так страшно без Мэлорчика — там каждый уголок напоминал о нем, — часть вещей я перенес сюда, особенно дневники, архивы, «сталинку» отца и старый халат — единственное, что после него осталось. «Денежные пакеты», тайно выплачивавшиеся при Сталине ответственным работникам, отец, не вскрывая переводил в дом инвалидов Великой Отечественной.
До чего же сложен наш век, до чего трудно будет историкам разобраться в той, созданной нами же самими структуре, которая определяла не только внешние, но и глубинные, затаенные функции общества! Можно во всем обвинять Сталина, но будет ли это ответом на трагичный вопрос: «Как такое могло случиться?!» Ведь и Брежнев, которого именно Сталин на девятнадцатом съезде рекомендовал членом Президиума ЦК КПСС, получал тысячи приветствий, когда ему вручали очередную Звезду, и рабочие коллективы, университеты и совхозы повсеместно изучали его книги. Слепое единогласие?
…Как и почему в двадцать втором году оформился первый организованный блок в Политбюро: Сталин — Каменев — Зиновьев? Почему они так крепко объединились после смерти Ленина? Для одной лишь цели: свалить Троцкого, который постоянно попрекал Зиновьева и Каменева (свояка, говоря кстати) в октябрьском отступничестве. А ведь он, Троцкий, был председателем Петроградского Совета рабочих депутатов, штаб которого был в Смольном. Тревожно было и то, что Владимир Ильич в своем завещании назвал его «самым выдающимся вождем современного ЦК», а Сталина и вовсе требовал сместить с ключевой позиции Генерального секретаря.
Зиновьев и Каменев не смогли вкусить плодов своей — совместной со Сталиным — победы: как только Троцкого переместили с поста народного комиссара обороны и председателя легендарного РВС — Революционного военного совета, который он возглавлял с весны восемнадцатого, — Сталин немедленно ударил по своим прежним союзникам. А последовавший затем разгром Каменева и Зиновьева, вошедших в блок со своим прежним противником — Троцким?.. Сталин вроде бы стоял в стороне, всю работу по борьбе с «новой оппозицией» провел истинный любимец партии Николай Иванович Бухарин вместе с Рыковым, Кировым, Серго и Томским… Как объяснить этот феномен? Идеолог Бухарин оказался марионеткой в руках достаточно слабого в теории Сталина. Возможно ли такое? Видимо, копать надо глубже, доискиваясь до причин, позволивших затем Сталину пролить кровь миллионов ленинцев.
Троцкий, Зиновьев и Каменев выступали за немедленную индустриализацию, сдерживание нэпа, предлагали ужесточение эксплуатации «кулачества», чтобы вырученные средства вложить в строительство электростанций и новых заводов — в первую очередь металлургических.
Бухарин и Рыков твердо выступали за ленинский кооперативный план, за нэп, требовали считаться с интересами крестьянства, снабжая мужика техникой и, таким образом, переводя его на рельсы социалистического хозяйствования. Именно это даст те средства, которые и надо будет вложить в индустриализацию. Приказно, методами принуждения, социализм не построить…
Когда Троцкий был выслан из СССР, а Каменев и Зиновьев потеряли все позиции, именно Сталин, Молотов, Ворошилов и Каганович объявили о начале коллективизации — то есть, взяли на вооружение идейную программу Троцкого и Зиновьева, объявив этим войну Бухарину и Рыкову.
Я проанализировал текст процесса над Бухариным, что публиковался в газетах. В стенографическом отчете, который вышел после казни, многое было выпущено и переписано. Я спрашивал себя: отчего же Бухарин не обратился к залу и не сказал всю правду о том кошмарном фарсе, в котором он сам писал свою роль? Рассказывают (поди проверь!), что один из процессов начался за день до того, настоящего, который состоялся при публике. И на этом «предпроцессе» прокурор Вышинский начал допрашивать подсудимых, спрашивая их, признают ли они себя виновными, и большевики, все как один, отвергали свою вину и говорили, что показания выбиты, — продолжается расправа над партией. Вышинский слушал ответы обвиняемых спокойно, и это удивило подсудимых — «неужели на воле что-то произошло? Неужели партия поднялась на защиту собственной чести?!» Однако после допроса Вышинский неторопливо собрал со стола бумаги, махнул рукой «иностранным» кинооператорам и дипломатам, сидевшим в зале, те послушно поднялись, потянулись к выходу, и обратился к Ежову, находившемуся в правительственной ложе, за портьерой, так, что он никому не был виден:
— Николай Иванович, процесс не готов, я так не смогу работать.
Эти слова были смертным приговором для Ежова, и хотя пять дней спустя арестованные большевики, народные комиссары, редакторы, ветераны партии «признались» в том, что они готовили покушение на жизнь «великого сталинца товарища Ежова», дни «железного наркома» были сочтены…
Я изучал показания Бухарина въедливо, читая текст если и не вслух (боялся, порою самого себя боялся), то, во всяком случае, шепотом, чтобы лучше вслушаться в смысл каждого его слова.
Я понял, что с точки зрения стратегии термидора Сталин проявил себя непревзойденным мастером, отдав обвинение большевиков старому меньшевику Вышинскому, брат которого жил в Испании генералиссимуса Франко, тому Вышинскому, с которым жизнь однажды свела Кобу в камере бакинской тюрьмы, — с тех пор он его запомнил и поверил в него: этот умеет служить.
Однако после десятого, по меньшей мере, прочтения последнего слова Бухарина меня вдруг озарило: я тогда понял, как Николай Иванович смог прокричать о своей невиновности, более того, как он иносказательно обвинил своих палачей обвинителей…
Поначалу признавшись во всем, он далее сказал: «Я признаю себя ответственным за пораженческую ориентацию, хотя я на этой позиции не стоял. Я категорически отвергаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького — Максима Пешкова». Далее он произносит фразу: «Я уже указывал при даче на судебном следствии основных показаний…» Значит, были «не основные»? Данные в камере? Где они? И далее — закамуфлированно — он прямо обвинил Сталина: «…голая логика борьбы (чьей? за что? за власть?) сопровождалась перерождением идей, перерождением психологии, перерождением нас самих (эти слова носят явно компромиссный характер; чтобы сохранить основную мысль, он, видимо, согласился вписать и это), перерождением людей. (Каких?) Исторические примеры таких перерождений известны. Стоит назвать имена Бриана, Муссолини и так далее… (Муссолини начинал как социалист, стоявший на левых позициях.) И у нас было перерождение, которое привело нас («нас»! Понятно, он не мог назвать Сталина) в лагерь, очень близкий по своим установкам, по своеобразию к кулацкому преторианскому фашизму».
Я поразился, вдумавшись в эту фразу… Интеллигент, каким был Бухарин, не мог поставить рядом два понятия: «кулак» и «преторианская гвардия». Употребление слова «кулацкий» — в чем его начиная с двадцать девятого года обвиняли — позволило ему сохранить термин «преторианский фашизм», то есть «личная охрана диктатора», «всепозволенность»… И — в конце: «Чудовищность моих преступлений безмерна, особенно на новом этапе борьбы СССР». Какой борьбы? За что? Или он уже тогда ощущал поворот Сталина к возможности союза с Гитлером? Или же был убежден, что после смерти Сталина неминуемо всплывет все то, что Коба хотел уничтожить? Или, понимая, что народ ждет борьбы, он винился, что помог Сталину в его триумфальном восшествии на вершину власти?
Даже в тех огрызках допросов, которые прошли в печать (как? не возьму до сих пор в толк), он бился с Вышинским за каждое слово. Нельзя не дивиться тому, как много Бухарин смог прокричать потомкам: «Здесь прошли два показания относительно шпионажа — Шаранговича и Иванова, то есть двух провокаторов…» Или: «По мысли Томского, составной частью государственного переворота было чудовищное преступление: арестовать Семнадцатый партийный съезд, Пятаков против этой мысли возражал: это вызвало бы исключительное возмущение среди масс…»
Находясь в тюрьме тринадцать месяцев, Бухарин знал, что к тому времени почти семьдесят процентов участников семнадцатого съезда были не только арестованы Сталиным, но и расстреляны, — грех было не понять его молящего намека! А ведь мы не захотели возмутиться, даже понять не захотели, испугались.
В другом месте он говорит: «Летом тридцать четвертого года Радек сказал, что от Троцкого получены директивы, он ведет с немцами переговоры. Троцкий обещал немцам целый ряд территориальных уступок — после восстановления права советских республик на выход из СССР, — в том числе и Украину». Но ведь кто, как не Бухарин, знал, что право республик на выход из СССР формально не отменялось, — это же краеугольный камень ленинской национальной политики! Зачем он говорил эту чушь? Кому? Нам! Чтобы мы поняли, с кем ему приходилось иметь дело в застенках, с какими малограмотными монстрами, не знающими истории… Кто, как не Бухарин, понимал и то, что доктрина Гитлера запрещала немцам вести какие-либо переговоры с евреем Троцким, да еще возглавлявшим Четвертый Интернационал! Контакт с любым евреем карался в гитлеровском рейхе заключением в концлагерь, доктрина национального социализма строилась на базе лютого антисемитизма…
…Последние дни я отчего-то часто думал: как мне надо было говорить с этим молодым парнем Варравиным? Я не имею права толкать его в одну сторону, мы достаточно шарахаемся то влево, то вправо, но ведь надо учить мыслить это прекрасное поколение, а не крошить тех, кто высказывает противную точку зрения. Только в этом наше спасение и гарантия на будущее от рецидивов ужаса. А это так трудно — приучить человека выслушивать обе стороны! Рубить-то проще…
А как же быть, если сейчас противопоставляют Чернышевскому работы правых славянофилов? Готовность к демократии должна быть подтверждена когортой пророков демократии, а достаточно ли у нас таких когорт? Вон Горенков-то в тюрьме…
Звонок телефона заставил меня вздрогнуть — последнее время мне практически перестали звонить; в коридорах словно бы обтекали, стараясь ограничиться сдержанным кивком и мычащим междометием, спасительным «социальным» звуком, поддающимся двоетолкованию. Я снял трубку. Вертушка. Кто бы это, странно…
Звонил заведующий сектором ЦК Игнатов, приехавший на пленум обкома: «Надо б повидаться — перед завтрашним мероприятием».
Я ответил, что к первому секретарю не пойду, готов встретиться в любом другом месте, если мой кабинет кажется не пригодным для такого рода встречи.
И снова почувствовал, какой безвольно-электрической стала левая рука и как круто заломило в солнечном сплетении…
XXIII Я, Иван Варравин
Если негодование создает поэзию, подумал я, то отчаянье — журналистику.
Когда тот верзила, что похлопал меня по шее, знаком попросил подняться, приложив при этом палец к губам: «Тихо, пожалуйста», а второй, в роскошном костюме — плечики вверх, две шлицы, сплошная переливчатость и благоухание, — так же тихо представился: «Полковник Костенко, уголовный розыск Союза», я сразу понял, что мое личное расследование завершено, — задержан в квартире раненого художника, сюжет вполне уголовный, это тебе не донос Глафиры Анатольевны…
— Пройдем в другую комнату, — шепнул Костенко и легонько тронул меня за руку. — У нас засада. Ступайте на цыпочках, не вздумайте кричать, это только ухудшит ваше положение.
Я с трудом сдержал смех — «нервический», как пишут в иных книгах, — и прошел во вторую комнату. После того как расфранченный полковник мягко, по-кошачьи прикрыл дверь, я достал из кармана свое удостоверение.
Костенко с некоторым удивлением глянул на мою мощную краснокожую книжицу:
— Это вас вызывал Штык?
— Именно.
— Что вы тут искали?
— То, что он просил меня найти… Уликовые, как у вас говорится, материалы.
— Ключи он вам дал?
— Вам же известно, что ключей при нем не было, их похитили. Он сказал, к кому обратиться здесь, в доме…
— И к кому же?
— К Ситникову, из седьмой квартиры, в этом доме живет много художников.
— Странно, отчего он поручил достать, — Костенко усмехнулся, — уликовые материалы вам, а не мне?
— Вы не похожи на милиционера.
— Это почему?
— Слишком шикарны…
— Что ж мне, в лаптях ходить? Впрочем, ходил бы, это сейчас модно, да только купить можно лишь на Западе… Давно знали Штыка?
— Я о нем теперь знаю столько, что кажется, был знаком вечность.
— Кто мог на него напасть?
— Есть много вариантов ответа. Один бесспорен: наши противники, те, кто очень не хочет нового… Впрочем, что это я вам навязываю свое мнение? Простите.
— Верно подметили, — кивнул Костенко. — Я дремучий консерватор, перестройку терпеть не могу, вся эта гласность только мешает сыску, а при слове «демократия» я сразу же хватаюсь за револьвер… Как может иначе ответить жандармский чин прогрессивному журналисту?
— Напрасно радеете о мундире. Право каждого определять свою позицию, вне зависимости от профессии.
— Да? Значит, избрать «позицию» бандита — право каждого? Тут мы с вами не сговоримся. Сажать-то приходится мне, а это не очень сладкая штука — увозить человека в тюрьму… Ладно, лирика, давайте к делу: что вам сказал Штык?
— Сказал, что скоро умрет.
— Шейбеко смотрит на дело более оптимистично.
— Кто это такой?
— Человек, который вынимал у него из черепа куски костей, — ответил Костенко с плохо скрываемой яростью.
— Врач по-своему чувствует, художник — по-своему.
Костенко достал из кармана плоский аппаратик «воки-токи», вытянул антенну и, подойдя к окну, осмотрел улицу цепляющимся за все предметы взглядом. Потом приблизил микрофончик ко рту и негромко сказал:
— Восемь ноль два, как связь?
Кто-то невидимый ответил сразу же, словно бы видел Костенко:
— Восемь ноль два слушает вас.
— Свяжитесь с врачом, осведомитесь о состоянии мальчика.
— Есть.
— На связь выхожу через пять минут.
— Понял.
Костенко глянул на часы, положил аппаратик в карман и обернулся ко мне:
— Почему вас так интересует Штык?
— Вообще-то речь о другом человеке, строителе, безвинно засаженном в тюрьму…
Я не мог переступить себя. Что-то держало меня, молило внутри: не открывай всего, погоди, не зря куда-то столь срочно отвалили Лиза и Квициния. Если я задержан, то, по нашим законам, милиция запросит на меня характеристику в газете. Они без этого не могут (дикость какая, в пяти абзацах уместить жизнь человека, его судьбу, нрав, любовь, неприязнь, суть!), сущий подарок Глафире Анатольевне, всем, кто готовит персоналочку, товарищу Кашляеву, паршивому мафиози, в аккуратном галстуке и накрахмаленной рубашечке… Хотя для мафиози он слишком малоинтеллигентен, такие разминают почву для настоящих боссов, а те держат дома видеокассеты с роками и порнографией, закусывают импортным миндалем в соли, носят шелковые слипы, носки от «Кардена» и рубашечки японского шелка… Этим они вроде как мстят за то, что костюмы приходится носить отечественные, на людях надо быть скромными. Невидимое могущество, дерьмо собачье, наплодили мерзотину… А если б им дали работать легально, спросил я себя. Обложили б налогами и позволили делать деньги так, как они умеют? Что тогда?
— Какое отношение к безвинно засаженному строителю имеет художник Штык? — спросил Костенко.
— Я в процессе поиска, товарищ полковник… Или мне надлежит обращаться к вам как к «гражданину»?
— Странно вы говорите… Имели неприятности с нашими церберами?
— А кто не имел? Все имели…
— Это верно, — согласился Костенко. — У меня тоже был привод в «полтинник»… Знаете, что такое «полтинник»?
— Нет.
— Счастливый человек. Самое было страшное отделение на Пушкинской. Его снесли, к счастью… Мы ж все символами больше норовим изъясниться, а не словами: чтоб написать, мол, отделение, которое терроризировало людей, особенно глумилось над студенчеством и интеллигенцией, ныне закрыто, — в назидание всем другим, позволяющим унижать человеческое достоинство… Нет, не напишем… А снести — снесем, но без объясняющих слов… Сидели? Или, как у меня, привод?
— Целых три.
— Ну и, конечно, родная милиция посылала письма в институт?
— А ну?
— Из института исключали?
— Дали строгача…
Костенко усмехнулся.
— На меня страх какую телегу накатали… Написали, что я оскорблял достоинство славных орлов Лаврентия Павловича, — милиция тогда под ним ходила.
— Это вы меня так разминаете?
— Зачем? Вы ж не рецидивист. Если в чем виноваты — завтра сами расколетесь. Все интеллигенты текут после первой ночи в камере. До конца держится только тот, кому терять нечего… Я не разминаю вас, просто можно вернуть все, кроме времени. Ум хорошо, два — лучше.
Костенко снова достал из кармана свой аппаратик.
Я спросил:
— Очень нравится эта штука?
Жлоб наверняка бы рассердился: «С чего это вы взяли?» Лицо же полковника изменилось, сделалось странно застенчивым, вневозрастным, и он ответил:
— Безумно.
Настроив «воки-токи» на нужную волну, он спросил невидимого оперативника, что нового, и я услышал ответ:
— Мальчик впал в беспамятство…
Костенко спрятал аппаратик в карман, посмотрев на меня с некоторым недоумением:
— Едем в больницу… Я сейчас позвоню Шейбеко, он гениальный врач, надо что-то сделать…
Поманив своего верзилу, Костенко тихо сказал:
— Кто придет — задерживайте. Я предупрежу тех, кто на улице, чтобы они провожали всех подозрительных до подъезда.
Обернувшись ко мне, шепнул:
— Ну, с богом. На лестничной клетке не разговаривать, шагайте позади меня в десяти шагах.
— Погодите, — сказал я. — Давайте посмотрим под нижним ящиком, там может лежать письмо. Штык не знал, что в нем, бросил как ни попадя… Пусть ваш профессионал бесшумно вытянет ящик…
Письмо действительно лежало на полу. Вместо обратного адреса стояла подпись, я легко ее узнал: «Русанов».
Костенко каким-то факирским жестом достал из кармана платок, взял им письмо, его помощник открыл чемоданчик, полный таинственных предметов, необходимых для сыщицкой работы, положил его туда и защелкнул замочек.
— Зря вы эдак-то, — сказал я. — Вам «Русанов» ничего не говорит, а в моем расследовании это одна из ключевых фигур.
— Ключевая фигура в любом расследовании — отпечатки пальцев, — назидательно заметил Костенко. — После больницы заедем в отдел, сделаем экспертизу, и я ознакомлю вас с письмом.
— Вы не просто ознакомите меня с письмом, — я снова начал злиться, — а сделаете для меня ксерокопию… Потому что, несмотря на ваше вторжение в это дело, я буду писать мой репортаж, чего бы то мне это ни стоило.
…Около квартиры Ситникова полковник остановился, заглянул в пролет, убедился, что там никого нет, и шепнул:
— Валяйте на улицу, поверните направо, у гастронома остановитесь, я вас там подберу.
Возле гастронома толпилась очередь, выбросили «Сибирскую», все мои попытки пробиться за «Явой» оказались тщетными, пьянь отталкивала стремительно-острыми локтями, гноился тошнотворный запах пота и перегара.
Отойдя в сторону, я пересчитал свои сигареты — осталось четыре, причем одна искрошившаяся; похлопал себя по карманам — спичечный коробок оставил в ателье Штыка, по-моему, положил на край его койки, застеленной серым солдатским одеялом. Мне даже почудился явственный запах карболки. Странно, отчего-то мне казалось неестественным, что на этом одеяле нет черной поперечной полосы, у нас были именно такие во время лагерных сборов.
Обернувшись к одному из ханыг, я спросил:
— Огоньку не найдется?
Тот ответил пропойным голосом:
— Соколик, я здоровье берегу, чего и тебе советую…
И в это как раз время я услыхал шепот Костенко:
— Не оборачивайтесь! За вами следят. Идите к остановке и пропускайте троллейбусы, пока не увидите такси. Садитесь и называйте любой адрес, я вас догоню. Только такси берите не сразу, минут пять надо постоять на остановке, ясно?
Через десять минут такси, в которое я сел, обогнала серая «Волга», легко прижала к обочине, Костенко сделал мне знак, мол, быстро, я дал таксисту рубль, хотя на счетчике набило всего тридцать две копейки, и перескочил в машину полковника.
Костенко молча протянул мне паспорт, который я оставил Ситникову «в залог», и обратился к тому человеку, что сидел рядом с шофером:
— Ну-ка, покажите.
Тот обернулся, показал мне фото: на троллейбусной остановке из-за моей спины — прямо в камеру «полароида» — смотрели два крепко сбитых парня.
— Раньше не встречались? — поинтересовался Костенко.
Сначала я ответил:
— Нет.
Потом присмотрелся и ахнул: это были именно те парни, что заказывали себе «наполеоны» в кафе, где мы с Лисафет дожидались Гиви Квициния.
— Знаю обоих, — ответил я. — Точнее, не знаю, но видел их при весьма занятных обстоятельствах.
— В Чертаново, — коротко бросил Костенко шоферу.
— Зачем?! — удивился я. — Надо же в клинику Склифосовского!
— Шейбеко заберем.
Достав из деревянного ящика телефонную трубку, Костенко набрал номер, попросил Романа Натановича, поинтересовался, где матушка, Анна Ивановна, давно ли уехала, потом, когда трубку взял Шейбеко, помягчел лицом:
— Рома, я за тобой… Нет, пока без наручников… Да… Штык… Ах, знаешь? А за тобой прислали машину? Дольше прождешь. Я под светофоры за пять минут приеду, спускайся.
…Когда Шейбеко сел в машину, я подумал, что эти седые, франтоватые, благоухающие незнакомыми мне одеколонами люди должны говорить о том, что пристало их возрасту, но полковник, усмехаясь чему-то, склонился к доктору, заметив:
— Позавчера Мишаня Коршун выступил в «Будапеште». Отмечал рождение внука. Конечно, не обошлось без процесса, был разбор, он же старый мастер толковищ… Батон запивал каждый рок-н-ролл валокордином, но был неумолим… Мне, знаешь, было чуток страшно: прошло тридцать пять лет, а я не чувствую, чтобы они изменились хоть в малости. За Левона, конечно, пили… Игоря помнишь?
— Блондина?
— Да.
— Получил генерала.
— Что ты говоришь! Но он же был автодорожником.
— Так он и есть автодорожник, доктор наук и генерал.
— Может, хоть что-то с нашими дорогами изменится. Позор, а не дороги, зря наших туристов в Европу пускают, насмотрятся порядка, начнут бранить власть.
Костенко вздохнул:
— Задушим… Наденем наручники — и в Соловки…
— Лариса была?
— До сих пор тоскуешь по ней?
— Но коммент, полковник…
— Она разошлась с Кирилловым.
— Знаю.
— Несчастная девка… Смешно. «Девке» сорок девять лет… Нет, положительно, мы нестареющее поколение.
— Как можно стареть нашему поколению, если мы были лишены детства и юности? Сразу стали взрослыми.
Костенко покачал головой:
— Мишаня уже на пенсии, за вредность им начинают отстегивать в пятьдесят пять, так он, знаешь ли, взял за полтысячи патент, калымит на «жигуленке», обещает через год позвать за город — «куплю дачу», счастлив — рот до ушей… А Батона до сих пор мучают с патентом на домашний пансион — у него же трехкомнатный кооператив, одну комнату готов сдавать — с семейными обедами. Так нет же, не дают: «тащить и не пущать», демократия имени «нет»…
— Не можешь позвонить в исполком?
— Конечно, не могу… Почему полковник угрозыска просит за «проклятого частника»? Не иначе как получил взятку… В таких вопросах понятие «дружба» исключается нашими контролирующими бдунами. Никак не возьму в толк, откуда в наших людях такая трясучая ненависть к тому, что облегчает им жизнь сервисом? И слово-то какое паскудное изобрели — «частник»? Все жители Советского Союза — с точки зрения формальной логики — частники.
Я не выдержал:
— То есть, как это?
— Очень просто, — ответил Костенко, удосужившись наконец представить меня доктору: — Это репортер Варравин.
— Тот самый?
— Видимо, — ответил Костенко.
— Это вы о чем говорите? — снова озлился я. — О комоде или чайном сервизе?
— Мы говорим о вас, — ответил Шейбеко. — Я разыскал вас по просьбе Штыка.
— Так я закончу? — продолжал Костенко, мельком глянув на часы.
Он дает Шейбеко время на расслабление, понял я. Очень важно суметь расслабиться перед работой. Нет, положительно, этот Костенко знает свое дело, крутой мужик… Хотя к нему более приложимо — судя по тому, как он говорил с доктором, — «парень».
— Мне интересна ваша точка зрения, — сказал я. — Она имеет прямое отношение к делу Горенкова… Кстати, вспомнил! Тот, квадратный — ну, которые следили за мной, — все время шаркает ногами, сидя за столом… Словно бы у него недержание…
— А может, он страстный? — возразил Костенко. — А за деталь — спасибо, это для меня важно… Что же касается частника… Вот вы, например, частник? Можете не отвечать, я про себя скажу: частник — у меня есть «Жигули» и полдачи во Внуково. «Борцы с нетрудовыми доходами» достали из меня пару литров крови, требуя квитанции на каждый гвоздь и рулон рубероида. А я дальновидный, заранее ждал доноса — все бумажки хранил подшитыми… Нет бы этой комиссии заняться грязью в подъездах, незавершенками, очередями — ан не хотят! Там работать надо, а здесь схарчил ближнего — и кайф. Кстати, я даже знаю, кто на меня сигнализировал… Подполковник Сивкин, — пояснил Костенко доктору. — Помнишь, он со мной приезжал в морг, когда зарезали Маркова?
Шейбеко кивнул.
Костенко продолжил, снова мельком глянув на часы:
— И знаете, почему именно он стучал? Потому что пил втемную… Под одеялом. Он все пропивал, а я откладывал деньги в течение десяти лет. С каждой зарплаты. И в отпуск не ездил… Я вообще очень хороший человек, — заключил он. — Благодаря этому высший разум удерживает меня от неразумных поступков…
— Меня тоже, — ответил я. — Именно поэтому я еще не собрал ни на машину, ни на половину дачи. Значит, я — не частник.
— А шкаф у вас есть? — Костенко посмотрел на меня в упор. — Койка? Чья это собственность? Ваша? Давайте же заменим слово «частник» на «личник»! Ни Маркс, ни община не возражали против личной собственности.
Шофер резко затормозил возле Склифосовского. Лицо Костенко мгновенно изменилось, сделалось жестким, собранным:
— Ромка, спасай художника!
Через три часа белый Штык медленно поднял глаза с фотографии двух молодцов, показанной ему Костенко, и чуть заметно кивнул.
Через двадцать минут мы приехали с Костенко в научно-технический отдел, там что-то сделали с конвертом, потом с письмом Русанова, а уже после Костенко протянул мне ксерокопию. Письмо было коротким:
«Дорогой Валера! После нашего давешнего разговора о том, какой должна быть роспись зданий в Загряжске, я пришел к определенному выводу: только традиционный рисунок, никаких уходов в «новации». Хватит, ей-богу! Ваши слова про то, что такого рода живопись должна будить мысль, быть броской, заметной, меня несколько огорчили. Откуда у Вас, крестьянского мужика, такая страсть к внешним эффектам?! Как Вы, крестьянский сын, миритесь с чужим?!
Берегите в себе исконно национальное, только в этом спасение нашего духа, который не принимал и никогда не примет чужеземных влияний…»
Костенко пожал плечами:
— Или Белинский не славянин, или Гегель белорус — одно из двух… Почему запад может заимствовать у нас Чайковского и Блока, а нам заказано брать то, что интересно у Флобера, Хемингуэя или Крамера?
«Я очень прошу вас сделать эскиз для Загряжска в истинно традиционном духе, не бойтесь куполов и тревожного предзакатного неба, в котором затаено предостережение чуждым силам, только и думающим, как бы источить изнутри и разнокровить нас. Поверьте, мною движет долг патриота, хватит, и так нас достаточно унижают»…
— Кто может унизить великую нацию? — удивился Костенко. — Мазохизм какой-то! Совершенное отсутствие чувства гордости за свой народ, плакальщик…
«Национальный мотив для Загряжска мне важен еще и потому, что там, среди строителей, объявился наш противник, а к разговору с ним надо быть подготовленным. Око за око, зуб за зуб».
— Вот оно, — сказал я. — Вот почему они охотились за Штыком, вот почему им так нужно это письмо…
— Поезжайте домой, я заеду к нашему парню, который остался караулить мастерскую, — задумчиво сказал Костенко, снял трубку телефона, попросил укрепить «ноль — двадцать второго», но сделать этого не успели, ибо через минуту пришло сообщение, что в мастерской Штыка задержаны два неизвестных. Ими оказались те, что пасли меня, Лизу и Гиви. После того как я формально опознал их, Костенко сказал:
— Все, теперь начинается работа. Перезвонимся завтра к вечеру. Меня интересуют их пальцы. Во дворе дома Штыка мы нашли обломок водопроводной трубы со следами крови, есть отпечатки…
Однако перезвониться нам пришлось этой же ночью: открыв свой письменный стол, чтобы классифицировать все собранные материалы для Костенко — этому парню можно доверять, — я увидел незнакомую мне записную книжку. Сначала я не обратил на нее внимания. Открыв первую страничку, обмер. Я позвонил Костенко, кляня себя за то, что не спросил его домашний номер. Он тем не менее трубку снял сразу же.
— Слушайте, полковник, — сказал я, — приезжайте ко мне, а? Дело в том, что в моем столе лежит записная книжка Штыка с несколькими вырванными страницами…
— Вы ее как следует осмотрели? — рассеянно поинтересовался Костенко.
Я отодвинул от себя книжку, поняв, что пальцев моих на ней предостаточно.
— Было, — признался я. — Идиот.
— Самокритика угодна нынешнему этапу развития общества, — хмыкнул Костенко. — Сейчас буду.
— А чего ж адрес не спрашиваете?
— Знаете что, не играйте, бога ради, в частного детектива, ладно? Прекрасно же понимаете, что ваш адрес мне стал известен в ту же минуту, как только я узнал, что ваше имя произнес Штык.
XXIV Иван Варравин и Всеволод Костенко
— Когда это вы успели побриться? — спросил я, пропуская Костенко в квартиру. — Судя по всему, домой не ездили.
— Бритву держу на службе, жужукает, профилактика нервной системы. Следом за ним — я чуть было не толкнул человека дверью — вошел давешний громадина, что взял в засаде у Штыка взломщиков.
— Товарища зовут Миша, — пояснил Костенко. — Он посмотрит вашу дверь, поищет чужие окурочки, не святой же дух занес сюда эту записную книжку… Должны быть пальцы…
Окурков не было. Дверь не вскрывали, и я вдруг с ужасом понял, что лишь один человек мог войти сюда, кроме меня, отпереть ящик стола и положить туда книжку Штыка. Этим человеком была моя жена, Оля.
…Когда верзила уехал в управление, чтобы продолжить работу с двумя задержанными, а Костенко вызвал бригаду «науки», чтобы искать отпечатки пальцев, я отправился делать чай и яичницу: полковник признался, что смертельно голоден.
— Не помешаю? — спросил Костенко, протиснувшись следом за мной в пятиметровую кухоньку, — я терпеть не могу, когда мне смотрят в спину.
— Глядите себе, я на это не реагирую.
— Устали?
— Видимо… Но — не чувствую, напряжение держит… Сейчас сделаю глазунью и расскажу вам всю историю… Покажу мои записи, копии документов, беседы, наброски репортажа, — дело еще только разворачивается…
Я снял сковородку с конфорки, переложил глазунью на большую тарелку и повернулся к полковнику, приглашая его в комнату.
— Давайте здесь, — сказал он. — Обожаю кухни.
— Уместитесь на табуретке?
— Думаете, у меня дома на кухне кресла стоят? Ну, договаривайте.
— Я бы только просил вас выполнить то, о чем попрошу…
— Для этого надо знать, что намерены просить.
— Ваши научные эксперты, полагаю, найдут здесь отпечатки пальцев моей жены.
— И у меня б дома тоже нашли, не мудрено.
— Погодите…
— Я слушаю, слушаю…
— Дело в том, что жена ждет ребенка, живет у матери. У меня ее не было последние четыре месяца… Но сегодня, возможно…
Костенко прервал меня:
— Ну, и что я должен сделать, если мы обнаружим здесь ее пальцы?
— Ничего. Забыть об этом. Не включать в протокол.
— То есть? — Костенко удивился. — Я что-то не очень понимаю конструкцию вашего размышления…
— Правильно, — согласился я. — Не поймете до тех пор, пока я не расскажу вам всю историю…
И я рассказал о том, как получил письмо Каримова, — не я, конечно, а редакция. Рассказал о Горенкове, Кузинцове, Чурине, Русанове, Штыке — обо всем, словом, что произошло в последние дни…
Реакция Костенко оказалась странной. Напрягшись, он подался ко мне:
— Опишите-ка мне Чурина, а? Как мы говорим, дайте словесный портрет.
— Я его не видел. Только фотографии…
— Неважно. Он блондин?
— Скорее русый. Очень крупный…
— Очень крупный, говорите? — Костенко перешел к чаю. — Занятно… На подбородке вмятинка есть?
— Да. А в чем дело?
— К сожалению, не могу вам ответить, Иван Игоревич… Речь идет о служебной тайне… На данном этапе, во всяком случае. Но я не совсем понял про вашу благоверную. Договаривайте… Когда нет одного звена, вся цепь рушится.
…Полчаса назад, как только я вошел в квартиру, позвонила Лиза. Говорила быстро из автомата:
— Я с Гиви! Куда ты запропастился? На собрании все будет в порядке! Не волнуйся! Все выступят за тебя. Я — первая, чтобы снять гниль… Сейчас мы около Тамары… Сначала к ней приехал Русанов, а потом Оля с ее мамой. Видимо, с мамой, я так подумала… Высокая дама, седая, красивая, с очень большими глазами…
Это была Глафира Анатольевна, сомнений быть не могло.
— Лиза, — как можно спокойнее сказал я, — сейчас же иди к Гиви… Не будь одна ни секунды, возможно, за вами смотрят.
Она рассмеялась:
— Дорогой товарищ Шерлок Холмс, о чем ты?!
— Пожалуйста, сделай то, что я тебе говорю. И скажи Гиви, что те два парня, что сидели в кафе — помнишь, они вошли следом за ним, такие квадратные, — арестованы…
— Какие парни?!
— Они сели возле двери, один еще постоянно шаркал ногами…
Лиза вздохнула:
— Не смотрела я ни на каких парней! Я всегда на тебя смотрю… Ой, погоди, тут три человека ждут очереди, позже перезвоню…
— Лиза! — закричал я, но она положила трубку.
Выслушав меня, Костенко сокрушенно покачал головой, позвонил в управление, сказал, чтобы срочно получили фото замминистра Чурина, потом, назвав адрес Тамары, попросил немедля отправить туда группу…
— Вообще-то вы зря обо всем этом не рассказали с самого начала…
— Тогда я не имел бы права выступить с моей публикацией. В действие вступит бюрократическая машина…
— Имеет место быть, — согласился Костенко. — С одной стороны… А с другой — я волнуюсь за ваших друзей. Мужество — хорошо, безрассудство — преступно… Кстати, вы — цепко-наблюдательный человек: один из арестованных, Антипкин, действительно постоянно шаркает ногами, словно боится описаться… Выдержкой вы тоже не обделены, — я бы сразу сказал о звонке вашей приятельницы, возможно, и она ходит по лезвию бритвы… Значит, полагаете, благоверная принесла сюда записную книжку Штыка и сунула ее в ваш письменный стол?
— Никто другой этого сделать не мог. Или я, или она.
— А какой ей навар? Или — чары злодейки Тамары?
— Вы верите в гипноз, магию и прочее?
— Верю. Но с определенного рода допусками. Можно, я задам вам вопрос? Только без обид, по-мужски?
— Если этот вопрос тактичен…
— Любой вопрос тактичен, если предполагает возможность ответа. Вопрос и право на ответ — визитная карточка демократии.
Все-таки у нас дурацкое воспитание: всех и каждого мы норовим встретить по одежке… С юности — и не потому что жили мы туго — я не верю надушенным седоголовым красавцам в шелково-переливных костюмах… В сороковых, говорят, такого рода людей обзывали «плесенью», «стилягами» (дико, ведь «человек — это стиль»?!), потом в пятидесятых Никита Сергеевич, добрый человек, проповедовал «косоворотку», а уж после началась пора галстуков, жилеток, крахмальных сорочек, переливных костюмов, пора болтовни и безвременья… Этот полковник забивает гвоздь по шляпку, точен в формулировках, атакующ и честен…
— Спрашивайте, — сказал я.
— Меня интересует вот что… Вы с Олей подходили друг другу? Она по-настоящему чувствовала вас? Вы — ее?
— Я ее… Я любил… Даже не знаю, как сказать — в прошлом или настоящем… Мне было с ней очень хорошо…
— А ей? Я не зря спрашиваю… И дело не в том, сильный вы мужчина или слабый, просто существует такой термин, как «сексуальная совпадаемость»… И она обязана быть двухсторонней. Я спрашиваю не из пустого любопытства — оно, вы правы, было бы верхом бестактности… По нашим данным, к чародейкам идут женщины, обделенные… нежностью… Я не говорю ни о беде с пьяницами мужьями, ни о скандалах из-за того, что молодые живут в одной комнате со стариками, — это не ваш случай… Я размышляю именно о чувственности… О том, что принадлежит только вам двоим… Знали б проблему — могли дать научную рекомендацию: «Вы друг другу не подходите, лучше расходитесь, пока нет детей, потом будет сложнее, да еще искалечите жизнь ребенка…» Перетерпится — слюбится!.. Мура собачья, хватит терпеть попусту! Тем более в любви… А вопрос совпадаемости биополей? Раньше мы это понятие гоняли: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда»… А теперь уперлись лбом в проблему и снова поняли: опоздали в теории, отстали лет на тридцать и айда погонять… Наука — не конь, из-под плетки работать не может.
— Я допускаю другую возможность… Хотя не отвожу те две, о которых вы сказали… Оля… Моя жена… Она очень скрытный человек… Может быть, я чего-то не понимал, а спросить в лоб мы не умеем, россияне не американцы — те все называют открыто, без околичностей… Но мне кажется, что Тамара подбиралась через Олю к ее матушке…
— Почему?
— Это тоже — вне дела, только для размышления, ладно? Тогда — расскажу.
— Я боюсь ответить утвердительно…
— Почему?
— Потому что в деле, которое начинает вырисовываться, нельзя ничего отводить в сторону… Я буду обязан встретиться с вашей тещей… И с женой тоже — если здесь обнаружат ее пальцы… Я понимаю, женщина ждет ребенка, жизнь на сломе, понимаю — жестоко. А если с этим связана трагедия Штыка? Поэтому, думаю, и о теще надо подробнее сказать…
— Я всегда брезговал стукачами, полковник… Я не намерен изменять своей позиции…
— Вы мне симпатичны, Иван Игоревич, но не надо ездить по травке на коньках… Вы же прекрасно понимаете, что я, увидав вас в мастерской Штыка, обязан понять до конца, отчего вы там объявились… За вас говорит показание Шейбеко: художник, мол, вас истребовал, как только открыл глаза. Это в вашу пользу. Вы вели свое расследование, и здорово это делали, я восхищен, это честно… Но ведь вы не хотите открывать всю правду не только потому, что речь идет о ваших близких… Вы по-прежнему опасаетесь, что это может помешать публикации вашего сенсационного исследования… Или я ошибаюсь?
Сначала я хотел ответить однозначным — «нет, не боюсь», но потом ощутил в словах Костенко известную долю истины. Да, профессия, особенно наша, действительно делает человека своим подданным… Наверное, иначе нельзя… «Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех»… Но ведь ты думаешь о собственном успехе, сказал я себе, это живет в тебе, может, даже помимо воли. Воля тут ни при чем, возразил я себе. Это естественное состояние личности: видеть результат своего труда не безымянным, а позиционным, напечатанным ко всеобщему сведению.
— В чем-то вы правы, — ответил я. — Я не думал об этом раньше.
— Спасибо, что сказали правду, — вкрадчиво, понизив голос, приблизился ко мне Костенко. — Но ведь вы бы не смогли написать всю правду, исключив те эпизоды, которые, возможно, носят исходный характер? Я имею в виду членов вашей семьи. Обвинять всех, кроме тех, кто близок? Нас за такое судят: самовольный вывод из дела обвиняемого… Даже свидетеля…
— А я не стану их исключать… В том, конечно, случае, если мои, как вы говорите, близкие были втянуты в это дело.
— С точки зрения этики такое допустимо? — поинтересовался Костенко. — Точнее: целесообразно?
— Исповедальная литература — одна из самых честных.
— Согласен. Но ведь вы журналист, а не писатель. Вам надо соотносить себя с фактором времени. Журналистика реализуется во времени, литература — в широте захваченных ею пространств. Верно?
— Верно.
Костенко попросил у меня разрешения позвонить.
— Валяйте, — ответил я.
Он набрал номер, спросил, как дела с тем адресом, который продиктовал (квартира Тамары, понял я); покивал, произнося нетерпеливо-вопрошающе: «ну», «ну», «ну» (видимо, сибиряк), потом поинтересовался, где «они», удовлетворенно хмыкнул, хрустко вытянул ноги, как-то по-актерски, скрутил их чуть что не в жгут, сказал, чтоб «не мешали», и мягко положил трубку.
— Кто там? — спросил я.
— Сейчас приедут ваши друзья. Они сделали мою работу. Им можно давать звания лейтенантов. Я бы дал майоров, но наши бюрократы в управлении кадров не позволят. Благодаря вашим друзьям завтра я арестую одного из тех, кого вы пасли.
Я опешил:
— Это как?!
— Потом объясню. Сейчас не имею права, честное слово… Сталинские времена научили меня умению молчать наглухо. Мы сейчас в словах смелые, а тогда… Сбрякнешь что в компании — вот тебе и пятьдесят восьмая статья, пункт десять, призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти, срок — до десяти лет.
…Когда позвонили в дверь, Костенко резко поднялся, в нем снова появилось что-то кошачье, изменился в мгновенье и, мягко ступая, пошел — совершенно беззвучно — к двери; приникнув к глазку, несколько секунд разглядывал ночных гостей (явно не его бригада из «науки»), потом, отперев замок, рассмеялся:
— Квициния, ты тоже в деле?!
Ну и ну, подумал я. Кто кого выслеживал эти дни: мы — Русанова с Кузинцовым или нас — Костенко?!
— В деле, товарищ полковник, — ответил Гиви, пожимая руку Костенко. — И вы, как вижу, тоже?
— Я дотягиваю до пенсии… Все жду: вдруг генерала дадут?!
— Не дадут, — вздохнул Гиви. — Вы слишком умный, за это мы вас так любили на курсе.
— Вы не могли не любить своего доцента, — ответил Костенко. — Иначе б я вас лишил стипендии. Перед начальством надо благоговеть. Ну, так как же вы ушли от наблюдателей?
— Чьих? — Гиви вымученно улыбнулся. Лица на нем не было, синяки под глазами, щетина, щеки запали, нос торчит, как клюв, замучился мой адвокат.
— Ваши забрали тех голубей, что нас топтали, а мы воспользовались услугой индивидуального извоза.
Костенко несколько самодовольно хохотнул:
— «Индивидуальный извоз», кстати, осуществлял мой капитан Кобылин.
…Отведя меня в сторону, Костенко, отвернувшись к окну, негромко сказал, чтобы я завтра взял бюллютень и ни в коем случае не появлялся на работе в течение ближайших трех дней. «Ваше персональное дело, — заключил он, — мне невыгодно… Хотя, следуя вашей фразеологии, вношу коррективу: «нам». Ясно? Оно невыгодно «нам». — «Я никогда не играл труса». — «Тогда заодно научитесь не быть дураком».
Бригада экспертов из научно-технического отдела не нашла пальцев моей жены, зато наследил Антипкин-младший. Замок не вскрывали — значит, ключ ему отдала Оля, больше некому.
…Рассвет я встретил у окна — так и не уснул, потому что не мог ответить себе на вопрос: зачем надо было приносить в мой дом записную книжку художника? Лишь один человек мог сказать, что я не умолчу об улике в моем письменном столе, — лишь один: моя жена. Я отдавал себе в этом отчет, но не мог согласиться с очевидной данностью, все мое естество восставало, и поэтому я впервые в жизни понял выражение, которое раньше казалось мне литературным, слишком уж метафорическим: «смертельная усталость».
XXV Я, Кашляев Евгений Николаевич
С Тихомировым я встретился три года назад у писателя Ивана Шебцова, когда тот пригласил на чашку чая композитора Грызлова. Речь шла об организованной атаке вокально-инструментальных ансамблей на серьезное, истинно народное искусство.
— Вот, полюбопытствуйте, — раздраженно говорил Грызлов, доставая из портфеля папку, — презанятнейший документик: заработки рок-джазистов за квартал… Волосы встают дыбом!
Пролистав сводки, Тихомиров заметил, что музыкант, получающий такие деньги, может стать неуправляемым, процесс тревожен — кто-то открывает ворота для вторжения западной массовой культуры.
Шебцов поднялся с лавки, быстро заходил по большой комнате. Его исхудавшее, одухотворенное лицо порою казалось мне ликом Аввакума.
— А мы продолжаем болтать! — резко выкрикнул он. — Амебы! Трусливые хамелеоны! Скоро по радио нельзя будет услышать ни одной нашей песни! Одна Пугачева с этим безумным Чилинтано! Налицо факт национального предательства! А мы?! Молчим в тряпочку! Трусливые мыши!
— Эмоции приглуши, — посоветовал Тихомиров сухо. — Предложения вноси! Болтать все здоровы… Сегодня — как бы мы ни сигнализировали — предложат провести опрос общественности, что, мол, хочет слушать молодежь? А ее развратили! Лишили вкуса! И опрос этот самый мы проиграем, даже если организуем тысячи писем от своих людей… Работать надо исподволь, не торопясь, целенаправленно… Вопрос заработков интересен… Это заставит насторожиться власть предержащих… Тоже люди, кстати говоря…
— Одну минуточку, — резко перебил его Грызлов. — Власть предержащие умеют зрить в корень… Они потребуют данные и о моих заработках… Не только моих, конечно, но и всех наших… И наверняка кто-нибудь резюмирует: «Кричат, оттого что их заработки резко упали из-за конкуренции тех, кого поет молодежь…» Не надо трогать гонорары, — заключил он, — это палка о двух концах… Главное, на что надо жать: мы теряем самый дух нашей песни, ее лад и традицию!
Шебцов махнул рукой:
— Ерунда! Мы не затрагиваем суть: до тех пор, пока разрешают декламировать песни о русском поле на плохом русском языке, мы с мертвой точки не сдвинемся…
Тихомиров заколыхался — это он так смеется:
— Любопытно, кто напечатает твой пассаж? Если бы мне удалось открыть свой журнал — одно дело, но ты же понимаешь, что в ближайшем будущем на это рассчитывать не приходится… Одна надежда на нашего молодого друга, — он обернулся ко мне. — Можете как-то помочь делу, Женя?
Я знал, что именно благодаря Тихомирову меня не вытолкали из общественной жизни, а перевели в редакцию — переждать трудные времена. Я понимал, что это было сложно сделать при той рубке, которая началась. Тем не менее обещать что-либо определенное я не мог, поскольку несколько дней назад в отделе обсуждался этот же вопрос и Нарышкина выложила на стол статистические таблицы:
— О том, что начался заговор против нашей песни, кричат дрянные музыканты, которых оттеснили именно русские ансамбли, не только Пугачева и Битлы — те же Надя Бабкина и Дмитрий Покровский… Эти художники не только спасают традиции, которые мы дружно разбазариваем, но и лепят психологию нового человека — раскованного, без комплексов, легко выходящего на сцену, чтоб войти в хоровод. У нас люди до сих пор смущаются поддержать певца: тот просит-просит, прямо умоляет, мол, спойте вместе со мною, похлопайте в такт, а зал сидит как забинтованный… Комплексы! А посмотрите, как американцы своим «деревенским музыкантам» подпевают! Вот, ознакомьтесь, как новые коллективы русской классики, — она ткнула пальцем в таблицы, — ударили по заработкам бездарных сочинителей а-ля рюс, — все станет ясно!
Я не стал передавать слова Нарышкиной, поскольку Шебцов может не выдержать, у него порою сердце останавливается, надо щадить человека. Я нашел слова, которые устроили всех: «Если бы редакция получила письма ветеранов, направленные против музыкальных программ телевидения и радио, подборку, думаю, можно напечатать».
Тихомиров сразу же меня поддержал, пообещал организовать письма не только из России, но и из Таджикистана, Грузии и Литвы: «Надо соблюсти декорум, главное перекрыть кислород паршивым западникам, с республиками вопрос решим, в конце концов, у них есть национальное вещание, пусть себе играют на бандурах».
Публикацию подборки писем читателей я пробил, хотя пришлось дать три письма и в поддержку рок-музыки, причем выступили не какие-то юнцы, а делегат съезда комсомола, космонавт и профессор-биолог… Зато в поддержку хорового пения высказались ветеран, студент и учитель.
После этого два раза мы встречались с Тихомировым с глазу на глаз, планируя кампанию газеты против нетрудовых доходов. Мы понимали друг друга с полуслова, а порою и просто обмениваясь взглядами…
Сегодня он неожиданно позвонил на работу: «Подъезжайте на десять минут в кафе-мороженое на улицу Горького».
Встретившись, я понял, что он очень торопится; говорил поэтому рублено, хотя, как всегда, корректно:
— Я уже осведомлен о том, что вы начинаете персональное дело Варравина. Исполать вам. Но совершенно необходимо срочно организовать выступление газеты по делу Горенкова. Статья должна быть взвешенной: «Ни один хозяйственник не гарантирован от ошибок и злоупотреблений. Горенков не был злостным расхитителем, просто он не подготовлен к такому уровню, на который его выдвинул Каримов или же те, кто поддерживает Каримова. Если кто и виноват, то именно Каримов, не проявивший максимума внимания к растущему работнику. Надо выдвинуть предложение о немедленном пересмотре дела Горенкова»… Да, да, именно так… Но все — в пастельных тонах… Горенков повинен в гусарстве, халатности, но не в злоумышлении, — это даст ему свободу… Гуманизм, прежде всего гуманизм, Женя… И непременно расскажите о недобросовестности молодого репортера, пытавшегося на трагедии человека сделать себе имя: такого рода поведение в нашей прессе недопустимо.
Я предложил переговорить с Эдмондом Осининым, пишет он зло, резко, если возьмется — разнесет в щепы.
— А уговорите? — спросил Тихомиров. — Он не является героем моего романа, признаюсь: слишком мылист, выскальзывает из ладоней.
— У меня есть возможности подействовать, — ответил я. — Он прислушивается к мнениям, постараюсь организовать.
Я сказал так не зря: еще работая в горкоме, мне пришлось дважды встречаться с Осининым в кабинете первого секретаря на совещаниях для узкого круга. Его пригласили, потому что замолвил слово один из литературных патриархов, над сыном которого он в свое время шефствовал. Выступил он там лихо, ударил по бюрократии и перестраховке, опираясь на брежневскую «Целину». Книгу трактовал как пламенный призыв к инициативе, рассматривал некоторые главы и фразы неожиданно, достаточно смело, именно тогда первый заметил: «Вот как надо выступать, товарищи! Я посоветую Лапину активнее использовать Эдмонда Лукьяновича на телевидении, там не хватает писательского слова».
Помощники сообщили об этой реплике первого кому надо, и Осинина после этого легко приняли в Союз писателей. Точно зная, на кого следует ставить — ласковый теленок двух маток сосет, — он предложил свои услуги патриархам в качестве литературного функционера; в газете стал обозревателем по вопросам культуры; подготовил том избранных очерков, но поданы они были словно новая форма прозы; как и полагается, задействовал связи, после чего появились десятки рецензий: «Свежее слово в литературе». Однако при этом, мне кажется, в глубине души Осинин понимал, что никакой он не писатель, и поэтому все время охотился за острыми темами, чтобы завоевать читателя не мастерством, а сенсацией — на это все падки.
…Я пришел к нему в кабинет лишь после того, как были организованы два звонка от нужных людей, сказал, как меня покорила его последняя телевизионная программа, «вы теперь выступаете не только как большой писатель, но как политический деятель с собственной линией». Он обожал, когда его хвалили, об этом мне нашептали в редакции. Осинин похлопал меня по плечу: «Старикашка, это все суета, главное — впереди… Ну, рассказывай, что у тебя? Времени — в обрез».
— Эдмонд Лукьянович, полагаю, вы поймете меня верно: я бы хотел, чтобы этот разговор остался между нами… Речь пойдет о судьбе невинно осужденного человека — с одной стороны, а с другой — о будущем нашего товарища, Вани Варравина.
Поскольку на каждого мало-мальски заметного человека я начал вести досье — родословная, связи, компрометирующие материалы, моральный облик, — я знал, что Осинин далеко не простое явление: всю жизнь он искал и налаживал связи с влиятельными, глубоко патриотическими силами на литературном фронте, хотя выступал порою с материалами, которые явно грешили новационными перекосами. Была даже зафиксирована фраза, сказанная в кругу его близких: «Интересно, кто из писателей, кроме меня, решится поставить вопрос о таинственном роке, тяготеющем над Россией?! Действительно, начиная с Петра Великого против всех прогрессивных реформ поднималась неподвижная, но могучая оппозиция: «Пусть все будет по-старому, любое новшество неугодно и вредит нашим традициям…»
Поэтому я сказал о Варравине так, чтобы это понравилось Осинину, ибо позиционно, глубоко таясь, он все же чем-то близок Ивану. Конечно, люди его ориентации лишены того, что объединяет нас. У них нет крутой общности — один за всех и все за одного, — пусть даже этот один в чем-то и не прав. Интеллигенты-леваки разобщены, каждый тянет одеяло на себя, борьба амбиций, этим-то и следует пользоваться, покуда не поздно. Если бы дело Горенкова описал кто из наших, — один коленкор. А когда выступит их же, в общем-то, чужой нам, — дело приобретет другой оттенок, да и в будущем возможны варианты… Воистину, идея «разделяй и властвуй» не так уж плоха, хоть и пришла от католичества, давно предавшего идеи церкви.
Не зря я тщательно изучил досье на Осинина. В его ранних публикациях времен «оттепели» нашел цитаты Ленина, которые он привел в своем материале о самоуправстве одного из начальников леспромхозов в Башкирии: «Башкиры имеют недоверие к великороссам, потому что великороссы более культурны и использовали свою культурность, чтобы башкир грабить. Поэтому в этих глухих местах имя великороссов для башкир значит «угнетатель», «мошенник». Надо с этим считаться, надо с этим бороться. Но ведь это — длительная вещь. Ведь это никаким декретом не устранишь. В этом деле мы должны быть очень осторожны. Осторожность особенно нужна со стороны такой нации, как великорусская, которая вызвала во всех других нациях бешеную ненависть, и только теперь мы это научились исправлять, да и то плохо. У нас есть, например, в Комиссариате просвещения или около него коммунисты, которые говорят: «Едина школа, поэтому не смейте учить на другом языке, кроме русского. По-моему, такой коммунист — это великорусский шовинист».
Я, честно сказать, не поверил своим глазам, пошел в справочный отдел, там подтвердили: действительно, Ленин сказал это в докладе о партийной программе… Март девятнадцатого, восьмой съезд РКП (б).
Я знал, что сейчас Осинин активно налаживает блок с теми, от кого зависит присуждение ему премии, готов на все, чтобы его загибы были забыты. Поэтому я и помог ему, сказав, что люди, подобные Каримову, компрометируют братскую дружбу народов, подставляют под удар русских специалистов в затаенной попытке торпедировать перестройку. «Я понимаю, — добавил я, — что тема эта весьма деликатная, но кто, кроме вас, сможет поднять ее? Ведь у всех на памяти, как вы, именно вы, мужественно выступили в защиту замечательных башкирских тружеников, попавших в беду из-за нашего самодура… Мы смело критикуем своих, но ведь это не значит, что все другие огорожены от критики! Если равенство, так уж во всем, иначе-то и рождается дисбаланс! Если что и объединяет людей, то лишь наш великий и могучий язык…»
Осинин в задумчивости отошел к книжному шкафу, достал ленинский сборник «О культурной революции» и, заученно открыв страницу, заложенную красной картоночкой, зачитал:
— «…Мы думаем, что великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни было должен изучать его из-под палки… Те, кто по условиям своей жизни и работы нуждаются в знании русского языка, научатся ему и без палки. А принудительность (палка) приведет только к одному: она затруднит великому и могучему русскому языку доступ в другие национальные группы, а главное — обострит вражду, создаст миллион новых трений, усилит раздражение, взаимонепонимание и т. д. …Кому это нужно? Русскому народу, русской демократии — это не нужно…» Вот так-то, Женя… Что же касается Каримова, то, судя по вашему рассказу, он руководствуется не столько националистическими мотивами, сколько пытается дестабилизировать ситуацию в автономной республике, саботировать новое… Или вы мне не все договорили? Выскабливайтесь, мой друг! Если уж честность — то избыточная.
Я ответил, что дополнительной информацией не располагаю, я именно так понял Варравина, а у меня нет никаких оснований ему не доверять, но поскольку в ближайшее обозримое будущее ему нельзя публиковаться в газете, мы не вправе пассивно ждать, пока Горенков помрет в колонии.
Я внимательно изучал лицо Осинина, когда он просматривал материалы, которые я ему приготовил: Тихомиров организовал письма в редакцию не только из Загряжска. Работа была сделана быстро и профессионально. Примат количества очевиден, пока-то еще разберутся с качеством! Против массы — не попрешь, а в наше время организовать массу проще простого: десять телефонных звонков — вот тебе и двести писем, реагируйте!
Я понимал, что Осинин не может не ухватить крючок: всякое выступление в защиту зазря обиженного человека работает на репутацию, закладывается в читательскую память, повышает авторитет, свидетельствуя о смелости писателя: «Смотрите-ка, во имя правды и справедливости не побоялся жахнуть по Председателю Совета Министров!» От такого материала отказаться трудно, несмотря на то, что вопрос журналистской корпоративности, как я успел убедиться, в среде газетчиков чрезвычайно щепетилен…
— Ну, хорошо, — задумчиво сказал Осинин, — а что, если вам поговорить с Ваней Варравиным? Отношения ведь у вас добрые?
— В высшей мере…
— Я думаю, он поймет: в нынешней ситуации промедление действительно смерти подобно. Вопрос однозначен: либо он думает о своей журналистской карьере, либо о принципе… Когда разбор его персонального дела?
— Это зависит от многих причин, — ответил я, не сводя глаз с лица Осинина. — Можно оттянуть собрание, создать комиссию, поручить ей разобраться во всей этой грязи… А можно обсудить хоть завтра — тяп-ляп, «не дадим своего в обиду», сторонников у него хватает…
— Это верно, — согласился Осинин, рассеянно добавив: — Вы и я тоже его сторонники, разве не так?
— Конечно, так, — ответил я, поняв, куда клонит Осинин.
Он ждал, что я помогу ему и дальше. Нет, решил я, хватит, решай сам.
Осинин снова похлопал меня по плечу, вздохнув:
— Ах, Женчик, Женчик… Хитрован вы мой дорогой… Скажите главному, что я отказался писать этот материал… Если даст указание — что ж, я солдат, привык выполнять приказы.
Тогда-то я и достал из кармана нашу козырную карту — коллективное письмо, адресованное ему, Эдмонду Осинину: «Кто, как не Вы, скажет слово правды по поводу происходящего в строительных организациях Загряжска?! Кто, как не Вы, станет в защиту справедливости?! Репортер Варравин даже не удосужился побеседовать с простым народом, он собирал информацию в начальственных кабинетах…»
— Вот, — сказал я. — Посмотрите это, Эдмонд Лукьянович.
Осинин прочитал письмо стремительно. Я видел, как он хотел просчитать количество подписей, но понимал, что я замечу это, глаза выдадут.
— Почему не показали сразу? — спросил он.
— Потому что не считал возможным давить…
Через три часа я положил на стол главного гранки материала, написанного Осининым. Назывался он, как все его материалы, хлестко: «Письма беды».
— Где Варравин? — спросил главный, рассеянно проглядев текст.
— Плохо себя чувствует… Взял бюллетень…
— Сердце?
— Я не могу к нему дозвониться, никто не поднимает трубку.
— Но он не в больнице?
— Нет, наши видели его сегодня в городе.
— Покажите материал заместителям, — сказал главный.
— Нужна ваша виза.
Главный искренне удивился:
— Зачем? Опасно мыслить категориями застойного периода, Евгений… Вы, как редактор отдела, вправе принимать решения, я никогда не мешаю инициативе.
Утром Варравин позвонил мне. Я понял, что он уже прочитал газету с «Письмами», поэтому спросил как можно мягче:
— Где ты пропадаешь, Ваня? Мы ж волнуемся за тебя…
Он покашлял в трубку, потом вздохнул и, закуривая (я это не только услышал, но даже увидел явственно), сказал:
— Ты не просто сука, Кашляев… Ты глупая сука… Не думай, что ваша взяла… А на досуге поразмышляй вот о чем: из-за таких, как ты, нас могут запрезирать… Понимаешь? Гадливо презирать… А от этого приходится отмываться десятилетиями… Я ж понял тебя, Кашляев, я знаю, с кем ты… Или вы все психи, или вы в заговоре против народа.
…А через час он прислал главному копию телеграммы, которую отправил в ЦК по делу Горенкова и Каримова.
Я человек не робкого десятка, но когда увидел фамилии Тихомирова, Русанова, Кузинцова, свою, тело сделалось неестественно легким, неподвластным мне до того, что я не мог протянуть руку к телефону — набрать единственно нужный мне сейчас номер…
XXVI Я, Иван Варравин
Наверное, каждый переживал ощущение нереальности происходящего, некоей отдельности мыслей от плоти, безутешной ярости протеста… Так, во всяком случае, у меня было во время похорон Высоцкого. Точно так же я воспринял смерть Андрея Миронова: «Это же невозможно». Все мое естество отторгало то, что я видел собственными глазами…
…Так было и сейчас, в клубе, куда я пришел на диспут неформального объединения «Старина», — после статьи Осинина терять нечего, надо принимать открытый бой, время ожидания кончено.
Поначалу, вслушиваясь в слова выступавших, я не очень-то верил себе, мне казалось, что все это сон, нелепица: «сионистские масоны взорвали храм Христа Спасителя», «на Западе спланировано массовое проникновение чужеродных элементов в нашу культуру», «масоны руководят искусством», «русскую нацию — самую трезвую в мире — спаивают темные силы по указаниям ЦРУ!». Увы, это была явственная реальность… Другой оратор яростно размахивал кулаками:
— Спад в нашей экономике — следствие работы сионистов-масонов, проникших в высшие органы власти! В зале загудели:
— Доказательства! Факты!
— Если вы намерены совершить подлость, — не унимался оратор, — вы прежде всего добьетесь авторитета! Гитлер начал с того, что укрепил свой авторитет! Кто из вас видел хронику, как Гитлера встречал народ? Он много сделал для немцев!
В зале заулюлюкали. Оратор между тем продолжал кричать, низко склонившись к микрофону:
— В Советском Союзе существует законспирированная, хорошо оформленная сионистская организация! Сионисты захватили масонство, и оно служит их целям мирового господства! Один из руководителей масонской организации новосибирский академик с русской фамилией, а по правде он Гофман. Приходит домой, надевает ермолку, эдакую еврейскую шапочку, еврейский халат, стелет коврик и молится еврейскому богу! А занимает высокое положение в государственных и партийных органах! Что происходит в Новосибирском Академгородке?! Там царствуют масоны! Один из них также с русской фамилией, но он же еврей и масон. Это докажут следственные органы! У него в коттедже две колонны красного дерева — обязательный атрибут масонов! То же у одной известной дамы, члена-корреспондента академии.
Кто-то из темноты — голос молодой, ломкий, смешливый — выкрикнул:
— Тоже еврейка?
— Да. Но правды ради скажу: масоном является ее муж, она вроде бы к этому отношения не имеет!
Я вообще перестал верить происходящему, когда третий оратор прокричал в зал:
— У русских людей отрывали кусок ото рта и отдавали его другим! И если сейчас в Грузии повсюду прекрасные дороги, электричество, а у жителей дома как полные чаши, то в северных коренных русских областях нет хороших дорог, в селах живут одни полунищие старики…
Сидевший в первых рядах седоголовый мужчина в военной форме без погон — видимо, отставник — пробасил:
— Значит, грузины тоже сионисты и масоны?!
Оратор, однако, не слышал никого, кроме себя:
— Имя Гитлера связывают с убийством четырех — шести миллионов евреев. Если считать, что на совести евреев сто пятьдесят миллионов убитых и неродившихся русских, то это немного… Было пущено в ход испытанное орудие — медицина: стали странно умирать люди. И если смерть «мелкой сошки» и сейчас расследуется небрежно еврейскими врачами, то, понятно, смерть Жданова и Щербакова повлекла за собой «дело врачей»… Неизвестно, откроется ли когда причина смерти самого Сталина. Во всяком случае, он умер за неделю до официального объявления даты его смерти, и именно в течение этой недели «дело врачей» было прекращено, а врачи оправданы… Бдительность и еще раз бдительность! Тысячу лет назад иудей-полукровка князь Владимир, засланный на Русь еврейским кагалом, разрушил нашу языческую веру, надругавшись над нашим великим арийским народом, и силой навязал нам христианство! А в семнадцатом году были разрушены христианские церкви! Так сколько можно глумиться над культурой нации?!
Какой-то защитный механизм отторжения позволил мне переключить сознание, заставить его не воспринимать кликушество. Я мучительно думал о том, как надо выступить. Я понимал, что полемизировать с абсурдом — бесполезно. Нельзя выдвигать контрдоводы против каждой произнесенной здесь фразы: тех, кто их произносит, — не переубедишь. С Гитлером не дискутировали, но сражались. Черт с ними, с этими больными мракобесами, но ведь в зале сидят молодые люди и слушают все это, а они не готовы к тому, чтобы отделять злаки от плевел, а во вступительном слове доцент Тихомиров возглашал, что «лишь в условиях демократической открытости можно говорить о самом больном, только это поможет нации излечиться от недуга, навязанного сионистско-масонским проникновением…». О них сейчас надлежит думать, об одногодках, к ним надо апеллировать, к кому же еще?! Но я вновь врубился в происходящее, как только услыхал Тихомирова:
— Слова просит ветеран войны и труда Бласенков Виталий Викентьевич… Я сразу же вспомнил донесения отца, фамилию «пропагандиста РОА Бласенкова Виталия Викентьевича», чье-то подчеркивание этого абзаца в отцовском донесении, едва заметный вопросительный знак, стершиеся слова — «вызвать для показаний о Варравине». Две буквы «В. А.» — видимо, Виктор Абакумов, преемник Берии, — он моего отца допрашивал дважды…
Я превратился в комок, таким я становился, когда тренер нашей студенческой футбольной команды, старый динамовец Панкратов выпускал меня на поле в критических ситуациях, чтобы сдержать атаки соперника. Поскольку в боксе я работал в полутяжелом весе, скорость, конечно, на поле не развивал, трудно, но стеною становился, форварды меня пройти не могли, хотя Панкратыч категорически запрещал сносить атакующих: «Мы не мясники, делаем зрелище, артисты физической культуры…»
Я обернулся, стараясь разглядеть в полутьме клубного зала тех, кто окружал старика, но каково же было мое удивление, когда я увидел поднимавшегося с кресла моложавого, крепкого еще человека, окруженного статными парнями в белых сорочках и черных галстуках.
Может, это однофамилец, подумал я. Слишком крепок, не может быть, ведь сорок лет прошло! Ну и что, ответил я себе. Тогда ему было двадцать, сейчас шестьдесят с небольшим.
Бласенков легко взбежал на сцену, обосновался на трибуне, достал из внутреннего кармана пиджака несколько листочков бумаги и, не надевая очков, начал читать:
— Дорогие товарищи! Несколько лет тому назад проект «Устава всемирного антисионистского и антимасонского фронта», подготовленный патриотами, сражающимися против страшной угрозы, нависшей над человечеством, над братством народов всей земли, был подвергнут критике. Это случилось во времена застоя. Ныне мы оглашаем «Устав»! Итак, большинство населения каждой из стран мира, преисполненное решимости спасти себя и грядущие поколения от ужасов надвигающегося сионистско-масонского господства, от массовой гибели «гоев», то есть всех «неевреев», считая, что всемирная организация масонских лож с резиденцией в городе Чарльстон (США), которой тайно правят хозяева мирового сиона в лице еврейской масонской ложи «Бнайбрит» с международной резиденцией в Вашингтоне, учитывая, что пока в мире имеется разветвленная система сионистских, чисто иудейских и масонских организаций, куда полностью закрыт доступ любому «гою» или немасону, и одновременно в мире нет ни одной международной организации, куда бы был запрещен допуск евреям и масонам, считая, что «гои» и немасоны имеют право на создание закрытой для иудеев и масонов международной контрорганизации, решили создать «Всемирный антисионистский и антимасонский фронт» и принять его устав… Основными обязанностями фронта являются: а) выявлять и вскрывать все проявления сионизма и масонства, включая любые попытки тайного проникновения в наш фронт открытых носителей иудаизма и масонства, используя для этого все имеющиеся средства, которыми пользуются в аналогичных случаях сионисты и масоны; б) исполнять любые приказы фронта, проявлять самую широкую инициативу, изобретательность, находчивость и активность в борьбе с сионизмом и масонством под свою личную ответственность и в рамках основных задач фронта… Члены нашего фронта считают, что конечной целью является установление суверенной власти «гоев» в форме антисионистской и антимасонской диктатуры, с проведением соответствующих изменений в существующих формах государственной власти… Каждый член фронта должен всемерно способствовать лишению всех сионистов и масонов защиты закона… Фронт имеет своей целью учреждение международного трибунала для проведения международных судебных процессов… слово «гой» значит «селянин»… Древние иудейские захватчики стали называть коренных селян Палестины их же словом «гой», придав ему презрительный расистский смысл «нееврей». Мы восстанавливаем первоначальное слово «гой» — «селянин», и пусть оно останется только для неевреев. Мы торжественно провозглашаем: «Гои мира», соединяйтесь!»
Гулкая тишина, царившая в зале, оставалась такой же гнетущей, страшной своей растерянностью, пока Бласенков неторопливо складывал свои бумажки и легко спускался со сцены. И вот тогда я поднял руку, прося слова…
Поднявшись на трибуну, я огляделся: яблоку негде упасть. Глаза собравшихся горят, голоса сливаются в один и поэтому кажутся прибоем на морском берегу, усыпанном мелкой галькой.
— Товарищи, то, о чем только что говорили предыдущие ораторы, я читал в разного рода изданиях… Поэтому начну с того, что приведу ряд цитат. Итак: «Человечество стоит перед дилеммой: либо отдать себя на закланье банде еврейских большевиков-масонов, либо истребить этих заговорщиков, пытающихся овладеть миром, превратив его в свою колонию!» Давайте заменим «еврейских большевиков-масонов» на «сионистско-масонских заговорщиков», и совпадаемость будет весьма близкой… В первом случае говорил Гитлер, во втором — Бласенков… Кто-то крикнул:
— Назовитесь! Кто вас сюда подослал? Провокатор! Стукач! Црушник! Сионист! Он из КГБ! Агитпроповец! Имя! Кто вы?!
— Меня зовут Иван Варравин, родился в Москве, образование высшее, русский, коммунист… Между прочим, предпочел бы говорить «советский», а не «русский», очень красиво звучит: «гражданин Советского Союза…»
— Брезгуете русской национальностью?
— Нет, очень горжусь советским братством!
— Отчество! Назовите отчество!
— Игоревич, — я усмехнулся. — Отец — Игорь Иванович…
— А мать как зовут?! — голос был один и тот же, видимо, устроители диспута роли распределили четко, механизм организации отлажен надежно.
— Моя мать Анна Ивановна, урожденная Васильева, отец фамилии не менял… Теперь, когда мы разобрались с вопросами «чистоты крови», позвольте ответить на вопрос, поставленный во вступительном слове: «Кто подписал приказ на разрушение храма Христа Спасителя»…
— Каганович! — крикнули из темноты задних рядов. — Кто же еще!
— Верно, — согласился я. — Сталин, Молотов, Ворошилов и Каганович. Называю фамилии подписавших членов Политбюро не по алфавиту, но по значимости в политической иерархии того времени… Что послужило поводом к такого рода решению? Почему изо всех «сорока сороков», изо всех московских храмов был уничтожен именно этот, гордость русской архитектуры? Дело в том, что храм Христа Спасителя был самым высоким зданием района, с куполов которого просматривались окна Кремля, а не только «дома на набережной», который тогда был «домом правительства», или, как его называли в тридцать седьмом, — «допром». Это сокращение, полагаю, вам известно? «Дом предварительного заключения»… Потому что девяносто процентов жильцов были арестованы и расстреляны — большевики-ленинцы с дореволюционным стажем… Так вот, с куполов храма был виден и двор Кремля, по которому порою гулял Иосиф Виссарионович… Запретить в храме службу было невозможно, ибо нельзя убить память о прекрасных народных обрядах — той же Пасхе или Рождестве… Значит, надо было уничтожить самоё память — храм, «обезопасив» таким образом вождя, на которого неминуемо организуют покушение старенькие служки. Несколько работников ЦК, в частности Ежов, тот самый, «ежовые рукавицы», внесли предложение разрушить храм, чтобы исключить возможность «террористического акта с куполов»… И Политбюро утвердило его предложение, поручив МК провести мероприятие. Была спущена директива в райком, и храм, уникальный памятник архитектуры, уничтожили… Такова историческая правда, товарищи. Так что «заговора сионистских масонов» в этом нет. Здесь очевидна трагедия совершенно иного рода… А теперь я процитирую русского писателя Илью Эренбурга…
— «Русского»?! Да он же Сионист чистой воды! — визгливо прокричали из темноты.
— За голову этого «сиониста», — ответил я, — гитлеровцы сулили миллионы… Тут, кстати, ветераны войны есть?
— Есть! Вы не слушайте этих истериков! Продолжайте выступление, у нас по окопам газеты с Эренбурговыми статьями ходили, на раскурку не пускали!
— Спасибо, — ответил я. — Так вот что писал Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» об эмигрантских черносотенцах в Берлине: «Большевики были далеко, поэтому приходилось сводить счеты с товарищами по эмиграции… Обрушились на Керенского, уверяя, что он сын известной революционерки Геси Гельман… Помню, как нас веселила книга некоего Бостунича «Масонство и русская революция», в которой говорилось, что эсер Чернов на самом деле Либерман, а октябрист Гучков — масон и еврей по имени Вакье. Россию погубили вечные ручки Ватермана и шампанское Купферберга, помеченные дьявольскими пентаграммами. «Сменовеховцы» говорили, что большевики — наследники Ивана Грозного и Петра. Все они клялись Россией, и все твердили о «корнях», «традициях» и «национальном духе»… Вам не кажется, что описываемое Эренбургом в Берлине похоже на происходящее здесь?! «Смена вех» — это первая попытка размыть социализм изнутри, подменить понятия, свернуть революцию в сторону… В двадцатых годах не вышло… Что, приспело время для новой попытки?! Объективности ради надо отметить, что «сменовеховцы» были культурными людьми, с определенным политическим опытом… Поэтому они избегали расистских вывертов — в отличие от руководителей здешних борцов за «национальную идею»… У профессоров, входивших в «Смену вех», было свежо воспоминание о шумном антисемитском процессе, начатом царизмом в Киеве против Бейлиса, который якобы убивал русских детей, чтобы высосать из них христианскую кровь и подмешать в свою ритуальную еду. Хочу напомнить залу, к чему это привело: Анатоль Франс в Париже начал кампанию против изуверства царских властей. Гауптман возглавил такое же движение в Германии. Против Царского Села выступили Лондон, Вашингтон, Брюссель… Реакция петербургских дипломатов на протесты мировой общественности была однозначной. Посол России в Америке Бахметев телеграфировал в Петербург: «Американские жиды не пропустили удобного случая и воспользовались делом Бейлиса, чтобы попытаться возбудить новую агитацию против России…» Правда, через несколько дней он не смог скрыть изумление: «Депутация от американского духовенства явилась с просьбой доставить государю подписанное епископом Нью-йоркским, одним кардиналом, 21 епископом и 12 лицами других христианских вероисповедований прошение о прекращении дела Бейлиса и обвинении жидов в ритуальных убийствах…» Тишина в зале была напряженная, внимающая.
— А вот позиция Ленина, высказанная им в большевистской повременной печати: «Рабочий класс должен противопоставить свое убеждение в необходимости полного равноправия, полного и окончательного отказа от каких-либо привилегий для какой-либо нации. Особенно ненавистническая агитация ведется черносотенцами против евреев…»
— Сионисты сами провоцируют еврейский вопрос! — крикнули из тишины.
— В начале века об этом уже писала наша черная сотня: «Именно жиды провоцируют погромы, чтобы вредить престижу империи!» Гитлер утверждал в своем завещании, что не он и его клика развязали войну, а «мировое еврейство»… А вот что писали в журнале Владимира Галактионовича Короленко «Русское богатство»: «Русские граждане поняли, что неправда и зло, вскрывшиеся на процессе Бейлиса, есть общерусская неправда и зло, поняли, что русский национализм есть угроза всей русской гражданственности, поняли, какую бессудную, дикую, темную Россию готовит национализм для русских… Можно думать, что теперешний русский национализм — и когда будет мертвым — не очистится от срама, которым покрыл себя…»
— Так позорят наш народ агенты ЦРУ! — голос был яростный, брызжущий, истеричный.
— Вы обвиняете русского дворянина Елпатьевского в том, что он агент ЦРУ? — спросил я. — Выйдите на сцену, представьтесь, и я подам на вас в суд за публичное оскорбление отечественного писателя.
Молчание. Напряженная тишина.
— Давайте, давайте! Трусите?! Идите на сцену…
На сцену никто не вышел, кто-то скользяще покинул зал.
— Вопрос к присутствующим, — продолжил я. — Стоило ли нам вообще воевать против Гитлера, товарищи? Давайте проголосуем!
— Не провоцируйте! — не сдержавшись, крикнул Тихомиров. — Никто не забыт, и ничто не забыто!
— Если никто не забыт и ничто не забыто, тогда почему в планах вашей «Старины» нет ни одного мероприятия, посвященного революции? Почему вы не собрали экстренное совещание, когда страна узнала о недавнем глумлении над солдатскими кладбищами?! Почему из двенадцати запланированных встреч только одна посвящена героям Отечественной войны?! Легче всего наработать дешевый авторитет — Гитлер учил этому, — обвиняя во всех упущениях «масонов» и евреев. Но ведь честнее и патриотичнее разобраться в причинах нашего отставания, изучая собственные ошибки, глупость, трусость, некомпетентность! Испания — во имя борьбы за чистоту крови и веры — сожгла сто тысяч евреев по приказу святой инквизиции, а остальных, вместе с арабами, выслала из королевства. Ну и что? Это помогло стране? Да нет же! Отбросило на столетие назад, ибо талантливейшие арабские математики и еврейские ремесленники были вынуждены оставить свою родину — прямая откачка мозгов и рук, предательство интересов испанского, именно испанского народа. А сколько талантливых людей покинуло российскую империю после кишиневского погрома?! А как много потеряли немцы, когда Гитлер изгнал из рейха Альберта Эйнштейна и Эриха Ремарка, Томаса Манна и Брехта?! А думаете, провокационный расстрел «советского антифашистского еврейского комитета» в сорок девятом году прошел бесследно?! А дело «врачей-убийц» в пятьдесят третьем?! Надобно называть правду своими именами и не мешать причину со следствием! Ленин не зря считал национальный вопрос одним из важнейших в нашей многонациональной республике! Начать можно с евреев — достаточно привычно, — но ведь это пожаром перебросится и на эстонцев, и на киргизов! Шовинизм, как и национализм, — это динамит, подведенный под наш основополагающий государственный фундамент!
И тогда в зале зааплодировали. Кто-то тем не менее прокричал:
— Не уходите от темы: масонство, сионизм, их преступления против русского народа!
Ну и голос, ну и ярость же в нем. Не больны эти люди, отнюдь, они одержимы идеями Пуришкевича и генерала Власова. Зачем врем самим себе, мол, — параноики. Политика страуса?
— Ваши ораторы говорят по четыре часа. Я выступаю двенадцать минут. Вы же радеете о демократии, дайте мне закончить то, что я почитаю должным… Итак, о масонах и сионистах… Об их преступлениях против нашего народа… Вопрос на сообразительность: кто в этом зале согласен с тем, что обществу нужна конституция, то есть гарантии? Давайте проголосуем!
Несколько человек рук не подняли — с этими ясно.
— Большинство — «за». Верно? Так кто же, начиная с расстрела на Сенатской площади, выступал против гарантий для народа? Масоны? Или абсолютистская русская монархия?! Кто сажал в тюрьмы тех, кто требовал отмены рабства в России? Таинственные масоны? Или реальный царь? Кто бился за судебную реформу, за суд присяжных? Царь? Нет, за это он тоже сажал! Кто говорил, что Россия — застенок совести, мысли и поступка? Масоны? Нет, Лев Толстой в своем обращении к царю! Целый год людей терроризировали слухами об очередном масонско-сионистском заговоре против страны, рассказывая о «диверсии» в Чернобыле. Диверсия? А не обломовское ли разгильдяйство, бюрократизм и безответственная некомпетентность тех, кто стоял во главе атомной станции?! Ведь был суд, открытый суд, — отчего не распространяются эти материалы?! Хотим выгородить дураков и мерзавцев, не умеющих работать, свалив вину на мистических врагов?! Но ведь это и есть истинное преступление против нашего народа, который так богат талантами! Только отчего-то таланты прозябают, а ловкие бюрократы захватывают командные должности! Мы когда-нибудь — открыто и требовательно — ставили вопрос о необходимости проведения фестиваля искусства России в Москве?! Предлагали создать Академию русского языка и культуры? И, с другой стороны, анализировали, какие прибыли отчисляет в наш общегосударственный бюджет Украина: сталь, хлеб, станки! Черноморское побережье?! А сколько приборов, машин, рыбы, радиоприемников дает Латвия?!
— Вы уходите от темы дискуссии! — выкрикнул тот же истеричный голос.
— «Масонско-сионистский заговор против русского народа»! Об этом и говорите!
— Если нас всерьез заботит судьба нашего народа, начнем с того, чтобы в детских домах перестали бить детей! И не воровали у них положенную — хоть и копеечную — еду! Если мы всерьез озабочены судьбами народа, станем бороться против тех административных уродов из исполкомов, прокуратур, милиции, которые запрещают людям трудиться на родной земле, растить помидоры, яблоки, картофель, штрафуют их за это, сажают, позорят в печати! Если мы озабочены судьбой народа, изучим положение в клиниках: отчего сестра не подаст больному лекарства без того, чтобы ее не поблагодарили? Масонка она? Сионистка?! Нет, она гроши получает, а на ней пять палат, вот в чем дело! Духовность — духовностью, но от заработной платы никуда не денешься: чтобы купить детям том «Русских сказок», нужны деньги, и немалые!
— Вы говорите как западный прагматик: «деньги», «деньги»! Это чуждо нашему духу! — кричат из темноты последних рядов.
— А, простите, за хлеб вы чем платите?! За ботинки?! Духом? Или рублем? Вопрос к залу: товарищи, вы готовы обратиться с просьбой к правительству, чтоб всем сократили оклады содержания?! Пусть нам платят копейки: на хлеб и воду. И то по карточкам. Согласны?
И тут в зале засмеялись. Но тот же истерический голос тянул свое:
— Ради блага Родины мы готовы сесть на хлеб и воду! А вы?!
— Нет! Ради блага Родины надо сделать жизнь ее граждан состоятельной! А для этого надо работать и учиться! А вы пытаетесь дать молодежи апробированные ориентиры: масоны, жи… простите, сионисты — от них все беды! Нам некого винить в собственных бедах — мы в них повинны, нам их и исправлять!.. Надо бороться с пьянством? Надо. А кто из нас организовал семейную чайную, открыл молочное кафе? Блинную? Пельменную? Трактир? Домашний музей?! Комнату игр?! Домашний шахматный клуб?! Что ж мы не противостоим реальными делами так называемым масонам и сионистам, которые, по вашему мнению, намеренно спаивают наш народ?! Водка — не касторка, насильно ее не пьют! Отчего не боремся с бюрократией, которая запрещает личности стать личностью?! Мы плакальщики, а не патриоты! Будь мы настоящими патриотами, делали бы все, чтобы пробуждать в каждом молодом человеке чувство собственного достоинства и конституционного права на поступок! А мы?! Будь мы патриотами, рассказывали бы молодежи, сколько стоил наш человек на невольничьем рынке всего сто двадцать шесть лет тому назад! Будь мы патриотами, доказали бы молодому человеку, что лишь гражданские поступки определяют личность патриота, а не болтовня и слезливые причитания! А поступок — это свободный труд! Это своя мысль! Своя, именно своя! Рабство — это пассивное бесправие, лишь свобода определяется правом! Кто виноват в том, что в автобусах и метро собачимся и толкаемся? Кто виноват в том, что в парадных писают и блюют?! Масоны? Сионисты?! Кто виноват в том, что сосед на соседа строчит анонимки?! Кто повинен в том, что в школьных программах всего два часа отводят Салтыкову-Щедрину? Кто в ответе за то, что на железных дорогах наши несчастные женщины таскают шпалы? Масоны?! А мужики рядышком сигареты смолят! Они кто, сионисты, что ль?! У меня создается впечатление, что кое-кто из собравшихся здесь тщится своими велеречивыми дискуссиями доказать малость, забитость и обиженность нашего народа! Да, у нас слишком мал демократический опыт, да, мы самыми последними в Европе получили конституцию, да, мы только сейчас впервые начали говорить открыто то, что думаем, но это не уменьшает величия народа, а лишь высвечивает трагичность его истории! Трагичность, но не второсортную малость! И еще: слишком велика русская культура, слишком очевидно ее влияние на человечество, чтобы мы позволили себе фанабериться и унижать национальное достоинство других! Не надо постоянно доказывать величие Пушкина, Толстого, Чайковского, Менделеева, Сурикова, Репина — это повторение очевидных истин, только безграмотный осел или гитлеровец может оспаривать это! Ваша «Старина» не может не породить такой же «Старины» в братских республиках! И украинцы непременно зададут вам вопрос: «Кто отправил в солдатчину Тараса Шевченко?» Масоны? Сионисты? Или правительство русского царя?! Кто травил Лесю Украинку и Ивана Франко?! И башкиры спросят про Салавата Юлаева! И латыши — про Яниса Райниса! Либо Россия была «тюрьмой народов», в которой наравне с русским народом — Пушкин, Лермонтов, Белинский, Толстой, Горький тому примеры — страдали наши украинские, грузинские, калмыцкие, еврейские братья, и тогда революция была необходима, либо наша революция — зло, козни евреев и масонов, заговор против народа! Или — или! Вам решать, не мне! Я — коммунист, ответ для меня однозначен! И разрешите мне — через некоторое время — вернуться к вам и рассказать, каким образом действуют некоторые руководители вашего объединения, как они — в своих корыстных интересах, чисто меркантильных — травят именно русских людей!
— Почему не говорите сейчас?! — крикнул с места Тихомиров. — Это демагогия!
Я не сдержался:
— Вам прекрасно известно, отчего я пока не могу говорить об этом…
Я понял, какую допустил ошибку, по тому шуму, который начался в зале. Теперь не отвечать нельзя, недостойно.
— Хорошо. Я отвечу, но только вы, доцент Тихомиров, скажете во всеуслышанье собравшимся, зачем вам и вашим наймитам надо было сажать в тюрьму инженера Василия Пантелеевича Горенкова?!
Он не решится отвергать все, подумал я, он будет выворачиваться, однако промолчать не сможет. Поднявшись, Тихомиров медленно произнес:
— Как беспартийный коммунист-ленинец, я хочу, чтобы Варравин ответил: когда назначено слушание его персонального дела, посвященного издевательству над беременной женой?!
Зал загудел еще круче. Я поднял руку:
— Мое персональное дело будет обсуждаться через три дня… Собрание открытое… Каждый может прийти и принять в нем участие… А теперь, пожалуйста, доцент Тихомиров, ваша очередь…
Ну, иди, подумал я, спускаясь со сцены, иди и лги о Горенкове, мне есть чем опровергнуть твою ложь, статья Осинина тебе не в помощь…
XXVII Я, Чурин Арсений Кириллович
Поскольку командировку выписало союзное министерство, таможенный досмотр мы проходили возле той стойки, где укреплена табличка: «Для членов дипломатического корпуса и официальных делегаций», — меньше народа и волокиты, хотя таможенная декларация для всех одна. Я не считал целесообразным поднимать вопрос о зеленом паспорте, владелец которого вообще не подлежит контролю, на последних метрах дистанции надо избегать лишних движений.
Кузинцов проводил меня до паспортного контроля, пожелал успеха в переговорах, пообещал уделять максимум внимания Леле (он был в курсе нашей семейной трагедии, последнее время Лелечка пила понемногу, но каждый день, поэтому лицо ее опухло, сделалось водянистым, неживым, только глаза светились тяжелым, мерцающим светом, словно бы она неотрывно любовалась какой-то одной, постоянно видевшейся ей картиной), заверил, что будет держать на постоянном контроле завершение сдачи комплекса в Пензе, и просил не тревожиться по поводу прохождения моей записки в Госснаб о дополнительных фондах для Дальнего Востока.
Вместе со мною летел Монахов, из управления внешних сношений, — переводчик и экономист. Три дня перед выездом он провел у Кузинцова, тот объяснил ему, какая помощь мне может потребоваться, вместе написали мое выступление — на случай успешного завершения переговоров, и более сдержанное, — если не придем к подписанию предварительного соглашения; сделали заготовки для тостов на официальных приемах; Кузинцов подсказал, как лучше установить контакт с представителями местной прессы: «Едет заместитель союзного министра для бесед о создании совместных предприятий — такого пока еще в этой отрасли экономики не было».
Несколько раз Кузинцов заходил ко мне, обстоятельно докладывал материалы, затребованные в архивах. Порою я ловил в его взгляде тревожный интерес, он словно бы постоянно хотел меня спросить о чем-то, но не решался, что-то мешало ему, сдерживало.
Неужели он почувствовал, подумал я. Или просчитал мой замысел? А может быть, Завэр что-то сказал ему? В конце концов, свел нас он, может, у него свои отношения с ювелиром, кто знает?
Эта возможность казалась мне страшной. Люди, подобные Кузинцову, сильны до тех пор, пока силен ты, его шеф. Он понимал, что его ждет, если я не вернусь. Он, как и я, ощущал грядущие перемены, еще более крутые, чем те, которые ломали нас последний год. Как-то вскользь, очень аккуратно он заметил, что можем не потянуть перестройку, слишком сильна инерция прежнего мышления. Я ответил, что такая угроза существует, слов нет, пока не вступят в действие новые законы. Последние недели я выверял каждый свой шаг, взвешивал любое слово, поэтому заключил заученно, грустно улыбнувшись Кузинцову: «Лично я — если почувствую, что нет умения работать по-новому, душат старые представления и сохранившиеся барьеры, — создам с вами кооперативный строительный трест и подам в отставку. Если бы приняли закон о сохранении полного оклада при выходе в отставку, много тысяч руководителей освободили бы свои посты, поверьте, и я, на месте Минфина, пошел бы на это… При здравом подсчете выяснится, что мы сэкономим миллиарды, вложив миллионы… Во-первых, большинство руководителей, вышедших на пенсию, вскорости переселятся в мир иной, ломается ритм жизни, слишком много времени на пустые раздумья, а потом не было бы столько осторожных чиновников, нейтрализующих новаторство. Ни вашим, ни нашим, только б все шло, как идет…»
Я постарался заложить в мой ответ максимум здравого смысла, неторопливую раздумчивость и горькую смелость… Человек, который решил бежать, так себя не ведет, он будет постоянно пялить грудь, сотрясать воздух реляциями о новых успехах, страшась произнести хоть слово критики… Кузинцов не позволит мне уйти, если почувствует нечто. Такие, как он, предпочитают тонуть вместе, не так страшно… Хотя, по-моему, вместе тонуть страшнее. Только плыть вдвоем весело, а гибель в объятиях друг друга, в страшной, пузырчатой борьбе, когда один тянет другого на илистое, склизкое дно, ужасна и отвратительна. Такие, как он, не могут уверовать в ту непреложную истину, что жить надо самому и погибать так же, — только тогда есть хоть крошечный шанс выжить…
Испытывал ли я страх, проходя таможню? И да и нет. Я понимал, что если холодноглазый человек подойдет ко мне и сдержанно попросит «пройти» (какое ужасное слово!), всем моим заранее продуманным и отрепетированным фразам — «камни, оказавшиеся у меня в жилетном кармане, на самом деле обычные стекляшки, жена всегда кладет в карман какие-то цацки, живет приметами, ничего не попишешь, женщины» — веры не будет. Если случится такое, надо б иметь цианистый калий, игра проиграна. Но и оставаться в России тоже означает для меня гибель, только постепенную, — стягивающую горло канатной петлей, таящей в себе детский запах белого парохода…
Ночь накануне отъезда я не спал. Угостив Лелю коньяком — она от него мгновенно впадала в тяжелое беспамятство, — я мучительно размышлял: а стоит ли мне вообще брать с собой камни? Ну, ладно, хорошо, допустим, они потянут на полсотни тысяч долларов, но ведь по тамошним ценам на жилье, медицину и страховку — это гроши, едва-едва хватит на пару лет, а то и меньше. Но с другой стороны, говорить с Хосе Агирре, будучи нищим, одно дело — перебежчик, рвань, а вот если ты можешь забросить нога за ногу, а обут ты в самую дорогую обувь (на Западе очень внимательны к тому, кто во что одет), если глянуть на «роллекс» — он тысячи стоит, — тогда к тебе сразу же будет другое отношение. «Нет, нет, я — за перестройку, поддерживаю новый курс, но у меня сложились особые обстоятельства, семейные, поэтому я и решил исчезнуть, в средствах не нуждаюсь, в моем лице вы можете получить советника, о котором и Рокфеллер мечтать не может; прошу всего один процент со сделки, а они будут многомиллионными; заключать эти сделки должна другая фирма, о нашей дружбе в Москве известно, меня там могут вычислить… Одно дело — утонул человек, несчастный случай, а совсем другое — если вы дали мне приют, этого вам не простят… Проговоритесь — пеняйте на себя, будут неприятности, скрывать от вас этого не намерен, дружба и есть дружба».
Сначала я ломал голову, как мне объясниться с Хосе, — по-русски он говорит еле-еле, в пределах гостинично-ресторанного обихода: «Какая красивая девушка!», «Пойдем в «Сакуру»!», «Потанцуем?», «Где шведский стол?», «Сколько это стоит?», «Раздевайтесь, любимая…». Много, конечно, с ним не наговоришь… Но парень он смышленый, а я взял с собою словарь, подготовлю фразы, поймет.
…Девушка из таможни равнодушно хлопнула по моей декларации маленькой печаткой, поинтересовавшись, не везу ли я рубли; «некоторые забывают в карманах, лучше отдать шоферу, меньше мороки. Когда вернетесь, камера хранения может быть закрыта». Я не сразу поверил, что одной ногою уже оказался за границей. Мною овладела какая-то апатия, хотя я был убежден, что все так и произойдет, пока еще ни одно из звеньев той цепи, составной частью которой был я, не выпало… А ведь вот-вот выпадет, слишком длинна цепь…
Я очень боялся, что на аэродром приедет Русанов, потому что ненавижу этого человека. Хотя, наверное, ненавидишь каждого, кого боишься, нет большего унижения, чем затаенный трепет перед себе подобным… Не знаю, отчего я стал испытывать к нему страх. Скорее всего оттого, что он один понял меня, раскрыл скобки, выявил то, за что меня можно ухватить…
Он ужасный человек — этот тихий, смешливый Никитич… Он ни разу не разрешил себе чего-то такого, что позволило бы мне воочию увидеть его жестокость, кликушество, предательство… Нет, такого не было… Но в нем жил Свидригайлов — постоянно, каждую минуту, любое мгновение… Впервые я испугался, когда он на совещании у министра — а пригласил его Кузинцов — сделался зеленовато-белым во время выступления руководителей художественных мастерских Шнейдермана и Урузбаева: те вышли со своим проектом оформления комбината под Брянском.
Члены коллегии симпатизировали Шнейдерману и Урузбаеву, смелые мастера, к тому же настоящие организаторы, никогда не подводили нас, работали исключительно талантливо.
Но я знал, как Русанов болезненно относился к тому, когда наши города доверяли оформлять «инородцам», — в настоящее время это слово было наиболее часто им употребляемо…
Я узнал его историю, она показательна, его жизнь объясняет истоки такой нетерпимости… В институте — после художественного училища, где он ходил в лидерах, — Русанов вдруг оказался на последнем месте. Его приемы казались устаревшими, техники не было. Штампы, которые нравились школьным педагогам, здесь вызывали презрительные ухмылки студентов и профессуры… А его профессорами, как на грех, были Усимян и Рухимович.
Усимян умер от разрыва сердца совсем молодым, в сорок два года. Какое-то время, пока не пришел новый профессор, Русанов учился у Рухимовича. Тот — хотя и ставил ему четверки, чтобы парню платили стипендию, — бранил нещадно, правил его композиции при всех, не обращая внимания на то, как переглядывались студенты, сдерживая усмешки. На беду еще Русанов учился в той группе, которая в большинстве своем состояла из кавказцев, — народ эмоциональный, искренний, открытый. Это, видимо, тоже травмировало юношу, и однажды, когда Рухимович не принял его работу, потребовал кардинальной переделки — «что вы постоянно ссылаетесь на «азы»?! Уцепились за классику, как дитя за мамкину цыцку! Свое предлагайте! Новый век, в конце-то концов!» — Русанов бросил институт и уехал в Орск. Там, в ста километрах от города, в степном селе, жил его дядька, самый близкий ему человек, у которого была единственная страсть: коллекционирование старых газет и книг. Ветеринар, он хорошо зарабатывал, после войны времена были тяжелые, особенно когда Сталин провел денежную реформу, приказав десять старых рублей менять на один новый. Я, кстати, помню его тогдашнее обращение к народу: «Это будет последним ударом по интересам трудящихся».
…Полгода назад Русанов приехал ко мне на служебную дачу (свою покупать нельзя, немедленно создадут комиссию) и, разглядывая репродукции каких-то молодых живописцев, которые Леля повесила на голых стенах, оклеенных страшными обоями с кленовыми листьями, заметил:
— А все же Гитлер был совсем неплохим художником…
Я тогда посмеялся:
— Скажите еще, что он был неплохим политиком, не напади на нас…
Русанов затаился и лишь потом, когда мы вышли на фанерную терраску, тихо ответил:
— А между прочим, так оно и есть… Его спровоцировали… Его юркие достали, они боялись его, оттого и повернули от эмоционального антисемитизма к организованному… Он как-то сказал, что евреи вытеснили немцев из России, заняв их традиционное место, и что конец еврейского владычества в Москве будет означать конец России… Тут он, ясно, перегнул… Жечь никого не надо было в печках, выселить всех, и дело с концом. — И, засмеявшись мелким, дребезжащим смехом, заключил: — Вижу, неприятно это вам, но — ничего не попишешь, живем в одной упряжке, надо выслушивать друг друга без злобы… Я, знаете ли, у дядьки своего много чего прочел и немалому подивился… Сейчас говорят, мол, «протокол сионских мудрецов» — фальшивка… А кто это доказал? Тот человек, который вывез этот документик в Германию, — Сергей Александрович Нилус, петербуржец, — очень все аргументирование объяснял… Занятно, у него в квартире был «Музей Антихриста» — собрал все разновидности «Звезды Давида», изучал сущность пересеченностей треугольника, считал любой треугольник страшным знаком беды для неевреев… Он даже наши православные святыни, составленные из треугольников, называл «подозрительными», а уж любые объявления в газетах, обрамленные звездочками, заставочки там всякие в журналах и вовсе считал знамением антихриста… Вы, кстати, посмотрите внимательно на некоторые наши газетки да журнальчики! Есть над чем задуматься… Нилус, кстати, держал коллекцию калош, что выпускали в Лондоне… Называлась фирма, заметьте, «Треугольник»… Вроде бы мы изменили название у себя-то, хоть и англичане нам фабрику эту строили, назвали «Красный треугольник», а вглядитесь в знак британской компании на подошве — до сих пор треугольничек. Ходи, богоизбранный, и топчи себе нашу грешную землю!
Я никогда не забуду его лица. Неяркие лучи солнца позволили мне рассмотреть глаза Русанова — остановившиеся зрачки-точки, какая-то гипсовая, безжизненная маска…
— Сергей Александрович не фанатик был, не думайте, — продолжал он, — когда в двадцатом году в Германию эмигрировал, «Протоколы» издал на шестнадцати языках! Это уж после него Генри Форд не дурак был, кстати, — тремя миллионами экземпляров выпустил и распространял бесплатно… А янки из-за денег удушатся! Значит, Форд видел в документе именно правду, а не фантазии охранки… Даже «Таймс» — а за эту газету тогда антихристы дрались, вся Англия читает — в двадцатом году написала, что, мол, если это правда, тогда евреи оставили далеко позади себя кайзера Вильгельма Второго, тот был обычным заговорщиком, а эти — дьяволы, Россию в октябре захватили, пытались и Германию с Венгрией прикарманить, отдать масонам, но, слава тебе, господи, не вышло…
Русанов затрясся мелким смехом, как-то по-ернически глядя на меня своими потаенными глазками, и я тогда с безнадежной тоской подумал, что никогда не смогу выгнать его взашей из дома, — во-первых, псих, а во-вторых, деньги-то он мне приносит, не кто другой, по почте не пошлешь, «мол, благодарность за помощь витязям национальной живописи»… И он понял этот мой постоянный, затаенный страх, ощутил его кожей — я себя контролировать умею, по глазам меня не прочтешь, только его обостренное внутреннее чутье могло воспринять мое самоощущение…
Раньше он всегда провожал меня вместе с Кузинцовым, а сегодня впервые не приехал. Отчего? Я не мог ответить себе и, передав свой синий паспорт пограничнику, внезапно ощутил, как сердце начало медленно уходить в желудок: колотилось, словно коза у бабушки Аграфены, когда та загоняла ее на ночь в сарайчик… Видимо, первое преодоление успокаивает человека, дает убежденность в том, что страшное — позади, но нет ведь! Самое страшное всегда впереди, надлежит себя готовить в жизни к страшному, а не к радостному.
Когда пограничник, тщательно сверив мое лицо с фотографией, отдал наконец паспорт, я обернулся к Кузинцову, еще раз помахал ему рукой, повторив:
— Пенза! Вы за нее в ответе, Федор Фомич! Звоните, если что, — телекс с номерами наших телефонов Монахов отобьет сразу, как прилетим…
Перейдя границу, я сказал Монахову, что пойду в салон первого класса, встретимся при посадке, и медленно, ощущая, как сердце постепенно успокаивается, отправился на второй этаж.
Девушки в аккуратных фартучках спросили, что я желаю выпить — кофе, чай или сок.
Я заказал сок и минеральную воду, отправился в туалет и хотел было достать из портфеля плоскую бутылку виски, чтобы хлебнуть из горлышка, — ничто так не снимает стресс, как алкоголь, но подумал, что здесь это делать рискованно, наверняка повсюду натыканы какие-нибудь скрытые аппараты; снять не снимут, но бульканье наверняка запишут. Ну и что, спросил я себя. Пусть себе пишут. Пока-то они расчухаются, я взлечу; пока эту запись отправят куда надо — приземлюсь… Ну и что? Приземлиться — приземлюсь, а Москва радиограмму на борт: «Срочно возвращайтесь назад»… Окстись, успокоил я себя, не сходи с ума, нельзя жить, никому не веря. Можно, ответил я себе. Только так и нужно… Я до сих пор оттого и жив, что никому не верю, лишь себе, а вернее, той своей части, которая сохранила мое естество, не растворилась в том, что для всех сделалось видимой субстанцией привычного Чурина. Мы ведь пожираем самих себя, подстраиваемся под каждый новый поворот жизни, корректируем себя в разговоре с одним ли, с другим, стараясь быть удобным для каждого, — так, постепенно, меняется человеческая самость, на донышке остается, ее и хранить…
Я достал из портфеля бутылку, откупорил ее и, спустив воду в унитазе, приник к горлышку, сделав три больших сладостных глотка. Бедная Лелька, я только сейчас ее понял: уход от ужаса. В вине правда, что с древними спорить, не мы придумали…
Вернувшись в холл, я выпил виноградного сока, разбавив его минеральной водой, и откинулся на мягкую спинку диванчика.
Но почему, подумал я, Русанов в ту первую встречу так смело протянул мне конверт с деньгами? Кто мог сказать ему, что я приму? Кто, кроме меня? Никто. Значит, в нем таится какая-то дьявольская сила? Может, он медиум? Обладает даром гипноза? Нет, ответил я себе, просто-напросто в нем живет торговый человек, никакой он не художник, а барыга, правильно его в институте мордой об стол таскали… По призванию он бизнесмен, а не художник, он удобное любит, красивенькое, а разве истинная красота удобна? Нет ничего страшней непризнанных гениев, они всех винят в своей неудаче, всех, кроме себя, вот им и надобны те, на которых можно переложить вину, чтоб не было так безнадежно и пусто жить…
…В маленьком репродукторе, не видном глазу — верно, установлен где-то на полу, — я услыхал голос диктора: «Пассажира Монахова, вылетающего двести сорок третьим рейсом, просим срочно пройти к диспетчеру багажного отделения».
Это что такое, подумал я. Сердце снова ухнуло в живот. Страх родился безотчетно, по-животному. Да не психуй, сказал я себе. Наверное, Кузинцов забыл что-то передать. Ничего он не забыл, ответил я себе, он дотошный, господи, что ж случилось?!
Я снова пошел в туалет, допил виски, сунул пустую бутылку в портфель и, остановившись перед умывальником, начал мыть руки горячей водой. Зачем? Я ощущал, как сладостна эта горячая вода, как прекрасен голубой кафель, мыльница с розовым, пахучим мылом (отчего перестали выпускать земляничное мыло, оно было нежней яблочного?) и сухое, хоть и старофасонное, вафельное полотенце. Я не сразу понял, отчего так долго любуюсь умывальником, а потом догадался: за всем этим комфортом мне видится тюрьма, ее ужас, грязные обмылки, вонючие параши и оббитые чугунные раковины в сортирах, рядом с которыми стоят надзиратели, неотрывно наблюдавшие за тем, как оправляется заключенный…
Когда я вернулся в холл, девушка сказала, что объявлена посадка на мой рейс, ворота номер девять, счастливого полета…
Пусть себе Монахов разбирается с диспетчером по багажу, подумал я. Ждать его нет смысла, надо идти в самолет. Почему я обязан интересоваться, где он? Я ему не нянька, сам разберется. Главное — естественность, уверенная естественность… В дверях, однако, я столкнулся с Монаховым.
— Арсений Кириллович, наш багаж загрузили на другой рейс… Спрашивают: можем ли мы обойтись без наших чемоданов пару суток? Подошлют через два дня…
— Вы сможете?
— С трудом… Я сдуру надел белую рубашку, после полета надо менять, неудобно появляться там в мятом…
— Ничего, постираете, — сказал я. — На порошок скинемся, маленькая пачка всего и нужна… Если сейчас возвращаться домой, придется снова запрашивать выездную визу… Впрочем, как считаете, так и поступайте.
— А вы?
— Я полечу. У меня времени в обрез, через пять дней я должен быть в Пензе, вы же знаете…
И я пошел к воротам номер девять…
…Там-то и зазвенело, когда я шел через хитрые милицейские арки. Именно тогда я и понял: все, конец, со мною игрались, словно коты с мышкой.
XXVIII Я, Каримов Рустем Исламович
Заведующий сектором ЦК Игнатов выглядел ухоженным и совершенно свежим, хотя мы кончили разговор около трех ночи, а пленум обкома начался в девять.
Когда первый секретарь предоставил ему слово, Игнатов взял папку (зря, подумал я, сейчас именно москвичи учат провинцию умению говорить без шпаргалок), вышел на трибуну и, достав толстую пачку писем, положил на нее тонкую, несколько даже юношескую ладонь:
— Мы попросили бюро созвать внеочередной пленум, товарищи, в связи с письмами, отправленными в ЦК, — начал он негромко, как это у нас обычно принято. — Все они написаны гражданами вашей автономной республики… Я взял с собою наиболее типичные… Обращает на себя внимание, что примерно двадцать процентов писем посвящено делу бывшего начальника «Дальстройтреста» Горенкова, осужденного за хищения социалистической собственности в особо крупных размерах… Пишут рабочие, даже целые коллективы, инженеры, участники комсомольских стройотрядов, журналисты, научные сотрудники… Авторы других писем — тоже около двадцати процентов — утверждают, что перестройка вообще никак не коснулась автономной республики. «О том, как живительно сказывается гласность на ускорении и инициативе, мы узнаем — пишут люди — из сообщений программы «Время». У нас в республике продолжает царствовать величавая неподвижность, страх перед новым, ужас многомесячных согласовании. Районное и областное начальство против семейных подрядов, не дают земли под огороды, увольняют тех, кто решается критиковать…» Поэтому и собран такого рода пленум: необходимо обсудить происходящее… Замечу при этом: нас всех не может не настораживать тот факт, что в отдел писем обкома практически не поступает сколько-нибудь серьезной корреспонденции… Пишут сразу в Москву… Давайте послушаем мнение членов пленума…
Такая повестка дня показалась многим разорвавшейся бомбой: критика в адрес обкома уже появлялась в центральной прессе, но мало кто из собравшихся был готов к тому, что вопрос будет поставлен столь резко и без всяких околичностей. Хотя придраться не к чему, все в духе демократического централизма и гласности: есть проблема, вот и будем о ней говорить…
Первым попросил слова Архипушкин, бригадир сварщиков. Выступал он крайне редко, а тут атакующе потянул руку и устремленно, чуть даже набычившись, двинулся на трибуну.
— Я, товарищи, вот что скажу, — начал он. — У меня дочка, Светочка… На медицинском учится… Так она мою супругу и меня учит, что самое главное в жизни — это профилактика — не запускать болезнь, вовремя ее пресекать… Мы все виноваты в том, что болезнь в нашей республике запущена, стала крайне тяжелой. Проще всего критиковать нашего первого секретаря, уважаемого Николая Васильевича… Особенно теперь, когда рана кровоточит… Нет, товарищи, давайте начнем каждый с себя… Я в самом что ни на есть рабочем коллективе живу, продукты, если их, конечно, выбрасывают, покупаю в нашем магазине, и мне известно настроение людей: «Это в Москве еще чего-то можно, там власть близко, а у нас как все было, так и останется! А без указания секретаря райкома вообще никто и пальцем не пошевелит…» Каждый день я слышу разговоры, да и своими глазами вижу безобразия, перестраховку, саботаж перестройки. И я спрашиваю себя: отчего же я раньше не пришел к Николаю Васильевичу для открытого разговора? Что, боялся, он меня сразу не примет? Записался бы, дождался очереди, чего-чего, а к очередям мы привычны… Нет, просто, наверное, я трусил говорить первому всю правду. Казалось бы, чего мне-то бояться? Ну, не рекомендуют меня на следующей конференции в члены пленума… И что? С работы меня снять нельзя, должность рабочего у нас не очень-то дефицитна, это ж не начальник турсовета, который путевки распределяет! Особо желающих висеть на канате по восемь часов и конструкции варить что-то я не вижу… Дело, думаю, в том, что мы все еще очень плохо выполняем завет доктора Чехова и не вытравляем из себя рабство: «Да как же это я главного начальника буду уму-разуму учить?! Его поставили наверх, значит, заслужил! Больше всех, что ль, тебе надо?» Я постоянно слышал в себе такие слова! А потому хочу просить у вас отвода из членов пленума, а вместо себя рекомендую моего сменщика Епланова Геннадия Георгиевича, потому что он говорит правду всем нашим заводским и районным руководителям, он не для тихого удобства создан, а для общественной работы… Прошу в моей просьбе не отказать, потому что в тех безобразиях, что творятся в нашей республике — верно народ в Москву пишет, — я виноват не в меньшей мере, чем первый секретарь… У всех было на слуху, что он в спецбольнице себе особый подъезд построил, дочь его на служебной «Волге» в школу возят, а мы что?! Молчали! А скажи вовремя? Неужели бы не прислушался к нам Николай Васильевич? Теперь для собственной совести удобно говорить — «нет». А для пользы общего дела лучше спросить самих себя: «Отчего молчали?!»
Потом выступил директор совхоза Борисенко:
— Соглашаясь на девяносто девять процентов с Архипушкиным, я все же хочу рассказать один эпизод… Когда агропром стал жать меня, чтоб я во имя плана сдал зерно и мясо государству — «Не подводи республику, Борисенко», — я ответил, что подведу республику в том случае, если молодежь разуверится в перестройке, в праве совхоза реализовывать продукты на месте, когда рассчитались с государством. А мне: «Не надо демагогии». Я — ни в какую. Тогда меня вызывает Николай Васильевич: «Товарищ Борисенко, давайте все-таки сначала думать об общем деле, а потом о своем узковедомственном интересе». Я возразил — есть что на это возразить. Он и так и эдак, мягко, без нажима вроде бы, но ведь не дядя с тобой говорит, а первый секретарь… Тогда в конце беседы он советует: «Приведи в порядок дела, комиссия к тебе едет, они, знаешь, глазастые, не осрамись. Защищать — если виноват — не будем, теперь демократия…» Ну, и началась пытка… Я в Совмин, к Каримову. Тот душегубов контролеров — они до проверок алчные, только б что найти, — урезонил, поддержал меня, но ведь вы знаете, чем это кончилось для Каримова…
Выступил главный режиссер театра, тот вообще не оставил на первом камня на камне: «Управлению культуры спектакль сдай, райкому сдай, горкому — тоже, каждый кидает замечания, будто Станиславский: «Это убрать, это переделать, а это смягчить…» Как острая проблема, так сразу же спасительное: «Не надо, к чему будить страсти?» А мы, художники, живем, чтобы будить страсти, это наше призвание! А над всей этой пирамидой растерянных, но не потерявших еще власти перестраховщиков высится Николай Васильевич: «Пока я избран первым секретарем и народ верит мне — фокусов на сцене не потерплю!»
Один за другим на трибуну поднялись двенадцать человек, потом Игнатов зачитал предложение группы членов пленума: освободить Николая Васильевича Карпулина, рекомендовать на место первого меня, Каримова.
По положению я еще продолжал сидеть за столом президиума, хотя в начале работы пленума ощущал себя в полном одиночестве. Сосед, секретарь по пропаганде, даже локоть со стола убрал, чтобы ненароком не коснуться моей руки. Я обернулся к соседу справа, ректору университета Шарипову. Тот растерянно улыбнулся и начал сосредоточенно покашливать, закрывая лицо, как мусульманская девушка.
Еще больше я удивился тому, что в зале, после того как зачитали мою фамилию, раздались аплодисменты.
…Я всегда анализирующе наблюдал овации из-за столов всякого рода президиумов. Это полезная школа, потому что учит — если, конечно, хочешь учиться — пониманию настроения людей, причем не того, которого бы тебе хотелось, а истинного. По тому, как зал реагирует, где слушатели начинают сонно, по-птичьи жмурить глаза — вот-вот впадут в дрему, где машинально пишут что-то в форменных блокнотиках, где переговариваются во время доклада, в каких местах аплодируют (подсадных хлопальщиков, особенно «орлят-комсомолят», определить легко), можно понять ситуацию в районе или городе. Тут бы и ломать приготовленную заранее речь, сделанную на основании сводок, тут бы и выступать без бумажки, а по правде, да разве легко переломать привычки?!
Я видел сейчас: кто аплодировал, кто едва прикасался ладошкой к ладошке, и меня это радовало, ибо в моем мозгу безотчетно включился компьютер, и я просчитал еще раз, кто мои враги, а с кем можно варить кашу. Я вышел на трибуну и вдруг почувствовал, как у меня ослабли ноги.
— Товарищи, благодарю за столь высокое доверие, но, боюсь, я не вправе согласиться на выдвижение моей кандидатуры… Членам пленума известно, что я попросился в отставку, поскольку я хотел продолжать борьбу за товарища Горенкова, находящегося в колонии…
Из зала спросили:
— А почему нельзя было бороться, оставаясь на своем посту?
— Потому, — ответил я, — что большинство членов бюро посчитали мою позицию догматической, компрометирующей престиж автономной республики… Более того, мне было указано на безответственное поведение…
— И вы с этим согласились?! Почему не опротестовали? Не обратились в ЦК?
— Потому что постоянно обращаться в ЦК — это форма дезертирства. У ЦК не останется времени на работу, которую пристало вести штабу партии. Я тем не менее обратился в центральную прессу, когда местная отказала мне в праве на публикацию открытого письма…
Поднялся Игнатов:
— Товарищи, я уполномочен сообщить, что Верховный Совет России, прокуратура и республиканский суд занимались письмом товарища Каримова. Расследование, проведенное в Москве, было затем отправлено нам, потому еще, что в ряде писем трудящихся из Загряжска говорилось о Каримове как об образцовом руководителе. Мы согласились с мнением Верховного Совета и правительства России отказать товарищу Каримову в его ходатайстве об отставке. Это, так сказать, в порядке справки, таким образом, формальных оснований для самоотвода нет.
У меня перехватило горло, потому что мои товарищи по работе хлопали так, словно я Аркадий Райкин, честное слово…
Чтобы выиграть время, успокоиться и собраться, пришлось отхлебнуть чая (раньше докладчикам подавали минеральную воду, но первый утвердил чай, так было в Москве, на заседаниях сессий, ему это очень нравилось). При этом я более всего опасался, что в зале заметят, как у меня дрожит рука, — вот ведь неистребимое мусульманство! Старый дурак, разве мои друзья не понимают, что это вполне понятное и оправданное волнение?!
— Товарищи, в таком случае мне придется поделиться своими сомнениями… Суть их сводится к тому, смогу ли я выполнять ту работу, на которую вы меня выдвигаете?
— Сможешь, — закричали в зале. — Сможете! Верим!
— Спасибо… Тем не менее давайте порассуждаем вместе, чтоб трудящиеся потом не цитировали Крылова: «Как ни садитесь, все в музыканты не годитесь…» Допустим, вы выбираете меня… А как быть с нашим вторым секретарем? С товарищем Ниязмухамедовым? Я трижды приводил ему факты полнейшей невиновности Горенкова, доказывал, что талантливому руководителю мстят за то именно, что он каждым своим шагом следовал букве и духу перестройки… Но ведь товарищ Ниязмухамедов отмахивался от совершенно бесспорных свидетельств. Почему? Более того, он звонил в ОБХСС и прокуратуру с просьбой еще раз проанализировать мои отношения с Горенковым, не завязан ли я в коррупции… Прямо так и подсказывал, куда копать… И мне придется работать с ним в одной упряжке? Следовательно, мое избрание должно означать одновременный уход товарища Ниязмухамедова с партийной работы, иначе дело с мертвой точки не сдвинется… Или взять заместителя республиканского прокурора товарища Рабиновича… И он отворачивался от правды, и он не разрешал переследствие по дутому обвинению честного коммуниста… Более того, он уже начал организовывать дело, подбирая против меня свидетельства… Вы скажете — он не член пленума. Верно. Но ведь его шеф, прокурор республики, — кандидат в члены бюро… И вы хотите, чтобы я наладил дружную работу — вместе с ними?
А контролирующие организации? Они выродились в некие «всезапрещающие дружины»! Они руководствуются не здравым смыслом, а желанием хорошо поработать — то есть, непременно схарчить кого-нибудь из руководителей! У них, мне кажется, есть план на инфаркты! План на то, чтобы уничтожить самых талантливых и смелых! Я счастлив, что работал вместе с нашим министром юстиции Никифоровым… Он, Иван Фомич, был первым, кто вошел с запиской о необходимости немедленной корректировки законов, отмены сотен идиотских запретов тридцатых и сороковых годов, которые мешают творчеству масс… Никогда не забуду его слова о наших многочисленных постановлениях: «Не надо лепить сараюшки к красивому дому, испортим впечатление»… И еще: «Когда Петр Великий разуверился в том, что белокаменная поддержит его реформы, он начал с чистого листа — построил Санкт-Петербург». К сожалению, всеми нами уважаемого Ивана Фомича Никифорова переместили в арбитраж… И еще дали выговор за национализм, выразившийся в том, что он не был согласен — как интернационалист и русский патриот — с помпезными празднованиями «добровольных» воссоединении татар и дагестанцев с Россией… Все же знают, что Иван Грозный штурмом взял Казань, какая тут добровольность? Каждый читал «Хаджи-Мурата», историю борьбы горцев против русского имперского владычества… Не надо равнять Россию, бывшую «тюрьмой народов», с братством нашего социалистического Союза республик, которым великий русский народ дал свободу и будущее!
А взять наше телевидение! Московские передачи смотришь как какие-то иностранные, честное слово! Мы со скрежетом зубовным решились покритиковать на своем голубом экране завал с торговлей, но уравновесили печально знакомым: «А предприимчивый частник с кооператором не дремлет!» Товарищи мои дорогие, нельзя же так! При чем здесь частник?! Вопрос надо иначе ставить: почему мы дрыхнем?! Почему пустуют все ярмарочные избушки?! Почему туда выбрасывают огурцы и кабачки только в дни — стыдно сказать — революционных праздников?! Наша беда — наша, а не кооператора — в том, что он цену меняет сам, оперативно, на дню два раза, а государственная и колхозная торговля получают расценки свыше — на сезон! Мы совершенно не умеем хозяйствовать! Это мы, именно мы, виноваты во всех наших завалах! Спасибо кооператору и частнику, без него мы бы давно оказались на грани социального кризиса! Не мы, а именно частник сегодня лучше нас борется за социализм, поставляя народу продукты! А мы поставляем слова! Обещания! Посулы! Кооператор и частник свободен в поступке. Пока что свободен… А наш хозяйственный руководитель живет в кандалах! Вот в чем корень вопроса. Обязывай мы строительные и торгующие организации, не обязывай, воз не сдвинется, пока руководитель и рабочий коллектив не получат свободы! Как можно — в условиях экономического беззакония — готовить боевую смену?! Фикция это! Самообман! Итак, работать можно только с союзниками! Не бойтесь врагов, в худшем случае они могут убить вас, не бойтесь друзей, в худшем случае они могут предать вас, бойтесь равнодушных: с их молчаливого согласия совершается и убийство и предательство!
И, перекрывая аплодисменты, я прокричал:
— Это не мои слова, а Бруно Ясенского, написанные им в тридцать седьмом году, незадолго перед расстрелом!
Закончил я осипшим от волнения голосом:
— Сейчас процесс перестройки подгоняют ЦК, пресса, телевидение, но мы до сих пор не имеем надежного юридического и экономического обоснования, которое бы двигало обновление самостоятельно, без постоянного понукания, ко всеобщей выгоде! За бесперебойную продажу овощей в Москве ратует программа «Сельский час», а ну — надоест им?! Устанут?! Изверятся?! Что тогда? Хозяйственный организм, как и человеческий, силен лишь в том случае, если он свободен! Французская буржуазная революция состоялась потому, что сапожникам и ткачам абсолютизм не давал работать так, как они считали нужным! Мы не изжили в себе — в каждом из нас — абсолютистско-рабскую психологию! Благими пожеланиями это не исправишь. Только законом! Что у нас и сегодня может сделать самородок типа Туполева, Эдисона, Кюри? Да ничего! Ни-че-го! Нужна наша санкция! А дать такую санкцию мы вправе лишь после бесчисленных согласований с бюрократическим, малокомпетентным аппаратом! Почему мы должны санкционировать каждое новое предложение, любую новую мысль?! Когда научимся верить талантам?! Представьте себе, что бы произошло, если б каждую свою книгу и оперу Мусоргский, Чайковский, Толстой и Горький согласовывали и утверждали?! Почему мы ждем изобилия и решения Продовольственной программы, когда директор совхоза не может ступить ни шага без наших санкций?! Почему мы ждем рывка в технике, если завод или институт не вправе начать новое дело без решения бюро?! А у нас в республике их сорок девять! А согласовывать каждый вопрос надо полгода! И это — путь прогресса?!
— Какой выход? — крикнули из зала.
— Очень простой: заказчик — банк — потребитель — вот вам треугольник, базирующийся на принципе кооперирования, которое сулит трудящимся выгоду — реальную, осязаемую, влияющую на бюджет семьи. Я подсчитал: алкоголиками у нас становятся те, кто зарабатывает не более ста пятидесяти в месяц. Нет смысла беречь такие деньги — что на них купишь?! А трудящиеся, которые получают более трехсот рублей, — не пьют! А те, кто взял семейный подряд и зарабатывают по пятьсот рублей, — не пьют! Алкоголизм — болезнь социальная, проистекающая от безверия и отчаяния! И повинны в этой болезни мы, руководители! С нас и спрос! Сможем раскрепостить людей — по закону, поправкой к Конституции, повышением роли юристов, адвокатов, нотариусов, защищающих таланты от недреманной бюрократии, — победим. Нет — перестройку провалим, врагов у нее предостаточно… Поэтому я предлагаю созвать внеочередную сессию Верховного Совета нашей автономной республики и отменить на ней все насильственно сдерживающие перестройку правовые нормы прошлых лет… Если вы меня поддержите по этим позициям, сниму самоотвод. Если нет — мое избрание будет очередной перетасовкой колоды, положение не изменится!
…Выступление первого было достаточно мужественным: «Что ж, попробуйте по-вашему, может быть, я устарел, однако не хотелось бы, чтобы горячая, хоть и заинтересованная азартность крушила все сложившиеся нормы, рискованно».
Ниязмухамедов довольно жалко оправдывался, ссылаясь на мнение Москвы, клялся научиться новому мышлению. Первый несколько презрительно заметил: «Смелости не учатся», завагитпром Мызиков возразил: «А что, космонавты рождаются героями? Отмечены тавром элитарности?»
Пленум закончился в одиннадцать вечера. Мы с Игнатовым зашли в мой кабинет, и прежде чем сели за стол, я написал записку секретарю Нине Григорьевне: «Пожалуйста, завтра соедините меня в девять по Москве с тов. Варравиным».
XXIX Я, Василий Горенков
В Загряжск из колонии меня привезли на «Волге».
За всю дорогу шофер не произнес ни единого слова. Когда я спросил, где он работает, сухо отрезал:
— На базе.
Только когда мы попали в мой микрорайон (два дома, что я начинал полтора года назад, так и стоят недостроенные, рабочих на площадке нет), он сказал:
— Мне дали адрес: Весенняя, три. Это правильно?
— Да.
Я вышел из этой ухоженной тридцать первой «Волги» возле магазина. Мне казалось совестным въезжать во двор. Какая-то была во всем этом противоестественность: утром — зэк, а днем раскатывает на обкомовской машине. Сразу по всем подъездам пойдет шорох: зачем? И так ощущение такое, что по-прежнему вымазан в дерьме, не помылся, зато надел новый костюм.
Галя Прохорова — кажется, из восьмой бригады отделочников, — встретив меня, взбросила руки к щекам, замерла, потом шагнула назад, оттого что поначалу хотела броситься ко мне (я ощутил ее порыв), но не бросилась, прошмыгнула мимо. А чего ты ждал, спросил я себя. Думал, с флагами выйдут встречать? Всегда не прав тот, кто упал.
Возле своей квартиры я остановился, чтобы пришло в порядок сердце и не тряслись руки, — дети все замечают. Надо войти домой так, чтобы загодя погасить эмоции. Зачем лишний раз рвать им сердца? Маленькие все понимают, порою значительно острее нас…
Я нажал на кнопку звонка и сразу понял, что он не работает: филенка у нас соответствующая, все слышно, что происходит в квартире, раздолье для доносчиков: пиши — не хочу! Я подождал немного. Тихо у меня в квартире… Точнее, в квартире бывшей жены, я ж выписан, мы разведены, а еще верней, меня развели… Я постучал три раза — как раньше. Никто не ответил. Постучал громче — злоба во мне поднялась, темная злоба и страх. Сразу услышал старческие шаркающие шаги: в лагере очень обостряются слух и обоняние, я поэтому сразу понял, что идет старуха. Может, Зина вызвала мать, подумал я. Сама на работе, а бабушка с детьми помогает… Право переписки я получил только в колонии, в тюрьме я был отрезан от известий из дома, именно там следователь дал мне Зинино прошение о разводе. Кстати, с двумя ошибками; странно, грамотный человек, отчего? Отправил два письма, ответа от нее не пришло. Получил только открытку от обойщика Деревянкина, писал, что их бригада в суд не верит, они на моей стороне. Не помню его… За долгие тюремные дни в памяти остаются лица самых близких, остальные отходят на второй план, а потом и вовсе стираются.
— Кто? — спросил шамкающий женский голос.
Нет, это была не мама Тая.
— Зинаида Евгеньевна где? Шурик и Паша?
— Чего?!
— Да вы отворите дверь, — попросил я. — Пожалуйста… Я только спрошу…
— А ты через дверь и спрашивай. Чего я, глухая, што ль?!
Я услышал, как открылась дверь за спиной. Там жил прораб Светелкин, тихий, незаметный человек с уникальным глазомером: объем земляных работ, который предстояло выработать, определял в минуту. Странно, отчего «глаз-ватерпас» у нас говорят про алкашей?
Обернувшись, я увидел в дверях женщину. Жена прораба, подумал я, жаль, что раньше не познакомился, нехорошо.
— Василий Пантелеевич, — стараясь скрыть изумление, сказала она, вытирая руки о передник, — а вы…
— Да, отпустили…
— По здоровью?
Я успокоил ее, хотя мне казалось неудобным говорить об этом:
— Нет, приговор отменили… Меня реабилитировали…
— Это как? — не поняла женщина.
— Оправдали. Доказали, что я не был ни в чем виноват… Вы не подскажете, где мои детишки? И что там, — я кивнул на свою квартиру, — за бабка шамкает?
— Так это мать новых жильцов! Они Еремеевы, с Орла сюда подались…
— А где же Пашенька и Шурик?
— Вы ничего не знаете?
— Да откуда?!
— У меня не убрано… А то б зашли… — неуверенно предложила женщина.
— Нет, нет, не хочу тревожить, спасибо… Мне б только узнать, где дети…
— Так ведь Зинаида Евгеньевна уехала отсюда как месяц…
— Ее переселили?
— Нет. По обмену… В Курск… Она никому адреса не сказала… Уехала в одночасье… Вещей-то собирать — всего один чемодан, все остальное описали и вывезли… Может, все же зайдете? Я борщ варю…
— Что? Нет, нет, спасибо… Наверное, адрес я смогу достать в обменном бюро? Там ведь не может не быть, правда?
— Да не узнавайте вы адрес, — вздохнула женщина. — Она ведь не одна уехала… С новым мужем…
— А дети? — спросил я, ощущая нелепость моего вопроса.
Женщина, однако, поняла меня:
— Так ведь они маленькие! К любому мужчине тянутся: «папа» да «папа». Ну что ж мы тут стоим, — она наконец превозмогла себя: — Заходите, пожалуйста…
— Спасибо, мне еще надо успеть на работу, — ответил я. Это была правда, потому что начальник колонии, стараясь не смотреть мне в глаза, попросил прежде всего съездить в трест: «Там приготовлена компенсация, паспорт и путевка куда-то, вроде бы на море».
…В тресте я зашел в бухгалтерию. Из моих работников осталось только трое — все остальные новые, смотрели на меня настороженно. Любочка, Арнольд Иванович и Коля бросились ко мне, Любочка, обнимая меня, шептала сквозь слезы: «Господи, какое счастье, вот счастье-то, господи!»
…Кассир — тоже новая женщина (кассира-то зачем было убирать?!) — вручила мне пакет с деньгами, предложила пересчитать: тринадцать зарплат, целый пакет денег, я столько и в руках никогда не держал.
— Вас просили зайти в партком, — сказала она сухо. — В восьмую комнату.
Молодой мужчина в бежевом костюме поднялся мне навстречу, пожал руку и начал говорить, как он рад тому, что правда наконец восторжествовала…
— Вы сами-то здесь давно? — спросил я.
— Да уж год, Василий Пантелеевич.
— Много народу, смотрю, поменялось.
— Не сказал бы… Костяк, сдается, сохранен… Но, конечно, новая метла по-новому метет… Сейчас я позвоню, чтобы принесли ваши путевки… Очень хороший санаторий, в Крыму…
— Мне путевки не нужны, спасибо… Путевка… Одна путевка…
— Читали газету о пленуме обкома?
— Читал.
Я ждал, что он пригласит меня к новому директору или хотя бы спросит, чем я намерен заниматься. Он молчал, не зная, как себя вести, потом вымученно поинтересовался:
— Отсюда поедете к Каримову?
— Он меня не приглашал… Чего ж навязываться…
— Как я слыхал, именно он отправил за вами машину.
— Да? Странно. Шофер мне не представился, спросил, куда завести, — и все.
Я расписался за полученную путевку, уплатил членские взносы за все то время, пока числился вне рядов, сказал, что зайду еще раз, когда получу партбилет, — проставить штампики, чтобы все было погашено честь по чести, и поехал в городское бюро обмена.
Раньше, до ареста, я бы попросил секретаря помочь навести пустячную справку. Сейчас это надо было делать самому. Я встал в очередь. Приема у инспектора ожидало человек тринадцать. Очень много молодых, явно ушли с производства.
А как же закон об индивидуальном труде, подумал я. Где посредники, которые подготовят и проведут обмен, не нанося ущерба тем заводам и трестам, где работают эти люди?
— На что меняетесь? — спросил я мужчину, стоявшего передо мной.
— Хочу податься в Норильск… Там быстрей на пенсию выходят.
— Сколько вам до пенсии?
— Если здесь, то девятнадцать, а там всего одиннадцать… А уж потом, — мужчина улыбнулся осторожной, затаенной улыбкой, — жизнь начнется… На юг уеду, огород заведу…
— А что, здесь жизни нет?
Мужчина оглядел меня с головы до ног, отметил, видно, что костюм на мне болтается, пуговицы перешиты, вместо шнурков — веревочки в туфлях, и, покачав головой, усмехнулся:
— Потолки больно низкие.
Я не сразу понял его. Мы вообще-то тяготеем к двусмысленным ответам, оттого уточнил:
— Вы имеете в виду жилищное строительство? Или уровень заработной платы?
— Я имею в виду жизнь, — ответил он.
— Это как?
— А так… Сами, что ль, не знаете? На все лимит и потолок. Хочешь прыгнуть — а нельзя… Или — смысла нет… Спортсмен планку перемахнул — ему золотая медаль. А в нашей жизни? Мы же не придурки — ставить мировые рекорды в пустом помещении без зрителей… Медалей хотим… Золотых… А не сатиновых вымпелов…
— Вы кто по профессии?
— Конструктор.
— Где работаете?
— Где надо, там и работаю, — на этот раз мужчина оборвал разговор, демонстративно отвернувшись.
Откуда в нас эта невоспитанность, подумал я. Вспомнил, как военврач, возвращавшийся со мною в поезде из Берлина — в отпуск, на Брянщину, задумчиво говорил: «Знаете, у немецких друзей и порядок, и бананы с миндалем в захудалых деревенских магазинчиках свободно продают, не говоря уж о том, что там же семь сортов колбас и сарделек на кафельной стенке висят и все люди друг к дружке предельно вежливы, я все же испытываю умиление — даже слез сдержать не могу, — когда меня начинают отчитывать в Бресте… Каждый, кому не лень, ругает: и носильщик, и таможенник, и гардеробщик в ресторане, и официант… Они собачатся, а у меня в сердце покой и счастье — свои.
Слова этого молодого военврача с лучистыми глазами, молодого еще, сорока нет, запали мне и сердце. Когда мы прошли досмотр и встретились в ресторане брестского вокзала, я присел к нему за столик: «Чем вы объясните эту вашу умильность к тому, что наши так отчаянно собачатся?» Он посмотрел на меня с некоторым удивлением, повторив: «Так ведь свои! От иностранного языка устаешь! Да и потом, знаете, горько испытывать ощущение собственной малости… У нас сестры в госпитале гроши получают, а купить есть что, товары хорошие — и ковры, и отрезы, и обувь, особенно «Саламандра»… Ну и наладились наши по воскресеньям обихаживать немецкие огороды за пятьдесят марок в день. Субботу и воскресенье работают — вот и босоножки… У меня сердце сжало, когда сестра милосердия поведала, что, мол, старик хозяин с ней по-русски говорит, добрый дед, с нами воевал, в плену язык выучил… Победители на побежденных вкалывают, разве не обидно?! С тех пор у меня прямо как навязчивая идея — домой, скорее домой, там хоть такого быть не может!»
…Кто ж это писал, что планета наша для веселья мало оборудована, подумал я, наблюдая за тем, как безжизненно-медленно движется очередь на прием к инспектору по обмену с иногородними. Кажется, Маяковский. Неужели он весь мир имел в виду? Или писал про нас, горемык? Во время первой зарубежной поездки в Чехословакию я даже сжимался, когда в магазинах, автобусах, в отеле постоянно слышал вокруг себя неизменно ликующее: «Просим вас», «Пожалуйста». Люди произносят это напористо, словно бы агрессивно навязывают тебе вежливость и взаимную уважительность. Отчего же мы — а ведь народ наш добр и отзывчив — так грубы и неотесанны?
…Инспектором оказалась пожилая женщина с нездоровым, землистым цветом кожи. Голубые, миндалевидные глаза ее были совершенно инородны на измученном лице.
Выслушав меня, она сказала, что я должен написать заявление с указанием точной даты обмена, когда и кем подписан ордер, на основании каких документов, и указать причину, побудившую меня обратиться с этим вопросом.
Испытывая ноющую тоску, я ответил, что в бюро справок мне объяснили: именно здесь, в этом кабинете, я получу исчерпывающую информацию. Обмен состоялся месяц назад. Неужели так много людей из Загряжска уезжают в Курск? Пожалуйста, разрешите мне самому поискать в картотеке.
— Если мы каждому встречному разрешим рыться в картотеке, — ответила женщина, — потом сами ничего не сможем разыскать…
— Сколько времени я должен ждать ответа?
— Две недели.
— У меня путевка в санаторий начинается через пять дней…
— Отдохнете, тогда и придете за ответом.
— Дело в том, что за время моего отсутствия (я не смог сказать «ареста», вспомнив, как соседка на лестничной клетке боролась с собою, не зная, пустить ли меня в квартиру) моя жена обменялась… И уехала в Курск… С новым мужем… А с ней мои мальчики… Они маленькие еще, понимаете? И я их не видел больше года…
— А где вы были?
И я был вынужден ответить:
— В тюрьме.
Женщина покачала головой, несколько брезгливо поинтересовалась:
— Прописку-то хоть дали? Покажите справку об освобождении.
Я протянул паспорт, который мне вернули утром. Женщина прочитала фамилию, лицо ее неожиданно изменилось, глаза сделались еще более яркими, на отечных щеках появился румянец — словно два красных пятачка (видимо, с сосудами у бедняги швах):
— Погодите, погодите! Так вы что ж, тот самый Горенков?!
Я испытал сосущую неловкость, но постарался отшутиться:
— Вы обо мне прямо как об артисте каком…
— Что вы! Ни о каком не артисте! Про вас так много говорят в городе!
Она неожиданно быстро поднялась и открыла дверь в соседнюю комнату:
— Лидочка, достань ящик по обмену с Курском, найди там формуляр на Горенкову…
Та, видимо, слышала наш разговор, потому что сразу спросила:
— Может, она взяла фамилию нового мужа?
Инспектор обернулась ко мне, согласно кивнув:
— А мы по здешнему адресу установим.
Через три минуты Лидочка положила на стол формуляр, и я записал на листочке бумаги улицу и номер дома в Курске, где теперь жили мои дети.
Поблагодарив инспектора, я с трудом удержался, чтобы не спросить ее, зачем же мне было писать заявление и две недели ждать ответа? Она поняла меня. Румянец у нее стал еще более нездоровым:
— Не взыщите… Моя Лидочка получает копейки, если я стану загружать ее сверх меры, она просто уйдет… А поди замани сюда кого! Сидеть в душной комнатушке без кондиционера за гроши…
— А если бы клиенты платили вам какой-то процент за услуги? И вы бы прибавили оклад вашим сотрудникам?
Инспектор грустно вздохнула:
— Вы прибавили своим рабочим? Прибавили. Ну, и чем это кончилось? А мы и вовсе отдел исполкома… Какие проценты?! Это ж капитализм чистой воды! С этими процентами мы все наши достижения растеряем…
— Какие именно?
— Ну, как, — она удивилась такому вопросу. — Бескорыстие, служение общему делу, духовность…
Она резко оборвала фразу, потерла виски мужскими пальцами, привыкшими, видно, к домашней работе. Стирка наверняка на ней, ногти чуть отстают, и подушечки словно бы натерты пемзой.
— Отчего в нас так сильна приверженность догме? — вздохнула она. — Диву только даюсь… До сих пор говорим не то, что думаем, а то, что зазубрили в молодости… Оглупили нас, оболванили, как несмышленышей каких…
Инспектор заглянула в бумажку, где я накорябал адрес, и заметила:
— Вы фамилию не записали, ее новую фамилию… Кирьякова… Может, понадобится… И отцовские права вам придется возвращать…
Я не сразу понял:
— Что значит «отцовские права»?
— Вы не в курсе? В формуляре справка… Вас лишили отцовских прав, дело это скандальное, гнусь, конечно, но сами понимаете…
— Погодите, погодите, но ведь без моего согласия такое невозможно!
Инспектор махнула рукой:
— Если захотят доконать — все возможно… Но вы не расстраивайтесь… Отменят… Дать валидола? Вы уж так не белейте, не надо, если самое страшное пережили, так это решится само по себе…
…Я вышел во дворик и присел на низенькую чугунную ограду скверика. Одиночество ощущается особенно остро, когда ты окружен людьми. Вокруг меня обтекающе перемещались пары, разговаривали тихо, словно страшась, что их подслушают: «Однокомнатная квартира с окнами во двор, мусоропровод на площадке, холл шесть метров, кухня большая, семь с половиной, мы ее оборудовали под столовую». — «Боюсь, не пропустит отдел… У меня ж две комнаты, они не разрешат однокомнатную на двухкомнатную». — «Господи, что же делать-то?! Туда сунешься — нельзя, сюда — запрещено». — «Надо будет кое-кого поблагодарить…»
Я очень близко увидел лица моих мальчиков, они теперь Кирьяковы… Допустим, я приехал в Курск и пришел к ним… Когда меня забрали, Шурику было четыре, он еще помнит меня, а Пашеньке всего два… Неужели они называют этого самого Кирьякова «папой»?! Ну, и что случится, когда я приеду? Если бы Зина написала, что она разводится и уезжает, чтобы ребята не несли на себе печать моего позора, я бы понял ее и благословил… Но ведь она ничего не объяснила… А может, ее принудили? Пригрозили увольнением, чем кормить детей? Упавшего затаптывают, так уж повелось…
В кассах Аэрофлота был перерыв. Очередь змеилась по кварталу, душная и совершенно неподвижная. Казалось, что люди вжаты друг в друга, в лицах ощущалось усталое раздражение и страх: как бы кто не влез; раньше мы говорили «втырился». Около дверей агентства дежурили старики в соломенных шляпах, руки у них были крепкие, узловатые; есть гражданское право, есть телефонное, а есть кулачное, вспомнил я слова моего сокамерника, урки в законе, Игоря Синцова; каждый день получал массаж в течение часа, малолетки с вертлявыми задницами старались от души.
Я понимал, что стоит мне позвонить в транспортный отдел обкома, и билет до Курска я получу сразу же: у нас и беспощадны и добры без предела. Я спросил у стариков, на какой день дают билеты. Один из них ответил, что сначала следует записаться; списки составляют во дворе; в очереди стоят только те, кто заранее зарегистрирован, ждать надо неделю.
— А тут я в газетах предложения читал, чтоб посреднические бюро организовали, — снова не удержался я. — Нет еще таких? Посредники по организации путешествий…
Старики многозначительно переглянулись, не скрывая презрительных усмешек. Один, самый кряжистый, подмигнул соседу:
— Посредника захотел! Частника-кровососа! Все нормальные люди в очереди стоят… Все стоят — и ты стой! Особенный, что ль, какой?
В секретариате Каримова сказали, что он уехал в район, вернется завтра, удивились, отчего я не пришел утром: «Вас ждали». В транспортном отделе билет выдали через полчаса, пожелали хорошо отдохнуть. Когда я уходил, дежурный милиционер попросил позвонить в секретариат. Я ответил, что уже звонил. «Знаю, просили связаться еще раз».
Помощник Каримова — видимо, новый, прежнего я пару раз видел — осведомился, где меня можно найти после девяти. «Рустем Исламович только что звонил из Стахановского района, просил разыскать вас, хочет встретиться после девяти, если не возражаете».
Я ответил, что найти меня можно в зале ожидания аэропорта, самолет в десять утра, там и переночую.
Помощник предложил устроить в гостинице. Я ответил, что местных не пускают, запрещено. «Ну, это мы как-нибудь уладим». — «Зачем лишние хлопоты? Хочу побыть среди людей, одному в четырех стенах неспособно».
Я довольно долго ждал в аэропорту места: все диваны и кресла были заняты. Безнадежная усталость ожидания ощущалась в неуютном, холодном здании. Чувство это подчеркивалось еще и тем, как безразлично, скороговоркой объявлялись посадки на рейсы, в микрофонах что-то трещало, люди тянули шеи, чтобы понять неразборчивые слова диктора и, спаси бог, не пропустить свой самолет.
А ведь каждое путешествие — это праздник, подумал я. К нему загодя готовятся, мечтают весь год, даже недельное торчанье в очереди к кассе не кажется столь ужасным накануне полета — в Москву ли, на юг, в Киев… Почему же все-таки планета наша так скудно оборудована весельем? Разве эти девушки-дикторы сами не летают на отдых? Они ведь, наверное, тоже шеи тянут. Нет, ответил я себе, они ждут посадки в тех комнатах, где все слышно; планета состоит из ячеек, мы все разгороженные…
Я вспомнил пражский аэропорт, киоски с сувенирами, кафе, закусочные, эти постоянные «просим вас», и стало мне до того безнадежно-пусто, что захотелось пойти на площадь, сторговать у таксиста бутылку за четвертак и высосать ее из горла — может хоть это заглушит тоску, что ж еще-то?
Только после того как улетел рейс на Ленинград, освободилось кресло возле окна. Я устроился по-царски, снял туфли, которые за то время, что лежали на складе колонии, сильно скукожились и поэтому терли пальцы. Вытянув ноги, снова подумал о том, что постоянно гнал от себя: как же я приду к детям? Что скажу им? А если они забыли меня? Если этот Кирьяков стал им настоящим отцом?
На соседнем кресле расположилась веселая чистенькая старушка в белом платочке, улыбчиво провожавшая взглядом всех, кто проходил мимо нее. Расстелив на коленях пластиковый пакетик, она достала из сумки (у нее их было пять, все маленькие, словно котомочки, разных цветов, но завязаны одинаковым узлом) снедь, разложила ее аккуратно и, легко перекрестившись, принялась трапезничать. И столько в этом ее пиршестве было надежности и спокойствия, что мне мучительно, до слез захотелось вернуться в детство, чтобы все можно было начать сызнова.
— Котлетку желаете? — спросила старушка, заметив, как я неотрывно смотрю на нее. — Только утречком зажарила, с лучком. И хлебушек мягонький, отведайте, не смущайтесь…
— Спасибо, бабушка, — сказал я. — Сыт.
— Да какая ж я бабушка?! Я вам разве что в матушки гожусь, мне всего семьдесят… А вам?
— Тридцать семь…
— Господи, я б вам все пятьдесят дала…
— Болел…
— С сердцем чего?
Я улыбнулся:
— С душою.
Старушка зашлась беззубым смехом, а я вспомнил слова нашего пахана Игорька: «У меня рак души, нелюди! Меня нельзя нервировать шумом, кто храпит — задушу».
Бабушка кончила трапезу, оправила складочки на юбке — она у нее была старинная, в оборочку, такие и моя бабулька донашивала после своей матушки. Сколько ее помню, две юбки меняла — не было им сноса, — и начала обстоятельно рассказывать, что летит «в Оренбурх, к внуку, он военный, сочетается законным браком, прислал денег на билет, у меня с рук не слазил, отец-то с матерью дороги строили, на месте не сидели, а он, махонький, все у меня да у меня. А ноне большой начальник, лейтенант, на цветную фотографию снимается, как прямо картина, я в рамочку убрала, под иконой в красном углу повесила, соседи ходят любоваться, мальчонкой ведь его помнили, господи…»
И так она нежно, обстоятельно все рассказывала, так округло и неспешно произносила свои, только ее облику принадлежавшие слова, что я ощутил такое спокойствие, которого не испытывал последние два года, и уснул, словно потянули меня в блаженную тишину.
…Проснулся я оттого, что кто-то положил тяжелую руку на колено: рядом со мною на корточках сидел Каримов.
— Поехали ко мне, переночуете, — сказал он, будто расстались мы час назад. — Здесь не отдых, замучаетесь…
В машине я спросил:
— Послушайте, у меня к вам один только вопрос… По-моему, он сейчас становится основополагающим, что называется «быть или не быть». Вы как-то намерены решать вопрос о заработной плате аппарата — включая обкомовский? Ведь если страна действительно перейдет на самофинансирование и хозрасчет, директор с рабочими будут получать в два-три раза больше, чем инструктора! Или хотите посадить аппарат на параграфы закона о безбрачии? Я не понимаю — материальный интерес распространяется в стране на всех? Или только на людей, непосредственно занятых в производстве? Сейчас аппарату нет никакого резона помогать перестройке, Рустам Исламович… Даже наоборот… Давайте научимся распространять на всех, «бытие определяет сознание»… Вправе ли мы продолжать обманывать самих себя?
— Что, ввести для обкомовских пакеты? — усмехнулся Каримов. — Как в старое доброе время?
— Почему? Не надо. Пакет — он и есть пакет, секретность… Каждый инструктор должен быть завязан на отрасль и регион, получать наравне со всеми процент от прибыли…
— А как быть с тем инструктором, который курирует просвещение? — спросил Каримов. — Или социальное обеспечение?
И тогда я ответил:
— А всюду ли нужен инструктор? Что, все директора школ безмозглые? Директоров совхозов теперь обязали платить десятки тысяч райагропромам — ежегодная премия. Не жаль, — только б не мешали, не дергали на ежедневные совещания, не давали б указаний, когда и что сеять… Премируют за помощь, правда? А какая от бюрократии помощь? Кто американскому фермеру дает указания, как пахать и когда? А хлеб-то мы у них до сих пор покупаем…
XXX Я, Костенко
После того как я сдал Чурина, Завэра, Тихомирова и Кузинцова в Бутырскую тюрьму, мне мучительно захотелось немедленно отправиться домой и сразу же обрушиться на диван: сил не было, измотался вконец, даже пальцы дрожали. Вообще каждый раз, когда приходится задерживать человека — будь он трижды бандит, — я испытываю давящую неловкость. Варравин заметил верно: «Преследователь всегда не прав».
Однако домой я не поехал, оттого что сначала нужно было попасть к Оле Варравиной. Обыск там должен начаться через полчаса, Глафиру Анатольевну забрали на работе, а несчастная молодая женщина с торчащим животом сидит в квартире матери, ни о чем не зная. Если мы не противопоставим бюрократии чужих нашу «бюрократию» — Варравиных, Костенко, Горенковых, нас раздавят… А иногда я думаю, что у нас вообще нет бюрократии, потому что истинное значение этого слова, его изначальная первооснова, кроется в слове «бюро», то есть «стол», «рабочее место», которому человек должен отдавать всего себя. А много ли у нас истинных бюрократов? Раз-два и обчелся… Странно, истинных бюрократов нет, а технократов достаточно, серьезные люди, отношение к ним уважительное, кроме как у дремучих консерваторов… Впрочем, у тех отрицательное отношение ко всему, что определено нерусским словом и чего не существовало в летописях: «иностранное вторжение в нашу уникальную духовность»… Была б духовность, не разрешали б женщинам таскать шпалы и класть кирпичи… Горазды мы на самоукрашательство, спасу нет… Мы перепрыгнули через эпоху высокопрофессиональной бюрократии, которая не только не мешает делу, но силится опередить прогресс, помочь поиску нового, предложить альтернативные решения… Но ведь у нас никогда такого не было… Империю объединял страх — перед словом ли, делом, идеей. Традиции вольнолюбия всегда была противопоставлена традиция рабства, запрета, которым общество стращала именно бюрократия. Вот и получилось, что бюрократические барьеры вошли в трагическое противоречие с тикающей устремленностью технократии. Ситуация кризисная… А выход из нее один: реформа всего законодательства.
Именно традиция «подозревающего беззакония» может сломать жизнь этому самому Варравину. А каждый ум, потерянный обществом, невосполним. Более того: его место займет дурак или мерзавец, а это уже двойной урон народу!
…Ольга открыла дверь, не спрашивая, кто пришел, посмотрела на меня без всякого интереса, как-то сквозно, заторможенно. Испуга на ее лице не было, огромные красивые глаза лишены подвижности, какие-то неприкаянные, пустые.
— Вы — кто? — спросила она с удивившей меня резкой требовательностью, хотя, может, такое впечатление сложилось из-за ее голоса — очень низкого, глубокого, сильного.
— Моя фамилия Костенко… Полковник Костенко из уголовного розыска…
— Входите, — голос у нее сделался усталым, потухшим.
— Я не знаю вашего отчества…
— Ольга Леонардовна…
Я вошел в гостиную. Обстановка довольно скромная, много книг, причем читаных — видно по корешкам. Хотя, сколько раз я брал людей, живших в спартанской обстановке, а потом у них на садовых участках выкапывали запаянные банки с золотыми монетами…
— Присаживайтесь, — предложила Оля, запахнув шаль на животе, похожем на огурец: мальчика родит, точная примета.
— Спасибо… У меня к вам несколько вопросов…
— Я что-то в толк не возьму, отчего сюда пожаловал полковник уголовного розыска?
— Вы догадываетесь, Ольга Леонардовна… Вопрос идет о ключах… От вашей квартиры… Кому вы их отдавали?
— Что?! — удивление ее было искренним. — Какие ключи?!
— Где ключи от вашей с Иваном квартиры?
— Вон в том ящичке, — она кивнула на палех, что стоял на подоконнике…
— Пожалуйста, покажите их мне.
Она поднялась, открыла ящик, перерыла его содержимое — какие-то стекляшки, наперстки, сломанные ножницы — и резко обернулась: лицо ее сделалось испуганным, как у девочки, но одновременно появилась странная печать упрямства, которое всегда есть предтеча абсолютной, непробиваемой закрытости. Особенно четко это прослеживается именно у женщин — вот бы психологам поработать в этом направлении… А ты предлагал им это? — задал я себе вопрос. Никогда ты им этого не предлагал, психологи допросов не проводят и наручники в кармане не таскают, а уж тем более пистолет под мышкой…
— Тамара у вас, случаем, ключи не просила? — спросил я.
— Какая Тамара?! — Ольга сжалась.
— Вы знаете, о какой Тамаре я говорю.
— А отчего она вас интересует? Занимайтесь бандитами, это ваше дело, по улицам вечером страшно ходить… Раньше такого не было…
— Раньше можно было сажать по подозрению, Ольга Леонардовна. Раньше можно было и вас посадить на десять лет — без суда, по решению Особого совещания — за такие-то слова представителю власти… Мне очень много говорил о вас Иван, поэтому…
— Ах, вот в чем дело, — перебив меня, она съежилась еще больше, плечи опали, глаза, однако, собрались щелочками. Зачем уродовать себя, у нее же прекрасные глаза. — Тогда мне понятен ваш визит…
— Вам непонятен мой визит… Непонятен, Ольга Леонардовна… Кто-то подбросил в ящик письменного стола вашего мужа улику, на основании которой мы должны его арестовать, — покушение на жизнь художника Штыка…
Глаза ее сделались прежними, огромными, и в них что-то сломалось: не резко — так часто бывает в экстремальной ситуации, — но глубоко внутри, на подступах к сознанию…
— Какое покушение? — спросила она чуть не по слогам. — Какой художник? У него нет никаких художников… Он не способен на это…
— Как вы думаете, Иван признался бы в том, что в его столе неведомо как оказалась улика? Что называется, убойная? Ответьте, как мать его будущего ребенка…
— Моего ребенка, — она поправила меня автоматически, и глаза у нее снова начали меняться, приобретая прежнее выражение безучастия и покорности. — Ребенок всегда принадлежит матери.
— Кстати, у вас будет сын, а сын действительно больше принадлежит матери, говорю это как отец девушки…
— У меня родится дочь, — ответила она, и странное подобие улыбки, страдальческой и жалостливой, неожиданно промелькнуло на ее лице.
Я отчего-то вспомнил свою бабушку. Потом сообразил, что вспомнил ее не «отчего-то», а из-за того именно, что она постоянно хранила на лице печать страдания. Я помню ее такой с раннего детства. Она редко смеялась, но, даже веселясь чему-то, старалась как можно скорее погасить радость и скорбно опустить уголки губ. Однажды я приехал к ней в гости, бросил машину у подъезда, но старики, сидевшие на скамеечке, сказали, что Пелагеи Гавриловны нет, стоит в очереди за нутриями, пристрастилась к крысам, дешево и наваристо… Я поджался: ну, разве можно?! Ведь я и деньгами помогаю ей, и кур привожу, и сыр — так нет, начала прилюдно экономить на еде… Одна из старух поинтересовалась, как бегает «тестева машинка». Я удивился: «Какого тестя? Он помер как десять лет». — «Так Пелагея Гавриловна говорит, что не ваша это машина, денег нет, тесть воспомоществовал…» Откуда это? Боязнь спугнуть зыбкое благополучие? Или действительно у нас это в крови — таить достаток, опасаться сглаза, выказывать соседям свою бедность и несчастье? К таким, мол, не пристанут, убогих жалеют, только удачливых давят, не прощают счастья и силы…
— Оля… Простите, Ольга Леонардовна… Мне горько говорить вам то, что я обязан сказать, но лучше, если это сделаю я… Дело в том… Вашу ма… (Я хотел сказать «мать», но мне отчего-то показалось это невозможным, слишком жестким, поэтому я успел оборвать себя.) Дело в том, что Глафиру Анатольевну арестовали.
Оля откинулась, как от удара, сжав маленькие кулачки на груди:
— Что?! Да как вы можете?!
— Увы, можем… И через полчаса здесь начнется обыск… И вам надо отсюда уйти… Сейчас… Вам надо поехать к Ивану… Лучше, чтобы вы не имели никакого касательства к этому делу… Поэтому, пожалуйста, очень вас прошу, ответьте правду: Тамара просила у вас ключи?
Не отрывая от меня сухих, воспалившихся глаз, Оля медленно осела в кресле, губы ее сделались синими, тело обмякло.
Будь проклята моя профессия — я даже нашатырный спирт ношу в карманчике жилета, точно там, где Чурин хранил свои бриллианты. Я дал Ольге подышать из тонкой трубочки, она вздрогнула, выгнулась, как акробатка, снова стиснула кулачки у груди и беззвучно, сотрясаясь, заплакала, повторяя одно и то же слово: «Мамочка, мамочка, мамочка…»
Я знал, что ей надо дать выплакаться, но я чувствовал, как против нее неумолимо работает время. Хотя скорее против меня — я совершаю должностное преступление: сколько же я таких преступлений натворил на своем веку?! Наверное, только поэтому еще и жив. Рискнув — реакцию предвидеть нельзя, — я положил ей руку на густые черные волосы и начал медленно гладить, ощущая ладонью, как мелко сотрясалось ее тело. Руку мою она не сбросила, как-то даже ей поддалась, лицо утеряло гипсовую неподвижность, глаза сделались живыми, слезы лились неудержимо, словно вымывая ее. Мужчины мрут от инфаркта чаще, чем женщины, потому что не умеют плакать, а это ведь такое облегчение. Ни мать ее, верно, не понимала, ни Иван: она к ласке тянется, хоть закрытая… Какая же это тайна — человек… Вон ученые считают, что и растения обладают нервной системой: съеживаются, когда к ним приближается человек с ножницами, и, наоборот, тянутся, если руки держишь на груди…
Я глянул на часы, боясь, что она заметит этот мой взгляд и не сможет его верно понять. Мне надо увезти ее отсюда через десять минут, самое большее пятнадцать. Потом приедут наши, и я ничего не смогу поделать — верх нечестности по отношению к бедному Ивану. Увы, истерика и зло торжествуют чаще, чем добро и здравый смысл.
— Оленька, пожалуйста, соберите ваши вещи, — у меня не повернулся язык попросить ее не брать вещи матери, — и давайте уедем отсюда.
Продолжая безутешно плакать, она покачала головой:
— Каждому надо испить свое…
— Нельзя так, Оля… Подумайте о вашем ребенке. Нельзя вам здесь оставаться, понимаете?
— А вам какое дело?! Какое?! — в ней снова что-то сломалось, и она сказала это зло, хотя продолжала плакать беззащитно и жалостливо.
— Мне жаль вашего мужа… Он честный человек… И вас мне жаль… Если вы сейчас не уйдете, вам не миновать… формальностей… Допросов, показаний… Очных ставок… Не нужно этого, поймите… Я не имею права этого говорить… Я рискую, потому что верю вашей порядочности… По закону я должен сделать все, чтобы вы остались здесь… Вы же свидетель…
— Да, — вытерев слезы, сказала она и, выпрямившись, сбросила мою руку с головы. — Я свидетель… Спасибо за неожиданную гуманность и доброту, но я выпью свою чашу…
— Оля, эту квартиру опечатают… Вы же здесь не прописаны… Вас будут ждать тяжкие часы… Я не знаю степени вины Глафиры Анатольевны, но я убежден в том, что Тамара…
Оля резко поднялась:
— У вас есть еще ко мне какие-нибудь вопросы?
Я продолжал сидеть. Откуда в ней это? Неужели действительно характер предопределен и является такой данностью, которая никак не корригируется?
— Послушайте, — сказал я, — вы закрыты в себе, так очень трудно жить… Нельзя никому не верить… Нельзя всех подозревать… Нас пускают в этот мир ненадолго, зачем бежать радости?
— Мы не бежим, — Оля вытерла щеки. — Она бежит нас… И совестно говорить о радости человеку, у которого забрали мать… Самого честного человека, маму…
— Ее задержали, — поправил я ее. — Забирали в тридцатых… И в сороковых, и в пятидесятых тоже… Я не следователь, Ольга Леонардовна, я сыщик. Я только ищу людей, которых подозревают в преступлениях… Я не имею права говорить вам всего, что знаю, но скажите: какие драгоценности есть в доме Глафиры Анатольевны?
— Бусы есть, — ответила она. — Из чешского граната… И серьги… Такие в Карловых Варах стоят тридцать рублей на наши деньги.
— Пойдите на кухню, — сказал я, поднявшись, — откройте полки, где хранятся крупы, высыпьте их содержимое на стол, и если там ничего не обнаружится, можете оставаться здесь…
Если бы она отказалась выполнить мою просьбу, мне пришлось бы в который раз испытать чувство глубочайшего разочарования в хомо сапиенсах… Если бы она отказалась, попытавшись скрыть испуг, беззащитно растерялась, я бы понял, что она в деле. Однако Оля посмотрела на меня с презрительным недоумением и вышла на кухню. Я слышал, как она открыла дверцу — почему-то у всех наших кухонных гарнитуров прежде всего отваливаются дверки, — достала банки, стеклянно громыхнула ими. Потом я услышал, как посыпалось зерно, скорее всего гречка, а потом тяжело выпали металлические предметы, точнее — металл с камнем, я отличу этот звук от всех других…
…Оля вернулась в комнату неслышно. В левой вытянутой руке лежали два массивных кольца, судя по всему, платина или белое золото, изумруд и два крупных бриллианта…
— Вот, — сказала она глухо и впервые посмотрела на меня глазами, в которых ощущалась осознанная, устремленная во что-то мысль. — Возьмите.
— Это как понимать? Дарите, что ль?
— Я бы отдала все, что есть в этой квартире, спаси вы маму…
— Не заставляйте меня отвечать вам резкостью… Вы участвовали в составлении письма?
— Какого? — в ее глазах мелькнуло сосредоточенное недоумение. У нее странные глаза, как у тяжелобольного человека, вернувшегося после сеанса гипноза. — О чем вы еще?
— Вы не знаете, что Глафира Анатольевна прислала в редакцию жалобу на Ивана? «Разрушил семью, издевается над беременной женщиной», необходимо общественное разбирательство, кара и все такое прочее…
— Мама никогда не напишет такое письмо…
— Я его читал… Собственными глазами… Сожительство с Лизой Нарыш…
— Прекратите! — голос Ольги стал резким, пронзительным даже. — Не смейте! Не вздумайте оправдывать эту гадину! Она дьявол во плоти! Уходите отсюда! Уходите!
— Про Лизу Нарышкину вам Тамара сказала?
— Перестаньте! — еще пронзительнее, но теперь уже с затаенной мольбой прошептала Оля. — Что вы знаете о нашей семье?! Что вы знаете о маме? Я с детства помню нищету! Я в перелицованном мамочкином пальто ходила! Я помню, каким счастьем было для меня эскимо в воскресенье! Кто меня поставил на ноги? Кто заменил папочку? Кто?! Учителя? Кто выбивался из последних сил, чтобы дать мне образование?! Кто пережил ленинградскую блокаду? Вы? Или мама?! Кто остался сиротой в тринадцать лет? Кто вез санки с гробом брата на кладбище?! Вы знаете, что такое память?! Вы понимаете, что нельзя забыть нищету и голод! Понимаете?! Или нет?! Сначала дайте людям гарантии на будущее, а потом требуйте от всех честности! Или не мешайте верить в бога! Церковь тоже учит, что воровать грешно!
Я поднялся, зачем-то одернул пиджак, словно бы на мне был китель, и, открыто посмотрев на часы, сказал:
— Вы когда-нибудь пожалеете о том, что не послушали меня… У меня тоже, знаете ли, дочь, и тоже закрыта, вроде вас, и тоже болезненно ревнива — нереализованное воображение… Так вот, и на нее вышла гадалка — стерва, обладала навыками гипноза, но внушала она ей, чтобы я посодействовал освобождению из-под стражи бандита, ее хахаля. Моя дочь не мне в этом призналась, а психиатру… У меня жена нормальная, бредням не поддается, потому что выросла в ссылке, дочь «врагов народа», — она и отвела ее в клинику… Не надо гордиться друг перед другом горем, Оля. Давайте наслаждаться минутами счастья. Упрямство — глупо… Когда кончится обыск, после допроса, загляните в любую клинику, посоветуйтесь с хорошим психиатром, он с вас Тамарину дурь и наговор легко снимет… Но Ивана вы потеряете… А это неразумно — отталкивать тех, кто вас любит… Неразумно… А может быть, и преступно…
XXXI Я, Иван Варравин
Около двери Виталия Викентьевича Бласенкова я стоял минуту, не меньше, потому что впервые в жизни ощутил, что у меня есть сердце. Оно гулко ухало, словно бы не могло протолкнуть кровь, прилившую к лицу; руки отчего-то стали ледяными, особенно мизинцы и безымянные пальцы. Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, как в перерыве между работой на ринге; дышал носом свистяще; медленный вдох и резкий выдох — «с опаданием плеч», как учил наш ветеран Островерхов. Только после того как сердце чуть успокоилось, я нажал кнопку звонка.
За дверью меня ждали: распахнулась сразу же. Молодой парень — в белой крахмальной рубашке и красном галстуке — показал рукой на комнату, осведомившись предварительно:
— Вы к Виталию Викентьевичу? Товарищ Варравин? Вас ждут…
Комната была странная: круглый стол карельской березы, кресла, обитые белым атласом, два книжных шкафа, шведская стенка, штанга и раскладушка, заправленная солдатской шинелью.
— Проходите, Иван Игоревич, — сказал Бласенков, — гостем будете… Чайку изволите? Или кофэ?
— Благодарствуйте, — ответил я. — Не утруждайте себя хлопотами.
— Да разве это хлопоты?! Вот когда мы в лагере чифирили — то были хлопоты: где хорошего чаю достать, как сахарком разжиться, как на кухню пролезть?! А сейчас — лафа, все жизненные блага умещаются на сорока метрах…
— Вы чифирь в каком лагере варили? В нашем? Или гитлеровском?
— У немца разве что достанешь?! Немец, он и есть немец! Во всем порядок… Нет, это только наши пареньки из лагерной охраны нам чай тайком на воле покупали — народ добр, отходчив сердцем, злобы таить не умеет…
— У меня к вам несколько вопросов… Ответите?
— А чего и не ответить? С превеликим удовольствием… От чаю наотрез отказываетесь?
— Наотрез.
— Брезгуете?
— Брезгую, — ответил я с облегчением, ибо он помог мне этим словом обрести спокойную снисходительность: вблизи его лицо не казалось столь вальяжным и моложавым, были заметны мелкие морщинки на впалых висках, он мучительно скрывал агрессивную тревожность глаз, но давалось ему это с трудом, — что-то в них то и дело подрагивало, они жили своей, особой жизнью, глаза вообще трудно подчиняются воле. Магическая фраза «посмотри мне в глаза» не нами выдумана — древними. Зеркало души как-никак…
— К вашим услугам, товарищ Варравин, готов отвечать…
— Мне бы хотелось узнать: при каких обстоятельствах вы попали к немцам?
— Шандарахнуло волной во время бомбежки об стену сарая, потерял сознание — вот и конец красноармейцу, — он вздохнул. — Вполне, кстати, типическая ситуация, большинство наших попадали в плен ранеными… Или если винтовок не было, не каждому ведь давали, сам, мол, у ганса отвоюй…
— А где это случилось?
— На Смоленщине… А деревню запамятовал, мы ж в нее только вошли, а тут — немец! Не пообвыклись даже, из огня да в полымя…
— Это было во время нашего отступления?
Бласенков медленно поднял на меня серые глаза, смотрел долго, неотрывно, а после странно подмигнул:
— Так ить, Иван Игоревич, война она и есть война, то они нас жмут, то мы их…
— Я к тому спрашиваю, чтобы понять: вас сразу угнали в лагерь или пришлось побыть какое-то время в той деревеньке?
— На второй день угнали, лишь только в себя пришел… Но эта тема слишком горька мне, Иван Игоревич… Об этом эпизоде меня три дня мотали в СМЕРШЕ, когда Красная Армия вызволила из гитлеровского концлагеря… Сначала у гитлеровцев страдал, потом у своих… Не хочется об этом говорить, ей-богу… Что у вас еще? К вашим услугам…
— Когда вы служили пропагандистом в армии Власова, кто…
Бласенков перебил меня:
— Одна минуточка! Я бы просил вас иначе сформулировать вопрос: «Когда вы были внедрены патриотическим советским подпольем в ряды власовцев, как долго работали так называемым пропагандистом?» На такой вопрос я вам отвечу.
Ах ты, моя пташенька, подумал я, вот ты и попался!
— Принимаю поправку… Считайте, что я задал вам именно такой вопрос.
— После того как мне, обманув бдительность нацистов, удалось пробраться в пропагандистскую роту Русской освободительной армии и наладить связь с волей, я работал пять месяцев…
— С кем осуществляли связь на воле?
— Думаете, назову имена патриотов?! Да они, может, по сей день живут в Западном Берлине! Хотите, чтоб людей вздернули на дыбу?!
— Почему же? Таких людей надо награждать… Мы награждаем героев Сопротивления и в Бельгии, и в Норвегии, как-никак страны НАТО, а Западный Берлин — особый город…
— А неофашисты?! Нет, нет, если вызовут в компетентные органы, я открою имена, а так — увольте, я берегу друзей по совместной антифашистской борьбе…
— А кто направил вас на внедрение к Власову?
— Извеков Анатолий Кириллович, старший политрук, царствие ему небесное…
— Когда погиб товарищ Извеков?
— В сталинских лагерях он погиб, Иван Игоревич… Вместо Золотой Звезды получил четвертак…
— Где именно, не знаете?
— Где-то в Сибири…
— Откуда вам это известно?
— Слушайте, Иван Игоревич, а ведь вы меня вроде бы допрашиваете! Меня много допрашивали, надоело, раны бередит, рождает горькие воспоминания, за прожитую жизнь становится горько…
И я решил ударить:
— Анатолий Кириллович Извеков жив.
Я никогда не думал, что можно так медленно, тяжело и ненавидяще поднимать веки. Не глаза, нет, именно веки, которые, видимо, сделались у него свинцовыми.
— Где он?
— А я-то думал, вы радость не сможете сдержать… Думал, сразу попросите меня соединить его с вами…
Бласенков как бы смял себя, подвинулся ко мне, скорбно опустив уголки рта:
— Я вам не артист, Иван Игоревич, а солдат… Каждый по-своему радость выказывает… Хотите всех под одну гребенку расчесать. Не выйдет… Я принял вас, отвечаю вам, тактично отвечаю, но и вы извольте соблюдать нормы приличия… Пошли, позвоним Извекову, телефон на кухне.
— Позвонить ему мы не сможем… Он жив в моей памяти… В нашей памяти… Его могилу недавно обнаружили представители Союза немецкой молодежи ГДР… И его предсмертные записки… О том, как и почему он попал в гестапо… Похоронен он возле Берлина, неподалеку от Цоссена, в семи километрах от штаб-квартиры Власова…
Бласенков сокрушенно покачал головой:
— Что, в нынешней журналистике допустимы и такие приемы?
— Какие именно?
— Да вот такие… Игра на нервах… Провокация даже, я бы сказал…
Он по-прежнему смотрел на меня из-под век, ставших свинцово-неподъемными, смотрел с нескрываемой уже ненавистью. Однако я понимал, что теперь ему этот разговор тоже необходим, может быть, даже больше, чем мне. Поговорим.
— Что-нибудь еще у вас есть? У меня тоже имеет место быть желание поспрашивать вас кое о чем.
— Пожалуйста.
— Что за дело инженера Горенкова вы помянули на диспуте в клубе? Я читал намедни статью Эдмонда Осинина о строителе Горенкове… Это одно и то же лицо? Или разные?
— Вы же слышали, как доцент Тихомиров предложил всем прочитать выступление Эдмонда Осинина о деле Горенкова… Да, это один и тот же человек…
— Но в статье не было и слова о том, что этот самый… Ну, как его? Ведущий собрание… Запамятовал фамилию… Доцент…
— Тихомиров, — улыбнулся я. — Действительно, фамилия трудно запоминаема…
— Верно, Тихомиров, благодарствуйте… Так вот, в статье никаких обвинений против доцента не было выдвинуто… Речь шла о том, что несчастного инженера подставили под удар руководители автономной республики… Зачем же вешать собак на честных людей? Попахивает тридцать седьмым годом…
— Не любите этот год?
— Ненавижу… Как и все русс… советские люди…
— Не помните, с чего начался в том году самый страшный террор?
— Со всего, — ответил Бласенков. — Со всех и со всего.
— Нет… Не со всего… А с доклада… На февральско-мартовском пленуме ЦК, который сделал Сталин… Помните, с чего он начал? Нет? Напомню. Я наизусть знаю, занимаюсь тренажем памяти… Так вот, он сказал так, цитирую: «Во-первых, вредительская и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств, в числе которых довольно активную роль играли троцкисты… — они же все масоны, как вы утверждаете, правда? — задела в той или иной степени все или почти все наши организации, как хозяйственные, так и административные и партийные. Во-вторых, агенты иностранных держав, в том числе троцкисты, проникли не только в низовые организации, но и на некоторые ответственные посты. В-третьих, некоторые наши руководящие товарищи, как в центре, так и на местах, не только не сумели разглядеть настоящее лицо этих вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, но оказались до того беспечными, благодушными и наивными, что нередко сами содействовали продвижению агентов иностранных государств на те или иные ответственные посты… Неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих условиях должно быть умение распознавать врага партии, как бы хорошо он ни был замаскирован…» Очень похоже на то, чем вы нас пугаете сейчас, требуя повсеместно распознавать масонов, которые имеют свою организацию и пролезли вплоть до самого верха… А ну, если раскачаете общество? А ну, пойдет заваруха? Представляете, сколько десятков миллионов масонов и сионистов мы распознаем?! Я-то, например, вас распознаю, обещаю вам заранее, ух как распознаю! И докажу, что вы, — я засмеялся, — масон.
Бласенков откинулся на спинку кресла:
— Интересно, каким же образом?
— А очень просто. Масоны являются фашистами наших дней?
— Конечно.
— Они продолжают дело Гитлера?
— Бесспорно. Только потому мы с ними и боремся.
— Очень замечательно… «Мы боремся»… В таком случае отчего вы зачитывали в клубе — под магнитофонную запись — чуть видоизмененный устав всемирного антиеврейского фронта, созданного Юлиусом Штрайхером, гитлеровским военным преступником, вздернутым по приговору суда народов в Нюрнберге?
— Не было у немца такого «фронта»!
— Да неужели?! Вы же у Власова проходили основоположения этого «фронта» на занятиях по «еврейскому вопросу», неужели запамятовали?
— Я этих занятий не посещал.
— А как же получили зачет?
— Кто вам сказал, что я получил зачет?
— Архив. Я работал в архиве, Виталий Викентьевич… В том, где собрана вся документация, связанная с вашей службой у Власова.
— Наш разговор записывается на пленку, — заметил Бласенков, резко побледнев. — Вы знаете, что грозит клеветнику — в соответствии с советским законодательством?
— Знаю. Вы получили срок за измену, но за клевету вы еще своего не получили.
— Как прикажете понимать?
— Не понимаете?
— Совершенно не понимаю.
— История — штука многосложная… Многое, казалось бы, исчезает навсегда, все вроде бы покрыто тайной, да и годы отстучали свое, ан — нет, внезапно правда поднимается наверх, высвечивая всех тех, кто служил добру, как, в равной мере, и злу…
Я достал из кармана фотографию отца, единственную сохранившуюся у покойницы бабушки: в форме РОА, — рядом генерал Малышкин, полковник Боярский и поручик Бласенков.
Я не торопился передать ее моему собеседнику, неторопливо рассматривал, словно бы заново изучая лица людей, запечатленные фотокорреспондентом фашистской газеты «Новая Русь».
Лишь заметив, как снова налились веки поручика, я протянул ему фотографию:
— Ну, как? Всех узнаете?
Он тяжело поднял голову — веки не мог уже, перенапрягся, — мгновение изучал меня взглядом, полным усталой ненависти, потом снова углубился в разглядывание фотографии.
— Да, я знаю всех, кто здесь изображен, — сказал наконец он, и впервые за весь разговор я угадал в манере его ответа тюремность.
— Могу просить вас назвать людей поименно?
— Конечно… Изменник Родины Малышкин… Рядом — изменник Родины полковник Боярский… Подле него изменник Родины капитан Снегирев… И я… Сделано было это фото незадолго перед тем, как меня разоблачило гестапо и бросило в застенок на Принцальбрехтштрассе…
— Не помните, как звали капитана Снегирева?
— Великолепнейшим образом помню… Игорь Иванович… Наймит гестапо, мерзавец и тварь…
— Стареете, господин Бласенков, — сказал я, — память сдает… Ну-ка, вспомните имя и отчество моего отца, я ж его называл в клубе…
И тут я увидел, как медленно потекло лицо Бласенкова. Оно менялось на глазах, щеки обвисли, мгновенно пересохли губы, сделавшись бесцветными, сероватыми какими-то, мочки ушей стали длиннее, они наливались желтоватой синевой, и впервые за все время разговора я заметил, как у старика затряслись руки…
— Вы же писали доносы на моего отца в нашей тюрьме, Виталий Викентьевич? Вы работали по просьбе министра Абакумова, разве не так? Вам же прекрасно было известно, кем был мой отец — «капитан Снегирев»… Он ведь вас первым допрашивал, в сорок пятом, в конце мая, правда? Вот почему я затронул вопрос о клевете. Вас судили за измену Родине, а вы в нашей тюрьме клеветали на коммунистов, на чистых людей, чтобы подвести их под расстрел… Но мой отец не был расстрелян… Он уцелел… А вы до сих пор не ответили за клевету на него… Вот почему я говорил, что история — штука многосложная… Подлинник этой фотографии там, где ей надлежит находиться… Там, где уже лежат документы, как вы отдали гестапо Извекова… Там, где есть свидетельские показания, как вы добровольно перешли к немцам… Есть точная дата и название деревни, где вы лютовали, а также свидетельства крестьян… И есть показания, как вы вместе с немцами ломали несчастного четырнадцатилетнего мальчишку, делая из него предателя, — Мишу Тихомирова… Трудная фамилия, правда? С трудом запоминается… Никак она вам не дается, правда?
И тут я услышал, как по коридору кто-то пробежал. Я снова стал комком, я был готов мгновенно обернуться, отбросив кресло, вскочить на ноги и занять позицию.
Но в комнату никто не вошел, хлопнула дверь, и я услышал, как тараторяще прочечетил дробный сбег по лестнице.
— Колька, — жалобно, даже моляще простонал Бласенков. — Колька, сука!
Никто не ответил ему: Колька слышал все, что я говорил, Колька убежал, что ж, наверное, ради этого я и пришел сюда, вот она, победа. Никогда не думал, что после нее тебя оставляют силы и тело кажется резиновым, неуправляемым…
— Слушай, — прошептал Бласенков, — слушай меня… Не губи, Христа ради… Хочешь, на колени стану? Сколько чего хочешь — возьми, у тебя ж дите родится… Я отойду, уеду, пропади все пропадом. Дай пожить, пощади седины, пощади… Все тебе скажу, про всех, только дай уйти добром…
И, обвалившись на пол, он заплакал, задирая голову так, словно хотел сломать шею, вывернув ее назад в последнем задыхающемся хрусте…
XXXII
«Справка по делу о преступной группе Тихомирова М. Н.
в составе Чурина А. К., Кузинцова Ф. Ф., Русанова В. Н., Завэра Э. И., Руминой Г. А., Антипкина С. В.
После показаний бывшего секретаря обкома Рахматова о том, что он, наряду с другими руководящими работниками, получал взятки не только деньгами, но бриллиантами и изумрудами, в результате оперативных мероприятий нам удалось выйти на ювелира Завэра. Наблюдение за ним вывело на ряд официальных лиц, и прежде всего на старшего эксперта по ювелирным изделиям Румину.
После нападения неизвестных на художника Штыка в сферу наблюдения вошли искусствовед Русанов, доцент Тихомиров, помощник заместителя министра Чурин А. К., доктор технических наук Кузинцов и тренер Антипкин. (Их связь с пенсионером Бласенковым пока что не дает оснований к задержанию последнего, ибо факт его участия в преступных сделках — на этой стадии — установить не удалось.) Такая же ситуация сложилась и с «гадалкой».
В результате наблюдения, а также изучения материалов удалось выстроить приблизительную схему, по которой действовала преступная группа.
Договоры на реставрацию, а также росписи новых зданий не могут быть заключены напрямую между художником и руководителем учреждения. Такого рода прямые соглашения запрещены еще с начала тридцатых годов. В связи с этим любой бюрократ вправе отодвинуть неугодного художника и передать дорогостоящий подряд тому лицу или лицам, которые соответствующим образом отблагодарят тех, кто имеет право санкционировать, утверждать и подписывать соответствующий договор.
Деятельность преступной группы Тихомирова свелась до минимума осенью восемьдесят шестого года, когда на повестку дня стал вопрос о реальной инициативности, предприимчивости и гласности.
Общественностью был подготовлен законопроект о праве художников на прямые контакты с руководителями предприятий и учреждений.
Однако в начале восемьдесят седьмого года Чурин — с одной стороны и Тихомиров — с другой смогли добиться пересмотра разработанного законопроекта. По-прежнему без санкции многочисленных художественных советов, финансовых, плановых и контролирующих инстанций ни одна инициатива художника, заведующего детским садом, директора клуба или школы, дома отдыха или начальника строительного управления не может считаться законной.
Была искусственно сохранена ситуация, понуждающая смелых и инициативных людей становиться «преступниками», хотя эта «преступная деятельность» не только приносит экономию государству, но и гарантирует лучшее художественное качество.
Чурин «проработал» вопрос о сохранении запрета на поиск новых талантов и творческую инициативу художников по своим каналам, педалируя на то, что отмена прежних инструкций сделает «бесконтрольными» не только художников, но и руководителей строительств. Это якобы грозит как хищениями, так и «анархией», «неуправляемостью», «возрождением частнособственнических инстинктов».
Со своей стороны Тихомиров, используя Русанова, подбиравшего «надежных» художников, готовых довольствоваться малой частью гонорара, подготовил докладную записку в директорат общества «Старина». Он предложил создать объединенный художественный совет, без рекомендации которого ни один договор на роспись или реставрацию не может быть заключен. Более того, Тихомиров предложил вменить в обязанность объединенного художественного совета разрабатывать тематику росписей, низводя, таким образом, труд художников до уровня бездумных исполнителей. Докладная записка Тихомирова была проведена «опросом», без широкого обсуждения директоратом, не говоря уж о широкой общественности, выражающей глубокую озабоченность не только продолжающимся и поныне разрушением исторических памятников архитектуры, но и тем, как расписываются новостроящиеся объекты. Так же «в рабочем порядке» председателем объединенного художественного совета был утвержден доцент Тихомиров.
Нравственный климат директората общества «Старина», созданный Тихомировым, не в малой степени способствовал созданию такой атмосферы, в которой обман коллег, эксплуатация труда художников, поборы сделались явлением узаконенным.
Ни один творческий человек — известный художник, реставратор, исследователь — к работе «узкого директората» не подпускался. «Директорат» паразитировал на патриотических настроениях членов общества, стараясь придать им шовинистический оттенок.
Из общественного фонда «Старины» Тихомиров уплатил тысячу сто рублей переводчику Гинзбургу за то, что тот подготовил ему сто страниц — выдержки из работ, посвященных «венскому периоду» Гитлера, когда тот старался попасть в Академию живописи, но «по вине еврейских профессоров не был зачислен на курс».
Рекрутируя художников, Тихомиров широко пользовался этим материалом, подчеркивая, что «денежные отчисления с договоров на роспись и реставрацию необходимы лишь на первом этапе деятельности «Старины», чтобы оказывать помощь «национальным кадрам», которым намеренно не дают расти представители иной культуры, преследуя свои корыстные цели, связанные с желанием искоренить традиции нашей реалистической живописи».
Когда художник Ежов заметил Тихомирову, что «именно малоталантливые люди в искусстве более всего упирают на «национальный момент», стараясь обвинить в собственной бездарности всех, кого угодно, но только не себя», Русанов немедленно лишил его обещанного ранее заказа на роспись станции техобслуживания автомобилей в Среднеуральске, сфабриковав обвинение в том, что якобы художник скрывал родственные связи с Ежовым, расстрелянным в тридцать восьмом году как враг народа.
Попытка художника обратиться к Чурину результатов не принесла, Ежов был опозорен как сутяжник и клеветник, в настоящее время находится на излечении в институте неврологии.
Когда художник Штык занял определенную позицию по делу Горенкова, вопрос с ним был решен чисто уголовным путем.
Вообще можно сделать вывод, что преступная группа во многом копировала структуру итальянской мафии. Начиная с того, что Русанов обещал «покровительство» художникам взамен на передачу ему семидесяти процентов гонорара, и кончая коррумпированными связями Тихомирова, выходящими за пределы министерских кабинетов, группа использовала — в случае экстремальных ситуаций — уголовный элемент. Все это говорит за то, что мы имеем дело с качественно новой преступной структурой, подвизающейся в «околокультурном» мире.
Примечательно, что Тихомиров организовал в газетах хвалебные рецензии на тех, кто состоял с ним в наиболее близких отношениях. Очевидные посредственности короновались в этих рецензиях «истинными талантами». Таким образом, была предпринята попытка создать новую «плеяду», что позволяло Русанову требовать повышения гонорарных ставок за исполнение живописных и реставрационных работ.
Принципы, проповедуемые Тихомировым о необходимости реставрации памятников отечественной архитектуры, привлекают к нему значительное количество честных людей. Однако именно Тихомиров делал все, чтобы затруднить реставрационные работы, особенно в том случае, если подряд получали люди «со стороны».
Коррумпированные связи Тихомирова, еще далеко не все выявленные, носили тщательно продуманный конспиративный характер.
Чаще всего он старался действовать опосредованно, не впрямую, используя весьма уважаемых деятелей из области идеологии и науки.
Тихомиров ни разу не виделся с Чуриным. Необходимые контакты осуществлял Кузинцов.
…В дальнейшем, когда количество «послушных» художников, работавших по соглашению с Русановым, превысило сорок девять человек, на «связь» с Чуриным вышел непосредственно Русанов. Это дало возможность Тихомирову значительно сократить суммы с утвержденных министерством договоров, выплачивавшиеся ранее Кузинцову.
Поскольку за поддержку заказов в Бухарской, Вышеградской и ряде других областей местное руководство отказывалось получать «вознаграждение» деньгами, Тихомиров привлек к деятельности преступной группы ювелира Завэра и старшего эксперта Румину.
Связь с Завэром он поддерживал через Румину, встречаясь с ней не дома, а на конференциях, посвященных уральским малахитам или же калининградскому янтарю.
(После того как Русанов сократил выплату Кузинцову вознаграждений за посреднические услуги, тот наладил «личную» связь с Завэром, свел его непосредственно с Чуриным и решил работать «автономно» от Тихомирова — Русанова, хотя «дружеских отношений» с ними не прерывал.)
Судимый ранее за мошенничество Завэр (специализировался на продаже горного хрусталя, который выдавал за бриллианты), работая в паре с Руминой, скупал драгоценности у «бывших», выплачивая им двадцатую часть истинной стоимости.
Румина, выезжавшая по роду работы за границу, реализовывала наиболее уникальные драгоценности и нелегально провозила в СССР иностранную валюту.
Поскольку на «бывших», то есть потомков богатых купцов и аристократов, оставшихся в стране, наводил Тихомиров, ювелир Завэр и Румина отчисляли ему за эти «услуги» валюту.
Нам не удалось установить, на какие «нужды» Тихомиров обращал валюту. Во время обыска она у него не найдена. В течение первого допроса он категорически отвергал наличие в его доме иностранной валюты. Видимо, этот вопрос следует особенно тщательно изучить во время следствия, так как связи Тихомирова с работниками государственного аппарата отличались очень большим диапазоном.
В тайнике, оборудованном на даче Тихомирова, было найдено семьсот три тысячи рублей, сберкнижки на предъявителя, а также ювелирные изделия на сумму в пятьсот тысяч рублей.
У Завэра обнаружены ювелирные изделия на сумму сто сорок тысяч рублей. У Русанова обнаружено девяносто две тысячи.
У Чурина — восемьдесят тысяч и ювелирных изделий на семьдесят тысяч.
У Антипкина обнаружена сберегательная книжка на триста двадцать рублей.
У Руминой изъято драгоценностей на сумму сорок девять тысяч рублей. У Кузинцова обнаружено восемь тысяч рублей.
Задержанная в квартире Руминой ее дочь О. Варравина к преступной группе отношения не имеет.
По предварительному подсчету, преступная группа причинила государству ущерб в девять миллионов рублей. Материалы переданы следственному управлению.
Полковник Костенко (Угро)
Майор Сюркин (ОБХСС)».
обвалившис
XXXIII «Невосполнимость»
«Сначала я хотел назвать этот очерк «Исповедь». Потому что я рассказывал в нем не только о судьбе инженера Василия Горенкова, но и о своей. Поиск репортера порою становится сюжетом трагедии, зачастую личной: лучшие журналисты Италии были убиты мафией, когда прикасались к ее святая святых.
Журналисты реализуют себя во времени (злободневность) и пространстве (количество колонок на полосе). Поэтому многое остается за разграничительной чертой, рескрипционно отделяющей репортаж, которому ты отдал одну из своих жизней, от сообщений с хоккейных полей.
Я переписал репортаж заново после того, как мне позвонили из Курска и попросили приехать для опознания погибшего, сбитого на дороге неизвестным автомобилем. Фамилия — Горенков, тридцати семи лет, русский, коммунист…
С помощью работников Курского уголовного розыска удалось восстановить последний день жизни Василия Пантелеевича почти полностью. Горенков был очень красивым человеком — не только внутренне. У него запоминающееся открытое лицо (чем-то похожее на актера Филатова), он высок и общителен. Девять человек дали подробные показания о том, что произошло в Курске. официантка вокзального ресторана, например, вспомнила, что он просил продать ему на вынос «пепси» и спрашивал, нет ли шоколадных конфет с рисунками для детей. «У нас «пепси» на вынос не разрешают». — «Почему?» Я ему объяснила про бутылки, а он: «Я ж уплачу… Разве вам не обидно, если из-за каких-то бутылок ваших детишек лишат радости?» — «А я что могу сделать?»
Пригласила администратора Аллу Максимовну, ну та и сказала, что он слишком много себе позволяет».
Мы нашли шофера такси, который вез Горенкова с вокзала в центр города: «Он сначала-то молчал, только грудь тер, так сердечники растираются, у меня братан сердечник, — показал шофер. — Спросил, где можно «пепси» купить, мол, у него здесь дети живут, «пепси» обожают. Я ответил, что без блата не достать. Он попросил отвезти его в центральный универмаг, хотел взять хорошие игрушки. Я сказал, что только вчера там был, искал сынишке подарок ко дню рождения, игрушки — барахло, надувные подлодки на змей похожи, думал какой костюмчик приобрести, так за венгерским давка, а наши даром не нужны, словно на сирот шьют. Он меня еще спросил: «А почему, как думаете?» Ну, я и ответил, что у народа интересу нет, шей не шей, все одно зарплата какая была, такой и останется. А он: «А если б с каждого проданного костюмчика швеи получали процент?» Ну, а я: «Чего ж мы, капитализм хотим восстанавливать? Народ не позволит». Ждать я его отказался, чего попусту время жечь, поезд с юга подходил, может, работа подвернется. Ну, он ничего, не возражал, расплатился и ушел».
Вспомнила его и продавщица в детском отделе. Она рассказала, что он попросил разрешения у какой-то покупательницы поговорить с ее ребенком. Та разрешила, он на корточки присел и стал выспрашивать, что малышу нравится. А тот сказал, что бабушка. Он его прижал к себе и долго кашлял, отвернувшись, может, заразить боялся, лицо у него землистое, больное, наверное, грипп. Потом маленький ему сказал, что мыльные пузыри любит пускать. У нас такой игрушки не оказалось. Тогда он купил «железную дорогу» и «футбол» и занял очередь в секцию обуви — выбросили чешские спортивные туфельки, но ему не досталось.
Вспомнил Горенкова и второй таксист, что вез его по адресу, где жили сыновья. И этого человека Горенков спрашивал, где можно купить «пепси» и хороших шоколадных конфет. Шофер отвез его в центральный ресторан, но там красивых коробок не было, только молочный шоколад в плитках и фруктовые вафли.
Соседка гр-на К. — назовем так человека, который теперь считается отцом его сыновей, — сказала Горенкову, что мальчики в детсаду, назвала адрес, поинтересовавшись, кто он такой. Горенков ответил не сразу. Человек в высшей мере порядочный, он понимал, что если дети действительно называют «папой» другого, ему нельзя открывать себя: во дворах тайн нет. Чувство такта уступает место сплетне, грязному слуху. Он сказал соседке, что привез детям гостинцы от их бабушки, и спросил, где работает «товарищ К.», — та женщина, которая раньше была его женой. Соседка назвала учреждение. Горенков оставил у соседки подарки и отправился в тот детский сад, куда новый «папа» водил его детей…
Одна из воспитательниц опознала его по предъявленной нами фотографии и пояснила, что этот человек с нездоровым цветом лица очень долго наблюдал за тем, как дети играют во дворе садика. Это показалось ей подозрительным, и она позвонила в милицию. Приехала дежурная машина. у Горенкова потребовали документы. Он предъявил паспорт. На вопрос, что он здесь делает и почему вообще находится в Курске, Горенков сказал, что такого рода вопрос неконституционен. Тогда он был задержан и отвезен в отделение милиции. Привожу выдержку из протокола допроса: «Почему вы находились неподалеку от детского сада, высматривая детей, и провели там более получаса?» — «Вы не имеете права задавать такой вопрос». — «Мы имеем право задавать любые вопросы». — «Тогда ответьте, почему вы брюнет?» Это было расценено как неуважение к должностному лицу, и Горенкова отправили в медвытрезвитель на анализ по поводу алкогольного опьянения. После того как его привезли из вытрезвителя с заключением, что следов алкоголя в организме нет, Горенков был отправлен в камеру, где провел ночь вместе с двумя жуликами, Сидоровым и Ратманом. Ночью произошла драка. Сидоров показывал, что Горенков якобы согнал Ратмана с нар, потому что их в камере было только двое. Поэтому он якобы был вынужден заступиться за друга. Той же версии придерживался и Ратман. Однако в дальнейшем, получив очную ставку, Сидоров и Ратман путались в показаниях, давали объяснения, исключающие одно другое, словом, лгали. Начальник городского управления милиции, который лично проводил расследование после того, как разыгралась трагедия, сообщил, что Сидоров и Ратман решили «поучить интеллигента», но когда тот дал им отпор, стали кричать, что их убивают. После этого Горенкова посадили в подвал, где он и пробыл до утра. Вызванный утром на допрос, он потребовал разрешения позвонить первому секретарю обкома в Загряжск. В этом ему было отказано. Выслушав его показания о том, что он смотрел на своих детей, начальник отделения пообещал разобраться во всем этом деле в течение семидесяти двух часов. В требовании вызвать представителя прокуратуры Горенкову было отказано, причем, кивнув на его туфли, из которых снова вытащили тюремные веревочки, заменявшие шнурки, дежурный заметил: «Права качать умеешь, птицу видно по полету». Лишь после того как Горенков потерял сознание — с остановкой пульса, — была вызвана «скорая помощь», которая и увезла его в больницу, в отделение реанимации. После первой медицинской помощи Горенков обратился к врачу Умновой и продиктовал ей телеграмму Каримову, попросив копию отправить мне, в Москву. А рано утром, во время пересменки, из больницы ушел. Мы смотрели его кардиограмму: сердце измотано, предынфарктное состояние.
Мне очень страшно рассказывать о той сцене, которая разыгралась на работе гр-ки К., бывшей жены Василия Пантелеевича. Он вызвал ее на проходную. Вахтер Дибичев показал, что он протянул ей цветы, но она выбила их у него из рук и чуть не силой вытолкала его на улицу, повторяя все время: «Ты не смеешь, уходи, уходи, зачем ты здесь, гадина?!» Дворник НИИ, в котором работает гр-ка К., слышал, как Горенков увещевал бывшую жену, говорил, что он ни в чем не виноват, что она не имеет права лишать его мальчиков, что он ни в чем ее не упрекает, но просит разрешения повидаться с ними. Невольный очевидец этого трагического разговора запомнил его молящие слова: «Скажешь мальчикам, что я их дядя, я согласен, не надо их травмировать, если они твоего мужа называют папой, но ты не вправе лишать детей отца». — «Какой ты отец? Отцы отдают себя семье! А ты?! Дон Кихот прибабашенный! Сколько я тебя молила?! Как я упрашивала тебя быть тише и незаметней?! Славы захотел?! Вот и получил славу! Мало еще тебе досталось! Мало!» Горенков просил К. не кричать так, говорил, что это ее же позорит, но она сказала, что если он посмеет пойти в детский сад, она сейчас же обратится в милицию…
…Неизвестная машина сбила его неподалеку от детского сада — пустой переулок, очень тихий, обсажен двумя рядами лип, окна домов закрыты листвой, звука тормозов — пронзительного в таких случаях — никто не слышал.
…А теперь я должен рассказать, чем жил этот человек накануне гибели. Я приведу записи его мыслей, которые я сделал в блокноте после того, как проводил Горенкова на Курский вокзал, посадив в седьмой вагон скорого поезда «Москва — Симферополь». Причем это были мысли не досужего фантазера. Первый секретарь обкома партии Каримов официально пригласил его занять пост министра строительства автономной республики с правом на самый широкий эксперимент! «Как правило, — сказал он Каримову, — наши эксперименты идут сверху вниз. Это началось в двадцать девятом году, с коллективизации, когда Сталин предложил провести «революцию сверху». А давайте-ка поэкспериментируем в обратном направлении. Время этого требует. В известное выражение о том, что верхи не могут по-новому, а низы не хотят по-старому, приходится вносить коррективу: верхи очень хотят по-новому, низы не намерены жить по-старому, но середина не умеет работать так, как этого требует новое мышление».
Горенков — мы проговорили почти всю ночь — мыслил законченными, выстраданными формулировками, шутил: «В тюрьме у меня было много свободного времени».
— Сколько лет мы говорим о «чувстве хозяина»?! — горестно спрашивал он. — А что сделано для того, чтобы эти слова превратились в реальность? Ничего. Ответьте мне: что такое «акция»? Ладно, вы человек относительно подготовленный, но я проводил опрос среди многих рабочих, инженеров, и каждый отвечал: «Капитализм, что ж еще!» Но ведь «акция» — это значит «действие». Разумное действие сулит выгоду. Что такое — по Владимиру Далю — «выгода»? Это «польза», «прибыль», «барыш». Меня, как всякого русского, первые два понятия устроили, а «барыш», понятно, насторожил. Посмотрел у Даля и это слово. А вот оно: «прибыль», «польза», «прибыток», «нажива»… Правда, — Горенков тогда улыбнулся своей неожиданной улыбкой, — пословицы о «барыше» у Даля грустные: «Продал на рубль, пропил полтину, пробуянил другую, — только и барыш, что голова болит»… Так что ж будет антисоциалистического в том, если мы введем на предприятиях акции? Приобрел акцию своего завода или совхоза, вкалываешь как следует — вот тебе и барыш! Тогда и винить будет некого, если мало получаешь, — значит, сам плохо работаешь… Не считайте же деньги в чужих карманах! Хватит! Сколько можно растить соглядатаев! Трудись хорошо — получишь много! У нас в республике есть пара небольших кирпичных заводов, работают на своем сырье, вот я там начну выпускать акции… Кирпича трагически не хватает — заключу договор со стройкооперативом, возьму ссуду в банке и выпущу акции под договоры с сельским хозяйством: всем совхозам потребен кирпич, плати мне аванс и планируй впрок свое строительство! Если пытаться косметически подправлять существующее — погубим перестройку, начинать надо заново, думать не об отчете, а о выгоде, живом деле. Прямые связи — промышленность, строительство, сельское хозяйство, рынок… И никаких промежуточных держиморд, полная самостоятельность, инициатива и хозрасчет…
Я спросил его про миллион ведомственных барьеров: Госкомтруд, Госкомцен, Госплан, Минфин, Госстандарт, Госконтроль… Они же все потребуют согласовании, подгонки под нормативы, увязки не со здравым смыслом, а с бумажками — ныне действующими законоположениями, постановлениями, решениями, инструкциями… Горенков досадливо махнул рукой:
— Если идти по этому пути, не сдвинемся с места. Мы вязнем, постоянно вязнем в традиционно-привычном! Завод заключает договор с совхозами — что противозаконного? Что важнее: соблюсти привычную бумажную проформу или построить во всех совхозах красивые коттеджи, уютные кафе, асфальтированные дороги и теплые коровники?!
(Я тогда отметил, что слово «красивые» он вынес на первое место. Он умел видеть будущее. Почему порою в слово «мечтатель» мы вкладываем несколько презрительный и уж, во всяком случае, снисходительный смысл?) А еще он сказал:
— У Мао Цзедуна, когда он начал свой «культурно-революционный» термидор, был лозунг: «Огонь по штабам!» У нас те, кто ныне алчет термидора, ненавидит перестройку и саботирует ее, пытаются провести в жизнь свою стратегию: «Огонь по светлым головам!» Я, когда вернусь на работу, — он замер на мгновенье, потом засмеялся, — верно сказал, хотя боюсь впрок задумывать, — начну борьбу за то, чтобы немедленно пересмотрели дела восьми директоров фабрик и совхозов, с которыми я сидел… Золотые головы, а они лес валят. Завистники написали доносы, а в любом деле — при нашем-то море запрещающих параграфов — нельзя не отступить от буквы во имя блага державы… Вот тебе и тюрьма… Только во вред державе бюрократия держится зубами за все нормативы и утвержденные параграфы: самому спокойно, а страна — лети себе в тартарары, Россия велика, лететь будет долго, на мой век хватит, а после нас хоть потоп…
…Об индивидуальном труде:
— Идет саботаж. Повсеместно. Исполкомы спускают жесткую разнарядку: сколько, где и чего можно открыть «проклятому частнику». Да какая же это, к черту, инициатива? Дураку ясно: вместо десятков различных министерств надо сделать центры координации, где кооператоры смогут получить реальную помощь в фондах, заказах и протекцию от зажима бюрократии. Ведь бюрократия может лишиться права на поборы, которые раньше получала от всех директоров Домов быта, кафе, ресторанов, гостиниц, — как же ей разрешить труд индивидуалов?! Это ж подписать самому себе приговор… Сервис государственным быть не может — это для меня азбука… Сервис может быть только кооперативным или индивидуальным… Дома быта уже давно стали частными предприятиями, но вместо того, чтобы они платили налог, государство им начисляет зарплату… Отдать все Дома быта под индивидуальную деятельность, рекламировать это, поощрять, а всех тамошних директоров, заместителей, бухгалтеров перевести на договор: «Бюро услуг по организации труда». Пусть им не оклад платят, а процент с прибыли кооператоров и широкого индивидуального сервиса… Почему телевидение до сих пор не провело серьезную консультацию для индивидуалов? Хоть раз газета воспела труд индивидуала? Кооператора? Да нет же! Вот люди и боятся! Идет скрежещущая драка между теми, кто в каждом зарабатывающем человеке видит, стяжателя, кулака, и сторонниками свободы кооперативного и индивидуального труда… История этого противостояния тенденций у нас старая, вековая… Это трагедия нашей истории. А разве об этом говорят? Исследуют? Проводят дискуссии на телевидении? Поют, как соловьи, о традициях, а ведь они у нас разные… Мы в республике договорились: вернусь — сделаем такую передачу… «Открытая трибуна, вопросы и ответы».
— А не попросит телевидение записать вопросы и ответы на монитор, чтобы потом подредактировать?
— Тогда они будут делать такую передачу с кем-то другим.
На вокзале уже, возле вагона, он сказал:
— За какие-то три года в стране — при всех перекосах — проблема гражданских прав близка к решению… Да, да, несмотря на то, что я в тюрьме отбарабанил… Но ведь сейчас можно говорить обо всем, что болит! На повестку дня стал самый главный вопрос… Если мы его не решим, нас ждут страшные беды: необходимо в корне изменить отношение к личности… Да, да, именно так. Именно личность была и будет первоосновой государства. От того, сколь высок престиж личности, от того, как закон гарантирует ей право на поступок, то есть инициативу, зависит будущее… Или наших детей ждут годы пострашнее тридцать седьмого, или же они будут так счастливы, как мы и мечтать не смеем…
Я сказал ему, что это — слишком общее соображение, попросил раскрыть скобки.
— Все просто! Сейчас любой поступок обязан быть утвержден вертикалью инстанций. Ожидание разрешения убивает желание. Рождается пассивность и неверие в собственные силы. Где закон, который гарантирует мое право — Иванова, Петренко, Гогоберидзе — на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост директора? Мастера? Депутата? Министра? Профессора? Формально где-то что-то есть, но я говорю о гарантированной реальности положения. Люди по-прежнему ожидают указания сверху, как у нас повелось исстари. Восемнадцать миллионов управляющих и контролирующих как огня боятся личности, ненавидят право, закон, демократию — это лишает их. власти… Надо все поставить с головы на ноги. Только новое качество личности не допустит рецидива прошлого. Не сходка, подготовленная для телевизионного репортажа, не очередная кампания должны определять поиск, а мнение личностей, исполненных чувства собственного достоинства… Знаешь, о чем я думаю? Нужен Народный Фронт Перестройки… Именно Народный Фронт… Без зарплат и персональных «Волг». Только тогда — «враг не пройдет!». Если мы не добьемся реальных Прав, победят те, которые начнут «Большой террор», они не умеют иначе.
Он легко вскочил в тамбур и поднял руку в приветствии испанских республиканцев. Лицо его было одухотворенным, хоть и очень усталым, без кровинки. Но глаза его лучились такой верой, что я подумал: «Как же счастлива страна, у которой есть такие сыновья».
Я бы очень хотел назвать тех, кто посадил в тюрьму этого замечательного организатора, бессребреника, патриота. Я сделаю это, как только суд вынесет приговор банде преступников, находящейся ныне под следствием.
Я, однако, не могу не сказать уже сейчас, что его осознанно и методично вели к скамье подсудимых те люди, которые были расчетливыми паразитами идеи. Потрясая святыми для каждого из нас понятиями «родины», «истории», «памяти», они сами лишены каких бы то ни было принципов. Только одно руководило ими — алчность, страх и зависть. Только одно объединяло их — дремучее бескультурье, «облагороженное» учеными степенями. Лишь одного они боялись: подлинного знания, истинной демократии и гласности, интернационального братства. Им было удобно жить в недвижном болоте, передвигаясь по лагам, брошенным коррумпированными мафиози. От них пахло прелью. Они были одержимы идеей погрузить в эту тину всю страну. Люди, подвластные доктрине малограмотных фанатиков, живших мифами, а не фактами, мечтали о том, чтобы каждый из нас сделался неподвижным истуканом, затянутым ими в трясину средневекового кошмара…
Для таких Горенковы — непримиримые враги. Для таких любая мысль и поступок — опасны и таят в себе вопросы, на которые они не в силах ответить.
Потеря такого человека, как Горенков, — невосполнима. Это есть государственная потеря. Я хочу, чтобы имя «Горенков» стало нарицательным — бесстрашный мечтатель и добрый солдат за счастье человека, потому что человечество состоит из людей, и оно устало от общих слов, оно жаждет пристальности и внимания к каждому…
Я мечтаю дожить до того дня, когда Александр и Павел Горенковы станут совершеннолетними. Я приеду к ним и расскажу, как обеднела наша страна после того, как их отец нас оставил. Ах, как нужна всем нам доброта и внимание друг к другу!
Иван Варравин (наш специальный корреспондент)».
«Главное управление уголовного розыска
полковнику Костенко В. Н.
Рапорт
Наблюдение за неизвестными, «гуляющими» вокруг дома, где проживает И. И. Варравин, теперь, после опубликования его статьи «Невосполнимость», ведется нами круглосуточно.
Капитан Коняев».
Ялта. Ноябрь 1987 г.
Примечания
1
Имеется в виду И. В. Сталин. (Здесь и далее примеч. автора.)
(обратно)2
Горбунов, помощник Ленина, был расстрелян в 1937 году. Фотиева и Гляссер обречены на молчание до 1956 года.
(обратно)3
Немецкий врач, приглашенный из Берлина.
(обратно)4
«Кто есть кто».
(обратно)5
Здесь и далее стихи О. Семеновой.
(обратно)


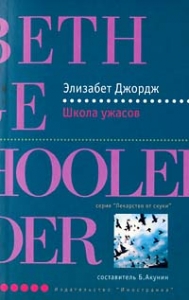


Комментарии к книге «Репортер», Юлиан Семенов
Всего 0 комментариев