Камилла Гребе На льду
Посвящается Эстель и Фредрику
Ты не знаешь, кто тебе друг, а кто враг, пока лед под тобой не треснет.
Инуитская поговоркаПетер
Я стою в снегу перед могилой матери, когда звонит телефон. На могиле простой памятник, едва достающий мне до колен, из грубо обтесанного куска гранита.
Мы с мамой часто говорили о трудной работе полицейского в городе, где люди интересуются только своей персоной, и о том, что жить среди таких людей непросто.
Кроссовки утопают в мокром снегу. Я достаю телефон и отворачиваюсь от памятника. Мне неловко говорить по телефону у могилы матери.
Передо мной простирается кладбище Скугсчюркогорден, окутанное туманом. Сосны торчат из снега, как восклицательные знаки, кричащие, что жизнь не вечна. С веток и памятников капает вода. Оттепель.
Вода уже просочилась в кроссовки и хлюпает внутри, напоминая о том, что все-таки следовало купить те ботинки в магазине. Вдали видны темные фигуры среди сосен. Наверно, пришли ставить свечи или цветы на могилу. Скоро Рождество.
Я возвращаюсь на расчищенную от снега тропинку и смотрю на дисплей телефона, хотя и так знаю, кто звонит. Внутри уже появилось это странное ноющее ощущение, которое так хорошо мне знакомо.
Прежде чем ответить, бросаю последний взгляд на могилу. Машу рукой на прощание и шепчу, что скоро вернусь. Разумеется, в этом нет нужды. Она знает, что я вернусь. Я всегда возвращаюсь.
Я еду в город по плохо освещенной улице Нюнэсвэген. Красные габаритные огни машин, едущих впереди, указывают мне дорогу. Вдоль дороги лежат сугробы из грязного осевшего снега. Низкие депрессивные здания на въезде в Стокгольм. Лампы в виде рождественских звезд освещают окна, подобно бенгальским огням. Снова пошел снег, смешанный с дождем. Он залепил переднее стекло и смягчил контуры окружающего пейзажа. Шум мотора смешивается с ритмичным звуком дворников.
Убийство. Еще одно убийство.
Много лет назад, когда я был еще сравнительно молодым полицейским и неопытным следователем, звонки с информацией об убийстве всегда вызывали у меня волнение. Убийство тогда означало для меня загадку, которую нужно было разгадать, моток спутанной пряжи, который надо распутать. Тогда я верил, что любое преступление можно расследовать. Нужно только запастись терпением, набраться энергии и потянуть за нужные ниточки. Реальность казалась мне паутиной из таких ниточек. И я верил, что способен ее распутать.
Но больше я ни в чем не уверен. Может, утратил интерес к этой паутине, может, потерял нюх и не знаю, за какую нитку тянуть. Со временем мое отношение к смерти тоже изменилось. Смерть забрала мать, которая теперь покоится в болотистой земле кладбища Скугсчюркогорден. Анника, моя сестра, похоронена на том же кладбище, недалеко от матери. А скоро и отец там окажется, если не перестанет пить по-черному на побережье в Испании, где он теперь проживает. Преступления уже не кажутся мне такими уж важными. Конечно, я занимаюсь расследованием. Я выражаю в словах то, что кажется невыразимым. Человека лишили жизни. Описываю события, предшествующие преступлению. Пытаюсь вычислить убийцу и сделать так, чтобы он ответил за свои деяния перед лицом правосудия. Но мертвых это к жизни не вернет, не так ли?
И сейчас мне сложно видеть смысл в том, что я делаю. Сгущаются сумерки, и я понимаю, что за весь день так и не видел солнца. Еще один серый декабрьский день из целой череды пасмурных дней этой зимой. Движение становится более плотным. Я еду на север по шоссе Е18. Дорогу ремонтируют. Машина подпрыгивает на рытвинах. Ароматизатор воздуха в виде елочки трясется перед глазами.
Когда я проезжаю университет, звонит Манфред. Говорит, что в деле замешана какая-то важная шишка и что мне лучше приехать как можно скорее, прежде чем туда доберется пресса.
Я вглядываюсь в темноту индустриальных кварталов, отвечаю, что ему придется общаться с прессой, потому что дорога вся в дырках, как швейцарский сыр, и я не хочу отбить себе всю задницу, гоня на бешеной скорости.
Манфред разражается хохотом в трубку. Его смех больше похож на хрюканье поросенка. Впрочем, я к нему несправедлив. Манфред полноват и действительно напоминает откормленного поросенка. Но я смеюсь наверняка ничуть не элегантнее. Все мы несовершенны.
Мы работаем вместе больше десяти лет, я и Манфред. Год за годом мы стояли рядом перед столом для вскрытия, допрашивали свидетелей, утешали несчастных родственников.
Год за годом мы ловили преступников и делали мир лучше и безопаснее. Или нам это только показалось? Все эти люди в морге в Сольне мертвы и останутся мертвы. На веки вечные.
Мы патрулируем общество, пытаемся собрать воедино осколки, когда ваза уже разбита. Жанет сказала, что у меня депрессия, но я ей не верю. И в депрессию я тоже не верю. Просто не верю и все. Скорее считаю, что я наконец примирился с реальностью и вижу жизнь такой, какая она есть. Жанет возражает, что именно так думают люди, страдающие депрессией. Они не видят ничего, кроме собственного жалкого положения. Я обычно отвечаю, что депрессию выдумали фармацевтические компании, чтоб еще больше обогатиться, и что я не имею никакого желания помогать им в этом. А когда Жанет начинает расспрашивать о моем здоровье, я кладу трубку. Уже прошло пятнадцать лет после нашего разрыва, и нет никакой причины обсуждать с ней мое самочувствие. И тот факт, что она является матерью моего единственного ребенка, ничего не меняет.
Альбину не стоило появляться на свет. Нет, он нормальный ребенок. Обычный подросток с прыщами и избытком тестостерона, зависимый от компьютерных игр. Просто я не был готов стать отцом. В самые мрачные часы (а их становится все больше с годами) я думаю о том, что Жанет забеременела специально. Выбросила противозачаточные и залетела, чтобы отомстить за свадьбу. Наверняка так и было. Я никогда не узнаю правду. Впрочем, это уже не важно. Альбин живет с матерью. Мы иногда встречаемся, не часто. Обычно по праздникам – в Рождество, в день летнего солнцестояния и в его день рождения. Я думаю, так лучше для мальчика. Ему не стоит много со мной общаться. Не хочу, чтобы он тоже во мне разочаровался.
Иногда я думаю о том, почему не держу в кошельке его фото, как делают другие (настоящие) родители. Например, школьное фото с эффектом «сепия», снятое в спортивном зале фотографом, чьих творческих амбиций хватило только на съемки в школах.
Но я знаю, что это будет самообманом. Отцовство надо заслужить. Это право получает тот, кто встает к ребенку по ночам, меняет пеленки и делает все то, что нужно. Отцовство не имеет никакого отношения к генам, которые я, неосознанно, передал вместе со своей спермой пятнадцать лет назад Жанет, мечтавшей о ребенке.
Я вижу дом издалека. Он ничем не выделяется из ряда белых коробок в эксклюзивном пригороде столицы, но весь окружен полицейскими машинами. Синие мигалки освещают снег. Белый фургон криминалистов аккуратно припаркован рядом. Я оставляю машину внизу на дороге и поднимаюсь вверх к вилле. Здороваюсь с полицейскими, показываю удостоверение, подлезаю под сине-белую ленту, качающуюся на ветру.
Манфред Ульссон стоит в дверном проеме. Его тучное тело загораживает вид. Он приветственно поднимает руку. На нем твидовый блейзер с розовым платком в наружном кармане. Широкие брюки аккуратно заправлены в синие бахилы.
– Черт тебя подери, Линдгрен, я думал, ты никогда не доедешь.
Я смотрю на него. Маленькие темные глазки глубоко посажены на красном лице. Тонкие рыжие волосы зализаны, как у актеров в фильмах пятидесятых. Он больше похож на торговца антиквариатом, или историка, или сомелье, чем на полицейского. И Манфред прекрасно знает, что не похож на полицейского. Мне кажется, он нарочно так эксцентрично одевается, чтобы провоцировать других полицейских. Ему нравится играть в игры.
– Как я уже говорил…
– Да-да…дорожные ремонты, – отвечает Манфред. – Знаю я тебя. От просмотра порнушки не мог оторваться.
Его грубый язык резко контрастирует с его тщательно продуманным внешним видом. Он протягивает мне бахилы и перчатки и, понизив голос, сообщает:
– Это омерзительно. Иди сам посмотри.
Я надеваю бахилы, перчатки и ступаю на пластиковые плитки, которые криминалисты постелили на полу в прихожей. В нос мне ударяет удушливый запах крови. Я инстинктивно отшатываюсь, хотя этот запах мне давно знаком. Мне становится не по себе. Несмотря на то что я тысячу раз был на месте преступления, от близости к смерти у меня всегда мурашки на коже. Может, пугает осознание того, как быстро наступает смерть. Как мало нужно, чтобы человек ушел из жизни. Хотя бывают и случаи, когда место преступления или состояние тела свидетельствуют о том, что человек долго боролся за свою жизнь.
Я киваю криминалистам в белых комбинезонах и осматриваюсь. Прихожая совершенно безликая. Непонятно даже, кто живет в доме, мужчина или женщина. Или, может, такой стиль и называют мужским? Белые стены, серый пол, никаких личных вещей, которые обычно встречаются в прихожей, – одежды, сумок, обуви. Я ступаю на следующий лист пластика и заглядываю в кухню. Сверкающие черные панели. Стол в форме эллипса со стульями. Я видел его в каком-то журнале. Ножи на стене в ряд, как на параде. Отмечаю, что все ножи на месте. Манфред кладет мне руку на плечо.
– Сюда.
Я иду дальше. Прохожу криминалиста с камерой и блокнотом. Вижу пятно крови под пластиком. Нет, это не пятно, это целое море крови. Красное липкое море свежей крови. Оно занимает почти половину прихожей, простираясь от стены до стены и спускаясь дальше в подвал. Кровавые отпечатки ведут к двери на улицу.
– Чертовски много крови, – бормочет Манфред, проворно пробираясь вперед по пластиковым плиткам. Табличка с номером стоит рядом с комком окровавленной одежды. Я вижу ногу в черном сапоге на каблуке и тело женщины. Она лежит на спине, отвернув голову от меня. Через секунду я понимаю, что ей отрубили голову и что то, что я принял за одежду, и есть голова, лежащая на полу. Точнее стоящая, словно ее кто-то поставил. Глядя на нее, кажется, что она вырастает из пола, как гриб.
Манфред с пыхтением опускается на корточки. Я наклоняюсь, пытаюсь осознать, что передо мной. Естественная реакция – отвернуться, закрыть глаза, но я уже давно научился справляться с рефлексом и заставлять себя смотреть на труп.
Лицо и темные волосы женщины заляпаны кровью. Я бы дал ей лет двадцать пять, но это сложно, учитывая состояние, в котором находится тело. Тело тоже все в крови, но я различаю царапины на руках. Погибшая одета в черную юбку, черные колготки и серую кофту. Под телом я замечаю пуховик.
– Кошмар.
Манфред кивает и берется за подбородок.
– Ей отрезали голову.
Я киваю. Возразить тут нечего. Очевидно, именно это и произошло. Требуется немалая сила, чтобы отделить голову от тела. Это многое говорит о преступнике. Мы знаем, что он или она обладает достаточной физической силой. Или очень сильной мотивацией.
– Нам известно, кто она?
Манфред качает головой.
– Нет, но мы знаем, кто владелец дома.
– Кто?
– Йеспер Орре.
Имя звучит знакомо. Спортсмен? Политик? Но я не помню, где слышал его раньше.
– Йеспер Орре?
– Да, Йеспер Орре. Директор «Клотс и Мор». Теперь я вспоминаю. Скандальный директор «К и М», самой быстро растущей сети магазинов одежды в Скандинавии. Излюбленный объект бульварной прессы. О нем часто писали. О его нестандартных методах управления компанией, о его романах с женщинами, о его неполиткорректных заявлениях для прессы.
Манфред вздыхает и поднимается. Я следую его примеру.
– Орудие убийства? – спрашиваю я.
Он молча показывает направление. Рядом с лестницей, ведущей в подвал, лежит большой нож, больше похожий на мачете. Отсюда трудно разглядеть. Рядом стоит табличка с номером «пять».
– А этот Орре? Мы его взяли?
– Нет. Никто не знает, где он.
– Что еще нам известно?
– Тело обнаружила соседка, которая заметила, что дверь открыта. Мы с ней говорили. Она испытала шок и сейчас находится в больнице. Слабое сердце. Но в любом случае ничего полезного она не сказала, только, к сожалению, много натоптала в прихожей. Не знаю, найдем ли мы отпечатки ног.
На улице на снегу тоже следы крови. Видимо, убийца вытерся снегом после преступления.
Я осматриваю прихожую. Пол залит кровью. На стенах кровавые пятна и кровавые отпечатки рук. Сцена напоминает картину Джексона Поллока. Кажется, что кто-то разлил красную краску на полу, а потом разбрызгал по стенам.
– Судя по всему, смерти предшествовала драка, – продолжает Манфред. – У убитой женщины раны на руках. Судмедэксперт считает, что она умерла вчера между тремя и шестью часами вечера. Жертве около двадцати пяти лет. Причина смерти – отделение головы, как ты сам видишь.
Манфред замолкает.
– А голова? – спрашиваю я. – Это случайность, что она так стоит? Или ее поставили специально?
– Врач и криминалисты говорят, что убийца так ее поставил.
– Омерзительно.
Манфред кивает и ищет мой взгляд. Потом понижает голос, словно боится, что кто-то нас услышит. Но здесь только криминалисты.
– Слушай, это очень напоминает…
– Но это было десять лет назад.
– И все же…
Я киваю. Я и сам вижу сходство с убийством в Сёдермальме десять лет назад, которое нам так и не удалось раскрыть, несмотря на то что это было одно из самых тщательных расследований в истории шведской криминалистики.
– Десять лет прошло. Нет причин думать… Манфред отмахивается.
– Наверно, ты прав.
– А этот Орре. Что нам о нем известно?
– Только то, что писали газеты. Но Санчес над этим работает. Обещал связаться с нами вечером.
– А что писали газеты?
– Обычные сплетни. Подчиненные называют его рабовладельцем. Профсоюз его ненавидит. На него поданы несколько исков. И он известный дамский угодник.
– Жена? Дети?
– Он живет тут один.
Я оглядываю просторную кухню.
– Зачем одному такой огромный дом? Манфред пожимает плечами.
– У богатых свои причуды. И потом, соседка, которую увезли в больницу, сообщила, что временами тут жили женщины, которым она уже потеряла счет.
Мы выходим на улицу, снимаем бахилы и перчатки. В десяти метрах от нас виднеется сгоревшее здание, засыпанное снегом. Манфред зажигает сигарету, заходится кашлем, поворачивается ко мне:
– Забыл упомянуть. Три недели назад у него сгорел гараж. Страховая компания ведёт расследование.
Я смотрю на обугленные балки, торчащие из снега. Они напоминают мне сосны на кладбище Скугсчюркогорден, молчаливо возвышающиеся надо мной и всегда вызывающе неприятное ощущение, что смерть где-то рядом. В машине по дороге в город я думаю о Жанет. Почему-то самые чудовищные убийства всегда заставляют меня вспоминать о Жанет. Может, потому что только ей удавалось вывести меня из равновесия? Ей и этим преступлениям. Или потому, что я подсознательно хочу, чтобы она была мертва, как та женщина в доме? Разумеется, я не желаю ей смерти, потому что она мать Альбина, но мое подсознание может думать иначе.
Моя жизнь была намного проще до нашей встречи с Жанет. Она работала в кафе рядом с Полицейским управлением на Кунгсхольмен. Мы начали здороваться. Иногда, когда было мало посетителей, она присаживалась за мой столик поболтать. Угощала кофе. У нее были короткая растрепанная стрижка, высветленные волосы, щель между передними зубами, которая постоянно притягивала к себе взгляд, как нарисованная в писсуаре муха. И у нее была фантастическая грудь. У меня были девушки до нее. Даже много девушек. Но ни с кем не было серьезных отношений. Они приходили и уходили, и никому не удалось затронуть мое сердце. Думаю, ни одна из них не испытывала ко мне особых чувств. Но Жанет была другой. Она была упрямой. Чертовски упрямой. После трех-четырех ужинов в ресторане, закончившихся сексом, она начала ныть о том, чтобы жить вместе. Разумеется, я отказал. Я не испытывал никакой потребности в том, чтобы жить с кем-то, да и ее болтовня уже начинала действовать мне на нервы. Я все чаще ловил себя на том, что хочу, чтобы она заткнулась. Но иногда, глядя на нее, спящую голышом в моей постели, я думал, что она невероятно красива. Ночная тишина и безмолвие делали ее прекрасной. Мне хотелось, чтобы она всегда оставалась такой. Но, разумеется, эта мечта была несбыточной. Невозможно требовать от своей девушки, чтобы она все время ходила голая и молчала.
Вначале она ныла про всякие мелочи. Например, про отпуск. Могла прийти домой с сумкой, полной туристических брошюр, и весь вечер рассуждать, куда лучше поехать. На Майорку или на Ибицу. На Канарские острова или в Гамбию. На Родос или на Кипр. Она рассуждала вслух о том, где лучше погода, где вкуснее еда и где лучше шопинг. Разумеется, в итоге мы отправлялись в отпуск, и это было не так уж и плохо. Заняться в деревне на восточном побережье Майорки было нечем, и всю неделю Жанет сидела в бикини и читала сагу про пещерных людей («Дети земли» Джин Ауэль), что не давало ей возможности трепаться. А в бикини она была почти что голая. Надо еще к этому описанию добавить секс. Секс был фантастический. Может, это вино и сангрия, которые мы потребляли в больших количествах, а может, тепло делали секс таким хорошим. Она в постели вела себя как зверь, дикий и ненасытный и одновременно хрупкий и беспомощный. Иногда мне казалось, что в постели она ведет себя как мужчина. Жанет была требовательной и ненасытной и крайне эгоистичной. Она брала то, что хотела. И если она чего-то хотела, то должна была получить это немедленно. Тогда это были я и мое тело. В одну из таких жарких ночей я даже подумал, что неплохо было бы провести с ней всю жизнь. Может, я даже произнес это вслух. Я ничего не помню.
Но стоило нам вернуться домой, как она снова начала нудеть про покупку квартиры. Я четко дал понять, что не готов жить вместе, но она словно меня не слышала. Как обычно, Жанет делала то, что хотела. А в тот момент она хотела купить квартиру и завести семью и удивлялась тому, что я в свои тридцать три года не испытываю тех же желаний. Она сделала татуировку с моим именем: свиток с надписью «Петер», который несут два голубя. Это меня страшно взбесило, сам не знаю почему. Может, потому что татуировка – это навечно. А от одной мысли о том, чтобы остаться с Жанет навечно, у меня мурашки бежали по коже.
В то время я стал следователем в уголовной полиции и с головой ушел в работу. К каждому преступлению я относился крайне серьезно. Тогда я верил, что делаю мир лучше. Хотя понятия не имел, что это такое – лучший мир?
Теперь, спустя пятнадцать лет, я знаю, что ничего нельзя изменить. Время не линейное. Все идет по кругу. Вам это может показаться претенциозным, но на самом деле все это очень банально. Время – это круг. Как круг колбасы. И больше ничего. И думать тут не о чем. Жизнь идет по кругу. Новые убийства, новые коллеги, полные романтических представлений о своей профессии, с жаром берущиеся за дело, новые преступники.
И так без конца.
Вечность – это колбаса. Колбаса, которую Жанет хотела разделить со мной.
Позднее я часто думал о том, что мне следовало быть тверже в наших отношениях. Поначалу мне еще удавалось сопротивляться всем ее затеям, но скоро Жанет сломила мое сопротивление или я поменял тактику. Стал более уклончивым. Вместо «нет» отвечал «может, в следующем году». Находил недостатки у всех квартир, на показы которых она меня таскала. То этаж был низкий, то высокий (риск пожаров), то слишком далеко от центра, то слишком шумно. И все в этом духе. Каждый раз Жанет приходила в отчаяние. С показов она уходила мрачная и молчаливая. Она шла, не поднимая глаз, их скрывала светлая челка, прижимая к груди сумочку, как щит. Губы были вытянуты в тонкую линию.
Жанет прекрасно знала, что это вызовет у меня чувство вины и сделает меня еще слабее и беспомощнее перед ее атаками. Иногда мне кажется, что все это было притворством, трюками, чтобы лучше манипулировать мной.
Наверно, мои отношения с Жанет привели к тому, что при знакомстве с Манфредом я был им очарован. Несмотря на то что он производил комическое впечатление, отчасти из-за своего грубого языка и лощеной внешности, в нем был внутренний стержень, которого мне недоставало. Через пару дней после того, как мы начали работать вместе, он отвел меня в сторону и объяснил, что собирается развестись и что это наверняка скажется на его работе.
Манфред тогда был женат на Саре. У них было трое детей. Я помню, что спросил, что Сара думает по этому поводу, и он ответил: «Это не важно, потому что я уже все решил». То, как он это сказал, привело меня в замешательство. Он сам принял решение и собирался воплотить его в жизнь невзирая на то, что думает его партнер. Мне казалось это немыслимым.
И я испугался. Испугался, что Манфред, такой сильный и последовательный в своих действиях, поймет, кто я на самом деле. Увидит мою слабость, нерешительность, страх обязательств – все эти отвратительные черты характера, которые я всячески старался скрыть и которые рано или поздно всплывут наружу, как всплывает выброшенный в реку мусор.
Парой лет позже я рассказал Манфреду про свадьбу. Сначала он выглядел сконфуженным, словно не понял, что именно произошло, а потом начал хохотать. Он хохотал и хохотал, пока слезы не потекли по красным щекам. Он буквально по полу катался от смеха. Манфред умеет посмотреть на жизнь под другим углом. Он неисправимый оптимист.
К Полицейскому управлению мы подъезжаем уже в темноте. Похолодало. Вместо дождя с неба падают крупные снежные хлопья. Пейзаж можно было бы назвать красивым, если бы не уродливое здание полиции, построенное в шестидесятые в духе постиндустриализма.
В окнах горит свет. Значит, кто-то задержался на работе. Ловить преступников – работа круглосуточная. И не важно, что сегодня вечер пятницы и что скоро Рождество. Преступнику это не помешало убить молодую девушку, значит, и нам ничего не должно помешать его поймать.
На лестнице мы сталкиваемся с Санчес.
– У тебя усталый вид, – говорит коллега.
Она в кремовой блузке и черных брюках – обычной униформе полицейских, занимающихся административной работой. Темные волосы собраны в хвост, отчего видно татуировку на затылке. Это змея, извивающаяся по шее и пытающаяся укусить ее за левую мочку уха.
– У тебя не лучше, – отвечаю я.
Она улыбается, но ее улыбка говорит о том, что мне влетит за такой ответ.
– Я собрала материал на Йеспера Орре. Он у Манфреда.
– Спасибо, – говорю я и продолжаю путь. Манфред пьет чай перед компьютером. Знаком он приглашает меня сесть. На столе фото Афсанех, его молодой жены, и их дочки Нади, которой скоро исполнится год.
– Поел? – спрашивает он.
– Я не голоден. Спасибо.
– Понимаю, после такой картины еда в рот не полезет.
Я думаю о голове в луже крови. О том, какие ужасные вещи люди творят с другими людьми часто без особых на то причин или из-за каких-нибудь глупостей, вроде семейной вражды. Мне вспоминается передача, которая шла по телевизору пару месяцев назад. Там обсуждали, является ли человек мирным или кровожадным животным. Сама постановка вопроса уже была интересной. Ни у кого нет никаких сомнений в том, что человек – самое опасное животное на планете. И он уничтожает не только другие виды, но и свой собственный. И налет цивилизованности на нем столь же тонок и хрупок, как слой лака на ногтях, который так любит Жанет.
– Что-нибудь узнал о Йеспере Орре?
Манфред кивает и показывает пальцем на экран компьютера.
– Йеспер Андреас Орре. Сорок пять лет. Родился и вырос в Бромме.
Он делает паузу, тянется за очками. Я успеваю проанализировать информацию. На четыре года моложе меня. Вероятно, совершил чудовищное убийство. Или сам является жертвой преступления. Это пока неизвестно, но статистика говорит против него. Скорее всего, он причастен. И чаще всего самое первое и банальное объяснение в итоге оказывается верным. Манфред откашливается и продолжает:
– Два последних года работает директором «Клотс и Мор». Применяет, так сказать, противоречивые методы управления. Персонал его ненавидит и считает чудовищем. Он увольняет людей за то, что они берут отпуск по уходу за ребенком и все такое. Во всяком случае, так утверждает профсоюз. На него уже подано несколько исков, которые рассматривает Трудовая инспекция. В прошлом году заработал почти четыре миллиона крон. К уголовной ответственности не привлекался. Женат не был. Часто фигурирует в прессе благодаря своим многочисленным романам. Санчес говорила с его родителями и секретаршей. На связь с ними он не выходил. Но в пятницу на работе вел себя как обычно.
Манфред изображает в воздухе кавычки, произнося «обычно», и встречается со мной взглядом поверх очков.
– Подруга?
– Родители не в курсе. Секретарша сказала, что он держал свою личную жизнь в тайне с тех пор, как газеты начали полоскать его грязное белье.
Мы получили контактные данные его друзей. Санчес с ними поговорит.
– А что с пожаром?
– Ах да, пожар – Манфред листает бумаги. – Йеспер Орре строил гараж, но три недели назад он сгорел вместе с двумя машинами внутри. Весьма дорогими машинами. «Эмджи» и «Порше». Страховая компания выясняет, не было ли это поджогом. Санчес с ними пообщается.
Я смотрю в окно. Снегопад усилился. Сквозь снежную пелену ничего не видно. Манфред понимающе смотрит на меня.
– Скоро закончим. Мне тоже нужно домой. У Нади воспаление уха.
– Снова?
– Ты знаешь, как это бывает у маленьких детей.
Я киваю, хотя ничего не знаю. Столько лет прошло с тех пор, как Альбин был маленьким. Да и видел я его редко. Воспаление уха, желудочный грипп – все это прошло мимо меня.
– Слушай, – продолжает Манфред, – может, поднимем то старое дело? Почерк убийцы настолько похож, что мы просто не можем это игнорировать. Я могу поговорить с теми, кто над ним тогда работал. Можно позвонить той ведьме тоже. Как там ее звали? Ханне?
Я медленно поворачиваюсь к Манфреду, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица. Он не должен догадаться, какой эффект на меня произвели его слова. Достаточно было произнести это имя, чтобы воспоминания мощным потоком нахлынули на меня, и каждая клеточка в теле отозвалась на них болью.
Ханне.
– Не, – тяну я, язык меня не слушается, звук получается тонкий и писклявый: – Нет никакой нужды с ней связываться.
Эмма
Двумя месяцами ранее
– Какой огромный бриллиант!
Ольга хватает кольцо своими худыми пальцами и смотрит на свет, словно проверяя, настоящее оно или нет.
– Красивое, – констатирует она наконец и возвращает мне. – Сколько стоит?
– Я не спрашивала. Это подарок.
– Нет?
– Нет. Это невежливо. Ольга молчит.
– Давай выкладывай, – говорит Манур. – Кто твой принц?
– Я не могу…
– Да ну, – фыркает Манур, – вы же обручены. Почему надо держать все в тайне?
Толстая черная коса перекинута через плечо. На глазах – жирные черные стрелки.
– Все сложно, – тяну я.
– Моя тетя встречается с кузеном. Десять лет они держали свой роман в тайне, – приходит ей на помощь Ольга. – Двоих детей завели. Вот это я называю сложно.
– Это не родственник, уверяю вас. Никакого инцеста. Просто сложно и все.
– Как статус на Фейсбуке? It’s complicated?[1] – смеется Ольга.
– Почти.
Девушки молчат. В тишине слышно, как бурчит холодильник. Я понимаю, что коллеги сгорают от любопытства. Я вела бы себя так же на их месте. Но это действительно исключительная ситуация. И было бы безответственно с моей стороны рассказать кому-нибудь о моем поклоннике, тем более Ольге или Манур. Это может навредить Йесперу, да и мне тоже.
К тому же я ему обещала.
Ольга собирает крошки на столе в кучку и начинает рисовать в ней узоры своими длинными акриловыми ногтями.
– Не понимаю, отчего вы такие скрытные, – ноет она. – Я бы еще поняла, если бы у тебя был роман с женатым, но ведь это не так. И вы обручились. Так почему бы…
Манур поднимает руку:
– Оставь ее. Не хочет рассказывать – не надо. У нее есть на это право.
«Спасибо», – изображаю я губами и улыбаюсь Манур. Та улыбается в ответ и поправляет косу. Ольга сжимает губы и хлопает ресницами.
– Как пожелаешь.
Они снова замолкают. Манур прокашливается.
– Как прошли похороны мамы, Эмма? Все хорошо? Манур. Всегда такая заботливая и учтивая. Всегда осторожно подбирает слова и говорит тихим ласковым голосом, словно гладит по коже. Я надеваю кольцо на палец. Делаю глубокий вдох.
– Да, все прошло хорошо. Были только близкие.
В часовне было только пять человек. Простой деревянный гроб. Два одиноких венка. Органист играл псалмы, хотя мама ненавидела псалмы и молитвы. Но перед лицом смерти приходится смиряться с традициями, думаю я.
– Как ты себя чувствуешь? Ты в порядке? – участливо спрашивает Манур.
– Да, все нормально.
По правде говоря, я не знаю, что чувствую, и это тоже трудно объяснить. Я до сих пор не могу осознать, что мама мертва и что это ее крупное тело было втиснуто в тот гроб. Что кто-то одел ее, причесал растрепанные пергидрольные волосы и уложил в гроб. Что гроб накрыли крышкой и забили гвоздями, или как они там сейчас делают. Что в такой ситуации чувствует человек?
Отчаяние? Горе? Облегчение? Наши с мамой отношения были, мягко сказать, непростыми, а в последние годы она пила беспробудно, и общались мы крайне редко, что не преминули отметить мои тетки.
А теперь еще эта помолвка. Вскоре после смерти матери Йеспер подарил мне кольцо со словами, что хочет жить со мной. Я смотрю на бриллиант, сверкающий на пальце, и думаю, что, несмотря на всё, что случилось, этот камень мой. Никто не может его у меня отобрать. Я его заслужила. Я его достойна.
Дверь в подсобку распахивается.
– Сколько раз я вам говорил не оставлять меня одного в магазине? Пока вы тут смолите…
– Мы не курим, – перебивает его Ольга и запускает пальцы в свои тонкие длинные волосы.
Её резкость меня удивляет. Бьёрне это так не оставит. Он замирает в дверном проеме, тянется всем своим тощим телом и сует руки в карманы по последней моде потертых джинсов с заниженной талией. Потом покачивается в своих ковбойских ботинках взад-вперёд и сверлит Ольгу взглядом. Подбородок вздёрнут, отчего еще больше заметен неправильный прикус. Он похож на рыбу, думаю я. Злобную хищную рыбу, которая прячется в мутной воде, поджидая добычу. Начальник качает головой с шапкой спутанных темных волос.
– Я спрашивал твое мнение, Ольга?
– Нет, но…
– Тогда я предлагаю тебе заткнуться и идти помогать мне вешать этикетки на джинсы вместо того, чтобы сидеть здесь и разглядывать свои ногти.
Он уходит, хлопнув дверью.
– Мудак, – говорит Ольга, которая за десять лет в Швеции уже научилась использовать подходящие ругательства в нужный момент.
– Лучше нам поторопиться, – поднимается Манур и поправляет блузку.
По дороге домой я покупаю продукты. Йеспер любит мясо, и сегодня у нас праздник, так что я покупаю говяжью вырезку – с маркировкой «экологичный продукт», хотя она мне не по карману. Беру салат-микс, томаты-черри и козий сыр для канапе. В магазине алкоголя долго стою перед полкой с пузатыми бутылями.
Я не разбираюсь в вине, но обычно мы пьем красное вино за ужином, и я знаю, что Йесперу нравятся южноафриканские вина. После долгих раздумий решаюсь на «Пинотаж» ценой под сотню крон.
Я иду домой по Вальхалавэген уже в темноте. В лицо дует холодный северный ветер. Накрапывает дождь. Я бросаю взгляд на мокрый асфальт и ускоряю шаг.
Дом построен в 1925 году. Он находится рядом с торговым центром «Фэльтэверстенс» в районе Эстермальм. Одна из моих теть жила там всю жизнь, вплоть до своей смерти три года назад. По какой-то причине она завещала мне эту квартиру, что возмутило других родственников. С чего бы это Эмме, которая была ей всего лишь племянницей, унаследовать квартиру в центре города? Как мне удалось провести старушку? Впрочем, одно объяснение у меня было. У Агнеты не было детей, и мы с ней довольно тесно общались. Тети тоже встречались, поддерживая свой матриархальный союз, и порой звали и меня тоже.
Я отпираю замок и опускаю тяжелую латунную ручку. В нос мне ударяет запах жареного хлеба и чистящего средства. И еще чего-то знакомого, хорошо знакомого. Я ставлю сумки на пол, зажигаю свет в прихожей, снимаю мокрые ботинки. Потом вешаю пальто на вешалку и смахиваю капли дождя полотенцем.
На полу лежат два конверта. Счета. Я поднимаю их и отношу в кухню. Кладу к остальным счетам и письмам. Гора счетов растет с каждым днем. Надо поговорить с Йеспером о деньгах. Как можно скорее. Надо что-то делать с неоплаченными счетами. Я зову Сигге, доставая из шкафа кошачий корм. Стоит ему заслышать скрип дверцы, как он тут как тут. Трется о мои лодыжки. Я нагибаюсь, глажу его по черной шерстке, шепчу ласковые слова, даю корм и иду в гостиную.
Обстановка у меня самая скромная. Кресла работы Карла Мальмстена, унаследованные от тети Агнеты. Раздвижной стол и стулья я купила в Интернете, кровать – в «Икее». У меня есть еще письменный стол из магазина подержанной мебели и одежды «Мюрурна». Он весь завален книгами и блокнотами. Я учусь в гимназии заочно. Естественные науки. Школу я бросила. Так сложились обстоятельства. Я не могла продолжать учебу, не было желания. Хотя учеба мне всегда давалась легко. Особенно математика. В математике всегда все четко, нет никаких туманных терминов и субъективных точек зрения. Есть только правильный ответ и неправильный. Как бы мне хотелось, чтобы жизнь была похожа на математику.
Я думаю о Спике. О его длинных черных волосах, собранных в узел. О его привычке подпирать щеку рукой, когда он слушал. Он всегда всех внимательно слушал. Словно мы говорили о чем-то очень важном. Я поеживаюсь.
Однажды я перестану думать о Спике, говорю я себе. Однажды воспоминания о нем поблекнут, как старое поляроидное фото, и я освобожусь от его власти и буду жить так, словно его никогда не существовало.
В моем доме есть только одна ценная вещь – картина Рагнара Сандберга в спальне в наитивистском стиле. Выполненная в желто-синей цветовой гамме, она изображает футболиста. Я обожаю эту картину. Мама хотела ее продать и разделить деньги, разумеется, чтобы она могла пропить свою половину, но я наотрез отказалась. Пусть висит там, где всегда висела.
Тетя Агнета оставила мне немного денег. Сто тысяч. Я нашла аккуратные пачки стокроновых купюр в постельном белье в шкафу. О них я маме не рассказывала. По понятным причинам. Я выглядываю в окно. Подо мной виднеется гигантская черная артерия улицы Вальхалавэген, по которой можно попасть в центр и дальше на Лидингэ – часть кровеносной системы города. Дождь усилился. Он стучит в окна, заливает водой стекло. Похолодало. Наверно, ниже нуля, думаю я, поёживаясь. Я достаю продукты. Нарезаю козий сыр, кладу на тонкие кусочки хлеба. Включаю духовку. Готовлю салат. Принимаю душ. Наслаждаюсь прикосновением струй горячей воды к телу. Вдыхаю пар. Тщательно намыливаю тело гелем для душа, который нравится Йесперу. Грудь сегодня слишком чувствительная и немного припухшая. Я мою волосы и потом выхожу из старинной ванны.
Я приоткрываю дверь, чтобы пар рассеялся, вытираю зеркало полотенцем и смотрю на себя в зеркало. Лицо у меня тоже опухшее, красное. На нем явственно выделяются веснушки, похожие на тысячи островов, разбросанных по морю. Одни больше, другие меньше. Некоторые образовали целые красно-коричневые созвездия на моей бледной коже.
Я расчесываю рыжие волосы расческой с редкими зубьями. Осматриваю грудь. Она крупновата для девушки моего сложения. Соски тоже крупные, бледно-розовые. Я всегда ее ненавидела. С тех самых пор, как она начала доставлять мне столько неприятностей в школе. Я всячески старалась ее скрыть. Носила мешковатые кофты, горбилась, переедала.
Йеспер говорит, что обожает мою грудь, и я ему верю. Ему нравится лежать рядом и ласкать их, как щенят, и разговаривать с ними – сначала с одной, потом с другой. Мне кажется, любовь – это не только любить другого человека, но и смотреть на себя глазами любимого, видеть в себе красоту, которой раньше не замечала.
Я тщательно крашусь. Йесперу нравится естественная красота, но это значит не отсутствие макияжа, а что я только должна казаться ненакрашенной. И это занимает куда больше времени, чем можно подумать. Естественный макияж – дело непростое. Закончив краситься, я капаю духи на стратегические точки – запястья, между грудей, затылок, внутреннюю сторону бедра. Потом надеваю черное платье прямо на голое тело, вытираю ноги о коврик и выхожу.
Йеспер обычно пунктуален, и я подумываю поставить канапе с сыром в духовку в семь, но они готовятся всего пару минут, и я решаю подождать его прихода. Дождь по-прежнему стучит в окна и, похоже, не собирается заканчиваться. Вдалеке слышны сирены. Я зажигаю свечи. Пламя дрожит на ветру, сквозящем из старых окон. Тени мечутся по стенам. Кажется, что старая мебель оживает и шевелится, а вся комната качается, и я вместе с ней. К горлу подступает тошнота. Зажмурившись, я хватаюсь за спинку стула.
Думаю о нем.
Йеспер Орре.
Конечно, я слышала о нем до нашего знакомства. Видела его фото по телевидению и в журналах. И, естественно, мы обсуждали его с коллегами на работе. Скандальный директор сети магазинов одежды, где я работаю. Плохой мальчик фэшн-индустрии. У него была репутация бабника и деспота. Заступив на должность директора, он за месяц выгнал всех начальников и заменил их своими людьми. А потом начал реструктурировать компанию. Двадцать процентов сотрудников сократили. Оставшиеся получили новые инструкции, как обслуживать покупателей. Появились новые требования к внешнему виду персонала. Сократили время ланча и количество перерывов в работе.
Но когда он однажды зашел в наш магазин в мае, я его сперва даже не узнала. У него был растерянный вид. Он стоял посреди мужского отдела и переминался с ноги на ногу, как ребенок, впервые попавший на арену цирка на глазах у изумленной публики.
Я подошла к нему и предложила помощь. Это моя работа – помогать покупателям. Мы регулярно репетируем фразы, которые должны произносить. Еще одна идея Йеспера, которую плохо восприняли сотрудники.
Он повернулся ко мне, смущенно прикрывая рукой рубашку в области груди, на ней было оранжевое пятно.
– У меня встреча с советом директоров через полчаса, – сказал он, пряча глаза, – и мне нужна другая рубашка.
– Спагетти болоньезе?
Он застыл. Улыбка заиграла в уголках рта. Наши глаза встретились. И в этот момент я поняла, кто передо мной. К счастью, он снова отвел взгляд, потому что я внезапно остро ощутила его близость. Я стояла там, не зная, что делать, что говорить. Тишина была неловкой. Наконец, я велела себе собраться.
– Какой размер?
Он снова поднял глаза. Несмотря на загар, вид у него был усталый. Темные круги под глазами. На висках – седина. Морщинка в уголке рта. В реальности он казался старше, чем на фото. Старше, грустнее и утомленней.
– Размер?
– Да, рубашки.
– Простите. Конечно. Сорок три.
– Какой цвет предпочитаете?
– Не знаю. Наверно, белый. Что-нибудь нейтральное. Подходящее для делового собрания.
Повернувшись ко мне спиной, он начал изучать ассортимент. Я выбрала три подходящие рубашки. Вернувшись, я нашла его на прежнем месте.
– Поможете выбрать? – спросил он.
– Разумеется.
В этой просьбе не было ничего странного. Я ждала у примерочной, пока он выйдет в первой рубашке.
– Ну как?
– Прекрасно. Сидит прекрасно. Примерьте остальные.
Он скрылся в примерочной кабинке. Через пару минут вышел в следующей рубашке – в бело-синюю полоску с незастегивающимся воротником.
– Хм.
– Не нравится?
Вид у него был такой встревоженный, что я чуть не рассмеялась.
– Ну что вы. Она хороша, но не для собрания. Может, лучше подойдет более… деловая?
Он кивнул с таким видом, словно был готов повиноваться каждому моему слову, и вернулся в кабинку.
– Третью тоже примерить? – спросил он из кабинки.
– Разумеется.
Эта игра начала меня забавлять. Не каждый день удается обслужить директора, который инкогнито зашел в твой магазин. В старинных сказках короли всегда переодеваются бродягами, чтобы незамеченными пробраться в город и посмотреть, чем живет народ.
Он вышел в светло-голубой рубашке.
– Эта смотрится прекрасно. Берите ее, – заявила я. – Она формальная, но не такая скучная, как белая.
– А мы что, продаем скучную одежду в этом магазине? В его глазах внезапно появился интерес. Он словно увидел меня в новом свете.
– Порой нашим клиентам требуется и скучная одежда тоже.
– Туше, – улыбнулся он и посмотрела на меня. – Вы мне нравитесь. Как вас зовут?
– Эмма Буман.
Кивнув и ничего не сказав, он скрылся в примерочной.
И когда он подошел к кассе, чтобы расплатиться за покупку, случилось то, что навсегда изменило мою жизнь. Йеспер начал лихорадочно рыться в поисках кошелька. И с каждой секундой он нервничал все больше.
– Я не понимаю. Он должен быть где-то здесь… Он расстроенно покачал головой и процедил сквозь зубы:
– Черт…
– Можете занести деньги позже. Мы же теперь знакомы.
– Так не пойдет. У вас будет недостача в кассе. Я не хочу доставлять вам проблем.
– Если вы меня обманете, я обращусь в полицию. Но он не понял, что это шутка. На лбу выступили капельки пота. Они сверкали как кристаллы в искусственном освещении магазина.
– Черт, – повторил он, и на этот раз это прозвучало как мольба о помощи в этой неловкой ситуации.
Я наклонилась вперед, накрыла рукой его руку.
– Послушайте, я заплачу. Я напишу вам свой номер, и вы вернете деньги, когда сможете.
Он с облегчением взял у меня бумажку с номером. Выходя из магазина, он помахал мне на прощание бумажкой с телефоном так, словно это была похвальная грамота, и улыбнулся.
Я смотрю на часы над телевизором. Двадцать минут восьмого. Где он? Может, ошибся часом? Решил, что мы договорились на восемь? Но что-то подсказывает мне, что это не так. Я никогда не встречала человека столь пунктуального, как Йеспер. Он всегда приходит вовремя. И всегда с цветами. Другими словами, он настоящий джентльмен. Йеспер бывает высокомерным и несдержанным на язык, но за этим грубым фасадом прячется добрый и чувствительный ребенок. И он ненавидит непунктуальность.
Я наливаю себе еще один бокал и включаю новости. Французские крестьяне вывалили тонну картофеля на дорогу в Париже в знак протеста против новых правил Евросоюза. Ураган пронесся над Салой и разрушил строящуюся школу. Китайские исследователи обнаружили ген, вызывающий рак простаты. Выключаю телевизор. Тереблю мобильный. Не хочу его беспокоить, но боюсь, что он перепутал день или время. Посылаю эсэмэс с вопросом, скоро ли он будет. Не хочу, чтобы он думал, что я навязываюсь.
Йеспер Орре. Если бы Ольга с Манур знали. Если бы мама знала.
Внутри все сжимается. Только не думать о маме. Но уже слишком поздно. Я чувствую ее присутствие в гостиной. Чувствую запах пота и перегара. Вижу ее пухлое тело на диване перед телевизором с банкой пива, зажатой между колен, слышу ее храп.
Мама всегда хвасталась тем, что не пьет ничего крепче пива.
Лена, одна из сестер матери, утверждала, что пивной алкоголизм – один из самых тяжелых и что мама, уже стоя одной ногой в могиле, все равно тянется за банкой.
Трагизм ситуации заключается в том, что мама не всегда была такой. Я помню ее другой, и по ней прежней я скучаю гораздо больше. И гораздо больше переживаю из-за этой перемены, чем из-за ее кончины.
Я помню, как сижу с мамой на узкой кровати в комнате с грязными окнами (на них были следы от пальцев рук и даже от ног). «Как ты умудряешься это делать? Лазишь по стенам, как обезьянка?» – театрально вздыхает мама, решив пройтись по окну влажной тряпкой. На улице темно. Кто-то убирает снег во дворе. Я слышу скрип лопаты по гравию под окном.
Дома холодно. Мы с мамой в пижамах с длинным рукавом и в носках. У мамы на коленях книжка со сказкой про трех медведей.
– Почитаем еще, – умоляю я, – еще немножко.
– Хорошо, но только чуть-чуть, – вздохнула мама, зевая, и перелистнула страницу, подклеенную скотчем.
Она уставилась на текст.
– Кто спал в моей кроватке? – сказала я и показала на место пальцем.
Мне было семь лет. Я была в первом классе. Читать я научилась еще в детском саду. Я не помню как. Наверно, у некоторых детей это получается само собой. Учительница была очень довольна. Она позвонила маме, чтобы рассказать, что я читаю лучше всех моих одноклассников, а чтение – залог хорошей учебы и прекрасного будущего.
– И еще немножко.
– Медвежонок посмотрел на медведя и по…покачал головой, – прочитала я.
Мама кивнула. Лицо у нее было сосредоточенное, словно она решала сложную математическую задачку. В дверь спальни постучали. Это был папа. В руках у него была книжка и пачка сигарет. Длинные волосы закрывали лицо. Мне всегда казалось, что со своими длинными волосами и подростковой одеждой папа похож на рок-звезду. Он был крутым, не то что другие папы. И мне хотелось, чтобы он провожал меня в школу, а не мама.
– Я только хотел пожелать спокойной ночи, – сказал он, входя в комнату. Подошел к кровати, наклонился и поцеловал меня в щеку. Колючая щетинка царапнула мне кожу, в нос ударил запах табака.
– Спокойной ночи, – сказала я и проводила его взглядом. Худой, непричесанный, с непомерно длинными руками, он напоминал подростка.
Я перевела взгляд на маму. Она была полной противоположностью папы. Крупная, полная, округлая, она напоминала морского котика или даже кита. Высветленные волосы торчали во все стороны. Фланелевая пижама грозила треснуть по швам при каждом вздохе пышной груди.
– Твоя очередь, – сказала я.
Мама замешкалась, но ткнула пальцем в текст.
– Я ни…
– Не, – поправила я.
Мама кивнула, начала сначала.
– Я не спал… в твоей… кроватке, сказал медве… медве…
– Медвежонок, – поправила я.
Мама сжала руку в кулак.
– Черт. Это сложное слово.
– Скоро научишься, и пойдет легче, – серьезно произнесла я.
Мама посмотрела на меня и сжала мою руку.
– Думаешь?
– Конечно. Все ребята в моем классе умеют читать. Я не стала говорить, что все другие мамы и папы тоже умеют читать, потому что уже в семь лет я понимала, что это ее очень расстроит. Только я знала, что она не умеет читать. Ни папа, ни коллеги не были посвящены в этот постыдный секрет.
– Продолжим завтра, – сказала мама и поцеловала меня в щеку. – И не говори ничего папе…
– Обещаю.
Она погасила свет и вышла из комнаты. А я осталась лежать в кровати. Внутри у меня разливалась приятная теплота. Я чувствовала себя любимой и нужной.
Если бы мама увидела нас с Йеспером, что бы она подумала? Что-то подсказывает мне, что она была бы недовольна тем, что Йеспер публичная фигура и жизнь с ним будет непростой. Она бы скривилась и пробормотала что-нибудь в духе, что я о ней не забочусь, но что это неудивительно, потому что я никогда ей не помогала. А потом начала бы нудеть про дочку тетки Лёфберг, которая в тридцать лет живет с мамой и заботится о старушке.
Бросаю взгляд на часы. Половина девятого. В груди появляется неприятное ощущение. Пытаюсь понять, чего я боюсь. Что с Йеспером что-то случилось? На улице темно, ветрено, мокро. Наверняка дороги обледенели. В такую погоду водить машину опасно. После недолгих раздумий беру телефон. Снова колеблюсь. Почему мне так сложно позвонить ему? Словно не хочу, чтобы он знал, что нуждаюсь в нем больше, чем он во мне. Почему мне так важно знать, что он любит меня больше, чем я его? Нельзя вести себя как отчаявшаяся женщина, говорю я себе, нельзя навязываться. Никто не любит навязчивых.
Но набираю номер.
Сразу включается автоответчик. Он отключил телефон.
Я допиваю вино, накрываюсь одеялом и закрываю глаза.
Прошла неделя, прежде чем Йеспер позвонил и сказал, что хочет вернуть деньги и пригласить меня на ланч, если я согласна.
Мы встретились в субботу неподалеку от его квартиры в центре, в которой он ночевал, когда задерживался в городе. В ресторане было шумно и многолюдно. Я узнала его с трудом. Он был в джинсах и футболке и выглядел моложе, чем при нашей первой встрече в магазине. Даже держался он по-другому. Ни следа смущения на лице. Прямая спина. Уверенный вид. Он улыбнулся мне.
– Эмма… – И поцеловал в щеку.
Я смутилась. Никто не целовал меня в щеку. Даже моя мама. Особенно мама.
– Привет, – пробормотала я.
Он окинул меня изучающим взглядом, от которого я смутилась еще больше. Я чувствовала, что должна что-то сказать, чтобы нарушить это неловкое молчание.
– Как прошло собрание?
– Хорошо.
Он улыбнулся.
У него было странное выражение лица и голодные глаза, словно он смотрел на меня как на аппетитное блюдо. Вся эта ситуация была крайне неловкой.
– Почему ты пригласил меня на ланч? – вырвалось у меня. Я так смутилась, что не знала, что делать и что говорить.
– Потому что ты пробудила во мне любопытство, – так же прямо ответил он, не отрывая от меня взгляда.
Я уставилась на свои новые джинсы, купленные специально перед этим ланчем. Какая глупость. Как будто Йесперу Орре есть дело до того, что носит сотрудница его магазина.
– Ты обращалась со мной как с равным, – пояснил он.
Наши глаза встретились. На мгновение мне показалось, что в его взгляде промелькнуло что-то странное, боль или горечь.
– Равным?
Он медленно кивнул. Из бара донеслись крики. Я обернулась. По телевизору шел матч «Арсенал» против «Манчестер Юнайтед», и счет только что стал 0:2.
Йеспер перегнулся через стол. Наши лица оказались рядом. Я ощутила аромат его одеколона и пива, которое он пил. Мне стало не по себе.
– Когда у человека такая работа, как у меня, – сказал он, – люди редко общаются с ним по-человечески. Большинство – преувеличенно уважительно. А кто-то просто боится. Мало кто честно говорит то, что думает. Это крайне утомительно. Наверху очень одиноко, если ты понимаешь, о чем я. Но ты была честна со мной. Обращалась как с обычным человеком. Я пожала плечами.
– А разве ты не обычный человек?
Он рассмеялся и поднес пиво к губам. У него были загорелые руки, покрытые золотистыми волосками.
– Можешь считать это безумием, но я чувствую, что между нами есть связь. Скажи честно.
– Что?
– Ты тоже чувствуешь себя одинокой? Странной? Не похожей на других людей? Чувствуешь, что наблюдаешь за другими со стороны?
Я медленно кивнула. Он прав. Я всегда чувствовала себя другой. С самого детства. Мне всегда казалось, что в своей жизни я играю какую-то второстепенную роль. Будто я смотрю на саму себя со стороны. Вопрос только в том, как Йеспер успел понять это за десять минут нашей встречи в магазине.
Со стороны бара донеслись вопли болельщиков.
– Стольпе вышел из игры, – констатировал Йеспер.
– Откуда ты знаешь?
– Что?
Он покосился на экран, словно думая, что я спрашиваю про матч.
– Обо мне. Ты купил у меня рубашку. А теперь сидишь и заявляешь, что мы похожи. И что мы оба одиноки. Ты ничего обо мне не знаешь. Ни кто я, ни откуда, ни чего хочу в своей жизни. С чего ты решил, что я для тебя – открытая книга?
Он поднял стакан с пивом в шутливом тосте и подмигнул мне:
– Как я уже сказал, мне нравится, что ты обращаешься со мной как с равным. Тебе неведом страх. В этом мы с тобой тоже похожи.
Я покидала ресторан на трясущихся ногах. Щеки горели, руки вспотели. Не знаю, что так сильно на меня повлияло: то, что он позволил себе сделать выводы о моем характере, несмотря на то что мы едва знакомы, или желание, которое внезапно вспыхнуло во мне.
Я шла и гадала: что, если он прав? Что, если мы похожи? Что, если между нами правда существует невидимая связь? Как это иногда бывает между людьми разных сословий и возрастов, когда они встречаются и понимают, что созданы друг для друга?
На часах было около четырех. Я спешила в сторону Слюссен. Было жарко, и на мне была только тонкая майка. Но несмотря на это, пот лил с меня градом, и посреди Ётгатан я вынуждена была остановиться, чтобы отдышаться. Мимо шли прохожие: кто-то гулял, кто-то шёл за покупками, женщины в хиджабах спешили в мечеть. Люди текли сплошным потоком. И я внезапно оказалась посреди него, как лодка, потерявшая управление.
Подходя к метро, я увидела знакомое лицо. Йеспер Орре. Каким-то образом он догадался, куда я направилась, и пришел туда раньше. Он взял меня за руку.
– Пошли, – сказал он.
И потянул меня за собой вниз по улице – откуда я пришла, и я не нашла в себе сил возразить. Чувство беспомощности опьяняло. Это была свобода. Свобода от ответственности за свои поступки, свобода от чувства вины, полная свобода. Я пошла с ним. Закрыла глаза и позволила ему вести меня сквозь море людей.
…Я проснулась в три часа ночи в кресле. Все тело затекло от неудобной позы. С трудом поднялась на ноги. За окном темно, ветер усилился. Из окон сквозит. Я чувствую холодный воздух кожей. Почему-то я думаю о папе и о том насекомом, которое мы нашли. Мне было десять-одиннадцать лет. Светло-зеленый червячок напоминал мне жевательную мармеладку, только волосатую. И формой, и видом. На животе у него было много маленьких ножек, а сзади шип. Он ползал по моей руке, и это вызывало щекотку.
– Он кусается? – спрашиваю я.
Папа качает головой.
– Нет, и этот шип у нее сзади, – это всего лишь хвостик. Эта гусеница неопасна.
Червячок полз все выше по руке, и я повернула руку к солнцу, чтобы лучше видеть зеленое тельце. На свету оно было почти прозрачным, похожим на сверкающий драгоценный камень у меня на запястье.
– Где ты ее нашла? – спросил папа.
– В кустах у качелей. Он кивнул.
– Она питается листьями. Пошли. Поищем ей еду.
Мы на цыпочках прошли в прихожую, чтобы не разбудить маму. Тихо прикрыли за собой дверь. Папа дал мне знак идти за ним. Дома возвышались вокруг двора с редкой растительностью. Сюда редко попадало солнце. Людей было не видно. Качели покачивались на ветру. Пустая песочница ждала, когда проснутся дети. На дорожке валялись треснувшие пластиковые ведерки. Издалека доносилась восточная музыка и крики детей. В воздухе пахло кофе.
– Здесь, – сказала я, показывая на кусты.
Папа принес несколько веточек, влажных от росы, и серьезно посмотрел на меня:
– Давай построим ей домик.
Мы сунули веточки в банку и тихо вернулись в квартиру. В прихожей было темно и пахло мамиными сигаретами «Гала Бленд». Из спальни доносилось ее похрапывание. Папа стал рыться в шкафу. В прихожую он вернулся с каким-то острым предметом, который он достал из ящика с инструментами.
– Это шило, – прошептал он и проткнул крышку несколько раз, чтобы обеспечить доступ воздуха для моего питомца. Гусеница с радостью приняла свой новый дом. Думаю, у неё было немного требований к жилищным условиям. Достаточно было зеленых листьев, потому что она немедленно приступила к их поеданию.
– А что теперь?
– Кое-что любопытное, – ответил папа, утирая пот со лба. – Но тебе придется запастись терпением. Сможешь?
Я тянусь за телефоном. Никаких пропущенных звонков. Никаких эсэмэс.
Йеспер не пришел на праздничный ужин по случаю нашей помолвки, не написал и не позвонил. Что мне делать? Злиться? Тревожиться? Я решаю, что наору на него при встрече, если только он не в больнице с ногами в гипсе.
Накинув плед на плечи, я выхожу в кухню и убираю салат, канапе и вино в холодильник. Зову Сигге и ложусь спать.
Серый свет проникает в комнату сквозь тонкие занавески. В комнате холодно, я плотнее кутаюсь в одеяло. Сигге сворачивается клубком у моих ног, лижет лапу.
Я ни о чем не думаю, только медленно просыпаюсь и вслушиваюсь в стук дождя по окнам. Потом вспоминаю. Йеспер так и не пришел вчера. По неизвестной причине он не явился на собственную помолвку. И ночью я, как идиотка, прибирала на кухне, одетая в вечернее платье на голое тело. Мобильный лежит на полу рядом с кроватью. Никаких пропущенных звонков или эсэмэс.
Я сажусь в постели. Заворачиваюсь в одеяло и подхожу к окну, из которого сквозит. Кожу обжигает ледяной воздух.
Улица уже заполнена машинами. Люди, не крупнее муравьев, спешат к метро. Я включаю новости. Если что-то вчера случилось, это наверняка будет в новостях. Я опускаюсь в зеленое кресло. Меня тошнит. Сколько я вчера выпила? Надо поесть.
Я беру пару канапе и возвращаюсь в гостиную. Смотрю на темный экран с надписью «no signal». У меня появляется плохое предчувствие. Иду в кухню, роюсь в стопке со счетами. С канапе во рту начинаю вскрывать конверты. Это напоминания о задержке оплаты за электричество, мобильную связь, телевидение.
И это тоже отчасти вина Йеспера. Месяц назад я одолжила ему денег и с тех пор складываю счета в эту стопку. Одной зарплаты мне на жизнь не хватает. Но раньше у меня была заначка. Открываю последний конверт от «ComHem»[2] и проглядываю письмо с угрозой отключить мне телевидение и Интернет, если я не оплачу счета в течение десяти дней. Письмо прислали две недели назад.
Я откладываю конверт и беру другие счета. Смотрю на них, не зная, что делать, потом кладу в пустую банку и закрываю крышкой.
В метро я читаю новости на мобильном. Убийство в Ринкебю, погром в Мальмё, но ничего о Йеспере Орре. Никаких аварий и других происшествий.
Поезд метро набит битком. От жары, духоты и запаха пота меня снова тошнит. Приходится выйти на остановку раньше и присесть на лавку. Стянув куртку, я опускаю голову вниз и закрываю лицо руками. Прохожие бросают на меня тревожные взгляды, но никто не останавливается, чтобы спросить, как я себя чувствую. И слава Богу.
Все, о чем я думаю, это «Где Йеспер и почему он не пришел вчера?».
Ханне
Те, кто утверждает, что люди несчастны, потому что слишком много ждут от жизни, ошибаются. Я никогда ничего не ждала от жизни – ни счастья, ни денег, ни успеха. Но в итоге сижу здесь, несчастная и разочарованная, и не могу выразить свои чувства словами.
Наверно, это невозможно описать словами. Нет таких слов. Эти чувства больше, чем я. Это я живу в разочаровании, а не оно во мне. Разочарование как дом, в котором я заперта.
Отчасти причиной этих чувств стало то, что я больше не могу доверять своему телу. Мой интеллект, моя память постепенно разрушаются, превращаясь в кусочки мозаики, которые больше нельзя сложить в осмысленную картину.
Я смотрю на контейнер для таблеток на кухонной стойке. Белые и желтые таблетки лежат в отделениях, подписанных днями недели. Интересно, есть ли от них хоть какой-то прок.
Во время последнего визита доктор сказал, что нельзя предугадать, как будет протекать болезнь. Все может пойти быстро или медленно. Могут пройти месяцы или годы, прежде чем я полностью потеряю память. И это зависит от того, дадут ли эффект лекарства. Но то обстоятельство, что болезнь проявилась у меня в относительно молодом возрасте – в пятьдесят девять лет, говорит в пользу того, что и развиваться она будет крайне агрессивно. Когда он сказал об этом, я убрала блокнот с подготовленными вопросами. Я больше не хотела ничего слушать.
Я достаю собачий корм из шкафа и слышу топот лап по полу. И вот она уже у моих ног и смотрит на меня умоляющим взглядом. У тебя голодный вид. Почему? Неужели я забыла покормить тебя в прошлый раз?
И понимаю, что действительно забыла покормить Фриду. Я все время все забываю. Не могу себя контролировать. Оглядываюсь по сторонам. Вся кухня обклеена желтыми бумажками с напоминаниями о том, что нужно сделать.
Уве ненавидит эти бумажки. Ненавидит мою болезнь. Ненавидит то, что она делает со мной и с ним тоже. Она рискует уничтожить его представление о самом себе и своей совершенной жизни: идеальном доме, красивой умной жене, ужинах с друзьями. Он намекнул, что не хочет приглашать никого домой, когда в кухне такой бардак. Я знаю, что ему стыдно за меня.
Я выхожу в гостиную. Оглядываю свою совершенную жизнь. Мягкие подушки на диване, старинные подсвечники из слоновой кости, книжный шкаф от пола до потолка. Маски и статуэтки со всего мира – свидетельство поездок, в которых я никогда не бывала. Книги тоже о путешествиях. «Холодные небеса: семь времен года в Гренландии», «Эссе об эскимосах – рассказы с окраины мира».
Уве не разделяет мой интерес к Гренландии и инуитам. Он не может понять, что же такого интересного в этой холодной арктической стране без культуры и искусства. Там нельзя играть в гольф. Еда на вкус как дерьмо (выражение Уве). И к тому же съездить туда стоит целое состояние.
Наверно, я уже рассталась с надеждой, что когда-нибудь попаду в Гренландию. Вряд ли я решусь отправиться в такое путешествие в одиночку. Особенно сейчас, когда болезнь может атаковать меня в любой момент. Сидит и ждет, когда сможет поглотить меня целиком, как море поглотило Седну в легенде.
Красивая, но тщеславная инуитка Седна сбежала от отца с буревестником, чтобы выйти за него замуж. Буревестник обещал Седне, что унесет ее в чудесную страну, где она не будет знать голода. Их жилище будет сделано из лучших кож, и почевать она будет на мягкой медвежьей шкуре. Но по прибытии девушка обнаружила только шалаш из старой рыбьей кожи, продуваемый всеми ветрами, и старую жесткую тюленью шкуру вместо ковра. А кормил муж её остатками сырой рыбы.
Когда пришла весна, отец приехал навестить дочь в страну буревестников и нашел её несчастной и исхудавшей. Он убил ее мужа и повез Седну обратно в своей лодке. Но другие буревестники отомстили им. Они устроили сильный шторм. Отцу пришлось пожертвовать дочь морю, чтобы успокоить птиц. Он швырнул ее за борт в ледяную воду. А когда Седна намертво вцепилась в край лодки и не хотела отпускать, он отрубил ей пальцы – один за другим. Пальцы упали в море и превратились в китов и тюленей. В конце концов море поглотило Седну, и она стала его владычицей – морской богиней.
Старинная легенда учит юных инуиток тому, как опасно тщеславие и что нельзя идти против воли отца, но также и о том, что мы не в силах управлять природными стихиями. Им можно только приносить жертвы в надежде на милосердие.
У меня есть еда на столе и теплая постель каждую ночь, но болезнь все равно готова поглотить меня и сделать владычицей своего пустого и бессмысленного мира.
Уве считает, что не надо рассказывать друзьям о моей болезни. Пока не надо. Он часто это повторяет, что меня раздражает, но добавляет, что до конца будет рядом и позаботится обо мне. Но Уве всегда был рядом, всегда обо мне заботился. С самой нашей первой встречи, когда мне было девятнадцать, а ему двадцать девять. Он приезжал за мной, когда машина ломалась посреди дороги, оплачивал мои счета, забирал меня пьяную в хлам с вечеринок, даже вытаскивал из постелей чужих мужчин, когда я пыталась устроить бунт и изменить ему. И всегда был таким понимающим. Понимающим и обходительным. Давал мне успокоительные таблетки. Говорил, что знает, что мне плохо, но что проблему не решить, бросившись в объятья коллеги или случайного знакомого. Что я не знаю, что лучше для меня, но он всегда будет меня любить.
Все эти годы он душил меня своей заботой. В его присутствии мне было трудно дышать. Он словно поглощал весь кислород, ничего не оставив мне. Я говорила ему об этом. Но он всегда отвечал, что если бы не мое незрелое безответственное поведение, ему не пришлось бы поступать так, как он поступает. Что это я сделала его таким, какой он есть. Это я во всем виновата. Как обычно.
Может, отчасти муж и прав, но только отчасти. Уве обожает контроль. Это какая-то патология. Ему нужно контролировать всю мою жизнь: что я ем, с кем общаюсь, даже о чем я думаю.
Десять лет назад я была близка к тому, чтобы его бросить. И если бы это не кончилось катастрофой, сегодня я бы не была с Уве. Но я не хочу об этом думать. Не хочу сойти с ума. В жизни редко получается так, как ты того хочешь, и это не повод для грусти. Я борюсь с этими чувствами. Вырываю ростки разочарования, как сорняки, не даю им укорениться в моей душе. Пытаюсь искать позитив в работе, исследовательской деятельности, которой посвящала себя последние десять лет жизни, в друзьях, которые стали мне семьей, поскольку детей у нас с Уве нет.
Я ставлю миску на пол и смотрю, как Фрида жадно набрасывается на корм. Собакам легче живется на свете.
Собираю вещи. Пишу в блокноте: «14.00 в кафе в “Икее”. Помочь Гунилле выбрать мебель». Простое напоминание на случай, если я забуду, куда направляюсь. Пока еще не все так плохо. Я могу водить машину. Помню, куда мне надо. Но я страшусь того момента, когда мне придется просить Уве о помощи.
За выходные температура опустилась сильно ниже нуля. Я надеваю пуховик и теплые сапоги. Запираю оба замка (это я еще помню) и иду к машине, припаркованной на улице Шеппаргатан. Машина вся в снегу. Приходится попотеть, счищая внушительный слой снега с окон.
Небо над заливом Нюбрувик подозрительно темное и низкое. Вода кажется почти черной. Прогноз погоды обещал больше снега. Надо спешить. Я завожу двигатель и еду на север. Я должна вернуться к пяти, потому что мы с Уве идем на рождественский концерт в церковь Хедвиг Элеоноры.
Уве ведет активную культурную жизнь. Музыка, театр, книги – не просто хобби, это основные предметы разговора при встрече с нашими друзьями. Те, кто не следит за культурными событиями, высмеиваются и вынуждены выступать в роли пассивных слушателей на наших ужинах.
Это еще одно доказательство потребности Уве контролировать всех и вся. Он считает себя вправе решать, что люди должны обсуждать при встрече. Иногда меня так и подмывает заговорить о чем-нибудь другом, совершенно бессмысленном, чтобы Уве стало за меня стыдно. Я представляю, как бы он орал на меня после ухода гостей. Можно было бы сказать, что я сделала превосходную чистку лица в салоне, или начать обсуждать пляжный отдых или шмотки. Или сделать вид, что я прочитала «Пятьдесят оттенков серого» и что мне понравилось.
Я еду в направлении Баркарбю и думаю о том, за что ненавижу Уве. Он:
Самовлюбленный.
Эгоцентричный.
Доминантный.
Надменный.
И от него плохо пахнет.
Гунилла уже ждет меня в кафе. Она повесила лиловую шубку на стул и изучает свои ногти. Рыжие волосы прекрасно уложены. Кофта облегает стройную фигурку.
Уве Гунилла не нравится. Он презирает поверхностных людей. А Гунилла красит ногти, накладывает на лицо много макияжа и носит дорогую одежду. И к тому же она громко смеется по поводу и без. Но ее главное преступление в глазах Уве заключается в том, что она бросила мужа после двадцати пяти лет брака. Просто потому, что устала от него. Так люди не поступают. По крайней мере в мире Уве.
По крайней мере женщины.
Гунилла сжимает меня в своих объятьях. От нее пахнет дорогим парфюмом.
– Присаживайся, я возьму тебе кофе, – говорит она. Кивнув, я сажусь напротив. Я стаскиваю пуховик, оглядываюсь по сторонам. Поразительно, как много народу всегда в «Икее». Пахнет мокрой шерстью, по том, булочками с шафраном и столовской едой.
Гунилла возвращается с пластиковым подносом с булочками с шафраном и двумя чашками. Я сразу узнаю пряный запах.
– Глёг? Безалкогольный?
Гунилла только смеется и хитро смотрит на меня.
– Нет, я решила устроить нам праздник. Отметить покупку квартиры.
– Но я за рулем.
– Всего одна чашечка. Ты же походишь со мной по магазину?
– Ты безумна. Праздновать? В «Икее»?
– Почему бы и нет?
– Нет ничего ужаснее, чем праздновать в ресторане «Икеи».
Гунилла пьет горячий глёг и оглядывается по сторонам. Ее взгляд останавливается на пожилой паре, которые взяли по детской порции тефтелек.
– Бывает и хуже. Как ты?
Из наших друзей только Гунилла знает правду. Я рассказала ей о болезни еще раньше, чем Уве. Может, потому что она мне ближе, чем муж. Что тут поделаешь.
– Все хорошо.
– Что сказал врач?
– Ничего нового.
Она кивает, с тревогой вглядывается в мое лицо. Сжимает мою руку. Я чувствую, как ее тепло меня согревает.
– Ты же скажешь, если тебе понадобится помощь?
– Мне не нужна помощь.
– Вот поэтому я и прошу тебя ничего не скрывать. Меня смешит ее трогательная забота.
– А ты как? Как твой новый роман?
Гунилла смеется и потягивается как кошка. Опускает чашечку, нагибается вперед и шепчет, словно это страшный секрет:
– Фантастика. И нас тянет друг к другу… безумно тянет. Буду откровенна: я постоянно его хочу. Наверно, это неприлично в нашем возрасте.
– Эх, я бы все отдала за то, чтобы испытать такую страсть.
Мы с Уве больше не занимаемся сексом, но я не хочу говорить об этом Гунилле. Не потому, что не хочу знать ее реакцию, а потому что мне стыдно за то, что я живу с тем, к кому не испытываю никаких чувств. Только слабаки остаются в плохих отношениях. Я не хочу выглядеть слабой. Особенно в глазах Гуниллы. Сквозь шум в ресторане я слышу звук мобильного телефона. Бросаю взгляд на дисплей. Незнакомый номер.
– Ответь, – говорит Гунилла. – Мне нужно в дамскую комнату.
Я отвечаю и смотрю, как Гунилла поднимается и идет в сторону туалета. У нее ишиас. Подозреваю, что ей больнее, чем она говорит.
У мужчины мягкий приятный голос. Он представляется Манфредом Ульссоном и сообщает, что работает следователем в полиции. Давно мне никто не звонил из полиции. Я закончила свое сотрудничество с ними пять-шесть лет назад, когда решила посвятить все свое время исследовательской деятельности. У меня больше не было времени на консультации. Точнее, это Уве решил за меня. Он считал, что я слишком много работаю и что от этого у меня портится настроение. К тому же особой потребности в деньгах у нас не было.
– Мы с вами сотрудничали десять лет назад, – говорит следователь. – Не знаю, помните ли вы меня.
Имя Манфред Ульссон ничего мне не говорит, но я не хочу в этом признаваться и молчу.
– Это касалось расследования убийства в районе Сёдермальм в Стокгольме. Молодому мужчине отрезали голову.
– Помню… – обрываю я. – Вы тогда никого не поймали.
Деменция или нет, а ту голову на полу я никогда не забуду.
Может, потому что убийство было совершено с изощренной жестокостью. Может, потому что мы приложили все силы, чтобы найти убийцу. Когда они обратились ко мне, расследование велось уже несколько месяцев. Меня наняли в качестве психолога-консультанта составить психологический портрет убийцы.
Я вообще-то занимаюсь поведенческой терапией, но в своих работах затрагивала и мотивы преступлений.
В результате я несколько лет консультировала полицию в отношении самых чудовищных преступлений.
– Именно так. Мы так его и не поймали. А теперь произошло похожее убийство. Сходство поразительное. Я хотел узнать, не будет ли у вас возможность встретиться за чашкой кофе. У вас тогда были очень любопытные мысли по поводу психологического портрета преступника.
Гунилла возвращается, присаживается напротив и допивает глёг одним глотком.
– Я больше не работаю на полицию, – говорю я.
– Я знаю. Речь идет не о работе. Я только хотел встретиться с вами за кофе и поговорить. Если у вас есть время и желание.
Он замолчал. Гунилла вопросительно посмотрела на меня.
– Я подумаю, – отвечаю я.
– Это мой номер, – говорит полицейский.
Вернувшись домой, я вижу Уве в прихожей. Он меня ждал. Седые редкие волосы зачесаны набок в попытке скрыть голый череп. Рубашка грозит лопнуть на животе. Лицо красное и потное, словно он только что вернулся с прогулки. Он демонстративно смотрит на часы.
Часы дорогие, чтобы все окружающие знали статус их владельца.
– Без десяти, – говорю я.
Не удостаивая меня ответом, Уве поворачивается и идет в спальню. Через минуту он возвращается уже одетый. Я ставлю пакет с салфетками и свечками на пол и приветствую Фриду, прыгающую вокруг меня и жаждущую внимания. Запускаю пальцы в мягкий черный мех, напоминающий овечью шкуру.
На Уве кофта горчичного цвета. Я ее ненавижу. Он надевает куртку, ботинки, ищет мой взгляд.
– Надо идти, если хотим успеть.
Улица Каптенсгатан не расчищена от снега. Я ступаю осторожно, чтобы не зачерпнуть снег ботинками. Иду по уже вытоптанной в снегу дорожке. В темноте мы идем в сторону улицы Артиллеригатан.
– Мне позвонили сегодня из полиции, – говорю я.
– Вот как, – нейтрально отвечает Уве, не выдавая своих чувств по этому поводу.
Но он всегда такой. Молчит, пока не взорвется от переизбытка эмоций.
– Они хотят со мной встретиться.
– Ага.
Мы идем вверх по улице к церкви, проходим мимо ресторана при музее Армии, где иногда обедаем.
– Произошло убийство, и почерк похож на преступление, которым я занималась десять лет назад.
– Ради всего святого, Ханне, скажи, что ты шутишь.
– А что? – Я делаю вид, что ничего не понимаю.
Уве останавливается. Не встречается взглядом, смотрит только на церковь всю в снегу на вершине холма. Шпиль устремляется вверх, в черное небо, за которым начинается вечность.
Руки у него сжаты в кулаки. Я вижу, что он зол. Его злость доставляет мне удовольствие. Мне приятно видеть его таким. Я как подросток, который провоцирует родителей, чтобы получить их внимание.
Муж поворачивается, кладет руку мне на плечо, и этот демонстративно учтивый жест приводит меня в бешенство. Уве обращается со мной как с ребенком, как с беспомощным существом.
– Что? Что? – говорю я.
– Разве это разумно?
Он понизил голос, пытается взять себя в руки. Уве ненавидит терять контроль над собой. Хуже этого только когда я выхожу из себя.
– Что разумно?
– Браться за работу в твоем положении?
– Положении? Я не беременна.
– Лучше бы это было так.
– И кто сказал, что я возьмусь за эту работу?
– Черт побери. Ты прекрасно знаешь, чем кончаются эти звонки.
– А что, если и так? Кто сказал, что я не могу работать?
Уве вздергивает подбородок, чтобы смотреть на меня сверху вниз. Я ненавижу, когда он так делает. Он набирает в грудь воздуха и заявляет:
– Я сказал. Ты нездорова. Ты не можешь работать. И я как твой муж и опекун должен запретить тебе это.
Больше всего на свете мне хочется дать ему достойный ответ: залепить пощечину или хотя бы развернуться и пойти домой, наплевав на рождественский концерт. Дома можно было бы разжечь камин, выпить бокал вина, полежать с Фридой на диване. Но я держу язык за зубами. Мы молча продолжаем путь.
Эмма
Двумя месяцами ранее
– Ну, как все прошло вчера?
В голосе Ольги радость и любопытство. Бледно-голубые глаза внимательно изучают меня, пока она ловко сворачивает джинсы на столе перед кассой.
И я не знаю, что ей ответить. Часть меня хочет сказать, что все прошло хорошо, что я приготовила вкусный ужин и что мы занимались любовью всю ночь. Другая часть хочет сказать правду, но боится.
– Он не пришел.
– Не пришел?
Ольга откладывает джинсы, которые были у нее в руках, и с тревогой смотрит на меня.
– Нет, не пришел. И я не смогла с ним связаться, так что я не знаю, что произошло.
– Он не позвонил?
– Нет.
Ольга молчит. Это молчание действует мне на нервы. Я вижу, что она тоже не знает, что сказать на это.
– Но обычно он звонит, если опаздывает или не может прийти?
После секундной заминки я отвечаю:
– Он никогда не опаздывает. И никогда раньше не отменял свиданий.
Внезапно мне становится трудно дышать, хотя мы недавно открыли магазин и покупателей пока нет. Искусственный свет люминесцентных ламп режет глаза. Я чувствую приближение мигрени. Опираюсь о стол и борюсь с наворачивающимися на глаза слезами.
– Что, если с ним что-то случилось? – шепчет Ольга. Между сильно подведенных бровей появилась морщинка. Не в силах произнести ни слова, я киваю.
– Ты ему звонила?
– Только что.
Она ничего не говорит, только продолжает складывать джинсы, поглядывая в глубину магазина.
– Идет, – шепчет она, не глядя на меня. Я беру ближайшие джинсы, начинаю складывать, но все бесполезно. Он нас заметил.
– Опять трепетесь? Эмма, живо за кассу.
Бьёрне подстригся. Убрал успевшие отрасти полоски на затылке. Черные волосы зачесаны набок, закрывая один глаз. Его тощее тело в жилетке в сочетании с этой прической напоминает мне Лаки Люка. Надменного, стареющего Счастливчика Люка[3].
Не удостаивая его ответом, я встаю за кассу. Думаю о маме. О маме и ее сестре, которых больше нет. Как изменилась моя жизнь с их уходом. Смотрю на Бьёрне и горы джинсов на столе и вспоминаю смех в маленькой квартирке тети Агнеты на Вэртавэген и аромат свежесваренного кофе, смешавшийся с запахом сигарет мамы. Тетя Кристина бросила курить и говорила маме, что она тоже должна бросить из солидарности. Сначала я думала, что она злится, но все только смеялись, словно это была веселая шутка.
Это была первая суббота в этом месяце, и тетушки собрались на традиционный совместный ланч. Он всегда превращался в шумные посиделки, и вход туда мужчинам был запрещен. Не знаю, почему они разрешали мне присутствовать, ведь им приходилось шептаться. Но, несмотря на всю секретность, я понимала, что они обсуждают: нового парня Лены, простоватого мужа Кристины и больную спину мамы.
Мама была самой младшей из сестер. Младшим невоспитанным ребенком, которого все баловали и которому все прощали. Она шокировала всю семью, когда забеременела в восемнадцать лет.
Очередной взрыв смеха. Они смеялись, как девочки. Агнета даже закашлялась от смеха. Я слышу звон чашек из кухни. В спальне, где я сижу на паркетном полу, скрестив ноги, все хорошо слышно, что происходит в кухне. У меня на коленях стеклянная банка с гусеницей. Листья давно уже пожухли и опали. Голая ветка напоминает колючую проволоку. Светло-зеленой гусеницы не видно. Но папа мне все объяснил. Она превратилась в куколку, которая висит на веточке. И что скоро меня ждет настоящее чудо. С гусеницей происходит волшебство, и, если мне хватит терпения и на то будет Божья воля, я увижу, как из куколки потом появится совершенно новое насекомое.
Мне очень хотелось поймать момент, когда новое насекомое вылупится из куколки, но я не знала, когда именно это произойдет. По этой причине я и таскала все время банку с собой. Первое, что я делала, просыпаясь утром, это изучала куколку, чтобы увидеть малейшие признаки изменения. И перед сном я тоже проверяла банку. Я спрашивала папу, почему гусеница не хотела оставаться гусеницей, почему ей так необходимо было превратиться в куколку, но папа только покачал головой и грустно улыбнулся.
– У нее нет выбора, крошка. Она должна перевоплотиться или умереть. Такова ее природа.
Я долго размышляла над этим высказыванием, пыталась представить, каково это было бы – встать перед единственным выбором: перевоплотиться или умереть. Но как бы я ни старалась, я не могла представить себя в подобной ситуации.
Оторвавшись от банки, я посмотрела на узкую кровать тети Агнеты. «Она уже давно ни с кем ее не делила», – шепнула тетя Лена маме на лестнице. Взрослые думают, что дети ничего не слышат, или считают, что они ничего не понимают. Мне приходилось притворяться, что ничего не понимаю, и изображать из себя глупого ребенка, чтобы они не перестали при мне обмениваться секретами.
Над кроватью висел постер с футболистом. Я не понимала, что в нем было такого особенного и почему тетушки всегда так оживленно обсуждали его, стоя перед кроватью с сигаретой в руках. Я никогда этого им не говорила, но считала эту картину откровенно уродливой. Фигуры были расплывчатыми, они словно перетекали друг в друга. Я не понимала, что хотел этим сказать художник. Я была уверена, что сама нарисую намного лучше. Но я понимала, что дело не в его манере рисовать, и, как хорошо воспитанная девочка, держала язык за зубами.
– Милая, зачем ты сидишь на полу?
Тетя Агнета появилась в спальне и присела на корточки рядом со мной. Ее толстые ноги вблизи казались еще толще. Носки, длиной до колен, врезались в пухлую плоть.
– Не хочешь пересесть в кресло? Или в мою кровать? Я покачала головой, и тетя Агнета вздохнула.
– О’кей, делай как хочешь. А что, кстати, у тебя в банке?
– Куколка.
– Что?
– Куколка. Гусеницы делают такие, чтобы потом перевоплотиться.
– А где она?
Я показала тете на куколку. Она осторожно взяла банку, поднесла к свету, прищурила голубые глаза под тяжелыми веками.
– Такая крошечная.
– Она такая и должна быть. Чтобы птицы не увидели и не съели. Они питаются насекомыми.
Тетя изобразила серьезную мину и кивнула.
– Разумеется. Как я об этом не подумала. Вблизи тетя Агнета выглядела старше, чем на самом деле. Щеки свисали до самой шеи, грудь тоже была обвисшей.
– В природе все едят друг друга.
Агнета погладила меня по голове своей морщинистой рукой.
– Эмма, милая, – произнесла она нежным голосом. Это прозвучало как вопрос, словно я была способна читать ее мысли и угадывать, что она хочет сказать. Я взяла у нее банку и осторожно поставила на пол.
– Как дела дома, Эмма?
В нежном голосе появилось беспокойство. Интонация тоже была незнакомой и тревожной.
– В смысле?
Она задумалась. В кухне ее сестры говорили шепотом, явно обсуждая какого-то мужчину. Все мужчины были либо придурками, либо подлецами, и больше всех повезло Агнете, которая никогда не была замужем.
– Папа с мамой пьют много вина и пива, Эмма?
Я не знала, что ответить на этот вопрос. Сам вопрос я понимала, но не знала, что значит – пить много или мало спиртного? Много – это сколько? Дома всегда стояли банки на кухонной стойке. Но много их или мало? Сколько пьют другие мамы и папы вечерами? Я не знала и так и ответила:
– Я не знаю.
Тетя Агнета вздохнула и тяжело поднялась на ноги, отчего коленки у нее захрустели, словно были сделаны из сухих березовых поленьев, а не крови и плоти.
– Господи Иисусе, – сказала она и прижала руку к губам, чтобы скрыть отрыжку. – Не хочешь пойти поесть булочек с нами, Эмма?
– Потом.
Агнета вернулась в кухню. Сестры зашептались еще активнее. Видимо, предмет был чрезвычайно интересный.
Я взяла банку, выползла в прихожую и легла на пол, чтобы послушать. Но слышно было только отдельные слова. Я слышала хриплый шепот Агнеты:
– Странный ребенок. И потом слова мамы:
– Странный не значит плохой.
Никто из сестер не стал комментировать.
Я уже собиралась заползти обратно в спальню, когда заметила какое-то движение в банке.
Куколка, как и прежде, висела на ветке, но что-то изменилось. Она словно стала прозрачнее. Она была похожа на грязную ледышку. И внутри что-то шевелилось.
Волшебство началось.
Мужчина перед кассой протягивает мне руку и улыбается.
– Андерс Йонссон, журналист. Я робко улыбаюсь в ответ.
– Эмма.
У него голубые глаза и тонкие желтые волосы, как следы от собачьей мочи на снегу. Он одет в грязную парку защитного зеленого цвета и потертые джинсы. На вид лет тридцать.
– Чем я могу вам помочь? – спрашиваю я, осознав, что он все еще держит мою руку в своей.
Он улыбается еще шире.
– Я готовлю репортаж об условиях работы в компании. Говорят, что вам запрещено общаться с прессой, это так?
– Запрещено? Я не знаю…
– Что вам не дают даже в туалет сходить, – продолжает он.
Он прав. Правила ужесточились с приходом Йеспера, и пресса не могла это не заметить. Но я не имею права это комментировать, особенно учитывая, в каких мы с ним отношениях.
– Я не хочу об этом говорить, – отвечаю я и чувствую, что краснею.
– Мы можем поговорить в другом месте, – настаивает журналист, наклоняясь ближе. Он сверлит меня своими водянистыми глазами. Я не буду упоминать ваше имя в статье. Все будет анонимно.
– Я не хочу.
Краем глаза вижу, как кто-то подбегает к кассе.
– Она сказала, что не хочет с вами разговаривать. Чего тут непонятного?
Журналист в зеленой парке поворачивается к Бьёрне, который встал рядом со мной за кассой. Я вижу, что он зол. Челюсти напряжены, кулаки сжаты. Привычным жестом Бьёрне заправляет прядь волос за ухо, вздергивает подбородок и говорит уже спокойнее:
– Вы уже второй раз приходите сюда и мешаете сотрудникам работать. Если не уйдете, я вызову полицию. Понятно?
– У меня есть право…
– Вы не слышали, что она сказала? Мне повторить? Она не хочет с вами разговаривать.
Бьёрно брызжет слюной, произнося эти слова. Потом поворачивается и уходит. Через плечо хвалит меня:
– Молодец, Эмма.
Я снова поворачиваюсь к журналисту. Улыбка исчезла. Лицо невозмутимо. Он роется в карманах, что-то достает оттуда и подвигает ко мне. Это визитка. Наши глаза встречаются.
– Позвоните, если передумаете. И с этими словами он уходит.
Я осторожно поднимаю визитку, смотрю на нее и убираю в карман.
Йеспер Орре. Большие теплые руки. Мягкая кожа лица, с морщинками. Щетина, местами с сединой, четко очерченный подбородок. Страсть в глазах, когда он смотрит на меня, как изголодавшийся на пирожное в витрине.
Что он во мне нашел? Я совершенно обычная девушка со скучной работой и скучной личной жизнью. Почему он проводит со мной столько времени? Что во мне заставляет его растворяться в моих объятьях, ласкать каждый сантиметр моего тела, открывать во мне чувственность, о которой я и не подозревала?
Я помню наше свидание неделю назад у меня дома.
– Мы так похожи, Эмма, – бормотал он. – Иногда мне кажется, что я могу читать твои мысли, понимаешь?
Я ничего не понимаю. Я не чувствую той телепатической связи, о которой говорит Йеспер, не умею читать его мысли и не знаю, что он имеет в виду, когда говорит, что мы связаны. Но я ничего ему не говорю.
– Мне так повезло, что я тебя встретил, – шепчет он, накрывая меня своим телом, коленом раздвигает мне ноги, прижимается ко мне крепче. – Я самый счастливый человек в мире.
Он входит в меня, целует в шею, гладит мою грудь.
– Я люблю тебя, Эмма, я никогда не встречал такой девушки, как ты.
Я по-прежнему молчу, не хочу портить этот волшебный момент. Наслаждаюсь теплотой, которая разливается внутри от его слов.
Я была неподготовлена, и его проникновение причиняет мне боль. Йеспер взял меня грубо, я не получила удовольствия, но все равно мне было приятно чувствовать себя любимой, красивой, желанной. Как пирожное с малиной в окне кондитерской.
Он задвигался быстрее, сильно сжал мои руки. Капли пота упали мне на щеку. Он застонал, словно испытывая физические страдания.
– Эмма…
Это прозвучало как вопрос или призыв.
– Да? – спросила я.
Он остановился. Поцеловал меня.
– Эмма, ты готова на все ради меня?
– Да, готова, – ответила я.
Готова ли я на все ради Йеспера Орре? Это риторический вопрос. Он никогда меня ни о чем не просил, кроме того случая, когда одолжил денег, чтобы заплатить рабочим за ремонт.
Это я настояла. Не хотела, чтобы он прерывал свидание и ехал в банк. Йеспер тогда поцеловал меня и сказал:
– Дорогая, я и сам хочу остаться, но обещал расплатиться с рабочими сегодня. Наличными. Они поляки. А у меня нет с собой сотни тысяч наличными. Поэтому мне нужно в банк.
Обеденный секс.
Этому выражению меня научила Ольга. Она употребила его, когда я сказала, что мы с моим парнем встречаемся за обедом. У меня дома. Ольга всегда была такой. Прямолинейной. Говорила что думала, ничего не стесняясь.
Йеспер приподнялся на локте.
– Мне нужно идти, Эмма.
– Я могу тебе одолжить, – предложила я.
– Ты? – удивился он и явно не поверил мне, потому что встал и подошел к окну.
– У меня есть деньги.
– Сто тысяч? Здесь, в квартире? Он обвел рукой комнату.
Я кивнула.
– Да, в шкафу с бельем, – ответила я, поднимаясь с постели. Я натянула футболку. Не потому что стеснялась Йеспера, а по старой привычке. Я стеснялась своей большой груди.
Он проводил меня взглядом к шкафу и молча смотрел, как я достала стопку купюр, перемотанную красной салфеткой. «Скоро Рождество» – было вышито крестиком на салфетке.
– Ты с ума сошла? Держать сто тысяч дома в шкафу?
– Да, а что?
– Почему не в банке? Как все нормальные люди.
– А что?
– Тебя же могут ограбить! Или еще хуже. Только старые бабки держат деньги под матрасом.
Я напомнила ему, что унаследовала квартиру именно у такой старушки. Он пожал плечами и рассмеялся.
– Ну ладно. Я их верну. Скоро.
Поцеловав меня в затылок, он обнял меня сзади и накрыл груди руками.
– Я снова хочу тебя, моя богатенькая шлюшка.
Петер
Манфред с невозмутимым видом наклоняется над телом, обводит взглядом аккуратный разрез от груди до пупка, царапины на предплечьях.
– Так она отчаянно сопротивлялась? Судмедэксперт кивает. Фатиме Али сорок лет. Она родом из Пакистана, но училась в США. Мы с ней уже работали несколько раз вместе. Она до абсурдного педантична, как многие ее коллеги по профессии, и всегда аккуратна в выражениях. Я ей доверяю. Она никогда ничего не упускает. И никогда ничего не боится. Ничто не ускользает от ее внимательного взгляда.
– У нее травмы на лице и затылке и восемнадцать порезов на руках и ладонях. Большинство с правой стороны. Значит, нападавший правша.
Фатима наклоняется ниже, раздвигает пинцетом края глубокого пореза на руке, обнажая плоть.
– Смотри, – говорит она. – Глубина пореза говорит о том, что нападавший правша примерно вот такого роста. – Она поднимает руку в голубой перчатке и показывает рост преступника. Манфред инстинктивно отшатывается.
– Можешь сказать, сколько они боролись? – спрашиваю я.
Фатима качает головой.
– Сложно сказать. Но ни один из этих порезов не был смертельно опасным. Она погибла от травмы шеи.
Я смотрю на голову женщины на стойке из нержавеющей стали. Темные волосы в запекшейся крови. Аккуратные брови. Под ними месиво из мяса и костей.
– А что по поводу шеи? – спрашиваю я. Фатима кивает, вытирает лоб тыльной стороной ладони. Жмурится от яркого света.
– Несколько ударов по шее. Даже одного было достаточно, чтобы убить ее, но преступник явно задался целью отделить голову от тела. Позвоночник был разрезан между третьим и четвертым позвонком. Требуется достаточно мощная сила, чтобы сотворить такое. Или упрямство.
– Насколько мощная? – спрашивает Манфред, подходя к ней.
– Сложно сказать.
– Могла бы женщина или слабый человек сделать это? Фатима приподнимает брови и скрещивает руки на груди.
– Кто сказал, что женщины слабые? Манфред переминается с ноги на ногу.
– Я не это имел в виду.
– Я знаю, что ты имел в виду, – демонстративно вздыхает Фатима. – Да, женщина способна на такое. Пожилой человек. Молодой сильный мужчина. Это уже ваша задача выяснить, кто убийца.
– А что еще ты узнала? – спрашиваю я.
Фатима кивает, смотрит на бледное тело на столе.
– Я могу сказать, что ей лет двадцать пять-тридцать. Рост сто семьдесят сантиметров. Вес шестьдесят кило. Нормальное телосложение. Здоровая, спортивная.
От запаха в помещении меня тошнит. Мне хочется думать, что у меня после стольких лет морга выработался иммунитет, но к этому запаху невозможно привыкнуть. Его нельзя назвать вонью, это больше похоже на запах, который появляется через неделю у срезанных цветов, смешанный с запахом сырого мяса, но я чувствую, что мне срочно нужно на улицу. Я мечтаю о глотке свежего холодного воздуха.
– Еще кое-что, – добавляет Фатима. – Она родила ребенка. Или, по крайней мере, была беременна.
– Родила? – переспрашивает Манфред.
– Сложно сказать, – отвечает Фатима, с треском стаскивая перчатки.
Манфред ведет машину. Мы возвращаемся в участок. Снова идет снег. Уже темнеет, хотя на часах только три.
– Хорошенькая, – говорит Манфред, включая радио.
– Фатима?
– Нет, та, что без головы.
– Ты больной.
– Я? Ты же сам видел. Она была красоткой. Такое тело. Такая грудь…
Я обдумываю его слова.
– Нам известно, кто она?
– Нет.
– А Орре мы взяли?
– Нет. На работу он вчера не явился.
– А сегодня?
– Не знаю. Санчес проверяет. Но вся Швеция его ищет, так что долго он прятаться не сможет.
– Предварительный отчет криминалистов готов?
– Лежит на твоем столе. Никаких следов грабежа. Значит, кто-то впустил убийцу внутрь или это был его дом. Тогда это Орре. Они нашли следы мочи на полу и отпечатки рук и подошв, но соседка там основательно потопталась, так что не знаю, поможет ли это следствию. И много разных волокон, но ничего примечательного. Орудие убийства – мачете. Они послали его на экспертизу. Посмотрим, что обнаружат специалисты. И они подключили того парня – Линдблада, который специализируется на пятнах крови на стенах и может реконструировать ход событий.
Пауза. Манфред стучит пальцами по рулю в такт музыке, и я понимаю, что он нервничает. Он давно не брился, под глазами – мешки.
– Наде получше? – спрашиваю я.
Он смотрит на меня и поправляет воротник пальто из верблюжьей шерсти.
– Всю ночь капризничала. Афсанех чуть с ума не сошла. Ей нужно было рано на работу. Ее аспирант защищается. И она снова начала говорить о браке. Как будто у нас без этого забот мало. Почему женщины так делают?
Мне нечего на это ответить. С моим браком было то же самое.
Мы встречались с Жанет около года, когда она начала говорить о браке. Я не знаю, как это получилось, но почему-то она решила, что я согласен. Разумеется, мне нужно было твердо сказать нет, а не изворачиваться, как я обычно делаю. Но, наверно, я не хотел (или боялся) ее разочаровать. И позволял нудеть дальше.
Все последующие месяцы Жанет обсуждала цветы, меню и пригласительный список. Она приносила домой торты на пробу, рисовала план рассадки гостей и ставила свадебные марши на диктофоне. И сидела на диете.
Я даже начал переживать за нее. Она ела как птичка, чтобы влезть в свадебное платье. Платье, которое мне нельзя было видеть до дня свадьбы. Это было чертовски важно.
Сам я, как обычно, был занят работой. Мы расследовали убийство женщины-полицейского, занимавшейся делом о незаконной парковке в Тенсте. Меня недавно повысили, и мне важно было доказать, что повышение было заслуженным. На мою работу Жанет было плевать. Она постоянно требовала к себе внимания. Вместе мы должны были смотреть церкви, бронировать свадебное путешествие и репетировать брачные клятвы (которые она сочинила).
Однажды вечером она пришла домой с пачкой конвертов в руке. Я помню, что она была очень возбуждена, как в те дни, когда покупала что-то очень дорогое или находила выгодную поездку в одном из каталогов, которые таскала домой десятками.
Глаза у нее блестели, светлые волосы были растрепаны. Жанет рассказала, что приглашения готовы, протянула мне пачку и спросила, не мог бы я их отправить. Не помню, что я ответил. Наверно, что мы обсудим это позже, но, как обычно, она меня не слушала.
Я помню, что сидел дома в кресле с приглашениями в руках и думал, что, черт возьми, мне с ними делать. Конечно, можно было послать их по почте. Это было бы самое простое. Просто пойти на перекресток и сунуть в желтый почтовый ящик и больше о них не думать. Но я не мог себя заставить это сделать. Я не был готов. Не готов сделать этот решающий шаг по направлению к браку, которого не хотел. Сначала я хотел поговорить с Жанет и сказать все, как есть на самом деле: что я боюсь свадьбы и что я хотел бы ее отложить. Но когда я вошел в спальню, она уже спала. И я положил приглашения в ящик письменного стола и решил поговорить с ней потом.
А потом вышло как вышло. Не то чтобы я забыл про приглашения, просто у меня не было сил их обсуждать. Каждый раз, когда я хотел поговорить с Жанет, что-то мне мешало или она была не в настроении говорить. У нее бывали такие периоды, когда она просто была в дурном настроении и не желала ничего обсуждать. Причем явно без особых на то причин. Вспоминая то время, я понимаю, что ищу оправдание своему поведению. Даже пытаюсь оправдаться перед самим собой.
Но мне нет оправдания. Я поступил незрело и по-идиотски, и я глубоко ранил Жанет, которой никогда не желал зла. Как я мог так поступить? Я не хотел ее обижать. Я просто хотел, чтобы она оставила меня в покое.
Когда дата свадьбы начала приближаться, – думаю, оставалось три-четыре недели, Жанет присела рядом со мной на край кровати. Волосы, которые она отращивала для свадебной прически, висели паклей вокруг ее грустного лица. Отвисшая из-за диеты грудь болталась. «Никто не отвечает на приглашения, – сказала она. – Ты не находишь это странным?»
Я читал в кровати протокол, который обещал прокурору закончить к завтрашнему утру, и у меня не было ни сил, ни времени обсуждать с ней приглашения. Но все равно этот разговор меня расстроил. Мне стало стыдно.
– Думаешь, они потерялись на почте? – спросила она тихо.
Ее поникшие плечи, безжизненный голос ранили меня в самое сердце. Я чувствовал себя предателем. Мне было очень плохо.
Но я не мог найти в себе сил рассказать ей правду. В тот момент. И я решил, что все расскажу на следующий день. Но и на следующее утро я не смог заговорить с ней. Позднее я понял, что вел себя как придурок, но было уже слишком поздно.
Ночью, пока я спал, Жанет обыскала квартиру. Видимо, она подозревала, что на самом деле случилось с приглашениями. У нее всегда было это шестое чувство. Меня разбудил чудовищный вопль. Никогда больше я не слышал такого ужасного крика. Сперва я подумал, что ее убивают, что кто-то ворвался к нам в квартиру и пытается ее изнасиловать или убить. Я вскочил, споткнулся о стул, упал, ударившись о журнальный столик, и рассек подбородок. Кровь хлынула из раны, но я поднялся на ноги и побежал на крик. Я нашел Жанет перед столом. Письма были разбросаны по полу, как осенняя листва. Она только продолжала вопить. Жанет кричала и кричала, хотя я обнял ее и пытался успокоить, как ребенка. И когда я зажал ей рот рукой, чтобы она прекратила кричать, Жанет меня укусила.
Несмотря на боль от укуса, я испытал облегчение. Во всяком случае, она перестала кричать.
Манфред, Санчес и я сидим в комнате для переговоров на четвертом этаже, справа от чулана. Она выглядит так же, как и все комнаты для переговоров в доме: белые стены, мебель из светлого дерева с синей обивкой, белый стол.
В окне подсвечник. Гуннар принес его из дома в попытке создать рождественскую атмосферу. На стене выцветший постер с инструкцией оказания первой помощи.
Мы готовимся к завтрашней встрече с отделом предварительного следствия и его руководителем – одним из новых прокуроров, Бьёрном Ханссоном. Я с ним еще не встречался, но, по словам Санчес, он «умный, но руки у него растут из жопы, и он слишком высокого мнения о своей персоне».
Манфред принес кофейник, а Санчес – булочки с шафраном из круглосуточного магазина и нож для масла. Рядом с булочками лежат фотографии с места преступления. Я тянусь за булочкой, стараясь не смотреть на фото с отрезанной головой.
Два дня прошло с тех пор, как тело женщины нашли на вилле Йеспера Орре в Юрсхольме, а мы по-прежнему не знаем ее имени. И где-то родные даже не подозревают о том, что случилось с их дочерью, сестрой или матерью. И где-то на свободе ходит ее убийца.
Санчес подвела итоги собрания:
– Йеспер Орре был на работе в последний раз в пятницу. По словам коллег, в его поведении не было ничего необычного. Он уехал из офиса в половине пятого, сообщив, что направляется домой. О своих планах на выходные он ничего не говорил, но у него был отпуск до среды, что указывает на то, что он планировал поездку. Его сотовый и бумажник обнаружились дома. В бумажнике были кредитные карточки. Деньги с них не снимали. Криминалисты сфотографировали отпечатки подошв в снегу. Сорок третий размер. Судя по всему, это его следы. Они нашли также отпечатки соседки и жертвы, чья личность не установлена. Отпечатки на мачете пока не готовы, но коллеги сообщили, что они имеются.
– Что он за человек, этот Орре? – спросил Манфред, звучно отхлебывая кофе из чашки.
– Коллеги из руководства компании им восхищаются, но остальные сотрудники считают жестким и чересчур принципиальным начальником. Многие его побаиваются, – сообщает Санчес. – А персонал низшего звена его просто ненавидит. Как и профсоюз. Но вы уже в курсе. Родители на пенсии, живут в Бромме в том же доме, где Йеспер Орре вырос. Они отзываются о сыне как об амбициозном, спортивном и позитивном человеке. О психических проблемах им ничего не известно. У него вот уже много лет нет постоянной девушки, но он ведет, как они выразились, активную личную жизнь.
– Что это значит? – интересуется Манфред. Санчес нагибается и смотрит Манфреду в глаза.
С набитым булкой ртом произносит:
– Это означает, что в его постели дела идут поживее, чем в твоей, Манфред.
– Не обязательно, – комментирую я, но мой комментарий только вызывает у Санчес смех. Крошки сыпятся у нее изо рта на короткую черную юбку.
Манфреда разговор только забавляет. Он снимает клетчатый пиджак, аккуратно вешает на спинку стула и ударяет кулаком по столу, чтобы привлечь наше внимание.
– Давайте напряжем мозги, чтобы поскорее закончить это собрание и отправиться домой. Санчес, какая у тебя версия?
Санчес у нас самая младшая, поэтому ее всегда спрашивают первой. Это часть обучения. Пусть перенимает опыт у коллег постарше, поопытнее. Санчес выпрямляется, делает серьезное лицо, сцепляет руки на столе.
– Это очевидно. Йеспер Орре ссорится с одной из своих девиц. Ссора перерастает в драку, и он ее убивает, а потом скрывается.
– Но почему без мобильного и кошелька? – спрашивает Манфред, отряхивая невидимые крошки с розовой рубашки.
– Потому что не хочет оставлять следов, – предполагает Санчес. – Или просто забыл. Голова была занята другим.
– Само убийство, – говорю я, показывая на фото головы, растущей как гриб из пола, – наталкивает на разные мысли. Зачем такая жестокость? Разве мало было просто убить ее? Зачем отрезать голову?
Санчес хмурится.
– Наверно, он был сильно зол. Она его взбесила.
– Я думаю о том, специально ли убийца поставил голову так, чтобы она смотрела на входящего. Вы это заметили? Может, он что-то хотел нам сказать?
– Например? – спрашивает Манфред.
Мы смотрим на фото. Глаза у женщины закрыты. Слипшиеся пряди волос падают на лицо. Санчес пожимает плечами.
– Не знаю. Может, хотел сказать: «Смотрите, что бывает, когда меня пытаются обмануть»… или что там она такого ему сделала.
У Манфреда звонит мобильный. Он достает его из кармана, слушает и говорит:
– Мы сидим в переговорной на четвертом. Можешь проводить ее сюда? Хорошо.
Он собирает фотографии в аккуратную стопку и кладет рядом с собой. Делает глубокий вдох и откидывается на спинку стула.
– У нас гости, – говорит он. – Помните, мы говорили об убийстве в районе Сёдермальм лет десять назад? У которого был похожий почерк. Я позволил себе пригласить сюда специалиста, который тогда участвовал в расследовании. Не потому что считаю, что между ними есть связь, а потому что надеюсь, что она может помочь нам вычислить преступника.
И тут раздался стук в дверь. Меня сначала бросило в холод, а потом в жар. Сердце бешено заколотилось в груди. По спине побежали мурашки. Стены комнаты начали сжиматься, потолок падать вниз, словно грозя меня сплющить. Открылась дверь, и на пороге появилась она в слишком большом для нее черном пуховике и сапогах, которые подошли бы для экспедиции на Северный полюс.
Но одежда никогда не была ее сильной стороной. В густых каштановых волосах появилась седина. Очки придавали ей строгий вид, но в основном она не сильно изменилась. Выглядит как десять лет назад. Она столь же прекрасна. Разве это возможно? Мелкие морщинки и худоба придают ей хрупкости и беспомощности, и это делает ее еще красивее.
– Это Ханне Лагерлинд-Шён, – представляет Манфред.
Эмма
Двумя месяцами ранее
Есть особого рода усталость, от которой страдают сотрудники магазинов. Интенсивное искусственное освещение и вечная фоновая музыка оказывают отупляющее воздействие на человека. Иногда мне кажется, что я засыпаю на ходу, хотя изо всех сил стараюсь изобразить адскую деятельность. А может, я и правда засыпаю на работе, потому что целые часы выпадают из моей памяти. Мне кажется, что я только вернулась с обеда, а нужно уже закрывать магазин. Или я вдруг обнаруживаю, что кучу времени проторчала в подсобке, но совершенно не помню, что при этом делала.
По улице идут люди в мокрых куртках и с зонтиками. Манур нацепляет ярлыки со сниженными ценами на вещи из летней коллекции. Она слегка пританцовывает в такт музыке. Длинные темные волосы водопадом спадают по плечам и вниз на спину, обтянутую красной туникой. Под туникой у нее узкие черные джинсы. Ноги делают робкие танцевальные па. Ольги нигде не видно. Может, вышла покурить. Может, ушла на обед. От Йеспера по-прежнему ни слуху ни духу.
Он словно сквозь землю провалился. Я не в силах разгадать эту загадку. Но если бы с ним случилось что-то серьезное, об этом бы наверняка сообщили в новостях. И если с ним все в порядке, то почему не позвонил и не предупредил? До этого он никогда не опаздывал на свидания.
В магазине пусто. Я часто моргаю – глаза пересохли от кондиционированного воздуха. Из колонок доносится та же музыка, что и весь день. Отдел маркетинга меняет список песен раз в месяц, и целый месяц мы обречены слушать одну и ту же музыку весь день напролет.
«Так же с ума можно сойти», – сказала мама. Правда заключается в том, что ко всему привыкаешь. Со временем перестаешь замечать музыку. Просто передвигаешься по магазину как зомби, не вслушиваясь в звуки, отключаешь мозг и органы чувств и работаешь на автомате.
– Тебе нравится твоя работа? – спросил Йеспер за нашим первым совместным ужином.
Я заёрзала на стуле, не зная, что и ответить. Мы были в ресторане на площади Стуреплан. Я много раз проходила мимо него, но ни разу тут не была. Я решаю соврать. Я тогда еще плохо знала Йеспера и не знала, как он отреагирует на правду. Он все-таки мой главный босс.
– Да, – солгала я. – Нравится.
– Звучит неубедительно.
Официантка в туфлях на высоких каблуках протянула нам меню и нагнулась над столом, чтобы принять заказ. Юбка была настолько короткая, что видно было трусики под тонкими колготками. Я была рада ее появлению, потому что оно позволило сменить тему.
– Что будешь?
– То же, что и ты.
Йеспер странно посмотрел на меня, а потом повернулся к официантке и сделал заказ. Ослабил галстук, поудобнее устроился на стуле и вздохнул.
– Порой я ненавижу свою работу, – сказал он, переводя взгляд на улицу за окном, залитую вечерним солнцем и блестящую после недавнего дождя.
– Почему?
– А за что я должен ее любить? То, что я начальник, еще не означает, что моя работа мне нравится. Это огромная ответственность.
У него был усталый вид. На губах заиграла циничная улыбка. Таким я его еще не видела.
– Люди думают, что у меня чертовски интересная работа. Но это миф. На самом деле все совсем обыденно.
– Я не понимаю, – пробормотала я.
– Не понимаешь, правда?
Принесли напитки. Я так нервничала, что у меня тряслась рука, когда я подносила бокал ко рту. Мне пришлось взять его обеими руками, но содержимое все равно расплескалось мне на пальцы. Они тут же стали липкими. Я попыталась протереть их салфеткой, но она была слишком тонкая и вся размякла. Йеспер вроде бы не заметил, как я нервничаю. Он почти не смотрел на меня. Улыбался своим мыслям.
– Правда?
– Правда.
Он сделал глоток и наклонился вперед ко мне. Что-то промелькнуло у него во взгляде, что-то неуловимое.
Морщинки вокруг глаз стали заметнее. Сколько ему лет? Сорок? Больше? Какая у нас с ним разница в возрасте?
– Наверху одиноко, – произнес он.
– Одиноко?
– Ты мне не веришь? Но это действительно так. Все время быть у всех на виду, под прицелом объективов прессы, видеть свое лицо в газетах, быть главным боссом. Все тебя знают, а ты не знаешь никого. Все хотят с тобой дружить ради собственной выгоды. Ты никому не можешь доверять. Понимаешь?
– Понимаю.
Он цинично улыбнулся, обнажив неестественно белые зубы. Как ему это удается? Постоянно отбеливает?
– Я знал, что ты меня поймешь. Мы похожи, Эмма. Мы чувствуем то же самое.
И снова у меня появилось неприятное чувство, что он приписывает мне качества и мысли, которые мне были несвойственны. Словно он представляет меня совершенно другим человеком. И это чувство рождало страх. Если он узнает правду обо мне, он будет разочарован. Что, если я только игрушка для богатого избалованного плейбоя? А попользовавшись, он выбросит меня, как ненужный хлам.
– А в личной жизни? У тебя есть семья? – спрашиваю я.
Отчасти вопрос был риторический. Я прекрасно знала, что Йеспер не женат и у него нет детей. И что он меняет подружек как перчатки. Все, кто умеет читать, в курсе его любовных похождений. И даже те, кто не умеет читать. Потому что достаточно фотографий в бульварных газетах.
Йеспера вопрос явно расстроил. Уголки рта опустились.
– Не сложилось, – коротко ответил он. – Посмотрим меню?
Мы сделали заказ.
За окном пара влюбленных целовались, освещенные вечерним солнцем. Эта картина меня смутила. Я не знала, куда деть глаза, и занялась снятием остатков салфетки с липких рук.
– А у тебя есть семья? – спросил Йеспер.
– У меня?
– Да, у тебя, Эмма, – улыбнулся он.
У меня вспыхнули щеки. Мне было стыдно, что я так теряюсь в его присутствии.
– Если ты имеешь в виду бойфренда, то я одна. А что касается семьи… у меня есть мама.
– Да? Вы близки? Часто встречаетесь?
– Не особенно. Видимся пару раз в год. Не могу сказать, что мы близки.
– Вот как.
Внезапно я ощутила сильное желание довериться ему. Обычно я никому не рассказывала о маме, но почему-то с Йеспером мне показалось это правильным.
– Моя мама алкоголичка, – призналась я.
Он внимательно посмотрел на меня, наклонился вперед и взял мою липкую руку в свою.
– Прости, я не знал.
Я кивнула, уставившись в стол, боясь поднять на него глаза. Язык перестал меня слушаться.
– И давно у нее эта проблема?
Я колебалась, не зная, можно ли довериться ему полностью.
– Сколько я себя помню.
Было ли время, когда мама не пила? Я такого не помню. Но когда я была маленькой, она была веселой и энергичной. Поздно ночью, когда я уже должна была спать, ей внезапно приходило в голову побегать по снегу босиком. Однажды, когда она была навеселе, мы зашли в зоомагазин и купили щенка. Маму так шатало, что мне приходилось ее поддерживать. Один раз у нас кончились деньги, и мы воровали еду в продуктовом магазине. Нам было весело.
– А твой папа? – спросил Йеспер.
– Он умер, когда была в старших классах школы.
– Ты по нему скучаешь?
– Иногда. Он мне снится.
Он с понимающим видом кивнул.
– А отчим?
Перед глазами встал Кент, и я вздрогнула. Мама встречалась с ним несколько лет. Я никогда не понимала, что у них было общего, помимо выпивки.
– Должно быть, сложно расти в семье алкоголиков. Его рука по-прежнему сжимала мою, и его тепло согревало меня, как солнце.
– Мне было одиноко.
– Как я и говорил, – с триумфом объявил он и сильнее сжал мою руку.
– Что?
– Что ты тоже одинока. Как и я. Я это знал.
По дороге домой я выхожу на станции «Слюссен». Холодный ветер дует вдоль Ётгатан, гоня сухую листву и окурки. Влажная земля покрылась кристалликами льда. Они сверкают в свете фонарей. Идти скользко. Поворачивая на Хёгбергсгатан, я подскальзываюсь и чуть не падаю. Запах еды из уличных киосков ударяет мне в нос. Двое парней в арке курят одну сигарету по очереди. Они смотрят на меня так, словно я им помешала. Вид у них угрожающий. Я плотнее запахиваю куртку на груди и спешу вперед. Наконец я подхожу к подъезду на Капельгрэнд.
Я сразу узнаю дом. Увядшие розовые кусты перед крыльцом. Цветные витражи в дверях. Я тянусь к ручке, и в этот момент дверь открывается и выходит пожилой мужчина с собакой. Он здоровается и придерживает для меня дверь, хотя мы незнакомы. Я киваю.
На двери нет именной таблички, только стикер со словами «Рекламы не надо», написанный Йеспером. Я узнаю квартиру. Мне всегда казалось странным, что Йеспер не хочет иметь табличку на двери, но он говорил, что не хочет возбуждать любопытство соседей и привлекать внимание журналистов. Я нажимаю кнопку звонка. Тишина. Жду немного, снова нажимаю. Долго не убираю палец с кнопки. Звонок звонит долго и тревожно. За дверью раздаются шаги. Дверь распахивается:
– Да?
Мне открывает мужчина в майке и спортивных штанах. В руке у него бутылка пива. Он весь в татуировках, длинные волосы собраны в конский хвост. Но меня поражает не это. В прихожей совсем другая мебель, чем у Йеспера. Никаких красных стульев и столика. К стене прислонены картины. Верхняя одежда валяется в углу. Коврика, вытканного мамой Йеспера, тоже не видно.
– Простите, а Йеспер дома?
– Йеспер? Какой Йеспер?
Мужчина открывает банку. Пиво пузырится. Он подносит банку к губам, делает глоток.
– Хозяин квартиры. Йеспер Орре.
– Никогда не слышал. Здесь живу только я. Вы ошиблись адресом.
Он тянет на себя дверь, но я успеваю вставить ногу в проем.
– Подождите. На этом этаже только одна квартира?
– Да.
– А кто здесь жил до вас?
– Понятия не имею. Я здесь только месяц и скоро выезжаю. Дом будут сносить. А теперь, если позволите, у меня куча дел…
Я убираю ногу, прошу меня извинить. Мужчина захлопывает дверь.
Дома я меряю квартиру шагами. Хожу туда-сюда по скрипящему паркету. За окном чернильная темнота. Кажется, что окна замуровали. Ветер так сильно дует, что стекла в окнах трясутся, протестуя против плохой погоды. Я ловлю себя на том, что дома делаю то же, что и в магазине. Хожу бесцельно кругами в попытке привести мысли в порядок.
Ни звонков. Ни эсэмэс.
Я проверила почту. Только реклама и счета. Я даже не стала вскрывать конверты, просто сунула в банку к остальным.
Опускаюсь в зеленое кресло. Кручу обручальное кольцо на пальце. Камень просто огромный. Я стягиваю кольцо, подношу к свету. Гравировки нет. Мы хотели сделать ее позже.
Камень абсурдно гигантский.
Я никогда не видела такого большого бриллианта. В голову лезут вопросы Ольги о цене. На самом деле вполне логичный вопрос. Сколько стоит такое кольцо? Йеспер не хотел, чтобы я видела чек. А я решила, что это очень романтично. Чувствовала себя героиней фильма «Красотка», когда мы мерили его в ювелирном магазине с просиженными диванами. Не меньше пятидесяти тысяч крон, думаю я. Учитывая, сколько стоили другие кольца с камнями поменьше, это должно стоить по меньшей мере пятьдесят тысяч. Какое-то безумие. Я никогда не тратила столько денег на бесполезные побрякушки. Ни у кого в моей семье не было такой роскоши. Кроме, разве что, моей тети.
У меня на пальце целое состояние, но мужчина, который мне его преподнес, словно растворился в воздухе. Зачем мужчине говорить девушке, что он ее любит, дарить баснословно дорогое обручальное кольцо, а потом исчезать? Какое может быть этому всему объяснение? Несчастный случай? Внезапная болезнь? Неожиданный отъезд? Потерянный телефон? А что, если он сделал так нарочно? Может, ему доставляет извращенное удовольствие знать, что я переживаю, что я сижу и жду его, терзаясь подозрениями. Я гоню от себя эти мысли.
Он вернется. Надо только подождать.
Я чищу зубы и ложусь в холодную постель. Несмотря на то что голова моя полна тревожных мыслей, я засыпаю сразу. Мне снится, что он стоит у моей кровати и смотрит на меня спящую. Луна светит в окно. Я пытаюсь напрячь глаза и разглядеть его лицо, но не могу. Он только черный силуэт в серебристом лунном свете, незнакомец в моей жизни. Я хочу с ним поговорить, хочу, чтобы он объяснился, но мое тело меня не слушается. Я не могу открыть рот, не могу пошевелить языком. С моих губ не слетает ни звука. А потом он исчезает.
Когда я просыпаюсь, за окном уже светает. Я встаю на кровати, провожу рукой по пожелтевшим обоям, пытаюсь осознать, что произошло прошлой ночью.
И вижу, что картины Рагнара Сандберга нет на прежнем месте. Остался только яркий четырехугольник на обоях в том месте, где она висела. И гвоздь. И хотя я знаю, что это бесполезно, всё равно отодвигаю кровать от стены и ищу на полу. Там нет ничего, кроме пыли и старого чека из продуктового магазина.
Я пытаюсь обдумать случившееся. Кто-то влез ко мне в квартиру ночью, пока я спала, и украл картину? Или ее не было уже вчера, когда я вернулась домой? Заметила ли я что-нибудь странное вчера? Ничего такого не припоминаю. Обычный вечер. Одинокий вечер в компании Сигге и осенней бури за окном.
Картина была единственным ценным предметом в моем доме. Если не считать денег, которые я одолжила Йесперу. Что мне теперь делать? Счета копятся в банке для хлеба, как заплесневелые горбушки. До зарплаты осталась неделя, но надолго этих денег не хватит. Что, если кто-то был здесь ночью и украл картину? Что, если он стоял и смотрел, как я сплю, вслушивался в мое дыхание, пока я, ни о чем не подозревая, видела сны?
Сон. Силуэт в серебристом свете луны. Чувство страха, когда я поняла, что не могу ни пошевелиться, ни закричать.
К горлу подступает тошнота. Я бегу в туалет, падаю на колени и блюю. Но выходит только желтая желчь. Я хочу подняться, но снова сгибаюсь от приступа тошноты. Ложусь на холодный пол, переворачиваюсь на спину, раскидываю руки, как морская звезда.
Потолок грязный и весь в паутине. Паутина колышется на сквозняке. Кто-то наверху спускает воду в туалете. В трубах шипит и булькает на непонятном мне языке.
Сигге подходит ко мне. На его мордочке написано удивление. Он недоумевает, что я делаю тут, на полу. Потом разворачивается и уходит, небрежно махнув хвостом.
Если бы ты умел говорить, думаю я. Ты бы рассказал мне, что тут происходило ночью, когда я спала.
Ханне
Это Уве виноват в том, что я стою сейчас здесь, в фойе Полицейского управления. После рождественского концерта в церкви у нас случилась жуткая ссора. Уве словно слетел с катушек. Он орал, что я веду себя как безответственное дитя. И как мне только в голову пришло обсуждать сотрудничество с полицией, когда у нас вся кухня обклеена бумажками с напоминаниями и я не могу запомнить даже, какой хлеб мне купить в продуктовом (темный цельнозерновой с семечками тыквы, я все прекрасно помнила, но купила другой, чтобы его позлить). Я хотела ответить, чтобы он сам покупал свой чертов хлеб, но, разумеется, не решилась. Вместо этого я просто ушла с Фридой в комнату для гостей и легла спать. Я лежала на узкой кровати и гадала, почему я никогда не могу возразить Уве, почему позволяю ему манипулировать собой. Разумеется, ответа на это у меня не было.
На следующее утро я дождалась, пока Уве уйдет на работу, позвонила полицейскому и сказала, что с удовольствием заеду к ним поговорить. Спросила, подойдет ли завтра.
Он ответил, что будет рад.
В переговорную на четвертом этаже меня сопровождала молодая женщина. Всю дорогу она болтала о погоде, спрашивала, как я сюда добралась в такой снегопад. Я вежливо ответила, что метро работает без перебоев и что я одета так тепло, что могу хоть всю ночь проспать на улице и не замерзнуть. Она окинула мой пуховик взглядом, полным сочувствия.
Мы подходим к двери. Женщина стучит. Дверь открывается. Не знаю, чего я ожидала, но только не этого.
В центре комнаты сидит он.
Петер.
У меня земля уходит из-под ног. Воздух словно выкачали из комнаты, и мне нечем дышать. Руки покалывает, сердце колотится в груди, грозя вырваться наружу. Мне хочется сбежать. Сбежать от этого невзрачного на первый взгляд мужчины средних лет, сидящего на синем стуле.
Он выглядит точно так же, как и раньше. Только вид у него усталый. И он отрастил живот. Коротко стриженные волосы с сединой. Глубоко посаженные зеленые глаза. Ястребиный нос, как у актеров из фильмов про мафию в шестидесятые годы. Маленькие, как у женщины, руки.
Я хорошо помню, что он умеет делать этими руками.
От этих мыслей мне становится нехорошо. Я прикладываю усилия, чтобы подавить желание развернуться и убежать, борюсь с собой, заставляю себя стоять спокойно.
– Добрый день, – говорю я.
– Добро пожаловать, – говорит крупный краснощекий мужчина в розовой рубашке с желтым платком на шее.
У него забавный вид. Он резко выделяется среди скучных офисных полицейских. Скорее, он напоминает члена охотничьего клуба, который зашел сюда по ошибке.
Смуглая женщина лет тридцати подходит и представляется. Я пожимаю ей руку, но не вслушиваюсь в слова. И вот он стоит передо мной. Как и раньше, в его фигуре есть что-то мальчишеское, какая-то подростковая долговязость, от которой он так и не избавился. Он протягивает мне руку, и я вижу, что ему тоже неловко.
Я пожимаю руку, но стараюсь не встречаться с ним взглядом. Но все равно мое тело реагирует на его прикосновение, и реакция такая сильная, что мне становится страшно. Меня как будто пинают ногой в живот. Он выпускает мою руку. Я стягиваю куртку, сажусь на стул и отказываюсь от кофе, предложенного женщиной. Я боюсь, что не смогу удержать в трясущихся руках кружку.
Опускаю глаза и разглядываю трещинки в крышке стола. Краем глаза вижу Петера. Он делает вид, что смотрит в окно.
– Еще раз спасибо, что согласились прийти сюда, – начинает крупный мужчина. – Мы с вами встречались десять лет назад в связи с расследованием убийства Мигеля Кальдерона.
Я киваю, поднимаю на него глаза. Мужчина достает пухлую папку и начинает выкладывать на стол снимки и отчеты. Бумага пожелтела. Фотографии выцвели.
Я нагибаюсь, рассматриваю черно-белые снимки. Они оживляют в памяти воспоминания: голова молодого мужчины, специально поставленная так, чтобы убитый как бы смотрел на входящего в квартиру. Открытые глаза, подклеенные скотчем, долго потом преследовали меня в ночных кошмарах.
– Мигель Кальдерон, двадцать пять лет, разнорабочий, – рассказывает полицейский мягким бархатным голосом. Теперь я вспомнила, что его зовут Манфред. – Его тело было найдено в квартире на Хорнбруксгаттан пятнадцатого августа десять лет назад. Тело обнаружила сестра Люсия. Она долго не могла до него дозвониться и начала волноваться. У нее был ключ от квартиры. Открыв дверь, она обнаружила его на полу в прихожей. Причина смерти – отделение головы от тела острым предметом наподобие меча. Орудие убийства так и не было найдено. Голова была поставлена на пол, а глаза подклеены скотчем, чтобы убитый «смотрел» на входящих.
Я киваю, изучаю фотографии и чувствую, как сердце понемногу успокаивается. Теперь я дышу ровнее. Поразительно, что чудовищное убийство, совершенное десять лет назад, способно отвлечь меня от мыслей о Петере. Можно даже притвориться, что его здесь нет, что он не сидит всего в паре метров от меня. Нужно только попытаться. Сконцентрироваться на работе.
Манфред Ульссон опускает папку на стол и говорит:
– Это было одно из самых крупных расследований в современной истории шведской криминалистики. Возможно, самое крупное, если не считать убийства Улофа Пальме. Мы опросили сотню свидетелей, проверили десятки подозреваемых. У нас был окурок с ДНК, найденный в подъезде, который мог вывести нас на след убийцы. Мы просили помощи общественности по телевидению. Один журналист даже написал книгу о том деле и утверждал, что Кальдерон стал жертвой чилийских киллеров, которые преследовали политических беженцев в Швеции с негласного разрешения Службы безопасности СЭПО. Помните, Ханне? Я киваю.
– А теперь вот это, – продолжает Манфред Ульссон, выкладывая на стол новые снимки. – В воскресенье было обнаружено тело молодой женщины в особняке в районе Юрсхольм. Причина смерти – отделение головы от тела. И, как и в случае с Кальдероном, голову поставили на пол лицом к двери.
– Скотч на глазах?
Я сама поражаюсь тому, что могу говорить, могу задавать вопросы.
Смуглая женщина качает головой.
– Нет, никакой клейкой ленты. И орудие убийства было оставлено на месте преступления. Мачете. Мы проводим экспертизу.
Я смотрю на Петера. Он бледен. Руки сложены на груди. Ему явно некомфортно, и его дискомфорт доставляет мне удовольствие. Маленькое, но удовольствие.
Манфред Ульссон продолжает:
– Насколько я помню, у вас тогда были любопытные мысли о личности преступника. Как вы считаете, это мог быть один и тот же человек?
Я смотрю на снимки перед собой. Вижу смерть и кровь. Это отвратительное зрелище, но от него не отвести глаз. Меня всегда поражала жажда крови в людях. Почему им непременно нужно убивать? И во мне просыпается азарт, желание расследовать дело и вычислить убийцу. Мне хочется составить психологический портрет убийцы, наделить его плотью и кровью. Мне нравится заниматься исследовательской работой, но она не приносит такого удовлетворения, как полицейские расследования. Я занимаюсь только теориями, но порой так интересно опробовать их на практике. Я понимаю, как сильно мне недоставало сотрудничества с полицией.
– Как вы, наверно, понимаете, я не могу делать выводов, пока не изучу все подробности нового дела, – говорю я. – Пока я могу только сказать, что есть существенные различия. В одном случае жертва мужчина, в другом женщина. И орудие убийства пропало в первом деле и было оставлено на месте преступления во втором. Но есть и сходство. Способ убийства нельзя игнорировать. Логично будет сравнить обстоятельства обоих убийств. Но, видимо, вы этим уже занялись, раз позвонили мне, не так ли?
Полицейский кивает.
– Кто на такое способен? – спрашивает смуглая женщина. – Сумасшедший?
Я улыбаюсь. Этим словом сегодня часто злоупотребляют.
– Все зависит от того, какой смысл вы вкладываете в это слово. Разумеется, можно сказать, что только безумный человек способен на такое чудовищное преступление. Но если бы мы имели дело с психически больным преступником, то он не смог бы так тщательно замести следы преступления и уже был бы схвачен.
– Его?
– Да, потому что большинство убийц мужчины. Особенно когда речь идет о таких кровавых преступлениях. Но, естественно, нельзя исключать возможность, что это женщина. Психология – не точная наука.
– А зачем убийце нужно было ставить голову на пол лицом к двери? – продолжает расспросы женщина.
Я пожимаю плечами.
– Сложно сказать. В прошлый раз мы говорили о том, что преступник хотел унизить жертву, что, скорее всего, он хорошо знал Кальдерона и испытывал к нему сильную неприязнь. Может быть, даже ненавидел. Ненавидел настолько, что хотел продемонстрировать это всему миру. Один метод убийства уже говорит о ярости. Если вспомнить историю человечества, то отрубание головы было наказанием для самых отъявленных преступников. Термин «capital punishment» происходит от латинского капут («caput»), что означает «голова». Сегодня такой способ казни применяют, например, в Саудовской Аравии. В Швеции в последний раз отрубили голову преступнику в 1900 году, но в других европейских странах еще пару десятков лет продолжали практиковать этот метод казни. Например, считается, что около пятнадцати тысячам людей отрубили голову в Германии и Австрии в период между 1933 и 1945 годами. В Европе смерть путем отрубания головы считалась более достойной, чем, например, смерть на виселице или сожжение на костре. Во многих европейских странах к отрубанию головы приговаривали только аристократов и солдат. В других странах, например, в Китае, это, наоборот, считалось недостойной смертью. Кельты отрубали головы врагам и подвешивали к седлам. По окончании битвы их бальзамировали и выставляли на всеобщее обозрение. Этот обычай шокировал римлян. Они решили, что кельты варвары. Но для кельтов это было обычным делом, потому что для них голова символизировала жизнь человека, его душу.
В комнате воцаряется тишина. Я понимаю, что мой рассказ шокировал этих бывалых людей.
– Между жертвами есть какая-нибудь связь? – спрашиваю я.
– Пока неизвестно. Мы над этим работаем, – отвечает Манфред Ульссон. – И в новом деле у нас есть подозреваемый. Мы проверим, связан ли он с Кальдероном.
Я смотрю на фотографию головы женщины. Думаю о том, кто мог сотворить такое с этой несчастной. Что вывело его из душевного равновесия и заставило совершить такое чудовищное преступление?
– Кто она? – спрашиваю, тыкая кончиком пальца в снимок.
Все молчат. За окном падает снег. Ветер разносит крупные белые хлопья, превращая все в белое месиво.
– Мы не знаем, – внезапно говорит Петер и впервые встречается со мной взглядом. Он тут же опускает глаза, но я успеваю заметить в них боль. Другие не заметили возникшего в комнате напряжения. Крупный полицейский снова взял слово:
– Я хочу попросить вас о помощи. В качестве консультанта. Речь идет только о паре часов. Если у вас есть на это время и желание.
Стокгольм укутан пушистым белым снежным одеялом. Я иду по Хантверкангаттан в сторону здания мэрии. Ветер метет снег прямо мне в лицо. Снег приглушает все звуки. Наверно, следовало поехать на метро, но я решила, что лучше пройтись и собраться с мыслями. Встреча с Петером сильно меня взволновала. Из-за снега машины еле ползут. Я медленно иду в сторону центра, прислушиваясь к хрусту снега под подошвами сапог.
Петер Линдгрен.
Поразительно, что мы не столкнулись раньше. Я много сотрудничала с полицией. В те годы я часто думала о том, что он сидит в кабинете где-то поблизости и работает себе как ни в чем не бывало. Тогда одна мысль об этом приводила меня в ярость. От возмущения мне становилось трудно дышать. Но что я могла поделать? Это жизнь. Случается, что люди предают любимых, но жизнь на этом не заканчивается. Хочешь ты того или нет, нужно двигаться дальше. Жизни плевать на твои желания. Она просто идет своим чередом.
Красно-коричневая башня мэрии исчезает в зимнем тумане. Кажется, что она тянется до самого неба и даже дальше – в черный космос, за которым начинается бесконечность. Возможно, наступит день, когда моя память станет так слаба, что и воспоминания о Петере сотрутся, думаю я. По крайней мере я на это надеюсь.
Но есть один нюанс. В худшем случае я могу забыть все, кроме него. Тогда все, что останется в моей памяти, это его тело, его лицо, его слова, его голос.
Мы встретились, когда я работала над делом об убийстве двух проституток в Мэрсте, к северу от Стокгольма. Сперва Петер не произвел на меня никакого впечатления. Он был просто одним из многих полицейских, с которыми я пересекалась по работе. Помню, что я даже сочла его слабаком, в нем была какая-то неуверенность, нерешительность. Он всегда долго подбирал слова, говорил тихо, робел передо мной. Я даже удивилась, что такой человек работает в полиции. Другие полицейские, с которыми мне доводилось работать, были решительными, уверенными в себе людьми и никогда не стеснялись в выражениях.
А потом мы с ним застряли в лифте.
В Полицейском управлении был ремонт. Рабочие случайно перерезали электрический кабель. И в результате лифт, в котором ехали мы с Петером, застрял между вторым и третьим этажами. Внезапно свет выключился, и лифт завис. Через пару секунд зажглась аварийная лампочка на уровне ног, светившая слабым синим светом. Мы долго общались с оператором по аварийной связи, пока в итоге не услышали, что нам ничего не остается, как сидеть и ждать, когда приедет помощь.
Мы просидели в лифте три часа, пока на помощь к нам не приехала пожарная бригада. И после этого случая я стала смотреть на Петера по-другому.
Сперва мы просто болтали. Главным образом о работе. О делах, над которыми работаем, о том, как обычные девушки становятся проститутками, несмотря на то что у них не было особой нужды в деньгах. Постепенно мы перешли на более личные темы. Я рассказала о своих отношениях с Уве. Я сама удивилась, что открылась ему и поведала о том, о чем не знают даже самые близкие мои друзья. Но что-то в его характере, наверно, робость и мягкость, расположили меня к нему, и я доверила Петеру свои самые сокровенные тайны.
Возможно, этому способствовало то, что он тоже поделился со мной своими секретами. Петер рассказал о гибели своей старшей сестры и о крахе отношений с матерью своего сына. Он сказал, что почти не видит сына и что жалеет о том, что стал тем, кем стал. Петер считал себя нехорошим человеком. Так прямо и сказал: «Я нехороший человек». При этом произнес эти слова спокойно, словно говорил про машину или квартиру. И он верил, что Альбину, его сыну, лучше без такого отца, как он.
Я попыталась объяснить Петеру, что все делают ошибки и что детям, особенно маленьким мальчикам, нужен отец, даже если этот отец неидеален. В современном обществе ошибочно считается, что родители должны быть идеальными, хотя самое главное – чтобы они были.
Я говорила о том, о чем понятия не имела. У меня никогда не было детей. А еще Петер сказал, что единственное, в чем он полностью уверен, так это в том, что он хороший полицейский, и поэтому он решил заниматься тем, что ему удается. Мне стоило на этом и закончить, но он разбудил во мне любопытство. Каждый раз, когда я встречала людей, у которых было неспокойно на душе, мне хотелось им помочь, залечить их раны. Но я не знала, что Петеру нельзя помочь.
Двумя неделями позже мы пошли к нему домой после работы. Я не помню, как это вышло. И я осталась на ночь в его маленькой двушке в Фарсте. Мы занимались любовью всю ночь. Это было волшебно. Он разбудил во мне чувства, которые дремали много лет. Например, чувство близости. Телесной и духовной. Как будто мы были единым целым.
Я вспоминаю об этом с ужасом. Теперь, спустя десять лет, наши отношения кажутся мне банальной интрижкой. У нас не было ничего общего, кроме сожалений о том, что жизнь вышла не такой, как нам хотелось. И кроме одиночества, которое толкнуло нас в объятья друг друга. Сразу было ясно, что ничего из этого не выйдет. Он был на десять лет моложе меня, а я была замужем. Замужем за человеком, который меня никогда не отпустит. У нас не было ничего общего с Петером. Ни общих друзей, ни общих интересов, ни общих тем для разговора.
И все равно я не могу забыть время, проведенное с ним. Ночи, когда его руки жадно ласкали мое тело. Те моменты, когда мы занимались любовью в его постели, в служебной машине, в туалете на работе. Мы были влюблены, как подростки. Находясь в одной комнате, мы краснели и прятали глаза. Коллеги обменивались многозначительными взглядами и качали головами, видя это ребячество.
Я останавливаюсь у сквера Берзели. Смотрю сквозь снежную пелену на театр. Поднимаю лицо, открываю рот и жду, пока снежинка опустится мне на язык. У нее вкус неба.
Естественно, Уве все заметил. Такое трудно не заметить. Те, кто так думает, ошибаются. Но он ничего не сказал. Тогда не сказал.
Через пару лет мы с Петером начали говорить о том, чтобы съехаться. Я, правда, колебалась. Что было большой глупостью, как потом выяснилось. Я переживала из-за того, что подумают люди, если я брошу моего мужа ради мужчины на десять лет моложе меня. Брошу свою состоятельную жизнь в центре и перееду в пригород. Я всегда соответствовала ожиданиям других. У меня была прекрасная квартира, успешная карьера и муж, из-за которого мне завидовали все подруги. Я не ценила того, что имела.
Но Петер был очень настойчивым. Он говорил, что я ему нужна. Несмотря на то что у меня не могло быть детей и что наше решение многим причинит боль, он был настроен решительно. Он любит меня и не может жить без меня.
И прочую ерунду.
Все это были только слова. Может, он и чувствовал что-то в тот момент, но явно не собирался держать слово.
Под конец Петеру удалось уговорить меня оставить Уве. Я поехала домой собирать самое необходимое, и Петер сказал, что заедет за мной в пять часов.
Я была очень взволнована. Меня переполняло чувство вины. Я чувствовала себя ребенком, ворующим конфеты, когда паковала сумку. Но когда я уже собиралась уходить, домой неожиданно вернулся Уве, хотя никогда не приходил раньше шести.
Я сказала все как есть. Что встретила другого и ухожу. Сказала, что больше не люблю его, что наш брак как тюрьма для меня. Муж разозлился, кричал, что я пожалею об этом решении, что не пройдет и месяца, как я приползу домой и буду умолять о прощении. Я не отвечала. Просто вышла, даже не закрыв за собой дверь. Всю дорогу, спускаясь вниз по лестнице, я слышала его крики в квартире. Слов нельзя было различить, только ярость в голосе.
На улице было темно. Моросил дождь. Я поставила сумку на крыльцо и присела рядом. На меня нахлынула чудовищная усталость. Она придавила меня к земле. Ноги отказывались шевелиться. Я ничего не могла поделать с этой усталостью и только сидела. Часы показали пять, потом половину шестого. Без четверти шесть я позвонила Петеру, чтобы узнать, куда он подевался, но он не взял трубку. К половине седьмого я начала понимать, что он не приедет, но все еще не находила в себе сил встать. Я не могла пошевелиться. Дождь кончился. Задул сильный ветер, несущий запах моря и выхлопных газов. Он продувал тонкую куртку насквозь и проникал мне прямо в сердце.
Когда около десяти часов Уве спустился вниз и забрал меня, я не протестовала, хотя он сжал мою руку до синяков. Я молча, не протестуя, поднялась за ним в квартиру.
Неделей позже я получила письмо. Петер писал, что мы не можем быть вместе, что он только причинит мне боль, потому что такой он человек – он всем причиняет боль. И всем, включая меня, будет лучше, если мы больше не увидимся.
Я прохожу мимо магазина дизайнерской мебели «Свенск Тенн» на Страндвэген, останавливаюсь, подхожу к витрине и заглядываю внутрь. Интерьер магазина похож на нашу с Уве квартиру. Яркие цвета, буржуазная элегантность с этническими мотивами, эксклюзивная мебель, неброско и со вкусом. Мимо проезжает трамвай. Я жмурюсь, пытаюсь не думать о Петере. Пытаюсь жить настоящим. В этом снежном хаосе. По дороге домой к мужчине, которого я не люблю, но которого скоро забуду. Забывчивость – мое единственное спасение.
Петер
Дело о расследовании убийства похоже на жизнь. У него есть начало, середина и конец. И, как и в жизни, ты никогда не знаешь, что будет дальше, пока все не кончится. Иногда все кончается, едва начавшись, иногда тянется целую вечность, пока его не убирают в долгий ящик.
Но у каждого дела, как и у жизни, всегда есть конец.
Сначала мне нравился этот элемент моей работы. Мне нравилось, что в ней нельзя все контролировать, что все время происходит что-то неожиданное и случайное. Но теперь даже это стало рутиной.
Женщину напротив нас зовут Аня Стаф. Она поможет нам разрешить загадку произошедшего в доме Йеспера Орре в воскресенье или не поможет. В любом случае она одна из тех женщин, с кем он общался больше всего в последние годы. Об этом нам сообщили его друзья.
У женщины черные волосы, убранные в аккуратную прическу, как у девушек на плакатах сороковых годов. Белая кожа и яркий макияж. Глаза густо подведены черным, губы насыщенного ярко-красного цвета. Одета она в облегающее платье в горошек, кофту и черные ботинки. И она на удивление спокойна. Редко видишь такое спокойствие в комнате для допросов в Полицейском управлении.
Манфред предлагает ей воды, включает запись, информирует, что этот разговор касается убийства в доме Йеспера Орре. Женщина кивает, теребит жемчужные пуговицы на кофточке.
– Симпатичный пиджак, – говорит она, показывая на горчичный блейзер Манфреда.
Манфред довольно поглаживает ткань на груди.
– Спасибо. Я стараюсь. Можете рассказать, как вы познакомились с Йеспером?
Взгляд устремляется к потолку, словно она пытается вспомнить.
– В клубе «Вертиго», где я работаю, – отвечает она наконец. – Он часто туда приходил. Мы начали болтать. Потом встречались. Иногда ужинали, иногда он приходил ко мне и оставался на ночь.
– Когда вы начали встречаться?
– Год назад, – после паузы отвечает она. – Но я давно уже его не видела.
– А этот клуб «Вертиго». Что это за заведение?
– Ну, это самый обычный ночной клуб, но среди посетителей много фетишистов и интересующихся квир-культурой. И вечеринки у нас шумные. Но никакой порнушки. Зато есть дресс-код. Спортивное нижнее белье и домашние тапочки не приветствуются.
Она кривит нос при этих словах, словно спортивное белье – это самое худшее, что только можно представить.
– А Йеспер? Он чем-то подобным увлекался?
Я невольно улыбаюсь при виде Манфреда, которого этот разговор явно смущает, несмотря на многолетний опыт допросов. Но, может, его смущают не фетишисты, а то обстоятельство, что допрашиваемая – молодая красивая женщина, которая к тому же сделала комплимент его умению одеваться.
– Не особенно. Думаю, ему просто было любопытно. Он хотел попробовать что-то новое и необычное. Такие к нам тоже захаживают. Но на самом деле он простой и добродушный парень.
– Простой? Добродушный? Коллеги отзываются о нем по-другому.
Девушка вздыхает.
– Послушайте, я понятия не имею, какой он на работе, я знаю его только таким, каким он был со мной.
– И каким же?
Она снова смотрит в потолок.
– Милым, приятным, добродушным. Иногда он нервничал из-за работы, все время смотрел в мобильный, но я знала, что он должен был все время быть на связи, если возникнут какие-то вопросы по работе, и не обращала на это внимания. Помню, мне было даже его жалко. И он боялся, что нас с ним увидят в городе вместе. Журналисты постоянно его преследовали. Да, Йесперу было нелегко.
Она умолкает. Наши глаза встречаются. У ее глаз необыкновенно насыщенный синий цвет.
– И где вы тогда встречались? – спрашивает Манфред.
– Как я уже говорила, в клубе или у меня дома. Я живу около Мидсоммаркрансен.
– И как долго длились ваши отношения? Вы говорили, что познакомились около года назад, но давно уже его не видели.
– Бог ты мой! Какие отношения? Мы не встречались. Мы только спали вместе. Занимались сексом. Вы знаете, как это бывает.
У Манфреда на лице полное недоумение.
– Секс без обязательств?
– Лучший вид секса. Вы согласны? Манфред неуверенно кивает.
– Был ли он агрессивным в постели? Были моменты, когда вам было страшно?
– Страшно? – смеется она. – Нет, он был очень милым. Немного жестким. Ему нравился грубый секс. Но мне он тоже нравится, так что с этим проблем не было.
– Жестким? Садо-мазо?
– Вовсе нет. Просто жестче, чем обычные парни.
Видно, что тема вызывает у нее интерес. Ей явно хочется объяснить, каким был Йеспер Орре, чтобы у нас не осталось никаких сомнений по поводу его сексуальных предпочтений.
– А у него дома вы встречались? Она качает головой.
– Никогда. Он живет за городом.
– А о чем вы разговаривали вне постели?
– Обо всем на свете. О политике, о спорте. Он интересовался спортом. Думаю, он много времени проводил в спортзале, потому что был в очень хорошей физической форме. Видно было, что он заботится о своей внешности. Никогда не ел в клубе чипсы и арахис, пил воду с лимоном.
– Какой-то слишком уж правильный.
Она морщится, откидывается на спинку стула, скрещивает руки на груди. По позе видно, что ей неприятен этот разговор.
Прежде чем выйти из комнаты, Аня поворачивается ко мне и говорит:
– Есть еще кое-что.
– Да? – удивляюсь я.
– Он воровал мое нижнее белье.
– Воровал ваше белье?
– Да, наверно, ему нравилось дамское белье. Я закрывала на это глаза, хотя белье у меня довольно дорогое. С его доходами он мог бы и купить мне новое взамен. Согласны?
После ухода подружки Йеспера Орре мы с Манфредом поднимаемся на четвертый этаж. Подъем дается коллеге нелегко. Но я уже давно перестал просить его заняться спортом. Он взрослый человек и знает, насколько вредны переедание и сидячий образ жизни.
– Ни фига себе, – восклицает он. – Извращенец.
– Он не делал ничего запрещенного законом. Жесткий секс с девицами в латексе – такой статьи в уголовном кодексе нет.
– Зато есть статья про воровство.
– Прекрасная идея. Пришьем ему воровство тоже. Манфред ухмыляется. Снимает пиджак, утирает пот со лба.
– Вся полиция ищет Орре. И у нас достаточно материала, чтобы упечь его за решетку, – продолжаю я, но Манфред не слушает.
– Я не устаю удивляться тому, какие увлечения у этих членов высшего общества, – признается он.
Я киваю, хотя считаю, что интересная личная жизнь не такой уж и грязный секрет. Гораздо хуже люди, которым нечего скрывать, в жизни которых одна пустота. Люди, похожие на пустую упаковку из-под молока. Снаружи кажется, что она полная, но стоит ее поднять, и поймешь, что внутри ничего нет. Такие люди, как я.
– Этот Йеспер представляется таким респектабельным джентльменом, директором крупной компании, но на самом деле не способен завести серьезные отношения с женщиной и тратит жизнь на интрижки с девицами в латексе и ворует их белье. Боится ответственности, боится взрослой жизни, – ставит диагноз Манфред, вообразивший себя психологом. Он говорит это с такой уверенностью, что мне становится не по себе.
После ухода Манфреда я сижу за столом и смотрю, как за окном сгущаются сумерки. Небо меняет цвет с серого на черный. Ветер метет пургу. В доме напротив зажглись окна. Обычно ответственные люди готовят ужин или смотрят телевизор после долгого рабочего дня.
Перед глазами встает Ханне. Я думаю о том, как она пожала мне руку в переговорной, не поднимая глаз. И во время разговора она смотрела на стену над моей головой. И когда наши руки соприкоснулись, я почувствовал грусть. Грусть от того, что ничего не получилось. Мне захотелось объяснить ей, почему я сделал то, что сделал, сказать то, что я не осмелился сказать тогда.
Как будто это что-то бы изменило.
А потом я думаю о том, что сказал Манфред об Йеспере Орре, что тот боялся ответственности.
Если бы мама была жива и сидела сейчас напротив меня, то она бы сказала, что это я боюсь ответственности. Боюсь отношений. Боюсь денег. Боюсь всего на свете. Я представляю маму за столом напротив меня. Длинные темные волосы заплетены в косу. Она маленькая и худенькая, но слегка раздалась в бедрах. Старомодные очки в толстой оправе слишком велики для ее миниатюрного загорелого лица.
– Улла Маргарета Линдгрен. Я пригласил вас сюда, чтобы расспросить о вашем сыне Петере Эрнсте Линдгрене. Обо мне, то есть.
– Это действительно так необходимо?
– Это займет всего несколько минут.
– Ну ладно. Раз вы настаиваете. Но поторопитесь. У меня нет времени тут долго рассиживаться.
Пауза. Мама поправляет косу на спине и строго смотрит на меня.
– Вы считаете меня ответственным человеком? Вздох.
– Ты знаешь, что я всегда любила тебя, Петер. У тебя золотое сердце. Я действительно так считаю. Но ты всегда избегал ответственности. Посмотри, как ты живешь. В квартире бардак. Питаешься полуфабрикатами. Загрязняешь окружающую среду. Ты не сортируешь мусор. Не проводишь время с сыном. Бедная Жанет одна несет эту ношу. Да, я знаю, что вы разошлись, вы взрослые люди, и это было ваше решение. Должна признаться, я всегда считала, что вы не подходите друг другу. Но ведь Альбин твой сын, твоя плоть и кровь. Ты должен участвовать в его воспитании. Должен помогать Жанет, ради всего святого. И ты не интересуешься общественными проблемами, хоть и работаешь в полиции. Не читаешь газет. В Сирии и Газе дети мрут как мухи, а ты только работаешь и смотришь по вечерам тупые киношки. Твоя жизнь бедна, Петер. Вот и все, что я могу тебе сказать. В молодости я интересовалась многими вещами. Занималась политикой, верила в то, что мир можно изменить. И это при том, что у меня была работа и маленькие дети. Я брала вас с собой на собрания. И я не понимаю, почему у тебя нет никаких увлечений, почему ты тратишь жизнь впустую. Жизнь коротка. Не упусти момент.
Я поднимаюсь, иду к окну и прижимаюсь лбом к холодному стеклу. Закрываю глаза и позволяю воспоминаниям наполнить меня.
Мама была участницей молодежного протестного движения. По профессии дизайнер, она помогала им готовить макет «Вьетнамского бюллетеня», брошюр и афиш. Иногда мне и моей сестре Аннике разрешали ходить с мамой в дом собраний в парке Кронобергс. Мы помогали раскрашивать афиши или разбирать брошюры.
Я помню, что папе это не нравилось. Он считал, что мы слишком маленькие, чтобы слушать про войну во Вьетнаме и прочие политические вопросы. Но мы умоляли его разрешить нам пойти с мамой, и он всегда сдавался. Он целовал маму в щеку, просил не спускать с нас глаз и оберегать от антиимпериалистской пропаганды и отпускал.
Я обожал эти мероприятия.
Там всегда было много детей. Атмосфера была оживленная, нам многое позволялось. Мне нравилось смотреть, как работают взрослые. Дети бегали и играли, но при этом они никому не мешали, никто на них не шикал.
Мне, как одному из самых маленьких, поручали самые легкие задания. Например, раскрасить буквы на плакатах со словами «США прочь из Индокитая». Красная краска на белом фоне. Старшей сестре Аннике давали раскрашивать американские ракеты. Я страшно ей завидовал.
Закончив с заданиями, взрослые начинали пить вино и играть на гитаре или обсуждать ситуацию в Индокитае. Я играл с другими детьми или засыпал на полу у маминых ног.
Иногда они пели песни группы «Freedom Singers», и тогда собрания превращались в настоящую вечеринку.
Бывало, что один из тощих парней с бакенбардами в клетчатом пиджаке вертелся возле мамы, угощал ее сигаретой, поправлял очки в роговой оправе на носу и обсуждал Шведский комитет по Вьетнаму или заурядных наивных радикальных пацифистов. Иногда он обнимал маму за плечи, играл прядями ее длинных темных волос. Но мама только отстранялась с улыбкой. И я даже своим детским умом понимал, что такое верность и стабильность. Мама и папа были одним целым, хоть она и называла его «реакционером», причем довольно часто, и звучало это как самое страшное ругательство.
А потом война кончилась. Борцы за свободу одержали победу, империалисты униженно уползли обратно в США к своим гамбургерам и кока-коле. Бомбы больше не сыпались на джунгли и рисовые поля. Напалм не прожигал кожу детям с той легкостью, с какой нож режет масло.
Я помню, что окончание войны меня расстроило. Мама сказала, что я могу гордиться тем, что помог остановить войну, что я ответственный и добрый ребенок. Но мне было грустно. Я ощущал пустоту.
Больше никаких собраний. Никаких демонстраций. Никаких плакатов для раскрашивания.
Я молил Бога о том, чтобы началась другая война, но без особой надежды, потому что мама давно уже рассказала нам, что Бога выдумали капиталисты, чтобы держать на привязи бедняков.
Я оборачиваюсь. Мама исчезла. Перенеслась из кабинета обратно на кладбище Скугсчюркогорден. Я слышу шаги в коридоре. Коллеги расходятся по домам. Смех затихает на лестнице. Пора и мне идти домой.
Включить телевизор и убить еще один вечер моей жизни.
Эмма
Двумя месяцами ранее
В голосе Ольги слышна скука. Я слышу на заднем фоне привычную магазинную музыку и чувствую радость от того, что не пойду сегодня на работу.
– Ничего серьезного. Думаю, я просто отравилась. Попробую прийти завтра. Скажешь Бьёрне?
Пауза.
– Конечно.
Я словно вижу коллегу перед собой. Телефонная трубка зажата между шеей и плечом, а сама она подносит руки к свету и проверяет, не облез ли лак на ногтях и не отвалились ли от него стразы.
– Увидимся завтра, – говорю я, но Ольга уже положила трубку.
Я снова набираю номер Йеспера, хотя уже не жду, что он ответит. Просто хочу послушать его голос на автоответчике, но даже это мне не суждено. Механический голос сообщает, что этот номер отключен по желанию клиента. Я решаю попробовать по-другому. Достаю номер главного офиса. Дрожащими пальцами набираю номер. Секретарь соединяет меня с приемной директора без лишних вопросов. Это меня удивляет. Неужели так легко связаться с директором? Кто угодно может взять и позвонить ему?
Но, разумеется, отвечает мне его личный помощник – женщина с едва заметным акцентом. Она представляется ассистентом Йеспера и спрашивает, чем может мне помочь. Я говорю, что хочу поговорить с ним по личному делу. Она просит мое имя и номер телефона, чтобы он мог перезвонить. Я колеблюсь. Йеспер просил меня не звонить ему на работу. Может, он не хотел, чтобы секретарша знала мое имя? Я прошу соединить меня с ним сейчас, но женщина отвечает, что Йеспер на собрании.
– А с ним все в порядке? Пауза.
– Что вы имеете в виду? – спрашивает она уже с подозрительными нотками в голосе.
– Просто он обещал позвонить мне… несколько дней назад и не позвонил. И я беспокоюсь, что с ним что-то случилось.
– Он в порядке. Если вы назовете ваше имя и номер, я попрошу его позвонить вам после собрания, – отвечает она профессиональным тоном, каким расписывают достоинства стирального порошка в рекламных роликах.
Я говорю, что перезвоню позже, она отвечает «хорошо», и мы одновременно заканчиваем разговор. Я остаюсь сидеть за кухонным столом. Часы над столом тикают так громко, что кажется, будто часовой механизм сидит у меня в мозгу.
Почему Йеспер прячется от меня? Испугался ответственности? Пожалел о сделанном мне предложении?
Или он просто псих, больной человек, садист, которому доставляет удовольствие мучить других?
Может, этому всему есть еще какое-нибудь объяснение? Может, что-то мешает ему связаться со мной? Несчастный случай в семье? Кризис на работе? Но в таких случаях всегда можно послать эсэмэс или позвонить.
Три недели назад мы лежали на полу в моей гостиной. Через занавески проникал серый вечерний свет и рисовал узоры на наших телах. Окно было приоткрыто. Занавески колыхались на холодном ветру.
Йеспер курил. Курил он нечасто. Обычно после того, как выпьет вина, или после секса. Он курил и смотрел в потолок. Его ладонь лежала у меня на животе. Пальцами он рисовал круги на моей влажной от пота коже.
– Что случилось? – спросил он.
– Она заболела и умерла. Йеспер затянулся дымом.
– Это я понимаю. Но от чего?
– Панкреатит. Она была алкоголичкой.
– Бедная.
– И да и нет. Я часто думаю, что она сама во всем виновата. Никто не принуждал ее пить.
Йеспер повернулся ко мне. Наши глаза встретились.
– Я не о ней, а о тебе.
– Обо мне?
Он усмехнулся и покачал головой, словно я ляпнула какую-то глупость.
– Со мной все в порядке.
Он промолчал. На улице раздался вой сирены «Скорой помощи». В кухне заработал холодильник.
– Мне жаль, что я не могу пойти с тобой на похороны, – сказал он после долгой паузы. Видимо, он долго обдумывал эти слова.
– Я справлюсь.
– Нехорошо быть одной на маминых похоронах.
Я ничего не ответила. Что я могла сказать? Он был прав. Мы встречались уже несколько месяцев, и с каждым днем наши отношения было все сложнее скрывать от остальных.
– Так всегда будет продолжаться?
Он сунул сигарету в бокал с вином на полу, повернулся ко мне, приподнялся на локте и нежно поцеловал меня. У поцелуя был вкус табака и красного вина. Я увернулась, и он принял это за обиду.
– Конечно, не всегда.
– Но сколько?
Он опустился на спину, глубоко вздохнул, мои вопросы явно его напрягали.
– Мы же уже тысячу раз это обсуждали. Ты знаешь, что журналисты следят за каждым моим шагом. Вчера только вышла статья об условиях труда в нашей компании, и они называли их рабскими. Если пресса пронюхает о наших отношениях, ты знаешь, что произойдет. Меня уволят. Поэтому нам лучше подождать, пока все успокоится.
– И когда это произойдет?
– Откуда, черт возьми, я знаю? Когда эти гиены найдут себе новую добычу. Кстати, тебе пора начать подыскивать другую работу. Все будет проще, если ты перестанешь быть моей подчиненной.
Он потянулся за одеялом и накинул на нас.
– Холодно. Может, закрыть окно?
– Но все так сложно. Все спрашивают, кто ты, а мне нечего ответить. Это так по-детски.
Он повернулся ко мне и с улыбкой спросил:
– По-детски?
– Да, я веду себя как подросток. Тайный бойфренд и все такое.
Он рассмеялся. Поцеловал меня в шею и проложил дорожку из поцелуев вниз к животу.
– Я твой тайный бойфренд?
– Судя по всему, да.
– А ты тогда кто? Моя тайная молодая любовница? Я хихикнула. Его язык зарылся в мой пупок и начал лизать невидимое мороженое в его чашечке, потом он спустился ниже, провел языком по внутренней стороне бедра. Я сжалась. Я всегда стеснялась своего тела, его выпуклостей, его запахов. Он почувствовал это, приподнял голову и встретился со мной взглядом.
– Расслабься, Эмма. Ты должна научиться расслабляться.
Он все время нудел, что я должна расслабляться, причем не только в постели. Я пыталась, но это было нелегко. И причина была в нем и в наших отношениях. Они были слишком прекрасны, чтобы быть похожими на правду. У нас с Йеспером Орре не было ничего общего. Я бедная продавщица. Он успешный состоятельный мужчина, намного старше меня.
Что он во мне нашел? Почему он выбрал именно меня? Свою подчиненную, в два раза моложе его.
Может, Йеспер прав, и мне действительно не хватает уверенности в себе. Потому я и сомневаюсь в его чувствах ко мне. И не верю, что у наших отношений есть будущее. Почему мне так трудно поверить в его любовь?
– Расслабься, Эмма, – снова попросил он. – Я хочу тебя. Ты достойна любви. Что мне сделать, чтобы ты поверила мне? Чтобы ты осознала, как прекрасна?
В тот вечер мы заснули на полу.
Я проснулась посреди ночи от того, что ныла спина. Я протянула руку, но Йеспера рядом не было. Медленно я поднялась. Тело все затекло от неудобной позы. Я прошла в спальню. Окно было по-прежнему приоткрыто. Пол был холодный.
В спальне я нашла Йеспера. Он стоял в темноте и смотрел на картину Рагнара Сандберга над моей кроватью.
Волосы были растрепаны после сна. На плечи наброшено одеяло.
– Я думаю, что люблю тебя, Эмма, – пробормотал он.
Я сижу на диване и пытаюсь войти в Интернет, но почему-то нет связи. После нескольких бесплодных попыток до меня доходит, что это связано с неоплаченными счетами. Теперь не работает ни телевизор, ни интернет, констатирую я. И это тоже вина Йеспера.
Я решаю пойти вниз в кафе на Карлавэген. Там есть Интернет. Тошнота прошла, и я впервые ощущаю голод. Натягивая джинсы, я чувствую что-то в кармане. Визитка. Переворачиваю и вспоминаю журналиста, который заходил в магазин. После секундного размышления иду в кухню и кладу визитку в банку с неоплаченными счетами.
Я сижу в углу с чашкой кофе латте. Неподалеку парень с дредами и макбуком. Две дамы шепчутся в углу с таким видом, словно им известны государственные тайны.
В кафе темно. За окном идет дождь. Листья на деревьях окрасились в оранжевый, желтый и охряный цвета. То и дело какой-нибудь лист отрывается от ветки и плавно опускается на траву.
Я ищу в Интернете имя Йеспера. Проглядываю статьи. Его называют «королем моды» и «рабовладельцем».
Натыкаюсь на статью «Кто такой на самом деле Йеспер Орре?». Читаю ее. Он родился в Бромме, родители учителя, изучал экономику в Упсале, но бросил после двух лет. Потом начинаются пробелы в его биографии. Никто не знает, чем он занимался эти годы. Читаю дальше. Журналист утверждает, что Йеспер вращался в криминальных кругах. Двоих его друзей осудили за экономические преступления, третьего за хранение наркотиков. Их имена мне не знакомы. Йеспер ничего такого не рассказывал. Смотрю фотографии. Йеспер в костюме. Йеспер в спортивной форме. Йеспер в смокинге. Йеспер в белой рубашке с закатанными рукавами на сцене показывает на цифры на экране. Еще фото крупным планом: Йеспер улыбается, но по морщинке на лбу я понимаю, что он напряжен. Ему не нравится, когда его фотографируют. Мы много об этом говорили. Он просто ненавидит, когда его снимки печатают в газетах и когда его показывают по телевидению. Еще фото. Йеспер с блондинкой в платье с глубоким декольте. Она откидывает голову, смеется. У него усталый вид. Рубашка мятая, ворот расстегнут. На брюках пятно, как будто кто-то пролил вино. Листаю дальше. Много снимков Йеспера с женщинами – всегда разными. Ни одной постоянной спутницы.
Закрываю глаза, пытаюсь сосредоточиться. Было ли что-то странное в его поведении в последнее время? Какие-нибудь знаки? Что он устал от меня? Но я не могу ничего вспомнить. Йеспер вел себя как обычно. Был нежным, внимательным. Мы встречались, ужинали, занимались любовью, хихикали в моей узкой постели, обсуждали будущее – что мы будем делать, когда сможем встречаться открыто. Когда нам больше не нужно будет скрываться.
Я вспоминаю наше последнее свидание. Мы были у него дома. В его квартире на улице Капельгрэнд. Я лежала на боку в постели лицом к стене. Он вернулся из душа, с полотенцем, обернутым вокруг бедер, присел рядом и погладил меня по волосам.
– Ты меня любишь?
Это был странный вопрос. Раньше он никогда не спрашивал, люблю ли я его. Мы старались не использовать это слово, которое влечет за собой столько обязательств. Меня оно всегда пугало.
– Да, – ответила я.
– Я понимаю, как тебе приходится сложно. Все время прятаться.
Он лег в постель, прижался ко мне сзади. Я почувствовала тепло его чуть влажного тела, ощутила аромат его геля для душа и лосьона после бритья, зажмурилась.
– Обещай, что ты дождешься меня, что ты не устанешь.
– Обещаю.
– Что ты не уйдешь к другому мужчине.
– Не глупи. Ты же знаешь, что никакого другого нет. Он крепче сдавил меня в объятьях.
– А до меня?
– Что значит до тебя? – не поняла я.
– До нашей встречи. Кто у тебя был?
До встречи с Йеспером. Я вспомнила о своей прежней жизни: одинокие вечера с телевизором и котом, бесконечные дни в магазине, готовая еда из «Сабис». В моей жизни не было ничего, о чем стоило бы рассказывать. Но и скрывать мне тоже было нечего.
– У тебя до меня ведь были мужчины, – продолжал он.
Сперва я не хотела отвечать. Разумеется, у меня был мужчина, но я не хотела о нем говорить.
– Разумеется.
– Кто?
– Я тебе о нем говорила. Спик.
– Учитель труда.
Я закрыла глаза и кивнула. И стоило мне это сделать, как воспоминания ожили. Длинные холодные школьные коридоры, звон посуды в столовой, запах горелого дерева в кабинете труда. Я лежу на столярном столе. Спик передо мной во фланелевой рубашке со спущенными джинсами. Лицо напряженное, когда он в меня входит.
Я была без ума от него. Я была юной и ранимой девочкой из проблемной семьи. Только сейчас я понимаю, какой ранимой я была. Он меня использовал. Я была девятиклассницей, почти ребенком, когда он меня соблазнил.
– Я злюсь, когда думаю об этом, – пробормотал Йеспер.
– Но это же было тысячу лет назад.
– Вы занимались сексом в кабинете труда?
– Но…
Он сжал меня как в тисках. Мне стало трудно дышать.
– Отпусти меня. Мне больно.
– Тебе это нравилось?
– Что?
– Трахаться с ним в кабинете труда? Нравилось? Йеспер сжимал меня так сильно, что я не могла пошевелиться. Я чувствовала, что он зол.
– Ты больной, – выдавила я.
Он стянул с себя полотенце, прижался ко мне, но в этот момент зазвонил его телефон. Он разжал объятья, но я лежала, как парализованная, и не могла пошевелиться.
– Тебе это нравилось? – прошептал он. – Нравилось?
Я ничего не сказала.
Выйдя из кафе, иду домой под дождем. Снова подул ветер. Листья теперь танцуют на ветру, прежде чем опуститься на мокрую траву. Почему Йеспер ревновал к моему прошлому? Несмотря на то что у меня почти не было мужчин. При том, что это у меня были все основания для ревности. И почему его так возбуждали разговоры о Спике? Почему он постоянно расспрашивал о нем?
Меня снова тошнит. Я ничего не понимаю. Совсем ничего.
Бросаю взгляд на площадь Карлаплан. Пустой фонтан без воды. На дне груды листвы и мусора. Ни души.
Вернувшись в квартиру, чувствую странный запах. Пахнет мокрой шерстью и мылом. Как будто кто-то только что был здесь и сразу ушел. Я прохожу через комнаты, проверяю, все ли на месте, но не вижу ничего необычного. Все вещи на своих местах. Ничего не пропало. Старый паркетный пол трещит у меня под ногами. Захожу в спальню, смотрю на светлый прямоугольник на обоях, где висела картина. Кажется, что он вот-вот сорвется с обоев, чтобы что-то мне сообщить. Из кухни доносится хрумканье. Сигге ест кошачий корм – единственную еду, которую он знает.
Все выглядит как обычно. Единственное, что меня пугает, это запах. Завтра мне надо на работу, думаю я, садясь на кровать. Как бы плохо мне ни было, я должна идти на работу. Я уже брала пять отгулов в этом месяце, и Бьёрне придет в ярость, если я не явлюсь завтра. Отгулы отмечают красным фломастером на календаре в подсобке.
Все могут видеть, сколько другие коллеги болели или отсутствовали по уходу за ребенком – еще одна мера, которая бесит профсоюз и вынуждает прессу называть Йеспера рабовладельцем. Я провожу рукой по стене. Пожелтевшие грязные обои напоминают мне о другой стене в другой жизни.
Это было вечером в начале лета, когда по ночам было светло. Я лежала в постели и смотрела на стену, которая когда-то была белой, но теперь была покрыта темным налетом от жира, пыли и табачного дыма. Острым предметом, например, зубочисткой или веточкой, можно было выцарапывать на ней буквы и рисунки.
Как я ни старалась, я не могла заснуть. Мне мешал бледный свет из окна, который проникал сквозь зажмуренные веки, и папины крики в кухне.
Родители ссорились.
Я не знаю, почему они ссорились, да это было и не важно. Они ссорились каждый вечер. Главное было заснуть до того, как они начнут, тогда можно было выспаться. По утрам они были усталыми и добродушными, потому что не выспались ночью.
Крики стали тише. Я задержала дыхание. Через пару секунд новый звук. Четкий и звонкий всхлип, который быстро перешел в затяжные рыдания.
Мама плакала.
Мама всегда плакала, не папа. Не знаю, умел ли он вообще плакать. Может, папы не умеют плакать. Раздался глухой звук, как от удара, и затем отчаянный крик. Мне стало страшно. Что, если кто-то из них упал и больно ударился? Или это стул упал? Я вскочила с постели, взяла в руки свою стеклянную банку с куколкой и пошла к двери. Линолеум под ногами был холодный и скользкий. Выйдя в прихожую, я услышала мамины рыдания и тиканье часов в кухне.
Папа сидел на полу, закрыв лицо руками. Мама сидела на табуретке и рыдала. Почему-то меня больше напугало папино молчание и его странная поза, чем мамины рыдания. Папы обычно не сидят так на полу с поникшими плечами и не закрывают лицо руками.
Он пошевелился, чуть повернулся в мою сторону, словно почувствовав мое присутствие в комнате. Голосом без всякого выражения он пробормотал:
– Эмма, милая, иди в кровать. Тебе нужно спать. Мама вскочила с табуретки. У нее был дикий взгляд, как всегда, когда они с папой долго засиживались в кухне. Она напомнила мне дикого зверя, которого заперли в клетке, чтобы он не навредил окружающим.
– Маленькая дрянь, – крикнула она. – Ты опять подслушивала, мерзкое отродье?
Папа поднялся и встал между нами.
– Прекрати. Она тут ни при чем.
– Я знаю, что ты подслушивала. Что ты теперь собираешься делать? Позвонишь тете Агнете и наябедничаешь?
– Нет, – сказала я, но мама меня не слушала. Она пошла на меня, опираясь на стол, как на перила. С каждым шагом ее рука крепче цеплялась за крышку стола. Двигалась она неуклюже и опрокинула стул, когда пыталась протиснуться мимо папы.
– Оставь ее в покое, – попросил папа.
– Я её отучу подслушивать, – пробормотала мама.
Она потянулась за мной, но я была быстрее и успела отпрыгнуть в сторону. Не поймав меня, мама потеряла равновесие и плюхнулась на пол.
– Проклятье, – выругалась она и села на корточки. Из носа у нее текла кровь. – Смотри, что ты наделала, Эмма, смотри!
Она медленно поднялась.
– Но я…
Пощечина была такой внезапной. На этот раз я не осмелилась увернуться, боясь, что мама снова упадет и струйка крови превратится в сплошной поток.
– Заткнись.
Мама покачнулась. Волосы у нее были растрепаны, как обычно бывало по утрам. Папа снова опустился на пол и закрыл лицо руками, словно был не в состоянии видеть происходящее. Я хотела, чтобы он остановил маму, объяснил, что я ни в чем не виновата. Я хотела, чтобы сейчас было утро, чтобы они были усталыми и добродушными, дали мне денег и послали купить продуктов к завтраку, потому что у них болит голова. Я хотела быть кем-нибудь другим, быть где-нибудь в другом месте. Не Эммой. Не здесь. Не сейчас.
Мама рванула у меня из рук банку с куколкой.
– Дай мне эту чертову банку, – рявкнула она. – Ты таскаешь ее с собой везде. Она такая важная? Важнее собственной матери? Да?
Я ничего не ответила.
– Я тебе покажу, что на самом деле важно, – сказала мама.
Она подошла к окну в кухне, открыла его и выкинула банку.
Через секунду раздался звук разбитого стекла внизу на асфальте.
– Нет, – заорала я. – Нет, нет, нет!
– Да, – сказала мама. – Я тебе покажу, что на самом деле важно. Это просто была чертова банка. Поняла? Просто вещь.
Но я ее не слушала. Я бежала в прихожую, к входной двери, открыла ее и бросилась вниз по ступенькам.
Осколки стекла сверкали на черном асфальте. Я осторожно ставила ноги, чтобы не порезаться. Потом начала шарить руками по мокрому асфальту, но находила только сухие листья.
– Здесь, Эмма…
Я обернулась. Папа сидел рядом на корточках с вытянутой вперед рукой. На ладони у него лежала веточка. Куколка по-прежнему висела на своем месте и сияла в лунном свете.
– Он псих, – качает головой Ольга, от чего тяжелые серьги позвякивают. Мы складываем джинсы. Бьёрне не видно, но мы знаем, что он здесь и может в любую секунду застукать нас за болтовней. Мы как зебры в саванне. Знаем, что хищник где-то рядом, но не знаем, где именно.
– Но что мне делать?
Ольга снова качает головой, словно не знает, что сказать в такой странной ситуации. Потом подтягивает потертые джинсы на бедрах.
– Он делает тебе предложение. Потом исчезает. Кто он? Теперь ты можешь сказать.
Я могла бы, но боюсь. Если я скажу Ольге, об этом узнают все. И тогда проблемы будут не только у Йеспера, но и у меня. Что, например, скажет Бьёрне, когда узнает, что я спала с директором?
– Он…никто…просто иногда мелькает на страницах газет. В любом случае, если он решил со мной расстаться, о’кей, но пусть вернет деньги.
Ольга не отвечает, тянется за джинсами, которые почти падают на пол. Но вовремя подхватывает их и аккуратно складывает.
– Какие деньги? – спрашивает она спокойно, и я понимаю, что не рассказывала ей о деньгах.
– Он одолжил у меня сто тысяч, чтобы заплатить рабочим.
– Что? Ты с ума сошла? Ты одолжила ему сто тысяч крон? И?
Я пожала плечами.
– Пойдем? – Ольга хватает меня за руку и тянет в чулан.
Внезапно перед нами возникает Бьёрне. Выражение его лица не обещает ничего хорошего. Он упирает руки в бока и сверлит нас взглядом. Я замечаю, что он отращивает бородку. Острый подбородок покрыт жидкой рыжей щетиной.
– И куда это вы собрались?
– Перерыв, – коротко отвечает Ольга и сжимает губы в тонкую линию.
В этот момент из подсобки выходит Манур. Она собирает длинные темные волосы в узел на затылке.
– Последишь за кассой? – спрашивает Ольга.
– Конечно.
В глазах у нее любопытство, но самое главное, что Бьёрне на этот раз решает не лезть, поворачивается и уходит в мужской отдел. Ольга втаскивает меня в комнату для персонала и усаживает на один из белых стульев.
– Он козел, – бормочу я. – Ты слышала, что они уволили девушку из магазина в торговом центре «Ринген» за то, что она брала слишком много отпуска по уходу за ребенком? Малышу три года. Её не было девять дней. Но, естественно, они сказали, что у магазина было слишком мало покупателей, чтобы профсоюз не вякал. Но Ольга не слушает. Она ищет что-то в стопке журналов на полке в углу.
– Ты пыталась с ним связаться? – спрашивает она, перебирая журналы.
– Звонила, писала эсэмэс. Он не отвечает.
– А домой ходила?
Я вспоминаю визит на Капельгрэнд. Мужчина с конским хвостом и банкой пива в руках, равнодушие на его лице, незнакомая мебель.
Ольга отложила журналы и смотрит на меня с тревогой в глазах.
– Да, я ездила туда.
– И?
– Там живет другой человек. Вся мебель пропала. Ольга возвращается к журналам.
– Что ты делаешь?
– Ищу одну вещь. Зачем ты одолжила ему денег?
– Не знаю. У меня были деньги дома, а ему нужно было заплатить рабочим.
– У тебя дома были сто тысяч?
– Да.
– Прости, но это просто безумие. Он что-нибудь еще у тебя брал?
– Нет, – отвечаю я, но думаю о картине Рагнара Сандберга. Йеспер единственный знал о том, что она у меня есть. Кроме мамы, разумеется, но она в могиле.
– Нашла, – говорит Ольга, показывая мне журнал о жизни знаменитостей с кучей картинок. Она медленно листает журнал, проглядывая рубрики. Находит то, что искала, и демонстрирует мне. Это статья «Твой парень психопат?».
– Твой парень психопат, – сообщает она, проводя ногтем по строчкам в статье, как будто читает шрифт Брейля.
– Что там пишут?
Она откашливается, стучит ногтем по странице.
– Вначале психопаты стараются очаровать женщину, но быстро показывают свое истинное «я» – эгоцентричное и властное. Психопатам не свойственна эмпатия. Им плевать на твои чувства и потребности. Они лгут, воруют, предают, не испытывая угрызений совести. Все, чего они хотят, это манипулировать женщиной в своих целях.
Я обдумываю услышанное. Со мной Йеспер был нежным, добрым и обходительным. Но он меня бросил. И украл картину. И деньги возвращать явно не собирается. Возможно, Ольга права.
– Там пишут, что надо делать в такой ситуации? Ольга кивает и зачитывает последний абзац:
– «Тебе нужно скрыться как можно скорее. Психопаты не меняются», – вот что они пишут.
Она кладет руку мне на плечо, смотрит на меня полными тревоги светлыми глазами. Мне хочется плакать. Но я не разрешаю себе погрузиться в отчаяние. Я хочу знать правду.
– Я не понимаю, – говорю я. – У него полно денег. Он… знаменит. Зачем рисковать всем этим ради ста тысяч крон?
– Может, его интересуют не деньги, – протягивает Ольга.
– А что тогда?
– Может, он просто хочет тебя унизить? Опустить тебя, понимаешь?
Я стою дома в ванной и смотрю на себя в зеркало. Длинные темно-рыжие волосы мокрыми прядями лежат на плечах и груди. Грудь, которой я всегда стесняюсь, набухла, каждое прикосновение к ней болезненно. Я медленно тянусь вперед и протираю запотевшее зеркало. Веснушки ярко видны на бледной коже в искусственном свете лампы. Я плотнее заворачиваюсь в зеленое полотенце и выхожу в прихожую. На полу перед входной дверью лежат три письма.
Одно из моего банка. Одно из службы приставов и одно без имени отправителя. Я поднимаю письма и пытаюсь засунуть в банку со счетами. Я их даже не вскрываю. Теперь банка не закрывается. Я понимаю, что долго так продолжаться не может, что рано или поздно счета надо оплатить. Но как? У меня нет сбережений, нет ценных бумаг, нет ничего, что можно продать. Мне не у кого одолжить. Ни у кого из моих друзей нет лишних денег. И семьи у меня тоже нет.
Йеспер моя семья, думаю я. Знаю, это звучит нелепо, но он был самым близким мне человеком до того, как исчез.
Я вспоминаю наш последний вечер. Мы поссорились. Причина все та же. Я спрашивала, сколько еще мы будем скрывать наши отношения. Я сказала, что хочу открыто ходить в кино и в рестораны. Он был зол, сказал, что на работе выдался ужасный день. Мы шли под дождем, и я помню, что решила, что с меня хватит. Дождь превратил улицу Ётгатан в блестящее черное зеркало, в котором отражались фонари и освещенные витрины. У меня был зонтик, но Йесперу я его не предложила. Он этого даже не заметил. Шел рядом, говорил на повышенных тонах и активно жестикулировал.
– Но это не моя вина, не так ли? Я уже давно прошу тебя найти другую работу. Ты ищешь? Нет. Что в этом такого сложного? Почему я всегда должен всё решать?
Мы повернули на Хёгбергсгатан. Йеспер всем своим видом демонстрировал, как он возмущен. Остаток пути до Капельгрэнд мы шли молча. Перед дверью в подъезд я сказала:
– Мне нужна дата.
Я положила руку на тяжелую латунную ручку и продолжила:
– Наши отношения похожи на роман с женатым. Назови дату. День, когда ты официально признаешь меня.
Мы вошли внутрь. Йеспер достал связку ключей и сказал:
– Что значит признаю? Ты же не африканское государство, чтобы тебя признавать. И у меня нет никого, кроме тебя. Я только просил тебя подождать, прежде чем рассказывать другим о наших отношениях.
Мы вошли в квартиру. В прихожей было темно, но свет никто не стал зажигать. Я скинула сапоги, бросила куртку в угол.
– И когда наступит этот момент? Ты все время откладываешь, все время врешь.
– Ты с ума сошла? Я никогда тебе не лгал. Никогда, – закричал он и швырнул куртку в стену.
Она шлепнулась на столик, отчего ваза, которую слепила из глины его мама, упала на пол и разбилась вдребезги.
– Да, ты лжешь мне, ты меня используешь.
– Использую? Каким образом?
– Все на твоих условиях. Ты думаешь, что можешь вот так прийти и взять все, что хочешь и когда хочешь. Мое тело, мои чувства. Ты считаешь меня своей собственностью.
Он стоял неподвижно лицом к окну. Свет от неоновой вывески на доме напротив окрашивал его лицо и волосы в сине-розовый цвет. Я видела капельки от дождя у него на лбу.
– А это не так? – спросил он таким тоном, как будто это было чем-то само собой разумеющимся.
От удивления я не нашлась с ответом.
– Что ты имеешь в виду? – едва слышно прошептала я.
Он повернулся ко мне. Взгляд у него был абсолютно пустой, без эмоций. Как будто он весь был только оболочкой без души внутри.
– Разве ты не моя, Эмма?
Он подошел ко мне. Мы стояли друг напротив друга в темной комнате. В отдалении слышны были сирены. Йеспер прижал меня к себе в неуклюжих, без тени нежности, объятьях. Показывает мне, что я его собственность, подумала я тогда. Здесь нет никакой любви, только жажда власти.
– Прости меня, – прошептал он мне на ухо. – Ты права. Так больше не может продолжаться.
Он ослабил объятья и начал что-то искать в кармане.
– Я люблю тебя, Эмма. Что бы ни случилось, не забывай, что я тебя люблю. Обещаешь?
Мне стало не по себе.
– Что может случиться?
Он проигнорировал мой вопрос.
– Я хочу подарить тебе вот это.
Йеспер протянул руку, и я увидела в ней что-то блестящее. Я осторожно обхватила пальцами маленький холодный предмет. Это было кольцо.
Я подношу его к свету. Тонкое кольцо из белого золота с крупным бриллиантом безупречной огранки. Он сверкает и переливается на свету.
Тошнота подступает к горлу. Я опускаюсь на кровать. Комната кажется пустой и безжизненной без картины на стене. Голова кружится, перед глазами все расплывается. Окна превращаются в длинные узкие щели. Потолок наклоняется.
Сигге чует, что со мной не все в порядке. Он подходит ко мне и трется своим пушистым тельцем о мои ноги. Я пытаюсь опустить голову на колени, но грудь такая болезненная, что я тут же выпрямляюсь.
И тут до меня доходит.
Это как подняться на высокую гору посреди темного леса, в котором блуждал несколько дней без надежды выбраться. Внезапно перед тобой открывается пейзаж, залитый солнцем, и ты понимаешь, где ты. Осознание – как удар в живот, от которого перехватывает дыхание.
Дрожащими от страха руками я беру мобильный и открываю календарь. Начинаю считать дни. Пересчитываю два раза. Потом еще раз. И все равно не могу поверить в жестокую реальность.
Но объяснение может быть только одно.
Я беременна.
Ханне
Собрание начинает Манфред, полный краснощёкий полицейский. Он поднимается со стула, подходит к доске и сдвигает старомодные очки в роговой оправе на кончик носа. За столом сидят руководитель команды предварительного следствия молодой прокурор Бьёрн Ханссон и начальник Государственного следственного комитета Грегер Сэвстам. Смуглая женщина по фамилии Санчес тоже здесь, как и Петер, сидящий сзади меня. Я благодарна ему за то, что он сел позади. Так мне не придется прятать глаза все собрание.
Я аккуратно записала в блокнот имена всех присутствующих, их должности и добавила характерные черты. На всякий случай. Проблемы у меня пока в основном с именами. Я согласилась консультировать их с условием, что меня не будут много нагружать. Может, глупо было соглашаться, учитывая мое состояние, но я убедила себя, что все получится. Я пока ещё сохраняю ясность мысли. Что меня беспокоит больше всего, так это то, что какие-то вещи выпадают из памяти. Например, имена премьер-министра и короля (именно их врач спрашивал у меня во время последнего осмотра).
Я обычно представляю память как полотно. И мое полотно местами дырявое. Как будто кто-то взял горящий окурок и наугад потыкал им в ткань. И со временем этих дырок станет больше. Пока ещё мне удается скрыть свою забывчивость от окружающих, но скоро болезнь пожрёт все полотнище, оставив только тонкие рваные нитки, которые уже нельзя будет связать воедино.
Что от меня тогда останется? Люди состоят из опыта, мыслей, воспоминаний. Если они исчезнут, что останется от человека? Станет ли он другим? Или вообще потеряет человеческий облик? Манфред Ульссон откашливается и начинает:
– Мы хотели пройтись по новым фактам, обнаруженным в ходе расследования. Мы опросили девять коллег Йеспера, пятерых его друзей, его родителей и двух бывших девушек. Никто из них с ним не связывался после пятницы. Никто не знает, куда он собирался поехать в отпуск и где он сейчас находится. Также у нас сложился портрет Йеспера Орре. Это амбициозный энергичный мужчина, трудоголик, у которого, помимо работы, спорта и женщин, интересов почти нет. В прессе писали, что Орре вращается в криминальных кругах, но мы не смогли это подтвердить. У него есть дальний знакомый, осужденный за торговлю наркотиками, но это все, что мы смогли разузнать. Опрос соседей не дал никаких результатов. Никто в тот вечер не видел ничего примечательного. От общественности тоже никакой полезной информации не поступило, несмотря на то, что мы обнародовали информацию об его исчезновении. Мы прочитали его почту и эсэмэс в телефоне и не нашли никаких зацепок, но это ничего не значит. У него мог быть и личный мобильный, так что мы продолжаем этим заниматься. Со вчерашнего дня Йеспер в розыске. Все пограничные посты проинформированы. Страну он не покидал. С карточек денег тоже не снимал – мы бы об этом узнали. Вот и все, что нам известно на сегодняшний день. К сожалению, это немного.
Криминалисты дали нам информацию о мачете, найденном в доме Орре. Это панга – вариант холодного оружия родом из Восточной Африки. Лезвие у него шире, а острие тупее, чем у обычного мачете.
Манфред прикрепляет фотографию оружия на доску, тычет в рукоятку и сообщает:
– Ручка выточена из черного дерева. Специалисты считают, что оружие старинное и уникальное. Такие можно встретить только на специальных аукционах. На рукоятке никаких отпечатков, что говорит о том, что убийца вытер его после преступления. Но на лезвии найдены отпечатки Йеспера Орре.
Последние слова заставили Санчес присвистнуть:
– Он наш!
– Нет. Мы только можем доказать, что он трогал мачете, не больше. Криминалисты сейчас сравнивают травмы, полученные жертвой, с травмами Мигеля Кальдерона в деле десятилетней давности. Завтра или крайний срок послезавтра у нас будет отчет. Кровь в прихожей принадлежит жертве. Моча мужская. Пока еще нет результатов экспертизы на ДНК, но специалисты над этим работают. Как вы знаете, ДНК сложнее выделить из мочи, чем из крови и тканей.
– Итак, моча мужская. Что это нам говорит? – интересуется Санчес.
– Что мужчина помочился в прихожей, – отвечает Манфред.
Раздается хихиканье.
– Это я поняла, не дура. Но зачем?
– Это нам предстоит выяснить.
– Была ли моча на месте преступления в деле Кальдерона? – спрашиваю я.
Манфред качает головой:
– Нет. Я разговаривал с криминалистами, которые прочесали каждый сантиметр дома Йеспера. Они не нашли ничего примечательного, помимо корзины с использованным женским бельем в шкафу рядом со стиральной машиной в подвале. В ходе допроса Ани Стаф мы узнали, что Орре собирал использованное белье своих подружек. Это его возбуждало.
Снова смех в комнате, который затих, стоило начальнику обернуться и грозно посмотреть на подчиненных.
– Они нашли еще кое-что, – продолжает Манфред. – Окровавленные трусики под кроватью Йеспера Орре на втором этаже.
– Критические дни? – предполагает Санчес. Манфред качает головой.
– Пятна застарелые, и, судя по их расположению, трусы использовались для того, чтобы остановить кровь. Например, на руке. Мы пока не знаем, полезна ли эта находка для следствия, но это единственное, что представляло интерес в доме подозреваемого.
Манфред листает блокнот и добавляет:
– Еще одно. Петер говорил со страховой компанией, которая расследует пожар в гараже Орре. Они считают, что это поджог. На месте пожара нашли следы бензина. Этим занимается местная полиция. Подозреваемых у них нет, но страховщики намекнули, что готовы поспорить, что это дело рук самого Орре.
– Как его финансовое положение? – спрашивает руководитель предварительного следствия на сконском диалекте.
– Отличное, – говорит Петер за моей спиной.
Я не оборачиваюсь, снова думаю, что мне не стоило приходить сюда. Но я вообразила, что достаточно сильна, чтобы выдержать несколько собраний с мужчиной, который разрушил мою жизнь десять лет назад. Я не могу отказаться от работы, которую обожаю, только из страха встречи с ним. Пусть не воображает, что он что-то для меня значит. Я должна думать не о прошлом, а о будущем, потому что у меня мало времени.
– Его официальный годовой доход больше четырех миллионов крон. Помимо этого, он владеет акциями стоимостью три миллиона крон, и долгов за ним не числится.
Грегер Сэвстам ерзает на стуле:
– Как такой человек, как Йеспер Орре, мог вот так просто исчезнуть?
Манфред прокашливается:
– Вся полиция ищет его.
– У меня плохое предчувствие, – продолжает Грегер Сэвстам. Он поднимается и засовывает руки в карманы мятых костюмных брюк. – Мы ничего о нем не знаем. Старинное мачете с рукояткой из черного дерева и окровавленные трусы не помогут решить эту загадку. Прошло уже три дня. Журналисты уже оборвали нам все телефоны. Личность жертвы не установлена. И местонахождение Йеспера Орре нам неизвестно. Мне даже стыдно, что мы собрали так мало информации. Как я теперь покажусь на глаза начальству?
– Завтра мы встречаемся с ревизором «Клотс и Мор». Они проводят внутреннее расследование деятельности директора. Ходят слухи, что он отпраздновал свое сорокалетие за счет компании. Посмотрим, что они нам сообщат.
Грегер Сэвстам выглядит усталым и озабоченным. Видно, что ответы Манфреда его не удовлетворяют.
– Даже если он растратил деньги компании, это не значит, что он убийца. Может, займемся чем-то более полезным? Например, попросим помощи у прессы? Сделаем нестандартный ход?
– Но мы уже сообщили прессе, что в его доме найден труп женщины и что сам он в бегах, – возражает Манфред.
Грегер Сэвстам только отмахивается.
– Я знаю. Я не это имел в виду. Может, опубликуем фото жертвы, чтобы ее опознали?
– В таком виде? Обычно мы так не делаем, – колеблется Манфред.
– Мне плевать, что мы обычно делаем. Мы топчемся на месте. Мы не можем сидеть тут, ковыряться в носу и гадать, что он делал с использованным женским бельем.
– Можно сделать реконструкцию лица, рисунок, – предложила Санчес. – Это лучше, чем печатать отрубленную голову.
Грегер устало смотрит на нее:
– Это лучшая идея из тех, что я от тебя слышал за долгое время, Санчес. Займись этим.
Я сижу в кожаном кресле перед камином и читаю старый протокол дела об убийстве Кальдерона. Огонь потрескивает в камине. На мраморном журнальном столике рядом горит свеча. Странно видеть свои собственные высказывания и выводы. Столько лет прошло. А моя жизнь практически не изменилась. Я живу в той же квартире с тем же мужчиной. Единственное изменение в моей жизни – это собака.
Я смотрю на Фриду, свернувшуюся клубком у моих ног. Она спит и дёргает во сне ногами, словно ей снится сон про охоту и погоню. Я возвращаюсь к протоколу. Помню, что мы долго обсуждали, зачем убийце понадобилось подклеивать глаза жертве. Я закрываю глаза, наслаждаюсь теплом от камина, думаю. Зачем преступник подклеивает глаза трупу? А именно это нам сказали криминалисты. Причем пост мортем – после наступления смерти. Они это выяснили по пятнам крови под скотчем. Убийца поставил голову жертвы лицом к входной двери и подклеил глаза так, чтобы голова смотрела на входящих в квартиру. Зачем? Может, убийца знал, кто найдет Кальдерона? Может, это было послание? Или он просто хотел унизить жертву, как это делали кельты, привязывая головы врагов к седлу и везя домой в качестве трофеев? Из прихожей доносится лязг ключа в скважине. Фрида замирает, вздрагивает, вскакивает и мчится в прихожую, виляя хвостом от радости. Надо спрятать протокол, чтобы не злить Уве. Он придет в ярость, если найдет его, но у меня нет сил. Я так и сижу с протоколом в руках. Муж стоит в дверном проеме. Серые волосы растрепаны. Лицо красное от холода. Бордовый пуловер обтягивает живот. По нему видно, что он раздражен. У мужа бывают такие дни, когда он возвращается с работы в дурном настроении. Обычно это бывает после того, как он поругается с кем-то на работе. Сначала он молчит, но постепенно начинает изливать свое раздражение на меня. И всегда виноват или некомпетентный коллега, или невежливый пациент.
– Привет, – говорит он.
– Привет.
Он продолжает стоять в дверях, переминаясь с ноги на ногу, словно не зная, что ему делать.
– Как прошел день?
– Хорошо. А твой?
Он пожимает плечами.
– Как сказать. Начальство нанимает не самых умных сотрудников. И меня уже достало обучать всех этих иностранных врачей, которые не могут отличить шизофрению от биполярного расстройства и не способны даже заполнить больничный журнал, потому что плохо говорят по-шведски.
– Я понимаю.
Он что-то ворчит, но я не могу разобрать. Иногда Уве издает такие звуки, но я так и не научилась их распознавать, несмотря на то что мы столько лет вместе. Наверно, подобные звуки издают младенцы, когда еще не умеют говорить, и родители инстинктивно угадывают, что им в данный момент нужно.
– Кстати, ты купила вино на завтра?
– Нет, я… я была занята другим…
Я умолкаю. Я не забыла купить вина. Просто у меня было много дел. В полиции. Но я не хочу ему говорить.
Уве вздыхает, поворачивается, чтобы уйти, но замирает.
– А что ты читаешь?
Я накрываю бумаги руками, но слишком поздно. Уве уже успел заметить мое замешательство и инстинктивную попытку скрыть от него документы.
– Ничего особенного, – отвечаю я, но он уже подходит ко мне. Я смотрю на его силуэт в отблесках огня в камине. Муж нагибается и разводит мои руки.
– Что это, черт возьми, такое?
Мне в ноздри бьет его запах, кислый запах табака, пота и еще чего-то, что напоминает запах вареной капусты.
– Это полицейский протокол.
– Это я и сам прекрасно вижу, – говорит он уже на повышенных тонах. – Я спрашиваю, что он делает здесь, у нас дома? Ты же сказала, что больше не будешь работать на полицию?
– Я ничего такого не говорила. Это твои слова. Он хватает бумаги и швыряет через всю комнату.
Краем глаза я вижу, как Фрида поджимает хвост и бежит в прихожую.
– Черт возьми, Ханне. Мы уже это обсуждали и решили, что это плохая идея. Ты не в том состоянии, чтобы работать. И тем не менее связалась с ними за моей спиной. Как ты могла?
И когда он это произносит таким тоном и при этом возвышается надо мной, что-то внутри меня трескается. Трещины стремительно растут и ширятся, и вот уже весь дом рушится и оседает. Ощущение такое, словно внутри меня происходят тысячи взрывов, и весь гнев, который копился внутри столько лет, вырывается наружу. Я вскакиваю и набрасываюсь на него с кулаками. Я молочу его сжатыми кулаками, правда, без особого результата. Я не целюсь, слепо бью, изливая свое отчаяние, выражая то, что не могу выразить словами. Мой приступ агрессии его явно обескураживает.
– Придурок, – кричу я. – Ничего такого мы не решали. Это ты сказал, что я не могу работать. Ты всё за меня решил. Как обычно. Ты, ты, ты. И мне надоело, что ты все время говоришь, что мне нужно делать. Муж ловит мои руки и крепко сжимает их.
– Успокойся. Ты совсем из ума выжила. Это тоже признак болезни, понимаешь? Приступы агрессии, подавленное настроение. Это все болезнь.
Для меня не новость, что Уве списывает поведение на болезнь. Он уже не раз предлагал мне начать принимать антидепрессивные препараты. Но эти лекарства меня пугают еще больше, чем сама болезнь.
– Хватит валить все на болезнь. Болезнь тут ни при чем. Дело в тебе. Я устала от тебя и твоего постоянного контроля!
Я замолкаю. В комнате сразу становится тихо. Слышен только треск поленьев в камине и мое напряженное дыхание. Рукам больно от его железной хватки.
– Отпусти меня! – кричу я.
Он повинуется. Я собираю бумаги с пола и выбегаю из комнаты.
– Ханне, милая, что случилось?
– Я его бросила, – говорю я, опуская тяжелую сумку на пол перед дверью.
– Боже мой, входи же.
Гунилла помогает мне затащить сумку в квартиру.
– Боже милостивый, что у тебя в сумке?
– Береги спину. Это книги. О Гренландии. Я взяла только самое важное.
Гунилла качает головой.
Фрида вбегает вперед меня в прихожую Гуниллы. Я захожу за ней, сбиваю снег с ботинок, снимаю куртку и вешаю на один из разноцветных крючков на стене. В гостиной я опускаюсь на белый диван Гуниллы.
– Рассказывай! – приказывает она. Я рассказываю. О встрече с полицейскими, о Петере, о деле десятилетней давности, которое снова стало актуальным, о том, как я мечтаю потратить свои последние годы на то, что мне по-настоящему важно. Будет жаль не использовать все те знания и опыт, которые я собрала за годы работы. Я рассказываю об Уве, о его попытках все время меня контролировать, об его эгоизме и о его запахе, который меня страшно бесит. О том, что я столько времени сдерживалась и что теперь вся эта злость вырвалась наружу и стремительно распространилась, как лесной пожар, и выжгла все подчистую, оставив после себя полное опустошение. И что у меня больше нет сил тянуть эту лямку.
– Тогда ты правильно сделала, что бросила его, – говорит она, дослушав мой монолог.
Вопрос, который я ждала, она задает позже, после того как мы выпили по паре бокалов вина и доели сыр, который был у Гуниллы в холодильнике.
– Но разумно ли бросать его сейчас, когда ты не знаешь, в каком состоянии будешь через месяц или через год?
Возникает пауза. Я поднимаю глаза и отвечаю:
– Разумно. Я не хочу провести то немногое время, которое мне осталось, с ним.
На следующее утро меня будит яркий солнечный свет. Впервые за много недель показалось солнце. Все окно в мокрых разводах от тающего снега. Я воспринимаю это как знак. Я чувствую себя легкой и невесомой. Чувство свободы – как наркотик, оно несет меня, как серфингиста волна, оставляя все проблемы и горести позади.
Все будет хорошо, думаю я и тянусь за книгой Луи-Жака Доре о языке и культуре инуитов. Рассеянно листаю книгу, слушаю, как подтаявший снег падает с крыши и глухо приземляется на карниз. Это миф, что у инуитов много названий для снега. Это все придумали западные европейцы, которые романтизировали отношение примитивных народов к природе. У инуитов не больше слов для снега, чем в других «северных» языках. К тому же не существует единого языка инуитов. В арктических частях Аляски, Канады, Сибири и Гренландии говорят на множестве языков и диалектов.
Но у людей есть потребность все упрощать, так им проще воспринимать действительность. Тем же самым мы занимаемся и в полиции. Упрощаем, пытаемся понять, ищем связи и закономерности в запутанных материалах дела. И совершаем одни и те же ошибки. Приписываем людям несвойственные им черты, подгоняем действия под привычные нам модели поведения только потому, что это вписывается в наши рамки мировосприятия.
Я снова думаю об убийстве Кальдерона десятилетней давности. Что мы тогда упустили? Как наши предубеждения помешали нам разглядеть истину?
Робкий стук в дверь прерывает ход моих мыслей.
– Завтрак? – спрашивает Гунилла.
– С огромным удовольствием. Я умираю с голоду, – искренне отвечаю я. Впервые за несколько месяцев я испытываю настоящий голод.
Эмма
Месяцем ранее
Я еду на работу на метро и пытаюсь свыкнуться с мыслью о беременности. Ребенок Йеспера, наш ребенок, у меня в утробе. Глубоко внутри в темноте прячется маленький головастик и ждет, когда превратится в человека. Это просто уму непостижимо.
Я никак не могу поверить, что беременна и что речь идет теперь не только обо мне и Йеспере. Теперь мне придется решать, оставить ребенка или нет. И это означает, что нельзя будет просто так забыть отношения с Йеспером и идти дальше. Он имеет право знать, что у него будет ребенок. Даже последний негодяй и подлец имеет на это право.
Мне нужно его отыскать и рассказать, что я беременна. Придя на работу, я нахожу Манур и Ольгу в подсобке. Они пьют кофе. Бьёрне не видно, магазин открывается только через двадцать минут, – лучшее время для завтрака.
– Кофе? – спрашивает Манур.
– С удовольствием.
Я стягиваю куртку и сажусь за стол. Манур осторожно ставит передо мной горячую чашку. Когда она наклоняется, волосы закрывают лицо, как занавес. У нее такие красивые волосы. Им можно позавидовать.
– Где Бьёрне? – интересуюсь я.
– Понятия не имею, – отвечает Ольга. – Наверно, опаздывает.
– Опаздывает? Он никогда не опаздывает. Может, заболел? – предполагаю я.
– Что-то я сомневаюсь, – бормочет Манур. – У него не было ни одного отгула за шесть месяцев.
Становится тихо. Я пью горячий кофе и пытаюсь прогнать прочь тошноту. Стараюсь не думать о незваном госте у меня внутри.
– А у Эммы десять дней по болезни в этом месяце, – строго говорит Ольга и смотрит на Манур. В ее голосе нет ни сочувствия, ни раздражения, она просто констатирует факты. Таким же голосом она могла бы сообщать покупателю цену трусов, которые ему приглянулись.
– Ничего страшного, – говорит Манур и легко касается моей руки.
– Ничего страшного? Её могут уволить, – возражает Ольга.
– Я болела, – отвечаю я.
– Им на это наплевать, – продолжает Ольга, как будто я сама этого не знаю. Вид у нее такой, словно она говорит что-то само собой разумеющееся неразумному ребенку. Ногти, которыми она постукивает по крышке стола, словно живут собственной жизнью. Они такие длинные, что ими можно пользоваться как холодным оружием.
– Работу нужно бояться. И даже если болеешь, все равно выходить. Прикладывать усилия, – произносит Ольга, выделяя тоном каждое слово.
– Ты хочешь сказать «бояться потерять»? – поправляет Манур, но Ольга ее не слушает.
– Нужно во всем прикладывать усилия. Порой приходится делать вещи, которые тебе не нравятся, ради спокойствия в доме. Например, чтобы Алекс был в хорошем настроении, я первым делом по возвращении с работы делаю ему минет.
– Разве эти вещи можно сравнивать? – возражает Манур.
– По моему мнению, нужно прикладывать усилия – и дома, и на работе.
Манур ее слова явно разозлили. Она поднимается, резко ставит кружку в раковину, расплескивая кофе.
– Ты совсем из ума выжила? Тут тебе не Россия, – заявляет она и выходит из комнаты, оставив после себя шлейф душного парфюма.
– Что это она так завелась? – недоумевает Ольга.
– Не знаю.
– Может, потому что она мусульманка?
– Может.
Мы обдумываем реакцию коллеги. Звонит телефон. Манур успевает первой взять трубку. Видимо, она была рядом с кассой.
– Будешь просить прощения? – спрашиваю я.
– Прощения? С какой стати? Это она неправая.
– Не права, – поправляю я.
– Не важно. Она считает себя лучше других, потому что учится в университете.
Ольга сжимает губы и скрещивает руки на груди. Шаги за дверью. Это Манур. По ее виду я понимаю: что-то случилось.
– Это Бьёрне, – выдыхает она. – Он попал под автобус. Он жив, но проведет в больнице не меньше месяца.
Мы с Ольгой молчим. Мы ненавидим Бьёрне, но зла ему не желаем. При мысли о его тощем теле под колесами автобуса меня снова тошнит.
– Бедный Бьёрне, – шепчет Ольга.
– Да, бедный, – повторяет Манур.
– И что теперь? – спрашиваю я.
– Мы отвечаем за магазин, – говорит Манур и выпрямляет спину. – Они попросили меня быть за главную до его возвращения.
Я гадаю, действительно ли ее назначили главной или просто она первой ответила на телефон и вызвалась сама заменить Бьёрне.
– И еще кое-что, – добавляет Манур, – журналисты опять пасут нашего дорогого начальника. Если они будут звонить, нам нельзя с ними общаться. Отвечать, чтобы обращались в главный офис.
– Плохой мальчик опять нашалил? – ухмыляется Ольга.
Манур пожимает плечами:
– Понятия не имею.
Ольга не сдается:
– Твоя подружка в отделе персонала. Ты же говорила, что она его проверяет.
– В финансовом отделе. Да, они проверяют информацию о том, что он устроил свой день рождения за счет компании. Но мне она ничего не рассказывает.
Мой ланч состоит из салата в пластиковой коробке. Креветки такие безвкусные и мелкие, что трудно представить, что они когда-то плавали в море. Больше похоже, что их сделали из муки и бульонного кубика.
Я сижу за компьютером в комнате для персонала. Слева дверь в чулан. Стол завален журналами и пластиковыми мисками. Еще одна миска с креветками на дне стоит в раковине.
Я вытираю руки салфеткой, подвигаю клавиатуру и гуглю Йеспера Орре. Первая статья в результатах поиска: «Йеспер Орре обвиняется в сексуальных домогательствах». Я открываю статью. Женщина, которая несколько лет «работала с Йеспером», обвиняет его в приставаниях. В статье не написано, кто она и где работает, но, судя по всему, она из главного офиса. Может, секретарша, может, маркетолог. Йеспер и компания не комментируют обвинения, но «надежные источники информации» сообщают, что в компании проводится внутреннее расследование. Я обдумываю прочитанное. Почему-то статья выводит меня из себя. Йеспер часто рассказывал, как ему приходится нелегко. Что все люди в его окружении делятся на две группы. Первую он называл люди-да. Они старались быть ближе к нему. Вторую – люди-нет. Они все время ставили ему палки в колеса. Иногда люди-да превращались в людей-нет, когда не получали от него того, чего хотели. Полагаю, женщина принадлежала ко второй группе. Йеспер – желанная добыча. Обвинение в сексуальных домогательствах – прекрасный способ отомстить за обиды и привлечь к себе внимание. Йеспер был прав. Быть наверху трудно и одиноко. Никому нельзя доверять. Но что, если я ошибаюсь? Что, если я знаю его не так хорошо, как мне кажется?
Я смотрю на текст на экране. Мое внимание привлекает имя в самом низу. Андерс Йонссон. Почему оно кажется мне знакомым? Где я могла его слышать? И тут меня осеняет. Это тот самый журналист, который приходил в магазин и хотел расспросить меня об условиях труда. У меня осталась его визитка. Она лежит в хлебной банке вместе со счетами.
Манур входит в комнату и садится напротив.
– Что ты делаешь? – спрашивает она. Я быстро закрываю браузер.
– Ничего особенного. Интернет дома не работает. Она кивает.
– Все в порядке? – спрашиваю я. – Ты сильно разозлилась на Ольгу.
Манур вздыхает и закатывает глаза.
– У Ольги такие старомодные представления о женщинах. Они меня жутко бесят. Иногда кажется, что она приехала сюда прямо из девятнадцатого века. Согласна?
Я задумываюсь. Ольга необычная, это правда. Я раньше не обращала внимания на ее взгляды о роли женщины. Но она довольно бесчувственная. Некоторые ее замечания больнее пощечин.
– Я об этом не задумывалась, – признаюсь я.
– А я да.
– Можно мне уйти пораньше сегодня? – спрашиваю я.
Она внимательно смотрит на меня, закидывает ногу на ногу.
– Конечно. Иди. Все равно мне надо закрывать магазин, поскольку я теперь ответственная и все такое.
При этих словах она забавно морщится.
– Спасибо большое, – благодарю я. – Мне нужно по делам.
Перед закрытием я вижу через стекло витрины полную женщину в пальто на размер меньше, с высветленными волосами и невольно думаю о маме. Вспоминаю, как мы с ней лежали в кровати. Эти моменты нежности и любви были столь редкими и потому драгоценными и случались, только когда мама и папа были очень усталыми. Мама гладила меня по волосам. Выражение лица у нее было озабоченное.
– Моя милая Эмма.
Я ничего не ответила, только зажмурилась и наслаждалась ощущением тепла и заботы.
– Прости меня за то, что я иногда бываю в дурном настроении, – внезапно произнесла она.
Я открыла глаза и встретила ее взгляд. В ее глазах была боль, как бывало, когда у нее болел живот. От этой боли она принимала маленькие белые таблетки, которые держала в шкафу.
– Ничего страшного, – ответила я. Она расслабилась.
– Просто… это все от стресса… Я так устала. И иногда теряю контроль.
Значит, можно потерять контроль так же, как можно потерять ключ или кошелек. Но если что-то можно потерять, то его можно и найти? Но этого я не стала говорить. Не хотела портить этот драгоценный момент. Потому что только от моего хорошего поведения зависело, как долго он продлится.
– Все хорошо.
– Нет, милая, я знаю, что это не так. Я хочу, чтобы ты знала. Это неправильно, что я так злюсь. Мне следовало бы лучше себя контролировать. В конце концов, я взрослый человек.
Она говорила надрывным от слез голосом, и меньше всего мне хотелось, чтобы она расплакалась. Я готова была на все, лишь бы только она не расплакалась. Потому что если она начнет рыдать, то уже не сможет остановиться, и тогда ее день будет испорчен, и виновата в этом буду только я.
– Ты не злая, ты добрая.
– Мамина девочка, – пробормотала она и поцеловала меня в губы.
Ее дыхание пахло кофе и кислым молоком, но я не отстранилась, а наоборот, старалась не двигаться. Пусть целует сколько хочет. Но нас прерывает звонок телефона.
– Я сейчас приду, – бормочет она, поднимается, накидывает розовый халат. За окном светит солнце. Соседские дети идут в школу. Я сама кашляла уже несколько дней, и в школу мама меня не пускала, что страшно раздражало папу. Он считал, что небольшой кашель не повод прогуливать школу. Тем более что температуры у меня не было.
Я наслаждалась временем дома с мамой. Я редко видела ее такой веселой и довольной. По вечерам она обычно пила пиво с папой и утром была усталой и в дурном настроении, только днем с ней можно нормально общаться.
– Нет, у нас нет домашних животных, а что?
Я слышала, как мама говорит по телефону в прихожей. В ее голосе были резкие нотки, как всегда, когда ее что-то раздражало. Такой голос у нее был по вечерам как раз перед тем, как она теряла контроль над собой и начинала швырять тарелки и банки в папу.
– Я не понимаю. Что значит не общается с другими детьми? У моей дочери нет никаких проблем с другими детьми. У нее куча друзей в нашем квартале.
Мама сделала паузу.
– Я так не думаю. Я ее расспрошу, но мне кажется, что в школе у нее тоже друзья есть.
Я встала, чтобы закрыть дверь. Грудь сдавило так, что я не могла ни дышать, ни кашлять.
– Особенная девочка? Что за вздор. И чем ей могут помочь животные? Как по мне, так это полная ерунда. Лошадь или собачка не избавят ее от застенчивости. И да, я считаю, что дело именно в этом. Она просто застенчивая.
Я закрыла дверь и вернулась в постель.
За окном вовсю зеленеет лето. Деревья и кусты переливаются разными оттенками зеленого. В клумбах распустились цветы. Кусты шиповника тоже в цвету. Их сиреневые розы скоро превратятся в твердые оранжевые плоды, наполненные семенами.
Я легла на кровать и стала ждать, когда мама закончит разговор, вернется в постель и снова будет доброй и милой. Я надеялась, что мы еще немного полежим вместе. Грудь продолжало сдавливать, как будто меня туго обмотали скакалкой – много-много раз.
Внезапно я что-то увидела рядом с кроватью. Какое-то движение. Я осторожно подняла стеклянную банку. На одной из голых веточек сидела большая синяя бабочка. У нее было черное круглое тельце, покрытое пушком. А крылышки – интенсивного кобальтово-синего цвета с черными узорами по краям. Бабочка грациозно поднимала и опускала крылья, словно разминаясь после долгого сидения в куколке.
Уже стемнело, когда я иду с площади Сергельсторг в сторону Хамнгатан. Зонтик почти не спасает от косого дождя и сильного ветра. На улицах пусто. Редкие прохожие спешат укрыться от непогоды. Когда я подхожу к Рейерингсгатан, на часах пять. Огромный магазин H&M светится в темноте, как светятся паромы в Финляндию. Рекламные плакаты обещают целый новый мир по ту сторону витрины. Женщины с мокрыми от дождя волосами бесцельно бродят между полками, рассеянно щупают наряды. Я сворачиваю налево на Норрландсгатан, прохожу метров сто и вижу вход в главный офис «Клотс и Мор» на противоположной стороне улицы. Лампочка освещает деревянную дверь так, что кажется, что светится само дерево.
Я сворачиваю в ближайшую арку. Тут темно и сухо, и никто меня не увидит. Можно стоять и ждать. Вопрос только в том, смогу ли я различить в темноте, кто входит и выходит из офиса. Я надеваю варежки и готовлюсь к долгому ожиданию. Через пять минут дверь открывается, и выходят две девушки моего возраста. Они со смехом открывают зонтики и спешат прочь. Ветер выворачивает один зонтик наизнанку, что вызывает новый приступ смеха. Меня они не замечают. Снова меня посещает крамольная мысль о том, не схожу ли я с ума.
В такую погоду пришла сюда следить за Йеспером. Как сталкер. Если бы кто-нибудь сказал мне месяц назад, что я буду заниматься чем-то подобным, я бы рассмеялась и сочла его безумцем.
Но я просто не знаю, что еще мне предпринять. Мне нужно с ним поговорить. Мне так мало известно о Йеспере. Столько пробелов надо заполнить. Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Может, я вообще ничего о нем не знаю.
Проходит пара часов, дождь идет не переставая. Время от времени дверь напротив открывается, выходят люди и исчезают в темноте. В мою сторону никто не смотрит. Я стала невидимкой, превратилась в камень. Дождь проникает в мое укрытие вместе с ветром. Капли дождя стекают по голове, по затылку, по рукам. Я пританцовываю на месте, чтобы удержать тепло. Разминаю руки. Ровно в десять минут седьмого он выходит на улицу.
Я сразу понимаю, что это он. Ветер развевает расстегнутое черное пальто. Под ним костюм. Он стремительным шагом идет в сторону Хамнгатан. А я стою как парализованная и не могу двинуться с места. Тело меня не слушает, оно словно примерзло к мостовой.
Я не видела Йеспера всего пару недель, думаю я, а кажется, прошли месяцы. Все эти разговоры, эсэмэс, и вот он здесь, мужчина, которого я люблю, тень под дождем.
Наконец ко мне возвращается способность двигаться. Я выхожу из арки и бегу за ним. Дождь бьет мне в лицо, но времени открывать зонтик нет, не хочу упустить Йеспера из виду.
Он идет уверенной и грациозной походкой, словно танцуя под дождем. И внезапно исчезает, будто проваливается сквозь землю. Я ускоряю бег и вижу, что он спустился на парковку. Ну разумеется. Как я об этом не подумала? Конечно, он ездит на машине на работу. Что мне теперь делать? Я оглядываюсь по сторонам. Машин не видно. Ни такси, ни других. В двадцати метрах впереди открываются ворота. Фары освещают черный асфальт. У Йеспера черный «Лексус». Я вижу его силуэт в свете фонарей. И тут автомобиль выезжает с парковки и исчезает в темноте.
Я не замечаю дождя, не чувствую холода. Иду вниз в сторону Нюбруплан. До дома четверть часа быстрым шагом, но зачем спешить. Дома меня ничего не ждет. Делать мне дома совершенно нечего. В парке Кунгстрэд-горден безлюдно. Внезапно я испытываю искушение перейти улицу, войти в парк и лечь где-нибудь под деревом и лежать так на мокрой траве, забыв обо всем. Стать единым целым с растениями, с гравием, с мокрой осенней листвой. Исчезнуть. Забыться. Может быть, умереть.
А потом я думаю о Спике. Мне сложно не думать о нем в такие моменты. На первый взгляд он был обычным парнем. Темные волосы средней длины, потертые мешковатые джинсы, клетчатые рубашки. Он был намного старше меня. Ему было лет двадцать пять, не меньше.
В тот год в школе много о нем шептались. Девочкам нравилось его обсуждать. Я же была изгоем. Я не участвовала в жизни класса, только наблюдала со стороны. Может, я была застенчивой, может, меня просто не интересовали другие дети. Может, я плохо помню то время.
В ту осень на уроках труда мы занимались изготовлением ножей, мисок и прочей ерунды, которую можно было подарить семье и друзьям. У меня никак не выходил нож для резки масла. Сперва он вышел слишком большим и неудобным. Потом я попыталась его уменьшить, но в итоге он превратился в барабанную палочку.
– Осторожно, а то от него вообще ничего не останется, – сказал Спик и подмигнул мне.
Я не нашлась что ответить и густо покраснела.
«Ты находишь его симпатичным?» – спросила Элин в тот же день. «Я не знаю», – ответила я честно, потому что никогда не рассматривала его как парня. Он был просто одним из учителей, просто моложе и забавнее других. Но все равно взрослым. Старым.
– Я могу тебе помочь попозже, – предложил Спик, сметая стружки с доски на пол. Я чувствовала на себе его взгляд, но не осмелилась поднять глаза и только кивнула.
Весной в тот год у папы случился этот срыв. Он погрузился в темноту, из которой сам не мог выбраться. Ему стало страшно выходить на улицу. Он все время проводил взаперти в квартире на Капельгрэнд. Папа был беспомощен перед лицом страшной болезни под названием депрессия.
За окном просыпалась к жизни весна, а папа лежал в кровати и разглядывал обои, словно ища в них ответы на все вопросы.
Мама пыталась с ним поговорить. Они вели длинные разговоры полушепотом в спальне. Я хотела подслушать, но не смогла. Но уже одного шепота достаточно было для того, чтобы понять, что это что-то нехорошее.
Пивные банки и винные бутылки пропали из кухни. Теперь по возвращении из школы мне случалось видеть маму за готовкой. Она делала тефтели и запекала сосиски с томатами и луком под сыром. Я не привыкла видеть ее такой и сильно нервничала. Часто ее попытки заняться домашним хозяйством заканчивались катастрофой.
Например, когда она пыталась подшить шторы. Концы получились асимметричными, и в ярости она порвала шторы на лоскуты и выкинула в окно. Эти лоскутья потом висели на кустах несколько месяцев, напоминая о взрывном характере мамы. Швейную машинку она швырнула в папу, от чего у него долго не проходил темный синяк на плече.
Я посмотрела на нож и вздохнула.
– Что случилось? – спросила Элин.
– Он уродливый.
Элин ничего не сказала. Она вернулась к работе над деревянной шкатулкой. Все, за что Элин ни бралась, у нее получалось. У нее были золотые руки. Стоило им прикоснуться к железу, дереву или ткани, как они волшебным образом знали, что нужно делать. Мои же руки меня никогда не слушались. Они портили и ломали все, к чему прикасались. По крайней мере мне так казалось.
Элин осторожно провела наждачной бумагой по и так безупречной крышке, убирая невидимые глазу неровности, и одновременно надула пузырь из жевательной резинки «Хубба Бубба». Мари, сидевшая перед нами, повернулась к Элин.
– Ты пойдешь на вечеринку к Микке?
Элин пожала плечами.
– Еще не решила. У Петры тоже вечеринка. В тот же день.
– Петра чудная.
Элин улыбнулась.
– А Микке жалкий.
Мари рассмеялась. Видимо, в пятницу им будет из чего выбрать. Она поправила длинные волосы и вернулась к работе. Я молча разглядывала свой нож. Меня никогда никто не спрашивал, пойду ли я на вечеринку. Хорошо еще, что надо мной в школе не издевались. Все были ко мне добры. Если замечали. Потому что по большей части я для них не существовала. Для одноклассниц я была просто еще одним предметом мебели в комнате.
Я не знала, как к этому относиться. Наверно, мне стоило бы расстраиваться, чувствовать себя изгоем, ненавидеть их. Но, по правде говоря, я была рада возможности не участвовать во всем этом спектакле. Я не испытывала никакого желания идти на вечеринку к Микке, напиваться и блевать в клумбу и потом заснуть на коврике в ванной. И мне было неинтересно слушать вечные жалобы Мари на ее парня или тусоваться с Элин у киоска. Я предпочитала смотреть телик дома. Раздался звонок.
Ученики начали выходить из класса. Спик махнул мне задержаться.
– Ты все время молчишь, – начал он.
Я не знала, что ответить. Вспотевшая рука судорожно сжимала нож для масла, щеки горели.
– Ты милая, ты это знаешь?
Спик выдвинул стул и присел рядом со мной. Нагнулся так, что наши лица оказались совсем близко.
– Спасибо, – пробормотала я и осмелилась поднять глаза на учителя. У него были добрые карие глаза и длинные черные ресницы. В густых черных волосах серебрились седые пряди, напоминая о засохших деревьях в густом зеленом лесу.
– Прости, я не хочу показаться невежливым, но можно задать тебе вопрос?
Он замолчал, криво улыбнулся и медленно покачал головой, словно стеснялся чего-то. В коридоре стихли крики и смех и воцарилась тишина.
– Да?
Он зажмурился.
– У тебя есть парень, Эмма?
Запах еды и табачного дыма на лестничной клетке оказывает на меня успокаивающий эффект. Я смотрю на свои руки. Они мокрые и бледные, но хотя бы не трясутся. Где-то далеко Йеспер Орре припарковал свой огромный черный «Лексус» и идет к себе домой. Я стараюсь не думать об этом, но мысль о том, что он сидит дома на диване с бокалом в руке, сводит меня с ума.
Мокрые ботинки оставляют следы на ступеньках. Йеспер что-то от меня скрывал. Мы встречались только у меня дома или в его городской квартире. Почему? Почему он так заботился о том, чтобы нас не увидели вместе? Дело тут не только в работе. Или?..
Я стою перед дверью и ловлю ртом воздух. Пять пролетов дались мне нелегко. Но я немного согрелась.
Вставляю ключ в скважину и сразу понимаю: что-то не так. Дверь не заперта. Я открываю ее и слышу хлопок внутри квартиры. Я всегда запираю дверь. И ни у кого нет ключа от моей квартиры, даже у Йеспера. Я оглядываюсь по сторонам. На лестничной клетке темно и тихо. Что, если кто-то прячется в квартире и ждет меня? Внутри все сжимается от страха. Я заглядываю в квартиру. В прихожей пусто. Я протягиваю руку, нащупываю выключатель. Загорается свет, я захожу внутрь.
Все на своих местах, но я чувствую, что что-то не так. В квартире сквозняк. Холодный ветер бьет по ногам. Я закрываю входную дверь, и воцаряется тишина. В квартире холодно, очень холодно. Где-то открыто окно. Не снимая обуви, я прохожу в гостиную и зажигаю свет. Все выглядит как обычно. Зеленые кресла работы Мальмстена, письменный стол с разложенными учебниками по физике. Учебу я совсем забросила. На секунду я задумываюсь, не засунуть ли учебники тоже в банку, чтобы они не мозолили мне глаза.
Я иду в кухню, откуда явственно слышен шум дождя на улице. Я зажигаю свет и замираю. Окно в кухне открыто. Я его очень редко открываю, но сейчас оно открыто нараспашку. Я подхожу к окну, чтобы закрыть его, и тут меня осеняет. Сигге. Я начинаю звать кота. Ищу его по всей квартире. Под кроватью, под диваном, в шкафу, на полке, в ванной. Но его нигде нет. И обычно он не прячется. Он мог только выпасть из окна.
Я возвращаюсь в кухню, припоминаю, закрыла ли я дверь, когда уходила на работу, но не могу ничего припомнить. Память словно отшибло. Утро кажется таким далеким. Я высовываюсь из окна, зову Сигге. Дождь хлещет мне по шее. Внизу черный прямоугольник двора. Кусты и деревья трепещут на ветру. Кота не видно. Я бегу обратно в прихожую, слетаю по лестнице и выбегаю во двор.
В ноздри мне ударяет запах земли и прелой листвы. Я иду по гравию под окно, поднимаю лицо кверху. Сквозь дождь вижу открытое окно в кухне. Не меньше десяти метров. Можно ли выжить, упав с такой высоты? На земле ничего нет. Опускаюсь на корточки. У стены, куда не попадал дождь, виднеется темное пятно. Я трогаю его пальцами, подношу их к свету. Это кровь. Кровавые следы ведут вдоль стены. Иду по ним, но дальше следы смыл дождь. Вижу щель в заборе, куда мог пролезть кот. Заглядываю туда, но вижу только улицу Вальхалавэген и снующие по ней машины.
Петер
Последние дни выдались ужасными. Во-первых, расследование зашло в тупик. Во-вторых, участие Ханне в собраниях вызывает у меня стресс. Она просто сидит и молчит. И из-за этого я нервничаю. Я понимаю, что роль консультанта – наблюдать за ходом дела и давать комментарии, но все равно мне не по себе. Я вижу, каким взглядом она смотрит на меня.
Иногда у меня возникает ощущение, что она ждет от меня каких-то действий. Что я заговорю с ней, объяснюсь, расскажу, почему сделал то, что сделал. Но, может, это только мое воображение. Угрызения совести дают о себе знать.
Но такова жизнь. Она как нарыв на заднице, который не дает покоя, и единственный способ избавиться от боли, это покончить с собой. Но я пока к этому не готов.
Машина останавливается. Голос Моррисса затихает в динамиках.
– Ты что, дрыхнешь, Линдгрен?
Я виновато улыбаюсь Манфреду и выхожу из машины на парковку при магазине «NK».
– Прости.
– Ничего.
Мы выходим на Хамнгатан. Рождественская торговля в самом разгаре. Улица заполнена людьми. С крыш и карнизов капает вода. Снег растаял, только кое-где вдоль стен домов жмутся грязные сугробы. Ярко-синее небо, свежий холодный воздух, словно белье после стирки. Солнечные лучи проникли между высотками и бросают блики на асфальт. Я жмурюсь от солнца, ищу офис «Клотс и Мор».
Агнешка Линден встречает нас на рецепции. На вид ей лет сорок. Одета в темно-синий строгий костюм. Прическа – аккуратный паж. Тонкие светлые волосы, румяные щеки. Женщина вся светится здоровьем. При виде ее мне вспоминается учительница физкультуры в школе. Ее звали Сиркка. Она все время рассказывала нам о пользе холодного душа после утренней пробежки вместо завтрака.
– Добро пожаловать, – приветствует она, пожимает руку, задерживает взгляд на мне и показывает в сторону коридора, вдоль стен которого висят гигантские постеры с моделями. – Весенняя коллекция, – поясняет блондинка и заводит нас в небольшой кабинет, окна которого выходят на Рейерингсгатан.
Мы присаживаемся на черные стулья для посетителей напротив ее рабочего стола. Агнешка достает блокнот. Стол безупречно чистый. Все ручки аккуратно собраны в серую пластиковую подставку. Женщина сцепляет руки и улыбается.
– Чем я могу вам помочь? Речь идет о Йеспере, не так ли? Журналисты звонят непрерывно.
Манфред кивает:
– Мы расследуем убийство в доме Йеспера Орре. От ваших коллег мы узнали, что вы ведете внутреннее расследование в отношении директора. Не расскажете поподробнее?
– Разумеется. В июне Йеспер устроил праздник. Он решил отметить свой сорок пятый день рождения в компании избранных директоров магазинов и дистрибьютеров. Половину оплатил Йеспер, половину – компания. В сентябре к нам поступила анонимная жалоба на то, что Йеспер злоупотребил своим положением и отпраздновал день рождения за счет фирмы. Я выполняю обязанности ревизора. В мои задачи входит расследовать подобного рода случаи и докладывать руководству о результатах.
– И к каким выводам вы пришли?
– Вы можете ознакомиться с отчетом. Коротко могу сказать, что сочла логичным, что компания оплатила часть счета, поскольку большинство гостей были напрямую связаны с бизнесом.
– Так он не сделал ничего противозаконного? – уточнил Манфред.
Агнешка улыбнулась и провела рукой по чисто убранному столу.
– И да и нет. Было бы лучше, если бы он обсудил это с финансовым директором до праздника. К тому же он сам одобрил счет, что противоречит нашим правилам.
– И что сказало на это руководство? – поинтересовался Манфред.
– Не знаю. Я не участвую в их собраниях. Но я слышала, что они не обрадовались. О Йеспере ходит много слухов. Вы ведь читаете газеты? А тут еще такое. Думаю, его положение в компании крайне шаткое, но попрошу вас не передавать мои слова другим.
Манфред кивает.
– Значит, вы считаете, что положение Йеспера шаткое. Были ли другие неприятности?
Агнешка выпрямляет спину и со вздохом продолжает:
– Вы все равно об этом узнаете. Одна из менеджеров проекта в отделе маркетинга обвинила Йеспера в сексуальных домогательствах. Я не знаю подробностей, но слухи такие были.
– Не могли бы назвать ее имя?
– Конечно. Ее зовут Денис Шёхольм, она на больничном. Я могу дать вам ее телефон.
Когда мы выходим на улицу, солнце уже зашло за тучи и небо потемнело.
– Прости, – говорит Манфред – Я правда думал, что эта встреча будет полезной.
– Нам надо поговорить с этой Денис. Интересно, почему другие коллеги ее не упоминали?
Манфред пожал плечами и толкнул дверь на парковку. Он пропустил меня вперед, и я едва протиснулся в щель между дверной рамой и его крупным телом.
– Может, боялись? Орре их начальник, – предположил я.
Манфред что-то буркнул в ответ. Обратно в участок мы едем в машине молча. Движение плотное. Я замечаю, что Манфред странно на меня поглядывает, пока мы ползем в пробке. В глазах у него тревога. Я начинаю нервничать.
– Все в порядке? – спрашивает он.
– Конечно, – бормочу я. Он молча включает музыку.
Качество, которое я ценю в Манфреде, это то, что он не лезет в чужие дела (если это не касается работы). Он никогда не будет расспрашивать, если видит, что я не желаю говорить. В отличие от женщин, которые постоянно интересуются, о чем я думаю, и ответа «ни о чем особенном» им всегда мало. Даже Санчес такая, хотя, казалось бы, работает в полиции. Все время спрашивает, как я себя чувствую, хотя я всегда отвечаю «все в порядке».
Наверно, это какая-то генетическая особенность прекрасного пола.
По приезде в Полицейское управление я иду в переговорную читать дело Кальдерона. Протоколы допросов, отчеты криминалистов, анализ пятен крови, тканей, отпечатков подошв, снимки с места преступления. За окном темно. Снежный ветер бьет в стекло.
Мы не нашли ничего общего между жертвами. Но все равно нам мерещится невидимая связь между Кальдероном и неопознанной женщиной в доме Орре.
Я кладу фотографии головы Кальдерона и головы женщины рядом и вижу очевидное сходство. Не может быть, чтобы два разных преступника совершили такие похожие убийства. Это было бы просто невероятно.
Стук в дверь вырывает меня из размышлений. Это Ханне.
– Ой, извини, – говорит она при виде меня.
Из вежливости или сочувствия (она похожа на грустную собаку) приглашаю ее войти. Она входит, закрывает дверь и садится напротив.
– Чем ты занят? – спрашивает она.
Я смотрю на бумаги, разложенные передо мной на столе. Фотографии трупов, многословные отчеты, содержащие больше вопросов, чем ответов.
– Читаю протокол.
– Вот как.
Вид у нее растерянный. Она подносит руки к волосам, словно проверяя, не растрепалась ли укладка (ни о какой укладке и речи нет. Густые каштановые волосы с проседью торчат во все стороны, напоминая мне колючее растение, которым поросли скалы в шхерах).
– Я подумала… – начинает она.
– Да?
– Что нам надо поговорить. Раз уж мы будем работать вместе и все такое.
– Хорошо. О чем?
Наши взгляды встречаются. Я вижу грусть в ее красивых серых глазах, которые я так хорошо помню. И знаю, что снова могу причинить ей боль, хоть и помимо своей воли.
– Слушай, прости, – говорю я. – Я не то сказал. Разумеется, мы можем поговорить.
Она делает глубокий вдох, кладет руки на колени.
– Ты настоящий козел, Петер, ты в курсе? Я киваю.
– Я не хотел причинить тебе боль, Ханне. Поверь мне. Ты последний человек на земле, которому я мог бы желать зла.
– Но тем не менее причинил. И продолжаешь причинять, притворяясь, что ничего не произошло. Ты это понимаешь?
Я прячу глаза. Изучаю крышку стола и пытаюсь привести мысли в порядок. Но это нелегко. В голове сплошной туман. Нужно ей как-то объяснить, но язык меня не слушается. Всегда хочу сказать одно, а с языка срывается совсем другое.
– Это сложно объяснить…Я думал, что поступаю так, как будет лучше для тебя, – говорю я и тут же жалею. Какие идиотские слова. Какое жалкое объяснение для женщины, которую подло бросили, пообещав новую жизнь. Но Ханне никак не реагирует, смотрит на сумерки и снежный дождь за окном.
Мне хочется коснуться ее лица, погладить по щеке, по растрепанным волосам. Желание такое сильное, что мне едва удается сдержаться и не встать со стула. Я начинаю ерзать на неудобном стуле.
– Ты когда-нибудь жалеешь об этом? – спрашивает она едва слышным голосом.
– Каждый день, – отвечаю я не задумываясь и понимаю, что это правда.
После ухода Ханне я остаюсь в комнате один. Вспоминаю о том, как все это началось, как я впервые предал близкого человека. Долго думать не надо. Это была Анника. Моя сестра.
В то лето в Рённшере. Лето, которое начиналось как обычно, но закончилось катастрофой, навсегда изменившей мою жизнь и жизнь моих родителей.
Я спускался к мосткам в нашем летнем доме неподалеку от Даларэ. Собирался искать сокровища на скалах.
В руке у меня был зажат значок VPK (левая коммунистическая партия), который я нашел у дома. Я надеялся, что соседские дети тоже гуляют на берегу. Интересно, захотят ли они поиграть в Баадер-Мейнхоф[4]. Волны бились о скалы, морской ветер трепал волосы, голые руки покрылись мурашками. Мои ноздри уловили слабый запах табачного дыма. Помню, что я удивился. Папа был дома. И в это мгновение увидел ее – мою сестру Аннику, на три года старше меня. Она сидела на камнях в купальнике и курила.
Курила.
Она сидела, вытянув одну ногу вперед и согнув другую. В руке у нее была сигарета. Ее загорелая кожа блестела на солнце. Светлые волосы собраны в узел. Острые грудки натягивали ткань минимального бикини. Она заметила меня, и с губ у нее сорвался стон. Не вздох, а именно стон.
Я замер. Я прекрасно понимал, что это означает. Динамит. Анника тайком курит на скалах. Эта тайна будет ей стоить дорого. Нужно только придумать, что потребовать в обмен за молчание. Или, может, лучше использовать ее, чтобы отомстить за прошлые обиды? Что лучше выбрать?
Я помню выражение ее глаз, несмотря на приличное расстояние между нами. В них был страх.
– Не говори никому.
Ее голос было почти не слышно. Сестра сохраняла спокойствие, но я видел, что она в панике. Впервые я обладал над ней безграничной властью. Восхитительное чувство.
Сестра вскочила, накинула полотенце на плечи. Я подошел ближе. Теперь можно было различить мурашки у нее на коже и соски, торчащие под крошечным бикини.
– Не говори никому, – повторила она. – Это будет наша тайна. О’кей? Нельзя никому раскрывать тайны, понимаешь?
Но я только улыбался. Все, что я мог, это улыбаться во весь рот. Я чувствовал себя сильным и могущественным. У меня была власть. Власть опьяняла. Я чувствовал, что способен на все, что угодно. И хотя я не собирался этого делать, ноги сами понесли меня обратно в дом. Сперва спокойно, потом все быстрее. Анника бросилась вдогонку, даже не вынув сигарету изо рта. Я слышал ее голос за спиной:
– Чертов мальчишка, вернись.
Но я уже бежал во всю мочь. И если я что-то и умел, так это быстро бегать. Я не бежал, я летел, перепрыгивая через камни. Даже босые ступни не замедляли мой бег, несмотря на все шишки и сучки на пути.
Анника начала задыхаться. У нее нет никаких шансов, подумал я.
Я не собирался сообщать родителям, но, подбежав к дому, увидел маму на веранде. Оперевшись на перила, она смотрела на море и о чем-то думала. При виде меня она убрала засаленную прядь волос за ухо.
– Анникакуритнаскалах!
Она посмотрела на меня непонимающе.
– Что ты говоришь?
– Анника курит. На скалах.
Сестра меня настигла. Зажала рот руками, чтобы заставить меня замолчать, уронила меня в траву. Я уткнулся носом в кору и шишки.
– Заткнись, маленький поганец.
Для девушки она была очень сильной. Она держала меня так крепко, что я не мог пошевелиться. Я чувствовал запах ее пота.
– Анникакурит… Анникакуритна!
– Прекратите!
Это был голос мамы. Высокий, резкий. Она сбежала с веранды и начала нас разнимать. Схватила Аннику за руку и оттащила от меня. Потом набрала в грудь воздуха и закатила Аннике звонкую пощечину.
Мамина реакция вызвала у меня шок. Она всегда была такой доброй и понимающей. Я и представить не мог, что она способна так разозлиться, да еще и поднять руку на своих детей. Анника явно тоже, потому что она застыла, прижав к щеке руку, и только смотрела на маму во все глаза.
– Не смей! – прошипела мама. – Ты знаешь, что твое поведение доводит меня до белого каления…
– Я вас ненавижу!
Голос Анники был едва слышен. От удара по лицу разливалась красная краска.
– Не строй из себя черте-те что, – фыркнула мама. Из глаз Анники брызнули слезы. Она согнулась пополам, полотенце слетело с плеч, она безудержно рыдала.
– Заткнись, заткнись, заткнись, – всхлипывала она. – Это вы во всем виноваты. Это ваша вина. Вы все с ума посходили! Я ненавижу вас!
На крики выбежал папа. Солнце светило ему в спину, превращая волосы в огненный нимб.
– Анника, иди сюда. Слышишь?
Голос у него был абсолютно спокойным, как всегда, когда он был в бешенстве.
Мама схватилась за сердце, как всегда, когда она волновалась.
Аннику все еще трясло. С ее губ сорвался отчаянный вопль. Она выпрямилась, повернулась и побежала к воде. Папа пожал плечами.
– Она успокоится, – сказал он со вздохом и вернулся к своему радио.
Я поднялся на веранду к папе и начал следить за Анникой. Она вышла на край мостков и нагнулась. Зачем? Чтобы снять бикини. Но почему? Анника швырнула купальник на замшелые доски и, не оборачиваясь, подошла к краю и прыгнула в воду.
Это был красивый прыжок. Она стремительно вошла в воду, не оставив кругов на поверхности. Впрочем, я был слишком далеко, чтобы все рассмотреть. Через пару секунд она вынырнула в нескольких метрах от мостков и поплыла вперед. Она целеустремленно плыла вперед, прочь от мостков, прочь от дома. И внезапно, я не могу сказать, когда и как, у меня возникло неприятное чувство, что что-то не так. Может, то, как быстро и решительно она плыла прочь, натолкнуло меня на мысль. То ли что-то еще. Так или иначе, я весь похолодел.
– Папа!
Папа только отмахнулся от меня и сделал радио громче.
– Папа!
Он устало посмотрел на меня и вытер лоб ладонью.
– Ну чего тебе?
Я показал на Аннику, которая продолжала плыть прямо в открытое море. Папа вскочил, приставил ладонь козырьком ко лбу от солнца.
– Что за черт!
Он отшвырнул радио прочь и бросился вниз с веранды. Деревянная лестница заскрипела под его весом. Через минуту он уже был на мостках. Он что-то кричал Аннике, но она никак не реагировала, продолжая плыть в холодной воде. Я видел только ее голову, то и дело выныривающую из воды.
Краем глаза я увидел какое-то движение. Это был катер «Глаз солнца», проходивший по маршруту Утэ– Орнэ – Даларэ. Каждый день катер проходил здесь по этому маршруту. Папа обычно называл его рабочей лошадкой среди других судов. На катере был холодильник для продуктов, которые он доставлял в лавки в шхерах. Я подумал тогда, понял ли папа, что это опасно. Он продолжал кричать что-то с мостков. Потом принял решение, отвязал каноэ и поплыл за Анникой. Потом все вдруг замедлилось. Анника плыла медленно, папа греб медленно. Только катер стремительно приближался по волнам. Я почувствовал руку на спине и обернулся.
– Боже мой. Чертова девчонка. Что она творит? Папа был от Анники в пятидесяти метрах. А у меня появилось новое чувство, чувство смертельной опасности, от которого к горлу подступила тошнота и кровь застыла в жилах.
– Но что она делает? – спросила мама, которой вдруг стало важно знать, зачем Анника сделала то, что сделала: нырнула в море и поплыла в холодной воде навстречу катеру. – Она же плывет прямо…
Папа встал в каноэ и начал веслом махать катеру. Через пару секунд раздался гудок сирены с лодки. Они его заметили, но скорость не снизили. Катер продолжал нестись вперед. И внезапно все кончилось. Я помню, как папа стоял, уронив голову на грудь, помню, как катер рассекал волны, помню, как остановилось время.
Последние детали врезались мне в память. Еще один гудок. Голова Анники, исчезнувшая под дном судна. Контуры пассажиров, собравшихся на палубе, чтобы наблюдать за драмой. Солнце, скрывшееся за облаками. Мама, выронившая стакан на камни. Булавка от значка, вонзившаяся мне в ладонь. И потом тишина. Ощущение, что время остановилось. И я уже знал. Уже знал, что сестра мертва.
Эмма
Месяцем ранее
Я лежу в постели и слушаю ветер за окном. Сколько бы одеял я на себя ни натянула, никак не могу согреться. Холод продирает до костей. Он словно поселился без спросу у меня в теле и отказывается уходить.
Я долго его искала. Надеялась, что он спрятался где-то. Животные же так иногда делают? Но его нигде не было. Он словно испарился, провалился в черную землю под кустами во дворе. Или, что еще хуже, погиб в мощном потоке машин на Вальхалавэген. Он же домашний кот и не знает, как опасны машины.
Кто стоит за его исчезновением? Он забрал мои деньги, мою картину, а теперь и Сигге – мое самое главное сокровище. Единственное, что у меня оставалось. Теперь у меня больше нечего брать. Ничего больше не осталось.
Меня знобит. Пальцы окоченели от холода. Все руки в царапинах от веток, оставшихся от поисков в кустах. Во рту вкус железа. Слезы жгут глаза. И одновременно я чувствую освобождение. Мне больше нечего терять. В эпицентре урагана всегда есть спокойствие. Самое худшее уже произошло. Больше ничего не может случиться. Если это может служить утешением. Это чувство мне знакомо. Я уже сталкивалась с ним раньше. То, что случилось со мной сейчас, напоминает мне историю со Спиком. Йеспер открыл дверь в мое прошлое – дверь, которую я столько лет старалась держать закрытой.
Под конец я понимаю, что уснуть мне сегодня не удастся. Я встаю, надеваю шерстяную кофту и вязаные носки и сажусь за стол. Отодвигаю в сторону учебники, достаю чистый лист бумаги из ящика и начинаю писать. Я объясняю, что я чувствую, что я по-прежнему люблю его, хотя он исчез без объяснений, что кое-что случилось и что нам надо поговорить.
Обдумываю написанное и продолжаю. Рассказываю о ребенке, о том, что я не решила, сохранить его или нет. Пишу, что не жду от него поддержки и признания ребенка, но что мне нужна помощь и что он тоже несет ответственность за ребенка. Я пишу адрес главного офиса, его имя и добавляю «Приватно».
Возвращаюсь в постель, накрываюсь с головой одеялом и думаю о Спике.
Прошло десять дней со смерти папы. Эти десять дней я провела вдвоем с мамой в нашей пыльной, заставленной мебелью квартире, пока меня снова не пустили в школу. Я до сих пор не знаю, что я тогда чувствовала. Казалось, все чувства внутри меня движутся хаотически, как бумажки, которые подхватил и несет осенний ветер.
Я пыталась собраться с мыслями и осознать тот факт, что папа никогда больше не вернется, но не могла. Это невозможно было принять моим детским умом. Конечно, я знала, что он умер, но все равно продолжала надеяться, что он вернется. Зимой, например. Или на мой день рождения.
Умер. Похоронен. Ушел в мир иной. На веки вечные.
Это было немыслимо. Но, может, и хорошо, что я не могла это осознать. Мама все время лежала на полу в ванной. Я приносила ей еду. Она послушно ела, но отказывалась говорить. Она была как животные в зоопарке. Тетя Агнета приходила почти каждый день. Каждый раз она сжимала меня в объятьях и спрашивала, все ли в порядке. Зажатая между ее гигантскими грудями, я отвечала, что да, чтобы лишний раз не беспокоить тетушку. Она всегда слишком за всех волновалась. Так по крайней мере говорила мама. После этого Агнета наполняла холодильник готовой едой и заходила к маме в спальню. Там они часами сидели на холодном полу, курили и болтали. Я слышала, как тетя Агнета спрашивала маму, не лучше ли мне пожить пока с ней, пока мама не придет в норму, но мама хотела, чтобы я осталась с ней. Она считала, что сейчас мне нужна стабильность и что Агнета знает, какой я чувствительный ребенок.
Я так никогда и не поняла, что мама имела в виду. Я всегда считала себя сильной. Меня не беспокоило, что другие думают и говорят обо мне. Мне никто не был нужен. Я не испытывала никакого желания дружить с девочками в классе. Мальчики меня тоже не интересовали. Бесчувственная, апатичная. Это описание мне больше подходило.
– Эмма, можешь сходить со мной в подсобку?
Никто не отреагировал на этот невинный вопрос. Стеффе и Робин были заняты чем-то, похожим на гильотину. Как им в голову пришло делать такое на уроках труда? Рядом с ними лежал тюбик клея. Я подозревала, что они планируют его умыкнуть по окончании урока. Девочки собрались в кучку и хихикали. Только Элин обратила внимание на происходящее. Она как-то странно посмотрела на меня.
– Конечно, – ответила я.
– Хорошо.
Спик пошел вперед меня. Я поднялась и неуверенно двинулась следом. Он странно шел, словно покачиваясь.
– Зачем? – губами изобразила вопрос Элин, но я только пожала плечами, делая вид, что понятия не имею, зачем понадобилась Спику в чулане.
Насвистывая, он начал открывать замок. Спик явно был в хорошем настроении. Дверь со скрипом открылась. Он жестом показал мне проходить вперед него. Жест получился каким-то нетерпеливым, словно он хотел побыстрее завести меня в чулан, словно там внутри нас ждало что-то важное.
Секунду я колебалась. Каким-то образом я чувствовала, что если зайду в этот тесный чулан, то что-то случится. Выйду я уже другим человеком, а старая Эмма исчезнет. Может, мне стоило развернуться и убежать, но любопытство было сильнее страха. Желание изменить свою жизнь, желание стать другой было сильнее меня.
Дверь захлопнулась. Спик закрыл ее на ключ и пошел ко мне. Я стояла, не зная, что мне делать, и разглядывала инструменты на стене, вдыхала запах древесины. Я сложила руки на груди.
Взгляд Спика был прикован ко мне. Я не могла пошевелиться, словно парализованная. Я не знала, что делать, у меня совсем не было опыта в таких вещах. Мне было неловко, что я такая наивная, такая неклевая.
Он положил руки мне на плечи и медленно притянул к себе.
Я не сопротивлялась, когда он поцеловал меня и прижал к себе. Я никогда ни с кем не целовалось. Это было совершенно новое ощущение. Его язык был скользким и шершавым и трепыхался у меня во рту как рыба. Я не знала, что мне делать. Ответить на поцелуй? Делать языком то же самое? Прижаться к нему?
– Эмма, – пробормотал он.
Это было все, что он сказал. Он начал шарить руками у меня под кофтой. Больно тискал мою грудь. Потом задрал юбку мне на талию и сунул руку в трусы. Начал тереть между ног. Сунул в меня один палец, потом два. Я занервничала, начала думать, не нужно ли его остановить. Но понимала, что мое сопротивление уже сломлено. Я знала, что мы уже давно нарушили все табу и отступать поздно.
Он стал подталкивать меня в сторону стола. Я позволила ему. Обхватив меня за бедра, он поднял меня и посадил на стол. Потом расстегнул ремень, молнию на брюках и прижался ко мне.
– Что, если кто-нибудь войдет?
– Шшш…
Он зажал мне рот рукой, потом снова поцеловал. Язык толкался во рту, как пестик в ступке. Я отстранилась.
– Я не знаю…
– Эмма, – простонал он, входя в меня.
Йеспер. Спик. Йеспер. Спик. Имена и лица сливаются в одно. Места, тела, слова, обещания рассыпаются на мелкие кусочки мозаики в калейдоскопе. Лицо Йеспера и тело Спика. Стружка на полу в квартире на Капельгрэнд. Взгляды одноклассников, буравящие мне спину.
На часах половина третьего, когда я принимаю решение. Завтра я выясню, где живет Йеспер. Мне надо с ним поговорить. Потребовать ответа. Я больше не могу мучиться догадками. Я тянусь за мобильным на столике, ищу номер Ольги.
– Можно завтра одолжить твою машину? – спрашиваю я.
На следующее утро что-то случилось с метро. Поезд едет страшно медленно и долго стоит на станциях, что приводит пассажиров в бешенство. Промокшие от дождя, они ходят взад и вперед по вагону и посылают сообщения коллегам, что они опаздывают на работу, потому что в метро какие-то проблемы, и нет, они не знают, что случилось. Через какое-то время машинист удосуживается сообщить по громкой связи, что причина задержек – технические проблемы и что поезд придет с опозданием.
Мне еще повезло, что в вагоне мне удалось сесть. И если бы не запах мокрой шерсти и пота, от которого меня снова начинает тошнить, я была бы не против опоздать. Я разглядываю в окно стены туннеля, вырубленного прямо в горе, и свое собственное отражение в стекле. Вид у меня усталый, волосы свисают на бледное лицо с явно выделяющимися веснушками и темными кругами под глазами. Девочки-подростки о чем-то шепчутся напротив. Шепчутся и хихикают. Видно, что спешить им некуда. От них пахнет сигаретами. Внезапно я чувствую, мое детство было словно вечность назад, хотя прошло всего несколько лет. Старшие классы школы. Иерархия клевых и неклевых. Соперничество между девочками, в котором я не участвовала. Все знали, что я не такая, как они. Длинные коридоры с грязными стенами. Перекуры за углом. Мопеды, припаркованные в ряд. Спик.
Я так до сих пор и не понимаю, почему он выбрал меня. В классе было много симпатичных девочек, намного интереснее меня. Уверенных в себе, знающих, что такое флирт. Они призывно ему улыбались, поправляли волосы и выпячивали грудь, обращаясь за помощью на уроках. Я же просто молча сидела в углу. Учителя и одноклассники считали меня занудой. Мама уверяла себя, что все дело в застенчивости.
Возможно, Спику и не нужна была симпатичная и общительная девочка. Учитель выбрал именно меня, потому что я была изгоем, я была жертвой. Он вычислил меня, как хищник вычисляет раненую лань. И не случайно он сделал первый шаг вскоре после смерти отца. Он видел, как я горевала. Видел, как мне одиноко, как я несчастна. И воспользовался моей беспомощностью, моим отчаянием.
Йеспер. Спик. Йеспер. Спик.
Меня тошнит. На этот раз тошнота подступает к самому горлу. Тело напоминает мне о том, что с ним происходит. Мы с Йеспером никогда не обсуждали детей, но почему-то я думала, что это само собой разумеется, что наше совместное будущее предполагает пару детишек и загородный дом. Как же я ошибалась!
Мне вспоминается тот вечер в августе, когда мы устроили пикник в Юргордене. У Йеспера выдался трудный день. Злобный журналист из финансовой газеты заявился в офис и потребовал интервью.
– И что ты сделал? – спросила я.
Он удивленно посмотрел на меня, словно не понял вопроса, и подлил в пластиковый стаканчик вина из коробки. Несмотря на загар, вид у него был изможденный. Тонкая кожа натянулась на скулах, подчеркнув глубокие морщины вокруг глаз.
– Я дал ему это чертово интервью.
– Но почему? Он же заявился без предупреждения.
– С ними бороться бесполезно. И от них никуда не денешься. Если бы я отказался с ним поговорить, он бы в наказание написал злую статью обо мне. Раздул бы из мухи слона. Ты знаешь, как это бывает. Вот почему я не хочу, чтобы нас видели вместе. Они обольют меня грязью, если узнают, что у меня роман с подчиненной.
Он достал пачку сигарет, потряс ее и вставил одну в рот – явный признак, что он нервничает сильнее, чем обычно.
Мы сидели на покрывале в траве под большим дубом, в стороне от дороги, ведущей в сад Росендаль. Несмотря на хорошую погоду, в парке было пусто. Только иногда проезжал велосипедист или кто-то выгуливал собаку. На востоке небо начинало темнеть.
Йеспер зажег сигарету, сделал глубокую затяжку и закашлялся.
– Тебе не стоит, – пробормотала я.
– Ну хватит.
– Прости. Я только…
Он поднял руку.
– Нет. Я сам виноват. Ты волнуешься за меня, а я срываю на тебе свое плохое настроение. Прости, Эмма.
Мы замолчали. В отдалении слышно было, как поют птицы. Покрывало было влажным и холодным от мокрой травы. Я поежилась от холода.
– Все в порядке, – заверила его я.
Он взял мою руку в свою, сжал ее и заглянул мне в глаза.
– Уверена?
– В чем?
– Что ты на меня не злишься?
Он сжал сильнее. Боль была такой внезапной и острой, что я ощутила ее во всей руке до самого плеча.
– Отпусти! Мне больно.
Он тут же подчинился и смущенно улыбнулся.
– Ой, – сказал он так, словно выронил стакан, а не собирался раздавить мне руку.
Я вздохнула и принялась массировать больное место.
– Нельзя быть немного помягче?
– Прости меня, пожалуйста.
– Я тебя прощаю. За все.
Я вижу, что настроение у него улучшилось. Он выглядит довольным, на губах играет хитрая улыбка. Он что-то задумал. Йеспер садится на корточки, стряхивает траву с джинсов.
– Пойдем, – шепчет он.
– Куда?
Он выпрямляется и делает мне знак рукой подняться.
– Я хочу тебе кое-что показать.
Я поднимаюсь, разминаю затекшие от долгого сидения ноги, оглядываюсь по сторонам. На улице уже темнеет. Августовские сумерки подкрались внезапно. Пахнет влажной землей. Он берет меня за руку и тянет за дуб.
– Что?
Не отвечая, Йеспер берет мое лицо в руки и целует меня в губы. Руки у него холодные, как лед.
Я отвечаю на поцелуй, кладу руки ему на талию. Прижимаюсь к нему, слышу, как хрустят сучки под ногами. Издалека доносится шум лодочного мотора.
Его ледяные руки залезают мне под кофту и начинают гладить спину медленными круговыми движениями, спускаются ниже под пояс джинсов.
– Я хочу заняться с тобой сексом здесь, в парке.
– Нас могут увидеть.
– Не будь занудой.
В голосе слышно раздражение, как всегда, когда я не разделяю его энтузиазма по поводу всех этих опасных затей. Прикосновение холодных рук к коже было мне неприятно. Потом Йеспер снова поцеловал меня и начал расстегивать джинсы. Язык у него тоже был холодный. У поцелуя был вкус вина и табачного дыма. Я слегка отстранилась.
– Только осторожно. Я пару раз забывала выпить таблетки на этой неделе.
Он пожал плечами.
– Это важно?
– Конечно. Я же могу забеременеть.
Он откинул голову так, чтобы наши глаза встретились. Его лицо сливалось с корой дуба в сумерках.
– Об этом я и говорю, Эмма. Разве это важно?
Ханне
Этим утром случились две вещи, которые вывели меня из равновесия. Во-первых, я проснулась в холодном поту и с бешено стучащим сердцем, что раньше случалось, только когда я перебирала вина на ужинах с Уве и друзьями. А проснувшись, не поняла, где нахожусь. Я не узнала комнату для гостей в доме Гуниллы и страшно испугалась. Белые стены, разноцветные подушки, пеларгонии на окне – все было чужим и незнакомым. На мгновение мне показалось, что я падаю вниз в бездну. От страха у меня закружилась голова. Я не поняла, что это память снова подвела меня. Несколько минут потребовалось, чтобы вспомнить, где я. Но за это время я успела разрыдаться. На мой плач прибежала из кухни Гунилла и бросилась меня утешать. Я не сказала, почему плачу, не хотела ее напугать. Может, дело не в болезни, а в стрессе. Гунилла не задавала вопросов. Наверно, решила, что я плачу из-за разрыва с Уве.
Во-вторых, когда я вышла на улицу выгулять Фриду, я обнаружила перед подъездом Уве. Стоило нам выйти из дверей, как он выскочил из машины и начал орать, что я должна вернуться с ним домой, потому что не способна сама о себе позаботиться, и что по закону о психическом нездоровье муж несет за меня ответственность (это, разумеется, была полная ерунда: вернувшись домой, я прогуглила такой закон в Интернете и ничего не нашла).
И снова мне на помощь пришла Гунилла. Она шла на работу, когда обнаружила, что мы ссоримся у нее под домом. Подруга вопросительно подняла брови, как только она умела, скрестила руки на груди и встала между мной и Уве. Это выглядело комично. Гунилла даже в сапогах на каблуках на две головы ниже Уве, но смелости ей было не занимать.
Разумеется, ее спокойствие привело Уве в бешенство.
– Уве, что ты тут делаешь в такую рань? – поинтересовалась она.
– Я пришел забрать Ханне. Она не знает, что творит.
– Нет?
Гунилла посмотрела на меня.
– Ханне, ты знаешь, что делаешь?
Я была слишком взволнована, чтобы ответить, и только кивнула.
– В таком случае тебе лучше уйти, Уве.
– Я никуда не пойду.
Гунилла театрально вздохнула.
– Ну тогда я вызываю полицию.
– Не вмешивайся, – проревел Уве. – Это семейное дело.
– Семейное, Уве? Брось. Она не хочет жить с тобой. Ты ее достал. Я даже имени твоего при ней упомянуть не могу. Дай Ханне время. Захочет – сама вернется.
– Как я уже сказал, – повторил Уве, – это семейное дело.
Гунилла достала мобильный телефон и с усталой миной сообщила:
– Я звоню в полицию.
Уве сделал шаг вперед, вырвал у меня из рук поводок Фриды и пошел прочь.
– Чертовы бабы, – пробурчал он. – Издеваться над Фридой я тебе не позволю. Она поедет со мной.
И пошел, таща Фриду за собой. Всю дорогу Фрида озиралась на меня, пока они не завернули за угол.
Снова слезы. Снова Гунилле пришлось меня утешать.
– Все будет хорошо, – сказала она. – Радуйся, что у вас нет детей, а то были бы сложности.
И, естественно, я сразу начала думать о детях, которых у нас никогда не было, и заплакала еще сильней.
Но этого я тоже не могла сказать Гунилле. В конце концов я поднялась в квартиру, приняла душ, постаралась замазать тональным кремом следы рыданий, что было нелегко. Лицо было красное и опухшее. Кожа под подбородком висела сильнее обычного. И не только там – на руках и на других частях тела тоже. Годы меня не пожалели. Я констатировала, что выгляжу отвратительно. Я стала уродиной. Женская зрелость (хоть я и не люблю этот термин, он напоминает мне о гниющих фруктах) – это уродливо.
Уродство приходится скрывать под толстым слоем макияжа и несколькими слоями одежды. Я стояла перед зеркалом и видела в нем разведенку пятидесяти девяти лет, со старческим маразмом, избыточным жиром и морщинами, и думала, правильно ли я поступила, когда собрала вещи и оставила свою стабильную семейную жизнь. Но одновременно я понимала, что удушливое сожительство с Уве было не лучшей альтернативой. Лучше неопределенное и нестабильное будущее, чем его угрозы и придирки.
Больше всего мне хотелось вернуться в кровать и укрыться с головой одеялом, но я поборола это искушение. Я была полна решимости доказать Уве, что я способна сама о себе позаботиться и не нуждаюсь в его опеке. В который раз я напомнила себе, почему не хочу больше быть с ним. Уве:
Эгоистичный.
Самовлюбленный.
Деспотичный.
Надменный.
И от него плохо пахнет.
И я пошла на работу.
По приезде в Полицейское управление первый, кого я вижу, это Петер. Он работает за компьютером в неудобной для его высокого роста позе и пристально вглядывается в экран. Завидев меня, он встает, подходит ко мне и берет за руку так, словно мы лучшие друзья и наша вчерашняя беседа стёрла прошлое, в котором этот мужчина разбил мне сердце. Рука у него теплая и сухая. Мне приятно его прикосновение. Возникает ощущение, что он имеет полное право меня касаться.
– Идем, – говорит он. – Я как раз собираюсь поговорить с коллегой Йеспера Орре. Той самой, что обвиняла его в сексуальных домогательствах. Пошли со мной.
– О’кей, – отвечаю я, поскольку других важных встреч у меня сейчас нет.
…Денис Шёхольм двадцать восемь лет. По образованию экономист. Но выглядит она лет на десять моложе. Но, может, это я выгляжу старше. Я и не заметила, как быстро пролетело время и как я успела состариться. Я уже и забыла, что в ее возрасте уже пару лет как была замужем за Уве. Мне пришлось рано повзрослеть.
Но у этой девушки потерянный вид. Видно, что ей неловко. Она одета в вязаную кофту, потертые джинсы, лицо голое, без макияжа. В больших карих глазах застыл страх. Ничего удивительного, думаю я, наверняка ей пришлось нелегко, когда она обвинила начальника в сексуальных домогательствах.
Петер тоже заметил ее страх и начал разъяснять, что ее ни в чем не обвиняют и что мы только хотим поговорить с ней в связи с убийством в доме Орре и его исчезновением.
Она тихо кивает и теребит нитку, свисающую из джинсов.
– Как долго вы работаете в «Клотс и Мор»?
– Год.
– Каковы ваши обязанности?
– Я… была… менеджером проекта в отделе маркетинга. Устраивала рекламные кампании и все такое. Я готовила рождественскую рекламную кампанию, которую вы могли видеть по телевизору. До ухода на больничный.
Ее взгляд мечется как испуганная птица между мной и Петером.
– Как вы познакомились с Йеспером Орре?
– Сразу, как начала работу. Нас не так много в главном офисе. И он часто заглядывал в отдел маркетинга узнать, чем мы занимаемся. Всегда был очень любезным и общительным. Но ходили слухи, что он настоящий деспот и увольняет людей налево и направо.
– И что произошло потом?
Денис опустила голову. Волосы упали на лицо.
– Он предложил мне пойти на вечеринку. Весной.
– Что за вечеринка?
– Он не сказал. Но мы договорились, что он подберет меня на площади Стуреплан в субботу вечером. И подобрал. Но вместо вечеринки отвез к себе домой. И там были только мы. Никаких других гостей. Мы поужинали… он приготовил морепродукты, угостил меня шампанским. Я была под впечатлением. Сам директор компании готовит мне ужин и все такое. Йеспер Орре мог заполучить любую девушку, а пригласил на ужин меня.
Голос стал слабее, она покачала головой.
– Я была наивной дурой, – продолжила она. – Сразу после ужина он попытался затащить меня в постель.
– И что вы сделали?
Денис растерянно смотрит на него, словно не поняв вопроса.
– Занялась с ним сексом. Мы начали встречаться. Но я быстро поняла, что ему нужен от меня только секс, и через пару месяцев сказала, что хочу с ним расстаться. Хотя нельзя сказать, что мы на самом деле встречались.
– Как он отреагировал?
– Пришел в ярость. Сказал, что это он решает, расстаться нам или нет. И что я сильно пожалею, если брошу его.
Денис начинает выдергивать нитки из джинсов.
– И что вы сделали? Она грустно рассмеялась.
– Мне надо было бы сразу понять, что я Йесперу не соперник и подыграть ему, сделать вид, что это он меня бросил, но я так разозлилась, что наговорила глупостей. Сказала ему проваливать, что я сама решаю, с кем мне спать и когда. Он развернулся и ушел. А потом начал мне мстить. На собраниях задавал вопросы, на которые знал, что я не смогу ответить, отвергал все мои идеи и предложения, не позволял участвовать в проектах, одним словом – наказывал за непокорность. Я пошла к начальнику отдела персонала и пожаловалась, и тогда начался цирк. Она допрашивала меня, но в его присутствии. И было просто ужасно – сидеть там и рассказывать о наших отношениях. Под конец я вынуждена была уйти на больничный по причине стресса.
– Когда это произошло?
– Я на больничном уже восемь недель. Нет, даже девять.
Петер сделал пометку в блокноте.
– Этот вопрос может показаться вам странным, но нравился ли Йесперу жесткий секс?
Вопрос явно смутил девушку. Она обхватила себя руками.
– Нет, не особенно.
– Он воровал ваше нижнее белье?
– Нижнее белье?
– Да. Случалось ли, что Орре брал ваше нижнее белье?
– Вроде нет.
– Вы с ним связывались после ухода на больничный?
– Нет, – качает головой девушка.
– Приставал ли Орре к другим женщинам в офисе?
– Нет. Но я бы не удивилась, если да. Он совсем больной на голову.
– Встречался ли он с другими женщинами во время ваших отношений?
– Не знаю, но он придурок.
Провожая Денис к выходу, я не могу сдержаться и кладу руку ей на плечо.
– Ты же понимаешь, что ты не сделала ничего плохого? – говорю я. – Он использовал тебя, злоупотребил своей властью, которую ему давала должность директора.
Денис смотрит на меня, пожимает плечами.
– Может, и так. Но я жалею, что пошла жаловаться на него в отдел персонала. Рано или поздно он бы сам устал от меня и бросил.
Девушка снова опускает голову.
– Какой козел, – восклицаю я, когда девушка пропадает из виду.
Петер тоже пожимает плечами. И про себя я добавляю: как ты, Петер. Такой же козел, как и ты.
Он словно читает мои мысли и весь меняется в лице. Прячет глаза и бормочет что-то.
– В этом нет ничего противозаконного.
Тремя часами позже я иду к Гунилле домой. Уже стемнело, холодный ветер треплет куртку, температура резко упала. Велосипедная дорожка обледенела. Я иду медленно, чтобы не поскользнуться, и думаю о Фриде. Я уже по ней скучаю и не знаю, как ее вернуть. Обращаться в полицию и обвинять Уве в краже бесполезно. Фрида и его собака тоже. Формально кражей это считаться не может. Или?..
Уве никогда не любил Фриду. Жаловался, что она лает и воняет (как будто он не воняет). Муж забрал Фриду не для того, чтобы защитить от меня, а чтобы нагадить мне. Как Йеспер гадил бедной девушке за то, что та отказалась с ним спать. Власть, думаю я, все дело во власти.
Проходя мимо киоска, я всегда останавливаюсь и проглядываю заголовки газет. Рисунок женщины, убитой в доме Орре, на первых полосах. Набранный жирным шрифтом заголовок вопрошает: «Кто эта женщина, убитая в доме короля моды?»
Если мы ее не идентифицируем, с мертвой точки нам не сдвинуться.
Снова идет снег. Колючие снежинки царапают мне лицо. Звонит мобильный. Я инстинктивно поворачиваюсь к ветру спиной и достаю телефон. Это Петер.
– Привет, – говорит он. – Я только что общался с криминалистами. Орудие убийства из дома Орре то же самое, что использовалось в убийстве Кальдерона. Они нашли отметины на позвонках жертв, которые соответствуют зазубринам на лезвии мачете. Понимаешь, что это означает?
Эмма
Месяцем ранее
– Но зачем ему убивать твоего кота? Я ничего не понимаю, – морщит лоб Ольга и вертит на руках браслеты со стразами.
Я оглядываю пустой магазин и думаю, что сказать. Манур не видно. Наверно, занята выполнением своих новых должностных обязанностей.
– Если он действительно психопат, то, может, ему доставляет удовольствие издеваться надо мной.
На лице у Ольги сомнение. Видно, что ей не верится, что мой бойфренд мог оказаться психопатом или садистом. Коллега привыкла думать, что все, что нужно мужчинам, – это секс или деньги. И я ее понимаю. Мне тоже сложно поверить, что Йеспер пытается испортить мне жизнь, но другого объяснения его поведению я не вижу.
– Но кот? Кот-то тут при чем?
– Сигге самое дорогое, что у меня есть. Отняв его, он причинил мне боль.
– Если это так, – говорит Ольга, протягивая мне новый чековый рулон для замены, – то он действительно психически болен.
– Это я и говорю.
– А ты его проверяла? Может, он уже проделывал это раньше. Может, он уже сидел в тюрьме или в психушке.
Эта мысль забавна. Я сразу представляю Йеспера Орре, директора нашей компании, в смирительной рубашке в одиночной палате. Или в полосатой пижаме, как в кино про банду Бьёрна, за железной решеткой.
– Может, он убил кого-то? – шепчет Ольга, хотя никого, кроме нас, в магазине нет.
Наши глаза встречаются. Я вижу, что она жалеет о сказанном.
– Прости, милая. Конечно, он никого не убивал. Я только хотела сказать, что ты не знаешь его. Неизвестно, на что он способен.
– Да, не знаю, – соглашаюсь я и думаю, что Ольга всегда была права.
– Что ты будешь делать? Подашь заявление в полицию?
Я закрываю кассовый аппарат, поправляю кончик чекового рулона.
– Сначала я хочу с ним поговорить.
– Будешь его искать?
Я киваю, оглядываю магазин.
В углу около прилавка с джинсами толкутся двое подростков. Они трусливо поглядывают в мою сторону, и у меня возникает ощущение, что они хотят что-то украсть. Обычно это заметно. По крайней мере по подросткам, которые еще не научились сохранять невозмутимый вид и предпочитают идти на дело в компании с приятелем, как будто это не магазинная кража, а командный спорт.
– Я знаю, что ты должна сделать, – с энтузиазмом заявляет Ольга. – Ты должна отомстить. Вернуть контроль над ситуацией в свои руки. Я знаю, как это делается, я тебе помогу. Не хочу выставляться, но я в этом деле мастер.
– Хвастаться.
– Что?
– Ты хотела сказать «хвастаться».
Ольга недоуменно смотрит на меня.
– Не важно. Грамматикой займемся потом. Возьми себя в руки и отомсти этому придурку. Выясни, где он живет, иди туда и припри его к стенке. Не дай ему улизнуть. Покажи, кто тут главный.
Парни у прилавка с джинсами начали пятиться к выходу. У одного из них подозрительно большая спортивная сумка. Ольга их тоже заметила, но ей явно не до воришек сейчас. Наверно, лень тратить энергию.
– Так ты думаешь, надо отомстить?
Она кивает. В тот же момент в магазин входит мужчина и уверенно направляется к кассе. Вид у него такой, словно он точно знает, чего хочет. Мужчины постарше не любят тратить много времени на покупки. Они не из тех, кто расхаживает вдоль вешалок и рассматривает новинки. Обычно они сразу подходят к нам, спрашивают, где трусы, носки или рубашки, покупают пять штук каждого вида, платят и уходят.
– Добро пожаловать. Чем я могу вам помочь? – механически произносит Ольга, крутя браслет на руке, и изображает дежурную улыбку.
– Я ищу Эмму Буман, – сообщает мужчина без улыбки.
– …Можем присесть здесь?
У него бесстрастное лицо, короткие рыжие волосы и круглое, несмотря на худобу, тело. Из старого потертого и заляпанного кожаного портфеля он достает стопку бумаг.
Представляется Свеном Ульссоном, начальником отдела персонала восточного подразделения компании, и в ту же секунду я понимаю, о чем пойдет речь.
– Ты с нами уже три года, Эмма.
Я киваю, не зная, вопрос это или утверждение и нужно ли что-то отвечать. Он достает очки в роговой оправе, синий носовой платочек и аккуратно протирает стеклышки в полной тишине.
– Хотите кофе? – спрашиваю я, чтобы нарушить эту тишину.
– Да, с удовольствием, – отвечает он, не поднимая глаз.
Тиканье часов в углу внезапно кажется оглушительно громким. От запаха кофе меня начинает тошнить.
Я ставлю чашку кофе на стол перед ним, опускаюсь на стул напротив, ощущаю свою полную беспомощность.
Я никогда не думала, что этот момент настанет. Что это может случиться с кем угодно, только не со мной. Я всегда соблюдала правила. Только в последнее время брала много отгулов. Календарь на стене пестрит красным.
– Мы в сложной экономической ситуации, – говорит он и смотрит на меня поверх очков.
Впервые наши взгляды встречаются. У него светлосерые глаза, по которым невозможно угадать его мысли. Вежливый бюрократ, мелкая сошка, присланная главным офисом сделать грязную работу. Он убирает платочек в портфель и продолжает:
– Мы вынуждены будем закрыть два магазина в течение ближайших месяцев. И это означает избыток персонала.
Все еще не знаю, что сказать. Киваю. Он молчит. Вид у мужчины усталый. Может, он действительно устал. Может, ему тоже приходится нелегко.
– Переизбыток персонала, – повторяю я, чтобы помочь ему продолжить разговор. Наши глаза снова встречаются. Его по-прежнему ничего не выражают.
– Спасибо. Ты хорошо работала, Эмма. Об этом нам рассказал Бьёрн Францен. Но, к сожалению, руководство компании постановило, что нам нужно сократить расходы, чтобы не допустить банкротства.
– Я понимаю.
– Ничего личного, Эмма. Ты прекрасный сотрудник, но наша компания сейчас в тяжелом финансовом положении.
Мне хотелось, чтобы он перестал называть меня по имени. Я его не знаю. Этот человек мне чужой. Я не хочу быть с ним на короткой ноге.
– Разумеется, – отвечаю я.
– Дело только в финансах.
– Понимаю, значит, дело не в этом… – я показываю на календарь на стене, покрытый красными, как угри на бледной коже, метками.
Он улыбается. Впервые с того момента, как вошел. Улыбка у него грустная.
– У всех есть право на больничный. И на отпуск по уходу за больными детьми. За это не увольняют. Не стоит верить слухам и всему, что пишут в прессе. Ты же сама прекрасно знаешь, что журналистам нравится поливать нас грязью.
Он отхлебывает кофе, и я ловлю себя на мысли, что желаю ему обжечься. Но это несбыточное желание, так как кофе из кофемашины выходит едва теплым. И это уже год, с тех пор как Бьёрне ударил машину кулаком, когда та отказывалась работать.
Мужчина кладет на стол передо мной бумаги, которые до этого держал в руках, и подвигает ко мне пальцем.
– Давай теперь обсудим практические моменты, Эмма.
– Кто это был? – спрашивает Манур, провожая взглядом рыжего мужчину в очках в роговой оправе, похожего на состарившегося Тинтина из комиксов.
– Он из отдела персонала. А где Ольга?
У меня нет никакого желания рассказывать коллеге о разговоре, который только что состоялся. И особенно об условиях увольнения. Я прекращаю работать немедленно, получаю две зарплаты единовременно. И должна не забыть отправить пропуск по почте в конверте с маркой в главный офис.
– Ольга? – рассеянно повторяет Манур.
– Да. Где она?
– Понятия не имею, – пожимает плечами Манур. – Наверно, гуглит косметику или нижнее белье в Интернете, эта мужененавистница.
– Кто?
– Неважно, – отмахивается Манур.
– Когда я видела ее в последний раз, она читала книгу, – говорю я. Я и правда видела Ольгу в подсобке с книжкой в руках.
Манур вопросительно поднимает нарисованные брови.
– Наверно, какая-нибудь ерунда из супермаркета. Презрение в ее голосе выводит меня из себя.
– Может, это была обычная книга.
– Шутишь? Эта девица не узнала бы нормальную книгу, даже ткни ее туда носом.
Манур поправляет заколки и ожерелья рядом с кассой и напускно равнодушным тоном спрашивает:
– Чего хотел мужчина из отдела персонала? После секундной заминки я отвечаю:
– Ничего особенного. Спрашивал, как мы справляемся без Бьёрне.
– И что ты ответила?
– Как есть. Что мы прекрасно без него справляемся.
Я сижу в машине Ольги. Дождь бьет по крыше. В тесном салоне влажно. Время от времени я протираю ветровое стекло, чтобы лучше видеть.
На часах начало седьмого. Я жду в машине уже больше часа. Что, если он сегодня не появится? Что, если он в командировке или на деловом ужине?
Я отпиваю глоток минеральной воды с лимоном, у которой вкус жидкости для мытья посуды, и думаю о мужчине из отдела персонала, о его старомодных очках, потёртом портфеле. Кто бы мог подумать, что такие люди работают в компании, торгующей модной одеждой.
Увольнение тоже дело рук Йеспера? Еще одна часть его дьявольского плана? Плана, который ему удался. Снова он отобрал у меня то, что для меня важно, – работу. Я ошибалась, когда говорила, что Йесперу удалось лишить меня всего, что мне дорого. Жалела себя раньше времени. Что, если он планирует забрать у меня что-нибудь еще, о чем я не подозревала? Здоровье? Дом? Жизнь? От этой мысли мне страшно.
Я думаю о квартире на Капельгрэнд, о коврике в прихожей, о красных стульях, стоящих у стены, как испанские рыцари. Представляю Йеспера обнаженным на пёстром ковре в комнате. Желтые цветы обрамляют его тело, и кажется, что он лежит в поле подсолнухов. Тело его расслабленно, черты лица мягкие, как у ребенка. Рот приоткрыт. Грудь вздымается в такт дыханию.
Я сижу в машине под дождем, но в моих мыслях я стою в квартире и смотрю на Йеспера, пытаюсь понять, почему этот мужчина, мальчик, человек, лежащий там с таким невинным видом, желает мне зла.
Мужчина перебегает дорогу в паре метров от меня. Я наклоняюсь вперед, протираю окно ладонью. Это не Йеспер. Он ниже ростом и блондин. Мужчина быстро скрывается в темноте.
Если бы я могла сейчас посмотреть на себя со стороны, как я в своих мыслях смотрю на Йеспера, что бы я увидела? Обезумевшую женщину, которая тайком следит за своим любовником? Неужели я правда схожу с ума?
Может, этого он добивается? Лишить меня рассудка? Довести до безумия? Унизить и уничтожить? Меня снова тошнит, я подношу к губам бутылку с мерзкой минералкой.
И если он поставил этот чудовищный спектакль, то в каком мы находимся акте? Продумал ли он уже свой следующий шаг? И что я узнаю, проследив за ним, – правду или очередную ложь, которую он для меня подготовил?
Вопросам нет конца. Каждый ответ вызывает новые вопросы. Это как отражение зеркала в зеркале. И этим зеркалам тоже нет конца. У меня кружится голова от размышлений. А ведь я еще даже не начинала думать, что мне теперь делать и как решить все проблемы с ребенком, со счетами, с увольнением с работы, о котором мне сообщил этот неприятный тип из отдела персонала. Может, Ольга права? Может, мне надо отомстить? Может, именно этого он и хочет?
Мне кажется, что все это сон. Или плохое кино, в котором моя роль уже давно прописана, и все, что мне остается – следовать сценарию. Я не владею ситуацией. Моя жизнь больше не принадлежит мне. Я смотрю на кольцо на пальце и думаю, что оно единственное, что говорит мне, что все это было на самом деле, что я это все не придумала.
И тут я вижу его.
Он идет, пригнув голову от дождя, фалды пальто развеваются, как рваный парус на ветру. Он движется стремительно. Мне хочется выскочить из машины, догнать и спросить, какого черта он портит мне жизнь, но что-то меня останавливает. Я хочу знать, что он от меня скрывает. Хочу знать, где он живет. Хочу знать о нем больше, прежде чем припереть к стенке.
Через пару минут черный джип выезжает с парковки. Я завожу мотор и еду следом, стараясь держаться на расстоянии.
На каждом втором светофоре мотор глохнет, потому что я не привыкла к ручной коробке передач. Ругаюсь, снова завожу мотор и стараюсь не упустить джип из виду. Нельзя дать ему уйти теперь, когда я так близка к разгадке.
После Рослагстуль движение становится плотным. Я пристраиваюсь сзади за Йеспером. Он сворачивает на Е18, а потом на Юрсхольм. Он замедляет ход, я тоже, расстояние между нами растет. На дороге мы одни. Мы проезжаем особняки, парки, лужайки. Слева небольшая площадь, окруженная магазинами. Я вижу супермаркет, книжный магазин. Снова возникает ощущение, что все это кино и передо мной декорации финальной сцены. Но что это за фильм? Мелодрама? Триллер?
Трагедия?
Теперь я вижу ночное море. Черное и блестящее, как шелк. Йеспер поворачивает направо. Я еду за ним. Меня переполняет любопытство. Совсем скоро я узнаю правду. Мы едем вдоль моря. Особняки здесь огромные, больше похожие на дворцы. Неужели в них правда живут люди? Дома вокруг больше похожи на резиденции послов или отели.
Он замедляет скорость, и я чуть не врезаюсь в него, но Йеспер вовремя уходит вправо. Я останавливаюсь, жду пару секунд и снова еду за ним. Узкая дорожка обсажена вечнозелеными туей, самшитом, можжевельником. Тротуар завален мокрой листвой. Здесь дома поменьше, больше похожие на обычные виллы. Я выключаю фары, медленно еду за джипом. Йеспер снова поворачивает. Эта игра начинает доставлять мне удовольствие. Я никогда раньше ни за кем не следила.
Он останавливается перед обычной современной виллой. Свет из окон освещает газон и кучки желтых листьев.
Я выключаю мотор. Жду. Смотрю, как он достает черный портфель, подходит к калитке, поднимает руку, чтобы набрать код, но замирает, поворачивается и идет по направлению ко мне. Я сжимаюсь от страха быть обнаруженной. Но тут я вижу, куда он идёт. Возле забора лежат поленья, прикрытые зеленым брезентом. Йеспер перешагивает их и идет к постройке справа от калитки. Гараж? Это здание недостроено. Вместо двери – полиэтилен, трепещущий на ветру. Стены еще не покрашены. Он опускается на корточки, разглядывает что-то, потом поднимается и идет к дому.
Первое, что приходит мне в голову, – вот на что пошли мои деньги. На строительство этого гаража. Он потратил все мои сбережения на новый гараж для своего дорогущего джипа.
Йеспер подходит к двери и звонит в звонок вместо того, чтобы открыть своим ключом. Я недоумеваю. Это его дом? Или он приехал в гости? Потом достает ключ, но прежде, чем он успевает вставить его в скважину, дверь открывается. В дверях стоит женщина.
Темноволосая, высокая, красивая, это видно издалека. Она держится так, как держатся только уверенные в своей привлекательности женщины. Всем своим видом брюнетка будто говорит, что знает себе цену.
Женщина наклоняется вперед, и они целуются. Это не дружеский поцелуй в щеку, нет, это долгий и страстный поцелуй любовников.
Больше я не в силах смотреть. Я ничего не вижу, ничего не слышу, вокруг сплошная темнота. Я бегу в темноте. Кто-то кричит. Это душераздирающий вопль, и только через несколько секунд я понимаю, что это я кричу. Ветки царапают мне лицо, ледяная вода льется за воротник.
Из ниоткуда на моем пути возникает садовый стул. Я пытаюсь обежать его, но задеваю, и он опрокидывается на землю. Я ускоряю бег, чувствую себя загнанным зверем. Не понимаю, где я нахожусь, знаю только, что должна бежать прочь от этого ужаса, который угрожает всему моему существованию.
Кеды увязают в глине, я поскальзываюсь, но удерживаюсь и бегу дальше, выставив вперед руки, как слепая.
На моем пути возникает забор. Невысокий, около метра. Не задумываясь, я пытаюсь перелезть его, перегибаюсь через край, но куртка застревает в заборе, я падаю головой вперед и ударяюсь о что-то животом. От боли из глаз сыпятся искры. Я не могу дышать, не могу думать, все вокруг погружается во мрак.
Что-то касается моей щеки. Я открываю глаза, пытаюсь собраться с мыслями, вспомнить, где я. На улице ночь. Я лежу на земле на чьем-то участке. В паре метров от меня песочница. Лопатки, ведра и маленькие желтые машинки разбросаны по ней, как лисички на лесной опушке.
Сколько я тут лежу? Я пытаюсь подняться, но живот снова сводит от боли. Я сворачиваюсь клубком, глубоко дышу, но боль не уходит. Смотрю на часы. Начало девятого. Я была в отключке около часа.
Меня трясет от холода. Наконец, мне удается подняться. Я убираю с лица грязь и листья. Начинаю вспоминать. Я в Юрсхольме, неподалеку от дома Йеспера Орре. Дома, в котором он живет с красивой темноволосой женщиной. Он меня обманул. Обманул и унизил. Украл мои деньги, украл у меня все, что было мне дорого. У него есть другая. И наверняка была, когда мы встречались. Вот почему он хотел сохранить наши отношения в тайне. Вот почему мы виделись только в его городской квартире или дома у меня.
Но я одного не могу понять. Если он только хотел изменить ей со мной… Завести интрижку? Зачем дарить мне обручальное кольцо? Зачем забирать Сигге, картину, деньги? Увольнять меня с работы?
В ушах звучат слова Ольги:
«Твой парень психопат».
Вот зачем. Он хочет меня уничтожить. Может, он даже хотел, чтобы я увидела, как он счастлив со своей девушкой.
Я нахожу дыру в заборе и пролезаю через нее. Не думаю, что смогла бы еще раз перелезть через забор: слишком сильно болит живот. Согнувшись от боли, иду в темноте по чьему-то садовому участку. Вижу перед собой опрокинутый стул и понимаю, что иду правильно.
Я прохожу мимо старого деревянного дома. В окне я вижу женщину с двумя детьми на диване перед телевизором. Они едят попкорн и выглядят счастливыми. Их жизнь удалась.
В отличие от моей.
Машина незаперта. Ключи по-прежнему в замке зажигания. Я опускаюсь на водительское сиденье и смотрюсь в зеркало. Мое опухшее лицо все в грязи. Я похожа на сумасшедшую. Пытаюсь вытереть лицо, но только больше размазываю глину.
Я медленно еду в город. Стараюсь резко не тормозить из страха, что боль в животе усилится. Припарковав машину, иду домой и молю Бога, чтобы не столкнуться с соседями. Не знаю, как объяснить свой внешний вид. Но мне везет.
В подъезде спертый воздух. На лестнице темно. Кажется, что в доме никто не живет, кроме привидений.
Лифт с визгом останавливается на шестом этаже. Я выхожу, отпираю дверь и вхожу в теплую прихожую. Нащупываю пуговицы на куртке, стягиваю ее и швыряю на пол. По старой привычке оглядываюсь по сторонам в поисках Сигге, но вспоминаю, что его нет. Скидываю кеды, ковыляю в ванную. Джинсы мокрые и грязные, но мое внимание привлекает другое – большое темное пятно между ног. Я стягиваю джинсы и подношу к свету, но я уже знаю, что произошло. Это кровь. Я потеряла ребенка.
Петер
Расследование изменило свой ход. Так иногда случается. И главную роль в этой перемене сыграл отчет криминалистов, в котором говорилось, что то же самое орудие убийства использовалось в деле Мигеля Кальдерона. Появление этого отчета произвело эффект разорвавшейся бомбы в полицейском управлении. Впервые в деле наступил прогресс. Все суетятся не меньше, чем раньше, но теперь их действия приобрели некую осмысленность. На смену отчаянию пришла надежда.
В комнате, где мы работаем, вся стена обклеена фотографиями дома Орре, картами, снимками коллег и друзей директора. Но теперь мы добавили к ней материалы дела десятилетней давности.
Санчес, судя по всему, всю ночь читала дело Кальдерона и готова искать связь между Орре и Кальдероном. Но это будет нелегко, потому что, как мне кажется, у этих двоих нет ничего общего и они даже никогда не встречались.
Кальдерону было двадцать пять, когда его нашли мертвым в съемной квартире в районе Сёдермальм в сентябре десять лет назад. Постоянной работы у него не было. Он подрабатывал поваром, помощником по хозяйству, почтальоном, медбратом, уборщиком. В свободное время он занимался карате и играл в джазовом оркестре.
Подружки у него не было. Сестра сказала, что, видимо, Мигель предпочитал мужчин. В двадцать лет он был судим за кражу и избиение, но, судя по материалам расследования, не был связан с криминальными кругами.
С Йеспером Орре его ничего не связывало. Они были из разных слоев. Орре проводил время в Сандхамне, Вербьере, Марбелье и в ночных клубах на площади Стуреплан.
Орре все еще в бегах, что указывает на то, что это он убил молодую женщину, а ранее Кальдерона. Но ведь свинское поведение на работе и кража нижнего белья еще не доказывают, что он убийца. Но между ними должна быть связь. И мы должны ее найти. Даже если нам придется разобрать их жизни по кирпичикам.
В такие моменты я испытываю скуку и разочарование. Мне надоели эти затяжные расследования, которые продвигаются так вяло. Десять лет назад я бы сказал, что самое лучшее в моей работе – это как раз такие трудные дела, которые требуют полной отдачи от следователей, но теперь они вызывают у меня только бешенство. Больше всего мне хочется после очередного совещания купить упаковку банок пива, поехать домой, залечь на диван и включить спортивную передачу.
Мне кажется, никто, кроме полицейских, не понимает, какая это трудная задача – воссоздать картину жизни человека. Это означает долгие часы допросов, проверку баз данных и архивов, опрос свидетелей, а потом еще отсеивание всего лишнего, чтобы осталась только суть.
И все это придется делать вместе с Ханне.
Хорошо, что мы с ней поговорили, хотя говорила в основном она. Но после этого разговора напряжение между нами немного спало. Я не могу сказать, что именно изменилось, но каждый раз при встрече остро ощущаю ее присутствие. Словно от Ханне исходят какие-то вибрации, которые обостряют все мои чувства. И я не знаю, что с этим поделать.
Иногда я ловлю себя на том, что неотрывно смотрю на нее, на ее мешковатую кофту, волосы с проседью, собранные в неряшливый узел. И я часто вспоминаю наше прошлое. Вчера, например, случайно коснувшись ее, я подумал, что для меня она все еще самая красивая женщина из всех, кого я встречал, и, наверно, единственная, с кем был по-настоящему близок.
Я не знаю почему, но мне очень сложно обсуждать с людьми важные для меня вещи, особенно с женщинами. Жанет всегда жаловалась, что я никого не подпускаю ближе, чем на метр. А может, мне просто нечего сказать другим людям. Во мне нет ничего примечательного, обычный скучный тип.
Только с Ханне я всегда находил темы для разговора. В то время, когда мы встречались, мы могли часами лежать в кровати и обсуждать любовь, политику и разные глупости. Например, почему только в Швеции популярны ножи для резки сыра или почему поезд-экспресс называется снэльтог[5]. Иногда Ханне рассказывала мне о Гренландии и инуитах, которые жили там тысячу лет в согласии с природой. Ханне мечтала поехать туда, плавать на каяке между льдин и охотиться на тюленей.
У инуитов нет никаких особенных брачных ритуалов. Они просто ложатся рядом и становятся парой. Мы шутили, что по инуитским правилам можем считаться женатыми. Мне нравилось, что Ханне умеет радоваться жизни и в ее возрасте смеяться над всякими глупостями. Она же на десять лет старше меня.
Для меня это не играло никакой роли, но Ханне мне не верила. Она говорила, что у нас не может быть детей и что я должен думать о том, что она состарится намного раньше меня, а кто захочет быть со старухой. Но я отвечал, что она никакая не старуха и что я не могу без нее.
Но все равно ничего у нас не вышло. По моей вине. Это я заставил ее ждать на улице в тот вечер, пока сидел дома на кровати с ключами от машины в руках и бутылкой водки, зажатой между колен. Я был весь в холодном поту, но не мог пошевелиться. А когда она позвонила, я был не в состоянии даже ответить. Не мог заставить себя поднять трубку и объяснить ей всю правду. Что я был не готов связать себя.
Связать себя.
Какое мерзкое выражение. Какое жалкое объяснение для любящей женщины. И как далеко оно от тех чувств, которые я действительно испытывал. Нет, это был не страх серьезных отношений, это был парализующий ужас, который невозможно передать словами. Я был в ужасе.
Если бы я только мог выразить этот ужас словами, объяснить, что со мной происходит, может, моя жизнь сегодня была бы другой.
Манфред подходит к моему столу и морщит нос:
– Ты выглядишь ужасно, Линдгрен.
– Спасибо большое. А ты, я гляжу, на лисью охоту собрался?
Он ухмыляется и поправляет клетчатый жилет. Одет он, как всегда, безупречно. Настоящий анахронизм на четвертом этаже Полицейского управления. На нем твидовый костюм-тройка с неизменным шелковым платочком в кармане.
– Стараюсь.
– Какие-нибудь новости? – спрашиваю я.
– Поступили советы от общественности на предмет портрета жертвы в прессе. Группа Бергдаля ими занимается. Но от Орре по-прежнему ни слуху ни духу. И еще кое-что. Позвонил стекольщик из Мёрбю. Сообщил, что недавно менял Орре окно в подвале. Орре сказал ему, что к нему забирались воры, но ничего не взяли. В полицию он об этом не заявлял.
– Проверим. Попроси Санчес с ним встретиться.
– Что бы мы делали без Санчес?
Фамилию он произносит на оперный манер и театрально вздымает руки. Санчес кисло смотрит на нас из-за своего стола, но никак не комментирует.
Я уезжаю из Полицейского управления в районе восьми. Я стараюсь не задерживаться после работы, по крайней мере надолго, даже когда у нас важное расследование. Все равно никто не скажет мне за это спасибо. Кого интересуют полицейские, жертвующие всем ради работы. Припарковав машину перед домом, я вдруг понимаю, что что-то не так. Дверь в подъезд приоткрыта, словно кто-то забыл ее захлопнуть, на лестнице горит свет. Я беру с сиденья пиццу, купленную по дороге, и поднимаюсь по лестнице. Дом построен в пятидесятые годы. Стены в подъезде выкрашены в мерзкий фисташковый цвет, не сочетающийся с грязным полом. Кажется, что кто-то кое-как раскидал белые и черные камушки по цементу. На каждом этаже четыре квартиры с фанерными дверьми и мусоропровод. Я живу на последнем этаже, что считал большим преимуществом, пока не сломал ногу и не попробовал карабкаться наверх на костылях.
На ступеньках перед моей дверью сидит Альбин со скейтбордом в руках. Он одет в тонкую не по погоде толстовку и джинсы, висящие низко на бедрах. Рядом с ним рваный пакет из супермаркета.
Тонкие светлые волосы закрывают лицо и торчащие уши, которые достались ему от Жанет.
– Привет, – говорит Альбин.
– Привет! Что ты тут делаешь?
– Поругался с мамашей. Можно у тебя перекантоваться?
От неожиданности я теряю дар речи. Альбин никогда у меня не ночевал.
– Не знаю. Может, лучше позвоним твоей маме? – говорю я, открывая дверь. На полу в прихожей гора грязной одежды – трусы, футболки, носки, которые я собирался стирать.
При виде этой горы я тут же закрываю дверь.
– Ты меня не впустишь?
Альбин встал и смотрит прямо на меня. На лице у него написано недоумение. Он явно не знает, можно на меня рассчитывать или нет.
– Конечно. Просто там… немного грязно.
– Не важно.
– Хорошо.
Я снова открываю дверь, и мы заходим. Альбин просачивается между мной и стеной в гостиную и опускает свое тощее тело на диван.
– Послушай, – говорю я. – Я рад тебя видеть, но не уверен, что переночевать здесь такая уж хорошая идея. Потому что…
– Почему?
– У меня нет второй кровати.
– Я могу спать здесь, – говорит Альбин и хлопает ладонью по дивану. Потом ложится вдоль, скидывает кроссовки и кладет ноги на подлокотник. Я снова подмечаю, какой он худой. Может, стоит спросить, хорошо ли он питается, как это должно делать родителям.
– Мне завтра рано вставать… – настаиваю я, – так что это не очень удобно.
– И? Я могу уйти позже. Мамаша слетела с катушек. Я не хочу возвращаться домой.
– …И к тому же мне надо поработать вечером.
– Я не буду тебе мешать.
Я расхаживаю по квартире, не зная, что делать дальше. Наконец, останавливаюсь, кладу пиццу на журнальный столик и задаю следующий вопрос:
– А Жанет? Она знает, что ты здесь?
Альбин прикрывает глаза рукой с таким видом, словно мои вопросы его утомили.
– Не.
– Но она же наверняка волнуется. Я ей позвоню.
Жанет приезжает через час. Она в приподнятом настроении и трещит без передыху. Выясняется, что она учится на мастера по маникюру и весьма довольна своим новым увлечением. В доказательство она демонстрирует свои длинные ногти истошно-розового цвета, и я хвалю их, хотя это самое худшее из того, что я видел.
Жанет и Альбин долго о чем-то шепчутся. Потом она сжимает сына в объятьях, и я решаю, что ссора закончилась. Мне остается только сказать, что сегодня я не могу принять Альбина. Сегодня никак нельзя. Мои слова ее не удивляют. Да и что тут удивительного. В моей жизни никогда не было места Альбину.
Потом я стою и смотрю в окно, как они идут к маленькому «Гольфу» Жанет. Перед тем как сесть в машину, Альбин поворачивается и смотрит на мое окно. Наши взгляды встречаются. Инстинктивно я делаю шаг назад и прячусь за занавеской. Стою с зажмуренными глазами и жду, когда машина заведется и уедет.
Когда Альбин был маленьким, я подумывал о том, чтобы стать к нему ближе. Хотел сводить в парк аттракционов или на футбольный матч. Но при этом я никогда не мог представить нас вместе. Я не знал, как вести себя с сыном, и от этого незнания я впадал в панику. Я успокаивал себя мыслью, что пока рано, надо дождаться, когда он вырастет и будет больше понимать. Опыт общения со взрослыми у меня по крайней мере есть.
Но с каждым годом становилось только сложнее. Как можно вот так вдруг начать общаться со своим сыном, которого совсем не знаешь? Что можно сказать чужому для тебя человеку, который только по воле случая является твоей плотью и кровью, да к тому же наверняка ненавидит тебя? Нет, футбольный матч уже не казался хорошей идей. Как бы мы стояли там с пивом в руках и притворялись приятелями? А что, если он ждет, что я разрыдаюсь и объясню, почему никогда не заботился о нем? Разумеется, на матч мы так и не сходили.
…На следующее утро мы с Манфредом едем в дом Йеспера Орре. Заградительная лента все еще на двери. Она колышется на ветру, когда мы идем от калитки к двери. Манфред достает ключи, открывает дверь и включает свет.
Крови в прихожей больше нет. Она выглядит как обычная прихожая. Только внимательно присмотревшись, можно заметить ржавые пятна между плитками на полу и на стенах. Смерть так легко не уходит, думаю я. Она всегда оставляет след в тех местах, где она побывала, вгрызается в пол и стены, оставляет после себя запах, который ничем не замаскировать. Большинство людей решают сделать полный ремонт дома, где произошло убийство.
– Что мы ищем? – интересуюсь я.
– Понятия не имею. То, что упустили криминалисты. Мы начинаем методично обыскивать дом – комнату за комнатой. Делаем фото, роемся в гардеробе, в посудном шкафу, в ящичке с лекарствами. Фото мы делаем для себя. Официальные снимки с места преступления были сделаны ранее.
Дом чистый и аккуратный, напоминает жилище педанта, и в нем почти нет личных вещей. Только одна фотография в гостиной. На ней запечатлен Орре с несколькими девушками на пляже.
Манфред кивает мне:
– Этот снимок уже есть в отчете.
– Почему стекло разбито? – спрашиваю, проводя пальцем по рамке.
Манфред пожимает плечами.
– Понятия не имею.
– Может, жертва – одна из этих девушек на фото?
– Возможно. Но фото слишком расплывчатое.
Как обычно при обыске, я чувствую себя преступником, вторгшимся в чужое жилище. Какое у меня право рыться в нижнем белье и в холодильнике незнакомых мне людей, подобно стервятнику? Но я знаю, что другого выхода у нас нет. Манфред просматривает книжную полку, на которой почти нет книг, только какие-то безделушки и деловые журналы. Приподняв пару случайно затесавшихся там книг, Манфред кричит:
– Гляди, что я нашел, Линдгрен!
Я подхожу к нему. У него в руках DVD-диск. На обложке – связанная голая женщина с широко раскинутыми ногами, стоящая на парковке. Рядом с ней – спиной к фотографу – мужчина с плеткой в руке.
– Вот дерьмо…
– Я же говорил, что он извращенец, – бормочет Манфред.
– Возьмешь посмотреть? Манфред криво улыбается:
– Готов поклясться: Афсанех мне яйца отрежет, если найдет у меня эту порнушку. Может, ты возьмешь? Тебе не помешает развлечься.
– Конечно. Садо-мазо порнушка всегда поднимает мне настроение.
Мы кладем фильм на место и проходим в кухню. Сверкающие черные шкафы и рабочие поверхности из нержавейки напоминают кабинет патологоанатома в Сольне. Даже раковина с встроенным шлангом, как в душе, похожа скорее на профессиональное оборудование какого-нибудь ресторана.
– Я бы не назвал этот дом уютным, – морщится Манфред.
Тут я с ним согласен, но хорошо, что он никогда не был у меня дома. Потому что представляю его мину при виде моей халупы. Манфред с Афсанех живут в доме, построенном в начале века, с каминами, обитыми плиткой, и картинами на стенах. У них есть шторы, подушки, пестрые ковры, книги и все то, чем мне так и не довелось обзавестись. Есть у них и формы для выпечки, аппарат для стерилизации бутылочек для кормления, мороженица, соковыжималка. А на зеркале в прихожей – приглашения на разные мероприятия, свидетельствующие о том, как много у них друзей и какая насыщенная у них жизнь.
– Спустимся в подвал? – спрашивает Манфред и, не дожидаясь ответа, идет в прихожую. Я иду за ним. Мы спускаемся по лестнице, прогибающейся под нашей тяжестью. В нос ударяет запах плесени и стирального порошка. Кряхтит генератор. Внезапно у меня кружится голова, я чувствую, что мне нужно присесть, но продолжаю идти за Манфредом. В прачечной он зажигает свет и открывает дверцы шкафов. Аккуратно сложенные полотенца и простыни, а рядом корзина с женским нижним бельем, которую из дальнего угла достали криминалисты. Манфред осторожно вываливает содержимое на стол рядом со стиральной машиной. Черные кружева, красный шелк, розы и стразы. Вот они – трофеи Йеспера Орре.
– Смотри-ка, – восклицает Манфред и поднимает узенькие трусики с нашитыми жемчужинами. Выглядят неудобными. И, наверно, эти жемчужины адски натирают между ягодицами…
Я не отвечаю. Думаю о том, что никогда не видел на Ханне ничего подобного и, наверно, уже не увижу.
Мы возвращаем ворованные трусы на место и подходим к корзинам с грязным бельем, заполненным идентичными белыми рубашками, трусами, полотенцами и спортивной формой. Я достаю пару потертых джинсов и оглядываю. Никаких подозрительных пятен, размер явно мужской. И когда я уже собираюсь вернуть их обратно в корзину, я нащупываю что-то в заднем кармане, как будто кто-то оставил там чек или банкноту.
Я достаю бумажку и разворачиваю. Это лист бумаги размера А4. Почерк округлый, почти детский.
Йеспер.
Я пишу тебе, потому что считаю, что ты обязан передо мной объясниться. Я понимаю, что можно разлюбить человека, такое бывает. Но оставить меня одну на ужине в честь нашей помолвки, не сказав ни слова, это некрасиво. А потом делать вид, что меня не существует, и не отвечать, когда я пытаюсь с тобой связаться. Ты подумал, каково мне сейчас? Если ты хотел причинить мне боль, то тебе это удалось.
Но ты еще не знаешь, что я жду от тебя ребенка. Нашего ребенка. И что бы ты ни испытывал ко мне, ребенок тут ни при чем. Мы должны поговорить. Я не жду, что ты возьмешь на себя ответственность, но все равно хочу с тобой это обсудить. Думаю, хотя бы это ты должен для меня сделать.
Эмма.
Эмма
Месяцем ранее
Я лежу в кровати, страдаю от адской боли в животе и думаю о Спике. О том разе, когда нас застукала Элин. Мы были в чулане рядом с классом труда. Я спросила Спика:
– У тебя когда-нибудь было ощущение, что все происходит во сне? Или что твоя жизнь – это кино?
– Какой странный вопрос. Что ты имеешь в виду?
Он повесил молоток на гвоздь на стене. В классе рядом было пусто. В половине двенадцатого все или на обеде в столовой, или на школьном дворе.
– Я имею в виду, что иногда мне кажется, что все, что со мной происходит, это не реальность, а сон. С тобой такого не случалось?
– Нет. – Он внимательно посмотрел на меня. – Может, это потому, что ты только что потеряла отца? – произнес он с участием в голосе.
Я ничего не ответила. Мне не хотелось думать о папе. О людях, которые забрали его, о маме, которая спала в ванной с тех пор, как это произошло.
Спик достал метлу и начал молча подметать пол. Связка ключей позвякивала при каждом наклоне вперёд. Я сделала шаг назад и прижалась к стене, чтобы освободить место для метлы. Бетонная стена холодила мне спину. Внезапно он отставил метлу в сторону, оперся о столярный стол, посмотрел на меня и пожал плечами:
– Все наладится.
– Откуда ты знаешь? Все так говорят, но откуда они это знают?
Спик стряхнул пыль со штанов.
– Я знаю. Мой отец умер, когда я был в твоем возрасте. Он пережил диктатуру и сбежал в Швецию, но вскоре по прибытии с ним случился инфаркт. Безумие, да?
Я не знала, что на это ответить.
– Я думал, что у меня хватит сил выдержать его смерть, – продолжил Спик. – Думал, я справлюсь, но это оказалось гораздо сложнее. Если бы только у меня был кто-то, с кем можно было бы поговорить, кто-то, кто выслушал бы меня и понял.
– Что произошло?
Спик посмотрел на свои руки. Вытянул их вперед и долго разглядывал, словно хотел проверить, чистые они или нет. На большом пальце у него был уродливый порез, только начинавший затягиваться. Мизинец другой руки залеплен грязным пластырем.
– Я нажил неприятностей.
– Каких?
– Спутался с плохими парнями. Был близок к тому, чтобы разрушить свое будущее. Прошло много времени, прежде чем я снова смог вернуться к нормальной жизни.
– Ты кому-то навредил?
Он рассмеялся, словно я сказала какую-то глупость, и запустил руки в свои черные волосы.
– Только себе самому. Но тебе нечего опасаться, Эмма. Ты хорошая девушка, понимаешь? Ты из хорошего района. У тебя есть семья и друзья. Все будет хорошо.
Я расстроилась. Я не хотела быть хорошей девушкой. Я хотела быть кем-то другим, кем-то важным, кем-то опасным, кем-то значимым. Мне хотелось повторения того, что случилось в подсобке. Хотелось услышать свое имя из его уст, почувствовать его руки на своей голой коже.
Я сделала шаг вперед.
– Эмма? – удивился он.
Я подошла совсем близко, обняла его руками и прижалась к его теплому телу. От него пахло табачным дымом и потом. Он вытянулся в струнку, но потом неуклюже положил руку мне на плечо и похлопал, как хлопают послушную собаку.
– Все будет хорошо, Эмма, я обещаю.
Его слова вызвали у меня обратную реакцию. Что, если я не хочу, чтобы все наладилось? Я запрокинула голову назад, чтобы заглянуть ему в глаза. Не уверена, но мне показалось, что в его глазах появился страх. Спик смотрел на меня с тревогой, ожидая моего следующего шага. Встав на цыпочки, я поцеловала его. Губы у него были узкими и твердыми, совсем не как в прошлый раз. Он стоял неподвижно, а потом вдруг весь затрясся и оттолкнул меня от себя.
– Эмма! Что?
Из класса раздался какой-то звук. Я обернулась и увидела в дверях Элин.
Она словно собиралась войти, но застыла на месте, наклонившись вперед и балансируя на краю, как спортсменка, готовясь к прыжку в воду. Рот приоткрыт, в руках банка газировки.
– Элин, – крикнул Спик, – подойди сюда. Я хочу поговорить с тобой.
Элин не пошевелилась, но банка медленно выскользнула у нее из руки. Прошла вечность, прежде чем банка шлепнулась на пол и ее содержимое выплеснулось на линолеум.
– Элин, – кричит он снова, но она уже повернулась и выбежала из класса. Еще мгновение – и ее потертая кожаная куртка и красная шапка скрылись из виду и шум ее шагов стих.
В три ночи я принимаю обезболивающее. Живот болит, кровотечение продолжается. Наконец, я погружаюсь в полудрёму. Я так и не поняла, удалось мне заснуть или нет, как наступило утро. Живот болит меньше, даже почти не болит. Может, я просто свыклась с этой болью, может, мои чувства притупились. Мне кажется, что я медленно превращаюсь в камень, холодный, твердый, бесчувственный ко всему, что со мной происходит. На улице еще темно, в комнате холодно, так хочется вернуться в кровать, но я знаю, что нельзя. Я должна встать и сделать что-то с этой ситуацией. Я не могу оставаться марионеткой в руках Йеспера и играть в поставленном им спектакле.
Я решаю поехать на работу, с которой меня уволили, под предлогом, что Ольге надо вернуть ключи от машины.
– Привет, – говорит она, не отрываясь от бульварной газеты.
Я присаживаюсь напротив.
– Привет.
Ольга медленно переворачивает страницу одной рукой, в другой зажата незажженная сигарета. Я достаю ключи от машины и кладу перед ней на стол.
– Спасибо за машину.
– Черт знает что творится с этим Евровидением.
Я молчу.
– Перекур?
– Давай, – соглашаюсь я.
Мы выходим в коридор, который ведет к мусоросборнику. Там строго запрещено курить, но, естественно, все там курят.
Вдоль стен стоят сложенные картонные коробки, к стене прислонена тележка.
– Хочешь?
Ольга достает из кармана пачку сигарет. Я качаю головой.
– Нет, спасибо.
Она удивленно смотрит на меня своими большими, блестящими, как стекляшки, глазами, потом нагибается и проводит пальцем по моей щеке.
– Вот дерьмо, Эмма, что с тобой произошло?
– Я упала в кусты.
На лице у нее сомнение.
– Это он сделал? Твой парень? Он тебя избил? Ты должна заявить в полицию.
– Никто меня не бил. Я за ним проследила. Я знаю, где он живет…
Я начинаю заикаться, предательские рыдания подступают к горлу. Ольга легонько сжимает мою руку, и я чувствую ее длинные ногти.
– Что случилось, Эмма? Расскажи мне. Тебе будет легче.
– Он живет в большом доме в Юрсхольме… с другой женщиной. Он с самого начала меня обманывал. Говорил, что нельзя никому рассказывать о наших отношениях, потому что это может навредить его работе. Вот почему никто не должен был видеть нас вместе. Но он лгал, причина была совсем не в этом. У него уже есть девушка, понимаешь? Это безумие какое-то… И я вспомнила, что ты говорила, что он психопат и хочет мне навредить, и теперь я не знаю, что мне делать. Он разрушил мою жизнь, и я сама позволила ему это сделать.
Ольга вздыхает и опирается на бетонную стену. Смотрит на пыльную люминесцентную лампу на потолке. Пол вибрирует под ногами от проходящего где-то под землей поезда метро. Пахнет влажным бетоном и плесенью.
– Эмма, – говорит она и медленно выдыхает дым. Облачко дыма поднимается к потолку и там рассеивается, – тебе нужно его забыть. Выкинуть из головы. Ты помешалась на нем, это ненормально. И если он этого добивался, то ему действительно удалось.
– Забыть?
– Да, забыть и жить дальше. Не позволять ему и впредь тратить тебе жизнь.
– Портить мне жизнь.
Ольга игнорирует мое замечание.
– Забей на него. Найди другого. Он тебя недостоин. Живи дальше.
– Я не могу, – едва слышно говорю я.
Раздается хлопок двери, холодный ветер бьет по ногам. Кто-то идет. Ольга тушит сигарету об стену. Окурок оставляет черную отметину на стене рядом с сотнями других.
– Почему не можешь? – строго спрашивает она.
– Потому что он… бросил меня… и забрал мои деньги, и моего кота, и…
– Ты уверена, что он забрал кота?
– Нет, но…
– И он ведь не давал тебе расписки, так?
– Конечно, нет. Кто берет расписку с собственного парня?
– Тогда ты ничего не сможешь доказать. Ты сама виновата.
Мне неприятно все это слышать. Ольга бывает такой жестокой, такой бесчувственной. Не заметив мою реакцию, Ольга что-то обдумывает. Шаги приближаются. Ольгу осеняет:
– Может, подашь на него в суд?
– Подам в суд? За что?
– Придумай что-нибудь.
Открывается дверь, и появляется Манур. Темные волосы собраны в пучок сверху, глаза жирно подведены черным карандашом. С такой прической она похожа на гейшу.
– Вы же знаете, что здесь нельзя курить?
– Кто бы говорил, – бормочет Ольга.
– Выходите. Это против правил – уходить на перерыв одновременно, когда я одна в магазине.
Не дожидаясь ответа, она разворачивается и уходит. Тяжелая металлическая дверь захлопывается с сопящим звуком.
– Она совсем как Бьёрне, – фыркает Ольга.
– Что случилось с твоим отцом?
Мы с Йеспером идем вдоль моря в парке Тантолунден. Это был один из тех редких случаев, когда мы были вдвоем на публике. Но в такую прекрасную погоду мы просто не могли сидеть в его квартире на Капельгрэнд.
– Он умер.
– Это я понял, но как это произошло? Сколько тебе было лет?
– Пятнадцать.
– Сложный возраст.
Я задумалась. Чем пятнадцать сложнее двенадцати или восемнадцати? Или он это сказал только из вежливости?
– Может быть.
– Он болел?
Йеспер остановился около дачи. Весь участок был засажен разноцветными пеларгониями и уставлен фарфоровыми фигурками.
К нам подбежала крошечная собачка и начала оглушительно лаять.
– Он повесился.
– Боже мой, Эмма! Почему ты ничего не рассказывала?
– Ты не спрашивал.
– Ты должна была сказать.
Он притянул меня к себе и сжал в объятьях.
– Что бы это изменило?
– Наверное, ничего, но я мог бы тебе помочь. Поддержать.
– Поддержать?
Я не хотела вкладывать иронию в эти слова, это вышло само собой.
Мысль о том, что он, не желавший, чтобы нас даже видели вместе в городе, мог бы в чем-то поддержать меня, была абсурдной. Но Йеспер не уловил иронии. Он поцеловал меня и взял за руку.
– Пошли!
Мы молча продолжили путь вдоль моря. Вокруг сновали по-летнему одетые стокгольмцы – пешком, на велосипедах, на каяках. Неподалеку двое азиатов удили рыбу. Поплавки покачивались на спокойной воде, свидетельствуя о полном отсутствии интереса у рыб к наживке. Может, они тоже были в отпуске.
Йеспер переплел свои пальцы с моими и так крепко сжал мою руку, что мне стало больно, но я не протестовала. Я думала о своем прошлом, о семье, которая у нас была, о маме, и папе, и квартире, заваленной вещами: сломанной мебелью, драными полотенцами, кусками от ковров, пустыми бутылками, стеклянными банками всех размеров – с крышками или без.
Почему у нас было так много вещей? Кто их собирал? Наверняка мама, потому что и после смерти отца чище в доме не стало. Я думала обо всех тех мелочах, из-за которых мы ссорились. Чья очередь мыть посуду, можно ли мне гулять до одиннадцати вечера, кто не так разрезал сыр, не сняв корку, и почему мама не могла расслабиться без пары банок пива вечером?
Больше ничего не осталось от той жизни, только частицы воспоминаний о времени, которое давно прошло, и о людях, которые умерли. Тех мест и вещей больше нет. Как и нет планов на будущее, обещаний, любви и горя.
– Почему он покончил с собой?
– Не знаю. Он пил. Мама тоже. Но не знаю, был ли причиной алкоголь. Странно, но я многого не помню из своего детства. Как будто у меня в памяти провалы. Некоторые года напрочь отсутствуют.
– Так бывает. Все забывают.
– Правда?
Он не ответил. Мы дошли до плотика и, как по договоренности, спустились туда и сели прямо на темные, пахнущие смолой доски на самом краю.
Прямо под нашими ногами сверкала на солнце вода, подернутая рябью от легкого ветерка. По ту сторону залива то тут то там торчали из зеленой чащи дома, как будто играющие в прятки.
– Можешь не отвечать, если не хочешь, но кто его обнаружил?
Я оперлась на локти, а потом легла на спину и уставилась в небо. Безупречной формы – как с картинки – облачка проплывали высоко над нами. Над морем с криками кружили чайки.
– Мама нашла его. Он повесился в гостиной. Она отрезала веревку кухонным ножом. Когда я пришла домой, он лежал на половике в прихожей с веревкой на шее.
– Ты его видела?
– Да.
– Тысяча чертей! Ты должна была сказать мне, Эмма.
Я ничего не ответила, но, закрыв глаза, увидела снова ту картину. Папа лежал на половике с рисунком из подсолнухов, связанном одной из тетушек. Шея туго перетянута синим шнурком. У лица был странный цвет, из раскрытого рта вываливался язык. А мама сидела рядом на корточках, покачиваясь взад-вперед, и бормотала что-то нечленораздельное.
Йеспер прилег рядом, прищурил глаза от солнца и накрыл ладонью мою грудь.
– Бедная маленькая Эмма, – пробормотал он. – Я позабочусь о тебе.
И в тот момент, посреди всей этой красоты, согреваемая лучами солнца, я ему поверила. Я действительно ему верила.
– …Не забудь шапку и перчатки. – Манур показывает на стойку у кассы. Я киваю. Весь день я ждала, что она или Ольга скажут мне идти домой, потому что меня уволили, но никто ничего не говорит, и я все больше убеждаюсь, что коллеги не в курсе моего увольнения, видимо, связь между отделом персонала и самим персоналом работает небезупречно, точнее, совсем не работает. Судя по всему, я могу оставаться здесь сколько захочу, словно это от меня зависит, когда разорвать наши отношения с компанией. Медленно я начинаю двигать стойку с шапками и перчатками от кассы к выходу. Эти постоянные перестановки в магазине крайне утомляют. Я знаю, что от этого зависят результаты продаж, но нет занятия бессмысленней, чем перемещать гору джинсов из одного конца магазина в другой.
Ольга спешит мне на помощь. Ставит стойку с шарфами рядом. Я изучаю инструкции из отдела мерчендайзинга и смотрю на стойки.
– Мне кажется, все правильно.
– Дай глянуть, – тянется за инструкцией Ольга.
Она переводит взгляд с картинки на стойки и потом кивает:
– Почти. – Она поправляет шапки. – Вот эти должны быть здесь.
Мы помним, что в любой момент может нагрянуть начальство с проверкой. Обычно инспекторы смотрят все, включая подсобку и туалет. И если выясняется, что что-то не в порядке, то магазин получает черную метку, что в дальнейшем может сказаться на бонусе для персонала. А персонал – это мы. И что бы мы ни думали о начальстве из главного офиса, нельзя отрицать, что их дьявольская система проверок работает весьма эффективно.
– Кстати, Ольга, ты говорила о мести. Что ты мне посоветуешь?
Ольга скрещивает руки на груди, хмурит брови.
– Не знаю. Встреться с ним. Скажи все, что ты о нем думаешь.
– А если он не захочет меня слушать?
Ольга поднимает перчатки, упавшие со стойки на пол. Когда она выпрямляется, на лице у нее написано раздражение.
– Мне-то откуда знать.
Ее резкий тон меня удивляет.
– Нет, это понятно. Но ты сама это предложила. Я думала, у тебя есть какие-нибудь идеи.
Ольга не отвечает, притворяется, что занята перчатками. От кассы доносится мягкий смех Манур. Она шутит с покупателем. Я колеблюсь, но все равно спрашиваю:
– Он мне должен сто тысяч. Правильно ли будет… украсть у него сто тысяч?
Наши взгляды встречаются.
– Почему бы и нет, – пожимает плечами Ольга.
Я закрепляю колесики на стойках и в последний раз поправляю шапки, аккуратно висящие на металлических крючках.
– А что, если у него есть собака? – спрашиваю я. – Забрать ее? И выпустить в лесу в паре километров от дома?
Ольга застывает. На лице написано отвращение.
– Зачем тебе его собака? Ты что, совсем больная?
– Но он же забрал моего кота.
– Мы этого наверняка не знаем. Может, кот сам убежал.
Нет, я знаю, что это он. Но не хочу спорить с Ольгой. Пусть думает что хочет.
По аромату духов в воздухе я угадываю приближение Манур.
– О чем вы говорите? – спрашивает она, кладя мне руку на плечо.
– Ничего особенного, – лжет Ольга и протягивает ей инструкцию. – Мы все правильно поставили?
Манур сравнивает картинку с результатом.
– Прекрасно, – хвалит она, но Ольга уже повернулась на высоченных каблуках и идет по направлению к чулану.
Я думаю, что любая месть хороша в моей ситуации. Я должна что-то предпринять, если не хочу сойти с ума. Нутром чувствую, что другого выхода у меня нет.
Но что я могу сделать такому человеку, как Йеспер Орре? Мужчине, у которого есть все: деньги, успех, женщины… Самая логичная месть – отплатить ему той же монетой: око за око, зуб за зуб. Он прокрался в мой дом, украл мои ценности, моего домашнего любимца. Он отнял у меня работу, деньги, ребенка. Но, может, Ольга права, и та же монета – плохая идея? Или?..
Когда я поправляю шапку, мой взгляд падает на кольцо, сверкающее на пальце, и внезапно я знаю, что мне делать.
На полках громоздятся часы, украшения, серебряные безделушки. В магазине царит полумрак, только стойка ярко освещена. Рядом со стойкой потертый кожаный диван бордового цвета. Темноволосая женщина с пакетом на коленях сидит на диване. Когда я смотрю в ее сторону, она отводит глаза. Я поворачиваюсь к женщине за прилавком. На вид ей лет шестьдесят. У нее короткие высветленные волосы, комплект двойка из кофты и водолазки и плиссированная шерстяная юбка. Она похожа на героиню фильмов пятидесятых, стареющую Дорис Дэй, которая в свободное от съемок время подрабатывает в ломбарде. Женщина поднимает кольцо, смотрит на него через миниатюрный бинокль.
– Очень хорошо, – говорит она. – Очень хороший камень.
– Мы расстались, – сообщаю я.
Она поднимает руку вверх, показывая, что нет нужды рассказывать, зачем мне понадобилось продавать кольцо. Здесь эта информация никого не интересует.
– У нас полно обручальных колец, – бормочет она, продолжая заниматься своим делом. Я смотрю на ее макушку с темными корнями волос с проседью. Не отрывая глаз от кольца, она сообщает: – Вы можете получить за него залог в двадцать тысяч крон.
– Только двадцать? Оно стоило дороже.
Она откладывает бинокль в сторону, кладет кольцо на синюю бархатную подушечку и устало смотрит на меня.
– Больше мы дать вам не можем.
Воцаряется тишина. Я оглядываюсь по сторонам. На одной стене висит электронная гитара бренда «Гибсон». Судя по всему, на продажу. На другой на полке выставлены золотые кольца, явно обручальные. Сотни разрушенных надежд на счастье, выставленных на всеобщее обозрение. Женщина по-прежнему сидит на диване, пряча глаза.
– Согласна, – отвечаю я.
Дорис Дэй кивает и поправляет прическу.
– Тогда я подготовлю залоговую. Мне понадобится кое-какая информация. – Она кладет передо мной формуляр и ставит крестики напротив обязательных полей для заполнения. – Заполните вот здесь, и мне нужно удостоверение личности.
Я достаю идентификационную карточку и ловлю себя на мысли, что мне не стыдно быть в ломбарде. Это не моя вина, что я оказалась в такой ужасной ситуации, и я не стыжусь того, что пытаюсь из нее выбраться. И внезапно мне хочется всем им продемонстрировать, что мне нечего стыдиться.
– Хорошо. Теперь я смогу оплатить счета, и мне включат телефон и телевидение, и я забыла про квартплату. Теперь меня не вышвырнут на улицу. Вот это действительно было бы неприятно.
Дорис Дэй не отвечает, только кивает, не поднимая глаз. Она, наверно, и не такое слышала, догадываюсь я. Женщина на диване заливается краской. Вид у нее такой, словно она сейчас сбежит из ломбарда.
– До свидания, – говорю я ей. – Надеюсь, вы за свои вещи много выручите.
Вместо ответа она только крепче сжимает пакет на коленях.
Ханне
Гунилла везет меня на Шеппаргатан. В четыре уже стемнело. На дорогах скользко. Она паркуется на улице Каптенсгатан, выключает мотор и поворачивается ко мне. Ее светлые волосы в свете фонарей обрамляют лицо как нимб.
– Пойти с тобой?
Я обдумываю ее предложение.
– Лучше да, если ты ничего против не имеешь. Обычно он в такое время еще не дома, но кто знает.
– О’кей. Пошли за Фридой.
Мы подходим к подъезду. Поразительно, меня не было всего пару дней, а кажется, что дом изменился. Стал темным и недружелюбным, как дом чужих мне людей. Он словно разорвал со мной контракт и выставил на улицу. Но ведь все совсем наоборот, думаю я. Это я оставила квартиру на Шеппаргатан. Я набираю код, и дверь открывается с легким жужжанием. В лифте я роюсь в сумке в поисках ключей и чувствую, как у меня дрожат руки. Гунилла открывает дверь лифта, и ключи падают на пол. Подруга поднимает их и касается рукой моей щеки, словно проверяя, нет ли у меня температуры.
– Дружочек, ты вся дрожишь.
– Это только…
Она кивает, берет меня за руку и подводит к двери в квартиру. Сама отпирает дверь, и Фрида бросается мне навстречу. Я опускаюсь на корточки, зарываюсь лицом в черный кудрявый мех и рыдаю от счастья. Фрида лижет мне лицо, радостно повизгивая.
Какая огромная и безусловная любовь, думаю я. Что я сделала, чтобы ее заслужить? Почему люди не могут просто любить друг друга? Почему им непременно нужно обладать предметом своей любви?
Мы входим в прихожую и включаем свет. Все выглядит как обычно. Одежда висит на вешалке в прихожей, обувь стоит на полочке, письма лежат под зеркалом. Гунилла проглядывает стопку и достает адресованные мне. Я заглядываю в кухню. Мои желтые записки все еще наклеены на кухонные шкафы и шелестят на сквозняке.
Напоминания.
Тиканье часов в кухне режет слух. Я поворачиваюсь и иду в гостиную. Смотрю на книжный шкаф. Раздумываю, потом беру мемуары Хальворсена, в которых речь идет о его переезде в Гренландию в начале века, и собрание эссе об инуитах, подаренное отцом в честь моего поступления в университет. Я смотрю на декоративные безделушки: маски, статуэтки и прочую ерунду, но единственное, что я при этом испытываю, это отвращение, физическое отвращение. При мысли о том, почему я их получила, к горлу подходит тошнота.
– Разве тебе мало книг? Может, лучше возьмешь одежду? – спрашивает Гунилла.
Я качаю головой.
– Лучше купить новую.
Гунилла молчит, я снова слышу тиканье часов из кухни. Или это уже тикает у меня в голове? Где-то между висками движутся стрелки, оставляя болезненные раны у меня в подсознании. Все вокруг меня начинает шататься. Меня тошнит. Я делаю шаг к Гунилле и хватаю ее за руку. Она с тревогой смотрит на меня. Между бровей у нее глубокая морщинка. Подруга сжимает мою руку.
– А косметика? Может, что-то нужно? Я качаю головой.
– Ничего. Мне ничего отсюда не надо.
Мы возвращаемся домой к Гунилле. Она готовит мне чай и собирает вещи. Подруга уезжает в круиз выходного дня со своим новым возлюбленным. Тем, кто заставляет ее чувствовать себя молодой и желанной, чего никогда не удавалось ее бывшему мужу.
Фрида спит на пледе на диване в счастливом неведении людских проблем. Гунилла что-то напевает, я не узнаю мелодию, но от ее голоса мне уютно и тепло. Мне вспоминается прошлое – время, которое я забыла или загнала в дальний уголок памяти, чтобы избежать страданий.
Как я рада за Гуниллу. Невероятно, что она так счастлива. Даже на пенсии, вырастив двоих детей, можно снова влюбиться и испытать страсть. Можно поехать в круиз, есть вкусную еду и заниматься сексом с любимым человеком, потому что тебе этого хочется, а не потому, что это супружеский долг или унизительная старая привычка.
Были ли мы влюблены, Уве и я? В молодости? Правда, только я была молодой, когда мы познакомились.
Мне было девятнадцать, а ему было под тридцать. Уве уже был один раз женат и уже закончил образование. Он стал мне скорее новым родителем, а не мужем, потому что мы с ним никогда не были на равных. Я всегда была в подчинении. Но страсть? Была ли страсть? Я пытаюсь вспомнить, но, как обычно, ничего не помню. Больше всего провалов у меня именно в том, что касается нашего с Уве прошлого. Здесь ткань памяти самая тонкая и непрочная, и я не могу вспомнить, как это было. Может, потому что его затмевает настоящее? Стыд в глазах Уве, когда он смотрит на записки на кухонных шкафах, слабый запах вареной капусты, исходящий от его тела и его уродливых джемперов, которые он не снимает даже дома за ужином. Его манера затыкать рот другим гостям своими напыщенными речами о философии или театре, о которых он на самом деле понятия не имеет.
– Справишься без меня? – спрашивает Гунилла, выходя в прихожую с небольшой сумкой и надевая шубу.
– Разумеется.
– Если что, звони.
Я обнимаю подругу. Вдыхаю аромат ее парфюма, прижимаюсь щекой к шелковистому меху.
– Повеселись хорошенько! – говорю я и надеюсь, что мои слова звучат искренне. Гунилла смотрит на меня с сомнением. Машет рукой на прощание, с улыбкой поднимает сумку и выходит.
Я наливаю стакан воды и принимаю лекарства: две белые таблетки, одна желтая. И думаю: я живу сверхурочно. В чужой квартире, далеко от мужа.
Жизнь – странная штука, и с возрастом она не становится понятней. Но как-то привыкаешь к ее странностям, становишься гибче. Секрет в том, чтобы примириться с мыслью, что твоя жизнь не такая, о какой ты мечтал.
На часах двадцать минут десятого. Ветер свистит за окном. Но в квартире тепло и уютно. Подушки в цветочек, цветные шторы с воланами – все то, что ненавидит муж Гуниллы, теперь согревает подруге и мне душу. Йон был строителем, но предпочитал считать себя архитектором. Их с Гуниллой дом был выполнен в минималистском стиле с использованием только белого и разных оттенков серого, что делало его безликим, как медицинская лаборатория. И все попытки Гуниллы освежить это мрачное жилище с помощью разноцветных подушек или фарфоровых безделушек пресекались на корню.
Я смотрю в окно и гадаю, как там Гунилла переживает бурю в каюте корабля?
Уве прислал мне три сообщения. В первом он просил прощения за свое утреннее поведение. Говорил, что любит меня, что у Фриды все хорошо, но что они оба по мне скучают. Второе было уже в другом тоне. Он обнаружил отсутствие Фриды и писал, что мне «по крайней мере следовало предупредить его». Я видела между строк его фрустрацию из-за того, что муж больше не может контролировать каждый мой шаг, как музыкант чувствует фальшивую ноту.
Третье сообщение пришло час назад и было откровенно злобным.
Предлагаю встретиться в 20.00 в КБ и обсудить варианты действий. Рассчитываю на то, что ты придешь. Уве.
Я так и вижу его перед собой в баре с бокалом «Шабли» в руке. Он сидит и бесится от того, что меня нет.
Серые волосы стоят дыбом. Снова сообщение. Я поднимаю телефон и устало проглядываю текст.
Не рассчитывай на мою поддержку. Сегодня – последний раз, когда я предлагаю свою помощь. Твое поведение безответственно. Живи как хочешь.
Я смотрю на стол, заваленный бумагами. Просматриваю дело Кальдерона. Смотрю на отрезанную голову с подклеенными глазами и читаю собственные слова: Го лову специально поставили так, чтобы она смотрела на входную дверь, глаза подклеили скотчем. Это было сделано, чтобы входящий встретился глазами с жертвой. Мотивом может быть…
Где-то внутри меня рождается мысль, такая свежая и неожиданная, что мне самой трудно в нее поверить. Я беру отчет криминалистов о месте преступления в деле Йеспера Орре и листаю его. Мое внимание привлекает список предметов, найденных на полу в прихожей. Две сломанные спички найдены возле головы убитой женщины. Я тянусь за телефоном. Он сразу берет трубку, как будто ждал моего звонка.
– Ханне? – говорит он.
– Я кое-что нашла. В отчете криминалистов о доме Орре.
Пауза. Я слышу музыку на заднем плане.
– Вот как. Может, завтра обсудим? Я еду домой.
– Мне кажется, это важно. Пауза.
– Где ты?
Через пятнадцать минут раздается звонок в дверь. У Петера снег в волосах, и я испытываю искушение поднять руку и смахнуть снежинки, но вовремя останавливаюсь.
– Входи.
Он снимает обувь, вешает куртку на крючок рядом с моей, оглядывает прихожую. Впалые щеки раскраснелись на холоде, в светлых бровях сверкают капельки воды от растаявшего снега.
– Приятная квартира. Твоя?
Я качаю головой:
– Нет. Я временно живу у подруги.
Я прохожу в кухню и показываю на стул:
– Садись. Налить тебе чаю?
Он качает головой:
– Спасибо, не нужно.
Я сажусь напротив и открываю отчет.
– Соседка, – говорю я, – она трогала жертву?
– Та тетка? Которая ее нашла?
– Она самая.
Петер поднимает глаза к потолку.
– Да, трогала. Если я правильно помню, она проверила, действительно ли та мертва. Как будто в этом могли быть какие-то сомнения.
– Трогала голову?
– Ну да, судя по всему.
– Передвигала?
Наши глаза встречаются. Его зеленые все в красных жилках, словно он плакал или бурно тусил. Я склоняюсь к последнему варианту.
– Передвигала? Вряд ли, наверно, только касалась.
– Значит, она могла что-то поменять.
– Естественно. Она порядочно там натоптала.
– Потому что тут…
Я нахожу место и провожу пальцем. – Тут написано, что две сломанные спички были найдены рядом с головой. Петер наклоняется вперед, смотрит на текст:
– Да, две спички, монета в одну крону, зажигалка и помада марки «Шанель». Вероятно, эти предметы были в карманах у жертвы и выпали во время борьбы.
– А что, если спички там были не случайно? – говорю я.
– Что ты имеешь в виду?
– Что, если убийца вставил их в глаза жертве, чтобы держать их раскрытыми?
Петер изучает рисунок.
– Спички нашли тут и тут, – показываю я. – Рядом с головой. Если убийца вставил их в глаза, то они могли выпасть, когда соседка трогала голову жертвы.
Петер вздыхает.
– Так ты хочешь сказать, что убийца все-таки хотел, чтобы у жертвы были открыты глаза, как в деле Кальдерона?
– Именно так.
– Чтобы вошедший встретился с ней взглядом?
– Тут мне пришла в голову другая идея. Что, если все как раз наоборот.
– Наоборот?
– Что, если он хотел, чтобы жертва увидела…
– Но она же мертва.
– Да, но в символическом смысле. Убийца убивает женщину и отрезает ей голову. После этого подклеивает жертве глаза так, чтобы она видела, как он уходит. Последняя степень унижения. Я отнял у тебя жизнь и ухожу как ни в чем не бывало. Смотри, какой я молодец.
На лице у Петера сомнения.
– А есть разница? – наконец спрашивает он.
– Огромная. Открыть глаза жертве, чтобы другой человек встретился с ней взглядом, это действие, направленное вне, на окружающий мир, на вошедшего. Открыть жертве глаза, чтобы она видела, как преступник уходит, это действие, направленное на жертву. Это самая жестокая месть. Почему-то убийце было важно, чтобы жертва увидела, как он уходит, может, таким образом он хотел от нее освободиться.
– И что это означает на практике?
– Вероятно, жертву и убийцу связывали близкие отношения.
– Какого рода?
– Не знаю. Например, любовные.
Мы еще час обсуждаем дело в кухне. Петера мои доводы не убедили. Он согласен, что спички могли быть в глазах у жертвы, но он не верит, что преступнику важно было, чтобы убитая видела, как он уходит.
Постепенно разговор переходит на другие темы. Мы болтаем о погоде, о коллегах в Полицейском управлении, о политике и о том, как город изменился за последнее десятилетие, на самые разные темы, но не затрагиваем то обстоятельство, что мы тут наедине в кухне вечером в нерабочее время и что впервые за много лет мы снова разговариваем.
Я разрешаю себе погрустить о том, что мы так никогда и не стали парой, и подумать о той жизни, которая могла бы у нас быть.
В половине одиннадцатого Петер сообщает, что ему пора идти. Ему рано вставать, чтобы просмотреть всю информацию от общественности по поводу личности убитой женщины.
Он поднимается и решительно идет в прихожую надевать куртку. Столь же решительно надевает кроссовки, слишком легкие для зимы.
Он легко одет, думаю я и вспоминаю его старую кожаную куртку, которую Петер носил в любую погоду. Под конец она так истрепалась, что буквально расползалась по швам. Может, мне стоило купить ему куртку потеплее, но это слишком интимный жест, а мы с ним чужие люди. Заботиться друг о друге принято у супружеских пар.
– Ну, я пошел, – говорит он. – Увидимся завтра.
– Да, – отвечаю я.
И мы стоим там друг напротив друга в прихожей Гуниллы. Чересчур близко. Я чувствую запах его пота, смешанный с табачным дымом, вижу морщинки на его лице. На секунду мне кажется, что он меня сейчас поцелует, потому что он наклоняется вперед, но оказывается, это чтобы протянуть мне руку. Я поспешно пожимаю ему руку и снова чувствую горький вкус предательства во рту. И возмущение. И злость. Несмотря на то что мое тело все еще помнит его ласки и прикосновения. И он уходит. А я стою и думаю: он пожал мне руку.
Какая странная манера прощаться с близким человеком. Неужели не мог обнять меня, как все нормальные люди? Нет же. Он пожал мне руку на прощание.
Эмма
Месяцем ранее
Я думаю о том вечере, когда мама убила бабочку. С самого начала у меня было плохое предчувствие. Сперва я слышала, как мама грохочет посудой в кухне. Тарелки, стаканы, столовые приборы звенели в раковине. И бокалы для вина. Это я поняла по их особому звучанию. Только винные бокалы могли так звенеть – звонче, мелодичнее и тревожнее, чем стаканы для воды. И в кухне пахло куриным рагу и свежими пряностями. Плохой знак. Любой другой вечер имел скучный и предсказуемый финал, но вечер с вином и вкусной едой мог закончиться чем угодно. В лучшем случае папа с мамой могли заснуть перед телевизором в гостиной, но это в лучшем случае. А в худшем их разговор мог перейти в ссору и закончиться криками и швырянием посуды в стены.
Однажды соседи пожаловались в полицию, и к нам в дверь постучали. Мне было так стыдно, что я спряталась под кровать. Но папе с мамой было ничуть не стыдно. Они вели себя совершенно непринужденно, оба притворились трезвыми и полными притворного раскаяния голосами пообещали, что сейчас успокоятся и больше не будут тревожить соседей. Да, они поссорились и повысили голос, но это больше не повторится. И нет, они не пьяны, только выпили по паре бокалов.
– Иди ужинать, Эмма, – позвала из кухни мама.
Я взяла банку с синей бабочкой и пошла есть. Папа уже сидел за столом. В руке был бокал вина, а на столе перед ним стояло пиво. Мама в переднике хлопотала у плиты, помешивая рагу в кастрюле. Сегодня она была похожа на настоящую маму, как в телевизоре. От этого я занервничала, потому что прежние попытки поиграть в настоящую семью заканчивались катастрофой.
– Садись, – велела мама, показав на табуретку.
Я присела, подумав, что голос у нее раздраженный. Но мне все равно хотелось надеяться, что все обойдется. Я поставила банку на стол перед собой, чтобы можно было смотреть на бабочку за едой. Не прошло и суток с тех пор, как она выкуклилась, и теперь синяя бабочка смирно сидела на ветке и осторожно шевелила тонкими темно-синими крылышками.
– Ты решила, что будешь с ней делать? – спросил папа.
Я покачала головой. Разумеется, лучше всего было выпустить ее на волю. Так думали папа с мамой. Бабочке нужно вернуться назад к природе. Их доводы были разумными, но стоило мне представить, что я никогда больше не увижу это черное тельце и крылышки, словно сделанные из шелковой бумаги, у меня внутри все сжималось. Это было все равно что попросить ребенка расстаться со своей любимой куклой. Но проблема заключалась в том, что я была уже не ребенок. Мне стоило смириться с мыслью о том, что бабочка мне не принадлежит и что ее нужно выпустить на волю, потому что в противном случае она умрет в банке, и держать ее там взаперти равносильно убийству. Зато тогда можно будет засушить ее и насадить на иглу. Так я смогу любоваться ей сколько захочу. Но от мысли о том, чтобы проткнуть иглой это крошечное тельце, мне тоже было не по себе.
– Я не знаю, что делать.
Папа выпил пиво в один прием.
– Думай быстрее. Долго она тут не выдержит.
Я наклонилась вперед и заглянула в банку. От дыхания стекло запотело, и бабочку стало плохо видно. Она превратилась в синее расплывчатое пятно.
– Тебе обязательно держать ее на столе? – сказала мама резким тоном, свидетельствующим о том, что она в дурном настроении. Она с размаху поставила кастрюлю с рагу на стол, отчего горячая жидкость расплескалась по краям.
– А чем она тебе мешает? – спросил папа, опрокидывая в рот вино.
Мама открыла вторую бутылку. Пробка выскочила из горлышка с недовольным сосущим звуком.
– Это насекомое.
– Но она же в банке.
– Я не хочу видеть насекомых на обеденном столе.
– Да оставь ее, – отмахнулся папа.
Мама собрала ножи и тарелки и швырнула в мойку. Они с лязгом ударились о железное дно. За окном сгущались синие августовские сумерки. Через приоткрытую форточку в кухню проникал теплый вечерний воздух с запахами влажной земли и собачьих какашек.
– Эмма, милая, унеси банку в свою комнату, – сказала мама.
Я посмотрела на папу, гадая, подчиниться мне или нет.
– Пусть стоит, – глухо отозвался он, обращаясь скорее к маме, чем ко мне.
Поджав губы, мама присела за стол и начала массировать рукой виски. Кожа морщилась под ее пальцами, как тонкая бумага. Папа молча ел. Сама я затаила дыхание и считала про себя. Если набрать в грудь побольше воздуха, можно было досчитать до пятидесяти. Драган мог задерживать дыхание на две с половиной минуты, а Мари в специальном классе могла не дышать, пока не потеряет сознание, но Элин сказала, что это потому, что у нее ДЦП.
– Что ты делаешь? – спросила мама, отложив вилку и с неприязнью глядя на меня.
– Ничего. Я только…
– Прекрати немедленно. Ты выглядишь так, будто у тебя тик.
Я не знала, что такое тик, но поняла, что лучше не спрашивать.
Мама повернулась к папе. Лицо у нее раскраснелось, а левая рука на коленях была сжата в кулак. Мне это хорошо было видно. Она словно что-то сжимала в руке, что-то ценное.
– Ты заплатил за квартиру?
Папа ковырял вилкой в тарелке и ничего не отвечал.
– Ты же обещал, – прошептала мама. – Как я могла тебе поверить. Ты такой же придурошный, как эта… девчонка.
Я уставилась в тарелку, где кусочки курицы плавали в бульоне. Я знала, как можно прямо сейчас вывести маму из себя. Достаточно было бы сказать, что в прошлый раз у нее прекрасно получилось оплатить счета, несмотря на неумение читать. Но, разумеется, я промолчала.
– Не втягивай в это Эмму, – пробормотал папа.
– Яблоко от яблони, – процедила мама. – Неудачники, – уточнила она.
– Знаешь, ты настоящая стерва, – сказал папа с таким видом, словно ему доставило облегчение наконец высказать все, что было у него на душе. – Стерва, – повторил он, делая ударение на каждом слоге.
– Будь осторожен, – ответила мама. – Я этого не потерплю. Ты это знаешь. Тысячи мужчин были бы счастливы иметь такую жену, как я. Да я в любой момент могу променять тебя на…
– Мечтай больше. Кому нужна пьянчужка с отвислыми грудями, которая только и умеет, что устраивать скандалы?
– Ну все, с меня хватит. Если тебя что-то не устраивает, проваливай. Я серьезно.
– Ты всегда так говоришь.
– Эмма, иди в свою комнату.
Я вскочила и бросилась бежать.
– И захвати свою чертову муху, – добавила она.
Я обернулась в тот момент, когда мама швырнула банку через всю комнату. Она пролетела у меня над головой, я подняла руки, чтобы поймать ее, но у меня не было ни единого шанса. Банка ударилась об стену и разлетелась на сотни осколков.
Я опустилась на корточки. Весь пол был усыпан разбитым стеклом. Высохшие веточки лежали у самой стены, и рядом бабочка. Одно крылышко сломалось напополам, а тельце стало совсем плоским. Я осторожно вытянула палец и потрогала ее. Синяя бабочка была мертва.
…Я иду домой под дождем. Деревья на аллее Карлавэгсаллен простирают к небу голые ветви, словно стремясь достать до облаков. Дорога завалена опавшей листвой. Может, Сигге где-то тут? – думаю я. Я долго искала его во дворе. И на Вальхалавэген тоже. Что, если он заблудился на улицах Стокгольма? И лежит где-то раненый, беспомощный и не может попасть домой? Или его кто-то подобрал? Вряд ли.
Я думаю, Йеспер убил его. Я останавливаюсь, закрываю глаза, поднимаю лицо к небу и представляю, как Йеспер сжимает своими большими руками тонкую кошачью шею и вышвыривает бедняжку в окно. Но это слишком невероятно. Все, что я вижу, закрыв глаза, это Йеспера, мирно спящего на пестром ковре. Словно в поле из подсолнухов. Грудная клетка вздымается в такт дыханию. Рот приоткрыт.
Я открываю глаза и иду дальше. Впереди безлюдная площадь Карлаплан. Жухлая листва скопилась на дне фонтана. Часть меня хочет прилечь на край фонтана и прижаться щекой к мокрой листве, но другая протестует. Во мне пробудилась жажда деятельности, жажда мести. Может, сдача кольца в ломбард стала последней каплей в чаше моего терпения. Так или иначе, я полна сил, и живот больше не болит. Я готова мстить.
Проходя мимо входа в метро, я слышу за спиной какой-то звук. Словно кто-то уронил книгу или пачку муки на землю. Я оборачиваюсь, но ничего не видно, только деревья в темноте. Я не чувствую страха, только зло. У меня нет никаких сомнений: это он стоит в темноте и поджидает меня, и это омерзительно.
– Эй! – кричу я в темноту. Никакого ответа. Единственное, что я слышу, это шум дождя и урчание мотора отъезжающей машины. В доме на улице Эрик Дальбергсаллен открыто окно. Из него доносятся музыка и голоса. Я оборачиваюсь и иду к деревьям. Свет фонарей ослепляет меня, я останавливаюсь, опускаю глаза.
– Выходи, трусливое отродье. Я знаю, что ты там. И тут тень выходит из темноты и движется вниз по улице Эрик Дальбергсаллен в направлении Вальхалавэген. Эхо шагов мечется между домами и замирает вдалеке. Мои ноги словно налиты свинцом. Я опускаю взгляд на свои сапоги на высоких каблуках и понимаю, что у меня нет никаких шансов догнать беглеца, уже исчезнувшего из виду.
– Мерзкий трус, я тебе покажу! – кричу я.
Я думаю, что делать дальше, и в этот момент кто-то кладет мне руку на плечо. Я оборачиваюсь. Пожилая дама в дождевике с тревогой смотрит на меня. Две таксы рядом тоже смотрят на меня с вопросом на собачьих мордах.
– Надеюсь, вас не ограбили, милочка?
– Нет, только…
– Позвонить в полицию?
Глаза у нее большие как блюдца. Видимо, встреча со мной – самое увлекательное, что произошло с ней за все последние годы. Одна из такс глухо рычит.
– Нет, все в порядке, – отвечаю я. – Никуда звонить не нужно.
Петер
Всю дорогу к машине мне было стыдно. Какого черта я протянул ей руку, словно малознакомой женщине? Почему рядом с Ханне я чувствую себя таким неуверенным? Интересно, она об этом знает? И если знает, то пользуется ли этим, как всегда делала Жанет? Женщинам нельзя доверять. Не потому, что они умнее мужчин, а потому что у нас не хватает энергии на то, чтобы гадать, что у них на уме. И поэтому они все время в выигрышном положении. Машину я оставил на Хорнсгатан в месте, где парковка запрещена. Сев и вставив ключ в замок зажигания, снова начал мучиться сомнениями. Может, надо вернуться и попросить прощения? Но за что? За то, что я тогда не пришел, или за то, что за все эти годы ни разу с ней не связался? Сможет ли она когда-нибудь простить меня?
Подумав, я достаю мобильный и набираю номер Манфреда. Он берет на седьмой гудок.
– Черт бы тебя побрал, Линдгрен! На часах половина двенадцатого. Надеюсь, это важно.
– И тебе добрый вечер.
Манфреда мой звонок явно разозлил. Но чего еще можно было ожидать от отца маленького ребенка? Для него полноценный сон важнее всего на свете. Но кто я такой, чтобы его критиковать? Я ни одной пеленки не сменил за всю жизнь.
– У тебя протокол вскрытия под рукой?
– Который из них?
– Женщины в доме Орре.
Он громко вздыхает.
– Да, в компьютере. Погоди.
Через минуту он снова у трубки. Я слышу детский плач. Он то затихает, то усиливается, как сломанная пожарная сирена.
– Прости, если разбудил.
– Надо было раньше думать, – ворчит он. – Что ты хочешь узнать?
– У жертвы были ссадины и царапины вокруг глаз? Например, на веках?
В трубке тихо. Я разглядываю улицу и жду. Прохожие идут, согнувшись от ветра, в сторону площади Сёдермальмсторг. На площади Мариаторгет мужчина тащит на поводке упирающегося пса. Одинокий автомобиль проезжает мимо.
– Вокруг глаз? Да, действительно. Поблагодари свою счастливую звезду за то, что Фатима Али делала вскрытие, а не тот бездельник из Буроса. Она нашла царапины на обоих верхних веках и одну ссадину в восемнадцати миллиметрах под правым глазом. Все ранки не более двух миллиметров длиной, глубокие ткани не задеты. Поверхностные, другими словами. Фатима не стала делать предположений о их происхождении. А что? Почему ты спрашиваешь?
Ханне открывает не сразу. Она в пижамных штанах и застиранной футболке. В одной руке зубная щетка. В глазах вопрос и еще тревога, что неудивительно, учитывая поздний час. Женщинам нужно быть настороже, когда к ним в дверь звонит в ночи чужой мужчина. Да даже если и не чужой.
– Ты была права, – сообщаю я.
Она не отвечает, только делает шаг назад, впуская меня в квартиру.
Я просыпаюсь в семь утра. Тишину нарушает только мерное дыхание Ханне рядом и легкий свист воды в трубах. Я осторожно придвигаюсь к ней ближе, чтобы касаться ее кожи и чувствовать ее тепло. Кладу руку ей на бедро, вдыхаю аромат ее кожи с нотками корицы. Я наслаждаюсь этим моментом – таким совершенным, таким волшебным. Как родниковая вода или свежий осенний воздух после сильного дождя на морском побережье. Я хотел бы сохранить этот момент в памяти до конца жизни. И не важно, сколько дерьма у меня на душе, и не важно, что я умею только одно – все разрушать и портить. Всю свою жизнь я только и делал, что разрушал все красивое и чистое, что попадало мне в руки.
Любовь и красота не вечны.
Только дерьмо вечно. А такие волшебные моменты совершенного счастья редки и тем более ценны. И лучшее, что можно сделать, встретив такой момент, это не испортить его.
И я лежу неподвижно под одеялом и стараюсь дышать как можно тише. Касаюсь кончиками пальцев нежной кожи ее лобка – там, где только начинаются волосы.
В то время, когда у нас был роман и когда Ханне доверяла мне себя и свое тело, я не был столь осторожен.
Это еще один из жизненных уроков, которые мне пришлось усвоить: ты начинаешь что-то ценить, только когда теряешь. Банально, но правда. И чем ценнее утраченное, тем сильнее ты будешь по нему скучать, и только это является мерилом его ценности.
В половине восьмого я тихонько встаю, одеваюсь, пишу записку и кладу на письменный стол. В записке я объясняю, что должен быть в Полицейском управлении в восемь и что мы увидимся позднее. Я хотел добавить «Целую» или «Спасибо за вечер», но почему-то решаю этого не делать.
Санчес и Манфред уже на работе. Сидят за ноутбуками с кофе в руках. Манфред выглядит усталым. Не знаю, удалось ли ему поспать после нашего разговора. Через пару минут приходит Бергдаль, следователь, который помогал нам разбирать советы от общественности. В одной руке у него стопка бумаг, в другой – упаковка жевательного табака. Манфред тяжело поднимается со стула.
– Может, лучше ты начнешь? – говорит он. – Ты ведь что-то вчера накопал, да?
Я киваю и рассказываю о найденных спичках, о царапинах на веках и о теории Ханне, что убийца хотел заставить жертву смотреть, как он уходит, а не наоборот.
– Любопытно, – говорит Санчес, и вроде искренне. По крайней мере без обычной иронии в голосе.
– Я же говорил, что эта ведьма хороша, – бормочет Манфред.
– Если я правильно все поняла, его мотив – месть? – спрашивает Санчес.
– Судя по всему, да, – отвечаю я. – Но лучше пусть Ханне сама все объяснит.
– А когда она появится? – интересуется Санчес. Я пожимаю плечами.
– Понятия не имею.
– Ну ладно, – говорит Бергдаль. Ему за пятьдесят, и он явно стесняется своей лысины и вечно носит кепку или шапку, даже в помещении. Сегодня на нем черная вязаная шапка на размер больше. – Я хотел рассказать об информации, которая поступила к нам после того, как портрет жертвы опубликовали в газетах и показали по телевизору. Кстати, ни одна газета и ни один телеканал не обошли эту новость стороной. Поступило около ста звонков, из которых восемьдесят не представляли интереса. Оставшиеся восемнадцать мы поделили на две группы: более и менее вероятные, – учитывая сходство жертвы с названной женщиной. Над ними мы и будем работать сегодня.
В коридоре раздаются шаги. Входит Ханне, снимает куртку и садится на стул рядом с Санчес, не встречаясь со мной взглядом. Но я не могу отвести от нее глаз. Я пожираю глазами ее тонкие черты лица, влажные волосы, рассыпавшиеся по плечам, даже мешковатую кофту. Сердце сжимается от прилива нежности.
– И сколько вероятных кандидаток? – спрашивает Санчес.
– Три, – отвечает Бергдаль и прикрепляет три фото на доску. – Вильгельмина Андрен, двадцать два года из Стокгольма. Находится на принудительном психиатрическом лечении в отделении «140» – для шизофреников – в больнице Дандеруда. Была отпущена на выходные домой и не вернулась. По словам родственников, приступов агрессии с ней не случалось. Болезнь проявляется по-разному. Она верит, например, что может общаться с птицами. Уже исчезала раньше. Обычно ее находили в парке, где она общалась со своими пернатыми друзьями.
– Птицами? – удивляется Манфред.
– Именно так. Но ее рост ниже, чем у жертвы, хотя мы пока не отвергаем этот вариант. Следующая вероятная жертва – двадцатисемилетняя воспитательница детского сада Ангелика Веннерлинд из Броммы. Она собиралась поехать со своей пятилетней дочерью в отпуск в день убийства в доме Орре и бесследно пропала. Родители сказали, что она сняла домик, но они не знают где. Возможно, там просто нет мобильного покрытия, но эта женщина очень похожа на жертву. К сожалению, труп не в том состоянии, чтобы родители могли его опознать, но мы ждем снимок от дантиста.
– А третья? – спрашивает Санчес.
Бергдаль поправляет смешную шапку и показывает на третью картину.
– Эмма Буман, двадцать пять лет. До последнего времени работала продавщицей в одном из магазинов «Клотс и Мор», то есть там же, где был директором Йеспер Орре. Но это ничего не значит, поскольку там работают тысячи людей. Живет одна в квартире на Вэртавэген в центре Стокгольма. Родители мертвы. Тетя объявила о ее исчезновении три дня назад и связалась с нами, увидев потрет в газетах. Утверждает, что уже неделю не может связаться с племянницей и что она похожа на фотографию, за некоторыми различиями. По ее словам, у Эммы волосы длиннее, но она могла постричься, так что эту версию мы прорабатываем. Мы заказали зубные снимки всех троих, а затем судебный врач-ортодонт скажет свое заключение.
– Эмма, – произносит Манфред.
– Как в том письме, – говорю я, показывая на листок, пришпиленный вместе с другими материалами к доске.
– Что? – недоумевает Бергдаль.
– Мы нашли письмо дома у Орре. Подписанное Эммой. Судя по всему, у автора письма был роман с Орре, и она забеременела.
Бергдаль кивает.
– Недавнее?
– Этого мы не знаем. Мы нашли только письмо без конверта в кармане его джинсов.
– Можем сравнить почерк с почерком Эммы Буман? – спрашивает Манфред.
– Конечно, – отвечаю я, – но думаю, ортодонт успеет с заключением раньше.
Санчес смотрит в бумаги.
– Фатима Али, судебный врач, пишет, что жертва была беременна или родила ребенка. У Ангелики есть ребенок, что с другими женщинами?
– Мы знаем только про Ангелику. Но, возможно, кто-то из двух других тоже был в положении. Если Эмма Буман и есть та Эмма, что написала письмо, то она тоже была беременна.
После паузы Манфред продолжает:
– Я говорил со стекольщиком. Две недели назад он менял стекло в окне в подвале дома Йеспера Орре. Орре сообщил ему, что к нему в дом влезли, но ничего не украли. Он сказал, что Орре был взвинчен, но больше ничего подозрительного он не заметил.
Краем глаза я вижу, как Ханне делает записи в блокноте. Судя по всему, с годами она стала более аккуратной: строчит по бумаге так, словно боится упустить хоть одно слово. Десять лет назад она такой не была. Несобранная, легкомысленная, богемная. И она никогда ничего не записывала. У нее была отличная память. Санчес поднимается и поправляет блузку.
– Мы также получили информацию от наших коллег из местной полиции. Это они расследуют пожар в гараже Орре. Он идет по статье поджог с целью убийства, поскольку гараж тесно прилегает к жилым постройкам. Их выводы подтверждают версию страховой компании о поджоге. Криминалисты нашли на месте пожара следы бензина и пару канистр. Орре в тот вечер был в Риге на встрече с директорами магазинов. Сам он поджог устроить не мог, если в его планы входило получить страховую выплату.
– Он мог кого-то нанять, – предполагаю я. Санчес кивает и снова поправляет блузку, которая постоянно лезет вверх, открывая татуировку на плоском как доска животе.
– Разумеется. Но ничто не говорит о том, что Орре нуждался в деньгах. И к тому же у нас есть свидетельские показания соседки. Она утверждает, что видела, как какая-то женщина стояла на улице и смотрела на огонь. Она не может описать ее внешность, но помнит, что это точно была женщина.
– Прохожая? – интересуется Манфред.
– Возможно. Или это она подожгла гараж. Точно мы не знаем. Единственное, что нам известно, это что она была там и смотрела на огонь, как смотрят на майские костры. Цитирую соседку.
Эмма
Тремя неделями ранее
– Мне нужно к врачу. Я уйду в четыре. Прости, другого времени не было, – говорю я с виноватой миной. Манур вопросительно поднимает безупречно выщипанные брови и медленно кивает, словно тщательно обдумывая эту информацию.
– Конечно. Но это означает красную метку, – она взмахивает рукой на календарь на стене.
Я киваю в ответ.
– Я знаю, но мне действительно нужно.
Ольга, сидящая за столом с чашкой чая в руках, закатывает глаза. Манур стремительно поворачивается к ней.
– Я все видела.
– Что? – с невинным видом спрашивает Ольга, широко распахивает глаза и склоняет набок белокурую голову.
– Да брось. Я не дура. Я бы на твоем месте выказывала побольше уважения. У тебя… – Манур поворачивается к календарю и медленно проводит пальцем по колонке с именем Ольги. – Пять меток только в этом месяце, – довольно констатирует она, поворачивается и выходит из комнаты для персонала с таким видом, словно эти факты говорят сами за себя. Ее шаги стихают, смешавшись с надоедливой музыкой из динамиков.
– У нее что, несварение? – бормочет Ольга, кусая ноготь.
– Будь осторожна, – говорю я. – Это не самая интересная работа в мире, но это работа.
Она пожимает плечами.
– И? Я могу работать в клининговой конторе Алекса. Мне достаточно только слово сказать. Там всегда есть работа.
– Тебе так не терпится убираться на паромах в Финляндию?
Ольга морщится.
– Лучше каждый день есть говно на обед, чем такая уборка.
– Да ладно. Это нормальная работа. У тебя есть образование? Другие навыки работы? Думаешь, легко найдешь новую работу, если тебя уволят?
У Ольги опускаются плечи. Она внезапно выглядит старше своего возраста.
– Хватит, зачем говорить столько гадостей.
– Прости. Я только пытаюсь тебе помочь. Я не хочу, чтобы ты потеряла работу только потому, что Манур перешла на сторону противника. Оно того не стоит. Будь гибче. Не реагируй на ее слова, засунь свою гордость подальше.
– Другими словами, быть как ты? – шепчет она, но я слышу в ее голосе резкие нотки.
– А я-то тут при чем?
– Ты так ведешь себя со своим парнем. О котором мне уже все уши прожужжала. Ты сама прекрасно знаешь, что нужно забыть прошлое и идти дальше. Но знаешь что? Мне уже осточертело слушать об этом твоем придурке. Все время одно и то же. Это не прикольно. Жалуйся кому-нибудь другому на свою скучную личную жизнь.
Я лишаюсь дара речи. Йеспер разрушил мою жизнь. Всего пару дней назад я потеряла ребенка, а теперь эта вульгарно накрашенная славянская шлюха говорит, что ей это не прикольно.
– Это не одно и то же, – шепчу я.
– Да ты просто с катушек слетела. Сделай уже что-то с этой зависимостью. Любовь проходит. Такое случается. Это надо принять. Заведи себе какое-нибудь хобби. Проводи время с друзьями.
Ольга поднимается. Потягивается, как кошка.
– Мне нужно покурить. – И уходит в коридор, не приглашая меня присоединиться.
На часах четыре, когда я вхожу в прокат автомобилей. По помещению слоняются сотрудники. Всем им на вид лет восемнадцать. Они похожи на баскетболистов: высокие, долговязые, без признаков щетины.
– Мне нужна машина на сутки, – сообщаю я Шину – имя написано у него на бейдже, – не обязательно большая, но с вместительным багажником.
– «Тойота Королла», – предлагает он, потирая прыщавый подбородок.
– Подойдет.
Я протягиваю ему кредитку и права. Он зачитывает мне условия аренды. Машину нужно вернуть не позднее шести часов вечера следующего дня с полным баком. Ключи можно бросить в почтовый ящик. У меня есть вопросы?
Я качаю головой.
– Тогда я желаю вам счастливого пути.
– Кто сказал, что я отправляюсь в путешествие?
– Простите. Тогда ведите осторожно.
– Постараюсь, – улыбаюсь я. – Номер шесть, да? Он кивает. Отходя, я слышу, как он уже начинает разговор со следующим клиентом.
В магазине краски много народу. Стокгольмцы выстроились в очередь, чтобы купить лампы в виде рождественских звезд, масло для ламп и вязанки для камина – все, чтобы развеять осеннюю грусть. Дождь стучит в окно, и атмосфера в магазине оживленная, как будто они ждут посадки на чартер к морю, а не в очереди в кассу.
– Какая ужасная погода, – вздыхает полная женщина в пестром плаще с таксой на поводке. Она безумно похожа на ту, которую я встретила в тот вечер, когда Йеспер выслеживал меня в темноте. Или просто у нее такая же такса? Может, все тетки в этом районе выглядят одинаково? Цветные куртки, таксы и твидовые шляпы.
Они выглядят так, словно приехали из деревни всем скопом.
Я ставлю канистры на прилавок. Мышцы дрожат от напряжения, пальцы сводит – так долго я их держала. Кассир удивленно смотрит на канистры, закладывая за щеку пластинку снюса.
– У нас есть тара поменьше, – сообщает он. – Емкостью в один литр.
– Я беру эти, спасибо.
Он пожимает плечами, давая понять, что это будет моя проблема, если мне потом некуда будет девать остатки. Дверь магазина открывается, и такса тявкает.
– О’кей.
Он вертит канистру, чтобы просканировать код, и спрашивает:
– Сколько у вас там?
Я опускаю взгляд вниз.
– Всего четыре, – говорю я.
Я веду машину осторожно. Температура опустилась до нуля, и асфальт превратился в каток. Удивительно, но я легко нахожу дорогу, словно все повороты в этом эксклюзивном районе отпечатались у меня в памяти, въелись в костный мозг. Я веду машину не задумываясь, мои руки сами вертят руль.
Перед особняками припаркованы дорогие автомобили. Дома, больше похожие на дворцы, окружают ухоженные сады с аккуратно подстриженными лужайками. Потом дома становятся скромнее, я понимаю, что близка к цели моего пути. И вот передо мной его вилла. В окнах темно. Перед домом припаркована машина. Доски под брезентом по-прежнему лежат вдоль забора рядом с недостроенным гаражом.
Я паркуюсь в отдалении. Канистры очень тяжелые. Мне приходится перетаскивать их сюда в два захода. Я озираюсь по сторонам: на улице пустынно. В окнах соседних домов горит свет, но никого не видно.
Я разглядываю постройку. На месте целлофана теперь настоящая дверь, но окошко слева от входа еще не застеклено. Я встаю на цыпочки и заглядываю внутрь. Через пару секунд глаза привыкают к темноте, и я вижу две машины в гараже – красный спортивный автомобиль и раритетный «Порш». Любишь дорогие машины, думаю я. Еще один твой секрет.
Я иду к канистре, открываю крышку и лью содержимое вдоль фасада. Канистра становится легче, и я начинаю поливать фасад. Повторяю процедуру с оставшимися тремя канистрами. Я не знаю, сколько нужно, но совета у продавца решила не спрашивать.
От тяжелой работы пот льет с меня ручьем. Снова пошел дождь. Легкие бесшумные капли почти не чувствуются. Только лицо мокрое.
Закончив, я просовываю пустые канистры – одну за другой – в окошко. С глухим звуком они падают на бетонный пол. Отхожу, достаю ключи от машины. Нужно уходить быстро. Нельзя, чтобы меня застукали здесь или чтобы арендованная машина осталась на месте преступления. Беру спички, складываю ладони домиком от ветра и чиркаю спичкой. Язычок пламени дрожит на ветру.
Это тебе за деньги, которые ты у меня украл, подонок!
В ту ночь я впервые за долгое время спокойно сплю. Даже запах дыма, въевшийся в кожу, мне не мешает. Я приняла душ два раза, но все равно чувствую этот запах. Я просыпаюсь с воспоминанием об огне этого пожарища. Вспоминаю, как всполохи осветили осеннюю ночь, как кожу опалило жаром, хотя я стояла далеко от гаража. Это был очистительный огонь. Не знаю, что стало тому причиной, – огонь или то, что я наконец отплатила Йесперу его же монетой, но на душе у меня стало полегче.
Я встаю, принимаю душ, одеваюсь и съедаю тарелку простокваши с хлопьями на завтрак. Одновременно с завтраком умудряюсь причесаться и накраситься. Может, это мое воображение, но мне кажется, я выгляжу бодрее. И сильнее. Может, это действительно так. Может, это лицо в зеркале принадлежит другой женщине. Может, вчерашний вечер сделал меня другим человеком.
Перед выходом из дома достаю визитку журналиста из банки со счетами и кладу в карман. Пора ему позвонить. По дороге к метро замечаю, что что-то еще сегодня по-другому. Сперва я не знаю, что именно, но потом до меня доходит. Впервые за несколько недель светит солнце. Я останавливаюсь, закрываю глаза и поднимаю лицо к небу. Впитываю свет и тепло. Жду, пока кожа согреется, и думаю, что жизнь не так уж и ужасна, несмотря на все, что случилось.
Почему-то мне вспоминается папа в вечер накануне самоубийства. Я лежала в темной спальне и слушала шаги родителей за стеной. Я не понимала, почему мама так тревожится из-за болезни отца, которого, как она утверждала, она ненавидела. У нее как-будто было только два настроения: она была или зла, или встревожена. Сегодня она выбрала последнее.
Полдня мама провела на телефоне с тетями. Я делала домашку по физике и слушала ее рассказы полушепотом о папином здоровье с употреблением слов «пассивный», «утратил интерес к жизни» и театральными всхлипами и обычными жалобами на отсутствие денег, скучную работу и злобного начальника. Все разговоры сводились к тому, что она заслуживает лучшей жизни, с чем тетушки были всегда согласны, поскольку дальнейших дискуссий на эту тему не велось.
Я задумалась, что означает «заслуживает лучшего». Мама недовольна своей жизнью. Но чего она в таком случае хочет? Другую квартиру? Другого мужчину? Другого ребенка? Но чтобы получить это лучшее, нужно ли самому быть лучше? Означает ли это, что мама лучше нас с папой? И если так, то какой жизни заслуживаю я?
Я присаживаюсь на край папиной кровати. Пахнет потом, табачным дымом и еще чем-то мерзким. В комнате такой спертый воздух, что он вряд ли заметит, что я сегодня тайком курила с Элин.
Я не понимала, почему он хочет лежать целыми днями в темноте и не разрешает раздвигать шторы. Кровать скрипнула под моей тяжестью, хотя я старалась двигаться как можно тише.
– Эмма, моя девочка, – пробормотал он и посмотрел на меня.
Он взял мою руку в свою, и это все. Больше он ничего не сказал, только лежал и тяжело дышал, словно каждый вдох стоил ему огромных усилий. Я думала о том, как его развеселить. Раньше я бы предложила ему погулять вместе или приготовить ужин, но у меня было предчувствие, что на этот раз он откажется.
– Тебе получше? – спросила я.
– Да, – после долгой заминки ответил он. Даже голос у него изменился, стал глухой, невыразительный. Словно шел со дна банки. – Эмма, моя малышка, – повторил он и сжал мою руку. – Я хочу, чтобы ты знала, как я тебя люблю. Ты самая лучшая дочка на свете.
Я не знала, что сказать. Его поведение меня пугало. Я не привыкла видеть его таким слабым. Он бывал усталым, злым, равнодушным, пьяным в стельку, рассерженным, но не слабым. Что-то было не так.
– Папа, пожалуйста.
– Эмма, – перебил он, – ты помнишь ту бабочку, которая была у тебя в банке в детстве?
– Да?
Я не понимала, куда он клонит.
– Я так расстроился, когда не смог помешать маме разбить ту банку. Я знал, к чему всё идет, и все равно не остановил ее.
– Не надо. Это было всего лишь насекомое. И случилась эта история сто лет назад.
– Это твоя мать так её называла. Но это была не просто бабочка, а твой маленький проект. Ты все лето ждала, когда она выкуклится. Ты только о ней и думала. И несмотря на это, а может, именно поэтому она ее и уничтожила. А я ей позволил. Так что мы оба одинаково виноваты.
Из темноты раздался всхлип. Или мне показалось.
– Помнишь, какая она была красивая? – продолжил папа. – Из ничем не примечательной куколки она превратилась в волшебную бабочку. Ее синие крылышки будто светились. Помнишь?
Я кивнула. От его слов у меня ком встал в горле. Я не знала, смогу ли удержаться от рыданий.
– Я только хочу, чтобы ты знала, Эмма… Ты как та бабочка. Однажды ты превратишься в чудесную красавицу. Помни об этом. Пообещай, что не забудешь, что бы ни говорили люди.
– Но, папа, – выдохнула я со смешком – весь этот разговор казался сплошным абсурдом, какой бывает только в мелодрамах. – Не говори так. Ты меня пугаешь.
Он ничего не сказал. В комнате слышно было только его тяжелое дыхание.
– Если кто-то скажет, что ты не такая, как все, думай о бабочке. Другая не значит хуже. Другая может быть лучше. Никогда не забывай мои слова. Пообещай мне.
– Обещаю, но…
Ком в горле все увеличивался. Папа никогда со мной так не разговаривал. Что-то было не так. И никакой ужин и никакая прогулка к морю делу не помогут.
– Я хочу, чтобы ты был как прежде, – шепчу я, стараясь не использовать слово «здоровый», потому что не хочу, чтобы он думал, что он болен. Мы с мамой старались не называть его состояние «болезнью». По крайней мере в его присутствии.
– Вся жизнь дерьмо, – сказал он нарочито бодро, как будто это шутка. – Дерьмо.
И это были его последние слова, обращенные к нам. На следующий день мама нашла его повесившимся.
Ханне
Задолго до того, как начала интересоваться психологией, я занималась социальной антропологией. Читала работы Франца Боа и Бронислава Малиновски и мечтала поехать на год на север Гренландии, чтобы изучать жизнь и обычаи инуитов. Возможно, мой интерес пробудил старый документальный фильм «Нанук, сын холода». Я видела его в детстве. Но это было в семидесятые, интерес к примитивным народам сменился политизированной антропологией. Изучать эскимосов стало немодно. Но мой интерес не угас. Я продолжала восхищаться коренными народами. Может, поэтому Уве привозил мне из своих поездок поделки, изготовленные аборигенами. По крайней мере так он говорил, а я верила. В восьмидесятые он был на врачебном конгрессе в Майами и привез мне маску, украшенную перламутром, сделанную индейцами народности уичоли на западе Мексики. В другой раз он был на конференции по психиатрии в ЮАР и привез мне старинный пакет для табака из племени хоса.
Он продолжал привозить мне сувениры. Скоро ими был заполнен целый шкаф. Не помню, как я узнала правду. Может, меня насторожило то, что телефон звонил по ночам, а когда я подходила, в трубке молчали, может, письма с пометкой «лично в руки». А может, дело было в Эвелин.
Эвелин, американка лет сорока, была психоаналитиком Уве. В этом не было ничего удивительного. В наших кругах у всех был психоаналитик. И посещать его несколько раз в неделю считалось нормой. Наличие психоаналитика говорило о статусности. И Уве тоже проводил много времени на диване Эвелин на Оденплан, копаясь в своих детских фрустрациях. Часто после таких сеансов он возвращался изможденным, потным, рассеянным, с блестящими глазами. Он опускался на диван и просил его не беспокоить. В такие моменты я всегда о нем заботилась, так как думала, что они обсуждали что-то важное. Может, болезнь отца или склонность матери к болеутоляющим и успокоительным. Но одним зимним вечером на двенадцатом году брака я его застукала. Я проснулась от холода – у нас были проблемы с отоплением – и обнаружила, что Уве нет в кровати. Я пошла его искать. Из кухни доносился шепот. Тогда я на цыпочках подошла к двери и напрягла слух.
Он говорил по-английски. И это был не деловой разговор. Я сразу поняла, что он говорит с Эвелин и что их отношения далеки от отношений врача и пациента. Я хотела было ворваться в кухню, вырвать у него трубку, закатить пощечину или начать швырять посуду об стену, но вместо этого вернулась в спальню, легла в постель и накрылась с головой одеялом. Я чувствовала отвращение. Такое сильное, что его невозможно было выразить словами. Именно отвращение. Ни гнев, ни горе, ни ярость, ни ревность. Я чувствовала отвращение, потому что он всегда следил за каждым моим шагом, хотя сам, как оказалось, спал с Эвелин. Разумеется, я ему изменяла. И не один раз. Особенно в начале наших отношений. Но в те годы в моде была «свободная» любовь, полигамия и все такое, и я тоже лгала и скрывала свои интрижки. Случалось, что я оказывалась в постели с другим мужчиной после вечеринки, Уве всегда реагировал одинаково: забирал меня домой – относил, если было нужно, – и учил меня уму-разуму. Он обращался со мной как с ребенком, который нарушил правило возвращаться домой до одиннадцати или украл шоколадку в магазине. Он вел себя так, словно имел моральное право меня поучать, словно он был лучше меня. Но это не помешало ему спать с Эвелин во время псевдосеансов на Оденплан. Тогда я и начала его ненавидеть.
И когда я встретила Петера, ничто меня не сдерживало. Я влюбилась в него по уши. Да и что могло меня сдержать? Брак? Но Уве он не помешал спать с американкой. Роман с таким мужчиной, как Петер, был своего рода бунтом. Он не был интеллектуалом, жил в маленькой двушке в пригороде и свободное время проводил за просмотром спортивных трансляций. Другими словами, он был тем, кого в нашем кругу называли необразованным среднестатистическим шведом. И это еще в мягких выражениях. Мы всегда смеялись над простыми шведами, потому что их мечты ограничивались чартерными поездками и новым автомобилем. К тому же они считали, что Чехов – это марка водки. Впрочем, Петер был не так прост. Меня смущало его происхождение. Его мама, по его словам, активно занималась политикой и играла важную роль в протестном движении. В детстве Петер ходил с ней на политсобрания и даже на демонстрации. Услышав это, я подумала, что он вполне мог бы принадлежать моему кругу. Но сам Петер политикой не интересовался. Наверно, так часто бывает: мы сознательно выбираем для себя иную, чем у наших родителей, жизнь.
Разумеется, вы можете представить, какой удар был нанесен по раздутой самооценке Уве, когда он узнал, что я серьезно планировала бросить его ради Петера. Даже если в конце концов Петер струсил и оставил меня там одну на тротуаре на Шеппаргатан.
Но со временем жгучая ненависть к Уве, кульминацией которой был тот вечер моего несостоявшегося бегства, перешла в пассивное сопротивление. Я знала, что не смогу еще раз довериться мужчине и снова полюбить из страха быть преданой.
И я осталась с Уве, поскольку не нашла другой альтернативы. Такова жизнь.
А теперь он снова вошел в мою жизнь.
Петер.
Единственный мужчина, которому удалось растопить лед в моем сердце за последние пятнадцать лет. Неуверенный в себе полицейский с патологическим страхом серьезных отношений. Всего пару часов назад он лежал рядом со мной в кровати. Мы занимались любовью. И все, о чем я могу думать, это когда мы снова увидимся. Наверно, я становлюсь похожа на Гуниллу, думаю я, вспоминая ее слова: «Нас так влечет друг к другу… Мы трахаемся как кролики, если говорить вульгарно. Разве это прилично в нашем возрасте?»
Разумеется, прошлую страсть не вернуть. Не только потому, что я боюсь, что он снова меня бросит, а потому что я больна неизлечимой болезнью. Я иду по темному туннелю забвения, из которого нет выхода. Я как те исследователи, что забираются в глубокие пещеры в горах в поисках неизведанного. Только в моем случае пещера будет только сужаться, и я никогда больше не вернусь наружу. И там мне никто уже не поможет. Даже Петер.
Когда я прихожу в полицию, все заняты обсуждением личности убитой женщины. Поступило много советов от общественности. Я смотрю на фото молодых женщин и надеюсь, что они живы. Но рано или поздно личность убитой будет установлена. Неизвестная пока что лежит там в морге в Сольне и ждет, когда ей вернут имя и историю жизни. Посмертно.
На Петера я стараюсь не смотреть. Не потому, что я раскаиваюсь в том, что сделала вчера, а потому, что не знаю, что мне сказать или сделать. Я уже и не помню, когда в последний раз была в такой неловкой ситуации. Я чувствую себя девочкой-подростком, жалующейся подруге: «Мы вчера занимались сексом, но я не знаю, нравлюсь ли я ему и будет ли у нас новое свидание». Это даже немного комично. Наверно, первое забавное происшествие в моей жизни за последние десятилетия.
Когда у меня в последний раз был секс? Я не помню, но, кажется, лет пять назад. Помню, я отказывала Уве под предлогом головной боли. Я выбирала именно этот предлог – самый банальный в мире, – чтобы до него наконец дошло, что я не хочу с ним спать.
И, судя по всему, до него дошло, потому что в конце концов он прекратил делать попытки. Просто ложился спать и гасил свет, не целуя меня, не желая спокойной ночи. Так он меня наказывал за отказы. Это было очевидно, но меня это полностью устраивало. Уже тогда я его видеть не могла, но еще не созрела для того, чтобы его бросить.
А потом у меня начали проявляться симптомы болезни. Сначала я начала забывать имена. Это могли быть имена друзей, с которыми мы общались тысячу лет. И названия. Например, городов.
Сундсвалль, Сёдерхамн, Соллефтео, Эребру, Эркельюнге, Эргрюте, Арбога, Абиско, Арвика. Не самая важная информация. И если бы все на этом остановилось, Уве бы ничего не заметил. Но потом я начала пропускать встречи, забывала перезвонить друзьям, теряла банковские карты и телефон. Однажды я оставила Фриду перед супермаркетом и, вернувшись домой, не могла вспомнить, где ее привязала. В панике я позвонила Уве, и через неделю он отправил меня к домашнему врачу, который выписал мне направление в клинику, в «отделение памяти».
«Отделение памяти».
Какое название! Звучит одновременно абсурдно и поэтично. Как пьеса Кристины Лугн или книга Воннегута. Но в самой клинике не было ничего поэтичного или абсурдного. Мне пришлось сделать кучу анализов и тестов. Врач часами меня осматривал и задавал самые разные вопросы. Через пару месяцев врачебное заключение было готово. Врачи нашли у меня раннюю стадию деменции и не могли сделать прогноз развития болезни. Они не знали, когда мне станет хуже и помогут ли мне лекарства. Я смотрю на коллег и гадаю, что бы они подумали, узнав, что у меня такое серьезное заболевание, связанное с нарушением когнитивных способностей. Что консультант-эксперт по поведенческой психологии стоимостью девятьсот крон в час страдает провалами в памяти и что через пару месяцев я не смогу отличить полицейскую дубинку от банана. Они подумали бы, что привлекать меня к расследованию – плохая идея.
Манфред подходит ко мне. Как всегда, разряженный как павлин.
– Здорово, что ты заметила эти спички, – хвалит он, закладывая за губу пластинку жевательного табака.
– Спасибо.
– Так ты думаешь, жертва и убийца знали друг друга?
– Думаю, да. У них были близкие отношения, и убийца отомстил жертве за что-то, наказал ее.
– И какого рода могли бы быть эти отношения?
– Я бы сказала, очень эмоциональные. Ненависть – сильное чувство. Она не рождается из ничего. Она рождается из чувства, равного по силе.
– Например?
– Например, любви.
В обед я получаю эсэмэс от Уве. Он просит прощения за свое поведение и за свои угрозы. У него все хорошо, он любит меня и не может жить без меня.
Возможно. Я не отвечаю. Покупаю салат и возвращаюсь в переговорную к Санчес и Манфреду, которые дают указания следователям. Мне не обязательно там быть. Я могла бы пойти домой к Гунилле и читать книгу на диване, но мне не хочется. Молодая девушка-следователь с дредами до талии по имени Симона сообщает:
– Мы можем исключить Вильгельмину Андрен из списка вероятных жертв. Это та, что сбежала из психиатрической клиники. Прохожий нашел ее замерзшей у гавани Бруннсвикен в Сольне этим утром, когда выгуливал собаку. Родители уже ее идентифицировали, и сомнений в том, что это действительно она, нет.
– Бедняжка, – вздыхает Манфред, потирая рыжую щетину на подбородке.
Симона кивает.
– Остаются Ангелика Веннерлинд и Эмма Буман. Зубные снимки посланы в Сольну. Ответ будет завтра.
– Я надеялся получить ответ уже сегодня, – говорит Манфред.
– Судебный ортодонт в Шёвде и вернется не скоро, – поясняет Симона.
В этот момент открывается дверь, и входит Петер. Щеки у него раскраснелись от холода, кожаная куртка вся в снегу. Не снимая ее, он поворачивается ко мне и Манфреду.
– Пошли. У нас гость. Она говорит, что видела Эмму Буман две недели назад. И у них был роман с Йеспером Орре.
Эмма
Тремя неделями ранее
– Мне нужно оплатить счета. Можно, я воспользуюсь компьютером?
Манур пожимает плечами и продолжает накладывать блеск для губ пальцем. Сегодня на ней джинсы мужского покроя. Джинсы сидят низко на бедрах, открывая край кружевных трусиков.
– Конечно.
Странно, что она не возражает. Могла бы спросить, почему мне понадобился компьютер именно сейчас, когда скоро открывать магазин. Но Манур только сладко улыбается и уходит.
Я слышу, как они с Ольгой что-то обсуждают и смеются. Все изменилось. В магазине стало светлее. Манур с Ольгой стали добрее. На улице хорошая погода. И все благодаря тому, что я наконец вернула себе контроль над ситуацией. Давно пора было это сделать.
Я быстро нахожу нужную мне вещь в Интернете, но какое-то время читаю описание, потому что не знаю, какую взять модель и какое напряжение лучше. Через двадцать минут я покупаю это маленькое устройство, похожее по виду на мобильный телефон. Интернет-магазин обещает доставку в течение 24 часов, но меня устроят и три дня. Затем я достаю визитку из кармана.
Андерс Йонссон, журналист.
Прежде чем позвонить, я выглядываю за дверь и проверяю, где коллеги. Ольга обслуживает покупателя за кассой, а Манур складывает джинсы, пританцовывая в такт музыке.
Андерс Йонссон отвечает после третьего гудка. Сперва он меня не узнает, и я вынуждена напомнить ему, как он недавно искал меня в магазине, как я отказалась с ним говорить, но сейчас передумала. Он размышляет пару секунд, потом сообщает, что с удовольствием со мной встретится. Может, сегодня?
Слишком легко, думаю я, слишком легко.
Лето было в разгаре, радуя всеми оттенками зеленого. Мы шли по коридору. Эхо от наших шагов металось между стен, как мячик для настольного тенниса. Я старалась идти с ним в такт, но он все время ускорял шаг. Спик спешил к стеклянным дверям, сквозь которые в помещение врывался яркий солнечный свет, посылавший всполохи по грязно-коричневому полу.
– Мы не можем встречаться, Эмма, ты же понимаешь.
Он остановился и повернулся ко мне. Мы стояли перед кабинетом физики. Грязно-серые стены начали сжиматься вокруг меня, потолок опускаться, мне стало трудно дышать. Я подняла глаза к опасно накренившемуся потолку – белому с пятнами жевательного табака-снюса. Как снюс оказался на потолке?
Спик положил руку мне на плечо и слегка похлопал, как будто утешал маленького ребенка. Неужели он не понимал, как унизителен был этот простой жест? Мое лицо залилось краской. То ли от стыда, то ли от злости.
Он использовал меня. Он играл со мной. Сосал, лизал, целовал, ласкал и входил в меня. А теперь говорит, что я ему не нужна. Поиграл со мной и бросил. Взял то, что ему было нужно, и пошел дальше. Я недостаточно хороша для него.
– Как это не можем встречаться? – спросила я и тут же пожалела об этом, поскольку не хотела навязываться, не хотела, чтобы он считал меня капризным ребенком.
Он странно посмотрел на меня и отшатнулся так, словно от меня неприятно пахло.
– Раньше же ты хотел, – продолжала я.
– Я не понимаю, – произнес он, но в этот момент прозвенел звонок, и ученики высыпали в коридор, просочились мимо нас и одной сплошной подростковой массой рванули к выходу. Спик не отводил от меня взгляда.
– Я хочу тебе помочь, Эмма, но не таким способом. И в этот момент что-то внутри меня сломалось. Боль была такой сильной, что мне показалось, будто я умерла, будто на меня обрушился потолок и раздавил в лепешку, подняв клубы бетонной пыли. Я ощущала боль каждой клеточкой своего тела, ощущала, что на мне живого места не осталось, я превратилась в одну сплошную боль. И стыд.
На улице Лютценгатан я иду по ковру из опавших кленовых листьев. Это все равно что идти по глубокому снегу, только в носу стоит запах гнилой листвы. Ветер подхватывает листья, они кружатся вокруг меня, как ласточки. Загипнотизированная этим природным спектаклем, я замираю. Я и забыла, что жизнь может быть такой прекрасной, такой совершенной.
Он ждет меня у кафе-булочной на Вальхаллавэген, как и обещал. Я его сразу узнала. На журналисте та же старая парка. Ветер треплет тонкие светлые волосы. Вид у него смешной, и я отвожу взгляд, чтобы не рассмеяться.
Мы здороваемся и входим в теплое тесное кафе. Как обычно, там царит полумрак. Мы покупаем кофе и булочки-плетенки и садимся у стены.
– Как дела на работе? – начинает он с невинного вопроса, как будто мы старые приятели, встретившиеся, чтобы обсудить последние новости.
– Нормально.
– Правда? – изображает удивление он. Но я решаю не упоминать то обстоятельство, что меня уволили. Это было бы местью. Впрочем, это и есть месть. Твоя работа за мою, Йеспер.
– Ну, вы в курсе, как у нас все обстоит. Он кивает и запихивает полбулки в рот.
– Отвратительно, – произносит он, делая ударение на каждый слог, чтобы дать мне понять, какой ужасной считает работу в этой компании.
– Ну да.
– И как вы выдерживаете?
– Это работа. Мне нужны деньги.
– Капитализм, – бормочет он угрюмо.
– У меня нет выбора. Он кивает.
– Понимаю. И ценю вашу смелость. Очень отважно прийти сюда сегодня. Так что вы хотели рассказать?
Теперь на смену наигранному сочувствию пришло любопытство. Я понижаю голос и наклоняюсь вперед, чтобы нас никто не услышал.
– Йеспер Орре. Я кое-что о нем знаю.
– Я слушаю, – говорит он, тоже передвигаясь ближе. Я вижу сахарную пудру у него на губах и чувствую его кофейное дыхание.
Я изображаю тревогу и отклоняюсь назад.
– Но я не уверена, что могу вам это рассказать. Он заглядывает мне в глаза, кладет руку мне на плечо.
– Ваша преданность компании достойна уважения, но подумайте о ваших коллегах. Подумайте, как тяжело им приходится. Ведь Йесперу Орре до них нет дела. Все, что его интересует, это деньги. На вас ему наплевать. Не забывайте этого. Йесперу Орре на вас наплевать, Эмма.
Я театрально вздыхаю и медленно киваю. Он и не представляет, насколько прав.
– Хорошо, я расскажу. Все об этом говорят. Его дом вчера сгорел, точнее гараж. И полиция думает, что он сам его поджег.
У него дергается веко. Журналист снова наклоняется ближе. В глазах живой интерес. Он даже забыл про булку. Она лежит недоеденная на тарелке. Его рука по-прежнему у меня на плече, и я легонько ее стряхиваю.
– Простите, – бормочет он, заметив мой жест. – И зачем ему это понадобилось?
Я изображаю наивность.
– Понятия не имею. Но в гараже было много дорогих машин.
– Он надеется получить страховку? Я качаю головой.
– Не знаю. Вряд ли он сам поджег его. Там же были его машины.
По его лицу я вижу, что журналист купился на мою ложь.
– Кто-то еще может это подтвердить?
– Нет, но полиция же в курсе пожара.
Он кивает.
– Эмма, это очень важно. Если ты знаешь что-то еще о Йеспере, ты должна мне рассказать.
– Что ты имеешь в виду?
Я даже не заметила, что мы перешли на ты.
– Есть ведь еще что-то.
Я делаю вид, что напрягаю память. Потом киваю.
– Наверно, расследование.
– Какое расследование?
– Внутреннее, которое ведет финансовый отдел.
– Почему?
Я склоняю голову набок, начинаю крутить локон между пальцами.
– Кое-кто утверждает, что он отпраздновал свой день рождения за счёт фирмы. Но это, наверно, полная фигня. Зачем ему это, когда у него куры денег не клюют?
Я решаю побаловать себя вечером. Покупаю вино и пиццу на вынос, зажигаю свечи – те же, что горели на ужине в честь нашей помолвки. Включаю музыку, и сразу на душе у меня полегче. Все уже не кажется таким ужасным. Я больше не беспомощная жертва, у меня появилась миссия – восстановить справедливость. Я думаю о себе не как о человеке, а как об орудии мести, и от этого мне тоже легче. Это дает ощущение свободы. Когда живешь одной целью, не нужно ни о чем больше думать, не нужно принимать решений. Перед тобой только одна дорога, и она прямая. Только не напиваться, напоминаю я себе. Нужно сохранять ясность мыслей и быстроту реакции. Сейчас я не могу позволить себе похмелье. Каждый час, каждая минута, каждая секунда важна для достижения цели.
Дисциплина. Самоконтроль. Ясность мысли.
Справедливость.
После второго бокала закупориваю бутылку, наклоняюсь над раковиной и пью холодную воду прямо из-под крана. Один волос падает в раковину и блестит на солнце. Какие красивые у меня волосы, думаю я.
Я иду в ванну и замираю перед зеркалом в восхищении. Волосы горят как пламя, бледная кожа светится как фарфор. Я явственно вижу: я красавица. Я действительно красива. Почему я все время считала себя пухлой, обычной и скучной? Почему никогда не видела себя такой, какая я на самом деле? А ведь Йеспер мне много раз это говорил, но я ему не верила. Не верила, пока не увидела собственными глазами. Я сильная, красивая, и мне никто не нужен. Даже Йеспер. Особенно Йеспер.
Поезд метро опоздал, но я так была увлечена чтением, что даже не заметила. Я читаю газету, водя пальцем по строчкам, чтобы не пропустить ни единого слова.
«Скандально известного директора компании подозревают в поджоге с целью получения страховки и растрате», – читаю я. Далее перечисляются все скандалы, связанные с компанией. «Тучи вокруг короля моды сгущаются», – делает вывод журналист и спекулирует на тему, как долго акционеры и совет директоров позволят Йесперу оставаться на посту. График, иллюстрирующий статью, показывает, что курс акций компании в последние месяцы резко пошел вниз. Под статьей фото мужчины, с которым я встречалась вчера. Тот самый журналист с крошками вокруг рта, который с интересом слушал мой рассказ.
Это даже слишком легко, думаю я. Он так легко проглотил наживку. Готов был поверить каждому моему слову. Или…
Космическое равновесие? Карма? Или Бог все-таки существует?
Легкой походкой я пересекаю площадь. Теплый ветерок ласкает волосы. Облака несутся по голубому небу. Перед магазином Армия спасения кормит бездомных. Я смотрю на них и вижу людей, которые не способны взять жизнь в свои руки, людей, ставших игрушками судьбы, не могущих подняться и дать ей отпор. Я могла бы стать одной из них – сломанной, никчемной, уничтоженной, но нашла в себе силы отомстить. Не дала превратить себя в лист, подхваченный ветром и летящий без цели и направления.
Перед магазином курит Ольга. По ее позе и тому, как нервно она подносит к губам сигарету, видно, что что-то случилось. Ольга явно нервничает. К тому же она никогда не курит перед входом, только в коридоре. Согласно правилам, это запрещено. Покупателям не стоит видеть продавцов курящими в рабочее время.
При виде меня она начинает махать руками. Ветер вырывает сигарету из ее пальцев и несет прочь, мимо алкашей в потрепанных куртках к неработающему фонтану посередине площади.
– Привет, – говорю я.
– Здесь полиция! – театрально сообщает она, вытаращив голубые глаза. Ветер треплет светлые, с отросшими темными корнями волосы.
– Полиция?
– Они хотят с тобой поговорить.
– Со мной?
– Да. С тобой.
– О чем?
– Понятия не имею. Я думала, ты в курсе.
Я пожимаю плечами, стараясь выглядеть беззаботно, но чувствую, как пульс учащается, а спина становится мокрой от пота.
Ольга буравит мою спину взглядом. Она курила перед входом не из беспокойства за меня, а из любопытства. Это очевидно.
Они говорят с Манур у кассы. Мужчина и женщина лет сорока в гражданской одежде. Они похожи на обычных покупателей. Мужчина крупный, коренастый, с коротко стриженными волосами. Он больше похож на харизматичного злодея из детективного фильма, чем на полицейского. Женщина высокая, тощая, с плохой осанкой и прямыми длинными волосами. Завидев меня, она резко поворачивается и окидывает меня изучающим взглядом.
– Эмма Буман? – спрашивает она, протягивая мне тощую руку. Рукопожатие на удивление крепкое. – Меня зовут Хелена Берг, я из полиции. Мы хотели бы с вами поговорить.
– Йонни Лаппалайнен, – представляется второй полицейский, который неожиданно появляется слева от меня. Я и не заметила, как он подошел. Он ограничивается именем. Ни должности, ни отделения, ни другой информации. Через его плечо я вижу Манур. Глаза у нее круглые, как блюдца. Она тоже гадает, что им нужно. Я медленно качаю головой, давая понять, что не в курсе.
– Мы хотели бы попросить вас проследовать с нами в участок для допроса, – сообщает тощая женщина и ждет моей реакции. Ее имя уже выпало у меня из памяти. В моем сознании сейчас нет места для таких мелочей. Оно загружено до предела. Я прокручиваю в памяти события последних дней. Кто мог видеть меня у дома Йеспера в тот вечер? Может, продавец в магазине краски что-то заподозрил и связался с полицией? Может, Ольга донесла? Но я ей не рассказывала, что собираюсь сделать. Только то, что Йеспер сделал со мной, да и то не все.
– Это действительно необходимо? – спрашиваю я.
– Да, – отвечает мужчина, – но это не займет много времени.
Я снова смотрю на Манур. Она только кивает, давая понять, что мне лучше подчиниться.
Женщина-полицейский с длинными секущимися волосами сидит напротив меня в комнате с белыми стенами и белой мебелью. На столе перед ней ноутбук. Больше в комнате ничего примечательного нет. Вблизи она выглядит старше. Глубокие морщины спускаются от углов рта к подбородку. В русых волосах видна седина.
Рядом с женщиной молча сидит мужчина. Время от времени он приглаживает рукой короткую стрижку, словно проверяя, на месте ли редеющие волосы, и смотрит в окно. Я тоже смотрю в окно. Бледное осеннее солнце заливает площадь и высохший фонтан. Опавшая листва лежит кучками вдоль стен.
– Вы узнаете это? – спрашивает женщина и открывает коричневый конверт. Что-то вываливается на стол.
Это пластиковый пакетик с металлическим предметом. Я беру его в руки, взвешиваю на ладони и открываю. Это кольцо. Мое обручальное кольцо.
– Да, – говорю я. – Это мое обручальное кольцо.
– Вы уверены? – уточняет мужчина. Я киваю.
– Да. Мы не делали гравировку, но это мое кольцо.
– Когда вы в последний раз его видели? – спрашивает он, откидываясь на спинку стула. Стул издает скрип, протестуя против его тяжести.
– Когда сдавала в ломбард на Стургатан. Мне нужны были деньги.
Полицейские переглядываются.
– А когда вы его купили? – спрашивает женщина, наклоняясь вперед.
– Это обручальное кольцо, я же сказала. Я его не покупала, мне его подарили.
– О’кей, мы только уточняем. Когда и как вы его получили? И от кого?
Я вздыхаю. Не понимаю, что им нужно. Смотрю в окно. Внезапно меня посещает мысль, что я тоже хотела бы сейчас сидеть на скамейке в парке в грязном пуховике с бутылкой спиртного в руках. Как эти бездомные перед магазином. Где угодно, только не здесь.
– Мне подарил его мой парень, точнее жених. Две недели назад. А потом он меня бросил. Мне нужны были деньги, и я отнесла его в ломбард. Что в этом противозаконного?
Мужчина покачал головой.
– Ничего. Но дело в том, что это кольцо украли из ювелирного магазина на Линнегатан две недели назад. Вам что-то об этом известно?
– Украли?
– Да. Из магазина. Все ломбарды сверяют заложенные драгоценности со списком украденного, и кольцо вычислили очень быстро. Поскольку у ломбарда были ваши данные, мы вас сюда и вызвали.
Я вся холодею. Холод поднимается от ног к груди и голове, сжимая все тело железной хваткой. Йеспер украл кольцо? Зачем ему это понадобилось? Он не хотел тратить на меня деньги? Или это еще одна часть его чудовищного плана, которую я тоже упустила?
Женщина сверлит меня взглядом. Видно, что она мне не верит. Я вижу волоски у нее над верхней губой, и мне хочется сказать ей отодвинуться. Потому что с каждым сантиметром, с которым она наклоняется ближе, ком в горле увеличивается. Вся эта ситуация невыносима. Мне не хватает воздуха. Стены сжимаются вокруг меня.
– Мы думаем, что вы украли это кольцо, Эмма.
Я не в силах ответить. Во рту пересохло. Язык прилип к гортани и не шевелится. Мужчина с финским именем вздыхает. Думаю, за свою долгую рабочую жизнь он чего только не наслушался. Он не верит мне, думаю я. Они оба мне не верят.
– Эмма, посмотрите на это.
Он поворачивает ноутбук ко мне, и я вижу черно-белую картинку в плохом разрешении. Сначала я вообще ничего не понимаю, но потом узнаю интерьер ювелирного магазина. Текст в углу экрана сообщает дату и время. Женщина нажимает на значок «Плей», и картинка оживает. Продавщица говорит с кем-то, стоящим спиной к камере. Продавщица жестикулирует, поднимает поднос, рукой показывает на стол с двумя стульями, потом идет и садится спиной к камере. Второй человек на видео идет за ней, присаживается на другой стул, снимает шапку и перчатки.
Это я. Она – это я.
Женщина на видео это я.
Она, то есть я, примеряет кольца. Одно за другим. Она, то есть я, улыбается, наслаждается процессом.
– Я смотрю кольца, – говорю я. – Мы с Йеспером смотрим кольца.
– Это мы видим, – отвечает мужчина, – но в магазине вы одна.
Я ничего не понимаю. Этого не может быть.
– Подождите, поставьте на паузу, – говорю я. Он пожимает плечами, ставит на паузу.
– Прокрутите назад.
– Мы сто раз уже его смотрели.
– Пожалуйста.
Он делает, как я прошу.
– Вот, – говорю я. – Паузу!
Сбоку от меня виднеется тень.
– Это он, – говорю я. – Это он.
Полицейские многозначительно переглядываются. Женщина устало произносит:
– Так вы уверяете, что были не одна в магазине?
– Разумеется. Кто меряет один обручальные кольца…
– И другой человек…
– Йеспер Орре, мой жених.
– Тот самый Йеспер Орре?
– Тот самый.
Петер
Мы с Ханне и Манфредом идем в переговорную, где нас ждет Хелена Берг. Она представляется и сообщает, что работает в участке в районе Эстермальм. Есть что-то знакомое в ее тощем теле, заостренных чертах лица и тонких русых волосах. Может, мы уже встречались раньше? Во всяком случае, она меня явно не помнит. Почему Бог наградил меня такой заурядной внешностью? Никто не обращает на меня внимания и при новой встрече редко вспоминает, что мы уже однажды встречались. Я из тех людей, с кем можно неделю ездить в одном автобусе по утрам и не запомнить. Полная противоположность Манфреду, которого знает каждая собака. Впрочем, наверно, этого результата он и добивался таким тщательным выбором нарядов.
Ханне и Манфред садятся рядом с Хеленой, а я сажусь напротив. Кошусь на Ханне. Она выглядит как обычно. Собранная, с блокнотом в руках и непроницаемым выражением лица. Ни следа от нашей вчерашней близости. С таким же успехом она могла быть одной из пассажирок автобуса, не потрудившейся запомнить мое лицо.
Жанет тоже иногда так себя вела – игнорировала меня, вела себя так, словно я пустое место. Обычно из стремления наказать меня за что-то. Например, за то, что я забыл про ее день рождения, или за то, что я отказывался пойти осматривать квартиры. Но Ханне не Жанет. Нет двух других людей, столь не похожих друг на друга, как они. Бесполезно их даже сравнивать. И тем более нельзя мерить Ханне меркой Жанет. Во всяком случае, угадать ее мысли это не поможет.
Я поворачиваюсь к Хелене Берг, полицейской, которая пришла сообщить нам о своей встрече с Эммой Буман.
– Спасибо, что вы пришли, – говорю я. Хелена пожимает плечами и криво улыбается.
– Спасибо. Я жалею, что не сложила два и два раньше. Но, как вы знаете, мы каждый день встречаем столько странных людей…
Я киваю. Всем за столом хорошо известно, что такое оперативная полицейская работа. Все мы там были. Кроме Ханне.
– Расскажите нам все подробно, – прошу я. Ханне и Манфред тоже принимают участие, и я пока ничего не говорил им о состоявшемся допросе.
– О’кей, – кивает Хелена и продолжает: – Около двух недель назад нам позвонили из ломбарда в районе Эстермальм в Стокгольме. Им оставили в залог дорогое бриллиантовое кольцо. Обручальное. И когда они сверили описание со списком украденных драгоценностей, обнаружили, что оно похоже на кольцо, похищенное из ювелирного магазина на улице Линнегатан парой недель раньше. Кольцо заложила Эмма Буман. Она живет на улице Вэртавэген, рядом с площадью Карлаплан, где находится ювелирный магазин. Мы с коллегой допросили ее и показали запись с камеры слежения из магазина, на которой явно видно девушку в момент кражи.
– И что она сказала? – интересуюсь я.
– Она призналась, что была в магазине, но не одна. По ее словам, она была там со своим парнем Йеспером Орре. Они смотрели обручальные кольца. Эмма сказала, что они ничего не купили, но позднее Орре вручил ей это кольцо.
– У нее были доказательства?
Хелена пожала плечами.
– Нет. Но она показала на тень на видеозаписи и сказала, что это Орре, но мы не смогли это подтвердить. Запись довольно плохого качества, трудно сказать, что за человек на ней. В любом случае мы позвонили Йесперу Орре, и тот ответил, что никогда не слышал такого имени и не дарил никакой Эмме кольцо. Он добавил, что сумасшедшие постоянно обвиняют его во всех грехах и что очень сложно быть публичной фигурой. Вот и все. Мы были очень заняты в тот период и отложили дело в долгий ящик. И только увидев портрет убитой девушки по телевизору и услышав об исчезновении Орре, я сложила два и два и связалась с вами. Я уже переслала протокол допроса и видеозапись, если вы захотите с ними ознакомиться.
Я достаю портрет жертвы и кладу на стол.
– Так вы уже видели этот портрет?
– Конечно, – отвечает она, хмурясь. – Он повсюду. Правда, что ей отрезали голову?
Я киваю в ответ.
– Какой ужас. Сколько психов вокруг. Да, я видела этот рисунок и не нахожу особого сходства. Плюс у Эммы были длинные волосы. Но она могла постричься.
После ухода Хелены Берг мы остаемся за столом. Санчес взбудоражена, как всегда бывает, когда намечается прорыв в расследовании. Она барабанит пальцами по столу.
– Так что вы обо всем этом думаете? Манфред прокашливается и снимает очки.
– Из всего услышанного можно сделать логический вывод, что у Йеспера Орре была тайная связь с Эммой Буман, о которой он не желал распространяться. Возможно, она пришла к нему домой, чтобы поговорить, спровоцировала его на убийство, после чего Орре бежал.
Ханне нагибается вперед.
– Но что тогда тот другой парень?
– Какой парень?
Ханне внезапно заливается краской. Вид у нее потерянный.
– Тот, которого убили десять лет назад… Я забыла имя. Как его звали? Того китайца?
– Китайца? – удивляется Санчес.
– Да, то есть… тот… второй… без головы.
– Кальдерон? – подсказывает Санчес.
Ханне выдыхает, но на лице у нее по-прежнему страх. Одной рукой она теребит волосы и часто моргает. Кажется, что она в любой момент разрыдается.
– Точно. Кальдерон.
– Он был не из Китая, а из Чили.
– Простите, я оговорилась. Но зачем Орре убивать его и отрезать ему голову?
– Мы не знаем, – отвечает Манфред. – Пока не знаем. Но наверняка если покопаться в прошлом Орре, то что-нибудь всплывет.
Я поворачиваюсь к Санчес, решив, что надо воспользоваться моментом и направить эту энергию радостного щенка в нужное русло. Я хорошо помню, что в молодости меня тоже переполнял энтузиазм, но сейчас от него не осталось и следа.
– Родители Эммы Буман мертвы. В розыск ее объявила тетя. Можешь связаться с ней и расспросить об отношениях племянницы с Орре? И опроси ее коллег в магазине. Мы не знаем, были ли они близки с тетей, так что лучше проверить все источники.
Санчес кивает и выходит из комнаты. Манфред следует за ней.
Мы с Ханне остаемся одни в переговорной.
– Пройдемся? – спрашиваю я.
Мы идем под снегом через площадь Кунгсхольмсторг в направлении Норр Мэларстранд.
Тонкая куртка не спасает от ветра, ноги промокли, напомнив мне о том, что я так и не купил себе зимнюю обувь. Ханне молча идет рядом со мной в своей бесформенной куртке и массивных сапогах. У Норр Мэларстранд мы сворачиваем к ратуше. Снег засыпает залив Риддарфьерден, окрашивая воду в серый цвет. Сквозь снежную пелену контуры домов в районе Сёдер расплывчатые и нечеткие.
– Ты в порядке? – спрашиваю я.
Ханне поворачивается и смотрит на меня.
– А почему я должна быть не в порядке?
Она держится несколько отстраненно, словно хочет сохранять дистанцию.
– Я думала о том, что случилось вчера.
Она останавливается, поворачивается спиной к ветру и натягивает на голову капюшон. Смотрит на меня с грустью в глазах. Снежинки падают ей на щеки и тают. Я хочу протянуть руку и смахнуть эту влагу, но знаю, что нельзя. У меня нет такого права. Ханне не давала мне такого права.
– То, что произошло вчера, – повторяет она, – это было прекрасно. Мне все понравилось. Но я хочу быть честной с тобой, Петер. У нас никогда больше не будет отношений. По крайней мере серьезных. Мы можем проводить вместе время, если хочешь, но встречаться мы не будем. Понимаешь?
Почему-то от ее слов мне стало ужасно больно. Я и сам не понимаю почему. Разве я ждал чего-то другого? Что после ночи, проведенной вместе, мы снова начнем встречаться? Что все то, что я сделал десять лет назад, будет забыто и прощено?
– Могу я спросить почему?
Не отвечая, Ханне отворачивается и продолжает идти к набережной. Подходит к краю, останавливается и смотрит на воду. Я следую за ней и встаю рядом. Большие черные птицы кружат над водой. Чайки? Или вороны?
– Как думаешь, им не холодно? – спрашивает Ханне.
– Чертовски холодно, – огрызаюсь я.
– Я больна, – говорит она, поворачиваясь ко мне. – Серьезно больна. И я не хочу стать для тебя обузой. Это было бы неправильно.
В этот момент я думаю о маме. О том, как она курила на веранде в одном из старых садовых кресел, укутавшись в шерстяную кофту и обмотав голову платком.
При этом воспоминании во мне просыпается нежность к той исхудавшей женщине, которая была мне матерью. Я снова ощущаю ее запах: мыла, табака и… болезни… антисептика, незаживающих ран. Я хорошо знаю запах болезни. Он всегда стоит в больничных коридорах. Это запах мочи, мокрых простыней, вареной в мундире картошки и завернутых в пленку потных бутербродов с сыром. Запах государственной медицины.
– У тебя рак? – невольно вырывается у меня.
Ханне смеется.
– Нет. С чего ты решил, что у меня именно рак?
– Не знаю. Со многими это случается.
Ханне ничего не говорит. Смотрит на меня с грустной улыбкой. Я снова думаю о Жанет. Пару лет назад она вбила себе в голову, что у нее опухоль в груди. Она звонила мне и ныла, и умоляла позаботиться об Альбине, когда она умрет. Я тогда ничего не почувствовал. Мысль о том, что мать моего ребенка может быть смертельно больна, оставила меня абсолютно равнодушным. Наверно, я ужасный человек.
– Но тогда что с тобой? – спрашиваю я.
– Я не хочу об этом говорить, – отворачивается Ханне и уверенным шагом идет обратно в здание полиции.
Я не решаюсь следовать за ней и стою в раздумьях. Вскоре звонит телефон. Это Жанет. По ее истеричному голосу я понимаю: что-то случилось.
– Ты должен поговорить с Альбином, – заявляет она. Я захожу в подъезд, чтобы спрятаться от ветра.
– О чем?
– Он начал прогуливать школу. И завел ужасную компанию. Эти отморозки из Скугоса, ты знаешь? Я тебе о них рассказывала.
Я пытаюсь согреть замерзшие руки о шею. Пальцы совсем окоченели.
– Так он тусит в Скугосе? И о чем ты хочешь, чтобы я с ним поговорил?
Я понимаю, как идиотски это звучит, и тут же жалею о сказанном. Я не хочу ее обижать, но все время обижаю. Жанет всегда звонит мне, когда у нее проблемы с Альбином, хотя мы условились еще до его рождения, что она сама будет его воспитывать, потому что родила его против моей воли.
– Тебе лучше знать. Ты же полицейский и в курсе того, чем подростки занимаются. Наркотики и все такое. И ты знаешь, к чему это баловство приводит… и потому что ты его отец, – добавляет она едва слышно, словно это то, что нельзя произносить вслух.
Я смотрю на снег и пытаюсь придумать, как отказать ей, не обидев. Продумываю разные отговорки.
– Наверняка ничего серьезного, – робко начинаю я.
– Как это ничего серьезного? – вопит в трубку Жанет. – И так всегда. Ты не хочешь брать на себя ответственность за Альбина. Никогда нам не помогаешь. Даже когда я тебя умоляю. Ты хоть представляешь, как тяжело мне даются эти звонки? Тебя же вообще нельзя ни о чем попросить! Знаешь, как долго я мучилась, прежде чем набрать твой номер на мобильном? Знаешь?
Я переминаюсь с ноги на ногу. Решаю, что сейчас не лучший момент напоминать о нашей договоренности пятнадцатилетней давности.
– Ладно, – говорю я, перекладывая телефон в другую руку.
– Когда?
– Что значит когда? Точно не сегодня. Мы вообще-то расследуем дело об убийстве.
– Завтра?
– Завтра я не успею. Может, на следующей неделе?
– Знаешь что, Петер? Другого я от тебя и не ждала. Понятия не имею, зачем я вообще тебе позвонила. Можешь проваливать к черту со своей проклятой работой. Мы с Альбином тебя не желаем знать. Слышал? Проваливай к черту!
Я долго стою в подъезде и смотрю на снег, на черных птиц, кружащих в небе. Думаю о маме и сестре на кладбище Скугсчюркогорден. Не холодно ли им там в промерзшей земле? Потом думаю о том, как это несправедливо – потерять Ханне сейчас, когда я только ее вернул. Да, я знаю, что не вернул ее, но у меня было такое чувство, что мы снова вместе. Но я потерял не только ее. Я потерял и Жанет с Альбином, хотя они живы и никуда не уезжали. Потерял из-за моей лжи, боязни привязаться, моего бегства. Я столько всего плохого сделал в жизни, что заслуживаю наказания. И мое наказание заключается в том, что Ханне никогда больше не будет моей.
Эмма
Двумя неделями ранее
Это даже смешно. Я ни разу в жизни не взяла чужой конфеты, а меня обвиняют в краже дорогого украшения. Я сажусь в кресло, закидываю ноги на стол и думаю о том, как сильно мне не хватает Сигге. Он хоть и был только кот, но составлял мне компанию, и его присутствие делало квартиру настоящим домом. Без него тут пусто, и холодно, и неуютно. Может, мне стоит завести новую кошку, но это было бы несправедливо по отношению к Сигге. Ради приличия стоит его сначала оплакать, прежде чем заводить нового питомца.
Учебники по физике пылятся на столе. Я совсем забросила учебу, и все по вине Йеспера. А ведь для него было так важно, чтобы я закончила гимназию и поступила в университет. Я закрываю глаза, откидываюсь на спинку кресла.
– Но почему ты бросила школу?
– Боже мой, зачем говорить об этом сейчас? Йеспер вышел из меня и улегся рядом на кровати.
Сунул под голову подушку. Он был в хорошем настроении. Без его мощного тела поверх меня дышать стало легче. Я сделала глубокий вдох и посмотрела на него.
– Ты не любишь это обсуждать?
– Вовсе нет. Просто это не самая романтичная тема для разговора, не так ли?
– Но я хочу знать. Я люблю тебя и хочу знать, почему ты так поступила.
– Разве нам нужно все знать друг о друге?
– Конечно, нет.
Внезапно выражение лица у него стало таким серьезным, что я испугалась. Он словно ушел в себя, в темную бездну, о которой я ничего не знала. Но в следующее мгновение лицо расслабилось, и он снова выглядел как обычно. Я вздохнула, понимая, что мне придется дать ему какое-то объяснение.
– Так почему ты бросила гимназию? – снова спросил он, делая ударение на каждом слоге.
– Я не бросала гимназию. Я никогда ее и не начинала. Когда папа умер…
Пауза.
– Да?
Он приподнялся на локте, обхватил левой рукой мою грудь и прижался губами к моим губам. Его горячее влажное тело пылало как печка.
– На меня слишком много всего навалилось. Сначала смерть папы, потом эта история с учителем труда. Это было в девятом классе. Я закончила учебный год и полгода была в отпуске, а потом сразу начала работать.
Он резко выпустил мою грудь.
– Так это все из-за этого чертова Спика?
– Я не знаю. Мы оба были виноваты.
– Да ну!
Язвительный смешок.
– Но, милая, ты же была ребенком, а он взрослым человеком. То, что он сделал с тобой, было ужасно, отвратительно, мерзко. Чертов педофил.
– Но я же не возражала.
Йеспер сел на кровати и с яростью накинул покрывало на бедро.
– Надеюсь, ты после всех этих лет не винишь себя за то, что случилось?
– Я не хочу об этом говорить.
– Прости, – вздохнул он, – я только не могу сдержать гнев, когда думаю о том, как он тебя использовал. Ты была несовершеннолетней, в расстроенных чувствах после смерти отца, в зависимом от него положении, и он этим воспользовался.
– Ну, не прямо чтобы воспользовался.
– Да ладно. Это не было совращением несовершеннолетней? Говори что хочешь, но это было неправильно, и ему не стоило этого делать.
– А как ты тогда называешь наши отношения?
Он застыл.
– Что ты имеешь в виду?
– Я тоже в зависимом от тебя положении. Ты директор компании, в которой я работаю, но тебе это не мешает со мной спать.
– Это не то же самое. Мы взрослые люди и любим друг друга. Никто никого не использует. Возможно, это не совсем…профессионально с моей стороны…
Его голос звучал убедительно, но по позе видно было, что я задела чувствительное место. Он отстранился и потянулся за пачкой сигарет.
– Будь со мной честен, Йеспер. Разве это нормальные отношения между двумя равными? Он промолчал.
Я лежу в кровати, полностью одетая, и смотрю в потолок. В одном углу дрожит на ветру паутина. На потолке трещина – из одного угла в другой. Рано или поздно квартиру придется ремонтировать, но на какие деньги? И это тоже вина Йеспера.
Во всем виноват Йеспер. Я снова чувствую гнев, но на этот раз этот гнев не придает мне энергии, как это было после поджога гаража Йеспера. На этот раз этот гнев вызывает у меня депрессию. Я словно проваливаюсь в глубокую черную яму. За окном идет дождь. Даже небо сегодня плачет.
Внезапно у меня возникает желание поговорить с Йеспером. Припереть его к стенке и заставить объяснить, почему он так со мной поступил. Надо только найти в себе силы и поговорить с ним на равных, вернуть себе контроль над ситуацией, вернуть достоинство. Все получится, сказала я себе. Со Спиком же получилось.
Перед кабинетом директора была небольшая комната для ожидания с потертыми мягкими креслами и столом секретарши. В кабинет вела застекленная непрозрачная дверь. Я сидела в одном кресле, мама в другом, между нами стоял журнальный столик из светлого дерева, заваленный журналами. Я полистала журналы: «Школа сегодня», «Учительский журнал». Ничего интересного.
За стеклянной дверью сновали тени, но непонятно было, кто там внутри. Мама теребила свою новую яркоголубую сумку и нарочито громко вздыхала, демонстрируя свое раздражение.
– Я не понимаю, почему они не сказали, зачем вызывают меня в школу. Мне надо работать. Я не могу сидеть здесь целый день из-за какой-нибудь глупости. Я так и сказала, когда они позвонили. Мне нужно думать о работе. И о похоронах мужа. И помимо того…
– Мама, пожалуйста, перестань. Они тебя услышат. Она холодно посмотрела на меня.
– Я надеюсь, что ты ничего не натворила. Если так, лучше скажи сразу.
– Что сказать? Я тоже не знаю, зачем они тебя вызвали.
Я посмотрела на часы на стене. Тонкая секундная стрелка двигалась по циферблату, как паучья лапка. Достигнув отметки в двенадцать, она дернулась и подпрыгнула.
– Ты что-нибудь украла?
– Конечно, нет.
– Прогуливала школу?
– Прекрати. Я никогда не прогуливаю.
– Тогда можешь объяснить мне, почему я сижу здесь, а не на работе?
Маме нравилось подчеркивать в разговорах со всеми знакомыми, что у нее есть работа. Она была безработной много лет из-за проблем со спиной, и возвращение на работу много значило для нее.
Она посмотрела на часы на стене. Они показывали десять минут двенадцатого.
– У меня полчаса. Не больше.
Она переплела толстые пальцы и умолкла. Я тоже молчала, не зная, что сказать. Из кабинета директора донеслись звуки, похожие на скрип ножек стула по полу.
– Эмма, – произнесла мама.
– Что?
– А травку ты не курила?
В то же мгновение открылась застекленная дверь, и показалось загорелое лицо директора школы Бритт Хенрикссон. Летнее платье от «Маримекко» мешком висело на ее худом теле.
– Как хорошо, что вы смогли прийти. Входите. Она отступила назад, приглашая нас в кабинет. Мама встала и поздоровалась, я робко последовала за ней. Выражение лица у директора было озабоченное.
На вращающемся стуле напротив письменного стола сидел Сигмунд по прозвищу Фрейд, школьный психолог. Со своей короткой стрижкой, курчавой бородой и коренастостью он больше напоминал отца Пиппи, чем строгого немецкого психиатра. Рядом с ним, потупив взгляд, сидела красная как рак Элин.
– Спасибо, Элин. Можешь идти. Мы с тобой свяжемся, – попрощалась директор.
Элин поднялась и, не поднимая на нас взгляда, вышла из комнаты.
– Как-то тут душновато, – сказала Бритт. – Сигмунд, будь добр, открой окно.
Это действительно было так. В комнате было жарко и душно и пахло старыми потными носками. Сигмунд с трудом поднялся со стула, подошел к окну и открыл его, впустив солнце в тесный кабинет.
– Так получше, – прочирикала Бритт. – Хотите сока? Я кивнула, но мама отказалась.
– Спасибо, нет. Мне нужно спешить на работу. Бритт кивнула, налила сока в белый пластиковый стаканчик и протянула мне. Это был такой же стаканчик, как в столовой, и это меня удивило. Почему-то я думала, что директор пользуется только фарфоровой посудой и что в ее кабинете все лучше и красивее, чем в классах. Бритт поправила платье и аккуратно опустилась на стул, словно боясь, что он сломается.
– Эмма, ты, наверно, знаешь, почему мы здесь сегодня собрались?
Я покачала головой. Откуда мне это знать?
Бритт отвела глаза и прокашлялась. Видно было, что эта ситуация доставляет ей дискомфорт. Сигмунд ничего не говорил, только теребил бороду, с тоской уставившись в окно.
– Что она натворила? – спросила мама.
– Нет, нет, – начала Бритт. – Эмма ничего плохого не сделала. К нам поступила информация, что один из наших учителей… приставал к Эмме.
– Что? – ахнула мама, выронив из рук сумку. Она шлепнулась на пол с глухим звуком.
– Это практикант. Учитель труда. Способный педагог, но, согласно полученным сведениям, он… Эмма, может, ты сама все нам расскажешь? Это ведь слухи, правда? Что он к тебе приставал?
Я не могла ответить. Во рту пересохло, в горле стоял ком.
– Эмма, – заговорил Сигмунд с немецким акцентом, – нам очень важно знать, что в действительности произошло. Ради тебя и других учеников. Так он когда-нибудь приставал к тебе?
Поколебавшись, я кивнула. Мама фыркнула и потянулась за сумкой.
– Что именно он сделал? – мягко спросила Бритт и накрыла мою руку своей. Я тут же отдернула руку.
Рядом с моим стаканом ползала божья коровка с двумя пятнышками. Как поется в той песенке? Можно загадать желание?
– Прости за настойчивость, Эмма, но нам нужно знать. Он тебя целовал?
Божья коровка подползла к краю. Она была так близко, что ее можно было коснуться. Я протянула к ней палец в надежде, что она на него заползет.
– Эмма?
В голосе директора была настойчивость.
– Он тебя целовал? Трогал?
Я кивнула, не отрывая глаз от божьей коровки. В комнате стало тихо. Так тихо, что слышно было шум машин на дороге и смех детей на школьном дворе.
– У вас… – директор замялась, – был половой акт? Половой акт. Я поежилась. Это прозвучало как заразная болезнь. Я ткнула коровку кончиком пальца.
– Да, – прошептала я. – Да.
Божья коровка сменила направление и поползла прочь от стакана.
Стеклянная дверь за нами закрылась. Мама надела пиджак. Она шумно, с присвистом дышала. Лицо у нее было багрово-красное, а сумку она прижимала к груди двумя руками. Мама повернулась ко мне.
Не знаю, чего я ждала. Тирады о том, сколько бед я ей причиняю. Или раздражения, потому что из-за меня ей пришлось посреди рабочего дня тащиться в школу. Но не пощечины, и потому удар был неожиданным. Я чуть не потеряла равновесие, комната закружилась перед глазами, щеку пронзила острая боль.
– Шлюха, – слово мама выплюнула и вышла в коридор.
Ханне
По дороге обратно в участок я заблудилась. Не знаю, как это произошло. То ли я переволновалась из-за разговора с Петером, то ли болезнь начала сказываться. А может, все дело в погоде. Сквозь снежную пелену ничего не видно, и здания словно окутаны белым туманом. Разумеется, таблички с названиями улиц остались на своих местах, но я совершенно не помню, где они находятся и куда ведут. Вся карта Кунгсхольмена словно стерлась у меня из памяти. Снег сыпется за воротник, тает и стекает на грудь. Руки окоченели. Я чувствую, как вокруг меня сжимаются тиски паники. Можно было бы спросить дорогу у прохожих. Например, у женщины с коляской, у мужчины с теннисной ракеткой или у пары, целующейся в арке. Но я не могу. Не могу признаться себе, что не в состоянии найти дорогу обратно в здание полиции.
Ветер рвет капюшон, бросает снег мне в лицо. Вокруг меня один снег и лед. И холодно, как в Гренландии, где живут инуиты.
Я думаю о первопроходцах, пытавшихся покорить полярные территории, часто с трагическим результатом, – Амундсене, Андре, Стриндберге, Нансене… И о Клаусе Паарсе, датско-норвежском офицере, отправившемся в 1728 году в Гренландию, чтобы отыскать норвежских поселенцев, с которыми никто не связывался на протяжении двухсот лет.
Планируя экспедицию, организаторы считали, что молодые сильные норвежцы легко исследуют неизвестный остров на лыжах. В команду, пересекшую Атлантический океан, входили двадцать солдат, двенадцать заключенных, несколько проституток и двенадцать лошадей. По прибытии смельчаков ожидала настоящая борьба с природными стихиями и с соплеменниками. Члены команды подняли бунт, который Паарсу с трудом удалось подавить. Но вслед за бунтом пришла новая напасть. Люди начали умирать от цинги и оспы. Лошади тоже мерли как мухи. Два раза Паарс пытался пересечь остров и оба раза потерпел поражение. Ледяные глыбы были острыми как нож. Под конец даже гренландцы покинули колонию, и мечта Паарса заселить остров датскими аристократами потерпела крах.
Откуда берется это вечное желание человека покорить мир? Желание, которое не ограничивается покорением природы. Люди хотят управлять и другими людьми тоже, как в семейной жизни, так и общественной. Всю жизнь Уве пытался приручить меня. Но я не поддамся. Я возьму его на измор, как полярные льды, своим холодом и неприступностью. Рано или поздно он сдастся и начнет искать себе добычу полегче.
Я моргаю от снега и пытаюсь снова найти что-нибудь знакомое. Меня даже посещает мысль позвонить Уве, так как я знаю, что он бросит все и примчится выручать меня. Он всегда выручал меня, когда я попадала в трудные ситуации.
Снег идет тише, видимость улучшается, и теперь можно разглядеть знакомые контуры глазной больницы Святого Эрика.
Наконец, я могу выдохнуть. Я знаю, где я и как вернуться обратно в Полицейское управление.
Но парализующий страх от того, что я не в состоянии вспомнить направление, и ощущение полной беспомощности никуда не уходит. И я не могу расслабиться, даже оказавшись в тепле за письменным столом в комнате с видом на улицу Кунгсхольмсгатан. И даже после трех чашек обжигающе горячего чая меня продолжает трясти.
Я смотрю на Петера. Он сидит в паре метров неподалеку спиной ко мне. Взгляд прикован к экрану. Седые волосы влажные от снега, на полу под ногами – лужицы вокруг нелепых в такое время года кроссовок.
Лучше бы у меня был рак. Тогда я могла бы ему об этом рассказать. Но мне стыдно сказать, что у меня деменция. Особенно после того, как мы переспали. Это хуже, чем венерическая болезнь. Постыднее. Потерять разум – нет ничего хуже. Отвратительно. Я постепенно превращаюсь в овощ. Это не может вызывать у людей ничего, кроме чувства гадливости. Кому нужен овощ? Только Уве.
Может, это и есть любовь? Быть рядом, что бы ни случилось. Я вспоминаю слова из Послания к коринфянам: любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Но я не хочу, чтобы Уве меня переносил. Я хочу, чтобы он оставил меня в покое.
Может, мне лучше поехать в Гренландию? Я всегда об этом мечтала. Сделать это сейчас, пока еще есть время. Что я делаю, здесь в полиции – в месте, где все началось и где все закончится?
Гунилла говорит, что нельзя отчаиваться. Еще один повод стыдиться. Серьезно больные люди не теряют надежды, потому что это было бы предательством по отношению к врачам и родственникам. Да и ко всему нашему обществу, основанному на принципе, что любые проблемы можно решить, а болезни вылечить.
Гунилла говорит, пока жив человек, жива и надежда. Кто знает, может, завтра будет найдено лекарство от неизлечимой болезни? Но что, если у человека нет сил надеяться? Силу надежды склонны преувеличивать. Ее считают спасательным кругом, за который должны зацепиться больные с благодарной улыбкой на лице. И выпустить этот круг не только глупо, но и эгоистично.
Но я так устала делать то, чего от меня ждут другие.
После обеда я читаю протокол допроса Эммы Буман. И вижу, у нашей теории есть слабые места. Предположим, что убитая в доме Йеспера Орре действительно Эмма Буман. Но зачем Йесперу было ее убивать? Если у них была интрижка и Йеспер хотел с ней покончить, значит, он не испытывал к девушке сильных чувств. Тогда зачем убивать ее столь чудовищным способом?
То, с какой жестокостью он ее убил, а потом поставил голову и подклеил веки, указывает на то, что убийца ненавидел жертву. И я не вижу причин Йесперу Орре ненавидеть Эмму Буман. По крайней мере на основе той информации, которой я располагаю.
К тому же если он действительно убил Эмму, то зачем сделал это в собственном доме и скрылся, не спрятав тело? Он должен был знать, что подозревать будут только его. Но если он все-таки совершил это убийство – из ярости, или в состоянии аффекта, или находясь под воздействием наркотиков, – то почему бежал из дома без кошелька и мобильного телефона? Посреди зимы.
За окном сгустились сумерки. Желтые огни лампы в виде свечей адвента отражаются в стекле. В офисе тихо и спокойно. Слышно только отдаленные разговоры и стук пальцев Санчес по клавиатуре, что-то набирающей на компьютере. Я листаю материалы дела дальше.
Читаю свидетельские показания коллег и друзей Йеспера. Никаких упоминаний о том, что у него могли быть психические проблемы. Никаких приступов агрессии. Но только психически нездоровые люди способны совершить подобные преступления. Здоровый человек не станет отрубать жертве голову. И даже психопаты не рождаются убийцами. Обычно можно заметить признаки проблемы в детском возрасте. Это может быть асоциальное поведение, подростковая преступность, насилие над животными или детьми помладше. Жесткий секс и кража нижнего белья к такому не относится. У всех у нас есть маленькие грязные секреты, о которых никто не должен знать. Но немногие станут отрезать головы своим согражданам.
Такое поведение находится за рамками нормы и обычно говорит о наличии серьезных проблем с психикой.
И к тому же у нас есть еще Кальдерон. Чилиец, не китаец. Как меня угораздило ляпнуть про китайца?
Глупости так и сыпятся из меня в моем нынешнем состоянии. Впервые в жизни мне удается вызвать у людей смех. Может, я стану одной из тех больных, что доводят своими выходками до колик врачей и других пациентов в больнице?
В любом случае Санчес мелким гребнем прошлась по делу Кальдерона, заново допросила всех родственников и не нашла между ним и Орре никакой связи. Шум прерывает мои размышления. Я поворачиваюсь к столу, за которым сидит Санчес, и вижу, как Манфред машет руками и что-то громко рассказывает. Через пару секунд к ним присоединяется Петер. Манфред натягивает пальто, Санчес – куртку. Он кладет в карман телефон и поспешно выключает лампу.
Петер поворачивается ко мне. Видно, что ему не терпится что-то мне сообщить. Наверно, что-то случилось.
– Они нашли труп неподалеку от дома Орре. Поедешь с нами?
Мы в рощице в паре сотен метров от дома Йеспера Орре. Снегопад кончился. Заснеженный пейзаж освещают синие огни полицейских автомобилей. Ветви деревьев пригнулись к земле под тяжестью свежевыпавшего снега. Под ногами тоже похрустывает. Манфред приподнимает сине-белую заградительную ленту и кивает мне проходить. Санчес и Петер уже впереди говорят с полицией. В сторонке толпятся любопытствующие. Кто-то машет руками, чтобы согреться, кто-то делает фото на телефон. Полицейские в униформе не дают им приблизиться, объясняют, что ничего интересного тут нет и что им лучше пойти домой.
Подойдя ближе, я вижу криминалистов и полицейских под большим деревом рядом с зеленым ящиком с надписью «Песок», наполовину заваленным снегом.
– Ребятишки его нашли, – сообщает Манфред. – И почему дети все время натыкаются на покойников? Судя по всему, они играли в прятки и нашли обледеневший труп.
Я подхожу к ящику. Киваю знакомым, пытаюсь заглянуть внутрь. Различаю очертания мужчины на дне ящика. Одетый только в джинсы и тонкую кофту, он лежит в позе зародыша. Лицо все в черной спекшейся крови, покрытой инеем, но сомнений нет, это Йеспер Орре.
Эмма
Двумя неделями ранее
Я роюсь в ящике с инструментами в поисках подходящего орудия. Решаюсь на молоток и стамеску. Кладу их в сумку. На улице ноль градусов, так что я надеваю толстую куртку и зимние сапоги. Выхожу из дома и иду ловить такси.
Мне холодно, несмотря на куртку, шапку и варежки. Прохожие с собаками сгибаются от сильного ветра. Машин на улицах почти нет. Наверно, надо было заказать такси, но я не хочу наследить. Нельзя, чтобы мои данные сохранились в службе заказа.
Через десять минут показывается свободное такси, я усиленно машу с тротуара. Стекло все заиндевело. Называю адрес в паре кварталов от Йеспера. Нужно соблюдать осторожность. Шофера зовут Йорге, и он из тех, кто любит поболтать. Я односложно отвечаю на вопросы в надежде, что он поймет намек. К счастью, он понимает. Мы едем в тишине. Слышно только шум мотора и классическую музыку по радио.
Как ему это удается? Жить двойной жизнью несколько месяцев, лет? Как Йеспер мог одновременно встречаться с двумя женщинами? Это для него такая игра или вид спорта? Ему нравится обманывать окружающих? Меня ему определенно удалось провести. Или он действительно желал мне зла.
Вопросов у меня все больше и больше, но ни одного ответа. Да и кто сказал, что женщин было только две? Может, помимо меня, он одурачил еще много девушек? Я прижимаюсь щекой к холодному окну и закрываю глаза. Пытаюсь представить других любовниц Йеспера по всему Стокгольму, но не могу. Мне не хочется в это верить. Да и откуда у него столько свободного времени? Такси тормозит перед красным деревянным домиком. Я достаю кошелек и расплачиваюсь наличными. Йорге исчезает в ночи. Снова становится тихо. Где-то вдалеке лает собака.
Я иду по узкой улице. Через пару метров я попадаю в лужу. Тонкий лед трескается с характерным звуком. По обе стороны улицы старинные особняки. В окнах горит свет. Я думаю о том, что в каждом доме живет какая-нибудь семья, и у каждой семьи есть своя история. Наверно, эти семьи должны быть счастливы, потому что живут в таких больших красивых домах, но, впрочем, я не могу этого знать. Да и деньги и власть не гарантия счастья. Задумавшись, я чуть не пропустила нужный мне поворот.
На этой улице дома поновее, наверно, построены в пятидесятых и позже. Тротуар завален опавшей листвой, подмерзшей и скользкой.
Справа над домами парит полная луна, круглая и золотистая, как спелый фрукт.
Я сразу вижу дом. Обугленные палки торчат из снега на месте сгоревшего гаража, а в воздухе еще витает запах гари. Бело-синяя полицейская лента вокруг пожарища напоминает подарочную ленту на огромном свертке. Она колышется на ветру.
Сердце ёкает в груди. Мне удалось насолить Йесперу, задеть его гордость хотя бы немножко.
Ты сам виноват, думаю я. Ты первый начал.
Я вижу слабый свет через стекло входной двери, но в окнах темно. После секундной заминки открываю калитку и иду ко входу. Увядшие подмерзшие цветы вдоль дорожки, посыпанной гравием, и лужайка с можжевельниками и соснами – вот как выглядит сад Йеспера. Довольно унылое зрелище. Видимо, садоводчество не входит в список его увлечений. Но что я знаю о его увлечениях? Что я вообще о нем знаю? Я кладу руку на кнопку звонка. Ощущение такое, что если я сейчас нажму на нее, то назад пути уже не будет. Я отметаю эту нелепую мысль. Йеспер первым начал. То, что я сейчас здесь, это только одно звено из цепочки событий, начало которой дал Йеспер.
Но, может, именно этого он и ждет?
От такой мысли мне не по себе, и, чтобы не думать о том, что может случиться, если это так, я спешу нажать на звонок. Изнутри дома раздается громкое звяканье.
Сердце замирает в груди, дыхание перехватывает. Не знаю, что я сделаю, если он вдруг откроет дверь и мы окажемся лицом к лицу. Может, мне стоило лучше подготовиться? Написать сценарий нашей встречи, реплики? Боюсь, я забуду, что хотела сказать.
Я стою на крыльце с пальцем на кнопке звонка и смотрю, как изо рта вырываются облачка пара. Никто не спешит открывать дверь. Я нажимаю еще раз, снова раздается звонок. Его звякающий резкий звук буравит тишину. Я оглядываюсь. Вижу напротив дом и чуть подальше еще дома. В окнах горит свет, из трубы идет дым, но людей не видно. Машин тоже.
Спустя пару минут я спускаюсь с крыльца и огибаю дом. Два окна подвального помещения удобно посажены. Я нагибаюсь и заглядываю внутрь. В помещении темно, но слабый свет просачивается через открытую дверь в глубине подвала. Глаза привыкают к темноте, и я могу различить стиральную машину. Я заглядываю в остальные окна. Судя по всему, в доме пусто. Я взвешиваю риски. Есть риск, что дом на сигнализации, но я ведь услышу сигнал? И к тому же наклеек с информацией о сигнализации я не заметила.
Вернувшись к окнам в подвал, я оглядываюсь по сторонам и констатирую, что с улицы меня не видно. С одной стороны меня закрывает дом, а с другой – холм с соснами. Между ветвей выглядывает полная луна. Её света достаточно, чтобы можно было двигаться свободно. Я снова заглядываю в подвал. Стиральная машина стоит прямо под окном. Очень удобно. Я достаю молоток и стамеску и пытаюсь открыть окно, но скоро понимаю, что понятия не имею, как это делается. Я поддеваю раму, но ничего не происходит. Мне удалось только поцарапать дерево. Вытираю пот со лба. Заношу молоток вверх и после недолгих колебаний бью по стеклу. Снова заношу и выбиваю остатки стекла. Опускаюсь на корточки и, затаив дыхание, вслушиваюсь в тишину. Ничего не слышно. Вокруг так же тихо, как и прежде. Луна отражается в кусках стекла под моими ногами. Кажется, что небо раскололось на тысячу осколков и упало к моим ногам.
Я сажусь на землю и заглядываю в подвал. Нужно только опустить ноги и встать на стиральную машину.
Я убираю молоток и стамеску обратно в сумку и кидаю ее в подвал. Она с глухим стуком шлепается на пол. Я опускаю ноги в окно, хватаюсь руками за раму и прыгаю.
Это совсем не сложно. Оказавшись в подвале Йеспера, я жалею, что раньше не додумалась до того, чтобы прокрасться сюда.
Тут пахнет стиральным порошком и плесенью. Напротив стиральной машины сушильный шкаф, в углу я вижу гору грязного белья. Не так роскошно, как можно было подумать.
Открывая дверь в дом, я вижу, что вся рука в крови. Видимо, я порезалась, пока пролезала через окно, и даже не заметила. Кровь так и хлещет из глубокого пореза между большим и указательным пальцами.
Я иду к шкафу рядом со стиральной машиной, открываю его и вижу корзину с нижним бельем. Я беру что-то маленькое и белое, и только обмотав тряпкой руку, вижу, что это трусы. Я дергаюсь, но решаю, что другого выбора у меня нет.
Иду дальше. Я немного удивлена тем, что дом такой неухоженный. Белые стены давно потеряли цвет, паркетный пол весь в царапинах. Некоторые панели отсутствуют. Но мебель вполне во вкусе Йеспера. Строгий датский интерьер, лампы, которые я видела в журналах по дизайну. Хромированный металл, лакированные поверхности, в которых отражается лунный свет. На стенах – черно-белые фотографии животных и голых женщин, снятых против солнца. Сердце ёкает в груди. Это мог бы быть наш дом.
Внезапно к горлу подступают рыдания, которые я сдерживала с самого момента, как влезла в дом. Я опускаюсь на черный диван и даю волю слезам. Пол залит лунным светом. В воздухе витает запах табака. Может, не стоило мне приходить сюда? Здесь, в его доме все напоминает мне о Йеспере. И здесь еще острее ощущается его предательство.
Я оглядываю комнату. На полке стоит фотография – Йеспер с женщинами на пляже. Женщины в бикини, они худые и красивые. У всех маленькая грудь, совсем не похожая на то вымя, которым наградила меня природа. Рядом с Йеспером брюнетка. Судя по тому, что они стоят рядом, они любовники.
Я отворачиваюсь.
Эта брюнетка в курсе, что он ей изменяет? Или тоже наивно считает себя одной-единственной? Может, стоит рассказать ей правду? Но вдруг она знает о моем существовании? Что, если Йеспер бросил меня ради нее? Что, если она знала о том, что у него есть девушка, когда начала с ним встречаться? Что, если она заставила его меня бросить?
Другая женщина.
Это объясняет внезапный разрыв без всяких объяснений. Наверняка так и было. Эта смазливая брюнетка украла у меня Йеспера. Это она во всем виновата. Я ее ненавижу. Я смахиваю фото с полки. Стеклянная рамка падает на пол и разбивается. Я выхожу из гостиной.
В кухне все новое и современное. На черных шкафах нет ручек, и я не сразу понимаю, что открываются они легким нажатием. Посуда тоже черная. Много бокалов для вина. Два черных подноса с белыми слонами стоят за хромированным краном, напоминающим больше душевой кран, чем кухонный. Я провожу рукой по стойке из нержавеющей стали. Ни единой крошки, ни единой пылинки. Сплошная стерильная сталь. Единственное, что отличает эту кухню от операционной, это кухонный стол и рисунок на стене над ним.
Судя по всему, там нарисован снеговик, но нельзя сказать с уверенностью. Только родители могут найти такую каляку-маляку красивой. Над снеговиком корявыми синими буквами написано «Йесперу».
Ну конечно. Как же я не подумала. У брюнетки есть ребенок, но не от Йеспера. Они познакомились позже, когда Йеспер встречался со мной. И потом он бросил меня ради нее. Ради них.
За одной из черных дверец обнаруживается холодильник. Я изучаю его содержимое. Молоко, сок, масло, яйца, полупустая бутылка белого вина с пробкой. Ничего интересного. Внизу пластиковый контейнер с остатками еды. Я беру его и заглядываю под крышку. Макароны с тефтельками. В углу одинокий плевок кетчупа.
Я отношу контейнер на стол и возвращаюсь к холодильнику за вином. На окне рядом с хилой, подвязанной к палке орхидеей лежит айпод. Я включаю его, проглядываю плей-листы, выбираю песню наугад и нажимаю на «Плей».
Голос Фрэнка Синатры наполняет комнату. Я ем холодные тефтельки, пью «Шардоне» Йеспера и слушаю рождественские песни. И когда Синатра поет «The happy season», во мне снова просыпается ярость.
Я никогда раньше не замечала, как его роскошная жизнь отличается от моего скромного существования в убогой однушке. Это несправедливо. Кто-то должен преподать Йесперу урок. И этим кем-то могу быть только я.
Кровать у него широкая и мягкая, и, наверно, дорогая. Я могу лежать на ней и вдоль и поперек. От постельного белья исходит слабый аромат стирального порошка или парфюма. На тумбочке лежит детектив и пара деловых журналов. Я выдвигаю ящик и заглядываю внутрь. Зарядка для мобильного, крем для лица, тюбик со смазкой.
Снова меня словно сворачивает в тугой узел, к горлу подступают рыдания. Вот она, правда, которую я ищу, но какой ценой она мне далась? Эта правда больнее, чем я ожидала. Конечно, я хотела знать, где Йеспер и почему он не отвечает на звонки. Но я не хотела видеть его снимки с другой женщиной, рыться в их нижнем белье, вдыхать запах их простыней.
Я снова начинаю рыдать. Зарываюсь лицом в пуховые подушки и истерично рыдаю, выпуская наружу всю боль и разочарование последних недель.
Когда я просыпаюсь, в комнате светло. Сначала я не могу понять, где я, потом смотрю на руку, обмотанную тряпкой. Тряпка красная от засохшей крови.
Я сажусь, разворачиваю импровизированный бинт. Кровотечения больше нет. Я запихиваю окровавленные трусы за спинку кровати. Во рту стоит горечь. Кровь напоминает мне о ребенке, которого я потеряла. Я с трудом поднимаюсь с кровати и разминаю затекшие члены. Тело словно не хочет меня слушаться. Подхожу к окну и пытаюсь понять, сколько сейчас времени и сколько я спала. За окном светло. Моим глазам открывается белоснежный пейзаж: земля и деревья покрыты легким белым снежком. В конце улицы я вижу большой черный джип, направляющийся к дому. Я не сразу понимаю, что это означает. Машина уже в двадцати метрах от дома, и это джип Йеспера. Меня охватывает паника. Я оглядываюсь вокруг, хватаю сумку, куртку, слетаю вниз по лестнице в подвал. Сколько у меня времени? Минута? Тридцать секунд? Не оборачиваясь, подбегаю к окну, выбрасываю из него сумку, залезаю на стиральную машину, протискиваюсь наружу. Встаю и в этот момент слышу хлопок входной двери.
Я бегу прочь от дома между соснами вниз к заливу. Через минуту я вижу маленький домик на холмике, с которого хорошо виден дом Йеспера. Я заглядываю в пыльное окно. Садовая мебель, сломанный гриль, продавленный диван. Я поворачиваюсь и смотрю на дом, в чьем саду нахожусь. Он выглядит заброшенным. Окна на нижнем этаже заколочены. Труба водостока отвалилась и лежит в снегу перед домом.
Я разворачиваюсь и бегу дальше с ощущением, что только что сделала важное открытие.
Пришли новые счета. Я сижу за кухонным столом и смотрю на гору счетов, выросшую в два раза за каких-то пару дней. Больше украшений у меня нет, и я не знаю, откуда взять деньги. Единственная моя ценность – картина – пропала. Как же дорога была мне эта написанная в почти детском стиле пастельными красками картина игры в футбол. Когда я унаследовала ее, мне сказали, что ее стоимость не меньше трех тысяч крон. Но какое это имеет значение, если ее украл Йеспер? Почему мне не пришло в голову поискать ее в доме Йеспера, раз уж я была там, вместо того чтобы есть холодные макароны и плакать в его постели?
За окном идет снег. Скоро Рождество. Это будет первое Рождество без мамы, и я понятия не имею, с кем буду его встречать. Впрочем, Рождество для меня не такой уж и важный праздник. Меня прекрасно устроит пицца и фильм напрокат. Это даже лучше, чем традиционный рождественский стол и все такое. Рождественские традиции вызывают у меня страх. Уже в детстве я всегда боялась Рождества, потому что нужно было правильно продемонстрировать радость от подарков, чтобы не расстроить родителей, и вовремя испариться, чтобы не попасть под горячую руку, когда они напьются и начнут буянить.
Я взвешиваю счета в руке и после недолгих размышлений запихиваю обратно в банку и закрываю крышку. Крышка издает протестующий скрип, похожий на всхлип.
Я иду в ванную, провожу расческой по длинным волосам и думаю о том, что не узнаю эту женщину в зеркале. Она выглядит старше, слабее, циничнее. Она похожа на беспомощную жертву. Героиню мелодрамы, нуждающуюся в спасении и защите. И она меня бесит. Я не хочу быть жертвой. Я хочу быть той женщиной, которая подожгла гараж Йеспера, сильной, сосредоточенной, бесстрашной. Мне нужно измениться. И внешне, и внутренне.
Под зеркалом лежат старые маникюрные ножницы, тупые и погнувшиеся. Ногти ими стричь невозможно. Но я все равно хватаю их, беру прядь волос левой рукой и отрезаю прямо посередине. Она падает на пол, как падают снежные хлопья за окном. Я беру новую прядь. Потом еще. Пол медленно покрывается ковром из волос, а женщина в зеркале меняет облик.
Сначала я недовольна результатом. Прическа похожа на кривой паж и придает мне вид старомодной училки или библиотекарши. Я решаю сделать покороче. Снова принимаюсь стричь. Пальцы горят от напряжения, но под конец мне удается добиться желаемого. Теперь я выгляжу по-другому. Я стала другой.
Петер
Сумерки опускаются на Стокгольм. Поток машин увеличивается, и моя машина медленно ползет в направлении Кунгсхольмена. Я думаю об окоченелом трупе Йеспера Орре в зеленом ящике с песком. Об окровавленном лице, покрытом инеем. И снова, как всегда, когда мне приходится сталкиваться со смертью, мне вспоминается Анника. Перед глазами встает картина многолетней давности: сестра загорает на скалах. Худое тело только недавно начало принимать женские формы. Табачный дым поднимается над сухим тростником. Шершавая кора колет босые ступни.
Какой была бы наша жизнь, если бы я тогда не нажаловался маме на Аннику? Была бы она жива сегодня?
Мама чувствовала, что я виню себя в смерти сестры, и часто повторяла, что это был несчастный случай и что никто не виноват. Она твердила это как мантру. Думаю, ей было сложно смириться с тем, что Анника хотела покончить с собой и сама поплыла навстречу смерти.
Анника была первой, кто дал мне понять, что жизнь не вечна. Но за ней последовали другие. Петер, рыжеволосый парень из 7Б, въехал на мопеде прямо в дерево рядом с киоском, где торговали хот-догами, и впал в кому. Врачи констатировали смерть мозга. Четыре недели он пролежал в коме, а потом отец отключил Петера от ИВЛ[6], собрал сумку, уехал в Таиланд и больше не вернулся. Моя однокурсница Мари в полицейской академии заболела раком в двадцать пять лет. Она сказала всем, что скоро вернется, и отправилась умирать в хоспис. А потом мама.
После мамы я перестал считать. Все вокруг меня умирали. Чертовски неприятное чувство. К тому же я все время ждал, что следующим буду я сам. А раз так, то жизнь не имеет никакого смысла. И то, чем я занимаюсь – расследования убийств, поедание пиццы перед телевизором, просмотр порнушки в Интернете, – пустая трата времени. Проще сразу спрыгнуть с моста Вэстербрун. Никто обо мне и не вспомнит. Никто не будет по мне скучать. Не успеют круги на воде успокоиться, как все воспоминания обо мне будут стерты. Это действительно правда. Я жил так, что сейчас никто во мне не нуждается, никто от меня не зависит. Ни коллеги, ни Жанет, ни Альбин.
Так что легко можно покончить с этой жизнью. Но также легко можно продолжать жить. И выбор между мостом Вэстербрун и пабом всегда приводил меня в паб.
Санчес стоит перед доской. Собрав волосы в пучок, она объявляет:
– Звонок поступил около трех от Амели Хёгберг, проживающей на улице Страндвэген в Юрсхольме. Её сын Александр Хёгберг вместе со своим другом Понту сом Герлоффом нашли в ящике с песком труп. Судя по всему, мальчишки играли в прятки, и Александр хотел спрятаться в ящике. Ящик находится в роще в четырехстах метрах от дома Орре. Это семь минут ходьбы или три бега.
Санчес показывает место на карте.
– Сколько он там пролежал? – интересуется Манфред.
– Это определит судебный врач. Или покажут результаты вскрытия, когда тело оттает. На это уйдет пара суток.
– А что уже сейчас известно? – спрашиваю я.
– У него есть раны на лбу. От удара или чего-то еще. И, судя по всему, он замерз насмерть.
Я смотрю на Ханне. У нее очень спокойный вид. Она сидит у окна с лампой в виде свечей адвента, и выражение лица у нее расслабленное. Она не выглядит больной, думаю я, вспоминая исхудавшее тело матери, боровшейся с раком.
– Предположим, что Орре убил Эмму Буман, – говорит Манфред, выпрямляясь, отчего жилет на животе натягивается, – но как он тогда оказался в ящике?
В комнате стоит тишина.
– Может, спрятался? – предполагает Санчес. – В состоянии аффекта бежал с места преступления, растерялся, увидев прохожих, и спрятался в ящике. А потом…
Она замолкает. Тишину нарушает только шум вентиляционной системы.
На часах восемь. Большинство коллег ушли домой. Только один следователь сидит за компьютером, поглощенный работой. За окном светятся окна окрестных домов.
– Согласно нашей теории, Орре убивает Эмму Буман, отрезает ей голову, сует спички под веки, убегает с места преступления без кошелька, мобильного и теплой одежды, бросив свою коллекцию использованного нижнего белья, а потом ложится в ящик с песком, чтобы умереть. Прекрасная версия убийства готова. Кто позвонит прокурору?
Санчес вздыхает.
– Зачем издеваться? Я не говорила, что так и было. Я только пытаюсь выстроить ход событий в соответствии с уликами.
– Но у нас нет никаких улик. Мы не знаем имя жертвы. Мы не знаем, что там произошло. Или ты знаешь?
Санчес сжимает губы, скрещивает руки на груди, моргает. Кажется, что она сейчас заплачет. Мне ее жаль. Все работают в крайнем напряжении, и Санчес делает то, что может. Она старается изо всех сил, такой у нее характер. По-другому она не может. Как говорится, собака всегда останется собакой, Санчес останется Санчес. Но она на верном пути. Из нее получится прекрасный следователь. Наверно, это и раздражает Манфреда.
– Знаешь что, Манфред, я не намерена это терпеть, – говорит она. – А сейчас мне надо идти. Я еду в Сольну поговорить с ортодонтом. Свяжитесь со мной, если будут новости.
С этими словами она разворачивается и выходит из комнаты. Из коридора доносится разъяренный стук каблуков.
– Нельзя было без этого обойтись? – спрашиваю я Манфреда.
– Черт побери, Линдгрен, ты же тоже не веришь в эту версию?
– Она старается.
Манфред качает головой.
– Одного старания мало.
Он поднимается, тянется за пиджаком, висящим на спинке стула, и говорит:
– Мне надо домой. Успокоить Афсанех. Позвони, если что-нибудь еще произойдет. Я вернусь часа через два.
Он уходит, оставив нас наедине с Ханне. Она смотрит на меня.
– Что? – спрашиваю я.
– Ничего. Мне только интересно, у вас здесь всегда все так происходит?
Я пожимаю плечами.
– Тут у нас не школа хороших манер.
Я вижу улыбку в уголках губ. Мы молчим. Лампа на потолке мигает. Ханне закрывает глаза, которым больно от яркого искусственного света. Она выглядит сейчас очень старой и усталой. Годы берут свое.
– Как ты себя чувствуешь? – спрашиваю я.
Ханне открывает глаза и хихикает. И теперь она снова похожа на подростка. Только подростки так закатывают глаза и глупо хихикают.
– Не смеши меня. Я хорошо себя чувствую.
– Я думал о том, что ты сказала…
– Не волнуйся за меня. Это расследование я переживу.
И внезапно я чувствую, что не в силах сдержать свои чувства. Осознание, как много она для меня значит, как удар грома посреди ясного неба. Ханне единственная женщина, с которой я хотел быть, она для меня важнее всего на свете. Как я раньше этого не понял? Но после того, как она сказала, что больна, я осознал, что времени у нас мало. Время сжалось до недель, дней, мгновений, и они скоро закончатся.
– Я люблю тебя, Ханне, – говорю я, и в тот момент, как с моих губ срываются эти слова, я понимаю, что говорю правду. Впервые в жизни я действительно испытываю это чувство.
У Ханне предательски блестят глаза.
– Но, Петер, ты не можешь этого знать. Мы не виделись десять лет.
– Нет, могу. Я любил тебя уже тогда, просто я был дураком и не понимал этого.
Одинокая слеза стекает у нее по лицу, но Ханне не пытается ее смахнуть.
– Это уже не важно, – шепчет она, опуская взгляд на руки, сложенные на коленях. – Я больна, мы не можем быть вместе.
– Мне плевать на то, что ты больна. Я могу о тебе позаботиться. Я о тебе позабочусь!
Она смотрит на меня.
– Поверь мне. Ты этого не хочешь.
Стук клавишей в дальнем углу участка прекратился. Полицейский встает, надевает кожаную куртку, гасит настольную лампу и выходит из комнаты.
– Нет, хочу.
Ханне вздыхает, поднимает глаза к потолку. В ярком свете ламп кожа у нее под глазами кажется совсем прозрачной, как брюшко у рыбы. Видно каждую синюю жилку.
– Боже мой, Петер, ты как упрямый ребенок. Я… теряю память. Скоро я забуду, как меня зовут. Ты не можешь быть моим опекуном, понимаешь ты это?
– Теряешь память? У тебя Альцгеймер?
Ханне закрывает лицо руками.
– Мне нужно идти, – говорит она и поднимается, не удостаивая меня взглядом.
– Подожди, можно мне с тобой?
Она оборачивается, упирается руками в бедра и качает головой.
– Нет. Я сказала, что это невозможно.
Не знаю, злится она или просто считает меня назойливым.
Но в любом случае она уходит, на секунду задержавшись перед доской. Она смотрит на фото Эммы Буман, потом машет мне на прощание и уходит.
За окном чернильная ночь. Я долго стою и высматриваю на улице Ханне, но видно только снегоуборочную машину.
Я думаю – правда ли то, что Ханне теряет память? Но зачем бы ей было лгать о таких серьезных вещах? Мне ее очень жалко. Я вспоминаю ее худое тело в кровати, веснушки на голых плечах, залитые утренним солнцем. Вспоминаю, с каким жаром она отдавалась мне в ту ночь и ее громкий заливистый смех, когда мы потом лежали рядом на узкой кровати и болтали. Вспоминаю ее легкий храп ночью, он напоминал мне звук, с которым лодка покачивается на спокойной воде. Звук, приносящий мне умиротворение.
Только Ханне я могу открыться. Только она видит меня таким, какой я есть на самом деле, – слабым, ранимым и чувствительным. С ней мне легко и комфортно. И кто сказал, что прошлого не вернуть? Кто решил, что мы не можем быть вместе?
Жизнь состоит из утрат, говорила мама, куря в вытяжку. Сначала мы теряем детскую невинность, потом любимых людей, потом здоровье и силу, а напоследок – жизнь. Как всегда, мама была права.
В девять звонит Манфред. В голосе слышны волнение и решимость. Я хорошо его знаю, чтобы сразу понять, что он что-то выяснил.
– Ты в офисе?
– Да, а что? Я уже думал уходить…
– Бергдаль говорил с подружкой Ангелики Веннерлинд.
Я смотрю на доску, где фото Ангелики висит рядом с фото Эммы Буман.
– И?
– Ни за что не догадаешься, что она сообщила. Она сейчас едет в офис с одним из наших коллег. Мы можем встретиться с ней через двадцать минут.
Анни Бертранд – невысокая блондинка в спортивной одежде. Видимо, ее привезли прямо из спортзала. Мы разговариваем с ней в маленькой комнате для допросов на первом этаже, где пахнет чистящим средством.
Манфред купил хороший кофе и булочки с шафраном в круглосуточном магазине, но девушка вежливо отказывается, сообщая, что не ест хлеб.
Сейчас это модно – не есть глютен, сахар и молоко. Санчес тоже перестала есть выпечку. Утверждает, что толстеет от одного вида булочек.
– Спасибо, что согласились прийти, – благодарит Манфред. – Мы обычно не вызываем людей в такое время, но расследование убийства в доме Йеспера Орре вошло в критическую фазу, и мы не хотим терять времени. Не могли бы вы рассказать, откуда вы знаете Ангелику Веннерлинд?
– Мы дружим со школьных времен. Вместе учились в гимназии в Бромме. Тогда мы все свободное время проводили вместе, а сейчас видимся раз в месяц. Она по-прежнему живет в Бромме, работает в детском саду, а я переехала в центр. И к тому же у нее есть Вильма, так что ей редко удается вырваться.
– Вильма – это ее дочь? – уточняет Манфред.
– Да, милейшая девочка. И очень энергичная. Ей пять лет.
– А с отцом Вильмы они разошлись?
– Он американец. Живет в Нью-Йорке. Вильма появилась на свет случайно, если так можно выразиться. У Ангелики с Крисом был курортный роман, по-настоящему они никогда не встречались. Но, узнав о беременности, Ангелика решила оставить ребенка. Она обожает детей.
Манфред делает пометку в блокноте.
– Можете рассказать о новом бойфренде Ангелики?
Анни Бертанд кивает и отпивает кофе.
– Они держали свой роман в тайне. Только я знала, что Ангелика встречается с Йеспером Орре. Судя по всему, у них все было серьезно. Она даже познакомила его с Вильмой. Но они не хотели афишировать свои отношения, потому что журналисты преследовали Йеспера. Даже своим родителям Ангелика ничего не рассказывала. В газетах его выставляли как последнего негодяя, писали, что он меняет девушек как перчатки. Ангелике было неприятно видеть его лицо на первых полосах газет. Но они были счастливы вместе. По крайней мере так она говорила. Йеспер сказал Ангелике, что он впервые в жизни влюблен, что хочет жить с ней вместе, начать все с чистого листа. Он даже хотел уволиться. Говорил, что работа для него сплошной стресс. На этой неделе они планировали уехать в отпуск и сняли домик, но Ангелика не говорила где. Сказала только, что они хотят побыть наедине вдалеке от всех.
Манфред смотрит на меня и закрывает блокнот.
Эмма
Восемью днями ранее
Я сметаю волосы в совок и плачу навзрыд. Это слезы не сожаления, а освобождения. В глубине души я рада, что смогла измениться. Всю жизнь я мечтала о том, чтобы стать сильной. И сейчас, сделав этот решающий шаг, взяв свою судьбу в свои руки, я испытываю радость и грусть одновременно и думаю о куколке в стеклянной банке, которая превратилась в бабочку.
Я спрашивала папу, почему гусеница не хочет оставаться гусеницей, и он ответил, что у нее нет выбора. Превратиться в бабочку или умереть – такова ее природа. Так же и со мной. Только новая жизнь, только перерождение. Я больше не Эмма, я другой человек. Я не жертва, я сильная личность, способная постоять за себя и отомстить тем, кто меня предал. Моя жизнь в моих руках.
Я выбрасываю волосы в мусорное ведро, вытаскиваю стопку счетов из банки и кладу в раковину. Спички в нижнем ящике. После недолгой заминки я чиркаю спичкой и подношу к счетам. Пламя вспыхивает мгновенно. Еще секунда – и вся раковина опасно пылает. Но столь же стремительно пламя гаснет, и все, что остается от моих долгов, – это зола и обугленные фрагменты бумаги, напоминающие черные лепестки цветов.
В ванной жарко и влажно. Я рисую на глазах жирные черные стрелки и разглядываю свое новое лицо в зеркале.
Эммы больше нет. Она умерла или сбежала, устав вечно быть жертвой. Девушка в зеркале совсем другой человек. Это даже забавно. Ведь именно Йеспер сделал меня такой. Его предательство вынудило меня измениться. Я была гусеницей, а он – моей природой.
И вот я стою здесь.
Я собираю рюкзак. Только самое необходимое. Шерстяной комбинезон, теплые вязаные носки, которые тетя Агнета подарила мне в последнее Рождество перед смертью, папин бинокль, большой нож с кривой ручкой, доставшийся папе от дедушки-моряка.
Я нажимаю кнопку «прочитать сообщения» на автоответчике. Сообщение только одно. От полиции. Они хотят пригласить меня на беседу по поводу обручального кольца. Слово «беседа» звучит издевательски, потому что они вовсе не собираются беседовать со мной на приятные темы вроде отпуска или ситуации с жильем в городе. Почему сразу не сказать «допрос»?
Превратиться или умереть.
Я иду к кухонному окну, открываю его и смотрю вниз. В кухню врывается ледяной ветер со снегом. Снежинки опускаются мне на кожу и тут же тают. Где-то там внизу пропал Сигге. Я так его и не нашла. Я беру мобильный, вытягиваю руку в окно и разжимаю пальцы. Через секунду снизу раздается хлопок. Телефон мне больше не нужен.
– …Какого типа спальный мешок? Рассчитанный на какую температуру?
Внезапно я теряюсь и не знаю, что мне ответить. Не могу же я сказать правду. Продавщица странно смотрит на меня, но, может, все дело в моей стрижке или экстремальном макияже? Или мне это только кажется? Половина населения Швеции выглядит не лучше. Она просто делает свою работу.
– Такой, чтобы можно было спать на улице в это время года, – отвечаю я в момент внезапного озарения и тереблю рану на руке, полученную в доме Йеспера.
– Мм, – думает девушка со светлым хвостиком и идет к полке у окна.
Рядом с рюкзаками и ледорубами лежат спальные мешки.
– Я бы рекомендовала вот этот, – отвечает она, показывая на желтый мешок. – Синтетический материал хорошо борется с влагой. Он держит тепло при температуре до минус десяти градусов, но все равно нужно тепло одеться, не забыв про шапку.
Я с умным видом киваю.
– Я беру.
– Еще что-нибудь?
– Да, минуточку.
Я достаю список и зачитываю. Через десять минут выхожу на улицу без пары тысяч крон. Денег больше нет. Осталась только пара сотен на еду и аренду автомобиля.
Снегопад поменял характер. Вместо твердых колючих кристаллов теперь падают крупные белые хлопья. Уже вечер, город окутан серо-синим туманом, зажигаются фонари.
Тяжелые пакеты оттягивают руки, но все равно я чувствую себя сильной и свободной. Я знаю, что нужно делать, и это дает мне ощущение уверенности. Я захожу в супермаркет и покупаю еду. Со всеми этими авоськами и растрепанными волосами я похожа на бомжа, но никто не обращает на меня внимания. Может, я стала невидимой, как Фродо, когда тот завладел волшебным кольцом.
В прокате автомобилей меня никто не узнает. Это мне на руку. Не глядя на мои пакеты, прыщавый юноша Петер – так написано у него на табличке, как будто мы с ним на ты, – заносит мои данные в компьютер.
– На сколько вы берете машину?
– На сутки, – отвечаю я не задумываясь, хотя ничего еще не решила. Но денег у меня хватит только на сутки. Он протягивает мне ключи.
– Найдете сами?
– Найду.
У меня ощущение, что я еду к себе домой. Каждый перекресток, каждый поворот мне знаком. Даже в темноте я легко нахожу дорогу. Машину оставляю в трех кварталах. Глупо было бы парковаться рядом с домом Йеспера. Не стоит привлекать к себе внимание.
Я выхожу из машины и иду. Но не к дому Йеспера. Я иду к заброшенному дому на холме. Темный и одинокий, он торчит из снега, как потерпевший крушение корабль. По свежевыпавшему снегу я подхожу к домику для игр в саду. В снегу остаются следы, но скоро их засыпет снегом, и никто не узнает, что я здесь была.
Проникнуть в домик не составляет труда. Ключ лежит под горшком с пластиковой пеларгонией. Даже фонарик не пришлось включать. Странно видеть цветущую пеларгонию в снегу, хотя я и знаю, что она пластиковая. Все равно смотрится странно. Мозг не принимает такую реальность. Слишком противоречивое сочетание – десятисантиметровый слой снега и нежный розовый цветок. Точно так же мозг отказывался принимать реальность, в которой Йеспер целовал брюнетку.
В домике темно и пахнет плесенью. Мне приходится подвинуть садовые стулья, чтобы разместить все свои пакеты. Руки ноют от напряжения. И я вся вспотела, хотя на улице ниже нуля.
Я осторожно разворачиваю желтый мешок на старом продавленном диване. Еду ставлю на столик в углу, а остальные вещи запихиваю под гриль. Потом сажусь на диван с биноклем в руках и смотрю в окно, но из-за снегопада ничего не видно.
Я откидываюсь на спинку дивана, закрываю глаза. Что-то рвется из глубин моего подсознания наружу, хочет напомнить о себе. Что-то очень важное.
И я вспоминаю.
Мы с Йеспером стоим в переполненном автобусе. Краем глаза я вижу улыбку на его лице. Мы делаем вид, что не знакомы. Это такая игра. Стоим рядом, словно незнакомцы, но я знаю, что сейчас он украдкой начнет гладить меня по бедру. А я не должна показывать виду, что что-то происходит. Должна оставаться невозмутимой.
Затем он запустит руку мне под юбку или кофту и коснется обнаженной кожи. Только легкое прикосновение, никакого лапания, словно это произошло случайно. Я придвинусь ближе, раздвину ноги, чтобы ему было удобнее ласкать меня. Он крепко прижмется ко мне, чтобы я почувствовала, как он возбужден. Там, посреди набитого автобуса, мы будем незнакомцами, которых объединяет только одно – страсть.
Я украдкой смотрю на него, делая вид, что на самом деле смотрю в окно, чтобы знать, где мы проезжаем. Если бы наши взгляды встретились, он сделал бы вид, что ничего не заметил. Его лицо осталось бы столь же бесстрастным, как и мое.
Но на этот раз нам помешали. В тот момент, как его рука коснулась моего бедра, раздался мужской голос:
– Йеспер, черт побери! Сто лет тебя не видел.
Я почувствовала, как он напрягся и стремительно убрал руку.
– Привет. Как дела?
К нам протиснулся сквозь толпу мужчина лет сорока в костюме и встал перед Йеспером. Я почувствовала, как Йеспер отодвинулся от меня, и поняла, что ни в коем случае не должна показать, что мы с Йеспером знаем друг друга. Это была его вторая жизнь. Настоящая жизнь, в которой были его друзья, его работа, его прошлое и будущее. У нас с Йеспером было только настоящее.
– Очень хорошо… и если сравнивать с Австрией, то там, конечно, дороже, но оно того стоит. Я не знаю, как тебе, но мне все эти чартеры осточертели. Мне нужен сервис высшего уровня, а в Сан-Антоне этого ты не найдешь. Так уж обстоят дела. И потом еще еда. Французы умеют готовить.
Знакомый Йеспера продолжал болтать о горных лыжах, звездных ресторанах и интрижках с массажистками, одетыми в юбки, подбитые кроличьим мехом.
– А вы? Где вы провели отпуск?
Мне холодно. Ноги дрожат. Я роюсь в поисках термоса с остатками горячего кофе. Лунный свет проникает в пыльные окна, но все равно в домике темно, и я умудряюсь опрокинуть пакет с киселем.
Он сказал «вы». Он спросил, не где Йеспер провел отпуск, а где «они» провели отпуск. Почему я только сейчас об этом вспомнила? Почему тогда я не поняла, насколько это важно? Конечно, «вы» могло относиться к Йесперу и его друзьям или коллегам, к кому угодно. Но теперь-то я знаю, что это не так. «Вы» относилось к брюнетке.
К брюнетке, ради которой Йеспер меня оставил и превратил мою жизнь в ад.
Поколебавшись пару секунд, я поднимаюсь, подхожу к окну и протираю стекла рукавом куртки. Снег перестал. Перед окном залитый лунным светом лежит заснеженный сад.
Снежным покрывалом укутаны кусты и деревья. Передо мной дом Йеспера с освещенными окнами. Он выглядит как домики в рекламе горнолыжных поездок, которые Йеспер обсуждал с мужчиной в автобусе.
Я вижу их в окне. Они ужинают в кухне. И от этой семейной идиллии в объективе бинокля у меня волосы встают дыбом.
Йеспер сидит спиной ко мне. Брюнетка напротив него. Она в футболке и что-то обсуждает с Йеспером, активно жестикулируя и наклоняясь вперед. Одновременно она подцепляет вилкой что-то, похожее на мясо. Рядом с ней светловолосая девочка лет шести. Наверно, ее дочь. От этой картины мне становится плохо, а в груди появляется такая тяжесть, что сердце, кажется, сейчас лопнет.
Ханне
Гунилла накидывает мне плед на плечи и ставит чайник. Говорит, что я прежде всего, должна думать о себе.
– Если он любит тебя, а ты его, то зачем упрямиться и рвать эти отношения?
– Но я же больна.
– Не говори ерунды. Кто знает, когда тебе станет хуже? Может, через несколько лет. И что, сидеть и ждать? Со мной и Фридой? Ты должна жить полной жизнью! Иначе какой тогда в этом смысл? Не обязательно было уходить от Уве.
От мысли об Уве и неуютной квартире на Шеппаргатан мне становится не по себе.
– Я никогда не вернусь к Уве.
Гунилла вздыхает. Садится на стул, потирая больную спину, зажигает свечку, зевает.
– Именно этого и хочет Уве. Чтобы ты сидела и жалела себя. А ты ведешь себя так, словно вы еще вместе, не берешь инициативу в свои руки, не позволяешь себе получать удовольствие от жизни. Зачем ты так сама с собой?
Я обдумываю ее слова. То, что я жестока сама с собой, мне в голову не приходило. Я всегда считала себя бунтарем. Но, видимо, Уве все-таки удалось меня приручить. Мы с ним всегда играли свои роли: Уве – строгого отца, я – непослушного подростка. Но что, если Гунилла права и моя роль – пассивная? Может, я только использую болезнь как отговорку, чтобы не жить полной жизнью, а ведь у меня осталось совсем мало времени. И это время утекает, как песок между пальцев.
– Но я не хочу становиться для него обузой. Не хочу, чтобы он обо мне заботился.
– Боже мой. Ты бы себя слышала. Он взрослый мужчина и сам может решить, хочет он быть с тобой или нет. Ты была с ним честной. Он знает, что ты больна.
Я молча пью горячий чай. Может, она и права.
– И что же мне делать? – спрашиваю я у подруги.
– Во-первых, не нужно принимать никаких важных решений. Встречайся с ним. Наслаждайся его компанией. Но не принимай ваш роман близко к сердцу. Вы же не собираетесь жениться или заводить детей? Вы просто проводите время вместе. Вот и все.
– Есть еще одна проблема. Я слишком стара для него. Он может встретить женщину помоложе, создать семью и все такое.
– Мне кажется, семья его не интересует. Может, он просто не создан для семейной жизни. К тому же у него, кажется, есть сын, нет?
Я думаю об Альбине, с которым Петер почти не общается и о котором отказывается говорить. Еще одна странность Петера. Но в жизни чего только не бывает. Чужая душа – потемки. Никогда нельзя знать наверняка мысли другого человека. Людей нужно или принимать, или нет такими, какие они есть.
То же и с Уве. Я не знаю, почему он такой, какой он есть, хотя мы прожили вместе целую жизнь. Единственное, что я знаю, что я его не выношу. Меня от него тошнит.
– Может быть, посмотрим, – говорю я.
– Хоть что-то, – кивает Гунилла.
Гунилла спускается вниз в подвал вешать белье после стирки, а я остаюсь в кухне. Смотрю на язычок пламени свечи, дрожащий на сквозняке, и думаю о детях, которые у меня так никогда и не родились. Они не наполнили своими голосами большую квартиру, не пошли в школу, не стали скаутами. Они не возвращались домой с разбитыми коленками, не клянчили новую компьютерную игрушку или карманные деньги. Не поступили в университет, не завели парня или девушку, не уехали из дома в большую жизнь.
Я не думала о них до того, как стало слишком поздно заводить детей. Но когда я поняла, что детей уже не будет, наступило отчаяние. Я стала тосковать по тому, чего никогда не имела. И это отчаяние постепенно начало обретать физическую форму. Оно словно сидело между мной и Уве за обеденным столом и отдаляло нас друг от друга.
Я тянусь за блокнотом, лежащим на кухонном столе. Вырываю страницу, беру ручку, делю лист на две половины. Пишу заголовок «Встречаться с Петером». В колонке плюсов пишу:
Компания.
Хороший секс (наконец-то).
Настоящая любовь (?).
Мой собственный выбор.
Поразмыслив, начинаю записывать минусы:
Будут сложности если/когда мне станет хуже.
Будет ужасно если/когда он снова меня предаст.
Я смотрю на список, но не понимаю, чего больше – плюсов или минусов. Перевожу взгляд на свечу, подношу лист к огню. Он вспыхивает. Лицо опаляет жаром, и все страхи и надежды превращаются в золу.
Я задуваю свечу, и в этот момент звонит мобильный. Это Манфред. Голос у него запыхавшийся, как после пробежки. Но я понимаю, что все дело в волнении. Он что-то узнал.
– У Йеспера Орре был роман с Ангеликой Веннерлинд, и, судя по всему, она и есть жертва. Мы собираем совещание через полчаса. Придешь?
По дороге в Полицейское управление я думаю о Петере, о том, что он так никогда и не объяснил толком, почему не приехал за мной в тот вечер десять лет назад. Надо его спросить. Нет, я не злюсь, злость давно прошла, просто мне нужно знать, что тогда произошло. Я хочу понять ход его мыслей, когда он решил бросить меня там одну на тротуаре, с чемоданами в наклейках из наших с мужем поездок, сгорать со стыда за свою глупость.
Его поступок изменил мою жизнь и разбил мне сердце, а он так и не потрудился объясниться. Все, что я получила, это то нелепое письмо, в котором он писал, что не может со мной жить, потому что это причинит мне одни только несчастья.
Какие несчастья, хотела я спросить. Как будто его предательство не было самым большим несчастьем в моей жизни, думаю я, глядя в окно такси, подъезжающего к зданию полиции.
Я выхожу из машины на улицу, где стоит кромешная тьма. Снова вспоминаются инуиты. Они не боятся полярной ночи. Они могут часами лежать на льду у проруби и ждать, когда на поверхность ловко вынырнет жирный скользкий тюлень, чтобы вдохнуть воздуха. И в нужный момент рука, держащая гарпун, не дрогнет.
Точнее, так они делали до того, как прибыли датчане. Теперь же даже в самых отдаленных поселениях на Гренландии жители проводят время перед телевизором с банкой пива в руках. И уже не звезды освещают бескрайние льды, а свет экрана.
Семь лет назад мне удалось уговорить Уве поехать в Гренландию. Мы забронировали самолет в Нуук и дальше планировали через Кулусук отправиться в Иттоккортоомиит. Мы даже нашли человека, который обещал две недели заботиться о Чарли, и Уве получил отпуск. Но потом случилась эта история с Эдит.
Эдит была в интернатуре, а Уве ее руководителем. Но я быстро поняла, что эта девушка не просто интерн. По тому, как муж говорил о ней, как к месту и не к месту упоминал ее имя и с каким чувством он произносил его – Эээдит, было очевидно, что у него к ней особое отношение. Так же быстро я поняла, что скоро он от нее устанет. Любовницы у него долго не задерживались, особенно молодые. Ему было с ними скучно. Несмотря на то что Уве был падок на молоденьких, он считал себя интеллектуалом и искал в женщинах искусных собеседниц, а молодые девушки только и могли, что хлопать глазами и повторять, какой он умный. Мои догадки оказались верными. Через пару недель он перестал упоминать Эдит. Но однажды вечером, за два дня до поездки, он вошел в спальню и встал позади меня. Повернувшись спиной к нему, я собирала чемодан. Уве положил руки мне на плечи и сказал:
– Ханне, я не могу поехать.
Я аккуратно сложила комбинезон и положила в чемодан, потом медленно обернулась и посмотрела на него.
Он уже смотрел в окно.
– Это Эдит. У нее выкидыш.
Проблема с Эдит заключалась в том, что она не только трахалась с моим мужем – это многие делали, а в том, что она от него залетела. Ей удалось то, что не удавалось мне все эти годы. Ее молодая плоть жаждала выносить ребенка Уве.
Но ее присутствие в нашей жизни ничего не изменило. Мы продолжали жить как ни в чем не бывало. Но в Гренландию так и не поехали. А после этой истории я вообще потеряла желание куда-либо ездить с Уве.
Думаю, дело не в Гренландии. Гренландия только символ всего того, чего я не добилась в своей жизни. Эта страна воплощает собой все мои мечты и надежды, которым не суждено было осуществиться.
Офис ярко освещен. Все лампы горят, как фонарики на новогодней елке. Атмосфера возбужденная и немного нервная. Все уже в курсе, что произошло что-то важное. Манфред с Петером о чем-то разговаривают, а Бергдаль расхаживает по комнате, сунув руки в карманы.
Петер поднимает руку в знак приветствия, я киваю. Пытаюсь не смотреть на него. Не хочу, чтобы он догадался по моему лицу, какие чувства я испытываю.
Уве всегда утверждал, что у меня на лице написано, что я думаю и чувствую. С годами я начала верить, что это действительно так. Уве читал меня как открытую книгу. Хотя сейчас я думаю, это был еще один способ управлять мной. Уве так сильно хотел меня контролировать, что внушил себе, будто даже мои мысли и чувства ему подвластны.
– Ангелика Веннерлинд и Эмма Буман встречались с Йеспером Орре, – сообщает Манфред, наливая горячий кофе в бумажные стаканчики. – Предположительно, может быть и третья жертва, тело которой мы еще не нашли. Территорию вокруг дома Орре завтра снова осмотрят. При этом радиус поисков будет расширен. Бергдаль ответственный. Будем надеяться, что не наткнемся на еще один замерзший труп, а то будет уже совсем нелепо. Санчес продолжит искать связь между Орре и Кальдероном, и мы все еще ждем заключение ортодонта о личности убитой в доме Орре. Он должен прийти в ближайшие часы.
– Он явно был психопатом, – бормочет Бергдаль.
– А ты что думаешь, Ханне? Орре был психопатом?
Я пожимаю плечами. Мне лестно, что Манфред мне настолько доверяет в этом вопросе, но одновременно тревожно: ведь я даже ни разу не встречалась с Йеспером Орре, как я могу сказать, нормальным он был человеком или психически нездоровым. Людям часто кажется, что психиатр может поставить человеку диагноз, прочитав протокол следователя. Но никакой отчет не поможет определить степень нормальности человека.
– Словом «психопат» злоупотребляют. Сегодня всех подряд называют психопатами.
– Сейчас не время обсуждать терминологию, – говорит Манфред.
– Такая уж у меня профессия, извини, – отвечаю я. – Без терминов не обойтись. И делать выводы слишком рано. Не надо меня торопить. Я могу только сказать, что ничего из известного нам о нем не указывает на то, что у Орре были проблемы с психикой. Тот факт, что у него было много подружек и что ему нравился жесткий секс, еще не означает, что он был способен на убийство. И то, что он обращался со своими коллегами как последняя скотина, его не красит, но тоже не говорит о том, что он убийца. Впрочем, нельзя исключать, что именно он убил этих девушек, но склонности к насилию за ним не наблюдалось. Или нам об этом неизвестно. Вот и все, что я могу сказать.
– Вот как, – вздыхает Манфред. – Но все-таки, по твоему мнению, это он убийца или нет?
Я обдумываю вопрос, смотрю на доску, где прикреплена информация об Орре, Кальдероне и исчезнувших девушках.
Что-то здесь странно, думаю я, что-то не так, но я не пойму, что именно, и это заставляет меня нервничать.
– Что-то тут не так, – выдаю я свои сомнения.
– Да неужели, – огрызается Манфред.
Я не обращаю внимания, продолжаю думать. Встаю, подхожу к доске, останавливаюсь перед информацией об Эмме Буман. Выросла на Сёдермальме, посещала школу Катарина Норра. Три года назад начала работать на «Клотс и Мор». Мать умерла в сентябре этого года. Папа в мае десять лет назад.
– Вот оно, – восклицаю я. – Вот!
И в эту секунду меня прерывает звонок мобильного. Манфред жестом показывает, что должен ответить.
– Хорошо, – говорит он. – Ладно. Он уверен? Спасибо. Скоро увидимся.
Он отключается, кладет телефон на стол и сцепляет руки на затылке.
– Говорит Санчес. Личность убитой установлена. Это Ангелика Веннерлинд.
Эмма
Неделей ранее
Первая ночь в домике для игр. Я закрываю глаза с надеждой, что спальный мешок выдержит ночную температуру, как и обещали в магазине. Пока что мне зябко, но на мне куртка и шапка, как было велено. Я лежу в своем желтом коконе из полиэстера и жду, когда придет сон.
Я похожа на бабочку, думаю я. Жду в коконе превращения, чтобы осуществить свое предназначение. Я тереблю коротко стриженные волосы и думаю о том, как Ольга и Манур день за днем ходят взад-вперед по магазину под звуки опостылевшей музыки. И внезапно мне становится их жаль. Они похожи на зверей, запертых в клетке. Я же свободна. Да, меня бросили, и у меня нет денег, зато у меня есть свобода. И скоро я закончу то, что начала.
План прост. Дождаться, пока брюнетка с ребенком уйдут, и пойти поговорить с Йеспером наедине. Я заставлю его меня выслушать. Даже если придется прибегнуть к угрозам. На этот раз он не отвертится. Я заслуживаю правды.
Что будет потом – я не знаю. Но я не собираюсь причинять ему зло, потому что я не чудовище. Чудовища лгут и предают. Уничтожают человека ради собственной прихоти. Выбрасывают как ненужную игрушку и уходят, оставив после себя хаос и разрушения. Чудовище – это тот, кто причиняет другим боль и получает от этого удовольствие.
Как Йеспер.
Мама сказала, что мне следует остерегаться мужчин, потому что им всем нужно только одно. Это звучало так, словно они хотят лишить меня достоинства, украсть у меня что-то ценное. Лучше бы мама сказала мне правду. Мужчин нельзя подпускать близко, потому что потом от них не избавишься. Они проникают тебе под кожу.
Йеспер. Спик.
Они все время со мной. Они в моих мыслях, моих снах. Мое тело помнит их запахи, прикосновение теплой кожи, звуки сдавленных стонов и учащенного дыхания над моим ухом.
Мне хотелось бы смыть их с кожи струей воды, как грязь. Но вода с мылом не могут избавить меня от того, что засело у меня в мозгу. Если бы волшебным образом можно было перенестись обратно в прошлое – до того, как я встретила этих мужчин. В то время, когда у меня были все эти наивные представления о том, как сложится моя жизнь.
Я просыпаюсь от того, что что-то щекочет мне кожу.
Серый свет просачивается сквозь грязные, обледеневшие за ночь окна. Несмотря на то что температура в домике явно ниже нуля, я не мерзну. Только шея и спина ноют после ночи на коротком и неудобном диване.
Я пробую сесть и достать термос с кофе. Наливаю кофе в крышку, опускаю ноги на пол, но он такой ледяной, что я решаю сразу одеться. Полностью одетая, подхожу к окну с биноклем в руках. Только сейчас я замечаю, что окна обледенели изнутри. Я тру их рукавом, чтобы можно было что-то разглядеть. Небо серо-стального цвета низко нависает над землей. Холм, на котором стоит дом Йеспера, весь покрыт свежим белым снегом. На снежной перине никаких следов. Никто – ни люди, ни дети, ни собаки не тревожили моего убежища ночью.
Я смотрю в бинокль, и мне смешно. Они сидят за кухонным столом на тех же местах, где сидели вчера, и завтракают. Словно так сидели всю ночь, только сменив мясо на йогурт с хлопьями.
Маленькая девочка тоже здесь. На ней полосатое домашнее платье, а брюнетка одета в белый махровый халат, которые обычно видишь в рекламе спа-отелей. Йеспер снова спиной ко мне, словно он знает, что я за ним наблюдаю, и хочет даже своей позой показать, что ему на меня наплевать.
Можешь повернуться ко мне спиной, но от меня тебе не уйти, думаю я. Я рядом. Достаточно протянуть руку – и разрушить тот безупречный фасад, за которым ты маскируешь свою жалкую жизнь.
От этой мысли настроение у меня улучшается. Я достаю хлеб и колбасу из пакета, лежащего под ржавым грилем, и мы завтракаем вместе, если так можно выразиться. Я ем свой завтрак и смотрю, как они едят свой. Вскоре Йеспер выходит из кухни. Женщина с девочкой остаются одни. Через пять минут он возвращается, одетый в спортивную форму. Брюнетка откидывается на спинку стула и поднимает лицо вверх для поцелуя. Йеспер склоняется над ней и целует, одновременно запуская руку в вырез халата и сжимая ей грудь.
Я опускаю бинокль на колени и с силой зажмуриваюсь. Начинаю теребить корочку царапины на ладони, сдираю ее, и горячая кровь капает на пол. Почему мне так больно? Я же знаю, что он мне изменяет. Это давно уже не новость. Я была в их доме, видела их вместе. Почему же мне так больно? Почему я так и не научилась быть сильной?
Я снова подношу бинокль к глазам и успеваю увидеть, как Йеспер бежит в сторону моря. Вскоре он пропадает из поля зрения. Я перевожу взгляд на кухню, но там тоже пусто. Только одинокая чашка на столе.
Я поднимаю бинокль выше, на окна второго этажа. В окне спальни шторы задернуты, но в соседнем окне видно девочку. Непонятно, что она делает. Светлая головка мелькает то тут то там в комнате, как будто она прыгает или бегает. Потом она тоже исчезает. Дом кажется покинутым, но я знаю, что они где-то внутри, потому что на улицу они не выходили.
Я решаю сделать перерыв. Писаю в старое красное пластиковое ведро, найденное в углу, чищу зубы, расчесываю пальцами волосы. Потом сажусь на диван, смотрю в окно и жду. Через полчаса возвращается Йеспер. Я вижу, как он осторожно подбегает к дому, словно боится поскользнуться на обледеневшей дорожке. Перед тем как зайти в дом, делает растяжку у дерева.
Сегодня воскресенье. Что делает счастливая семья в пригороде в воскресенье? Ходит по музеям? Приглашает своих удачливых друзей на бранч полакомиться омлетами, смузи и свежеиспеченным хлебом? Лепят снеговиков?
Это должна была быть я.
Это я должна была сидеть там за столом, а не эта брюнетка. Как же сильно я ее ненавижу.
Больше ничего интересного не происходит. Я ем бутерброды, разминаюсь, чтобы согреться. Кофе в термосе закончился, и я перешла на газировку, которая, к счастью, не замерзла за ночь. Внезапно мне вспоминается мама. Она возникает в моем сознании, подобно марионетке в театре. Наверно, потому что она, как и Йеспер, жила во лжи.
Я помню то утро, когда по дороге на работу мне позвонили из больницы. Сперва я вообще не хотела брать трубку, потому что уже опаздывала, а каждое опоздание означает красную метку на календаре. Конечно, если попадешься на глаза Бьёрне.
Женщина представилась врачом и сообщила, что мама больна. Оказывается, ее привезли на «Скорой» вчера вечером и оставили в больнице для обследования.
– Как она? – спросила я, зажав телефон между плечом и ухом, и поспешила вниз по лестнице.
– Мы пока не знаем, что с ней, но состояние стабильное, угрозы для жизни нет, но она сильно нервничает и спрашивает о вас.
– Обо мне?
Мама уже несколько месяцев не звонила, и в ее желание видеть меня верилось с трудом. Даже будучи больной.
– Да, она хотела бы, чтобы вы ее навестили. Я молчала.
– Время посещения с двух до шести, – продолжила врач. – Я могу ей передать, что вы придете?
– Да, приду, – услышала я свой голос, выходя на улицу. Мы попрощались, и я побежала к метро, жмурясь от яркого весеннего солнца и лавируя между лужами, затянутыми льдом. В воздухе пахло влажной землей и пожухлой листвой.
Она сильно нервничает и спрашивает о вас.
Я была в растерянности. Знала, что придется поехать в больницу. Хотя бы для того, чтобы узнать, зачем я понадобилась матери.
Она лежала одна в палате в конце светлого коридора. Палата выглядела совершенно обычно: кровать со столиком на колесиках и хромированным табуретом, телевизор на стене, шкафчик, запирающийся на замок, раковина. Ёмкости с мылом и антисептиком на стене рядом с раковиной.
Мама сидела в кровати и читала журнал. Не знаю, чего я ожидала, но она не показалась мне больной. Я удивилась, увидев маму в спортивном костюме с дамским журналом в руках.
– Эмма, милая, – сказала она, снимая очки и приглаживая высветленные волосы на голове. Встать она не пыталась. Пахло в палате больничной едой. Приближалось время обеда.
– Как дела?
Я скинула куртку и сумку и присела на табурет у постели. Мама отложила журнал на желтое больничное покрывало, которым были укрыты ее ноги, и посмотрела на меня своими глубоко посаженными глазами.
– За что мне такие страдания?
На мой вопрос она не ответила.
– Что случилось?
Она закашлялась и прижала руку к животу, словно ей было больно.
– Они будят нас в шесть утра. В шесть утра! Можешь себе такое представить? А потом снуют туда-сюда. И все время новые люди. Спать тут все равно что на вокзале. И персонал – одни иммигранты. Я не расистка, но они же даже не говорят по-шведски. Как мне вообще с ними разговаривать? И моя соседка так храпела всю ночь, что я глаз не сомкнула. Я пожаловалась медсестре, сказала, что не могу спать, но та только ответила, что все палаты заняты. Мне пришлось умолять их дать мне снотворное, но даже в этом мне отказали. Да еще с таким видом, словно я наркоманка, попросившая у них героин. Совсем из ума выжили. Работаешь всю жизнь, платишь налоги, а когда тебе понадобится помощь государства – вот тебе.
Я решила не напоминать маме, что большую часть своей взрослой жизни она не работала, а получала пособие. Мама поднесла толстую руку к лицу и утерла невидимую слезу.
– Быть старой и больной, Эмма, это не шутка. Посмотри на меня.
Она сделала паузу, ожидая от меня выражения сочувствия, но я не знала, что сказать. В палату вошла медсестра с подносом. Ее белая униформа разительно контрастировала с темной кожей.
– Что я тебе говорила? – шепнула мама, кивая в сторону медсестры.
– Сегодня у вас жидкая диета, – с улыбкой сообщила медсестра и поставила поднос рядом с кроватью.
Мама ничего не сказала. Только с отвращением посмотрела на коричневое содержимое суповой тарелки.
– Разве это пища для людей? Они что, правда думают, что я буду это есть?
Она помешала ложкой суп и отставила тарелку в сторону.
– Что с тобой случилось? – снова попыталась я. Мама отмахнулась с таким видом, словно это вообще не заслуживало внимания.
– Они не говорят. Что-то с желудком. Могли бы и побыстрее диагноз поставить, учитывая, сколько их тут носится по коридорам.
Она криво улыбнулась.
– Но… когда тебя отпустят домой? Мама пожала плечами.
– Надо быть благодарным за то, что у тебя есть. Она посмотрела на меня. Глаза так глубоко сидели подо лбом, что сложно было различить их цвет. Щеки свекольного цвета набухли так, словно ей в рот напихали ватных шариков.
– У меня есть ты, Эмма, а у тебя я, – сказала она, сжимая мою руку.
Если бы мама сказала, что улетает на Луну, я бы удивилась не меньше. За последние пять лет мы виделись раза два, не больше. Что она хочет этим сказать?
Мама глубоко вздохнула и снова утерла невидимую слезу свободной рукой, продолжая сжимать мою руку так крепко, что она онемела.
– Эмма, помнишь, как нам было здорово втроем? Тебе, папе и мне? А когда его… не стало… мы стали друг для друга утешением. У нас была крепкая семья, даже после его смерти. Мы помогали друг другу, как могли.
Трудности сделали нас сильнее. Говорят, горе сближает, не так ли?
Я сидела, как приклеенная к стулу. Не верила своим ушам. Когда это мы были счастливой крепкой семьей? И со смертью отца мы не стали ближе. Что за чушь? Если мы когда и были близки, то только когда я тащила маму в постель после того, как она отключалась за кухонным столом или в туалете. И единственная помощь, которую я ей оказывала, это сбегать за сигаретами и таблетками от похмелья. И я не припомню, чтобы она мне помогала.
– Я не жалею о прожитых годах, – картинно всхлипнула она. Настоящие слезы поползли по жирным щекам. – Но я хотела бы, чтобы папа побыл с нами подольше. Он был замечательным человеком. Мы так сильно любили друг друга.
Последнее она сказала едва слышно.
Перед глазами быстро, как тени, пронеслись сцены ссор между мамой и папой. Расплывчатые, они не оставляли сомнения в том, что все это было наяву, а не во сне. Фрагменты прошлой жизни. Разбитая посуда. Крики. Жалобы соседей. Визит полиции посреди ночи. Убитая бабочка среди осколков стекла на кухонном полу.
Сначала я хотела возразить. Напомнить ей, как в действительности обстояли дела в тесной квартирке на Сёдермальм. Но я знала, что это будет бессмысленно. Мама придумала себе жизнь такой, какой ей хотелось, чтобы она была, и никто не сможет ее переубедить. И она не понимала, что эта выдуманная жизнь сейчас стоит между нами невидимой преградой.
Внезапно я ощутила усталость. Я хотела только одного – вернуться домой и лечь в кровать. Забыть об этой жирной женщине в больничной палате, которая только и делала, что лгала. Себе – и всем вокруг.
– Мне пора идти, – едва слышно шепнула я.
– Уже?
Всхлипы продолжались, как будто кто-то открыл кран и страдания полились сплошным потоком. Я кивнула и встала.
– У нас собрание на работе, – солгала я.
Идя к выходу по длинному больничному коридору, я вдруг подумала, что мама так ни разу и не спросила, как я себя чувствую. Ни одного вопроса. Никакого интереса к моей жизни. Словно меня не существовало.
Меня трясет от холода. Только несколько раз я видела в окнах Йеспера женщину и ребенка. Следить за домом оказалось сложнее, чем я думала. Постоянно теряешь концентрацию. От тяжелого бинокля ноют руки. Через несколько часов пальцы окоченели от холода. Я надела варежки, но в них неудобно было держать бинокль. Из-за всех этих сложностей я чуть не упустила момент, когда женщина с девочкой вышли из дома.
Небо по-прежнему светлое, но краски природы уже сгустились, и в доме зажгли свет. Женщина с девочкой сели в красный «Вольво» и уехали. Я медленно поднимаюсь с дивана на затекших от долгого стояния на холоде ногах. Они уехали. Значит, Йеспер дома один.
Я снова смотрю в бинокль. И внезапно меня бросает в жар. Руки горят, щеки горят, сердце бьется так сильно, словно сейчас выпрыгнет из груди.
Он сидит за столом перед компьютером. Рядом на столе бокал вина и тарелка с сэндвичем. Пора.
Я стою на крыльце, поднеся палец к кнопке звонка. Настал решающий момент. Ничто не сможет мне помешать. А может, все решено уже давно, и мое присутствие здесь – логический конец цепи событий, начало которой положил Йеспер, не явившись на ужин. Так говорю я себе. Все началось в тот вечер, когда я стояла одна в кухне и готовила праздничный ужин в честь нашей помолвки. Именно тогда все началось. И это Йеспер заварил эту кашу.
Эта мысль придает мне силы. Я нажимаю на кнопку звонка. Звонок у него неприятный. Не динь-динь и не мелодия, а резкое дребезжание. Этот звук может с ума свести, если слушать его каждый день.
Сперва я решаю, что он не слышит звонка, потому что ничего не происходит. Но потом дверь открывается, и он стоит передо мной. Верх творения. Могущественный мужчина, который разрушил мою жизнь, превратил меня в разъяренную тигрицу.
Но сегодня он не похож на себя. В волосах седина. Лицо усталое, серое, как будто он болен или страдает бессонницей. Таким я его еще не видела.
– Привет, – говорю я.
Петер
Манфред неподвижно стоит посреди комнаты, возвышаясь над остальными как скала. Переводит взгляд с одного коллеги на другого. В глазах у него алчность хищника, напавшего на след добычи.
– Ни хрена себе, – бормочет Бергдаль, – значит, это была не Эмма, а другая девушка, Ангелика Веннерлинд. Кто бы мог подумать.
– Что-то тут не так, – говорит Манфред. – Обе женщины встречались с Орре. Обе пропали, но у нас есть только одна жертва. А Орре оттаивает в морге в Сольне и ждет своей очереди, как замороженные креветки.
Ханне встает, медленно идет к доске. Рядом с Манфредом она кажется крошечной и нелепой, но голос у нее звонкий и четкий.
– Мать Эммы Буман умерла три месяца назад. А ее отец десять лет назад, за четыре месяца до того, как убили Мигеля Кальдерона.
В комнате воцаряется тишина. Охранник, проходящий по коридору, заглядывает в офис и кивает. Лязг ключей затихает на лестнице.
– К чему ты клонишь? – спрашивает Манфред.
– Для психически нестабильного человека смерть близкого может стать импульсом к срыву и даже вызвать глубокий психоз. Я хочу обратить ваше внимание на то, что смерть обоих родителей накануне убийств может быть не случайна.
Меня поражает, с какой уверенностью Ханне это говорит. Вся ее хрупкая фигурка излучает силу и авторитет. Глядя на нее, никогда не скажешь, что у этой женщины могут быть проблемы с памятью.
– В этом деле слишком много чудны́х совпадений, – говорит Манфред, опускаясь на стул. – Например, что Орре встречался с обеими.
– Этого мы не знаем, – спокойно отвечает Ханне. – Они утверждали, что встречались с ним, но у нас нет свидетелей, которые подтвердили бы, что эти романы имели место быть. Подруга Ангелики Веннерлинд говорит, что та рассказала ей о своей связи с Орре. А Эмма Буман утверждала, что Орре был с ней обручен и подарил ей кольцо, но на видеосъемке из ювелирного магазина мы видим только Эмму. И никого больше. И сам Йеспер Орре отрицал эту помолвку, когда с ним говорили полицейские.
– Это неудивительно, учитывая, сколько у него было девушек.
– Нам стоит поговорить с тетей Эммы Буман, той, что заявила в полицию об исчезновении. Бергдаль, можешь с ней связаться и привезти сюда, если получится?
Бергдаль кивает и выходит из комнаты с мобильным в руке.
Манфред поворачивается к Ханне.
– Ты думаешь, Эмма Буман могла быть причастна к убийству?
– Не исключаю такой возможности. Но у нас нет доказательств, помимо того факта, что ее родители скончались незадолго до убийств. Есть ли связь между Эммой и Кальдероном? Вам что-то удалось выяснить?
Манфред скрещивает руки на груди и закрывает глаза.
– Мы ее и не искали.
– Может, стоило? – говорит Ханне.
– Много чего стоило сделать, – отвечает Манфред уныло.
На лестнице раздаются шаги, и через пару секунд в офис заглядывает Бергдаль.
– Тетя Эммы Буман не спит. Я послал за ней машину. Они будут здесь минут через двадцать.
В ожидании их приезда мы с Манфредом выходим покурить. Он зовет Ханне с нами. Она накидывает куртку и берет с собой блокнот, словно собирается записывать даже на улице.
С тех пор как Полицейское управление объявили свободным от курения рабочим местом и комнаты для курения убрали, самые заядлые курильщики вынуждены выходить на балкон или на улицу, чтобы вдоволь злоупотребить никотином. Мы идем на балкон на третьем этаже, выходящий во двор. Два засыпанных снегом глиняных горшка с давно погибшими растениями заменяют пепельницу, но все равно весь балкон засыпан бычками, словно яблоками со старой яблони. На черном небе ни звезды. Мороз кусает щеки.
– Ты сказала, что Эмма Буман и Ангелика Веннерлинд, – обращается Манфред к Ханне, – утверждали, что встречались с Орре. Что ты имела в виду?
Ханне смотрит вдаль поверх домов и теребит в руках блокнот.
– Я именно это и имела в виду. Что мы не можем знать, говорили они правду или нет.
– Но зачем им лгать?
Ханне пожала плечами, выдавила кривую улыбку.
– А почему люди лгут? Чтобы казаться интересными. Или потому, что сами верят в эту ложь.
– Не понимаю, – признается Манфред, зажигая сигарету.
– Людям с психическими отклонениями случается жить в мире своих фантазий. Особенно это проявляется в состоянии психоза. Во врачебной практике было много примеров, когда пациенты верили, что у них были отношения с людьми, с которыми они даже не были знакомы. Существует даже такой диагноз как эротомания. Пациенты с таким диагнозом могут с ума сходить от любви к знаменитости или, например, к лицу, имеющему для них авторитет. Иногда им кажется, что они замужем за предметом их фантазий и даже что у них есть дети.
– Знаменитость? Авторитетная фигура? Как, например, начальник компании, в которой ты работаешь, ты это хочешь сказать? – уточняю я.
– Именно так, – отвечает Ханне, и наши взгляды встречаются. – И они верят, что эта любовь взаимная, хотя предмет обожания даже не подозревает об их существовании.
Мне кажется, что Ханне говорит это специально для меня, и что-то внутри меня надрывается. Ломается, как сухая ветка под сапогом. На секунду мне кажется, что я вообразил себе все, что произошло за последние сутки.
Наши разговоры, ночь, проведенную с Ханне, прогулку по заснеженной улице Сёдер Мэларстранд.
Может, ощущение близости – тоже плод моей фантазии, спровоцированный одиночеством или желанием искупить вину, которая мучает меня столько лет.
Манфред тушит сигарету о стену и смотрит на часы.
– Двадцать минут уже прошло. Тетя скоро будет. Надо возвращаться.
Лене Бругрен за шестьдесят. Это полная женщина, одетая в широкую цветастую тунику до колен, напоминающую плащ-палатку, и облегающие лосины. Ноги втиснуты в меховые сапоги, отчего создается ощущение, что у нее с собой две собачки. Взгляд мечется между нами, пальцы теребят пачку сигарет.
– Здесь, наверно, нельзя курить? – спрашивает она неожиданно высоким и чистым голосом, резко контрастирующим с одутловатым телом и усталым лицом. С таким голосом можно петь в хоре.
– К сожалению, нет, – отвечает Манфред.
Женщина кивает и смотрит на меня.
– Бедная Эмма, что она натворила? – тихо спрашивает она, качая головой, от чего двойной подбородок трясется.
– Мы пока ничего не знаем, – поясняет Манфред и сообщает, зачем они вытащили ее из дома в одиннадцатом часу вечера, что мы расследуем убийство молодой женщины и что имя Эммы фигурирует в расследовании.
– Не могли бы вы рассказать нам об Эмме? – прошу я.
– Эмма… добрая и порядочная девушка. Не доставляет никому хлопот. И никогда не доставляла. Ни в детстве, ни потом. Я же знаю ее с малых лет. Но у нее всегда были трудности с общением с людьми. А когда Гунн, мама Эммы, моя сестра, умерла, она совсем замкнулась. Не выходила на контакт. Я обычно навещаю ее на Вэртавэген, проверяю, что у нее все в порядке: я обещала Гунн, что буду за ней присматривать. Но в последние два раза она мне не открыла. Хотя я слышала, что дома кто-то есть. А когда я увидела портрет убитой девушки, то сразу вам позвонила.
Женщина делает глубокий вдох и спрашивает:
– Это она?
– Нет, нет, – спешу заверить я. – Жертву убийства, найденную в доме Йеспера Орре, опознали, и это не Эмма.
Лена Бругрен с облегчением выдыхает и откидывается на спинку стула. Кивая, утирает пот со лба.
– Почему Эмма бросила старшую школу? – интересуется Ханне.
Женщина сконфуженно смотрит на нее.
– Она никогда ее и не начинала. Все из-за этой ужасной истории с учителем труда.
– Истории с учителем труда? – повторяю я.
– Да, временным. Он приставал к Эмме. Его, конечно, уволили, но разве это помогло? Худшее уже случилось. Как можно надругаться над невинной школьницей, за которую ты в ответе? Надо быть чудовищем. Но таких бог всегда карает. Он потом умер, этот учитель. Его убили. Ужасно, конечно, но мне его не жаль. К преступникам в последнее время слишком снисходительно относятся, вам так не кажется? Вам, работающим в полиции, это известно как никому…
Манфред осторожно ее перебивает:
– Этот учитель… Как его звали?
Тетя замолкает и смотрит вверх, напрягая память.
– Его звали Спик.
Ханне нагибается вперед и кладет руку поверх руки Лены Бругрен. Этот жест можно расценить как заботу или как с трудом сдерживаемое любопытство.
– Спик? Но это больше похоже на прозвище, Лена. А настоящее имя вы не помните?
Женщина моргает несколько раз. Мне кажется, она сейчас разрыдается.
– Нет, – вздыхает она. – Что-то иностранное. Он был иммигрантом. Я это уже говорила?
– Мигель Кальдерон? – подсказывает Ханне. Взгляд женщины проясняется. Она вздрагивает и медленно кивает. Челюсти напряжены, в глазах появляется осознание.
– Кальдерон. Да, так его и звали.
Эмма
Неделей ранее
Йеспер пытается захлопнуть дверь у меня перед носом, но я быстрее его. Просовываю ногу в походном ботинке (должен выдержать и воду, и камни) в дверной проём и блокирую дверь. Выхватываю прибор, купленный в Интернете, размером с мобильный телефон. Тыкаю им в Йеспера и нажимаю на красную кнопку. Он издает истошный крик, отпускает дверь и падает на пол. Я стремительно оглядываюсь по сторонам и вхожу в теплую прихожую. Закрываю за собой дверь. Электрошокер не опасен, так написано в инструкции. Он только парализует человека на пару минут. Здоровому человеку от этого вреда не будет. А Йеспер здоровый и крепкий мужчина. Но, как многие здоровые счастливые люди, он не осознает, как ему повезло, и нуждается в небольшой встряске.
Я запихиваю электрошокер в карман и нагибаюсь над Йеспером. Достаю прочный двусторонний скотч и обматываю им его запястья за спиной. Йеспер дёргается, пыхтит и сопит, но почти не сопротивляется, что вызывает у меня недоумение. Слишком все легко. Я представляла в голове, как мы деремся не на жизнь, а на смерть, катаясь по полу в прихожей. А он просто лежит передо мной, беспомощный, как ребенок. Обычный мужчина средних лет, ставший жертвой собственного эгоизма.
– Это не опасно, – сообщаю я. – У меня не было выбора. Нам надо поговорить. Ты должен объяснить свои поступки.
У него дергаются руки, слюна струйкой стекает изо рта. Это вызывает у меня отвращение. Он напоминает мне прикованного к больничной койке старика.
Йеспер кашляет.
– Развяжи меня, черт возьми. Мне больно.
– Мне жаль, – говорю я, – но тебе придется меня выслушать. А потом мы посмотрим.
Он не отвечает. Лежит на боку на полу с жалким видом. Грудь бурно вздымается, глаза закрыты, словно он не хочет меня видеть. Я снимаю куртку, скатываю и кладу ему под голову. Сажусь рядом на полу и провожу рукой по его волосам.
– Что тебе нужно? – шепчет он.
– Я хочу знать почему.
– Что почему? – спрашивает он растерянно. Видимо, это последствия электрошока.
– Почему ты меня бросил? Почему забрал мои деньги? И картину? Почему уволили меня? Почему убил моего кота? Почему? Зачем?
– Я не понимаю, о чем ты говоришь.
Он отвечает мне с таким жестоким равнодушием, словно обращается к вору, забравшемуся к нему в дом, а не к своей девушке. Я достаю электрошокер и снова нажимаю красную кнопку, чтобы показать ему, что не потерплю такое обращение. Йеспер дёргается, стонет и затихает.
– Хватит издеваться. Ты наигрался со мной вволю, а потом выбросил как надоевшую игрушку. И я хочу знать почему. Я что, хочу слишком многого?
Он не отвечает, только прерывисто дышит. В паху у него быстро расползается мокрое пятно.
– Ты убил нашего ребенка, – шепчу я.
Он издает звук, похожий на кашель или сухой смешок.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь, – повторяет он.
Я раздумываю, не повторить ли электрошок, но решаю, что пока не стоит. Я не хочу причинить Йесперу вред. Мне только нужно получить объяснение.
– Почему ты пропал?
Йеспер набирает в грудь воздуха и впервые смотрит на меня. Глаза у него красные от полопавшихся сосудов. Взгляд мечется между мной и потолком.
– Это ты написала то письмо? – спрашивает он.
– Да.
– Я решил, что лучше не отвечать.
Он вздыхает и сворачивается на полу калачиком. После паузы снова говорит:
– Как тебя зовут?
– Что? Ты же знаешь, что меня зовут Эмма.
– Эмма, пожалуйста…
Слезы текут у него по впалым щекам, когда он продолжает:
– Можешь меня выслушать?
– Конечно.
Я опираюсь на стену, скрещиваю руки на груди и готовлюсь слушать, пораженная его внезапной податливостью.
– Я знаю, что ты думаешь, что мы знакомы. Что мы… близки. Но на самом деле это не так. Я тебя не знаю. Мы никогда не встречались. Того, о чем ты говоришь, не было. Я не предавал тебя, не изменял тебе, не убивал твоего кота и тому подобное. Все это только у тебя в голове, понимаешь? В твоем воображении. Ты и я… мы никогда не встречались… Я не знаю, как тебя убедить, но… Ты ведь не плохой человек.
Я ложусь на пол, прижимаюсь щекой к холодной плитке. Его лицо всего в нескольких сантиметрах от моего. Я думаю о том, врет ли он или действительно верит в то, что говорит. Может, он просто вытеснил меня из своего сознания?
– Ты бросил меня в день нашей помолвки. Я не знаю, что послужило тому причиной, но догадываюсь, что все дело в этой девице. Ведь ты не знал, что я была беременна?
Он не отвечает. Лежит неподвижно и беззвучно плачет. Я продолжаю:
– Ты бросил меня… Но такое случается. Я могу это понять. Но не понимаю, почему тебе нужно было разрушить мою жизнь… уничтожить меня…
Его лицо искажается гримасой боли. Мне становится его жалко, и я кладу руку ему на щеку.
Мы тихо лежим на холодном полу. Его дыхание успокаивается, слезы иссякают.
– Йеспер, все будет хорошо.
Он кивает. Ниточка слюны стекает на пол.
– Все будет хорошо, – повторяет он.
– Мы любим друг друга, – говорю я и целую его в мокрую от слез и слюны щеку.
– Мы любим друг друга, – повторяет он.
…В этот момент раздаются шаги на крыльце и щелчок открываемой двери. Я поворачиваюсь и вижу ее. Брюнетка прижимает руки ко рту, словно пытаясь подавить крик. Пятится к двери, не отрывая от нас взгляда, но я вскакиваю и подбегаю к ней. От нее исходит аромат парфюма, и я остро осознаю, как сама, должно быть, выгляжу: грязная, потная, вонючая, с растрепанными волосами.
Я хватаю ее за запястье и дергаю на себя. Брюнетка теряет равновесие. На ней черные кожаные сапоги на высоких каблуках – не лучшая обувь для драки.
– Что тут происходит? – истерично вопит она. Судя по удивлению в голосе, она явно не ожидала увидеть меня у себя в прихожей. Видимо, решила, что давно уже меня устранила. Женщина пытается вырваться, я тяну ее на себя. Мы вертимся, и я выпускаю ее руку в нужный момент, когда мы оказываемся перед лестницей. Она летит вперед, как ребенок, сорвавшийся с качелей. От крика, который она издает, ударившись о ступеньки лестницы в подвал, волосы встают дыбом. Так вопят умирающие животные. Брюнетка лежит на ступеньках. Я подхожу к ней. Волосы веером рассыпались вокруг лица. По ступенькам расползается красное пятно. Я присаживаюсь и смотрю на женщину. Непонятно, дышит она или нет. Рядом на полу уже целая лужа крови. Ручеек крови стекает по краю ступеньки подобно водопаду. Я встаю. Меня качает. Это в мои планы не входило. Я никому не хотела навредить. Только поговорить с Йеспером. Жмурюсь, чтобы унять головокружение.
Йеспер кричит:
– Прекрати! Она тут ни при чем! Бей меня, если хочешь. Это я виноват. Я должен был ответить на твои письма, на твои эсэмэс. Делай со мной что хочешь, но не трогай Ангелику, пожалуйста.
Комната продолжает вращаться. От запаха крови и мочи меня тошнит. Я бросаю взгляд на женщину. Она лежит неподвижно. У ее ног что-то поблескивает. Ключи от машины. Я подбираю их и тащу женщину обратно в прихожую. Пинаю в лицо, чтобы проверить, жива ли она. Раздается стон.
– Умоляю тебя, развяжи меня, пожалуйста. Прости. Я должен был позвонить. Прости меня!
Голос Йеспера звучит словно издалека. Я решаю не отвечать ему. Я не знаю, что ответить. Все получилось не так, как я хотела, и мне хочется убежать, испариться, не видеть больше Йеспера на полу и не чувствовать запах страха.
Но я не могу. Еще не время.
Надо показать этой женщине, которая думает, что отняла у меня Йеспера, что это не так. Пусть увидит, кого он на самом деле любит. Я покажу ей.
– Смотри внимательно, – шепчу я. – Смотри.
Ханне
Эсэмэс от Уве вырывает меня из беспокойного сна в пять утра. Я поднимаю телефон с пола и читаю:
Я люблю тебя.
Только это. Ни угроз, ни мольбы о возвращении домой. Смотрю на дисплей, светящийся в темноте, и удивляюсь, каким пустым кажется мне это послание. Все слова словно потеряли свое значение и кажутся заезженными и безвкусными, как полуфабрикаты. Сажусь на кровати. Спина болит после долгих часов на диване в комнате отдыха. Коллеги совещались всю ночь, но я вынуждена была пойти отдохнуть. Уве всегда над этим посмеивался. Говорил, что я как ребенок, который всегда ест и спит в определенное время. И он был прав. Без сна я не могу. Без сна я не просто капризничаю, я полностью теряю способность ясно мыслить. А сейчас эта способность мне нужна, как никогда.
Куда она могла направиться? Женщина, убившая Йеспера Орре и его подругу? Женщина по имени…
Я с раздражением констатирую, что не помню ее имени. Во время сна оно улетучилось из моего сознания.
Растворилось в спёртом воздухе комнаты отдыха, пока я спала на неудобном диване.
Я надеваю кофту и спускаю ноги на холодный пол. Подхожу к окну. За ним кружатся одинокие снежинки. В окнах домов вокруг темно, только несколько огоньков горят, как маяки в ночи.
В участке на четвертом этаже кипит бурная деятельность. Манфред, Бергдаль и еще десяток человек здесь. Петер подходит ко мне и кладет руку на плечо.
– Как ты?
Его долговязая фигура, открытое мальчишеское лицо, легкое прикосновение руки вызывают у меня странную реакцию. Я чувствую слабость и одновременно жажду деятельности. Мое тело словно само знает, что нужно спешить. Нужно что-то делать, чтобы не допустить катастрофы, которая стремительно приближается. Я вздрагиваю и делаю шаг назад.
– Все хорошо. Только устала немного. Петер кивает.
– Мы изучили банковскую историю Эммы Буман. За два дня до убийства Ангелики Веннерлинд она совершила в магазине спортивных товаров покупки на три тысячи крон и взяла в аренду машину, которую не вернула. Машину мы обнаружили в паре сотен метров от дома Орре. А парой недель ранее, в вечер поджога у Орре, она купила в магазине красок горючую жидкость.
– Бензин?
– Наверняка. Мы думаем, что она скрылась с места преступления в машине Ангелики Веннерлинд – красный «Вольво 740».
– Вы были в ее квартире?
– Да, там пусто. Дежурный прокурор подписал разрешение на обыск, мы вернулись оттуда пару часов назад. Там страшный бардак. Пустые коробки от мороженого, обрывки бумаги, засохшие макароны на полу, кетчуп на зеркале, драные подушки. Там сейчас работают криминалисты. Как думаешь, куда она поехала?
Я оглядываю комнату. Все сосредоточенно работают.
– Туда, где чувствует себя в безопасности. Дай мне почитать все, что вы на нее накопали. Может, там есть какая-то зацепка.
Следующие часы я провожу за грудой бумаг. За окном светает, но рассвет холодный и серый, как гранит. Коридоры наполняются людьми и ароматом свежесваренного кофе. Становится шумно. Кто-то ставит передо мной чашку. Я не глядя киваю.
В десять я выхожу пройтись. Брожу по свежевыпавшему снегу в расстегнутой куртке, чтобы холодный ветер и снег помогли мне взбодриться.
И все время чувствую, что упустила что-то важное, но не понимаю что. Белый снег слепит глаза, мороз кусает щеки. Что-то рвется наружу из глубин подсознания. Я пытаюсь зацепить его, вытащить на поверхность, но оно ускользает у меня из рук, уползает в самые дальние уголки сознания и таится там, как испуганный зверь.
На входе в здание меня осеняет. Но я так боюсь, что снова забуду это, что чуть не прошу у охранника ручку и бумажку, чтобы все записать. Но решаю понадеяться на память и бегу к лифту. Подбегаю к Манфреду, который стоит с чашкой кофе в руках.
– Капельгрэнд, – говорю я ему. – Улица, на которой выросла Эмма Буман. На допросе в полиции она сообщила, что Орре живет на Капельгрэнд.
– И? – недоуменно отвечает Манфред. Подходят Санчес и Петер и молча смотрят на меня.
– Она путает фантазию с реальностью, но по какой-то причине квартира на улице Капельгрэнд, в которой она проводила много времени в детстве, много для нее значит. Это место, где она чувствует себя в безопасности. Капельгрэнд именно такое место.
В этот момент Санчес поднимает руку, показывая, что хочет что-то сказать. Вид у нее усталый. Глаза черные от размазавшейся вчерашней туши.
– У нас новая проблема, – тихо говорит она. – Пятилетняя дочь Ангелики Веннерлинд Вильма тоже заявлена пропавшей.
Эмма
Неделей ранее
На улице тихо и пустынно. С темного неба падают крупные снежные хлопья. Перед домом припаркован красный «Вольво». Я спускаюсь к машине, крепко держа Йеспера за предплечье. Около кустов рододендрона останавливаюсь и вытираюсь о снег. Протираю лицо холодным белым снегом, убирая следы крови. Йеспер тяжело дышит, как собака.
Я достаю ключи и открываю машину. Делаю еще один удар электрошокером и запихиваю его на пассажирское сиденье. На этот раз он даже не стонет. Его лицо ничего не выражает, глаза тусклые, как камни.
Кожаные сиденья потертые и пахнут конюшней. Впервые за несколько последних часов я позволяю себе расслабиться. Немного, чтобы тянущая боль в груди ушла.
– Где мама?
Голос раздается с заднего сиденья. Я замираю от страха и удивления. Потом оборачиваюсь и встречаюсь с девочкой глазами. Несколько секунд мы смотрим друг на друга. Она явно только что проснулась. На лице нет страха, лишь одно любопытство. За ее спиной видны сумки в багажнике.
– Маме пришлось пойти к врачу, – отвечаю я, заводя машину. – Мы с Йеспером за тобой присмотрим.
– Вильма, – шепчет Йеспер.
– Заткнись, – приказываю я ему и тыкаю в него электрошокером.
Он дергается, голова падает вперед, слюна капает изо рта. Но он молчит.
– Йеспер тоже заболел, – говорю я девочке. – Мы о нем позаботимся.
В машине воцаряется тишина. Я ожидала града вопросов и протестов, но она только сидит и смотрит на меня круглыми глазами.
– Тебя зовут Вильма? – спрашиваю я.
Она сует большой палец в рот и вместо ответа смотрит в окно.
– Сосать пальцы нехорошо. На них много микробов, – стараясь звучать помягче, говорю я. Наши глаза встречаются в зеркале заднего вида. – Меня зовут Эмма.
Пару сотен метров мы едем в тишине. Из-за стресса я сворачиваю не на ту улицу. Дома кончаются, и вокруг нас только поля и леса. Не видно ни души. Я понятия не имею, где мы.
– Я хочу к маме! – внезапно вопит девочка.
Я включаю радио и думаю. Сначала хочу повернуться и приказать ей заткнуться. Но прежде, чем я успеваю это сделать, Йеспер вдруг толкает меня в сторону и пытается ухватиться за руль. Каким-то образом ему удалось снять скотч с рук, потому что они свободны. Он пытается остановить машину, но я вдавливаю педаль газа, машина дергается вперед, слетает с дороги и врезается в березу. Шум от столкновения оглушает, и в салоне сразу пахнет горелой пластмассой.
Йеспер лежит у меня на коленях, уткнувшись головой в ветровое стекло. Все стекло – сплошная паутина из трещин. Я поворачиваюсь назад. Девочка молчит и смотрит на меня во все глаза. Судя по всему, она не ранена. Я осторожно касаюсь шеи Йеспера, ищу пульс, но ничего не чувствую. На приборную панель капает кровь из раны на лбу. В машине слышно лишь прерывистое дыхание Вильмы на заднем сиденье. Я трясу Йеспера, он не реагирует. Делаю глубокий вдох. Смотрю в окно. Вокруг только снег. Я понимаю, что Йеспера придется оставить. Нельзя ехать с ним дальше. Но не могу же я вот так бросить его на дороге.
Я вглядываюсь в темноту. Вдали виднеется ящик с надписью «Песок».
Вильма спокойно спит в моей постели, словно забыв, что случилось сегодня вечером. Мои воспоминания об аварии и о том, как я с трудом запихивала тело Йеспера в ящик с песком, тоже успели поблекнуть. Потом мы поехали домой и припарковались рядом с больницей Дандеруд, укутанной покрывалом из свежевыпавшего снега. Снег быстро засыпал и потрескавшееся ветровое стекло, скрыв следы аварии. Единственное, что она спросила по дороге в метро, это куда я дела Йеспера. Я ответила, что ему тоже пришлось поехать к врачу.
Не знаю, поверила мне девочка или нет, но она ничего не сказала, только кивнула.
Ее бледное личико как у фарфоровой куклы: круглые щечки, длинные темные ресницы, губки бантиком. Я глажу ее по щеке. Кожа гладкая и теплая. Красавица, думаю я. Само совершенство. Настоящее чудо. Есть только одна проблема – она не моя дочь. Мой ребенок мертв. Он погиб, так и не родившись.
Я сплю рядом с ней в ту ночь. Пару раз я просыпаюсь от того, что она ворочается и пинает меня крепкими ножками. И снова у меня это ощущение, что я переживаю нечто волшебное. Дети действительно смысл жизни. Это хрупкое маленькое тело рядом со мной вмещает целый мир, и в этих бледно-голубых глазах светится истина. Может, мне оставить ее себе? – думаю я. Может, нам убежать вместе? Начать новую жизнь там, где никто нас не знает?
Может, она сможет стать моей?
Вильма просыпается раньше меня.
Когда я открываю глаза, она играется моими сережками, лежащими на тумбочке. Руки у нее белые, как мрамор.
– Ты голодна?
Она не отвечает.
– Подожди. Я что-нибудь приготовлю.
Я иду в кухню. В холодильнике пусто. Засохшая луковица и пачка заветревшегося масла. Смотрю в шкаф. Тоже ничего. Ни хлопьев, ни печенья, ничего, что понравилось бы ребенку.
В морозилке тоже пусто. А, нет, на верхней полке что-то лежит. Я достаю упаковку мороженого, беру ложку и несу девочке.
Вильма сидит на полу и ест мороженое. Мороженым перемазана ее одежда и мой ковер, но я ее не ругаю. Она само совершенство, думаю я, глядя на нее.
Если бы только она была моей.
Я иду в спальню. Волосы растрепаны, глаза черные от размазавшейся туши. Сосуды в глазах полопались. Шея и руки в пятнах крови.
Я встаю под душ, намыливаюсь мылом и подставляю спину и плечи под горячую струю воды, смываю все липкое и грязное.
В кухне гремит посуда. Видимо, Вильма изучает новый дом. Надо пойти проверить, что она делает. В эту минуту раздается радостный крик из кухни:
– Я нашла клад! Иди сюда.
Я вытираюсь и заворачиваюсь в полотенце. Выхожу в кухню. Вильма буквально прыгает от радости.
– Ты нашла клад? – спрашиваю я.
– Смотри!
Сначала я не понимаю, о чем она, но потом вижу пачки банкнот, грудой сваленные на полу. Опускаюсь на корточки и рассматриваю пачки, перетянутые красными резинками. И узнаю их. Это деньги, которые я унаследовала. Те самые, которые исчезли. Даже резинки те же самые.
– Где ты их нашла? – срывающимся голосом спрашиваю я.
– Там, – показывает девочка на узкую дверцу сбоку от плиты. Я храню там формы для выпечки. Я не открывала этот шкафчик пару месяцев. Но помню, когда пользовалась противнем в последний раз. Это было в день нашей помолвки с Йеспером, когда я делала канапе с сыром. Я нагибаюсь и заглядываю внутрь. Постепенно глаза привыкают к темноте. На дне шкафа лежат еще несколько пачек. Я достаю их, пересчитываю. Все деньги на месте.
– Дверца была открыта?
Вильма качает головой. Лицо у нее серьезное, но весь подбородок измазан мороженым.
– Нет, я открыла ее, и там был клад.
Я киваю. Опускаюсь на холодный пол. Пытаюсь понять, что произошло. Видимо, Йеспер вернул деньги. Но зачем он положил их в кухонный шкаф? Может, не хотел, чтобы я их нашла? Но почему? Чтобы свести меня с ума?
Я собираюсь было закрыть узкую дверцу, но замечаю, что там лежит что-то еще. Что-то похожее на поднос, прислоненный к стене. Протягиваю руку и трогаю предмет. Края у него деревянные. Осторожно вытаскиваю его на свет и кладу на пол. Пытаюсь понять. Это картина Рагнара Сандберга.
Возвращаюсь в ванную. Встаю перед зеркалом и напрягаю память. Могла я сама положить деньги и картину в шкафчик и забыть про них? Что-то мелькает перед глазами. Темная кухня, тяжелая картина в руках, я нагибаюсь к шкафу. Я что, схожу с ума? Я решаю, что мне все это приснилось. Думаю о маме. О том, что она так ничего мне и не объяснила.
Женщина в зеленой униформе треплет меня по плечу. Она молодая. Совсем юная. На табличке написано, что ее зовут Сорайя.
– Эмма, как хорошо, что вы смогли так быстро приехать. Пойдемте, я покажу, где она лежит.
Мы молча шли по коридору. За окном качались на ветру зеленые ветви деревьев.
Рваные тучи неслись друг за другом по синему небу. Мы прошли что-то похожее на кухню. На круглом столике, покрытом клеенкой, стоял пластиковый горшок с увядшими нарциссами. Пахло кофе и едой, разогретой в микроволновке.
Медсестра шла рядом бесшумно, но решительно.
Она остановилась перед дверью и повернулась ко мне.
– Прежде, чем мы войдем, я должна вам сказать, что ваша мама подключена к аппарату искусственного дыхания. Он облегчает ей дыхание. Все эти трубки и приборы выглядят устрашающе, но ей не больно. Мы дали ей морфин, чтобы она не страдала, так что, скорее всего, она не в состоянии нормально общаться.
– А меня она узнает?
Медсестра улыбнулась. То ли вопрос был глупый, то ли она просто пыталась быть вежливой.
– Если проснется, то, конечно, узнает. Она в сознании. Но, к сожалению, не в лучшей форме…
Она не закончила фразу.
– А касаться ее можно?
– Конечно, можно. Можете держать ее за руку, разговаривать с ней, целовать. Это ей не навредит. Но, как я уже сказала, не знаю, будет ли она в состоянии общаться. В последние дни у нее отказали почки и печень, и она очень… слаба.
В другом конце коридора показался пожилой человек, поддерживаемый медсестрой. Он волок за собой капельницу. Все это было похоже на последнее прибежище перед смертью. Белый коридор с натертым линолеумом и каталки из нержавеющей стали. Тишину нарушало только жужжание медицинских приборов.
Медсестра открыла дверь. Я дотронулась до ее руки и задала мучивший меня вопрос:
– А она придет в сознание?
– Это сложно сказать.
Наши взгляды встретились. У женщины были карие глаза. Медсестра снова улыбнулась и бесшумно удалилась в своих белых больничных туфлях.
Через несколько метров она обернулась и сказала:
– Если понадоблюсь, я в комнате персонала.
Я кивнула и вошла в комнату.
Маму было не узнать. Все ее тело раздуло… Она всегда была полной, но на этот раз все было по-другому. Она вся набухла от воды. Натянутая кожа была почти прозрачной и мертвенно-бледной. Я испугалась, что она может лопнуть от моих прикосновений, как воздушный шар, наполненный водой. От нее тянулись разные трубки, и с легким шумом работал тот самый аппарат, накачивая легкие воздухом. Я была не готова к такому зрелищу. Я испытала шок.
Учитывая наши с мамой холодные отношения, я думала, что останусь равнодушной, но ошибалась. Меня бросило в холодный пот. Ноги тряслись, я упала на стул рядом с кроватью и зажмурилась, прячась от нахлынувших воспоминаний.
Мы с мамой и папой наряжаем елку, украденную из парка Витаберг. Мама лежит рядом со мной в моей кровати и сжимает меня в объятьях – один из тех редких моментов любви и нежности, которые были для меня дороже всего на свете. Из ее рта несет табаком, а я не отваживаюсь повернуть лицо ни на миллиметр, переполненная благодарностью за эту внезапную близость. Мертвая, раздавленная синяя бабочка на полу среди сухих веток и осколков стекла.
Я осторожно положила свою руку на мамину, стараясь не касаться сине-красных отметин. Она не отреагировала. Лицо тоже было раздуто. Непонятно было, закрыты ее глаза или открыты.
Я разрыдалась. Слезы вдруг потекли у меня по щекам, и я даже не пыталась их утереть.
Воспаление поджелудочной железы и ожирение печени, сказали врачи. Я спросила, вызвано ли оно алкоголизмом. Врач только кивнул, сказав, что это вполне вероятно. Они часто сталкиваются с такими последствиями злоупотребления алкоголем.
Я наклонилась над мамой. Прижалась щекой к ее груди, почувствовала, как она поднимается и опускается в такт шуму респиратора. И внезапно я поняла, что хочу знать правду о себе. Что у меня не будет другого шанса задать вопрос, который так давно не дает мне покоя. Я вытерла лицо краем покрывала и прокашлялась. Сжала мамину руку и сказала, вглядываясь ей в лицо:
– Мама, это Эмма.
Никакой реакции. Я сильнее сжала. Кожа побелела под моими пальцами, а ногти оставили отметины в виде полумесяцев. Другой рукой я похлопала ее по лицу.
– Мама, это Эмма.
Одно веко у нее дернулось. Не знаю, был ли это рефлекс, или она все-таки меня услышала. Я наклонилась вперед и прижалась губами к ее уху.
– Мама, мне нужно знать…
Аппарат зашипел. Мама дернулась, словно от укуса.
– Мама, ты должна мне сказать…Сказать всю правду. Со мной что-то не так?
Петер
Порой мне бывает жаль, что нельзя попросить у мамы совета по поводу расследования. Я представляю ее в офисе перед доской с серьезной миной на лице и руками на бедрах. Она спокойна и невозмутима, не обращает внимания на суету вокруг. Мама видит всех насквозь. Она может распознать любую ложь. И не боится говорить то, что думает. Ее цинизм доставляет другим много хлопот. Она соринка в глазу правящего класса, так она всегда говорила.
Ханне во многом на нее похожа. Только не так цинична. Интересно, почему я раньше этого не замечал?
Я смотрю на Ханне, сидящую за столом перед грудой документов. Они с мамой даже внешне похожи. Волосы, тонкие темные брови, то, как она запрокидывает голову назад, когда смеется. Она словно хочет, чтобы небо смеялось вместе с ней. Неужели так все просто? Мы влюбляемся в ту, которая напоминает нам мать? Любовь – это рефлекс. Любить все равно что спать или есть. Мы влюбляемся в то, что кажется нам знакомым и домашним.
В то, что напоминает нам о том, какой прекрасной была жизнь до всех этих потерь.
Манфред подходит ко мне и шутливо толкает в бок.
– Выглядишь преотвратно. Что-то случилось?
Я улыбаюсь этому неуклюжему проявлению заботы обо мне.
– Спасибо за комплимент. Когда мы выезжаем?
– Подкрепление и специалист по переговорам будут на месте через тридцать минут. Этот дом пустует. Всех выселили, поскольку здание планируют снести. Это облегчает операцию. Едешь с нами?
– Если заткнешься.
– За это я тебя и уважаю, Линдгрен, – тебя не так легко сломать.
Дом на Капельгрэнд кажется заброшенным. В окнах темно. Окна нижних этажей заколочены фанерой. Видно, что стекла под фанерой разбиты. Мы сидим в машине Манфреда. Санчес, Манфред, Ханне и я. Где-то в темноте прячется отряд спецназа. Они уже осмотрели квартиру и констатировали, что там никого нет, только пустые бутылки, грязные одеяла и старые порножурналы. Ни следа ребенка. Но мы все равно решили подождать и проверить, не придет ли сюда Эмма, согласно теории Ханне.
В машине, как всегда, поет Моррисси, но так тихо, что текст едва слышно.
You have never been in love, until you’ve seen the sunlight thrown, over smashed human bone[7].Она сделала это из любви, думаю я.
Одинокие прохожие идут мимо, согнувшись от ветра. Две женщины в черных хиджабах идут рука об руку со стороны Ётгатан. Наверно, направляются в мечеть.
Манфред нервно постукивает пальцами по рулю, вглядываясь в темноту. Вытирает запотевшее окно рукавом пальто из верблюжьего меха и вздыхает.
– Что, если она не придет сюда? Что, если мы ошиблись местом?
Все молчат.
Одинокий велосипедист проезжает мимо. Звонит мой мобильный. Это Жанет. В обычной ситуации я бы отключил телефон, но, увидев четыре пропущенных звонка, решил, что пока ничего не происходит и можно ответить.
– Ты должен приехать! – выпалила Жанет вместо приветствия.
– Что-то случилось?
Манфред вопросительно смотрит на меня. Но я и без него понимаю, что сейчас не время для семейных неурядиц. Но Жанет всегда было плевать на мою работу.
– Насчет Альбина… – всхлипывает Жанет. – Они его забрали!
– Забрали?
– Да, в полицию.
– В полицию? Но почему?
– Он… они… нашли.
– Успокойся и расскажи, в чем дело.
Я испытываю тревогу и одновременно раздражение. Это так типично для Жанет – позвонить мне в самый неподходящий момент и требовать, чтобы я все бросил и рванул ей помогать. Она никогда не выказывала ни малейшего уважения к моей работе, хотя получала алименты каждый месяц в течение последних пятнадцати лет. Я чувствую на себе любопытные взгляды коллег. И вижу перед собой тощее тело Альбина и его торчащие уши. Уши Жанет. И вспоминаю его слова в тот вечер, когда он пришел ко мне домой со скейтбордом и пластиковым пакетом: «Поссорился с матерью. Можно у тебя перекантоваться?» Вспоминаю его взгляд, когда Жанет вела его к машине, и как я трусливо спрятался за шторой, чтобы он меня не видел. Я никогда не был ему отцом.
– Они нашли марихуану у него в рюкзаке. И задержали вместе с этой бандой отморозков из Скугоса. Ты должен сделать что-нибудь. Ты его отец. Ты должен… – голос Жанет переходит в фальцет, и я инстинктивно отодвигаю трубку от уха.
– Но что ты мне прикажешь делать? – кричу я.
Ее крики оглушают меня, хотя трубка далеко от уха. И все в машине слышат их тоже. Точно так же она вопила, когда нашла приглашения на свадьбу в ящике письменного стола. Примитивный вопль, наполненный безграничной ненавистью и беспредельной яростью. И я словно вижу себя ее глазами. Вижу, что я за чудовище, которым она меня считает. Чудовище, бросившее ее одну с Альбином. И в ушах звучит голос мамы, слабый и усталый: «Ответственность, Петер. Надо отвечать за свои поступки».
– Я приду, – говорю я.
Я выхожу из машины под взглядами коллег. Ханне тоже открывает дверцу и выходит. Кладет руку на мою.
– Я хочу, чтобы ты остался, – говорит она.
– Я не могу, – шепчу я, встречаясь с ней взглядом.
Мне надо все объяснить. Рассказать об Альбине и Жанет, и долге, который нужно заплатить. Объяснить, что настал день расплаты. И что я всегда знал, что рано или поздно он придет.
– Я прошу тебя, – умоляет Ханне. – Я уверена, что она придет сюда.
– Мне нужно идти, – повторяю я.
Я иду по Ётгатан и замечаю бар. Красная неоновая вывеска мигает в темноте, обещая тепло и уют, и внезапно мне очень хочется пива. Только один бокал в приятном полумраке, а потом можно поехать в полицейский участок в Фарсте или пойти обратно к Ханне. Только один бокал, чтобы отвлечься от всех проблем. Это неправильно, я знаю. Правильно было бы сесть в метро или вернуться к коллегам. Но я не могу пошевелиться. Стою перед окнами и заглядываю в бар. Вижу людей и экраны, по которым показывают спорт. Вижу кожаные диваны и стаканы, светящиеся в желтом свете ламп. Мне нельзя туда заходить. Это не решит мои проблемы. Это приведет к потере последнего уважения к себе. Но я возьму только одно пиво. Кому оно может повредить?
Эмма
Я совсем не понимаю Вильму. Всю неделю я делала все возможное, чтобы ей было хорошо у меня. Я читала ей книжки вслух, жарила блинчики, играла с ней. Мы кормили голубей на площади Карлаплан, смотрели, как играют в снегу собаки на Гэрдет. А когда кто-то звонил в дверь квартиры, прятались под кроватью и играли в молчанку. Но вместо того, чтобы стать ближе, она только отдалилась. Ушла в себя. Часами сидит и только смотрит на свои руки или рвет бумажки на мелкие клочки и разбрасывает вокруг себя. Мы много раз проходили мимо газетных киосков с фото Йеспера на первых полосах, но она его не замечала или замечала, но не понимала. Сама я отводила глаза от заголовков «Известный директор разыскивается». Не могла встретиться с ним взглядом, не хотела вспоминать все, что он мне сделал. Последние ночи Вильме снились кошмары. Она кричала во сне и, когда я трясла ее, чтобы прогнать кошмар, отталкивала меня и звала маму. Я хочу, чтобы ей было со мной хорошо и спокойно, но не знаю, как это сделать.
Несколько раз я ловила себя на том, что меня злит ее неблагодарность. Мне даже приходилось напоминать себе, что она только ребенок и не в состоянии осознать, в каком положении оказалась. Мой долг как взрослого сохранять терпение.
Мы идем в «Макдоналдс» – единственное, что еще доставляет ей радость. Вильма болтает о найденном на прошлой неделе кладе. Её липкая ладошка зажата в моей руке. Хорошо, что деньги и картина нашлись. Деньги решили мои финансовые проблемы. По крайней мере на время. И, конечно, я рада, что нашла картину. Она много значит для меня. Не только потому, что она ценная. Но и потому, что напоминает мне о моем детстве. Она как мост к острову, которого больше нет. К маме, тетям и их чаепитиям в квартире. К подгорелым булочкам с корицей, горячему кофе, запаху табачного дыма и чувству безопасности, которое я испытывала, сидя на коленях у тети Агаты, прижавшись к ее огромной груди.
Площадь засыпана снегом. Снегом устлано и дно осушенного фонтана. Деревья стоят вокруг тихие и серьезные, будто на страже города. Перед магазином хозтоваров выставлены пластиковые елки и мешки с дровами. Люди идут, груженные пакетами с подарками. Я вдруг вспоминаю, что в этом году подарков не будет, потому что мама умерла. Рождество будет, но другое Рождество. В газетном киоске вижу газеты с заголовками «Пятилетняя девочка похищена». На фото Вильма на себя не похожа, но я все равно крепче сжимаю ее руку и тяну прочь от киоска.
– Можно мне «Хэппи Мил»? Пожалуйста, я хочу «Хэппи Мил». Купи!
– Ладно, – отвечаю я, не задумываясь. Наверно, не лучшая идея позволять Вильме самой выбирать еду. Это может привести к плохим привычкам в еде в будущем.
– И молочный коктейль! Купишь?
Я колеблюсь. Решаю, что о правильном питании можно подумать потом. Надо пользоваться тем, что Вильма в настроении общаться и ведет себя хорошо.
– О’кей.
Мы тихо едим в душном помещении. К пятнам от мороженого на одежде Вильмы добавляются пятна кетчупа и жира от картошки-фри. В ресторане тесно и жарко. На полу грязная снежная жижа, принесенная на подошвах посетителей. Внезапно одна из посетительниц поскальзывается. Напиток на ее подносе накреняется и летит на Вильму. Я успеваю поймать его за секунду до падения. Женщина в пуховике и лыжной шапочке с двумя маленькими детьми рядом в ужасе прижимает руку ко рту.
– Простите, ваша дочка в порядке?
Я не сразу понимаю, о чем она, но потом широко улыбаюсь.
– Все хорошо.
Смотрю на Вильму, которая даже не заметила, какая драма только что разыгрывалась у нее над головой. Склонив голову набок, она облизывает жирные пальцы. Светлые кудри падают на плечи.
Ваша дочь в порядке.
По дороге домой я снова об этом думаю. Что она может стать по-настоящему моей дочерью. У меня есть деньги. Мы можем убежать. Например, в Норланд. Спрятаться от всех. Завести кошку или собаку.
Пройдет время, и ее кошмары прекратятся. Вильма начнет мне доверять. Я уверена, что все получится. Надо только дать ей время.
Я беру Вильму за руку. Она такая же липкая, как раньше.
– Когда мы поедем домой к маме? – спрашивает она.
Вопрос вызывает у меня раздражение.
– Не знаю, – отвечаю я. – Когда мама поправится.
– А когда она поправится?
– Не знаю. Только доктор знает.
– А мы можем спросить доктора?
Я чувствую, что больше не в силах выносить ее нытье. Я отвечала на эти вопросы тысячу раз. Сколько еще она собирается спрашивать про свою маму?
– Нет, не…
Я резко останавливаюсь. Смотрю на свой подъезд, и колени у меня подгибаются. Перед домом стоят несколько полицейских автомобилей. Люди в темном толпятся у подъезда. Рядом на тротуаре две овчарки.
Мы бежим обратно на площадь Карлаплан. Вильма упрямится. Она хочет домой искать клад, она не хочет никуда ехать.
– Ай, больно! Ножницы! – ноет она, когда я тяну ее за собой.
– Какие еще ножницы?
Вильма достает из кармана кухонные ножницы, с которыми играла утром.
– Вот эти.
– Ты что, с ума сошла? Зачем ты взяла их с собой? А если бы ты упала и напоролась на них?
Я вырываю у нее ножницы и кладу в свой карман. Меня переполняет новое странное ощущение – тревога за Вильму, которая может пораниться. Наверно, так чувствуют себя родители, думаю я, и это приятная мысль.
Заходя в метро, оглядываюсь, но нас никто не преследует. На расстоянии полицейские не выглядят такими опасными. Я замедляю шаг, выдыхаю, отпускаю руку Вильмы. Она сжимает губы.
– Можно мне мороженое? – спрашивает она при виде киоска и буравит меня своими голубыми глазенками.
– Но на улице же холодно.
– Мне не холодно. Мне жарко. Купи мороженое. Пожалуйста, – тянет она меня за руку.
Со вздохом я подхожу к киоску и покупаю мороженое. В кошельке только три сотни – все, что я взяла с собой из квартиры, а назад возвращаться нельзя. Этого даже не хватит на аренду машины, что жаль, потому что мы могли бы тогда уехать из города.
Мы спускаемся вниз. Вильма лижет мороженое снизу-вверх, и оно капает ей на болоньевую куртку. Молочные струйки стекают вниз по груди. Я решаю не обращать на это внимания. Сейчас у меня есть заботы посерьезнее.
Поезд подъезжает к платформе, и мы заходим в вагон. Садимся напротив друг друга у окна. Вильма доела мороженое, но все мусолит и грызет зубами палочку, пока она не трескается пополам.
На станции «Эстермальмторг» заходит женщина в засаленном пуховике. Она идет по вагону и раздает заламинированные карточки. На них написано: «Пожалуйста, помогите моей дочери. У нее ДЦП, она не может двигаться, а у нас нет денег на инвалидное кресло и лечебную физкультуру в Одессе». Я смотрю на фотографию. Улыбающаяся девочка лет десяти сидит в кресле. Зубы и очки слишком крупные для узенького личика. Руки и ноги скрючены, словно сведенные судорогой. Ноги худые, как две палочки. Рядом с ней собака.
– Это моя дочь.
Женщина внезапно останавливается прямо передо мной. Голубые глаза и акцент напоминают мне кое-кого, и внезапно я знаю, куда нам можно поехать. Я возвращаю женщине записку и извиняюсь:
– Простите, у меня нет денег.
Ольга занята складыванием джинсов. Ни Манур, ни Бьёрне не видно. Может, они на складе. Или на перерыве. Ольга сжимает меня в объятьях. От ее тяжелых духов у меня чешется кончик носа.
– Но что ты с собой сделала? – спрашивает она, глядя на меня широко распахнутыми голубыми глазами.
Поразительно, до чего она похожа на женщину в метро. И акцентом, и внешностью. Они могли бы быть сестрами.
– Что сделала?
Она запускает руку мне в короткие волосы.
– Ты похожа на мужчину, Эмма. Как можно было так коротко подстричься?
Я не успеваю ответить, потому что сзади подходит Манур и кладет руку мне на плечо. Я оборачиваюсь, и она меня обнимает.
– Не слушай ее. Тебе очень идет. Мы слышали, что тебя сократили. Они просто уроды.
Девушки смотрят на Вильму. Ольга хмурит лоб.
– Это Вильма, – говорю я. – Я за ней присматриваю.
– Так ты нашла работу? – спрашивает Ольга.
Я киваю. Манур с Ольгой изучают Вильму, но та уже утратила к ним интерес и изучает магазин. Залезает под вешалки с одеждой, теребит этикетки, разглядывает сережки и заколки у кассы.
– Это на время. Ее мама больна. Я присматриваю за дочерью, пока она не поправится.
Манур с Ольгой кивают. Я поворачиваюсь к Ольге:
– Я обещала отвезти ее в аквапарк в Сёдертэлье. Там, где все эти горки и бассейны. Можно мне снова одолжить твою машину, Ольга? Я верну ее завтра.
– Конечно. Все равно парковку не найти, – закатывает глаза Ольга.
– Спасибо большое.
Я иду с Ольгой в комнату для персонала. Она достает сумочку, всю вышитую золотом и стразами. Роется внутри. Выкладывает на стол сигареты, тампоны, расческу. Наконец, находит ключи.
– Держи. Можешь вернуть завтра после обеда. Сегодня она мне не нужна.
Я беру ключи и обнимаю Ольгу.
– Спасибо. Ты сама доброта.
Она смущенно опускает глаза.
– Да не за что.
Мы возвращаемся в зал. Вильма сидит на столе с джинсами и помогает Манур их складывать. Манур улыбается, Вильма смеется. Просто идиллическая картина. С таким же успехом они могли бы играть в парке или на детской площадке.
Я подхожу к ним и глажу Вильму по щеке.
– Нам надо идти, милая.
– Нет, я работаю! – деловым тоном заявляет Вильма, отчего Манур с Ольгой заливаются смехом.
– Она просто прелесть. Так бы ее и украла, – говорит Манур с блестящими от радости глазами.
Она и понятия не имеет, что именно это я и проделала с Вильмой. Украла ее.
Я поворачиваюсь к выходу, и в этот момент в магазин входит мужчина в зеленой парке. Наши взгляды встречаются, и я понимаю, кто это. Осознание как удар под дых. Это он. Журналист, с которым я разговаривала. Который поставил своей целью разрушить жизнь и карьеру Йеспера. В этом мы с ним похожи.
Он смотрит на Вильму, потом на меня, и я понимаю, что он все знает. Я разворачиваюсь, роняя ключи на пол, и, не поднимая их, хватаю Вильму и выбегаю из магазина.
Ханне
Петер ушел. Просто взял и ушел, хотя я просила его остаться. Но чему тут удивляться? Когда он делал что-то из того, о чем я просила? Когда держал обещания? Атмосфера в салоне автомобиля подавленная. Манфред с Санчес переглядываются, но ничего не говорят. Интересно, их тоже удивило странное поведение Петера, внезапная вспышка ярости и стремительный уход или нет?
– С ним такое бывает, – поясняет Манфред, словно читая мои мысли.
Я молчу.
– Наверно, что-то случилось, – поддакивает Санчес, задерживая на мне взгляд.
Им все известно? Известно, что мы с Петером не только коллеги?
– Мы и без него прекрасно справимся, – говорит Манфред.
– Но почему вы его защищаете? – спрашиваю я. – Он просто берет и уходит, а вы делаете вид, что так и надо. Вы что, действительно думаете, что это нормально?
Они молчат.
Так мы и сидим молча. Потом звонит мобильный Манфреда. Он приподнимается на сиденье, чтобы достать телефон из кармана. При его крупном телосложении это нелегко. Слушает и поворачивается ко мне.
– Эмму видели с Вильмой полчаса назад на ее старом месте работы. Свидетель – журналист, который писал статью про Орре и брал у нее интервью.
– Что будем делать? – спрашивает Санчес.
– Поедем, – отвечает он, заводя мотор.
– Подождите, – прошу я. – Мы можем еще немного подождать здесь? Я уверена, что она придет сюда.
Манфред смотрит на меня.
– Мы не там ищем. Надо возвращаться.
– Нет, я остаюсь.
– Ты поедешь с нами, – с резкой ноткой в голосе командует Манфред.
Я открываю дверь и выхожу. На улице темно. Под ногами – обледеневшее месиво из грязи и снега.
Манфред с Санчес обмениваются взглядами.
– Делай как хочешь. Я бы советовал тебе отправиться домой поспать. Одна ты все равно ничего сделать не сможешь.
И они уезжают.
Мне зябко. Холод проникает под мокрый пуховик. Я понимаю, что забыла в машине шапку и варежки. Хорошо еще, что блокнот со мной. Лежит во внутреннем кармане куртки в безопасности. От одной мысли, что Манфред и Санчес могли бы прочитать мои заметки с комментариями, как они и другие члены команды выглядят внешне, и поняли бы масштабы моей болезни, пугает больше, чем холод.
Деменция.
Провалы в памяти.
Неизлечимо.
Я сжимаю руки в кулаки и стараюсь не думать ни о болезни, ни о морозе, кусающем щеки. Я думаю об инуитах. Они переживали зиму за зимой, выдерживая самый сильный мороз. Жили в непроглядной темноте много месяцев и не переставали охотиться. И приносить жертвы морской богине Седне, чтобы та помогала им ловить добычу и не утаскивала охотников на дно. Проходит полчаса. Никого. Я надеваю капюшон и сую руки в карманы. Топчусь на месте, не зная, что мне делать. Передо мной темный и пустой дом, подготовленный к сносу. Осколки разбитых окон, наполовину заколоченных фанерой, блестят в свете луны, как острые зубы.
Может, Манфред был прав, и мне стоит поехать домой к Гунилле. Выгулять Фриду и лечь спать. И не ставить будильник. Забыть обо всем. Забыть, как Петер ушел, забыть про шапку и варежки. У меня даже возникает желание позвонить Уве. Но даже здесь, на лютом морозе, это не кажется хорошей идеей. Я лучше всю ночь просижу у заброшенного дома на Капельгрэнд, чем вернусь в эту тюрьму на Шеппаргатан.
Я поворачиваюсь и иду в сторону освещенной Ётгатан, прохожу мимо паба и останавливаюсь в нерешительности. Все еще думаю – поехать мне домой или остаться здесь. И тут я вижу ее. Она идет по Хёгбергсгатан, держа за руку девочку. Идет медленно, тяжело ступая, с низко опущенной головой. И я не знаю, что делать. Подойти к ней? Или дать им пройти?
Девочка тоже с трудом передвигает ноги, шаркая сапогами по грязи. Эмма буквально тащит ее за собой. Куртка расстегнута. Голова без шапки.
Я знаю, что, если я сейчас ничего не сделаю, с девочкой может случиться самое плохое. Она может замерзнуть насмерть за ночь, или Эмма спрячет ее так, что мы никогда ее не найдем. Но, заговорив с Эммой, я рискую своей жизнью.
А есть ли мне чем рисковать, спрашиваю я себя. Стоит ли моя жизнь того, чтобы за нее держаться?
Что будет со мной после того, как это расследование закончится? Ничего.
Я подхожу к Эмме с девочкой.
– Я знаю, что тебе сделал Йеспер Орре, – говорю я.
Эмма останавливается и смотрит на меня настороженно. Девочка тоже останавливается, открывает рот, но ничего не говорит. Волосы все спутались, словно их не расчесывали неделю. Куртка вся в пятнах. Свободная рука сжата в кулачок. Видно, что ей холодно.
– Что? – произносит Эмма.
– Я знаю, что он предал тебя, изменил тебе. Он поступал так же и с другими.
Она моргает и поднимает глаза к небу, где светит полная луна.
– Кто ты?
– Я та, кто много знает о Йеспере и его поступках.
– Вот как. И что ты тут делаешь? – спрашивает она хриплым от холода голосом.
– Что я тут делаю? – переспрашиваю я. – Жду мужчину. Мужчину, который никогда не придет.
Наши глаза встречаются. Она кивает.
– Я знаю, каково это, – произносит она, делая ударение на каждом слове.
Я осторожно беру ее за рукав.
– Пойдем поговорим.
Она оглядывается по сторонам.
– Нам нужно идти.
– Может, зайдем погреемся? – спрашиваю я. – Нельзя все время бежать, Эмма.
По ее глазам я понимаю, что совершила ошибку, назвав девушку по имени. Взгляд становится жестким.
– Ты кто такая? Ты из полиции?
– Нет, я…
– Тогда проваливай, – говорит она, скидывая мою руку с небывалой для ее комплекции силой.
Я пытаюсь встретиться с ней взглядом, но она двигается быстрее, толкает меня, и я падаю на обледенелый тротуар. Раздается хруст костей, и рот наполняется кровью. Острая боль пронзает плечо. Я хватаю ее за ноги.
– Отстань от меня, старуха, – кричит она, пиная меня ногами.
И вот она уже верхом на мне. Сидит у меня на груди. Что-то блестит у нее в руке. Сначала я не понимаю, что это, не понимаю, что сейчас произойдет. Потом вижу – у нее в руках кухонные ножницы. Она заносит их, и время останавливается. Я отчетливо вижу все – ярость у нее на лице, открытый рот Вильмы, молча взирающей на происходящее, снежинки у меня над головой, сверкающие в свете фонаря.
И еще кое-что. В окне паба я вижу Петера. Он сидит за столом и сверлит взглядом полный стакан пива перед ним.
И в тот момент, когда ножницы пронзают мою куртку, он вдруг потягивается и видит меня. В его взгляде я вижу страх и удивление, он вскакивает, опрокидывая бокал. И это все.
После этого только острая боль и холод тротуара. Я закрываю глаза и чувствую усталость, которая приходит на смену боли. Мне кажется, что мое тело утратило тяжесть и я лежу на свежевыпавшем снегу или парю над ним, легкая и воздушная, вдалеке от всего плохого.
Становится очень тихо. Но краем сознания я все еще чувствую присутствие Петера где-то рядом, и от этого мне тепло.
Эмма
Четыре месяца спустя
Я сижу в тесной комнате и смотрю в окно. Сквозь толстое стекло угадываю набухшие почки на ветвях деревьев. На улице внизу прогуливается беременная женщина. Мужчина поддерживает ее под руку. Видимо, ей пришло время рожать, и врачи послали ее пройтись, чтобы стимулировать схватки. Родильное отделение располагается в соседнем здании. Вдали за красными кирпичными домами виднеется море. Оно серо-синего цвета и покрыто белыми барашками. Говорят, на улице холодно, хотя вид из окна намного приятнее, чем, наверно, есть на самом деле. Но правду мне не узнать. Уже семь недель я не выходила на улицу. Семь недель я сижу перед этим окном и смотрю, как набухают почки и возвращаются перелетные птицы. Стук в дверь. Заглядывает Урбан.
– Хочешь чашечку кофе?
– Чаю, пожалуйста, – отвечаю я, поражаясь тому, что он никак не запомнит, что я не пью кофе. Ведь мы видимся каждый день, но он все равно спрашивает, не хочу ли я кофе. Впрочем, это типично для Урбана. Несмотря на острый интеллект и интерес ко мне как подопытному кролику, он какой-то несобранный. Его мысли витают где-то далеко. Урбан уходит, прикрыв дверь. Через пару минут он возвращается с двумя чашками чаю и блокнотом, зажатым под мышкой.
– Чай, как ты просила.
– Большое спасибо.
Он садится на табурет напротив и надевает тонкие очки в стальной оправе. Проводит рукой по щетине и читает свои записи.
Все это выглядит весьма комично. Он словно играет роль. Пытается делать вид, что мы друг для друга – лишь врач и пациент. Словно хочет сам себя в этом убедить. Я невольно улыбаюсь, ничего не могу с собой поделать. Но ситуация слишком абсурдна. Всего пару дней назад мы лежали в одной постели. И были так близки, как только могут быть близки мужчина и женщина. А теперь он изображает из себя врача и делает вид, что внимательно изучает мою историю болезни.
– Что такого смешного? Я что-то упустил?
Я качаю головой.
– Нет, я только…
Я замолкаю, понимая, что тоже должна играть свою роль. В эту игру можно играть только на его условиях. Видимо, Урбану стыдно за то, что он сделал. Возможно, его могут уволить, если правда раскроется. Если ему удобно делать вид, что ничего не случилось, мне не остается ничего иного, как принять это. Он снимает очки, откладывает блокнот и смотрит мне в глаза:
– Как ты себя сегодня чувствуешь, Эмма?
Я выпрямляю спину, подаюсь грудью вперед и позволяю кофте будто случайно сползти, открыв одно плечо.
– Не знаю прямо, что и сказать.
Ханне
Такой я и представляла себе вечность.
Тишина. Все белое и расплывчатое. Холод больше не ощущается. Он просто есть, как море, птицы, морская богиня Седна, живущая в синих глубинах.
Кладбище Кулускус простирается передо мной, а за белыми деревянными крестами виднеется море. На горизонте оно сливается с небом, становясь одним целым. Горы отражаются в спокойных водах залива Торсуут Тунок. Огромный бирюзовый айсберг плывет по морю.
На крестах нет имен. Когда кто-то умирает, то следующему новорожденному дается его имя, и жизнь продолжается. Прекрасная традиция, думаю я. Я бы тоже предпочла белый безымянный деревянный крест вместо гранитной глыбы с золотой надписью.
Может, меня тоже похоронят здесь, на холме, где всегда вечная мерзлота и могилы приходится буквально выгрызать в земле. Петер подходит ко мне и обнимает за талию. Вместе мы любуемся заливом. Я счастлива от того, что он поехал вместе со мной за тридевять земель, чтобы увидеть страну, о которой я всегда мечтала.
Глубокая рана в животе зажила. Врачи сказали, что мне повезло. Чертовски повезло. Если бы блокнот в кармане не затормозил движение ножниц, сегодня меня бы тут не было. Удар был нанесен с большой силой, и острые ножницы только чудом не задели печень – жизненно важный орган. Так что меня спас мой страх утратить контроль над ситуацией, велевший мне все записывать. Это даже забавно.
В любом случае это дало Петеру возможность успеть выскочить из паба, отобрать у Эммы ножницы и позвать на помощь. После того как Эмму арестовали, а Вильму передали родственникам матери, Петер поехал к Альбину. Он по-прежнему отказывается рассказать мне, почему их отношения с Альбином такие сложные. Мне приходится с этим смириться. Я принимаю его таким, какой он есть. Как он принимает мою болезнь.
Наши взгляды встречаются. Мне кажется, он улыбается. Или просто щурится от яркого белого света.
Я знаю – надеется, что мне станет лучше. Он не хочет потерять меня. Но я также знаю, что улучшения не будет. Однажды болезнь настигнет меня и произойдет то, чего он так страшится, – я все забуду. Но не сегодня.
А это единственное, что по-настоящему важно.
Благодарности
Я хотела бы поблагодарить всех, кто помогал мне в работе над книгой «На льду». Прежде всего моего издателя Сару, редактора Катарину и всех остальных сотрудников издательства «Вальстрём и Видстранд» (Wahlstrцm & Widstrand), а также моих агентов – Астри и Кристин из «Аландер Эдженси».
Я также безмерно благодарна всем, кто читал синопсис и помогал мне советами, связанными с судебной медициной, деятельностью полиции, например Эву фон Фогельсанд, Мартина Ксантлоса, Сину Йеннховв, Кристину Ульссон.
И в завершение я хотела бы поблагодарить мою семью и друзей за понимание и поддержку во время работы над книгой. Без вашей любви и терпения этой книги не было бы.
Камилла ГребеПримечания
1
«Всё сложно» (англ.).
(обратно)2
ComHem Corporation – крупный поставщик услуг телевещания и телефонии в Швеции.
(обратно)3
Счастливчик Люк (англ. Lucky Luke) – серия комиксов, впервые опубликованная в 1947 году бельгийским художником Морисом де Бевером, более известным под псевдонимом «Моррис». Главным героем комикса является Счастливчик Люк, бесстрашный ковбой на Диком Западе, который «стреляет быстрее своей тени».
(обратно)4
«Фракция Красной Армии» (РАФ, RAF – нем. Rote Armee Fraktion) – немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине в 1968–1998 годах.
(обратно)5
От нем. – шнелл, быстрый, игра слов – добрый поезд – Прим. пер.
(обратно)6
ИВЛ – искусственная вентиляция легких.
(обратно)7
Ты никогда не любил, если не видел рассвет над раздавленными человеческими костями.
(обратно)

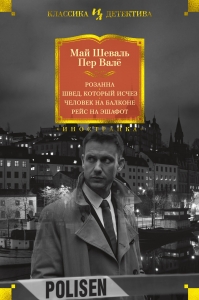



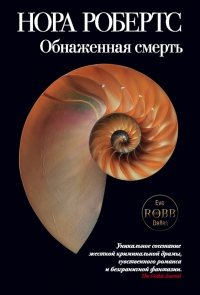

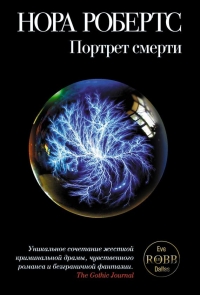
Комментарии к книге «На льду», Камилла Гребе
Всего 0 комментариев